Книга первая. Сказание о Маман-бие
Россия потеряла Петра, а простиралась она уже от окна в Европу, у хладных вод Балтики, до окна в Америку, которое прорубали посланцы Петра, мореходы и купцы, у берегов Аляски, по ту сторону Тихого океана, когда на земле моих пращуров, обнимающей Аральское море, подрос мальчик-каракалпак по имени Маман, в будущем Маман-бий, а к концу своих дней, как его называли еще при жизни, Маман-р у с с к и й.
Во тьме восемнадцатого века, под низким небом позднего азиатского средневековья, жизнь Мамана была подобна зигзагу молнии. В учебниках об этом человеке — одна строка, а в живой истории — страница, дымная, огненная, кровавая, безмерно жестокая, покоряюще простая.
Часть первая
1
Мы… умираем за русскую землю с твоими сынами и головы свои складываем за твою честь.
Из клятвы черных клобуков, предков каракалпаков, Юрию Долгорукому
Ипатьевская летописьБудь здоров! И поспешай, сынок, путь у нас неблизкий.
Маман поклонился в ответ. С почтением взял под уздцы коней обоих всадников и повел из аула сначала шагом, потом бегом.
Ему лет двадцать. Он рослый, плечистый, но легок на ногу. Кони идут рысью, а он бежит, ведя их в поводу, нимало не задыхаясь. Лицо его смугло до черноты, из-под войлочной черной шапки блестят жгуче-черные глаза. Чекмень, из шерсти песчаного цвета, без пуговиц и тесемок, надетый поверх бязевой рубашки с открытым воротом ногайского покроя, по-орлиному раскрылился полами на ветру. И видно, что Маману хорошо, радостно бежать и что он мог бы бежать так до моря и дальше, до самой Руси.
Слева, на коне благородной серой масти, — Мурат-шейх. Он в рыжем чапане и белой чалме, пушистая борода его сияет белизной, спина кругла от старости, но на коне он не горбится.
Справа — Оразан-батыр, на коне редкой масти: конь гнедой, но белоногий. Батыр тоже белобород, однако лицо его багрово-красно, как снег в свете костра. В седло он врос, словно дерево в землю. Седло дорогое, под седлом — чепрак ковровый, шитый золотом. А оружие без украшений. К луке спереди приторочен выпуклый круглый щит, кованный из стали. На правом боку — меч в простых черных ножнах: Оразан-батыр левша. За спиной — простой черный колчан, лук со стрелами. И так все это крепко и ладно, что от всадника глаз не оторвешь; нет на свете ничего красивей старого батыра.
Маман его сын, единственный сын.
Матери своей Маман не помнил. Она погибла в страшную пору джунгарского нашествия, которая осталась в памяти людской под именем годины белых пяток, потому что беженцы, голые, босые, уходили куда глаза глядят, в пустыни, и их обожженные в песках пятки были белы от волдырей.
Джунгары растоптали землю и волю бескрайних казахских степей и всего Туркестана. А мать-Сырдарыо, кормилицу, перехватили военной пятой по самой середине, бросили, как женщину похищенную, поперек седла… И не стало единых каракалпаков, а объявились Верхние Каракалпаки и Нижние Каракалпаки. Верхние, в верховьях реки, на юге, жили под игом джунгар; Нижние, ближе к Аралу, подпали вновь под руку казахского хана Абулхаира. Было это в 1723 году, проклятом навек.
Материнской ласки Маман не знал. С детства его окружали мужчины, и среди них — двое мужей незаурядной доблести, Оразан-батыр и Мурат-шейх, его второй отец, в доме которого Маман жил семнадцать лет после того, как осиротел и осиротели тысячи и тысячи семей.
Оразан-батыра и Мурат-шейха многие почитали как родных отцов. Когда говорил Оразан-батыр, за ним стоял Мурат-шейх. Когда говорил Мурат-шейх, за ним стоял Оразан-батыр. Люди встречали их речи благодарным поклоном и словом л я б б э й, что значит — слушаюсь покорно.
Но отец был человеком из разлуки, ибо правду говорят, что сын воина и при жизни отца сирота. С детских лет запали в память прежде всего встречи и расставанья, потому что Оразан-батыр не сходил с коня всю жизнь, до своего последнего вздоха.
Близ аула уцелел на дороге войны одинокий древний дуб. Он стоял здесь, быть может, уже несколько веков и простоит еще несколько веков, подпирая небо могучими дланями. У этого дуба по обыкновению они прощались.
Маман придержал коней. Оразан-батыр, привстав в стременах, с тоской огляделся.
С севера и запада над аулом нависала невысокая горная гряда. Горы старые, дряхлые. В утреннем свете они казались батыру серо-желтой стеной, обрушенной и искрошенной землетрясением, а селенье — каменными обломками и осколками. Нищее, пустынное жилье.
Где мать-река, думал батыр, пышнотелая, полногрудая, с мутными водами, целебными, как молоко верблюдицы? Где драгоценная паутина животворных каналов, созданных знатоками, искусниками мастерами многих поколений? Где благодатная земля, выкупанная в теплой сладкой водяной колыбели, готовая рожать часто и много, как кабаниха в приречных камышах? и где люди, которые так любили и ласкали эту землю и которым земля воздавала сторицей? Все растоптано, разорено дотла, предано огню, мечу и сраму, обращено в пыль и прах лихими пришельцами со стороны Китая.
И еще спрашивал он себя с болью в сердце: за минувшие семнадцать лет не забылось ли, каковы были черные шапки на Сырдарье, какие строили плотины, какие выращивали урожаи? Кто же, если не он, батыр, убережет и сохранит в памяти людской доброе имя, честную славу каракалпаков?.. Вот и не сходил старый воин с коня. Шесть лет подряд воевал с джунгарами и так и не вернулся к домашнему очагу, так и не смог воскресить семью, несмотря на сиротство сына.
Звучно крякнув, он свесился с седла, снял шапку с головы Мамана и прижался твердыми губами к прилипшей ко лбу сына, блестящей от пота пряди волос.
— Оставайся с богом, сынок. Бог один, и слово его едино… Ступай, служи, где тебе назначено, с усердием. Служба твоя важная. Набирайся ума. Познай лицо родной земли, душу народа. Вот моя заповедь. Слушайся старшего духовного отца своего. Будь ему предан всегда, как сын. Ну, а теперь, мой шейх, поеду я…
Мурат-шейх сказал:
— Не тревожься. Рос он в послушании. Сейчас — линяет, руки у него чешутся, зуд от ребяческого своеволия. С годами это пройдет. Езжай с богом. — И одновременно с Оразан-батыром он поднял нагайку, погоняя коня.
Маман торопливо склонился и поцеловал стремя на ноге отца. И так, будто сложенный пополам, он остался стоять. Стоял, пока мимо не проехали Мурат-шейх и другие всадники, провожая батыра, и пока они не скрылись с глаз. Оразан-батыр держал путь на юг. в Хорезм, такой близкий, родной и такой чужой и враждебный, где селились сородичи, братья в длинной тени джунгар…
Затей Маман пустился бегом в горы. Он спешил на свою службу и думал на бегу, посмеиваясь исподтишка, что нет, не бывать тому, что обещал мудрый шейх, не пройдет с годами эта хворь своеволия, а скорей окрепнет.
Аул между тем был не столь пустынен, как казалось Оразан-батыру. Вышел проводить его простой люд. Иные забирались на плоские крыши зимовок, чтобы дольше видеть, как батыр едет по дороге на юг.
Двое чернобородых сидели высоко, па землисто-желтой скале, подобно джиннам. Маман бежал мимо скалы. Остановился, услышав голоса сверху.
— Хочешь знать, за что его любят? — говорил один. — Без него мы стадо без пастуха. Сильней его духом нет среди нас… Ты помнишь моего отца? Строптивый был человек. В годину белых пяток не стал творить намаз ни пятикратно, ни однократно. Обиделся на аллаха. «Что проку? — говорит. — Сколько я молил: накорми досыта. Так и не расщедрился!» А один раз выбежал старик из дома, задрал бороду к небу, поднял кулаки да так его обругал… повторить нельзя. В прошлом году собрался отец помирать и перед смертью оробел. Пришел проведать его шейх, а он заплакал, бедняга: что-то будет со мной, грешным? И знаешь ли, что сказал шейх? Против бед сего мира я бессилен. Но на том свете — верой своей ручаюсь — жить душам каракалпаков в райском саду». Утешил старика. Отошел отец с верой. Поверил… И мы поверили. Все верим!
— Теперь ты послушай о батыре, — сказал второй. — Да буду я жертвой ради него… Если и есть у него какой изъян, так это крутой норов. Говорят, ох как не нравится хану Абулхаиру, что не оседлать ему нашего батыра. На первый взгляд тем, кто его не знает, может он и не показаться, Скажу: сумасброд… А силища в нем — как в земле, как в реке. Не все знают, как он сказал однажды шейху, послушай, как сказал: «Мы народ малый. У малых слаб голос, не слышен в мире. Но наш голос услышат! Бывает, что голос самых малых, самых сирых — не самый громкий, да самый слышный…» Почему он так сказал? Это слово жжет, как слово божье. С этим словом он поехал на юг. Рассеяны мы повсюду, как просо Из худого мешка, а он верит, что соберет потерянных, растраченных по зернышку. И мы верим. Вот во что верим!
— Спору нет, разные они, эти две головы, разные…
— А как дружат! Как сыновья одного отца. В чем тут секрет?
— Секрет простой: два ствола из одного корня, оба — из рода ябы.
— Нет, не говори так. Разно они смотрят на тот и на этот свет. И разное бремя несут на своем горбу. Стало быть, поделили полюбовно: один взял на себя нашу долю загробную, другой — земную. Это их и связывает, как день и ночь.
Маман медленно отошел от скалы. Задумался Маман. Подобные речи он мог бы слушать и слушать, они были ему всего интересней.
Быть головой народа — значит быть па виду, на уме и на языке у людей. И хоть ты семи пядей во лбу, хоть семи вершков в плечах, будь осмотрительней, если ты избранник, если вожак. На слове не запнись, в деле не споткнись. Покажи, чем ты силен, чем хорош.
Давно уже у Мамана было на уме свое. И он собирался с духом, готовый броситься в обрыв со скалы, как бросается птенец беркута, впервые становясь на крыло. Взвешивал мысленно то, чему учили его отцы, как будто поочередно надевал на свою голову то шапку Мурат-шейха, то Оразан-батыра.
И еще он примерял шапку своего третьего тайного учителя, а в глубине души, быть может, и названого отца. Был тот третий человеком из-за моря, с того края света, из жизнью творимой сказки. Был тот третий иноверцем — русским.
* * *
В полдень они остановились под турангилем, высоченным раскидистым кустом из породы тугаев. Оразан-батыр показал кивком — пора. Надобно шейху поспеть вернуться в аул к вечерней заре, а конь его притомился. Что касается самого батыра и его коня — в пути своя доля; чему быть, того не миновать. Мурат-шейх так же кивком согласился. Не слезая с копой, они крепко обнялись.
— Прости мне все, мой шейх, прощай, — сказал Оралан-батыр; голос его дрогнул.
Сколько раз пускался батыр в дальнюю дорогу! В какие небывалые уходил походы! Но никогда не прощался так с Мурат-шейхом, как сегодня, и никогда не было так тяжело прощанье. Защемило сердце, запершило в горле у старца. Слезы, однако, не обронил.
Повернул назад коня, уводя за собой спутников, скромную свою свиту. И словно вдогонку, побежали рысью, топоча, как кони, беспокойные мысли.
С чего он сегодня расчувствовался? Уж не старость ли это заползает в душу, подобно холодному ужу? Похоже. Переступили они оба незримый порог шестидесяти, и шейх, и батыр. Немощь обнимает тело, холод — душу. Истекает по капле сила, а с ней страсть и воля жить. Видится уже невдалеке неумолимая Косая, и хочется не здороваться — прощаться. Не пора ли сказать людям жгучими словами батыра: прости мне все, мой народ, прощай?
Бедный, несчастный народ… Рушились и рушились на его голову лавины бедствий, секли в самое темя молнии судьбы. Был ли день, когда бы черные шапки вздохнули свободно?
Так же, как Оразан-батыр, с великой болью думал Мурат-шейх об опустошенной отчей земле. Кто ее воскресит? Это чудо могли бы сотворить люди, с благово-лснья божия. Но кто воскресит погубленных людей, убитых, искалеченных, рассеянных, пропавших без вести, гибнущих в неволе, на чужбине, от близкой Бухары до чуждого Китая? В куче — только Нижние Каракалпаки, в малой куче. Шестьдесят тысяч кибиток уцелело в низовьях Сырдарьи, десятая часть того, что было. Вдесятеро больше их было до нашествия джунгар, несчетно больше.
Семнадцать лет назад Оразан-батыр водил джигитов-каракалпаков против джуигарских полчищ, и бились джигиты бесстрашно, беззаветно, плечом к плечу с казахами Малого жуза, в войске хана Абулхаира. Эта война сдружила казахов и каракалпаков, скрепила дружбу кровью. И до, и после войны судьба была черным шапкам — жить под властью хана Абулхаира; хан их недолюбливал, не уважал, а в делах с русскими — ревновал и остерегался. Но у хана своя забота, у народа своя печаль. Казахи многих соседних родов почитали каракалпаков за родных.
Не забудется вовек, думал Мурат-шейх, как пришли степняки, кочевые люди, к сиротам, пришли не с пустыми руками, с хлебом, со скотом, с одеждой. Айгара-бий, глава семи родов большого казахского племени табын, всех опередил — пригнал по сто голов каждого вида скота, лошадей, коров и овец, и отдал из рук в руки Мурат-шейху. Бесценный это был дар. Многих спас от голодной смерти, поставил па ноги, обнадежил, как обнадеживает семенное зерно. А уж за Айгара-бием потянулись другие. Тоже помогли памятно.
Тогда-то и начал Оразан-батыр свой страдный путь, длиной в семнадцать лет. Где он только не бывал! И на юге и далеко на востоке, в самом чреве джунгар. Тайно, хитро и терпеливо добирался до измученных сердец и смятенных умов. Вливал в них свою неисчерпаемую бодрость и волю. Годами говаривал — переселяться вниз, соединяться сызнова, воедино. С ним соглашались, его благодарили и оставались на месте. Шутка сказать — на виду у недругов и лютых врагов подняться да уйти из темницы на волю! Где взять такую силу? Как ни удивительна была мощь Оразаи-батыра, но на это ее недоставало…
В Хорезме жило мангытское племя каракалпаков. Когда пронесся зловещий слух, что глава мангытов Шердали-бий подло убит хивинским ханом Ильбарсом, Оразан-батыр не мешкая отправился туда — укрепить духом людей, оставшихся без вождя. И сам по общему признанию стал их вождем. За ним не знали интриг и не опасались его коварства. Он был прямодушен и бескорыстен, как истинный солдат.
Вернувшись, он едва передохнул дома. И вот сегодня — опять туда же. На этот раз он собирался пред светлые очи самого злодея — хивинского хана. Прийти к нему и сказать: «Унижаете каракалпаков? А они не одиноки!» Сказать, какая у них теперь опора — отныне и навеки: русский царь (вернее — царица), о чем имеется грамота. И еще сказать хану, что черные шапки — народ не из пугливых. Пусть знает хан, что есть у них даже пленные русские!
Да, как ни странно, это была правда: и царская грамота, и русские пленные…
Еще при царе Петре, за год до злосчастной годины белых пяток, пошла от берегов Арала в далекую русскую столицу первая грамота, и в той грамоте писано было: «Которое было наше зло между нами, надобно простить, а впредь бы нам с вами быть в совете». Так писал Ишим Мухаммед Батыр, хан каракалпакский, Петру, царю русскому.
А еще годом раньше отпустил Ишим Мухаммед Батыр на волю и проводил на родину всех русских пленных.
Дорожка в Россию была уже торная. В том же году, что и грамота, пошел в русские города караван купцов в черных шапках, и было в том караване ни много ни мало — тысяча верблюдов!
Вот как было. До царя Петра доходили каракалпаки. А караван в тысячу верблюдов — разве не могущество? Вот как оно было.
Год спустя все под корень порушило и свело на нет джунгарское нашествие. Но то, что задумывал и затевал Ишим Мухаммед, стало еще нужней и заманчивей, чем до нашествия.
Хан Абулхаир обратил свои взоры к России позднее каракалпаков. Его послы шли по следам каракалпакских послов, и хан, случалось, затаптывал эти следы. Понятно, хотел он, чтобы каракалпаки во всех делах смотрели из-под его рук. И все же решимость каракалпаков придавала решимость и ему. Бывает, что и малый народ протаптывает тропу большому, — так говорил Оразан-батыр.
Оразан-батыр первый объявил во всеуслышание, что принимает русское подданство. И склонил к тому же аральского хана Шахтемира. И когда приехал к казахам царский посол Мамет-мурза Тевкелев и на целых два года увяз в междоусобицах Малого жуза, безнадежно застряв в ставке Абулхаира, и злые языки вопрошали, посол он или пленный и не лучше ли его убить втихомолку, кто помог склониться чаше весов на сторону той партии, которая стояла за Россию, наперекор той партии, которая лепилась к джунгарам? Оразан-батыр! Он это сделал — и не у себя дома, у казахов… Говорят, что царица Анна Иоанновна собиралась уже выкупать своего посла, а он вернулся с честью, и получил Мамет-мурза за свои муки и заслуги чин полковника…
Казахи и Нижние Каракалпаки вступили в русское подданство, можно сказать, нога в ногу, рука об руку. Сошлись на том, что каракалпаки не будут платить ясак России, поскольку платят его Малому жузу. Было это в 1731 году.
Тому уже девять лет… Перед лицом русских послов дал хан Абулхаир клятвенное слово — не драться. Не поднимать руки на своих — Нижних Каракалпаков. Надеялись черные шапки, что если уж не будет им Абулхаир любящим отцом, то — хотя бы добрым хозяином. Не сдержал хан слова. Трижды за девять лет бил лежачих. А русские пе заступались. И толки пошли разные: одни судили, что, значит, не видать издалека царице Анне Иоанновне, сменившей на престоле царя Петра, что деется за Аральским морем, а другие приговаривали и так, что сильный всегда принимает сторону сильного.
Болтали еще много пустого: и что будто бы Анна Иоанновна отнюдь не родная царю Петру, и даже она не русская родом, и визирь ее по имени Бирон тоже родом не русский, и все русские его люто не любят. Сама царица будто бы мужеподобна, охотница поесть, попить, поспать, как простая смертная, и пуще всего любит игрища, коим предается день и ночь кряду.
Недосуг ей заниматься делом, как покойному царю Петру. Иначе как же понять хотя бы то, что яицкие казаки разграбили каракалпакский караван, шедший в Россию, в Уфу. Они, оказывается, и знать не знали и ведать не ведали, что была каракалпакам грамота от Анны Иоанновны и в грамоте такие слова: «…милостиво обнадеживаем, что при торговых своих помыслах… спокойно и безопасно всегда жить будете, и повелеваем вам свободный торг с нашими подданными и куда пожелаете иметь и тем пользоваться… а мы… повелели… вас от всяких неприятельских нападений, какие наперед сего до вступления в подданство наше каракалпакский ваш народ претерпевал, охранять и защищать». Не читывали той грамоты яицкие казаки!
Последствия были самые худые, самые нелепые, какие только могут быть под горячую руку. Похватали черные шапки на караванных путях и в пограничных селениях, где зазевались жители или проспала стража, несколько десятков человек, русских, мужиков, баб и детей, и увели их в глубинку. Держали взаперти, на хлебе и воде, более года и толковали о чести и доблести, внушали самим себе, что каракалпаки — тоже сила.
Так и вышло, что горькая горечь обнялась с дурной гордыней, как сирота с богатой, чуждой, но завидной соседкой.
Оразап-батыр, узнав о русских пленных, возмутился, потом растрогался, пришел в ярость, потом в восторг и так по сей день не очухался, метался в душе с белого коня па вороного, а с вороного на белого. Сознавал, что это самообман. Смеялся над собой и призывал смеяться друга, но Мурат-шейх отмалчивался. Он в душе слабо верил, что будет прок от русских, ибо ладить с иноверцами — не то же ли, что жить в одной каморке собаке и кошке?
А потом пришла из России чрезвычайная весть, и недостоверная, и правдоподобная, как случай из дастана.
Будто бы дочь Петра, родная дочь Елизавета, надела на себя ратные доспехи, пришла ночью в любимый петровский полк, подняла его именем Петра и собственной рукой сместила с престола нерусскую царицу, а нерусского визиря Бирона не то заточила в темницу, не то обезглавила. После этого пошел из российских пределов такой туман, что стало совсем не видать, что же дальше будет и какая ноне цена грамотам Анны Иоанновны, бывшей царицы.
И думалось Мурат-шейху: коли в России такая заварушка, может, это и к лучшему, что у каракалпаков — русские пленные? Оразан-батыр, услышав сие соображение, рассмеялся, потом опечалился.
— Кармилица-мать Сырдарья хотела, говорят, переплыть Аральское море… — так он сказал.
Было это при его сыне Мамане. И поразился Мурат-шейх тому, как Мамап слушал отца, сложив руки на груди, — с усмешкой, неприличной для юноши в присутствии старших.
2
Тропа вела к ущелью, тесному, как яма, невылазному с трех сторон. Желтые скалы нависали над ним карнизом, доступным только птице. Вход в ущелье, похожий на провал в пещеру, перегорожен стенкой из нетесаных камней; в стенке плетеные воротца, подпертые толстым колом. У плетня — стража, двое джигитов с секирами. За плетнем — русские пленники.
Сюда и пришел Маман, как ходил уже более года. Пускают сюда его одного. Ему доверил и поручил Мурат-шейх русских.
Здесь подобрались большей частью женщины и дети, а мужчины, пожилые, на взгляд Мамана — старики. Люди слабосильные, с них довольно и двух стражников. Но был среди них один человек — с окладистой, золотисто-русой бородой, которой долго дивился Маман, и с большими, как у совы, прозрачными глазами, такими прозрачными, что оторопь брала. На вид ему лет сорок, сорок пять от силы. Был он весь в шрамах; па виске рубец, на скуле другой — следы ударов ножом или копьем, спина исполосована плетью, на левой руке большой палец отрублен. Но этот человек, пожалуй, справился бы один с обоими стражниками. Взял бы джигитов за шивороты, как они ни страхолюдны, стукнул бы их лбами, и не надо секиры.
Невольно, исподтишка Маман любовался бородачом. Сила покоряет. Оказалось, однако, что у этого человека сила много большая, чем думалось поначалу.
На первых порах вообще Маман был слеп и тщился обратить пленников в истинную веру, прежде всего, попятно, бородача. Учил заблудших овец, иноверцев, тому, чему учил его самого Мурат-шейх. Шейх учил словом, Маман — палкой, не щадя ни старых, ни малых, ни здоровых, ни хворых. Жалости Маман не ведал. Неумелым, у кого язык заплетался, драл уши. А тем, кто упорствовал, противился, выкручивал руки, ноги, не давал есть, нить, сажал в колодки.
Сердился Маман, гневался. Учил-то он благому и праведному. Например — здороваться по-мусульмански. Какой же смертный может не знать приветствия, единственно приличного и не греховного? Или такая простая вещь — молитва калима шаадат. Она нужна каждому — в каждую минуту жизни, особо — перед сном. Трижды сотвори ее — и тогда, умерев во сне, проснешься в раю. Разве это не важно знать? Разумному растолкуй, а глупцу вколоти в башку палкой, ради его же пользы, именем аллаха.
Помимо того, он присматривал за работой. Люди тесали камень. Камень пока не нужен, но будет нужен, когда примутся возводить город на месте древнего града Жанакента, в низовье Сырдарьи, как задумал хан Абулхаир. И в этом деле Маман не знал милосердия. Мудрый Мурат-шейх так учил:
— Иноверцы, сынок, не то же ли, что ослы? Чиста у них только телесная сила. Вот и пусть живут в труде, как ослы, пока душа в теле. И пусть познают страх, пусть запомнят страх перед нашей верой, духовной чистотой.
И Маман старался. Единственно, на кого он не отваживался поднять палку, — на человека с дивной бородой. Злился на себя, па свою робость. Бородач не слушал его окриков, отворачивался, показывая свою иссеченную шрамами спину. А Маман бесился. Стыдно ему было, что не справлялся он со своей службой, раз не мог внушить пленнику страха.
Звали этого человека, видимо, за то, что дал ему бог такую бороду, — Бородин… Понял это Маман, когда научился балакать по-русски. Схватывал он русскую речь на редкость легко и быстро, много быстрей, чем пленники — каракалпакскую. Однажды раскричался Маман. Кричал он по-русски, взвизгивая, как кабаненок:
— Эй вы, свиньи… эй вы, свиньи…
И вдруг молчаливый дотоле бородач, у которого и русского-то слова не вытянешь, заговорил с Маманом на его языке свободно и бегло. Была это не больно чистая тюркско-татарская речь, но вполне попятная!
— Распускаешь язык, молодой мулла. Срамишь свой народ. Это самый большой грех.
Маман оторопел.
— Ты кто? — спросил, запинаясь.
— Я купец. Торговый гость. Твой гость.
— Л я сын батыра! Мой отец бил джунгар. Нет в мире сильней джунгар… Все ханы всех народов мечтают, чтобы в их войске были каракалпаки. Мы самые лучшие воины…
— Не тем гордишься, молодой мулла. Твой народ — хлебопашец. Все народы кругом кормил хлебом. Знаешь ты, какое здесь созревало зерно — пшеницы, проса, ячменя? Откуда тебе знать! Ты еще тогда мамку сосал.
— Мы воины! — повторил Маман упрямо. Труженики! «Три месяца молока, три месяца дыни, три месяца тыквы, три месяца рыбы, — проживем…» Чья это пословица? Ваша!
Маман был поражен. Такие речи он слыхал от отца, и даже от него, батыра, они были менее удивительны.
Бородин переложил из правой руки в левую пудовую кувалду, которой бил камень, и внезапно обнял Мамана за плечи, стиснул железной десницей.
— Молод ты, а ведь не скажу, что глуп. Не на то растрачиваешь силу. Людей мытарить? Это дело палача, а не джигита.
Маман вырвался.
— Не можешь ты судить! Ты пленный, мой раб!
— А разве ты меня взял в бою? — спросил Боро дин. — Выкрали, как барымтачи лошадь. А болтаете про то, какие вы честные, праведные. И какие грозные! Много болтаете.
Опять Маман опешил. Вскрикнул, однако, с гонором:
— Вере учу!
Бородин громко рассмеялся:
— Слышал ты, чтобы русский сменил свою веру на вашу, видел хоть одного такого? Я не встречал.
Маман пожал плечами. Врать он не умел. Он тоже не слышал, не видел ничего подобного.
С этого часа и дня Бородин стал интересен Маману на всю жизнь. Не хотелось более пересилить этого человека. Хотелось его слушать, спрашивать. Любопытно было, как он ответит.
Бросил Маман палку, и со временем стало ему неловко и вспомнить, как он с ней управлялся. Потянулись долгие разговоры, втайне от стражников, благо они укладывались спать, когда он являлся. Услышал Маман сказку жизни Бородина и заслушался.
— Ведь вот как оно с нами случается. Наперед не угадаешь, во сне не приснится… Кто такой, братец ты мой, купец? Первейший человек в своем отечестве. Само собой, хлебушко поднять из матери сырой землицы — заслуга наибольшая. И землю ту оборонить, и навоевать иную, побогаче, — заслуга преславная. Но не единым хлебом жив человек. И там солдат не пройдет, хоть трижды кровь прольет и жизнь положит, где пройдет купец без меча и забрала.
Ежели хочешь знать, слышали мы от одного верного человека в Омске, своими ушами слышали: есть русские люди и в Джунгарии, за поднебесными перевалами, у великой горы, которой имя Хан-Тенгри, что значит — Царь Духов, в самой урге, то бишь в ставке Голден-Церена. Кто эти люди? Знамо, купцы! Ни одному батыру дойти дотуда не по силам. Скажешь, басни? Что же, не любо — не слушай, а врать не мешай. По мне эти басни дороже деньги. Они — как звезды в небе, их держись — не заплутаешься.
Сам-то я не шибко удачлив. Куда" уж нам, вологжанам! ан и мы хлебнули солоно.
Мы, братец, люди Петровы, стало быть, царя Петра. Подарил нам господь царя, какого свет не видывал. Не гнушался мастеровых, купца любил. Самолично ходил в заморские страны и тех уважал, кто дальше ходит и домой прихаживает не с пустой башкой. Пустую мошну прощал, башку пустую не миловал. Батя мой пошел по Петровой дороге со всей охотой и меня наладил, а я — своих сынов.
Родом мы из Вологды, наш товар — поташ да смола. Богатства на том не нажили, но видать, как его наживают, видели. Тянулись из наших лесов — одни на север, к берегу морскому, другие поближе к Уралу, на восток. Нам судьба выпала обжиться в Уфе. Там завели товар покраше, подоходней. Сосед у нас был татарин многодетный. От его младших баранчуков я и набрался ваших слов, как ты вот наших.
Наслушался я купцов-туркестанцев, прознавших дорогу в Хиву, в Бухару, не терпелось мне туда же. С батиного благословения нанялся я толмачом к одному рисковому умельцу, побродил с ним, приобвык к делу. Понравился хозяину, поставил он меня приказчиком. И пошел я ходить с караваном: сперва от хозяина, а ужо как отдал мой батя богу душу, а мне капитал, — от себя самого.
Тут-то меня подстерег мой бес. Замыслил я всех переплюнуть: махнуть к афганам, а из афган, веришь ли, в Индию.
Долго нацеливался, замахивался. Недалеко ушел… В Черных Песках напоролся на лихих людей. Отобрали у меня и товар, и верблюдов, и прислугу. Я дрался насмерть в пару с приказчиком, нам и досталось до полусмерти: бросили нас, ни живых ни мертвых, без капли воды.
Время — июль месяц, день длинный, ночи ждать — не дождешься. Поднял я товарища, поползли с бархана на бархан, как черепахи. Солнце нас добивало. Легли в ямку, под саксаулом, вместе со змеями и ящерками. Гляжу, а мой дружок уж язык вываливает изо рта, мошка у него на языке. В той ямке я ему и засыпал песком очи. Крест начертил на песке в головах.
Чую, подступает мой черед: и у меня язык во рту не помещается. К ночи из последних, крайних сил зарылся я в песок, а он чем глубже, тем черней, стало быть, от сырости, живой воды. Лег грудью, лицом на эту сырость, забылся. С рассветом очнулся, вроде бы ожил. И жажда не та, и язык на месте. А на горизонте, по краю земли, в зоревом соку, скачут, играют то малые точки, то буквы-алефы аж до неба. Караван! Встать, крикнуть мочи ист, в глазах помутилось. Смекаю, однако, — я на караванном пути, наткнутся на меня.
Наткнулись. До того я был страшен, что робели ко мне подступиться. К тому же иноверец… Хотели было уйти. Но караванщик главный, видать, прикинул, что ежели я живой, то уж не подохну. Подкормив, можно меня продать с выгодой. Он вез на двух ослах соль в Хиву. Я стоил дороже его товара. Это меня и спасло. Развьючили осла, посадили меня.
В Хиве, на базаре, я оказался самым видным из всех, кого вывели на продажу. Купил меня за хорошую цену маслодел, поставщик ханского двора. Стал я бить кунжутное масло. Помаленьку окреп, оброс новой шкурой. Меня и приметили. Попался на глаза ключнику ханского дворца. А они не ладили — ключник и мой маслодел. Ну и науськал на меня ключник ваших попов. Заявился к моему господину главный мулла мечети, напугал до немоты и дрожи: грех, мол, есть масло из моих рук, пущай раб принимает ислам.
Так что, видишь, по этой части — не ты первый, не ты последний.
Я еще отцу дал зарок: учить вашу грамоту буду, креста с себя не сниму. Чтобы душу мне растоптать, надо ее из меня вынуть. Вот и стали ее вынимать. Били меня плетьми у столба принародно. Я стоял на своем. Тогда порешили казнить.
Казнь для нашего брата придумали ваши святоши лютую: силком напоить соленой холодной водой, отчего в смертных муках сроком через сутки человек должен лопнуть. Верующим, стало быть, урок и потеха.
Связали меня по рукам и ногам, налили в рот не воды — соленой каши. Бросили посреди площади. И пошли любители смотреть на мои муки. Иные усаживались, оглаживали бороды, закладывали за щеку табак, чтобы уж насладиться всей душой.
А я лежу и не лопаюсь. Минули сутки, я живой. Корчусь, глаза на лоб вылезли, а дышу.
Ехал мимо ханский визирь, соблазнился посмотреть. Сошел с коня, потыкал меня нагайкой в брюхо, глянул в глаза. Не знаю, что ему примстилось. Велит спросить меня: пойду ли я служить нукером хану? Я выговорить ничего не могу. Рычу в ответ, как дикий зверь.
Кинулись ко мне, развязали. Отпоили топленым бараньим жиром. Я и оклемался, слава богу. С той поры, правда, соленого в рот не беру.
Нарядили меня, вооружили. Довелось воевать против Бухары, ходил в поход на Мары. Силенка кое-какая водилась за нами, трусить нам не с руки. Не хотелось уронить себя. А как стали от меня бегать ваши молодцы — вошел во вкус. Тем и прославился. Года не прошло, представили меня перед очи хана, а он мне — чин жузбасы, по-нашему — сотника. После этакой оказии прежний мой господин и тот самый ключник стали мне кланяться, кладя руку на сердце, хотя я и православный.
Еще я подивил тамошних господ хороших тем, какой я лекарь. Брюхо-то у меня разоренное, а вода в Хиве, в арыках, как в вологодских лужах. Напала на меня чесотка, как на дитя золотуха. Исчесался, изодрался весь, точно изъеденный комаром-гнусом. Нужда заставила вспомнить, чей я внук. Бабка моя по матери понимала в травах и меня тому учила. Попробовал я пустить в ход зеленый тутовый лист. Как рукой сняло! Гляжу, а у вас этой чесотки кругом полно. Обсыпали меня болящие, как мухи, — попервости ратники, челядь дворцовая, а там и горожане.
Пошла обо мне молва и чуть было не довела опять до беды. Уж этого доброго дела — моего колдовства — муллы мне не спустили бы. Не поспели, дай им бог здоровья.
Как раз о ту пору приглянулись мы одной молодой бабочке, персиянке, второй жене ханского держателя печати. Подослала красавица ко мне старуху, а потом и сама пришла под видом старухи. Кинулась на шею, говорит: бежим отсюда, увози меня с собой.
Легко ли — бежать, да еще с чужой женой! Однако у нее, сердешной, все было обдумано. За порядочную мзду ханский писец изготовил на самолучшей казенной бумаге, по самовернейшей казенной форме грамоту, что я, мол, сотник ханского войска, посланный ханом, а куда, по какой надобности, то хану ведомо. Крепко, знать, спал держатель ханской печати, когда его молодая сняла с его шеи ключ, отперла ларец, взяла печать и приложила к грамоте. Припасла она даже хну да басму — покрасить мне бороду.
Ночью пустились мы в бега. Из города выбрались с грехом пополам. А на большой дороге сказалось то, чего я недомыслия. На копе моя персиянка держалась, как на корове седло. Пересадил я ее на своего копя. Далеко ли так ускачешь? Поутру, на переправе через Амударыо, настигла нас погоня. Река полноводная, бурная. И ветрено было, волна с гребешком. Кинулись мы вплавь. Гляжу, хорошая моя держится за гриву своего коня. Еще поглядел, а ее уж нет на плаву. Ушла, может, со стрелой в спине, а может, и без такой подмоги. Не уберег я благодетельницу, дурак рыжий.
Следом за ней и я утонул… Бросил коня, нырнул и, благословясь, — по течению. Волна меня прикрыла. Ушел и я. Внизу, в камышах, отдышался. Месяца полтора спустя был в России. Дома, за иконой, храню грамоту хивинского писца — память дорогую об той персиянке.
Как видишь, и после того не образумился я. Дома прожил одну зиму. Кто хоть раз отведал сего зелья — купецкого риска, на печке не усидит. Индия у нас в очах как видение господне.
В летошнем году собрался налегке, поскольку я битый, грабленый, — осмотреться, разведать, какая чему красная цена. Вы меня и увели с базара городского. Набросились, как волки на косулю. А за какие такие вины? Мы, братец ты мой, за яицких казаков не в ответе. Им дурная кровь в черепушки ударила, а следом и вам. Режете курочку, которая песет золотые яички. Можешь ты понять, молодой мулла, то попять, что старшим твоим будто бы невдомек?
Маман понимал… И дивился тому, что старшие этого понять не хотели. Отец его, Оразан-батыр, колебался, сомневался, а другой его отец — Мурат-шейх — не колебался и не сомневался. Почему так? Разве батыр и шейх — не одна голова, как они ни розны?
Но более всего дивился Маман человеку, который подарил ему свою правду и готов был еще дарить. Принимать ее — смертный грех. Но ничего слаще этого греха Маман пе знавал. И слушал со счастливым чувством, будто нашел клад, с трепетным ожиданьем, с горячей благодарностью. Не раз ему хотелось по мусульманскому обычаю припасть к ногам иноверца. Хотелось вскрикнуть: отец! Маман едва сдерживал эти порывы. Смотрел в прозрачные, крупные, как у совы, глаза, которые его завораживали, и думал: какой же огонь скрыт, точно под золой, под этими шрамами, в этом битом и ломаном могучем теле.
— Бородин-ага… есть ли у вас сын?
— Двое! Старший, Владимир, твой сверстник. Младший — Петяй, Петра… Крещен царским именем, авось не уронит.
— Они купцы? Будут купцами?
— Нет, никак нет. Время у пас новое. Есть дела новые. Еще мой батя был живой-здоровый, как мы порешили: старшему дорожка столбовая — в город Тулу, младшему — в Питер.
— Зачем?
— Одному — в оружейники, другому — рубить корабли. Ноне, видишь ли, такая нужда. Ее царь Петр ухватил за хвост, как жар-птицу, и нам заповедал. Он великий был охотник и умелец уразуметь, какая есть в мире нужда. Нашему брату от такого царя срам отстать.
— Но царь Петр умер…
— Воскреснет! Яицкие-то казаки потрепали вас при дуре царице, Анне Иоанновне, прости, господи, великое прегрешение. Ноне правит Елизавета, Петрова кровь! Кто ее сажал на престол? Петровы люди.
— Откуда вы знаете?
— Стало быть, знаем. Забыл, молодой мулла? Короткая у тебя память.
Маман не забыл… Он хорошо помнил, как наведывались его отцы, батыр и шейх, к русскому пленнику с золотой бородой. Теперь Маман понимал, что приходили не просто глазеть, любопытствовать, приходили советоваться. Значит, и им интересны были его слово, его ответ.
— Презираете меня? — спросил однажды Маман, и ему очень хотелось, чтобы Бородин возразил, но тот лишь пожал плечами.
— Не любишь, не уважаешь свой народ… Мулла ты недоучка. Кто дорожит своим народом, тому душу воротит — обидеть другой народ. Мы, братец, и беленькие, и черненькие — все от бога!
Вот и такого Маману не доводилось прежде слышать. Разве не загадочные речи? Чем были велики татары? Тем, что топтали русских. Чем стали велики русские? Тем, что топчут татар. Так привык думать Маман.
— А как понять… что такое нужда, которая как жар-птица?
— Это нужда самая наибольшая, она как божий произвол. Ей, как господу, вес подвластны — и парод, и цари. Уловишь, ухватишь эту нужду — будешь царь, а нет — так и помрешь дурак дураком, хотя и на престоле.
— Не понимаю…
— И молодец, что не корчишь из себя… не пыжишься, как ваши родовитые баи.
Все же Маман спросил:
— А может, это и есть наша жар-птица — держать вас в плену?
— Путаешь иголку с мечом! Ваша нужда проще простого, нужда великая…
Бородин умолк в раздумье, но Маман понял, что он хотел сказать. Оразан-батыр говорил точно так же: жили бы мы под рукой русского царя, не было бы у нас годины белых пяток.
Случалось, что и Бородин расспрашивал Мамана, допытывался, что делают, о чем думают его отцы — батыр и шейх. Маман отвечал как умел, забывая о том, что доверить иноверцу — то же, что прыгнуть, закрыв глаза, в колодец.
Один давний его вопрос не шел из головы Мамана. Кувыркался в голове, как в небе кара-торгай, или черный воробей, а по-русски — жаворонок. Лукавый вопрос: о чем же ты, милый, мечтаешь? Нет, не хотел Маман согласиться, что он без хмеля в душе… Была и у него своя Индия, тайная, самая заманчивая. Маман думал о ней застенчиво и дерзко, как иные думают о девушке. Его Индия — не на востоке, а на западе. Его Индия — страна Петра, царя-плотника, царя-мастерового, какого не знавали ни в жизни, ни в сказке… А верно ли, что первым его другом был нищий сирота? Истинная правда. А верно ли, что в гневе он не знал пощады? И то правда. С дрожью в сердце внимал Маман: его друзья были тоже сироты, нищие и он тоже хотел быть беспощадным.
Как-то раз Маман увидел Бородина, каким еще никогда не видел. На камне сидела женщина с опухшим от слез лицом, серым, как старая застиранная ткань, простоволосая, растрепанная. Бородин обнимал ее худые костлявые плечи, дрожащие от рыданий, и в прозрачных его глазах тоже стояли слезы. Увидев Мамана, женщина со стоном поднялась и пошла к камнетесам.
Маман замер на месте, будто пришитый гвоздями к земле. Спросил, кто эта женщина, уж не родная ли?.. Бородин кивнул.
— Родная… У нее на глазах померла мать, а сегодня утречком — сынок, единственный, последний. Многовато слез в этом ущелье… Проточат землю… Расколется земля!
Маман привык к людскому горю. Он не помнил своей матери, не помнил, чтобы плакал, и не помнил, когда бы испытывал жалость… А тут и у него навернулись слезы, и слезы эти были ему желанны.
Это было накануне отъезда Оразап-батыра в Хорезм. И вот, проводив в далекий путь отца, прибежал Маман в горы. Хотел поведать поскорей, что сказал на прощанье батыр, а что шейх. Поведать, как одинок неутомимый, безотказный Оразан-батыр, — провожал его только шейх, бии других родов не показались. Хотел услышать похвалу батыру, осужденье биям… И вдруг — спросил, глядя в прозрачные глаза своему третьему неназваному отцу:
— Бородин-ага… бог создал человека из глины, вас — из железа… Вы храбрый как лев… Почему не уйдете отсюда? Разве вы не можете бежать?
— Бежать? Спасибо, братец. А эти бабы, мужики? Какая казнь будет им в отместку за то, что я уйду?
Тогда Маман понял, что Бородин хочет и чего от него ждет. Догадывался и раньше. Духу не хватало — задуматься всерьез. Теперь же он сказал себе, что так и будет, как этот человек хочет, как ждет. Горло перехватило.
— Готовьте хлеб-воду на дорогу,…- проговорил глухо.
— У нас все готово. Маман вскрикнул страстно:
— Клянусь!., клянусь… — и пустился бегом из ущелья.
3
На северной окраине аула, на склоне горы, ютилась лачуга без окон, без дверей, похожая больше на нору: стены из камня и земли, крыша из хвороста и земли. Здесь жили сироты, нищие дети.
Их десятеро — девять мальчиков и одна девочка, младшая. В одиночку им не прожить, вместе кое-как кормятся, побираются по очереди, долят добычу на всех поровну, вернее, как порешит старший мальчик. Ему лет семнадцать, другим — по десять — пятнадцать. Девочка вряд ли прижилась бы, не уцелела бы, но старший мальчик ее брат. Он — и отец, и мать, и хозяин всем остальным, его слово здесь последнее, и оно крепко и весомо, как его подзатыльники и зуботычины. Его зовут Аманлык, ее — Алмагуль.
У старшего есть, понятное дело, правая рука — разбитной парнишка, почти ровесник. Это Аллаяр. Он рожден для того, чтобы веселить. Когда его очередь идти по милостыню, а день неурожайный, когда в доме голодно, холодно, уныло, он балагурит, ноет, пляшет, строит рожи, пока ребята не хватаются за громко бурчащие животы. У сирот не бывает глаз без слез. И сиротская хибара не просыхала бы от слез… Он сушил ее смехом. Смехом умел накормить и согреть. Он один это умел.
Девчонку бог создал для того, чтобы таскать ее за косы, дразнить всласть, для общего удовольствия. Доля Алмагуль досталась, однако, мальчику — Бектемиру. Он был не слабей и не глупей других. Но он коротышка, и у него слишком тонкий и пискливый голос. И такой уж ему выпал удел.
Отцы Мамана дружили друг с другом, а с биями других родов больше спорили. Не ладил с бийскими сынками и Маман. Дружил он с сиротами. Сытые, обутые, одетые, спящие на подушках, юнцы смотрели на нищих детей свысока, обходили их, как заразу. Байскую спесь постигают с младенчества. Маман, единственный, не чурался сирот, держался с ними как равный. Над барчуками надменными смеялся. И сироты его любили.
Встречали его ералашным гамом; младшие, толкаясь, обхватывали его колени, висли на нем, непроизвольно ища ласки, которой они не знали и не узнают. Случалось, он приносил угощенье, но не этим дорожили. Дороже всего было то, что он приходил как к своим, как к родным. И Маману было хорошо с сиротами. С ними он тоже не чувствовал себя сиротой.
Несколько дней его не видели. Скучали без него. Наконец Аллаяр заметил его на тропе, тающей в горах.
— Идет! Мигом лачуга опустела. Все высыпали навстречу.
Маман подошел быстрым шагом, но — угрюмый и с пустыми руками, малышей оттолкнул от себя и даже при взгляде па Аллаяра не улыбнулся, как обычно, а насупился.
Аллаяр тотчас вцепился в него острым словцом, точно пес зубами:
— Маман, а у тебя во рту горох?.. Покажи!
Все, кроме Мамана, так и покатились со смеха. Тут был, конечно, подвох, и Маман невольно хмуро усмехнулся. Аллаяр не стал его томить догадками.
— Это мне в дырявый зуб попала горошина. Три дня не мог выковырять. А выковырял, смотрю, она уже проросла… Они, дураки, не верят. Видишь, взялись проверять. У всех во рту по горошине. Осталось два с половиной дня…
Из-под руки Мамана высунулся Бектемир, чумазый, с клиньями сажи на скулах, разинул рот и показал на кончике языка две горошины. Аллаяр вскричал:
— Один он верит! Выращивает, старается. Не пройдет и месяца — всех накормит горохом.
Маман рассеянно озирался. Он искал, разумеется, Аманлыка.
Бектемир, глядя на Мамана, снова открыл было рот, но только пискнул, получив от Аллаяра подзатыльник.
— Молчи! Урожай погубишь…
Затем Аллаяр молитвенно сложил руки, так уморительно серьезно, что все опять захихикали.
— Господи, помилуй. Аманлык сейчас, может, ни живой ни мертвый… Вчера была очередь побираться этого пискли. Ходил-ходил целый день, ни шиша не выходил. Уж на ночь глядя подстерег одну старуху, глухую, слепую, и упер у нее, прямо из-под носа, когда она читала молитву, хлеб со стола вместе со скатертью. Только хлебушко там и был. Аманлык чуть не лопнул от злости. Сегодня спозаранок сам понес старухе ее дастархан. До сих пор его нет. Что, если его схватили, бьют насмерть?..
Вряд ли Аллаяр верил, что Аманлыка схватили и бьют, иначе он не сидел бы дома безучастно, но маленькая Алмагуль заревела в голос от страха за брата. И тут же засмеялась сквозь слезы, так похоже и так смешно Аллаяр передразнил ее рев.
Обыкновенно Аманлык брал сестру с собой, они побирались всегда вместе.
Ты почему дома? — спросил Маман, беря ее за руки.
Уговорили. Чтоб убивали одного, — отозвался неугомонный Аллаяр.
До позднего вечера Маман ждал Аманлыка. Хотел сказать ему два слова: я поклялся. И так был горяч, что, если бы Аманлык ему возразил (а тот бы, конечно, возразил), готов был отрезать навек: тогда ты мне не друг, а враг.
В сумерках Маман ушел быстрым шагом, как пришел. Он встретил Аманлыка, но тот, поправив на шее увесистую суму с харчем, лишь махнул Маману рукой: беги! И Маман побежал. Жест Аманлыка означал, что Мурат-шейх, которого торопился встретить Маман, уже вернулся. Наверно, Аманлык видел его копя.
А на другой день, утром, когда Маман по обыкновению вместе с повозкой с едой и водой отправился в ущелье, в живот ему уперлись секиры стражников. Сонливость их как рукой сняло. Они орали на Мамана, лаялись, как цепные псы, а в пленников, которые подступались поближе к воротцам, швыряли камни.
— Хочешь нас сгубить совсем? Проваливай отсюда! Все скажем шейху, все… Не велено тебя пускать. Велено гнать!
«Уже поспели, донесли», — подумал Маман, глядя на стоявшего поодаль Бородина. Борода его золотилась на солнце, как бронзовые бляхи на щите Оразан-батыра. И как широко, как добродушно он улыбался! Эта улыбка прожгла Маману грудь до самого сердца.
Однако у него хватило ума не спорить. Напротив, с видом полного послушания он поклонился джигитам с секирами, а тем самым — Мурат-шейху, и пошел прочь, думая о том, что впредь надо быть хитрей, надо быть лукавей, а он этого не умел.
В середине дня Аманлык и весельчак Аллаяр пришли к Маману и застали его в необычном месте. В тени юрты лежал дворовый пес, пегий кобель, положив голову на передние лапы. Рядом с псом сидел на корточках Маман, покусывая прутик джангиля, дикого тамариска. И выглядел Мамап как побитый пес.
Друзья подкрались к нему, по Маман, не оборачиваясь, погрозил им пальцем, и они молча присели около него.
Из юрты доносился внушительный голос Мурат-шейха. Там, смирно сложив руки, сидели два унылых сонливца, ученики шейха. Судя по всему, Маман был оттуда изгнан, но Мурат-шейх говорил не тем недоноскам, говорил Маману:
— Ныне одежда твоего народа — похоронные носилки, могильная роба. Или ты этого не ощущаешь? Народ — твоя мать, сердце народа — сердце твоей матери. Обесчестить свой народ — все равно что убить мать. Кому не ведомо, отчего мы надели черные шапки и прозваны в мире черными шапками? Это самая наша суть — вечная скорбь. Прадеды наши обитали на берегах родимой Джейхун-реки, по-нынешнему — Амударьи. Обживали степь. Близ устья реки, как говорят, а тому полтысячи лет, стоял богатый город Айаз, и шли от него караванные пути в Багдад и в Басру, к тому морю, которое посредине земли, и в другой конец света — в Индию.
Маман вздрогнул: в Индию… Аллаяр недоуменно, смешливо покосился на него, но Аманлык сердито пнул шутника в бок, и тот, словно в изнеможении, отвалился на спину,
— Где он, тот город, и сколько не стало таких городов! Земля наша была молода и мы еще не стары, когда пал нам на хребет Искандер Двурогий. Отчее его гнездо Македон было мало, меньше нашего, оно ему было тесно, он и пошел крушить другие, лить кровь. Дошел до ДжеЙхун-реки, призвал своего духовного советника. А тот ему и говорит с лошадиным ржанием, слышным до самого Македона: «Задай им, государь, задачу. Повели сему народу в знак покорности тебе совершить обряд обрезания над своими дочерьми…» Это подлило масло в огонь. Велико было пламя нашего гнева. Весь народ сел на коня мести. Восстали люди. Тогда-то и надел наш батыр черную шапку, выехав на поле боя. Он первый ее надел и в ней воевал. А потом все надели черные шапки, когда Искандер нас осилил, схватил батыра и казнил. Невиданное, небывалое было сражение. От века Джейхун-река желтела под солнцем, как спелое зерно, от животворного ила. Покраснела от людской крови. Разорил Двурогий наше гнездо. Побежали чер-ношапочники с обжитых мест в пустыни, кто куда, усеивая землю страшным семенем — неприбранными мертвецами. Разбрелись далеко. Скитались веками. И со временем, со стороны Крыма, дотянулись до тех земель, которыми владели русские. Искали покоя, спасенья, а нашли то, чего и не чаяли найти, — друзей истинных. С русскими рядом хорошо, славно было. Селились по соседству, юрта в юрту, а жили душа в душу, делили хлеб, ели с одного дастархана. С русскими князьями, можно сказать, обнялись крепко. Они брали у нас жен. Их враги стали нашими врагами, а их друзья — нашими друзьями. Долго нужны были друг другу. Познали мы верность и благодарность, братскую, взаимную. Никогда не забудем этой поры и этой близости, нечаянной, желанной. Вот, дети мои, какими путями пел господь наших предков и какую память они нам завещали.
Маман глубоко вздохнул и поперхнулся, как будто повторял и затверживал про себя слова шейха. Эти речи Маман слышал уже не впервые и догадывался, к чему его учитель ведет.
— Недолговечная это была пора. На другом конце света рождается некто Чингисхан — и опять рушится мир, катится по всем странам война, самый великий людской мор, самая подлая казнь, падают города, иссыхают воды, умирают земли. И опять наши деды и прадеды бросают жилье, бегут, унося детей, на сей раз обратно, на восток. Судьба нам была осесть в Туркестане, обживать кормилицу Сырдарью. Кажется, подняли головы, хотя и в черных шайках, которые к нам приросли. И вот в третий раз на все народы кругом и на нас, сирых, валится с неба новая кара — еще один дьявол, кровавый от пяток до ушей, еще один непобедимый, Голден-Церен. Джунгарская рать… В годину белых пяток ступили мы через пропасть, но не переступили ее, а повисли над ней. Семнадцать лет висим в обнимку с горькой думой: народ мы или уже не народ, как мыслит хан Абулхаир. Что греха таить, вспомнили мы, с кем водились наши предки, кому были верны. Мы не смущаемся, дорожим этой памятью. Поклонились давним друзьям. Да, видно, не помнят они того, что мы помним, и уж не знаю, почитают ли нас народом, разорванных пополам в пояснице данников хана Абулхаира. Оскорбили грабежом… безоружный мирный караван… Маман затряс головой, будто отгоняя назойливую муху, вскочил на ноги. Больше он не хотел слушать. Пошел прочь без оглядки, уводя за собой товарищей, не дожидаясь разрешения уйти. Он любил слушать своего старшего отца, и его тяготило ослушанье, голова кружилась от того, как греховно и бесстыдно он держится, но в груди кипело злое упрямство.
Маман шел в лачугу сирот. Там не слышно голоса Мурат-шейха. Там слышней голос Бородина-ага. По пути Маман рассказал Аманльтку и Аллаяру, что задумал и в чем поклялся. Не скрыл и того, что дорожка к пленным отныне ему заказана.
Аллаяр так и взвился:
— Выпустить волка, влезшего в овчарню… В жизни не видел, а сейчас вижу… петуха с куриными мозгами! Не зря тебя посадили вместе с собакой.
— А я вижу человека с языком попугая, — ответил Маман.
— Что такое попугай? — пробормотал Аллаяр. Он знал все на свете. Немыслимо, чтобы он чего-либо не знал.
Аманлык был тоже ошарашен.
— Рехнулся! Опомнись! Мурат-шейх не простит. Проклянет.
Маман сказал:
— Он ждет, что я повинюсь, хочет меня простить. Но лучше мне уйти в бродяги, чем просить прощенья. Уйду, уйду с русскими.
И так он это сказал, так затрясся, выговаривая неслыханные слова, что друзья прикусили языки. А Маман вытащил из-под рубахи кусок толстой бугристой коры; на коре было вырезано, видимо, острым камнем, поскольку ножа не было, одно русское слово: Ы н д е я.
— Что это? Талисман?
Что написано? Заклинанье?
— Да, — ответил Маман.
Он пробыл у сирот допоздна, как и накануне. Рассказывал им сказку жизни Бородина, а еще про царя Петра, которого бог подарил русским, и про то, почему он мулла-недоучка… Завтра спозаранок (Маман это знал) побегут сироты в ущелье, обсыплют скалы кругом и будут пялиться, не дыша, на человека с золотой бородой, будут высматривать, как же он мечтает об Индии.
Стемнело, когда за Маманом пришли. Он, ни слова не говоря, последовал за посланцем. Мурат-шейх встретил его у дома, взволнованный, озабоченный.
У коновязи топтались, фыркали кони, еще не остывшие от скачки. Трое всадников отдувались и крякали, разминаясь после трудной дороги. Они принесли худую весть: хан Абулхаир опять распустил руки, хан Абулхаир не унимался; минувшей ночью налетели его ба-рымтачи, смяли чабанов, угнали много скота. Били всех, кто попадался им на глаза, смертным боем, не щадя старцев и подростков, благо те были безоружны и не держали в слабых дланях ни копий, ни дубин. Крушили юрты, повозки, летние очаги, с волчьим завываньем, с шакальим хохотом. Потешились бесстрашные джигиты вволю. Бесчинствовали с такой злобой, будто мстили за некое коварство или подлость. Налет истинно разбойный, охальный, чтобы — как побольней да пообидней, чтобы не нажирались черные шапки досыта, не дрыхли спокойно, не задирали носа, чтобы детей нами пугали…
— В четвертый раз… в четвертый раз… за девять лет… Так поступает враг! — говорил Мурат-шейх, то роняя в бессилии руки, то воздевая их к небу, — Где же русские? Мы их подданные! Они за нас в ответе перед богом… Или впрямь новой царице не до нас, как и старой? Что же, и она примет сторону Абулхаир-хана, что бы он ни натворил? Или она не дочь Петра? (Маман лишь немо ахнул, — он слышал слова Бородина.) Нет, воистину, кто не разделит с тобой горе, тот тебе не друг. Маман в смятении, низко опустив голову, подошел и порывисто, горячо поцеловал Мурат-шейху руку.
4
Собрать биев, держать совет — вот первое, что приходило в голову. Не мешкая Мурат-шейх разослал гонцов. Но не толкнуться ли прежде к Гаип-хану?
Гаип-хан особа загадочная. Хан Абулхаир объявил его потомком Тауке-хана, отца казахов, собирателя и объединителя, при котором у казахов был золотой век. И поставил гордого потомка ханом над каракалпаками. Странное это было ханство. Чести много, власти мало. Подати с черных шапок по-прежнему шли Абулхаиру. Абулхаир видел и опасался в Гаипе соперника, потому и мазал ему губы мясом, однако мясо ел сам. Каково это было Гаипу? Вряд ли он принимал все как должное. Но вида не казал. Сыт и доволен был Гаип-хан.
И все-таки Мурат-шейх решился… Найти Гаип-хана было нетрудно. Мурат-шейх выехал поутру в степь, поближе к зарослям тугаев, взяв с собой одного Мамана, и тотчас увидел свору собак. Это собаки хана; он либо собирался, либо возвращался с охоты. За собаками показались люди, Гаип-хан и его братья и сыновья, султаны. Свита его гомонила громче, чем свора.
Гаип-хан восседал на вороном коне с белыми бабками и белой отметиной на лбу, но красавец конь терялся под всадником, — такой приметной внешности был всадник. Брюхо как арбуз, голова как лопата, а на той лопате — высокая бобровая шапка с выпуклым плюшевым верхом. В седле он походил па котел с торчащей из него деревянной мешалкой.
Мурат-шейх не успел опомниться, как Гаип-хан подскакал к нему на гарцующем коне, и шейх отдал приветствие хану, не слезая с коня. Маман спешился в отдалении, но его хан не увидел, как не видят господа слуг. Хан заорал во все горло:
— Шейх мой, а вы сильно отощали!.. Можно ли так изнурять себя чтением Корана?
И все султаны захрипели, давясь от хохота, мотая бородами и бороденками, как поперхнувшиеся козлы.
— Если наш светлейший хап заметил это, значит, оно истинно так, — ответил Мурат-шейх смиренно.
— Шейх наш, надобно и вам выезжать на охоту. Что за степь! Широка, как море. Джейран, побежавший от тебя на восходе солнца, не потеряется из виду до заката. У меня собаки как джейраны. Погонятся утром — до вечера не пристанут. Не угомонятся, пока не затравят. Охота — она веселей ваших книг. И разве она не для души?
— Мой хан, вы дали недоступный для нашего разума совет, за что мы вам покорнейше благодарны, мой хан.
Гаип-хан поднял руки и растопырил пальцы, похожие на кишки, заполненные розовым жиром, — это значило, что хан доволен собой и собеседником. Затем кивком велел кинуть собакам мясо. Собаки, рыча, набросились на окровавленные куски, и хан зарычал, глядя на них, млея от удовольствия. Иные из щенков, насытясь, отваливались и выбирались из общей кучи. Хан не утерпел, слез с коня, выкатив круглое брюхо, выпячивая отвислый бабий зад. Ему подали бурдюк с загустевшей черноватой кровью, и он стал тыкать в нее мордами щенков, одного за другим.
Мурат-шейх и здесь не спешился. Он уже понял, что Гаип-хан не услышит его и не будет слушать, разве что заплакать у него на глазах кровавыми слезами и дать их слизать его псам… Ускачет со своей шальной сворой собак и людей, и добро, если не высмеет напоследок. Младшему хану жаловаться на старшего хана? Бессмыслица. немогая от горестных чувств по случаю бед и несчастий народных, набрасываются друг на друга с попреками и обвинениями, длинными, как бабий волос. О аллах, вразуми правоверных…
Мурат-шейх ожидал словопрений, хотя бы словопрений, злых, злобных, пусть даже злостных, но и того не дождался.
Большая девятикрылая юрта шейха полна людей, но в ней так тихо, как будто она пуста. Дверь из камышовой циновки откинута наверх, два задние крыла оголены, чтобы в юрто не задохлись в тесноте, и люди не задыхаются, они блаженствуют на горячем сквознячке. Детские вздохи витают под сводами, нежное вкрадчивое «фуф-фуф». Называется это деликатно: немного вздремнуть. Бии спят, разморенные, чтобы не терять времени, пока варится мясо в котле, ибо до того, как оно сварится, само собой понятно, какие могут быть разговоры!
Бодрствует один хозяин. Лежа на боку, он вяло обмахивается своей черной шляпой. Сквозь оголенные крылья юрты, в оконцах решетчатого остова, видны вдали горы. Они сутулы и убоги, но ветер с севера их не одолевает, а ветер с юга упирается в них, точно бешеный бык рогами, и лягает аул огненными копытами. В отворенную дверь видна южная окраина и одинокий старейшина, батыр-дуб. Перед ним простирается громадный луг, подобный сказочному дастархану. С него изредка доносится дуновенье, душистое, как из розового сада.
Зной невыносимый, птицы застыли в листве, разинув клювы, змеи, тарантулы зарылись глубоко в песок, но аул живет, шевелится. Бредут люди, ведя в поводу скот, едут верхом на лошадях, на ослах и чуть поодаль, словно бы отдельной дорогой, на верблюдах. Бегают взад-вперед, как жучки, голые, босые, пропеченные солнцем до чугунной синевы, дети; иные цепляются за подолы матерей. Топчутся неразлучные пары — старик, подросток, — с хомутами сумок на шее, держась за концы длинной палки, точно связанные ею… Так водят слепых и калек, так ходят нищие.
А в девятикрылой юрте спят. Мурат-шейх обмахивается, и его мутит такое чувство, будто он отгоняет мух от этих сливок своего парода. Слезы наворачиваются у него на глазах и уползают в морщины на скулах; морщины глубоки, слез и не видно… Может, и не все, отнюдь не все сейчас спят, иные прикидываются спящими, чтобы не уснуть раньше других и не проснуться позже, чтобы спать и все видеть-слышать и, все видя и слыша, считаться спящими.
Они хорошо знают, по какой причине сюда позваны, хан Абулхаир въелся им в самую печень, и дело — вот как неотложно, но ни один пока не обмолвился путным словом, чтобы не дать себя уличить в поспешности или, упаси боже, в иной неловкости. Едва войдя в юрту, они раззявили рты и затыкали друг в друга пальцами, готовые спорить до упаду за свое место в юрте. Старейший из прибывших прилег и смежил глаза, и тотчас все повалились и закатили очи, не упуская при этом ни локтем, ни задницей ни вершка, ни дюйма своего места.
Выше всех лежит Рыскул-бий, глава кунградцев, голова его и борода белей лебединого пера, глаза выцвели и помутились под грузом десятилетий.
Ниже него лежит Убайдулла-бий, глава мангытского племени, человек с необычайно редкой бородой; он заметно моложе.
Еще ниже лежит Давлетбай-бий, глава рода ктай, у него черная голова и борода с проседью.
А ниже всех, ближе к двери, усердней и внушительней всех спит Есим-бий, глава рода жалаир, у него голова с проседью и черная борода.
В том же порядке, что и главы родов, разлеглись люди их свиты.
Не слишком людное собрание… А без малого все, чем богаты Нижние Каракалпаки.
«Недостает Оразан-батыра, — думал Мурат-шейх, глядя на своих гостей. — Он бы вас живо поднял! Но, пожалуй, если бы он был здесь, вы бы зарылись в свои поры. Пришлось бы ему вытрясать вас из нор поодиночке… Он слишком прост для вас. Ох, страшна его простота!»
Мурат-шейх утер лицо краем шляпы, как это сделал бы Оразан-батыр, и стал тихонько покашливать, удерживая приступы недоброго смеха.
Рыскул-бий поднялся, открыл мутные глаза.
— Шейх мой, предались мы сну, не вышло ли какой неучтивости с нашей стороны?
Давлетбай-бий, седобородый с черной головой, бодро добавил:
— Шейх мой, с тех пор как мы легли, минуло ли время достаточное, чтобы выпить пиалу чая?
Убайдулла-бий, редкобородый, сказал, не поднимая головы:
— Пока ты моргнешь, сколько смертных придет в жизнь и сколько уйдет из жизни…
Есим-бий, седоголовый с черной бородой, зевая, добавил:
— Аллах знает, кому послать жару, кому — сон.
— Пока вы почивали, — проговорил Мурат-шейх с горечью, — а длилось это один миг длиной в полжизни, привиделась мне чаша горя глубиной в бездну.
Но его слова ушли, как вода в песок. Бии закивали в ответ с живостью, мнимо участливой, и стали подниматься поочередно и выходить вон. Возвращались, застегивая ширинки. Усаживались, кряхтя и отдуваясь умиротворенно.
Поспело тем временем мясо. Слуга вошел с тазиком, сделанным из выдолбленной тыквы, и с медным кумганом. Гости разразились дружным кряканьем.
Естественно, когда мясо на столе, голова просветляется, но глубокомыслие на ум нейдет. Мурат-шейх и не пытался приступить к делу, ибо затруднить гостей — значит испортить угощенье, а это последнее дело.
Лишь когда появились на скатерти обглоданные кости, начал было Мурат-шейх:
— Почтенные бии мои, старшины земли каракалпакской… Притупив хлебом-солью зубы, не следует ли нам теперь навострить языки?
С ним тотчас все согласились.
— В самое время, шейх мой, — сказал старейший Рыскул-бий. — Нам подобало бы явиться к вам и без вашего особого приглашения.
— Да, шейх мой! Да, шейх мой! — подхватили хором остальные.
И тут же охотно, со знанием дела заговорили о погоде, ведя речь к тому, что, кажется, неудачно поселились тут, у гор (летом яйцо на солнце сварится, зимой лютый мороз), будто и не помнили, как и почему попали сюда, спасаясь от джунгар, при последнем издыханье, и будто могли пойти да переселиться туда, где погода лучше и где (понимай без слов) нет вероломного хана Абулхаира. Намеков — полный короб, а смысла — с волосок.
Косматый пегий кобель, хозяйский пес, появился на виду у гостей, поклонился до земли, растянувшись на передних лапах и дрыгнув задними, улегся у дверей, положив морду на порог. И опять же гости оказались на высоте: не оставили пса без внимания. Кобель яростно выкусил у себя на ляжке блоху и стал лениво тыкаться носом в брошенные ему кости.
Нищие обыкновенно обходили дом шейха, то ли стеснялись хозяина, то ли его грозного пса. Двое побирушек, паренек и девочка, не смогли пройти мимо, затоптались, затолкались против распахнутой двери в девятикрылую юрту, потихоньку подошли поближе и уселись на корточки, не в силах оторвать глаз от горки костей перед носом собаки. На многих костях были шматки мяса, а кости сахарные. Пес лишь слегка сморщил на них верхнюю губу и положил голову на лапы, словно отягощенный бременем своего богатства и могущества. Паренек худощав, долговяз; у пего длинная, как у цапли, шея, длинные, как хлысты чернобыльника, ноги; и шея и ноги одинакового цвета — пепельно-черного. Ничего, кроме донельзя истрепанных портков из самотканой бязи, на нем нет. Волосы до бровей, нос точно у дятла, уши как две ладони, а глаза телячьи.
Девочка ему по локоть, и у нее тоже глаза как у телочки. Все, что есть на ней — жалкое старенькое платьице, из некогда белой бязи, правда, не рваное и как будто без заплаток. Волосы черные как смоль, еще не длинные, тщательно заплетены в плоские косицы, точь-в-точь мышиные хвостики. Личико миловидное, тоже словно обуглено, а ушки светятся насквозь; в нежных мочках дырочки, в дырочках заместо сережек прутики. Сердце щемит при взгляде на эти прутики.
Судя по глазам, это брат и сестра. Вместе они — не такие, как врозь… Как возьмутся за руки да как уставятся своими глазами — не отвернешься! Словом — это Аманльш и Алмагуль.
Мурат-шейх со вздохом поднялся, подошел к двери и протянул девочке кость с большим куском мяса. Сидевший ближе всех к двери Есим-бий тоже встал и подал мясо пареньку. А другие бии словно залюбовались тем, что нищие не набросились тут же на подаянье. Когда видишь приличие, душа радуется, а это не вредно для пищеварения.
И тут Есим-бия дернул шайтан за язык:
— Какого ты рода, мальчик?
Бии разом навострили уши. Все боялись одного: услышать имя своего рода. И глядели волком: осрамит, недоумок, оборванец, и не заметит. Амынлык понял это; понимать такие вещи — ему не впервой.
— Не знаем мы своего рода, — сказал он с усмешкой неребяческой, замеченной, впрочем, только Мурат-шейхом, и пошел с сестричкой прочь от щедрых, ласковых биев.
В девятикрылой юрте опять словно уснули, так в ней стало тихо. Никто больше не притронулся к мясу. Была прочитана патия — послеобеденная молитва — и убран дастархан. Затем бии вновь вытянули ноги и улеглись на бок. Началось чаепитие. Рыскул-бий сказал, красиво держа в тонких пальцах тонкую пиалу:
— Не идут из головы эти безродные… не помнящие родства… словно они не от матери, от суки…
— Вы этих детей хорошо знаете, почтенные, знатные, родовитые мои… — сказал неожиданно Мурат-шейх. — Эта пара копытец — все, что осталось от семьи табунщика Данияра из рода ябы, из тех ябинцев, которые жили среди мангытов. (Убайдулла-бий редкобородый прищурил глаз, припоминая.) Было их пятеро братьев. В годину белых пяток расшвыряло. Младший, Кудияр, ушел в Хорезм с мангытскими табунами. Один в Бухару, другой в Китай, третий увяз в плену у джунгар. Данияр пошел с нами, отца-мать не уберег, сестры стали безгласными кочергами у чужих очагов… Этот мальчик родился в самый несчастный час. Желая семье лучшей доли, я дал новорожденному имя — Благополучие. Семнадцать лет как он носит свое имя, а оно смеется над ним все громче. Девочку эту, да будет вам ведомо, вырастил он, брат. Едва ее отняли от материнской груди, как не стало у них ни матери, ни отца. В один день задушила обоих чума. Перед родами бедная мать попросила яблочка… Я и дал новорожденной имя — Цветок Яблони, на добрую память матери. Но помнит ли девочка свою мать?
— Не знаю, не знаю, — проговорил Есим-бий с презрительным смешком, — как это мог аллах… сотворить глупца, который пе помнит своего рода? О аллах… хвала аллаху…
Другие бии промолчали.
Еще раз попытался Мурат-шейх взболтать сливки, озаботить дорогих гостей тем, что заботило их только на словах.
— Иссушаются наши силы, как хлебное поле без воды… — говорил шейх. — Мы — народ, обманутый трижды и семижды. Кто нас не водил за нос — какой хан, какой царь? Рты наши обожжены ложными обещаниями, которые мы испили и жаждем еще испить. Господи, помилуй… Всех наших потомков ждет участь этого юноши, забывшего свой род! Мы у самого края пропасти, у самого края. Еще один толчок в спину — и нам конец. Имя наше забудется — каракалпак…
Вии исподволь переглядывались, прихлебывая чай, словно подстерегая друг друга. Но лица были величаво скучны, скорбно унылы. Этих речей бии наслушались. Оразан-батыр говаривал и покрепче, но с ним и не связывались. От греха подальше — самое милое дело.
— Гаип-хан, потомок великих… — продолжал Мурат-шейх. — Он в жару не потеет, в холод не мерзнет. Вы его уроки знаете наизусть. Сунулся я к нему, получил урок памятный.
Бии уткнулись носами в пиалы, скрывая совсем невинное и безобидное злорадство: что было у шейха с Гаип-ханом, они знали в подробностях… Мурат-шейх лишь вздохнул печально.
— Перешагнуть хана — перешагнуть бога. Но выбора у нас нет. Нам нашу недолю поднимать самим.
— Слишком большой груз валите на наши чахлые плечи, шейх мой, — сказал Убайдулла-бий, касаясь тремя пальцами реденькой бороды.
— Я ли валю, бии мой? Разве мое имя — Абулхаир? Всем вам известно: хан Абулхаир от великих щедрот своих дал нам право на большую караванную дорогу. Ума не приложу, что же это за право? Взимаем с купцов пошлину и несем ее в бездонную мошну Абулхаира. Гаип-хан только облизывается, как гиена у логова льва.
Рыскул-бий поднял мутные старческие глаза.
— Это не ново. Знаем мы ханскую щедрость спокон века. Еще Тауке-хан отдал нам земли у Актау, в верховье Сырдарьи, и то же самое право на караванные пути. Встали мы на перекрестке у Дербента и были кочергой в руках у истинного хозяина. Мы горели в огне, а он загребал нами огонь да грелся. И ныне так, и будет так. Поэтому у нас столько врагов.
Кажется, Давлетбай-бий (он, пожалуй, рассудительней других) сказал, однако, что не все казахи одинаковы. Одно — разбойники Абулхаира, другое — такие светлые души, как Айгара-бий и ему подобные, добрые соседи, которые-так памятно помогли в годину белых пяток, почитали каракалпаков за родных. Слабое утешение.
— А как у нас с русскими пленными? — вдруг сказал Есим-бий. — И в этом деле мы — кочерга…
Сказал и поперхнулся, закашлялся с досады, потому что это были слова Оразан-батыра и выговорились они сами собой, такая в них была колдовская сила.
Бии заерзали на своих местах.
— Русские пленные — наша великая честь, — сказал Давлетбай-бий, выпячивая бороду с проседью, — И уж если мы кочерга, так пусть она в огне не горит и не плавится, хоть и брызжут с нее и шипят в огне слезы.
— Аминь, — сказал Мурат-шейх невольно.
И повесил голову, засмеялся в душе: вот и все, что он сумел. Кончается чаепитие — иссякает совет. Одна надежда, что чаепитие продлится…
С тоской смотрел Мурат-шейх на гороподобный одинокий дуб вдали и думал, как в день прощанья с Оразан-батыром: сколько еще суждено жить? скоро ли призовет господь на неотвратимый суд? Как холодно, пронзительно холодно на земле в этот паляще знойный день.
Неожиданно приехал Пулат-есаул от Гаип-хана, вызвал шейха, не слезая с коня. Шейх поспешил на зов. Милостивый хан не запамятовал того, что обещал. Хан назначил день: пятницу. Пулат-есаул осклабился любезно-насмешливо и ускакал.
Мурат-шейх вернулся в юрту и поведал биям, чего все же добился от Гаип-хана. Хотел порадовать, а вышло так, что напугал. Бии с оторопью смотрели на шейха, стараясь побыстрей смекнуть, в чем же тут каверза. А потом схватились друг с другом, заспорили с такой яростью, что пес у двери вскочил и попятился от своих костей.
У всех биев оказался на примете свой джигит, лучший, самый достойный опеки и покровительства Гаип-хана. Немощный, мутноглазый Рыскул-бий кричал и кричал: Есенгсльды, сын Байкошкар-бия, Есенгель-ды! И, конечно, юноша этот был из рода Рыскул-бия. Тщетно Мурат-шейх увещевал спорящих:
— Кроим платье для еще не рожденного… Будут мужчины — будут женщины родить. Важно вырастить! Наши дети росли в страхе и трепете. Суть в том, кого мы вырастили, почтенные мои.
Его слушали с сомненьем, подозрительно щурясь.
Никто не назвал имени Мамана, сына батыра.
И в который раз подумал Мурат-шейх про немолодых, повидавших жизнь, важных людей, созванных им на совет: кто вы, бии? Нет в вас и в помине ни крови, ни мозгов Оразан-батыра. Заняты все вы и наяву и во сне самими собой, своим родовым уделом. А дети ваши, сыновья? Чего от них ждать?
Вечером, когда бии разъехались, Мурат-шейх призвал Мамана, спросил:
— Ты слышал? Где ты был?
Маман весь день был за стенкой юрты, у ее оголенных задних крыльев, в двух шагах от шейха. Ответил сквозь зубы, нравно:
— Кто такой Есенгельды?
* * *
Мгновенно разнесся слух но аулу: в пятницу испытание, состязание; будут смотреть в зубы и гонять под седлом, как коней, всех — от пятнадцати до двадцати пяти лет. Кто выдержит, не струсит, не растеряется, станет со временем большим бием.
Сироты всполошились. Пискля Бектемир не находил себе места.
— Вот если б мне было пятнадцать… — твердил он, картавя оттого, что во рту каталась горошина.
Задумались и старшие, Аманлык и его правая рука Аллаяр. Хо-о! Птица счастья садится на голову человека по воле случая… Вдруг сядет! Конечно, они не учены, как Маман, но, ходя по милостыню, бывали всюду, видали все на свете, а наслышались и того больше. Что знает в самом деле об истинной жизни и истинной правде балованный барчук в сравнении с бездомным голопузым нищим? О, если б такая удача, — заметил бы их хан, отличил бы, наградил бы…
А потом вдруг разом все остыли после того, как Аманлык, рассмеявшись, сказал:
— Олухи мы, олухи… Разве это для нищих? Видели вы что-либо на свете, что было бы для нищих?
5
Пятница.
Ждали этого дня и верили… Небо наше переменчиво — зимой и летом. Вдруг налетит с сатанинским свистом и воем свирепая буря, вздыбит пески — глаз не разлепишь. Или обрушится с гулом горного обвала ливень, попадешь под него — одежда прирастет к телу. Подобный же нрав у властителя этой земли. У него семь пятниц на неделе. Однако на сей раз как будто не передумал Гаип-хан.
Спозаранок все, стар и млад, потянулись к одинокому старому дубу. Листва его густа, словно зеленый туман. Земля у подножия устелена густой муравой, сияющей, как хан-атлас. Здесь всегда свежо и чисто. Далеко разносится запах свежих ярких трав. Место у дуба издавна облюбовано и здешними и пришлыми. Еще когда нынешние белобородые были младенцами, дуб внушал трепет и преклонение: это место свято. А с некоторых пор дуб стал сиротским домом, приютом для сирот и неприкаянных, безродных…
С утра припекало, но перед дубом разложили камни, развели огонь. По мысли Мурат-шейха, этот тихий, бездымный костерок, как огонь очага, объединит всех в одну семью. И в то же время, как огонь древнего капища, напомнит о каре, огненной, всепожирающей, которая ждет клятвопреступника, ибо огонь греет, огонь и казнит.
На главном месте, у огня, устроили торь — почетное возвышение, постелили кошмы, покрыли их ковром, Гаип-хан, коротконогий, мелко, часто ступая, прошел и уселся с важностью, ему подобающей, на ковре. За спиной у него расположились султаны. И всем бросилось в глаза, что хан был не в любимой своей бобровой шапке, а в черной шапке каракалпаков.
Старейшие бии — Мурат-шейх и Рыскул-бий — сели по правую и по левую руку хана, остальные — ниже, лесенкой-полукругом сообразно рангу и возрасту. Главный ранг — многолюдность, а стало быть, сила рода; которому ты глава.
Шейх, вытирая усы белым платком, вопросительно посмотрел на хана. Тот кивнул, и Мурат-шейх ударил в ладони. Слабый хлопок повис как пух над громадным лугом, густо усеянным черными шапками; от черных шапок рябило в глазах — то ли это грибное поле, то ли пестрый шатер, внезапно покрывший травы.
— Народ! Люди земли Нижних Каракалпаков… слушайте! Нынче да будет в ваших душах бодрость. И пусть она приведет за руку свою старшую сестру — честность. И да будет нашему делу конец благополучный… аминь!
— Аминь, — хором повторили черные шапки.
— Почтенные, слушайте. С тех пор как мы ушли, разорившись, с отчих земель, много мы потеряли людей, самых дорогих. Теряем по сей день, — стареют наши мудрейшие. Благороднейший светлейший хан наш пожелал заглянуть прозорливым взглядом в наш завтрашний день. Не содержат ли ракушки жемчужины, и не бог ли вкладывает в такую жалкую плоть жемчуг? Так спросил хан наш, повелев собрать джигитов.
— Умные слова, умные, — зашумели черные шапки. Тогда Гаип-хан ударил в ладони. Джигиты, присматривавшие за огнем, боязливо пригнули головы.
— Народ, народ… — рыкнул хан и огляделся, наслаждаясь тем, как его слушают. — Я сам задам три вопроса, три вопроса… После меня головы родов зададут по одному вопросу. Наш духовный отец Мурат-шейх может задать два вопроса. Больше никто… Если джигит ответит на все вопросы и тем заслужит уважение, почет собравшихся, будет тому в награду звание: умнейший! И будет тот бием, при мне — первым слугой, храбрым гонцом нашей воли. А кто не ответит — прогоню в шею… Да будет вам известно, был такой обычай во времена оны — испытывать джигитов при всем народе, перед лицом хана и господа. Ныне я воскрешаю этот обычай! Я воскрешаю. Но уж… не зевай, ушами не хлопай, держись у меня… — Гаип-хан крепко стегнул себя плетью по голенищу сапог. — Первый мой вопрос: кого на белом свете больше, ханов или простолюдинов?
Словно быстрая рябь прокатилась по черным шапкам, как от порыва ветра, и — шепот, подобный глухому звону водяного ключа. Затем все замерло.
Рыскул-бий приподнялся на своем месте в знак почтения.
— Хан мой, что же медлить? Если кто-либо не начнет, другие не осмелятся. Пусть ответит сын кунград-ского бия Байкошкара Есенгельды. Позвольте ему начать.
Хан кивнул, и Рыскул-бий окликнул:
— Есенгельды, сын Байкошкар-бия, встань! Худощавый парень с красивым холеным лицом
вскочил с места, точно сильно брошенная бабка, встал, поправляя на себе новенький серый чекмень.
— Слушаю покорно, бий-отец.
— Отвечай на вопросы хана нашего, сын мой. Есенгельды подбоченился с изяществом и надменностью семейного любимца, родового наследника.
— На шестьдесят тысяч семей у нас один-единственный хан! Один на шестьдесят тысяч… На весах небесных хан один перевешивает шестьдесят тысяч.
Рыскул-бий быстро повернулся к Гаип-хану: каково? Хан ничего не сказал, бровью не повел, плечом не пожал, но, видимо, остался доволен ответом.
Тут-то и объявился в самом заднем ряду удалец в одних драных штанах, выпучив со страха телячьи глаза, — Аманлык.
Шейх-отец… простите на смелом слове… Если мне позволят, я отвечу… не так отвечу!
Этого никто не ожидал. Бии задохлись от возмущения и только переглядывались, хрипя. А тем временем из толпы полетели робкие голоса:
— Позвольте, хан наш, позвольте… Пусть его попробует…
— Ладно, быть по сему. Послушаем. Смеха ради, — решил хан.
Теперь задохся Аманлык, стал заикаться.
— По-моему, ханов сколько хочешь, а простолюдинов поискать, — выпалил он скороговоркой и не уселся, плюхнулся наземь, будто подкошенный.
Получилось и в самом деле смешно.
— Хау, ошибся, бедняга, — шептали в толпе.
А у хана лицо налилось кровью так, что скулы его засияли, готовые лопнуть.
Борода, похожая на сорочий хвост, встала торчком, как короткий меч.
— И этакое голье распускает языки при хане! — сказал один бий.
— Этакое голье не пускать на глаза хану! — сказал другой бий.
Встал Маман. Рыскул-бий тотчас склонился к Гаип-хану, громко шепча:
— Вот он… сынок своего отца…
Гаип-хан удивился, быть может, тому, как сдержан, скромен, нетороплив этот юнец, как небогато одет; любопытно было, что же, однако, в нем от отца?
Маман вышел вперед, поклонился хану, потом шейху.
— Шейх-отец, теперь моя очередь, если хан наш вытерпит и мое глупое слово.
Рыскул-бий толкнул в бок соседа, и тот задиристо, насмешливо крикнул Маману:
— А ты чего стараешься? Вопрос давно погашен Есенгельды!
— Вопрос еще тлеет, — сказал Маман спокойно. — Есенгельды держался, как посол заморский, но ответил, как дитя… А ты, Аманлык, держался, как дитя, но ответил, как визирь!
Гаип-хан, заинтересованный, молчал, и больше никто не рискнул перебить Мамана. А тот повернулся вдруг к черным шапкам с веселым возгласом:
— Люди добрые, гляньте на себя! Разве Аманлык не видит нас насквозь? Есть ли здесь хоть один, кто не мнит себя в душе ханом? Пусть покажется, я скажу ему, что он враль!
Дружный смех покатился по лугу. Засмеялся и хан, но осекся, спохватился, погрозил толстым пальцем:
Ты не зарывайся! Ты другим не судья. Я здесь судья…
Маман молча сложил руки на груди в знак покорности, и Мурат-шейх вздохнул с облегчением.
— Слушайте второй мой вопрос: что совращает человека?
На этот раз хану ответили хором; вошли черные шапки во вкус.
— Недуги… они сводят в могилу… Другие заспорили тоже хором:
— Какие недуги? Нужда! Совращает нужда! Гаип-хан вскипел:
Что такое? Что за базар? Кто позволил? Сию минуту всех разгоню! Всех в шею!
Черные шапки притихли.
Встал опять Маман. И дождался кивка Гаип-хана. И не забыл поклониться.
— Хан мой, простите убогий разум, грешный язык. И то верно, что недуги, и то верно, что нужда, самый неизлечимый недуг, совращают. Но это белок, а есть желток у вашего вопроса. Стоит мне к вам приблизиться, к вашему стремени, как я чувствую: уши!., уши мои совращают меня, хан мой.
— Правильно, сын мой, вот это правильно, — тут же отозвался Гаип-хан. — Нечего вострить уши на всякие сплетни обо мне. Наслушаетесь — будете совращены…
Черные шапки зашевелились и дружно загудели. Уа, молодец — сын батыра, уа, молодец!
Рыскул-бий сунулся было к уху хана с шепотом, с наветом, но тот отвернулся. Хан неотрывно смотрел на сына батыра. Оразан-батыр был колюч, как еж, а сын его мягок, как лисий мех. Сказалась, значит, рука Мурат-шейха. Это нам по душе, это нам годится.
— Ну, и третий мой вопрос: какая дана узда человеку?
Все молчали. Никто не двинулся с места. Маман повернулся к Есенгельды, ожидая. Но тот смотрел в сторону. А черные шапки смотрели во все глаза на Мамана. И все бии смотрели на Мамана. Маман встал. Гаип-хан кивнул. Маман поклонился.
— Хан мой, узда человека — его язык. Язык может погнать, повернуть, вздернуть на дыбы. Но, кажется, обуздать себя всего трудней. Я обуздываю, хан мой… и умолкаю.
И опять засмеялись черные шапки, глядя на сына батыра с восхищеньем. Простым людям в диковинку было слышать такие речи, тем более от джигита, еще не женатого, не отрастившего бороды. Но и бии не были избалованы ни мудростью, ни остроумием ни себе равных, ни своих детей. Доблесть зрелого мужа завидна, доблесть юного — вдвойне.
Гаип-хан махнул рукой, громко пыхтя, в знак того, что доволен и утомлен праздными занятиями, участием в которых он всех осчастливил.
— Шейх мой, дело за вами.
И по лугу прокатился общий вздох: хан доволен, Мурат-шейх словно бы не видел и не слышал Мамана. Когда встал Маман, лицо шейха было безучастно, но старое сердце томилось и болело. Сейчас больше, чем когда-либо, боялся шейх самовольства Мамана. Но не хотелось бы и того, чтобы Маман равнялся на других. Он был слишком смел, слишком упрям, но сегодня не это ли в нем покоряло?
— Я задам один вопрос, — сказал Мурат-шейх, — в чем корень ума человека?
Сказал и непроизвольно поднял ладонь, прикрыл ею глаза, чтобы не видеть, что делает Маман.
Маман обернулся, привстал на одно колено, пристально всматриваясь в задние ряды. И сразу же множество людей обернулось и стало смотреть туда же, куда он смотрел. Старец Рыскул-бий скривился от ярости, замигал, не веря глазам своим.
Между тем человек, которого это касалось, живо понял взгляд Мамана. Встал Аманлык, вышел, поклонился, как будто все только этого и ждали. И уже не таращился так от страха, не заикался, как в первый раз, отвечая.
— Корень ума, должно быть, в терпенье, шейх-отец, — сказал Аманлык. И все же не удержался, спросил, будто ловя шейха на слове:- Угадал?
— Это зерно моей мысли, — ответил шейх негромко, торопливо, с опаской косясь на Гаип-хана.
Но тот словно не замечал ничего и только морщился, глядя на драные штаны нищего. Судя по всему, хан благодушествовал: пусть себе попрыгают, побрешут, щенки, а мы позабавимся, присматриваясь, какой они породы.
Рыскул-бий прикусил язык; больше он не смел тревожить левое ухо хана. Самовольство Мамана, такое видное всем, вопиющее, хан прощал. Кто знает, что сей сон значит?
А Мурат-шейх и вовсе отступился, попросил потрудиться за себя ученого мужа, главного грамотея аула Ешнияза-ахуна, представив его хану. Гаип-хан лишь пожал плечами.
— Мой вопрос: что в мире самая лучшая постель? — воскликнул Ешнияз-ахун напыщенно.
Так напыщенно, что Маман рассмеялся про себя. Вопрос детский… Для Есенгельды. И едва Маман это подумал, как Есенгельды вылетел, опять подобно игральной кости, и встал на виду, рисуясь.
— Самая лучшая постель — молитвенный коврик, хан мой!
Это походило на подсказку, но, помилуй бог, как горячо одобрил джигита Рыскул-бий, а за ним еще горячей — Мурат-шейх… Уж не покривил ли душой шейх-отец, подослав грамотея с загадкой очевидной, как цена на монете? Маман потемнел, но смолчал.
Подошла очередь Рыскул-бия. Он огладил белоснежную бороду.
— Спрашиваю: как узнать человека, у которого на душе горе?
Черные шапки застыли, не дыша… Многие ожидали, что уж теперь никак не усидит, покажет себя Есенгельды. Но он не поднял головы. И те, кто умел видеть, видели: струсил Есенгельды. И понимали, что его страшило: ввяжется Маман, поправит его ответ во второй раз еще обидней, чем в первый.
Бии переглядывались, ожидая. На лугу стали шептаться то здесь, то там. Но молодые джигиты сидели, повесив головы между колен.
Тогда Гаип-хан бросил беглый колючий взгляд на Мамана. Нетерпеливый взгляд. Маман встал.
— Хан мой, я мог бы сказать, что горе любит паши глаза и наш язык. Застелет глаза — человек плачет. Уколет в язык — человек жалобится. Но это каждый скажет. Вот мы молчали, услышав вопрос… Почему молчали? Потому что мы горе видим, закрыв глаза. Это для нас не задача. Головы ломаем, как разглядеть радость… Простите, нескладно сказал.
— Нескладно, говоришь? — переспросил Гаип-хан и коротко хохотнул, посматривая на оторопевшего Рыскул-бия.
Однако бодлив наш юнец и на лбу у старца огромнейшая шишка. Нет, пожалуй, что-то в нем есть и от шейха, и от батыра. Смесь недурна. Таких надобно запрягать пораньше, пораньше, пока не отбились от рук. Или сворачивать им шею, на худой конец, тоже пораньше.
Вступился Убайдулла-бий, чтобы замять неловкость, выручить старца, не дать задуматься простолюдинам.
— Хан мой, — проговорил он с церемонным поклоном, — мой вопрос похож на ваш: кого больше па земле — богатых или бедных?
Но дело повернулось не так, как хотелось бы почтенному главе рода. Лиха беда начало. Понравилось сиротам говорить с ханом. И еще один молодец внезапно выбежал из заднего ряда — балагур Аллаяр, чумазый и нахальный.
Бии все разом, все скопом зафыркали, тряся бородами. Иные плевались:
— Гнать его! Пусть сядет! Пусть сперва добудет себе на кусок хлеба!
По лугу прокатилась черная волна. И как ни странно, многие из простолюдья были против, но больше все-таки — за сироту.
Мурат-шейх, перехватив молящий взгляд Мамана, покачал головой, отказывая наотрез, но все-таки поклонился хану:
— Окажите великую милость… Удивите народ великодушием…
И хан удивил: кивнул, задрав бороду кверху так, что она заслонила нос.
— Эй, мальчик, — сказал шейх, с нескрываемой болью глядя на биев. — Благодари хана нашего, ибо его щедрость поистине ханская. Говори… Говори коротко.
Аллаяр немедля подбоченился, прогнув спину, и джигиты, следившие за огнем, невольно прыснули, узнавая в немытом оборванце барчука Есенгельды. А потом случился такой конфуз.
— Говорят, мы богаты, каракалпаки… — сказал Аллаяр, — до первого набега врага… Я так думаю: тот богат, кто доволен. Не мошной — душой! А кто недоволен — последний бедняк. Я, например, сыт каждый день. Тем и богат. Таких, как я, не сочтешь. Нас много, нас больше, богатых, самых богатых! — вскрикнул Аллаяр, и все увидели: смеялся парнишка, право, смеялся, ощерив зубы, а по щекам его текли слезы.
Тишина. Черные шапки ответили сироте долгим молчаньем.
Гаип-хан, насупясь, боком склонился к Мурат-шейху.
— Это как же понять, шейх мой? Сын батыра якшается с нищими? Тут целая банда… Это зачем?
— Детская блажь, хан мой, детская блажь. Безотцовщина…
Слово хапу понравилось: безотцовщина. Однако каковы голопузые! По виду — щенки, дети… А души отчаянные. Отпетые головы. Таким дай вожака — учинят разбой. Этих щенков лучше топить.
Гаип-хан поиграл в короткопалой руке нагайкой и словно бы рассеянно, но совершенно внятно сказал «самому богатому» мальчику:
— Пошел вон.
Аллаяр убежал. И не только бии, вовсе не только бии, а очень многие бедняки, сидевшие на лугу, сочли, что, конечно, оно понятно, иначе быть не могло, а нищему — поделом.
Тем временем хану стало приедаться это занятие. Султаны сидели как на иголках. Пора было возвращаться к истинному делу — к охотничьей своре, пора.
Бии мигом почувствовали перемену погоды на торе. И Давлетбай-бий, очередь которого подошла, человек с проседью в бороде, сказал, поспешая:
— Хан мой… народ… У меня вопроса нет. Я вот что спрошу: где ты такой премудрости, таких слов набрался, сынок, милый?
Спрашивал он Мамана. Тот долго молчал, глядя в упор на хана с непонятной печалью. Ответил глухо:
— У меня трое учителей… трое отцов родных…
И Мурат-шейх опять прикрыл ладонью лицо, ожидая самого худшего. Прямота… прямота юношеская его погубит!
— А кто же третий? — лениво-ласково осведомился Гаип-хан, подсчитав в уме, что первые двое — батыр и шейх. Хан не сомневался, что этот остроумец и бесстрашный обводчик подольстится, назовет его имя, имя потомка достославного Тауке-хана. На том можно бы и покончить.
Страстное желание распирало грудь Мамана — крикнуть на весь свет: русский!.. золотобородый… всю свою жизнь идущий в Индию! Но он выговорил сквозь зубы, глядя в землю:
— Скоро узнаете.
Гаип-хан досадливо причмокнул мясистыми губами: застеснялся… мальчишка… Небось Есенгельды не опустил бы глаз.
С протяжным внушительным кряхтеньем, обозначавшим его высший ранг и безраздельную власть, Гаип-хан поднялся, и тотчас повскакали султаны, встали бии, умеренно, чинно покряхтывая и отдуваясь, что означало полное признание и почитание оного ранга и оной власти, а все вкупе: конец — делу венец.
Поднялись и черные шапки, покатился гомон по всему лугу:
— Маман умнейший… Маман!
Выкрикивали некоторые и имя Есенгельды и даже Аманлыка.
Гаип-хан ударил в ладони. Стало потише. Хан выпятил бороду.
— Народ, не ори… И слушать не стану! Все было у вас на глазах. Все вы свидетели. А дальше дай срок, наберись терпенья. Мы порешим. Подумаем с шейхом, со старшими, — объявим! Узнаете, кто умнейший…
Не тут-то было. Зароптали черные шапки. Поднялся шум безудержный.
— Решайте при всем народе! Обещали при всем народе! Как по обычаю! Как во времена оны!
— Взбесились… Всех разгоню! Все отменю! — крикнул Гаип-хан, надув шею.
Но его перекричали:
— Мамана! Объявляйте Мамана! Хотим Мамана! И даже один бий, глава ктайцев, Давлетбай-бий, возвысил голос, всех удивив:
— Преклоняюсь перед сыном батыра…
Не сказать чтобы хан растерялся — задумался. Хотел было в сердцах уйти, но сообразил, что неприлично ему шествовать сквозь такую шумную толпу: великовата толпа. Мог бы он перепороть каждого десятого — в пример остальным. Неохота. Пойдет праздник псу под хвост. Да и что дразнить простаков, себя тревожить? Правду сказать, Есенгельды — козлик, Маман — буйволенок.
С решимостью, истинно ханской, Гаип-хан поднял руку с нагайкой. Голос его был грозен:
— Подать сюда кушак!
Как по мановению волшебника, стихло на лугу — стрекозу не услышишь. Гаип-хан поманил к себе пальцем Мамана.
— Раз я сказал, значит, сказал, — промолвил хан. — Да будет, как при отцах и дедах, священна их память! — И подпоясал Мамана кушаком бия. — Сажаем тебя на коня, сын батыра. Отныне ты — Маман-бий! Будешь при мне. Жди, позову.
Затем Гаип-хан добавил, как бы походя, почесывая себе висок нагайкой, но это были роковые слова:
— А молодцы ябинцы… Куда до них кунградцам! Говорят, что и те нищие оборванцы — рода ябы… Эй, молодцы.
Мурат-шейх прослезился, низко поклонился хану и поцеловал полу его халата. Тут же шейх поклонился и главам родов, поклонился народу и объявил во всеуслышанье:
— Почтенные бии, не дадим остыть нашей радости, справим по такому отменному случаю той. Будьте нашими возлюбленными гостями. И дерзнем все вместе — пригласим на торжество светлейшего хана нашего…
Не все, однако, были довольны, не все. Одни улыбались, другие усмехались. Одним все было по душе, а другие втайне подумывали, что поспешил Гаип-хан, зря поспешил…
Еще не успели проводить хана, как разительно изменился луг: словно покрылся островами, большими и малыми. Обособились черные шапки по родам, вокруг своих биев, и разделило их толпы незримое бурное море.
6
Три дня длился той. Ели мясо. Пили крепкий кумыс. Для самых почетных гостей припасли граненый штоф русской водки, добытый у караванщиков. Ее пили, морщась да приговаривая, что это греховное зелье пивал сам царь Петр. И самолично учил его пить своих биев.
Маман сидел рядом с Гаип-ханом. Хан пожаловал вместе с султанами и держался запросто, не слишком чванясь. Говорят, будто бы царь Петр держался на пирах как равный со всеми гостями и был от того особый прок. Никак не мог уразуметь Гаип-хан, какой от этого мог быть прок, но уразуметь силился.
Мурат-шейх, напротив, не находил себе места, потому что не видел на тое почтеннейшего Рыскул-бия с кунградцами и досточтимого Давлетбай-бия с ктайца-ми. И те и другие уехали внезапно, перед самым началом, прямо от дастархана, ни у кого не спросясь, ни с кем не объяснясь.
Можно понять досаду Рыскул-бия. Как не понять! Маман сел на коня, ступив ногой на темя Есенгельды. Однако состязание было честное, у всех на глазах. И посадили на коня не какого-нибудь босоногого, без рода, без племени, а сына самого знаменитого человека каракалпаков. Вольно Рыскул-бию спорить с Оразан-батыром, а Есенгельды сам бог велел — служить преданно сыну батыра. Досада досадой, но есть же приличие и послушание! Там, где в гостях хан, главе рода кунградцев задирать хвост неуместно…
Что случилось с Давлетбай-бием, вовсе не понять. Он единственный из биев похвалил Мамана. Куда его понесло с тоя в честь Мамана?
Не предаваясь гневу, не позволяя себе осерчать, Мурат-шейх послал смышленых гонцов вдогонку за кунградцами и ктайцами, но гонцы вернулись ни с чем, — их отослали, не допустив к биям, то бишь прогнали.
Слово Мурат-бия было словом старшего, а слово старшего — последнее слово. Как ни спорили бии меж собой, а шейху обычно внимали не прекословя. На зов его являлись без промедленья. Так же чтили слово Ора-зан-батыра. Оба они, как святые, не знали ни козней, ни коварства. Но батыр бывал резок, мнителен, его суд зол, его суда боялись. Суд шейха притуплял острия, врачевал синяки и шишки, в его суде нуждались.
Что ж ныне замутило рассудок старейшему Рыскул-бию и, быть может, добрейшему Давлетбай-бию? На тоненькой нити держались черные шапки у самого края бездны, и эта нить — единство. Нужно быть крысой, чтоб грызть эту нить. Слава богу, думал Мурат-шейх, у Мамана отрастают львиные когти…
Гаип-хан следил за хозяином тоя посмеиваясь. Хан знал то, чего шейх не знал.
У ханов свое разумение, и то, что не нравилось шейху, Гаип-хану нравилось. Хан Абулхаир сидел, как бог на небесах, управлялся с необъятным казахским Малым жузом, но и он дрожал как овечий хвост, когда близ него становилось слишком покойно. Гаип-хан обретался на грешной земле, в яме, кишащей, шипящей, и даже султанам своим, сыновьям и зятьям, связывал хвосты, чтоб не жили слишком мирно, слишком дружно.
С Рыскул-бием было просто. Посовещавшись со своими и послушав их стенанья, что лучше умереть, чем вынести пытку бесчестьем, Рыскул-бий велел им не вешать носа. Затем явился к Гаип-хану. Вспомнил лукавый старец, что как раз в эти дни очередь кунградцев — сторожить караванный путь, собирать пошлину… Какой бий, скажите на милость, не откладывал дела ради тоя? Такого не случалось во веки вечные. А тут приспичило. Повернулся язык у белобородого — напомнить Гаип-хану, как строг хан Абулхаир в этом важном деле с караванными путями!
— Просим вашего соизволения отъехать, хан мой.
— Езжайте.
И унесло кунградцев, как тучку в небе, готовую пролиться дождем.
Давлетбай-бий не понравился Гаип-хану еще во время состязанья: уж больно горячо полез в спор, открыл рот раньше хана. И когда у огня, перед дубом, бии рода ябы целовали Мамана, а шейху — полы его желтого ча-пана, в общей суете Гаип-хан подозвал Давлетбай-бия:
— Скажи, бий, без увертки, что подумывают наши ктайцы?
Давлетбай-бий был рад угодить.
— От вашего суда веет ветром добра, наш хан. Радуемся мы: неужто у нас начинается новая жизнь?
Упаси аллах, подумал Гаип-хан, разглаживая большим пальцем усы и думая о том, что назначенье хана — мирить биев, а чтобы мирить, надо их ссорить.
— Радуйся, бий, радуйся, — сказал хан, словно бы и не опасаясь постороннего уха, — Я добрый, а ты меня добрей. Однако ябинцы не такие добренькие, как ктай-цы. Промахнетесь, попадете им под пяту, не выберетесь! Ябинцы не жалеют тех, кто у них под пятой. Они с юности тяжелы, как Маман… Они вас потопчут.
Давлетбай-бий молчал, ошарашенный. Больше всего его поразили слова: с юности… как Маман… Похоже, эй похоже. Золотые слова.
— Бий в ответе за свой род, — добавил хан. — Уезжайте, пока не поздно. — И мелко, часто ступая, пошел к торжествующим ябинцам.
Не прошло времени, которое нужно, чтобы выпить чашку чая, как ктайцы ускакали, не простившись, не сказавшись, как и кунградцы.
Этого и довольно, сказал себе Гаип-хан…
Маман на тое был сдержан и молчалив. Обыкновенно на тоях не отличался и Оразан-батыр. Конечно, Маман был рад, но невесел, как Мурат-шейх.
Пожалуй, единственно, кто на тое веселился, — это сироты. Тут им была пожива.
Поначалу они сильно озлились. Состязание было нечестное, был обман. Птица счастья садилась на темя Аманлыка и на темя Аллаяра, это все видели. Но хан отпугнул ее. Добро еще, что не прогнал Аманлыка, как Аллаяра. Небось, если бы они были не безродные, если бы у них были отцы бий, Аманлык и Аллаяр не ушли бы в кусты, как Есенгельды, и не отстали бы от Мамана. Отобрали бы у него кушак!
На самом деле беспокоило сирот другое. И они метались по своей лачуге, ругая Мамана, пока Аманлык не сказал:
— Он не занесется. Не бойтесь.
И все перестали бояться и простили Мамана. В степи показался смерч и, крутясь, качаясь, пополз на аул. Аллаяр закричал:
— Смотрите, ветер гонит на той сколько муки! Наедимся до отвала…
Сироты с хохотом, с визгом, наперегонки побежали к юрте шейха.
На тое отведали и они хлеба и мяса. Маман сам их угощал.
На исходе третьего дня прискакал гонец от Рыскул-бия с неожиданной вестью: задержан русский караван, купец-каравапщик отказывается платить баж — пошлину, требует, чтобы его проводили к самому хану.
— Связать! Привезти ко мне связанного! — скомандовал Гаип-хан, размахивая нагайкой.
Гонец замялся. Сказал, что русский купец и его толмач уже связаны, но купец попался с гонором… Будет ли разговаривать? Словом, дал понять, что для русских Гаип-хан — не хан.
Гаип-хан всполошился: беда! Хан Абулхаир не любил происшествий на караванной дороге. Он любил, чтобы шла пошлина.
Лет пять назад русские начали возводить крепость на берегу реки Орь, на рубеже между Россией и Малым жузом. Хан Абулхаир вызвался пособить русским, а на это нужны деньги, много денег. Черные шапки тотчас почувствовали, какая у Абулхаир-хана нужда. Подати стали тяжелей, хотя, казалось бы, тяжелей некуда. И пошлина стала весомей. Надежда была на пошлину. Она денежна. Купец платит, — только проводи, обереги его скот и товар. Но случались и промашки. Абулхаир-хан карал за них беспощадно, и всякий раз Гаип-хан хватался за голову, боясь, как бы не слетела с нес любимая бобровая шапка.
И вот такой случай: с пустыми руками да еще с отказом платить баж — к хану Абулхаиру… Кого с этим пошлешь? Вообще неохотно каракалпакские бий показывались Абулхаиру на глаза. А с этим послать можно разве что в наказанье. Бий смирны, но попробуй погладь их против шерсти, — прижмут уши, а то и оскалятся! Все они волкодавы.
Беда… Вылетел из головы Гаип-хана хмель от горькой русской водки. И вдруг благая мысль осенила. Крякнул от удовольствия.
— Мурат-шейх, отец мой… хочу поручить нашему Маману одно важное дело. Что скажете? Справится?
— Скажу: в самое время, хан мой, будьте покойны, — ответил Мурат-шейх, сразу поняв, какое поручение будет Маману, и без колебаний решив, что оно ему по плечу.
Бий рода ябы также смекнули, от какой напасти их избавляет Маман… Встали и поочередно поклонились хану, благодаря за честь.
— Готовьте молодому бию верного и приличного ат-косшы, — распорядился Гаип-хан. — И пусть скачет следом за мной. К утру чтобы был на месте.
Затем он со свитой отбыл. Хан очень спешил. Направлялся он в аул Рыскул-бия, к купцу с гонором. Поехал на ночь глядя. Стало быть, будет ночевать у кунградцев…
Аткосшы — самый близкий, доверенный помощник. У хана — есаул, у бия — аткосшы. Это человек на все руки: седлает бию коня, в гостях заказывает любимое блюдо, днюет и ночует у ложа, когда бий хворает. В деле он главный порученец, все знает, все помнит, а в отсутствие бия все решает, как бы решил бий. Аткосшы — избранник бия. Выбирают, понятно, по себе: один ищет силача, другой умника, третий — просто слугу. Но в будущем аткосшы — и сам бий, если он не дурак и не овца. И потому для байских сынков стать аткосшы — лестно и заманчиво. Это для них привычная и подобающая дорожка в люди.
Когда уехал Гаип-хан и в ауле стало легче дышать, бий рода ябы окружили Мамана с подобострастием, — у всех были сыновья. Кого из них осчастливит молодой бий, кого назовет своим первым другом? Но Маман сказал:
— Аманлык.
Все были задеты. Мурат-шейх, расстроенный, боясь даже подумать, чем все это может обернуться, пытался его образумить:
У тебя такое низкое происхождение или ты настолько забит своим сиротством, что не смеешь поднять глаз, избираешь нищего? Этот бедный парень, с тех пор как стал ходить, ходит с протянутой рукой. Не этому ли навыку и искусству ты намерен у него поучиться? Что видишь в гнезде, то увидишь и в полете. Сегодня он оденет тебя в меха, завтра в лохмотья. Легко обратить меха в лохмотья, но нельзя лохмотья обратить в меха. Можно ли верить бездомному, босоногому? Что он умеет, что знает? Что понимает в приличии, что смыслит в деле? Аткосшы — это твой товарищ, он должен быть тебе ровней. И должен есть только из твоих рук.
Маман молчал. Мурат-шейху он не смел возражать. Но он и не соглашался. Тщетно шейх гневался, тщетно увещевал:
Что скажет Оразан-батыр? И что мне ему сказать? Унижая себя — унижаешь его, и меня, и всех нас. Едва сев на коня, какую пощечину отвешиваешь своему роду!
Бий кивали, иные отворачивались.
Маман слушал, опустив голову, с виноватым в-идом. Он не лукавил, он и впрямь чувствовал себя виноватым. Он думал про себя: не сядешь на коня, если не сядут твои друзья, то бишь не будешь счастлив, пока несчастны друзья, вот эти, протягивающие руку за куском хлеба.
В раздражении шейх возвысил голос: Так и возьмешь его в одних штанах?
— Аткосшы должен быть одет, как его бий.
— На чем он за тобой поскачет?
— Аткосшы не может быть пешим.
— Где же он будет жить?
— Аткосшы живет там, где его бий.
— О боже, что у тебя на уме?
Что одним босоногим, бездомным будет меньше.
— Опомнись! Повинись!
— Простите, отец мой, простите…
Принудить? Велеть? Маман подчинился бы, пожалуй… Но можно насильно женить, нельзя насильно любить. Погубит, погубит его прямота — не сегодня, так завтра, думал Мурат-шейх с содроганьем. Судьба его написана на его лбу.
Время, однако, уходило. Бий один за другим поднимались из-за дастархана, откланивались, но не уходили, дожидаясь, чем же все это кончится. Шейх приказал:
— Приведите его! Где он?
Появился Аманлык, немой, дрожащий, как будто его вели на казнь.
Женщины подобрали, подогнали рубаху, штаны, чекмень, мужчины — шапку, сапоги, седло и привели взнузданного вороного гунана — жеребца-двухлетку. И когда в лунном свете, у девятикрылой юрты, показался волоокий джигит, умытый с ног до головы, одетый, обутый, как бий, на гарцующем норовистом коне, нужно было слышать, какой вопль восторга раздался оттуда, из темноты, где сторожили этот волшебный миг сироты!
Поутру, как было велено, Маман и его аткосшы были на месте. Мурат-шейх отправился с ними. В ауле Рыскул-бия их уже ждали. Лежал, пожевывая, большой верблюд. На его горбу, под четырехугольным плоским шатром, сидели двое русских с утомленными хмурыми лицами, связанные по рукам, — купец и его толмач.
Странно выглядел купеческий караван: три вьючных лошади, всего три, а на вьюках непонятный товар — железные рогатины и пушки… Наверно, это были пушки, и все гадали, как же и чем они стреляют, потому что пушек никто до тех пор не видывал. Слуги у купца — татары.
— Покормили их? Не голодны они? — спросил Мурат-шейх.
— Все готово, — ответил Рыскул-бий, отводя в сторону мутные глаза.
Подошел Гаип-хан, увидел Аманлыка, спросил:
— Кто такой? Чей сын? Какого рода?
— Он сын пастуха, — ответил Маман.
Гаип-хан с недоуменьем присмотрелся, узнал Амаи-льтка и расхохотался. Шутовски приложил ладонь ребром к бровям, разглядывая Аманлыка, ткнул в бок своего есаула Пулата и застонал от смеха.
— Ну, я думал, ты умней, а также твои отцы… — сказал хан, — и будет у тебя правой рукой… Есен-гельды.
«Истинно так, — подумал Мурат-шейх, — и я бы этого хотел».
— Премного довольны вашими словами, хан наш, да цветет ваша мудрость, — сказал подчеркнуто Рыскул-бий.
Гаип-хан поднял руку с нагайкой, что означало, что он принимает важное решение. Хрипловатый его голос слегка взвизгнул.
— Отвезешь купцов… Представишь Абулхаир-хану, в его собственные руки… Никого другого к ним не подпускай! Караван, товары останутся пока здесь…
— Слушаюсь покорно, хан мой, — сказал Маман, кланяясь с особой почтительностью, ибо речь шла об Абулхаир-хане.
А Пулат-есаул поежился непроизвольно, — дрожь прошла по спине…
Мурат-шейх сказал напоследок:
— По дороге глупостей не натвори. Нигде не задерживайся. Купцов береги пуще глаза. Не забывай, что за ними русский царь. Не болтай с ними лишнего, держи язык за зубами. Это тебе не те… пленные… И время не то.
Маман подошел к верблюду, взял его за повод и поднял на ноги.
Аманлык подвел коня Мамана, тоже гупана, — от благородного серого коня Мурат-шейха. И сам вскочил на своего вороного — неловко с непривычки.
Верблюд пошел, сильно раскачивая седоков под шатром. Гаип-хап, заложив руки за спину, прищурил колючие глазки. С этим, стало быть, покончено.
Затем хап решил, что пришел черед ладить мировую, растаскивать биев за вздыбленные загривки.
— Нечего вздыхать, бии мои, — сказал он. — Земля качается от вздохов… Вернется наш Маман с богатыми подарками!
— Если с подарками, поделим их по-братски, — сказал Мурат-шейх. — А Есенгельды сделаем его ат-косшы.
— Шейх мой, — сказал Рыскул-бий, — ваша мысль крылатая, но без хвоста… — Это означало: не доведена до конца.
— Будет хвост, будет, — отозвался шейх.
А Гаип-хан осклабился с фальшивым добродушием, видя, как лица белобородых оттаивают, словно земля после заморозков.
— Вот что, — бии мои, а не пуститься ли нам сообща на многодневную охоту? Беру вас о собой! Кони ваши, собаки мои…
Эта затея пришлась всем по душе. Условились собраться близ руин древнего города Жанакента, па мертвой и величавой пустоши, мимо которой проходила караванная дорога.
7
Ехали веселые. В дороге было веселей, чем на тое. Ехали важные. Не каждый день случается и не всякому выпадает счастье — увидеть в лицо хана Абулхаира.
Маман думал о нем со страхом и любопытством. Хан Абулхаир был разорителем, он посылал своих людей в каракалпакские аулы на разбой и бесчинство. Каков же он, этот настоящий, а значит, жестокий и несправедливый хан? Такие бывают злы, как скорпионы, но бывают сказочно щедры. Вдруг ему примстится — наградить? Всех разгонит, разобидит, а Мамана одарит но-хански! Маман привезет и отдаст подарок Мурат-шейху, всех поразив…
Аманлык тем временем думал о своих первых в жизни сапогах. И еще о своей сестричке Алмагуль. Теперь у нее будет новое платье. И он смеялся, представляя себе, как она разулыбается, растаращит телочьи глазки, надев обновку.
Всю дорогу Маман разглядывал русских, прислушивался к тому, о чем они между собой говорили. Он понимал не все слова, но смысл разбирал. Нет, не похожи они на Бородина. Вряд ли они стали бы рисковать головой и товаром, чтобы дойти дотуда, докуда не дойдет батыр. Их послушать — нет ничего на свете стоящего, кроме парной бани. Все им было нечисто, все безобразно и смешно.
Ехали они безо всякой боязни, и это Мамана задевало. Ехали, как на свадьбу, и даже заботились о своем конвое, спрашивая с насмешкой: устали? отдохнем?
В середине дня, безветренного и знойного, толмач взмолился:
— Развяжите! Не уйдем! — И тут же заметил купцу по-русски:- Отберем только лошадок… чтоб живей добраться…
Маман рассердился, стал хлестать верблюда нагайкой. Тот заревел, побежал, тряся седоков.
— Юный бий, не горячись, — сказал купец. — Юный бий, ты куда нас везешь?
— Болтаете много, — сказал Маман, сдерживаясь.
— Руки связали, язык не свяжешь, юный бий. Не гони… Не забегай вперед… От своей судьбы не убежишь и ее не обгонишь.
— Пугаете меня? — спросил Маман. Купец засмеялся.
— А вот старшие твои так бы не спросили. А ты спрашиваешь. Недаром тебя послали. Думаешь, везешь рыбку в котел? Везешь щуку, юный бий, в реку топить! Никак не можете понять, господа черные клобуки, что вы не хозяева, вы слуги на караванной дороге. И откуда такая амбиция? С неба вы, что ли, свалились? Путаетесь под ногами на великой дороге. А ведь дорога — в Китай, в Индию!
Тогда Маман сказал по-русски, выговаривая слова по складам:
— Ты не та-кой русс ку-пес… Ты сарь Петыр не любишь… Я та-кой не ве-ришь… Сарь Петыр не твой сарь… мой сарь!
Купец и толмач переглянулись, перестали смеяться и умолкли.
А Маман вздыбил, пришпорил коня, будто отводя душу, внезапно подъехал к верблюду и развязал руки сперва купцу, потом толмачу. Аманлык закричал в испуге. Маман оттолкнул его.
Русские не сказали ни слова. Оба растирали занемевшие руки, исподволь перемигиваясь. Вскоре они задремали, приткнувшись друг к другу. Их укачало.
Лишь на виду у большого ханского аула Маман снова связал купца и толмача. Они охотно протянули ему руки. Купец сказал загадочно:
Твое счастье, юный бий, твое счастье… как тебя зовут?
Маман не ответил.
Гнется у вас спина, гнется, — добавил купец неожиданно, словно бы с сочувствием, — потому что не на что спиной опереться. Пусто у вас за спиной.
И Маман не нашелся ему ответить, удивленный. Казалось, это говорил другой человек и этот человек был ему знаком и близок…
Аул Абулхаир-хана не походил на другие. Юрты стояли тесно, близко друг к другу, высокие, богатые. Скота нигде не видно, его держали, надо думать, вне аула. Жилье хана узнать нетрудно. На пригорке, в середине аула, возвышались полукругом семь болынегла-вых белых юрт, прекрасных, как в сказке. Их охраняли воины с копьями, все на подбор молодые, могучие, как батыры. Перед юртами длинная коновязь. И каких только не было здесь коней! Кони кровные, сбруя в золоте и серебре, глаз не оторвешь. Куда там Гаип-хану до этой пышности и великолепия…
Всех, кто прибывал в аул, останавливали за полверсты от ханских юрт конники, а шагов за триста спешивали и спешивались сами. Сообщали дальше по цепи, от воина к воину, кто прибыл. Остановили, спешили и повели так же Мамана, его аткосшы и купцов. Перед самой высокой, самой белой, самой прекрасной юртой застыли люди и кони. Маман и Аманлык встали на колени.
Абулхаир-хан вышел из юрты. Маман видел его впервые, но тотчас узнал… Хан был среднего роста, гладок и грузноват, а казался не ниже воина, стоявшего у двери. Лицо смуглое, как обожженная глина, губы сердечком, как у красивой женщины. Бородка черная, густая, без сединки, усы холеные, погуще к углам рта. Взгляд пронзительный и умный. На плечах у хана внакидку, нараспашку — роскошный тон, длиннополая шуба с золототканым воротником; полы подметают землю. В правой руке, конечно, нагайка, но у всех нагайка как нагайка, а у него — как жезл. Куда там Гаип-хану до этой стати и величия…
Воина, сопровождавшего гостей, хан слушать не стал. Глядя поверх головы Мамана, спросил:
— Били — по дороге?
Маман не понял, замешкался. Ответил купец:
— Этого не было, господин хан.
— Развязать… да поживей! — приказал хан. — А молодому бию этого беспамятного, беспризорного народа и его аткосшы — по два дурре для начала. (Дурре — удар плетью.)
Четверо молодцов набросились на Мамана и Аман-лыка, потащили их прочь, но Маман успел увидеть, как купец и толмач, потряхивая развязанными руками, как ни в чем не бывало пошли следом за ханом в юрту, перед которой Маман и Аманлык стояли на коленях. И успел Маман услышать звучный и бархатный голос хана из юрты:
— Народ — обветшавший имуществом и мозгами… Учу их думать плетью…
Тут же, у коновязи, наскоро привязав к столбу и задрав рубахи им на головы, отвесили Маману и Аманлы-ку назначенное, а так как Маман противился, требовал объяснений, всыпали ему вдобавок еще два дурре, чтобы понятней было.
Затем их отвели на окраину аула, втолкнули в темную, совершенно пустую юрту, дав напоследок по тумаку в шею для полной ясности.
Аманлык, прогибая спину, чтобы рубаха ее не касалась, спросил:
— Маман-ага, кто же привел виновных — мы их или они нас? Как думаешь?
— Я думаю спиной… — ответил Маман.
Однако не прошло и получаса, как в юрту вошли люди хана и поставили перед Маманом и Аманлыком блюдо с горячей бараниной, только что из котла. Была на блюде и баранья голова…
Баранья голова подается гостю, главному за дастар-ханом. Это почет. Маман и Аманлык недоумевали: почет или издевка? Аманлык сунул было нос за дверь и получил тычок в лоб. За дверью сидели двое с копьями. Маман отвернулся от блюда. Но Аманлык заскулил, стиснув зубы, — мяса хотелось, а раньше Мамана не тронешь. Маман принялся есть.
— Думаю животом, — сказал Аманлык.
Трое суток пробыли они в пустой юрте. Никто к ним не приходил, никто с ними не разговаривал: стражники приносили еду, выпускали на двор — и ни слова, ни взгляда, то ли глухонемые, то ли дали зарок пророку Магомету…
На четвертый день утром джигитов у дверей не оказалось. Заместо стражи явился аксакал в лисьей шапке с зеленым плюшевым верхом, сказал:
— Хан Абулхаир отъехал в Хорезм. Велено вас отпустить. Если желаете, езжайте на все четыре стороны, а нет, так погостите у нас, просим. Велено еще передать милостивые приветствия вашим старшим.
— Простите, отец, а по два дурре… нам пожалованы… разве не по воле хана? — спросил Маман.
— Юные бии каракалпаков, — проговорил аксакал с насмешливой торжественностью. — У нас не по воле хана даже кони, не ржут. Эти дурре для вас, считайте, две ложки масла. Для вашего брата — честь… от самого хана! Тем и хвастайте. А лучше держите язык за зубами, не то лишитесь всех своих тридцати двух зубов. У хана есть удальцы, которые одним дурре могут убить или искалечить.
Маман все же спросил:
— За что же, отец? За какие вины или заслуги? Аксакал огладил бороду.
Ты, говорят, не столь глуп, сколь молод… Хан великодушен. Его благородство высоко и тонко. Хан открыл тебе душу, послав голову барана со своего стола. Достаточно этих трех малых зерен, двух дурре и одной головы барана, чтобы посеять целое поле… Что еще изволишь спросить, бий каракалпаков?
— Не смею… — сказал Маман. — Но интересно, что же сталось с теми купцами, не уплатившими баж, которых мы привезли?
— Тебе какое дело до тех купцов! — перебил аксакал. — Допустим, что они живы, здоровы… И допустим, что хан увез их с собой, в своей коляске. Может, бросит по дороге. Может, довезет до хана хивинского. Допустим, я тебе это сказал, услышав, какие небылицы купец про тебя говорил… Все виденное, слышанное, узнанное здесь, в этом ауле, вы не видели, не слышали, не знаете. Проболтаетесь — лишитесь тридцати двух зубов.
— А пушки свои они взяли?
— Это не пушки…
Больше Маман ничего не спрашивал. И не сказал аксакалу в лисьей шапке ничего лишнего. Берег зубы. Гостить в этом ауле не стали… Сели на коней.
— Что молчишь, Аманлык? — спросил Маман, когда ханский аул скрылся из глаз. — Теперь ты понял?
— Не видел, не слышал, не знаю, — ответил Аман-лык, довольный тем, что унесли наконец ноги, и вдруг запнулся, замычал нечленораздельно, замахал руками, угадав чутьем близкого человека, что Маман собирается делать: исполнить свою клятву…
— Те зерна, о которых говорил старик, во мне уже проросли… — сквозь зубы проговорил Маман. — Если ты против, я тебя знать не знаю, уходи.
Аманлык молча пришпорил коня, чтобы дать другу остыть, а себе — собраться с духом. Маман догнал его. Ты мне нужен. Я один не справлюсь.
— Тогда вспомни… вспомни… — сбивчиво проговорил Аманлык. — Ты рассказывал: сам Оразан-батыр хотел им устроить побег. Что сказал Мурат-шейх?
— Абулхаир нас растерзает…
— Бий мой, прежде чем развязывать чужие руки, подумай, не отрубят ли твои. Батыр и шейх об этом думали.
— Трусишь? Боишься? Аманлык печально усмехнулся.
— Забываешь, кто твой аткосшы, бий мой. Мы сироты… Мы все передохнем, если тебя убьют, на твоей могиле.
Маман, растроганный, крепко обнял Аманлыка за плечи. Они поехали обнявшись. Но Маман не остыл.
— Думаем с конца, — сказал он. — Подумаем с начала… Ты видел, как он ласкал русских? А тем временем нас понуждает держать пленных! Зачем? Проще простого. Ударит молния… в кого? В нас, беспамятных, беспризорных, обветшавших имуществом и мозгами. А он умоется нашей кровью. Сирот будет не меньше, больше.
— Скажи это нашим белобородым! — вскрикнул Аманлык. — Тебя послушают!
Маман с сомненьем покачал головой.
— Тебе говорю: вам, сиротам, зачем пленные сироты? Вера у них другая… а слезы? Такие же, как у нас! Нет, пусть мы будем какие мы есть, пусть слабые, беззащитные… и не будет у нас славы кочерги, которой загребают огонь! Пришпорь коня. Теперь не жду от тебя противного слова.
Они пришпорили копей одновременно, и полетели серый и вороной гунаны голова к голове, развевая на скаку длинные гривы.
* * *
Еду и воду пленным привозил на ишачке, запряженном в арбу, старик из дома шейха. Этот старик, как он сам рассказывал, нес маленького Мамана на руках в годину белых пяток, когда умерла, в одночасье, спасаясь от джунгар, молодая мать Мамана.
На дороге в ущелье, близ тесной пещеры в скалах, укрытой в зарослях тамариска, Маман и Аманлык подстерегли старика, спрятав поблизости своих коней. Старик обрадовался, увидев Мамана.
— Светик ты мой, когда же ты приехал? Господи, помилуй, как я тебя проглядел? Дом-то у нас как есть пустой. Тебя нет, шейха нет… Выехал благодетель наш с ханом нашим на охоту. Нынче дома не ночевал.
Это Маман и Аманлык уже знали и приняли за добрую примету: значит, аллаху угодно, чтобы поменьше было препон.
Маман молча поднял старика па руки и понес в пещеру. Старик был подслеповат, а в полутьме пещеры и вовсе ослеп.
— Хау, хау, — запричитал он, — а ты, оказывается, не Маман. Кто же ты есть?
— Простите меня, отец, — сказал Маман, связывая старику руки и ноги, хотя приличней было бы, наверное, просто велеть ему не трогаться с места, пока за ним не придут.
Аманлык хотел было завязать старику рот его же кушаком, но Маман отобрал кушак, еще раз сказав:
— Простите, отец.
— Да простит тебя господь, если ты Маман, — отозвался старик.
Уложив его в пещере поудобней и выждав часок, Маман погнал ишачка дальше, к ущелью.
На арбе была еда и для стражников. Им возили хлеб и мясо из дома шейха, и надо думать, потому они помалкивали до поры до времени о том, какие страсти знали про Мамана: и то, что он тайно ладил с иноверцами, поддавшись им душой, и то, на каком позорном был подозренье, и то, что его велено было силой отвадить от русских, не допуская к ним на расстояние слышимости голоса. А случай в охотку почесать языки посылал бог только что: заглядывал сюда Гаип-хан со своими людьми и собаками, едучи на охоту. Лай стоял оголтелый. Брюхо удержало стражников от болтовни, но однажды языки развяжутся…
Маман издали увидел молодцов с секирами и невольно поежился. Головорезы… Люди без семьи, без роду, без племени. И без бога в башке. Им пожрать да поспать; мозгами шевелить недосуг. Зато стрелки отменные. Из лука не промахнутся на расстоянии полета стрелы. Копьем пронзят насквозь, если ты не в панцире, а секирой? Страшно подумать. Однако справиться с ними можно… если один бородач не разуверился в Мамане и не устал ждать…
Приметив на дороге ишачка с арбой, стражники подняли крик. Проголодались, бедняги. Сегодня старик припозднился, — в отсутствие шейха, знать, не было той строгости… Затем они разглядели Мамана и заорали еще пуще, стали грозить ему секирами, а старший, усатый, с налитыми кровью глазами, схватил и швырнул в Мамана камень. Камень упал у самых ног ишачка. Ишачок остановился, но Маман взял его под уздцы и спокойно довел до плетеных воротец, подпертых колом. Тут он сказал, поздоровавшись спервоначала, как водится меж людей:
— Чего орете? Старик захворал, шейх на охоте с ханом… Если бы не мы, вы бы так и остались не евши, не пивши.
Но джигиты уже не орали. Они набросились на свой хлеб и на свое мясо, прислонив к колесу арбы секиры.
С набитым ртом, с хлебом в одной руке, с мясом в другой, жуя и чавкая, усатый, красноглазый, повернулся к Маману, чтобы все же прогнать его прочь, и оторопел. Маман стоял с секирой, занеся ее над головой.
— Ложись! Зарублю!
Усатый присел на корточки — не столь испуганный, сколько ошарашенный. Присел и другой стражник, тоже с полным ртом и занятыми руками, потому что и Аманлык стоял с секирой в руках.
А тем временем с неба спрыгнул русобородый мужик, птицей перемахнув через каменную стенку с плетеными воротцами. В руках у мужика была кувалда каменотеса. И он также кричал очень громко:
— Ложись, идолы, дуры…
Стражники легли на животы, не выпуская из рук жратвы. Им еще было невдомек, что все это значит. И лишь когда русобородый, взяв с арбы веревку, связал их по рукам и ногам, а затем привязал спинами друг к другу, они стали кое-что соображать. Но и теперь не верилось молодцам, что Маман дерзнет… Одумается! Не посмеет! И они тупо дожевывали то, что у них было во рту, косясь выпученными глазами на безумного сына батыра.
Маман, однако, сам отпер воротца, сшибив ногой кол. За воротцами уже сгрудились пленные и, как только отперлись воротца, толпой вывалились наружу, окружили Мамана. Женщина с серым, опухшим лицом, которую он видел в слезах, когда умер ее сынок, единственный, последний, подошла к Маману вплотную, посмотрела ему в глаза и обняла его.
— Спасибо, мать, — сказал Маман.
— Она тебе ровесница, сынок, — сказал Бородин. Все молчали, многие пленные крестились. Связанных стражников оттащили за ограду, в глубь ущелья. Усатый стал просить:
— Лучше убей нас, Маман, лучше убей…
— Вы еще увидите, как меня будут убивать, — ответил Маман.
Было около полудня. Засветло уйти не решились. До вечера маялись, молясь двум богам, чтобы не принесла кого-нибудь нелегкая. Веревок больше не было, вязать нечем. Но из аула сюда, к пленным, никто не ходил и не ездил, если шейх не посылал.
В сумерках, посадив детей на арбу, тронулись в путь — на север, в горы. Маман и Аманлык пошли пешком; на их гунанов сажали поочередно женщин. Шли без передышки всю ночь, безлунную и безоблачную, со звездами в голубиное яйцо. Ко времени третьего крика петуха ушли далеко, по счастью не встретив ни зверей, ни человека. Перед рассветом укрылись в лесу — днем идти не рискнули.
На прощанье Маман и Бородин крепко обнялись и расцеловались.
— Счастливо добраться, — сказал Маман.
— Не поминай лихом, — сказал Бородин. — Каково теперь тебе достанется?
Что будет, то будет.
— Жалко с тобой расставаться. Ну, живы будем — еще свидимся.
— Я вас век не забуду.
— А может, уйдешь с нами? Вернешься, когда твои поостынут?
Маман пожал плечами.
— Один русский мне сказал три дня тому назад: от своей судьбы не убежишь, ее не обгонишь.
Гладышев? — вдруг спросил Бородин. — Военный!
Нет, купец.
— Может, и купец… Где он тебе случился?
— Схватили на караванной дороге. Я его возил к Абулхаир-хану. Не хотел платить пошлину. А хан повез его в Хорезм, в своей коляске, если не врут.
— Может, и не врут… Однако! — сказал Бородин. — Высоко же ты залетел, Маман-бий. Эта птица не нам чета.
— Худой человек?
— Как тебе сказать… Чиновник самого Ивана Ивановича Неплюева, наместника Оренбургского края. Поручик.
Ругал нас, каракалпаков, — проговорил Маман угрюмо.
— Непохоже. Он по части посольской, а там, видишь ли, не ругатели, а которые позанозистей да поза-ковыристей.
Маман задумался, вспоминая последние слова купца.
— Сказал, что мы с неба свалились. Бородин, смеясь, почесал бороду.
— А вот это похоже. Это ты, братец ты мой, не то белый сокол, не то белая ворона среди своих… Одна надежда, что соколы да вороны долго живут
Затем он добавил охрипшим голосом, покашливая в кулак:
— Привык я к тебе, Маман Не больно мы везучи, биты, граблены… Но себя понимаем. Бог даст, поднимемся на ноги, так уж не разойдемся на той караванной дороге!
— Не забывайте, Бородин-ага… — едва слышно проговорил Маман. Больше он ничего не мог выговорить.
Аманлык подвел коня. А над толпой русских в бледном утреннем свете словно стая птиц взлетела: кто снял шапку, кто взмахнул платком. Маман ударил нагайкой коня и с места послал его вскачь.
Мучило его единственное: упаси бог, не помер бы в пещере связанный старик, ни в чем не повинный…
* * *
В укрытой от ветра низине увидели большой костер, а вокруг него — биев и Мурат-шейха. Вот они, сердеш-ные. Развалясь у огня, бии ели мясо дикой козы, пили чай, усталые, смирные. Стало быть, охота удалась. Га-ип-хана, его людей и собак у костра не было. Значит, едут бии домой. И надо думать, ждут не дождутся Мамана…
Увидев Мурат-шейха, Аманлык схватил Мамана за руку, державшую повод.
— Молчи хотя бы, пока не дознаются…
— Зачем? Сам скажу.
Встретили Мамана в самом благодушном расположении духа. Усадили в своем кругу как равного, принялись угощать. Его аткосшы, правда, не удостоился никакого внимания среди бийских аткосшы…
Мурат-шейх спросил, присматриваясь к Маману:
— Зудит? Чешется спина от милостей великого хана?
— Уа… да вы знаете! — воскликнул Маман с наивным ребячливым удивленьем.
И не промахнулся. Бии засмеялись, довольные тем, что он не таится, не крутит перед старшими.
— Мы всё знаем, — сказал Рыскул-бий, старейший. — Бии должен все знать, что было и что будет.
А Убайдулла-бий, трепля реденькую бородку, заметил:
— Мы, милый, тоже не раз вкусили сладость дурре Абулхаир-хана, исполняя его поручения. Молчим, чтобы не лишиться своих тридцати двух зубов, согласно того совета, который и вы слышали.
— Видом — хан, нутром — двуликая женщина, — проговорил Маман с горячностью.
И опять угодил. Бии засмеялись с наслажденьем, хотя и вполголоса, ибо молодой бий сказал вслух то, что все говорили, но в мыслях.
Мурат-шейх кинул в костер толстый узловатый сук саксаула. Посыпались искры.
— Скажи все-таки, сын мой, не было ли других милостей?
— Были. Держал взаперти трое суток… А тех купцов принимал в своей юрте, повез в своей коляске.
— Что за люди, не дознался?
— Старший сам про себя сказал, что он — щука!
— И мне показалось, что… вижу его не впервые, — сказал шейх. — Где это могло быть? Скорей всего в Орске.
Бии забубнили. Им досадно было, что они не разглядели щуку.
— Известное дело, — сказал Давлетбай-бий, наиболее рассудительный, — на что замахивается Абулхаир-хан. Малого жуза ему мало. Хочет под свою руку еще Средний жуз. И то сказать — среди ханов он хан! Но без русских ему не справиться. Нужна ему слава сильнейшего. Вот и обхаживает и щуку, и ерша…
— А нам зачем русские? — спросил вдруг Маман с прямотой, не столь уж почтительной.
— И нам — затем же, бий мой, — ответил Рыскул-бий снисходительно-терпеливо. — И нам нужна слава сильнейших, чтобы знали в мире, что мы народ — не дырявый, как топкий солончак, а из четырех земных пластов… — Старик имел в виду, понятно, четыре главнейших рода каракалпаков.
— А хотите ли знать, бий-отец, — глухо проговорил Маман, не поднимая глаз, — хотите ли слышать, что сказал тот русский купец, которого нам не вязать — на руках бы носить, заглядывая ему в рот… Сказал: топчемся мы в ногах у других народов на великой дороге! Сказал: гнется наша спина, потому что пусто у нас за спиной!
— Пу-сто-о? — вскричал Есим-бий, человек с проседью на голове. — Пусть посмотрит, что у нас в ущелье, близ аула шейха и Оразан-батыра…
— Слава богу, — перебил Маман, — теперь уже ни чего, кроме связанных стражников, помирающих от голода.
«И старика в пещере… — подумал Маман с болью, — помоги ему бог…»
— Как… — проговорил Мурат-шейх упавшим голосом в общем молчанье. — Я запретил тебе подступаться к пленным ближе чем на версту…
— Простите, шейх-отец. Поймите грешного сына.
— Выпустил!
— И проводил в дорогу, пожелав счастливого пути. А потом поехал — вас искать.
— Когда это было? Где они сейчас?
— Вы их не догоните, не сыщете. Тому третьи сутки.
— Аманлык… Это правда? Где пленные? Говори!
— Мой бий все сказал, шейх-отец, — ответил Аман-лык, вставая.
Шейх воздел руки к небу, словно готовясь к молитве или проклятью.
— Бии мои, этот несчастный лишил нас чести…
— Наоборот! — вскрикнул Маман.
Но его голос заглушило общее яростное рычанье и завыванье, мало похожее на львиный рык, больше на вопль гиены.
— Был у нас в руках меч, он его бросил в пучину! — кричал Рыскул-бий, закатывая под лоб мутные глаза, тряся немощными кулачками.
— Приведи раба к священному колодцу, он в него плюнет! — кричал добрейший Давлетбай-бий.
— Связать их обоих! — приказал шейх.
Этого только и ждали бийские аткосшы. Налетели, закрутили за спину руки Маману и Аманлыку. Мамана, связанного, положили на коня, поперек седла, а Аман-лыка посадили — лицом к хвосту. Они не сопротивлялись.
— Да будет мне бог судьей, — сказал Мурат-шейх, задыхаясь, — но этих выродков казним побитием камнями. Они этой казни достойны.
— Истинно так, шейх наш, — сказал Рыскул-бий.
— Этому бедовому петушку лучше оторвать башку, — сказал Давлетбай-бий.
— Вы еще скажете: Маман прав… Скажете! — отвечал Маман,
Его никто не слушал.
Тотчас собрались в путь, погасили костер.
— Держись, друг, — прошептал Маман, подавленный тем, что и Аманлыка связали заодно с ним, — Ничего мне сейчас не говори.
Мурат-шейх, услышав это, сморщился и со злостью хлестнул нагайкой коня Мамана. Конь взбрыкнул и побежал боком, мелкой рысью, подбрасывая на себе Мамана, косясь на него бешеным глазом.
8
Худая весть с быстротой степного пожара облетела аул: будто бы на дороге в ущелье, близ пещеры, нашли связанного по рукам и ногам старика, который возил пленным еду и воду, — в нем едва душа теплилась; а в ущелье нашли тоже связанных двоих джигитов, которые сторожили пленных. Между тем пленные из ущелья исчезли. И будто бы во всем этом повинен не кто иной, как Маман, изменник. Снюхался с иноверцами, продался им, за что и будет побит камнями. Еще говорили, что Маман — полоумный, чумной, может сглазить человека, как сглазил до потери образа и подобия божьего джигитов-стражников.
Сироты узнали об этом первые. Аллаяр обрадовался. Он знал, что Маман и Аманлык далеко — в ауле хана Абулхаира. Если бы Маман был здесь, Аманлык сидел бы сейчас около Алмагуль, спрашивая, не дразнил ли ее Аллаяр. Аманлык обещал оторвать ему башку, если застанет Алмагуль в слезах.
Значит, пленные выбрались на волю сами. Обошлось дело без Мамана… Остальное все так: и что полоумный и чумной, и может сглазить, и снюхался с иноверцами. Но виноват не он, а, наверное, стражники, — их надо сбросить со скалы, изменников.
Прибежал коротышка Бектемир с ошалелым криком, что казнь будет у дуба и что туда уже ведут Мамана. Бектемир пищал, как схваченная лисой птица. Аллаяр отвесил ему оплеуху.
— Рот у тебя кривой — и слова кривые. Будешь врать про Мамана, проглотишь язык!
Алмагуль заплакала, но негромко, потому что Алла яр пригрозил ей подзатыльником. Однако весь аул был на ногах. Как бы не опоздать. Аллаяр скомандовал:
— Берите каждый в каждую руку по камню. Пошли бить поганых. Одним камнем до крови, другим до смерти. Скорей!
Сиротам никого не хотелось бить, но как будут бить — интересно было. Похватали камни, побежали за Аллаяром. Увязалась следом и маленькая Алмагуль.
На лугу, перед одиноким старым дубом, было полным-полно народу. У каждого по камню в руке, у иных за пазухой по запасному. Все пришли делать благое дело: одни — с пониманием, что это святой долг правоверного, со злой решимостью, другие — без всякого понимания и без злости, но чтобы не отстать от понимающих, не показать себя хуже, третьи — с болью, со скрытыми слезами, но без малейшей надежды, потому что так было и так будет.
Сироты протолкались вперед. Проскользнула змейкой и Алмагуль. И попали проныры в окруженье самых спесивых — свиты Гаип-хана и бийских аткосшы. Эти вперед себя мышь не пропустят. Посыпались на голодранцев пинки и тычки. Взвыли сироты на все голоса. И были замечены самим Гаип-ханом.
— Что за молодцы! — проговорил хан, покачивая головой-лопатой. — Вот у кого поучиться, шейх наш. Полюбуйтесь…
Шейх не смог ничего ответить. Губы его дрожали, руки дрожали, сердце дрожало.
Сиротам перестали драть уши, но вперед не пустили, и они не видели, как, прикрученные к дубу веревками, плечом к плечу стояли Маман и Аманлык.
Их не узнать. Лица в ссадинах и запекшейся крови, распухли, как у больных водянкой, одежда истерзана в клочья. Если бы не были привязаны, свалились бы с ног. Головы опущены, нет мочи поднять. В глазах уже не мука — смертная истома.
С немым ужасом смотрел Мурат-шейх на обреченных. Все кончено. Он сам это начал в безумии гнева. Теперь этого не остановить. Нет, не поднять больше головы Маману, не зажечь своих глаз и не вымолвить пламенного слова, которое принесло бы ему прощенье. Его не спасти. Одна слабая надежда, что промахнется первый… бросающий камень… По обычаю вначале один, избранный, самый достойный, кинет кряду три камня. Если промахнется, трижды промахнется — это знак божий, помилование. В руке первого — божий произвол.
— Благословите, шейх наш, — сказал Гаип-хан, широко расставив кривые ноги. — Пора браться за дело. Вы начнете?
Мурат-шейх слабо взмахнул дрожащей рукой, беззвучно шевеля губами, что, впрочем, можно было принять и за согласие, и за торопливую молитву.
Ему услужливо протянули камень, ребристый, словно бы с заточенными краями. Шейх отшатнулся. Потом крякнул старчески визгливо, чтобы скрыть замешательство, и показал на Рыскул-бия взглядом, потому что руки поднять не мог.
Рыскул-бий церемонно поклонился, благодаря за честь, и попросил позволенья доверить волю божью молодому, сверстнику казнимых…
Толпа, сгрудившаяся у дуба, качнулась, словно единое тело, крыша черных шапок дернулась, как кожа у коня, когда на нее садится слепень. И пронесся протяжный шепот, шепот оторопи перед очевидным коварством: «Есен-гель-ды…»- ибо это, а не иное имя назвал почтеннейший, мудрейший бий.
Аллаяр не понял, в чем тут дело. Он все еще не видел, кто стоит у дуба.
А хан уставился колючими глазками на Мурат-шейха, в них было откровенное жадное любопытство. Но шейх лишь сморщился и с силой закрыл глаза, что можно было принять и за возражение, но и за согласие.
Вышел вперед Есенгельды. Он был хорош! Чистый, гладкий, как новорожденный телок, вылизанный до блеска коровой. А в глазах — по капле ненависти, по одной капле в целом море злорадства. Заткнув за пояс полы новенького желтого чекменя, подбоченясь, джигит покачивал рукой с камнем, как бы взвешивая его. Но он не рисовался на этот раз, просто наслаждался жизнью.
Хан спросил: в кого он метит? Есенгельды ответил: в самого недостойного. Все же поопасался назвать имя Мамана, чтобы шайтан не услышал и не сунулся под руку.
— Не спеши, успокой сердце, — шепнул Рыскул-бий.
Но Есенгельды и не спешил, сердце его было покойно. Он стоял шагах в семи от дуба и не сомневался в себе.
Громко, внятно, певуче, как муэдзин, Есенгельды выговорил красивую первую строку Корана:
— Бисмилля-хи рахман ир-рахман… Во имя господа всемогущего…
Размахнулся и швырнул камень в голову Мамана. В последнюю секунду Аманлык рванулся, вытянул шею, чтобы прикрыть Мамана своей головой. Камень рассек Аманлыку скулу. Ниточка крови потекла по щеке и словно юркнула ему в угол рта.
Тишина. Бии переглядывались: как считать — попал или промахнулся? Если бы Аманлык не подставился, пожалуй, и промазал бы. Есенгельды поднял второй камень.
Мурат-шейх хотел бы отвернуться и не мог. В горле у него першило. Ноги подгибались.
Аллаяр выбрался наконец из тесноты плеч и локтей. До того из-за спин он тщетно пытался разглядеть, кто же стоит у дуба. Он не узнавал Мамана и Аманлыка. Потом изловчился, кинулся ползком на четвереньках, под полами халатов… Увидел в упор опущенные головы, распухшие лица, узнал и оцепенел.
Но еще раньше разглядела их маленькая Алмагуль, тоже с земли проскользнув между ног, позади — босых, впереди — в сапогах. Жалобный детский вопль взвился над толпой:
— Бра-тик!
— Сестричка… — выдохнул в ответ Аманлык. Девочка в изношенном до кисейной прозрачности
платьице вылетела из-под ног людей, как куропаточка из густой травы, прыгнула и повисла на Аманлыке, обняв его руками и ногами. Подол платьица задрался и обнажил загорелые и запыленные дочерна худенькие ноги и жалкие серпики пронзительно белых ягодиц.
Тогда-то выскочил и Аллаяр, крича не своим голосом, заполошно размахивая руками. Подбежал и прикрыл собой Мамана.
— Сироты! Сироты! — кричал Аллаяр. — Это Маман! Наш Маман!
И вдруг пискнул придушенно, схватился обеими руками за голову, согнулся пополам.
Второй камень Есенгельды угодил ему в бровь; глазница мгновенно распухла и окровавилась.
Тут же Аллаяр выпрямился, отнял руки от измазанного кровью лица, крича уже надорванным голосом:
— Бей! Бей, кобель кунградский! Бей, не робей! И все увидели то, чего Аллаяр еще не видел и не знал: правый глаз его вытек. Так весельчак, балагур Аллаяр стал Кривым Аллаяром.
Тем временем дети, сироты бежали и бежали к дубу с гамом, визгом и плачем. Сбежались все и облепили Мамана и Аманлыка, как мухи набитую холку коня.
Затем случилось небывалое, не виданное прежде ни на празднествах, ни на казнях. Не то вздох, не то стон прокатился по толпе, и полилась она, подобно густой простокваше, к дубу, обтекая островок биев.
Полсотни людей, пе меньше, сперва молодых, а следом и старших, окружили Мамана, Аманлыка и сирот, а остальные — биев и иресветлого хана. Стеснили донельзя, задышали в уши, в затылки, как охотничьи псы после долгого гона…
Не сказать, чтобы сильно кричали, нет, этого не было, говорили горячо, строго, но по-доброму, по-хорошему:
— Хан наш, помилуйте, не дайте погибнуть молодым. Мало ли нас враги истребили, — сами себя истребляем. Зачем сами себя истребляем? Шейх наш, просите у хана нашего… просите прощенья своему возлюбленному ученику…
И лишь один молодой голос крикнул из толпы нехорошо, злобно:
— Не дадим вам Мамана, бии наши, на смерть и по-руганье, не дадим!
Гаип-хан начал было с высокой ноты:
— Что такое? Ку-да! Кто позволил?
Но орать — не разорался, язык прилип к нёбу. Увидев в руках Есенгельды третий камень, хлестнул его нагайкой по рукам, выбил камень, ткнул нагайкой в зубы.
— Ты… скройся с глаз… Есепгельды исчез за спинами биев. Мурат-шейх вытер усы белым платком. Руки его как
будто перестали дрожать, ноги немного окрепли. Согбенный, с трудом сдерживая слезы, шатаясь, он шагнул к Гаип-хану и упал на колени, уперся руками в землю, чтобы не повалиться ничком.
— Хан наш… отмените… пощадите…
Гаип-хан, выпятив подбородок, поскреб себе шею под сорочьей бородкой и небрежно, величественно подал знак своим свитским. Шейха подняли с земли.
— Воля ваша, шейх наш, — сказал хан с мнимым добродушием, втайне обрадованный тем, что дрогнул шейх и с его ханских плеч гора свалилась. — Вы приговорили казнить… и вы побуждаете меня миловать… Растолкуйте хотя бы народу, какой грех на себя берем.
Опять тихо стало у дуба, так тихо, будто опустел огромный луг. И народ и почтенные бии — все понимали: нелегко шейху, нелегко. Не бывало случая, чтобы духовный отец отказывался от своего слова и при всем пароде брал на себя грех, такой тяжкий, срамной. Слово шейха непогрешимо, его приговор свят. Провалится земля под неподкупным, чистым, как вера, старцем, если это не так.
Рыскул-бий скривился весь, и лицом и телом. Добрейший Давлетбай-бий суеверно плевал себе за ворот, отгоняя беса.
Но в ушах Мурат-шейха звенели слова: сами себя истребляем! И виделся ему в эту минуту не хан и не бии, а Оразан-батыр с красно-бурым, огненным лицом и бесстрашной душой, в которой пламенела горькая мысль: кормилица-мать Сырдарья хотела, говорят, переплыть Аральское море…
Выпрямился Мурат-шейх и во второй раз за минувшие сутки поднял руки к небу, словно молясь или проклиная:
— Народ мой, дети мои… слушайте… Истинная мудрость страха не знает. А моя мудрость его сегодня познала… в чем и прошу прощенья у господа всемогущего, всемудрейшего… Да простит наш хан виновных.
— Быть по сему… прощаю, — проговорил Гаип-хан поспешно, чтобы не затерялось его последнее слово, ибо видел, как засветились глаза у простонародья, когда заговорил так необыкновенно, неслыханно шейх; того и гляди, не поспеешь открыть рта, кинутся люди развязывать Мамана.
Они и кинулись без оглядки, смяв и рассеяв тех, которые остались было кланяться, величать хана. Подлый, неблагодарный народец… Разметали веревки, подняли на руки Мамана и Аманлыка, а с ними и Аллаяра, понесли из тени дуба на луг, под горячее солнце.
Взяли на руки и маленькую Алмагуль, лаская ее, целуя в лицо, в ягодицы, куда попало. Но она вырывалась, дралась, как дикий зверек, обливаясь слезами. Притихла лишь тогда, когда приникла к груди Аманлыка, застонавшего от боли.
Маман растертыми до крови руками обнимал Кривого Аллаяра, перевязанного окровавленной тряпкой, плачущего безутешно,
А на сияющем пышной и нежной зеленью лугу уже опять ссыпались и затвердевали островки людей, большие и малые, связанные родовой связью, разорванные родовой рознью.
* * *
Не спалось в эту ночь Мурат-шейху. Лежа в своей большой белой юрте, он с болью прислушивался к тому, как стонет и бредит во сне Маман, но больно было не за него — за себя. Раны Мамана заживут скоро и бесследно, а вот раны Мурат-шейха не зарубцуются и будут незримо, нескончаемо сочиться кровью. Кого же сегодня казнили поутру? Ослушного джигита или главу рода? Дерзость или спесь? Какой урок будет людям? Что они запомнят? Пожалуй, прежде всего белые ягодичкй девчонки-сироты и вытекший глаз мальчишки-сироты.
Какую силу забирает Маман! Слова не вымолвил. Головы не поднял. Выиграл, не глядя, вися на волоске. Надо бы порадоваться тому, что он жив-здоров и вознесся туда, где другие, многие обращаются в прах. Но странно и беспокойно было то, что Маман обошелся без биев. И люди, вставшие за него стеной, обошлись без биев. Все нынче обошлось без биев. А разве так может быть, чтобы дети… сыновья… обходились без отцов своих? Это противно законам божьим, природе всего сущего.
Хотелось бы Мурат-шейху растолкать сейчас Мамана и не велеть ему стонать, ибо это бессмыслица — бодрствовать старшим, если младшие спят. Хотелось сказать Маману о том, какая нелепица — старость, когда утомляешься жить, когда тощает разум и когда совесть, как торба нищего, не дает вздохнуть, а полна одними сухими корками…
Но как это будет понято? Как желание повиниться? Такого унижения не вынесет и его отцовская любовь к строптивцу.
— Вы не спите, стонете. Вы нездоровы, шейх, — отец? — спросил неожиданно Маман, поднимаясь с одеял.
— Да, пожалуй, мой стон слышней, — ответил шейх, довольный тем, что первым заговорил Маман.
— Я хотел вас просить… для Аманлыка и его сестры… вы не откажете… у них ничего нет… — добавил Маман так, будто уже стерлись у него из памяти минувшие сутки.
Мурат-шейх перебил:
— Как ты похож на своего отца, Маман-бий! Но, мой милый, затверди себе одну истину: пока не обротаешь, не запряжешь биев, далеко не уедешь… Ты слышишь меня?
— Ненавижу этих быков нехолощеных, — сказал Маман.
Чтобы твоя душа была довольна, скажу: из тех пленных, которых ты отпустил, проводил… двое опять в наших руках.
— Как! Кто? Женщины?
— Будь покоен, мужчины… но твоей золотой бороды среди них нет. Эти ушли вдвоем вперед, заблудились и попались. Остальных бородач увел, не оставив следа.
— Где они, в ущелье?
— Не сомневайся, — под крышей. Им бежать больше не придется. Доставим с почетом, отдадим из рук в руки.
— Куда? Когда?
— В самое подходящее время, когда поедем на поклон к русским, хоть и в Орск, хоть и в Оренбург.
— Поедете?
— Стало быть, поедем.
9
Лето клонилось к закату, дни становились короче, ветры холодней. Но зелень на горных скатах была еще ярка и благоуханна, и Маман с наслажденьем щурился и раздувал ноздри. Он ехал с Аманлыком на восток, в сторону казахских степей, туда, откуда текла Сыр-дарья и где по весне вырастали цветы по грудь коню, красные, алые, пунцовые, с бархатно-черными глазами. Выпал свободный беззаботный день, и Маман словно вспомнил, что ему двадцать лет и что под этим небом растут не только тугаи и верблюжья колючка. Позвал с собой Аманлыка, тот ответил недоверчивой улыбкой, откровенно сомневаясь, что в мыслях у Мамана может быть такое. Оказывается, может, хоть он и а г а…
Поутру пустились в путь. Оба были оживлены и непривычно говорливы. Ехали по хребту каменистой безлесой горы, которая походила на мускулистую руку, державшую их аул на ладони.
— Смотри, наш дуб… — сказал Аманлык. — Внизу — как батыр на карауле, отсюда — как бородавка.
— А весь аул… — сказал Маман, — как немытый котел с остатками варева.
Вдали, на сером пятне земли, они разглядели двух человек, которые странно, смешно суетились друг около друга — то сходились, то расходились, как дерущиеся петухи. Это и была драка.
— Я их знаю, — сказал Аманлык. — Они соседи, старики. Никак не поделят место для курятника между своими домами. Собираются все кругом глазеть на них, — им хоть бы что. Клюются и клюются, пока внуки не разнимут. Едва душа в теле, а дерутся до упаду.
Между темными каплями юрт и черточками саманных зимовок сновали, как муравьи, дети. В одном месте они прилипли к плетню. За плетнем стояли в обнимку мужчина и женщина.
— А этих знаешь? — спросил Маман.
— Кто их не знает! Любовники… Родители у них в такой ссоре, что вряд ли им жить под одной крышей.
— Скажи лучше — жених и невеста, — проговорил Маман с сочувственным вздохом, словно разомлев на жаре.
Аманлык удивленно посмотрел на него и промолчал.
На окраине аула они увидели всадника и двух пеших. Всадник теснил пеших то грудью, то боком коня, тыкал их в спины дубинкой.
— Это что такое?
— Не видишь? Гонит воров… Стянули какой-нибудь пустяк, вернее, хотели, да не успели, а то бы он их убил.
— Что же они не разбегутся?
— Затопчет.
Тем временем у дуба словно бы села стайка воробьев — босоногие оборванные беспризорные дети.
— Это сироты рода жалаир, — сказал Аманлык. — Каждый день в это время делят милостыню, соображают, кому в какой аул идти побираться. У них нет лачуги, как у нас. До самой зимы будут спать под дубом.
— Как же они… зимой?
— Или найдут какую-нибудь волчью нору…
— Или?
— Заснут под снегом мертвым сном. Маман задумался.
— С высоты вон чего видно… совсем не то…
— Сверху всегда не то видно, — отозвался Аманлык. Повернули вниз, на просторные луга, по ту сторону горы. Не успели проехать и двух верст, как услышали крик:
— Уай, помогите! Уай, спасите!
Погнали коней на голос и увидели лежащего ничком на земле человека; руки и ноги его были закручены назад и привязаны к длинному шесту, поперек туловища, чтобы не мог перевернуться лицом вверх. Судя по одежке, бедняк, скорей всего пастух.
Маман и Аманлык развязали его, — человек немолодой, лицо в грязи, из носа капает на бороду кровь.
— Милые мои… не задерживайтесь! Я пастух из аула Жалаир. Стадо, все стадо угнали. Двое на вороных. Не наши, не наши! Выручите, родные! Ограбили средь бела дня…
Маман и Аманлык поскакали во весь опор туда, куда показывал чабан, и вскоре увидели двоих на вороных. Молодцы гнали впереди себя коров — голов сорок, гнали, не особо торопясь, приплясывая на добрых конях, пощелкивая в воздухе нагайками.
Заметив погоню, они остановились, словно бы любопытствуя, кто же их преследует. Лица у обоих, однако, в масках из черной кожи. И черные на плечах овчины. И сабли на боку тоже с черными рукоятками, в черных ножнах. И кони вороные… Напоминали эти двое обгорелые после грозы деревья на цветущем лугу.
Увидев, кто их настиг, двое на вороных переглянулись, сверкнув черными глазами и белыми зубами, словно желая сказать: всадники — ни то ни се, ни рыба ни мясо. А вот кони, серый и черный гунаны, — ничего себе, есть на что посмотреть.
— Эй… серый… у тебя рысак или иноходец? — спросил один из двоих, неотличимый от другого, как близнец.
— Мой конь летает по одному моему слову, — ответил Маман. — Скажу слово — взлетит.
— Не шути, мальчик! Вот ты живой, а вот и покойник.
— Я тебе не мальчик… Пока я живой, верну скот! Черные расхохотались.
— Значит, тебе жить прискучило. Ты за кого же нас считаешь?
— Вы были бы людьми… да вон у вас на щеках… уже просвечивают… клейма за разбой… которыми вас дьявол пометит в преисподней!
Черные оба судорожно схватились за щеки, покрытые масками. И свирепо оскалились на Мамана.
— Ты кто такой? Уши отрежем… А ну, поворачивай коней! Стой… Ты случаем не Маман?
— Он самый, — сказал Аманлык.
Черные опять переглянулись уже без ухмылок, но все еще хорохорясь.
— Говорят, ты можешь задавить своим словом… А двоих можешь? А ну-ка задави… — сказал один, подъехав вплотную.
— Маман-ага, — проговорил Аманлык с озорным и яростным придыханьем, — и я прошу: дайте им жару, покажите им!
Оба черных, словно связанные друг с другом, разом подняли своих вороных на дыбы, отскакивая прочь.
— Стой… обожди… Вам что, нужны коровы? Возьмите каждый по две головы, гоните домой. Мы не такие жадные, как ваши пастухи. Того чудака связали, потому что гонялся за нами, как баба, со слезами. Плакал, рыдал, души нам повыворачивал. Берите и на его долю две головы…
— У того чудака, — сказал Маман, — слеза огненная.
Черные презрительно скривили рты.
— Вот это слово! А мы и не приметили. Я его одной левой связал.
— На твоей левой, — сказал Маман, — кровь из расквашенного носа. А упала бы слеза, прожгла бы насквозь, потому что у хана слеза — вонючая моча, у пастуха — раскаленное железо. Из пастушьих слез — наше Аральское море!
Двое на вороных помолчали, уставясь на Мамана блестящими черными глазами, и вдруг резко повернули своих коней и, нахлестывая их нагайками, ускакали.
— Эй, эй, неужто проняло? — крикнул вдогонку Аманлык.
Но они летели, будто за ними гнались. Ушли на север, в горы.
Маман и Аманлык собрали в кучу коров, погнали их назад, к пастуху. Бедняк встретил их на полпути, прихрамывая, плача от радости:
— Милые вы мои… Чуяло мое сердце: поможет господь! Да как же вы справились? Гляжу и не верю…
Маман и Аманлык проводили чабана и его стадо до самого аула Есим-бия и отправились восвояси.
Ехали они в ту сторону, куда ускакали двое на вороных. Ехали туда, откуда текла Сырдарья, и солнце еще не долезло до зенита, как они увидели с гор бескрайние холмистые степи и неоглядные луга с цветами по грудь коню. Эти степи тянулись на север и восток, можно сказать, до конца света, до самых пределов еще более бескрайней земли, загадочной и устрашающей, как Индия, земли по имени Сибирь.
И вот въехали джигиты и утонули вместе с конями в бездымном кострище тюльпанов…
Что бы ты сделал, — спросил Маман, — если бы встретил здесь девушку — как эти цветы?
— Стремился бы сюда, как ты стремишься, — ответил весело Аманлык.
Маман огляделся с улыбкой.
— Есть в этих краях одна такая… Аманлык показал нагайкой вперед.
— В казахском ауле, в юрте Айгара-бия?
— Да.
— Как же тебя понять? Туркмены крадут невест у нас, а ты задумал — у казахов?
— Айгара-бий нам самый близкий, самый верный друг. Он как родной, — сказал Маман.
Аманлык язвительно прищурился.
— Какому же это роду он родной? Если — роду ябы, значит, он враг кунградцам!
Но Маман не был настроен говорить о том, что наболело. Ему хотелось говорить о другом.
— Послушай, посмотри и скажи: какой цветок — самый красивый?
— Вот этот…
— А чем? Не вижу.
— Ну… красный… вольный… редкий… Маман покачал головой.
— Самый красивый тот, который рука не поднимается сорвать. Вот девушка такая.
— Такая? Тогда она самая несчастная, — сказал Аманлык.
Они рассмеялись и пришпорили коней. Выскочили на скалистый гребешок горы, затем на луг, уже травленный скотом, но до того свежий, словно бы и нетоптаный. И тотчас увидели вдали, на холме, аул, а неподалеку девушку. Была она в пурпурном платье, на плече у нее висел мешок для кизяка.
В ту же минуту, не спуская с девушки глаз, но ни слова не говоря, Маман закрутился волчком на коне, точно мигом потеряв власть над своим серым гунаном. Тщетно Аманлык ждал, что Маман поздоровается с ней хотя бы. Девушка помедлила немного и пошла себе собирать кизяки. Аманлык понял, что это она.
— Как тебя зовут, сестричка? — спросил Аман-лык. — Мой друг интересуется.
— Ваш друг знает, что я — Акбидай, — сказала девушка.
Маман молчал по-прежнему. В ссоре они, что ли?
— Можно ли в вашем ауле напиться? — спросил
Аманлык.
У казахов не бывает дома, где нельзя напиться. Езжайте, вас напоят. Если хотите, зайдите в наш дом. Ваш друг его знает.
Нет, они не в ссоре, подумал Аманлык. И не решился попросить девушку проводить их, хотя она была проста и смела, как джигит, не решился, поняв, что Маман, строптивый Маман, самый смелый из джигитов, может быть застенчив, как девушка. Бывают такие трудные и смешные натуры: свалит кулаком быка, а девку не посмеет обнять, даже если она повиснет у него на шее. Неужели Маман из этих? И как же он отважился, если так, показать сюда нос?
Акбидай отошла, словно знала Маманову слабость и давала ему время отдышаться. Друзья поехали в аул. Маман то и дело оглядывался.
— Мы сюда ходили по милостыню, — сказал Аман-лык, — И в месяц поста рамазан с бродячими певцами — петь молитвы, чтобы не так тошно было казахам поститься.
— А мы с тобой? — проговорил Маман шутливо. — Хан Абулхаир топчет нас, а мы, бесстыжие, едем к ним пить кумыс. В чем тут причина?
— В том, что охота пить, — отвечал Аманлык. Аул селился на холме тесно, густо, словно один дом.
Жили здесь дружно. А Мамана встретили в самом деле как родного, будто его давно ждали и наконец дождались.
Айгара-бий, чернобородый, с широкими скулами и живыми глазами, краснолицый, как Оразан-батыр, в лисьем треухе, сам вышел из своей большой белой юрты и пошел навстречу гостям. Джигиты первые приветствовали бия, но не успели соскочить с копей. Он ответил им ласково и, взяв коней под уздцы, повел к юрте. Айгара-бий славился гостеприимством, про него ходили россказни, что он не пропускает мимо дома даже случайных прохожих, его на всех хватает. И, однако же, так принимают не каждого.
Аманлык оторопел. Глядя на дочерна загорелую, бычью шею бия, он покрылся весь потом от смущенья и стыда перед старшим и годами, и достатком. Куда легче было бы Аманлыку расстелиться и ползти перед бием. У этой юрты Аманлык, случалось, стоял на коленях с протянутой рукой и в ведро, и в дождь, и тогда, помнится, его не спешили встретить ни хозяин, ни слуга.
Маман между тем держался как ни в чем не бывало. Заметив смятение Аманлыка, подмигнул: не показывай виду…
Спешились, вошли в юрту. Аманлык поразился: все в юрте было красно, как на поле тюльпанов. Ярко пунцовели деревянные стойки остова и купола, коврики и стеганые одеяла, и лишь кошмы, покрывавшие купол, были белы как снег. Кожаные ремни, скреплявшие остов и купол, отливали свежей желтизной. Все веревки и тесемки — новые, чистые. Очаги здесь топили только кизяком, он горел бездымно…
Усадив гостей, Айгара-бий расспросил Мамана прежде всего об Оразан-батыре. Сказал, что если Абулхаир-хан уважает кого-либо, кроме русских, так это Оразан-батыра, единственно бесстрашного, неутомимого воина. Спросил о здоровье Мурат-шейха, но холодно и бегло, как бы давая понять, что не прощает шейху того, что было недавно у дуба… Называл Айгара-бий Мамана не иначе как Маман-бием.
И запомнилось Аманлыку, как Айгара-бий сказал:
— Година белых пяток была для нас общей, она всех объединила, а вот мирные семнадцать лет разъединили. Что же, нужно быть новому бедствию, чтобы люди побратались?
— Есть у нас одна общая нужда, — сказал Маман. — Знаю, знаю, о чем мечтаешь, Маман-бий.
— Это мечта Оразан-батыра.
Они говорили, конечно, о союзе с русскими. Аман-лык встряхнулся и, наверно от великого смущения, сам дивясь своей дерзости, вставил веселое словцо:
— Сейчас мы мечтаем о другом… что нам нужней всего.
— Другое сию минуту войдет, — ответил Айгара-бий, посмеиваясь.
Вошла Акбидай и принялась разливать в пиалы кумыс.
В юрте она казалась еще краше, чем на лугу. Теперь на ее черноволосой голове лихо-игриво и мило торчала шапочка с высоким острым верхом из пурпурного бархата, отороченная бобром. И словно бы сдули с нее степную пыль. Окуни красное яблочко в молоко — таково ее лицо. Глаза чуть раскосые, но огромные, как пиалушки. На щеках ямочки, в каждой ямочке сидит по лукавой улыбке, даже когда она супит тонкие брови. Походила ли она на тюльпан? Пожалуй. Но лучше сказать, что тюльпаны походили на этот живой цветок.
Айгара-бий как бы отошел в сторону, за хозяйку осталась Акбидай. Маман поначалу опять замкнулся, но Акбидай ухаживала за ним так осторожно, скромно и умно, что он в конце концов пришел в себя и заговорил с ней так же храбро, как с Айгара-бием… Маман рассказал, как и за что удостоился милости казахского хана — двух дурре, не забыв упомянуть, почему вряд ли уцелеют последние, единственные его тридцать два зуба. И очень развеселил и рассердил Акбидай и ее отца. Здесь Абулхаир-хана не любили. А впрочем, где, в каком ауле и в какой юрте его любили?
— Ханы рождаются не затем, чтобы их любили, — сказала Акбидай.
— А мы… простые смертные? — спросил вдруг Маман.
Умница Акбидай промолчала, нежно улыбаясь, отвечая ему без слов, а Аманлык уставился на Мамана с невольным удивленьем и тайной завистью.
Постепенно, незаметно юрта наполнилась джигитами, сверстниками гостей. Появились и девушки в островерхих шапочках, прилепились к Акбидай, и возник в юрте лужок тюльпанов. Расстелился дастар-хан с щедрым угощеньем.
Акбидай взяла в руки домбру и запела казахскую, протяжную, полную любовного томления и ожидания встречи песню… Акбидай была мастерицей петь. Потом пели хором девушки, потом вместе с джигитами. Казахи любят песню.
А под вечер подошли и старшие. Им так хотелось увидеть и послушать сына Оразан-батыра. Юноша этот, не успев отрастить бороды, знал и рассказывал такое, чего не изведали за долгий век белобородые. Не поверишь, а рта не захлопнешь! Чудеса! Например, он поведал про одного русского с золотой бородой и, видать, не кривил душой, говоря, что это не выдумка, истинная правда. Молодые не больно и понимали, что слышали, потому что он рассказывал не сказки, а скорей притчи, — они были не столь певучи, сколь жгучи; таковы речи не поэта, а скорей пророка.
Нужда, говорил он, нужда… Есть под нашим небом такая нужда, которую надобно почуять и уразуметь, а уразумев, ухватить, как жар-птицу, как это делал русский царь Петр под своим небом и тем возвеличил себя и свой народ. Вот какие речи говорил молодой каракалпак. Мудрость их была такова, что ее не проглотишь, а чтобы ее раскусить, надо иметь зубы.
За что, спрашивается, эту голову хотели побить камнями?..
Тепло было людям от речей Мамана. Тепло было и ему самому, как будто он намерзся, иззябся на чужбине и угрелся у жаркого родного очага. Ничего похожего не испытывал в своем ауле, в юрте Мурат-шейха. И никто в жизни не смотрел на него такими глазами, как Акбидай.
Сидели до рассвета. Не хотелось расставаться. И конечно, Маман и Аманлык остались бы еще в гостях, Айгара-бий их не отпускал. Но едва взошло солнце, прискакал на взмыленном коне гонец и, узнав, что Маман здесь, закричал от радости. Скорей домой! Скорей! Ищет Мамана Гаип-хан.
Маман прощался с Айгара-бием с таким чувством, как будто уходил из утра обратно в ночь, уходил назад в недобрый мир, без которого, однако, не мог бы и не хотел бы жить.
— У нас с вами одно солнце, одна земля, один ветер, — сказал Айгара-бий, обнимая Мамана. — Потому мы и выглядим на одно лицо и говорим на одном языке. В наших жилах родная кровь.
Акбидай сказала короче и проще:
— Приезжайте почаще.
По дороге домой, понукая коня, Маман сказал Аманлыку:
Теперь ты знаешь, отчего у человека может отниматься язык…
Аманлыка бросало то в жар, то в холод. Девушка, похожая на тюльпан, понравилась ему с первого взгляда. За минувшую же ночь он далеко ушел от этого первого взгляда… Душа его словно разломилась надвое, и половина ее отдалась Акбидай. Из песен он знал, что в одном-единственном деле самые верные друзья могут стать соперниками, а случается, что и врагами. Но Аманлыку и в голову не пришло даже пошутить на этот счет. И он не лгал, когда сказал другу — торжественно и церемонно:
— Бий-ага… я неученый… сырой человек, кормленный сырым молоком… но буду счастлив, если вы сорвете этот самый красивый цветок…
— Она тебе нравится?
— Больше всех на свете!
Маман засмеялся смущенно и радостно. В одном-единственном деле счастливые не замечают несчастных.
* * *
Дома Мамана ждало новое поручение. Оно касалось Орской крепости России на рубеже с Малым жузом.
Строительство ее завершалось. Абулхаир-хан помогал русским людской силой — землекопами, каменщиками. И того ради отложил возведение города на месте древнего Жанакента, в низовье Сырдарьи, как задумывал ранее. Послал своих мастеров и подмастерьев в Орск. А с ними повелел нарядить полсотни душ подручных — из каракалпаков.
Только что оттуда, с реки Орь, вернулся Убайдулла-султан, старший сын Гаип-хана, а также Хелует, старший сын Мурат-шейха. Они возили на работы каракалпаков. Требовалась смена, свежая партия. Вести ее к русским доверили Маману. Провожал его сам Гаип-хан.
— Ты, говорят, навострился балакать по-русски. Навострился с ними ладить. Не зря тебя казнили… Езжай, балакай, ладь. Однако держи уши торчком и упаси тебя аллах — прижать уши!
— Я русских не боюсь, хан мой, — сказал Маман.
— Не зря тебя казнили, — повторил Гаип-хан.
10
Орск стоял при впадении реки Орь в славную реку Яик. Дорога туда — долгая, как все дороги Азии: пол-тыщи верст на север через степи, голые пески и леса, пересыхающие озера и солончаки и еще двести пятьдесят две с половиной версты вдоль реки Орь, по древнему торному обжитому пути, который вел с Урала на Каспий. Версты, разумеется, с азиатским гаком…
Всю дорогу Маман думал о том, что этими же местами хаживал Бородин с караваном. Всю дорогу Маман улыбался — он шел в свою Индию, в Россию.
Жизнь в Орске была трудна, не больно сытна, совсем не весела. Работа досталась черным шапкам самая тяжелая, люди тосковали по дому. Маман не скучал. С жадностью он внимал всему новому, всему русскому, удивляя и своих, и чужих. Но он уже привык удивлять и пропускал мимо ушей и насмешки, и попреки. А со временем и тут возникла к нему зависть.
Завидно легко он сблизился с одним русским по имени — Митрий-туре, что значит — господин Дмитрий. Был Митрий-туре правой рукой царского наместника, русского хана, который обретался в оренбургских небесах.
Увидев Митрия-туре впервые, вдали, на крыльце штабной канцелярии, Маман вскрикнул радостно. Похож на купца, который не хотел платить баж, как брат родной! И толмач при нем оказался тот же самый, что был с купцом. А все-таки этот, пожалуй, поважней птица, потому что — проще… У нас ведь как: чем сановнее бий, тем спесивей. У русских — наоборот: малый начальник заносчив, как бий, а большой — самый прозой, как будто тебе ровня.
Йитрий-туре сам заговорил с Маманом, как только тот попался ему на глаза на крепостном плацу:
Так это ты прибрал к рукам первого русского императора? Сарь Пётыр твой сарь?
Маман растерянно улыбался, не зная, как спросить: он это или не он?
Нет, нет, — сказал Митрий-туре, — то был прапорщик Муравин, геодезист. А я Гладышев.
— Кто такой гед…зис?
— Человек, который измеряет землю.
— Пушкой?
— Чем, чем? — спросил Гладышев, откровенно озадаченный, потом догадплся, что за пушка, и рассмеялся. — Нет, пушкой мы, военные. Например, я.
Маман с сомненьем покачал головой. Гладышев присмотрелся к нему, словно разгадывая, что значит его сомненье, и добавил:
— По сути у нас общие дела. За нами обоими, коли об том разговор, числится одна заслуга… Мы вместе, я и Муравин, дважды ходили в Хиву и открыли древний город Жанакент. Вернее сказать — руины. Маман удивился.
— Это всем известно. Что значит — открыли?
— Открыли — значит доказательно поведали об этом миру. Вот и стало всем известно. Казахи, например, считают, что жители из сего города были изгнаны некогда змеями…
(Несколько лет спусти открытие Гладышева и Муравина и другие подобные дела увековечит в своей книге первый русский член-корреспондент императорской Академии наук Петр Иванович Рычков, позднее прозванный оренбургским Ломоносовым; в молодости он служил в Оренбургской экспедиции под начальством Ивана Кириллова и Василия Татищева, питомцев Петра. Рычкова читал и цитировал Пушкин…)
— Я знал, что вы не такой военный, — сказал Маман. — Вы из тех, который хитрей.
— Час от часу не легче. Откуда ты взял?
— Сказали…
— Неужели Муравин? Не может быть.
— Сказал верный человек, Бородин-ага. Гладышев поднял брови.
— Вот как? Бородин-а г а? Этим все сказано. Из пленных, конечно? Это уж не тот ли купчина, который в одиночку собрался в Индию? Видеть — не имел чести, слыхал в Оренбурге… Шалая голова! Длинный язык! Человек без узды…
Толмач замялся было, и Гладышев строго заметил ему:
— Переводи все как есть.
— Нет, не ша-лай… Он дети сарь Пётыр, — сказал Маман по-русски.
Гладышев с улыбкой коснулся своих густых коротких усов.
— Браво, сударь мой… браво! Теперь мне нет нужды спрашивать, кто отпустил пленных. И что же тебе за это было? Я вижу, ты в чести…
— Хотели побить камнями.
— Полный резон! Так я и полагал. Дикость библейская.
Маман опять покачал головой, не соглашаясь:
— Такой закон. У вас тоже так.
— Боже упаси! Азиатчина…
— А Бородин-ага говорил: один старый солдат ударил жузбасы… Его побили. Неправда? Гладышев тяжело вздохнул.
— М-да… Жузбасы… Сотник, что ли? У нас, видишь ли, не камнями, палками… Правда, сударь мой, правда.
И Митрий-туре крепко обнял Мамана за плечи, как обнимал, бывало, Бородин. Ушел словно бы рассерженный.
Во вторую встречу Гладышев на глазах у всех подал Маману руку, в третью — позвал с собой пить чай. И принялся Маман спрашивать, он это любил. Почему Гладышев отвечал? Его друзья усматривали тут умысел, достаточно прозрачный, и не могли поверить, что беседовать с этим оригиналом, инородцем, будто бы интересно. Впрочем, поручик Гладышев и сам был порядочным оригиналом, как прапорщик Муравин. Так уже везло Маману, сыну Оразап-батыра, на русских, настоящих русских…
— Абулхаира вы любите, нас пет. Почему? — спрашивал Маман.
— Пытаешь меня как лазутчик Абулхаира… — отвечал Гладышев.
Но Маману не хотелось шутить.
— Прощаете вы ему разбой над нами! Четырежды грабил, последний раз — нонешним летом…
— Четырежды? Не больше?
— Вы тоже ведете счет?
— Не все так просто, сударь, не все так просто. Бьют вас — именем хана Абулхаира, а сам хан — зубами скрипит да облизывается.
— Как так? Гладышев отставил пиалу.
— Кто такой Карасакал — знаешь?
— Нет.
— А зря. Вам это надо знать. Бежал из башкирских земель, скрывается п Среднем жузе. И у хана Абулхаира и у русских властей с ним счеты. Но там, в диких степях, его не словишь, как в море пирата. А вы для него — легкая добыча. Он вас грабит, он!
Маман задумался. Гладышев продолжал:
— А кто такой Султанмурат — вам известно?
— Неизвестно.
— Ошибаешься. Твоему отцу это имя очи застило. Тоже из башкир и тоже укрылся от уфимских властей в Среднем жузе. Ныне он хан Верхних Каракалпаков.
Твой отец надрывается, тянет их в русскую сторону. А Султанмурат — в сторону джунгарскую. Я самолично кропал донесение в Коллегию иностранных дел, что Султанмурат отдал своего сына в аманаты Голден-Це-рену в знак рабской покорности. Подписал мою бумагу Иван Иванович Неплюев! Все понял?
— Все понял, — ответил Маман.
— Между тем Голден-Церен не унимается — шлет послов и в Малый жуз, к Абулхаиру, требует аманатов. Пришлет и к вам, черным шапкам…
— Мы их убьем, — сказал Маман. Го-су-дарственное решение! — проговорил Гла-
дышев со смехом, не задумываясь и не догадываясь, к чему поведут эти два его слова.
А Маман спросил с невольным сомненьем:
— Вы знаете моего отца?
— Сударь мой, кто ты такой, чтобы задавать этакие вопросы относительно Оразан-батыра! Он русофил известный…
Тогда скажите, Митрий-туре, — проговорил Маман горячо, — почему вы такие сильные, сильней татар, сильней джунгар, если вы всё так знаете… почему вы… за нас не заступитесь, как обещала царица? Еще та царица, у которой был нерусский визирь Бирон… Грамота, говорят, у Гаип-хана в сундуке. Какая в ней сила?
— Ого! А ты язва… Да, Бирона, каналью-курляндца, мы не забыли, не скоро забудем… Не все так просто, сударь, не все так просто. Хочешь ли знать, куда ездил Муравин со своей пушкой из ставки Абулхаира?
— Я знаю!
В таком разе ты знаешь больше, чем я.
— А что, а что я знаю?
Гладышев набил трубку табаком и закурил с видимым удовольствием.
— Не далее как полгода назад Надир-шах персидский пошел войной на наши земли… слыхал?
— Нет.
— Потому и не слыхал! Благодари хана Абулхаира… Надир-шах дошел до Хивы. Нацелился на устье Сырдарьи и Аральское море, как раз на вашего брата. Замахнулся, а не ударил. С чего бы это?
— Испугался.
— Спрашивается, кого?.. Муравина! И его пушки…
— Смеетесь надо мной?
— Нимало. Иван Иванович Неплюев о ту пору оказался в Орске. Хан Абулхаир прислал гонца — в панике, со слезной просьбой. Я лежал без памяти в лихорадке. Под рукой никого не было. Иван Иванович и послал Муравина в Хиву не долго думая. А с ним увязались ваши послы, от казахов… — (Гладышев сказал, конечно, от киргиз-кайсаков, как в то время в России называли казахов.) — И даже от аральцев. Кстати сказать, был и ваш человек, от черных шапок…
— Разве мы посылали?
— Не посйлали, а посол был. Не кто иной, как Ора-зан-батыр… Надир-шах принял Муравина, и тот засвидетельствовал господину шаху именем государыни императрицы, что вы — подданные России. Вот и вся недолга. И не двинулся Надир-шах дальше Хивы. У вас война не состоялась. Думаешь, войско персидское слабей джунгарского?
Маман этого не думал. Он был ошеломлен. Болтливый купец, — он же — гед-зис, вооруженный игрушечной пушкой, одним своим словом остановил войну? Это тоже походило на сказку куда более значительную, чем сказка жизни Бородина… Сколько в жизни таких необыкновенных людей, сказочных дел! Маман уже знал, что такое купец, знал, что купцу по силам то, что не по силам солдату. Но есть, оказывается, такие воины, офицеры, которые — не крикуны, а позанозистей да поза-ковыристей… Им по силам то, что не по силам купцу. Что это за люди? Как они называются?
— Он шибко ученый человек? — спросил Маман.
— И он, и я, и Неплюев — мы все… дети сарь Пе-тыр, — ответил Гладышев. — Иван Иванович, например, удостоился личной похвалы царя Петра на экзамене в Морской академии.
— Значит, вы лучше всех знаете, какая в мире есть нужда… вы!
— Нужда! Политика, что ли?
— Не знаю…
Гладышев ответил странно, вроде бы обиженно:
— Нашему бы теляти да волка съесть. Русский человек, сударь ты мой, задним умом крепок. Царь Петр, правда, учил поспевать… за нуждой, которая есть в мире, как ты изволишь говорить. Да много ли он прожил? Полвека и три года. — Потом Гладышев добавил:- Анна Иоанновна вкупе с Бироном всего за десять лет поспела пустить по ветру немало петровского злата да серебра… Чую, чую, что ты хочешь сказать: сейчас на престоле родная дочь Петра. Маман перебил его:
— Никого так не хочу видеть, как дочку царя Петра! Которая прогнала нерусского визиря…
И до того был увлечен своей мечтой, что не услышал, как поручик Гладышев заметил, словно самому себе:
— А ведь Анна Иоанновна тоже была племянницей Петра Алексеевича.
Жаль, что не услышал. Жаль, что не задумался над этими не случайными словами.
Задумавшись, быть может, понял бы Маман, почему Гладышев с ним откровенен. Такая откровенность была возможна, пожалуй, не со всяким русским. Поняв это, быть может, понял бы Маман и то, как трудно доставалось таким людям, как Митрий-туре, людям Петра, при Анне Иоанновне и ее зловещем Бироне. И помилуй бог, как еще будет трудно им в дальнейшем при Елизавете, ибо именно это тайное опасение было на уме дворянского сына Дмитрия Гладышева.
Маман сидел закрыв глаза… Виделось ему, как он входит в дом, сложенный сплошь из камня, идет по сплошь каменной лестнице, открывает железные двери и на золотом троне видит царицу Елизавету, ростом с ее отца, царя Петра, в необыкновенном платье, похожем на военные доспехи.
Гладышев улыбался, снисходительно и изумленно.
— Мне никого видывать не доводилось… выше тайного советника… — сказал он.
— А я его увижу? — спросил Маман.
— Увидишь. Неплюев редкой души человек. Учился в заморских странах — в Венеции, в Испании. Это все равно что вашему брату совершить хождение в Мекку. Пишет книгу!
— Значит, он не такой хан… — сказал Маман.
— Не такой, — согласился Гладышев, смеясь.
В третью встречу Маман застал Митрия-туре в кровати. Лицо сухое, воспаленное от жара. Приступ лихорадки. И дерзнул Маман напоить болящего отваром горьких трав, как учил Бородин. А в четвертую встречу Митрий-туре подарил Маману камзол, сказав, что это ему награда за усердие в служении делу российскому.
Камзол был из рытого, то бишь рубчатого бархата, зеленый, с аленькими кантами по швам, без рукавов, но долгополый, с ясными пуговицами. Пуговицы с двуглавыми орлами! Вещь щегольская, хотя и малость потерта на спине и слегка тесновата. На груди так и высвечивала цепь с бляшками, а того лучше — аксельбанты…
Аманлык обомлел, увидев Мамана в камзоле. Тщетно денщик Гладышева подшучивал над сыном батыра:
— Камзолы зеленые, а щи несоленые! Ясные пуговицы от этого не тускнели.
Из того, что случилось в Орске, осталось в памяти еще вот что: Маман отличил одного парня из присланных Рыскул-бием. Звали его Ельмуратом. Он был сиротой, оборван, космат, глаза впали, веки опухли, но работал за двоих, ревностней всех. И все время держался поблизости от Мамана, иной раз оттесняя Аманлыка. Ельмурат был вечно голоден. В дни, когда Маман встречался с Митрием-туре и пил с ним чай, отдавал Маман Ельмурату свой хлеб. А потом подарил ему поясной платок за то же, за что получил камзол. Напоследок, накануне возвращения домой, Ельмурат повалился перед Маманом на колени, обнял его ноги, глядя снизу вверх глазами побитой собаки, долго не хотел отпускать. Аманлык чуть ли не палкой его прогнал.
— Что с ним такое? — спросил Маман.
— Он должен тебя убить. Чтобы вернулись одни кости…
— Почему должен?
— Потому что ты Маман. Видишь, не может…
— А почему не может?
— Потому что ты Маман! Я ожидал: признается тебе сам. Мне все сказал, тебе не скажет…
— Почему не скажет?
— Потому что ты Маман…
* * *
А спустя должное время, ранней весной, поехали в Орск головы всех четырех пластов, как называли себя — главнейшие роды Нижних Каракалпаков. Поехали по зову оренбургского наместника в гости, по случаю завершения долгого труда — возведения крепости. Поехали премного довольные, ибо приятней явиться зваными гостями, чем просителями, а просьбы назрели давно.
Гаип-хан с места не тронулся, сказался больным; может, и впрямь застудил на охоте грудь. Они оба видеть не могли друг друга, Гаип и Абулхаир, и не встречались годами. Заместо себя послал Гаип-хан Пулат-есаула, видного молодца с усами, закрученными до ушей; руки у есаула толщиной в бедро, на каждом плече свободно усидит человек, а мозгов в голове столько же, сколько у хана. Бии, однако, были довольны, что Старшим над ними поставлен человек не из рода ябы.
По дороге встретили своих, работавших в Орске. Люди были изнурены и невеселы, хотя возвращались домой. Но никто из биев не поинтересовался, все ли пятьдесят человек живы, все ли здоровы и достаточно ли у людей еды на обратную дорогу. Заботили биев более существенные, государственные дела.
Орск открылся издалека и приметно — маковкой церковной колокольни. Церковь каменная (во имя преображения господня) стояла на каменном кургане на-р о ч и т о и вышины и необыкновенной окраски; курган был словно покрыт ризой из пурпурной парчи, — там светились яшмовые камни, из которых состоял курган, или Преображенская гора.
Церковь на парчовой каменной подставе была редкостно хороша собой и Орску поистине немалое украшение причиняла… Но, пожалуй, не менее поражало в крепости то, как быстро и дружно она была обжита яюдством: внутри и вне ее выросло дворов до трехсот! Нелишне сказать также, что была она снабжена достаточною артиллерией — наибольшей после Оренбурга-и имела гарнизон из двух рот драгунских и полуроты пехотной да еще из пятидесяти казаков, в числе коих служили и иноверцы.
За версту от крепостного вала встретил гостей Маман. Он был по-прежнему сухощав, костист, но стал осанистее, заметно поматерел. Шляпу из черного каракуля заломил не по-нашему, по-казацки, но главное другое — из-под распахнутого овчинного полушубка зеленел камзол!
Как ни отворачивай нос, глаз не отведешь. Бии тыкали пальцами в ясные пуговицы. Кафтан, понятно, не тарханство, которое, случалось, даровали биям русские власти, но дороже шубы, поскольку он с офицерского плеча. Пуговицу с орлом любой аксакал охотно пришил бы к своему чапану, носил бы ее, как русские чины носят Анну на шее.
Затем бии увидели на крутом земляном валу настоящие пушки, толстые, короткие, черные стволы и чугунные ядра, к которым боязно было подступиться. Увидели русских пушкарей с ружьями; на ружьях — железные копья… Маман держался скромно, сдержанно, но твердо, как знаток и доверенный человек, которому здесь все дозволено. Он поднял ядро и примерил его к жерлу пушки. Бии устояли, но слуги кинулись врассыпную, ожидая, что пушка сейчас выстрелит. Пушкари так и покатились со смеху.
Из этих пушек, изо всех сразу, говорят, палили пять лет назад в честь закладки девяти бастионов Орской крепости. Называется такая пальба салют или — по старому уставу — поздравление пушками… А сейчас, интересно, будет салют?
Прежде чем бии развернули свои юрты, увидели они на высоком месте, поросшем молодой травкой, белокрылую роскошную юрту Абулхаир-хана и юрты его есаулов и слуг. Хан был здесь третий день. Встречали его с большой пышностью. Каракалпаков никто из русских начальников так не встречал… Да что равнять! У Абулхаира нынче свой праздник. Счастливый он правитель. Давно ли Надир-хан персидский грозил ему войной? Обещался казнить, как казнил хивинского хана Ильбарса. И вдруг ушел восвояси, увел свое войско…
Ильбарс-хана, убиенного, черные шапки не жалели, — он сам был душегубом, убил Шердали-бия, главу мангытского племени каракалпаков, которое жило в Хорезме. Не пролил слезы по Ильбарс-хану и Абулха-ир, а тотчас поставил своего старшего сына Нуралы ханом в Хиве, ибо они были Чингизидами, — кому же ханствовать в Хорезме, если не Чингизидам!
Через год Нуралы убежит из Хивы в страхе перед придворными узбеками рода инах, заполонившими ханский двор, — в рукаве у каждого он видел дамасский кинжал или склянку с ядом гюрзы. Но сегодня под рукой Абулхаира были уже три ханства, и он переступил порог своей мечты — запустить руку во владения Среднего жуза. Сегодня он был велик.
Едва черные шапки расседлали коней, как разразился скандал.
Назначен был званый обед. Узнав об этом, Абулхаир заявил наотрез, что с каракалпаками за один стол не сядет, и немедленно собрался в отъезд. Около его белой юрты возникла возня, как будто крыша на ней загорелась.
Гладышев позвал Мамана, уединился с ним в канцелярии.
Труба дело, сударь. Велел донести тайному советнику, что к нему не ходок и обеда не желает, а черные шапки, мол, как хотят. У Ивана Ивановича расположение — более к нему, чем к вам… Ступайте-ка вы к хану, поклонитесь. Ты не показывайся. Тебе он не прощает, что ты в моем камзоле.
Подавленные, оглушенные бии пили чай с подогретым на очаге хлебом. Чай и хлеб готовил и подавал сам Маман. Аманлык помогал исподтишка, стараясь не лезть биям на глаза. Все молчали, думая о ханских дурре… В доме у русских, на их глазах, дурре не пережить.
— Ты что молчишь? — спросил неожиданно Рыскул-бий Мамана. — Кому идти?
— Старшим, самым старшим, — ответил Маман. Отправились к хану втроем — Мурат-шейх, Рыскул-бий и Пулат-есаул.
Но их не допустили до Абулхаир-хана. Позволено было войти лишь есаулу Гаип-хана. Шейх и Рыскул-бий остались за дверью.
Абулхаир-хан не кричал. Он привык, что от его тихого голоса сотрясаются стены, а люди валятся ничком — лобызать его сапоги. Волоча на одном плече свою драгоценную шубу с золотым узором на вороте, стоя спиной к двери, сказал:
— Говори. Короче. — И продолжал, не слушая: — Там, где я сижу, не место вам и стоять. Неприлично, когда на пороге достойного дома показываются никому не известные морды.
— Никому не известные?
— А кто вы такие? Кто вас знает?
— Кто нас не знает, хан наш…
— Мне не пристало помнить все басни о том, кто вы есть.
Ревность и ненависть Гаип-хана, подобные горящей смоле, придали сил Пулат-есаулу.
Что за неудобство, право, хан наш, объяснять, кто такие черные шапки? — сказал есаул и осклабился, думая, что отчасти говорит любезность.
Ты… волкодав из всем известной своры… не скалься! Кто черные шапки, объясняю просто: ветка, подсохшая на древе казахского народа.
— Хан наш, мы народ малый, но стойкий…
— На-род, — передразнил хан, хохоча. — К несметному табуну кровных коней приблудилась горстка безродных ягнят… Что же, после этого мне, табунщику, рожденному из бессмертного семени Чингиза, велите считать себя чабаном, овчаром?
Тут Мурат-шейх, стоявший за дверью, не выдержал, завопил:
— Мы, каракалпаки, всегда были и будем! Абулхаир-хан не разобрал, чей и откуда этот голос.
Обернулся и пошел на Пулат-есаула, тыча в его сторону нагайкой:
— Отсохни твой язык, сукин сын, убирайся. Пулат-есаул мгновенно исчез, словно провалился. Хан переступил за ним порог, увидел Мурат-шейха и буркнул сквозь зубы полнейшую нелепость:
— А шейху… не надо бы подслушивать…
— Я уже потерял тридцать два зуба, великий хан наш, — сказал Мурат-шейх дерзко.
Абулхаир ответил насмешливым жестом, который можно было понять так: бороду побереги! И удалился.
Мурат-шейх едва держался на ногах от гнева. Пулат-есаул, подхватив его за пояс, повел прочь. Рыскул-бия уже след простыл…
Долго не могли прийти в себя бии. Кажется, никогда так не ожесточались.
— Знали мы, как обзывает нас за глаза. Слышим ноне своими ушами. Это ли не свинство?
Тошнится кабан, проглотив хивинский трон… Как лить пот и кровь, мы — равные, а как за дастар-хан — рабы?
Маман слушал и дивился: что же это, привычное излюбленное суесловие? Или поумнели наконец бии от лютой обиды, от незримых ханских дурре?
Как бы между прочим, словно размышляя про себя, Маман сказал:
— Пора отделяться… пора становиться самими собой… С этим идти к русскому хану, к русской царице.
И поразился тому, как хорошо его услышали все, как быстро с ним сошлись. Никто ему не возразил. О аллах вседержащий, что за чудеса? Маман собирался открыть биям, что узнал от Митрия-туре, поведать им истинно сущее, великое. Этого не понадобилось. Это никого не интересовало. Отчего же вдруг такая решимость и такое согласие? Уж не заколдованный ли на тебе, Маман, этот зеленый камзол?..
Все-таки бии отдали дань сомненью и поиграли в туманные словечки, как в кости:
— Обидевшись на вшей на воротнике, не бросим ли мы в огонь свою шубу?
Маман в ярости шепнул Аманлыку, что проломит башку первому же, кто сыграет отбой. Обошлось, однако. Под конец Маман услышал то, что предсказывал. Добрейший Давлетбай-бий сказал вполголоса:
— Спасибо Маману за пленных… Скажем: освободили. Пусть уж молодой бий помалкивает.
Маман опустил глаза, как невеста перед сватами.,
— Посмотрим… по ходу дела… — сказал Мурат-шейх.
* * *
Большая штабная изба была с легким резным парадным крыльцом, но срублена из неохватных кряжей и при случае могла выдержать военную осаду. В просторной горнице с оконцами-бойницами и с громадным неподъемным столом, за которым уместилась бы целая рота, было темновато, как в юрте, но торжественно. Здесь Иван Иванович Неплюев принимал старшин каракалпаков. Тайный советник и кавалер в партикулярном платье, обиходном сюртуке без всяких чиновных знаков и наград, но безупречно сшитом и свежем, как с иголочки, без колец и перстней на руках, лишь с флорентийской булавкой в галстуке шарфом, сидел в свободной позе на простом табурете впереди стола, слегка облокотясь о стол.
Каракалпаки сидели словно проглотив аршин на широкой скамье, которая тянулась вдоль окон: шейх, есаул и Маман.
Поручик Гладышев и толмач стояли справа и слева от тайного советника.
Поначалу вроде бы ожидалось, что будут позваны все главные бии, потом перерешилось. Маман подсказал этот выбор Митрию-туре, дабы не мешали делу безделицей… Мурат-шейх сразу взял быка за рога и был красноречив.
— Ваши высокие светлости… господа люди царя! — проговорил он стоя, с низким поклоном.
— Царицы… Елизаветы Петровны… — поправил Неплюев негромким, нестрогим голосом, словно бы по-домашнему. И обратился к Гладышеву:- Дмитрий Алексеевич, пожалуйста, пригласите старца сесть.
Митрий-туре подошел и с почтением усадил Мурат-шейха на скамью. Тот сперва не понял, чего от него хотят, напугался, затем прослезился:
— Не привыкли мы, ваши высокие светлости… Нас если усаживают, так на раскаленные угли. Лишились всего мяса, одни кости остались. Лишились всей чести, на лице одни глаза, свидетели пред всевышним… Еще при бывшей царице, в бытность мурзы Тевкелева у нас, клятвенно обещался Абулхаир-хан усмириться. А ведь по сей день бесчинствует: послов и купцов наших к вам не допускает. Служить вашему императорскому величию не допускает.
— Читал, читал, — сказал Неплюев, закладывая ногу на ногу. — В последнем вашем послании на имя мое читал… жалобу о сем недопущении со стороны киргиз-кайсаков. И просьбу — оных дураков унять. Вы помните эту знатную формулу, Дмитрий Алексеевич?
— Непременно, Иван Иванович. Мурат-шейх поклонился, благодаря.
— От века мы с вами, тянемся к вам. Где бы ни были, куда бы ни закинула судьба, ищем Россию. Еще при жизни великого царя Петра… были у него послы от Ишим Мухаммед-хана каракалпакского. Если память не изменяет — Оразан-батыр, отец вот этого юноши…
— Нет, — вновь поправил Неплюев, — у Петра был Джаныбек-батыр. А к вам тогда же ездил Дмитрий Тимофеевич Вершинин, уфимский дворянин. Два месяца у вас гостил, привез домой русских пленных.
— Да, да, — пробормотал Мурат-шейх, косясь на Мамана.
— Что хотелось бы знать? — продолжал Неплюев. — В том же вашем послании слово в слово написано следующее… что будто бы каракалпаки назад тому двести шестьдесят лет от Российской империи отстали и пото-му-де называют себя природными подданным и. Двести шестьдесят лет! Следственно — в пятнадцатом веке? Тогда еще империи Российской не было, но это к слову, грех русского писаря… Примерно — 1480 год? Год крушения татарского ига. Значит, вы были подданными Ивана Третьего, деда Ивана Грозного? Что за оказия? Объясните.
Мурат-шейх с достоинством огладил бороду. Сказал спокойно:
— Написано — двести шестьдесят?
— Именно-с…
— Стало быть, так и есть… Ваша высокая светлость! Моя память слаба, помрет с моим тленным телом. Память народная нетленна. И не нам, грешным, с ней спорить…
— Н-недурно, — проговорил Неплюев с улыбкой и шлепнул себя ладонью по колену. — Ах, какое motto для моей книги! В самую точку.
(Motto по-итальянски — крылатое слово.
Книга Ивана Неплюева выйдет в свет не скоро, но будет прочитана всей просвещенной Россией и воспринята как памятник Петровской эпохе…)
Мурат-шейх приложил руки к груди:
— Если вам нравится, мне и сказать больше нечего. Вы всё знаете лучше меня.
— Увы, не всё, отнюдь не всё, — возразил Неплюев. — Хотел бы знать для вящего знакомства, какие угодные нам дела у вас на счету, есть ли такие?
Бледное лицо Мурат-шейха покрылось красными пятнами.
— Есть одно стоящее упоминания, — проговорил он глухо. — И мы… по примеру Ишим Мухаммед-хана… выпустили на волю русских пленных… кроме двух, которые вернулись… просят их проводить… С тем мы сюда и прибыли.
Тут Маман быстро посмотрел в сторону Неплюева и Гладышева и уловил, как они, не глядя друг на друга, переглянулись и, не моргнув глазом, перемигнулись.
Почувствовал это и Мурат-шейх. Тяжело было ему да и опасно говорить русским неправду или полуправду. Однако богу угодна его нынешняя ложь. И поздно он спохватился.
— Спасибо, спасибо, уважаемый, — сказал Неплюев добродушно, с той простотой, которая покорила Мама-на. — Что ж, так и запишем, если вам сие угодно… Не скрою, что поручик Гладышев, или, по-вашему, Мит-рий-туре, мне уши прожужжал речами на восточный манер, что вы народ, у которого сквозь ребра видно сердце. И это правда, что наши предки разломили хлеб в знак верности. Однако к делу, господа мои.
Маман весь напрягся с ног до головы. Голос тайного советника был по-прежнему непринужденно, ненаигранно мягок, но в нем слышались новые нотки, властные и словно бы горько-насмешливые.
— Ежели и впрямь мы всё знаем, — продолжал Неплюев, — видимо, знаем и то, с чем вы пожаловали. Нет такого народа, который не хотел бы того, чего вы хотите… Как видите, наш общий милейший друг хан Абул-хаир все же не уехал. Говорят, пьет огненный чай, чтобы остудиться. И он не противится нашим переговорам, но, конечно, себе на уме. Нет такого хана, который не хотел бы того, чего он хочет… Мы приветствуем ваше благое желание возобновить присягу новой императрице российской, примем вас, как Абулхаира, но — после него! И по крайности мы хотели бы, чтобы вы с киргиз-кайсака-ми в согласии пребывали… и почитали бы хана Абулхаира… Советую. Вот мой совет.
Маман встал, неотрывно, страстно глядя на Неплюева.
— Ваше превосходительство, — сказал Гладышев, — не откажите… Выслушайте.
— Извольте. Я слушаю, — сказал тайный советник. Маман низко поклонился и сказал по-русски:
— Гаспа-дын Иван-Иван… вы родной кровь сарь Петыр… на ваш че-ло рука сарь Петыр… Это мы хорошо знай! Вы… не можешь такой совет… Я не веришь! Не хотим Абулхаир. Хотим брать за подол сариц Елизавета.
Неплюев и Гладышев медленно переглянулись. Долго, молча, значительно смотрели друг другу в глаза. Ни один мускул не дрогнул ни на лице тайного советника, ни на лице поручика. Немой обстоятельный разговор.
Неплюев встал и прошелся короткими неспешными шагами по горнице, вдоль стола, показывая осанку старого военного и безупречные, свободно-уверенные манеры дипломата. Он был моложав, хотя и шло дело к пятидесяти. Двенадцать лет кряду он служил посланником в Константинополе. Но самым ярким, незабываемым в его жизни была служба при Петре — главным морским командиром в Петербурге, всего один год…
Этот юноша, о котором так сладко пели и Гладышев и Муравин (и, по их словам, еще некто Бородин, шалый купчик), в этом зеленом камзоле, который пошел бы и кучеру и лакею, был очарователен. И он угадал: совет черным шапкам был продиктован прямиком из Петербурга, Коллегией иностранных дел.
Неплюев подошел к Маману и коснулся пальцем с чистым розовым ногтем пуговицы на камзоле.
— Вот эти двуглавые орлы появились как раз при Иване Третьем… — проговорил он задумчиво и тут же, без всякой паузы:- Хорошо! Не возражаю и не запрещаю… Езжайте сами в Петербург. Просите сами. Разрешаю. Готовьте присяжные листы, петицию на имя государыни и послов. Чтобы все было чин чином, поедет к вам поручик Гладышев, лично примет клятвы старшин. Дмитрий Алексеевич?..
— Слушаюсь, Иван Иванович. Охотно! Мурат-шейх торжественно, церемонно подошел
к столу и коснулся лбом его угла. Пулат-есаул и Маман сделали то же самое вслед за шейхом.
Неплюев быстро вышел из горницы.
А Гладышев кинулся обнимать Мамана.
— Сударь мой, сударь… Поздравляю! Я не сумел, ты сумел…
Толмач Мансур Дельный тоже подошел к Маману, цокая языком.
— Послушай, иди к нам служить, разбогатеешь.
11
Разъезжались одновременно — и казахи и черные шапки. Впереди катились цугом пароконные коляски Абулхаир-хана и Гладышева, следом валила валом свита хана, позади, по два в ряд, рысили каракалпакские старейшины. Дорога была одна — в Малый жуз.
Вскоре после того как крепость скрылась из глаз, подъехал к каракалпакам посыльный хана, затоптался поперек дороги.
— Кто тут Маман-бий? Великий хан наш велел… перед его светлые очи… да поскорей!
Сердце у Мурат-шейха упало. Неужто дознался Абулхаир, что было у тайного советника? Какими путями?
— Будь осторожен, — шепнул шейх Маману. — Ханские силки как паутина, зазеваешься — заплетет, как муху.
Маман и Аманлык догнали ханскую коляску.
— А… это ты, прославленный моими дурре… — сказал хан. — Отдай коня своему аткосшы, садись ко мне в коляску.
— Я благодарен судьбе, что удостоился вашего внимания, хан наш, — сказал Маман, вставая на подножку коляски и отдавая повод Аманлыку.
Хан взглядом указал ему на сиденье напротив. Помял усы, которые густели к углам рта, и коротко, нервно хохотнул, разглядывая Мамана.
— Я слыхал, ты краснобай. Говорить с языкастыми людьми — диковина и для хана. Приглашаю тебя беседой укоротить дорогу. Слушай-ка… Ты, говорят, сказал неким людям, что ханская слеза — моча, а из пастушьих слез — Аральское море. У кого ты набрался такой премудрости?
— Хан наш, эти слова сказаны двум головорезам на черных конях. Как могли два презренных вора дотянуться до ханских ушей?
Аманлык, ехавший сбоку, хмыкнул испуганно и поспешил удалиться от коляски.
— Не хватайся за мою бороду, проклятье твоему роду… — проговорил хан сквозь зубы.
— Простите, хан наш. Я не сообразил, что те двое на конях, может, вовсе не обиралы, а ваши любимые есаулы. Тогда им следовало понять, что хан, проливающий слезы, не хан, — вот смысл мной сказанного, ими слышанного. Что касается мудрости… я камешек, а мой народ гора. Если желаете, спрашивайте, отвечу, как умею.
— Послушаем, послушаем, — сказал хан вроде бы умиротворенно, развалясь на кожаном сиденье, будто и в самом деле собирался поболтать в дороге. — Говори… что является вместилищем слов?
Маман задумался, давая хану понять, как труден его вопрос. А хан усмехнулся, показывая, что этим доволен.
— Вместилище слов — человеческие уши, — сказал Маман. И вдруг добавил:- Но если бы уши могли услышать все, что они хотят, — лопнули бы, как баранья кишка, набитая колючками.
Это выговорилось само собой и было слишком прямо. Маман пожалел, что не удержался. Хан прикусил кончик уса, однако не выдал себя. Спросил мнимо лениво:
— Кто хозяин дороги, бий?
Тогда Маман понял, что Абулхаир-хану ничего не известно, решительно ничего, помимо того, что Глады-шев едет в Малый жуз. Нет, Митрий-туре не подарил хану ни единого слова из тех, что дарил Маману. Не дошло до ушей хана и слово тайного советника. Что же, и поделом! Это ему урок за то, что не сел с черными шапками за один стол.
— Хозяин дороги — подкованное копыто, хан наш, — ответил Маман. — Оно убивает землю до смерти, а без дороги на земле жизни нет… — Подумал самую малость и кинулся очертя голову, словно с обрыва в воду:- Вы, хан наш, великое копыто… на великой дороге… Не знаю, что и мелю своим рабским языком.
Хан прищурился, словно говоря: знаешь, хитрец, знаешь.
Коляска сильно качнулась на ухабе, хан сердито сморщился.
— В чем же сила мудрости?
— В правде, хан наш.
— У нас с тобой разные правды, у меня — одна, у тебя — другая, — сказал хан. — Нет па земле одной правды, одна только на небе.
Маман промолчал, заметив себе, что эти слова стоит запомнить.
— Ну, а в чем сила хана? — спросил Абулхаир-хан, заворачиваясь поплотней в шубу.
— В войске? — ответил Маман вопросительно, стараясь угадать, к чему он клонит.
Хан засмеялся.
— Войско хана — его дастархан неистощимый, скот неисчислимый, бескрайние земли-луга… и слуги, всегда в поту, от зари до зари, от колыбели до могилы, ибо пот, бий мой, дороже крови.
«Пожалуй, — подумал Маман. — Потому ты и хан, что сильней всех мошной. А вот мой отец, батыр, — подумал Маман далее, — слаб мошной. Войско его сочтешь по пальцам. В чем же его сила? В сердце, в уме?.. — Маман стиснул зубы и сказал себе:- В том, что он не слуга хану. У Оразан-батыра — свой хан, им самим избранный. Его великий хан — многострадальный народ каракалпакский».
— О чем думаешь? Что у тебя такое на роже написано? — рыкнул внезапно Абулхаир.
— Свет… свет от лица великого нашего хана… — ответил Маман.
Абулхаир почувствовал иносказание, но не разгадал его и на минуту проникся словно бы новым злым и уважительным интересом к этому мужественному и неглупому, никак не глупому юнцу из родовитой, но оскудевшей, вдрызг разоренной, осиротевшей семьи… Для него, хана, он был выродком и уродом, был рабом. Был и будет! А ведь вот посажен раб им, ханом, на то место, где сидеть бы тайному советнику или по крайней мере поручику, и ведь усидел, усидел породистый пес, и не хан ему, а он хану загадывает загадки.
— Вот что тебе скажу, бий: не плюй в колодец, из которого пил и пьешь, — холодно выговорил хан.
— О хан наш, мы, черные шапки, так говорим: место, где один день вкушал хлеб и соль, благословляй сорок дней. Но если в колодце вода иссякает, а рядом большая река… стоит ли ждать у колодца смерти от жажды?
— Молод… а рассуждаешь… — ответил хан уклончиво. — Ты должен помнить годину белых пяток, в которую осиротел. Она оголила всех перед господом, как в день конца света, и открылось, что мы с вами — народы-близнецы, казахи и каракалпаки… Можно ли это забыть?
— Помилуйте, хан наш! — воскликнул Маман с наивным изумленьем. — Я не ослышался? Разве могут быть близнецами — вы и никому не известные морды? Разве есть в этой степи такой народ — каракалпаки? И разве у нас и у вас на земле — одна правда?
Абулхаир-хан громко расхохотался — с откровенностью истинно широкой души, со свободой, подобающей его величию. Поманил Мамана к себе пальцем и мазнул его ладонью по щеке; рука хана была тяжела и покрыта рыжими, как верблюжья шерсть, волосками.
— Рисуешься храбрецом… но у храброго мужа слово не расходится с делом! — сказал хан. — На твоих глазах творится коварство, а ты пустословишь, сложив руки… Непохоже на тебя.
— Какое коварство?
— Будто не знаешь! Самое преступное: ссорят нас бесстыдно, суют мне в руки нож, а вам, черным шапкам, шило. Собственными ушами слышал, что ваши старейшины задумали… Ни много ни мало — захватить ханство Малого жуза! А может, это и так? Вы головы лихие… Поэтому я и вышел из себя, распушил вас под горячую руку. Теперь понял? Смекаешь, откуда ветер дует? Слышал-то я эту подлость от человека, которому верить не надо, а не верить — трудно, ох как трудно…
— Кто, кто он? — пробормотал Маман.
Тот самый, который напялил на тебя эту зеленую тряпку.
— Митрий-туре! — вскрикнул Маман, ошарашенный, готовый рассмеяться хану в лицо, готовый заплакать от смеха.
Абулхаир-хан понял его по-своему. С младенчества, всем своим существом, сжился хан с тем, что его суд — непререкаем и неоспорим, а приговор бесповоротен. Всю свою жизнь привыкал к беспрекословию своих слуг, больших и малых, и любил его горячей, чем своих жен.
С удовольствием наблюдая смятение Мамана и в мыслях не держа, что тот может ослушаться или воспротивиться, Абулхаир-хан сказал, смакуя слова:
— Это простить нельзя. Спустишь раз — проиграешь многажды. Надобно его наказать примерно, чтобы вперед неповадно было. Едет к вам — самый подходящий случай. Пугнуть его, чтобы прибежал назад, ни живой ни мертвый, помешанный, как после пытки в бухарском зиндане. А можно… можно и перестараться, бий мой… чтобы и вовсе не прибежал. Сгинул бы, подобно дыму из кизяка, без запаха, без цвета. Этого не осужу.
Затем хан добавил доверительно, как соумышленнику, как равному:
— Был у нас схожий случай — с мурзой Тевкеле-вым, лукавым татарином, теперь уже русским полковником. Два года водили его за нос, играли с ним, как кот с мышью. Два года висел он на волоске. Твой отец Ора-зан-батыр помешал оборваться волоску. Исправь его глупую ошибку. Не дай господину поручику стать господином полковником.
И еще сказал хан:
— Хочешь благополучия и мира между нами? Хочешь своих осчастливить? Пусть эта одежка станет памятью о храбрости, которая не по плечу твоему отцу… возвысся!
Маман наконец перевел дух. Встряхнулся, точно от бредового сна.
— Вы… кажется… что-то сказали, хан наш… простите?
— Хан свое слово не повторяет, юный бий. И воля хана — воля самого аллаха.
— Хан наш… так ли я понял? Чудится мне… здесь пролетела птица поспешности, с красными когтями… Терпение, говорят, это тень, спасающая от убийственного зноя… Здоровы ли вы, хан наш?
Это было нестерпимо. Но Абулхаир-хан умел быть хладнокровным. Он не унизился до угроз, тем более увещеваний, лишь сказал себе, что этот раб умрет.
— Бог дал удачу твоему языку. Однако молодость — конь необузданный, — заметил хан со светлым беззаботным ликом.
— Я утомил вас, хан наш, позвольте мне уйти, — сказал Маман, не поднимая глаз: в них горел огонь презренья перед быстрой смертью, которая сидела прямо напротив него, на кожаных подушках, в богатой шубе, такой огонь упоения бесстрашием, которого хану не следовало видеть.
Хан ответил, глядя на него в упор:
— Слезай… и езжай помедленней, а то наглотаешься пыли…
Маман на ходу соскочил с коляски. Подскочил Аманлык и подал ему коня, а Митрий-туре бегло, рассеянно махнул рукой из своей коляски.
* * *
Всю дорогу Маман не находил себе места. Ни разу он не смог остаться наедине с Гладышевым. Около его коляски было безлюдно, но Маман знал, что, если он подступится к коляске, получит копье в спину.
Митрий-туре держался беспечно. Он не замечал молящих взглядов Мамана. На привалах каждый день уходил к казахам, садился за ханский дастархан. И это было естественно. Толмача Мансура Дельного казахи также уводили к себе. К каракалпакам его близко не подпускали.
А под конец случилось то, чего Маман совсем не ожидал. Митрий-туре передумал и повернул в ханскую ставку, коротко и небрежно попрощавшись с каракалпаками, пообещав приехать к ним вскорости.
Маману кричать хотелось. Ничего нельзя было поделать. Гладышев давно уехал, когда Маману пришло в голову простейшее: почему же он не сказал ему два-три слова по-русски, по-русски!
Маман ехал повесив голову и все бубнил и бубнил себе под нос, как мог бы сказать Митрию-туре: — Хорони голова, убить будет.
Потом Маман немного успокоился: вряд ли все же Гладышева тронут на земле хана; беда ему грозит, когда поедет к черным шапкам, на их земле. Надобно его встретить, проводить — не прозевать. Такая уж у них служба — у Гладышевых, Муравиных, Тевкелевых; в одиночку, лицом к лицу с недругом и предателем, невылазными интригами и риском — не снести головы, изо дня в день, из года в год. Какая, однако, сила за этими людьми и в них самих, если они превосходят и купца и воина! Что за люди — эти открыватели, ученые смельчаки, умеющие писать книги? На них хотелось походить, им тянуло подражать… Маман ободрился.
Аманлык, заметив это, предложил:
Удобней времени не улучишь, бий мой. А не повернуть ли нам в те места, где растут тюльпаны?
Мысль недурна. До тех мест было рукой подать.
— Поворачивай, мудрый мой… — сказал Маман. Отстав от старших, они поскакали в аул Айгара-бия
и напились кумыса из рук Акбидай. Но и эта встреча, такая желанная, долгожданная, оставила в душе горький осадок.
Прежде, бывало, Маман немел и замыкался при виде черноглазой, похожей на красный цветок, теперь ему было с ней легко, потому что она все время расспрашивала об Аманлыке… Маман рассказывал и рассказывал ей о своем друге и об его сестричке с деревянными сережками в ушках, и из его рассказов выходило, что Аманлык — сама верность, сама доброта.
— Из тебя вышел бы хороший сват, — сказала вдруг Акбидай насмешливо и даже сердито. — А вот он говорит про тебя, что ты злой.
— Не мог он так говорить.
— Пусть не мог… но ведь ты злой! Не виделись скоро год… а ты мне твердишь, как он любит свою сестру. Он добрый, ты злой.
А потом Маман заметил то, что мог бы заметить и раньше: какими глазами смотрит Аманлык на Акбидай и какими глазами смотрит она на него и сколько в их глазах горячего доверия и тайного понимания.
Маман вышел из юрты. Аманлык пошел за ним. Из юрты доносилась песня.
— Ты любишь ее, — сказал Маман. Убей, не знаю, сам не знаю… Ты неверная, кривая душа.
— Не ругай, я не виноват.
— Седлай коней.
Вышла Акбидай, но не сказала ни слова. На ее глазах, так же не сказав ни слова, Маман и Аманлык в поздних сумерках уехали.
Маман с места погнал коня. Аманлык отстал. Так ехали долго, словно сами по себе. Отъехали далеко.
— Эй… — окликнул Маман, — ты мне не все сказал, почему не говоришь?
— Она тебя любит, Маман, зря ты ее обидел.
— Не то говоришь.
— Но она, она…
— Молчи… Говори, кто подослал Ельмурата?
— А ты не знаешь? Будет дурака валять. Послушай, она…
— Говори!
— Бай Жандос.
— Какой Жандос?
— Ну, тот страхолюдина… Лютый такой, который изображает из себя оборотня. Ездит в овчине, вывернутой наизнанку. Ты его сто раз видел. Он с тебя глаз не спускал.
— Ах, этот… — проговорил Маман, вспоминая злющие глазки под нависшими бровями; отвернись — просверлят тебе висок, поймай их взгляд — забегают, рассыплются, как козий помет.
Бай Жандос был в Орске. Однажды подошел к Маману и как бы шутя спросил:
— Если тебя не убить, ты убьешь Есенгельды? Это была их единственная встреча.
— Как же он — Ельмурата?
— Сказал: жив не будешь, если Маман останется живой.
Маман застонал, точно от приступа невыносимой боли, стал бешено стегать коня. Никогда не слыхал Аманлык, чтобы он бил так коня.
Пошел дождь… Хлынул как из ведра. Маман и Аманлык вымокли до нитки. Маман часто и сильно стучал зубами, но не от холода.
Вскоре прояснилось. Невысоко над землей повисла оранжевая ущербная луна. В голых зарослях тамариска, точно в паутине, Маман внезапно увидел и в самом деле звероподобного всадника в овчинной шубе, вывернутой наизнанку. И услышал крик нечеловеческий, дикий, но показалось Маману, что голос кричал:
— …ам-ан!
Всадник тащил на веревочной петле пешего, тот бежал, цепляясь за веревку. Маман узнал в пешем Ельмурата.
Тогда Маман и сам зарычал как зверь. Догнал Ель-мурата, перехватил веревку и вырвал ее из рук всадника. Ельмурат упал.
Всадник повернул коня, в лунном свете блеснул длинный нож. Теперь Маман узнал и бая Жандоса. Не глядя на нож, послал своего серого гунана вперед. Кони столкнулись, и матерый жеребец Жандоса сшиб гунана с ног. Но Маман уже держал бая за горло, стащил его с седла и повалился с ним на землю.
Удар ножа был неверен и пришелся Маману по ребрам. Бай выронил нож и стал отдирать руки Мамана. Не отодрал. Руки его ослабели, он захрипел. Хрипел и Маман.
Подоспели Аманлык, потом Ельмурат, оттащили Мамана, с трудом справились с ним вдвоем. Маман смотрел на них безумными глазами, словно не узнавая. Потом наклонился над овчинным комом, разворошил его и отшатнулся, закричал, как дитя:
— Ай-яй…
Побежал к своему коню, вскочил на него и ускакал.
Гнал коня, не жалея, до своего аула. Ворвался в юрту Мурат-шейха, увидел, что она полна народа, закричал хрипло:
— Отцы мои, братья мои, я убил… я убил! — и повалился ничком на землю у очага. Плечи его судорожно тряслись.
А когда его подняли, он увидел, что на заглавном месте сидит Оразан-батыр — впервые после двухлетней разлуки. И перестал трястись.
Сняли с Мамана мокрую одежду. Открылось, что он весь окровавлен. Рана была не опасная, но кровоточила непрерывно. К ней приложили листья подорожника, а также свежей липкой паутины и перевязали.
Маман рассказал, как было дело.
— Рано, рано ты… руки замарал, — сказал Оразан-батыр. — Я в твои годы больше думал о девицах. Опередил ты меня во многом, сынок. Опередил и в этом.
— Отец… правда ли, что вы были с одним русским, по имени Муравин, в Хиве, у Надир-шаха и что вы остановили войну?
— Правда, сынок. Стало быть, остановили. А ты ее спустил с привязи, как бешеного пса…
— Не прощаете меня?
— Нет. Губит нас междоусобица. Много ли нас осталось? Десятая часть… Нет, — повторил Оразан-батыр.
12
Да будет проклят тот день.
Едва забрезжило на востоке, на аул ябинцев, еще спящий, надвинулась туча конных кунградцев с дубинами, топорами, копьями и мечами. Аул пробудился от тяжкого топота и воинственных криков. Война стояла на пороге, у одинокого старого дуба.
Заметались люди. Женский вопль, детский плач, рев и блеяние скота покатились по аулу, как бурные волны с пенными гребнями. Кто кинулся собирать, прятать добро — вещички, которые получше, а кто и резать последнюю корову, набивать мясом бурдюки, чтобы не досталась она неприятелю. Как водится в такую пору, девушки в возрасте невест и близко к тому принялись мазать себе лица сажей и золой. Этот навык они унаследовали от матерей, переживших годину белых пяток. Этот навык впитали с молоком матери наравне со способностью любить и рожать. Старшие скликали джигитов и вооружались чем попало, что было под рукой. Иные, посмелее, попроворней, уже выскочили к дубу, гарцуя на конях, крича во все горло. Они походили на первые крупные капли с грозового неба. А вскоре и по эту сторону дуба встала туча конных ябинцев.
Обе стороны выжидали и сторожили друг друга, согласно чину и порядку не разбойному, ратному. Этот чин и порядок не затоптали в памяти ни татары, ни джунгары своим разбойным бесчинством. И вот от тучи кунградцев отделился конный бирюч с белой тряпицей на копье, он же — парламентер, миновал дуб и утонул в туче ябинцев. Его проводили к Мурат-шейху.
— Рыскул-хан сказал… — начал бирюч, надувая шею, подобно индейскому петуху. В особо важные минуты кунградцы именовали своего главного бия ханом, чтобы подчеркнуть, как многолюден и могуч их род. — Пусть не прольется без нужды кровь. Выдайте нам Мамана! И мы квиты. Кровь за кровь, голова за голову, честь по чести. Будем ждать до послеобеденной молитвы.
Затем бирюч уехал неторопливо, чтобы не уронить себя и чтобы все им вдосталь налюбовались.
Сердце Мурат-шейха разрывалось от боли. Давно ли сидели рядом за дастарханом, ели из одной посуды, отдавая друг другу долю хлебной лепешки. Ныне мы жаждем крови человеческой и не уступим друг другу капли.
Тщетно Мурат-шейх посылал своих бирючей к Рыскул-бию, предлагал за голову бая Жандоса много голов скота, куда больше, чем полагалось… Выкуп за убийство — это вполне честно, прилично и достойно! Мурат-шейх набавлял и набавлял число голов, пока не вышло вдвое противу вначале предложенного. Каждый раз следовал отказ.
Тщетно шейх взывал к милосердию, к великодушию. Его речи могли бы растопить ледяное сердце и расплавить железное. Но Рыскул-бий не смягчался, наоборот, ожесточался.
Тогда шейх воззвал к благоразумию: только что так счастливо возобновлено великое дело, не было бы нам удачи без Мамана и не будет без него, а дело — жизни и смерти всего народа, людям и господу угодное. Что скажут русские и что скажем мы, опамятовавшись, без Мамана?
На это последовал ответ вовсе безумный и вконец бесстыдный:
— Мы для русских, как и они для нас, все на одно лицо… Пошлем Есенгельды! Он тоже знает русские слова: сарь Петыр… и как там еще? брать за подол сариц… А хан Абулхаир даст за голову Мамана столько скота, сколько шейху нашему не снилось.
Торговля шла сверху донизу, оголтелая. Передовые всадники из обоих родов сближались у дуба и судили-рядили, распаляясь до ора и визга, какова цена крови, чести, совести, закону и беззаконию.
— Мы породили Оразан-батыра и Маман-бия, наш род.
— А мы убьем… и баста!
— Как убивался для всех вас батыр и как — Маман!
— Убьем, тогда сочтемся.
И что всего горше: их была правда, их право, тех, кто хотел убить. Такой закон. Другого нет и не бывает.
Оразан-батыр не спал всю ночь. Говорил с сыном и не мог наговориться. Вырос сын, чудно и быстро и славно вырос. Ныне на этой печальной земле не одинок Оразан-батыр. Теперь не один коренник в упряжке, их двое.
Что будет дальше, Оразан-батыр видел наперед. Стало быть, так ему суждено: вернуться домой, чтобы помереть. Благодаренье небу, что не на чужбине. Спать мягче в родной земле, И он неторопливо и, кажется, безмятежно подбивал итог. Душа его была полна и горда; в глазах светился роковой свет. В тот день и его судьба, и судьба его единственного сына, и судьба двух заглавных родов, тянувших вековечное ярмо жизни народной, были в его иссеченной морщинами и шрамами деснице.
— Не зря сказано: если взобраться, то в гору, — говорил Оразан-батыр сыну. — Эта гора — русские. Джунгары — пропасть. Зрячие видят, сын мой: светит и сильно светит оттуда, с русского поля. Со стороны гор поднебесных, джунгарских- темень непроглядная. Бывала в мире темень и погуще, нестрашней, не на два десятка лет, на два с половиной века. Чингис зашел далеко за Русь, а биты татары русскими. На то воля божья, но… и людская… Как ты говоришь, нужда. Не по вере господней, а от земной нужды пошел хан Абулхаир на русский свет, затаптывая наши следы, чтоб не видно было, что его опередили. Година белых пяток переполнила чашу. В эти края мы с Мурат-шейхом уводили народ — не только подальше от войны, но и поближе к русским пределам. Льемся мы все, течем на русское поле, как при дедах и прадедах, — такой наклон у земли, а куда земля клонится, туда и небо… Ты это понял, как вижу. Что еще полюбилось мне в тебе, запомни: то, как обходишься с сиротами. Посадил на коня сына пастуха, молодец! Держись этой силы, копи ее терпеливо, как бы ни презирали <ее старшие, власть имущие. Собирай вокруг себя друзей побольше, пусть безродных, нищих, пусть не по крови, по духу, по извечной народной нужде, — она сильней кровного братства. Никто тебе этого не скажет, я говорю, а говорю, потому что… чего я не сумел, ты сумей. Не дай общипать свои крылья, как у меня общипали… Дальше скажу тебе, сын: как огня, как чумной заразы страшись междоусобицы. Ее убивай без пощады, жизни своей не жалея. Трави ее изо всей мочи, пока сам не падешь бездыханный. Тут все к месту — и хитрость, и ловкость, и лукавство. Это твой первый враг на всю жизнь. От того, как ты с ним совладаешь, будет видно, глубоко ли, мелко ли плаваешь, далеко ли уплывешь… Вот и мое последнее слово будет против той распутной, дьявольской бабы — междоусобицы. Сведу-ка я с ней старые счеты. Чтобы осталась зарубка на память… на нашей земле, у нашего дуба! Что вы хотите делать, отец? — спросил Маман. Увидишь, сын, — ответил Оразан-батыр.
Затем воздел старый батыр на свое могучее тело воинские доспехи, грузно взобрался на гнедого белоногого коня и тотчас сросся с ним воедино, в одно живое существо, которое видывали некогда наши предки на ратном поле, в деле чести, а ныне уже не увидишь.
Маман смотрел на отца с восторгом, стараясь никак и ничем себя не выдать, ибо сдержанность — украшение мужа. В ту минуту Маман не испытывал особого беспокойства и сердце его билось ровно, уверенно, потому что отец был с ним, отец тверд и хвалил его.
Лишь однажды защемило сердце, когда отец рассказывал о своем обратном пути из Хивы:
— Еле дотянул. Месяца полтора валялся больной у одного благодетеля, выходили меня его дочери. Отчего болел? От дум, от вечных дум. Ими голодного не накормишь, голого не оденешь. Но пухнешь от них, как от волчанки. Видать, напоследок я съездил так далеко. Пора… пора и мне на покой. Устали старые кости. И если уж ехать, то в самые дальние долы, на вечный покой.
Странно звучали из уст отца эти непривычные слова. Маман пропустил их мимо ушей.
Тем временем солнце перевалило зенит. Близился час послеобеденной молитвы. У старого дуба — тишина. Даже кони не ржали и не фыркали. А люди все чаще посматривали в сторону глиняного возвышения в центре аула; оттуда, за отсутствием минарета, призывал правоверных к молитве аульный грамотей ахун Ешнияз. Он, однако, не показывался.
Ненадолго общее внимание привлекли два всадника — Убайдулла-бий, редкобородый, и добрейший Дав-летбай-бий. Они медленно приближались к аулу. Все знали, куда бии ездили, и догадывались, с чем они возвращались. Не с добром, нет, не с добром.
Бии ездили к Гаип-хану, и он не поехал с ними.
Велел сказать, что ему тут делать нечего. Пролитая кровь возмещается кровью пролившего ее. Не нами сие установлено, не нам сие отменять. Ежели кровно обиженные согласятся простить обидчика — ладно, быть по сему, ежели нет, пусть Маман простит хана, который его полюбил и будет оплакивать, как сына. Хан его помиловал однажды, взяв на себя грех, а дважды — не властен, ибо кровь убиенного вопиет перед богом и сам господь грозит хану незримым перстом…
Вместе с тем Гаип-хан велел строго сказать собравшимся у дуба, что ключ всех дел с русскими в руках Маман-бия, и Маман-бий — в ответе за оные дела. Строго велел сказать.
Выслушав это повеление, Мурат-шейх понял, что на уме у Гаип-хана не столько русские, сколько Абулхаир-хан и его приговор Маману. Как скоро подоспела и как дешево обойдется Абулхаир-хану расправа над ним. Не послушался непокорный раб ханского совета — ехать помедленней, теперь наглотается пыли… В бессильном отчаянии смотрел перед собой Мурат-шейх, и глаза его походили на сплошные бельма.
Далее подъехал Есим-бий, голова рода жалаир. Он привел своих джигитов, и те встали рядом с ябинцами. Они соседи, и Есим-бий порешил, что сегодня им стоять рядом. Но это никого не утешило. Недоставало еще, чтобы соседи кунградцев собрались да встали рядом с ними.
От Рыскул-бия прискакал новый гонец, гарцуя на коне, нагло крича:
Где ахун Ешнияз? Почему не зовет к молитве? Вы убили его!
И по ту и по эту сторону старого дуба снова зашумели. Джигиты, которые спешились было и развалились на лугу, ожидая назначенного часа, взлетели в седла и стали горячить коней.
Тогда-то и появился у старого дуба Оразан-батыр, а с ним Маман. Все крикуны разом умолкли, а Маман с содроганьем понял до конца, до оторопи, что натворил там, в паутинных зарослях тамариска, в самозабвении гнева. Там случилось непоправимое, здесь с минуты на минуту начнется неуправляемое, бессмысленно кровавое, война двух родов, двух пластов одного народа, одной земли.
Минувшую ночь и долгое смутное утро Маман словно бы отдалял от себя это понимание, это страшное ожидание, внимая отцу, радуясь его мудрости и силе. Теперь он чувствовал, что близится неудержимо, неотвратимо — самое дурное, самое темное.
Солнце склонялось к закату. Ешнияз-ахун так и не показался на молитвенном возвышении. Не было зова к послеобеденной молитве. Время шло к молитве предзакатной, третьей из пяти каждодневных молитв право верных. И правоверные в душе благодарили ученого ахуна за промедление, исподволь косясь уже не на молитвенное возвышение из земного праха, а на грозное небо.
Мурат-шейх сам поехал к кунградцам. Рыскул-бий выехал к нему навстречу.
И поразило Мамана то, как напутствовал Оразан-ба-тыр шейха, какими серыми словами:
— Может, бий пожелает говорить со мной? Может, есть у него на душе невысказанное? К обещанному скоту прибавьте моего коня… и мои доспехи, — они стоят пяти аргамаков…
Сопровождал шейха известный всем Избасар-богатырь, великан с головой ребенка. Встретились шейх и бий в тени дуба, говорили тихими голосами, и никто их не слышал, но все видели, как Избасар-богатырь два раза хватался за свою дубину, притороченную к седлу.
Вернулся Мурат-шейх ни с чем. Поехал с прямой спиной, приехал согбенным старцем, на которого жалко было смотреть.
Оразан-батыр крякнул зычно и велел сыну сойти с коня.
Маман сошел.
Велел подойти к его стремени.
Маман подошел.
Велел поднять голову.
Маман поднял.
С жадностью ненасытной смотрел Оразан-батыр в лицо сына, словно запоминая его смуглые дочерна скулы, жгуче-черные глаза, юношески толстые губы и оттопыренные уши, похожие на ладони. Слезы брызнули из глаз батыра, он смахнул их с бороды, угрюмо бормоча:
— Стой, не дергайся, еще посмотрю.
А потом повернулся к Мурат-шейху, положил руку на луку его седла, сказал, как два года назад, уезжая в Хорезм:
— Ну, а теперь, мой шейх, поеду я… — Пришпорил коня и поехал к дубу.
У шейха, точно у покойника, отвалилась нижняя челюсть.
Рыскул-бий еще издали закричал батыру:
— Шейх уже нас поучал! Вам нас учить нечему! И преславные ваши доспехи поберегите… Сына своего преступного подайте…
— Я вместо сына, — сказал Оразан-батыр негромко, но эти три слова услышали все на огромном лугу, но обе стороны дуба. Услышали и сказанное затем:-Пусть моя кровь положит конец кровной мести раз и навсегда. Жизнью своей заклинаю: раз и навсегда!
— Аминь… — проговорил Рыскул-бий глухо и торопливо, будто его толкнули в спину.
Оразаи-батыр печально усмехнулся. Живо он согласился, почтеннейший глава рода… Недолго раздумывал. Честно ли это? Бог рассудит. Может, придет новое время, высветит этот день у вечного дуба, тогда и люди рассудят.
Маман, обмерев от страха, забыв про своего коня, побежал, спотыкаясь на неверных ногах, давясь беспомощным криком:
— Отец… милый… любимый…
Догнал Оразан-батыра, ухватился за стремя.
— Я прошу… прошу тебя… Я сам разжег… сам сгорю… Пусти меня. Я не согласен!
Оразан-батыр с силой толкнул его ногой в грудь.
— Помолчи. Утри слезы. Не срами меня. Стой твердо. Я пожил, вкусил свою долю. Твоя смерть — это моя смерть, а моя смерть — твоя жизнь! Завещаю тебе: завтра не таи в душе мести, не будь врагом моему убийце. Не дай воли треклятой междоусобице, не дай крови литься рекой. Это первое. А чтобы тебе запомнился второй мой завет — меч мой отдашь Аманлыку… ты понял? — Оразан-батыр показал левой рукой (он был левша) на север и на запад:- Гляди туда! Веди туда! И не перечь мне в день моего торжества… Отступись. Отвернись.
Из-за спины Рыскул-бия выехал грудастый детина, впору Избасар-богатырю, на грудастом коне. Конь вороной, и детина — в черной дерюге, с черным плоским лицом. Оразан-батыр тронул коня ему навстречу.
Детина разогнал своего вороного и на полном скаку выхватил старого батыра из богатого седла с тисненной золотом передней лукой и положил на свое седло.
Удар этого удальца был верен. Ножом, кривым и острым, как коса, полоснул по горлу и бросил на землю бездыханное тело, чтобы не слишком окровавиться, но и не оставить без красных брызг и себя и коня, ибо в таком деле почетно малость запятнаться.
Белоногий гнедой Оразан-батыра пробежал без седока широкий полукруг и вернулся к своему хозяину, вытягивая голову, раздувая ноздри… И отпрянул, захрапел, заржал дико и жалобно.
В ту же минуту заворочалась туча конных кунград-цев и понеслась прочь от старого дуба, рассыпаясь и рассеиваясь, будто разодранная бурей.
А другая туча ябинцев и жалаирцев надвинулась и сгрудилась у дуба, где на чистой, словно бы и не тронутой копытом, траве лежал их заступник и отец, несравненный, неповторимый человек, зарезанный, как овца.
Да будет проклят тот день.
* * *
На холме, близ аула, был возведен над его могилой мазар — мусульманская гробница. Мазар — небольшой, каменно-глинобитный, с четырьмя крошечными куполами на углах, без кровли; выбелен известкой, по карнизу и по ребрам стен выведена синькой фигурная каемка. Побелка быстро потускнела и осыпалась, синька выцвела, купола обвалились, выщербились и стены. Но десятки лет останавливались здесь путники с мыслью, что это место свято.
Обрушенный, обветшавший, заросший сорняком, мазар стоит и поныне, хотя лишь по закругленным углам можно догадаться, что это мазар. Подойдем к нему и поклонимся памяти человека — два с четвертью века спустя.
13
Прошли весенние ливни, застелили землю невылазной грязью, словно пряча кровавый след. Небо поникло над одиноким дубом, тучи походили на поблекшие волосы старой плакальщицы. Дуб стоял, заломив обнаженные руки, по его извилистым морщинам стекали неуемные слезы. Единственно солнце могло расцветить землю, поднять небеса, высушить слезы, а оно отвернулось.
Остыли от дел руки у Мурат-шейха. Холодны стали руки к делам. Долгое время он не мог взяться ни за что путное. Занялся сущей безделицей. И как будто полегчало немного на сердце. Все, что просил Маман для Аманлыка и Алмагуль, дал им сполна — одежду, обувку, кров над головой. За два дня возвели им дом, глино битный, годный и для зимовки и для летовки, собственный дом. Был при нем скотный двор — конюшенка для гунана, закуток под курятник, а также навесик для дворового пса, который должен быть у каждого порядочного хозяина.
Аманлык увидел наконец свою сестру в новом платье, улыбающуюся всем лицом, от рта до ушей. Она выросла, похорошела. Глядя на них, улыбался, источая слезы, и Мурат-шейх. Сироты, можно сказать, разбогатели — а не бросили своей лачуги и жили теперь на два дома.
Маман в эти дни не показывался на глаза. Говорили, что он уединился с сыновьями Мурат-шейха, читает толстую книгу. Книга в доме шейха была одна — Коран в переводе на татарский.
А потом Маман исчез. Его не было дома, почитай, с неделю. Вместе с ним убрались из аула не то пятеро, не то десятеро джигитов и с ними Избасар-богатырь. Об этом никто вроде бы не знал, но у всех это было на уме. Дивились только тому, как легко, быстро поднял Маман людей, незаметно увел. Вон какую силу взял над нами, грешными! Будто он глава рода или имущий бий.
Куда и зачем он повел джигитов — нетрудно было догадаться. Знать, укрепил дух, читая божественную книгу, и не обронил из памяти, кто зарезал его отца. Интересно, чьей головой поплатятся кунградцы? И страшно — чем все это кончится?
Вдруг обнаружилось, что Маман дома и джигиты все — по домам, словно и не уезжали. Неужто сорвалось? Джигиты помалкивали, но с такими загадочными рожами, как если бы ходили по зайца, а убили медведя. Тут же пронесся слух: приехал к нам, черным шапкам, русский офицер! А Аманлык открылся Кривому Алла-яру: пять дней и ночей стерегли они с Маманом дорогу, незримые, неслышные, как призраки, и не прозевали, встретили и проводили русского чуть ли не от порога хана Абулхаира до порога Гаип-хана. Зовут его — Мит-рий-туре; он по душе совсем простой, но ехал к ним шибко сердитый.
Рано поутру примчался от хана Пулат-есаул. Мурат-шейх и Маман были уже готовы, сели на коней, поехали к Гаип-хану. Аманлык пустился было за Маманом, но Мурат-шейх сказал:
— Останешься. Посмотришь за домом.
Маман лишь кивнул головой. Был он угрюм, молчалив, как все эти дни. Аманлык остался.
Сироты обрадовались, ссадили Аманлыка, расседлали гунана и взгромоздились ему на спину всем гаму-зом — коротышка Бектемир и еще двое, потрусили рысцой на луга; другие побежали следом, дожидаясь своей очереди. Конь уже сбросил зимнюю шерсть и заметно добрел на новых молодых травах.
Аманлык и Кривой Аллаяр пошли за младшими.
— Нет, не любим мы Мамана… — сказал Аллаяр. — Кабы любили, старались бы угадать, чего он хочет. Почему он тебя не взял с собой? Потому что ты ему надоел своей унылой ряшкой, — собачья у тебя покорность, а нюха нет. Знаешь ты, что у него наболело и кто на уме? А я знаю. Два петуха… Был один, стало два! Первый, конечно, тот черный, который свалил Оразан-ба-тыра с коня. Это — Алиф Куланбай-богатырь, сука самая распоследняя. Второй — Есенгельды, из-за которого я окривел, сука первейшая. Думаешь, он им простил? Клянусь своим бельмом последним, он им не спустит. Пока не прирежет обоих, не улыбнется. Хочешь ты, чтобы Маман улыбнулся? Что ты на меня пялишься, как курица на гусиное яйцо, которое под нее подсунули? Я своим одним шаром вижу то, что тебе и невдомек, потому что ты не любишь Мамана.
— Не угадал, брат, — сказал Аманлык, стараясь смотреть Аллаяру не в переносицу, как мы обычно смотрим, а в зрачок единственного глаза, чтобы не так было чувствительно человеку, что он кривой. — У него, у Мамана, вот тут (Аманлык постучал себя пальцем по виску) — все набекрень. Еще увидишь, он руку протянет Есенгельды…
— Врешь! — вскрикнул Кривой Аллаяр и отвернулся.
Аманлыка вдруг взорвало. Он знал, что остался сегодня дома не случайно. Маман уступил, впервые уступил — и не прихоти шейха, а его поганому умыслу пристроить Есенгельды в аткосшы. Не согласился Маман, а ведь уступил?
— Сам себе не верю, — проговорил Аманлык с недобрым смешком. — Сел на коня, а невесту ни разу не обнял… Что было! С прошлой осени не виделись, она вышла, тянется к нему, никого кругом, я отвернулся, а он даже не глянул на нее, ускакал, будто его с собаками гнали…
Кривой Аллаяр мигом забыл про Есенгельды.
— Ну-ка обрисуй мне ее. Тыщу раз в том ауле был, ни разу не видел… Что значит — не обнял? Уж не только Мамановы, а и наши ровесники народили детей.
— Ох, Аллаяр… не спрашивай! Греет она, как солнце.
— Хо! Ты сам, кажется, таешь до костей на том солнце?
— Не говори, — вздохнул Аманлык. — Весь ябин-ский род отдал бы за эту девушку. Вот мой калым…
— Совсем откупорился, как бурдюк с бродящим суслом. Не стоит она Мамана, даже если в придачу возьмет ее казахский род.
— Стоит, — сказал Аманлык.
— Какая она хоть из себя — на лицо, ну, и на все касающееся?
— Видел ты красный тюльпан?
— Чучело! Стоишь среди них… А в общем ясно. Остальное могу себе вообразить.
Но Аманлык продолжал увлеченно:
— Видел ты горную козу?
— Видел, на вертеле, да мяса не пробовал.
— Глаза у нее как у этой козы.
— На вертеле, что ли?
— Дурак… Видел стрелы камыша у озера, похожего на око?
— Ага, значит, такие у нее ресницы? Такие. Видел крылья орла?
— Вон он летит.
Такие у нее брови. Яблочко видел бухарское?
— Куда там яблочко! Нам бы хлебца. Такие у нее щеки. А кипарис видел?
— Спрашиваешь о том, чего здесь нет.
— Мы видели, едучи в Орск. Такая же она стройная. Ночью лунной лес на горе видел?
— Ночью воров смотреть, а не лес.
Точно такие у нее волосы. Четки молитвенные видел?
Такие у нее зубы?
— Но белей. Сливки с молока… не пенки, а сливки… видел!
Такие у нее губы! — перебил Кривой Аллаяр.
— А что? А что? — проговорил Аманлык, словно заговоренный самим собой до сладкой одури.
Аллаяр рассмеялся.
— Хватит! Сказал… Я все понял. Это у тебя все набекрень, а не у Мамана. Как ты можешь глядеть ему в глаза, если у тебя на сердце она?
Аманлык вздрогнул и похолодел от внезапного по-дозренья.
Прогонит он меня от себя как пить дать, прогонит с глаз долой из-за этой девушки.
— И прогонит! Я бы прогнал. Что от тебя проку? Я-аблоч-ко, кипар-рис, ко-за… А как до дела, ты в кусты? Что же, ты не видишь: Мамана запутали, заморочили ему башку! На кой ляд ему твоя девушка, если у него забот полон рот? Нож приставлен к горлу… Нет, не любим, не любим мы Мамана.
Аманлык вяло, неуверенно возразил:
— Послушай, что ты говоришь?
— А то, что и вправду ослаб Маман. Начитался божественных книг! Возится опять с русскими, то с тем бородачом, то с этим Митрием-туре… Мало ему было за пленных? Мало ему одного моего глаза?
— А кто я такой, — сказал Аманлык, — чтобы учить Мамана? Я его нагайка. Хочет — стегнет мной коня, хочет — повесит на седло, а то и бросит в юрте, и буду я валяться дома, как сейчас, пока он ездит.
— Негодная ты нагайка! — вскрикнул упрямо Кривой Аллаяр. — Хорошую нагайку добрый хозяин не выпустит из рук ни конный, ни пеший, ни за столом, ни в постели, когда с женой спать ложится.
— Это верно, — согласился Аманлык, вновь задумываясь над тем, почему Маман не взял его с собой. — Однако тебе скажу: Оразан-батыр завещал Маману примириться…
— Врешь! Никогда не поверю! Срамишь память Оразан-батыра. Я плюю на тебя за это. Поди сюда…
Аманлык подошел, и Кривой Аллаяр плюнул на него, и Аманлык не посмел смахнуть со своей рубашки плевок.
По чести говоря, Аманлык готов был руку поцеловать Аллаяру за эти слова. Все в ауле недоумевали, почему Маман медлит. А Избасар-богатырь, джигит с шеей и спиной как у буйвола и лицом обиженного ребенка, в открытую ругательски ругал Мамана. Пудовые кулаки не разжимались у Избасара от неутоленной злобы. Руки чесались — схватить за горло подлого кун-градца Куланбай-богатыря. С тем Избасар и пошел, когда Маман его позвал. А вместо того… нянчились с русским туре, словно на посмешище людям… И чем, скажите на милость, привадил и подкупил Мамана непонятный, пугающе мягкий Митрий-туре? Зеленым камзолом, что ли? Трус Маман, трус!
Так думал не один Избасар. Что же тогда думали о Мамане кунградцы? При этой мысли Аманлык опустил голову, не осмеливаясь поднять глаз на Кривого Аллаяра.
Вышли на луг, где коротышка Бектемир и малыши пасли гунана. Гунан был взнуздан. Кривой Аллаяр стал было разнуздывать его, когда со стороны аула донеслись крики и топот. Несколько джигитов выскочили на конях из аула и поскакали по грязной дороге, размахивая над головами дубинами и улюлюкая, будто в погоню. Им вслед бежали по лужам детишки, оглядывались женщины, а старики брались за бороды и покачивали головами. Лихо полетели джигиты, как напоказ. Впереди скакал на высоком коне восьмипудовый Избасар-богатырь.
— Куда это они? — проговорил Аманлык с новым ревнивым подозреньем, что джигитов опять позвал Маман, а его не позвал…
Затем поблизости послышались охи и вздохи, стоны усталости и досады. Из-за зеленого пригорка показался хилый старичок с теленком на руках, завернутым в полу чапана. Вплотную за ним плелась корова, мыча и то и дело норовя лизнуть теленка. Видимо, она недавно отелилась. Белая борода старика была измарана желтыми пятнами.
Сироты подняли веселый гам, узнав Ешнияз-ахуна; его особо почитали в ауле с того дня, как он на свой страх и риск задержал послеобеденную молитву до предзакатной, но сейчас — как не прыснуть от смеха! Чалмы на его голове не было, она срамно висела на рогах у коровы, а он думал, бедняга, что ведет корову, привязав за рога чалмой.
Сироты кинулись ему помогать, подхватили теленка, еще мокрого, потащили в аул. Корова ушла за ними.
Ешнияз-ахун запричитал, глядя на джигитов, которые уже едва виднелись вдали:
Беда, беда, беда… Видите, видите! Не утерпел все-таки Избасар. Пошел своей волей. Неможется ему, пока не воздаст кровью за кровь. Что будет, что будет! Прет напролом, дурная его голова…
— Откуда вы знаете? — пробормотал Аманлык.
— Это все знают, кроме Мамана.
Безумная мысль вскружила голову Кривому Аллая-ру. Он закинул повод уздечки на холку гунана, прыгнул ему на спину и отъехал подальше, чтобы Аманлык не смог его удержать. Закричал во все горло:
— Всех презираю! На всех плюю! В конце концов мы — тоже щенки ябинской крови! Кто, как не мы, ощерится на кровного врага? Прощай, ленивая нагайка! Мечтай тут о тюльпане… а то беги, хватай любого коня, догоняй меня… Я — за Избасаром! Мы за Избасаром!
Аманлык успел только крикнуть в испуге, в растерянности:
— Стой, вернись, Аллаяр!
Не тут-то было. Кривой Аллаяр бешено запинал пятками гунана и, улюлюкая, как джигиты Избасара, ускакал без седла и стремян — навстречу своей гибели.
14
Гаип-хан до того как сел ханом над каракалпаками, был не так уж богат, но в два-три года раздобрел, оброс скотом. Черные шапки бедствовали, а ему все х а б а-р и л о, везло на поживу. Его конюшни, овчарни, коровники разрастались и разрастались, пока не лизнули краем соседний аул рода кенегес, а лизнув, проглотили со всеми потрохами, и стал называться аул кенегес ханским аулом.
Кенегесцы выпячивали грудь, называя себя людьми ханского аула, а на деле стали слугами хана, потеряли свой голос среди других родов, свою волю и власть. Теперь у них одна забота — умножать ханский зажиток да помалкивать, ибо за них говорил хан. Правда, набегов ханский аул не опасался. И сироты рода кенегес были горды, побираться в другие аулы не хаживали. Что касается баев рода кенегес, то они себя не забывали — умели и на охоту махнуть с ханом, и землицы прирезать под марку хана.
Пожалуй, один Нуралы-бай, глава рода, жил не так, как другие, ближе к своим сородичам, нежели к хану. Человек немногословный, необщительный. Считалось, что это оттого, что лицо его изуродовано джунгарским копьем, нижняя губа отвисла, глаза косят. Он не любил охоту, хотя ее любил хан. Избегал вступать в споры, хотя это любимая охота баев. Молодых учил единственному:
— Безделье, дети мои, изнашивает. Кто играет в кости, тощает, как кость. Кто пасет скот, набивает рот.
И сам следовал своей науке как это ни странно для имущего бая. Войдя к нему на скотный двор, увидишь: ходит хозяин с лопатой, вилами или совком, выгребает навоз. Запряжены молодые, пот на них не просыхает. Впрочем, и скопидомы, говорят, трудятся не покладая рук.
Обыкновенно, принимая гостей, Гаип-хан посылал за бараниной к Нуралы-баю — под тем предлогом, что ханские овцы все подряд брюхатые, ни одной яловой. Так было и сейчас. Повели овец со двора Нуралы-бая. Гость пожаловал допрежь невиданный — русский офицер.
Три ханские юрты стояли тесным кружком. Днем издали они походили на песчаные горбы, ночью — на каменные могильники, наводящие страх. Гаип-хан тщеславен, но осмотрителен, богатство своего не кажет; видимо, знавал черные деньки.
Ночь. Из горловины в куполе главной юрты брызжут искры, а между юрт, в лунном свете, мечутся, перешептываясь, слуги. Тени словно набрасываются одна на другую.
Немногим светлей и внутри главной юрты. Дымно-вато и прохладно.
Поручик Гладышев и толмач Мансур Дельный расположились поближе к очагу, не снимая шуб. Бии, напротив, облепили торь, на котором едва ли не возлежал на подушках Гаип-хан в своей высоченной шапке. В шапках все, кроме Гладышева. Но с первого взгляда видно, что нет здесь одного важного лица — Рыскул-бия. Маман затерялся где-то за толстыми спинами.
Поручик Гладышев неузнаваем: сегодня он не походил на прежнего покладистого Митрия-туре, говорил скупо, смотрел сурово.
Пространно разглагольствовал Гаип-хан, поражая биев велеречием. Смысл его речей уложился, однако, в две фразы толмача:
— Хочет под свою руку всех каракалпаков, и Нижних и Верхних. А еще — половину Малого жуза.
— Губа не дура, — заметил Гладышев Мансуру Дельному. — Скажи ему, что его прожекты — по ту сторону моих полномочий. Этакими фантазиями только и заниматься государыне императрице!
Гаип-хан внимательно выслушал толмача и надулся, как пузырь, узнав, что им будет заниматься не иначе как царица.
— Засим позвольте заявить откровенно, господин хан… — сказал Гладышев, покусывая ус. — Право, хотелось мне повернуть оглобли, не заезжая к вам. Явиться живым манером к его превосходительству наместнику в Оренбург и доложить, как вы тут разделались с Ора-зан-батыром… старым, испытанным другом России. Так бы я и поступил, если бы не зов чести — прежде всего повидаться с Маман-бием и лично принести ему соболезнования по случаю нашего общего горя. Если б не Маман, меня бы здесь не было, смею вас заверить.
Толстые спины биев тотчас раздвинулись, и Маман мигом оказался весь на виду, впереди всех.
— Сожалею, весьма сожалею, — продолжал Гладышев, — что не вижу на сей случай господина Рыскул-бия, учинившего преступную расправу… а также виселицы и на ней — некоего гнусного мясника, достойного петли… но еще, кажется, не повешенного? Где же, господа, Рыскул-бий?
Такого крутого оборота не ждали. Такой грозы не предвидел даже Маман и смотрел на Гладышева с благодарностью и тревогой.
— За ним послано… еще утром… Должен быть! — сердито выговорил Гаип-хан, а бии немедля закивали; они тоже осерчали, еще пуще, чем хан.
Это натужное единодушие открыло Гладышеву все, что от него скрывали: никто здесь не верил хану, господин Рыскул-бий опоздает, и надолго, о том позаботился хан. Расчет очевидный: ревность и подозренья опять крепко поссорят два сильнейших рода, а хан, стоя над сварой, будет вести переговоры.
«Пустейшая праздная личность, — думал Гладышев, — но тем она и опасна».
Вступился Мурат-шейх. Его озабоченность была куда серьезней, нежели суета Гаип-хана.
— Почтенный туре… осмелюсь спросить… как понять ваши слова? Я, признаться, таких слов ранее не слышал. И вообще не слыхивал на своем веку, чтобы русские власти вмешивались в наши семейные… дела, которые мы ведем, согласно нашей вере, обычаю и закону, и никогда от того не отступимся, как не отступались при отцах и дедах!
Гладышев укоризненно покачал головой, как бы сделал прежний, добрый и милый Митрий-туре. Маман легко разгадал смысл его чуть прищуренного взгляда, грустной улыбки: ах, мудрый старец, что покрываешь? зло нескончаемое? дорогу во тьму вековечную?
Однако в юрте стало чересчур тихо. Стало быть, проняло всех, задело за живое. Вопрос шейха касался, быть может, самого важного и острого между русскими и нерусскими, Россией и Азией.
— Что касаемо этой материи, будьте покойны, господин шейх, — ответил Гладышев. — Мы не вмешиваемся в ваши порядки и законы — по адату и шариату. Не навязываем своей веры, своего суда. Мне уже внушал мой собственный толмач, господин Мансур, что по вашему разумению Оразан-батыр не просто зарезан, а казнен…
— Да, да, казнен, истинно казнен, — хором заговорили бии.
— Но прошу покорно вашего прощенья, господа, — возвысил голос Гладышев. — Желаете вы нашего доверия, уважения? По каким законам прикажете дружить с людьми, которые казнили основателя нашей дружбы? А может, и далее будете казнить? Оразан-батыр погублен, но Маман-бий жив…
Молчание.
— Не берусь предсказывать, как отнесется мое начальство к вышеозначенному… Отвечу за себя и за нижеследующее… Не знаю, помилуй бог, не знаю, как, например, я буду принимать присягу у господина Рыскул-бия? И не представляю себе его подписи на присяжном листе от имени рода кунградцев. Такого документа я в руки не возьму и полагаю, что и тайный советник Не-плюев об оную бумагу рук не замарает!
С болью в сердце слушал Маман поручика Гладышева. Маман был больше всех обрадован и больше всех напуган. Он тоже считал в глубине души, что была казнь — по законам отцов и дедов…
— Вы бросаете нас, Митрий-туре? Не поможете?
— Я не бросаю друзей, сударь. И я, собственно, послан вам помочь. Но Иван Иванович Неплюев выгнал бы меня в шею, если бы я посмотрел сквозь пальцы на это злодейство и это несчастье. Говорю в глаза господину Гаип-хану… и сказал бы хану Абулхаиру… коль скоро пришелся бы такой случай.
Упоминание имени Абулхаира поставило последнюю точку. Русский сказал то самое, что хотели здесь услы шать. Оки всё знают там, в Оренбургах, и не скрывают того, что знают. Им известен истинный лиходей. Издалека тянется его рука, но она длинна. Не зря русский сказал: это злодейство и это несчастье… Бии зашумели одобрительно.
Услышав имя Абулхаира, ободрился и Гаип-хан. Спросил даже с некоторым вызовом:
— Неужто не оставите зернышка надежды? Гладышев долго, упорно смотрел на хана, будто
спрашивая: а ты се хочешь, ты, ты? Ответил все же помягче:
— Рук не опускайте. Я хочу надеяться.
— Что велите делать? — спросил Мурат-шейх.
— Готовьте петицию, или, как вы называете, клятвенное письмо… от всего народа и от каждого из ваших родов, поскольку иные роды у вас наподобие отдельного ханства…
— Как надо писать?
— Я держусь того мнения — как выльется из души. Немне вас учить, как спеть вашу песню. Говорят, в ауле рода ябы есть известный грамотей… ахун Ешни-яз, если не ошибаюсь?
Бии переглянулись: помнит по имени — вот диво!
— И наконец, готовьте посла, которому по силам — дальняя дорога и русский язык, по плечу — великая честь и государственная забота.
Мурат-шейх как бы замялся:
— Кого советуете? Будет ли совет, кого послать?
— Оразан-батыра, господин шейх! — ответил Гладышев с внезапным новым ожесточеньем в напряженной тишине. Затем добавил, пожав плечами: — Есть среди вас один человек… Вы его все знаете. И мне стыдно, что вы, зная его, спрашиваете меня, кто этот человек…
Мурат-шейх низко поклонился, сидя на поджатых ногах, улыбаясь себе в бороду.
— Спасибо, туре. Не гневайтесь, туре. Мне нужно было… нам нужно… услышать это ваше сердитое слово.
Гаип-хан закрякал, захрюкал, хлопая себя ладонями по ляжкам, и захохотал:
— А помнишь ли, Мамап-бий, кто первый предсказал тебе твою дорогу, когда ты еще не сел на коня?
— Никогда не забуду, хан наш, — отвечал Маман.
— Так вот, чтобы не забылось… — продолжал Гаип-хан, распаляясь от собственного, всем видимого, гроз ного величия, а еще более от тайного незримого лукавства. — Чтобы помнилось… и во исполнение святого завета… нашего друга, твоего отца… положить конец кровной мести — раз и навсегда… Быть по сему!., даю тебе великую волю… Чует мое сердце, вижу насквозь: опаздывает Рыскул-бий не к добру. Мой тебе указ: заметишь опять баламутство, раздоры-разборы… не прощай и не мешкай, лети, как ангел Азраил, карай на месте моим именем, именем своего хана! Полно нам срамиться перед друзьями, у них на глазах… Пора браться за ум. Я велю! Я сказал!
Маман встал и поцеловал полу ханского халата.
— Слушаю покорно, хан наш.
А бии все разом поклонились в знак того, что вняли указу и указ велик.
Гаип-хан, громко пыхтя, развалился на подушках, премного довольный. Все видели, как он обвел вокруг пальца русского туре, сколь тот ни крут, сколь ни проницателен. Все видят: русский туре молчит, греет руки у очага, жмется, как прирученный зверь…
Хан хлопнул в ладоши и кивнул слуге, возникшему у двери. Подали новое угощенье — очередного барашка. К мясу русский едва притронулся, что было бы огорчительно, если бы не означало, что он усмирен; гость все пил да пил чай, как будто заливал в груди неугасимый огонь. И пока он пил чай, Гаип-хан успел шепнуть Мурат-шейху:
— Ежели расширим свое ханство — это же счастье. Не так ли, шейх наш?
— И покойнику хорошо, когда могила просторна, хан наш, — ответил Мурат-шейх.
Мало того… Гость поднялся с места и надел шапку. Он загодя предупреждал, что к ним — на один день. Но напоследок он сказал хану, сказал со значеньем, отмечая главное, что услышал в доме хозяина:
— Спору нет, это истина: народ, который живет в распрях, никому крепким другом быть не может.
А далее милостиво и почтительно принял дары Гаип-хана тайному советнику Неплюеву — бобровые шкурки отмепнейшей красоты, с серебряным отливом, и шкуру барса…
По дороге Гладышев заехал в аул Мамана — повидаться с двумя русскими, отставшими от Бородина. Взять их с собой, как собирался первоначально, поручик не мог, но те и не просились с ним, им жилось тепло и сытно, они не спешили. Одним из двоих был поп-расстрига с лиловым носом. Он балякал по-татарски и с готовностью обещался Гладышеву пособить черным шапкам писать клятвенное письмо. Другим оказался не то башкир, не то мещеряк со Среднего Поволжья, из купцов…
Митрий-туре ночевал у Мамана, а утром пустился в путь, сказав Маману на прощанье:
Тебе открою, почему я тороплюсь. Дело нечисто. Больно широка, как я погляжу, задница у Гаип-хана. Садится, шельма, на два стула. Я предуведомлял тебя, помнишь: могут появиться в ваших палестинах тайные нарочные. Появились…
— Джунгарские!
Так точно, сударь. И, по некоторым данным, Га-ип-хан согласился их принять — в надежде получить от Голден-Церена письменное послание. Оно ему обещано, это факт! Интересно мне, как далеко дело зашло… Вот какая петрушка.
— Хо! — вскричал Маман радостно. — Значит, вы далеко не уедете?
— Послушай, а что, если на этот раз приедет унтер-офицер Гордеев Филат? Хороший человек.
— Нет, — ответил Маман по-русски. — Не бросай… не бросай.
Гладышев молча усмехнулся и сел в коляску рядом с Мансуром Дельным. Маман вскочил на коня. За дальними холмами ждали джигиты, правда всего двое, а не десятеро, как накануне, — проводить… Но Гладышев велел вернуть их домой.
— Не следует… Это слишком заметно. А кроме того, милый ты мой, там, где я езжу, меня охранять — полка не хватит.
* * *
Рыскул-бий прибыл в ханский аул утром, как ему было назначено. И обнаружил, что гость уже отбыл. Обошлось дело без кунградцев. Тщетно убеждали почтенного бия, что ошибся гонец, спутал вечернюю зарю с утренней. Рыскул-бий не сомневался, что виной всему — козни ябинцев, хотя чьи тут козни, всем было ясно, никогда еще не было так ясно. Не задумываясь, он собрался уезжать, отказавшись от саркыта — угощения со стола почетного гостя.
Но затем Рыскул-бий остыл, узнав, что сказал русский офицер про виселицу и петлю для гнусного мясника, — кажется, еще не повешенного? Узнал Рыскул-бий и то, какую власть дал Маману Гаип-хан, уподобив ее власти ангела Азраила… И задумался.
Маман держался неожиданно, необъяснимо. Он встречал Рыскул-бия в ханском ауле, и у Рыскул-бия похолодело в груди, когда он увидел Мамана не на сером гунане, а на гнедом белоногом иноходце Оразан-ба-тыра. Но Маман на приличествующем расстоянии придержал коня и сошел на землю, приветствуя старшего, как будто меж ними не было самой крайней, кровной вражды. Рыскул-бий, ошарашенный, также сошел с коня со словами:
— Долгих лет тебе, сын мой, будь счастлив… Позднее, за саркытом, которого все же отведал
Рыскул-бий, в привычном споре, когда бии опять распоясались, хвастая заслугами своих родов, подстерегая и кусая каждый каждого на каждом слове, Маман был примерно скромен. Он молчал и слушал, но когда заговаривал, спор стихал.
Народ — это одно большое дерево, говорил Маман. Роды — это ветви, а корни — бии! Это дерево вечное, но если надколется ветвь или подгниет корень, будет ли оно так зелено, та ли будет красота? И еще говорил Маман, что засохшие сучья следует отсекать, иначе они зачервивеют, и ни один дятел не выберет из дерева всех древоточцев. Слова его звучали веско и загадочно: скорлупа жестка, зерно терпко и мясисто. Но не было в них ни угрозы, ни издевки, а тон — вроде бы вопросительный. Казалось, юноша, не лишенный ума и воспитанный в строгости, ищет мудрости большей, мудрости истинной у белобородых.
Рыскул-бий и сам не помнил, как растрогался ни с того ни с сего и как вырвалось у него из души:
— Сын мой… ум старца — озеро без дна, с высокой волной. Кто поглупей, утонет, а поумней — уплывет далеко. Иные безусые утешаются, что старики учат, учат да спать лягут. Это недоноски. Но пока мы поймем и покуда обнимем друг друга… озеро высохнет… никого из нас, сивых, в живых не останется.
И в эту минуту, глядя на Рыскул-бия, многие подумали: упаси боже, неужто старый беркут сломлен?
А далее Мурат-шейх завел доверительный разговор с Рыскул-бием, начав с того, что старые друзья, с кото рыми не раз ел-пил из одной чашки и горькое и сладкое, до обеда ссорятся, после обеда мирятся. И попросил Рыскул-бия заметить себе, что Маман-бий здесь без своего аткосшы… Что за спиной у Аманлыка? Протянутые руки да х у — х а х, надоевшие всем возгласы нищих. А Маман — не из тех детишек, которые лепят из песка дыни и тут же со смехом растаптывают их; он умеет довести дело до конца.
Рыскул-бий оживился, загорелся и сказал, что, ежели у Мамана в виду Есенгельды, кунградцы все сделают в угоду Маману, перельют одно озеро в другое! И что любопытно: Маман промолчал, но не возразил.
Бии зашептались, кривя губы. Их носы почуяли сговор.
— Ишь как раздули ноздри старики… С чего они так раздули ноздри? — Раздутые ноздри у человека — признак воодушевления.
Не минуло это ушей и глаз Гаип-хана. Что за напасть! Он ли не внушал Рыскул-бию: проклятье ябин-цам, оттирают всех плечом, сделаю их рабами кунград-цев… Все труды прахом.
— Устал я, — сказал хан. — Довольно с меня. Довольно с вас. Расходитесь. Спасибо за усердие Нуралы-баю. Аминь.
Маман провожал Рыскул-бия до выезда из аула, а Рыскул-бий видел, как трудно было Маману удерживать закусившего удила, нравного коня Оразан-батыра, не привыкшего идти позади. Рыскул-бий благодушно кивнул Маману, тот отпустил повод, кони поравнялись, и всадники некоторое время ехали рядом. Бии смотрели на них издали открыв рты…
Всю дорогу до родового гнезда томили Рыскул-бия думы, долгие, вязкие, как весенняя распутица. Тяжко старому человеку и в вёдро, а в бурю? Каково ему, когда небо над головой кренится, а земля дыбится под ногами?
Небо — русский офицер… Кто мог ожидать, что там отзовется такое эхо? Кто мы для русских? Инородцы. Кто они для нас? Иноверцы. Виданое ли дело, чтобы силы небесные заступались за нашего брата? Не должны и не могут эти силы видеть и различать никого и ничего ниже хана, как не видит, не различает, к примеру, бай чирей на теле чабана.
Сердце задыхалось у Рыскул-бия от страха, но — и от гордости тем, что будто бы говорил Митрий-туре про Оразан-батыра.
Горька была эта гордость. На земле так же отозвалось эхо грозное. Не все бии рода кунград одобряли такую месть за бая Жандоса, а из простолюдья не одобрял никто. Что греха таить, бес попутал, поспешил Рыскул-бий принять страшный дар Оразан-батыра, его последнюю жертву. Черный Куланбай хоть и не повешен, отлучен от душ и сердец, его не осуждают, но обходят, как чумного.
Сокрушался непритворно по Оразан-батыру и сам Рыскул-бий, втайне от всех, ибо показать свое горе значило уронить честь рода.
— Эй… обманчивый мир… — бормотал себе в бороду Рыскул-бий, погоняя коня.
Иноходец бежал ровно, гладко, словно тек по дороге; у всадника даже плечи не вздрагивали. Однако в груди теснило, а в голове все металось и билось.
Не было прежнего согласия среди кунградцев. И все более одиноким чувствовал себя глава рода. Небывало, уверенно, точно селезень среди уток, выплывал вперед Байкошкар-бий, отец Есенгельды…
Что же это — старческая немочь, усталость или просчет, непоправимая промашка? Прежде Рыскул-бий не ощущал гнета своих лет и было у него довольно силы сжать всех и вся в кулак, держать в кулаке. Разве он не тверд, как прежде? Кто усомнится в его непреклонности? Или впрямь не удосуживается он отсечь засохшие сучья, о которых так тонко, вскользь, но далеко глядя говорил Маман? А может, хуже: отсек Рыскул-бий живую мощную ветвь и теперь платит за это, хотя она не кунградская, а ябинская? Что за наважденье! Не так он был подавлен и устрашен, когда услышал за глаза бранное слово Митрия-туре, как тогда, когда, обласканный Маманом, услышал у всех на глазах его приветное слово. Одарил аллах джигита бесценным даром, неистовой силой.
Рыскул-бий хорошо знал, где сокрыта истинная его слабость: в его единственном сыне. Появился на свет сынок поздно, когда отцу было под пятьдесят. Обрадовал, придал воли жить и не гнуться в старости. Дано было сыну имя — Турекул, поскольку туре — означает не только господин, но еще — первый советчик, судья в спорах. Рыскул-бий вложил в сыновнее имя всю на дежду, все упованье, которые лелеял тридцать лет, пока рождались дочери. Не удался сын, не вышел из него Турекул.
Мальчик рос туповатый, косноязычный. Помимо детских, отроческих игр, его ничто не влекло. У шейха в школе он не засиживался. Что ни неделя, убегал домой, под юбку к матери.
Вот беда кунградского рода — нет у главы рода наследника. Едва закроются глаза старого беркута, отпихнут несмышленого Турекула кулаком в грудь, а то и пинком в зад — и станет ханом кунградского рода Байкошкар-бий, наглец и пройдоха, благо у него есть наследник завидный. Потому и хотелось Рыскул-бию приручить Есенгельды, — как знать, быть может, удастся пристроить при нем Турекула?
Рыскул-бий знал цену Есенгельды. Разумеется, он не ровня Маману. Но ничего лучше этого смазливого, самонадеянного пустобая кунградский род не породил.
Который уж год присматривался Рыскул-бий к Маману и против воли, втайне любовался им. Любовался — и в ту памятную пятницу, когда он по праву сел на коня, и в то утро, когда стоял у старого дуба, на волоске от гибели, и его прикрыли своими телами сироты, а следом весь народ, и особо, до боли, до скрипа зубовного, — в Орске, когда он надел зеленый камзол, покорив русских, обольстив самого царского наместника, и когда усидел в коляске Абулхаир-хана, в которой Рыскул-бий не сиживал… Бог мой, какой сын! Ради такого сына положить свою голову, как положил Оразан-батыр, — недоступное счастье. Ради Турекула этого не сделаешь.
Не потому ли Рыскул-бий уже дважды столько сил, свирепых сил положил на то, чтобы убить Мамана?
Давно, с той поры как четверть века назад по соседству поднялась исполинская фигура царя Петра и заслонила собой мир, почувствовал старый беркут: меняется неумолимо лицо времени. Еще до годины белых пяток, а тем более после нее воплотилось это лицо в Оразан-батыре, а ныне воплощается в Мамане. Царь Петр помер, его сменила на престоле одна баба — Анна, потом другая баба — Елизавета, но от петровского пинка еще гудит земля и кружатся головы. Кажется, и в мыслях нет у Мамана ни ябинского рода, ни кунградского, ни мангытского, ни ктайского, ни кенегесского, ни жалаирского, есть единые, хоть и разорванные над вое джунгарами, каракалпаки. Что с нами станется, ведомо одному богу, но, может, Маман — это будущее черных шапок?.. И все же Рыскул-бий хотел, злобно хотел его убить. Слаб человек, из праха земного слеплена его смертная плоть, и она вопиет: убей то, чем ты не владеешь, то, что тебя краше.
— О… лживый мир… — шептал себе в бороду старик, разбитый, изломанный горем, злостью и стыдом, жизнью долгой, суетной и праздной.
Сбоку выскочил заяц, побежал впереди. Худая примета. Рыскул-бий хлестнул нагайкой коня, пустился зайцу вдогонку. Заяц заметался из стороны в сторону, Рыскул-бий настиг его и затоптал конем. Подоспели два аткосшы. Заяц был еще жив. Рыскул-бий, задыхаясь, кивнул одному из аткосшы:
— Слезай, прирежь.
Показался аул. Согбенный старик вышел Рыскул-бию навстречу с веревкой в руках, видимо, собирать хворост. Посмотрел на всадников из-под сморщенной сухой ладошки, узнал Рыскул-бия.
— Э, хан кунграда… разгуливаешь на иноходце, а народ твой разоряется…
— Что-о ты сказал? — нараспев выговорил Рыскул-бий. — Повтори!
— Опять брат на брата… грабим друг дружку… Рыскул-бий рывком наклонился и схватил старика за сивые вихры.
Ты, помешанный… из ума выжил? Будешь болтать?
Но старик не отступился.
— Старый бирюк, укороти лапы… Чем затыкать мне рот, посмотрел бы на мою спину. Глянь, какая она у меня с сегодняшнего утра…
Старик задрал себе на голову рубаху. Спина его была исхлестана лиловыми кровоподтеками. Так стегать нагайкой старика?
— Кто это тебя? За что?
— Один… на черном гунане без седла, кривой… Я говорю, бог наказал Мамана гибелью отца. Он и давай! Я и тебе скажу, бирюк беззубый, доверились мы тебе, а ты? Не можешь оборонить своих овец, так отдай посох Байкошкар-бию. Он побойчей тебя. Он уже там, с джигитами…
— Где?
— На месте! Ему некогда разгуливать на иноходцах без толку, без проку.
Рыскул-бий хлестнул коня, крича: — За мной! Живей! Живей!
15
— Почтенные! Правоверные! Убогие! Несчастные! Проклятые!
Все тщетно. Голос Мурат-шейха тонул в диком оглашенном оре.
Не менее чем полсотни конных и пеших сцепились в драке близ старого дуба. Люди осатанели, дубарили и колошматили друг друга чем попало; шли в ход и кулак, и сапог, и зубы, и нагайка, и дубинка, и камень; и подобно людям, грызлись, лягались кони. Не разберешь, кто кого бил. Ералаш несусветный. Казалось, в незримой паутине, в ужасе перед невидимым пауком, ошалело бились мухи, большие и малые, набрасываясь друг на друга с бешеным жужжаньем.
В толпе дерущихся метались, мыча, блея, коровы и овцы. Женщины простоволосые, босые детишки и хилые старики гонялись за скотом, стараясь загнать его в аул. Всадники хлестали их нагайками, гоня скот прочь от аула. Другие всадники в запале наскакивали на этих и на кого попало, ломили чужих и своих. Драка кружилась, клубилась, то тесней, то просторней, подобно водовороту.
Мурат-шейх охрип от крика. Не вытерпев, погнал своего коня в самую гущу… Сильный конь, свежий и неутомленный, играючи под седоком, разделил было толпу надвое. И тут шейх натолкнулся на Байкошкар-бия и Кривого Аллаяра. Держа в зубах нагайку, рыча по-собачьи, Байкошкар-бий стаскивал Аллаяра с вороного гунана. Шейх встал между ними, с трудом расцепил. Распаленный, посиневший от ярости, Байкошкар-бий заорал:
— Хе, шейх наш, и не стыдно вам быть и хозяином и вором?
— Назад! Отступись! Ты кого называешь вором? Ты на пороге моего дома…
Байкошкар-бию некогда было объясняться. Замахнулся на шейха нагайкой, чтобы не мешал делу. Кривой Аллаяр вышиб нагайку из руки бия ударом дубинки.
Хотел что-то сказать шейху, но запнулся на первой букве, зааукал, как немой или заика.
Сбоку вывернулся Избасар-богатырь. Детская его голова, едва видная над косматым воротом овчинной шубы, была окровавлена. Не разбирая, изо всей мочи огрел Избасар коня шейха нагайкой по ухоженному крупу; конь взвился на дыбы и, взбрыкивая задними ногами, понесся куда глаза глядят. Унес седока далеко в степь, не слушая узды, вырывая повод из его рук.
Молодой всадник догнал и остановил коня шейха, схватив твердой рукой за уздечку, у самых удил. Мурат-шейх вскрикнул радостно и виновато. Это был Маман. Следом подоспели Пулат-есаул и двое подручных джигитов. Они прискакали из ханского аула. Что случилось? Что там такое?
— Понять невозможно. Дурман… Боюсь, что и наши джигиты грешны, у всех рыло в пуху.
Тем хуже. Никому спуску не будет, — бросил Маман через плечо, пришпоривая своего коня.
Разгоряченный, покрытый потом, конь Мамана вновь пустился вскачь, но казалось, что Маман подъехал неспешно, словно присматриваясь к дерущейся толпе. И казалось, что крикнул он не так уж громко:
— Стойте, каракалпаки! Богом проклятые, стойте! Ябинцы, стой! Кунградцы, стой! Вы не враги… Нет здесь врагов, есть дурачье, наказанное проклятьем. Все опустите руки, все!
Голос у Мамана зычный, как у Оразан-батыра, однако не грозный, скорей холодный. Но драка тут же стала утихать, не столько оттого, что такое он кричал, сколько оттого, что он объявился у старого дуба. То там, то тут толкались, пинались, скалились, словно умеряя бег, переходя на шаг, но все разом смолкли, оторопело и туго вдумываясь в то, какую нелепицу слышали: нет врагов? мы дурачье? Как бы не так!
Пулат-есаул врезался в толпу, тыча в лица то сапогом, то нагайкой тех, кто еще пинался и скалился.
— Псы ненасытные… угомонись!
От него молча отмахивались, отворачивались, не спуская глаз с Мамана.
Незримая паутина словно разорвалась, мухи перестали биться. И тогда открылось, что на каменистой проплешине посреди толпы лежат две лошади с переломанными спинами, а под ними — два человека при последнем издыхании.
К лошадям подошел милосердный человек с длинным ножом, а людей выпростали из-под лошадей и отнесли под дуб — доживать, что им осталось.
— Теперь — правду! — сказал хрипло Маман. — Врать не советую! Что за разбой? Кто начал?
Из толпы выдвинулся Байкошкар-бий; из его распухшего носа капала кровь. Бий дергался и кривлялся в седле, словно передразнивая кого-то.
— Вы еще спрашиваете? Вы слыхом не слыхивали? А кто послал шайку воров грабить наши аулы? Вон та собака шла в голове всей своры, не узнаете?
Бий показал на старшего сына известного ябинского бая Али-бия — Кали, заносчивого парня, похожего барскими повадками на Есенгельды… Кали и не думал отпираться: кому же, как не ему, идти в голове своры! Он рассмеялся в лицо Байкошкар-бию самодовольно и развязно, надвинулся на него конем, словно собираясь опять в драку. И принялся орать:
— Вам еще мало, паршивым кунграддам? Ради успокоения духа Оразан-батыра всех вас… поднять на копье!
Маман захрипел, будто его схватили за горло. И Кали и Байкошкар-бий, невольно натянув поводья, попятились на конях.
— Оразан-батыра? — повторил Маман, сдерживая своего коня, испуганного его хрипом. — Ты видел, как он умирал? Слышал, что он завещал?
— А что нам видеть, что слышать, не тебе учить! — заорал Кали.
Но Маман его перекричал:
— Именем хана!.. Привязать этого… к хвосту его коня…
Кали не успел опомниться, как Пулат-есаул вместе с двумя подручными навалились на него, сволокли с коня, накинули петлю на шею и привязали конец веревки к хвосту коня. Пулат-есаул, ощерив волчью пасть, с язвительной ухмылкой смотрел на Мамана. Подручные тряслись от страха, глядя на дело своих рук: полузадушенный петлей, Кали пытался подняться…
Маман встал на стременах.
— Чего жметесь? Гоните коня!
И сам первый хлестнул коня Кали нагайкой. Пулат-есаул погнал его дальше… Только что кричавший, полный яростных сил джигит полетел распластанный, уже бездыханный, кувыркаясь между задних ног своего скакуна.
Тут-то и выскочил вперед на неоседланном вороном гунапе Кривой Аллаяр. Кинулся сломя голову в свою могилу. Горе-злосчастье держит человека за уши, судьба написана на его лбу. Остановись, Аллаяр, весельчак, балагур… Помолчи и задумайся! Не задумался. Не смолчал.
— Злодей! Злодей! За свою голову отдал отца… Теперь — жертвуешь всем родом? Бери и мою голову!
Тотчас следом вывернулся Байкошкар-бий со злорадным криком:
— Вот он! Вот он! Этот щенок избил досиня самого старого в нашем роде старика.
Маман схватился за грудь с перекошенным лицом, точно хотел ее разорвать.
Ты? Пре-да-тель! Изменник моему сердцу…
На этот раз Пулат-есаул и его подручные не заставили себя ждать. В миг единый Кривой Аллаяр был смят и привязан к хвосту гунана.
Маман их не остановил. Нет, не остановил. Косую толкнуть под локоть легко, удержать трудней… И полетел Кривой Аллаяр, вертясь, как перекати-поле, между ног вороного гунана, прямиком в объятья райских гурий, как это обещано праведникам. Разве не был он праведником?
Толпа застыла в ужасе и странном благоговепье. Ни одного возгласа, ни шепотка. Мурат-шейх беззвучно выговаривал дрожащими губами молитвы, а трясущиеся руки его, словно сами собой, складывались молитвенно. Если бы э т о сделал хан, даже сам хан, вырвались бы из людских душ крики и не один человек поднял бы кулак в порыве гнева и возмущенья. Но это сделал Маман, сын Оразан-батыра, принявшего смерть ради конца вековечного дурмана кровной мести, от которого зверели люди, как он их ни мучил, как ни тяготил. «Именем хана…» — сказал Маман, «Именем отца…» — слышалось всем.
Были в толпе сироты — Коротышка Бектемир, маленькая Алмагуль и Аманлык. Бектемир убежал без оглядки, Алмагуль уткнулась лицом в живот брату, Аманлык смотрел неотрывно, округлив свои бархатные нежные глаза, как будто мог удержать взглядом вороного гунана.
Маман огляделся ожесточенно, словно говоря: ну, кто следующий? Глаза и головы опускались ему в ответ — и ябинцев, и кунградцев. Один Байкошкар-бий еще не насытился.
Впереди толпы стоял Избасар-богатырь с измазанным кровью по-детски пухлощеким лицом. Байкошкар-бий смотрел на него в упор. Известно было всем, кроме Мамана, что Избасар, взяв с собой семерых, напал ночью на спящих кунградцев, увел скот, а затем, не дрогнув, отрезал арыки, несущие воду кунградцам, засыпав их у истоков землей и укрепив засыпку камнями.
Опасно было связываться с Избасаром-богатырем, — бог знает чем это могло обернуться. И все же Байкошкар-бий ткнул в его сторону нагайкой:
— Пускай он сам скажет, что натворил со своими…
— Скажи… — проговорил Маман глухо. Избасар лишь развел руками, улыбаясь, как дитя.
— Слезай с коня, Избасар-богатырь, — скомандовал Маман.
— Сле-езем, — отозвался Избасар добродушно, как будто его приглашали за дастархан. И снес свое могучее тело из седла наземь с легкостью птичьей.
Следом за ним слезли с коней еще семеро… Как на подбор те самые! Семеро из десятерых, которые ездили с Маманом встречать Митрия-туре. Цвет и краса ябин-ских джигитов. Но Маман не колебался:
— Связать их всех. Разденьте и бросьте комарам на съедение.
И это его приказанье было тут же исполнено.
Мамап повернулся к Байкошкар-бию. Казалось, сию минуту он скажет: а теперь тебя, милый, к хвосту! О господи, что бы тогда было! Ябинцы полегли бы все, но уж эту шельму с кровоточащим носом привязали бы к хвосту его коня. Однако Маман сказал холодно-угрюмо:
— Теперь ваша душа утешилась, почтеннейший? Байкошкар-бий поклонился манерно, словно бы
опять передразнивая кого-то, так, что у стоявших поблизости подвело животы от отвращенья. И бойким голосом закричал своим кунградцам:
— Маману — да будет благодарность аллаха! Поехали…
Кунградские конники отделились от толпы и стали собирать коров и овец в кучу. Им не препятствовали. Это был скот, угнанный Избасаром. Лишь Мурат-шейх возвысил голос:
— Эй, псы кунграда… подберите своего раненого пса…
Кунградцы молча подняли и унесли одного из двоих лежащих под дубом. Гоня перед собой скот, ушли.
Пулат-есаул повел в аул Избасар-богатыря и семерых джигитов, связанных по рукам, раздетых догола. За ними потянулись конные ябинцы и пешие, женщины, дети, старики. Никто не смотрел на Мамана. Быстро около него опустело. Уехал и Мурат-шейх, не вымолвив ни слова. Маман остался один на изрытом копытами лугу.
Немо глядел он в землю, у ног коня. И видел тело Кривого Аллаяра, вертящееся, как перекати-поле. Взглядывал в небо — и видел выпученный единственный глаз Аллаяра, веселый и гневный, без тени страха. В горле у Мамана булькало. Голова кружилась.
Потом он увидел перед мордой коня чернобородого человека с пристальными и добрыми глазами, двумя глазами… Они то расползались к ушам, то сближались и сливались в одно око — во все лицо, око Алланра. Маман знал этого человека и не узнавал.
— Ты кто? — выдохнул Маман всей грудью.
— Я Сейдулла, сынок. («Кто такой Сейдулла?») Ты еще молод, сынок. Живи подольше. Но постарайся… с благословеньем людским, а не проклятьем…
Маману хотелось сказать: «Я уже старый, отец, старше тебя». Но тот исчез.
Потом вдруг опять возник у самого лица Мамана и спросил:
— Глаза у тебя полны слез? Или полны крови? Почему ты меня не видишь?
И опять Мамап не успел ему ответить. Пропал Сейдулла.
Конь повернул голову и потянулся губами к Маману, чтобы сказать, кто такой Сейдулла… Маман встряхнулся и вспомнил: это же аткосшы Мурат-шейха, силач и простак, у которого — поучиться простоте. Где он? Не стало и его.
Маман спешился, пошел в степь, ведя коня в поводу. Тела Кали он не нашел, его, конечно, убрали родичи. А тело Аллаяра нашел, исковерканное, неестественно изогнутое, со стертым до кости лицом. Около него стоял вороной гунан, сидели рядком сироты — Аманлык, маленькая Алмагуль, Бектемир и все остальные. Увидев Мамана, дети разбежались; ушел быстрым шагом, отворачиваясь, Аманлык. Следом припустился гунан.
Ноги у Мамана подломились. Он повалился ничком на тело Аллаяра, теперь уже не Кривого, Убитого Аллаяра. Тело было холодно и твердо, но сильно пахло потом, точно живое. Изо всех сил Маман обнял и прижал к себе Убитого Аллаяра. Но тот оттолкнул его. Ожил Убитый Аллаяр… Вскочил и прикрыл собой Мамана, крича не своим голосом, заполошно размахивая руками, а Маман почувствовал за своей спиной ребристую твердь дуба, а на своих руках веревки. Сироты, сироты! Это Маман, наш Маман! Так кричал Убитый Аллаяр. Визжа и плача, побежали дети, дети, дети и облепили Мамана, как мухи набитую холку коня.
Рухнул дуб. Он долго, медленно рушился на Мамана, как в мучительном сне, а он ждал, холодея спиной и затылком, когда дуб его раздавит. Потом рухнула на землю ночь, мгновенно, едва закатилось солнце.
Из своего мазара вышел Оразан-батыр, кивнул Маману и стал деловито привязывать его к хвосту коня. А дальше сорвался и полетел Маман кувырком не то в небо, не то в преисподнюю, полетел в никуда, в то длинное счастливое забытье, полное живых, правдивых, вовсе не страшных, а милых видений, которые именуют кошмарами лишь чересчур трезвые, чересчур здравые рассудки.
Он смутно слышал над собой голоса. И кажется, узнал голос Мурат-шейха:
— Не троньте его. Хуже будет… Его душит его же воля.
Потом — другие голоса. Их Маман не узнал:
— Дать ему камешком умненько по шее, пока не поздно, никто и не догадается, отчего он кончился.
— Я догадаюсь, почтенный Али-бий. Дайте сперва мне камешком по шее.
— Кто тут? Ты кто, бес? — Я Сейдулла, Сейдулла…
* * *
Невеселые, головы повесив, возвращались кунград-цы домой. Они выручили свой скот и впервые на памяти людей уходили из драки, из набега, не опасаясь погони. После всего, что было, не ждали кунградцы мести. Куда там! Нынешний день ябинцам не до жиру, им бы — совладать со своим Маманом, сыном батыра. Всякое бывало, но такого, что он творил, никто не упомнит. Еще полны уши его бешеным хрипом.
И все же кунградцы возвращались словно бы обманутые. Лишь Байкошкар-бий бодрился и передразнивал всех и вся; он трубил победу. Другие держались смирней, понимая, что это не конец, это начало. Хребтами своими чувствовали тяжкую руку, свинцом налитую, — руку неистового Мамана.
Впереди, из-за холма, выплыло облако пыли. Подскакал Рыскул-бий со свитой аксакалов. Рыскул-бий был вне себя. Услышав, что было у старого дуба, он стал выкрикивать полную бессмыслицу:
Так я и знал… Не верю своим ушам! Так я и знал… Неужто правда? Двух своих джигитов — к хвосту коней?
— Правда, хан кунграда, правда.
— Спросите у этого… кто-нибудь… еще раз… Я послушаю.
Спросили, как он велел, и Байкошкар-бий еще бойчей, в лицах изобразил, как было дело. Ломался он так, что всех насмешил, кроме Рыскул-бия.
— Джигиты, — сказал Рыскул-бий с внезапным пугающим спокойствием, — этот юнец, ваш ровесник, родился в рубашке. Он в ваши годы понял то, что мы не понимаем в свои, в возрасте пророка… Слава богу, родился человек истины и справедливости. На ваших глазах родился! Он прав: нет здесь врагов… все опустите руки, все…
Затем Рыскул-бий сказал, показывая на Байкошкар-бия, и голос старого беркута был, как прежде, непререкаемо властен:
— Попала мне в глаз соринка, я ее удаляю. Свяжите вот этого необузданного и бросьте поперек его коня. Живей!
Сказал и сам поразился, как торопливо, безропотно джигиты исполнили его приказ. Байкошкар-бий не противился, слова не обронил, ушибленный нежданным срамом. Пожалуй, дурре Абулхаир-хана, даже дурре, были бы менее срамны.
Сунулся было к Рыскул-бию Есенгельды, подбоче-нясь, ломаясь, как его бойкий родитель:
— А не стал ли скудеть ваш мозговой кошель, бий-отец? Выживаете…
И не договорил, едва увернулся от удара нагайкой. Большего, впрочем, этот желторотый не стоил. На боль шее он и не отважился. Заступился за отца — на словах дерзко, и ладно. Какой смысл попадаться под горячую руку? Никто из биев не встал на сторону Байкошкар-бия. Не любят его… Рады, что хан кунграда в ударе!
Есенгельды все же надеялся, что на виду у аула Байкошкар-бий будет посажен на коня. Как-никак он правая рука головы рода. Ничуть не бывало! Байкошкар-бий проехал, лежа на животе поперек седла, дрыгая затекшими ногами, через все попутные аулы, и соседские и свои. Пялились на него всласть и хозяева и слуги, и стар, и млад. Детишки бежали следом, разглядывая, как он пыхтит, кашляет и плюется, удерживая позывы тошноты.
16
Рассвело, когда Маман пришел в себя. Со стороны аула доносился напевный голос ахуна Ешнияза, — он призывал к первой молитве. Но в домах и дворах было тихо, привычного радостного утреннего возбужденья не заметно. И даже скот, идя на выгон, мычал и блеял уныло, как бывает, когда у людей голод или мор.
Поблизости от Мамана сидел на травяной кочке Сейдулла. Маман поздоровался с ним.
— Что, сынок, туманы рассеялись? Не съехал ты с глузду, однако? — спросил Сейдулла.
Маман огляделся:
— Где Избасар и джигиты?
— Где им быть? Привязаны к арбе посреди аула. Дети, жены, бедняги, небось цельную ночь просидели у их ног. Сидят и сейчас… Всё чин чином, как ты велел.
Маман кивнул:
— Подите, отец, велите их отвязать. Скажите им спасибо, что стерпели. Скажите: прошу у них прощенья.
— А ты сам? — спросил Сейдулла. — Сам не скажешь? Оно краше.
Маман ответил странно:
— Я не один…
Потом он поднял с земли тело Убитого Аллаяра. И понес его мимо старого дуба.
На минуту он задержался на том месте, на лугу, где всего две недели назад лежало поверженное тело Оразан-батыра. Вот здесь была красная лужа. Она не выцвела и вовек не выцветет. Маман постоял, глядя на нее, и пошел дальше, в аул. Легка была его ноша и красива.
Неправда, что страшны эти застывшие вывернутые руки и ноги, безликое лицо. Высоко подняв голову, Маман пронес Убитого Аллаяра через весь аул, из конца в конец. Он шел с ним к холму, на котором светился в утренних лучах солнца мазар Оразан-батыра.
Аул был пуст и нем, когда Маман в него вошел: ни человечьего голоса, ни собачьего бреха, ни птичьего посвиста. Вымер аул. Но он был полон людей, как в дни больших годовых молений, когда Маман из него вышел. Сперва выглянули и потянулись следом мальчишки, тараща глаза, разевая рты, потом вышли старики, стирая ладонями со своих морщин тощую одинокую слезу, потом джигиты, опустив руки, затая дыхание. Пообок тащились псы, поджав хвосты, пугливо подвывая.
Женщины остались у порогов своих домов; девочки цеплялись за их подолы. Женщины побежали бы бегом, распрастывая волосы, ломая руки. Им нельзя. Им плакать отдельно от мужчин.
Правду сказать, не все потеряли голову. Не было среди шедших за Маманом самых старших, биев, ибо им не к лицу этакие порывы. И то ли велел Гаип-хан, когда давал Маману волю?.. Не было и Мурат-шейха, а также ахуна Ешнияза. Вера самовластна, вера любит канон. Воля у верующего одна — спрашиваться у бога и у духовного отца. Маман не спрашивался, и то, что он делал, было ни на что не похоже, а значит, на грани греха.
Шло за Маманом простонародье, беднота, падкая на зрелища, не оглядываясь на то, что хозяева остались дома. И уже это было неприлично и греховно. Если припомнить, бывало подобное и прежде. Не впервой увлекал Маман людей из-под хозяйской руки. Садился на коня — народ за него орал… А как смутился народ при побиении камнями?.. Теперь Маман шел, казалось, из самой бездны и опять волок за собой самые низы.
Дойдя до мазара, Маман положил свою ношу под глинобитной, беленной известью стенкой и сел рядом, повесив голову между колен. Он словно не видел, сколько народу стояло вокруг, терпеливо ожидая, пока он отдышится. Лишь однажды он вскинул голову и прижал руку к груди, как бы вспомнив что-то и заверяя в чем-то. И у всех разом посветлели лица, потому что слегка посветлело лицо у него. Он увидел Сейдуллу, а с ним Избасар-богатыря и семерых джигитов, наскоро одетых, обутых. Избасар держал в руках чистую холстину, а Сейдулла — Коран.
Потом Маман пал на колени и стал разгребать землю руками. Но подошли Сейдулла и Избасар, неторопливо подняли его и под руки отвели в сторонку. На то место, где он начал копать руками, встали джигиты с лопатами, мотыгами. Вырыли яму, а в ней глубокую нишу. Завернули покойника в холстинный саван, положили в нишу. И погребли Убитого Аллаяра. Сейдулла вложил в руки Мамана божественную книгу.
Она была раскрыта. Маман смотрел в нее, беззвучно шевеля губами. И людям казалось, что он ее читает. Маман не различал ни одной строки и не прочел ни одного стиха. Но люди не расходились и всё смотрели и смотрели, как он читает божественную книгу…
Много позднее, когда за версту от холма уже не было ни души, к мазару, крадучись, с разных сторон подошли сироты. Осмотрелись, по-птичьи крутя головами, и уселись у свежей могилы.
* * *
Не поспел Мурат-шейх простить Маману его дерзкое самовольство, как пришлось шейху одобрить новое, пожалуй еще более дерзкое.
— Хочешь отдохнуть? — спросил Мурат-шейх, когда Маман напился чаю и поел.
— Я ваш ученик, шейх-отец. Вы учили всегда: хлеб пеки, пока жарко в печи.
Тогда готовься. Велю созвать биев. Будешь с ними говорить.
— Велите собрать аул, — возразил Маман. — Всех достигших совершеннолетия… У той арбы, к которой был привязан Избасар-богатырь.
— Зачем?
— Буду говорить с народом.
— Что за страсть, что за интерес, — воскликнул шейх, — баламутить простой люд, мараться об черную кость!
Так учил отец.
Мурат-шейх раздраженно и растерянно развел руками:
— В который раз дивлюсь твоему уму. Но разве отец не учил тебя, что есть дела, в которых к месту и хитрость и лукавство?
— А сам он умел хитрить, лукавить? — спросил Маман.
— Погубит тебя твоя прямота!
— Нож хорош кривой, меч хорош прямой, — сказал Маман.
И вот какая оказия… Мурат-шейх был вконец раздосадован, больно задет, но сделал так, как хотел Маман. В обеденный час, то бишь в полдень, по зову шейха собрались все взрослые мужья рода. Было много конных, ибо хозяева пешком не ходят и на сборах сидят, но — куда больше пеших, которым должно стоять, когда сидят хозяева. Надо всеми возвышалась круглолицая голова Избасара-богатыря.
Маман говорил о русских. Он говорил, что черные шапки — лес дремучий, былинный, на великом рубеже. Но еще один такой пал, как в годину белых пяток, и не увидишь тени от живой листвы, засыплют пески обгорелые пни, останется только дивная сказка о том, какой был здесь некогда лес. Спасение одно и надежда одна: русский караул, богатырская застава. При русских не страшен никто — ни павший с гор поднебесных джун-гарский стервятник, ни Абулхаир-хан, ни Аю-хан, водитель калмыков, вековечных гонителей. При русских — мир. Когда нет мира, не любят женщин, их насилуют, а без любви не рождаются дети, которым отдашь последний кусок хлеба.
— Братья, отцы… я не в поученье вам… я на ваш суд… — сказал Маман. — Дело ли я говорю?
В прежнее время, еще вчера, кто из пеших решился бы открыть рот до того, как обмолвился его хозяин? У старшего — голос, у младшего — эхо. Вии — и те дождались, пока заговорит Мурат-шейх. Но сегодня ответил Маману не шейх, а его аткосшы.
— Дело, сынок, дело, — сказал Сейдулла. И при этом бии поморщились, а их холопы улыбались.
Никого никогда так не слушали в ауле рода ябы, ни шейха, которого любили, ни хана, коего страшились, Маман увлекся, как в доме Айгара-бия, рассказывая — и про того купца с потешной пушкой, который вместе с Оразан-батыром отвел от Сырдарьи войну, и про тайного советника, которого хвалил царь Петр, и про Мит-рия-туре. А простолюдье Мамана расспрашивало. Чернота, голота с ним разговаривала.
У многих, понятное дело, бегали глаза, многим было не столь лестно и занимательно, сколь боязно и беспокойно. Но задавали тон другие.
— Не обманут русские? Им какая выгода? — допытывался Сейдулла.
— А какая нужда им обманывать? Им нас слизнуть — как медведю муравья… А выгоду — бог даст, отец, как не будет войны. Мы — дорога большая, в Индию!
— Почем ты знаешь?
— Знаю от них.
Сейдулла с сомненьем прищурился:
— Скажи слово по-русски, для примера… Маман сказал:
— Сарь Петыр крепко любит купес, не любит дурак.
— Что это значит?
Маман обнял Сейдуллу, смеясь:
— Это значит: привет вам, почтеннейший.
Что же ты скажешь русской царице, когда поедешь послом?
— Скажу, как сказал ее наместнику: хотим держаться за твой подол, раз ты дочь царя Петра.
— А она дочь? Не было у него сына? Беда какая… — проговорил Сейдулла простецки-жалостливо, словно о своем одноаульце.
Бии не удержались от смеха, но смех был как будто бы не злой.
Маман с горячим ожиданьем смотрел на Мурат-шейха. Неужели ему не по душе эта теплота, семейная, братская? Сейдулла угадал желание Мамана. И задал наконец вопрос самый главный:
— А что сказано об этом в книге? Должно быть в ней сказано! — Он имел в виду, конечно, ту книгу, единственную, в которой говорится все обо всем.
Мурат-шейх словно ждал этого вопроса. И у Мамана дрогнуло радостно сердце, когда шейх, оглаживая бороду, причмокивая со вкусом, сказал:
— Послушайте, дети мои, притчу. Она о наших пращурах, написана на их костях. Кости их истлели давно, притча жива… Спрашивает однажды, будучи в наших краях, некто: почему у этого народа головы повернуты на закат, почему глаза желто-рыжие? Другой отвечает: жил этот народ неблизко отсюда, жил с друзьями заветными. Ветер судьбы разлучил их, бросил меж ними пустыню и море. С той старинной поры смотрит этот народ на закат, ожидая увидеть тех друзей. И оттого, что так долго смотрит, глаза стали желто-рыжие… Почему эта притча жива? Потому что мы с вами живы, дети мои. Этот народ — мы, черные шапки, а друзья — русские. Мурат-шейх умолк. Молчали и конные и пешие, словно бы раскусывая смысл притчи: некто спрашивавший и другой отвечавший, стало быть, не из нашей плоти, они небожители, а притча, надо понимать, написана не только на костях пращуров, давно истлевших, а в божественной книге.
Избасар-богатырь выдвинулся на коне вперед и поднял нагайку в знак того, что хочет говорить. К нему все повернулись. Еще ночью минувшей многие думали, глядя на его позор, с которым он так благодушно смирился: что будет, однако, дальше? Он не из тех, кто спускает обидчику…
— Я первый, — сказал Избасар. — Прошлый раз, говорят, первый подписал Оразан-батыр. Дозвольте, я подпишусь, поставлю печать. — И он показал с благостно-наивной улыбкой перстень на безымянном пальце правой руки; на перстне была печать, — бог весть что она означала, но подобной же тамгой он метил свой скот. — Я первый! Где оно, клятвенное письмо?
Мурат-шейх протяжно крякнул, искоса глядя на Мамана, словно ожидая его последнего слова.
Тогда Маман сошел с коня, шагнул почтительно к шейху и низко ему поклонился. Следом за Маманом и другие, строго по старшинству, стали подходить и кланяться шейху. Этот обряд означал, что дело завершено общим согласием.
Бии и есаулы с важностью направились к юрте Мурат-шейха. Впереди, потирая сухие ручки, спешил ахун Ешнияз — готовить перо и бумагу.
Глядя на биев, Мурат-шейх с изумлением думал о том, как просто Маман расшевелил этих байбаков. Единственной угрозой, казалось бы, вовсе не исполнимой — обойтись без них…
* * *
Два дня кряду трудились бии. Неуемно спорили, цеплялись за свои мнения, как за кошельки. Призвали попа-расстригу, которого отметил Митрий-туре, но сей муж налегал больше на жратву и кумыс. Примирил всех ахун Ешнияз, написавший все по-своему. Это никому не было обидно. Маман держался опять в тени.
Готово клятвенное письмо! Чей почин? Ябинцев… Пулат-есаул повез бумагу — показать Гаип-хану, а Му рат-шейх разослал учеников по аулам — растолковывать, что написано в письме, и особо — ту притчу, которая всем полюбилась. Теперь очередь за кунградцами…
Маман был невесел. Его поздравляли, благодарили, а он искал уединения. Стал грубоват, вспыльчив, как при неудаче. Мало ел, мало спал, как старик. И думалось ему совсем не о том, о чем следовало.
Шейх прогнал его на охоту — встряхнуться душой. Маман поехал, но не добыл ни зайца, ни фазана. Рука не поднималась — стрелять. Сердце отворачивалось от этого занятия. А он отворачивался от самого себя.
В сердце были одни покойники. Оразан-батыр… Убитый Аллаяр… Живые уходили из сердца Мамана. Уходил без оглядки Аманлык. Уходила девушка, похожая на тюльпан, милая, ненаглядная, да не суженая. Держались они за руки, Аманлык и Акбидай, уходя из его сердца. А оно не умело их остановить.
Седлая коня на охоту, Маман заметил на конюшне шейха вороного гунана. Оказывается, привела его маленькая Алмагуль. Сам Аманлык не показался. Так, может, и дом, им подаренный, они уже покинули? Нет, Аманлык лежал хворый. Хотелось броситься к нему тотчас. Но Маман не пошел и не послал его проведать.
Думал уехать в аул Айгара-бия. Хотелось увидеть Акбидай хотя бы на прощанье. Да, на прощанье… И он поехал, отстав от охотников. Вернулся с половины пути, измученный желаньем, помешанный от горя. Не мог он увидеть ее без Аманлыка! И этого не мог.
Погнал коня домой… Будет прятаться. От себя не убежишь.
До самого аула ему мерещилось, что за ним вдогонку скачет красная девушка и машет ему красным платком. Но теперь он не хотел, чтобы она его догнала.
В кустарнике, близ аула, сквозь зеленое марево молодой листвы, Маман разглядел Коротышку Бектемира. Лежал дурачок пластом и таращился через плечо, как застигнутый охотником заяц, а когда Маман приблизился, пополз от него, паша носом землю. Стащил что-нибудь, что ли? Не узнал с перепугу, кто едет?
— Вижу тебя, вижу, вставай! — окликнул Маман. — Где твоя торба? Чего ты дрожишь? Поди сюда.
Коротышка Бектемир пискнул, как мышь, и заслонился рукой от Мамана.
— А ты не убьешь?
Маман медленно поехал дальше.
Дома он взял отцовский меч в простых черных ножнах и пошел к Аманлыку. Поднял наружную циновку, толкнул скрипучую двустворчатую дверь, переступил высокий порог.
Аманлык лежал, укрытый старым стеганым одеялом; оно было из выцветшей бязи, из дыр торчали клочья серой ваты, похожие на комья грязного снега. Изголовье деревянное, вместо подушки положена ушанка. В доме не топлено, а лицо у Аманлыка лихорадочно воспалено, у него жар.
Маман поздоровался. Аманлык не ответил. Ты ел сегодня? — спросил Маман.
— Сыты мы твоей милостью по гроб жизни, — хрипло проговорил Аманлык и закашлялся.
В дверях показалась маленькая Алмагуль с охапкой хвороста. Маман подозвал ее.
— Пойди к Сейдулле. Он тебе даст сухих ягод, научит, что с ними делать. Скажешь ему, чтоб сварил суп из той дичины, которая с сегодняшней охоты. Принесешь, накормишь, сама поешь. Иди.
— Не ходи, не хочу я, не ходи! — вскрикнул Аманлык, кашляя.
Но маленькая Алмагуль не послушалась брата, а послушалась Мамана, кинула у дверей хворост и убежала.
Маман положил меч батыра около Аманлыка. Сел и заскрипел зубами, как это делал иногда отец.
— Вот… бери… Он велел. Не мне, а тебе… свой меч… Это ты можешь понять?
— А ты? А ты? — вскрикнул Аманлык.
— Даст бог, и я пойму.
Ты не человек! Нету в тебе ничего человечьего. Всех перебьешь ради славы…
— А чьей славы? Подумай.
— Нам думать — слезами умываться.
Маман нащупал сквозь одеяло руку Аманлыка:
— Не покидай меня, брат… Я уже слишком много потерял. И еще потеряю, знаю, что потеряю…
Аманлык вырвал руку. Глаза его закатились под лоб.
— Иди обнимись с Аллаяром!
Маман встал и пошел к двери. От двери сказал:
— Выздоравливай… Коня твоего я не возьму. Придешь, как встанешь. У нас много дел.
Затем Маман пошел к Мурат-шейху. Шейх в уединении читал Коран, развернув его на коленях, коротко, часто кланяясь и время от времени заунывно напевая с закрытым ртом то, что читал, и казалось, что невидимая оса то прилетает, то улетает, жужжа над ухом. Увидев Мамана, Мурат-шейх всплеснул руками:
— Что с тобой? На тебе лица нет. Где же твоя молодость?
— Слег бедняга Аманлык…
— И ты у него просил прощенья?
— Нет.
— А он у тебя?
— Нет.
— Ну, и то хорошо, что вернул коня, — сказал Мурат-шейх, ущипнув свою бороду. — Сообразил, где его место.
Но Маман с силой ударил себя кулаком в грудь. Мурат-шейх закрыл книгу, чувствуя неладное.
Что ты еще надумал? Что еще хочешь попортить?
— Ничего особенного… Свою жизнь, — ответил Маман.
— Ага, и, конечно, с моей помощью?
Маман встал на колени и поцеловал руку шейха.
— Не откажите… Без вас нельзя. Обещайте мне, заклинаю вас, обещайте! Это благое дело.
— Бла-гое? Говори. Маман насупился.
— Я сколько раз привозил вам приветы, поклоны от Айгара-бия. Нравится мне его аул. Что за люди! У нас таких нет. Мне его аул ближе нашего с вами.
— Хорошо говоришь, сын мой, — отозвался Мурат-шейх. — Что верно, то верно. Из-за таких казахов, как Айгара-бий, можно полюбить даже Абулхаир-хана.
— С такими казахами сам бог велел породниться, — сказал Маман.
Ты думаешь? Есть у тебя… на примете?
— Есть… одна девушка… дочь Айгара-бия… Я ее буду любить до смерти.
Вздох облегченья вырвался из груди Мурат-шейха.
— За чем же дело стало? Сын мой, родной ты мой!
— Дело за вами. Больше никто не сумеет…
— Сосватать, что ли? Кто же не сумеет?.. Со всей моей радостью! Может, женатый, ты у нас остепенишься… Девушка славная.
— Шейх-отец, надо отдать ее за Аманлыка. Ему сватайте.
Лицо Мурат-шейха перекосилось, как будто он глотнул настой полыни.
— О господи… Поистине только этого сраму недоставало моей седой голове… Она же твоя невеста! Или ты не мужчина?.. С какими глазами прикажешь мне явиться пред очи Айгара-бия — просить невесту Маман-бия в жены его слуге? Чего хочешь, безумец? Этой ценой — подольститься к нищему? Или, может, этакой карой — покарать себя?
— Не знаю, как сказать… Я решился, отец. Помогите, отец.
— Поди прочь с моих глаз. Не могу тебя видеть. Урод! Скопец! — закричал Мурат-шейх.
Маман ушел и до поздней ночи бродил по степи. Кажется, его искали… Он укрылся в зарослях турангиля. И думал он со светлой горечью, совсем по-стариковски, думал о том, что, потеряв одну женщину, им избранную, вряд ли он найдет другую, так же, как Оразан-батыр, его отец. Есть такие среди людей, есть среди зверей, есть во всем живом мире, сотворенном всевысшим: не скопцы, не уроды — однолюбы… Думать так было легче. С этой мыслью можно было жить.
17
Последний разговор с Гладышевым не шел у Мамана из ума. Вот какая петрушка… То, как рисковал Митрий-туре, отказываясь от охраны, Мамана уже не удивляло. За его храбростью стояла сила несметная. Удивляло то, как рисковал Гаип-хан, собираясь принять джунгар-ских нарочных. Этот храбрец — несравненный, у матери удой молока унес. Схватить бы его за руку!
Избасар-богатырь ходил по пятам за Маманом, заглядывая ему в глаза. Что, если и нам рискнуть? Изба-cap — не великого ума, но надежен, как скала.
— Скучаешь? — спросил Маман. Тошно. Не смотришь на нас.
— Есть дело как раз по тебе. Езжай в гости… к Ну-ралы-баю…
— К которому?
— В ханский аул.
— Не поеду. Нуралы-бай скряга. Заместо угощенья поведет с собой навоз возить.
— Это нам и надо. Сиди у него невылазно. Слушайся во всем, чтобы он был тобой доволен. И не проспи!
— А что? А что?
— Как только пожалуют к Гаип-хану гости, обязательно он пришлет к Нуралы-баю за мясом.
— Известное дело.
Так вот, отнеси хану сам барашка…
— Зачем? Не буду. Не стану.
— Слушай, что говорю. Если гости знакомые, уйди с миром. Если нет, скачи, не жалея коня, днем или ночью, найди меня, где бы я ни был… И держи язык за зубами, если дорожишь своей и моей головой. Чуешь, что я тебе доверяю? Больше ничего не скажу.
На детском лице Избасара изобразилось страдание. Он ничего не чуял, но помирал от любопытства.
— Когда ехать?
— А разве ты еще не уехал?
Избасар-богатырь ухнул, как филин, и побежал бегом к своему коню, сотрясая землю буйволиным топотом. Для начала недурно!
Далее, не теряя времени, собрался в дорогу и Маман, благо Мурат-шейх не подпускал его к себе близко. Маман поехал к Рыскул-бию.
Как и следовало ожидать, в ауле кунградцев была неразбериха. До дела руки не дотягивались. Клятвенное письмо? А что это такое? С чем его едят? Слыхали, слыхали про почин ябинцев! Тем хуже для ябинцев и для письма.
Рыскул-бий встретил Мамана в растерянности. Бойкий Байкошкар-бий и его люди просидели два дня и две ночи, привязанные к арбе, но ума не набрались, набрались желчи. И понятно, нашлись у них единомышленники, и те тоже озлились. Байкошкар-бий собрал при Есенгельды дюжину джигитов, послал их в степь, подальше от аула, и держал эту бражку, как кулак за спиной. Велено было Есенгельды сыскать дружков среди ктайцев и мангытцев, умножиться сверстниками и напасть, но не на старого беркута, а на Мамана. Побьют смертным боем Мамана, опозорят его, — это и будет зарез Рыскул-бию.
Услышав, чем занят Есенгельды, Маман тотчас поднялся из-за дастархана, за которым с почетом и лаской принимал его Рыскул-бий. Хотелось Маману сказать: и вы жалуетесь мне, ждете помощи, не сомневаясь, что я вас выручу, вы, искавший моей смерти и утешенный смертью моего отца! А в глубине души, даже вот в эту минуту слабости, чего вы жаждете больше всего? Чтобы я погиб… Но Маман сказал не колеблясь:
— Успокойтесь, уважаемый. Я им доставлю такое удовольствие: явлюсь к ним сам.
— Но, сын мой… Ты один-одинешенек. Я пошлю тебя проводить.
— Никого мне не надо! Дайте Есенгельды. Дайте полюбить его, как родного брата…
— Прости меня, сын мой.
— Пусть бог вас простит, уважаемый.
Затем Маман поехал в степь и под вечер отыскал Есенгельды в известном всем охотничьем логу, где укрываться означало то же, что мозолить глаза. Бражка его явно приумножилась. Маман насчитал человек двадцать. Джигиты сидели у костра, жарили фазанов. Но незаметно было, чтобы они уж очень веселились.
Когда подъехал Маман, все вскочили, заметались, прячась за спины друг друга, сбились в кучу, как цыплята, когда налетает ястреб. Лишь Есенгельды стоял, выпятив грудь и подбоченясь; перед Маманом, рослым, не по годам матерым, он казался подростком.
Маман спешился и небрежно отдал ему повод, как слуге или доброму хозяину, к которому был зван в гости. И Есенгельды повод принял и даже слегка поклонился, как вежливый хозяин.
— Давайте здороваться, братья, — проговорил Маман с угрюмой усмешкой, подходя к костру и протягивая руку всем поочередно — но кроме Есенгельды.
Джигиты корчились под его взглядом и от его рукопожатия, но помалкивали. Судя по всему, их разбирало сомненье… Виделась им за ближним холмом детская голова Избасара-богатыря.
«Что ж, подождем», — подумал Маман со злым спокойствием. Сел поудобней, снял с вертела поджаренную тушку фазана и, не торопясь, стал ее есть, обгладывая косточки и похваливая:
— А хорошо этак при случае сойтись, посидеть, отдохнуть душой с самыми близкими дружками, а?
Джигиты стояли как пришибленные. Они наконец убедились, что Маман здесь один против них, двадцате-рых, и это было еще страшней. Пали духом удальцы.
— Ну, я поел, готов встретиться с богом, — сказал Маман. — Теперь бейте меня!
Джигиты засмеялись, словно дружеской шутке. Заговорили вдруг хором:
— Мы что! Мы ничего. Вы не думайте, Маман-ага! Мы — любя… Хотели постращать…
— Ну, так стращайте!
Молчанье. Маман встал.
Никого не трону! Забуду, кого здесь видел. Но чтобы сей же час — все по домам. Пора вам сопли утирать!
Джигиты опять захмыкали, ухмыляясь. А один сказал с веселым облегченьем:
Утрем, Маман-ага.
Есенгельды стоял на отшибе, как будто его это не касалось. И лицом, и манерно изогнутой фигурой он изображал презрение ко всем на свете. Маман подошел к нему. Ты чего добиваешься?
— А ты?
— Хочу воли и мира своему народу. Есенгельды дернул плечом, как капризная девица, показал в оскале мелкие острые зубы.
— Мечтать, что вырастишь мизинец с большой палец, — это все равно что летать во сне на крыльях. Пока жив род человеческий, будет везде и обида, и грабеж, и кровь. Недаром говорят: если бы не нос, глаза съели бы друг друга.
— Это правда, — сказал Маман. — Но о чем ты мечтаешь?
— Избавиться от тебя. А то послушать нас с тобой со стороны: ни дать ни взять — спорят два дурака.
Маман вздохнул:
— Сказать тебе нечего. Жаль… Крутишься, как юла, а не соображаешь, какой тебя крутит ветер! Ветер такой, что шапку снесет вместе с головой.
— Не пугай. Я не Аманлык. Учи Аманлыка. Маман бегло, скупо улыбнулся.
- 'А метишь на его место… Как же ты будешь мне служить такой гордый? Хочешь мне служить? Отвечай честно. Не ловчи!
— Хочу, — сказал Есенгельды неожиданно для всех.
— Чего больше хочешь — служить или убить? Есенгельды не успел ответить. Джигиты заорали
скопом, так буйно весело, будто захмелели от веселья:
— Убить! Убить!
И Маман захохотал вместе со всеми.
Сквозь шум и гам не сразу расслышали близкий топот. Маман прислушался и пустился бегом на ближайший пригорок. Так и есть! На дым костра во весь опор скакал Избасар-богатырь. Маман свистнул, зовя его к себе. Избасар ответил таким свистом, что в ушах задожило. Подлетел, спрыгнул на скаку, облапил Мамана. Конь был в мыле, всадник в поту.
— Все сделал. Навоз возил… отнес барашка… Тише.
Избасар огляделся, увидел в логу, у костра, джигитов и потемнел, но сейчас было не до них.
Гость один неизвестный. С виду — дервиш, заху-даленький, паскудненький такой, одна сивая бороденка. Но видел бы ты, как он одернул коня. Жеребец аж присел на задние ноги.
— Он! — вскрикнул Маман. — Брат… молодец…
— Имей в виду, хан за тобой послал Пулат-есаула. Зовет немедля.
— Не может этого быть… Что ты говоришь!
— А что? А что?
— Знаешь, зачем зовет? Проводить дервиша… — Маман хлестнул себя нагайкой по сапогу и засмеялся зло и страшно. — Вот это подарок. Спасибо, хан. Уж я вас уважу.
Подумал. И еще раз хлестнул себя нагайкой, довольный тем, что придумал. Подозвал Есенгельды. Тот подошел, опасливо косясь на Избасара.
Избасар зарычал:
— Дай задавлю эту гниду одним щелчком.
— Нет, брат, — сказал Маман, — эта гнида теперь на моем темени. Продавишь мне темя. Слушай, Есенгельды… Хочешь разом прославиться? Едем со мной. Наперед говорю: дело рисковое. К хану тебя беру. Будешь моей правой рукой. Не струсишь?
— Едем, — ответил Есенгельды, подбоченясь.
— Подай мне коня.
Есенгельды, не прекословя, побежал за конем. А Избасар, ошарашенный, забормотал:
— Ты что же это, Маман? Я тебя не узнаю. Опять ты ослаб?
— Друг, не мешай… Ты свое сделал. Старайся теперь не показываться на глаза.
— Зачем? Почему?
— Завтра все узнаешь. Завтра!
— Скажешь?
Маман кивнул, добавив про себя: если вернусь.
— Не обманешь?
— Нет.
Нелегко было Избасару отойти в сторону, глядя на то, как Маман и Есенгельды, ни с кем не прощаясь, по ехали восвояси, рука об руку, занятые лишь друг другом. Однако Избасар совладал с собой и даже джигитов у костра не пугнул, как следовало бы. Те были поражены еще больше, чем он. Не гоня коня, давая ему передохнуть, Избасар отправился все же в ханский аул. Не сказать, чтобы он особо тревожился за Мамана. Просто невмоготу было от любопытства.
Маман и Есенгельды, напротив, погнали коней во всю мочь, как только скрылись из глаз джигитов. К ночи прискакали в ханский аул. Гаип-хан встретил Мамана, выйдя из юрты, суетно семеня короткими ножками и едва ли не раскрыв объятья. Увидев же с Маманом не Аманлыка, а Есенгельды, хан захлопал себя ладонями по ляжкам, как петух крыльями.
— Ну, слава богу! Это по мне! Угодил, угодил, Маман-бий, вот как нам угодил. Этого мы и хотели. Поладили, значит? На чем же поладили?
— На преданности вам, хан наш.
Есенгельды выдвинулся из-за спины Мамана и открыл было рот, но Маман ткнул его нагайкой в зубы:
— Ну, ты… чина не знаешь? Есенгельды молча, с поклоном попятился. Гаип-хан ликовал в душе. Дельце складывалось как
нельзя более удачно. Он рассчитывал только на Мамана… А уж в пару с Есенгельды… Такой удачи он и ждать не ждал… Если в деле везет с самого начала, стало быть, дело счастливое.
Гость, похожий на дервиша, привез Гаип-хану письменное послание от лица, имя которого не следовало называть вслух, как и имя гостя. Оное лицо обещало Гаип-хану и его потомкам бессменное ханство над всеми каракалпаками, располагая в будущем объединить Нижних Каракалпаков с Верхними, как было до годины белых пяток. Этого хотел и Гаип-хан, об этом мечтали сами каракалпаки… В обмен оное лицо просило немногого — признания своей верховной власти и в знак признания ожидало от Гаип-хана аманата.
Гость напомнил, что нынешний хан Верхних Каракалпаков Султанмурат отдал в аманаты своего сына. Должно бы и Гаип-хану послать сына, лучше старшего — султана Убайдуллу. Но, выслушав Гаип-хана и узнав, кто такой и каков из себя Маман-бий, гость согласился, что, пожалуй, наиболее пригоден в аманаты сей необыкновенный муж. Хорошо, пусть будет Маман-бий. Это ценный аманат.
На том и сошлись, и Гаип-хан послал Пулат-есаула за Маманом. Маману предназначалось проводить безымянного гостя до города Туркестана и там, в Туркестане, остаться, волей или неволей стать аманатом. На крайний случай, ежели Маман оказался бы неумеренно строптив, что не исключено, Гаип-хан не возражал бы против того, чтобы отдать его в руки палача. Более того, такой поворот дела Гаип-хан скрепя сердце приветствовал бы. И это так же вполне одобрил гость, узнав, как далеко зашел Маман-бий навстречу русским. Опасный человек. Его полезно убрать в Туркестан и еще далее…
Когда же Маман приехал с Есенгельды, Гаип-хан подумал, что это не иначе как воля божья. Аманат чудесным образом удвоился числом и вздорожал в цене. Недурно бы сплавить туда же, куда Мамана, и Есенгельды, ах недурно! От них обоих многовато хлопот.
Готовьтесь, — сказал хан бодро. — Есть одно важное поручение. Идите подкрепиться на дорогу. Спать уже не придется. Доверяю вам нашего гостя, только вам! Полагаюсь на вас, как на самого себя.
— Мы рабы ваши, — ответил Маман.
Гаип-хан поспешил в свою юрту, к гостю, — объясниться насчет Есенгельды, а султан Убайдулла повел Мамана и Есенгельды к себе. Пока джигиты закусывали, султан Убайдулла сидел как на иголках. И все-таки не выдержал, зашептал Маману в висок:
— Дай сюда ухо… Ты знаешь, кого будешь провожать? Ты знаешь куда?
— Знаю.
— Дурак! Это советник джунгарского хана. Вашим отцам, старым биям, его не доверишь. Им в руки лучше не попадаться.
— А нам — в руки?
— Вы дураки, — сказал умный султан. Есенгельды побелел. Душа ушла в пятки. Впервые он почувствовал шкурой своей, что значит быть причастным к делам Мамана. Дернула нелегкая — тянуться за ним. Разве не знал, что за дьявол Маман? Невесть в какую яму завлек. Закопает вместе с собой. Куда верней, куда интересней — сейчас бы домой…
До последней минуты Есенгельды надеялся: что-нибудь да помешает, не состоится или хотя бы отложится дело, а тем временем он улизнет, чего бы это ему ни стоило. Но Маман не отпускал от себя ни на шаг, а хан торопил. В середине ночи увидели наконец джунгарца.
Лицом строг и непрост. Одет скромно, если не сказать — бедно. По-каракалпакски говорит без запинки…
Хан сам подал ему коня и горячо обнял дорогого гостя, а тот взлетел в седло, как юноша или ратник.
Ты и есть Маман? — спросил джунгарец ясным твердым голосом. — А это?..
— Это мой первейший враг и самый преданный слуга, — ответил Маман.
Ответ, видимо, понравился. Есенгельды осклабился угодливо и чуть не взвыл, поняв, что теперь ему уже не вырваться из рук Мамана.
— В добрый путь! Трогай! — сказал Гаип-хан.
И несколько шагов провел в поводу коня джунгарца, оказывая гостю неслыханное почтенье.
— Митрий-туре… Митрий-туре… — шептал беззвучно Маман, словно призывая его в свидетели. Далеко дело зашло, далеко!
* * *
В тот день Рыскул-бий тщетно спрашивал себя: радоваться ему или расстраиваться. Джигиты Есенгельды вернулись в аул смирные, как овцы, и в один голос блеяли хвалы Маману. Уму непостижимо! Затем явился Байкошкар-бий, отец Есенгельды, с любезным поклоном и вопросом: где же его сын? Еще вчера это было бы издевкой, сегодня смахивало на готовность повалиться лапками кверху. Колдовство — и только! Если верить джигитам, Маман взял Есенгельды с собой к Гаип-хану и назвал Есенгельды своей правой рукой. Чего же большего желать?
Однако — к Гаип-хану… Что. за нужда? Судя по тому, как держался Избасар-богатырь, разыскивая Мамана, нужда — чрезвычайная. Но у Мамана недостало времени, а может, и желанья — заехать к Рыскул-бию, пусть не за его благословеньем, хотя бы за его благодарностью. Вот что было досадно, а еще более — подозрительно. И это заслонило собой все остальное.
Не сиделось на месте старому беркуту. На другой день спозаранок поехал он в ханский аул, позвав с собой бойкого Байкошкар-бия. По дороге они догнали Мурат-шейха. Шейх тоже спешил за Маманом, обеспокоенный неведомо кем сочиненными россказнями о том, как Маман снюхался с Есенгельды. А далее их догнали, один за другим, редкобородый Убайдулла-бий, глава мангыт-цев, и добрейший Давлетбай-бий, глава ктайцев, — их подняли на ноги свои джигиты, отставшие от бражки Есенгельды. Показался на той же дороге и Есим-бий, глава жалаирцев, соседей ябинцев; и его увлек узун-ку-лак, степное Длинное Ухо. Есим-бия встретили громкими возгласами и тайным завистливым вздохом: ни о ком из них, аксакалов, так быстро и широко не оповещало Длинное Ухо, как о Мамане. И кто из них кинулся бы в ханский аул сломя голову, ни свет ни заря, без зова и без спроса, если бы туда не поехал Маман?
Первым в ханском ауле встретил биев Избасар-богатырь. От него и узнали, что был у Гаип-хана важный гость; ночью отбыл сам-третей, с Маманом и Есенгельды. И будто бы ехать им — ни далеко ни близко, в город Туркестан!
Бии переглянулись и валом повалили к юртам Гаип-хана. Хан спал, а проспавшись, не пожелал их видеть. Потом вышел к ним в гневе и прогнал, велел ехать по домам. Но вскоре опять вышел, потому что бии стояли стеной… И походил хан на голую бабу, которая пряталась на горбу верблюда.
Кто знает, чем бы это кончилось, если бы вдруг не выскочил, откуда ни возьмись, султан Убайдулла, сын Гаип-хана.
— Смотри! Гляди!
Огляделись и увидели неподалеку Мамана и Есенгельды. Один казался орлом, другой — мокрой курицей.
Гаип-хан до того потерялся, что пошел им навстречу на подламывающихся растопыренных ногах, отмахиваясь обеими руками.
— Вы что? Вы куда? Что случилось?
Маман соскочил с коня, приветствуя хана. И рывком стащил на землю Есенгельды, у которого, казалось, не хватало сил спешиться.
— Все сделали, хан наш, все, как вы задумали! — сказал Маман.
Гаип-хан зашипел:
— Откуда ты можешь знать, что я задумывал? Как ты… посмел?
— Помилуйте, хан наш, не такие уж мы безмозглые! Вы сказали: доверяюсь, полагаюсь… только вам, как на себя… Остальное ночь подсказала.
— Что ты мелешь, безумец!
Маман округлил глаза, как это делал Избасар, обижаясь.
— Не верите? Я докажу…
Снял притороченный к седлу мешок и вытряхнул из мешка темную бугристую дыню. Дыня покатилась по земле и обернулась отрубленной человеческой головой. Глаза у нее были открыты, но одно веко примято, и голова словно подмигивала. Нижняя челюсть с сивой бо-роденкой отвисла в смертном изумлении.
Что ты наделал?.. — сдавленным голосом выдохнул Гаип-хан.
Маман огляделся, недоумевая:
— А что еще делать с джунгарцем?
— С джунгарцем! — хором, на разные голоса вскрикнули бии, и громче всех — Избасар-богатырь.
Гаип-хан хотел было заорать, поднять руку на Мамана, но живо смекнул, что сейчас лучше — потише, лучше смолчать да собраться с мыслями. Повернулся и ушел в юрту, точно провалился в нее.
Рыскул-бий медленно приблизился к мертвой голове, нагайкой повернул ее лицом кверху и ткнул в приплюснутый нос. Сказал с ненавистью, не остывшей за два десятка лет:
— Голову джунгарца хоть золотом набей — она не станет дороже.
— Сделай благое дело — убей джунгарца, — добавил Мурат-шейх. Это присловье не приелось с годины белых пяток.
Избасар-богатырь плюнул на мертвую голову, за ним — и все бии.
Султан Убайдулла не выдержал, завопил во второй раз:
— Последствия… последствия будут худшие, отцы мои…
— Для кого? — спросил негромко Маман.
— Молчи, дурак! — крикнул султан Убайдулла и убежал за своим отцом.
— Я молчу, — сказал ему вслед Маман.
Бии переглядывались, смекая, что к чему, связывая концы с концами. Бии, кажется, начинали понимать, на какое самовольство нынче отважился Маман и какую нынче он выиграл игру!
— А не пойти ли нам, бии мои, к нашему хану, — сказал со значеньем Мурат-шейх, — дабы принести к его стопам благодарность и преклонение перед его прозорливостью?
Шейх говорил: пойти к хану, но все смотрели на Мамана, словно шли к нему и кланялись ему. Потом, стерев с лица улыбки, не колеблясь и не спрашиваясь, вошли в юрту. Маман остался у двери, но не прошло и минуты, как вышел Избасар и позвал его к хану. Следом выскочил Байкошкар-бий, побежал к сыну:
— А у тебя язык отнялся? Иди, зовут. Делил труды, подели и честь.
Есенгельды стоял у коновязи, потерянный, больной и душой и телом. Он был замешан в деянии, которого чурался и боялся, которое не мог совершить, но не мог и не совершить. С содроганьем он вспомнил потрясение минувшей ночи, свою постыдную беспомощность, животный страх и уже не хотел чести. Он был сыт по горло. Он был раздавлен.
* * *
По дороге из ханского аула домой Мурат-шейх сказал Маману:
— Эту голову они не забудут, ни бии, ни хан… Слышал, как пел Гаип-хан? Буду целовать Коран! А Рыскул-бий! Просил меня прислать ахуна Ешнияза. Не хотим, говорит, отстать от вас. Байкошкар-бий лобызал мне руку за Есенгельды…
— А кто такой Есенгельды? — спросил Маман нравно, как два года назад, когда впервые услышал о нем.
Но затем умолк и замкнулся. Глаза его блестели.
— Что с тобой? Плачешь?
— Как вспомню… помираю. Зачем я живой? Зачем он мертвый?
— Молись богу, сын мой. И может быть, он наведет тебя на ту мысль, что тебе нужна женщина, как нужна была твоему отцу.
Маман отвернулся, кусая губы. Шейх воздел руки с сочувствием и гневом.
— Что ты с собой творишь? К чему себя приговариваешь? Муж должен обладать женщиной, как солнце землей, а земля водой. Должен биться за женщину, чтобы посеять в поле Евы семя Адама, как гром бьется с молнией, чтобы пролить дождь.
— Простите, отец, — сказал Маман сдавленным голосом, погнал коня и уехал вперед.
Дальше до аула ехали врозь.
«Не уступит, — думал шейх, глядя вслед Маману. — И что он еще учинит, если ему перечить? Поистине им руководит неземная воля».
Приехав в аул, Мурат-шейх осадил коня у дома Аманлыка. Маленькая Алмагуль выгнала лихорадку из груди брата питьем из горьких трав и сухих ягод, и тот выбежал навстречу шейху, готовый служить. Но шейх спешился и протянул Аманлыку повод:
— Зови в дом, хозяин.
Аманлык наскоро привязал коня, кинулся следом за шейхом и набросил на ворох соломы в переднем углу старую овчину, приглашая сесть. Шейх, не чинясь и не брезгая, уселся с легким кряхтеньем, означавшим, что сиденье удобно гостю и вполне его достойно. Вбежала маленькая Алмагуль и застыла у локтя брата, не дыша. Им, не раз стоявшим у порога дома Мурат-шейха с протянутой рукой, и во сне не снилось, что шейх переступит порог их лачуги.
— Будет чай, хозяюшка? — спросил любезно, без малейшей насмешки нечаянный гость.
Алмагуль бросилась заваривать чай, подала его в единственной в доме пиале. А Аманлык, запинаясь, осведомился о здоровье шейха-отца. Осведомился и о делах, столь недоступных нашему разумению и столь важных для всех. Как выговорились такие слова — сам не помнил, но гость отвечал непринужденно и ласково, как будто был польщен вниманьем. Между прочим шейх заметил, что Маман утопдет в делах, словно извиняясь в том, что недосуг Маману попить чаю у Аманлыка.
Потом стал рассказывать Мурат-шейх милым хозяевам об их покойном отце Данияре, искусном табунщике, степном мудреце, умевшем радиво и честно трудиться, делать добрые дела. Без времени, без жалости задавила Данияра чума в один день, в один мах с его женой, их матерью. Упомянул Мурат-шейх и о том, что это он дал им имена, брату — Благополучный, сестре — Цветок Яблони, да будет благополучно и да цветет яблоневым цветом их будущее.
Аманлык смутно помнил отца и мать, Алмагуль совсем их не помнила. Шейх воскрешал их родителей горячим любовным словом. Ему не лень было это сделать и сладостно пролить с сиротами слезу. Аманлык встал на колени и поцеловал сапоги Мурат-шейха.
Незаметно Мурат-шейх завел речь о друзьях казахах, о доме Айгара-бия, о его дочери… И неожиданно для себя узнал то, что ему и в голову не приходило дотоле. Девушка-то приглянулась нищему сироте, он от нее без ума. Значит, навряд ли он от нее откажется, как надеялся втайне Мурат-шейх. Впрочем, и без любви, будь она неладна, какой же дурак не пойдет зятем в такую богатую семью? Небось взял бы и рябую, конопатую, а тут красавица!
Аманлык понял расспросы Мурат-шейха по-своему. Примстилось джигиту самое худое: уж не метит ли хитрый шейх за спиной у Мамана, чудака, сватать Ак-бидай за одного из своих сыновей? Аманлык вновь по валился на колени.
— Шейх-отец, побойтесь бога… Ее хочет в жены Маман. Не знаю, как отец, а братья ее отдадут за Мамана, я знаю…
Мурат-шейх удрученно закивал головой.
— А за тебя?.. За тебя, сын мой… отдадут? — спросил шейх. И добавил с невольной злостью:- Маман просит сосватать свою невесту за тебя!
Аманлык отшатнулся в испуге, выпучив телочьи глаза, подняв к лицу руки, словно ожидая удара и не смея от него закрыться. И тут же, рядом с ним, упала в ноги всевластному гостю маленькая Алмагуль, забилась, как подбитая стрелой серая куропаточка.
— Отец милый… отец милый… не прокляните брата моего!
Мурат-шейх тяжко вздохнул. Выплеснул из пиалы недопитый остывший чай.
— Встаньте, дети мои, встаньте. Вас не виню. Вижу, что нет тут никаких ваших козней… Одна эта окаянная лютость Мамана над самим собой. Суждена ему мука не человечья и радости не людские, а те, кои он сам себе назначит, прости и помилуй его, господи!
— Не ругайте его, отец милый… слышите меня? — пролепетала Алмагуль, и взгляд ее сияющих недетской скорбью глаз невозможно было видеть равнодушно, им невозможно было отказать.
— Слышу, дитя мое, повинуюсь, — проговорил Мурат-шейх. — Но послушаюсь и его… Его слово — как спущенная с лука стрела. Назад не прилетает. Сперва выдернуть ее надобно из моего сердца… Готовь, сестрица, своего брата. Готовься, сын Данияра. Соберемся с духом, поедем к почтенному, доброму другу нашему Айгара-бию… Разоримся на калым! Привезем тебе девушку.
* * *
Недели две спустя, близ полудня, Аманлык подал Маману коня с такими словами:
— Едем скорей. Зовет тебя Митрий-туре.
— Куда? Где он?
Не знаю.
На окраине аула их ждал с загадочным видом Изба-сар-богатырь. Он проводил их в горы. Там, в каменистой лощине, ждал Мансур Дельный, толмач. Вчетвером поехали дальше и по ту сторону хребта, на опушке леса, увидели знакомую пароконную коляску. Около нее, по зеленой лужайке, похаживал поручик Гла-дышев.
Гладышев обнял Мамана, расцеловал трижды, по-русски.
— Жив?.. Разбойная твоя душа!
— А вы… жив? — ответил Маман по-русски.
— Вот видишь, не мог проехать мимо, не повидав тебя. Ты разошелся, однако! Неужто рука не дрогнула? Правду сказать, когда ты мне в Орске грозился этим делом, я еще не видел, с каким лиходеем связываюсь. Сударь ты мой, а ведь послов не куют, не вяжут, не рубят, а только жалуют. Они неприкосновенны. Они представляют царственную особу.
— А разве это послы? Это лазутчик! Его послала година белых пяток. Ей сюда хода нет, баста.
— Круто, сударь, круто. Джунгары уже не те…
— И мы, черные шапки, не те.
— Думаешь?
— Знаю.
— Дай-то бог. Помогай бог. Иван Иванович Неплюев желает тебя видеть.
— Еду!
— Легче… легче на поворотах… Ты не лазутчик. Ты посол! Я за тобой припожалую, провожу как следует быть. Скажи, верно ли, что у тебя расстраивается свадьба?
— Откуда вы знаете?.. Моя свадьба будет в России. Я отдам свой калым царице Елизавете.
— Вот как. Ну, будь здоров. Держись.
— Хорошё, — сказал Маман по-русски.
18
По великой сырдарьинской долине, испещренной благодатными оазисами и дикими дебрями, в которых о ту пору водились полосатые и безгривые азиатские цари зверей, пронеслась весть: принимаются люди возводить новый город. Будет в городе основа основ — мечеть каменная, с минаретом до неба, а со временем — много мечетей. Стоять новому городу на сплетении
древних караванных путей, облюбованных веками, а стало быть, жить века, ежели не родит земля нового Чингисхана, убийцу народов и городов.
Некогда здесь, в низовье Сырдарьи, уже стоял город и назывался он Жанакент, то бишь Новый город или Новгород, как докладывали об этом Гладышев и Муравин… Он был разрушен до основания. Величавая угрюмая пустошь с рубцами и бородавками холмов и холмиков, похожих на могильные, — вот все, что от него осталось. Хан Абулхаир задумал воскресить Жанакент и тем удивить мир. На порядочное время отвлекло мастеров и подручных строительство Орской крепости. Ныне дотянулись руки до Жанакента, и камень, который тесали русские пленные в ущелье, близ аула ябы, пошел наконец в ход.
Начали в удобное время — задолго до уборки урожая и перекочевки скота с летних пастбищ на зимовку. Тысячи черных шапок запестрели среди мертвых руин, а к руинам протянулись прямые дороги ото всех аулов. Цепи людей, вереницы повозок. Везли на арбах камень, несли с берега реки в мешках и в полах чапанов глину. И походила древняя пустошь на ступицу, а дороги — на спицы грандиозного колеса незримой арбы, которую катил в будущее людской труд.
Дни — самые длинные, летние. Жара палящая. Работа — от зари до зари, до полного изнуренья. Все вручную. Люди и тягловый скот, лошади, ишаки трудились в непросыхающем поту. И казалось, что и глина, и камень, и арбы, и земля на дорогах — тоже в поту. Среди пеших метались конные, размахивая нагайками. Стоило пешему замешкаться или присесть — подскакивал конный и поднимал его на ноги нагайкой, подгонял бегом. И конные и их нагайки — в поту. Некогда напиться, некогда справить малую нужду. Кони останавливались для этого, люди — на ходу. Лишь в полдень, когда степь кругом замирала от зноя, ни мышь не пробежит, ни птица не пролетит, дозволялась передышка, долгая для бездельника, краткая как миг для труженика. Называлась она обедом. Люди и скот устремлялись в редкую в степи, прозрачно пятнистую тень, ложились бок о бок, обдавая друг друга жаром. Жевали что бог пошлет. Засыпали мертвецким сном. Люди стонали и бредили во сне. Им снилось райское питье — горячий чай, прохладный кумыс.
Чай и кумыс пили бии под тенистыми навесами ша лашей и шатров. Бии все здесь. Здесь и сам Гаип-хан. Они также в поту. Лежа на кошмах, опершись о подушки, они разили друг друга велеречием, томясь и изнемогая в рассуждениях о том, какое великое дело делают. Да, о да! Людям надобно жилье. Народ должен быть доволен. Каждый из каждого рода должен почитать за честь заложить в новый город свой камень, свой ком глины. Бии строили себе дома. И часто слышался рыкающий голос Гаип-хана. Гаип-хан кричал конным с нагайками:
— А ну, поднимите вон тех… вон того… Дай-ка им от меня, от моей щедрости… А ну добавь, добавь, чтобы я слышал! Не слышу…
В азарте хан выскакивал из тени шатра и визгливо хохотал, слыша крики боли и слезные жалобы.
А толки о том, что на уме у хана Абулхаира, ходили двоякие. Одни заверяли, что хитрый Абулхаир — в тайном сговоре с русскими и что русская царица самолично благословила возводить Новый город, — это уж как пить дать! Другие твердили, что хан Абулхаир много лукавей и погнал каракалпаков таскать камень и глину, чтобы согнуть народу спину, чтобы народ голову повесил и потерял бы охоту грезить о своей воле под рукой дочери Петра, — и это походило на сущую правду. Коварство Абулхаира на коне не объедешь.
Минуло лето, быть может самое мучительное после годины белых пяток. Благо еще, что не случилось холеры в таком скопище людей, и они мерли на пустоши, где стоять Новому городу, не таким валом, как при холере, и без колик в животе, заселяя поблизости подземный аул, где петухи не поют, а люди не встают.
Осенью, когда вышло народу дозволенье — ехать по домам, не было мочи у людей ни собрать порядком урожай, ни перекочевать вовремя со скотом, как после мора. Оправились только зимой; она выдалась несуровая, без обычных жгучих морозов и бурных ветров. Небо оказалось милосердней земли. И тогда открылось, что просчитался хан Абулхаир, как он ни хитер, как ни лукав. Общая беда роднит, а общий труд — и подавно. Небывало сблизились черные шапки в том тяжком году Сроднились роды, сплотился народ.
Ранней весной, как приспела на то пора, прилетела с севера долгожданная птица — поручик Гладышев. Припожаловал он, как обещал, не проездом и не второпях, в полной военной форме, при клинке на желтой портупее, в сопровождении толмача и трех чернобородых казаков, тоже с клинками на боку и с ружьями.
Перво-наперво он показался в ауле Маман-бия, а потом уже в ханском ауле. И со всех аулов поскакали по следу пароконной коляски джигиты — глянуть хоть одним глазком на офицера и казаков, увидеть, каково оно из себя — ружье, стреляющее громом и молнией. Избасар-богатырь с детски наивной улыбкой попросил было одного из казаков, помоложе, дать ему в руки ружье. Казак ответил, скаля белые зубы:
— Ружо, паря, как бабу али собаку, на подержанье не дають!
Но и казаки, и русский офицер держались приветливо, серьезно и уважительно со всеми, кто отваживался с ними заговорить. Что там! Это был Митрий-туре, человек необыкновенный; при нем и казаки необыкновенные. И толмач Мансур Дельный был необыкновенный, истинный устроитель сердечного понимания.
И вот настал незабываемый день, и принялся Мансур Дельный читать — громко, внятно, красиво — клятвенные письма всех каракалпакских родов, одно за другим. Они были готовы! Не написаны — нарисованы арабским шрифтом, все — одной, самой грамотной рукой.
«К лятвенное письмо.
Сим письмом я клянусь своей верой, перед открытым Кораном, вместе со своим родом, подвластными мне людьми, в том, что всему моему народу объявлено о признании мной славной, могущественной, светлейшей и благороднейшей, великой императрицы Российской Елизаветы Петровны нашей истинной царицей, о чем здесь, вблизи города Жанакента в год Истории тысяча сто пятьдесят пятый, жедди месяца, седьмого числа и написано…»
Дата — по лунному календарю. Месяц жедди — первый месяц зимы.
Заканчивались письма так:
«…В том я, Гаип-хан, сын Эшима, из Страны Каракалпаков, Страны Моря, поклялся, целовал святой Коран и в знак достоверности поставил свою печать. Я, ахун Ешнияз, по воле Гаип-хана, написал это письмо и поставил свою подпись».
«…В том я, хан кунградского рода Рыскул-хан, поклялся и поставил свою печать. По воле Рыскул-хана я, ахун Ешнияз, составив это письмо, подписался».
«…Сим письмом поклялся я, Байкошкар-бий, со всеми своими людьми из тысячи семейств, и поставил свою тамгу. Я, ахун Ешнияз, написавший это письмо, по воле Байкошкар-бия подписался».
Все клятвенные письма были оглашены всенародно. Так же всенародно принимал поручик Гладышев устные клятвы старейшин. Клялись на Коране. И каждый раз при этом русский офицер отдавал воинскую честь, прикладывая правую руку ребром к виску, а казаки брали на караул, отставляя ружья в правую сторону, и все глядели строго, чинно. Мансур Дельный, как должно мусульманину, склонял голову и молитвенно складывал руки. Это тоже важно — что толмач некрещеный.
В завершение Митрий-туре говорил речь и пожимал руки биям, а также простым людям, тем, кто стоял поближе и был посмелей. Маман в зеленом камзоле сопровождал его неотлучно, и Митрий-туре ему первому жал руку. И всем было любопытно: а кто же у кого этому научился — брататься с простым народом, Маман у русского или русский у Мамана?
Но было замечено биями, что единственно с кунградцами Гладышев держался холодно, в дом Рыскул-бия не вошел, руки ему не протянул. Не простил, стало быть, гибели Оразан-батыра. Неужто и вправду Митрий-туре его любил? Разве это не диво?
Гаип-хан, который обычно ложился спать в одно время с курами, а с утра пропадал на охоте, теперь бодрствовал до полуночи и охотился за русским офицером, не слезая со своего конька, — насчет прирезки земель к своему ханству.
Потом была составлена общая большая петиция Елизавете Петровне от всего народа Нижних Каракалпаков. Тут возникла было заминка. Ожидалось, что после Гаип-хана петицию подпишут Мурат-шейх и Рыскул-бий. Но Гаип-хан пожелал, чтобы поставил свою подпись его наследник султан Убайдулла и непременно вместо подписи Рыскул-бия… Хитрость Гаип-хана была прозрачна: так он сквитывался с Рыскул-би-ем за то, что тот назвался в клятвенном письме ханом кунградцев. И так Гаип-хан снова ссорил главные роды каракалпаков. Накануне он призвал Рыскул-бия к себе и обронил ему в ухо каплю яда:
— Сейчас не шуми, лев мой. Все это дело рук ябин-цев… запомни!
Рассчитывал хан на то, что Рыскул-бий смолчит, поскольку он вроде бы в опале у русских. Но хан припозднился со своими кознями. Не смолчал Гладышев. Он был не против подписи султана, но не взамен подписи Рыскул-бия.
Когда же пришли к согласию, небывалому дотоле среди каракалпаков, и никто уже не прикидывал, кто тут выиграл, кто проиграл, слава тебе, господи, аминь, и когда Митрий-туре поздравил с этим Гаип-хана не кривя душой, — возникла естественная мысль: ежели у нас праздник, почему не видно праздничного дастар-хана? В каждом доме, где есть очаг, по всей стране… Той — это дар аллаха. Что освящено тоем, будь то свадьба, будь поминки, не забывается. Да будет той и проводы посла в Россию всенародные!
Кто избран послом, все знали. Знали и то, что в пару с ним назначен Пулат-есаул, правая рука Гаип-хана. Помимо того, Мурат-шейх посылал в Орск своего среднего сына, Маман-шейха, а также двоих русских пленных, попа-расстригу и купца-мещеряка, соглашался оставить сына при наместнике Неплюеве аманатом, если наместник сочтет это необходимым…
Тем временем подоспела и другая праздничная забота, несравненно меньшая, но очень близкая сердцу. Чьему сердцу? Конечно, Маманову. Почтеннейший Айгара-бий согласился наконец отдать свою дочь Аманлыку.
Целый год медлил Айгара-бий, ожидая, что Маман вернется к своей избраннице. Но Маман не показывался больше в ауле Айгара-бия, а его аткосшы туда заглядывал, и румяная Акбидай не прогоняла аткосшы. Засиживаться в девках Акбидай не собиралась. Что ж, стало быть, так суждено. Пусть наши дети будут счастливы. Когда стало известно, что Маман уезжает, Айгара-бий дал знать Мурат-шейху, что готов принять калым, отдать невесту.
Кому это первому пришло в голову — объединить два тоя, большой и малый? Говорили, что будто бы — тоже Маману… Смысл был в том, чтобы зазвать свадебных гостей, казахов, на редкостный праздник, праздник единства. Так и сделали. Послали гонцов с подарками. Пригласили весь род табын, а с ним и роды керей и адай, виднейшие казахские роды. Те ответили:
— Благодарим, приедем… и где сеют слезы, да пожнутся радости!
* * *
Останется в памяти народной и в сердце Мамана этот той, дни самой яркой в его жизни радости и дни его невысказанной и никем не разделенной боли.
Он любил девушку, похожую на красный тюльпан. Из песен и сказаний он знал, что великим героям судьба дает жен, которые способны полжизни ждать своего суженого и умереть, не дождавшись. Стало быть, он не из тех героев, которых судьба награждает необыкновенной женщиной, единственной любовью. Именно в час высшего счастья Мамана его избранница соглашалась отдаться другому… Пусть это будет щепоткой соли на том хлебе, который Маман взялся испечь. Он подпояшет свое счастье этой болью. Мужчина должен быть подпоясан…
Той разворачивался бурно. Гостей прибыло множество — едва ли не половина Малого жуза. Гостей разбирали аулы всех родов, встречали как родных, носились с ними как с детьми. В дни великого торжества улыбнешься и недругу, задавив в себе неприязнь. Шли мимо будущего города Жанакента купцы бухарского эмира с верблюжьим караваном. Прежде с них содрали бы пошлину, а теперь зазвали в гости. Верблюдам и коням подали не сено, а овес. Купцы остались пировать с черными шапками и казахами. Ни одного дома не осталось без гостя. Кухни и очаги дымились, точно в пожар. Радушие было мало сказать щедрое — разорительное. Но хозяева не сетовали, веселились. Для бедняка нет выше чести, чем принять богатого гостя с треском, с шиком, зарезав последнюю овцу.
Начался той со свадебного обряда. И Аманлык и Акбидай, и Мурат-шейх и Айгара-бий не улыбнулись до тех пор, пока не поздравил и не одарил новобрачных Маман-бий. А когда он это сделал, все засмеялись со слезами на глазах. Слизывал слезы с улыбающихся губ и Маман. Улучив минуту, Айгара-бий сказал Маману: — Я все понял, сын мой. Она тебя не стоит… Что бы ни было, для меня ты всегда будешь любимым сыном, если ты не против… Диву даюсь, какой ты честный человек!
Маман слушал его с искаженным судорогой лицом, не умея скрыть боли и презрения к себе. Душа его ползла, извиваясь ужом, по пыльной земле, по затоптанным следам Акбидай, которую уводили в белую юрту новобрачных. Сейчас туда войдет другой мужчина, и девушка бросится ему на шею. Маман словно подглядывал за ними, потеряв стыд.
Подошел, спасибо ему, Мурат-шейх и увел Мамана с глаз людских со словами:
— Кого господь любит, того и наказывает.
А потом перенесся круговорот тоя на обширные луга близ будущего города Жанакента. И вознесся в небо вихрь, покатился гул землетрясенья. Пришла госпожа веселья и слуга печали — Музыка. Сыскались такие мастера и искусники, каких вроде бы и не знавали в этих убогих и прекрасных краях. Человечьим голосом запел кобыз, степная скрипка, зазвенел дутар, соперник гитары и домбры, затрубил сырнай, засвистел по-птичьи глиняный упшелек, заблеял нежно, трогательно бала-ман, степная волынка… Начались состязания. Вышли на поле борцы, люди-львы, с бугристыми спинами, могучими животами и ляжками, толстыми, как бревна, запыхтели, зарыкали, перебрасывая соперника через плечи, подобные жерновам. Следом за ними соткнулись рогами бараны, замелькали острые, как ножи, шпоры боевых петухов. Но все затмило козлодранье, ибо это игра конная, а степняки рождены и помирают на коне. Туча всадников на злющих, нравных и многоопытных жеребцах закружилась, забурлила вокруг тушки козла с такой дикой, свирепой страстью, что, казалось, засосет весь той в свой чудовищный омут. Удалась и байга — многоверстная скачка на отобранных, лучших конях, у которых, что греха таить, одна судьба: раз-другой проскакать полсотни верст единым духом и сойти с круга, если не пасть, на последнем рубеже. Были еще бега на верблюдах. И наконец охота с ловчими птицами — с беркутом на лису, с соколом на голубя. Соколы взлетали стремительней, стрелы, падали, как темные молнии. Один, большой, белоснежный, с царственным взглядом, из уфимских соколов, которые почитались за лучшие, разбился, взяв голубя у самой земли.
Не отстали и русские: казаки показали рубку лозы — виртуозную.
Сказочный был той! Как в дастанах… Праздновали без передышки, днем и ночью, а когда сваливались без ног и задремывали ненадолго, то думали, задремывая, что и этот той тоже увековечится в дастане.
Маман был повсюду. Его хотели видеть, слышать, угощать и свои и гости. Его звали и друзья, и завистники. Лестно было зреть человека, который появлялся ру ка об руку с русским офицером и вполне мог бы лопнуть от спеси, но не лопался.
Мамана пробирала дрожь. Близилась пора расставанья. В его двадцать три года ему бы — есть мясо, пить кумыс, ласкать молодую жену, а на тоях в честь больших людей и великих событий — нырять в омут козлодранья или терзать смычком струны кобыза. Однако ему суждено иное. Исполнилась его сокровенная мечта. Он уже побывал на ее рубеже — в Орске. Теперь ему предстояло твердой ногой переступить рубеж, пройти через всю необозримую Россию, от края до края, дойти до стольного града царя Петра и встать перед лицом его дочери. Но как, оказывается, нелегко разлучаться с отчей землей!
Здесь, на этой земле, он пережил годину белых пяток и осиротел, здесь его побивали камнями и на его глазах зарезали отца, здесь он сам предал лихой смерти друга и своей волей отдал невесту. Здесь горькой воды больше, чем сладкой. Здесь самые свирепые зимы и самые жаркие лета. Здесь нет мира, но нередок голод и мор, и нищих не сочтешь. Много на свете земель богаче отчей земли. Но нет ее дороже. Она, как мать, одна.
Настал день проводов. Тысячи людей собрались на том месте, где сооружались главные ворота города Жа-накента со стороны большой караванной дороги. Встали у ворот есаулы с секирами. Затрубили длинные трубы.
Показался Гаип-хан в окружении братьев, сыновей и есаулов, а с ним поручик Гладышев с толмачом и казаками. Следом ехал Маман-бий, справа от него — Мурат-шейх, слева — Рыскул-бий, сзади — Пулат-есаул, тоже со свитой биев, есаулов и аткосшы, среди них — Избасар-богатырь, двое русских пленных.
На, рослом двугорбом верблюде, покрытом красным ковром, увидели ахуна Ешнияза. Хан кивнул ему, и тот развернул перед собой сияющий белизной бумажный свиток и стал читать певучим голосом, как суры Корана: «Сим направляем благословенной великой царице Елизавете Петровне наше приветствие и всепокорнейшую просьбу… Слово о том, что народ Страны Моря Нижние Каракалпаки изъявляют желание быть в подданстве у великой царицы…»
Слушали затаив дыхание. Ответили долгим шепотом, точно на моленье:
— Маман мудр… Кто на него смотрит косо, да лишится глаз… Кто встанет на пути, да сломает себе шею… Он едет к нашим старым друзьям… Он не даст в обиду наших детей… Пусть возвратится живой-здоровый…
Вдруг в ясном небе прокатился гром, и люди шарахнулись в стороны. Это казаки дали залп из трех ружей.
Зычный голос пронесся над притихшими толпами черных шапок:
— Дорогу откройте!
Толпы расступились, давая дорогу Маману. Он поклонился, встав на стременах, на все четыре стороны, всему народу. Тронулись в путь. Толпы сомкнулись и потекли следом.
А над головами людей, конных и пеших, взметнулась в небо туча птиц из ближнего леса, они снялись с гнезд и понеслись над дорогой Мамана, как в пору больших перелетов. Обычно весной в этих местах все ветры с запада, сегодня дул ветер с востока, провожая Мамана. И лес, и кусты, и травы клонили головы и протягивали руки ему вслед, прощаясь и благословляя.
Долгое время, многие версты тянулись за кавалькадой Мамана толпы всадников, кружась, подобно гигантскому хороводу. Джигиты спешивались и поочередно, бегом, вели в поводу коня Мамана, а также коня Пулат-есаула, а из коляски Гладышева выпрягали коней и толпой, с гиком катили ее непременно в обгон верховых. Джигитовали, пели песни. Казаки стреляли в воздух. И то джигиты, то аксакалы выскакивали вперед и кричали Маману, словно заклинания:
— Надежда уходит с тобой, Маман! Береги нашу надежду!.. Привези нам великий ответ на великую надежду. Маман! Воскреси дружбу… Пусть царица не презирает нашего брата за то, что мы малый народ. Пусть примет наше большое сердце, Маман! Скажи русским: мы друзья их друзьям, враги их врагам…
И лишь под вечер стали редеть толпы, а с вечерней зарей отстали последние советчики и наставники. Маман внимал им, как живой лист внемлет ветру.
Так, в апреле 1743 года, проводили черные шапки своего посла, Мамана, сына Оразан-батыра, к дочери Петра, в надежде обрести мир и кров после вековых скитаний и бедствий.
Пожелаем и мы доброго пути Маман-бию. Доберется ли он до стольного города Санкт-Петербурга на другом конце света, у берегов студеного моря? И вернется ли в будущий город Жанакент близ теплого Арала? С чем вернется?
Часть вторая
1
Что же сталось
С вашим счастьем,
Мои милые?
Жиен-Жырау (XVIII в.)Двадцать четвертого апреля послы Страны Моря прибыли в Оренбург, или Рубеж-город, на славной реке Яик, в двухстах пятидесяти двух с половиной верстах от Орской крепости.
Оренбург был задуман царем Петром как главные торговые врата на азиатских рубежах России. Того ради был возведен грандиозный гостиный двор — для торговых гостей. Каменный, четырехугольный, он походил на крепость; в длину, по Большой или Губернской улице, — сто четыре сажени с полуаршином, в глубину — девяносто четыре сажени ровно. Двое ворот. Над первыми — церковь, изрядно укрепленная, во имя благовещения пресвятые богородицы, над вторыми — колокольня со знатным куполом. Лавки все — внутрь двора, со сводами и с навесом, каждая — со своим подъемным затвором. Так что торгуй в любую погоду и спи по ночам, обокрасть тебя никак не можно. Всего лавок и амбаров — полтораста. Посреди двора — также каменная таможня о четырех покоях, меж ними — просторный пакгауз с весами. Таможня и лавки крыты жестью, вычернены смолой. Все крепко, надежно, удобно и богато. С такого гостиного двора, веришь, что не уйдешь без прибыли, с лихвой окупив расходы и полавочный сбор.
Не менее внушителен был меновой двор — для торга и мены с азиатскими народами. Он располагался на виду у города, на степном берегу реки Яик. И тут было двое ворот, одни вели к городу, другие — в степь; над городскими — покои начальства, над степными — пограничная таможня. Внутри менового двора стоял особливый азиатский двор, для купцов с востока, со своими двумя воротами и с церковью, также отменного зодчества. А лавок и амбаров здесь, на меновом и азиатском дворах, было еще больше, чем в гостином дворе; без малого, а именно без восьми, пятьсот…
Это строение тоже походило на крепость, и на углах его, которые глядели на степь, установлены были две батареи пушек, но скорей для важности и пущего украшения, чем для воинской службы.
Все лето тут кипел повседневно базар, лишь к осени меновой двор пустел, и азиатские купцы переходили торговать на гостиный двор. А купить, продать, обменять тут можно было и хлеб, и прочий харч, не минуя сахара и самолучшей илецкой соли, и скот любой, и меха, и юфти черные, а паче красные, и ткани, шелка и сукна, и всевозможную утварь, в числе оной — иглу и наперсток, а также котлы, медные и чугунные, и золото и серебро в изделиях и в бухарских, персидских, индейских монетах, и ляпис-лазурь, из коей делается ультрамарин, и иные краски, как-то: кокцениль и индиго, и чудные драгоценные каменья, — все, кроме ружей, пороха да свинца, то бишь военного уклада.
Послы Страны Моря обошли все купецкие дворы и базары, приценились ко всем товарам, испробовав их на ощупь и на зубок. Подивились: зачем на азиатском дворе церковь? Гладышев растолковал: еще при Анне Иоанновне мечети в Оренбурге дозволены: оставайтесь, мол, жить в городе да стройте себе мечеть, как в Казани да Астрахани. Объявлены и другие многие льготы. Все они согласно завету Петра. И добавил Гладышев, что по капитальности и масштабу, а также в рассуждении хорошества, оренбургским дворам для купечества нет равных по всей России, ни в Уфе, ни в Нижнем Новгороде, ни даже в столицах.
Маман сказал:
— Этот великий город — не для войны, для торговли.
И с ним согласились.
Нежданная встреча… Пожалуй, для Мамана она была всего интересней в Оренбурге. На гостином дворе из своей лавки окликнул Мамана не кто иной, как Бородин.
Обнялись. Долго не могли сказать друг другу ни слова, оба — со слезами на глазах. Узнав, куда и с чем послан Маман, Бородин почесал бороду, словно бы озадаченный.
— А ты поматерел, однако, и телом, и духом. Аи да мы! Дозвольте вас проздравить.
— Это вы меня научили якшаться с русскими, Бо-родин-ага… — сказал Маман, улыбаясь сквозь слезы.
— А я так разумею, — возразил Бородин, — и смех-то весь в том, что и ты меня учил якшаться с русскими. Был я купец шалый… мечтал судьбу обставить один на один… а ноне и мой риск, как и твой, при деле и при догляде казенном. Мне доход, и казне расчет. Так ли, ваше благородие? — окликнул Бородин Гладышева. — Здорово, ваше благородие!
— Здравия желаю, Кузьма Яковлевич, — ответил Гладышев весело.
Тогда и я вас поздравляю, — сказал Маман.
Маман давно уже догадывался, что поручик Гладышев не прочь бы прибрать к рукам этого рискового, но башковитого и многоопытного человека. Что же, сошлись наконец их пути? Сплелись воедино нужды купца и солдата? Маману дорого было, что его друзья, такие разные, сдружились и что связала их троих общая наука, общая нужда.
Бородин вдруг насупился, крякнул.
— А касаемо твоего занятия… убей меня, брат, не даст он тебе ходу… Не дурей он тебя, а сильней намного. Ты горяч, он памятлив. Что меж вами прежде было, то цветочки, а ты вон собрался по ягодки.
Кто такой о н, все поняли: конечно, хан Абулхаир. Послы закивали, Гладышев поморщился:
— Ну, ну, не каркай, Яковлич.
— Помилуй бог, — ответил Бородин. — Мы и с теми и с этими — из ладони в ладонь — сеять да жать. Мне меж ихнего брата не разбой, а всяческое умирение надобно.
— Так точно, — сказал Гладышев, протяжно вздохнув.
Понятное дело, звал Бородин Мамана на чарку вина, чай-сахар, к себе, в дом, на купецкой слободе. Перебрался, стало быть, непоседа с чадами и домочадцами из Уфы в Оренбург, поближе к своей Индии… Хотелось ему показать Маману сыновей, а сыновьям — Мамана. Но гостить послам было недосуг. Торжества кончились, начались труды.
Тотчас по прибытии в Оренбург поручик Гладышев доложил наместнику Неплюеву:
— Принимали меня с радостью. Содержали у себя со всяким удовольствием… Я польщен.
Неплюев обнял Гладышева.
— Любезнейший Дмитрий Алексеевич… Сколько мы не виделись? Более полугода. С минувшего сентября! Побаивались мы за вас. Сердечно рад, что мы живы-здоровы.
— Не скрою, — заметил Гладышев, покусывая ус, — на пути сюда, идучи через владения хана Абулхаира, я изрядно струхнул. Ханские нукеры провожали нас двое суток, а на прощанье освистали, выбранив непотребно.
— Именно-с, — сказал Неплюев. — Если бы Абулхаир хоть в малой доле поверил в успех посольства, он перебил бы его у вас на глазах. И вам досталось бы заодно, как я мыслю себе.
— Не исключено.
— Хан руководствуется презреньем к черным шапкам, в чем, к сожалению, не одинок. Нашей Коллегии иностранных дел по-прежнему угодно видеть каракалпаков токмо из-под руки хана Малой Орды. Правду сказать, и я обуреваем оным неверием…
— Я верю, ваше превосходительство.
— Вы идеалист, Гладышев. А в сих материях просчитывались — не нам чета — светлейшие головы, любимцы Петра. Впрочем, не хочу обескураживать. Езжайте с послами и возвращайтесь штабс-капитаном», тогда и я буду польщен.
— Слушаюсь.
Еще наместнику было доложено, что каракалпаки давно готовы послать караван — до трех тысяч купцов! Подобрались товары, назрел интерес. Боятся, однако, — разграбит Абулхаир. Неплюев сказал Гладышеву:
— А вот это — наиглавнейший, самоважнейший довод… в пользу каракалпаков. Капитал держать под спудом — противно делу и проку государственному.
Клятвенные письма Неплюев одобрил. Но держать сына Мурат-шейха аманатом не согласился. Сказал, что нет нужды. Лучше включить его в посольство. Так и сделали, и стало с Маманом, Пулат-есаулом, двумя сыновьями шейха и еще четырьмя биями — восьмеро. Не много ли? В самый раз. Посла, как лису, красит пышный хвост, а велик почет не живет без хлопот.
Подарки двору Неплюев также одобрил. Маман вез бобровые и барсовые шкуры и одну тигровую, добытую в сырдарьинских тугаях и выделанную отменно — с оскаленной пастью и янтарными глазами; янтарь уральский, выменян у яицких казаков.
Пожалуй, одно было огорчительно: тайный советник не отпустил от себя Мансура Дельного. Мансуру хотелось в столицу, и он обронил слезу досады, провожая Гладышева и Мамана…
2
Невеселый возвращался Аманлык в родные края после проводов послов. Ехал один и чувствовал себя сиротливо.
Шла весна, пора воскрешения всего земного, цветения жизни, пора любви. Как бы ни была голодна, сурова, печальна зима, кто не вздохнет с надеждой при дуновении вешнего ветра! А нынешняя весна была для черных шапок порой великих надежд. Давно ли безудержно ликовали джигиты, провожая Мамана? Люди словно грезили наяву. Пели любимые песни да и говорили нараспев, стихами о самом сокровенном. У всех развязались языки, растворились души. Не отставал от других и Аманлык: мечтал и мудрствовал, балагурил и смеялся, глядел вперед, туда, куда и Маман. И вот пришел час — проститься с ним и оглянуться назад. Беспокойная была эта оглядка. Дорога домой казалась куда длинней, чем из дому. И куда скучней… Возвращались недружно, с понурыми спинами, унылыми лицами. Разбредались в разные стороны, не прощаясь, как чужие. И многие спрашивали себя, подобно Аманлыку: что-то будет без Мамана?
Уже на виду у Сырдарьи выскочил на дорогу волк, видать бешеный, оскалился, роняя из пасти комья вспененной слюны, и кинулся назад, в кусты. Конь шарахнулся от него, а Аманлык и не заметил, как выговорил невольно, вместо обычного «о аллах!..» — «о Маман!». Заметив же, засмеялся невесело.
Неподалеку от места, где строился Жанакент, объезжая заросли камыша, Аманлык столкнулся лицом к лицу с всадником, которого трудно было не узнать, лучше не встречать; походил он в седле на котел с торчащей вверх деревянной мешалкой. Оба испугались, Аманлык — того, что встретил Гаип-хана, а хан — того, что остался без своей свиты; был на охоте, пустился искать пропавшего ловчего сокола, заплутался в камышах. Ты кто? Зачем? — вскрикнул великий правитель, приникая к холке красавца коня, ибо великим правителям на роду написано бояться даже родных сыновей. Потом хан узнал Аманлыка и закричал голосом пронзительным, как у чайки:- И-и… молодой супруг! Люби, люби… свою жену, пока ее хахаль в отъезде. Неско-оро вернется.
Аманлык онемел от обиды и от еще не испытанной чести — впервые в жизни сам хан с ним заговорил. Надо бы бежать без оглядки, да нешто посмеешь? Конь выручил Аманлыка — навострил уши на шорох в кустах. Похоже, что там билась крупная птица. Аманлык послал туда коня, но усталый конь не пошел с дороги, как его ни пришпоривали, как ни понукали. Аманлык спешился, полез в кусты и вскоре увидел ханского сокола, — зацепился, бедняга, за сучок тесемкой, привязанной к лапе, и уже повис на этой тесемке, с разинутым, точно в жару, клювом. Аманлык принес птицу хану и тут же заслужил его похвалу и благодарность:
— А что? Ты-то мне и нужен. Будешь при мне дураком…
Хан поскакал на лай собак. Аманлык потрусил следом.
Несколько дней, пока длилась охота, Гаип-хан не отпускал от себя Аманлыка и то и дело принимался допытываться у него под язвительный смех султанов и есаулов: а что же, калым был со скидкой или, наоборот, с надбавкой? И как же Маман благословлял молодых на свадебном тое? И чему же учил на прощанье?
Делать нечего. Назначит хан собакой — будешь собакой, назначит шутом — будешь шутом. Тщетно пытался Аманлык напомнить, в какую даль и в какую высь послан Маман всем народом, ради общего блага…
— Послан? А ты не рад? — спрашивал хан, осклабясь. — Ты ему слуга, я господин, а у нас обоих — гора с плеч!
Холодок бежал по спине Аманлыка от этакой откровенности.
Лишь слугам он не спускал насмешек, отлаивался, как умел, и ханские холуи обещались ему:
— Измордуем, как только хан тебя отпустит.
А наслушался, насмотрелся Аманлык за несколько дней при хане такого, что страх подумать, срам сказать.
Приезжали к хану бии разных родов, как к колодцу с водой, а уезжали, как если бы находили в колодце рассол.
Запомнилось Аманлыку, как явился Рыскул-бий. Глава рода кунградцев, теребя бороду, белую, как перо лебедя, стоял согбенный, подавленный, а Гаип-хан, слушая вполуха, забавлялся с щенками, дразнил их кусками сырого мяса, мазал им носы кровью.
Насколько Аманлык мог понять, Рыскул-бий жаловался. Как же теперь быть, хан наш? Старец не называл имени, но ясно было, что теперь означает — без Мамана. Старец сетовал на своих: отбиваются от рук, забирают опять волю мастера козней, притихшие было накануне, понимай — при Мамане. Так же Байкошкар-бий и его сынок Есенгельды…
— А ты никак с луны свалился, бий наш? — перебил Гаип-хан, отряхивая измазанные кровью руки. — Что же, тебе, как щенку, разжевывать мясо да в рот класть? А может, как старому кобелю, уж и нечем тебе раскусить кость, которую хозяин подкидывает? Подкидывает, любя!.. — добавил хан и полез к старцу обниматься.
Так поступал он всегда и со всеми: укусив, обнимал, а обняв, кусал.
Рыскул-бий отстранился брезгливо:
— Руки помойте…
Гаип-хан разахался в ответ с фальшивой горячностью:
— Неужто простил, все простил? И кому, господи? Кровному обидчику! Забыл, как тебя топтал русский офицер? По чьему наущению? Всем старшинам руку жал, казаки — ружейную честь отдавали. Тебе одному — нет. Забыл? Да что далеко ходить! В посольстве Мамана — половина из рода ябинцев. Почему? Одних сыновей Мурат-шейха — двое родных, третий приемный… Кто там из твоего рода?
— Сагындык-богатырь.
— И того держат в черном теле… Вон свидетель. Спроси его сам. Соврет — башку с этого шельмеца сниму. — Хан ткнул нагайкой в сторону Аманлыка.
Рыскул-бий подозвал Аманлыка с усмешкой, которая говорила, что старик понимает; конечно, этот шельмец соврет со страха перед ханом.
Провожал Мамана? — спросил Рыскул-бий.
— Да, бий-отец, пока он сам не отослал нас домой. Конь у меня молодой, слабоват. Я и отстал от товарищей.
— Ну, а как лошадка у нашего Сагындыка? Лошадка Сагындыка была всем известна, впору
всаднику, богатырская, выносливая, как верблюд. Аманлык замялся:
— Не знаю, как сказать. Шла, шла… шла, шла…
— И сдохла? — подсказал насмешливо Рыскул-бий. Аманлык с готовностью кивнул. — От огорченья за хозяина? — Аманлык кивнул еще охотней, с усердием бесстрашным, хотя дрожал с ног до головы.
Плоские скулы Гаип-хана побагровели до черноты. Не находя слов, он заплясал на коротеньких ножках, отшвырнул подвернувшегося под пинок щенка, тот заверещал.
— Не тревожьте себя, хан наш, нет нужды, — сказал Рыскул-бий холодно-любезно. — Ладно, уезжаю… Остаюсь на том же месте, меж двух огней… Ведь вот чудеса: Маман меня будто омолодил, вы разом состарили. Что ж! Будем мстить роду Мамана, если вам это угодно.
— Не мне, не мне… — опять перебил хан. — Духу твоих предков!
Рыскул-бий безнадежно махнул рукой. И отвернулся от Аманлыка, словно стыдился его.
В тот же день явились мангытцы во главе с Убайдулла-бием, редкобородым. Гаип-хан по-прежнему возился с собаками, Убайдулла-бий кричал:
— Уймите! Спасу нет! Оказывается, мы виноваты перед кунградцами, что не деремся с ябинцами. Осата-нели совсем те дурные… посрамленные Маманом… Сами грызутся и нас натравливают. Жить не дают.
— А разве ябинцы святые? — спросил Гаип-хан, сидя на корточках.
— Люди как люди, хан наш… Но это же род Мамана!
Гаип-хан уставился на Убайдулла-бия с тупостью и злостью, которые, впрочем, можно было принять за вдумчивость и участие.
— Ну, а Рыскул-бий? Что он?.. Только что был у меня, обещался клятвенно усмирить своих неслухов. Вот уж с кого я взыщу.
— Мнится мне, — сказал Убайдулла-бий, — что тут не его вина, его беда. Подсобить бы… старому беркуту…
— Ха! Я ли его не ублажал-возвышал? Хотел, между прочим, послать с Маманом вашего человека, ман-гытца. Сунул он своего Сагындыка. Грозился, веришь ли: вырежем мангытцев, сотрем с лица земли, ежели отставите Сагындыка… Жалею теперь, что уступил. Эй! — вдруг окликнул Гаип-хан Аманлыка. — Долго ли провожал послов?
— Дольше всех, хан наш.
— Ну вот! Видел ты, как Маман нянчился с тем Са-гындыком-богатырем, как с малым дитем?
— Видел, хан наш, — ответил Аманлык. Гаип-хан хлестнул себя нагайкой по сапогу и словно
бы в сердцах ушел в охотничий шалаш, стоявший у зарослей осота и чертополоха.
А Убайдулла-бий, голову повесив, со вздохом сказал своему спутнику:
— Скользкий как угорь! Все у него шито белыми нитками, да поди угадай, кто тут воду мутит. Близко мы живем к хану, близко. Жить к хану близко — значит вечно разгадывать загадки. Нет, конечно. Остается одно: переселиться…
Аманлык вздрогнул при последнем слове. Оно напоминало те лихие времена, когда он осиротел. Понятно, переселенцы — не беженцы, но черные шапки не привычны кочевать, они врастают в землю, и переселяться для них означает рвать корни. Правда, и рвать корни черным шапкам не в новинку. Сколько раз это случалось на памяти белобородых! И все же не верилось, чтобы переселение задумывалось не в войну, не от вражеского нашествия. Это — сгоряча, под сердитую руку.
Кончилась наконец охота, Аманлык хану надоел, и тот прогнал его от себя, слава богу; ханские холуи свое слово сдержали и надавали дружку Мамана тумаков на прощанье, но Аманлык был доволен: ехал домой, к молодой жене, заждались они друг друга после единственной брачной ночи.
Первым долгом заехал все же к Мурат-шейху — порадовать его весточкой об уехавших с Маманом сыновьях и, честно говоря, удивить. Случай привел Аманлыка узнать то, что простым смертным лучше не знать. Хотелось Аманлыку удивить шейха тем, в какой видел Рыскул-бия растерянности, в какой видел Убайдулла-бия отчаянности, тем, какой Гаип-хан, оказывается, обманщик и лжец и еще какой он изменщик, губитель Маманова дела. Спросить: подлость это или такая уж невообразимая дурь?
Но Мурат-шейх не удивился и хана хулить не стал, а сам удивил Аманлыка, сказав:
— И переселишься… побежишь… куда глаза глядят…
— Как же это?
— А так, милый, что кунградцы живут выше по реке, в начале отводного канала, а мангытцы, несчастные, — ниже, в конце. В том и загвоздка. Мангытцы тут малолюдны, кунградцев — сила. Отрезали они у них воду… Жизнь отрезали! Вот какой грех.
Аманлык ахнул мысленно: грех? Это же палачество, пытка, когда земля и зерно в ней медленно, в муке помирают от жажды на виду у великой реки, точно безгласное дитя у груди матери-кормилицы!
Аманлык знал: все грешники, а шейх — святой. Пошлет, укажет… Распорядится, поправит! К а к — это не нашего ума. Но шейх — отец, учитель Мамана, не отступится.
Ожидал Аманлык, что его изберет Мурат-шейх своим гонцом и он, Аманлык, понесет спасительное повеленье не мешкая, устали не зная.
Ничего подобного не случилось. Вдруг Мурат-шейх проговорил, бороду оглаживая, с улыбкой:
— Ты-то у нас теперь семьянин… Ступай к Ешнияз-ахуну. Скажешь, что я послал. Он тебя научит, как подобает поступать молодожену. Слушай его и мотай себе на ус.
Затем жестом руки, старчески сухой, чистой и праведной, он подал знак, что отпускает джигита от себя. Жест был привычно властен и милостив.
Аманлык пошел прочь, себя не сознавая. Он не помнил, хватило ли его — хотя бы поклониться и поблагодарить, уходя. Кажется, это было. Наверняка было.
Шел как ушибленный, не разбирая дороги. Но пришел, куда и был послан. К Ешнияз-ахуну, за наукой.
Наука оказалась простая: ахун тут же нарядил джигита рубить осот, огораживать пшеничное поле. За тем же занятием застал Аманлык и других, себе подобных. Аманлык был запряжен наравне со всеми, и это означало, что он уже не безродный сирота и бродяга; была у него семья, а стало быть, свои, родные отцы — все старшие его рода. Отцы-хозяева…
Допоздна не разгибал спины Аманлык в доме Ешнияз-ахуна. Шла весна, страдная пора, хозяйственных забот был полон рот.
Отпуская джигита, ахун отечески благословил его. И Аманлык опять остался доволен. Былой воли и свободы не было и в помине, зато была жена, купленная ему родом.
А недели две спустя он увидел воочию то, о чем слышал, то, чему не хотелось верить.
Унылое это было зрелище, непонятное здравому рассудку, противное естеству. Птицы по весне прилетали в родные края, обживали гнезда, выводили птенцов, а люди, наоборот, срывались с насиженных мест, разоряли свои гнезда, уходили на чужбину.
Катились арбы, груженные до отказа, брели верблюды и ишачки под тяжкими вьюками. Судьба гнала людей, как люди гнали скотину. Телята, жеребята не бегали, взбрыкивая и крутя хвостами, — жались к стаду, ибо шли не на пастбище, а в дальнюю дорогу; они это чувствовали. И дети людские не играли — цеплялись за подолы молчаливых, угрюмых матерей и ревели на все голоса. Детский плач висел над караваном, как вороний грай над скошенными полями по осенней поре. У всех была весна, у этих людей — осень.
По пути заехал Убайдулла-бий к Мурат-шейху. Аманлык и Сейдулла, правая рука шейха, подскочили, помогли главе мангытцев сойти с коня, под локотки проводили в дом, усадили на главном месте, рядом с хозяином… И услышал Аманлык печальные и странные речи. Вряд ли довелось бы их слышать при Мамане.
— На вас обиды не держим, не кажем и не таим, — сказал Убайдулла-бий, пощипывая редкую бороду. — Обещают нам воду кунградцы немедля, если мы пойдем против вас. Но псами легавыми быть не желаем. А прозябать, как сурку либо зайцу меж двух волчьих логов, мочи нет. Пойдем к своим, где нашего брата мангыт-ца — гущина…
Мурат-шейх горестно покачал головой:
— Стало быть, вон из нашей семьи… из нашей орды… сбитой одним незабываемым бедствием — годиной белых пяток? Не оно ли нас породнило, друг мой, брат мой?
— Стало быть, так, шейх наш, — ответил Убайдулла-бий, помолчав.
Шейх воздел руки к небу.
— Дробится народ. Весь в трещинах и щелях, как земля в засуху. А ведь весна… такая дружная, благословенная…
— Как знать, — сказал Убайдулла-бий. — Может, наше переселение и на пользу? Глядишь, помиритесь вы, кунградцы, ябинцы, как восчувствуете наше злосчастье, дело рук своих?
— А если я попрошу?.. Слезно попрошу вас — остаться, потерпеть…
— Попросите? — перебил Убайдулла-бий грустно-насмешливо. — Вот тогда и обидите смертно.
Мурат-шейх сморщился и опустил голову, соглашаясь; такая просьба была бы издевкой.
— Собирались и мы свататься к казахам, — сказал со вздохом Убайдулла-бий. — Одно удовольствие — сватовство. Родниться — не драться, благое бремя. Это и до Мамана говаривали, да при Мамане делали! Зазывали меня казахи рода керей: шли, мол, джигитов, вернутся женихами. Я обещался — после сева. Думалось, коли их мясо, так наше тесто, худо ли? Видать, не судьба.
— Надеюсь… хочу надеяться… — проговорил Мурат-шейх глухо.
— Одно могу обещать и не обману, — ответил Убайдулла-бий. — Уходим из родного дома, шейх наш, со слезами. А потому… Вернется Маман с добром, будет в нашем краю мир и закон, — вернемся и мы тотчас. Прибежим со всех ног, земли под собой не чуя… полюбоваться на это диво…
Аманлык исподтишка, чтобы не обеспокоить и не помешать, слушал, что говорили отцы-хозяева. И думал с оторопью: а эту бийскую науку, от которой то леденеет грудь, то словно бы раскаленные угли прожигают все нутро, я, глупец и неуч, когда-нибудь постигну?
3
В Санкт-Петербург ехали без малого три месяца по новой Большой Московской дороге, обросшей многими деревнями, обжитой почтой, облюбованной купцами. Прибыли в июле.
Изнурительна и непроста была дорога в две тысячи верст, через Кучуйский фельдшанец. Казань и Нижний Новгород, Муром и Владимир, а после Москвы — через Тверь и Новгород… Кабы не поручик Гладышев, пропали бы черные шапки и следа бы ихнего не сыскать, но у него на руках были чудодейственные бумаги. Правда, фельдъегери на самых свежих курьерских, перекладных, обгоняли послов, хотя и у послов имелись заводные, то бишь сменные лошади. Однако и мы опережали многих, как порядочные господа. И пусть не величали нас, как русских дворян, «вашими благородиями», а все же «вашу милость» и «ваше степенство» мы слышали всю дорогу.
Примерно в середине пути, в муромских лесах, перехватил послов один самоуправный русский бий со своей челядью — бывший сослуживец Гладышева. Случайно прознал на почтовой станции, куда и с кем Гладышев едет, догнал и силой завернул всю честную компанию в свое поместье, согласно того святого закона, что ради кумпанства и монах женится. Устроил той. Выгнал девок в кокошниках, с монистами на груди — петь, водить хороводы. Не утешился, пока не свалил всех с ног хмельным зельем. Выпытывал, каково там, в Бухарах да Хивах. Надо всеми смеялся, всех бранил. Трое суток не отпускал. Хозяин и Гладышев сидели за одним столом, послы за другим; актосшы стояли… Черные шапки были довольны, а Гладышев — не шибко. По всему судя, сам он был не богат.
Ближе к концу пути, под Новгородом, Гладышев по своему почину завез послов в другое поместье, в селе Поддубье. Здесь тоя не было. Сидели все за одним столом, но без девок и хороводов и с хмельным зельем — не до упаду. Хозяйский дом оказался куда скромней, чем у того самовластного русского бия. Дом приземист, сад при нем — покроешь бараньей шкуркой, а сельцо — за версту видать, что бедное.
За столом Гладышев без умолку рассказывал хозяевам о жизни в Азии. И черные шапки долго не могли прийти в себя от изумленья, когда узнали, что это родовое поместье Ивана Ивановича Неплюева… Здесь родился (и здесь умрет в опале) не кто иной, как царский наместник в Оренбурге, бывший посланник в Константинополе, будущий сенатор, птица из петровского гнезда. Невозможно было поверить, что русский хан вышел из неимущих, а стало быть, незнатных, как он ни башковит. Поистине таких привечал только Петр, подаренный богом России.
Вообще богатеев и знати видели в пути мало, хотя встречали и свадьбы, и псовые охоты, и всеместные гулянья по случаю троицы, петрова дня и несчетных престолов (в каждой церкви был свой!) и побывали в великих городах. А вот бедности насмотрелись. Нищих, калек и юродивых на Руси было не меньше, чем в Стране Моря.
И это первое, что запало в душу Мамана. Стало быть, таков божий произвол: где волки, там и овцы; а где нет овец — нет и волков. Больше всего нищих, говорят, в стране самых знатных богачей, в Индии… Русские сироты были Маману близки, а из русских господ понятней — купцы.
Всю нескончаемую дорогу душа Мамана пела. Он ехал по своей Индии, великой державе. Прежде чем города поразили его леса.
В песках пустынь, простроченных следами ящериц и мышей, на караванных путях с редкой тенью у колодцев, в которых, на глубине в тридцать саженей, в черном зеркале воды и в полдень отражались звезды, думалось Маману, что в сих местах надобен не столько резвый конь, сколько безотказный верблюд, думалось только о воде… И вдруг необозримой стеной встали заволжские дубравы, сказочная краса Оренбуржья. И вознесся к небу самый певучий на свете зеленый шум вековых дубов, кленов и вязов, ясеня и липы, а на погорелых местах — красных сосен и мохнатых елей; ели — в полсотни аршин высотой, дубы — в пять обхватов, на днях уляжется богатырь, вытянувшись в рост.
Великую Волгу, о ту пору уже главную улицу России, переплывали на казацких стругах, а она, матушка, в поясе — две версты, лежала, одетая от шеи до пят в пышные лиственные душегрейки да множество юбок, укрытая богатейшей хвойной шубой. К ее берегам не подступиться было без топора, а на стрежне не найти пролысин — песчаных кос. Много воды, много счастья.
Так много было ее у русских, что водилась в ней не<-чистая сила — водяной, не то бог, не то бес.
Довелось увидеть Маману былинные засечные леса, непроглядные дремучие чащи, в которых увязнет, заблудится сам Азраил. Видел Маман знаменитые со времен татарского нашествия, уцелевшие два века спустя, засеки, — неприступные, в сотни верст длиной, рубежи леса, поваленного стволами крест-накрест и кронами вперед, а вдоль них — теперь уже пустеющие бревенчатые остроги-кремки с обмелевшими, заросшими рвами. Об эти засеки, как морские волны о скалистые берега, спотыкались и разбивались татарские конные лавы.
Маман видел леса, в которых жили великаны зубры и лоси, на каждой версте — медведь, а с ними — благородная серна; жили тут соболь, его соперница — серебристо-черная лиса и даже горностай. И водилась в лесу своя нечистая сила — леший, тоже не то бог, не то бес.
На что ни посмотришь, все у русского человека было из леса: дом — сруб, как и церковная колокольня, дороги — бревенчатая либо хворостяная гать, посуда — резная, ведро, бочка — клепаные, корзина — прутяная, лубяная, от сапог, телеги, лодки несет дегтем и смолой; и обут русский чаще всего в лапти из лыка, и волосы на голове подвязаны мочалом, а гроб выдалбливается из цельного дуба. Лики святых писаны на тесаных досках; идолы, стародавние, еще языческие, не из камня, из мореного дерева.
Какая несметная силища! Неистребимое богатство… Так думал Маман, хмелея под зелеными небесами хвойных боров. Будет ли день, будет ли век, когда на его отчей земле воздвигнется такой лес и придаст его народу неодолимую мощь? Или это несбыточная греза?
Лето выдалось знойное, и не раз черные шапки видели лесные пожары. А однажды чудовищный пал с громовым гулом гнался за ними полдня. Едва унесли ноги, гоня коней во всю прыть, сперва от адского жара, потом от дыма и вонючей гари. Маман долго не мог унять дрожи, но не столько от страха перед огнем; сколько от жалости к лесу, зеленому раю на земле. Господи, молился он, уйми это злосчастье.
Натыкались в лесах и на лихих людей. Довелось слышать разбойный свист. Но ни разу не были биты, граблены. И Маман понял так, что эти люди стерегли путников иных, своих старых бар и господ, с которыми сводили счеты. Выходил вперед Гладышев, растолковывал, кто едет, и разбойная орава отступала, почесывая затылки.
Тем более любопытно было послам Страны Моря увидеть города.
Москва ошеломила всех. Она открылась внезапно, с лесной опушки, на пологих холмах. Маману не случалось бывать ни в Хиве, ни в Бухаре, но и те, кто видал тамошние мечети и дворцы, загляделись на московский, набольший в России Кремль. Москву иноземцами не удивишь, привыкли в Москве и к Немецкой слободе, и к Грузинской. И все же за черными шапками ходили по пятам, дивясь на то, как Маман ломает шапку перед Иваном Великим, который сооружался, как говорят, сто лет. Маман один это делал, и не потому, что стал вдруг христианином. Он им не стал и не станет, но готов был преклонить колени перед этими стенами и обнять эти камни. Они не были ему чужды, он полюбил их, как русский лес.
Все же Маман поразился черным обгорелым стенам без окон, дверей и полов на Государственном дворе в Кремле, следам тех ужасающих пожаров, когда, как в троицын день 1737 года, Москва «сгорела от копеечной свечки», — выгорели Кремль, Китай-город, Белый город и слободы Басманная, Немецкая и Лефортовская…
Конечно, побывал Маман на Преображенской слободе, по виду — деревне, где царь Петр, однако, любил жить. Видел Маман за частоколом ветхий маленький деревянный дом, за который один иноземец не давал и ста талеров, никак не похожий на царский дворец. Здесь Петр юношей, моложе Мамана, замышлял великие труды и битвы. Вскоре от этих мест не останется и кола.
Вообще осиротела Москва. Ее называли вдовицей. От петровских празднеств, триумфальных шествий и басурманских маскарадов остался разве что один театрум для простонародья на Красной площади, у Кремлевской стены. Послы Страны Моря помирали со смеху, глядя на шутовские, скоморошьи лицедейства.
А Гладышев зло говорил, что помнилась еще Москве небывалая помпезная роскошь пиршеств Анны Иоанновны; она со своим Бироном тратила на двор вшестеро больше Петра. Но и она убралась в новую молодую столицу. Сменившая ее на престоле Елизавета Петровна и вовсе лишь четырежды бывала в Москве. Правда, коронации монархов по-прежнему совершались в первопрестольной, белокаменной, в Московском Кремле. Это черным шапкам запомнилось.
Очень хотелось Маману побывать в Туле, в городе, который называл Бородин. Гладышев сказал: не по пути, недосуг… Ах, до чего жаль. Вот как это было бы по пути! Бородин, помнится, говаривал, что ему доводилось держать в руках индейские товары, добрейшие широкие кисеи, цветные полотна, шелковые и полушелковые парчицы. Маман мечтал о другом: пощупать бы тульский слесарный верстак, одухотворенное железо. Этого хватило бы на целую жизнь. Это высветило бы душу и осветило бы дорогу далеко вперед, за небосклон, за горы и долы.
Гладышев огорчился не менее, чем Маман. Прости, сударь, ан не до жиру… Чем ближе к столице, тем пуще становилось Митрию-туре не по себе. Он был всего-навсего поручиком драгунского полка. Каково-то придется ему там, лицом к лицу с сановниками, со звездами на животе? От сих персон не удостоишься и двух перстов взамен рукопожатия.
Санкт-Петербург встретил послов низким небом, моросящим дождем и туманом. Ничего поначалу не разглядели, кроме людской и конной суеты на главной улице шириной местами в полет стрелы. Устроив послов на житье-бытье в каменном доме с окнами, в которые можно было въехать, как в ворота, и с конюшнями, в которых потолки были высоки, как в храме, Гладышев исчез. Черные шапки привели в порядок своих лошадей, похлебали уже привычных горячих мясных щец, которые им принесли в большом котле, и завалились спать. Сколько проспали — и не помнили.
Гладышев вернулся с толмачом из Коллегии иностранных дел и с тревожной вестью: царицы Елизаветы нет в столице. Уехала августейшая, всемилостивейшая вместе с графом Петром Шуваловым, и неблизко — в город Киев, матерь русских городов. Как сказывали, по всему пути царицы, на всех станциях, построены дворцы — встречать-принимать царский поезд. Позднее, однако, открылось, что недостало на это дело леса южнее Брянских лесов и были устроены лишь литейные погреба.
Более всего Маман удивился тому, что недостало леса в России. Может ли так быть?
И что же теперь делать, ежели царицы нет дома? Ждать, судари мои, ждать. Послам на роду написано терпенье.
— От то-гой тер-пишь, ко-гой лю-бишь, — сказал Маман по-русски.
— Оттерпимся — и мы казаки будем, — отозвался Гладышев с озабоченной улыбкой.
Послы вышли наружу и удивились тишине и безлюдью на улице. Город был пуст. Город спал. А между тем небо было ясно и светло. Маман вскрикнул: в зените слабенько, едва внятно вычерчивался край ущербной луны. Так бывает при закате солнца. Что за невидаль? Столь рано в великой столице ложатся почивать?
Где-то пробили башенные часы. Они ударили один раз.
— Час пополуночи, — проговорил Гладышев, смеясь.
— Откуда же такой свет? Ночью — как днем!
— Мы в Санкт-Петербурге, — ответил Гладышев приподнято и непонятно.
Сыновья Мурат-шейха пустились в спор, вспоминая, что об этом говорилось в книгах, однако в книгах ничего об этом не говорилось… Потом заспорили с толмачом, который вознамерился объяснить им, что такое белые ночи.
— Э, мудрецы… — сказал неожиданно Пулат-есаул, которого сыновья шейха считали за простака. — Стало быть, мы прибыли на самую высокую на свете землю. Стало быть, стоим на самой макушке!
Это суждение всех примирило, хотя послы знали, что город Сам-Пётыр стоит в болотной низине; темечко, конечно, мягко, но в него мать младенца целует. В темечко господь глядит…
Половина июля и половина августа прошли в ожидании. Вереницы зевак, упорней, чем в Москве, тянулись за послами, когда они показывались на улице. Но Маман не испытывал нетерпенья. И дня и ночи ему не хватало на то, чтобы насмотреться на строение Петра.
Санктпитербурх был молод, и он еще не был Северной Пальмирой. Не было на Неве Зимнего дворца с его тысячью и пятьюдесятью покоями, а на месте несравненной Дворцовой площади, которой быть через три четверти века, зияли пустыри. Не было громадины Иса-акия и красавца Казанского собора. Не было Медного всадника и укротителей коней на Аничковом мосту. Лишь грифоны держали на железных канатах крохотт ный Банковский мостик. И великолепных гранитных набережных на державной Неве, и будущих пятисот мостов, соединявших сто острогов, также не было. Один-единственный мост был наведен через Неву на двадцати шести баржах между Адмиралтейством и Васильевским островом.
А самый старый в столице Невский проспект… Давно ли он был лесной просекой, прорубленной от верфи к дороге на Москву, а потом Невской першпек-т и в о и, на которой дворцы соседствовали с избами? Не было дворцовых палат и усадеб вельмож Воронцова, Строганова, Шереметева, успел построиться лишь бывший первый генерал-губернатор столицы Меншиков.
Но центр города уже перемещался от Петропавловки к Адмиралтейству, на левый берег Невы. Сияла на солнце золоченая Адмиралтейская игра припетровской постройки, будущий герб столицы. А вокруг Петропавловки, материнского чрева города, следом за Дворянскими и Посадскими улицами, множились и множились убогие темные хибары работного люда на улицах Пушкарских, где жили пушкари, Монетных — чеканщики монет, Гребецких — гребцы с галер, Зелейных — мастера делать зелье, порох. Ежегодно сюда пригоняли на каторжный труд по сорока тысяч крепостных. А с каждой баржи и с каждой телеги, кои прибывали в город, неукоснительно взималась пошлина — камнем… Уплатили такой баж за въезд в столицу и послы Страны Моря.
Реял в небе ангел с крестом на шпиле собора в Петропавловской крепости, — он вознесся без малого на шестьдесят саженей, в полтора раза выше московского Ивана Великого. Многажды этот шпиль разбивали в грозу мечи молний, но он воскресал.
У Мамана глаза разбегались. Не один день он проторчал в Кунсткамере, самой большой в мире, разглядывая собранные руками Петра диковины, или, как их называли, раритеты, со всех земель и морей, изо всех былей и сказок. Маман дивился им больше, чем белокаменным бабам с оголенными ляжками и нагой грудью, — их он видел сквозь решетку самого старого в столице Летнего сада, которому надлежало затмить Версаль. Хотелось бы проникнуть за эту заветную решетку, выкованную в Туле, прознать, правда ли, что в Летнем дворце Петра — всего два этажа, один для царя, другой для царицы, и в каждом этаже — всего по шести горниц, по своей поварне и дежурке для денщиков и фрейлин… Но туда был доступ лишь сановникам, богатеям, называвшим себя строителями Петровского града.
Чаще и дольше всего Маман бывал на Заячьем или Веселом острове, в Петропавловской крепости. Она уже не была форпостом. Впереди нее встал Кронштадт, тогда еще Кроншлот, а Петропавловка стала главной в государстве темницей; в ее равелинах побывали и двадцать два мятежных моряка с корабля «Ревель», и царевич Алексей, в ней умер один русский мудрец, заточенный будто бы за то, чтб противился рубке лесов, чему немыслимо было пов/рить… Но никак не мог надивиться Маман на домий Петра в крепости, деревянный, с двумя тесными светелками, разделенными сенцами, — ни дать ни взять крестьянская изба.
Петропавловка была битком набита солдатами, непохожими на солдат Орской крепости, а тем более на казаков. Все тут были седоголовые, с бабьими косичками на шее. Не мог понять Маман, зачем воину такое украшение. Но как они стояли на часах на шести крепостных бастионах! И как маршировали на плацу! Нешто вот так же слитно, в ногу, как один, они ходили в атаки под устрашающим ружейным и пушечным огнем, не единожды — следом за Петром? Сказывают, что точно так… Вот что повидать бы своими глазами. Видит бог, было бы жутко, но Маман не мигнул бы, ибо нет на свете сильней интереса — видеть и знать.
Военных кораблей, многомачтовых, под полными парусами не довелось посмотреть. Они держались мористее, на своих форпостах. Тщетно Маман пытался представить себе сражение на море. Легче вообразить бой джиннов или драконов. Видел Маман на Неве галеры, но они походили на большие лодки, на них не было пушек.
Семеро товарищей Мамана побродили было с ним и отстали. Чаще всего они держались близ реки, на зеленой мураве, на ветру с моря. На людных улицах им было тесно и чего-то боязно; в каменных стенах не спалось, трудно дышалось. Пулат-есаул, бедняга, маялся больше всех. Его тянуло на охоту, он тосковал по собачьей своре Гаип-хана. Сыновья шейха денно и нощно читали и толковали Коран. Прочие господа бии играли в кости.
У дома, где жили послы, сквозь булыжник мостовой пробивалась трава. Мостовая выглядела как изорванное зеленое кружево. Глядя на него, Сагындык-богатырь, из рода кунградцев, сказал:
— В этих каменных стенах, на каменной земле, мы не могли бы жить. Нам тут житья нет.
— Неправда, — возразил Маман. — Живали и мы в городах, на мощеных улицах. Забыли пустырь… а на пустыре — каменную печать… где стоял город Жана-кент? А город Айаз в устье Джейхун-реки, близ нашего моря Арал?
— От того города осталась одна легенда. Не сыскать и места, где он стоял. Сказки это почтеннейшего Мурат-шейха…
— Для кого, может, и сказки, а для кого — память святая! Разве мы не знаем, кто стер с лица земли наши города? А следом за нашими — и русские?
— Как не помнить?
— А теперь вспомните, что видели в городе по имени Оренбург!
— К чему ведешь, Маман-бий?
— К тому, с чем приходили одни и с чем — другие, кто с огнем, а кто со светом… Так ли я сужу, бии мои?
Послы оживились, пустились в рассуждения…
Дни между тем шли, связываясь в недели, а новостей — никаких ниоткуда. Царица Елизавета задержалась в гостях, а без нее, знамо дело, и столица не та.
4
Акбидай оказалась умницей. Она не задирала носа, хотя выросла в богатой семье. Ее муж не имел белой юрты, в доме не было убранства, никакой утвари, а во дворе — скота. Но Акбидай не подавала вида, что это ей непривычно и даже стыдно. После свадьбы тотчас она сняла праздничное платье, надела обноски. Не дожидаясь слуг, принялась за свое хозяйство. Оно состояло из двух ягнят, подаренных отцом-шейхом… Соседки цокали языками: и внутри и вокруг ее лачуги — чистота, земля будто вылизана. За пустым местом ухаживала, как за персидским ковром. Ну и с людьми была легка, дорогу никому не заступит, не услышишь от нее грубого словца. Словом — мила молодуха.
Любо ей было все мужнино, как оно ни убого. А жила в доме еще редкостная душа, преданная и храбрая, — сестричка Алмагуль. Акбидай узнавала в ней черты мужа — и сиротское бессловесное терпенье, и сиротскую бесшабашную удаль. Росла девочка среди бездомных босяков, голопузых мальчишек; ее бы жалеть да опасаться втайне. Акбидай ее полюбила и ласкала любовно. Поможет ей вымыть голову, усадит рядом и расчесывает ее волосы самодельным гребнем из коровьего рога, лю-буясь тем, как девочка хорошеет на глазах.
Всякий раз Акбидай заплетала ей косы по-новому. Волосы у Алмагуль еще коротки, едва дотягиваются до спины, и потому, к примеру, косу корзинкой не соорудишь; всего больше шли ей мелкие косички. Акбидай заплетала их множество, и от того, как девочка радовалась и как была благодарна, щемила сердце сладкая боль.
Расцвела маленькая Алмагуль от женских рук. Смуглое ее лицо, похожее на прожаренную лепешку, побелело и разгладилось. Разлетелись прежде насупленные бровки, а в иглоподобных ресницах заиграли веселым блеском телочьи глаза, словно вмиг истаяла в них вечная печаль. И куда подевалась сиротская худоба, так похожая на старческую… Голос изменился: был с хрипотцой — от частых простуд, как у мальчишек, — теперь зазвенел, подобно колокольчику из чистого серебра. Дивно было слышать этот звон. Не узнавали женщины Алмагуль. Глядя на нее, думали: мне бы такую доченьку звонкую. И поговаривали так: дал бог сироте не невестку, а родную мать.
И как ни грешили женщины против Акбидай, когда она пошла не за Мамана, а за его слугу, как ни чесали языки, дивясь ее непростительной дури, теперь, разглядев молодуху поближе, признали: дурь-то дурью, да бабочка не глупа, счастлив ее муж.
Понравилась она старухам, старшим матерям, и те частенько заводили с ней разговор на тот счет, нет ли у нее сестер и подруг, таких же, как она, дурных, да не глупых, в возрасте невест. Акбидай смеялась, показывая ямочки на щеках, похожих на яблоки, мытые в молоке.
У казахов невест много. Девушки — все ищут не пузатого хозяина, а любимого человека… чтобы был мужчина… и чтоб был богат душой… Разве вы этого не искали? А что не каждой это достается, в том нашу сестру не винить — жалеть.
И еще заговаривала Акбидай э том, о чем женщины обычно не говорят:
— Выходит дело, попала я к вам в ясный день, когда солнце улыбнулось вашему народу… господи боже, сделай и меня счастливой. И дай бог, дай бог, чтобы наши правители были дружны. Жили бы в мире наши мужья, любили бы нас.
— Кормили бы своих детей, — добавляли женщины постарше и громко ахали тому, что слышали от Акбидай, а она опускала глаза, складывала почтительно-покорно руки, чтобы не подумали, что она поучает старших.
Женщины уходили от нее, словно одолжив бодрости, женской воли, а это иной раз дороже и нужней щепотки соли. И думали женщины о том, что, видать, не зря эту казашку любил Маман.
Между тем в семье Аманлыка было неладно. Нехорош был Аманлык. После того как он увидел караван мангытцев-переселенцев, услышал детский плач и рев скота, словно при пожаре или землетрясенье, — совсем пал духом, едва ли не слег.
Лежать бедняку некогда, тем более в страдную пору С зари до зари Аманлык был на ногах, но валился с ног не от усталости — от душевной боли, не спал по ночам, маялся наедине со своими думами, как тайный преступник.
Старался не показать виду. Похваливал жену и сестру. Красивую они возвели перегородку, чтобы отделить супружеское ложе — из красных ивовых прутьев. На той перегородке висел меч Оразан-батыра с посеребренной рукоятью в простых черных ножнах… Безупречен и новый очаг с крепкими кольями, на которых жарить бы на вертеле барашка, кабы у хозяина был достаток. Значит, верила хозяйка, что — будет?..
Правду сказать, в глубине души Аманлыка все же осели и язвили душу подлые слова Гаип-хана об Акбидай и Мамане. И другие, хорошие люди, случалось, заговаривая о жене Аманлыка, вспоминали Мамана. Но об этом думать было недостойно. Мучило другое. После того, в какой беспомощности и отчаянности привелось увидеть Аманлыку Рыскул-бия и Убайдулла-бия, а потом и святого отца Мурат-шейха, спрашивал себя Аманлык: а что же могу я, слуга их слуг? Люди хана колошматили меня, как хотели, за то, что я — Маманов человек. А от Мамана — ни слуху ни духу. Худо людям без сына батыра. И каково еще будет? Нет, не тому человеку подарил Оразан-батыр свой меч…
Сестричка Алмагуль как-то подошла, спросила, по-тупясь:
— Братец, вы заболели?
«Весь народ, почитай, сейчас больной…»- подумал Аманлык.
На другой день он увидел охапку свежих прутьев, прислоненных к настенным камышовым циновкам. Что еще женщины надумали плести из ивняка? Жена вышла из дому. Аманлык осведомился у сестрички. Та ответила с затаенным упреком:
Невестка их принесла, братец милый.
— Зачем?
— Чтобы ты сек ее.;, когда будешь сердитый… Сердце и отойдет! Чтобы сердце у вас отошло, братец.
— Дурочки вы мои! — воскликнул Аманлык, улыбнувшись, наверное, впервые за последний месяц.
Вошла Акбидай, увидела, что муж улыбается, и просияла. Потом побледнела от решимости.
— Мой бек, ответишь, если я спрошу?
— Попробуй.
— Правда ли, что Маман-бий не вернется домой, потому что любит русских больше, чем свой народ?
— Откуда ты это взяла? Не стыдно тебе повторять такую ерунду?
Бек мой, почему же ты стонешь во сне, вздыхаешь, когда не спишь?
Аманлык с тоской оглядел свой убогий дом.
Две кошмы, чугунный котел… Единственное ценное — сундук с платьями — привезла Акбидай. Хорош молодой семьянин! А лучше ли старому? Вон Сейдулла Большой, первый человек при шейхе, и тоже — ни кола ни двора, как у Аманлыка. Скота нет, зато у очага — куча детей; старшие из них уже трудятся, хозяйство у шейха порядочное, а в порядочном хозяйстве всегда недостача рабочих рук. Чему радоваться бедняку?
Но всего хуже — одиночество, всего тяжелей — растерянность без Мамана.
Тогда Акбидай напомнила: обещались они проведать отца, Айгара-бия, — не пора ли? Аманлык встряхнулся: спасибо, жена, хорошо бы… Пошел тут же спроситься у Мурат-шейха, правда не особо надеясь получить согласие.
Шейх подмигнул ему с улыбкой холодноватой:
— Ты что такой, ни живой ни мертвый? Нелегка семейная жизнь? — Затем насупился:- Не обижаешь Ешнияз-ахуна? — И пригрозил строго:- Смотри там, как бы не стало у казахов одной семьей больше, у нас одной семьей меньше. Помни!
Однако же отпустил, выслушав горячее обещание Аманлыка — помнить.
Хотелось взять с собой сестричку Алмагуль, да втроем на тощей спине гунана не уедешь. Алмагуль осталась, кроткая, безропотная, лишь напоследок сказала, что пойдет жить, пока братец и невестушка будут в гостях, к сиротам; верховодил сиротами теперь Коротышка Бектемир, он не обидит.
Аманлыка толкнуло в самое сердце:
— Из своего дома? Почему, глупенькая? Там не так страшно…
— Кого же ты боишься?
— Шейха-отца, — ответила Алмагуль. И добавила поспешно:- Ты не беспокойся, к отцу-ахуну буду ходить с самого утра, делать что скажет, ты не беспокойся.
Аманлык молча понурился. Вся его семья служила ту же службу, что и он: посмотришь, жена ахуна еще спит, а Акбидай уже крутит ручную мельницу, толчет в ступе рис, Алмагуль тащит хворост, собирает щепки. Отслужив эту службу, делай, что твоей душе угодно. Вольно тебе наняться к кому-либо за харчи, вольно спать, голодать, но притом не проспать поутру и не тащить себе в ненасытный рот все, что попадется под руку в доме ахуна…
* * *
Айгара-бия любили за простоту. Он был не спесив, не кичлив. В юности рос с пастухами, ел с ними из одного котла и спал наравне с ними, летом — на соломе, зимой — под овчиной. Разбогатев после смерти скупого отца, он не забыл своих однокашников, и хотя не одарил всех скотом и не каждого женил, но и не держал впроголодь. Был совестлив, находил в душе силу решать споры по справедливости, не думая только о своей корысти, как иные хозяева, жадные до потери рассудка. Бии ему этого не прощали, зато любили все младшие, весь его род.
Дочку свою, единственную, назвал Акбидай, что значит Белая Пшеница, потому что она родилась на пшеничном поле. Мать ее в пору жатвы принесла в поле поесть, тут и начались у нее схватки. И было в семье заведено, как дочка подросла: выходить Акбидай первой в поле, жать и связывать первый пшеничный сноп.
В нынешнем году Айгара-бий также ожидал дочку к началу жатвы. И вот она приехала и поспела в самый раз… Отец не узнал ее и зятя, до того они отощали. Румяная, светловолосая (бывают и белокурые среди казахов), Акбидай почернела, как жареное зерно. Долговязый, чернявый Аманлык, напротив, пожелтел, как солома; помнится, когда жил с сиротами и ходил за подаяньем, он не был настолько костляв.
Мать пыталась отшутиться и тем утешить отца:
— И мы с тобой в первый год съели друг дружку. Айгара-бий подумал: «Маман не дал бы их в обиду». Радость, однако, была общей. Встречали молодых всем аулом. А поутру вышли с ними в пшеничное поле. Оно отливало золотом. Ветер катил по нему золотисто-сиреневые волны. Колосья с крупным зерном и долгими иглами висели шатром. Увидев эту красоту, Акбидай запела. Песня была горячая и нежная, как все песни о любви, и величавая, как гимн. Она благословляла новорожденный хлеб.
Белая пшеница, золотая, в серебряной короне… Грудь свою распахни. Зернами хлебными, как матери молоком, накорми-напои.
Одноаульцы дружно подхватили:
— Золотая… в серебряной короне… накорми… напои…
И словно окунулись жнецы в пшеничные волны. Работали увлеченно, весело. Песня разливалась по всему полю, и ветер тоже запел вместе с людьми. Пело и небо во все птичьи голоса. И казалось, что началась не страдная пора, а пора игрищ. Пот струился по медным от загара лицам и спинам, блаженный.
А вечером Аманлык и Акбидай увидели в ауле новую юрту с украшенной белыми кошмами макушкой. Заплакали, глядя на нее. Юрта была возведена для них, точно в день свадьбы. Аманлык нырнул под дверную кошму, ведя за руку Акбидай. Верить ли глазам? Кругом — кошмы, кошмы… Такой мягкой, уютной, заман чивой постели не было у них и в первую брачную ночь. Аманлык с нежностью обнял жену и рассказал о том, что воскресилось в памяти. Как раз на месте этой юрты стоял прежде камышовый сарай. В нем подвешивались мешки с творогом, когда скот пригоняли с пастбищ. В годы сиротского нищенства Аманлык с сестричкой Алмагуль неслышно-незримо, как»: ыши, забирались в сарай, засовывали в мешки руки по локти и убегали со всех ног, слизывая на бегу со своих рук незабываемо вкусный творог.
— Довольна, голубка моя? — спросил Аманлык.
— Я ему благодарна, — прошептала Акбидай едва внятно, но Аманлык расслышал ее и понял, о ком она говорит: о Мамане.
— И я, и я благодарен, господи, прибавь ему тех лет, которые не дожили мои отец-мать! Светлая ты моя, золотце с серебром… до чего я доволен… твоей матерью, которая тебя родила, твоим отцом, который отдал тебя мне, вообще твоим народом, который теперь мне родней родного…
Акбидай, словно смущенная многословием Аманлы-ка (муж не жених, мужу неприлично слишком разглагольствовать с женой), прижалась губами к его губам.
Тихое покашливание у дверей заставило их обернуться. В юрту заглянул Мырзабек, младший брат Айгара-бия, веселый джигит.
— Нужны ли тут певцы, зять?
Аманлык вопросительно посмотрел на Акбидай, та кивнула. Не прошло и получаса, как юрта была полна народу и звенела, подобно огромной домбре. Пели до утра, как, бывало, в дни приезда Мамана.
На другой день все переменилось. Айгара-бий позвал к себе Аманлыка и уединился с ним. Вернулся Аманлык опять угрюмый, потерянный, пришибленный еще более, чем до приезда в гости. Казалось, сглазили человека. Потом Айгара-бий отослал его вместе с Мыр-забеком — как будто на пастбище. Минул день, другой, — ни мужа, ни брата. Отец ничего не объяснял, а Акбидай не смела спросить. Мужские дела, не женского ума… Однако она видела, что дела — неважные, отец расстроен. Увидела она и то, что в ауле не так уж весело. Люди жили в затаенной тревоге и напоминали скотину, которая в ясный день сбивается в кучу, предчувствуя близкую бурю.
Не прожив в гостях недели, Акбидай отправилась домой, и отец ее отпустил одну, без Аманлыка; дольше ждать ей было нельзя. Повезла она с собой юрту с белым верхом, но дары уже не радовали.
Мурат-шейх встретил Акбидай неприветливо. Шейх-отец бранил Аманлыка за обман и греховное безделье, столь привычное завзятому бродяжке, и обещался наказать его примерно, когда он явится. А Акбидай не умела объяснить, какая надвигается беда; она не знала, что за беда…
Сейдулла, аткосшы шейха, по простоте душевной напрямик спросил: неужели добрейший Айгара-бий не выделил дочери и зятю е н ш и, то бишь долю будущего наследства? И опять Акбидай отмолчалась. Был разговор с отцом об енши, но очень странный: «Ох, вряд ли, доченька, это будет тебе на пользу… Я уж сказал твоему мужу: больше обретешь — больше потеряешь…» Смеялся отец? Можно ли так смеяться?
Прислал Айгара-бий лишь Мурат-шейху угощенье — полдюжины овец, и шейх также не поскупился, велел зарезать половину, устроил званый обед для самых близких. На том обеде Мурат-шейх высказал все хвалебные слова, которыми располагал его мудрый язык, — об Айгара-бий, великом человеке. Этому человеку и его роду каракалпаки прежде всего обязаны тем, что поселились здесь, в низовьях Сырдарьи, в годину белых пяток, после джунгарского нашествия. Вот что никогда не забудется. Все были польщены, понравились и речь шейха, и дастархан. Акбидай за дастарханом не было. Но и она осталась довольна тем, что доволен шейх-отец.
Далее Мурат-шейх спешно отбыл на той в аул рода табаклы. Род небольшой, неровня четырем главным пластам черных шапок, и потому он даже не упоминался в клятвенном письме русской царице. Но той — весьма важный, по случаю рождения мальчика, которому было дано имя — Маман. Это третий Маман; первый — Маман-бий, второй — Маман-шейх, сын Мурат-шейха, один из послов в Россию. Понятно, что на таком торжестве нельзя не быть.
Род табаклы славился своим уменьем уважить гостя. Говорят, этому уменью учились у табаклы все каракалпаки. Хорошо ли вас угощали? Как табаклы! Такая будто бы ходила поговорка. Мурат-шейха принимали пышно. Послали на ближние холмы ребятишек — сто рожить дорогу. По их сигналу высыпали навстречу всем аулом. Поводья коней шейха и тех, кто его сопровождал, принимали разом, втроем-вчетвером, вели к дому толпой. И не давали спешиваться в дорожную пыль, несли до двери на руках.
Шейх прибыл последним из почетных гостей. Когда он вошел, все встали. Один Рыскул-бий остался сидеть, лишь слегка потеснился на главном месте. И было замечено, что шейх к Рыскул-бию — со всей душой, а Рыскул-бий к шейху — с холодком. Держались, впрочем, оба церемонно-любезно, но шейх словно бы заискивал, а Рыскул-бий скорей язвил.
Прежде бывало, пожалуй, наоборот; с каких это пор переменилось? Не с тех ли, когда Мурат-шейх не остановил горестного переселения мангытцев и развязал злые языки? Одни исподтишка, а иные в открытую болтали, что без Оразан-батыра и Мамана Мурат-шейх не тот; за версту видно, что не тот.
— Бодры ли вы телом, духом, дорогой мой? — осведомился шейх у Рыскул-бия. — Здоровы ли родичи? Хорош ли урожай? Нет ли падежа среди скота, не дай бог?
— Слава богу, слава богу, — отвечал Рыскул-бий, усмехаясь непривычному обращению: «дорогой мой»; оно походило на лобзание беззубого. Лучше бы святой отец показал старые клыки. — В порядке ли ваши дела? — спросил Рыскул-бий в свою очередь. — Послушны ли слуги? А то, говорят, некоторые в самое горячее время шляются по гостям!
Намек прозрачный… Но Мурат-шейх пропустил колкость мимо ушей.
— Стало быть, говорят, — заметил он с миролюбием, которое в ту минуту было Рыскул-бию противно.
Неужели, думал Рыскул-бий, простил Мурат-шейх кунградцам их безумие, их преступление — изгнание мангытцев? Рыскул-бий сам себе этого не прощал. Уж не хочет ли шейх вылизать языком моровую язву междоусобицы? Язык отвалится. Не отплюешься.
— Желательно бы знать, — проговорил Рыскул-бий, кряхтя мнимо беспечно, поскольку на тое неприлична озабоченность, — а что же все-таки слышно о Маман-бии, какие от него вести!
— Мне об этом ведомо не больше, чем вам, дорогой мой.
Долгое молчание сковало гостей и хозяев. Последнее дело — придя на той, омрачить торжество, это срам. А тут словно туча копоти обволокла дастархан, и людям стало трудно дышать. Закашлялись все, заперхали. То, что от Маман-бия никаких вестей, было у всех на уме и в будни, и в праздники.
Рыскул-бий снял с головы черную шляпу, вынул из ее тульи маленькую белую тюбетейку и пришлепнул ее, как блин, на свой стриженый сивый затылок. Затряс головой, точно у него звенело в ухе:
— Да простят меня хозяева, гости… не на тое будь сказано… Слышал я разговор, — не знаю, можно ли ему верить. Разговор праздный, да не о безделице. Будто бы не в себе Абулхаир-хан, гнев уже висит на кончике его носа. Будто бы на волоске хан от ссоры с царским наместником в Оренбурге по той причине, что Неплюев не оставил в аманатах сына шейха, а его, ханского сына, в аманатах держит. Попала, видать, вожжа под хвост, ну и понес. Пристал, как ножом к горлу, с прихотью: сменить в аманатах одного своего сына Ходжахмета другим сыном Чингисом, кстати сказать, побочным. А когда наместник отказал, хан будто бы… помилуй бог!., послал своих людей с челобитной — к кому бы вы думали? К Надир-шаху кровавому, от которого русские, еще при жизни Оразан-батыра, Малый жуз спасли. И будто бы обещался Абулхаир отдать свою дочь в жены, чтобы умилостивить лютого врага, своего главного супротивника. Вот с кем удумал родниться!
Общий стон изумления пронесся вдоль дастархана.
— Слышали и мы про тех аманатов… — как бы нехотя выговорил Мурат-шейх.
Бии закивали возмущенно. Один Давлетбай-бий, глава рода ктайцев, холодно покривился и отвернулся, потому что здесь не было его друга Убайдулла-бия, главы несчастных мангытцев.
«Слышали, — повторил мысленно Рыскул-бий. — И промолчали! И впредь смолчим… Кто перечил Абул-хаиру? Один Маман».
И так и не суждено было гостям в охотку разомлеть душой и чревом, а хозяевам — насладиться рвением на тое в честь третьего Мамана. Снаружи донеслись крики. Вошел джигит с такими толстыми вывернутыми губами и торчащими метелкой усами и бородкой, как будто он держал в зубах недощипанного цыпленка. Джигит был из тех добровольных, прирожденных шутов, которым доверялось увеселять гостей. Один вид его смешил — мужей до слез, а жен до сглазу; в ударе он мог довести до икоты и колик. Ожидали, что уж он сморозит, отмочит словцо или коленце и рассеет наконец уныние за дастарханом. Джигит сказал:
— Юродивый какой-то ломится в двери. Клянется, что тут его давно ждут.
И это было уже смешно. Все засмеялись в предвкушении дальнейшего.
— Давай, милый! Веди своего юродивого! Старайся! В юрту впустили человека, немытого, неприбранного, ни дать ни взять после долгой дороги. Лицо его было бесцветно и скомканно, как выжатая после стирки бязь. Глаза гноились. Едва перешагнув порог, он изогнулся дугой в низком поклоне и повалился на колени. Это был Аманлык.
— Что с тобой? Что случилось? Война, что ли? — окликнул его Мурат-шейх, морщась брезгливо.
— Нет, пока еще нет, шейх-отец…
Как же ты осмеливаешься являться на той в таком непотребном виде?
Аманлык рукавом размазал по лицу грязный пот, стараясь отдышаться.
— Плохие вести, шейх мой. Как хотите, ругайте, — плохие. Айгара-бий велел: нигде не задерживаясь, домой не заглядывая… Если вы спите — разбудить, хвораете — поднять, даже если молитесь — не дожидаться. А что той — хорошо, тут как раз все главные головы…
Чего тянешь? Не томи! — вскричал Рыскул-бий.
— Я говорю, я и говорю: Абулхаир-хан собирается разорить нашу страну.
Бии отшатнулись от дастархана, затолкались плечами, локтями, загомонили сердито, и поначалу не разобрать было, на что они негодуют: не на то ли, что настроились на шутовство, а шут вздумал их разыгрывать, беря на испуг?
— Ты что мелешь, сукин сын?
— Кто тебя подучил, пес?
— Заткнись, собачье мурло!
— Смотри-ка, что сочиняет, недоумок, невежда! Рыскул-бий возвысил голос:
— Люди, люди! Оглянитесь на самих себя. Этот бедолага ни в чем не виноват. Дайте ему пиалу чая. Пей, юродивый… незваный гость. Рассказывай по порядку.
Аманлык дрожащими руками принял пиалу, приник к ней и не поднимал головы, пока не выпил до дна маленькими жадными глотками горький зеленый настой. Захрипел блаженно, поцеловал пиалу и отдал с благодарностью.
Рассказ его был невеселый. Конечно, Аманлык разрисовал то, как его с женой принимали поначалу в ауле тестя. Жаворонки сыпались с неба на тот семейный той… Но затем Айгара-бий послал зятя со своим братом Мырзабеком в соседние аулы — проверить свои подозрения. И там открылось Аманлыку то, что Айгара-бий предвидел и предсказывал. Гостя неохотно пускали в дом, торопливо выпроваживали, отмалчивались, отнекивались, мычали, как нелюди. Его опасались, как богохульника или чумного. Почему? Потому что он — каракалпак, друг Мамана и еще потому, что женат на казашке… Так встречали на этой земле разве что джунгар.
Дальше — больше. Вернувшись в аул тестя, Аманлык приметил, что и тут джигиты стали посматривать на него косо, стали его чураться. В глаза не винили, но в душе считали виноватым в том, что случилось с Айгара-бием, пока Аманлык и Мырза-бек ездили по аулам… Аманлык онемел от жалости, увидев тестя, а обняв его, отшатнулся, — Айгара-бий застонал от боли. Лицо почтенного аксакала опухло от побоев, и он не мог разогнуть спины, она болела от известных своей щедростью ханских дурре.
Ночью, с глазу на глаз, не тая слезы обиды и стыда, Айгара-бий поведал Аманлыку, как был вызван в аул хана, привязан у всех на виду к решетчатой стене юрты и бит нещадно. А до того обозван ханом продажной душой, изменником, смущавшим народ крамольным соблазном — дружить, видите ли, с черными шапками. Казнить следовало бы за шашни с Маманом, но — в свой черед: сперва хан расправится с самим Маманом и его нищим народцем, сдерет с этого безмозглого племени спесь вместе со шкурой. А того ради велел Абул-хаир Айгара-бию, когда тот был измордован, представить сто вооруженных нукеров; командовать ими — Мырзабеку. Если не способен тот — самолично бию.
Так же сто нукеров хан приказал привести Седет-керею, главе именитого казахского рода, и, надо думать, главам других родов.
— А как он, злодей, настроил, как застращал и озлобил молодых и старших против нас, ты видел воочию, — заключил Айгара-бий.
И той же ночью отослал от себя с благословеньем и черной вестью.
Джигит, увеселитель тоя, словно бы потряхивая недощипанным цыпленком в зубах, изрек, косясь на Аманлыка:
— Юродивого загони хоть на край света, принесет чирей на поганом языке, чтобы ему подавиться! Зачем бог дал корове язык толстый? А затем, чтобы не разговаривала…
Но на сей раз джигит не угодил. Казалось, траурный занавес повис над дастарханом, у всех перед глазами, и всех разъединил. Сидели тесно, локоть к локтю, а по сути — все врозь, каждый со своим угольком страха в обмякшем животе. Никто не был готов к такой беде, никто не знал, что будет делать, если она разразится. И все втайне уповали на то, что Абулхаир лишь стращает, что он не отважится на худшее, как ни охоч тиранить.
Ума не приложу, — проговорил Мурат-шейх удрученно, — как же мы будем воевать с людьми, с которыми вместе гибли в годину белых пяток и вместе ожили под этим небом, ели хлеб за одним столом и пили воду из одного колодца, сватались и роднились своими детьми…
— Шейх-отец! — горячо воскликнул Аманлык. — И я сетую на бога, коли такова его воля! Пусть моя весть окажется ложной. Повесьте меня за вранье на кривом турангиле, я буду рад.
— А и правда… Глядишь, еще и повесим… — отозвался Мурат-шейх. — Что скажете, друг мой Рыскул?
— Скажу, что нет здесь Мамана, — ответил глухо старый беркут. — Скажу, что, сунув башку в песок и выставив напоказ задницу, врага не напугаешь, войну не отвратишь.
Мурат-шейх тяжко вздохнул.
— Износились мои кости… Иссыхают мозги… Однако нет ничего хуже малодушия. Трус помирает от страха прежде, чем его убьют. Храбрый боится одного бога… На что вы меня подбиваете?
— Не зевать. Не молчать. Снаряжайте своего старшего сына Хелует-шейха, никого иного, посылайте сей же час в Оренбург, к наместнику Неплюеву… К русским, к русским! Пока не пала на наши головы война. Мурат-шейх огладил пушистую белую бороду, словно творя беззвучную молитву, и посветлел лицом.
— Пожалуй, — проговорил он твердо.
— Ну и джигитов… звать, собирать, готовить… к самому тяжкому, самому худшему!
— Думаете? — спросил Мурат-шейх опять с сомненьем, с тем миролюбием, на котором верхом ездят.
5
Наконец-то — добрая весть! Вернулась царица. Под вечер стеклись к решетке Летнего сада толпы народа, а в распахнутые первые, вторые и третьи ворота покатили цугом великолепные коляски вельмож; и кучера и господа — в сивых париках. Прибежали туда и черные шапки и увидели, как взвился в небо над садом колдовской холодный огонь. Он с треском рассыпался, ярко сиял, пышно искрился, но не поджигал дерев. С бастионов Петропавловки доносилась пушечная пальба. Все кругом кричали ура. Вечный праздник при дворе Елизаветы Петровны продолжался — вполне счастливо для нее, для графа Петра Шувалова и иных ее фаворитов.
Маман перетрусил, глядя на грандиозный, получасовой фейерверк. Он с оторопью думал, как же он, такой небогатый, появится перед ослепительной дочерью Петра и ее позолоченными с ног до головы придворными в своей скорбной, черной мужицкой шапке?
К тому же стало известно о новых волнениях среди уфимских башкир. Они случались и при Петре, но при Елизавете башкирские замешания участились. На уральских заводах Шувалова и Демидова бунтовали башкиры вместе с русскими крепостными. Оставалось лишь гадать, каково сегодня настроение у столичных ханов, а их было так много…
Той порой обнаружилось, что поручик Гладышев зря дорогого времени не терял. Ежедневно он обивал пороги, как сам говорил. Речь шла о порогах громадного здания Двенадцати коллегий, которое протянулось на полверсты близ Кунсткамеры; каждая коллегия под своей крышей, со своим собственным входом. Известно, что от слова до дела — сто перегонов. Однако Гладышев далеко шагнул за пороги и по лестницам изрядно крутым добрался до высоких столов. Стало быть, дело того заслуживало, оно само собой стряпалось.
И в один прекрасный день Митрий-туре пришел к послам и сказал Маману с откровенной похвальбой:
— Не в том дело, что овца волка съела, а в том дело, как она его ела… Одним словом, судари мои, Государственная коллегия иностранных дел рассмотрела учиненные об вас представления. А рассмотрев, нынче, двенадцатого августа, представила правительствующему сенату такое мнение… Что хотя оный народ, за весьма великим отдалением от российских границ, в действительной протекции и защищении содержать неудобно, однако и, по давнишней оного склонности и по неоднократному обнадеживанию в верности российскому престолу, кажется, — точно сим словом сказано, судари мои, — от подданства отказать непристойно! Не-при-стойно. Чуете на языке соль? А для того, по рассуждению той коллегии, к вашим ханам и старшинам сочинена Грамота. И на рассмотрение правительствующего сената, при том доношении, подана. Как раз нынешний день… Довольны?
— Благослови тебя аллах, Митрий-туре… — сказали хором послы.
Далее Гладышев поведал, как слукавил. У чинов Коллегии иностранных дел, быть может, по старым бумагам, сложилось мнение, что у черных шапок — много пленных. Гладышев не стал разубеждать господ… И в коллегии было особливо за потребное признано, чтобы действительному тайному советнику и кавалеру Не-плюеву старание возыметь об освобождении всех российских подданных, а паче христиан, и за то на жалованье ханам и старшинам некоторую сумму издержать и в прочем тому народу приласкание чинить; какое же именно чинить награждение, коллегия испрашивала дозволения снабдить помянутого тайного советника достаточною резолюциею. Всему сему надлежит быть опробовану указом правительствующего сената в ту коллегию; указ ожидается к исходу текущего августа месяца.
Пулат-есаул зацокал языком, сожалея о том, что Маман отпустил столько пленных задарма. Не видать, стало быть, награждения. Но все другие послы зашикали на Пулат-есаула, а Маман сказал, кривя губы:
— Выпил бы море, да оно солоновато…
И вот разверзлись небесные врата. Послам Страны Моря дали знать, что четырнадцатого августа они будут представлены ко двору ее императорского величества.
За Маманом прибыла коляска. В нее был зван также господин поручик Гладышев. Прочие поехали верхом.
Маман не помнил, короток или долог был прием. Вряд ли долог, но и не чересчур короток… Ничего подобного по древнему величию кремлевской Грановитой палате в молодой столице не имелось. Елизавете Петровне угодно было принять послов перед иными, более любезными ей занятиями, в прелестных К и к и н ы х палатах, сооруженных близ излучины Невы еще при-петровской Канцелярией от строений. Зал с клетчатыми оконными рамами во всю стену сиял, и у послов было побуждение — разуться при виде его вощеных полов; в них, как в воде, отражался блеск гвардейских мундиров и расшитых золотом камергерских роб с золотым ключом на голубой ленте, при левой поясничной пуговице.
Первоначально Маман был представлен государственному канцлеру Алексею Петровичу Бестужеву и, по-видимому, не слишком оробел (во всяком случае меньше, чем драгунский поручик Гладышев), потому что Бестужев снизошел до явной любезности. Заметив, с похвалой, как посол молод, и назвав его Маман-б а т ы р е м, на русский лад, Бестужев добавил:
— Если не ошибаюсь, мусульмане величают Иисуса Христа первым пророком, а Магомета — послом божьим… и Магомет был отнюдь не стар?
Столичный толмач торопливо перевел эти слова. Маман не знал, что Мухамед начинал свои проповеди в Мекке в возрасте сорока лет, как, впрочем, не знал этого и Бестужев, но Маман не смутился. Подумав, сказал горячо и благодарно:
— Истинная мудрость — это великое знание… а оно — как небо, светит всем народам и понятно на всех языках…
Бестужев не остался в долгу:
— А знает ли господин батырь, когда впервые на русском языке выпущен в свет Коран? При блаженные и вечнодостойные памяти государя императора Петра Великого, по его именному указу!
Сердце Мамана задрожало от радости, что может сказать о Петре.
— Сарь Петыр есть точно такой посол… — проговорил Маман по-русски и показал пальцем в потолок, то бишь в небо.
Поручик Гладышев, стоявший за Маманом, едва удержался от возгласа, а большой чин из Коллегии иностранных дел, стоявший за Бестужевым, значительно поднял брови, думая о том, что сей черномазый в рубашке родился.
Вышла государыня императрица… Все сановники и чины склонились в поясном поклоне, а гвардейцы вытянулись, выпячивая груди и обтянутые лосиной замшей места пониже живота. Все, кроме Мамана. Он остолбенел, увидев женщину в сивом парике, подобно вельможам и солдатам в Петропавловке, а главное — с сильно выпуклой молочно-белой грудью, оголенной, как у каменных баб в Летнем саду.
Это царица?.. Не по силам было Маману оторвать взгляд от ее наготы, и он тщетно старался глядеть ей в лицо, пока она усаживалась в своих необъятных кринолинах в голубые сафьяновые кресла за отсутствием трона. Маман чувствовал, что пропал, провалился и уже никаким чудом не поднимется на коня…
Елизавета Петровна все видела и все поняла. И может быть, эта наивная дикарская оторопь господина посла была самым выгодным и выигрышным, что он мог выказать при дворе на первый случай. Елизавета Петровна была тронута. Посол оказался неожиданно и невозможно молод. А ведь недурен, по стати — гвардеец! Взгляд звероват, да это не худо. Конечно, темен мастью, но один известный всем генерал-аншеф от роду и вовсе арап.
Елизавете Петровне было чуть за сорок, а именно сорок два, и она была молода душой, у ж а с т ь как молода, а посему повелела зодчему Варфоломею Растрелли начать сооружение Смольного монастыря. Туда она собиралась удалиться под старость по примеру Ивана Грозного, который грешил и молился, грешил и каялся… Тем не менее она улыбнулась молодому, видному нехристю, который так пялился на ее истинно царское, умопомрачительное декольте. Улыбка ее была туманна и бледна, но в этом доме ее улыбки умели читать.
Бестужев представил Мамана в выражениях, которые толмач не стал переводить господину послу:
— Ваше величество… умен… и, смею сказать, тонок… в мере, в коей не можно было и ожидать…
Но Маман уловил смысл сказанного и, слава богу, пришел в себя. А пришел в себя — говорил речь. В оной речи благодарил за принятие своего малого, сирого, но с открытой душой и чистого в помыслах народа в российское подданство. А такоже просил покорнейше о содержании всего своего народа в высочайшей императорской милости. Так перевел речь посла толмач.
На которую его речь от лица ее величества государственным канцлером дан был ответ такого содержания: что ее императорское величество каракалпакских ханов и старшин с их народом вступление в подданство приемлет милостиво и обнадеживает их своей императорской милостью и жалованьем. Так перевел толмач речь канцлера.
Следом за тем Елизавете Петровне угодно было заговорить самой.
— Скажи, господин посол, — спросила она с живейшим интересом, — а правду ли нам доносят, что якобы у твоего племени как мужеск, так и женск пол не знают — целоваться… а случись любезное свиданье — так только вроде бы обнюхиваются, как киргиз-кайсаки?
Маман ответил бесстрашно, уловив насмешливую ноту:
— Велика царица… кому охота стрелять в темноту? Толмач замялся в затруднении. Слова Мамана означали: чего не ведаем, того не оспариваем… Нет ли тут дерзости? На всякий случай толмач молвил со всем старанием:
— Святая правда, ваше императорское величество.
— А есть ли у вас красивые женщины, как в иных странах? — спросила далее Елизавета Петровна.
— Есть, великая царица, хотя они и прячут свою наготу… — ответил Маман, глядя дочери Петра в глаза.
Толмач до смерти испугался. Брякнул, не задумываясь:
Точно так, ваше императорское величество.
И пожалуй, один Гладышев понял, на каком волоске висел Маман.
Елизавета Петровна вновь улыбнулась. На сей раз ее улыбка была ясна и светла. Нет, малый скучен, как все юнцы. Вот объездится — будет конь неутомимый. Шкуру тигровую, кою он привез, надобно презентовать возлюбленному Петруше, то бишь Шувалову.
С этими мыслями Елизавета Петровна встала, а все прочие сложились пополам. Уходя, Елизавета Петровна бросила беглый взгляд в сторону посла. Маман опять стоял как столб… И государыня императрица изволили едва внятно засмеяться, что означало успех при дворе полный и редкостный.
Потом удалился и государственный канцлер, подав на прощанье положительно достойному того послу руку. Маман, помня наставления Гладышева, не стал ее пожимать или, того хуже, трясти, а лишь коснулся ее обеими ладонями с приличествующим поклоном. Это соответствовало и восточному обычаю.
— Однако же… ты горд, господин батырь, — сказал Бестужев как бы походя. — А может, забывчив? Имени хана Абулхаира, а он твой старший хан, я не слыхал от тебя нынче. Как так?
Маман простодушно развел руками:
— Честно сказать, по нашему обычаю и вере, когда старший брат говорит, младший помалкивает, ибо грех — ослушаться воли старшего.
— И мы того держимся, — заметил Бестужев подчеркнуто. — И немец, и француз, и аглицкой нации послы, и иного вероисповедания.
— Но… мудрый отец видит детей насквозь. Отец знает, что на уме у его сыновей. И случается, берет из головы самого младшего одно зернышко истины и взращивает его в поле своей души…
Бестужев лишь повел бровью, с тонкой улыбкой на углах губ, сдержанной и многозначной.
Маман продолжал, прижимая руки к груди:
— Да простит нас господь… Мы не хотим быть исподней одежкой хотя бы и на Абулхаир-хане. Хотим быть тем кафтаном, который и греет и красит. Не хотим быть мешком в мешке, посудой в посуде… и заслужили того, чего хотим. Мы давно — пояс, которым Абулхаир-хан крепко подпоясался. И ведь развалятся его животы, если он распояшется.
— Уж не вздумал ли ты тягаться с ханом, любезнейший господин батырь? — проговорил Бестужев мнимо добродушно. — Не слыхивал, как тягалась кобыла с волком?
— Мы с казахами — ломти одной дыни, — отвечал Маман. — Но черные шапки, а по-старому — черные клобуки, жили с русскими, когда еще не было Абулха-ир-хана, не было и Тауке-хана. Не было Чингисхана! Но была Русь. Был Киев, была Москва… А нын-че Сам-Пётыр, — добавил Маман по-русски. — Хотим сон-ца, а не лу-на.
— Понимаю, понимаю, — проговорил Бестужев неожиданно громко и одобрительно.
И это понимание и громкость были прямым указанием для большого чина из Коллегии иностранных дел, который при сем присутствовал.
На том аудиенция и закончилась.
Эхо при дворе было долгое. И не далее как три дня спустя, семнадцатого августа, послы Страны Моря были представлены также его императорскому высочеству, наследнику престола, будущему царю Петру Третьему. Он был супругом немецкой принцессы, которая даст ему поцарствовать ровно полгода и три дня, а потом поместит его в Ропшинский замок и там тайно умертвит и станет Екатериной Второй.
Его императорское высочество поразило Мамана своим лицом. Лобик с ямочкой, щечки пухленькие и обвислые, губы вывернуты, как у новорожденного ребенка. А глазки — то колючие, как шильца, то мутные, как бельма.
Гладышев накануне вконец смешался, честно говоря. Встречи с царицей он побаивался, разумеется, но с полным резоном и с надеждой, а встречи с наследником — страшился безо всякого уяснения и без меры. Его высочество был волею господней скудоумен от рожденья, о чем и при дворе, и в армии знали, а потому был он опасен чрезвычайно. И на сей случай Гладышев не дал Маману никаких наставлений.
Делать, однако, нечего. Явились… Маман держал речь, краткую. Что тут надобно покороче, он понял тотчас и не ошибся. На оную речь ответствовал от лица его императорского высочества обер-егермейстер господин Брендаль. Наследник престола разглядывал Мамана примерно как лошадь или голую бабу, прикидывая в уме, а чем же этот немаканый сумел приглянуться государыне, знавшей толк в кавалерах, а того более — сатане Бестужеву? И при этом думал будущий русский царь не по-русски, а по-немецки, что ему было привычней и милей.
Спросил он также по-немецки:
— И что же, мой господин, тебе понравилось теперь в Санкт-Петербурге? Больше всего!
Мамана осенило. Он сказал:
— Плац-парад!
— О! О! О! — выговорил трижды его высочество, всякий раз все сильней выпячивая живот, как будто его пинали под зад. — Молё-дьец! — И добавил вполне внятно:- К черту…
Затем наследник престола принялся громко хохотать, помахивая крохотными, как у карлика, ручками. Напоследок он дал Маману большую серебряную монету.
Когда послы были отпущены и уехали, Гладышев долго крестился. Прежде этого за ним не водилось.
На обоих представлениях ко двору поручик был в тени и не замечен. Но на следующий же день после аудиенции у его высочества Маман увидел Гладышева в капитанском звании.
— Сударь, — сказал Митрий-туре, — по крайности единожды ты был гений. Когда сказал, что тебе полюбилось в Петербурге.
— Я правда это любишь, — возразил Маман.
— Милый мой… Неужто ты не понял, как он не-на-ви-дит Россию и все русское? Это такое несчастье, такое несчастье!
Маман молчал. Ему еще придется вспомнить об этом, когда наследник вступит на престол…
Затем послы были приняты тем сановником из Коллегии иностранных дел, который присутствовал на представлении их ко двору. Разговор шел единственно об Абулхаир-хане и попервости о том, что было известно со времен посылки к нему при царице Анне Иоанновне мурзы Тевкелева, ныне полковника… Да, есть при Абулхаир-хане две партии, одна — за союз с Россией, другая — против, и самому хану по сей день вот как неуютно жить между тех двух партий. Об этом еще говаривал Оразан-батыр и предсказывал Абулхаир-хану вовсе худую участь, ежели не соберется хан с силой и с умом сделать верный выбор.
Сановник заинтересовался:
— Позвольте… Какую такую худую участь?
— Кару господню, — сказали сыновья Мурат-шейха. Пулат-есаул добавил:
— Участь той женщины, у которой не один муж: один выгнал, другой убил!
— Считаете, что хан не крепок в своем ханстве?
— На нашу голову его хватит, — сказал Маман со вздохом. — Потому просим вашей милости, вашей власти.
— Всеконечно… натурально, господин посол… — проговорил сановник, с прищуром косясь на Гладышева.
Далее пошло дело по маслу.
Двадцать шестого августа, как и ожидалось, последовал указ Правительствующего сената, и в скромном припетровском здании Сената была вручена послам Страны Моря Грамота с приложением такого мнения, что предупомянутыми послами при дворе государыни императрицы много довольны.
Засим послы были отпущены из Петербурга возвратно в их отечество с надлежащим награждением и удовольствием. Маман-бию была подарена коляска со складным, кожаным верхом, на рессорах. Признано было за потребное и далее сопровождать послов нарочному офицеру Гладышеву, пожалованному за усердие капитаном, с полною инструкциею, каким образом, приехав в ту орду, оную грамоту ханам, султанам и старшинам, при собрании народа, подав, вычесть, и прочее.
К частореченному же тайному советнику и кавалеру именным указом особливо повелено было: за каждого вызволенного из плена русского подданного давать из казны от пяти до десяти рублей или сколько по тутошнему состоянию, усматривая случаи, заблагорассудится. А в прочем с тем каракалпакским народом — поступать по тому указу, усматривая пользы интересов государственных, а на что потребны будут в сих делах указы, о том приобщать мнения.
Гладышев, узнав об иной расценке, заметил угрюмо: — За лошадь, годную под драгуна, платим пятнадцать, а то и осьмнадцать целковых.
Маман прощался с городом Петра со слезами на глазах. Душа его изнемогла от многих крайних волнений и несказанно соскучилась по родным краям. Хотелось домой, скорей домой. Но он еще не насытился тем, что видел и что узнавал… И пожалуй, не менее, чем уехать, хотелось ему остаться…
6
В октябре послы Страны Моря были на полпути домой. Но весть о нечаянном успехе посольства уже дошла до Неплюева. Не верилось никому, что подлинно был фурор при дворе; все в Оренбурге гадали, как же такое могло приключиться. Тем не менее Иван Иванович тотчас распорядился надлежащим манером.
Которую неделю, с утра до вечера, торчал в канцелярии Хелует-шейх, сын Мурат-шейха. Им тяготились. Неловко было смотреть ему в глаза, поскольку ни предостеречь, ни обнадежить его нельзя было, пока не задалось дело в Петербурге. Теперь Неплюев послал за ним, поздравил его и спросил на радостях: как, по его разумению, стоило бы отметить удачу Маман-бия? Ответ последовал примечательный. Сын шейха сказал, что, раз так, то он хочет получить тарханство…
Иван Иванович от души рассмеялся, однако позвал писаря и сам продиктовал ему текст челобитной, дал просителю подписать и тут же наложил резолюцию. По сей челобитной и было пожаловано сыну шейха, знатнейшему из каракалпакских сыновей, тарханство, кое достоинство такоже и детям тархана иметь велено.
Хелует-шейх спешно отбыл домой и вызвал дома большой шум, ибо тархан не платил никаких податей, а в прежнее, не столь уж давнее время считался к тому же несудим. Шум этот был Неплюеву надобен. Так он давал понять всем, а паче всех хану Абулхаиру, как надлежит восприять возвращение из России Маман-бия.
Вместе с тем Неплюев снарядил и послал к каракалпакам с добрым известием знающего по-татарски унтер-офицера, казачьего урядника Филата Гордеева и старого их знакомца Мансура Дельного, присовокупив для подарка старшинам несколько портищ сукна. Гордеев и Мансур побывали в тех самых аулах, в которых полгода назад Гладышев принимал присягу у старшин, привезли ответные дары.
Докладывали посланцы, впрочем, разно. Гордеев усмотрел в аулах радость неподдельную и любезность. Мансур добавлял упрямо: но и страх, да не тот, обычный, к коему издавна привыкли, а некий новый, совсем слепой, когда жить страшней, чем помереть, когда люди ходят по отчей земле с приглядкой да вприскочку, как будто она обжигает им ноги и грозит разверзнуться, — не этого ли добивался Абулхаир?
— Может стать вполне, — сказал Неплюев.
Не миновали Гордеев и Мансур Гаип-хана в его ауле. Сего господина они бранили оба дружно. Похоже на то, что Гаип-хан задумал не платить более податей Абулхаиру-хану, поскольку Маман добился своего…
Неплюев поморщился, щелкнул досадливо пальцами.
— Глупость! Чрез-вы-чайно опасная, если не роковая… Еще при государыне Анне Иоанновне мы согласились насчет каракалпаков: в подданство их принимаем, податей с них не берем. Все поборы остаются в казне Абулхаира. Понимаете, зачем такая-то юрисдикция?.. Что же, у ихнего Гаип-хана две головы не плечах?
— Он не ихний, пришлый, — сказал Мансур Дельный. — Ставленник Абулхаир-хана.
— Даже так… Вероломство — поистине у одних болезнь, у других — страсть. Неужто, однако, он посмеет? И некому его остепенить?
Гордеев и Мансур молчали. В словах Неплюева был скрытый упрек: как не вмешались, не одернули? Но на это они не имели полномочий и уменьем подобным не обладали в достатке. Тут надо бы Дмитрия Алексеевича Гладышева…
* * *
Весной, да и летом, все же выпадало время, когда казалось, что не слышно в народе привычных воплей и стонов: излупили до крови… обобрали до нитки… убили до смерти… Шла страда, впрягались в работу и сироты, и бродяги, а богачи и бездельники меньше таскались по гостям. И пусть обманчивы были это шаткое замиренье, неверный этот покой, — люди хотели обманываться.
Между тем распри текли своим чередом, как река подо льдом. В спорах неизменно и началом, и серединой, и концом был Маман.
— Вот вернется Маман-бий…
Но в эти слова каждый вкладывал свое: кто упованье и утешенье, а кто угрозу; кто любовь и ласку, а кто злую насмешку.
И к осени, особо к зиме, когда пришли с севера добрые вести, стало не лучше, а хуже. Тарханство Хелует-шейха подлило масла в огонь, как ни странно; это была честь не одному человеку, не одному роду, и однако же…
Мурат-шейх, встретив сына-тархана, раздумался — не отпустить ли вожжи: нукеров не готовить, доброхотов отослать по домам, чтобы не дразнить гусей, делу Маманову не помешать.
Кунградские бии, напротив, подняли на ноги джигитов, а сами навалились всем скопом на Рыскул-бия, донимая его злополучным тарханством, ибо досталось оно роду ябы.
— Ежели старый баран не ведет путем отару, а то и становится поперек пути, нет хуже такого помешательства, — бубнил самый бойкий из домашних умников — Байкошкар-бий.
— Ежели всю жизнь мечтаешь украсть и нет у тебя выше мечты, не заметишь, как обкрадешь самого себя, утащишь из собственного загона! — отвечал Рыскул-бий.
Но чувствовал и знал он, что словесной перепалкой дело не кончится.
Снова стал забирать волю ловкий сынок Байкошкар-бия Есенгельды. В отсутствие Мамана он был заметней всех среди молодых. Но Рыскул-бий уж и не знал, радоваться ли этому. Глядя на багровый закат с желтым бельмом солнца, он думал:
«Утопает наше светило в крови междоусобицы…»
Правда, удар, самый первый, был неожиданный.
Явились в аул Рыскул-бия трое всадников; старший из них был рябой, вислоусый, из тех тузов, которые растут не столько вверх, сколько вширь. Подойдя утиной походкой, с нагайкой, висящей на мизинце, он подал руку Рыскул-бию и еще кое-кому из близко стоящих. Двое других тоже подали руки в точности тем же, кому рябой.
— Хан кунградский! Мы к вам от хана Абулхаи-ра, — сказал с форсом рябой, а бии дружно закрякали, ибо Рыскул-бий был назван ханом.
Гостей, разумеется, приняли чин чином, скрывая свои нелады. Рыскул-бий уселся ниже всех, едва ли не у самой двери, чтобы оказать честь всем прочим. За любезной беседой не разобрать было, скалится человек по-лисьи или же готов лизнуть по-собачьи. Говорили об урожае, о скоте, о погоде, ибо неприлично приступаться к гостям с вопросами о деле в день их прибытия. Гости же сколько ни заговаривали, всё — об Абулхаир-хане, о его величии, признанном не только в Малом жузе, но и в Среднем и в Большом, а также во всем многоликом Хорезме. Недаром и русские хана величают… Так говорили гости, и это была фальшь, как и то, что Рыскул-бий — хан кунградский. Не было единства вокруг хана истинного, как и вокруг названого. Но гости и хозяева горячо соглашались друг с другом, в особенности когда фальшивили.
И только ночью, когда кунградские бии разошлись спать, рябой заметил хозяину, нервно ощупывая свои усы, словно проверяя, на месте ли они:
— Что же не спросите, каким ветром нас сюда занесло?
— Я не спешу проводить вас из дома.
— Разве грех — торопиться услышать волю великого хана?
Затем рябой принялся говорить намеками, словно бы о чем-то секретном, но и — само собой разумеющемся.
Долго рябой разливался соловьем, хваля кунградцев, называя их род не иначе как старейшим. Рассеяны они, подобно чистопородным коням в разных табунах, — среди казахов, среди узбеков. Собрать бы их вместе, в одну страну Кунградскую во главе с ханом кунград-ским; в той стране все иные-прочие, и мангытцы, и ке-негесцы, и жалаиры, мигом стали бы кунградцами.
— Вот что на уме у великого хана, потому что вы и ваш род милы его сердцу.
Рыскул-бий мысленно усмехнулся. В отличие от простых смертных, думал Рыскул-бий, то, что мило сердцу хана, он пожирает, как дракон, — самых красивых девушек в известной арабской сказке. Что же сей сон значит? За что такие посулы?
Гость также усмехнулся, в отличие от хозяина, не таясь. И повел речь о том, как плохи, неверны, коварны люди рода ябы, а всех плоше один из них, самый молодой и нахальный, их избранник и любимец.
Рыскул-бий едва не вскрикнул, шлепнул себя ладонями по лбу, благо это не было замечено в свете сальной свечи, догоравшей посреди юрты. Господи, помилуй! Что тут голову ломать? Стало быть, и этому дракону — подай самую красивую, чтобы ее сожрать. Только и всего.
С пониманием, которое можно было принять и за согласие, Рыскул-бий сказал:
— Мы преклоняемся перед величием хана, не проронив ни слова, гости мои.
— Тогда и нам можно спать спокойно, — грубовато-дружески ответил рябой.
С тем расстались до утра. Рыскул-бий едва добрел до самой постели. Сердце выпрыгивало из глотки. Голова разламывалась от боли. Зато почивал безмятежно сын Турекул. Здоров, как племенной баран; в башке — бараньи мозги. Юрта сотрясалась от его молодецкого храпа. Никогда, как бы ни был утомлен или взвинчен, Рыскул-бий не проклинал сына. А тут — не стерпела душа:
— Чтоб тебе с места не встать, дай, боже!
Сын, единственный, был отвратителен, как падаль. Старик пнул его ногой в затылок так, что тонкий сафьяновый ичиг скрипнул. Но Турекул лишь всхлипнул младенчески и заскреб затылок всей пятерней, не просыпаясь. Беда, страх, когда нет сына. А когда сын — дурень? Есть ли одиночество горше, мучительней?
Ночь прошла без сна. Утром жена, войдя к Рыскул-бию и намеренно молодцевато присев на одно колено, охнула, увидев его лицо.
— Плакал?.. Мой бек! Разве не все у нас живы-здоровы?
Он вяло отмахнулся от нее. Может, и плакал. Разве старость — жизнь?
Гости за чаепитием заметили перемену в хозяине, но истолковали ее, как им хотелось.
— Хан кунградский, — сказал рябой вкрадчиво, — ежели вы решились, мы будем счастливы обрадовать великого хана. Час неминуемый, неотвратимый близится. Неужто старый беркут упустит… неужто не сломает хребта той черно-бурой лисе?
— Что за лиса такая? — спросил Рыскул-бий угрюмо.
— А та, которая бежит издалека, полгода бежит, якобы с цыпленком из русского курятника… и которая сызнова зануздает вас, коли добежит до дома!
— Сызнова, говорите?
— Коли упустите время… Выгнали вы ихних угодников, мангытцев, пора браться за самих ябинцев, пока они за вас не взялись.
— Вот что, гости мои дорогие, — сказал неожиданно Рыскул-бий с утомленным вздохом, — не сбивайте меня с толку, не морочьте мне голову, приняв мое чистосердечное угощенье.
— Однако и вы в душу не плюйте гостям, посланным вам на счастье, — осторожно возразил рябой. — Ежели великий хан покроет полой своего халата голову хитроумного Мурат-шейха, вы, кунградцы, будете у рода ябы пасти скот. Погонят жен и детей ваших по милостыню, а джигитов — рыть арыки.
— Ежели так повелит наш шейх, — перебил Рыскул-бий, — так тому и быть. Когда левая рука слушается правой, разве это зазорно? Хуже, когда руки врозь, а ноги бегут, куда тянет не голова, а задница.
— О! Далеко же вы ушли, хан кунградский! Из этакой дали не расслышишь, ваш ли это голос? — язвительно выговорил рябой. И вдруг вскипел:-Старый кобель! На кого осмеливаешься брехать? Что на пользу, что во вред — сослепу уже не видишь?
— Вы мои гости. Что ни скажете, все снесу, — молвил Рыскул-бий с кроткой улыбкой, которая говорила, что он не удивлен: ожидать не ожидал, но и исключать не исключал; знал, кого принимал.
По-видимому, и гости были не слишком озадачены, готовы и к тому, и к этому. Рябой сказал, шипя, как камышовая кошка:
— Хорошо. В свой срок сочтемся. Проводите нас по крайней мере как подобает.
— Позвольте, я приглашу биев, джигитов…
— Нет, уж увольте, никого!
— Как прикажете, уважаемый, — отозвался Рыскул-бий, даже несколько польщенный.
Гости отбыли внезапно, как и прибыли. Провожал их лишь Рыскул-бий, и в этом был усмотрен особый смысл. Стало быть, дело такое, коему не надобно огласки, дело не пустячное: о пустяках и ханы любят пошуметь.
Бии опять всем скопом, во главе с Байкошкар-бием и Есенгельды, вломились в дом Рыскул-бия — без спроса и зова, с оскорбительной развязностью, и принялись за саркыт, угощенье с гостевого стола, дожидаясь хозяина. У хозяйки текли слезы по блеклым, иссохшим щекам от обиды и гнева.
Но бии не дождались хозяина. Не вернулся он и на другой день. Бии крепко осерчали, потому что нетрудно было догадаться, куда он подевался. Полетел, знать, к Мурат-шейху. Вот с кем пожелал хан кунградский держать совет: не со своими биями, а со святым отцом, давно протухшим, как и сам хан кунградский.
Однако минула неделя, — Рыскул-бий не возвращался.
* * *
Посольство Мамана тем временем встречало в пути раннюю зиму. Волгу перешли по льду. В Заволжье застряли. Буран, многосуточный, стер с лица земли дороги, обратил день в ночь.
У всех было неспокойно на душе. Томила и Мамана неотступная мысль: как-то теперь они пройдут по земле Малого жуза, сквозь летучие кордоны бесстыжих нукеров Абулхаир-хана?
Невесело было думать об этом. Но все же Маман был счастлив. Он ступил на вершину своей жизни. Он вез своему народу Грамоту великой надежды.
Мудрецы утверждают: мир божий построен так, что человек, даже испытав в жизни счастье, уходит на тот свет, не успев понять за короткий свой век, что это такое — счастье. Оно, говорят, безбрежно, как небеса, и многолико, как людское море. Для одних счастье — звон золота, для других счастье — мечтания, самые беспредельные и сказочные, но светоносные и чудотворные.
Нетерпенье обуревало Мамана. Мысленно он уходил далеко вперед и в пространстве и во времени, и мечтания его были дерзновенны. Но версты и дни уползали надсадно медленно.
В долгой дороге послы Страны Моря порядком издержались, отощали, измаялись донельзя. Кто не испытывал в жизни зимнего бездорожья, ничего не испытал… Уморились кони и люди. За Волгой, в невылазных сугробах, кони стали падать, а новых не накупишься! Люди хворали, даже такие крепыши, как Пулат-есаул и Сагындык-богатырь; все были простужены, кашляли, зябли, тянулись к печам и тулупам, мечтали о топленом жире и горячем молоке, как чахоточные. Все, кроме Мамана. Хворые валились с седел, пришлось везти их в колясках (одна была Мамана, другая — Гладышева), переобув коляски по-зимнему, то бишь сменив нарядные крашеные колеса на деревенские полозья.
Маман старался ободрить, увлечь:
— Милые мои, утрите глаза и носы… До дома рукой подать. Вспомните, как вас провожал народ. Так же и встретит, еще жарче. Народ вас обнимет, разом выздоровеете! Потому как дорога ваша на том не кончается, а только начинается… Разъедетесь во все концы света: кто в Китай, кто в афганскую сторону, кто в Бухару, Хиву. Будете собирать народ, рассеянный ветрами и бурями, засевать черными шапками родное поле. Станет наша отчизна сильна и могуча, весь мир нам подивится, ибо мы теперь не одни. Сущую правду говорю: мир удивим!
Маману отвечали недружным смехом, натужным кашлем.
Лишь в Оренбурге несколько отогрелись, окрепли. На этот раз не обошли старого приятеля — купца Бородина, побывали у него в гостях, повидали его сыновей, разительно похожих на него и ликом, и статью, хотя один был русый, другой черен как смоль. Бородин, подняв чарку зеленого вина, обещался явиться к черным шапкам, коли на то пошло, с караваном товару красного, и не в одиночку, а подбив с собой изрядную компанию. Маман благодарил за добрую память.
Неплюев, принимая послов, предупредил их:
— Докладывали мне: Абулхаир-хан посылал к вам по прежнему своему обыкновению за воздаяниями. Требовал на зимнее время разного запасу немалого числа… На что будто бы объявлено ему было, что вы состоите в российском подданстве, как и он. Следовательно, должности у вас нет отпускать ему никакого запасу! Надобно это поправить, господа послы. Что за путаник — Гаип-хан? Прошу тебя, Маман-бий, перво-наперво угомонить дураков.
Однако Маман уже не смог ничего поправить и никого угомонить по особой причине.
Едва послы покинули Орскую крепость, последний русский предел, их окружили в степи ханские нукеры и вели до ставки хана, правда, на сей случай — молча, без брани и насмешек. Навещать Абулхаир-хана послам было не с руки, их к нему не тянуло. Но и избегать встречи с ним не было повода. Конечно, нукеры не столько встретили, сколько перехватили послов, но при известном терпении и добродушии их конвой можно было счесть и за почетный.
Гладышев пытался шутить:
— Вы ли не соседи? А как учат старики? Выбирай для дома не место, выбирай соседа!
Шутка была так горька, что смахивала на насмешку.
Прибыли в ханский аул и тут расстались… Послы не были допущены к хану. Не был зван, стало быть, и Маман-бий. Ввели в многокрылую ханскую юрту лишь капитана Гладышева.
Как стало известно позднее русским и только русским, между ханом Абулхаиром и Гладышевым имел место крупный разговор, из тех, кои остаются в памяти, как шрамы. Хан был в бешенстве, капитан Гладышев — близко от того.
— Этого человека, господин хан, принимала царица… Сие обстоятельство вам что-нибудь говорит?
— У нас, у казахов, пословица: в закрытый рот муха не влетит. А у несчастных каракалпаков вечно раззявлены рты…
Так они беседовали.
Далее, в том бешенстве будучи, Абулхаир-хан отобрал адресованную каракалпакам грамоту, распечатал ее своевольно и велел ее читать себе вслух и переводить дословно, а при чтении скалился препохабно, зевал и плевался. Выказал крайнюю степень злобы и ревности.
Притом открылось, что Абулхаир-хан всерьез возымел подозрение, приличествующее скорей вздорной бабе, нежели государственному мужу.
— Знаем, знаем, за что пожаловано тарханство! Оно — по случаю тайного сговора…
— Какого же, позвольте полюбопытствовать?
— Утеснить Малый жуз… со всех сторон, и с российской, и с каракалпакской… меня сместить, прогнать! И того ради напасть на меня российским войскам.
Гладышев застонал.
— Господин хан, помилосердствуйте!
— Зачем же тогда вы не меняете в аманатах моих сыновей? Зачем же тогда черные шапки перестали платить подати? Хотите смертно обидеть? Вконец разорить?
У Гладышева было такое чувство, что он начинает дымиться весь изнутри. Мысленно он спрашивал себя: как же теперь он исполнит свою миссию, как вычтет, то бишь огласит грамоту Елизаветы Петровны каракалпакскому народу? И еще думал он, что Маман все это предвидел.
Опасались и другие самого худшего. По словам Ивана Ивановича Неплюева, Абулхаир, яко весьма горячий человек, издавна многие неумеренности допускал, некоторые и худости делывал, склоняя и возбуждая свой народ к воровству и наглостям. Но этакого распутства все же не ожидали. Оно возвращало к тем временам, когда здесь вот так-то мучился два года кряду мурза Тевкелев…
Пытался ли Гладышев объясниться с ханом? Лучше спросить, слушал ли его хан? В тот день и час не возымели действия ни увещевания, ни даже угрозы капитана Гладышева. Судя по всему, некий момент, подобный кризису болезни, был упущен — и без того натянутые до отказа нити стали рваться. Быть может, случись здесь тот же Гладышев в надлежащее время, все сложилось бы иначе. А может, это и не так. Просто не пришла еще пора тем тонким нитям окрепнуть и стать неразрывными, и Абулхаир-хан только ждал случая — распоясаться столь безоглядно и сумасбродно.
С немалыми усилиями, которые уже сами по себе были унизительны, Гладышеву удалось выручить из рук хана царскую грамоту и передать ее Маману. С тех пор они не видели друг друга. Послы исчезли.
Осведомиться, куда они подевались, было не у кого. Выйдя от хана, Гладышев почувствовал себя точно на скале, окруженной пропастями. Люди отскакивали и убегали от него, подобно диким козам, не отзываясь на отклики. Мансур-толмач догадался убраться с глаз долой, но и в полном уединении, вдали от ханской юрты, ему отвечали невнятным бурчаньем да жестами. Из этого бурчанья следовало, что послов угнали в степь.
И Мамана?.. Его первого! Травили, как красного зверя, но не собачьей, а людской сворой. Другие, впрочем, намекали, что это неправда, ничего такого не было, быть не могло…
На окраине аула, в глубоком сугробе, догорал большой костер. Горел он неровно, то вспыхивал, треща и искрясь, то тлел, испуская клубы смердящего дыма. Сюда Мансур привел Гладышева, и тот опознал в костре обгоревшие обломки коляски, подаренной Маман-бию в Петербурге.
Гладышев и толмач переглянулись и поняли друг друга без слов. Наскоро привели в порядок и готовность оружие, которое при них было, запрягли коней и покатили в мороз и ветер прочь от ханского аула, по дороге на север, в Орскую крепость, увозя с собой тревогу за Мамана.
Долгое время следом скакали ханские нукеры. Они то приближались на дистанцию ружейного выстрела, то едва различимо маячили на горизонте. И вблизи, и вдали видеть их было тошно. Что это — проводы или пого ня? Была тут и угроза, и издевка. Гладышев скрипел зубами, его трясло.
Потом пошел снег, заметелило. Нукеры скрылись из глаз. Гладышев немного остыл и подумал с похолодевшим сердцем: а каково-то теперь Маману? Где он в эти смутные и, может быть, фатальные минуты — молодой неофит с дикого Востока, вызвавший громкую похвалу канцлера Бестужева и одобрительный смех императрицы Елизаветы?
7
Аманлык отправился к сиротам. Сестричка Амагуль послала подышать воздухом детства, столь недавнего и уже далекого. И меч Оразан-батыра звал: держаться тех, кого держался Маман. Маман спросит, как вернется, про сирот…
У знакомой лачуги, близ подножия горы, Аманлык спешился. Ребята выскочили ему навстречу и сбились в кучу, точно овцы. Аманлык невольно рассмеялся: не-ужто не узнали? Это было ему неприятно, но и немного лестно. Потом Коротышка Бектемир вскрикнул пискливо:
— Это же дядя Аманлык! Кроты безглазые! Сироты с криком кинулись к нему. Облепили со всех
сторон его вороного гунана, полезли — кто на него, кто под него, и конь испуганно заплясал, прядая ушами, как будто по его спине пробежала ласка.
Дети были босы: их грязные пятки и щиколотки, словно просмоленные, чернели на земле, покрытой плешинами снега. Все были косматы, головы — сплошной колтун, — шайтана испугаешь. Все в таком рванье, точно напоказ. Безобразие нищеты кричащее. Глаза на это не смотрят. И глаз от этого не оторвешь. Полная безнадежность написана на чумазых лбах, но — и вольная воля! Сироты выглядели как дикие цветы среди безжизненных камней. Они походили на игривых волчат или лисят у своего звериного логова.
Лицо Аманлыка на миг просияло, подобно луне, проглянувшей между туч. Он отвесил Бектемиру легонький подзатыльник по старой доброй памяти.
— Как живешь-можешь, голубчик мой?
— Сыты, хотя один сапог на семерых… — ответил Бектемир.
Вошли в лачугу; в ней было ненамного теплей, чем снаружи, но не так дуло.
Среди ребят Аманлык углядел новеньких, незнакомых, их было с полдюжины. А при виде одного, повыше ростом, Аманлык замер. Кто это? Плоский нос с раздутыми ноздрями, узкие глаза с острым блеском, уши торчат, как лопухи подорожника, губы насмешливо закушены. Господи, помилуй! Уж не воскрес ли убитый Аллаяр? Мальчик походил на него, как близнец. Пожалуй, только похудел Аллаяр и смахивал теперь на сучковатую жердь. Ну и пока еще не окривел.
Бектемир, угадав мысли Аманлыка, запищал:
— Что? Похож? Я ему говорил, он не верит…
— Как зовут? — спросил Аманлык.
— Кейлимжай, — ответил за него Бектемир. Это имя означало: Спокойная Душа. — Потому она и спокойна, что он теперь с нами. А мы его выиграли…
— У кого же?
— У сирот из рода кунград.
— Неужто в драке победили? Бектемир затряс головой:
— Не-ет. Драться мы слабы. Без тебя да без Аллаяра нас колотили все кому не лень. Зато мы бегать наловчились. Бегаем шибко, нас никто не обгонит. Мы поспорили с кунградцами, что обгоним их. И обогнали. Они нам Кейлимжая отдали. А он драться силен. Вожаком у нас стал.
— Коротышка… а ты тоже шибко бегаешь?
— Шибче всех.
— Он летает, — сказал Кейлимжай, — и гудит, как жук навозный.
Все громко засмеялись. По тому, как мальчишки смеялись, Аманлык понял: Кейлимжай здесь вожак. Конечно, «взять к себе» драчуна значит ему подчиниться, но, видать, этого они и хотели.
Кейлимжай погладил себя растопыренной ладонью по губам, словно обещая новую проделку, и вдруг высунул язык и лизнул себе нос, подобно ящерице. Это тоже вызвало смех.
— Аманлык, друг, — продолжал Кейлимжай, косясь на Бектемира. — Наш Коротышка самый отчаянный из жуков! Как-то мы воровали дыни. Прятались в камышах. Ночь. Слышим, воет гиена, черные уши… Сам знаешь, что за зверь. Глашатай тигра. Сидим ни живые ни мертвые. Тут-то наш жук и взмолился: «Братики мои, я маленький, я промеж вас, в серединочку…» — «А мы что, куда?» — «Вы с краешку. Вас тигр только лизнет и сплюнет…»
И опять все засмеялись. Посмеялся и Аманлык тому, какие рожи строил Кейлимжай. Чему же смеяться, если не этому? Давно Аманлык вообще не смеялся. Разучился смеяться.
— А слышали вы, как Сейдулла Большой покупал козу?.. Собрался, значит, Сейдулла Большой со своим старшим сыном Бегдуллой-неряхой на базар в Жана-кент. И купили они на базаре козу, вот с таким выменем! Вымя такое, что волочится по земле, роет за собой канаву. Рога у козы — как жерди, на которых держится купол юрты. Как разинет пасть, как заблеет: «ммм-эээ», дрожит вся с ног до головы. «Ммм-эээ…»- повторил Кейлимжай и затрясся как припадочный, а мальчишки хором подхватили: «Ммм-эээ!»- и тоже затряслись. — Ну вот, стало быть, купили. Ведет ее Сейдулла Большой к себе домой. А Бегдулла-неряха идет и мечтает, как она наплодит им целую отару и будет молока вдосталь. Ладно. Приводят, привязывают. Выходит им навстречу старуха. — Тут Кейлимжай подскочил и хлопнул себя ладонями по ляжкам. — «Батюшки светы… Отец! Сынок! На кой ляд вы купили козла?» Отец с сыном посмотрели, почесали затылки и махнули руками. «Пусть будет козел, был бы дойный…»
Мальчишки неуверенно переглядывались: пора или не пора смеяться?
— Эй, вы что задумались? — вскрикнул Кейлимжай и захохотал.
Тогда засмеялись и другие, каждый сообразно своему пониманию старой басни, которую слышал.
Бледное лицо Аманлыка посветлело, оживилось. Детство убогое, страшное, думал он, глядя на мальчишек. А все-таки у кого истинная воля? У сирот и бродяг, больше ни у кого. Недаром к ним тянулся Маман. Под сиротским небом ему легко дышалось.
Коротышка Бектемир высунул косматую башку из-за спины Аманлыка:
— Аманлык-ага, а вы какой худой… заболели?
— Душа болит, братец.
— А разве вы старик?
Аманлык вздохнул и впрямь точно старец.
— Вот вернется Маман… помолодею. А он едет, братцы, едет.
— Ха! — вскрикнул Кейлимжай беспечно и нахально. — А что нам проку с того, что он вернется? Пускай себе едет…
Аманлык осмотрелся удивленно. Все молчали, даже Коротышка Бектемир. Никто не возразил Кейлимжаю.
— И вам… Вам тоже будет лучше, — вяло проговорил Аманлык, сам себя не понимая.
— Ха! — повторил Кейлимжай. — Сиротам никогда, ни от чего не бывает лучше. А потому нам всегда хорошо, лучше всех!
Необычайно он походил в ту минуту на Убитого Ал-лаяра, неугомонного и бесстрашного. Тем он пугал, но тем и нравился, если не считать, что Аллаяр любил Мамана, а этот двойник не любит никого… И так и не нашелся Аманлык, что ему ответить. Смотрел с оторопелой улыбкой и думал, как будет его бранить Маман за то, что он выпустил сирот из рук.
Аманлык позвал сирот к себе в гости. Велел привести с собой и сирот из соседних аулов, из других родов, всех, кто слушался Кейлимжая и был люб ребятам.
Набралось их порядочно, целая ватага оборванцев и замухрышек; у одних взгляды волчьи, у других — шакальи. Аманлык зарезал единственного своего ягненка и накормил дорогих гостей мясом. За дастарха-ном это сборище выглядело основательней, можно сказать, как у биев.
На этот раз Аманлык говорил, как мог бы говорить Маман, о том, какая гроза нависла над их землей. Надо быть начеку, в трудный час встать хоть с палкой в руках, но не дать прорваться врагу, будь он хан Абулхаир, будь сам дьявол.
Поначалу мальчишки слушали с интересом, но быстро заскучали, зашушукались. Поднялся Кейлимжай, задрал рваный подол бязевой рубахи и стал скрести свой пятнистый от грязи живот обеими пятернями. Мальчишки загалдели.
— Аманлык, дай скажу… — промычал гнусаво полузакрытым ртом Кейлимжай.
— Говори.
— Эй вы, заткнитесь, убью! — Тишина. — Загадываю загадку. Легкую — для дурачков. Кто первый ответит, даст мне щелчок по затылку. А не сумеете, я дам каждому по щелчку. Поняли, дурьи головы? Спраши ваю: муха… какой породы — птичьей или звериной? Какая муха? Домашняя, черная…
Выиграть у Кейлимжая и дать ему щелчка — заманчиво. Заорали все разом, наугад, кто-«птичьей», кто-«звериной», лишь бы поспеть первым. Кейлимжай оскалился, ухмыльнулся, сплюнул сквозь зубы и жестом приказал подставлять затылки. Уговор дороже денег.
Мальчишки молча стали снимать шапки, а он пошел вдоль дастархана, раздавая направо и налево щелчки, твердые, как камень, острые, как гвоздь, от которых одни получатели попискивали, а другие подвывали.
Покончив с этим делом и вздохнув блаженно, Кейлимжай сощурился, как камышовый кот.
— Дуры вы, дуры! Муха — человек. Почему, почему? Потому что в человеке есть птичье, есть звериное Так же и в мухе… Чего выпучились, как лягушки? Когда вы голодные, есть такие отбросы, на которые вы не насели бы? Нету. Кто с вами рядом садится? Муха! Конечно, не всякий человек жрет то, что муха. Одни мы, друг на дружку похожие. Ну и не всякая муха, сказано было — домашняя, черная. Ага… Понятно?
Сироты вразнобой забормотали:
— Вот это да! Загадал…
— Он загадает — почешешься.
— Стой! Слушай! — завелся опять Кейлимжай. — Давай эту… вылетел из меня воробей… Кто начнет? Ладно, я начну. Вы-ле-тел из меня во-ро-бей!
Ребятишки хором дружно отозвались:
— Какой?
— В каждом ухе сорок дырок, вот какой!
Это значило: слушай и внимай, живей угадывай. И снова хор выговорил свой привычный, узаконенный вопрос:
— Сколько у него сыновей, сколько дочерей? Кейлимжай принялся загибать пальцы:
— Одна жена… одна сестра… один конь… одна юрта, и та невозведенная…
Эта задачка была нетрудна. Кейлимжай не успел договорить, как его перебили:
— Аманлык! Семья Аманлыка!
Аманлык недоверчиво-недоуменно оглядывался. Кажется, Бектемир вскочил и опять закричал: вылетел из меня воробей, а хор опять ответил ему: какой? Гости дорогие продолжали увлеченно играть. Кейлимжай хохотал во все горло и кривлялся, точно юродивый.
Аманлык схватил его за руку, повернул к себе лицом:
— Ты что же, хочешь посмеяться надо мной, над моим хлебом?
Сироты мгновенно смолкли и уставились на них. Кейлимжай вырвал руку, но драться не стал, даже не отпихнул Аманлыка.
— Кто над кем смеется-то? Уж не ты ли над нами? Когда придет враг, кого ты кинешься оборонять? Свою жену? Свою юрту, хотя и невозведенную? А мы? Тебя? Твою семью, твое имущество? А вот… видел? На-ка, выкуси! Мы мухи… Нам все едино… Мы будем траву косить для коней этих самых врагов, если нас досыта накормят. Что касается твоего хлеба, не бойся, внакладе не будешь. Эй, едоки! Сослужим честную службу. С этой минуты до завтрашнего обеда будем делать, что велят. Накормят завтра на дорожку — ладно, нет — и так уйдем. Командуй, хозяин. Идти за дровами? Или тебя таскать на горбу? Может, поднять твою белую юрту, даренную за красивые глаза? Или помыть ноги твоей жене?
Аманлык за голову схватился, чего с ним прежде в жизни не бывало.
— Уходите все! Все уходите!
Мальчишки толпой повалили наружу, оставляя за собой облака пыли со своих лохмотьев.
8
Спозаранок в аул прискакал гонец — Айтуган-есаул из рода кунград. Держался он странно: с коня не сошел и озирался так, точно высматривал, вынюхивал что-то и боялся, что его схватят.
Мурат-шейх, чуя недоброе, поспешно вышел к нему. — Шейх наш, — проговорил гонец с наглостью холуйской, рассчитанной на безнаказанность, — если вы истинно веруете в бога единого… отдайте нам хотя бы тело Рыскул-бия!
— Господи! Что такое? В толк не возьму…
Шейх наш, если вы духовный отец, будьте им для всех и каждого и не делите нас на любимчиков и пасынков.
Что за бред, милый мой… Что случилось?
Айтуган-есаул перебил:
— Подумайте, крепко подумайте… и не проспите, почтенный отец мой!
С этими словами он вздыбил пляшущего на коротком поводу коня, пришпорил его и ускакал.
Ночью прибыл другой гонец — от Айгара-бия, и дело разъяснилось. Сорвав со стриженой головы меховой треух и утерев им мокрое от пота лицо, гонец поведал, что сталось с Рыскул-бием. Схвачен и уведен тайно верными и ловкими людьми Абулхаир-хана. Хан самолично обещал Рыскул-бию вознести его на гору славы и самолично грозил загнать его в мышиную нору позора, но старец не дрогнул. «Натравить половину народа на другую половину — все равно что отрубить себе руку, лучше отрублю!»-вот его слова. «Поучиться у черных шапок стойкости и терпенью…» А это слова Айгара-бия.
— Пальцем о палец не ударю против рода Рыскул-бия, — сказал Мурат-шейх. — Станут нас избивать — промолчу. Позарятся на добро, пусть берут, что хотят. А не поймут наших слез, пойду с протянутой рукой по их земле… Авось очухаются!
Неожиданно гонец Айгара-бия спросил, всех удивив:
— А как здоровье нашего знаменитого прославленного друга?..
Он не поверил сгоряча, что Маман-бия покамест не видели. Велено было гонцу передать Маман-бию привет и почтенье, и еще кое-что, деликатное, не для праздного уха, а именно то, как уехал из ставки Абулхаир-хана русский офицер Гладышев, запомнить слово в слово, что Маман-бий ответит. Где же он? Где другие послы? Разве Мурат-шейх не наряжал джигитов и биев встретить своих избранников, столь заслуженных и достойных? Абулхаир-хан, как говорят, встречал их у самого Орска…
Мурат-шейх всполошился. Разумеется, он посылал джигитов, свежих лошадей и всякой снеди, а также дары наместнику Неплюеву в Орск, после того как вернулся с севера возвеличенный русскими Хелует-шейх-Мурат-шейх ожидал, что Маман-бия и послов, по обыкновению, опередит в пути Длинное Ухо, обгоняющий ветер. И тогда выведет он навстречу свой род и другие роды, вопреки всем распрям и раздорам. Что же случилось? Едва уехали из аулов Мансур Дельный и урядник Филат Гордеев — как отрезало. Молчит Длинное Ухо, непонятно почему. Возможно ли, чтобы заткнул его Абулхаир-хан? Неужто Абулхаир перехватил всех посланцев и все послания? Не верится, а похоже…
Мурат-шейх наскоро собрался, взял с собой Сейдуллу Большого и отправился к Гаип-хану, как только рассвело.
Гаип-хан оказался в отъезде. Он гостил у кунградцев.
Узнав это, Мурат-шейх печально понурился: так и есть… Наперед ясно, чем занят Гаип-хан. Исчезновение Рыскул-бия — лишь свежий повод для его усердия.
Просить отдать тело… Кто мог придумать такое, если не злобно-дурная голова!
Мурат-шейх не мешкая поехал в аул Рыскул-бия и обнаружил, что не ошибся.
Был лютый мороз. С восходом солнца поднялся ветер и вздыбил колючие слепящие столбы песчаной пыли, перемешанной со снежной. В такую погоду — спать, легко спится… Между тем кунградцы затеяли конные игры. Еще издалека Мурат-шейх и Сейдулла Большой увидели в степи конные лавы джигитов. Игры были военные, с дубинами, копьями и мечами, со стрельбой из луков. С каменистого холма, словно полководец, обозревал поле и джигитующих конников Гаип-хан. Его окружали кунградские бии. И так все были увлечены батальным зрелищем, удалой скачкой и сшибками всадников, что не заметили, как подъехал к холму Мурат-шейх со своим аткосшы.
— Ну что ж, — проговорил Гаип-хан, сняв рукавицу и дуя в озябшую ладонь; рукоятка висевшей на запястье нагайки тотчас заиндевела. — Теперь я могу уехать. И пусть вчерашнее слово обернется сегодня делом. Не знали мы, до чего ваши нукеры сильны, теперь будем знать. А вашего Есенгельды я всегда считал выше Мамана. Что касаемо вообще этих… ваших обидчиков… ябинцев… Много у них развелось шибко ученых, грамотеев… отсюда все ихнее коварство!
— Вы забываете, хан наш, упомянуть о коварстве первейшего нашего обидчика Абулхаир-хана!.. — вскрикнул Мурат-шейх, поднимаясь в седле.
Все разом обернулись, но никто ничего не ответил, ибо не ответил Гаип-хан. Хлестнул нагайкой коня и поехал прочь. Бии толпой потянулись за ним. Провожали пресветлого хана далеко из аула, до такого предела, с которого не слышно лая собак. И ни один из аксакалов, ни один из джигитов не сошел с коня, чтобы поздороваться с шейхом.
Когда же бии вернулись, стало и того хуже. Бии лаялись взахлеб.
— Чтобы не портилось масло, кладется соль, шейх наш… А ежели портится соль? Что тогда кладется, шейх наш?
Тщетно Мурат-шейх толковал о том, что сталось с Рыскул-бием. Ему не верили — ни одному его слову. Тщетно он пытался внушить разнузданной спеси хотя бы опасение за свою шкуру. Его высмеивали — каждое его слово. А когда Мурат-шейх, не утерпев, возвысил голос, Байкошкар-бий чванно указал на него нагайкой, как на скотину или слугу:
— А не довольно ли с нас разговору… Джигиты! Вяжите ябинцев!
Джигиты мигом сгрудились вокруг шейха и его ат-косшы, скрутили руки Сейдулле, но шейха коснуться не посмели, только наставили на него копья, как на пленника… Мурат-шейх горько засмеялся, утирая слезящиеся на морозном ветру глаза.
— Что ж, и не спросите, как в книге сказано, греховодники!
Молчание. Книга разумелась, понятно, единственная — Коран.
— Так вот и сказано, что недостало у господа бога братства и дружбы, когда он раздавал их народам. Сунул руку в мешок, а там уже пусто. Как раз нам с вами и недостало. А еще не нашлось для нас порядочного господина. Выпал самый ледащенький, с цыплячьей головой. Оттого наш дастархан — рваный, дыра на дыре.
Тут Есенгельды внезапно растолкал джигитов с копьями, встал перед Мурат-шейхом.
— А правда, что Гаип-хан перестал платить подати Абулхаир-хану? Разве это не великая заслуга?
Шейх почесал бороду. Этого он не знал. Он был больше по части красноречия, нежели по части дел.
— Милый мой, правда то, что иная заслуга — безумие, а иное безумие — заслуга. Вот вернется Маман…
Он не договорил. Все хором заулюлюкали, точно на охоте, увидев зайца. И так все замахали руками, что ненароком сбили с головы шейха чалму, она повисла у него на одном ухе. Шейх поправил ее со стыдом. Затем поехали прочь от аула, беспорядочной, глумливой толпой, увлекая с собой шейха и связанного Сейдуллу.
И не сразу Мурат-шейх понял, куда же подались кунградцы. А когда понял, оторопел перед величием человеческой глупости. Кунградцы шли в его аул выручать тело Рыскул-бия…
* * *
Убайдулла-султан, старший сын и наследник Гаип-хана, порядком удивил отца, едучи с ним от кунградцев.
Пошел он весь в него и статью, и натурой, был так же спесив, так же жаден, такого же «светлого» ума. Но со временем и он стал примечать, что отца его сильно боятся, а еще сильней презирают, и стал думать-гадать, за что же это, стал приглядываться к отцу, точно к женщине или лошади. Когда много думаешь, начинает мерещиться невесть что. И подчас казалось ему, что отец-хан и бии-старшины стоят на разных берегах и хитрят, лицемерно протягивая друг другу руки, а берега под их ногами обваливаются, и прежде всего — под ногами отца.
И вот Убайдулла-султана словно прорвало. Он продолбил взглядом висок отца. Гаип-хан спросил:
— Что с тобой? Почему глаза красные? Что тебе нынче приснилось? Опять хочешь жениться? Так и скажи.
— Отец… а вы того… не перегибаете палку? Гаип-хан запустил ладонь под шапку. Ответил, позевывая, высокомерно:
— Зелен ты. Неспелая дыня.
— А вы?., а вы?., на кого надеетесь? Кому доверяете? Сына кровного боитесь! Помрете от одного страха.
— Ах ты… окаянный… грубиян! Мать твоя худая… Ты что, очумел? Язык тебе отрезать, что ли? Слезай с коня, проси прощения.
Убайдулла-султан помедлил, поерзал в седле и грузно сполз с коня, точно так, как это делал отец, но прощенья просить язык не поворачивался. Стоял с тоскующим взглядом.
— Ладно. Хватит. Садись. И запомни. Собаку, самую любимую, корми умеючи. Если у тебя свора, сумей потихоньку обделить всех, да не зевай. Жирная собака кусает хозяина. Заруби себе на носу, что человек — собака, а народ — свора собачья.
Убайдулла-султан громоздко взобрался на коня и набычился.
— Я туда хочу… Позвольте.
— Куда еще?
— Обратно к кунградцам. Поеду. Послушаю шейха… Что он скажет? Глядишь, — про Мамана.
— Невежа!
Гаип-хан смачно сплюнул и звучно высморкался. Все слышали его надменное: хынк-хынк… Это было запрещеньем, но Убайдулла-султан тут же повернул коня и послал его назад, махнув рукой людям из челяди отца. И по этому взмаху один за другим стали отставать и поворачивать за упрямцем, олухом слуги хана.
Гаип-хан онемел от гнева и испуга. Казалось, м а р г и я, приворотная трава, тянула сына прочь от отца. Убайдулла-султан торопился, щелкая нагайкой, и его породистый, кровный аргамак поскакал, как джейран. Следом припустились джигиты и живо скрылись из глаз.
Осмотревшись, хан обнаружил, что с ним осталось всего трое слуг, самых преданных, самых ленивых.
* * *
На ту беду роковой час пробил.
Ветер ослаб, снежно-песчаная буря утихла, блеснуло солнце и запрыгало в небе, то выскакивая из-за туч, то проваливаясь за их клубящиеся стены. Шейх ехал сутулый, горбатый, как будто у него сломался позвоночник, упираясь невидящим взглядом в холку коня. Когда же он поднял голову, чтобы вздохнуть и прокашляться, то увидел, что пологая гора вдали беззвучно дрогнула и заструилась светлым маревом, точно в знойный день. Потом он разглядел, что гора сплошь утыкана копьями, торчащими над конскими и людскими головами; гора шевелилась и ползла, как бы сбрасывая с себя пеструю шкуру, подобно исполинской змее.
Далее время уплотнилось.
— Что это? Кто это? Господи, помилуй! — загомонили джигиты.
Откуда взялись у старца силы? Он выпрямился. И откуда такое спокойствие! Голос не дрогнул.
— Враг, милые мои, враг… Это идет супостат каракалпакской юрты. Теперь держитесь друг за дружку, за землю. Набирайтесь духу, стойте до последнего издыхания.
— Сколько их! Сколько их! Как муравьев…
— И так. милые, бывает. Так только и бывает.
— Спаси, боже, оборони, боже…
— Не робейте. Я пойду с вами — один против десятерых.
Против десятерых… Так сказал немощный безоружный старик, но никто не усмехнулся, все это приняли за должное.
Сейдулла Большой подал голос, его развязали, сунули ему в руки дубину.
Правду сказать, Мурат-шейх опасался, что джигиты с ходу покажут неприятелю спину, ибо шли пошалить, а напоролись на войну. Однако молодые не побежали, а из старших, верить ли ушам, первым обрел дар речи Байкошкар-бий.
— Молодцы мои! И впрямь ваша доля — принять ответ за всю каракалпакскую юрту. Что скажете?
— А что? Не дадим топтать… — ответили молодые голоса.
Мурат-шейх заключил молитвенно:
— Пусть останется непогребенным тот, кто не умоется кровью врага!
И тут же принялся распоряжаться, чему никто не противился.
— Есенгельды, сын мой, возьми товарищей, скачи по аулам, упреждай народ, поднимай джигитов. Пусть все выходят, у кого сердце в груди, голова на плечах. Сделаем, что сможем. Схватим за руку лиходея Абулхаир-хана, пока не прибудет Маман…
— А он прибудет? А где он? А что он? Запоздалые вопросы.
— Он с нами… да поможет нам бог! Скачи, умный, храбрый сын мой, не думая о себе, не помня обиды…
Есенгельды буркнул себе под нос:
— Обиду только дурак не помнит. — Затем закричал, подбочениваясь:- А ну-ка, джигиты мои, за мной! Да будут довольны наши отцы!
Джигиты (Есенгельды сам-шестой) ускакали. Многовато, конечно, взял с собой людей, но это была его гвардия.
Осталось около сотни джигитов, смехотворно мало в сравнении с тучей конников, которая сползала с горы. И все же кунградцы медленно растеклись в нестройную жиденькую цепь и выставили вперед копья, побуждаемые речами шейха:
— Милые мои, трус подобен безжизненной горсти песка, горсти пепла. Воин, павший в бою, просыпается в райской обители! Да пребудет нам опорой спаситель…
Быть может, воинская команда Оразан-батыра была бы сейчас полезней, но и слово Мурат-шейха оказалось не лишним. Есть чудодейственная сила, а не только непомерная власть и в командном, и в призывном слове, когда стоишь на военном рубеже. И разве это только слово? Белый как лунь старец, с трясущимися руками и губами, но с огненным взглядом, стоял впереди всех.
Между тем туча вражеских всадников приблизилась на расстояние слышимости голоса и… остановилась! Всадник под меховой шапкой, величиной с юрту, выдвинулся вперед.
— Эй, кто такие?
— Мы хозяева этой земли, — ответил шейх слабым голосом, дребезжащим от натуги.
— Обуздай-ка его! — басисто скомандовал всадник под громадной шапкой.
И тотчас из-за его плеча вылетело тяжелое копье с длинным древком, свистнуло близ уха шейха и красиво воткнулось в землю позади его коня. Конь отпрянул, а шейх вскрикнул, превозмогая одышку:
— Не дадим… себя… обуздать!
Старик едва справился с конем, но его воинство подхватило клич — с решимостью отчаяния, которая иной раз одолевает намного большую силу.
— Не дадим обуздать! Умрем — не дадим!
В ответ раздался громовый рык. Колонна вражеских всадников ринулась вперед и прорвала цепь черных шапок, как дубина кисею, затем растеклась вязкой, как патока, лавой и потопила в своей гуще каракалпаков.
Тогда и дрогнули джигиты-кунградцы, потому что вмиг потеряли друг друга. Они побежали бы, если б могли. Теперь, чтобы уйти, надо было продираться сквозь грозную и спасительную тесноту; они и продирались.
Все смешалось. Всадники то сшибались, то разъезжались, крутясь, как в водовороте. Не разобрать, кто кого валит с коня. И тот, кто бил, и тот, кто убегал, походили друг на друга, как дети одного отца, люди одного рода. У всех на устах было одно и то же слово: алла! алла! И только, пожалуй, шапки были разные, хотя по зимнему времени попадались одинаковые, — они слетали с голов, как птицы, смешиваясь с комьями земли и снега из-под копыт коней.
Мурат-шейха выручал его великолепный скакун. Наторевший на козлодранье, зрелый могучий жеребец взмок от пота, но легко выносил хозяина из свалки, как это требовалось в игре и не мешало в бою. Старику оставалось лишь усидеть в седле. Он был крепко помят, но пока что без царапины, и ему удавалось даже рассмотреть, что деется на поле перед горой, похожей на холку коня.
С изумленьем шейх узнал вдруг среди дерущихся Убайдулла-султана, сына Гаип-хана. Как этот добрый молодец сюда попал? Он ли это? Шейх видел его одну секунду. А в следующую Убайдулла-султан повис вниз головой под крупом своего коня на сползшем или сорвавшемся с подпруг седле. Видимо, запутался, бедняга, в стременах. Трое всадников в казахских треухах погнались за ним, передний держал наготове курык — шест с петлей для ловли коней; понравился им аргамак султана…
Приметил затем шейх нечто более важное, удивительное. Прокатывались по полю волны всадников, необыкновенно грозных… Они были самые шумливые, орали и размахивали оружием устрашающе, но никого из черных шапок не трогали, а лишь путались в ногах у своих. Своим мешали, чужих прикрывали! И в отличие от дерущихся эти всадники действовали слаженно.
Мурат-шейх пришпорил коня, смешался с ними.
— Уходите, отец… поскорей уходите…
— Кто вы, братья? Именем аллаха: кто вы?
— Мы табынцы… Мы кереи… неужели не поняли, не узнали?
Горячая волна радости и любви к этим «супостатам каракалпакской юрты» омыла сердце старика. Людей этих казахских родов послали, наверное, Айгара-бий и ему подобные умные головы, храбрые сердца. Знать, сильней ханской воли народная воля. Но разве это не чудо? И так был увлечен Мурат-шейх греховной мыслью о людской доброте и силе, что ему и в голову не пришло в ту минуту, что это божий произвол. И что, стало быть, всевышнему было угодно, чтобы черные шапки не сказать — устояли, но все же уцелели в таком неравном бою.
* * *
Есенгельды был не робок. Однако отвагу считал качеством хорошего слуги, а себе, господину, оставлял качества иные. Сердце его дрожало при мысли о том, что осталось за его спиной и что станется, быть может, вскорости с его отцом, но думал он все-таки больше о другом, и это были думы господина, а не раба.
В пути встретился ему Убайдулла-султан со своей прислугой, и Есенгельды мгновенно уловил, что содеялось в семье хана. Так, сказал он себе, так-так!
В тот час, как напоролись кунградцы на нукеров Абулхаира и воочию увидели правоту ябинцев, Есенгельды списал со счета Гаип-хана, а затем его приговорил. Были меж ними старые счеты; Есенгельды не забыл и не забудет, как Гаип-хан едва не спровадил его вместе с Маманом в Джунгарию на позор и погибель. Теперь его черед. Мурат-шейх поручил Есенгельды одно, но сам он себе — другое: как только расстался с Убайдуллой, погнался за Гаип-ханом.
Дружки Есенгельды понимали его с полуслова, особливо двое дошлых парней, один по имени Гаип, сын того самого Алифа Куланбая, который зарезал Оразан-Батыра, другой по имени Султангельды, сын Жандос-бия, который подсылал сироту Ельмурата убить Мамана…
Гаип-хана они настигли вскоре; после размолвки с сыном он присел на гранитном валуне закусить, — еда, правда, не утешает, но успокаивает. Есенгельды придержал коня. Окликнул первого из дошлых парней:
— Эй, кто, скажи, у меня сейчас на уме?
— Мой тезка.
— А как, скажи, его назвал шейх?
— Кукольный хан…
— А что про него сказано в книге?
Что одна кривая душа может погубить дюжину святых.
— Ну, а ты что скажешь про своего тезку?
— Надо бы его к ногтю…
— Слушай, а можешь ты сказать, кто такой вон там сидит на камушке?
— Он! Жрет конскую колбасу.
— Едем. Это дело шейх благословит.
— С ним вроде бы трое.
— Их ты разгонишь. А я его… уколю… Он любовался, как я метко кидаю копье. Пусть сейчас любуется. Ты не против?
— Я ничего… Уколи.
Гаип-хан, увидев вдали шестерых кунградцев, перетрухнул чуть ли не до обморока, но, узнав Есенгельды, успокоился вполне и заорал на него во все горло, ибо джигиты подскакали вплотную и ни один не спешился:
— Кунградские щенки… вы что себе позволяете?
В ту же минуту у него горлом хлынула кровь, потому что Есенгельды с ходу всадил ему под самую бороду копье. Хан повалился на землю, хрипя, а слуги его тотчас повскакали на коней и кинулись врассыпную.
Есенгельды, ухватившись обеими руками за древко, выдернул копье из горла хана и скомандовал, отворачиваясь:
— Добей его. Живым не оставляй.
В горле у хана свистело. Потом свист оборвался, и от трупа хана отошел его тезка с ножом в руках. Нож у молодца был дареный, отцовский.
* * *
В тот же день пронесся по степи долгожданный и вместе с тем необъяснимый слух, что Маман и его товарищи наконец объявились: прибыли в аул хана Абулхаира, но из ханского аула не убыли… Оставил их Абулхаир при себе аманатами или взял на некую службу — никто не знал. Нигде их более не видели, не встречали, будто они прятались от людских глаз.
Следом растеклись слушки-догадки, и среди них — один, самый подлый, что Мамана и его товарищей уже нету в живых. Было это ни с чем несообразно и очень похоже на правду.
Что же, стало быть, не будет Мамана с великими новостями из России? Что же, стало быть, конец всякой надежде? Не хотелось этому верить. И люди не заговаривали об этом, таясь друг от друга, как бывает, когда боятся сглазу.
* * *
Не унималась затяжная зимняя буря. Но жестокость господня померкла перед человечьей. Лютый мороз запекал на снегу людскую кровь, а ветер завивал метели, черные от пепла и гари. Не в силах была буря развеять дым и копоть, а снежные вихри еще и розовели от пожарищ, обнявших горизонт кольцевым заревом.
Горела каракалпакская юрта день и ночь. Селенья пустели, в них оставались лишь спящие мертвым сном. На дорогах и в чистом поле все чаще попадались не воины, а беженцы и погорельцы, дети и старики, и слышались не боевые кличи, а слезный стон. Враг угонял скот, утаскивал девок и молодух, самолучший живой товар.
Беда бьет, беда учит. Избасар-богатырь в одну ночь собрал своих джигитов, распущенных накануне по домам. Главы родов сажали на коней всех, кто надел шапку, стало быть, мужчин, вели воевать и тех, кто умел донести ложку ко рту, то бишь детей. Кто с топором, кто с дубиной, кто с лопатой, кто с вилами… Вышли, выпятили груди.
Каракалпаки дрались отчаянно, всеми четырьмя лапами, как камышовая кошка, брошенная на спину. Нашлись среди них силачи, сыскались искусники драться. Но их было мало, и худо они были вооружены. Недоставало толкового военачальника.
Повсюду в разбитых, сожженных зимовках, в толпах гонимых, между дерущихся джигитов видели Мурат-шейха на его приметном коне. Полы его желтого халата развевались как крылья, кончик чалмы торчал на голове, как шишак на шлеме. Он был никудышным полководцем и потому то и дело становился рядовым воином. Но горячее его слово звало по-прежнему.
— Братья мои, соотечественники… не уставайте! Бей копьем, вали с коня! Нет копья — кидай камень. Не стой сложа руки…
Там, где появлялся шейх, люди преображались, их становилось словно больше. А он, полный боли за свое людское стадо и мучительной вины перед народом, утешался тем, что бил себя по щекам, отпуская самому себе пощечины.
Его спрашивали: за ч т о? И на сей раз он не осмеливался ответить от имени аллаха, как отвечал всю жизнь. Он сам вопрошал бога с кощунственным упреком: если погиб Маман, за что же такая тяжкая, наигорчайшая кара?
Не столь пугала сила врага, сколь устрашала собственная слабость. Когда кони несут, не удержать вожжей в руках…
В разоренном до неузнаваемости ауле шейх увидел, как шестеро джигитов гнались за тремя вражескими нукерами. Впереди догорала юрта, и эти трое пустились в огонь, рассчитывая перескочить через него. Однако следом за огненной ступенью оказалась обрушенная землянка, и нукеры, один за другим, перекувыркнулись вместе с лошадьми, разроняв оружие. Шестеро кинулись их добивать.
Подъехав, Мурат-шейх узнал в старшем из джигитов Есенгельды. Подивился тому, что все его люди — без царапины, и подумал, что это, наверно, искусство: когда врагов туча, суметь остаться вшестером против троих.
Есенгельды хвастливо подбоченился:
— Отец, желаете узнать новость? Говори, сын мой, покороче.
Убил я тупоголового. Собственной рукой.
— Что ты сказал?
— Ничего особенного. Я пролил кровь Гаип-хана.
— Не поверю!
— Правда, правда, шейх-отец. Мы видели, — загалдели джигиты Есенгельды.
Шейх затрясся в бессильном гневе. Гаип-хан был ничтожеством, но он был хан! Судить хана, казнить хана… Шейху это не дано. Это ли не самое греховное из всех непослушаний?
Ты, щенок… хватаешь за полы, когда враг держит за шиворот? Губишь нас всех. Обезглавил народ… Потомок невежды! И ты еще смеешь ломаться передо мной? Прочь поди, прочь.
Что еще можно было сделать с такой коварной тварью в лихую пору? Только прогнать. И опасаться подвоха, укуса змеи.
Есенгельды отъехал с фальшивой поспешностью, с ужимкой раскаяния, исподволь передразнивая старца. А тот согнулся в дугу под незримым грузом.
Пустота, кругом пустота. Гаип-хан, конечно, дурак и более всех в ответе за эту войну, однако был властью; любая власть беспомощна перед судьбой, но люди без власти не живут… А взять умника Рыскул-бия; он повинен в междоусобице не меньше, чем Гаип-хан, однако был головой, — не зря ее оторвал от живого тела Абул-хаир… Чувствительно сейчас и то, что далеко от нас, к примеру, Убайдулла-бий, ушедший на чужбину с кровной обидой, но готовый вернуться, когда вернется Маман, который так непоправимо опаздывает…
В открытой степи Мурат-шейх увидел коня Давлет-бай-бия, оседланного, но без седока. За конем гонялся рослый неуклюжий нукер в треухе; конь не давался ему в руки.
Нукер, уже с военной добычей, приторочил к седлу порядочный вьюк. И на лице у молодца было написано: изловить бы еще этого красавчика скакуна — и можно домой, к бабам, со спокойной душой.
Шейха нукер видел, но не удостоил вниманием: старик важный, почему-то без свиты: конь под ним — чудо, да нам не по зубам, с ними, чалмоносными, лучше не вязаться, и того довольно, что от нас убегает, ан не убежит.
Кровь бросилась в голову Мурат-шейха, когда он узнал коня Давлетбай-бия. Сейдулла-аткосшы отстал; он, конечно, поблизости, держит за горло львиными лапами кого-нибудь покрепче. Шейх был один, но не колебался. На истоптанном снегу лежало ничком незахороненное тело с копьем в боку. Шейх в два приема выдернул копье и помчался за неуклюжим нукером. Живо догнал его и всадил ему тоже в бок копье с расстояния, равного тому промежутку, которое оставляется в доме между окном и дверью.
Нукер коротко вскрикнул, словно икнул, и повалился на землю. Послышался треск. Древко копья сломалось. Конь Давлетбай-бия остановился, заржал и побежал назад. А шейх уткнулся лицом в холку своего серого, сотрясаясь от одышки. Тут подоспел и Сейдулла.
Конь Давлетбай-бия привел их к несчастному своему хозяину. Лежал он в неглубокой яме под бугром, изрубленный мечом, но еще живой. Удар пришелся ему по затылку, рана страшная. Лицо и борода были в жирно-красной и черной крови, лишь сильно выпяченные уши Остались незапятнанные. Хотели поднять его, перевязать. Он захрипел в подтаявший под щекой снег:
— Не тронь, помру. — Потом добавил:-Ты ли, шейх мой? Не плачь, благослови на прощанье… Прозрел я перед встречей с господом. Будешь жив, шейх мой, учи народ слушать Мамана. Учи тому, чему учил его батыр… Прости меня.
Тут он поднялся на руках и встал на колени, словно на молитву, упершись бородой в грудь, в окровавленный мех полушубка. Сказал еще:
— Я пойду. Там свидимся. — И помер.
Мурат-шейх обронил скудную слезу. На большее не было сил. Учить народ… Слушать Мамана… Дал бы бог. А если и Мамана уже позвал господь? О небо, верни нам Мамана…
Дрожащей рукой шейх закрыл глаза Давлетбай-бию. Тяжко было расставаться с самыми дорогими, самыми близкими соотечественниками. Некогда и проводить их с честью.
Тела валялись, неприбранные, во всех селеньях, брошенные на глумление стервятникам. Иного тронешь — он еще теплый. Уложить бы его у очага, в покое, в чистоте, остановить кровь, закрыть рану, — мог бы жить. Раненые замерзали в беспамятстве под открытым небом. Буран хоронил их до весны.
Единственное, что ободряло немного, — не все казахи воевали. Не раз видел Мурат-шейх, как друзья, табынцы, кереи, заступались за чужих, преграждая путь своим с оружием в руках. Да останется в памяти это чудо и запишется в книгах!
Встретился Мырзабек, передал поклон от своего старшего брата Айгара-бия, стал утешать:
— Полегчает… попомните мое слово… Многие уже нажрались, навьючили коней, им не до драки. Да и намерзлись, тайком убегают домой отогреться. Говорят, ждать не ждали те, которые с севера, дальние, что вы их так встретите…
— Как?
— Копытом по зубам. Слабое, однако, утешенье.
* * *
Смешались детский плач, рев угоняемого скота, вой и грохот степной бури. Но всего слышней был плач ребенка, голос самой страшной беды. И не буря, трубившая дико и сокрушительно, а этот слабый звук пригнул в пояс, повалил ниц неоглядные камыши на берегах матери Сырдарьи. И этот голос вознес к небу тысячелетний чинар на своих оголенных дланях.
Война с неумолимой быстротой перешагивала рубежи родовых земель, не замечая их, как птицы не замечают наземных оград. Пришла она и на занесенный сугробами луг у одинокого старого чинара, и настала нужда Аманлыку обнажить меч Оразан-батыра. Меч оказался тяжеловат для его руки, а гунан, пожалуй, легок для боевой страды. В первой же схватке унесло Аманлыка в степь, бог весть куда, словно ветром перекати-поле.
Избасар-богатырь, друг Мамана, самый могучий из ябинцев, был впереди всех на поле боя. И первый пал смертью самой бессмысленной. С дубиной, которая стоила меча, он вломился в гущу вражеских нукеров, валя их направо и налево, зовя за собой: «Джигиты, джигиты!» Нукеры побежали от него, он не давал им уйти, крушил бегущих, не замечая, что джигиты не пошли за ним и он дерется один-одинешенек.
Мурат-шейх бросился за ним:
— Избасар! Открой глаза!
Но было поздно. Нукеры вдруг повернули все разом, окружили его, и, наверно, десяток копий впился в него одновременно, со всех сторон, а он все кричал в азарте и безумии: «Джигиты, джигиты!»
Лишь при смерти ему суждено было узнать, что он избивал людей Седет-керея, многих побил. А они пришли помочь аулу Мамана.
Когда же налетел настоящий враг, их в ауле уже не было. Ушли, подобрав своих раненых. Тут-то и завертел и унес Аманлыка вихрь боя, подобно смерчу. И погнался за ним неотступно вездесущий детский плач.
Избасар-богатырь, брошенный на произвол судьбы, лежал на глинобитном полу ветхой лачуги с обрушенной крышей, оторванной дверью; стены ее едва укрывали от ветра, но по крайней мере не горели. Горело все кругом, и сильный жар близких пожаров согревал Из-басара. Одно копье и два обломка еще торчали из его груди и живота. Он был в бреду, разговаривал с Мама-ном и винился перед ним. Говорил Маману то, что Маман хотел бы слышать. Говорил, что бился не за свой род, а за всех каракалпаков…
Очнулся от конского топота. Подскакал нукер в треухе, сплеча хлестнул стенку лачуги камчой, она и обвалилась. Нукер захохотал.
— Эй, богатырь, я тебя узнал! Говорят, ты дюже здоров. А сыплешься прахом, как эта лачуга.
— Не смейся, парень, не позорь. Заплачешь — и у тебя скривится рот.
Нукер спешился, подошел к Избасару, прикидывая, что бы с него снять. Склонился над ним и отшатнулся.
— И я тебя узнал, братец, сразу узнал, — проговорил Избасар пугающе, опять в беспамятстве, но внятно. — Кабы я ведал, как помру… Кабы мы знали, сколько нам отпущено… Стоит ли ради того трепыхаться?
— Ради чего? — пробормотал нукер.
— На этом свете все прах, ежели война… В этом мире нет блаженства… Все едино умрешь. Дан тебе день жизни… живи, не бей, не убивай… Нынче ты убьешь, завтра тебя.
— Э… как сказать! — заметил нукер и погрозил пальцем с толстым, косо обломанным ногтем. Потом, словно зачарованный, потянулся к медной бляхе на груди Избасара.
Избасар-богатырь схватил его за руку железной пятерней.
— Обними меня!
Нукер заверещал со страха, с трудом выдернул свою руку и попятился.
Избасар-богатырь вновь пришел в себя. Огляделся… Глаза его были младенчески ясны. Попробовал встать, не смог. И громко, в голос застонал, давясь слезами. Он еще долго будет бредить, плакать и говорить с Маманом. И долго смерть, обнявшая его и даже вошедшая в него широким наконечником копья под самое сердце и оставшаяся там, не сможет это сердце остановить. Умрет он на третьи сутки, багрово-синий с ног до головы, с выклеванными черными воронами глазами, давно недвижный и вроде бы бездыханный. Только тогда перестанет стучать в его груди сердце и остынет богатырская грудь.
Что касается нукера, то он недалеко ушел и даже обогнал Избасара: дано было нукеру убедиться, что устами умирающего глаголет мудрость. Едучи по горящему аулу, он услышал женский визг и рыдания. Молодая женщина вырывалась из рук коренастого джигита, умоляя его слезно:
— Братец дорогой, отпустите меня… Я не девушка, на что я вам? Не разлучайте с супругом, я его люблю…
— Убью! — отвечал джигит, волоча ее за волосы к своему коню.
Вскочив на коня, джигит грубо втащил ее за собой и посадил впереди себя.
А нукер насторожился, взял наперевес копье. Что такое? Он тотчас узнал казахский твердый выговор. Женщина — казашка? Вот тебе на! Нукер пришпорил коня и ссадил коренастого джигита ударом копья под левую лопатку. Спросил женщину любезно:
— Ты чья будешь, живая душа? Какого рода? Женщина не успела ответить. Подскочил сзади другой коренастый джигит, товарищ первого, и ссадил любезного нукера точно таким же ударом копья в спину.
— Ух ты… — глухо выговорил нукер, не чувствуя боли, настолько она была сильна, и отчетливо вспоминая, что ему предсказывал Избасар-богатырь. Тот правда сказал: нынче ты, завтра тебя, а вышло и раньше, ух ты…
Нукер свалился на изрытую копытами землю и словно погрузился всем своим существом в теплую целебную грязь, в какой лечатся от ран и недугов люди и звери. Умирая, он видел, как второй джигит переволок женщину на своего коня и еще долго слышал ее слезные причитания, потому что джигит вертелся волчком на одном месте, не в силах справиться с конем, напуганным пожарами и людской кровью. Причитала она, как пела.
— Кабы я была мужчиной… рукоять моей нагайки не сломалась бы, в чужие руки я не попалась бы… Боже милостивый, и за что, за что сотворил меня слабой душой? Не суметь, не стать мне рукой-крылом народу своему! Не бывать и мужу верной рабой…
Тут голос женщины стал отдаляться.
Напоследок увидел нукер девочку, простоволосую, с глазами как у телочки. Девочка бежала босиком по снегу, усыпанному золой и гарью, спотыкаясь, истошно крича, точно ягненок, потерявший матку:
— Сношенька моя, прощай, сношенька! Люди, увели мою сношеньку, помогите! Злодеи проклятые, злодеи!
В один миг она словно поседела. Буран смешал со снегом и поставил дыбом ее волосы. А потом сшиб с ног. Девочка упала и забилась как припадочная, кусая и целуя землю.
* * *
Есенгельды в сильном беспокойстве искал своего сына. Расстались они второпях, в поворотный час. Пожалуй, рановато отец стал храбриться. Ну, да он не такой осел, чтобы лезть на рожон. Цел небось и невредим, ежели бог не взял за шиворот, пока шейх тянул за полу. Есть еще надобность пожить на этом свете, хотя и нет той возможности…
Три дня искал отца Есенгельды, стараясь не попадаться на глаза Мурат-шейху. Вот чего бы не хотелось — свидания с Мурат-шейхом. Избегал он также чересчур многолюдных встреч — с нукерами Абулхаир-хана. Уклонялся от них, как от летящего с горы валуна. Разве это не резон?
Впрочем, однажды, день кряду, Есенгельды рисковал — ездил со своими молодцами следом за Юсуп-би-ем. Маленький, юркий как мышь, на высоком, сильном коне, надвинув на брови громадный лисий треух, в котором его не отличить было от казаха-богатея, он безбоязненно врывался в самую гущу вражеских нукеров и пристраивался к боку одного из них; выбирал кого посолидней, поосанистей. В сутолоке драки или погони Юсуп-бий был незаметен, как орех среди голышей, и не уловить было мгновенья, когда он взмахивал волосяным арканом. Его избранник не успевал вскрикнуть, как валился задушенный, под копыта. Могучий конь выносил Юсуп-бия из толпы, точно из водоворота.
Ловкость и дерзость этого человека ошеломляли. Он подскакивал к Есенгельды, утирал треухом пот со лба и благодарил духов своих предков скрипучим басом, который частенько встречается у низкорослых людей. Он был из малолюдного рода табаклы, известного своим гостеприимством, отцом третьего Мамана…
Джигиты Есенгельды увлеклись, загорелись, и один из них попробовал было счастья, по примеру Юсуп-бия, взяв у него лисий треух. Недосчитались и треуха, и джигита… Есенгельды долго злился, что дал согласие на эту пробу, а Юсуп-бия прогнал.
Разорение Есенгельды обходил. Проскакивал мимо. Неохота было нарываться на стариков-старух и выводки их внучат, оставшихся без крова. Жалобы, просьбы, слезы. Морока… Будь ты хоть с каменным сердцем, а все же люди свои, изволь остановиться, заводи с ними тары-бары, а то и таскай ихние вещи, отдай детям хлеб, укажи, где искать кормильцев. Не нравилось Есенгельды, что его джигиты при этом расклеивались, распускали нюни.
В одном знакомом ауле он приметил какую-то возню. Десятка два людей метались с воровской поспешностью. Одни тащили из домов вещи, другие стаскивали сапоги с лежавших тут и там покойников, третьи разделывали промороженную тушу убитой лошади. Были это, конечно, не свои — чужие.
— Гляньте, — сказал Есенгельды, присматриваясь к аулу с ближнего холма. — Хотят казахи ободрать нас до костей.
С гиком, размахивая нагайками, Есенгельды с джигитами, теперь уже впятером, ворвались в аул, — пеших они не опасались. Послышался свист, пешие кинулись врассыпную. И тут Есенгельды разглядел, что это ребятишки, подростки.
— Стой! Поди сюда. Кто такие?
Вышли из укрытия двое — Коротышка Бектемир и Кейлимжай, за ними потянулись другие. Все одеты, обуты. Одежда не по росту, с чужого плеча, понимай, с покойников, но лохмотьев как не бывало. И босых не видать. Морды у всех сытые, глаза не голодные.
— А вы — Есенгельды! — сказал Кейлимжай, ухмыляясь. — Чего смотрите? Милости просим к нашему дастархану. Закусите чем бог послал. Мы не жадные, накормим и на дорожку дадим. Мяса у нас навалом. Что, не верите? Бона! Соли достанем, в землю зароем, хватит до будущей зимы. Так что воюйте… на доброе здоровье… Вам лучший кусок отдадим.
— Ах, стервецы! Что за твари такие? Кейлимжай вновь осклабился:
— Не узнаете? Разжирели мы, что ли? Или наши сапожки вас ослепили? — И он сделал коленце, на ноге был шевровый сапог в кожаной галоше.
— С кого ты их снял? Со своего, может, родича? Нечестивец!
— Этого он не сказал… свой он или чужой… А слезы лить — усохли наши глаза!
Есенгельды толкнул коня вперед и огрел Кейлимжая нагайкой. И другие джигиты принялись хлестать сирот нагайками, пока те не разбежались и не скрылись с глаз. Прятаться они были мастера.
— Что же, и этих прикажете считать нашим народом?., и эти нашего рода-племени?.. — проговорил Есенгельды, брезгливо кривя толстогубый рот.
— Если они люди, кто же упыри? — сказал Гаип, непроизвольно касаясь рукоятки отцовского ножа у себя на поясе.
Есенгельды причмокнул губами.
— А ведь какие шельмы! — вдруг добавил он. — До чего все-таки живучи…
Он думал о том, что голодранец Кейлимжай при случае мог бы оказаться полезным не менее, чем барчук Гаип.
Гаип смотрел на Есенгельды с догадкой и насмешливым одобрением.
Отца своего Есенгельды нашел в ауле кенегесцев; тут теперь хозяйничали кунградцы. Байкошкар-бий лежал под открытым небом на туркменском ковре. От ковра глаз не оторвешь: красный, толщиной в два пальца, затейливо утканный цветами. Драгоценный ковер. А на Байкошкар-бия лучше не смотреть: лицо — маска жуткая, нижняя челюсть вывихнута и торчит около уха, в глазах смертная мука. Около него сидит на корточках Айтуган-есаул.
Увидев Есенгельды и его джигитов, есаул обрадовался, захлопотал.
— Живей, пособите… Вот видите что. Дрался он за этот злосчастный ковер. Отбил, поверите ли, у льва. Вот он лежит бездыханный. Да напоследок, наотмашь — как, сукин сын, саданет! Вот видите что. Ну, кто из вас порукастей? Давай, сынок, соберись с духом…
Держа Байкошкар-бия за лоб, Айтуган-есаул велел Есенгельды бить отца по голове — таким способом вправляли вывихнутую челюсть.
— Вот в это место, по теменной кости… Да нет… Кулаками, обоими! Ты что, бабой родился? Руки у тебя или камышинки? Уйди с глаз долой, коли не можешь…
Есенгельды отступился. Подошел Султангельды, сын Жандос-бия, сцепил ладони воедино, размахнулся и ударил, точно молотом, крякнув протяжно.
Глаза вылезли у Байкошкар-бия из орбит. Челюсть встала на место, но изо рта брызнула кровь, и вывалился язык, величиной с ломоть хлеба. В горле забулькало, он замычал, ища выпученными глазами сына, протягивая к нему руки. И испустил дух.
Есенгельды затрясся точно в горячке, оскалился, как хорек, завыл, глядя на Султангельды с ненавистью. Тот лишь пожал плечами, пряча руки за спину. Тогда Есенгельды пнул ногой в плечо Айтуган-есаула. Тот с благостным видом вправил покойному язык в распяленный рот, закрыл Байкошкар-бию глаза и прослезился, хлюпнул носом.
— Видать, у него на лбу написано. На все воля божья. То-то он ухватился за этот окаянный ковер, никакого страха не чуя. Судьба ему — на этом ковре… Не зря он так хотел, спешил тебя увидеть, тебе сказать… Носил в душе заветное слово! И мне строго-настрого наказал: будешь жив, скажи моему сыну… Зачем он мне наказывал?
Надменная гримаса на миг исказила гладкое лицо Есенгельды, и это был след затаенного ликования, которого он, впрочем, нимало не стыдился. Пришла в голову мысль, что война ему на руку… Отныне нет нужды выжидать, пока старшие сойдут с круга. Рыскул-бия нет, Байкошкар-бия нет, и он, Есенгельды — голова кунградцам!
— Расхныкался есаул… — проговорил холодно Есенгельды, стараясь унять дрожь, уже иного, совсем не горестного, а тщеславного волненья. — Что он такое наказывал?
Айтуган-есаул исподволь перевел дух и повернулся, ошарашенный. Такого быстрого полного прощенья он, однако, не ожидал. Испуг прошел, пришла оторопь перед этим мудреным, нравным молодым хозяином, которому дано унаследовать такую большую власть. Есаул уже слыхал, как Есенгельды разделался с Гаип-ханом. Узнал об этом накануне и Байкошкар-бий и задумался, кусая себе палец… Не пришлось бы пожалеть, раскаяться, сынок! Тогда-то и надумал Байкошкар-бий свое завещание, и вгорячах поверил его Айтуган-есаулу, будто и впрямь предвидел свой конец. Что же теперь будет? На всякий случай Айтуган-есаул затоптался на одном месте:
— Душа его, бедного, уже в райском саду… Святой был человек! Думал о завтрашнем дне. Смотрел в корень, пока господь не уложил его на этот ковер… Он был телом и душой настоящим, верным кунградцем и тебе завещал.
— Чего тянешь, есаул! — окликнул Есенгельды, замечая, как беспокойно, суетливо переминаются с ноги на ногу его джигиты, и мысленно усмехался их нетерпенью. — Выкладывай.
— Он говаривал… когда Мурат-шейх сказал о каракалпакской юрте… Что главное в юрте? Очаг. Вот мы, кунградцы, и есть очаг. И нечего, говорит, ждать, когда вернется Маман… Он говорил: цапли улетают за три года до того, как озеро высыхает. Надо нам, цаплям, становиться на крыло, пока те же ябинцы не лишили нас наследства… — Айтуган-есаул собрался с духом и выговорил наконец: — Он сказал: переселяться… уводить всех за собой…
Вот оно! Заветное слово прозвучало. И незримая грань легла между вчерашним Есенгельды и сегодняшним. Джигиты окружили своего вожака, глядя на него словно бы с новым почтеньем и новым интересом, спрашивая его взглядами: поздравлять или не поздравлять? Судьба возвысила его до небес, и тут же озаботила самой тяжкой земной заботой.
— Куда же? — спросил Есенгельды с хрипотцой в голосе, скорей от важности, нежели от тревоги. — Сказал?
— Сказал… Все сказал… Если, говорит, податься вверх, там — джунгары. Удариться в низовье — русские; они нас спровадят в руки к Маману. На севере — опять же Абулхаир-хан. Стало быть, юг. Хорезм!.. Так и сказал: не дожидаясь конца этой заварухи, сам поведу и сыну велю.
Есенгельды не лишил себя удовольствия поиграть в кошки-мышки:
— Ну, а вы как полагаете, есаул? Ваше мнение! Айтуган-есаул вскочил на ноги, уронив с колен голову Байкошкар-бия; она стукнулась о красный ковер, точно отделившись от туловища.
— Сын мой, ты у нас один… Одна наша надежда, одно спасенье…
Есенгельды крякнул, искоса глядя на Гаипа.
Мешкать не стали. Завернули тело покойного в ковер и закопали тут же, где он отдал богу душу. Едва забросав могилу землей, вскочили на коней, будто боялись, что покойник их удержит. Поехали, не оглядываясь. По пути орали каждому встречному, словно извещая о чем-то шибко веселом:
— Уходим с этой проклятой земли… Давай отсюда, твари господни, пока живы…
По пути они втихую занялись одним делом. Свидетелем его оказался Мырзабек, но он, кажется, не понял того, что видел.
Предсказание Мырзабека сбывалось: заметно полегчало. Там, где вовсе не ожидал, в южной стороне, он приметил верховых, которые гнали голов с полсотни разного скота. Накануне ночью выпал снег, на солнце он искрился ослепительно, издалека не разобрать, что там за люди. Вроде бы джагалбайцы, есть такой род в Малом жузе… А наладились почему-то на юг. Мырза-бек погнался за ними.
— Вернитесь, ненасытные! Подавитесь, обжоры! Старший из джагалбайцев повернул коня и, подбо-
ченясь, подскакал к Мырзабеку; бледное его лицо показалось Мырзабеку знакомым.
— Эй… поделимся… — проговорил он сдавленным голосом, но всмотрелся в лицо Мырзабека и пустился от него прочь во весь опор.
Следом за ним кинулись остальные.
— Трусы… заячьи души!.. — закричал им в спины Мырзабек, смеясь.
И умолк, удивленный. Он вспомнил того, первого, с бледным лицом. Нет, это не джагалбаец. Подымай выше… Мырзабек приметил его еще на свадьбе Аманлыка и на проводах послов. Это главный завистник и соперник Мамана — из его сверстников. Есенгельды… По-видимому, и он узнал Мырзабека. Чего же он так испугался?
Айтуган-есаул побежал по примеру молодого хозяина. Однако опамятовался, подал голос:
— Да это же сваты! Родимые… милые… встреча какая…
Есенгельды придержал коня. Осадили и джигиты. Мырзабек приветливо махнул рукой:
— Собирайте вашу скотину, уводите с богом. Но Есенгельды не вернулся.
— Что ж, — сказал Айтуган-есаул добродушно, — тогда мы потрудимся. Побережем добро. — И добавил как бы шутя:- Будет мне за то пай — хорошо, не будет — и то ладно.
— И я беру один пай, — проговорил Гаип сквозь зубы, подъезжая поближе.
— И я один, — добавил Султангельды, также подъезжая.
Есенгельды молчал. Молчал и Мырзабек, недоумевая, о каких еще паях они толкуют, будто делят добычу.
— Спасибо, сват, — сказал на прощанье Есенгельды, как показалось Мырзабеку, насмешливо. И растаял вдали, в снежном блеске.
Скот, погоняемый джигитами, с гулким топотом покатил на юг, пока не скрылся в зарослях джангиля, меж голых стволов и ветвей. Стадо утонуло в них, как в черном тумане.
* * *
Аманлык ехал в родной аул. Ему повезло: дрался каждый день, а было тех дней без малого неделя, и остался жив, здоров, не ранен, если не считать пустяков — ссадин от дубин и пореза от меча, словно от кухонного ножа. Конь его также оказался крепче, нежели можно было ожидать; выносил из свалок, в которых всаднику на двухлетке полагалось быть затоптанным. Дважды Аманлык обрастал воинством, самым малым, но избранным, как это случается в бою с героями. И дважды это воинство рассеивал враг, ибо не умел герой распоряжаться теми, кому служил, сыновьями своих хозяев. Радовался тому, что меча Оразан-батыра не посрамил.
Душа, однако, была разломана. Сироты встретились как-то ночью. Они были нехороши — веселы. Думалось: шакалы визжат, гиены хохочут в темноте, в обезлюдевшем селенье. А это они — сироты. Не спят, пируют. Состязаются в мерзейшем сквернословии. Аманлык рассвирепел, сказал себе, что сейчас пришибет Кейлимжая, но руки у него опустились.
От них он узнал, что Акбидай похищена.
Не дожидаясь рассвета, Аманлык погнал усталого коня, добрался до своего аула, разыскал у едва живого очага едва живую Алмагуль и от нее услышал то же, что от сирот.
Закричал. Не поверил. А поверив, опять закричал.
Разоренный дотла аул его не поразил. Эта боль уже как бы приелась. И не только мучительный страх за Акбидай сокрушал его душу. Он вез издалека весть, быть может еще горше — и для себя, и для Акбидай, для всех. Он изнемог, истерзался, неся эту весть в душе, точно чахоточный огонь. Вот она — его кровоточащая рана.
Мурат-шейх был в ауле. Заглянул мимоходом в свой порушенный дом и свалился с ног. Аманлык немедля пошел к нему. Шейх выслушал Аманлыка не дрогнув. Но, понятно, старик был убит.
Люди Айгара-бия, несравненного друга, искали след Мамана и наткнулись на два мертвых тела с рубцами от петель волосяных арканов на шее. Двое мужчин лежали, словно обнявшись по-братски. И было подозрение, что они и есть братья, сыновья Мурат-шейха, из посольства Маман-бия. Их плохо знали в лицо, они были затворниками. Но подозрение вот такое. Люди Айгара-бия просили прислать кого-либо — опознать убиенных. Трупы свежие. Смерть схватила их, казалось, сию минуту.
Других послов не нашли ни на том месте, ни поблизости, ни в отдалении.
Мамана? О господи, Мамана… Если бы нашелся малейший его след, разве Аманлык молчал бы, разве сидел бы так перед шейхом, понуро и потерянно, думая больше об Акбидай, чем о его сыновьях!
Мурат-шейх с неожиданной силой стал бить себя кулаком в грудь, говоря о том, какая же гнусная расправа была с его детьми: они обнялись, а их удавили. По каждой его щеке сползло по слезе.
Потом шейх сказал Аманлыку, что судьбой его жены он займется сам. Этого дела он так не оставит. А ему, Аманлыку, к сожалению, не сможет дать ничего, кроме благословения, ни свежего коня, ни людей в подмогу… Аманлык вскочил с горящими глазами. Он понял. Он готов!
— Благословите, шейх-отец.
— С богом, сын мой, друг Мамана. Если ты его найдешь, живого или мертвого…
— Живого! — поправил Аманлык.
— Народ тебя не забудет.
10
Война была недолгой, как землетрясение. Нукеры Абулхаира порушили все, что могли, взяли все, что хотели, и убрались. Кончилось нашествие. Но эхо не утихло: умирали тут и там раненые, захлебывались слезами дети, и те, и другие — без крова, без хлеба, одинаково беспомощные. Не сыскать было человека не ограбленного, не осиротевшего.
В разоренных селеньях, словно на подбор, — старость и младенчество. Женщин молодых будто вымело Глянешь: старуха, сгорбленная, хромая, в обносках, с бесцветным лицом; а это девка в самом соку. Она будет горбиться и хромать, пока не вернутся домой джигиты. Когда они вернутся? Вдруг не вернутся? Тогда ослепнет, оглохнет, онемеет старуха. Будет страна мертвых.
Из края в край расползалось опустошение. Казалось, дыбом вставала земля, — живые разбегались, перешагивая через мертвых… Давно ли кунградцы, которые по-сытей, злорадствовали, глядя на то, как переселяются в самое мирное время мангытцы, выжитые с родной земли? Пришла очередь вкусить этого зелья кунградцам, им первым, как будто бог их наказал. Но некому было злорадствовать.
Мурат-шейх вместе с женой и старшим сыном оплакивали своих двоих младших, когда ему сказали, что кунградцы уходят на юг. Старик был болен душой и телом, едва держался на ногах (чалма сбилась набок, как платок на голове женщины, которая поссорилась с мужем), но потребовал коня и поспешил на дорогу изгнания.
Скорбная страдная дорога. Жалкий скарб навьючен на последнего ишака или быка, а то и на корову, а нет, так и на теленка, но чаще — на собственную спину. Ведут за руку детей седовласые, согбенные, с узелками на поясе, опираясь на палку, незримо навьюченные грузом лет. Шагают, пока душа в теле, исполняя свой последний долг, и потихоньку стонут. Стонет земля, и громко стонет ветер, и снег, и скалы, нависшие над дорогой.
И чудится шейху, знающему, что без божьей воли туча не закроет солнца, чудится ему, что солнце спряталось за тучу, чтобы не освещать того срама и страха, в которые обмакивал господь людские головы. Впервые после нашествия джунгар, после навек заклейменной годины белых пяток, видел Мурат-шейх такую страсть. А ведь это начало. Следом побегут другие. Куда? К джунгарам, что ли? В Китай, в Хиндустан или в афганские земли? Везде чужбина, повсюду лихо. Но нет ничего лише войны…
Вдруг послышалась песня, горькая и сладостная, как детская слеза.
Где мой дед был джигитом, а бабка — девицей… Ты прости и прощай, добрый мой Туркестан! Пролилась наша кровь, как живая водица… Ты прости и прощай, злой ты мой Туркестан!Мурат-шейх взмолился, воздевая руки к небу. Молитва его славила господа, но душа восставала против воли господней. Потом он запнулся, забыв слова молитвы, и не стал их вспоминать.
— Бог мой, пусть все это будет сном… я все это вижу во сне…
Глаза его закатились, и он повалился без памяти на землю, под ноги испуганному коню.
Подошел Сейдулла Большой, поднял невесомое тело старца и сел с ним на придорожный камень, словно с ребенком на руках.
— Состарились мы… Сдаем помаленьку… — сказал Сейдулла. — Небось когда вывел шестьдесят тысяч семей из-под ига джунгар, так не уморился. Тогда мы и сны видели другие. Правда, тогда был Оразан-батыр!
— А сейчас Маман, — холодно-язвительно добавил Есенгельды, подъезжая и с усмешкой глядя на бесчувственного старика.
— Накажет тебя бог, — сказал ему Сейдулла. — Разбиваешь народ. Делишь одно сердце надвое. Ответишь перед Маманом!
Посмотрим, кто перед кем… раб… скотина… — отозвался Есенгельды спесиво.
Сейдулла и глазом не моргнул.
Говорят, Рыскул-бий вернулся из плена? Нашлось, стало быть, его тело?
Есенгельды, не отвечая, яростно хлестнул нагайкой своего коня.
На другой же день, собравшись с духом, Мурат-шейх поехал по аулам со словом надежды. Объезжал безжизненные руины и пепелища, из которых вдруг показывались женщины, дети. Сходил с коня, обнимал их. Его окружали потухшие очаги, потухшие глаза. Он раздувал в них живительный огонь. Речи его были просты и ничем не заменимы.
Человек появляется на свет, чтобы умереть… Нельзя перешагнуть смерть. Но умереть на поле брани — значит обрести вечное блаженство. Умершим — честь, однако и живым — вера. Пусть твой родич увидит райские блага, постарайся найти блага земные. Если ты голоден, соси свою вторую мать, она накормит. Твоя вторая мать — труд…
И тени людские обретали кровь и плоть. Загорались очаги и возносили к небу отнюдь не жертвенные дымы. В тепле засыпали дети, а мужчины обнимали женщин.
Сильна жизнь на грешной земле. Кабы не была жизнь сильней смерти, не было бы под этим бездонным небом человека. Каждый божий день мы видим смерть и знаем, что мы смертны, а ведь не верим, что помрем…
Давно устал жить Мурат-шейх. Ныне он запамятовал об этом. Ехал домой, словно омоложенный людской благодарностью за слово надежды.
Первой, кого он увидел в своем ауле, была Алмагуль. Она бежала настречу, ломая руки, подобно безутешной вдове.
— Сношеньку, сношеньку… вы обещали… спасите… Девочка была замечательно хороша. Беда, казалось, украсила ее. Трудно было выдержать ее взгляд, но и нельзя было отвернуться, — такая исходила из ее телочьих глаз сила, такая светилась в них красота сострадания.
Шейх погладил ее по непокрытой, сияющей жгучей чернотой голове.
— Не сомневайся. Все сделаю.
Она засмеялась и заплакала от радости, приникла губами к руке шейха. Могла ли она предугадать, бедное дитя, какая ее самое стережет судьба…
У своего дома Мурат-шейх увидел, благослови, господи, голов двадцать коров и волов, штук шестьдесят — семьдесят овец. И задумался, пощипывая бороду. Это были новые дары благодетелей Айгара-бия и Седет-керея. И это было новым толчком в самое сердце. Вряд ли дошло до Айгара-бия, что сталось с его любимой Акбидай. И надо думать, сумели скрыть это злосчастье от милых сватов, которые пригнали скот. Но однажды все откроется… К тому времени Акбидай следует быть дома.
Мурат-шейх призвал Хелует-тархана. Случился под рукой еще Есим-бий, глава жалаиров. Больше некого звать и не дозовешься. Сели втроем держать совет. Стали внушать друг другу хорошо известное, но словно бы не всем до конца понятное.
— Отдать врагу скот, либо девок в полон, либо даже джигитов — это одно. Кто сильней дует, тот и ворочает мельничные крылья. Но отдать жену… мать своих детей… это, дети мои, другое! Срам ее мужу и всей родне. Позор голове страны.
Тонкое это дело. Женщина, которая побывала в чужих руках, не может остаться нетронутой. Сколько бы она ни клялась, ни один смертный ей не поверит. А иначе зачем ее красть! Тогда ты вор, а не мужчина…
— И то сказать: кому она после этого нужна? Она перед мужем, господь свидетель, поганая. А если он на нее наплюет, выгонит в шею? Хотя бы тот же Аманлык… На кой же ляд ее выручать, почтеннейшие?
Этот довод (что поганая и что наплюет) был самым существенным. Все трое закивали головами. Разумеется! Спору нет. Это закон.
Втайне шейх полагал, что едва ли Аманлык прогонит жену: другой он не купит. Но разве дело в Аманлы-ке? Дело в Айгара-бие! Не то болит, чья она жена, а то, чья она дочь…
— Эта женщина — наше имущество, мы за него в ответе, — сказал шейх. — Какими глазами будем смотреть на ее отца, когда он захочет проведать родную кровь и не найдет ее ни в живых, ни в могиле… Если Аманлык заартачится, его дело, выдадим ее за другого бедняка, пристроим, без мужа не останется. Вопрос: как ее достать? Абулхаировы стервецы назло ее не отдадут — ни нам, ни Айгара-бию… Нет ли на виду заезжего купца пооборотистей?
Такой купец нашелся. Караван из Бухары дожидался у северных пределов страны, пока кончится война. Возвращался он по новому и выгодному пути — уже не из Уфы, а из Оренбурга. Караванбаши оказался знакомым: он побывал у черных шапок как раз полгода назад, когда провожали Мамана в Россию, и тогда, по случаю великого торжества, был освобожден от бажа.
— Судьба нашей снохе съесть еще пуд соли в нашем доме, — сказал шейх, увидев караванбаши.
Это был человек дошлый и, видимо, охочий до риска. Борода с проседью, брови толстые, как дуги, нос птичий, глаза запали, точно вода в глубоком колодце. Он носил пеструю чалму и полосатый халат поверх шубы. Разговор понимал с полуслова, дело чуял носом, как собака след.
Само собой, купец посочувствовал хозяевам: в прошлый раз у них все пело, ликовало, ныне курятся дымом развалины и проходу нет от протянутых рук. Далее он раскошелился на тридцать аршин ситца — знатный подарок шейху — и тут же велел слуге осадить на землю верблюда — второго спереди. Лучше загодя предупредить возможные просьбы… Когда же Мурат-шейх завел речь о своей заботе, караванбаши смекнул, что тут он разживется, возьмет, что захочет, а нет того человека, а тем более рода, пусть вдребезги разоренного, с которого купец не нашел бы что взять.
— В долгу не останемся, — заверял шейх. — Как говорится, на шее мужчины аркан не загниет. Расплатимся сполна.
Купец взмахнул руками в знак того, что не сомневается.
— Мне много не надо… Возьму голову за голову.
Это означало: за женщину — девицу, то бишь истинно по справедливости.
Караванбаши собрался в путь налегке, с небольшим вьюком, оставив отдыхать свой караван. С ним снарядили джигита, чтобы он не привез черную ворону вместо Акбидай.
* * *
Да… Это были младшие сыновья Мурат-шейха. Аманлык узнал их без труда. Их нашли в глубоком сугробе, в уединенном красивом логу, в котором летом и осенью обыкновенно устраивались той, гулянья молодых. К тому времени как приехал Аманлык, было обнаружено еще одно мертвое тело — Пулат-есаула. Его нашли неблизко от красивого лога, верстах в пяти, на голых камнях. У этого богатыря, у которого на каждом плече мог свободно уместиться человек, была расколота надвое, точно грецкий орех, голова. Пулат-есаула хорошо знали все, и теперь не было сомненья в том, что Абулхаир-хан перебил посольство Мамана.
Никто не верил, что Маман мог остаться в живых, а то, что не находилось его тело, объясняли просто: разобрали стервятники, волки проглотили. Тому, почитай, неделя. За это время Абулхаир успел начать и кончить войну.
Аманлык верил… Мертвый Маман. Не вязались эти слова. Живой Маман. Эти слова вязались. Зачем жить, если мертв Маман? Лучше удавиться. Вот что было на уме Аманлыка, потому что он был молод, хотел жить и горячо надеялся еще увидеть и обнять Акбидай.
Силен был соблазн — открыться Айгара-бию или хотя бы Мырзабеку. Они бы живо разыскали Акбидай. Нельзя! Есть тайны, которые лучше не раскрывать. Есть горе, которым не поделишься. Оставалось уповать на Мурат-шейха, молчать и надеяться. Это Аманлык наказал и сестре.
Мамановы мысли в голову не шли. Казалось кощунством задумываться о большом, о великом после того, как Абулхаир-хан лишил самого малого. Хотелось только увидеть Мамана, посмотреть ему в глаза, больше ничего.
Мамановы мысли, однако, вдруг обступали со всех сторон, обрывались под ногами бездонной пропастью, и Аманлык летел в эту пропасть вверх тормашками… Кого, спрашивается, думал он, уважают, боятся и превозносят до небес за умение вести дела с русскими на равных, с честью и пользой великой? Абулхаир-хана! А кто избивает своих же данников, каракалпаков, за то же, за что его превозносят, боятся и уважают? Абулхаир-хан! Вот подлость какая… Что же, дружба с русскими — такой капитал, который хан не хочет делить? А разве самого Абулхаир-хана не бьют и не травят за дружбу с русскими?.. Дальше лучше не спрашивать.
Аманлык блуждал в снежной пустыне, в бескрайней казахской степи. Тут недолго и заблудиться. На этих просторах может заблудиться целое войско. С горечью, с дрожью озирался Аманлык. Где же тут укрывается ветром недобитый врагом, ожидающий друга, быть может при последнем издыхании, живой Маман? Странно смотрели на Аманлыка в последнем ауле, даря ему на дорогу хлеб, мясо, — с сочувствием, пожалуй, насмешливым, как на чудака или помешанного.
Два беркута кружили в небе, один на севере, другой на востоке, далеко друг от друга. Аманлык долго следил за ними, готовый пуститься вскачь туда, куда устремится с поднебесья беркут. Но они кружили и кружили, не спускаясь на землю, и зря дожидался Аманлык.
На горизонте, подобно знойному мареву или миражу, висели над снегами горы. Сколько дней пути до этих гор? Аманлык нащупал на груди кремни для разжигания огня, похлопал коня по шее и послал его в сторону гор, мысленно выговаривая: — Я иду, Маман, я иду.
* * *
Караванбаши обернулся быстрей, чем ожидали. Привез женщину, молчаливую, с застывшим лицом, однако живую, здоровую, и сдал ее с рук на руки Мурат-шейху. Караванбаши торопился поднять свой караван и продолжить путь. Мурат-шейх, напротив, медлил, колебался. Он словно оторопел от такой скорой удачи. Но купец впился в него как клещ.
— Э, господин мой, о чем задумались? Я за эту госпожу отдал столько шелку, сколько она не сносила бы за всю жизнь, хотя она такая красавица… Неужто воздастся мне зло за добро? Если я не привезу своему эмиру девушку, которая ему приглянется, он меня повесит! Сорок морщин легли на лоб Мурат- шейха. Он позвал Хелуета.
— Возьми слуг, езжай по аулам, привези десять девушек из сирот — на выбор. Пусть возьмет какую захочет и не думает, что мы из тех, кои забывают уговор.
К полудню девушки были собраны; старшей — восемнадцать, младшей — тринадцать. Были среди них и миловидные, складные. Караванбаши глянул на них и покачал головой с вежливой укоризной. Осмотрел каждую в отдельности; они были в обносках, полуголые, простоволосые, понурые и немые от страха и стыда. Затем с важностью надул шею. Тут был случай — поторговаться, а торговаться он любил.
— Еще вопрос, все ли они девки… И потом тут нет ни одной, которая годилась бы, как вам сказать… мыть ноги и расчесывать волосы… почтеннейшим служанкам… жен нашего эмира.
Мурат-шейх задохся от срама. Аж кости засаднило. Он не привык к таким речам и беседам. Низость — торговаться. Лучше отдать втридорога.
— Послушайте… а если помыть, подкормить, нарядить… их…
Караванбаши рассмеялся шейху в лицо. А себе заметил с легкой душой, что с этим святым человеком он поладит.
Тогда шейх с искаженным мукой лицом поручил к завтрашнему утру привести десятерых девушек из рода ябы, хорошенько принарядив их, чтобы заткнуть наконец купцу прожорливую глотку. С грехом пополам набрали пятерых — из семей менее имущих. Из других семей не дали дочек, ссылаясь на то, что нечего дочкам надеть… Шейх расшумелся было: это еще что за срам непослушания? Разве не весь род ябы в ответе за Акбидай? И разве не заманчиво для девицы попасть в гарем эмира? Пошумев, шейх остыл. Добро еще, что дали пятерых. Сейчас надо с людьми потише. Прикусил язык и купец, — он обирал разоренный народ. Кабы не хватить через край. Бросилась в глаза Караванбаши одна с насурьмленными бровями, исподволь пронзавшая его жгучим взглядом. Ей явно хотелось попасть к иноземцу в руки, подальше от своего сожженного дома. А девки у каракалпаков знатные! Недаром их крадут из поколения в поколение туркмены. И купец уже готов был ткнуть пальцем в ту насурьмленную, а та уже дрожала от радости быть избранной, когда увидел бухарец у самых дверей бледненькую маленькую девочку с глазами телочки…
Горячий озноб пронзил его спину.
— А это кто? — спросил он, ткнув пальцем в Алмагуль.
Она пришла, прослышав, что выручили ее сношеньку. Пришла обнять ее поскорей, омыть слезами и увести… Зачем-то Мурат-шейх оставил Акбидай у себя дома до возвращения Аманлыка, женщины ее спрятали пока от любопытных глаз, а Алмагуль, когда она появилась, безо всяких разговоров выставили за дверь. Но купец уже приметил настоящий товар! Чуяло его сердце, что тут он разживется, и все же такого подарка он не ожидал… С видом полного равнодушия он махнул рукой.
— Баста, эту, пожалуй, и возьму. Мурат-шейх, озадаченный и обескураженный, велел позвать Алмагуль. Он был даже несколько задет вначале тем, что караванбаши выбрал сиротку, замарашку Потом у шейха открылись глаза. Похоже, что в сиротском тряпье была жемчужина.
Мурат-шейх попробовал упереться. Купец тотчас потребовал назад Акбидай, резонно заметив, что род ее отца даст за нее больше, чем род мужа. Купец называл ее вдовой… Шейх кряхтел сердито и растерянно.
Алмагуль, когда ее позвали, заметалась, как ягненок при виде волка, отталкивая от себя ласковые жадные руки караванбаши. Но тщетно она бросалась то к шейху, то к Хелует-тархану:
— Позвольте мне уйти, дедушка миленький… Можно я пойду, уважаемый брат?..
Они ей не отвечали. Глядя на нее с искренним удивленьем, шейх велел ее накормить.
Набежали женщины, матери тех девиц, которых привезли на выбор, очень довольные тем, что их доченьки остаются, и набросились на радостях на Алмагуль. У караванбаши нашлось в достатке, во что ее нарядить. Как раз то, что нужно! А из рук этих женщин в ту минуту не вырвался бы сам дьявол. Алмагуль умыли, одели, напялили ей на ручки, на шейку браслеты, бусы, срастили ей бровки сурьмой и залюбовались, разахались: принцесса! Девочка была в классическом возрасте для сластолюбцев — тринадцать лет.
Купец, не мешкая, поднял на ноги свой караван.
Мурат-шейх, держа Алмагуль за руку, сам вывел ее из дома — сажать на верблюда.
И ни одному человеку, ни женщине, ни мужчине, не пришло в голову спросить ее согласия или хотя бы заручиться согласием старшего брата. Никому не пришло в голову и то, что надобно дать ей по крайней мере проститься, если не с братом, то со снохой. Провожал ее шейх. Куда же больше? Чего лучше? Плачет она? Эка невидаль — слезы! Дальняя дорога, долгая разлука? Вот уж что ихней сестре на роду написано. И то ли беда? Беда, когда девка нищая или уродина остается вековать дома, не тронутая мужчиной.
Так же точно думала и сама Алмагуль. Разумеется, так. Но до самой последней минуты не верилось, что судьба ей ехать на чужбину и что никогда больше ей не видать ни брата, ни сношеньки. Алмагуль не знала, почему вдруг шейху-отцу вздумалось позвать ее и отдать чужестранцу. Как будто бы готовили других… Быть может, в ином случае ей было бы лестно, что ее считают уже взрослой, и ее порадовали бы наряды и украшения, о которых она и не мечтала. Теперь они вязали ее, точно птицу путы. Слезы ее никого не трогали. Когда она ходила с протянутой рукой, на нее обращали большее внимание. А из девушек и сейчас вон та и вон та смотрят на нее с ненавистью, — им она переступила дорогу. И Алмагуль и впрямь стала взрослой в ту самую последнюю минуту.
— Шейх-отец, — сказала она, когда ее посадили на головного верблюда, как самое ценное в караване, — я вас не спрашиваю, все равно не ответите… значит, есть причина, почему меня отсылаете…
— Да, дитя мое, — ответил шейх неожиданно для самого себя.
— Я прошу, не откажите… Передайте привет моему единственному брату, милой моей сношеньке, пусть они будут счастливы. А если мой единственный брат захочет меня найти, скажу — по какой дороге… Если пойдет по пыльной тропе — не найдет. Тропиночка моя будет мокрой от слез, она никогда не просохнет. Там пусть и ищет. Там буду и я.
Не ожидал Мурат-шейх от девочки таких речей. Когда заговаривает так дитя, не дивишься ни мужеству, ни мудрости, думаешь: это глаголет господь. Мурат-шейх подумал иначе. Подумал с щемящим сердцем, что, очень может быть, не столько он выиграл, сколько проиграл… Уходит из рода, уходит поневоле, девочка, которая, пожалуй, могла быть парой Маману. Прежде шейх этого не видел, теперь видел ясно. Видел, что она стройна, гибка, точно камыш, лицо как цветок, уши белы, как бумага, нос словно фисташка, а кос — целая корзина. Видел шейх и то, что у нее в глазах.
Она сама еще не сознает, какая в них колдовская власть.
Худо стало старцу, как будто у него изломали все двенадцать ребер. И так он ничего не сказал ей более, ни слова утешенья, ни слова напутствия. Стоял задыхаясь, ловя ртом воздух, усы торчали, как иглы на еже.
— Счастливо оставаться… — проговорил караванбаши не громко и не тихо, с воровской оглядкой, ожидая, что вот-вот его остановят и схватят за руку. Обошлось, однако.
Караван зашевелился, тронулся и пошел. Алмагуль закричала пронзительно нежно:
— Прощай, братец, прощай, сношенька… Прощайте, шейх-отец… Люди, прощайте, сироты, прощайте… Прощай, дом родной, Туркестан!
Ни один голос не отозвался ей в ответ. Женщины постарше некоторое время шли за караваном, всхлипывая. Они мычали, как немые. Дольше и веселей провожали караван аульные детишки. Еще дольше — сироты; Кейлимжай раза два лихо свистнул вдогонку. Девушки не сдвинулись с места.
Аул опустел. Расходились молча. Слишком много горя видели все в минувшую неделю, чтобы думать долго о том, что вот девицу увезли — за тем самым, за чем их увозят, а к слову сказать, из разорения в богатство… Девчонка, конечно, славненькая, добрая. Дай ей бог… Голодать не будет.
Мурат-шейх удалился к себе и остался один. Прежде его окружали бы почтенные бии, расторопные джигиты. Спорили бы… оставляя последнее слово за хозяином… Обезлюдела просторная юрта духовного отца. Не видно и Хелуета. Снуют бесшумно, как мыши, женщины. У них особая печаль — упрятать Акбидай; заигрались, дуры. По всякому пустяку суются за благословеньем. Никому ничего нельзя поручить. Все дела — своими руками. Заглянуть в божественную книгу — недосуг! Караван пройдохи бухарца — и тот пришлось провожать самому…
Мурат-шейх слег, не вставал до ночи и всю ночь не мог уснуть. Караван с головным верблюдом, на котором сидела недавняя нищая, побирушка, уходил и уходил из самой груди шейха и никак не мог уйти. Душу пронзал прощальный возглас, такой нежный, такой гордый: «Прощай, дом родной, Туркестан!» Господи боже, к чему бы это?
В середине ночи подошел Сейдулла Большой, сел на корточки около шейха, послушал, как он в темноте кряхтит, стонет, ворочается, скребет себе грудь, и сказал:
— Любовался я вами, святой отец, почитай, неделю кряду. А после сегодняшнего… плюю вам в бороду…
11
Он полз, упорно полз, подобно огромной черепахе, пока не впадал в беспамятство. От натуги бередились раны, отворялась кровь. Из-под шапки, затвердевшей от спекшейся крови, медленно вытекала красная струйка, падали на снег редкие густые капли. Следом вразвалочку важно вышагивала ворона и склевывала красные капли вместе со снегом.
Он заметил ворону и испугался, уткнулся лицом в землю. Боялся, что в забытьи перевернется лицом вверх, а она выклюет ему очи. Но перевернуться хотелось. Буран унялся, небо расчистилось, и встало в нем маленькое белое солнце. Оно раскалилось, запылало. Его живительный жар полился в лопатки сквозь овчинный полушубок. Хотелось подставить под эту струю грудь, живот, занемевшие колени.
Вдруг он увидел в своей правой ладони обломок дубины величиной с локоть, заостренный, как кол. И вспомнил: эту дубину он вырвал из рук одного молодца и об его же башку обломил. Когда это было? В буран. Так. Где же ворона? Вот она. Он отвел руку и с силой швырнул в ворону обломок. Но пальцы не разжались, обломок остался в руке. Только в глазах помутилось. Ворона отпрыгнула и каркнула — раз и другой, низко опуская голову, словно вспахивая клювом снег.
«Врешь, не сдохну, сама подыхай», — подумал он незлобиво. И тут понял, кто перед ним…
Это не ворона. Это Абулхаир. Вот он какой пузатый, коротконогий и черный. Почему черный? Отчего он почернел? От засохшей мертвой крови.
Послушай, пресветлый хан, ты меня убил. Да, все-таки убил, как обещал. Ты воистину великий человек, потому что убиваешь кого захочешь. Но, хан мой, когда тебя будут убивать за то же, за что ты убил меня, ты увидишь, как это неумно. Откуда знаю, что будут убивать? Я это вижу… И я уважаю тебя за это…
Позволишь ли мне продолжать, пресветлый хан? Такие, как ты, не умирают своей смертью. Ты смотришь далеко, куда иные и не заглядывают. Но ты более жаден и горд, хан мой, чем храбр… Если бы ты не был так храбр, как нам хотелось бы, ты бы приблизил к себе таких, как я, так же, как тебя и меня приблизили к себе русские. На это твоего величия на хватило.
Еще скажу: ты убил меня напоказ, пресветлый хан, чтобы отогнать грозу от себя, чтобы задобрить своих убийц. Разве это не так? Плюнь мне в глаза, если не так! Но, хан мой, пока что ни один хан не усидел в двух седлах. Когда тебя будут славить за мудрость, пусть не смотрят на твои окровавленные руки…
Струйка крови наползла с виска на бровь. Он стер ее ладонью, как струйку пота. И жадно куснул чистый искристый снег, проглотил с усилием и захрипел от жажды и от боли в груди, в животе, боли повсюду, от ран на всем теле и еще от голода.
Осмотрелся. Ворона исчезла. Он тяжело перевалился на спину и протяжно сладостно застонал. Какое солнце, какой свет и жар, какая яркая горячая радость… А это кто — там, в вышине? Ага! Теперь ясно, куда делась ворона. Спряталась поди в кустах, в черных прутьях. Вон кого она боится. В небе, прозрачном, как глаза Кузьмы Бородина, повис на распростертых крыльях сокол, едва различимый в солнечном блеске.
На минуту словно забылась боль. Он сощурился, вздохнул полной грудью. Стояло в небе солнце, маленькое, огненное. Стоял в небе сокол, большой, белый. И встало дыбом, подобно кровному скакуну, сердце в груди, полное восторга перед солнцем, небом и соколом.
Постой, постой… Что за мысль! Это не сокол. Это Россия.
Боже, не помереть бы. Господи, дай насмотреться, раздышаться, раздуматься, не гаси рассудка.
Ударь, сокол! Ты царь неба… Расшиби в пух эту ворону, как только она высунется из кустов, за коварство и черную измену. Она клевала мою кровь.
Сердце затопотало и остановилось. Он сморщился от приступа тошноты.
«Надо, однако, ползти, ползти…»- подумал он и тут же провалился в пропасть беспамятства, не поспев перевернуться лицом вниз.
Когда же он очнулся, пришел в себя и стал разбирать, что видит, то увидел, как из кустов стремительно вылетела, хлопая крыльями, птица, вроде бы черная, и полетела невысоко над землей. Но еще стремительней ударил с неба сокол, пал на птицу, как небесный камень, и она закувыркалась в воздухе, роняя перья. Видимо, сокол не удержал птицу в когтях, она упала на снег, а он взмыл в небо; дичь с земли сокол не подбирает. Он только крикнул резко, повелительно, как будто выговорил:
— Бер-ри!
Вскрикнул в ответ соколу и человек — и устремился к сбитой птице. Попытался встать на ноги, не хватило мочи, пополз, вскапывая коленями колеи в снегу.
И второй раз он вскрикнул, когда схватил левой свободной рукой забрызганную кровью, еще теплую тушку. Это была не ворона, а цветастый петух-фазан! Схватил и стал ощипывать, рвать зубами, сосать фазанью кровь, которая смешивалась на губах с его собственной. Спасибо, сокол…
Потом он опомнился — не потому, что сырое мясо было ему противно, — недоставало лишь соли, — а потому, что сообразил: оно его убьет после стольких дней голоданья, обжаренное на огне тоже для него опасно, но менее.
Потихоньку, терпеливо он разогнул один за другим сведенные судорогой пальцы правой руки, выпростал увесистый обломок дубины, а пальцы размял, растер, они ожили. Достал из-за пояса нож, выпотрошил фазана, захлебываясь голодной слюной. Фазан был крупный, как курица. Костер удалось развести не скоро, но довольно легко. В кустах попался на глаза карличек саксаул, известный охотник колоться. Топором его не разрубишь, раскололся он тотчас, колуном послужил обломок дубины. Раздуть огонь от кремневой искры помог всевышний. И вот заплясали огненные языки и завертелась над ними на длинном ноже фазанья тушка, покрываясь душистым загаром.
Он обжигал мясо и ел, обжигал и ел. И пожалуй, самого большого усилия ему стоило не съесть много, съесть мало. Старался разжевывать мясо до кашицы, глотал, громко булькая. Думал: а сколько же времени прошло с того смутного дня, когда он был убит? Был буран. Молодцы, один другого краше, старшие — в масках, подожгли его коляску. С улюлюканьем, как на псовой охоте, погнали послов в степь… Бог мой… неуж-то никто не уцелел?
Он перестал есть, проглотил горсть снега. Перебарывая себя, засунул фазанью тушку, еще порядочную, со всеми костями, глубоко за пазуху. Лег на грудь, на фазанью тушку, задремал блаженно, бездумно, потом заснул крепко, впервые за эти страшные бесконечные дни и ночи без бредовых сновидений.
Проснулся, когда солнце еще грело. На снегу, на воле много спать нельзя. Еще раз поел расчетливо мало. Поднялся и пошел, шатаясь на неверных ногах. Шел на юг, набрел на тропу, твердую, занесенную снегом лишь местами. Обрадовался, шагал по тропе долго, версты три, и свалился. Лежал, хрипя, водя боками, как загнанный конь.
И тут мельком, словно нехотя, он подумал о Митрии-туре. Боялся о нем думать. Сомнительно было, чтобы Абулхаир поднял на него руку. Но чем черт не шутит… Вновь вставала в памяти история с мурзой Тевкелевым, послом царицы Анны Иоанновны, который промаялся в ставке Абулхаира два года, прежде чем Абулхаир собрался с силой протянуть ему руку. Что же, ослабел Абулхаир и вновь взяла верх партия против русских? Тогда и Гладышеву не сносить головы. Упаси бог. Невольно, машинально, оттянув ворот, он плюнул за ворот трижды, чтобы отогнать беса и дурную мысль.
К ночи он наткнулся в овраге на волчье логово, как будто заброшенное. Ошметков шерсти на его дне и костей у входа не видно было. Здесь он поел в третий раз. А ночью угрелся так, что стали саднить обмороженные руки, колени. Впрочем, сильней всего болели голова, грудь и спина. И удивительно было — как он не замерз вовсе, когда лежал без памяти. А до того — как ему не проломили голову, не сломали спинного хребта. Все ли у него целы ребра — он не знал.
Били его, конечно, насмерть. Убивали. Но теперь он уже и не знал, хотели ли его до смерти убить. Быть может, бросили умышленно еще не бездыханного на божий произвол. Струсили все-таки. Нет, не людской мести страшились, а стало быть — греха…
Фазана он ел двое суток. Мосолки грыз и сосал, не выпуская изо рта, еще целый день, пока они не истаяли до конца, без остатка. А там опять ослабел, возобновились голодные боли, головокружения, стал засыпать, замирать без чувств, бредить наяву.
Среди бела дня возникали видения, миражи. И однажды было такое явственное, натуральное, а он настолько не владел собой, что вскочил на ноги, поднял страшный крик, а может, ему только казалось, что он вскочил и закричал. Но конь под всадником, который ему привиделся, шарахнулся от него в сторону и не пошел к нему, как его всадник ни пришпоривал. Тогда всадник спрыгнул с коня и побежал к нему, тоже крича дурным голосом:
— Маман! Маман!
Подхватил его уже падающего. А он судорожно и слабенько куснул всадника в плечо, в бреду, в помешательстве голода, подобном бешенству.
* * *
Сколько времени прошло с того дня, как Мурат-шейх услышал имя Мамана, выбежал наружу, и они обнялись, сплетясь, точно нити веревки, и их подняли обоих вместе, не разнимая, и внесли в юрту. Сколько времени затем Маман не вставал на ноги, и его отпаивали горячим бараньим жиром, врачевали раны травами, изгоняя из его жил гной, не допуская ему в грудь смертельный недуг чахотки?
Не было дня, чтобы не приходили его навестить, приходили многие, и каждый надеялся, что с ним он заговорит. Но он больше спал и бредил. Когда же он открывал глаза, в них была не мука, не страдание, а нечто дикое, звериное. Ему давали напиться, он грыз пиалу, — благо она была деревянной. В бреду бранился, грозился, скрежеща зубами, кого-то убивал раз за разом и его убивали. Очнувшись, принимался шептать что-то быстро, азартно. Его слушали во все уши. Никто не мог ничего разобрать. Он был еще так молод. Но как страшно он постарел у всех на глазах.
Глядя на него, люди начинали давиться слезами. Прорывались рыдания и охватывали всех, точно на похоронах. И раздвигались круглые стены юрты до самого горизонта; умноженные ветром рыдания обнимали землю и отдавались эхом в горах и выше гор, в бездонных пустых небесах.
Неужто Маман не выберется из этого недуга, из этого безумия? Маман, Маман, не покидай нас, мы и так вечные сироты!..
Его окликали. Он отвечал, что ворона клюет его сердце. Он отвечал, что не видит белого сокола, небо чересчур низко, и тянулся к войлочному потолку юрты…
Суждено было ему, однако, оклематься; к тому времени раны его засохли и побелели. Однажды он стал видеть, слышать и понимать и вновь разом помолодел. Мурат-шейх, положив его голову на свои колени, сказал:
— Пора, сын мой бий, собираться с духом, пришел к тебе твой народ.
И тогда Маман узнал… Настал его черед узнать, что было на его страну нашествие, подобное нашествию джунгар в незабываемую годину белых пяток, двадцать лет назад, ничем не лучше. Лицо его стало цвета дуба, как у шейха. И опять он зашептал, а глаза его выпучились, как у безумного.
— Сокол… сокол… где ты?
Со стоном он поднялся на ноги, заплясал на них, как новорожденный теленок, смешно и жалко. Не устоял, упал, схватил полу халата Мурат-шейха и прижал ее к губам.
— Простите меня, шейх-отец…
Потом поклонился людям, стоя на коленях. Народу была полна юрта.
— Простите, отцы-матери мои, народ мой… И все увидели, что он плачет.
Никто никогда до того не видел, чтобы Маман плакал. Он почувствовал, что люди не хотят видеть его слез. Сказал, стирая слезу кулаком:
— Чего стоят мои муки в сравнении с вашими!
Но от него не хотели и сочувствия. От него ждали слова, которое мог сказать лишь он один.
— Сын мой бий, — заметил Мурат-шейх значительно, — когда голова народа плачет, глаза его сухи.
И никого не удивили слова «голова народа», хотя старец, всеми признанный святой отец, обратил их к джигиту.
— Слава богу, живой… память у тебя не отбита… — добавил Сейдулла Большой с намеком.
А случившийся тут же Аманлык сказал совсем просто:
— Изболелись мы по тебе, Маман.
И опять никого не удивило, что при хозяевах говорят слуги. При Мамане это было не в новинку.
Тогда он сказал наконец, безо всякой заносчивости, как о само собой разумеющемся:
— Об этом я буду рассказывать всю жизнь… А помру — другие расскажут. Эту память не отобьешь… Видел я царицу, как вот вижу вас. Белая она. Щеки белые, волосы белые, но не от старости… Видел ее главного визиря по имени Бестуж, говорил с ним обо всем, начиная с Корана… Видел ее наследника. Зовут Петыр, но он не Петыр… Дана была мне бумага великой надежды. Дана была русская коляска, высокая, как трон… хан ее спалил! А где она, та Грамота, я не знаю. Остальное вам известно.
Аманлык протянул ему на ладони большую серебряную монету.
— Вынул у тебя из-за щеки…
— Это мне подарил наследник царицы. Прятал я ее от ханских псов… Вот все, что у меня осталось. А вот, люди, моя голова… Кто хочет, пусть рубит. Простите, что много говорю.
Затем он вскрикнул страстно в общей скорбной тишине:
— Лучше скажите вы… битые, ломаные, грабленые, гонимые, оскорбленные, уцелевшие в таком малом числе… скажите… Можно отнять надежду у человека, но можно ли отнять надежду у народа?
— А ведь и правда… — проговорил Сейдулла Большой словно бы изумленно. — Чего нельзя, того нельзя! А что мы ломаны, биты… Земля создана, чтобы держать на своем горбу то, что господь рушит с неба.
Сейдулле ответил общий вздох. Аманлык сморщился, сжался, думая о горестях своей семьи.
В юрте скопилось так много народу, что стало нечем дышать. Люди обливались потом. Мурат-шейх распорядился откинуть камышовую циновку, служившую дверью. Ворвался в юрту студеный ветер и вздул над очагом сноп искр. Подошла пожилая женщина и полотенцем утерла лицо и грудь Мамана.
— Люди добрые, — сказал Маман, — видел я города русских царей. Две великие столицы. Город Сам-Петыр стоит на макушке земли. Там среди ночи свет. И нет такой науки, которой нельзя было бы научиться в том городе. Этому я сам свидетель. Всю дорогу домой не выходило это у меня из головы. Смекаете, к чему я веду? Все ожидали, что он скажет о том, какие русские — ученые люди. Но он сказал:
— Вот бы нам послать своих детей за теми науками… как царь Петыр посылал в заморские страны своих… Пусть мы народ малый, но тот народ велик, у которого ученые дети! Так ли сужу, отцы мои?
Ему ответили долгим глухим молчаньем. И отцы и дети были ошарашены. И немногие соображали, так или не так он судит. Большей частью спрашивали создателя: господи, а не бредит ли он опять?
12
Аманлык увидел Акбидай в юрте шейха тотчас, как привез Мамана. Оставив его на руках шейха, кинулся к ней, ног под собой не чуя. На радостях и не заметил, как она съежилась, забилась в угол, точно воробей при виде ястреба. Обнял, прижал к груди. Язык у него заплетался от нечаянного счастья.
— Акбидай, ты ли? Говори, ты?.. Как ты вырвалась, дорогая моя? Я и не знал, как тебя искать. Вот нашел Мамана. Две радости сразу. Счастье село на мою голову. Что ж ты молчишь, Акбидай моя? Обними покрепче, родная моя. Я тебя не променяю ни на какие богатства, даже и на ханство, на все земли Абулхаира. Тебе нет равных, любимая моя. Душенька моя, скажи что-нибудь! Почему ты здесь? Где Алмагуль?
Акбидай молчала. Ни прежней резвости, ни прежней веселости. Ни слезы, ни слова не обронила. И не заплакала, и не обняла. Как неживая. Аманлык приписал это скромности, — в юрту набивалось все больше народу. Тряхнув жену ласково, он вернулся к Маману, стал плакать около него вместе с шейхом. А потом, когда задремал Маман, свалился тут же сам, заснул как убитый. Пришло время и ему отоспаться.
Он не помнил толком, кто кого наконец-то привел домой — он Акбидай или она его. Он и дома спал долго. А проснувшись, не сразу смог постичь, куда же делась Алмагуль. Акбидай не отвечала на расспросы, лишь отворачивалась, закрывала лицо руками. Она сама узнала о судьбе Алмагуль от жены шейха недавно, когда уже ничего нельзя было поправить. Не то чтобы скрывали от нее это дело, нет. Но если уж не спросили согласия брата, старшего, — кому интересно, скажите на милость, мнение женщины?
Сейдулла Большой открыл Аманлыку глаза, когда тот прибежал к шейху с лицом серым, как стираная бязь. А шейх и не пытался утешать.
— Сестра твоя далеко, сын мой, — сказал старец, с беспокойством косясь на стонущего в забытьи Мамана. — Ах, Аманлык, сын мой, не спрашивай, не пытай… Девушка создана богом не для своего дома, для чужого, не для отцовской семьи, для мужней. Я ее и послал… я и отправил…
— Разве вы отдали ее замуж? — спросил Аманлык, дрожа с ног до головы.
— Успокойся, милый, успокойся. Будь доволен тем, что она отдана в богатые руки. Это хорошо. Это неплохо. Радуйся, что вызволили твою жену.
— Я доволен… — проговорил Аманлык с тоской. — Я радуюсь… Но я не знаю, пил ли я молоко матери, не разбавленное ее слезой. Моя чаша радости полна до краев, но наполовину она со слезой. Великое вам спасибо, шейх-отец!
Аманлык поклонился и вышел из юрты, не дожидаясь ответа.
— И моя полна… и моя со слезами наполовину… — торопливо и бессильно пробормотал Мурат-шейх в спину Аманлыку.
* * *
Акбидай печальна. Печален Аманлык.Оба хотели бы порадовать друг друга, развеять тревогу в груди, но словно бы разучились понимать один другого. Лежат врозь — с двух сторон очага, подобно мешкам с одеждой, брошенным на одеяла. Каждый думает о своем, мучится своей болью, как будто нет у них общей боли, общей думы.
Акбидай вся полна неослабевающим ощущением того, что она нечиста. Была в плену у своих, на родной земле, а распята, как чужестранцами. Приглянулась предводителю нукеров, он и забрал ее себе, держал три дня, пока не обменял на отрез шелка для своей супруги. Насладился, скотина, ее красотой. Более трех дней ему на это не требовалось. Хотела умереть сразу же, тогда же. Пыталась удавиться платком, платок отобрали и им же связали ей руки за спиной, поставили слугу сторожить добро. Будь проклят хан Абулхаир…
Как теперь смотреть в глаза мужу? Как улыбнуться ему? Он перевернул ей душу ласковыми словами. Его слова съедают ее по косточкам. Бедный, несчастный. Сердце его не чует лиха, нежное сердце. А может, оно помиловало ее? Неужто прощаешь, бек мой? Лучше встань и ударь без пощады. Встань и убей своими руками. Это было бы желанным очищеньем.
Аманлык с горечью и бессильным гневом думал о том, что слышал от Мурат-шейха. Вот как вдруг нелепо расплескалась чаша сиротского счастья, когда она, казалось, была полна до краев. Слова шейха обжигали холодом, точно огнем. А разве шейх не хотел благополучия семье сироты? Нет, воистину слепы люди, но и всевышний на троне небесном слепец! К тому же скряга. Слепой и скаредный он, господь бог.
Пропала сестричка, единственная родная кровинка… Чем утешиться? Воскресением Мамана? Или тем, что сам жив и молод? Оторопь и стыд пронизывали душу Аманлыка. Каково чувствовать себя мужчиной, когда любимая жена лежит с тобой под одним кровом, точно покойница, и кров твоего дома темен, как свод склепа… Где оно, живое высокое небо молодости, воли, удачи?
— Акбидай моя! — окликнул Аманлык. — Подними голову!
Акбидай вздрогнула, через силу приподнялась на локте. Глаза ее покраснели, веки опухли. Она не смотрела мужу в лицо.
— Не надо так, голубка моя. Если мы не утешим друг друга, кто нас утешит? Встань, наберись духа, встань!
Акбидай не двигалась. Она не могла и не хотела перебороть себя. Что проку в человеке, который пытался уйти на тот свет и однажды уйдет, теперь уже вскоре, ибо силы истекают, как кровь из отворенных жил. Были слезы, иссякли и они. Что-то порвалось в груди. Лицо, совсем еще юное, словно завяло. Шея так натянулась, что, кажется, вот-вот порвется.
— Голубка… душа моя… ты заболела? Или соскучилась так? Скажи. Не молчи.
Он протянул к ней руки. Она отодвинулась, дрожа. Он встал, но тотчас и она вскочила и отбежала к самой двери, подальше от очага. Аманлык с натугой улыбнулся.
Что тебя ушибло, ненаглядная моя? Что спалили нашу белую юрту, подаренную отцом, и мы голы и босы и что нет у нас больше сестрички Алмагуль? Милая маленькая наша Алмагуль… Если б она была здесь, она бы сказала тебе: не думай о худе, думай о добре. Мы, сироты, знаем: нельзя жить горем. Живи надеждой! Вот я… надеюсь, мечтаю и жду, чего — сам не знаю, но жду. И ты жди. Жить хочется, когда думаешь не о вчерашнем, о завтрашнем.
Акбидай подняла глаза, в них была мука.
На меня не надейся, бек мой. Я не жилец на этом свете. По мне эта земля безгрешна, это солнце невинно. А я под ним… на ней… как мертвечина! Не следовало мне возвращаться домой. Не знала я, что меня выкупают и — какою ценой, ничего не знала. Отец мой говорил: женщина — мужу опора. Я скажу: женщина — гора! Если гора высокая, на вершину падает снег, а у подножья текут воды чистые. Если гора низкая, воды под ней мутны. Я самая низкая, хозяин мой. Не касайся меня. Неужели не видишь… не понимаешь, почему бегу от тебя, как прокаженная?
Аманлык догадывался, конечно, и не хотел верить. Слышать не хотел об этом. А услышав, взорвался, подбежал и безжалостно пнул свою голубку ненаглядную ногой.
Бей… бей… — пробормотала Акбидай, отдышавшись. — Нет у меня силы — встать, подать тебе палку… И он стал бить. Навалился на нее и бил, бил, себя не помня. Она стонала, охала, как будто побои доставляли ей наслажденье. А может, они и впрямь были ей сладки, потому что слезы полились наконец из ее глаз, и это были слезы облегченья.
— Бек мой… бек мой… милый… любимый… — шептала она.
Вдруг он увидел седые волоски на ее висках. Седина — в семнадцать лет… Заскрипел зубами, ударил себя самого кулаками по голове, задохся от ярости и отчаяния и откинулся на спину без памяти. Лежал не шевелясь, как покойник. Не скоро пришел в себя.
Посмотрел в глаза Акбидай и содрогнулся от того, что в них увидел.
— Будет с тебя, голубка моя… прощаю! И ты меня прости. Моя это вина, во всем — моя. Судьба наша написана у нас на лбу. От судьбы не уйдешь. Где мед, там и яд, где смех, там и слезы. На том свет стоит. Говорят, человек, который любит розу, не убоится ее колючек. И не даст сорняку ее задушить, правда? Прошу тебя: не вспоминай… и не напоминай… ничего… даже Алмагуль… Прошу тебя.
Подняв Акбидай, Аманлык отнес и усадил ее около очага. Она не противилась, но не оперлась о руку мужа, не приникла к нему, как он ожидал.
Снаружи донеслись голоса, басистый — Кейлимжая, писклявый — Бектемира; узнать их было нетрудно. Акбидай торопливо утерла слезы рукавом. Аманлык вздохнул исподтишка; все-таки с этими прощелыгами немного легче на душе; они — единственные родичи. И вот ввалились толпой гости дорогие — сироты.
Коротышка Бектемир барским жестом кинул в руки хозяйки жирный кусок соленого мяса, весом в кыркага-ры, то бишь в семь фунтов. Хотел рыкнуть, а вместо того пискнул:
— Хотим шурпы из ваших рук, сноха!
— Поди наколи дров, шурин… — ответила Акбидай с неожиданным оживлением.
Бектемир посмотрел в глаза хозяйке, потом — хозяину и прищурился с хитрецой:
— Постойте, постойте… А что это у вас обоих плошки мытые? Вообще морды виноватые… Ну, положим, тебя жена избила! Когда муж женой битый — это сразу видать. Потому я и не женюсь, что жены драчливы… Да, но с чего же она плакала?
— Тебя ждала в гости, дурак… от этого заревешь белугой! — перебил Кейлимжай Коротышку. — Свари нам, сестрица, такой супец, чтобы мы ели да пошлепывали себя по щекам.
Ребята так и покатились со смеху. В убогом, обойденном судьбой, бедняцком доме словно бы посветлело. Теперь начинаю настоящий интересный разговор, — продолжал Кейлимжай, выпячивая грудь, открытую до ложечки. — Кто посмышленей, меня поймет. Дурак — позабавится.
— Завелся! Полез! — крикнули ему насмешливо. — Соломки подстели…
— Не бойся, не оступлюсь, ползучие ваши души. Спрашиваю вас, сколько у бога глаз и какие они из себя?
— А кто же их видел? Разве можно увидеть бога?
Кейлимжай повернулся к Аманлыку:
— Слышишь? Вот голоса невежд. Эти щенки, как кабанята, в небо не смотрят. Я видел глаза божьи! Хо… и у тебя шевелятся усы? Хочешь посмеяться? А если я свалю тебя одним словом? Тогда слушай. Все видят божьи глаза, да не смыслят, что видят. Два глаза у бога — один светит, другой с бельмом. Что, и сейчас не смекнул? Никак не расчухаете? А это солнце и луна! Эх, кабы были бы оба глаза с бельмом, нам бы еще сподручней… При луне все само лезет в руки… — Тут Кейлимжай и заслонился от Аманлыка ладонями. — Гляньте, как на меня уставился. Не дай бог, убьет одним взглядом…
— Весело тебе? — спросил Аманлык. — Так тебе весело?
— А что? До весны у нас животы будут теплые.
— А потом?
— Будут еще войны… набеги…
— А ведь ты не стервятник, нет, — проговорил Аманлык с гневом. — Ты сама падаль смердящая… — И впрямь убил одним словом.
Кейлимжай перестал куражиться. Лоб его сморщился и стал шириной в палец, маленькие глазки спрятались под опухшими веками. Кейлимжай сунул чурку в очаг так, что искры взлетели над котлом. Это неспроста.
Неужто в душе стал тяготиться своей беспечной сытой жизнью? Не зря он тянулся к Аманлыку. Что же случилось у них, у сирот?
Коротышка Бектемир осклабился до ушей, глядя на Кейлимжая. Все молчали. Впервые сироты видели своего вожака битым, впервые он не хвастал и не честил всех дурачьем.
— В том-то и суть, — сказал Аманлык, — что есть в мире глаза, которые смотрят за самим господом богом. Их много, как звезд в ясную полночь. Это глаза человечьи!
Но, кажется, сироты его не поняли, хотя и были удивлены. В котле булькало, над ним вился душистый парок. Сироты не спускали с котла глаз. Все глаза человечьи были обращены к котлу.
— Сестрица, пока не поздно… — заметил Кейлимжай, на минуту вновь обретая обычную находчивость, — прикрой котел крышкой… а то они попрыгают в него и будет суп слишком густой!
И опять посмеялись мальчишки, отворачиваясь, отодвигаясь от очага. Улыбнулась даже Акбидай.
Послушай-ка, брат, а как это… ну, это… здоровье Маман-бия? — спросил неожиданно Кейлимжай, опустив глаза, подобно девочке.
Тогда Аманлык понял смысл перемены в Кейлимжае. И подумал вслух:
— Выздоравливает Маман.
13
Караванбаши был еще не стар телом и душой, и его раздирали страсти и сомнения. Главенствовала всепожирающая страсть к наживе, но он был не чужд и иных, не менее благородных. Хотелось ему, например, чести — награды от эмира. Бухарского эмира обуревало неутолимое желание — отведать на ложе сладострастия дочерей всех народов, ощутить аромат всех цветов. Караванбаши вез ему подарок бесценный. Уж этот великородный козел разглядит, что перед ним каракалпакская пери!
Купец окликнул своего старшего слугу:
— Слышишь? Каким же халатом, скажи, покроет теперь мои плечи эмир?
— За что это?
— Тупица! Болван!
Старший слуга набычился упрямо:
— Не покроет… Ему уже привезли двенадцатилетнюю из беженцев-каракалпаков. Ваша красотка для него вчерашний день.
Караванбаши пал духом, даже испугался.
В самом деле, если привезти эмиру цветок с того луга, с которого он уже срывал цветы, может он и разгневается. Так лягнет высокородный козел, что башка покатится. Боже упаси от такой чести.
И тут внезапно охватило Караванбаши желание, коего отнюдь не лишены купцы. А не лучше ли самому сорвать тот прекрасный благоуханный цветок? Товар куплен. Товар наш. Мы ему хозяева… Товар, господа мои, чудо! При этой мысли, совсем не греховной, а лишь расточительной, Караванбаши поперхнулся и захрипел от жадности и от вожделения.
Была ночь. Алмагуль спала, изнемогшая от непрерывных безутешных слез. Щеки ее в размазанных потеках, однако разрумянились во сне, и под вздрагивающими ресницами лежали тени недетские, заманчивые. Руки все же были привязаны к луке высокого верблюжьего седла — на случай, чтобы не бросилась, скажем, под ноги верблюду.
Караванбаши подъехал, протяжно крякнул, глядя на девочку, и сунул ей ладонь за пазуху. Обнял грудь с острым соском, упругую и нежную. Алмагуль проснулась и вскрикнула спросонья с хрипотцой:
— Ой, дедушка…
Купец дернулся, точно его потянули за бороду, убрал прочь свою загребущую руку. Нет, он не был смущен или пристыжен — скорей рассержен. Девчонка его будто плетью огрела. Лучше бы уж заплакала опять.
— Не бойся, доченька… — невольно пробормотал Караванбаши и еще более озлился.
Отшибло у него всякое желание. Смотрел на девчонку глазами, застывшими как у мертвеца. И презирал себя за минутное малодушие. Между тем она принялась за свое. Не говорила — пела:
— Помилосердствуйте, дедушка, милый, отпустите меня домой. Я пойду домой, дедушка, милый. Я дойду, вы не думайте, я дойду… А вам будет великая удача! Наверно, у вас есть дочка, такая, как я. Пусть она будет счастлива. А вас наградит господь. Каждый день буду молиться за вас. Тысячу раз помолюсь, вымолю вам райскую жизнь. Дедушка, милый, разве у вас нет дочери? Пожалейте меня, как свою дочь. Отпустите…
Купец насупился, думая о том, что у его дочери — уже дочь старше этой девочки. Слава богу, его дочь и дочь дочери не сироты. Не дай, господи, им сиротской доли.
С самодовольством он оглядел свой караван. Свыше ста верблюдов размеренно Вышагивали по сыпучим пескам. Они походили на снизку крупных бус, серо-опаловую, с желтым, зеленым, красным крапом, бесконечную, разделившую надвое Кызылкумы… Что, однако, останется от этого богатства в Бухаре? Львиная доля прибыли уйдет, как вода в песок, в бездонную казну эмира. Сколько ночей без сна, сколько дней искусной и неутомимой торговли с татарами и башкирами за каждую таньга. А что проку? В Бухаре все твои животы и сама твоя жизнь в руках ненасытного и жесткого властителя. Подарит купцу халат, а сдерет с него шкуру. Ограблен человек бессовестно, а радуется шелковой тряпице. Счастлив, дуралей. Вот каково купцу в Бухаре.
Эта девчонка тоже, стало быть, не увлечет и не отвлечет эмира от купецкой мошны. Напротив, девчонка опасна, если она не первая каракалпачка в дворцовом гареме. Ну, а позабавиться с ней… Сплюнь, голова, трижды себе за ворот. Что дело для эмира, для купца безделица. Где эмиры и ханы видят драгоценные камни, нам видятся слезы. Правда, и то сказать: держать в руках мед и не облизнуть сладкие пальцы — срам для купца. На том караванбаши и порешил.
— Ладно, дочка, будет скулить, проняли меня твои слезы. Эмиру тебя не отдам.
— Тысячу лет живите, отец! Пусть ваши дети не знают вовек никакого лиха. Пусть ваши дети живут свободно, весело. Вашей рабыней буду, отец!
«То-то, рабыней… — подумал караванбаши. — Что же, продать тебя — разве грех? Законное возмещение трудов, самое святое дело».
— Он тиран, — добавил караванбаши. — Вон померла в муках одна девица, которую я ему привез накануне. Тоже была, как ты, цветок.
Алмагуль задрожала, в страхе уткнулась лицом в свои связанные руки.
— Ладно, не робей, — сказал караванбаши. — Давай развяжу…
И жестом поистине царским обнажил нож, висевший у него на двойном поясном ремне, и одним махом разрезал волосяной аркан, которым были связаны руки Алмагуль. А она порывисто потянулась к ногам купца и стала целовать его запыленный сапог, плача и смеясь от радости.
— Будь по-твоему, — заключил караванбаши. — Коли такое дело, повезу, отдам тебя хивинскому хану. Он получше нашего эмира. Молодой, сильный джигит. Молодые добрей. Бог его надоумит — отправит тебя домой. Хива от вас недалеко. Пятьсот семей мангытов во главе с Шердали-бием живут во владении этого хана. Он у меня рос на глазах. Я ему скажу, чтобы тебя — домой… Сама в одиночку ты не доберешься… Поняла?
Алмагуль радостно закивала головой. Имя Шердали-бия ей доводилось слышать, и мангытцы вправду жили в Хорезме. Достоверно было и то, что молодой хан добрей тирана эмира. Алмагуль еще не научилась отличать вкрадчивую речь от ласковой и очень хотела верить старшему, который развязал ей руки и обещался не отдать мучителю.
— До смерти вас не забуду… Хлеба куска не съем, не помолясь за вас… — бормотала она, складывая молитвенно руки с синяками на запястьях от волосяного аркана.
Купец, вполне довольный ее послушанием и своей находчивостью, все же отвернулся и протяжно замычал себе в грудь, — голова у него кружилась от того, как мила и соблазнительна была каракалпачка.
И вот — Хива, ханская ставка, звезда благодатного оазиса на границе Каракумов. На берегу Амударьи караван остановился, разбил шатры. Караванбаши призвал старшего слугу и еще двоих и сказал им:
— Перво-наперво — держите язык за зубами. С этого начну, этим кончу. Ежели проболтаетесь в Бухаре, истребит вас эмир вместе с вашими потомками. А пока… да будет продано то, что куплено!
— К у л л ы к, — ответили в один голос трое, что означало рабскую покорность.
Затем пересадили живой товар с верблюда на коня и повезли к ханскому дворцу, переправясь через реку.
Все дворцовые ворота были закрыты, по бокам стояли стражники с секирами. Но караванбаши знал, как отпираются эти ворота. Голоса он не повышал, но и не умерял и был важен, как индюк.
— Эй, кто там… Мы из Бухары с подарком для хана. Стражник с секирой, коротко поклонясь, побежал за
ворота, во дворец, но вернулся неторопливо, задрав бороду, как собака хвост.
У нашего хана нет интереса болтать с вами. Караванбаши страшно удивился.
— Несчастный! И не отсох у тебя язык? Может ли быть, чтобы хан потерял интерес к своему излюбленному святому делу? Мы привезли тюльпан из каракалпакской степи, никем не обнюханный… Но если так, уезжаем!
Никуда купец не уехал, разумеется. А стражник понесся во дворец, подобно гончему псу. Вернулся спустя то время, за которое можно выпить пиалу чая, и не один. Впереди стражника важно вышагивал некто в халате с золоченым шитьем на воротнике. Халат стоял колом и мог бы сойти за шубу — из такой толстой, тяжелой, точно отлитой из бронзы, был парчи. Сей муж, шибко смахивающий на попугая, был мешком ума, то бишь советником, а также мешком золота, то бишь казначеем хана, иными словами — главным визирем.
Караванбаши, не теряя времени, показал ему Алмагуль. Визирь смотрел на товар дольше, чем хотел бы, и даже попробовал его на ощупь.
— Что просите?
— Мы прибыли с надеждой, что сын Ильбарс-хана Абулгазы Мухаммед-хан весь в отца, и статью и нравом тигр… А нет, так уезжаем.
Визирь сделал знак, и ему подали небольшой тазик, величиной с тюбетейку, полный монет. У караванбаши глаза полезли на лоб. Столько денег он не ожидал. Вот это визирь! Вот это хан! Купец низко поклонился и попятился, держа тазик с монетами обеими руками высоко перед собой, точно в некоем священнодействии.
А визирь кивком головы велел Алмагуль идти за ним. Она пошла, запинаясь, слепая от страха.
У переправы через реку караванбаши отсчитал половину денег и, разделив ее поровну на три доли, отдал их слугам, старшему и двоим другим. Слуги остались довольны, а купец еще долго не находил себе места и в тот день и в последующие дни, много думая о том, какую продал красавицу.
Не то чтобы он сильно жалел ее… Не то чтобы так уж восхищался ею… И не сочувствовал ей особенно. Просто думал и думал…[2]
* * *
Хотя Алмагуль в душе была благодарна караванбаши и, разлучаясь, тихонько шепнула ему «спасибо», ресницы ее были влажны от слез, когда она ступила за ограду ханского двора, который показался ей раем. А если это и вправду рай, то пусть отпустили бы ее на милую землю, в хижину брата, к доброй снохе Акбидай!
Словно во сне, утопая в зелени невиданного райского сада, пугливо озираясь вокруг, Алмагуль шла за визирем. Визирь молчал, а она все ждала, что он что-нибудь ей скажет, пожалеет или приободрит ее.
Молча вступили они в тенистую аллею, в конце которой виднелась какая-то дверца. Визирь указал на нее рукой. Не понимая, чего он хочет, девочка тревожно вглядывалась в его надменное лицо.
Войди, войди, — сказал визирь, но она стояла, держась за ручку двери и не решаясь войти.
Алмагуль казалось, что, если открыть эту дверь, навстречу полыхнет адский огонь, каким ее пугали в детстве. Визирь нетерпеливо дернул за ручку и подмигнул девочке: мол, не бойся — иди. Но она стояла как вкопанная, не в силах оторвать от визиря расширившиеся, круглые от страха глаза, не зная, что он не смел прикоснуться к девушке, предназначенной хану, и потому не мог попросту втолкнуть ее в дверь. Алмагуль не двигалась с места в надежде, что он, старый человек, отец, пожалеет ее и отпустит.
Между тем навстречу им вышел кто-то горбатенький с гладким безволосым лицом, в белом халате и чалме. Алмагуль сначала подумала, что это старушка. Но это был евнух, приставленный следить за гаремными затворницами. Опустив длинный рукав до самых кончиков пальцев, он взял девушку за дрожащие пальцы и потянул внутрь. Шатаясь, она вошла в огромную комнату, где, кроме них двоих, не было никого. Осмелившись поднять глаза и оглянуться, девочка застыла, пораженная невиданной красотой убранства дворцовой палаты: пол покрывали красные как кровь ковры и узорчатые паласы; блестящие пышные наряды, которым она не знала названия, были развешаны по стенам и грудами лежали на полу. Не зная, куда попала, во сне она это видит или наяву, Алмагуль стояла, растерянно глядя по сторонам. Раскрылась вторая дверь, и из нее снова вышел то же горбатенький старик с тазом и медным кувшином в руках и молча поставил их перед девушкой, жестом объяснив: будешь купаться. Никогда не раздевавшаяся даже перед женщиной, в смертельном ужасе она задрожала всем телом. Видя, что она так и будет стоять, евнух сам развязал тесемку у нее на груди. Ошеломленная, она неподвижно стояла на ковре, а горбун с хихиканьем бегал вокруг нее и, украдкой любуясь ее наготой, стаскивал жалкие одежки девчонки.
— Раздевайся! — приказал он, указывая на ее шаровары, но она не шелохнулась, и он, пробормотав: «Считай меня отцом, не стесняйся, тихо, дитя мое, тихо», сам стащил с нее шаровары, усадил в большой таз и засмеялся, застрекотал, как сорока. Девочка заплакала. И тут евнух стал лить ей на голову теплую воду.
Не видя человека за струями теплой воды, блаженно нежащими ее запыленное, истомленное долгим знойным путем тело, она сама, не помня как, задвигалась, стирая с тела струйки, стыдясь своих собственных рук, подпрыгивая, фыркая и смеясь, словно от щекотки. А старик все лил и лил воду, не давая девочке опомниться, открыть глаза, и ей казалось, что это райская вода сама льется, наполняя блаженной радостью все ее существо.
Даже когда райский поток иссяк, девочка, не понимая, где она и что с нею творится, все еще сидела в большом медном тазу. А украдкой приоткрыв глаза, увидела, что перед нею лежат нарядные одежды. И, словно бы читая мысли Алмагуль, евнух зашептал успокоительно:
Ты в раю, гурия. Ты стала гурией.
Девочка поверила. Счастливая тем, что попала в рай, избавившись от эмира бухарского, о котором добрый караванбаши говорил столько нехорошего, она тихонько помолилась: «Не изгоняй меня из рая, боже мой. Грехов у меня нет, ничем я не провинилась перед тобой, господи!»
Евнух проворно выскочил за дверь и запер ее на крючок. А девушка, нарядившись в шелестящее шелковое платье и бархатный камзол, прилегла на оказавшуюся тут же мягкую перину и, уткнувшись носом в белоснежную подушку, усталая от долгих слез и волнений, ничего теперь не опасаясь, заснула.
Целый день и целую ночь нежилась она на пуховой перине, и никто не потревожил ее счастливый сон. Только старый евнух время от времени входил на цыпочках, чтобы подивиться на спящую пери, и удалялся, проглотив набежавшую слюну. Хочется ему побежать попросить суюнши у хана, сказать, что такой красавицы еще в жизни не видывал, да неудобно, стесняется.
Алмагуль проснулась на вторые сутки в полдень, испуганная. Ей казалось, что она задыхается. Бросилась к двери — не открывается. Подбежала к длинному, как язык, окну, и увидела светлый, сверкающий на солнце хауз, водоем, по берегу которого прогуливались красивые, нарядные девушки.
— Значит, я и вправду в раю, — успокаиваясь, решила она.
— Красота — счастье, хе-хе-хе, — застрекотал у нее за спиной скрипучий голос евнуха, — как хорошо быть прелестной, хе-хе-хе… И почему это я не такой красивый, как ты, хе? — И он, смеясь, закружился вокруг девочки.
Алмагуль снова встревожилась. В ее ушах назойливо звенели слова: «Красота — счастье, красота — счастье…»
— С тех пор как на свет родился, не видел хан такой красавицы, как ты, хе-хе-хе. — И вдруг заговорил словно бы стихами:- Сама ты стройная как кипарис, волосы твои как ветви плакучей ивы, как звезды глаза твои, раздирающие сердце, соски грудей твоих как бычьи рога, хе-хе-хе…
Вспомнив, что он видел ее обнаженной, девочка застыдилась и, сжавшись в комочек, опустилась на ковер.
— Смотрите-ка, сидит точно беленькая голубка, хе-хе-хе! — снова застрекотал евнух.
Сердце девочки забилось, словно не вмещаясь в груди, и, закрыв лицо обеими ладонями, она расплакалась.
— Как прелестен и плач ее! А? Хе-хе-хе! — воскликнул евнух.
У Алмагуль закружилась голова, и она упала.
Сквозь забытье ей послышалось, будто открылась дверь. Она подняла голову и увидела перед собой волосатого человека, огромного, как дэв, безобразного, как обезьяна. С криком: «Ой, мама!»- бросилась к двери, но дверь перед ней со стуком закрылась. А вошедший человек, наслаждаясь испугом дикой, неприрученной девчонки, хохотал во все горло, широко раскрывая волосатый рот с щербатыми желтыми зубами, и его смех напоминал рычанье разъяренного пса. Это и был его светлость хивинский хан Абулгазы Мухаммед.
Сейчас-сейчас это чудовище загрызет ее своими огромными зубами! Девочка в ужасе пятилась от него, — «дедушка, дедушка, где вы?»- пока не уперлась спиной в стену. Послышался стрекочущий смех старого евнуха: «хе-хе-хе». Алмагуль до крови прикусила нижнюю губку.
— Как тебя зовут? — спросил хан, вдоволь насмеявшись.
Большие, широко открытые глаза девочки застыли, полные слез, и она чуть слышно пролепетала:
— Алмагуль.
— Алмагуль?! — И хан снова захохотал. — Цветок яблони?! Да разве назовет так свою дочь нищий каракалпак, у которого не то что цветов яблони, даже горстки муки в доме нет! Он скорей всего назовет свою дочь Майдабике — девушка, мягкая как мука.
Обидевшись за родной край, Алмагуль упрямо возразила:
— И в нашем краю растет яблоня.
— Растет яблоня… ха-ха. Немое, глупое дерево тоже, видно, не знает, где ему расти. Нет, девушка, ты это брось! Это имя тебе не идет. Отныне тебя зовут Майдабике.
— Вы сказали, что я Майдабике? — Девочка все еще не понимала, зачем он все это говорит. — Да нет же! Я ведь сказала, что я — Алмагуль, Алмагуль мое имя! Так меня называли родители, родичи, мой народ. — И она заплакала.
А хан хохотал.
— Ну, ты много-то не болтай, степная каракалпачка! Ты, оказывается, не понимаешь, как надо любить. А может, ты подманиваешь меня своими слезами?
Он вплотную приблизился к ней, и в нежное личико Алмагуль, как толстые иглы, впились жесткие усы великана. Некому было откликнуться на отчаянный крик девочки: «Дедушка, дедушка!» Ее голосок звучал, как писк воробья под ногой бешеного верблюда… А евнух, который подсматривал в щелочку, то плакал, то смеялся, с завистью роняя слюну, глядя на уродливого хана, опускавшегося, как верблюд, над белым, словно корешок тростника, телом девчонки, которое было не длиннее руки хозяина.
Так, крича и плача, теряя сознание, Алмагуль стала наложницей хана.
14
Надеясь, что царская грамота, отнятая у послов, подхвачена ветром и лежит где-то в степи, Маман-бий, с благословения Мурат-шейха, собрал нескольких человек, у кого еще были лошади, и выехал на поиски «бумаги великой надежды». Искали долго, много дней. Обыскали все окрестные леса и перелески, пески и ковыльные степи. Обшаривали каждый куст, словно хотели спугнуть из-под него зайца. Каждого встречного, будь то заведомый вор или бродяга, обыскивали, видя в любом путнике возможного похитителя грамоты. Иного сгоряча и плетью огреют по спине, — не запирайся, коли украл!
Но грамота сгинула.
Загоревшийся было упованием на то, что найдет «бумагу великой надежды» и обрадует народ, Маман въезжал в свой аул опечаленным, бросив поводья, с опущенной головой. Напрасно, оказывается, колесил он по далеким краям!
Только что проснувшиеся сироты, заслышав топот коней, высыпали на улицу в опасении, что конники едут за ними по следам какой-нибудь кражи. Но, увидев, что это тихо и мирно возвращаются свои, убрались в лачугу, посмеиваясь. Внутри их убогое жилище было завалено добротными кошмами, коврами, полосатыми домоткаными паласами.
Маман, удивленный, остановился на пороге.
Говорим: народ разорен, а вы, оказывается, разбогатели?!
Все молчали.
Если бы вместо этого добра вы достали бы оружие да коней, могли бы хоть народ защищать!
Кейлимжай, украдкой глянув на Аманлыка, подмигнул ему одним глазом: что это, мол, он такое говорит? Аманлык пожал плечами.
— Садитесь, джигиты, давайте поделимся тайнами, потолкуем, как нам раздобыть коней.
Мгновенно кошмы и паласы были расстелены, и сироты расселись вокруг Мамана.
* * *
Прослышавшие о неугодных хану добрых отношениях табынов и кереев с каракалпаками, люди его, проезжая владениями Айгара и Седета, походя, разбойничали: чего не возьмут, то вверх дном перевернут. Уцелел только тот скот, который находился на дальних зимовках. И все-таки оба бия не порывали братской дружбы с каракалпаками, помогали, сколько было возможности, и скотом. Эта помощь спасала многих от голодной смерти, воодушевляла людей в их, казалось бы, безнадежном положении.
Все же разорение есть разорение. До самого лета занимались табыны и кереи восстановлением того, что было разрушено или разграблено. Некоторые аулы уже перекочевывали с зимовок на летние пастбища. Все эти дела и заботы на время ослабили связь казахов с бедствующими соседями. Да еще головы у людей были забиты темными слухами и постоянными набегами конокрадов, необычайно участившимися с приходом тепла.
Стоит косяку с неопытными табунщиками хоть немного приотстать от других, и табунщики исчезают, и кони точно сквозь землю проваливаются. Частенько стали люди жаловаться, что только табунщик ночью вздремнет на минутку в седле, как откуда ни возьмись появляется разбойник, прыгает на самого лучшего скакуна и — поминай как звали! А если за ним погнаться, то сообщники его целой кучей вылезают, как муравьи, из-под земли, попрыгают на других коней и исчезнут. Так теперь табунщики уже не гонятся за одной-двумя лошадками, — лишь бы воры не забрали остальных, — а с гиком и топотом гонят косяк к аулу и пасут его где-нибудь поблизости.
Да кто же они, грабители? И чабаны, и пастухи, и табунщики в один голос отвечают: каракалпаки! И только Айгара-бий и Седет-керей не верят: «Не может быть!»
Однако воровство не прекращалось, ему, казалось, не будет и конца. Люди роптали все громче. Седет-керей собрался было съездить пристыдить каракалпакских биев, но решил сначала посоветоваться с Айгара-бием.
Гостеприимный Айгара по своему обыкновению вышел навстречу гостю и, приняв поводья лошади, по нахмуренным лицам молодого бия и его спутников сразу понял, с какой обидой они приехали. Но сам он разговора не начинал, — хорошо ли, когда «плачущего встречает рыдающий»? Ведь это значило бы поднять голоса двух родов против каракалпаков. Седет-керей также был человеком сдержанным, и они долго сидели в юрте, как обычно, непринужденно беседуя о том о сем. Молодой бий шутил со своим ровесником Мырзабеком, острил, словно бы пытался рассеять гнев, черной тучей нависший над сидящими.
Айгара-бий свернул разговор на Абулхаира:
— Он, оказывается, только крупного рогатого скота угнал у каракалпаков более двадцати тысяч голов. — Айгара удивленно прищелкнул языком. — И зачем он все это затеял?! Жили мы тихо, мирно, всего нам хватало.
— Хан-то наш мечется, как на горячих углях, — заметил Седет-керей. — А вот кто протянет ему руку помощи, когда прожжет себе пятки до костей? — И молодой бий замолчал, приглаживая буйные кудри, упорно выбивавшиеся из-под лисьего малахая, и уставившись узкими глазами на пиалу с черным чаем.
Мырзабек не дыша прислушивался к мудрым речам биев, стараясь перенять у них искусство красноречия.
Молчание нарушил джигит, который вошел с улицы и доложил, что поймали двух воров, которые угнать лошадей пытались. Заранее зная, кем окажутся воры, Айгара-бий распорядился посадить их в землянку и сторожить хорошенько.
— Каракалпаки? — не выдержал один из спутников Седета.
— Ну а кто же еще? — ответил джигит, и Айгара-бий с досадой поморщился.
— На днях мы уже двух таких парней отпустили. А что им, беднягам, делать? Стараются, как борзые псы, схватить эту коварную жизнь — лисицу. Да разве ее догонишь? Не дастся она им, Седет, нет, не дастся! Говорят, их старшины разрешили сиротам грабить встречного-поперечного — лишь бы добыть себе коня. Мудрый Маман-бий будто бы сам приказал.
— Ну, а коли так… — начал было Седет-керей, но Айгара-бий прервал:
— Зачем они грабят нас, хочешь спросить? Утка с перепугу и вперед, и назад ныряет. А что им еще делать? Они хотят сколотить себе войско, собрать народ, защищаться от Абулхаира. ан и сами остались без головы! Какой-то пострел Есенгельды убил почтенного Гаип-хана. Не дальнего ума был человек Гаип-хан, да ведь все-таки хан, народу голова. А теперь вот Есенгельды со своим родом откололся, увел сородичей за собой. Светик мой, Седет, хорошо, что ты приехал! Говорят, что мудрый их бий Маман вернулся из посольства ограбленный и оскорбленный. Говорят, Абулхаир отобрал у послов царскую грамоту, самого Мамана в степи еле живым отыскали. А мы до сих пор не собрались его навестить. Знаешь, ведь когда человек растерян, ему и лужица морем кажется. Головорезы из Малого жуза каракалпаков разорили, а они думают, что все казахи им враги. Разве босоногие сироты разберутся, кто та-бын, кто керей, кто адай? Все, мол, они под рукой Абулхаир-хана, — и давай их грабить! Поедем-ка мы с тобой к ним вместе, потолкуем, узнаем, кто прав, кто виноват. Коли что, так и дадим им по десять — пятнадцать лошадей, не обеднеем!
Доброта Айгара-бия, широта его души покоряли сердца, — все согласно закивали головами. Седет-керей готов был тут же просить, чтобы пойманных парней отпустили. Читая мысли гостя по его увлажнившимся глазам, Айгара-бий велел немедленно привести воров.
Ввели двух ребят в лохмотьях со скрученными за спиной худыми руками, на которых отчетливо вспухли синие жилы. Уши у парней, огромные как лопухи, торчали врозь на непомерно больших головах, глаза заплыли от побоев, костлявые, до черноты грязные ноги еле переступают. Одному лет восемнадцать, другому не более тринадцати. Видимо, младший изнемог от голода, уткнул свою лохматую голову в плечо старшего и стоял, опустив глаза.
— Зачем воровали? — не вытерпел по молодости Седет-керей, и, хотя он нарушил обычай, заговорив прежде старшего, Айгара-бий не посчитал это за невежество.
— Да, да, говорите. Коней нам нужно.
Мужественная прямота парня, который и не пытался запираться, понравилась казахским биям.
— Как тебя зовут, старший вор?
— Кейлемжай меня зовут. Мы не воры. Мы у вас потихоньку берем только то, что вы у нас силой отобрали.
Вии переглянулись.
— Каждого из ребят посадите на коня, — приказал Айгара-бий табунщику, подпиравшему притолоку в дверях. — Кейлимжай, передай своему аулу, что на следующей неделе мы приедем приветствовать почтенного Мурат-шейха.
Кейлимжай, не веря своим ушам, с опаской смотрел на Айгара-бия, вытянув тонкую шею, как курица, которая с испугом глядит на ящерицу, оказавшуюся на месте червяка. А младший паренек расцвел счастливой улыбкой, как подсолнух на солнце.
Их вывели.
* * *
Призыв Мамана любым способом добывать себе коней, брошенный в памятное утро встречи с сиротами в их заваленной краденым добром лачуге, созрел не сразу. Лишь после долгого, мучительного раздумья о судьбе своего разоренного народа пришел он к мысли о том, что сын каракалпака не хуже всякого другого и что грабителей надо грабить, преследуя на их же собственной земле. Пусть убедятся, что любой народ способен постоять за себя. Его горестные и гневные слова воодушевили сирот окрыляющей силой.
Только разрешите, каждый добудет коня, чтобы сесть! — радостно воскликнул Кейлимжай.
— Добудем! Добудем! — дружно загалдели сироты. Даже Аманлык, который строго наказывал им не воровать и не грабить, не трогать чужого добра, засиял улыбкой, утвердительно кивая на каждое слово Мамана.
— Верю и радуюсь одному, — сказал Маман вдохновенно, — что, забирая коней, не будете расспрашивать, чей перед вами род, какое племя: кто какого рода-племени — важно знать при сватовстве. А воровство — не сватовство. Одно должны вы помнить, что все мы потомки тех, кто надел на голову черную шапку скорби.
Эти слова легли на сердце нищим сиротам. Натерпелись они от спесивых баев насмешек да побоев за то, что не знали своих родовых имен. Бродя по домам, прося подаяния, хватаясь за любую черную работу, сироты все покорно сносили, да ничего не забывали.
— Верно говорите, бий-ага. Хоть и рваная на нас шапка, но обида и месть живут в душе!
Маман-бий понимал, что те, у кого уцелело хоть немного скота и домашнего скарба, только и думали теперь о том, чтобы охорашивать свой двор, ходить за скотиной. В лучшем случае рискнут они разбросать тюбетейку семян по крохотному клочку землицы возле арыка и будут терпеливо поливать его вручную. На этих людей он не мог положиться в борьбе. Другое дело сироты. Свободные как ветер, они бродят по аулам, приглядываются и чутко прислушиваются и к доброму слову, и к пустой болтовне. Все крепче убеждался Маман, что не тот много знает, кто много прожил, а тот, кто много видел.
Сидя вместе с ребятами за сиротским дастарханом, Маман с открытым сердцем говорил о бедах, что грозят народу, расхваливал чудеса, виденные в Петербурге и на обратном пути. Ребята слушали его разинув рты, затаив дыхание.
Между прочим рассказал он им о каменной Петропавловской крепости, намекнув, что и каракалпакам не мешало бы иметь такую крепость, куда можно было бы сажать своекорыстных воров и изменников, кто не держит своего слова, не помнит долга перед народом. И ребята испуганно притихли: уж не собирается ли сам Маман построить такой острог где-нибудь на окраине Жанакента либо в той пещере, где содержали Кузьму Бородина и его товарищей?
— Страшно, а? — усмехнувшись, спросил Маман, разгадавший ребячьи мысли.
Те только робко заулыбались в ответ. Больше Маман об этом не заговаривал, — хорошо, что у ребят появилась хоть какая-то острастка! На слово Мамана они откликались то удивлением, то восторгом, то бурными возгласами, и каждое — было для них свято. Они порешили не трогать понапрасну ни единой соринки на родной земле, коней красть только в самых отдаленных краях. А если в погоне за лошадьми попадется им и какая другая добыча — все будут раздавать голодающим многодетным семьям.
Однако, когда на следующий день Маман пошел посоветоваться с Мурат-шейхом, тот весьма усомнился в правильности поведения молодого бия. Особенно смущало старца то, что Маман сам подталкивал сирот к воровству.
— Другого выхода нет, отец наш! — заверял Маман. — В этом лисьем мире обманом выживает только тот, кто сам становится волком.
Шейх внутренне не соглашался с Маманом, но спорить не стал, и оказалось, что кража лошадей была как бы узаконена.
Чтобы при безвластии, воцарившемся после набегов Абулхаира, разграбленные каракалпаки не разбрелись в разные стороны, Маман, с благословения шейха, собрал старшин помоложе, вроде Хелует-тархана или Есим-бия, и в тот же час разослал их по родным аулам разведать, кто из аксакалов жив, кто мертв, и на место погибших биев ставить их сыновей, у кого они имеются, а буде сына нет — того, кого народ пожелает.
На место без вести пропавшего Рыскула поставили сына его Турекула, на место Суюндыка — младшего брата его Шамурата, наказав людям слушаться почтенных биев. Некоторые аулы рода ктай перекочевали, оказывается, в верховья Сырдарьи, иные, под предводительством Есенгельды, подались к Хорезму, но большинство каракалпаков оказалось в своих аулах. И над ними поставили новых аксакалов. Вместо Давлетбая до совершеннолетия его сына Курбанбая, благословили править его жену Шарипу — женщину средних лет, большого ума и доброго сердца. А люди из рода кенегес сами попросили сына Нуралы-бия Тохта-пулата. Самыми дружными и согласными оказались табаклинцы. Ровно половину их перебили во время набегов Абулхаира, но оставшиеся пятнадцать семей неколебимо стояли на своей земле, ни одна из них не тронулась с места. Старшины рода заверили, что не разорвут нерушимую цепь единства, которая извечно тянется от дедов и прадедов, и потребовали, чтобы на место погибшего Юсуп-бия объявили правителем его грудного сына Мамана. Вместо без вести пропавшего главы рода ябы Алибек-бия, по слову Мамана, был объявлен бием Аманлык.
А набеги, борьба за коней разгорались все пуще. Теперь они уже не были случайными одиночными вылазками, — сиротами руководили вновь назначенные старшины, иной раз и сам Маман во главе двух-трех надежных джигитов выезжал на разбой к отдаленным аулам Среднего жуза. И все-таки конница сколачивалась очень медленно. В степях и без каракалпаков хватало воров и грабителей. Иной раз и сироты, с риском для жизни похитившие коней, домой возвращались с пустыми руками. Более сильные шайки конокрадов нападали на них и все дочиста отбирали. Да хорошо еще, когда приходили не искалеченные, случалось, что избивали налетчиков до смерти. Но это не останавливало джигитов. Крылатое слово Мамана: «Чтобы выжить в лисьем мире, надо быть волком», — стало боевым кличем сирот. Никто не хотел оказаться курицей в зубах лисы.
Пришел конец мертвому затишью, наступившему после нашествия Абулхаира. В аулах поднялись шумные споры, но, если кто слышал речи спорщиков со стороны, казалось, будто они не ссорятся между собой, а держат совет, беседуют по душам…
Однажды, когда усталый после неудачного набега Маман возвращался восвояси ни с чем, кто-то прервал его невеселые думы радостным криком: — Маман-ага, гей, Маман-ага!
Навстречу ему выезжал Кейлимжай на сером в яблоках справном коне, занузданном как положено: и седло, и потник — все на месте… А рядом — Борибай, тоже на добром, хотя, видать, и старом гнедом.
Усталость с Мамана точно ветром сдуло. Поздравляю!
— А говорят, я слабый, Маман-ага! А я вот назло всем и взял себе в подручные «богатыря» Борибая. И по правде сказать, хотя и зовут этого героя «бори»- волк, а не он, я, его брат и друг, оказался волком. Одним ударом свалил с коней двух здоровенных казахских джигитов, связал их, а коней — вот — забрал! Ну, кто я после этого, Алпамыс или Коблан-батыр?[3]
— Алпамыс! — смеясь откликнулся Маман.
— Вот, Борибай, говорил я тебе, что у меня сила Алпамыса! — поддразнил Кейлимжай, наезжая грудью коня на смирного гнедого с весело хохочущим мальчишкой в седле.
Маман понимал, конечно, что Кейлимжай шутит, но надо было — разузнать, что произошло на самом деле.
— Аида, Алпамыс, поглядим, что за тулпар достался Бектемиру, говорят, он тоже теперь на коне.
— Поехали! — весело крикнул Кейлимжай и, слегка подхлестнув коня товарища, пропустил его вперед. — Скажу уж вам правду, Маман-ага! Айгара-бий, оказывается, человек большого сердца. Нас ведь его джигиты поймали. А он не только домой отпустил, но и на коней посадил.
— Эх, кабы все казахи были такие!
* * *
Аманлык объявлен бием целого аула рода ябы.
Аманлык-бий! Невероятно! Все удивлены, да и ему самому не верится, что он, безродный сирота, вчера еще ходивший по миру с сумой, сегодня — важный бий, разъезжает на коне по своему аулу! Он не решался даже поделиться своей радостью с Акбидай. Может, ему все это снится? Мысли, одна другой причудливее, теснятся у него в голове. Он лежит на спине, как мальчишка в поле, жуя травинку и следя через дымовое отверстие лачуги за текущими в вышине облаками.
Заметив необычное настроение мужа, Акбидай не знала, радоваться или грустить. Приподняв голову, глянула на Аманлыка: во рту стебелек травы, рассеянная улыбка на устах.
Бек мой, может, получили весточку от золовки? — робко спросила она.
Аманлык раз и навсегда запретил ей называть даже имя Алмагуль, а она вот не выдержала: уж очень соскучилась! Ведь золовка была ее единственной подружкой. Бывало, скажет «кише»- сношенька, да так нежно и мило, будто говорит «мамочка», и у Акбидай сердце замирает от радости. Аманлык уйдет надолго из дому, останутся они вдвоем и воркуют как голубки, мечтая о всяких небылицах. Моют друг другу волосы, косички плетут, и зеркала не надо — одна другой любуются. А ведь у Акбидай день и ночь сердце кровоточит. Как вспомнит о том, что с ней было в плену, — впору повеситься. Да вот мучается, а умереть никак не решится: то ли жизнь все еще кажется сладка, то ли жаль Аманлыка и его верную любовь.
«К меду всегда горечь подмешана, к радости — слезы, — говаривал ей Аманлык. — Кто любил розу, тому и шипы нипочем». Так-то оно так, да все сердце ищет сочувствия. Золовка была годами молода, а умом… Акбидай не раз про себя дивилась: «Уж не вещая ли старуха передо мной в девичьем обличье?» Столько горечи у Акбидай в сердце накопилось, думает, думает, пальцы кусает, а поделиться не с кем. Худеть стала, вянет, как срезанная трава, муку свою таит, мужу виду не подает. Аманлык видит, что жена день ото дня тает, а помочь ей не может. Только старается ничем ее не обидеть: если лежит, не скажет «встань!», если встанет, не скажет «садись». Только когда ночами плечо Аманлыка, на котором лежит голова жены, становится мокрым от слез, он свободной рукой молча гладит ее шелковые волосы…
Вопрос жены нарушил его блаженное забытье. Он вскочил и выплюнул травинку изо рта.
— Нет вестей, женушка!
Акбидай вздрогнула, увидев, как омрачилось лицо мужа: ведь он запретил ей говорить о ране своего сердца. Что же ему, бедному, делать с такой женой — только ахать над ней да слезы ей утирать! Но на этот раз он и не заметил ее испуга, а начал обстоятельно, неторопливо рассказывать, как ему посчастливилось стать бием.
— Бий?! — хотя на губах Акбидай и показалась робкая улыбка, слезы градом хлынули из ее глаз. — Поздравляю, мой бек!
Как бы ни билась радость в сердце Аманлыка, все же было оно полно горечи. Ведь никогда уже не увидит его счастья единственная сестра Алмагуль. Снова и снова встает перед ним ее милый облик — и радость его сменяется отчаянием. Лишь бы не заметила, не распознала этого Акбидай, — и так слабенькая, она совсем измучается, если он выдаст ей свое горе!.. Не хотелось ему выходить на люди, смотреть на солнце — в яростные глаза бога. Аманлык лег и до вечера лежал, свернувшись клубком, словно голодная собака, проглотившая иголку. Акбидай же заговорить с ним, спросить, о чем он горюет, не смела. Но в конце концов все же решилась высказать свою догадку.
— Бек мой, у отца моего было такое присловье: подушка, которую джигит кладет себе под бок, стена, на которую опирается спиной, седло, на коем сидит конный, — все это его жена. Она — слава джигита, и она же — его позор. Жена не только женщина, верная ему до могилы, она и неприступная гора, его гордость. Беда, если вершина той неприступной горы обледенеет. Когда-нибудь лед растает — и вода хлынет к подножью, сметая все на своем пути. На твоей высокой горе уже давно копится лед, бек мой. Пусть с божьей помощью сбудутся все твои желания. Теперь, когда улыбнулось тебе счастье, возьми себе другую жену, я не буду в обиде.
Глаза Акбидай были сухи, но губы побелели как снег. Снова вспомнила она свой позор, который огнем жег ее сердце. Но Аманлык выслушал жену, не перебивая, а потом спокойно молвил:
— Зачем заставляешь меня снова вспоминать прошлое, супруга моя? Разве не наказывал я тебе раз и навсегда забыть о черных днях разлуки? Не печалься, не плачь. Я давным-давно примирился с горестной нашей долей.
Этот разговор еще крепче соединил супругов, они сплелись между собой неразрывно, как нити аркана. Как и всегда, они лежали в одной постели, их уста сливались, а руки обнимали и гладили волосы друг другу… И утро пришло с обычными заботами и по дому, и по хозяйству, и по добыче коней для джигитов — делу, которому бий Аманлык придавал особенно большое значение.
Когда утром Аманлык, привалившись к плечу жены, с наслаждением пил горячий чай, обливаясь потом и рассказывая, как ему удалось прошедшей ночью добыть коня Бектемиру, с улицы послышался голос Мамана.
— Аманлык-бий, ты дома?
— Дома, ага! — И, не вытерев даже пот со лба, он выскочил на улицу.
— Готовьтесь, будете гостей принимать!
— А когда скажете, ага?
— Долго мы думали с отцом нашим шейхом и решили принимать гостей у вас. В четверг прибудет Айгара-бий со своими людьми.
Накинув на голову белый платок, Акбидай выбежала из дома:
— Великий бий, сойдите с коня, выпейте хоть айрана в нашем доме.
Маман давно не видел Акбидай. Ему сразу бросилось в глаза ее похудевшее лицо, и, в упор посмотрев на Аманлыка, словно желая сказать: «А ты, оказывается, плохой, жестокий муж», он повернулся к Акбидай:
— Вынеси-ка айран лучше сюда. И она вынесла ему миску айрана.
Алмагуль пришла в себя, когда Абулгазы-хан уже давно ушел. Только теперь она поняла, что с ней произошло, и в отчаянии разрыдалась. Она так громко рыдала, что от ее плача, казалось, могли бы рухнуть эти проклятые стены, если бы не маленькая щелка-глазок: сквозь нее горестные стенания девушки дошли до евнуха, который подсматривал за ней в эту щелку.
Беззубый рот евнуха раскрылся, как корка лопнувшей дыни, и он тихонько захихикал. Стоило ему протянуть иссохшую ладонь, и он мог бы попытаться по-отечески утешить Алмагуль. Но он и этого не смеет, а лишь в растерянности поглаживает свое безобразное морщинистое лицо, горестно покачивая головой и заливаясь сочувственным смешком. Ему кажется, что хоть так он поможет девчонке, но она и не заметила даже по-птичьи чирикающего старика.
Она плакала, разметав свои черные волосы и царапая лицо, плакала, колотясь головой об пол, плакала, проклиная бухарского купца, обрекшего ее на эту муку, плакала, моля бога о прощении, плакала о том, что родилась на свет, плакала обо всем, что видела и знала и что было ей непонятно, плакала безутешно.
Евнух тихонько попятился от щелки, побежал на кухню и принес горячую куриную шурпу в желтой расписной миске.
— Госпожа, покушайте шурпы, поправитесь!
— Уйди! Убери! — крикнула Алмагуль, захлебываясь слезами.
Евнух поставил миску в изголовье на постели.
— Ладно, коли меня стыдишься, попей-ка одна. Не помня себя, Алмагуль схватила миску и швырнула ее вслед уходящему суфию. Миска грохнулась о дверь и вдребезги разбилась. Евнух испуганно оглянулся, опасливо подбирая полы бязевого халата.
— Ой, ой, что ты наделала! — в ужасе запищал он. — Дай бог, чтобы кто не услышал, чтобы хану не донесли! Я-то уж, бог с тобой, и словечком не обмолвлюсь!
Бубня и чирикая себе под нос, евнух тщательно собрал черепки в подол халата и ничком бросился на ковер, завидев лужицу шурпы, не успевшую в него впитаться.
— Ой, госпожа, ты пропала… — шелестел он, языком вылизывая ковер, — ой, и я пропал вместе с тобой… Обоим нам конец… иди и ты сюда, лизни хоть разочек… — причитал он, ползая на четвереньках и как кошка вылизывая мелкие капельки жирного варева. — Ну вот, теперь никто ничего не заметит. Сама только хану не проговорись!
Но девочка не слушала его. Три дня она крошки в рот не брала, еле удерживаясь от слез. А евнух все хлопотал вокруг нее, и так и этак пытался ее утихомирить.
Ты радоваться должна, госпожа. Ведь девушку, которая первую свою ночь провела с ханом, бог на веки веков избавляет от адского огня.
Он приходил каждый день и, стрекоча, как сорока, одно и то же, вдолбил ей наконец в голову эту спасительную мысль. Девочка поверила и понемножку начала успокаиваться. Стала есть. А через неделю ее выпустили в сад погулять. И, перешагнув порог своей темницы, дохнув свежим воздухом, она снова почувствовала себя погруженной в светлый, чудесный мир. Каждый день, выходя в сад, она присаживается под каким-нибудь тенистым деревом, озирается по сторонам, чутко прислушивается к шуму, доносящемуся из дворцовых хором. Порою ей слышится, будто придворные хана визжат и воют, словно голодные щенки, а вот сегодня молчат, будто все поумирали. Не понимает она, что там происходит. Но евнух тут как тут, ходит за ней по пятам, занимает разговорами.
Удивляешься, что сегодня так тихо? — лепечет он. — Ничего удивительного. Когда хана нет, и шума не бывает.
Оттого ли, что евнух так быстро угадывает ее мысли и так охотно на них отвечает, то ли оттого, что привыкла к старику, она слушает его чириканье, но сама не говорит ни слова.
В саду ее приметила одна из пожилых невольниц, помнившая еще времена старого Елбарыс-хана, и однажды, увидев, что евнуха нет поблизости, подошла к Алмагуль. Бледное личико неопытной, видать, девчонки возбудило в ней материнскую жалость.
— Ох, бедная ты моя сестренка! — опасливо озираясь по сторонам, заговорила она. — Зря ты мучаешься. Я вот пришла сюда еще при старом хане и всего насмотрелась. Если бы бог услышал жалобы ханских жен, давно спалил бы молнией этот проклятый дворец. А ты, девочка, молодая, красивая, живи и наслаждайся, угождай хану, пока ему не надоела. Да тем временем думай хорошенько, как устроить свою судьбу. А будешь строптивой да непокорной, горю не поможешь, остынет к тебе хан, и последней радости лишишься.
Этот совет помог Алмагуль скрепя сердце примириться со своей судьбой. «Уж если попала в дом хана, так что поделаешь? Видно, сам бог так устроил твою судьбу…»- мысленно повторяла она про себя слова той женщины и постепенно успокаивалась.
Теперь, когда хан приходит к ней, она не знает, как ему угодить, чем понравиться. Упадет перед ним, как сорвавшийся с неба цветок, и сияет улыбкой, показывая зубки, белые как лепестки ромашки. И, видимо, хан доволен. «Ну, как живешь, весело тебе, Майдабике?» — говорит он, осклабившись, показывая из-под косматых черных усов огромные желтые зубы, оскаленные, будто грызет орех.
Алмагуль позабыла о своем первом разговоре с ханом, думала, что он путает ее с какой-то другой наложницей, и однажды, когда он был особенно хорошо настроен, она осмелилась сказать: «А я не Майдабике, хан наш, я Алмагуль». Хан расхохотался: «Майдабике ты и есть! Ведь сказал я тебе, что там, где живут каракалпаки, яблони не растут. Забудь это глупое имя, не срами свой народ».
Как только хан придет, развалится на пуховой постели, вытянет свои длинные, как оглобли, мохнатые ноги, Алмагуль должна их растирать, потом хан приказывает растирать все его огромное тело. Алмагуль невольница, делает что велят, но какая радость хану от ее слабеньких детских пальчиков? Он лежит перед ней неподвижно, как мертвый, и мурлычет, как кот, пока не задремлет. А проснувшись, притягивает ее к себе за коротенькие косички, не слушая ее жалобного голоска: «Помилуйте же, оставьте…»
Однако день ото дня хан все реже стал появляться в комнате Алмагуль. А она все ждет по привычке: вот-вот тихонько откроется дверь… Что же случилось?
Однажды она снова встретила в саду ту старую женщину, которая давала ей советы. Они поздоровались, расспросили друг друга о здоровье, как полагается, и девочка открыла ей свою тревогу.
— Значит, еще одну бедняжку привели, — сказала невольница.
— А что будет со мной?
— Он приходит еще хоть изредка, любит тебя? Не подарил тебе прялку?
— Приходит иногда, видимо, любит. Прялки мне не давал.
— Ну, коли так, позаботься о себе, сестренка, пока не поздно. Я-то смолоду глупа была, обманул меня Ел-барыс-хан, и этот — вылитый отец. Как он меня обманул? А вот как. Надоела я, видно, ему, и он хотел отдать меня кому-то из придворных. Здесь так делается. Отдают женщину, как объедки с ханского стола. Ну, а я заупрямилась. Я, мол, до конца дней буду его одного любить. Ладно, — хан согласился, оставил меня у себя. Да с тех пор ни разу ко мне и не пожаловал. Я уж волосы на себе рвала, на мужчин и посмотреть не смела. Видела и знала одно — прялку да хлопок.
Если случится, что хан скажет тебе: «Отдам, мол, тебя кому-нибудь», ты ему не перечь: «Ваша воля!» Чем считаться женой хана в неволе, лучше с бродягой в загоне спать.
«От души она со мной говорила или зло на меня замыслила?» Алмагуль так и не могла понять, а посоветоваться не с кем. На всякий случай решила она попытать хана и, когда пришел к ней, сказала:
— Редко я вижу вас, хан наш, скучаю. Хан рассмеялся, рыча как охрипший пес:
— Скучаешь по мужчине — отдам тебя кому-нибудь.
Алмагуль вспомнила совет старой невольницы, но ни «да», ни «нет» сказать не посмела.
Ты миленькая, нежная, как котенок в шелковой шерстке, вот я тебя и жалею. А заходить к тебе буду пока что, — и по-прежнему раздел ее, приказал:- Растирай!.. Или тебе самой хочется уйти? Тогда есть у меня для тебя один конюх. Из одного с тобой гнезда птица — каракалпак. Ему, что ли, отдать?
В сердце девушки будто сверкнула искра надежды, и она осмелела:
— Ваша воля, наш хан: то ли скажете «брысь», то ли в кладовку запрете!
Оттого ли, что не слышал от других наложниц такого дерзкого слова, то ли пожалел отдать другому эту умненькую девочку, только он уложил ее к себе в постель.
— Пока у меня побудешь.
На теплую искорку, затлевшую в сердце Алмагуль, словно холодной водой плеснули, и она тихонько заплакала.
После этого хан долго не появлялся. Прошел месяц, другой. Евнух, подумав, что девушка соскучилась, ее успокаивал:
— Не тужи, госпожа, хан уехал чужие народы покорять.
— «Покорять»? Да разве у него мало народу?
— Ой, смешная госпожа, ой, смешная! — запищал евнух и давай кувыркаться перед ней.
Он то перекатывался через голову, то, засучив шаровары, взбрыкивая, скакал по комнате, словно теленок, выпущенный на волю. Алмагуль ничего не понимала, но смеялась от всей души, в первый раз она так смеялась. С тех пор, чтобы ее развеселить, евнух не входит в комнату важно, медленным шагом, как входил прежде, а влетает, кувыркаясь, словно перекати-поле, гонимое ветром. Каждый раз придумает что-нибудь новенькое: то прыгает, будто стреноженный ишак, то скачет бочком, по-сорочьи. Но вскоре его фокусы Алмагуль надоели, и она перестала смеяться. Ее мысли теперь были заняты поисками того каракалпака, о котором говорил хан. Она спросила у старой невольницы, не слыхала ли она о таком человеке, — нет, она его не знала.
Я ведь такая же хозяйская кобылка, как и ты, кручусь вокруг своего колышка, — сказала она.
Теперь новая мука одолевала Алмагуль. Она как бы воочию видела перед собой Аманлыка и Акбидай, вспоминала каждый их вздох и каждое слово. Они снились ей ночами, и она плакала во сне, прося их взять ее к себе, а наутро вставала с опухшими от слез глазами. Иногда собственные горести заставляли ее забывать о них, но стоило хану уехать — и каждый раз, когда открывалась дверь, она мысленно видела входящего к ней брата. Но брат неизменно превращался в старого евнуха, и ей становилось тошно от его присутствия.
Сколько дней прошло, сколько зим, она потеряла счет. В саду она садилась под яблоней и, прислонившись к ее шершавому стволу, с тихой горечью напевала:
Перед домом твоим я слезами обрызгаю пыль, Я косой своей черной порог у тебя подмету. Приходи же за мной, коль меня не забыл, — Брат, щитом вражьи стрелы за тебя я приму.Птицы, гнездившиеся в саду, слетались к девушке со всех сторон и, усевшись на ветвях яблони, хором подпевали ей на своем птичьем языке: «брат, брат, брат». Соревнуясь с соловьями, свистели скворцы, щебетали ласточки. От печального их трепета осыпались цветы яблони. Вдруг прилетела откуда-то желтогрудая птичка и стала прыгать на ветке, словно желая обратить на себя внимание Алмагуль. Та с бьющимся сердцем вскочила. Такие птички появляются в Туркестане только весной. Она не раз видела желтогрудую птичку на могучем дубе Оразана за аулом ябы, тогда она так же, как сейчас, перепархивала с одной ветки на другую. Девушка удивилась: почему никогда не замечала этой птички в ханском саду? Откуда она сюда прилетела? Алмагуль хотела поймать птичку, но та взлетела на самую верхушку дерева. В сказках сказывали, будто люди в разлуке посылают друг другу письма, пристроив их под крылом птицы. И ей мнилось, будто эта птичка принесла желанную весточку из Туркестана. А та чирикает по-своему, словно и вправду что-то доброе обещает. — Не разберу, миленькая, спой поближе!
Птичка, казалось, и впрямь поняла Алмагуль, стала спускаться, перепрыгивая с ветки на ветку. Молитвенно сложив руки, девушка просила:
Передай от меня привет родному Туркестану, дорогая, брату моему единственному и снохе передай. Почтенному шейху нашему привет, большому бию Маману, опоре и заступнику брата моего…
Кто-то вспугнул птичку, она — пыр-р-р — и взлетела. Алмагуль многое еще хотелось сказать и, вглядываясь в небесную синеву, она долго ждала, не вернется ли птичка, но глаза у девушки устали, шея заныла, а летунья больше не вернулась.
Алмагуль нехотя поднялась и увидела над забором желтую, как тыква, островерхую шапку, словно поднятую на палке.
Госпожа, узнал по голосу, ты ведь каракалпачка? — раздался тихий голос из-под шапки.
Испуганно оглянувшись — кабы кто не услышал, — Алмагуль спросила:
— Вы кто такой?
— Я каракалпак.
— А как сюда попали?
— Я ханский конюх.
— Почему не показываетесь?
— Ростом я не вышел, а тебя вижу через щель в заборе. Ты молодая, красивая. Если хочешь меня увидеть, подойди к забору.
Алмагуль еще раз огляделась кругом и, крадучись, подошла к забору. Сквозь щель она смутно различила худого человека с бесцветными глазами, впалыми щеками и седеющей бородой. Но он почему-то, вместо того чтобы поговорить с ней, вдруг повернулся и пошел прочь. С недоумением она оглянулась и увидела бегущего к ней евнуха.
— Госпожа, довольно гулять, сегодня хана ожидаем. — И он быстро повел ее за руку в дом.
Алмагуль чему-то обрадовалась. Чему? Сама не понимает. Тому ли, что послала на родину привет с желтогрудой птичкой, тому ли, что наконец увидела конюха-каракалпака. А может быть, возвращение хана ее развеселило? Какая ни есть, а все-таки радость…
16
Вместе с Айгара-бием и Седет-кереем приехал в аул Мурат-шейх и еще один почтенный гость, бий из воинственного рода адай.
Два племени, кои на берегах одной реки живут, что две полы одной шубы: если полы не сходятся, шуба не греет. А холодная шуба кому нужна? Коли из одной реки воду пьете, зла друг на друга не держите. Дети одного отца из одной чашки едят.
Такие речи вели между собой именитые казахские и каракалпакские бии в бедной мазанке Аманлыка. Сваты заодно показывали Айгара-бию семью зятя. А что не было у молодых пышного убранства и богатого дастархана, приезжих не смутило. Гости уехали довольные, одобрили решение каракалпакских вожаков собрать свое войско.
— Ладно задумали, — сказал Айгара-бий. — В наше лихое время надо быть с такими кулаками, чтобы недруги тебя боялись.
И подарил, отъезжая, каракалпакам трех добрых коней. Не отстали от него и адайский бий, и Седет-ке-рей — по паре лошадей посулили.
С этого дня строго-настрого наказали старшие джигитам: помните — не всякий казах нам враг! Увидишь вблизи аула адая или керея плачущего ребенка — слезы ему утри; увидишь голодную скотину — не поленись, накорми.
По-прежнему, выезжая на двухдневное расстояние от аула, грабили каракалпакские джигиты конных и пеших. А кто по хилости своей разбойничать не смог, тот ходил с протянутой рукой, просил не ради своего только брюха, а для прокормления сородичей.
Со дня на день сила повстанцев росла. Уже отборные храбрецы под водительством Мамана ходили в набеги на чужедальние аулы верхами…
Вот, поднимая тучи пыли, веселые, едут они с добычей, ведут в поводу пару незаседланных коней, гонят полдюжины коров, везут, держа перед собой на седлах, краденых овец.
— Глядите-ка! Во-он там, вдалеке, двое едут! Добыча! — крикнул один джигит.
Маман, щурясь, глянул из-под ладони:
— Едут! Кони, видно, тяжело груженные. Не убегут. Аманлык-бий, скачи!
Аманлык с подручными рванул с места в сторону, остальные как ни в чем не бывало ехали своим путем. Эхом раскатываясь над бескрайним простором, грохнул выстрел, и один из парней Аманлыка рухнул наземь, вместе с лошадью. Маман мгновенно повернул коня:
— Налетай!
Джигиты ринулись на незнакомцев, на скаку сбрасывая с седел овец. Но на расстоянии выстрела всадники сбавляли ход и начинали обтекать пришельцев стороной, опасливо озираясь на ружейное дуло в руках старшего всадника, оно настойчиво искало грудь Мамана. А тот ведет себе людей, зовет, размахивая руками: вперед, вперед! Теперь уже оба путника взяли ружья на изготовку, и оба ствола точно нацелены в Мамана, но не стреляют: видно, хотят подпустить поближе.
— Ни с места! Еще шаг — застрелю! — зычный окрик остановил Мамана: голос знакомый, слов не разобрать, а кричит не то по-каракалпакски, не то по-русски.
— Бородин-ага?!
— Маман?!
— С коней долой, джигиты! — Маман спрыгнул наземь и сломя голову кинулся к Бородину. Чудеса, да и только! Длиннобородый русский и Маман обнимаются, колотят друг друга по спине, по плечам, смеются.
— Ишь какой стал, заматерел, чистый волк! А я уж и вправду подумал, что ты волком стал. Куда путь держишь?
— Лис гоняем, Бородин-ага!
— Гоже, тоже! Так ведь хвост-то у лисы хоть и длинный, а не просто ее поймать. — Бородин с улыбкой глянул на джигита, который, малое время полежав на земле, за тушей своего коня, теперь смело приближался, отряхивая колени от пыли. — Ну, хитер, парень! Под дождь не сунется, а разведреет — он тут как тут! Не бойся, я ведь только в лошадь твою стрельнул!
Джигиты дружно хохотали.
— А ну-ка, Маман-бий, веди нас в свой аул, да кони-то наши притомились, вели их разгрузить маленько.
Маман велел джигиту заседлать вместо павшего коня свободного, а сам бросился снимать поклажу, но не тут-то было — даже пошевелить ее не смог! Бородин засмеялся.
— Тяжеленько, говоришь? — А что это такое, ага?
Подарочек вам небольшой.
Развьючили коней, развернули кошмы. В одной были кузнечные мехи, а в других — ружья, пули, порох. Маман прикинул на глаз: сколько бы это могло стоить?
— За этот подарок поди всю жизнь не рассчитаемся?
Безвозмездно даем, дарим. Хоть и немало слез пролито из-за таких подарочков, да все же решили вам привезти. Слышно, сынок, народ ваш вконец разорился?
Не помня себя от радости, Маман ударился Бородину в ноги.
Ну-ну, — глупостей-то не делай! — Бородин силком поднял Мамана. — Не для того чтобы вы оземь челом били, мы все это везли. Распакуй-ка лучше узелок да раздай ружья джигитам.
Джигиты хоть выстрелы и слыхали, но ружья в руках никто не держал. По очереди, бережно беря в руки оружие, они прикладывались к нему лбом и, целясь в небо, — как бы не стрельнуло невзначай, — с упоением щелкали курками.
— Маман, — сказал Кузьма Бородин и кивнул в сторону стоящего с ним рядом молодого русского парня, — это Владимир, или не признал? Он теперь у нас кузнец.
— Ох, ведь и впрямь ваш сынок? Уж больно на вас похож!
Владимир широко улыбнулся во все свое румяное лицо, — под солнцем блеснули белые как кипень зубы. Он охотно протянул Маману широкую ладонь.
Маман не раз похвалялся перед джигитами своими большими жилистыми руками, но, когда почувствовал каменное пожатие гостя, понял, что бывают руки и посильнее, чем у него самого. Оба крепко обнялись, и за Маманом пошли обниматься с приезжими и все джигиты.
Чтобы зря не томить в степи уставших с дороги гостей, Маман оставил пятерых джигитов гнать добытый скот, а сам с Бородиным поскакал к аулу. Дорогой Кузьма неспешно расспрашивал его о бедствиях минувшего года.
Немногословный, Маман раскрыл перед ним душу, как перед родным отцом. С горечью говорил он о том, как поехал со светлой надеждой своего народа в город Санкт-Петербург и как в его отсутствие разбрелся народ кто куда. И о том, как коварный Абулхаир-хан обманом полонил великого бия кунграда Рыскула, как потом пошел на каракалпаков военной силой, многих перебил, а других забрал в рабство, и по сию пору никто не знает, где они и что с ними. Хотя не раз ходили каракалпаки набегами на дальние аулы, но ничего толком не разузнали.
Бородин внимательно слушал, но сам, потупясь, молчал. А дав Маману высказать сердечную боль, внимательно глянул ему в глаза и посоветовал, как отец сыну, не рассказывать всем и каждому о былом худе, а больше думать о грядущем благе. Не то люди духом падут и руки опустят. Надо, чтобы джигиты не о прошлом горевали, а о будущем заботились, — тогда они и воевать будут лучше.
Похвалил Кузьма Мамана за то, что как истинный сын народа своего до самой столицы русских добрался и приема у царицы добился. И разговор Мамана с Бестужевым весьма одобрил. А потом объяснил, почему каракалпакам помощи от царицы нет: говорят, к войне она готовится, с турками вроде бы.
Так вот, сынок, ты мою помощь и прими теперь как помощь российской державы. А о пропавших без вести братьях своих не горюй. Как прослышит Абулхаир-хан, что пришла к вам помощь от русских, да почувствует вашу силу, он сам пленников по домам отпустит. Он, сынок, такой хан, сообразительный!
Маман всегда хвалил русскую царицу перед народом, а подмоги от нее не было и не было, у него все сердце изболелось и руки уже опускались. Теперь он воспрянул духом, словно опоясал его Кузьма Бородин стальным кушаком.
И с вечера того же дня поскакали по аулам глашатаи:
«Пришла помощь от русского царя! Пришел Кузьма Бородин, кузнеца привел, наука пришла!»
Вихрем понеслась эта весть от аула к аулу по всей широкой степи. Но следом за доброй вестью пополз и поганый слушок: «Пришел тот самый Кузьма Бородин, который сидел у нас в плену, теперь обманом весь род каракалпакский изведет».
Но благодетельный вихрь перегонял ползучий слушок и рассеивал туман клеветы и страха… Оказалось, что Бородины недаром везли с собой кузнечный мех. На следующий же день по приезде вместе с Маманом и Мурат-шейхом определили они место, где быть кузне. Сразу же вызвались помощники к Владимиру из местных ребят и приступили к делу.
Тут-то уверовал народ, что Маман и вправду ездил к русскому царю.
Объявилась у людей большая нужда в серпах и вилах, в лопатах и топорах, а пуще всего в подковах для лошадей. Владимир умел делать все, даже начал лить пули. И это убеждало джигитов, что войско Маманово — сила, шли к нему нукерами добровольцы.
Прослышав о делах Бородиных, прислал Айгара-бий своих джигитов учиться ратному делу, а наибольшим у них был брат его, удалой парень Мырзабек, прославленный своим искусством доставать врага издалека длинной плетью со свинцовым наконечником. Этому он и учил своих джигитов, понадобилось много свинцовых наконечников, и их делал Владимир умело и охотно.
Тем временем Кузьма Бородин собрался в отъезд: жена у него приболела да младшего сына Петра настала пора везти в ученики к корабелам. Прощаясь, сказал Кузьма, что оставляет вместо себя сына Владимира, а старшины аула решили породниться с русским аулом, послали вместе с Кузьмой расторопного юнца Борибая, чтобы стал он Кузьме за сына верным помощником во всех его делах. Борибай поехал с великой радостью, готовый служить доброму человеку, набираться у него ума да уменья.
Провожали Кузьму и Борибая с почетом, радостью и надеждой, как некогда Мамана в Петербург. На проводы вышли все — стар и мал, конный и пеший. Все было как тогда с посольством Мамана. И так же дул вслед отъезжающим теплый упругий весенний ветер, летели над ними птицы, светило солнце. Сам Мурат-шейх, в знак величайшей дружбы и уважения, далеко за аул вел под уздцы бородинского коня, а народ валом валил вслед.
Но Мамана и тут не покидала дума о будущих битвах. Опыт своих сородичей он хорошо усвоил: и как бить врага копьем и соилом, и как разить меткой стрелой и заманивать в засаду. Одному не могли научить его прославленные батыры — как сплотить нукеров в едином порыве, в готовности всем вместе стоять насмерть за родную землю. Это искусство ведомо было одному лишь Бородину, и Маман не хотел упустить последнюю возможность приобщиться к его тайне.
Улучив момент, он перенял от утомленного Мурат-шейха повод бородинского коня.
— Хорошо, что ты, Маман, парень дотошный и настойчивый, — сказал Кузьма, — но тайны тут никакой нет, надо внушать твоим бойцам думу о судьбе народа, веру в его счастливое будущее, да чтобы твердо запомнили: само оно не придет, его надо завоевывать в битвах. А там, сам знаешь, подушка воина — голова убитого врага, а кто оробеет, падет в бою бесславно — тот не мужчина.
— Бородин-ага, а как вы о царице Елизавете Петровне мыслите? — спросил Маман, осмелев.
— Не нам судить ее царское величество. Однако, по делам ее и приказам судя, думаю — женщина она толковая, да только истинных сынов российских не всегда светлым своим оком примечает. А жаль!
Вернувшись с проводов и часу не медля, собрал Маман своих нукеров и вместе с Мырзабеком приступил к воинскому ученью. Что там будет впереди, когда и с кем доведется схватиться, о том никто не думал. Воодушевленные невиданным дотоле оружием, увлеченные воинской хваткой Мырзабека, гордые своей силой, джигиты ходили веселые, смех и шутки вернулись в разоренный аул.
За строем пыливших по улице джигитов бежали стайки ребятишек, вслед им раздавались одобрительные возгласы старших:
— Вот это да!
— Вот что значит помощь белого царя!
17
Нет для старого человека большей беды, чем уход из жизни ровесников. С младшими поколениями обживаться приходится туго, жизнь становится все глуше, безрадостней, тяжелее. А годы нашествий унесли много испытанных друзей-собеседников Мурат-шейха. Эти люди знали ему цену, и он знал и видел их насквозь. Становился Мурат-шейх угрюмым и молчаливым. Если когда и встретит какого-нибудь уцелевшего старичка, пожалуется ему шепотом, потихоньку, чтобы не услышал кто из молодежи:
Только теперь я, братец, почуял, что до тех только пор и красна жизнь наша, широка, как неоглядная степь, пока живы сверстники наши. А уйдут они — и пусто становится в мире, душа ни к чему не лежит. Давно уж я слышу голоса ушедших, зовут меня ровесники к себе, на тот свет. — И скорбно качает дрожащей головой, увенчанной белоснежной чалмой.
Кому под силу дать совет самому мудрому шейху, утешить его в скорби! Старики почтительно слушают да молчат.
Приезд Бородина, простившего Маманову разоренному народу долгие муки своего плена и поспешившего на помощь, да еще с сыном, словно бы заново открыл мир перед Мурат-шейхом. После проводов Кузьмы уже другими глазами взглянул он на иноверцев, — в жизни старца затеплился какой-то новый огонек. Казалось, еще вчера собственная рубаха давила ему на плечи непомерной тяжестью, а нынче он распрямился, ходит бодро, как молодой.
— Милый ты мой! — твердит он каждому встречному. — Ну не истинный ли мудрец наш Маман! Сумел ведь разглядеть русского человека, доброго, скромного и могучего!
Как назвал однажды шейх Владимира: «Сынок, мастер Бектемир», так и стали его все величать в ауле «сынком, мастером Бектемиром».
А Владимир и впрямь оказался мастером, к тому же трудолюбивым и неутомимым. От зари до зари не смолкают в кузнице шипение, грохот и звон. Народ потянулся со своими нуждами в кузницу, как в свято место на поклонение. С утра до вечера не закрываются двери, люди приходят, уходят, только и слышно: «Спасибо, не уставать тебе, сынок, мастер Бектемир!», «Дай бог удачи!» А он, в зной и в стужу насквозь мокрый — некогда даже пот со лба утереть, — знай сверкает в улыбке белыми крупными зубами, словно играючи вертит и бьет тяжелую поковку.
Иной раз скажут ему: «Будь, сынок, мастер Бектемир, нашим зятем каракалпакским, любую красавицу выбирай — отдадим!»
А он в ответ: «Вот покажу, чего я в работе стою, тогда и будем невесту искать!»
Не устает повторять людям старый шейх: учитесь у русских кузнечному и воинскому делу и всякому ремеслу, а прежде всего — их упорству, выдержке, стойкости.
— А почему русский царь нам не помогает? — бойко спросит иной юнец.
— Царь, сынок, занят, — степенно отвечает шейх, — с турками сейчас русские воюют, а султан турецкий знаешь какой лютый!
У парнишки от страха бровки на лоб полезут, но детское любопытство берет верх, бежит за шейхом, не отстает от старших.
Понемножку налаживалась жизнь в аулах. Зерно, посеянное нукерами Мамана на берегу реки Куандарьи, дало богатый урожай. Стали жить посытнее.
Раны затягивались, беды забывались. Старейшины разрешили молодежи игры-веселье. Девушки и парни, встречавшиеся где-нибудь за аулом, потихоньку от старших, теперь открыто веселились у качелей, пели песни, смеялись. Как телята, спущенные с привязи, резвились на улице ребятишки.
И никто не предвидел печального конца этого веселья.
Однажды ночью разнеслась по аулам страшная весть: Владимир, с вечера приглашенный в юрту Мурат-шейха с ночевкой для приятной беседы, под утро исчез. Черной тучей нависло над народом новое горе. Маман в это время проводил воинские учения неподалеку от аула, — во все концы ринулись его всадники в степь.
К вечеру они настигли двух верховых на черных конях, которые волокли связанного Владимира. Но не успели джигиты их схватить, как они, заметив погоню, попрыгали наземь и навалились на пленника. Джигиты набросились на злодеев, скрутили их вместе одним поводом, но Владимир был уже мертв. Всмотревшись в лица убийц, джигиты узнали в них конокрадов, которые три года назад угнали скот из аула жалаиров, но нарвались в степи на Мамана, он объезжал округу по поручению своего отца Оразан-батыра. Пришлось им бежать, а добычу бросить.
Траурным шествием въехали джигиты в аул, везя на конях тело Владимира и волоча в пыли связанных головорезов.
Обезумевшая от горя и гнева толпа ринулась на убийц, и никто не мешал ей над ними расправляться: рвали уши, выкалывали глаза, резали ножами по живому телу, дробили суставы — они терпели все молча, пока в них не угасла жизнь, ни единым звуком не выдали тех, кто послал их на злодейство.
Горестно стонал, колотил себя кулаком в лоб, бился головой оземь Мурат-шейх, не знавший и мгновения покоя с того часа, как исчез его дорогой гость, теперь лежавший перед ним немо и недвижимо.
И как льдины во время весеннего паводка, громоздились вокруг него подозрения, они нарастали, сталкиваясь и крутясь, буйствуя, подобно вырвавшемуся из загона быку, и, казалось, готовы были ринуться и раздавить почтенного старца.
И с ранним весенним ветерком разнеслась наутро новая страшная весть: Мурат-шейх сам выколол себе глаза!
Ужас охватил людей. Почему он это сделал? Ни одна живая душа не знала. Даже родному сыну Хелуету, даже Маману не сказал об этом старик ни слова.
Маман-бий стиснул зубы в великом гневе на шейха, на Абулхаир-хана, на всех, — все на словах сулят добро, а приносят только зло, зло, зло! Не помня себя кликнул он клич джигитам, поднимая их в поход на Абулхаира.
Но, ощупывая посохом землю перед собой, прошел мимо Мамана бледный, как бы прозрачный, Мурат-шейх, будто бия тут и не было вовсе. Он обратился прямо к джигитам, и все услышали его слабый голос:
— Не осушив еще своих слез, хотите заставить других проливать слезы? Милые мои, разве это по-человечески? Чем вы оправдаете свое нападение на хана? Нет сегодня никакой трещины между нами и казахами, нет причины Малому жузу нападать на нас, а нам — на них. Со словом дружбы выходит к людям душа человека. Мы русским сказали: мы — вам друзья, и они — мы вам друзья — ответили. А с казахами ведь и вовсе из одной реки воду пьем. Исток у нас один и русло общее, — и начало, и конец наш едины. Если подумать хорошенько, то выйдет, что мы с казахами и верно две полы одной шубы, которую Абулхаир-хан носит. Вот и потерпите еще, не отступайтесь от дружбы: коли уж кто не вытерпит — в драку полезет, — пусть не мы в том будем повинны.
Джигиты дрогнули, смешались, воинственный пыл их остывал, и Маман призадумался над мудрым словом старого шейха.
«Судьба народа подобна своенравному течению Сырдарьи, — думал Маман. — И на железо она похожа, что корчится на наковальне под кувалдой могучего кузнеца: то плавится оно в огне, то шипит в холодной воде, то, не выдержав тяжких ударов молота, рассыпается искрами». Мир, еще вчера распахнутый перед Маманом настежь, сегодня словно бы замкнулся, непонятный в своем непостоянстве: жар смешался в нем с холодом, холод с жаром, — глаз не откроешь!
Маман посуровел, строже стал проверять охрану в аулах.
А время шло к лету, степь зацветала, горе стало смягчаться, по капле просачивалась в народ радость. Пошел слух, будто люди, без вести пропавшие в недавней войне, живы, сидят в плену у Абулхаира. А потом и сами они начали возвращаться, и лето стало летом, на небе сверкало нежданное солнце свободы, — живые шли по домам. Вернулся и Рыскул-бий, иссохший и желтый, словно осенний лист. Щеки у него обвисли, как дырявый мешок, из которого высыпалось просо, но характер остался прежний, духом не пал.
— Один ханский прихвостень сказал нам однажды: «За то, что вы сдружились с русскими, великий хан смилостивился, дарует вам свободу». Ну, какой дурак этому поверит? — толковал Рыскул-бий сородичам. — А по-моему, Абулхаир отпустил нас не из-за благоволения к нам — просто чего-то испугался. — И, услышав о приезде Бородина с оружием, заключил:- Ну да, боится стать подушкой для наших нукеров. Слыхал поди, что каракалпак в бою без вражьей головы вместо подушки умирать не ляжет.
Прежде немногословный, теперь бий стал разговорчивым. Без конца рассказывал о саблях, мечах, косе смерти, которые постоянно висели у него над головой, то и дело касаясь горла. Поведал Рыскул-бий и о печальной участи Юсуп-бия. Дюжие руки затолкали его в мешок и приволокли в ханскую ставку. А там настали для него такие черные дни, что никакими словами не выразить! Сажали его в мешок вместе с кошкой и били по мешку палками. Не раз падал он наземь под несчетными ударами плетей… Хан требовал от бия, чтобы шел он в набег на племя ябы, грабил, истреблял кенегесов, а Есенгельды поставил бы бием над родом ктай…
— Какая от этого выгода хану, спросите вы, — разъяснял Рыскул-бий. — А как же? Выгода большая! Хотел хан стравить нас между собой, чтобы мы били и разоряли друг друга, а когда мы выдохнемся, он делал бы с людьми что захочет. Я там многое понял. Недаром говорят: «В стане врага найди себе хоть одного друга». Служил у хана один джигит из рода табын. В ту ночь, как меня туда притащили, его поставили караулить, а он потихоньку шепнул мне о злых умыслах хана.
Повествуя историю своего плена, старик хвалил казахских парней, добрых, честных и милосердных. Когда Рыскул-бия по ханскому приказу морили голодом, караульные приносили ему вареное мясо в карманах («благослови их, господи!»). Джигит-табын однажды даже подготовил бию побег, но он представил себе, что из этого выйдет, и отказался.
— Зачем? — возбужденно галдели слушатели. — Надо было бежать!
— Смех одному — слезы другому, — пояснил Рыскул-бий. — Радуясь своей свободе, не хотел я оставить хорошего парня в слезах.
Биев, вернувшихся из плена, старейшины ставили на прежние места. Пришлось и Аманлыку уступить свою должность Алий-бию, а самому остаться простым нукером. Узнав, что в его отсутствие назначили бием его сына Турекула, Рыскул-бий было обрадовался: «У кого есть наследник, у того и дела идут в гору», но, поразмыслив об умственных способностях сынка, прикусил тонкие губы в досаде: «Несчастный, кроткий народ мой, поставь над тобой правителем бревно — ты и бревну подчинишься?» Однако до поры до времени промолчал: сколько веревочке ни виться, конец ей все равно будет. Но среди скорбных вестей, грузом согнувших его спину, самым тяжелым оказался странный поступок Мурат-шейха. Рыскул-бий глубоко задумался: «Вожак, не дрогнувший в жесточайших сраженьях, человек, который был знаменем всего народа, всегда шел впереди, и вдруг такое малодушие — сам себя ослепил! Зачем ему это понадобилось? Из ума выжил? Задумал измену в помрачении ума? Хитростью заманив кузнеца в гости и совершив злое дело, боится, что его выведут на чистую воду? Может быть, собственному греху ужаснулся? Или, опасаясь народного гнева, сам себя наказал? Возможно, что и так! Зазорно ведь было бы, если народ, разбушевавшись, сам в неистовой ярости выбил бы своему шейху глаза! Смирный народ наш чужих тронуть не смеет, а своих карать горазд, и нет человека, лучше знающего нрав каракалпака, чем шейх. Да, так это и было, именно так…»
Рыскул-бий утвердился в своем предположении, даже поздороваться с Мурат-шейхом не пошел. Но однажды, выйдя из дома, увидел шейха, осторожно сходящего с коня. Никто не сопровождал его, кроме верного аткосшы Сейдуллы Большого, никто, как это бывало раньше, не встречал громогласными приветствиями. Обычно ходивший позади хозяина, теперь Сейдулла Большой шел впереди старика, державшегося за кончик его плетки. Прежде белоснежная, всегда красиво закрученная чалма шейха теперь загрязнилась и сбилась набок. Раньше первым почтительно приветствовавший его, старый бий молчал. Чтобы дать понять хозяину, кто стоит перед ним, Сейдулла Большой громко поздоровался с Рыскул-бием, и только тогда тот обменялся рукопожатием с гостем. Мурат-шейх, растроганный встречей после долгой разлуки, прослезился, Рыскул-бий оставался холодным. По тону, каким произнес он положенное — «входите, добро пожаловать», — нетрудно было угадать его отношение к нежданному посетителю. Но шейх не хотел ничего замечать. Он сел на колени на расстеленную в сторонке белую кошму и по порядку расспросил хозяина о делах и здоровье. Рыскул-бий окончательно замкнулся в себе, отвечал коротко и сухо. Хотя глаза шейха были слепы, внутренним взором он увидел тощий лик сегодняшнего гостеприимства. Но принял его с кротостью и только под конец не выдержал.
— Милый Рыскул-бий, — сказал шейх, тщетно нашаривая перед собой пиалу с чаем, — а ты изменился. Я тоже изменился. Вот никак не найду свою пиалу.
— Себя не пожалели вы, шейх наш.
— Рад, что ты живым вернулся, мой милый. Не то так и унес бы я с собой заветное свое слово. Дай скажу его тебе. Стезя моей жизни тебе ясна. Все силы свои отдал я народу, чтобы он стал равным с другими, достойно носил черную шапку скорби, называемую «каракалпак». Но этот мир предстал передо мною гнилым мешком с протухшим молоком. Только одну дыру залатаешь — ан рвется мешок с другой стороны. Не добрым оком, косо смотрел на меня этот мир. А под конец жизни из собственного дома моего похищен был милый гость мой, а сам я оказался перед народом на позорище. Страшное подозрение пало на меня. А я-то ведь был и остался честным. Что делать? Понял я, что мир полон зла и человек в нем волк человеку. Вот тогда отрешился я от этого гнусного мира, сказал себе: да не увижу я мерзости его более — и выколол себе глаза. Говорю перед вами открыто, Сайдулла надежный, верный мне человек, да и на тебя, лев мой с разбитой пастью, смело могу я положиться. Если зрелые люди скажут: «Мурат-шейх, такой-сякой, сам решил уйти из этого мира, туда, мол, ему и дорога», то молодежь может ведь и соблазниться: поверят мне и кто-нибудь, убоявшись трудностей, не дай бог, тоже откажется от жизни. Так пускай молодые сами испытают и счастье и муку, пусть каждый смотрит на мир своими глазами. А правда моя останется, милые, с вами.
Кляня себя за обиду, причиненную ни в чем не повинному шейху, Рыскул-бий яростно кусал губы, но зубы его раскрошились в плену, и следы только двух зубов на расстоянии двух пальцев один от другого остались на нижней губе старика.
Мурат-шейх, как это случалось и прежде, переночевал у Рыскул-бия, а чуть свет ушел, даже пошутил, как в былые времена. И часу не прошло, как в дом бия пришла черная весть: шейх бросился в колодец и утонул. — О ты, обманчивый, призрачный мир! — горестно воскликнул Рыскул-бий. — Носим мы по земле свое доброе имя, а умереть по-доброму нам, оказывается, не дано!
* * *
Не решаясь признаться Акбидай, что лишился бийства, Аманлык сидел насупившись, чуть не задыхаясь от незаслуженной обиды.
Акбидай, приметив, что муж не в духе, засуетилась, но он не обращал на нее внимания, и тогда снова нахлынули на нее страшные воспоминания о плене: может, вспомнилась ему невольная ее измена, когда попала она в руки врагов?
Акбидай молча вышла из дому, выломала крепкий хлыст джингила, положила его перед мужем и рывком обнажила спину.
Бей, бек мой, сорви свою злость, облегчи мой грех!
Аманлык поднял хлыст, со свистом рассек им воздух, словно приноравливаясь, как лучше ударить, и, с хрустом переломив его о колено, бросил в огонь.
— Солнце этого дома — ты! — сказала она. — Позволишь туче закрыть свой лик — ив доме твоем стемнеет.
В ответ Амынлык лишь тяжко вздохнул, молча повалился на бок и по старой сиротской привычке остался лежать, подсунув руки под щеку, даже не спросив у жены подушку. Только назавтра узнала Акбидай от досужих аульных старушек, чем был так расстроен ее муж, но теперь в ее руках было средство его утешить.
— Не вздыхай тяжело, бек мой, вспомни слова отца нашего — бия: «Если хочешь сегодня оценить, на каких стременах стоишь, вспомни тот день, когда их у тебя вовсе не было». С божьего соизволения, бек мой, скоро у тебя родится наследник.
Не находя слов от восторга, Аманлык прижал жену к груди, целовал ее глаза, лоб и щеки…
Перед зарей кто-то крикнул им в окошко: «Мурат-шейх погиб, бросился в колодец!» Оба вскочили с постели как ужаленные, и, еще не переступив порога, Акбидай пронзительно заголосила, Аманлык зарыдал, — крича и плача бежали они к дому шейха. Не осталось в ауле живого человека, кто не оплакивал бы смерть старика. С шумом, воплями скорби текли людские потоки к жилищу Мурат-шейха, как ручьи, устремленные к озеру.
На супе, возвышении перед дверью, опустив голову на руки, сидел Маман, плечи его сотрясали рыдания. Растроганные этим редким зрелищем, Аманлык и Акбидай запричитали с новой силой. Их голоса потонули в скорбном хоре сородичей.
18
Чуть затеплившаяся было радость Алмагуль потускнела в одно мгновенье. Увидев входящего хана, она как бы в смятении, словно ягненок от волка, спряталась за спину евнуха. Хан оглушительно расхохотался, евнух тихонько захихикал.
— Ох уж это твое притворство! Только ты и умеешь так мило притворяться, есть в тебе что-то привлекательное, есть…
Хан протянул свою огромную, как грабли, лапу и, схватив Алмагуль, щелкнул евнуха по лбу. До пояса голый, скопец забавно перекувыркнулся и, до упаду насмешив своего господина, исчез.
То ли хан пришел утомленный, то ли, хохоча, растерял свою силу, — весь в холодном поту, он рухнул на постель, как мертвец.
— Ну-ка, погладь мне руки и ноги. Алмагуль села, распрямив плечи.
— Сильнее три, сильнее, все тело мне растирай. Повелитель удалился в свои покои поздним утром,
когда солнце стояло уже высоко. Всю ночь не смыкавшая глаз, Алмагуль только было собралась подремать, но не успела коснуться подушки, как в дверях появился евнух с новенькой прялкой в одной руке и охапкой хлопка — в другой.
— Вот, ханум, для тебя сделана, по особому заказу. Будешь прясть.
Екнуло сердце Алмагуль: «Вот и моя участь отныне: хлопок да прялка…» Так оно и было. Хан теперь приходил к ней редко, неделями не с кем было и словом перемолвиться. Кроме старого евнуха, никто, даже ветер, не смел открыть ее дверь. Затаившись в четырех глухих стенах, она день-деньской пряла, сучила бесконечную нить, плача, охая и стеная…
Нелегко давалась ей жизнь. Словно едким дымом заволокло глаза, нечем было дышать, некуда деться. Перед глазами настойчиво встают дорогие лица, полузабытые картины: родной аул, брат, сноха, сироты… Изредка, с разрешения евнуха, девушка выходит в сад. Пробирается, осторожно озираясь, поближе к дувалу, ищет блестящими от волнения глазами огромную как тыква, желтую шапку конюха. Но он, будто солнце на закате, исчез, словно его никогда и не было. Даже щель в дувале, через которую они переговаривались, тщательно замазана. По дувалу туда и сюда носятся кошки, на дувал присаживаются щебечущие стайки воробьев. С завистью смотрит Алмагуль, как кормят они своих растолстевших птенцов. А вот и птичка совсем такая же, как та, с какой посылала она привет на родину. А может быть, и в самом деле та? Нет, лучше уж не видеть, не слышать, не гореть сердцем! И Алмагуль перестала выходить в сад.
Прислонившись к своей прялке, сидит Алмагуль в глубоком раздумье, глаза затуманены, руки бессильно лежат на коленях. Ее пробуждает оклик скопца: «Май-дабике!» И она торопливо принимается за дело.
— Вставай, Майдабике! Сегодня, аллах милостив, выйдешь на свободу.
Не веря ушам своим, упала она к ногам старика:
— Повторите еще разочек, ата!
— Выйдешь, говорю, на свободу
Продал? Или отдал другому объедки с ханского стола?
— Не знаю, посмотрим. А ну-ка, встань, иди за мной!
Гуськом — евнух впереди, она за ним — прошли они через сад и вступили в памятную ей палату, куда привели ее четыре года назад. Опустив на лицо белый платок, прикрыв ладонью рот, Алмагуль исподлобья разглядывала трех стоявших перед ней мужчин. Один из них был тот самый, разряженный, как кукла, визирь, который купил ее за тазик золотых монет. Он совсем не изменился за прошедшие годы: такое же смазливое лицо, такой же сверкающий золотом парчовый халат. Второй, видимо, русский — рыжебородый и светлолицый пожилой человек, с синими, как море, глазами, он и одет был скромно, не по-нашему. Третий одет так же просто, как русский, чернявый, смуглый юноша лет семнадцати, — что-то знакомое Алмагуль было в его лице. А он был тем самым мальчиком, которого некогда взял с собой Кузьма Бородин и который теперь стал переводчиком у другого русского купца. Способный и любознательный, Борибай в семье Бородина быстро научился говорить и писать по-русски, и, когда израненные, больные ноги не позволили Бородину заниматься торговыми делами, он пристроил своего воспитанника в переводчики к знакомому купцу, который снаряжал караван в восточные страны. Памятуя о превратностях судьбы, что подстерегают торговых людей в долгом пути по чужим землям, они дали Борибаю фамилию Каракалпаков, чтобы всегда помнил, из какого народа вышел, и в случае чего мог бы к нему прибиться.
При расставанье, заметив в глазах юноши тревогу, которую тот не смел высказать старшим, Кузьма Бородин по-отцовски понял его.
— Сынок, — ласково сказал он, — мы, русские люди, так полагаем: человек должен расти с мыслью о своем народе, как бы пользу ему принести. А для этого надо видеть чужие страны, перенимать все полезное, сравнивать, выяснять, чего на родной земле недостает. Тогда-то и увидишь собственным оком: на светлой вершине или в ямине глубокой живет твой народ. Повидаешь и ты многие страны — Индостан, Афганистан, — станешь полезным человеком, добрым помощником мудрому бию вашему — Маману.
Будто выросли крылья за спиной Борибая, и он пошел за незнакомым купцом, исполненный радостных надежд.
Хоть Алмагуль пристально вглядывалась в лица незнакомцев, стараясь припомнить, где она видела юношу, от взгляда которого теплело ее сердце, она так и не разгадала, кто они такие; одно казалось ей ясным: сама она — жалкий отброс хана — не стоила внимания этих людей, разве что возьмут ее в служанки.
Поговорив о чем-то с русским на незнакомом ей языке, Борибай обратился к девушке:
— Как тебя зовут?
Четыре года не слышала она своего настоящего имени, шепнула: «Майдабике» — и тихонько заплакала.
— Не плачь, не плачь, милая, хочешь домой?
— Хочу, хоть сейчас уйду! — Голос ее окреп. — Вы кто? Как увели меня из родного аула, словечка одного не слыхала по-каракалпакски. Говорят, есть при ханских конюшнях конюх-каракалпак. Видела я его мельком, но что за человек — не знаю.
Борибай тщательно перевел слова девушки русскому караванбаши. Русский слушал, кивал головой: молодец девица, шустрая, живая!
— Вот, Майдабике, русский хозяин тебя хвалит: шустрая, живая, говорит, девушка. Он тебя освободит.
Борибай стал рассказывать о себе, о том, что творится на родине. Упомянул он и Кузьму Бородина, и тогда дрогнул у Алмагуль подбородок, полными слез глазами глянула она прямо на парня.
— Чего удивляешься? Знаешь его, что ли?
Их беседа явно не нравилась визирю. Пошарив беспокойным взглядом по лицам юноши и русского купца, он сердито покосился на девушку:
— Надо быть поскромнее, ханум. С посторонними мужчинами порядочные женщины не болтают.
У Алмагуль язык прилип к гортани, обильные слезы застыли на помертвевших щеках, вся она точно одеревенела. Только «да» и «нет» еле слышно отвечала она теперь, крепко прикусив зубами уголок белого платка.
— С кем же она домой вернется? — спросил русский у Борибая.
— А что, если позвать сейчас того конюха, о котором она толковала?
Караванбаши попросил визиря привести конюха, и, верный ханскому наказу, визирь немедленно послал за ним нарочного, но тут же сказал, что ханум не следовало бы присутствовать при дальнейших переговорах.
— Ну вот, дочка, теперь ты пойдешь домой, — сказал русский и погладил Алмагуль по голове. — Славная ты девушка, бойкая. У меня у самого такая же дочка есть, как ты. Зовут ее Марья, и ты для меня будешь Марьей. Борибай, скажи Марье, что свободу ей дают русский царь и главный бий каракалпакский Маман. Пусть передаст ему наш поклон. Хотя сам русский царь и не прибыл к каракалпакам, но воля государя — закон для каждого русского человека, где бы он ни находился. Пусть объяснит своему народу, когда вернется домой.
Услышав имя Мамана, Алмагуль и обрадовалась, и насторожилась: уж не почудилось ли ей, что речь идет о Мамане! А когда Борибай перевел Алмагуль слова караванбаши, она как подкошенная упала к его ногам.
— И на том и на этом свете буду я преданной вашей дочкой, Урус-ата. Борибай, скажите, значит, Маман-бий вернулся от русского царя живой-невредимый? А брата моего Аманлыка вы тоже знаете?
Торопливо озираясь на хмурого визиря, Борибай сказал, что уже три года как Маман благополучно вернулся домой.
Не понимая, о чем идет разговор, русский купец ласково поднял ее на ноги.
— Иди, дочка, иди!
Губы Алмагуль разомкнулись в счастливой улыбке, прикушенный зубами платок упал к ее ногам, прекрасное лицо ее открылось, — казалось, темная палата озарилась светом четырнадцатидневной луны. Визирь уставился на нее жадными глазами и в волнении сглотнул слюну, будто в первый раз увидел красавицу.
Опасаясь, что все это не приведет к добру, Борибай заторопил девушку:
— Не беспокойся ни о чем, иди себе, иди! Сейчас мы все поручим тому конюху. Мы-то идем в Индостан. На обратном пути за тобой вернемся.
Человек в огромной рыжей шапке, один только раз показавшийся Алмагуль возле дувала, и был Кудияр-конюх. Но почетного звания конюха он удостоился только при ханской конюшне, а прежде все его знали попросту Кудияром-табунщиком.
Он доводился родным братом отцу Алмагуль, Данияру. Братья были погодки, к тому же походили друг на друга, как близнецы. И если сейчас поставили бы рядом с Кудияром Аманлыка, то каждый бы признал в них отца и сына. Кудияр такой же чернявый, невысокий и худой, как Аманлык, только бороду его побила седина, и она напоминала грязную козлиную шерсть. Длинная тонкая шея Кудияра сморщилась, как сухой курай, а на костлявых руках взбухли синие жилы. Всю жизнь Кудияр-конюх прожил бобылем. Братья долгие годы пасли на берегу Сырдарьи несметные косяки коней жадного бая из племени мангыт. Вдвоем они еле-еле заработали на калым для старшего, Данияра, и, с грехом пополам вымолив у хозяина свое кровное — заработанное, справили свадьбу старшего с дочерью такого же, как и сами они, бедняка. Но не долго длилось это счастье, — началось джунгарское нашествие, печальной памяти година белых пяток.
И Кудияр вместе с табуном своего хозяина тронулся в далекий путь, на юг, к Хорезму, а брат его Данияр не имел тягла для далекой откочевки, пристал к захудалому РОДУ жены, стал бродить вместе с ним по низовью Сырдарьи. Так и расстались братья на всю жизнь, знать не зная, где искать друг друга: то ли у джунгар, то ли у ктайцев, то ли в Бухарском ханстве. Был бы кто из них знаменит ратными подвигами либо богатством или хотя бы жил оседло со своим домом и скарбом, — тогда другое дело. А так: ищи песчинку в пустыне — всей жизни не хватит. Потеряв надежду увидеться на этом свете, братья молили бога хотя бы о посмертном свидании в раю.
Только-только мангытцы, с которыми ушел Кудияр-табунщик, осели на Амударье, поближе к морю, только-только оправился аул, начал вставать на ноги, стали жить люди посытнее, налетел Елбарыс-хан со своим войском. Тех, кто попробовал защищаться, вырезали поголовно, тем, кто хоть голос осмеливался поднять против хана, вязали руки, ноги одним арканом и топили в реке. Главу рода мангытцев Шердали-бия принародно обезглавили, скот и коней, пасшихся на морском берегу, забрали в ханскую казну. Кудияра-табунщика вместе с его конями силой пригнали в Хиву, ханские чиновники, опасаясь, чтобы не угнал лошадей обратно, поставили его помощником конюха при ханском дворе. Бежать он теперь не мог, а честно трудиться не разучился и, дальше — больше, стал человеком нужным. Кони его были сыты и ухожены, а один карий «бедуинец» туркменской породы с белой звездочкой на лбу, во славу хивинского хана, выиграл даже первую награду на большой байге. Тут-то хан Елбарыс призвал Кудияра пред свои светлые очи и милостиво обещал подарить ему одну из своих наложниц: «Станешь ты у меня женатым человеком!»
А нажитого при ханском дворе добра не хватало конюху даже на свое собственное пропитание, — он уж и думать-то о жене перестал. Теперь милостивое слово хана высекло искорку надежды в сердце бедняги, и он осторожненько осведомился у старожилов: может ли так случиться, бывает ли?
Бывает! — заверили конюха. — Хан больше двух-трех лет наложниц в гареме не держит. Как ему девушка надоест, отдает ее тому, кто ему приглянулся, вроде угощения с ханского стола. Видно, хан правым глазом тебя приметил, да еще на язык ему ты попался, счастливчик ты, Кудияр!
Но Елбарыс-хан вскоре помер, пошли во дворце перемены — все наоборот! Только конюхи по-прежнему оставались при конюшнях, — ими никто не интересовался. Наследник, видать, не спешил выполнить посулы усопшего родителя, и искорка в сердце Кудияра навсегда угасла.
Только когда услышал, что во дворец привезли каракалпачку, Кудияр разволновался: поговорить бы с ней, услышать родное слово, узнать, что там сейчас с народом творится! Нахлобучив на голову свою огромную, как тыква, желтую меховую шапку, он крадучись бродил вдоль дувала, вокруг ханского сада, искал трещинку, щелку, чтобы хоть одним глазком взглянуть на пленницу. Наконец-то увидел, даже словом с ней перекинулся. Но дорога в сад была ему заказана, щель залатали, — увидеть девушку Кудияру больше не удалось, и вести никакой от нее не было.
И вдруг его неожиданно вызывает визирь. Кудияр испугался, — этот понапрасну не позовет: либо казнит, либо наградит, не иначе! Награды вроде бы ждать не приходилось, кудияровские кони на скачках больше не отличались. Скорее всего нашли у конюха какую-то промашку либо оклеветал его недобрый человек. А вдруг милостивый хан вспомнил обещание покойного отца — возьмет да жену Кудияру подарит! Конечно, такому бобылю, как он, это было бы нелишне, вот, например, ту каракалпачку! Ведь хан ее уже четыре года у себя продержал, — может, ее и подарит? Да ведь она же юная, как весенняя травка. Если и скажет визирь: «Бери ее себе», придется поблагодарить за доброту и отказаться, мол, стар я уж для женитьбы…
Перед дверью приемной визиря и впрямь, озаренные ярким солнцем, неподвижно сидели старый евнух и Алмагуль, но Кудияр быстро прошел мимо них — будто не заметил. А переступив порог, упал, как положено, на колени и пополз к ногам вельможи, стукая лбом об пол в поклонах. Увидел это Борибай, и вся душа у него заныла от унижения; с надеждой вперил он умоляющий взгляд в лицо русского купца, — может, скажет он Кудияру «вставай»? Но, привычный к обычаям ханских дворов, тот не обратил на все это никакого внимания. Конюх дополз до места, с которого дозволено челобитчику обращаться к господину, и замер ничком, прижавшись лбом к полу.
— А ну-ка, Кудияр-конюх, подними голову! — молвил визирь, поглаживая холеной рукой бороду, пламенеющую от хны. — Вот господин пожаловал к нам из русской земли и желает, чтобы мы вернули тебя на родину. Мы ему сказали, что ты не хочешь туда возвращаться. А теперь послушаем, что ты сам скажешь. Бо-рибай-толмач, объясни своему хозяину, о чем речь.
А русский купец согласно кивал головой: «Правильно, мол, уместно!»
Кудияр давно мечтал возвратиться домой. Красные подслеповатые глаза его, полные слез, расширились. Как сказать? Что делать? Может, затем его и спрашивают, чтобы испытать преданность хану? Ответишь: «уйду»- обвинят в измене, голову долой снимут!..
— Говори же! — торопил визирь.
— Нет у меня на родине ни кола ни двора, и родни у меня там не осталось…
Визирь высокомерно ухмыльнулся. Борибай не выдержал.
— Кабан ты с обломанными клыками… — с презрением выдавил он.
Не тяжесть оскорбления, а чистая каракалпакская речь, как жало, вонзилась в сердце Кудияра, и он вдруг понял, что за всем этим что-то кроется важное для него, но вылетевшее из уст слово обратно не загонишь …
— Ладно, оставайтесь пока тут, раз уж приросли к этой земле, — сказал Борибай, остывая. — Но здесь, во дворце, живет девушка-каракалпачка. Наш русский господин выкупил ее и поручает вашему попечению. Смотрите не толкайте ее на свой путь. Храните как зеницу ока, пока мы за ней не вернемся. А купец добавил:
— Наш путь далекий и тяжелый, неизвестно еще, как мы его одолеем. Если до осени не вернемся, пусть старик с девушкой нас не дожидаются, сами домой идут.
Вот эти слова хозяина Борибай растолковывал поподробнее, внушительно поглядывая на визиря, а под конец от имени русского господина попросил помощи несчастным, коли задумают они отправиться домой. Визирь промолчал, но кивнул головой утвердительно: ладно, мол, поможем.
Когда, не помня себя от волнения, Кудияр-конюх очутился на улице, Алмагуль и скопец все так же неподвижно сидели на том же месте. Завидев Кудияра, евнух вскочил и, потянув за собой девушку, всунул ее ручку в ладонь Кудияра.
— Ну что, госпожа, довольна? — захихикал он. — Прекрасная чета, один другого стоит. Совет да любовь! — И он все хихикал, кривляясь.
Кудияр-конюх и Алмагуль идут, держась за руки, невесомые, как во сне. Тело у Алмагуль легкое, она летит, ускоряет шаги. И только переступила за ворота ханского дворца, распахнулся перед ней необъятный простор света, вздохнула — и чистый воздух хлынул потоком, распирая ей грудь:
— Ох!
С этим вздохом пала каменная тяжесть, давившая сердце, — за воротами осталось сжигавшее ее огненное дыхание неволи. Ни разу не оглянувшись, шла она за Кудияром.
19
Когда над аулами Малого жуза дождь моросит, над черными юртами каракалпаков льет как из ведра. Но беспечных мирных дней и у тех, и у других не бывает. Вечный страх перед набегом, насилием, грабежом, вечная угроза гибели! А виной всему Абулхаир-хан. Нетерпеливый, неугомонный, как жадная птичка алатога-нак, без устали перепархивающая с ветки на ветку в поисках гусениц, он никогда не сидит спокойно, рвется в высоту, и, хоть не раз приходилось скатываться вниз, бесстыжему все неймется. Подозрительный, алчный, озабоченный только величием своей персоны да незыблемостью власти, он особенно опасается происков со стороны своего единокровного Среднего жуза.
Потому и заигрывал Абулхаир с Россией, слал богатые дары белому царю и даже отдал в заложники родного сына Кожахмета, чтобы получить неограниченную власть над всеми казахскими жузами. Но Иван Неплюев не пошел на поводу у спесивого хана, не задержал султанов Среднего жуза Батыра и Барака в Оренбурге, невыдал их Абулхаиру. Не внял он и его просьбе обменять отданного в заложники Кожахмета на младшего его брата Чингиса. И, разгневанный на Неплюева, Абулхаир переметнулся от России к иранскому Надир-шаху. Все, что он выиграл, была лишь недолгая власть его самого над Хорезмом, а сына Нуралы — над Хивой. Абулхаир не побрезговал даже отдать родную дочь за своего кровного врага и обидчика джунгарского хана. Словом, как раненый волк, готов был сунуть морду в любую щель.
Вообразив, что теперь обеспечил себе поддержку со всех сторон, хан начал задирать соседей. Посылал своих нукеров грабить и разорять их аулы, угонять скот. Однако от этого и достоинство хана страдало, и ханство слабело. Средний жуз поднимался на него войной, а новые «друзья» не помогали, — сила-то была не на их стороне. И тогда Абулхаир вновь обратил ищущий взгляд в сторону прежних своих покровителей.
В 1748 году прибыл в город Оренбург царский посланец и, пойдя на кое-какие уступки Абулхаиру, с грехом пополам замирил его с Неплюевым. Тогда султаны Барак и Батыр подняли многочисленное воинство Среднего жуза — на Малый. Над ханством Абулхаира нависла смертельная угроза. Знатные бии Малого жуза тайно съехались на совет в Жанакенте. Позвали и Рыскул-бия с Маманом-бием. Маман был на полевых учениях со своими джигитами, а Рыскул-бий, ослабевший в ханском плену, и думать не мог о выезде — послал нарочного за Маманом:
— Съезди, сынок, за нас обоих в Жанакент.
Маман-бий, по завету предков — старшему в роде мудрецу не перечить, в тот же день поскакал в город. А вернувшись и часа не медля, вместе с сыном покойного Мурат-шейха Хелует-тарханом явился в дом главного бия, в надежде всем вместе найти достойный выход из трудного положения. Согнутый в три погибели старик, лежа в постели с подсунутой под бок подушкой, внимательно слушал Мамана.
…Абулхаир-то сегодня оказался не тот, спеси у него поубавилось: рассылая по далеким аулам гонцов, смиренно просил он о помощи. Не решаясь собрать съезд у себя в ханской ставке, он пригласил влиятельных биев в Жанакент. Один-единственный вопрос поставлен был перед собравшимися:
— Нужно ли сохранить ханство Малого жуза? И бии в один голос ответили:
— Нужно!
Тогда помогите хану в войне против Барака и Батыра. — И тут все дружно засомневались, зачесали затылки. Однако сомнениями врага не отразишь: ведь, коли оставить Малый жуз на произвол судьбы, Барак и Батыр весь народ по миру пустят. И мудрые казахские бии решили без долгих рассуждений подниматься на бой.
А как поступят каракалпаки, с которыми и скот на одних урочищах пасли, и воду из одной реки пили, и сладкое, и горькое вместе хлебали?
И бии с надеждой обратили взоры на Мамана.
Не зная, на что решиться, насупился хмурый Айгара-бий. Если возьмет верх Средний жуз, таких старейшин, как Айгара, первыми растерзают, и он с тревогой глядел на Мамана.
Что делать, если бог заставил два глаза на одном лице смотреть в разные стороны? — покашливая, с натугой вымолвил Маман. — Что делать, коли только-только обопрешься на одного казаха, а он уже тебя забыл — режет другого? Если и дальше так дело у вас пойдет, захиреете и вы, разбредетесь в разные стороны… — И словно бы поперхнулся, замолк.
Казахские бии смекнули, почему Маман уклоняется от ответа. Не успел его народ опомниться от Абулхаирова нападения, как зовут ему же и помогать. Добром за зло платить не всякому под силу. Для этого надо большое сердце иметь!
— Маман, сынок, понимаем: дело это нелегкое, с ответом не торопись, езжай поговори со своими джигитами, с Рыскул-бием совет держи, — молвил Айгара-бий.
Рассказывая об этом старцу, Маман не утаил, что обещал в меру сил помочь казахам.
— Что делать, бий-отец! Наши друзья на краю гибели, а главное — люди Малого жуза, как и мы, тоже с русскими дружат. Разве не должны мы согнать ядовитую муху с лица друга наших друзей! Я взвесил все! Ох, нелегко нам! Еще не зажили кровавые раны, нанесенные Абулхаиром, и джигиты злы на него. Но коли будем без конца твердить одно и то же: что вот, мол, ограбил он нас вчера, будет это Среднему жузу большой подмогой. А ведь недаром говорится: кто ищет друга в стане врага, найдет врага у друзей. Я это, на Абулхаир-хана глядя, понял: то к белому царю метнется, то к иранскому шаху и ни к тому, ни к другому пристать не может, и тут и там врагов себе нажил. Что он с нами сотворил — забудем, протянем руку помощи Малому жузу, бий-отец!
Рыскул-бий лежал недвижимо, подперев щеку исхудалой рукой со вздувшимися синими жилами, думал, молчал. Маман не торопил его с ответом, пил чай, тихонько дуя в пиалу, и Хелует-тархан не подавал голоса.
— Можно бы, конечно, помочь Малому жузу, сынок, — заговорил наконец Рыскул-бий, — если бы русские о том попросили. Тогда и отказать хану было бы невозможно, а так…
— Когда сильный попросит, то и слабый поможет… Виноватого пусть бог покарает, а я так думаю, что корыстная дружба ненадежная, как хребет без спинного мозга, враз поломается.
Хелует-тархан сидел ошеломленный. Маман умышленно не сказал ему, о чем пойдет речь, и Хелует дивился его смелости. Конечно, русская царица дала Хелуету почетный титул тархана, но платить за это помощью Абулхаиру, как другу русской царицы!.. Нет, это было тархану не по душе.
— Почему это мы обязаны помогать Абулхаиру, Маман-бий? — буркнул он недовольно. — Нет у нас никаких долгов перед ханом!
— Человек у человека до самой смерти в долгу, великий тархан… — упрямо возразил Маман. — Если кто способен понимать, конечно.
Казалось, глубоко ушедший в старческие свои думы, Рыскул-бий внезапно приподнял белую как снег голову от подушки.
— Быть по-твоему, сынок. Кто оплошает, того аллах покарает. Лишь бы джигиты тебе не перечили, сможешь — так веди их за собой!
И Хелует-тархан молча кивнул: быть по сему!
* * *
Военные ученья в степи не прекращались. Сам Маман взял дело в свои твердые руки: ученья проводил еще чаще, спрашивал строже. Воины подолгу жили в шатрах у подножия холмов Кызылкума. Чуть свет, разбив джигитов на два отряда, Маман затевал конские ристалища, учил нукеров бегать пешими, бороться, метать копья в чучела, связанные из снопов камыша, драться на саблях в конном строю, биться плетьми со свинчаткой. Ко всем был он требователен неумолимо, никому не давал потачки. Нерадивых да неумех держал впроголодь, а то как сажал ослушника в седло задом наперед да привязанного возил по аулам, чтобы люди его срамили. Поначалу иные парни поднимали шум, роптали, а потом воинская строгость вошла в привычку, — как будто так и надо. Кормились воины сами, провиантом никто их не снабжал.
Отъезжая в Жанакент, Маман оставил за себя при войске Шамурат-бия.
Родной брат прославленного старейшины Сагындыка, Шамурат был на добрый десяток лет старше Мамана, а нрав имел коварный. Еще при жизни брата ходил он в недовольных, считая себя обделенным в отцовом наследстве. Даже когда после смерти брата в его руки кроме всякого братнего добра перешла вся власть над родом, он в глубине души почитал себя обойденным, жаждал занять место главного бия всего племени кунград. Хитрец быстро прибрал к рукам недалекого сынка Рыскул-бия Турекула, сумел заставить его плясать под свою дудку. Возвращение старого бия из ханского плена было сокрушительным ударом по замыслам тщеславного Шамурата. С любимым народом мудрым и сильным Маманом Шамурат пока что тягаться не отваживался, однако неотвязная мысль о том, чтобы свалить ненавистного соперника, его не покидала. Отъезд Мамана в Жанакент развязал Шамурату руки, точно гора с плеч свалилась, и он вздохнул полной грудью. Едва рассеялось облачко пыли из-под копыт Маманова коня, Шамурат, ухмыляясь, повернулся к джигитам: сказал, что у Турекула есть к ним секретный разговор. Отдельно от товарищей развели они костер. Жарили мясо. Пошел в ход Турекулов козел. Наученный Шамуратом, Турекул твердил как попугай, что кунградцам надо сорваться с привязи ябинцев, самим взять власть в свои руки. Парни, разленившиеся в отсутствие Мамана, развесили уши, чая услышать, что такая вольная жизнь ожидает их и впредь. Слушая сбивчивую речь Турекула, Шамурат-бий усмехнулся: перед его мысленным взором словно бы наяву разгорался огонь межродовой вражды, запаленный некогда отцами и дедами. Назавтра слушать Турекула собралось уже человек двадцать. Призваны были и сироты Кейлимжай да Бек-мурат с Бектемиром, которым объяснили, что они происходят из рода кунград, хотя сами до сей поры и не знали об этом.
— А не будет ли это изменой Маману? — спросил Бекмурат.
Джигиты дрогнули, будто кто окатил их холодной водой, и словно спросонья, недоуменно переглядывались. Турекул растерялся, а Шамурат, и глазом не моргнув, продолжал объяснять, что вот Кейлимжай и Бек-темир поняли теперь, что они — кунградцы, честь им и хвала! А Бекмурата от имени Турекула приказал бить плетью за то, что посмел марать честь кунграда.
— Бей! — взвизгнул Турекул, распаляясь.
Никто не двинулся с места, и сгоряча он сам бросился хлестать парня. Свист плети нарушил тягостное молчание.
— Клянемся, — молвил Шамурат, — что отрежем язык каждому, кто посмеет болтать о нашей тайне.
Турекул послушно повторил клятву Шамурата, за ним — кто добром, кто силком — поклялись и все остальные.
Маман-бий с Аманлыком вернулись через неделю. Маман сразу же заметил, что в войске его разброд. Кунградские парни на зов вожака собрались неохотно, медленно рассаживались в круг. Не подавая виду, что подозревает что-то неладное, Маман рассказал, зачем ездил в Жанакент и с какими намерениями оттуда вернулся. Но не успел он договорить свое слово, как Шамурат-бий съязвил:
— Вот еще напасть на наши головы — врагу помогать! Пускай казахи режут друг друга, нам-то что?!
Маман-бий укоризненно покачал головой. Джигиты оживленно задвигались.
Что нам, жить, что ли, надоело — Малый жуз пойдем защищать! — со злостью выкрикнул Кейлимжай.
Не ожидавший от сироты такой прыти, Шамурат подтолкнул в бок сидящего рядом Турекула, — пора брать почин в свои руки!
— Не пойдем, Маман, за казахов воевать, сам иди! — заорал Турекул, вскочив на ноги. — Эй, джигиты кунграда, вставайте!
Все притихли, никто не шелохнулся. Тогда решительно встал Шамурат-бий, за ним, то тут, то там, поодиночке начали неохотно подниматься кунградцы.
— А ты что, ты что сидишь? — вопил Турекул, поочередно тыкая пальцем в сидящих. — Ты не кунградец, что ли? — И парни один за другим вставали.
— Вот, Маман-бий, были вы зорким вожаком, а теперь, видно, угас факел вашего духа! — злорадно молвил Шамурат-бий. — Трудненько вам будет внушать людям, будто белое стало черным, а черное — белым!
Бунтовщики осмелели.
— Вы изменник, Маман, предатель! — выкрикнул чей-то звонкий голос, и Мамана охватило тяжкое подозрение: недаром, видно, молвил Рыскул-бий: «Лишь бы джигиты тебе не перечили…»- знал все наперед…
— Эх, одряхлел старый наш тигр! — вырвалось у него с отчаянием. Тот, кто понял, кого упрекает Маман, промолчал, кто не понял, тому и дела ни до чего не было.
— А ну, Турекул, скажи: ты-то любишь свой народ? — молвил Маман, вставая.
— Я свой народ люблю, а не твоих ябинцев!
— Вот ты и есть предатель народа!
Ты за него не цепляйся! Не оправдаешься, — спесиво вступился Шамурат-бий. — Уйди прочь с дороги!
— Джигиты! Вы забыли верное слово русского друга Бородина: тот, кто истинно любит свой народ, полюбит и все народы!
— Руса своего Бородина веди к себе домой! Нам его и даром не надо! — снова подал голос Турекул.
Не ожидавшие, что Турекул так разойдется, джигиты молча слушали спор; только Шамурат, стоя рядом, шепотом поддерживал своего выученика: «Правильно говоришь, верно». А Маман и не думал оправдываться.
— А ну, довольно разговоров! Пора за дело браться! Турекул, джигиты, прекратить пререкания! Проверьте оружие: дула ружей, сабли, концы плеток! — скомандовал Маман.
Привычный приказ вожака отрезвил парней, и они приступили к делу: заглядывали в дула ружей, запыленные стволы протирали полами халатов. Вслед за всеми и Турекул провел раз-другой рукавом по стволу ружья.
Беспрекословное выполнение приказа вселило в Мамана надежду, что все еще обойдется, и он весело спросил:
— Ну, что вы на своих ружьях заметили?
— Ничего! — отрезал Турекул.
— Плохо, значит, смотрели. Еще раз поглядите — увидите на них сильную руку Кузьмы Бородина!
Одни поняли его и молчали, другие — в недоумении пожимали плечами.
— А теперь скажите, — продолжал Маман, — почему мы не хотим защищать друзей нашего друга?
— Эй, Маман-бий, не мути народ! — злобно выкрикнул Турекул и, вскинув ружье на плечо, попятился, не спуская глаз с Мамана. — Ну, кунградские джигиты, по коням! Кончилось мое терпенье! Сорвемся с привязи рода ябы! — И, видя, что парни по одному выходят из строя, еще пуще распалился: — А ты, Маман-бий, коли ты герой, выходи на бой! Потягаемся, кому быть главным: кунграду или ябы?
Сев на коней, джигиты разъезжались на две стороны. Надежда Мамана на прекращение родовой вражды рухнула. Джигиты, оставшиеся с ним, стояли растерянные.
— Эй, бий наш, если хочешь честь сохранить, отвечай Турекулу! — крикнул кто-то из толпы.
Кровь бросилась в голову Маману, он с места прянул в седло:
— Стой, Турекул!
— Остановись, стой на своем, тигренок кунграда! — сказал Шамурат-бий.
Турекул, рванув повод, круто повернул коня и, вскинув ружье, прицелился в голову Мамана. В тот же миг, спасаясь от неминуемой гибели, Маман метнул копье, чтобы сбить прицел. Выстрел грянул в небо, а Турекул навзничь рухнул наземь и остался лежать недвижимо. Маман до крови прикусил губы, спрыгнул с коня и только хотел схватиться за древко, чтобы выдернуть копье, Турекул, пригвожденный к земле, пронзительно завыл, судорожно извиваясь.
— А ну все назад! — тихо молвил Маман, и, напуганные неистовым гневом бия, джигиты попятились, тесня и толкая друг друга. Шамурат-бий, дрожа от страха, затаился за спинами парней. Маман, как борец на арене, засучил рукава:- Кто еще за Турекула? Выходи!
Никто не вышел из круга. Нагнувшись над Туреку-лом, бьющимся как рыба на песке, Маман заглянул ему в лицо. Растрескавшиеся губы павшего помертвели — жизнь покидала его. Тогда Маман, ухватившись обеими руками за древко, с силой дернул копье. Потоком хлынула кровь. Турекул вздрогнул и затих. Струйки холодного пота заливали лицо Мамана. Он поднял тело Турекула с земли и на руках, как ребенка, понес к своему коню.
— Подавай! — крикнул он, завидя Аманлыка. Посадив мертвеца в седло и накрепко прикрутив арканом, Маман сам сел позади и, свободно отпустив поводья, тронул коня вперед.
— Не отставайте! — приказал он, обернувшись к тихо едущим следом джигитам. — Едем к Рыскул-бию.
В ожидании новой беды спутники Мамана лишь молча переглядывались, не смея подать голос. Парни кунграда, скучившись, ехали чуть позади. Когда завиднелись юрты аула, Маман остановил шествие, спустился наземь, приказал сесть на свое место Аманлыку, а сам, на его коне, выехал вперед.
Рыскул-бий вышел из юрты погреться на солнышке, он сидел на расстеленной перед дверью кошме и, взбалтывая, ел айран из большой деревянной чашки. Завидев вдалеке отряд конников, пыливших по дороге, старик бросил ложку и, щурясь, поглядел на них из-под ладони. Лошади были ему знакомы, и он снова принялся за еду. Маман, далеко опередив джигитов, приблизился к юрте и, осадив коня, почтительно приветствовал старца. Почуяв тревогу в голосе Мамана, старик с болезненно бьющимся сердцем прижался спиной к дверце кибитки.
— Сын мой, голос у тебя дрожит. Ребята, что ли, не слушаются тебя?
— Отец, я приехал спросить у вас совета.
— Спрашивай.
— Чтобы сохранить масло от порчи, есть соль. А если портится соль, то чем ее уберечь?
В этот самый миг кунградские джигиты с негодующим ропотом ринулись вперед. Рыскул-бий не видел их, не замечал, — он смотрел в землю, думал. Поднял на Мамана блеклые старческие глаза.
— Если портится соль какой-либо земли, значит, солнце этой земли померкло, — тихо молвил старик.
— Пришел я к вам с повинной головой. Чтобы не померкло солнце нашей земли, убил я единственного сына вашего, отец.
— А-а-а!!!
Отчаянный вопль старого бия заставил всех замереть на месте. Воцарилась такая тишина, будто жизнь на земле прекратилась: не дул ветер степной, травы не шелестели, не летали птицы в поднебесье, не ржали кони, не слышно было даже дыхания человека, стоящего рядом.
Вокруг бия, мертвенно застывшего, будто переломили ему хребет, замерли джигиты, готовые по первому слову старца поднять Мамана на копья… Кровь… слезы… пожары… мертвые матери и осиротевшие дети… И по-новому встает перед ним мощная фигура Мамана, безоглядно жертвующего собой во имя разоренного своего народа. Давно уже приметил и оценил его Рыскул-бий. «Ум, который пришел ко мне в шестьдесят, открылся в нем в двадцать лет».
С великим трудом старик поднатужился, встал, отер рукавом слезящиеся глаза.
— Подойдите ближе, джигиты, слушайте мое отцовское слово. Вождь — слуга своего народа. Если, желая послужить хозяину, оступится он — поддержите; если ошибется — простите. Так нам деды наши завещали. Да не затмится солнце земли нашей. Прощаю! Собирайтесь в поход на врагов Малого жуза.
Прощать смерть сына ох как нелегко! Рыскул-бий произносил каждое слово с передышкой, покачиваясь, ноги его плохо держали.
Слезы брызнули из глаз Мамана. Упав с коня, приник он к ногам Рыскул-бия.
— Спасибо, отец, должник я ваш до конца жизни, отец!
Четыре дюжих молодца подняли тело Турекула и внесли в дом.
Джигитов распустили по домам до утра.
* * *
У Аманлыка родился сын. Молодой отец спросил у Мамана, как назвать первенца. И, радуясь вместе с другом, Маман нарек имя мальчику Жаксылык, что значит доброта. И стал он Жаксылыком. Молодые родители без конца твердили: Аманлык-Жаксылык — складно получалось.
Когда ходила на сносях, Акбидай в душе надеялась, что вот родится у нее ребенок и она очистится от своего невольного греха, от того страшного, что пережила в плену. Мысль об этой безвинной вине терзала ее даже во сне, и она просыпалась с криком. Она худела, пряталась от людей — никакие уговоры мужа не помогали.
И вот долгожданное счастье пришло, на руках у нее первенец — Жаксылык. Но схлынула первая радость, и страдания Акбидай возобновились с новой силой. Теперь ей кажется, что она виновна и перед сыном, не смеет поднять глаза на него, что Жаксылык однажды бросит ей прямо в лицо: «Мать, ты грешница!» Совесть мучает ее, но, где бы она ни была, чем бы ни занималась, Акбидай не оставляет ребенка, носит привязанным у себя за спиной.
Сегодня, отпущенный домой на одну только ночь, Аманлык уже с порога радостно закричал:
— Акбидай! Жаксылык! Где вы, милые мои? — В бедной хижине глинобитный пол будто языком вылизан, на пылающем очаге бурлит вода в черном кумгане. — Откуда узнала, голубка моя, что я сегодня приеду?
— Разве обязательно знать, бек мой? Очаг в доме всегда должен гореть в ожидании хозяина.
Аманлык осторожно взял из рук Акбидай спящего Жаксылыка. Ребенок во сне чмокал губами, посапывал, его легкое дыхание касалось отцовской щеки. Аманлык с наслаждением разглядывал сына, словно видел в зеркале самого себя: большие уши, длинная шея, подрастет — тоже станет смуглый, как отец. Бережно расправив своей большой долгопалой рукой пальчики ребенка, сжатые в кулачок, Аманлык восхищался: даже рукой весь в меня, как вылитый. Его утомленное лицо осветилось веселой ухмылкой. Акбидай, растроганная, следила за каждым движением мужа, и у нее теплело на сердце. Она уже знала от людей, куда он отправляется с нукерами Мамана, а его жадный, долгий взгляд, каким он смотрел на сына, без слов говорил, что слухи были верны.
— Все ли спокойно в мире, мой бек? — робко спросила она.
Аманлык потемнел:
— Знай меси свое тесто!
Слезы капают в тесто, мысли ее в смятении, но она настороженно молчит.
И ночью Аманлык ничего толком ей не сказал. Утром заседлал коня. Взял на руки Жаксылыка, жадно прильнул к его личику и, с трудом оторвавшись от сына, вернул его матери. Никогда раньше отец так горячо не ласкал ребенка. Акбидай подумала: так прощается с близкими тот, кто знает, что назад не вернется. И она осмелилась заговорить сама:
— Бек мой, разве Абулхаир-хан не лютый наш враг? Чем обернется для нас помощь кровопийце? Не кладете ли вы сами свою голову на плаху?
— К чему ты это все говоришь?
— К тому, что ты идешь на войну, — боюсь за тебя, любимый!
— Замолчи! — И, не давая ей возразить, Аманлык тронул коня.
— Счастливого пути, бек мой! Дай бог свидеться вам с Жаксылыком!
— Уйди с дороги!
Аманлык хлестнул коня плеткой, поднимая его с места в карьер. Кончик плетки невзначай задел лоб Акбидай, прижавшейся головой к стремени мужа, — на лбу вспухла багровая полоса, тоненькой ниточкой засочилась кровь, смешиваясь со слезами на заплаканном лице. Но она ничего не замечала, застыла неподвижно, провожая взглядом джигитов, дружно скачущих вслед за Мамаиом.
Так и стояла она с омытым слезами и кровью лицом, прижимая к груди ребенка, и кисточки ее большого белого платка трепетали на студеном ветру.
Будто почувствовав, кого он только что лишился, ребенок громко заплакал.
— Не плачь, сынок, — шепнула она, давая мальчику грудь, — не ляжем камнем на дороге отца, даст бог — вернется нам на радость! — И, суеверно поплевав себе за ворот платья, Акбидай снова устремила взор вслед скрывшимся воинам.
20
Развалины с четырьмя прокопченными стенами — подарок хана за победу туркменского коня — вот и все добро, нажитое Кудияром-конюхом при ханском дворе. В пустом проеме окна свободно гуляет ветер, — зимой зияющий провал затыкают охапкой сена. Сквозь дыру в потолке в ясные дни выходит дым от очага, в сырую погоду или в мороз, когда хозяин закрывает отверстие, дым оседает внутри. Балки под потолком еле виднеются из-под толстого слоя копоти. Когда-то ласточки вили там гнезда, теперь они словно заштукатурены. Глаза у конюха красные, постоянно слезятся.
Есть в доме и кое-какая утварь: большой деревянный сундук, за ветхостью выброшенный из дворца. В сундуке хранится посуда: кувшин, котелок, с тюбетейку величиной, две глиняные пиалушки. На крышке сундука сложены черная кошма, рваное стеганое одеяло, тощая подушка, стоптанные сапоги да дырявый халат хозяина.
Привыкшая за четыре года к палатам ханского дворца, Алмагуль опасливо глянула вверх: казалось, что оттуда ей на голову вот-вот посыплется сажа. Не снимая с ног старых кожаных калош, она робко присела на уголок черной кошмы, расстеленной перед ней Кудияром.
Кудияр-конюх разжег очаг, поставил кумган на огонь и в нем же заварил чай, — чайника у него не было.
— Не робей, доченька, пей! — сказал он, протягивая ей пиалушку.
При слове «доченька», которое так жаждала услышать Алмагуль, ее поблекшее лицо затворницы расцвело и засияло, как цветок, будто пролился с потолка поток солнечных лучей, озаривших прокопченные стены.
— Дайте-ка я сама налью вам, отец, — молвила она и, скинув калоши, уселась поудобнее.
У старого конюха тряслись руки, когда он ставил перед девушкой свой черный кумган. Ведь за всю свою жизнь он ни разу не получил пиалы чая из рук женщины (разве что от матери в детстве).
Оба — и старик и девушка — долго пили чай молча. А когда разомлели, пот прошиб от горячего, стали рассказывать друг другу о себе: кто они такие да откуда. Сначала Алмагуль рассказала, что ей довелось пережить. Она добавила еще, что слышала от Амаплыка, будто есть у них где-то дядя, тоже по имени Кудияр, младший брат их отца Данияра. Конюх вздрогнул, побледнел, дыхание у него перехватило, бесцветные глаза побелели, хотел что-то сказать, но язык не повиновался, и он зарыдал.
— Благодарю тебя, господи… боже мой… — залепетал он наконец, обливаясь слезами… — Господи… Да ты же моя… миленькая, единственная родня моя, доченька… господи…
— Не плачьте, дядюшка Кудияр, — уговаривала Алмагуль, сама едва сдерживая слезы. — Если уж вы плачете, то мне-то что же остается делать? Детям утирают слезы родители… А наши слезы… не плачьте. Поблагодарим судьбу, что свидеться довелось!
— Сейчас, сейчас, милая, перестану… Ну уж, коли так, есть у меня в городе один-единственный друг — пусть и он порадуется с нами.
Матьякуб-дворник был соседом Кудияра, таким же бедняком, как и он сам. У него даже рубахи нательной не было, и летом он ходил до пояса голым. В таком виде он и явился на зов приятеля. Увидев, что навстречу ему, почтительно приветствуя гостя, вскочила красивая, богато одетая девушка, Матьякуб смутился и, бормоча: «Дай бог здоровья, дай бог здоровья!»- опустился на кошму.
И пошла у них оживленная беседа. Жадно слушали друзья рассказы Алмагуль о бедствиях разоренных каракалпаков, о шейхе Мурате, Оразан-батыре, о молодом бии Мамане. И хотя новостям этим было уже более четырех лет, оба сидели затаив дыхание, боясь пропустить хоть словечко.
Услышав о том, как легко удалось Алмагуль вырваться на свободу, как «подобрел» ни с того ни с сего разряженный истукан визирь, прозванный «мешочком ханского ума», Матьякуб даже языком прищелкнул.
— Потому-то он так просто на все согласился, что у него самого лед под ногами трещит! — весело сказал он. Подметая базарную площадь, прислуживая базарным завсегдатаям, Матьякуб был наслышан о готовящихся в ханстве переменах.
И — будто в воду глядел: через несколько дней поднялась во дворце суматоха. Абулгазы Мухаммеда скинули с трона. По улицам ездили глашатаи, во всеуслышание объявляя Гаипа — сына султана Среднего жуза Батыра — властительным ханом Хивы.
В городе установились новые порядки, въезд и выезд запрещены, во дворце орудуют иные люди. Но новшеств хватило ненадолго — жизнь вскоре повернула на старую колею. Гаип-хан оказался таким же тщеславным, как и его предшественник. Через малое время объявил он большой той. Конюха Кудияра разыскали, призвали пред светлые очи нового владыки и приказали к весне готовить скакунов на байгу. На пир пригласили гостей от казахов, туркмен, из священной Бухары. Они приведут с собой прославленных скакунов, и, если конь хивинского хана их не победит, конюх бывшего властителя будет казнен как враг нового.
Эти вести растревожили Алмагуль. Она мысленно представила себе возвращение Мамана от русской царицы, большой той на каракалпакской земле и с жаром расписывала Кудияру воображаемый праздник.
— Да, да, дядюшка Кудияр, так оно и было, конечно. Вы же помните, сколь милостив был ко мне тот русский человек. Не будь Маман-бий в силе, зачем бы ему так обо мне заботиться? — твердила она.
Терпеливо ждали они осени. Но осень прошла, наступила зима, а от Борибая не было ни слуху ни духу. Весной решили они посоветоваться с Матьякубом о побеге.
— Ну что ж, — рассудительно молвил он, — птица летит к своему гнезду, конь бежит к косяку, человек стремится на родину. Езжайте, друзья, а я вам помогу, чем сумею. Говорят, в низовье Амударьи кочуют люди кунграда. Найдете их — считайте, что вы уже дома.
А как уехать? Что, коли погонятся за ними лиходеи, чтобы выслужиться перед новым ханом? Думали-думали и решили бежать тайком на знаменитом скакуне туркменской породы. За ночь они уедут так далеко, что никакая погоня за ними не поспеет.
На том и решили. Матьякуб приготовил им торбочку толченого проса в дорогу. Темной весенней ночью Кудияр тихонько вывел скакуна из конюшни, крепко обнявшись с другом на прощанье, вскочил на коня, усадил у себя за спиной Алмагуль. В последний раз оглянулся он на свой ветхий дом, десять лет служивший ему убежищем: «Прощай, разнесчастная Хива, прощай, мой сирый кров. Дай нам бог счастливой дороги!» И он плеткой огрел коня, — скакун взял с места наметом, даже и не почуяв, что несет на себе двух седоков.
К ночи лужицы затянуло ледком. Стук копыт по затвердевшей земле разносился по городу. И старый конюх и девушка про себя молят бога о свободе. Кудияр нет-нет да обернется — нет ли за ними погони? Алмагуль крепко-накрепко ухватилась за его пояс. Она сидит без стремян, и калоши еле держатся у нее на ногах. Торопясь миновать городские улицы, Кудияр подхлестнул коня под брюхо, конь рванулся вперед, и одна калоша упала на землю, но девушка и словечка не молвила, сняла вторую и сунула себе за пазуху. Конюх спешит — время за полночь, — нахлестывает коня, нет-нет да и заденет плеткой по ногам Алмагуль, а та и виду не подает, что больно, жарко молится о счастливом пути на родину.
До берега Амударьи было еще далеко, когда на востоке забрезжил рассвет. Только когда впереди блеснула вода, они подумали о том, как же им переправиться через реку: на пароме или вплавь, держась за гриву и хвост коня. Но парома поблизости не видно, а вода подернулась тонким ледком.
— Если поскачем берегом вниз по теченью, там у Ходжейли река будет поуже, — буркнул Кудияр, — а может, и на переправу наткнемся.
Повеяло прохладным ветерком, — рассвет уже пылает в полнеба. Взошло солнце.
— Дядюшка, пыль клубится позади! — внезапно подала голос Алмагуль.
Будто кто кольнул Кудияра в сердце, он чуть придержал коня и оглянулся: и в самом деле, похоже — погоня! И он пуще прежнего гонит коня, круто повернув его к прибрежному лесу. Утомленный конь рванул из последних сил, колючий кустарник хлещет всадников по ногам, ветви до крови царапают руки и лица, конь начинает сдавать, но беглецы не теряют надежды.
— Крепче, крепче держись, милая! — только и приговаривает конюх, и вот, видно, близок уже Ходжейли, — густой лес начинает редеть, и внезапно конь выносит их на опушку. Перед ними расстилается зеленеющий росный луг. Там их уже поджидают двое верховых.
— Миленькая, пропали! — в отчаянии зашептал конюх. — Останешься в живых — поклон родной земле, наступит день твоего счастья — справь поминки, благослови мой прах… заблудишься — держи путь по солнцу… — И не договорил.
Усатый всадник в кольчуге мощным ударом всадил копье в грудь Кудияра.
Только и успел старик охнуть: «Доченька!»- всадник в кольчуге стряхнул его в реку, как малую рыбешку с остроги, и тотчас на забурлившей воде всплыли пятна крови. Огромную, как тыква, желтую шапку уносило вниз по течению. Алмагуль без сознания скатилась на землю. Второй всадник не стал колоть ее острием копья, а, будто змею, с силой ударил древком. Девушка подскочила, как рыба, выброшенная из воды, и перевернулась лицом вниз, ртом ловя воздух. Кровь окрасила пыльную землю.
Усатый воин в кольчуге тупо смотрел на воду, будто ожидая, что старик вынырнет из реки, а потом, повернув коня назад, поднял копье на девушку, но спутник придержал его за руку:
— Не тронь, сама сдохнет! Видишь, она себе язык откусила, вон черный клочок на земле валяется. За того старика заработали мы благодарность от рыб, а эту оставим воронам. Поехали!
Парень в кольчуге повел в поводу туркменского скакуна, и, как только убийцы скрылись, над Алмагуль повисла стая черных ворон.
21
Над Малым жузом разразилась гроза. С первых же дней войны султан Барак пошел в наступление. Не давая передышки, тревожит набегами аулы Малого жуза: режут, жгут, угоняют скот. Женщины, дети, старики, только завидев конников вдалеке, бегут врассыпную. Недаром говорится: «У кого бог отвагу отберет, того враг за горло возьмет». Но бой идет непрестанный, жестокий, и силы обеих сторон на пределе.
Стоя в рост на двугорбом белом верблюде, хан наблюдает за решающей битвой. Приближенные, коим запрещено садиться на верблюдов, дабы, увидев, что творится на поле битвы, по малодушию своему в панику не ударились, толкутся внизу, угодничая перед повелителем, криком и гвалтом поднимают дух воинства. Воины Абулхаира, измотанные боями, шаг за шагом пятятся назад, прижимаются к шатрам ханской ставки. Однако… держатся пока… Нет… Дрогнули! Бегут!
— Стойте, соколы мои, я с вами, остановитесь! Ни шагу назад! Бейте Барака, колите, рубите!
Зычный голос хана покрыл шум битвы, крики, стоны людей, звон железа и топот копыт, и отступавшие повернули коней вспять, бросились на наседающего врага. Сеча вспыхнула с новой силой. Тех, кто успел догнать бегущих, рубили саблями, кололи копьями, выбивая из рук щиты.
Но воины Среднего жуза кишели, как муравьи. Сколь их ни били, а сила врага умножалась. Бойцы с хрустом пронзали друг друга копьями, с криком «алла!» выбивали из седла. Кони без седоков мечутся среди всеобщей свалки, ржут, волоча по земле всадников, зацепившихся за стремена.
Неистовствует хан Абулхаир, провозглашая победные кличи, угодливо повторяют его слова, путаясь под ногами белого верблюда, бии-подхалимы. Но хотя победные вопли и льются из уст Абулхаира, хотя сулит он награду своим джигитам — по голове скота за голову убитого врага, — никто уже не верит в победу. И сам хан нетерпеливо поглядывает в небо, то ли надеясь, что гонимые ветром тучи прольются градом на головы сражающихся, то ли ожидая, что солнечный луч сверкнет из-под плотного облака прямо в глаза врагу.
В бессильной ярости сжимает хан кулаки, непристойная брань не сходит с его языка.
И все же, видя, что огромный белый верблюд неподвижно высится над толпой, воины бьются из последних сил.
И тут-то справа от ханского шатра, как из-под земли, вырос новый отряд конников. Волосы встали дыбом на голове Абулхаира: «Окружили!» Пристально вглядевшись, хан различил впереди надвигающегося войска знакомые лица: Айгара-бий, Седет-керей, глянул еще: третий всадник — Маман-бий. Хана затрясло как в лихорадке: идут кровопийцы! Когда враг хватает за ворот — собака — за ноги.
— Бии, кто это там? Поглядите! — заорал Абулхаир не помня себя.
— Подмога! Подмога пришла, хан наш! — загалдели бии.
— Простите нас, повелитель, осмелились мы именем вашим призвать каракалпаков на помощь, — робко молвил один, потолковее.
— А что станешь делать, коли помощь твоя обернется против нас же, глупец?!
— Не сомневайтесь, великий хан. Испросили мы совета у сына вашего Нуралы.
Айгара-бий, отделившись от конников, подъехал к угрюмо молчавшему хану.
— Хоть и разорили вы его землю, хан мой, Маман-бий с дружеским сердцем пришел на подмогу. Просит дозволения выступить на врага.
Ошеломленный нежданной радостью, хан рухнул с верблюда и, если бы не руки услужливых биев, наверняка сломал бы себе шею. Кто-то пригоршней плеснул ему воду в лицо, и он, быстро очнувшись, проворно полез на свою вышку.
— Айгара-бий, свет мой, скажи каракалпакским биям: прощенья, мол, просит хан ваш! — заикаясь, заговорил Абулхаир.
— Сказано, — угрюмо буркнул Айгара.
— Скажи: грамота, что привез Маман-бий от русской царицы, у меня цела. Придет с победой — с благодарностью ему верну!
Ханские посулы, данные перед лицом смерти, никто не принял на веру.
— Не думай, хан, что бросил кость собаке! — крикнул задорный голос из толпы. Воины захохотали. Маман-бий отвернулся, нахмурясь.
— Джигиты мои, прольем кровь за дружбу! Вперед! — И первым ринулся на врага.
Воины Среднего жуза, привыкшие уже к победам, ослабили было натиск, но, завидев свежее подкрепление, подтянулись, сомкнули ряды. И снова разгорелась битва. Загремели ружья, застучали копыта — люди все чаще валились наземь. Уже одиночки вырывались из строя и, спасая свою голову, вихрем скакали в степь. Воины Барака отступали. И вот уже джигиты Айгара-бия и Седет-керея, смешавшись с воинами Мамана, гонят врага.
— А ну, бии, поднимайтесь на своих верблюдов! — крикнул Абулхаир. — Глядите, что творится!
Бии, суетясь и толкаясь, полезли на верблюдов, облепили их горбы, с радостными воплями любовались бегущим врагом.
— Вот говорят: все народы одинаковые! — раздумчиво молвил бии, чей верблюд стоял обок с ханским. — ан нет: ведь не пожалели же каракалпакские бии своих голов, приняли на себя стрелы, нам предназначенные. Конечно, своих-то биев, Айгару да Седет-керея, мы сами наградим достойно. Однако уместно было бы и вам, хан наш, земно им поклониться за то, что сумели вытащить занозу из сердца обиженных каракалпаков.
Хан будто и не слышал этих дерзких речей, стоял, спесиво задрав голову, заслонив глаза от солнца ладонью, и неотрывно глядел вперед, а бий тоже цедил свои колкие слова, не оглядываясь на повелителя. Так и любовались они победой, пока не заслышали конского топота у себя за спиной. Сзади тучей надвигалось свежее конное войско.
— А это еще кто такие? — растерянно забормотали бии.
Иные, проворно прыгая с верблюдов, поодиночке отползали в сторонку, стремясь затаиться в зарослях тамариска, будто воробьи от ястреба. Абулхаир обернулся, и сердце у него упало, — его и биев, оставшихся на верблюдах, стремительно окружали воины Барака. Но, не желая выдавать свою слабость, Абулхаир выхватил у знаменосца знамя Малого жуза и высоко поднял его над толпой.
— Абулхаир, опусти знамя! Абулхаир молчал.
Приказ повторился. Абулхаир молчал.
— В последний раз говорю, — раздался в наступившей тишине тот же скрежещущий голос. — Абулхаир, немедленно брось знамя!
— Знамя хана — голова хана — не опускается! — твердо произнес Абулхаир.
— Джигиты, в копья!
Вмиг хан, все еще крепко сжимавший в руках древко, повис на острие тридцати копий.
— Джигиты! Знамя наше высоко! — крикнул он и испустил дух.
Воины бросили его бездыханное тело под ноги султана Барака. Султан медленно сошел со своего боевого коня, оттянул за волосы голову мертвеца, отсек ее от туловища ударом короткого меча и приторочил к своему седлу.
Тем временем джигиты расправлялись с верными Абулхаиру придворными. Один за другим, болтая руками и ногами, неистово вопя, те повисали на копьях, их быстро стряхивали в яму, как стряхивает рыбак в плетеную корзину битую рыбу с остроги. Яма заполнялась еще трепещущими телами.
Жанибек-тархан! Скачи в погоню за теми… воришками! — приказал Барак, и пять сотен конников ринулись вслед далеко откатившейся и уже затихавшей битве.
Жанибек-тархан и Маман-бий лишь на третий день столкнулись лицом к лицу в глубоком овраге, на расстоянии одного дня пути от аула хана. Завидев движущихся навстречу вооруженных всадников, оба, Жанибек и Маман, приказали своим воинам остановиться. Ни тот, ни другой не хотели показать врагу численность войска.
Жанибек выбрал двух джигитов на белых конях, вручил им белое полотнище и распорядился поднять на копье.
— Скачите к каракалпакам, — приказал он. — Скажите им: пусть не надеются на свои силы, немедленно бросают оружие, а не то пожалеют, что родились на свет каракалпаками. Если они на Абулхаира рассчитывают, то голова его в торбе приторочена к седлу султана Барака, скажите.
Айгара-бий, Седет-керей и Маман-бий съехались вместе и, поглядывая в сторону врага, держали совет: как и откуда лучше ударить, не дав разглядеть, как мало их самих осталось. Увидев всадников с белым флагом, бии решили подождать.
— Поговорим, если что доброе скажут, может, и договоримся, — молвил Айгара-бий.
Не доезжая десяти шагов до противника, парламентеры остановились, и старший, Отетлеу-тархан, слово в слово повторил наказ Жанибека.
«Пожалеете, что родились каракалпаками»?! — Колючие эти слова огнем обожгли сердце Маман-бия. — Пусть не кичится числом, а покажет доблесть воина!
— Жанибек ваш, тархан, занедужил, видно, бредит! — сказал Айгара-бий, тихонько придерживая Мамана.
— Безумный бред — душе вред! — Седет-керей вспылил. — Пускай укажет место для битвы!
— А вы что, души свои Малому жузу продали? — заносчиво крикнул Отетлеу-тархан. — Вам-то до казахов какое дело? Они плачут — и ваши дети плачут, они помирают — и каракалпакам смерть? Да весь народ казахский будет смеяться над вами, бесстыжими, ослушниками воли великого султана нашего Барака!
— Это над вами, насильниками бесчеловечными, казахский народ смеется, — вмешался Айгара-бий. — Грабить своих же, казахов Малого жуза, угонять их скот, детей по миру пускать — разве это дружба казаха с казахом?!
И тут из-за холма вылетел новый всадник на широкогрудом темногривом жеребце — обеспокоенный задержкой парламентеров сам Жанибек-тархан. Не доезжая двадцати шагов, он подозвал к себе гонцов и, вынув из торбы присланную с нарочным голову Абулхаира, медленно поднял ее вверх на копье.
— Ну как, красиво? Полюбуйтесь! — молвил он хвастливо.
— Не спеши на тот свет, Жанибек-тархан! И собственной твоей голове в торбу попасть недолго! — отрезал Маман.
— Маман-бий за всех за нас троих ответил, — отрезал Айгара-бий, и Седет-керей подтвердил:
— Истинно так!
— Не будь я сын своего отца, если всем вам головы не сниму! — в бешенстве крикнул Жанибек и круто повернул коня вспять, за ним поскакали и его нукеры.
Через малое время тархан вернулся с несметной воинской силой, грозовой тучей обложила она защитников Малого жуза. Но и разоренные Бараком жители казахских аулов, потерявшие все, кроме чести, ощетинились против врага: от мала до велика вышли на поле боя. Жестокая битва вспыхнула вновь. В сече враги не щадили друг друга, бились и днем и ночью. То те, то другие брали верх, — и те, и другие несли великий урон.
И даже когда многочисленные крепкие отряды султана Барака начинали теснить противника, люди гибли, но не сдавались. Хотя и потерявший половину своих земель, Малый жуз продолжал держаться, и воины подняли на белой кошме сына Абулхаира Нуралы. Над захваченными же Средним жузом аулами Барак поставил своего хана — Ералы из рода шекти. Война прекратилась. В Малом жузе возникло два ханства.
Едва выйдя из последней битвы, не успев снять боевых доспехов, Айгара-бий, Седет-керей и Маман прибыли в ханскую ставку поздравить с избранием нового хана Нуралы, и Маман-бий напомнил молодому правителю обещание его отца Абулхаира вернуть каракалпакам «бумагу великой надежды».
— Каждый хан властвует в свое время, — спесиво процедил Нуралы. — Мое начинается только теперь. Я никому еще ничего не обещал.
Маман-бий в гневе закусил собственный палец, выплюнул ноготь вместе с кровью и сам того не заметил. Один Аманлык понял, что творилось в душе друга. «Бедный Маман, только сейчас понял ты, как жестоко ошибся, доверившись Абулхаиру: один ты остался в ответе за напрасно загубленные жизни. Придешь к народу с пустыми руками, без «бумаги великой надежды», за которую джигиты твои полегли… Ох, тяжко тебе будет, тяжко!»
И вправду, — только вернулись они после ханского приема к своим джигитам, вспыхнул раздор. Посыпались упреки, иные показывали спину Маману. Грозились уйти. А Маман просил, уговаривал, бранился.
Что же мы — черви слепые, точить печенку человеку, крови своей для нас не пожалевшему! Ну, послушаем давайте, что старшие скажут, потерпим еще малость! — крикнул Аманлык.
Айгара-бий и Седет-керей низко кланялись нукерам.
— Наша вина, простите, джигиты. Не знали мы, что заднее колесо пойдет по следу переднего. За вашу службу Малому жузу аллах воздаст вам сторицей. Коли умрем — общая у нас с вами будет могила, живы будем — общий кров и достаток. Не сумели мы вернуть вам «бумагу великой надежды», но головы свои готовы за вас положить. На том прощения просим! — сказал Айгара.
Слова почтенного бия тронули сердца джигитов, и, переглянувшись, перебросившись словом между собой, дружно сказали они:
— Прощаем.
— Никогда народ наш не забудет, что благодаря помощи вашей половина Малого жуза цела осталась. Еще поднимемся мы, встанем рядом, будем опорой друг другу, — добавил Айгара-бий.
Доброе слово — душе отрада. Парни повеселели, гордые тем, что ратный труд их удостоен благодарности знаменитого бия.
Маман, замотав белым платком укушенный палец, молча слушал старших, — теперь он выступил вперед.
— Что там ни говори, отец мой, а время сейчас лихое, оружие складывать рано! — сказал он упрямо.
— Да кто же теперь-то нам угрожает? По чьей вине без конца воюем? — не вытерпел Седет-керей.
— По божьей воле, — прервал его Айгара-бий, не всем поровну раздал он благодать милосердия и доброты.
— А куда же бог смотрел? Это ведь несправедливо! — задорно выкрикнул какой-то джигит из толпы.
— А туда же и смотрел — ведь он бог, — отрезал Кейлимжай. — Был бы он справедливый — не был бы богом!
— Хорошо, джигиты, какой прок от долгих споров? Разойдемся, — прервал Айгара-бий. — А если хан Нура-лы по стопам отца своего пойдет, обманывать нас будет, мы терпеть не станем, покажем, что и мы люди!
— Да еще как покажем! — поддержал его Седет-керей.
На том и расстались. Айгара-бий с Седет-кереем, с джигитами отъехали к своим аулам. Маман-бий хотя и был в великой досаде на хана Нуралы, но глаза его светились нескрываемой радостью: его джигиты, малым числом, выстояли перед сильным врагом.
— Джигиты мои, вы сделали великое дело: утерли мы с вами нос Жанибек-тархану, век будет помнить! А теперь перед нами цель потруднее: разбить легко, а собрать трудно. Должны мы с вами собрать воедино каракалпаков, что разбрелись неведомо куда.
Джигиты дружно поддержали Мамана. Даже угрюмый замкнутый Шамурат-бий пробормотал: «Ладно».
* * *
Тщеславие — враг человека. Ради него Абулхаир-хан да Барак-султан сколько людей загубили! Барак сколько крови пролил, а и сам остался гол, как ощипанная курица. Пока-то он перьями обрастет да за прежнее возьмется, много воды утечет. Теперь долго будет ему не до драки. А еще и весна на носу — надо сеять!
Собрав старших и младших биев, всех, кто остался еще в живых, привел их Маман-бий в дом старика Рыскула. Тут же вспыхнули было обычные шумные, бестолковые споры, но они тут же и угасли. Люди пот нимали, что речь пойдет о завтрашнем дне народа.
Маман сразу заговорил о главном: собрать воедино все разбросанные бедствиями каракалпакские аулы. Выслушали мнение каждого бия, никто ему в том не перечил. Если иной из них и затаил про себя недовольство, но высказать его вслух не решился. Тут же выделили конные отряды, во главе которых встали именитые бии. Съездить к каракалпакам Хорезма взял на себя Рыскул-бий, а в помощь себе попросил молодого Гаипа — сына знаменитого Алифа Куланбая, по прозвищу Карабогатырь. В Бухару решили отправить людей во главе с бием Есимом, к Верхним Каракалпакам, во владения джунгар, вызвался поехать Хелует-тархан. А главным бием поставили Мамана.
В лихое это время должен стоять у власти непреклонный, сильный человек, — сказал Рыскул-бий. — Пора сеять. Надо вести канал от Куандарьи. А наипаче всего от раненых волков, что по нашей степи рыщут, обороняться: немало их тут и из абулхаировских недобитков, и из Барановых…
И тут разгорелся-таки долгий спор о войске. Одни говорили, что нужно всех воинов по домам распустить, другие — ни в коем случае: опасно. Третьи — отпустить на хозяйство только семейных. Но кто бы что ни говорил, все оглядывались на Мамана. Даже Рыскул-бий не решался высказаться определенно, но видно было, что он готов поддержать главного бия, и Маман это почувствовал.
— Все вы по-своему правы, господа мои! — сказал он, вставая. Голос его окреп, рот прикрывали густые черные усы, и он разгладил их в стороны. — Народ говорит: «Муха следит за ртом ротозея». А влетит муха в рот — человеку не поздоровится. Поэтому оставим в охране полсотни джигитов, а остальных распустим по домам. Никто не должен оказаться в стороне от надежды года.
На том и разошлись.
Назавтра всех семейных воинов распустили по домам. Те, кто пришел в нукеры из сирот, составили отряд землекопов. Их дело было рыть канавы, готовить землю для сева. Им выделили полоски и для собственного хозяйства. Пятьдесят отборных воинов, проявивших отвагу в бою (будь они из байских сынов или из сирот), оставили в охране. Местопребыванием их определили город Жанакент.
* * *
Тоскуя по Аманлыку, Акбидай совсем извелась, — война! — бог весть, суждено ли ему вернуться? Но, только переступив с этой мыслью порог, она увидела обросшего бородой, веселого всадника на статном вороном коне и птицей метнулась ему навстречу.
— Соскучилась я, бек мой, соскучилась! Аманлык сцрыгнул с коня. Обнимая большими жилистыми руками жену, исхудалую, легкую, он с болью ощущал хрупкие косточки у нее на спине и ласково терся колючим подбородком о впалую щеку.
— Мир, бек мой, теперь будет мир?
— Ну, сколько падать лягушке с неба? Конечно, мир, голубка моя! А что, Жаксылык уже умеет смеяться? — И, глянув ей прямо в лицо, увидел шрам у нее на лбу. — Ой, что это такое? — Видимо, он и не заметил тогда, отъезжая на войну, что задел ее концом плетки.
Акбидай поторопилась его успокоить:
— Споткнулась о корень джингиля, мой бек!
— Вот проклятые корни! Надо обрубить их, напомни!
Он уже спешил, обгоняя жену, к своей лачуге.
— Жаксылык где?
Только-только заснул, а я вышла дров наколоть. Смотрю: ты, ты! На своем вороном! — Обычно тихая, молчаливая, Акбидай говорила без умолку, кружась вокруг мужа.
«Есть и у меня верный человек, жена, любую тяжесть вместе поднимем!»- подумал Аманлык и только теперь почувствовал, как мир и спокойствие входит в его дом, прочно стоящий на родной каракалпакской земле. Словно почуяв рядом отца, ребенок вдруг завозился, захныкал. Склонившись над первенцем с двух сторон, родители приникли губами к его пухленькому тельцу.
Целуя ребенка, Акбидай заплакала от счастья, а Аманлык, который обычно сердито покрикивал на плачущую жену, сейчас будто и не замечал ее слез. Но она, глянув в лицо мужа, уже угадывала его тайные мысли. Алмагуль! Если бы все они собрались вместе у семейного очага! «Радость, видно, не приходит в этот мир одна, всегда пополам с горем», — подумала Акбидай, и острая жалость к любимому теснила ее сердце. Чуть свет тесно сплетенных объятием спящих супругов разбудил голос Мамана:
— Люди, вставайте! Солнце взошло!
Каждый день об этом оповещал аульчан глашатай, напоминая ленивцам, что тот, кто поднимется после восхода солнца, опоздает к ежедневной раздаче благодеяний, совершаемой на рассвете самим господом богом.
Супруги вскочили с постели. Аманлык, наскоро поцеловав сонного младенца, взлетел на коня и, подсунув под колено лопату вместо привычного соила, поспешил на рытье канала. Пока Акбидай хлопотала по хозяйству, солнце взошло на длину аркана. Привязав к спине спеленатого ребенка, она пошла рыхлить землю под посев. Остро отточенный, начищенный до блеска кетмень сверкал у нее на плече.
22
Алмагуль, невольно унесшая с собой половину радости Аманлыка и Акбидай, лежала в это время недвижимо на куче сухих листьев у берега Амударьи. Два дня пролежав без сознания, на третий она открыла заплывшие глаза. Но, увидев вокруг себя множество галдящих черных птиц, их жадные клювы, хватающие что-то у самого ее лица, она снова впала в беспамятство. Неизвестно на который день очнулась она окончательно, пошевелилась, и, шумя крылами, черная туча, казалось ей, скрывавшая солнце, поднялась над ее головой и с карканьем рассеялась в теплом воздухе. Тогда Алмагуль с трудом поднялась на четвереньки, а потом, опираясь о землю руками, встала в рост. Осмотрелась.
Широкий луг, за ним чернеет опушка леса, справа блестит вода. Река. По ней плывет что-то длинное, черное с хвостом, — в ужасе она снова закрыла глаза, — но это плыло по течению выдранное с корнем дерево турангиля. И вдруг она вспомнила все. «Миленькая, пропали… останешься живой, заблудишься… не забывай, держи путь по солнцу». Шатаясь на непослушных ногах, словно ребенок, только-только начинающий ходить, она шагнула, подняв лицо к небу. Путаясь в траве, запинаясь о пни, натыкаясь на стволы деревьев, брела она за солнцем.
Утром на восток, днем — на юг, вечером — на запад идет она и идет. Как фазан с перебитым крылом, не найдя щелки, куда спрятать голову, тащится, тащится, тащится…
23
Если не считать мелкого воровства да мошенничества, то до самого 1750 года и слыхом не слыхали каракалпаки ни о каких набегах или грабежах. И этот год проходил спокойно. Канал, берущий начало от Куан-дарьи, был многоводным, после осенней страды люди худо-бедно запаслись продовольствием на зиму.
Маман пересел со своего видавшего виды старого рыжего жеребца на белого коня-трехлетку из породы, выведенной в косяках Мурат-шейха. День-деньской кочует Маман-бий на этом коне по аулам. Его видят и на поле у хлеборобов, и в степи — среди табунщиков и чабанов. Но только выпадет свободная минутка, неотступно встает перед ним тревожная мысль о «бумаге великой надежды». Обхватив голову руками, он думает, думает о том, что надо бы ему опять поехать в Санкт-Петербург, и тут же останавливает себя: «Нельзя, Маман, народ оставлять, опять разорят его лиходеи. Не со стороны, так родовые распри изнутри его доконают…»
Но особенно опасается он коварства Жанибек-тархана. Чтобы не опустились натруженные руки людей, никому не говорит о своих опасениях, только все чаще и чаще навещает свой гарнизон в Жанакенте, беседует с воинами, чтобы не ослабляли бдительности, повсечасно думали о защите Родины.
«Что наипаче для страны опасно?»- спрашивал нукеров Маман. «В первое время разорения голод опасен», — отвечали. Теперь стали говорить: «Враг, исподтишка нападающий». Не почел возможным Маман и дальше таить про себя тревожные свои думы.
— Слыхали, джигиты, слово Жанибек-тархана: мол, не буду я сыном своего родного отца, если головы с вас не поснимаю? Ждет упрямый султан своего часа и нападет на нас непременно.
Во главе нукеров по-прежнему стоял Шамурат-бий. В душе ненавидевший Мамана, открыто, однако, выступить против него или вредить потихоньку он не решался. Не верил своим подчиненным. Особенно сомневался он в Бектемире и Кейлимжае: «Эти — голь перекатная — ив бога не верят, на Мамана своего молятся!». Тая свои замыслы про себя, он старательно повторял слова Мамана, первым отвечал на его вопросы.
Держа путь на учения в окрестности Жанакента, встретили они посольство Рыскул-бия, от усталости едва держащегося на своем изнуренном коне. Увидя парней, один за другим сходящих с лошадей, старик приосанился в седле и подал руку Маману, почтительно подошедшему к нему с протянутыми ладонями.
— Привет вам, джигиты, от каракалпаков Хорезма, — важно молвил он.
А сын Кара-батыра Гаип, преодолевая усталость дальнего пути, спешился и поочередно обнимался со всеми нукерами.
Все толпой повели гостей в Жанакент. Нукеры, остававшиеся в городе, расстелили гостям дастархан в тени увитой виноградом беседки, принесли чай, лепешки, мясо — все, что было у них лучшего…
Рыскул-бий и Гаип-батыр объездили большую часть каракалпакских племен, расселившихся по берегам Сырдарьи и Жанадарьи во владениях хивинского хана. Есенгельды-бий, который еще в 1743 году увел за собой половину кунградцев, наладил, оказывается, добрососедские отношения с родом покойного Шердали. Места у них для жизни удобные: с трех сторон вода — море и реки — и только одна граница проходит по суше. Если держать там крепкую воинскую заставу, враг не пройдет (разве что зимой!). Понравилось Рыскул-бию, как обжились там люди, только настроение Есенгельды и других биев старику не понравилось. Одеваться они стали щегольски, по-хорезмски. Вместо традиционной черной шапки многие водрузили на головы высокую меховую — шегирме. В произношении появилась у них слащавость, в движениях — манерность. На уговоры Рыскул-бия вернуться обратно, селиться снова на Сырдарье, блюсти единство рода кунград Есенгельды отрезал решительно:
— Не пойдем, Рыскул-отец. Достаточно плевали мы против ветра, все лицо себе перемазали. Пойду к хану в Хиву, возьму у него ярлык на власть над всеми каракалпаками здешними.
— А если хан захочет на тебя плюнуть, ты ему сам лицо свое подставишь? — скорбя вопрошал старик.
— Человек, давший себе слово не плевать против ветра, волен идти, куда захочет.
Рыскул-бий не раз еще приступал к уговорам. Просил если не переселяться, то хоть воинскую помощь в случае нападения врагов оказать. Но с Есенгельды кашу не сваришь, так и отъехали от него ни с чем.
На обратном пути долго гостили в ауле Убайдулла-бия, расселившего свой род по берегам Жанадарьи. Этот род, видимо, обжился здесь прочно. Даже городок свой построили для единственного сына Убайдуллы Орын-бая. Принесенные Рыскул-бием вести о бесславной гибели Гаип-хана и Абулхаира истинно обрадовали Убайдулла-бия. От души заверил он, что ничего не пожалеет для помощи родным каракалпакам, где бы она ни понадобилась. Обещал собрать весь аул Шердали и всех остальных биев мангытских, а если послушается, то и Есенгельды, когда понадобится Нижним Каракалпакам воинская помощь.
Рассказывая о своем посольстве, Рыскул-бий умалчивал о недостойных словах Есенгельды, больше говорил о добрых посулах хорезмских биев. А Гаип-батыр, желая поднять дух сородичей, тоже кое-что утаил, преувеличивая готовность хорезмских каракалпаков прийти на помощь в нужде. Но под конец своей речи почему-то ляпнул:
— Земля их очень была бы удобна и для таких нищих каракалпаков, как мы.
— Не болтай, дурень! — Рыскул-бий рассердился. — Бежать за людьми, покинувшими землю отцов, — все, равно что заживо умереть. Разуваться, воды не видя, падать с коня, врага не видя, — бабское это дело!
Все умолкли, будто воды в рот набрали. А Шамурат-бий оглянулся на Гаип-батыра, подмигнул: мол, после поговорим.
Рыскул-бий немало размышлял о том, как принесет и передаст своим людям доброе слово надежды, но скрывать от старейшин истинное положение вещей считал неуместным. Вечером вызвал Рыскул-бий к себе Мамана и Шамурата и сказал им доверительно:
— А Есенгельды-то от нас отрекся. Не хочет плевать против ветра. От него помощи не ждите.
Маман в гневе раздул ноздри, желваки заиграли у него на щеках, сидел, разглаживая усы, покачивался.
— Невдомек ему, что вверх плевать все равно что плевать против ветра, — сквозь зубы процедил он.
— А с другой стороны, Есенгельды прав, — спокойно молвил Шамурат-бий.
Рыскул-бий в ярости повернулся к Шамурату. Маман-бий обжег его охненным взглядом. Шамурат оставался безмятежным. Лицо его не выражало ровно ничего.
Будто договорились между собой посланцы каракалпаков, — назавтра появился и Есим-бий. Бухарские каракалпаки заверяли, что помощи братьям своим не пожалеют, а назад возвращаться не хотят.
И снова начались споры между родами. Шамурат-бий осмелел, горой вставал за честь Есенгельды перед джигитами, до небес превознося его «истинную заботу» о славном роде кунград. Вы, дескать, Мамана не слушайте, — ему вашей крови не жалко!
На бахче невезучего и дыня получается пестрой. Не успели люди посудачить о новых разногласиях между собой, как у ворот Жанакента объявился враг. На рассвете Жанибек-тархан со всех сторон обложил город. Опять настали черные дни. Пока бии поспешно готовили войско к отпору, Шамурат-бий тихонько выбрался из Жанакента и принялся снаряжать свой аул к откочевке. Рыскул-бий не стерпел такого позора. Призвал к себе Гаип-батыра, приказал ему поймать Шамурата, руки-ноги связать и до конца боя выставить изменника на позор перед городскими воротами.
Сам Маман-бий накрепко прикрутил предателя к воротам осажденного Жанакента. Весь народ поднялся на врага, Рыскул-бий, под развернутым знаменем, сам встал во главе войска и вывел его из города навстречу врагу.
— Эй, Жанибек-тархан! — кричал старик со своего огромного боевого коня. — Не будь трусом, выезжай, поговорим!
Враг безмолвствовал. Неподвижно стоящий впереди войска на своем широкогрудом жеребце Жанибек-тархан не ответил ни слова. Готовясь к поединку, старец давал последние наставления Маману:
— Если проиграешь битву, сын мой Маман, не сочти за унижение спрятаться в кусты, веди народ в Хорезм по следу Есенгельды. Другого выхода нет. Надо почки сохранять, а листья потом развернутся. Когда объединишь весь народ каракалпакский, присоединяйся к русским. Мы от русских худа не видали. Русское ружье вывело нас из ханского плена. Помни: тот чабан мудр и хорош, кто умеет защитить овец от волка. В наше время мудрым быть тяжело, будь хоть хорошим. Сколько бы бед ни свалилось на твою голову, не разрывай союз живых, соединяй народ свой с русским.
А я… иной раз мертвый приносит больше пользы, чем живой. Родные и близкие мои уронили себя в глазах кунграда, а может быть, и моя цена уже не велика. Одно знаю: если умру, многие обо мне пожалеют и весь кунград пойдет за гробом. Коли паду в битве, пошли Гаип-батыра с вестью: «Умер Рыскул-бий!»- сам увидишь…
С этими словами он послал своего старого гнедого вперед, а Жанибек-тархан, стоящий рядом с Отетлеу-тарханом, во главе своего тысячного войска, глумливо крикнул:
— Эй, старый баран! Если сам отрежешь и принесешь нам голову своего Мамана, мы тебя, так и быть, помилуем
Рыскул-бий вздрогнул от оскорбления и, не сбавляя хода гнедого, метнул боевое копье. Прицел был точным, один из двух всадников упал, но это был Отетлеу-тар-хан. Жанибек с гиком бросился вперед и на скаку своего тяжелого темногривого коня снял Рыскул-бия с седла.
Бой закипел…
Маман-бий уже давно отправил Аманлыка поднимать аулы ктай, кенегес, жалаир. Маман крикнул Гаип-батыру:
— Скачи к кунградцам!
Вихрем мелькнуло круглое темное лицо Гаипа, морда его коня с прижатыми острыми ушами.
На третий день поднялись все черные шапки. Приехала Шарипа во главе ктайцев… Как и сказал Рыскул-бий, весь кунград — будто теперь только познал цену своему великому бию — от мала до велика вышел на кровавую тризну по нем. У кого соил, у кого топор, у кого лопата… каждый куст колол глаза врагу.
Не выдержав и недели, Жанибек снял осаду и отступил. Тогда только спустили с привязи презренного Шамурата…
* * *
Есть два рода победы: победа случая и победа силы. Маман-бий считал свою — победой случая. Он твердо усвоил, что малая сила над большой надолго верх не берет, в любое время Жанибек-тархан может опять поднять голову. Маман-бий предчувствовал и предвидел новое, невиданно жестокое кровопролитие. Он не знал, когда оно будет и с чего начнется, но знал, чем кончится и во что обойдется народу. Молчаливый и угрюмый, он всем существом своим ощутил смысл мудрого слова Кузьмы Бородина, что у каракалпаков нет горы за спиной, не на что ему опереться, понимал, что судьба народа висит на волоске. Единственный выход — Санкт-Петербург. Эта неотвязная мысль снова и снова не давала ему покоя. Ведь у великой царицы и заботы велики, где там сохранится у нее в памяти обещание, данное каракалпакам! Да еще, может, узнала она, что не смогли они удержать в руках дарованную ею «бумагу великой надежды». Глядишь, подумает, что не знают они цены дружбы с Россией, и лишит народ каракалпакский милостивого своего внимания.
— Нет! Ехать-ехать!.. А что, если он уедет, а враги тут же и нападут? Нет, нельзя уезжать, невозможно!
Пока Маман ходил погруженный в свои бесконечные путаные, липкие, как паутина, мысли, вернулось посольство Хелует-тархана. Джунгарские каракалпаки просят их не тревожить и разговоров о воссоединении больше не заводить. Они живут под джунгарами уже тридцать лет, привыкли, и нравы их и обычаи переменились, многое восприняли они от джунгар, даже языки у них перемешались. А потому просили старейшины: забудьте нас и оставьте в покое.
Это была убийственная весть, и Маману осталось только скрепя сердце примириться с обидой, — не дай бог, и хивинские да бухарские каракалпаки пойдут по той же дорожке. Надо всеми силами дружбу с ними крепить. Хотя и отделяли их от сородичей немереные версты пустыни, стали чаще посылать к ним людей, и оттуда начали приходить конные отряды, помогать бороться с обидчиками. Даже с берегов Жанадарьи приезжали джигиты и грудью вставали на защиту собратьев.
Казахские роды Айгара-бия, Седет-керея, все адаи и алим не жалели ни крови, ни скота, когда надо было помочь ослабевшим соседям.
Но это не успокаивало Маман-бия. Шумная, пестрая в своем однообразии жизнь истощала его душевные силы. Он не мог спокойно ждать вражеского налета в надежде на помощь русской царицы и не смел никуда отъехать в опасении, что не только оставшаяся часть народа разбредется по белу свету, но и самое слово «каракалпак» забудется, навсегда исчезнет. И все же он продолжал верить в помощь царицы, с волнением искал встречи с любым русским торговым человеком или беглецом, которые идут с караванами на восток через каракалпакские земли. И однажды проезжий русский купец обронил слово о том, что где-то на Западе идет война между Пруссией и Россией.
Эта весть с одной стороны даже обрадовала Мамана: значит, правильны были его мысли, что обещанная помощь каракалпакам не приходит только из-за великой царской заботы о защите всей земли русской от чужеземного врага. А о короле Фридрихе Втором был он наслышан как о самом сильном полководце в Европе. С другой стороны, слово купца обожгло Мамана мгновенной догадкой: война есть война, когда и как кончится — неизвестно, значит, и помощи каракалпакам от России ждать пока не приходится.
И хотя Маман свято верил, что великая русская держава в конце концов победит, он не мог больше оставаться в неведении и послал Аманлыка, чтобы проведать обо всем, в Оренбург.
Аманлык отсутствовал полтора месяца, а вернулся с худой вестью: канцлер Алексей Петрович Бестужев, который вел переговоры с Маманом, изгнан из дворца и отправлен в ссылку. Эта весть так ошеломила Мамана, что он с гневом набросился на Аманлыка, будто тот был виновен в падении Бестужева:
Что ты врешь?! Быть того не может!
— Весть издалека не приходит без потери или без добавления, — рассудительно молвил Аманлык. — Может, что-то здесь и преувеличено, ясно одно: Бестужев в немилости.
— А узнал ты, как началась русско-прусская война? В чем тут вина Бестужева? — все еще сердито спросил Маман-бий.
Аманлык хотя и приметил необычную возбужденность Мамана, но сам сохранял хладнокровие.
— Оренбуржцы рассказывают, будто причиной всему царица Австрии по имени Мария-Тереза: захотела она вернуть себе отвоеванные у нее Пруссией земли. Ее поддержала русская царица, — у ней с прусским царем Фридрихом свои счеты. А Фридрих тот узнал о сговоре двух цариц — да первым и напал на Россию.
У Мамана перехватило дыхание, капельки пота выступили на лбу, и он с сожалением покачал головой.
— Я еще тогда в Петербурге слышал, что прусская армия самая сильная в Европе.
— Оренбуржцы говорят: на Пруссию ополчились многие страны — все вместе!
Ополчились-то они вместе, а желания-то у них врозь, у каждого свои. Не дай бог, затянется эта война!
— Ну, об этом в Оренбурге никто ничего не знает. Только все считают: правильно погнали Бестужева из дворца. Говорят, по наущению английского посла по имени Уильяме предал он интересы России, сбил с пути главнокомандующего русских, имя которому Апраксин, помешал ему сражаться с Пруссией.
Маман сдвинул густые брови, нахмурился.
— Да… видно, верно сказал тогда о царице Елизавете Петровне Кузьма Бородин. Может, и впрямь не сумела она постигнуть сердца истинных сынов своего отечества… Если все это правда, то это и есть самое грязное предательство! — Он глубоко вздохнул. — Теперь-то я понял, почему нет нам помощи от царицы!
Он в раздумье глянул вдаль.
— Все-таки не верится мне, что Бестужев предатель. По-моему, в самом царском дворце завелась измена. Может, тот англичанин по имени Уильяме — шпион царя Фридриха Второго?
Аманлык молчал.
С этого дня Маман окончательно потерял покой. Дни и ночи думал о том, как найти выход из положения. Одно время пришла ему в голову шальная мысль: пойти со своими джигитами на помощь царице, воевать против Пруссии. Но по зрелом размышлении ему самому эта мысль показалась нелепой. Поехать на великую войну с маленькой горсткой джигитов — все равно что стать бабочкой: летит она на свет, а попадает в огонь. Теперь, отказавшись от мысли покинуть родную землю, Маман стал страстным ревнителем русского воинства. Все мысли Мамана о Петербурге, главная забота — новости с русско-прусской войны.
Новости приходят в каракалпакскую степь приукрашенными, а то и вовсе неправдоподобными, но Маман всем сердцем радуется, если услышит о победе русских, а если кто скажет, что где-то они отступили, вся душа его плавится в огне. Временами жизнь предстает перед ним какой-то жестокой бессмысленной суетой. Кто виноват, что она такая? Маман то во всем обвиняет себя, то неуемных и злобных врагов.
Так, в напрасных хлопотах и волнениях, шли дни, месяцы, годы, а война, видно, все продолжалась, не слышно было, чтоб она кончилась.
В конце 1761 года пришла к Маману скорбная весть: умерла царица Елизавета Петровна, на трон воссел царь Петр Третий.
«Большое несчастье для нас», — мысленно сказал себе Маман.
Не успел Маман примириться с одною вестью, как пришла другая: царь Петр Третий заключил с Фридрихом прусским перемирие. В досаде Маман рубанул воздух:
— Да как же это он мог?! Ведь Фридрих прусский не одной России враг. Недаром поднялась на него вся Европа!
Но это были только слова каракалпакского бия Мамана, произнесенные в глухой, бескрайней степи. Никто их не слышал, никто не возражал, и никто не поддерживал.
Маман долго ходил в одиночестве, обдумывая и взвешивая все обстоятельства, и наконец решил, что все ж таки непременно нужно ему ехать в Петербург, представиться новому царю, напомнить о своем народе, рассказать во дворце о своих мыслях и сомнениях. Последнюю ночь перед отъездом он решил провести в Жанакенте.
В полночь его разбудили неистовые вопли, шум, треск, топот копыт. В окно полыхнула преждевременная заря. Черно-багровое пламя внезапно охватило город. Студеный осенний ветер раздувал пожар, красные языки огня стремительно перебрасывались от одного дома к другому. Клубящиеся тучи дыма заволокли небо. Люди стремительно выскакивали из горящих юрт и домов, а иные, задыхаясь в дыму, погибали под рушащейся кровлей.
Бедствие застало людей врасплох, кого в огненной постели, кого в дороге, кого на пастбище в степи. Никто не успел и не мог прийти на помощь горожанам. Аулы горели, люди гибли под копытами конницы султана Среднего жуза Аблая.
Маман-бий, стремясь поднять народ на врага, как опаленная бабочка метался среди огня и дыма от аула к аулу на своем грязном от копоти белом коне. Его догнал и задержал гонец Айгара-бия. Едва откашлявшись от дыма, он торопливо заговорил:
— Маман-бий, устоять перед этой силой невозможно. Вчера они убили нашего Айгара-бия. Меня к вам послал бий Мырзабек. По возможности, говорит, пусть Маман найдет укрытие своим людям; надо, говорит, отсюда откочевывать. И нас он переселяет. Все аулы Седет-керея и род адай и часть рода алим уже тронулись в путь. Все люди Малого жуза и я тоже… с семьей… до свиданья, Маман-бий, простите… — И он ускакал.
Маман-бий застыл ошеломленный. Снится все это ему, что ли? Собравшись с мыслями, он стегнул плеткой своего белого коня, крича во весь голос:
— Друзья мои, родичи, переселяйтесь! Идите на побережье Арала, в Хорезм кочуйте, по старому руслу идите, только все вместе, вместе, рука об руку…
Громовый голос Мамана заглушал вой урагана, но его слышали во всех аулах. Люди разбирали и вьючили юрты, валили дома, разоряли лачуги, гнали скот. Но вражьи нукеры настигали беглецов, поваленные дома горели, собранные жителями стада гнали к урочищам Среднего жуза. Люди, успевшие выгнать скот на край селения, оставались ни с чем. Топот копыт, блеяние отар, плач детей, потерявших родителей, крики родителей, ищущих своих детей, причитания женщин, рыдания, вздохи, горестные слова прощания — все слилось в скорбную песню горя. Далеко разносил ее ветер.
— Будь счастлив, милый! Прощай, несчастный мой кров!
— Прощай, черная доля моя!
Сквозь чад и дым пожарищ мелькает то здесь, то там неистовый Маман-бий на своем белом коне.
Стонали степи. Горы грохотали обвалами, погребая под снегом кочующие караваны; снег без конца сыпался с неба, заметал дороги, закрывал перевалы; растерявшие листья деревья гнулись под ветром, кланялись людям, будто хотели сказать: «Вот и вы остались голыми, как и мы, и, как мы, снова оденетесь весною», свистели, шипели и с хрустом ломались, не выстояв под напором вьюги.
Старое небо плакало, не отрывая глаз от адского этого зрелища, и вместо слез сыпались и сыпались на землю белые его ресницы.
Опять, как в дни 1743 года, запела, без конца повторяясь повсюду — от берегов Сырдарьи до рукавов Аму, — скорбь народного сердца:
Где мой дед был джигитом, а бабка — девицей… Ты прости и прощай, добрый мой Туркестан! Пролилась наша кровь, как живая водица… Ты прости и прощай, злой ты мой Туркестан!Вторили этой печальной песне степи, пески и холмы, даже сухие травы, хрустящие под ногами тяжело груженных ослов и взваливших на спину жалкие свои пожитки людей. Все говорило: «Прощай, прощай!» Под этот напев падали на дорогу беглецы, умирающие от голода, старости и болезней… Все плачут и поют о родной земле, об отчем крове. Тоске и слезам не видно конца. В разоренных аулах, оставленных хозяевами-каракалпаками, уже устраивались на житье люди султана Аблая. Маман-бий нигде не останавливался, не сходил со своего белого коня. Проскакав по зимнему стойбищу, где уже хозяйничали домовитые баи Среднего жуза, он искал своих сородичей, — может быть, нуждаются люди в его помощи. Но их уже давно согнали с теплых, обжитых мест. В обгоревших шалашах и лачугах ютились лишь ветхие старики и старухи, многодетные семьи да калеки, у которых не было ни сил, ни средств для кочевки.
— Маман, а сколько тебе от роду лет, сынок? Очнувшись от горького раздумья, Маман осадил коня. Перед ним, опираясь на посох, уткнувшись в него подбородком, стоял сгорбленный, немощный старец. Впалая грудь едва дышит, стоит он, словно лук, переломленный посередине, смотрит белесыми выцветшими глазами, — кажется, вот-вот упадет. Маман в недоумении глядел на старика, снова узнавал и не узнавал его: неужели он тот самый чернобородый Сейдулла Большой, великан, аткосшы Мурат-шейха, который пожелал Маману долгой жизни в тот памятный скорбный час, когда он остался один в степи после казни Аллаяра. Не он ли сказал тогда: живи подольше… с благословением людским, а не с проклятием…
Уразумел ты, сынок, на что я тогда намекал?.. Напрасно я пожелал тебе тогда долгой жизни. В этом непостоянном, жестоком мире не нужно жить долго, как я, до семидесяти лет…
— А где же сыновья ваши?
Ушли. Старший хотел взвалить меня себе на спину. Вместо себя я внуков своих на плечи ему посадил… А ты знаешь, почему Мурат-шейх выколол себе глаза, в колодец бросился? Он, праведник, не хотел видеть этот лживый мир, не хотел жить в этом несчастном черном мире. Тогда я его осуждал. Теперь понял: я был не прав. Ну, Маман, не мешкай, езжай. После все сам поймешь…
С этими словами Сейдулла Большой повернулся и скрылся в своей полуразрушенной, завалившейся набок лачуге.
Маман поскакал дальше…
24
Прицепилась к Акбидай какая-то долгая хворь. Иссохшая, бледная, Акбидай кашляет все ночи напролет, мучается, не смыкая глаз. По счастью, сын ее Жаксы-лык подрос — четырнадцать лет ему минуло, — на него легли все заботы по дому.
Оставив Жаксылыка хозяйничать — колоть дрова, таскать воду, толочь в ступе зерно, — Аманлык поехал в Жанакент на базар. Беспокоясь о больной жене, он редко оставался в городе ночевать. А вот в ту огненную ночь набега остался. Чудом он выбрался из горящего дома, случайно, полузадушенный дымом, наткнулся на дверь. Во дворе кашлял, плевал черными сгустками копоти Бектемир. Думали — вот-вот выскочит и Кейлимжай, но с треском рухнул потолок, погребая под собой Кейлимжая.
— Воля бога, отнявшего у нас смех! — вздохнул Аманлык, ни с кем не прощаясь, взлетел в седло и помчался домой.
В дороге услышал призывный голос Мамана, а подъехав к дверям новой юрты, поставленной в прошлом году тестем, увидел четырех незнакомых вооруженных парней, расположившихся на сложенной Жаксылыком поленнице дров. Мурашки побежали по спине Аманлыка, когда двое из них взяли под уздцы его лошадь, но он не торопясь спешился и виду не подал, что испугался. Двое других с поднятыми копьями вошли вслед за ним в юрту.
— Ну-ка, дочь казаха! Приехал твой муж-каракалпак. Довольно мы тут с тобой возились, освобождай дом! — Один из парней подтолкнул Аманлыка. — Бери еды на дорогу и отваливай! Чего медлишь? Нашу сестру себе не оставим, забирай ее, нам она не нужна. Это тебе подарок от нас — пользуйся!
— Чего ждете? — раздался голос парня, оставшегося с конем во дворе. — Не идут, что ли?
Аманлык сначала было понадеялся, что на шум прибегут соседи, но, увидев, как деловито и спокойно рылись грабители в его вещах, понял, что с аулом покончено и эти вороны попросту забирают свою долю добычи. Один концом копья ворошил убранную постель, другой снял со стены торбочку с жареным просом, повесил ее на шею Акбидай:
— Вот вам на дорогу! И выходите из юрты!
— Сами выходите! — выкрикнул взбешенный Аман-лык. Жилы у него на висках вздулись, борода ощетинилась.
Акбидай поняла, что дело кончится плохо, упала к ногам мужа, не обращая внимания на то, что драгоценное просо сыпалось из мешочка, повешенного ей на шею.
— Не противься им, бек мой! Не оставь сына нашего сиротой! Жаксылык, возьми меня за руку, сынок. Братья, не гневайтесь на зятя вашего! Мы сейчас уйдем! Мы уйдем — все вам оставим!
Грабители не дали им опомниться. Отец с сыном едва успели захватить кое-какие пожитки и взвалить их на спину, как их вытолкали за порог. Ведя под руку больную Акбидай, вышли они на дорогу, по которой нескончаемым потоком двигался разоренный, изгнанный из родных аулов народ. С неба густо валил снег.
Если бы не болезнь Акбидай, им было бы не так трудно. Люди они молодые, ни малых детей, ни дряхлых стариков с ними нет, вещички у них не тяжелые. Акбидай и то старалась кое-что сама тащить, не все же на мужа да сына взваливать. На первых порах они даже перегоняли многих беженцев, что еле брели, с трудом вытягивая ноги из глубокого, по колено, снега. Уже далеко позади оставались родные места, все больше становилось обессилевших путников, сидящих на обочинах дороги. Потом увидели они и мертвых, закоченевших на снегу, — вьюжный ветер трепал их лохмотья, снег набивался в глазницы. Их становилось все больше: дети, взрослые, старики. Вот лежит замерзший ребенок, приник окаменевшим личиком к груди мертвой матери; вот старик — широко раскинул руки, уставился невидящим оком в беспощадное белое небо. С криком бегут наперегонки по снегу посиневшие от стужи босоногие ребятишки, клянчат кусочки у еле плетущихся взрослых.
Первые дни пути Акбидай совала в тощие, как птичьи лапы, ладошки попрошаек то горсточку проса, то кусочек хлеба, но вскоре запасы семьи истощились, и все трое безучастно проходили мимо живых и мертвых, уставившись вперед, в неоглядное снежное пространство, которому не было ни конца ни края.
Глаза у них ввалились, ноги отяжелели, вдобавок пурга сыплет и вьет, залепляет лица снегом. Силы их покидали, шаги замедлялись, словно во сне они перебирали ногами, но, казалось, не двигались с места, время остановилось. Внезапно в этой немыслимой белой глуши стали появляться какие-то наскоро сооруженные навесы, шалаши, даже завиднелась в безлюдном пространстве крытая войлоком юрта. Перед юртой горит костерок, под навесом теснится скот, лежат верблюды. Хитрые баи заблаговременно успели, оказывается, ноги унести, подумал Аманлык.
Внезапно Акбидай, которая давно уже отказывала себе в пище ради сына, запнулась, упала, и ее тут же вырвало кровью. Аманлык поднял ее и, обняв обеими руками, упрямо повел дальше.
Все трое прошли мимо байской кочевки, продолжая двигаться вперед и вперед, хотя знали, что могут внезапно остановиться, как перекати-поле, застрявшее в сухом бурьяне.
Чуть в стороне от дороги Акбидай увидела трех сидящих, скрестив ноги, мужчин. Они ели хлеб. Сглотнув слюну, она тихонько шепнула мужу:
— Остановись, мой бек… Отдохни!
Аманлык сел. И Жаксылык сел рядом с матерью. Они старались не глядеть на этих людей, которые медленно жевали. Увидев, что, глотнув снега вместо воды, мужчины выходят на дорогу, Акбидай протянула руку мужу:
— И мы давай встанем, бек мой! Вместе с ними.
— Нам за ними не угнаться, голубка!..
— Ну… а вдруг… вдруг кто-нибудь из них обронит кусочек…
Руки опустились у Аманлыка. Соленая слеза выкатилась из глаза и застыла на щеке… Едва пересиливая себя, он, увязая в снегу, бросился к песчаному холмику, маячившему в степи, руками разгреб сугроб у его подножия. Вместе с Жаксылыком они нарвали охапку сухого камыша, расстелили в затишке и уложили Акбидай. Потом наломали веток джангиля и связали над нею шалаш. Они даже развели маленький костерок внутри и поставили на огонь закопченный котелок, набитый снегом. Почувствовав слабое веяние тепла, ослабевшая и замерзшая Акбидай слегка шевельнула губами: «Суп…»
— Где суп?
Аманлык, еле волоча ноги, вылез из укрытия и увидел в нескольких шагах от себя — руку протянуть — беленького зайчика, который смотрел на него, приподняв длинное ухо. Но не успел Аманлык подумать: «Вот бы тебя…», как заяц вскочил и затерялся в снежной белизне… Аманлык махнул рукой и зашагал по дороге назад, к байскому стойбищу, мимо которого они проходили утром. К ночи он вернулся с куском мяса величиной с кулак.
Акбидай спала, Жаксылык поддерживал огонек. Аманлык положил мясо в котелок и присел у изголовья Акбидай, потихоньку гладя ее шелковые волосы, в которых теперь все гуще проступала седина.
Утром он вывел сына на дорогу и, подтолкнув к беспрерывно текущему по ней людскому потоку, шепнул:
— Проси!
Потом вернулся в шалаш и разогрел для Акбидай оставшийся суп.
— Любимый мой, не задерживайтесь здесь с сыном из-за меня… — с трудом простонала Акбидай. — Мне уже не встать, нет… Идите, идите с сыном, а то и вы поляжете в этих песках.
— Ну что ты, голубка моя! Поправишься, мы и пойдем! Теперь уже недалеко…
— Теперь уже недалеко… — тихонько пробормотала Акбидай в забытьи. Аманлык вышел на дорогу.
Потеплело. Мимо прошел человек, ведя на веревке корову. Аманлыку было приятно глядеть, как она шла, неся тяжелое вымя, полное молока. «Будет у народа — и нам в рот попадет».
Среди попрошаек он увидел и Жаксылыка. Сын показался ему крупнее, сильнее, сообразительней других. Но он не лез вперед, не толкался. Вспомнилась Аман-лыку его нищая юность, и снова слезы навернулись на глаза.
— Ой, аллах, когда же смилостивишься ты над рабами своими?!
Вдали показались путники на двух верблюдах. Между горбов сидят женщины и дети. Хозяин едет на осле, держит верблюда в поводу, позади кочевки идет около десятка коров. Мальчишки оживились:
— Эй, куда лезешь! Стой! Ишь проныра!
Они кричали, оттаскивая друг друга назад, толкались, совали кулаки, сквернословили.
— Не драться, тихо! — крикнул Аманлык.
— А ты не суйся! — отрезал чумазый босой парнишка с посиневшими от холода ногами. — Сам хочешь все захапать?!
Аманлык ничего не ответил, молча придержал за плечи сына и встал вместе с ним позади нищих.
— Счастливого пути, господин! — загомонили ребята, кидаясь к человеку на осле. — Живите долго! Пусть вашим деткам не придется по миру ходить, как мы ходим!
Байский сынок, качаясь на верблюде, грыз огромную баранью кость. Балуясь, он вдруг кинул ее в самую гущу бегущих за верблюдом мальчишек. Голодные ринулись за ней, как грызущиеся собаки, лезли друг на друга и вскоре слились в барахтающийся грязный ком.
— Эй, старик! А ты почему не спускаешь свою собачонку? — глумливо крикнул бай со своего ишака. — Не видишь, что ли, что твой щенок другим не чета, захочет — у всех отнимет! Пускай! Чего там? Жизнь-то дороже совести!
Первый раз услышал Аманлык слово «старик», обращенное к нему самому. Но ему теперь было все равно, как его ни назови.
— Если вы-то сами совестливый человек, помогите! Жена моя с голоду помирает!
Бай приостановил осла.
— А сына продашь?
Аманлык молча смотрел на него, не понимая.
— Да ты пойми, чудак! Денек-другой — и сын твой ноги протянет. Ведь я потому и хочу купить мальчишку, что вы оба не бросились за костью. Значит, думаю, доброй породы щенок. — И бай, продолжая говорить, тронулся в путь, кочевка, не спеша, удалялась, Аманлык с сыном, растерянные, смотрели вслед.
— Ты знаешь их, отец? — быстро спросил Жаксылык.
Аманлык молча покачал головой: нет.
— Ну, так продайте меня им. Пусть дадут еды маме, пусть она живет! — Аманлык, подавленный, молчал, рыдания подступили к горлу. Жаксылык сорвал с головы шапчонку и что есть мочи закричал вслед баю: — Благодетель! Остановитесь!
Бай остановился. Остановились и верблюды.
— Отец, бегите скорей за ним! Упустите случай — мама с голоду пропадет! — твердил Жаксылык. Аман-лык, обливаясь слезами, пустился за баем.
— Ну вот, взялся за ум, — хохотнул тот. — Жена поправится, а ребенок — дело наживное, другого родите. Ты-то ведь молодой еще, оказывается! Сколько просишь за сына? — Аманлык молчал. — Не пробовал продавать детей? Ну, так вон того бугая, — бай качнул жирным подбородком в сторону долговязого юнца, который гнал хозяйских коров, — того бугая купил я за баранью ногу да полмеры проса. А твой парень, видать, ему не чета — умный, терпеливый, за него полбарана да меру проса дам.
За все сокровища мира не отдал бы Аманлык сына. Но если начать сейчас раздумывать, торговаться, бай возьмет да уедет: ведь любой из сирот бегом побежит за ним, лишь бы остаться в живых. А будут они все трое сидеть в шалаше вместе, все и погибнут. Пусть хоть зеница ока родителей — Жаксылык — остается в живых. Поправится мать, — догонят…
— Согласен, — заикаясь, молвил Аманлык. — Дайте, что обещали. Только скажите, пожалуйста, как вас звать?
— Не-ет, — протянул бай. — Имени своего я тебе не скажу. И условие мое такое: продал парня — и все, и больше он тебе не сын, и искать его ты не будешь… А не хочешь, как хочешь…
Уклоняясь от ответа, Аманлык поманил рукой сына, скромно стоявшего поодаль. Но Жаксылык все слышал, все понял и бегом бросился к шалашу попрощаться с матерью. Он вскоре вернулся, и как будто даже веселый.
«Неужели рад, что уходит от голодных родителей?»- с болью подумал Аманлык. И, будто угадывая его мысли, Жаксылык быстро зашептал в ухо отца:
— Маме лучше. Я не сказал, что совсем ухожу. Сказал, что иду на дорогу просить. Что выпрошу — ей принесу. Она даже засмеялась, поцеловала меня. «Ненаглядный мой, сказала, кормилец!» Она наверняка скоро поправится, отец. Тогда вы меня найдете.
Аманлык молча кивал головой.
— На, мальчик, поешь! — крикнула байбише с верблюда и кинула Жаксылыку краюшку просяного хлеба.
Жаксылык поймал ее на лету и сунул за пазуху отцу: отнеси маме.
Бай заставил второго верблюда опуститься на колени, развязал тюки. Чего там только не было! И мясо мороженое, и мясо соленое, и хлеб, и просо, и масло. Отдав Аманлыку пол-бараньей туши и мешочек с просом, бай снова поднял верблюда, а повод отдал Жаксылыку:
— Веди!
Жаксылык пошел впереди верблюда, Аманлык торопился рядом, на ходу целовал сына в лоб, в щеку, и слезы их смешивались на лице мальчика.
Не смотри, сынок, назад, не оглядывайся. Пусть аллах ведет тебя… ведет…
Не в силах сдержать рыдания, Аманлык повернул назад. А мальчик, верный наказу отца, не сбавляя шаг, глядя прямо перед собой широко открытыми глазами, крикнул только:
— Отец, маму жалей, — она, даст бог, выздоровеет! Аманлык не оборачивался, бежал к шалашу, пряча свою добычу под полами халата.
Акбидай лежала лицом к двери. Увидев мужа, она слабо улыбнулась:
— Пришел, бек мой!
— Лучше тебе стало, голубка?
— Лучше… Наш Жаксылык вырос, теперь он позаботится о нас…
— Вот что он тебе прислал! — сказал Аманлык, вынимая из-за пазухи хлеб!.
Акбидай благоговейно приняла краюшку, приложила ко лбу, благодаря бога за великую его милость, и положила хлеб себе на грудь.
— Ешь, — сказал Аманлык.
— Он холодный. Отогрею его своим телом и мальчику нашему отдам.
— Он уже наелся… там… кушай.
Акбидай отломила маленький кусочек и протянула краюшку мужу:
— Кушай ты, мой бек!
Аманлык тоже отломил маленький кусочек и стал медленно жевать. Мать снова прижала краюшку к груди, глаза ее закрылись, она задремала. Аманлык отрезал хороший кусок мяса и положил его в котелок.
Вскоре суп был готов. Но Акбидай спала. После полуночи она начала бредить: «Жаксылык… мой Жаксылык…» Аманлык тихонько потормошил ее. Она не просыпалась. Тогда он набрал в рот супа и по капле стал вливать жидкость из своего рта в ее полуоткрытые губы. Но она не глотала, суп стекал на щеки, на подбородок. Вдруг она шевельнула губами, широко открыла глаза, вопросительно глядя на мужа. Глаза ее стали закатываться. Не зная, что делать, Аманлык трясущимися руками приподнял ее плечи, положил голову жены себе на колено. Тело ее, которое только что пылало огнем, начало холодеть.
В отчаянии звал он жену. Она была недвижима. Вне себя он обрушил сжатые кулаки на свой собственный лоб и замертво свалился наземь. Уже брезжил рассвет, когда Аманлык очнулся, вспомнил все и опрометью кинулся на волю. Вскарабкавшись на бархан, он заорал в пространство:
— Жаксылык! Эй, Жаксылы-ы-ык!
Его крик разбудил эхо, пошел по горам, по камням, по бескрайней степи: «Жаксылык! Жаксылык!»
Толпа обессилевших от голода оборванцев, сидящая у дороги, зашевелилась. Опираясь о землю, вставали люди на корточки и смотрели на странного человека, который стоял на вершине песчаного холма, держа в руках куски бараньей туши, и, не умолкая, вопил: «Жаксылык! Жаксылык!»
— Ловите — он сумасшедший! — крикнул кто-то, и они всей гурьбой кинулись на Аманлыка.
Вмиг грабители вырвали у него из рук куски смерзшегося мяса и тут же набросились на него. Они, рыча, раздирая мясо руками, пожирали его сырым. Аманлык, не переставая звать сына, пустился бежать по дороге. Отвалившись от сырого мяса, один босоногий бродяга, прихрамывая, кинулся за Аманлыком:
Ге-е-ей! Вернись, безумный, вернись! Разве ты не знаешь, что Жаксылык, доброта, на том свете живет?!
Спутникам его понравилась «шутка». С хохотом они загалдели хором:
«Доброта — на том свете! Доброта — на том свете!»
Аманлык остановился и ринулся мимо беснующейся толпы обратно к шалашу.
— Акбидай! — кричал он. Оборванцы захохотали пуще.
— Он, видно, и впрямь спятил! — молвил тощий, как скелет, человек с непокрытой, косматой седой головой. — Кругом зернышка проса не сыщешь, а он о белой пшенице толкует!
Увидев, что Аманлык нырнул в свой шалаш, оборванцы полезли за ним: видно, еще что-то прячет! И замерли на месте. Безумец, сотрясаясь от рыданий, сидел над мертвой женщиной. Услышав за спиной возню и сопение, Аманлык встал, вытирая слезы. Хлеб, присланный Жаксылыком, выпал из-под одежды матери. Никто из голодных не коснулся этого хлеба. Аманлык поднял его и снова положил на грудь жены.
Сквозь безмолвную толпу грабителей протолкался тощий седой бродяга и, вглядевшись подслеповатыми глазами в лицо Аманлыка, снова застывшего над женой, с воплем пал на труп женщины. Это был Бектемир, вожак голодных сирот, захиревший после того, как наглотался едкого дыма в Жанакенте. Он долго не мог вымолвить слова, только трясся всем телом, сопел и наконец зачастил хриплым шепотом:
— Аманлык! Аманлык! Да ты ли это?! Встань, родной! Снова… прибился ты к нашей стае… Веди нас, веди… по-прежнему… Как бывало… помнишь?.. Вместе поклонимся слепому оку аллаха!
Аманлык хмуро вглядывался в темное, выдубленное морозом лицо оборванца и пятился от него… Вдруг, словно какая-то посторонняя сила толкнула его, Аманлык, расшвыряв бродяг, ринулся в людской поток, непрерывно текущий по дороге. Оборванцы потянулись за ним. Но немного спустя он остановился, взгляд его прояснился. Круто повернувшись, Аманлык пошел назад, к своему укрытию. Он повалил шалаш и, яростно обрушивая на него груды песка из бархана, похоронил Акбидай на том месте, где она лежала.
К полудню Аманлык закончил погребение и снова вышел на дорогу, зашагал, держа путь на Хорезм. Сироты, цепляясь друг за друга трясущимися руками, тянулись за ним разорванной цепочкой. Они спотыкались, падали, но не отставали.
…Головные отряды тысячеверстного кочевья беженцев, как истомленное жаждой стадо, рвавшееся к воде, докатились к низовью Амударьи и вышли к морю. Люди, побросав свои тощие пожитки, уже ловили рыбу из-подо льда. А хвост небывалого этого кочевья еще только отползал от берегов Сырдарьи.
Маман-бий, почерневший и обросший, без устали гонял на своем истомленном коне по аулам, не желая оставлять во власти врага ни единой семьи. Он нестерпимо страдал, видя, как новые хозяева вселяются в дома изгнанников. Так бы и схватил насильника, потащил за своим конем на аркане. Да ничего не поделаешь! Нельзя.
Кругом плач, ругань, споры, доходит дело до палок и кулаков, никто ведь не может спокойно покинуть гнездо, обжитое отцами и дедами. Только дряхлые старухи и старики, вроде Сейдуллы Большого, калеки с многодетными семьями упорно остаются в своих аулах. Стронуть их с места в такой трескучий мороз все равно что поднять мертвеца из могилы, надеясь на его душу живую.
Маман понял, что здесь он уже никому не нужен. Его место там, в голове кочевья. Он должен выбрать удобные места для жилья, помочь народу расселиться. И он тронулся в дальний путь. Но, еще не добравшись до Куандарьи, понял истинные размеры бедствия. При виде бесконечно скорбного шествия народа, который, покорно стеная и плача, устилая мертвыми путь, тащился по дороге, Маманом овладело отчаяние. Вот они — старики, матери, дети, больные, разутые и раздетые — тщетно протягивают руки, моля о помощи. Каждому готов он помочь, отдать последний кусок, посадить на свою лошадь, душу свою вынуть. Но кого, кого из них выбрать? Из сотен и тысяч одного… Сердце его обливается кровью, и он, стиснув зубы, едет, едет мимо живых, умирающих и мертвых туда, вперед, чтобы там хотя бы приготовить приют для тех, кто доползет живым, в обетованную землю мира.
Уже подъезжая к берегу Куандарьи, Маман увидел спокойно рассевшихся посреди дороги семерых оборванных, но дюжих мужчин. В сторонке у временного укрытия из веток джангиля стоял привязанный осел. Хотя вид сидящих людей не сулил ничего доброго, Маман остановил коня. Чернобородый оборванный мужчина с обмотанными обрывками одеяла босыми ногами быстро ухватил коня под уздцы. Другой бродяга, оставаясь сидеть, искоса вглядывался в Мамана красными гноящимися глазами.
— А-а! Маман-бий! Вот тебя-то нам и нужно! — злобно крикнул чернобородый. — Вот он, кровопийца народа! А ну, слезай с коня! Слезай, покуда жив!
Только теперь Маман узнал в нем старшего сына Сейдуллы Большого — Бегдуллу. Вид у него угрожающий, дрожит дремучая борода, голодные глаза горят. Ускакать, вырвавшись из его сильных рук, истомленному коню не под силу. Маман-бий, нарочито мешкая, медленно спешился.
— Сюда иди! — приказал Бегдулла, указывая на джангилевый шалаш, и пнул грязной ногой в бедро Мамана.
Маман резко обернулся, но бородач надвигался на него, тяжело дыша, и он молча вошел в укрытие. Посреди шалаша горел костер. Шесть женщин и десяток лохматых детей валялись лицом к огню. Только легкое движение ресниц говорило о том, что они еще живы. Маман-бий не выдержал этого зрелища, вышел вон. Его верного белого коня успели уже зарезать и освежевать. Зная, что, коли Маман начинает хмуриться, быть грозе, бородач первым подошел к нему, неся сбрую белого коня.
— Держи хвост трубой! — глумливо крикнул Бегдулла. — Ты же наш вожак, — значит, раб своего народа. А мы вот и есть народ, твой хозяин. А хозяин волен делать со своим рабом все что хочет. Вот взнуздаем тебя, заседлаем и будем ездить на тебе верхом… А ты что молчишь? Почему ничего не отвечаешь? Даже удрать не торопишься!.. Надеешься на нашу хозяйскую милость? — И внезапно заорал:- Эй вы, там! Чего копаетесь?
Его люди тем временем отвязали осла и подвели к Маману.
— Садись, Маман, на осла. Да не так, задом наперед садись! Ну, живо!
Что рабу делать, коли хозяин велит! — сказал Маман смиренно и сел на осла лицом к хвосту, как и было приказано.
Бегдулла мгновенно прикрутил его веревкой к седлу. Бродяга с гноящимися глазами притащил кровоточащий кусок конского мяса и приторочил его к седлу, а Бегдулла обмазал разросшиеся усы Мамана лошадиной кровью и, гикнув, стукнул осла кулаком, повернув его мордой к Хорезму.
— Пошел! Пропади ты пропадом! Помни наше хозяйское милосердие! Благодари, что помиловали, что ноги твои на четыре пальца от земли болтаются. На глаза нам смотри не показывайся! Молчи, сгинь! Сгинь!
Маман слова не вымолвил, ехал на осле, не глядя по сторонам, а осел шел за людьми по дороге. Но если бы оглянулся Маман, то увидел бы, смеются над ним люди, пальцами указывают: «Глядите-ка… Маман… Бий наш полоумный… Ишь сидит на осле лицом к хвосту!.. Умора!..» Маман-бий едет. Молчит. Думает. Народ — хозяин. Что со мной сделает, как накажет — быть по сему.
Главный бий, лишенный бийства, едет, едет на сером осле задом наперед и плачет в душе кровавыми слезами. Никак не поймет: чем он провинился перед народом, за что ему такая казнь? Ведь если оступится осел, упадет, некому даже его поднять. Если не сжалится никто, не освободит Мамана, так ему и пропасть… Нет, не жалеют, смеются, — значит, он виноват… А как же эту свою вину искупить?.. Осел идет без узды, по своей воле, сходит с дороги попастись, поискать травки. Связанный качается в седле. Обоим дышится тяжело.
Поздним утром следующего дня осел пристал к большой кочевке, во главе которой едет женщина. Это — кочевка вдовы Давлетбай-бия, властной байбише Шарипы. Шарипа сразу признала Маман-бия, слезла с коня. Приказала мужчинам:
— Развяжите бия нашего Мамана!
— Не трогайте меня, я потерплю, ничего… — коснеющим языком, еле слышно молвил Маман. — Хозяин мой так меня наказал, — значит, судьба моя такая.
Сметливая Шарипа сразу поняла, кого он называет хозяином.
— Мудрый бий, поймите, что если один ваш хозяин велел вас связать, то другой ваш хозяин и развязать вас вправе. Счастливого вам пути, лев наш!
То ли оттого, что весеннее солнышко уже пригревало землю, то ли от пролитых народом кровавых слез, дороги превратились в сплошное, дрожащее как студень болото. Маман-бий ехал на осле. Осел усердно месил копытами глину…
Быть может, еще какой-нибудь удрученный горем человек-«хозяин» Мамана — поймает их, отберет осла, а самого Мамана погонит дальше пешим… Он готов на все. Ветер, развевая его длинные, непомерно разросшиеся усы, скрывает от посторонних глаз исхудалое лицо путника. Маман-бий едет вперед, только вперед, к голове кочующего бедствия, искать новое место жительства для своего народа-изгнанника.
Часть третья
1
Есть в мире и добро, и зло, и грех; добро — тайник, открыто зло для всех.
Алишер НавоиБешено мчится Амударья, размывая и руша свои берега, вместе с вырванными с корнем деревьями. Крутя, ломая, дробя, поглощает их пучина. Но, подбегая к морю, река тишает, смиренно растекается на рукава, образуя дельту и множество сверкающих мелких озер. Каждое озерко — благодатный источник жизни — кишмя кишит рыбой. Глухие заросли камыша и куги, окружающие заливчики и островки, непроходимые дебри лесов, откуда одинокий путник едва ли выберется на свет божий, от веку не слышали иного шума, кроме хлопанья крыл и многоголосого гомона птиц, парящих над лесами и водами, плещущихся на глади озер. Ревущий, топочущий, стонущий хлынул в эту глухомань поток беженцев-каракалпаков, изгнанных из родных мест, и, подобно изнуренному зноем стаду, стремившемуся к воде, остановился. Медленно таяли толпы людей, растекаясь по берегам рукавов дельты, ища приюта в чащах куги и турангиля. Деревья, так же, как и люди, побитые и потрепанные своенравной судьбой, протягивали навстречу изгнанникам кривые иссохшие ветви, словно руки неловких попрошаек, а их растрепанные птицами верхушки, со спутанными ветками, растущими вкривь и вкось, напоминали сбитые набекрень рваные шапки. И уже пошла по берегам протоков и озер будничная житейская сутолока: беженцы, сохранившие кое-какой достаток, разгружали свой скарб, ставили кибитки, вязали шалаши. Вдовы и сироты, вконец обнищавшие босяки устраивались в зарослях прямо на земле со своими тощими узелками, суетились и гомонили, цепляясь за свою жалкую жизнь: хоть в беде, хоть в нужде — лишь бы живу быть.
…И, еще не оглядевшись толком, бросались люди к озерам, дивясь, выхватывали из воды играющую стаями рыбу. Уже поднялись к небу жидкие струйки дыма, кипели на кострах казаны и котелки. Джигиты, досыта наевшись рыбой и напившись чистой воды, играючи, с треском ломали крепкие, как берцовая кость, сухие джангили и толстые стволы камыша, — да не всякому это оказалось под силу. Тут же строили себе пришельцы первые на новом месте камышовые лачуги.
А толпы, гонимые бедствием, как скот по пыльной дороге, все прибывали и прибывали, брели, цепляясь друг за друга, карабкаясь из последних сил, и, ошеломленные невиданным изобилием благодатной новой земли, чуть приостановившись, разбредались по лесам и речушкам, — и всем хватало места.
Никто не вышел им навстречу, ни один посланец какого-нибудь хана, хотя бы для того, чтобы сказать: не тронь! это — мое! Видно, потому так получилось, что о ту пору в хивинском дворце шла увлекательная «игра в ханы», полностью захватившая властительных кунградских наместников-инахов, главную силу при дворе, — рвались важные господа к трону. Не выдержав натиска претендентов изнутри и извне, бежал подобру-поздорову потомок славного Жадиге, сын Султан-батыра из рода шекти, Гаип-хан, и на престол воссел его младший брат Абдулла. Год просидел — все: вмешались бухарцы, прогнали. И пошла чехарда: то садятся на ханство потомки Абулхаира, то его врага Жадиге из рода шекти.
Так, забытый богом и лишенный благодетельной ханской заботы, народ каракалпакский стал потихоньку укрепляться, строиться на новом месте. Больше всего селились по берегам Кок-Узяка. Недаром полноводная и чистая река называется «Кок»- это и значит «голубая». Вода течет в ней медленная, с тихими омутами, словно в глубокую чашу с краями налитая.
Сидит ли человек летом на ее берегу или зимой, слегка разметя снег, смотрится в ее ясный, как синее небо, лед, никогда не насытятся его глаза. Весною в Кок-Узяке рыба стайками ходит, гоняется одна за другой, резвится, подобно стаду, выпущенному на свежую траву. Рыба отчетливо видна сквозь прозрачные струи, и ее столько, что даже малый ребенок, если захочет, летом может, нырнув, поймать руками, а зимой — подцепить на крючок из проруби.
Изобилие райской этой земли сделало испуганных недотрог приветливыми и спокойными, упрямых и чванливых — простыми и добрыми, больных — здоровыми. Довольство осушило слезы, возвратило народу смех…
Целый день ловили рыбаки рыбу на Кок-Узяке, мокрые с головы до пят, вывели свой плот к берегу, разделили добычу поровну и, нанизав каждый свою долю на джангилевый прут, веселые возвращаются домой. Идут шумной гурьбой, смеются, не дают друг другу слова сказать.
— А знаете, с кем бы я сравнил Кок-Узяк? Он добрый, как мальчик с открытой душой…
— Скажи лучше — с душой, ясной как зеркало, ничего от людей за пазухой не прячет. Если бы рыба его людям не показалась, разве бы мы здесь осели?
— Да ни в жизнь бы не осели, дальше бы пошли!
— Будет вам все одно и то же мусолить!
— А кто знает, ребята, вдову Айтуган-есаула из рода кунград, ну, того самого, которого корова забодала? Так вот, говорят, она, эта Белоногая Абадан, собрала артель из одних вдов. Так они будто бы нагишом рыбу в воде ловят. Коленки-то у нее, говорят, белые-пре-белые.
— А мальков они не боятся? — Ребята расхохотались.
Так где, говоришь, они ловят?
— Соблазнился, что ли? Выше нас по течению, в ауле Гаипбахадура.
— Эх, жаль, не я джигит того аула!
— Говорят, они только джигита увидят — тут же растерзают!
Как это так?
Так просто и хватают?
— Ой-ей-ей, встретились бы мне, — я бы пятерых одолел!
— Не хвастай! Слюнки-то не пускай!
— А если забеременеют, что тогда?
— Откуда я знаю что!
— Нет, вы лучше скажите, почему Маман-бий не женится? Или не в силе?
Молча шедший впереди Бегдулла Чернобородый приостановился и, сердито набычившись, глянул на товарищей. Он был на голову выше всех, и ребята примолкли.
— Помните вы, кто Мамана развязал, когда мы, перебираясь с Сырдарьи, поймали его и за разорение народа наказали: посадили на серого осла задом наперед и к седлу прикрутили? Нет, не помните? Развязала вдова Давлетбая. А коли вы не сдурели окончательно, рыбьих мозгов наевшись, сами понимаете: баба никогда мужика не пожалеет, если он жениться не в силах.
Где-то он сейчас, Маман-бий?
Удрал поди, когда счастье от него отвернулось!
— Правда твоя. Богатенькие — они все трусы. Разорятся, поголодают малость и сразу — в кусты!
— И опять вы все переврали! — с досадой оборвал их Бегдулла. — Маман не из трусливых.
— А кто умнее, по-вашему, Маман-бий или Есенгельды-бий? — выкрикнул кто-то задорно.
— Маман-бий, — зашумели ребята.
— А по-моему, Есенгельды, — упрямо молвил парень, задавший вопрос. — Не возражайте, слушайте… Есенгельды-бий, как хорошая цапля — вожак, увел свою стаю с высыхающего озера. За это ему честь и слава! Кто за ним пошел, тот цел остался. И сам он свой дом и богатство сохранил. Со вчерашнего дня в его ауле той идет. А Маман что? Одинокий вепрь!
— Верно говоришь, Нурабулла, — не в лад поддакнул другой джигит. — Поначалу-то был Маман-бий умен да силен, а выпали из его рук поводья — и от самого счастье ушло, и от нас.
— Хорошо еще, если он живой ходит на этом мутном свете, — молвил Бегдулла, вздыхая.
На память ему пришли слова отца Сейдуллы Большого о Мурат-шейхе, что не пожелал он оставаться в этом нечестивом мире. И еще он вспомнил последнее слово старика отца: «Прощай, сын мой, я теперь ближе к тому свету, чем к этому, и тащи-ка ты на своем горбу, вместо меня, моих внуков. Пусть они живут…» Комок подступил к горлу Бегдуллы, ощетинилась дремучая черная борода во всю грудь, великан пошатнулся и сошел с тропы, надвое разделившей густые камыши. А потом размашистым широким шагом опередил товарищей, не в силах больше слушать их пустую болтовню. Но и тут пересекли ему дорогу веселые джигиты: Аманлык со своими дружками.
— Сыраклы, сыраклы! — загалдели они. — Поделитесь рыбкой на ушицу!
— Откуда идете?
— С тоя, — сказал Бекмурат.
Хотя рыбаки слыхали, что Есенгельды поставил новую юрту и закатил по этому случаю великий той, однако никто из их аула не удостоился приглашения. Теперь Бегдулла сразу догадался, что эти проходимцы пошли-таки на пир незваными;
— За вами, Аманлык, наверное, нарочного присылали? — сказал один из рыбаков с насмешкой.
— Будет трепаться-то! — оборвал его Аманлык. — Подумаешь, какие мы пышные господа, что твой хвост у лисицы, чтобы за нами нарочных гонять. Сами пошли да наелись себе на доброе здоровье.
— Бесстыжие вы собаки! — пробормотал пожилой рыбак.
Эти слова задели Аманлыка за живое, но он и виду не подал, что обиделся. Бектемир долго шел за ним в надежде, что тот достойно ответит обидчику, — Аманлык это умел, — и, не дождавшись, потянул дружка за рубаху: мол, отстанем от них, ну их! Аманлык сбавил шаг, но Бегдулла остановился и повернул назад:
— Идемте, Аманлык, ко мне домой. Что нам бог завтра даст, неизвестно, а сегодня будем вместе есть то, что уже дал.
Почитая Бегдуллу как сына человека, служившего Мурат-шейху, духовному владыке всех сырдарьинских каракалпаков, и уважая Чернобородого за твердость слова и характера, Аманлык и его приятели не посмели отказаться. Ведь все роды, перекочевавшие в низовья Амударьи без своего вожака, беспрекословно пошли за Бегдуллой и образовали еще один аул на Кок-Узяке. Пошли за ним и сироты.
В отличие от многих селений, выросших по берегам Кок-Узяка, в ауле Бегдуллы не строят землянок — одни камышовые лачуги; хижина Бегдуллы хоть и стоит на ровном месте в ряду других, высится над ними своими прочными стенами, связанными из толстых стволов сухого камыша, вперемежку с крепкими прутьями высокого джангиля. Между аулом и рекой стеной встают молодые заросли, придающие селению какую-то торжественную красоту. Никто из жителей ни одного стебелька из этой стены не выломает, листочка не сорвет Место это свято: могучие камыши, сквозь которые не пробиться малышам, охраняют детишек от опасности утонуть в спокойном, но глубоком Кок-Узяке.
А главная достопримечательность этого аула — великое множество детей. Если дым валит из очага, если теплится в лачуге жизнь, то навстречу путнику непременно выбегут двое-трое голопузых ребятишек. У Бегдуллы их пока трое. Это такие дети, что стоит матери чуть зазеваться — зимой ли, осенью ли, — они непременно выскочат голышом на улицу играть, и не загонишь домой, пока не посинеют от холода. Если не считать того, что в теплые дни родители выпускают их посидеть на солнышке, то зимой они не позволят выходить во двор даже высморкаться. С наступлением лета открылась для ребят желанная свобода, и сегодня они дружно выбегают навстречу отцу, пища, как голодные птенцы, вешаются ему на шею. Ребятишки нимало не стесняются Аманлыка и его товарищей, давно привыкли к нежданным гостям-попрошайкам, которые приходят в дом, чтобы сытно поесть, и потом уходят неведомо куда.
— Проходите, садитесь! — весело выкрикивают малыши, повторяя радушное приглашение матери.
Бегдулла погладил их по косматым головенкам, дал детишкам по три маленьких рыбки играть, остальные отнес жене чистить. А когда уха закипела, позвал соседей, чтобы гости не скучали.
Хоть и циновки в лачуге были камышовые и сидели приглашенные вокруг очага, вырытого в земле, на рогожках, облокотившись на подушки, набитые соломой, гостям стало уютно и тепло. Чай пили долго и со вкусом, нужды нет, что из жестяного кумгана, и хотя муки у хозяев не хватило на тесто для бешбармака, но уха, заправленная горсточкой джугары, оказалась отменной. Гости ели, потели, причмокивали да похваливали изобильные здешние места, жирную рыбу да тороватую хозяйку — искусную стряпуху.
После ужина за бесконечным чаепитием заговорили о днях минувших, о Мурат-шейхе, о биях Рыскуле и Давлете, Байкошкаре, об Оразан-батыре и Избасар-бахадуре. Когда кто-нибудь называл новое имя, все из уважения к ушедшим приподнимались, передвигали подушки и снова опускались на место. Дети давно заснули, обхватив ручонками дремлющую маму, а разговорам мужчин не предвиделось конца. Заговорили о Маман-бие, вспомнили «бумагу великой надежды» и Кузьму Бородина. Если иной разумник и заикнется, что вот, мол, сидим мы здесь, как на острове, никого не видим, ничего не слышим, тотчас перебивали его воспоминаниями о караванах, что везли через аулы диковинные товары из России, страны искусных мастеров, о русском оружии, с которым побеждали врагов. Птица воображения несла изгнанников над просторами Сыр-дарьи, и, сожалея о безвозвратно ушедшем счастье, люди ахали, охали, прищелкивали языками.
Вспоминали и о тех черных днях, когда кочевали, разоренные, по снежным дорогам без крова и пищи, а все потому, что птица счастья непостоянна: взлетит — и ее нет, и горестно вздыхали, и в глазах закипали слезы скорби и ярости. И тут же утешались собеседники тем, что места их нового жительства неприступны для врага, радовались, что через густой камыш да дремучую лесную чащобу никому сюда не продраться.
Но снова и снова возвращался разговор к Маману, и тут впервые высказал вслух Бегдулла неотвязную, мучившую его мысль, что напрасно они тогда обидели Мамана, посадили его на серого ишака задом наперед.
— Ничего, Бегдулла, — утешал его сосед. — Маман не из обидчивых. Ведь если бы мы тогда не зарезали его коня, эти-то, — и он указал на беспечно разметавшихся во сне ребятишек, — не добрались бы до благословенных наших мест живыми. Они — наше будущее, надежда народа. Понял это твой отец, когда остался один, и Маман это понимает, да еще как понимает, бедняга, львом-защитником своего народа рожденный. Великой души человек, будь у всех у нас душа такая — жили бы мы на этом свете как в раю!
— Да, Маман — настоящий бий, Маман — мудрец… — заговорили гости. — Еще он появится среди нас, вот увидите… С какой только стороны приедет, неизвестно… Но он еще придет к народу с доброй вестью!
Они без конца пили чай и вспоминали минувшее, помянули добрым словом и караванщиков-чаеторговцев, и перекупщиков-благодетелей, — без их заботы не попить бы им чайку всласть!
И тут не выдержал Бегдулла. Еще живо было в его памяти то зло, которое привозили людям караваны со своими бессердечными хозяевами. Разгорячившись, он забыл, кто сидит перед ним, и брякнул то, о чем уместно было бы помолчать:
— Вот вы, джигиты, нахваливаете этих торгашей и их верблюдов и всякие там их товары драгоценные. А ведь народ они бессердечный. Как вспомню про иные их дела — волосы дыбом! — Волнуясь, он выломал щепку из камышовой перегородки и с хрустом стал грызть ее крепкими зубами. — Забыли, что ли? А я помню, каково пришлось Алмагуль, когда уходила от нас с караваном.
— О нашей Алмагуль говоришь?! — вскрикнул Аманлык, рывком привстав на колени. — Где она?
— О ней, Аманлык, — продолжал Бегдулла, забывшись в воспоминаниях. — Она уходила от нас молодой. Ой, какая она была умная! Я даже помню, как святейший Мурат-шейх дивился ее уму, ее, тринадцатилетнюю девчонку, сравнивал с Маман-бием. Девочка слезинки не пролила, ни одним словом не перечила дедушке-шейху, а ведь знала, поди, что ее в чужие края продают, самому эмиру бухарскому готовят в жены! Сказала только: «Передайте мой поклон брату моему родимому и милой моей сношеньке. Если захочет брат меня искать, укажу: пусть не идет дорогами пыльными, там меня не найдет, а если пойдет по следу путем, влажным от слез, — найдет непременно».
«Если пойдет путем, влажным от слез»! Это о слезах своих она говорила! — воскликнул Аманлык. — Пусть вы не видели, но ушла-то она в слезах… — Аманлык осекся, замолчал, стиснул зубы до скрипа.
Поздно спохватился Бегдулла, что зря язык распустил, сидел потупившись.
Уже забрезжил рассвет, и в сумраке лачуги видны стали неподвижные фигуры притихших гостей, кто где сидел, там и задремал. Слышался легкий храп да посапывание спящих. Только Аманлык, раз и навсегда решивший было не ворошить прошлого, лежал без сна, извиваясь, как червь, будто кололи ножом его душу и тело. Нестерпимо душной и тесной стала для него просторная хижина с высокой кровлей. Волоча ноги, протиснулся он наружу, ударил себя обоими кулаками по голове, подогнулись его колени, и он рухнул без сил.
2
Над ровными, словно подстриженными верхушками джангилевых кустов мелькает голова одинокого путника в черной шапке. Он двигается медленно, ныряя, словно меряя глубину речного потока: то покажется одна голова, то вынырнут и крутые плечи. Но вот заросли кончились, и путник выезжает на равнину. Это всадник на сильном гнедом коне.
Остановив коня, путник спешился, заботливо осмотрел притороченную к седлу поклажу. Мешок, привязанный поперек седла, худой, — видно, проткнул его джангилевый сучок. Сорвав пучок травы, человек заткнул им дыру и, снова вскочив на коня, не спеша въехал в приозерные камыши.
Лоснящаяся шерсть гнедого отливает черным блеском на фоне нежно-зеленых зарослей молодого камыша, всадник то и дело оборачивается, чтобы потрогать заткнутую травой дыру.
Да это Маман-бий! Вернулся-таки без вести пропавший в годину великого бедствия! Последним двигался он вслед за беженцами и после долгих месяцев бродяжничества добрался до головы кочевья, обогнал его и нашел аул Есенгельды-бия. Вместе с ним выбрал Маман место поселения для своего народа — пустынные, «ничьи» берега Кок-Узяка, где никто не потревожит людей, не помешает им обживаться.
Тяжко приходилось в эти дни Маман-бию. Спесивый Есенгельды смотрел на него сверху вниз, в глаза и за глаза корил за «глупость», за давнишний его отказ пристать к кочевью Есенгельды, покидавшему родину: вот теперь и сам отстал, и людям помешал вовремя переселиться, обрек их на такие мучения!
Хотя и оскорбительно было Маману слушать все эти попреки и издевательства, но он крепился, делал вид, что не замечает обиды. А ведь не только Есенгельды, но и сами беженцы, измученные перекочевкой, потерявшие родных и достаток, не раз ругали его ругательски, прямо в лицо, даже кидали ему вслед камни. Приходилось терпеть. Неуместно было, полагал Маман, спорить теперь с разоренными, ожесточенными мукой людьми. И он молчал, будто глухой, неустанно снуя верхом между лачугами и камышами, встречая и направляя вновь прибывавшие потоки беженцев, прокладывая на своем могучем коне тропинки между густыми зарослями, связывая вместе головки камыша и джангиля, чтобы вновь не зарастала дорога между людьми, чтобы не теряли они друг друга из виду, не отчуждались. Дабы, по-разному называя незнакомые места, люди не заблудились, ища друг друга, Маман нарекал имена озерам, островкам и протокам. Проезжая между поселками и стойбищами, он кричал во весь голос: «Смотрите, люди, вон там местность, справа от вас, называется Айорма, а вот там, на закате, Ухсай, на юге — Жалаир… А такие-то роды расселились выше по Кок-Узяку… а такие-то ближе к озеру Кара-Терен…» — «Где, говоришь, Кара-Терен?» — «На юге!»
Иногда это были новые, им самим придуманные названия, иногда те, которые дали ранее поселившиеся здесь аулы Шердали и Есенгельды биев. Так он стал глашатаем новой земли. Маман всегда был среди людей, старался подбодрить уставших, воодушевить отчаявшихся, просил сильных помочь слабым, обжившихся — немощным и беспризорным. Спешившись, он сам помогал больным, поникшим от страдания людям косить камыши, ломать джангиль, строить лачуги.
Ведя такую жизнь, Маман сделал как бы изустную «перепись» населения. Оказывается, до новых мест своего жительства дошло немногим больше трети из шестидесяти тысяч семей, называвшихся Нижними Каракалпаками. Когда он, опечаленный, поделился своими мыслями об этом с Есенгельды, тот язвительно бросил:
— А все благодаря мудрой заботе Маман-бия! Маман в горести прикусил палец. Но деятельная мысль его уже была в будущем.
Что надо делать теперь? Как объединить все роды? Как сделать народ оседлым? Как оградить его от врагов, от набегов, как обеспечить страдальцам мир, кров и пищу? Или снова ехать к русскому царю? А ведь до Петербурга-то стало еще дальше… А как доехать одинокому путнику до царя и вернуться обратно… к тому же и знакомых людей, доброжелателей, может быть, во дворце не сыщешь… Уже в бытность нашу там чувствовалось, что заваривается у трона какая-то каша… Да и сможет ли, захочет ли царица, не понявшая мудрого Бестужева, понять Мамана, нужду и боль его народа… И даже если изгнали Бестужева по вражьему навету чужой мысли, то кто поручится, что сейчас на престоле иной мысли царь? А что, если он прямо скажет: знать не знаю, мол, никакой грамоты царицы Елизаветы. Тогда как? Нет, это уже хуже худого!
Видно, важнее всего сейчас прознать, что за народ нас здесь окружает. Если вокруг нас живут добрые, мирные соседи, надо на первый случай сойтись с ними поближе, чтобы спокойно, не спеша, собрать воедино людей, рассыпанных поодиночке. Ведь если при каждой перекочевке отстанет хотя бы одна семья, — какой большой урон всему кочевью! Все более утверждаясь в этих своих мыслях, Маман сел на коня, чтобы своими глазами увидеть окружающих его народ неведомых соседей.
Сначала побывал он в городе Кунграде, потом в городе Хиве, на обратном пути заехал в город Шаббаз и там выпросил у местных каракалпаков мешок пшеницы на посев своим односельчанам. Вот этот-то драгоценный мешок и был приторочен к его седлу.
Маман ехал прямиком к лачуге, поставленной на взгорке у самого берега Кок-Узяка над густыми зарослями камыша. Люди говорили, будто здесь поселился Аманлык, а с ним десятеро холостых джигитов из сирот, и что все они крепкие, как на подбор, ребята с быстрыми ногами и цепкими руками, дружно бросаются на любое дело, лишь бы прокормиться. Уж они-то наверняка посеют пшеницу. Сами соху потянут, но посеют.
Усталый и голодный гнедой еле ноги переставлял, но все же жадно хватал зубами на ходу крупные, широкие, как подпруга, листья камыша, хлеставшего коня по груди и бокам. Внезапно конь навострил уши, шарахнулся в сторону. Какая-то женщина в рваной кофте, в красном платье из домотканой бязи, в грязном платке с обтрепанными концами кинулась навстречу всаднику. В руках у нее блестел какой-то тяжелый предмет — топор! Женщина, видно, была не в себе. Смотря в небо невидящими глазами, что-то бормоча и вскрикивая, она подбрасывала высоко вверх тяжелый топор и ловила его, чтобы тут же опять бросить. Если топор падал на землю, в камыши, она его находила и, пробормотав что-то про себя, снова швыряла высоко в небо лезвием вверх, не заботясь о том, что топор может упасть ей на голову.
Силясь расслышать, что она такое бормочет, Маман тихонько сошел с коня и осторожно приблизился к женщине. Слушал.
— Эй, берегись, дряхлый, слепой бог, убью тебя, будь ты проклят! Топором зарублю!
Видно, женщина не помнила себя от горя. Да мало ли нынче таких в народе! Всех разве утешишь?.. Маман отступил назад, призадумался. А та ходит и ходит без конца, ходит и бросает. Немудрено, если и впрямь помешанная! Надо все-таки попробовать ее образумить, остановить.
— Эй, молодуха! Бог далеко, топором не достанешь! — крикнул он негромко. — Кабы можно было до него дотянуться, люди давно изрубили бы его на мелкие кусочки.
Женщина встала как вкопанная.
— Ты кто такой?
Она была молода, с круглым, но бледным миловидным лицом. Лет двадцати, наверное. Но оттого ли, что много плакала, или от бессонницы, ее большие глаза смотрели устало, а покрасневшие веки опухли. Вместо ответа Маман-бий сам спросил у нее:
— Как зовут? Чья сноха?
— Багдагуль я, довожусь снохой роду табаклы. А знаешь ты, что роду табаклы конец пришел? В живых одна я осталась! Но я все равно не успокоюсь, пока не достану бога топором. Или хотя бы Маман-бия, злодея, зарублю! У тебя дети есть?
Маман вздохнул, будто сверкающее острие ее топора вонзилось ему в сердце. В самом деле, почему он до сих пор не женился? И, не задумываясь, сказал ей Маман правду:
— Нету детей.
— Тогда почему и ты не выходишь с топором на бога? Э, да разве вы, мужики, знаете цену жизни! Раз нет у тебя потомков, зачем ты на коня садишься? Зачем на этом свете живешь?
— Муж у тебя есть? — спросил Маман строго.
— Ха! Уж не свататься ли захотел? И близко не подходи, бесстыжая душа! Муж мой и сын вчера ночью скончались, от лихорадки дух испустили в одночасье. Это тебе шутка, что ли? Чего глаза вылупил? Думаешь, я сумасшедшая? У вас, у мужиков, ни чести, ни совести. Бери-ка поскорей топор: бог, вчера истребивший наше племя, завтра истребит ваше, начнет подкапываться под других. Так постепенно и весь несчастный народ каракалпакский с лица земли исчезнет! А вы идите себе, ручки сложив, мимо. Иди! Уходи! Ишь встал, не шевелится! Или меня закрутить думаешь? Попробуй только сунуться, — я тебе горло перерублю! Садись на коня, езжай! Если увидишь Маман-бия, обманом завлеки его ко мне. Только смотри живого приводи, не убивай, — я сама ему голову отрублю. А уж после такого удовольствия, без лишних слов — в Кок-Узяк вниз головой!
— Где твой дом? — Назад!
— Давай отвезу тебя домой. Отдохнешь, после приведу к тебе Маман-бия.
Ты эти свои штучки брось. Уйдешь или нет? — И Багдагуль угрожающе двинулась к нему с топором. Маман-бий отступил к камышам. И когда, ведя коня в поводу, вошел в чащу и остановился, в голову ему ударили слова Багдагуль, и он медленно повторил: «Так постепенно и весь несчастный народ каракалпакский с лица земли исчезнет…» И. слезы неудержимо хлынули у него из глаз.
— Ассалам-алейкум, бий-ага, а мы вас сразу узнали! — услышал Маман за спиной и, когда нехотя повернулся, увидел двух оборванцев.
— Уалейкум-ассалам! Откуда идете?
Джигиты перемигнулись. Один из них — пучеглазый и такой худой, что на его лице можно было бы все косточки пересчитать, — запинаясь, молвил:
— Да вот, бий-ага, скучно нам что-то стало. Эта молодуха и заманила нас… вот мы тут и поджидали, когда она в гущу камышей зайдет… Ну, увидали, как она вас турнула… мы-то уж подавно… куда нам… Надежду потеряли…
— Веселые вы ребята, резвитесь, как сытые кабаны! Здесь, что ли, Аманлык живет?
Здесь, мы все тут вместе живем, да он занедужил.
— Ну, а остальные живы-здоровы?
— С тех пор как вы от нас отъехали, двое ребят пропало. Пошли скот воровать на кунградскую сторону, а хозяин тамошний их подстерег да убил… Ой-ей, бий-ага, волосы-то у вас на голове и борода до чего отросли! На голове точно шерсть дыбом стоит.
— Да, джигиты, и внутри голова моя точно шерстью набита. Идемте-ка к вам в лачугу!
Аманлык лежал неподвижно, распростершись на циновке. С тех пор как услышал он от Бегдуллы о том, как увозили на чужбину сестренку, места себе не находил. Хоть и знал, что ее продали, хоть и прошло с тех пор много лет, но все виделась ему тринадцатилетняя Алмагуль, идет — и дорога за ней темнеет от слез.
Войдя в лачугу, Маман-бий снял со стены меч, подаренный Аманлыку Оразан-батыром, приложился к нему лбом, повесил обратно и наклонился над Аманлыком:
— Ну, здравствуй, что ли, брат, вот нам и свидеться довелось!
Но тот только поднял на Мамана красные измученные глаза. Хотел Маман сесть около друга, но что-то в убранстве хижины его остановило. На циновках из камыша лежат две новенькие белые кошмы. Откуда они взялись? И решил про себя: конечно, краденые!
Пучеглазый джигит заметил удивление бия.
— Садитесь, бий-ага! Мы не из тех волков, что по своим хлевам шарят!
Маман молча ступил на кошму. Слова Багдагуль гудели в его ушах: «Постепенно несчастный народ каракалпакский исчезнет… исчезнет…» Вот и Аманлык лежит в тяжком недуге — и встанет ли, кто знает…
— Где Бектемир, ребята? — спросил он, чтобы отвлечься.
— Все появятся к вечеру.
— А ты, Аманлык, простыл, что ли? — Маман пристально вглядывался в его воспаленное лицо.
— Наверное, так, Есенгельды-бий той устроил, а я всю ночь у костров истопником был, спереди огонь палит, а со спины ветер с озера дует, — возможно, и простыл, — голос у Аманлыка слабый.
— Что за той?
— Новую юрту поставил… Оказывается, юрту эту ему сам Мухаммед Амин-инах прислал.
— Неплохо. Очень хорошо. А Мырзабек-бий и его люди были приглашены?
— Не знаю. Увидеть не довелось, — Аманлык слегка оживился, поднял голову, потянулся к Маману.
Брови Мамана насупились, как черные тучи, но вскоре лоб его разгладился, взор посветлел. Сегодня досада долго у него не держалась.
В котле оказалось остывшее мясо. Один из парней подогрел его и поставил перед гостем.
Хотя Аманлык много лет был первым другом Мамана, но тот никогда не поверял ему свои задушевные тайны. Сегодня мысли, возникшие после встречи с Багдагуль, не давали Маману покоя.
— Аманлык, — сказал он словно бы равнодушно, уставившись холодным взором в очаг и еще не решив, говорить или не стоит. — Знаешь ли ты сноху Юсуп-бия из рода табаклы?
— Даже сына его знаю. Он родился как раз в тот год, когда ты к русскому царю уехал. Его тоже Мама-ном звали. А в год великого бедствия он женился. Когда началось вражеское нашествие, он с Багдагуль свадьбу справлял. Ну, а как переехали в эти края, родился у них сын… Да… не долго бедняге порадоваться довелось. Вчера — я слыхал — он и сам и сынок его в один и тот же день от лихорадки померли.
— Вымираем понемножку, Аманлык!
— Ну, а что же делать?
— Вдова, Юсуп-биева сноха, заставила меня призадуматься. Хоть молодая, но она мать, мать все же!.. Мало детей рождается у нас в народе сегодня, а коли так, значит, нет у нас будущего. Думаю я огласить указ, чтобы вдовые женщины и мужчины, без всякого там калыма, соединялись в семьи, умножали детей.
— Прежде чем указы оглашать, сам-то ты женись! А я, знаешь, Маман, ухожу.
Куда уходишь?
— Не спрашивай, господин мой! Не знаю куда, но ухожу… куда глаза глядят. Сам вот не знаю, кого мне искать, сына или сестренку? Искать ли родичей отца или живым в могилу Акбидай ложиться?.. Не знаю, С тех пор как услыхал от Бегдуллы Чернобородого, как уходила от нас Алмагуль, нет мне покоя, будто черви гложут мои суставы!
— Если мужчина будет так предаваться скорби, женщинам-то что делать? Оглянись кругом: сколько сирот и вдов, сравни их участь со своей — поймешь, что идти тебе некуда.
— Стал я слабее женщины, бий мой! Дай мудрый совет!
Маман-бий считал, что уклониться в таком случае от совета все равно что бросить человека, заблудившегося в лесу. И Маман долго сидел, потупившись, молча, а потом поднял голову и, с болью глядя в глаза Аманлыку, сказал, что в народе не найдешь человека, не потерявшего кого-нибудь из близких, и что здесь не останется ни души, если каждый искать своих потерянных пойдет.
— Ну, да ладно, Аманлык, — добавил Маман, помолчав. — Иди попробуй поищи, но я думаю, не сына тебе искать нужно. Слыхал я от людей, как потерял ты Жаксылыка, и выходит, что он где-нибудь здесь должен находиться. Как-никак он мужчина, рано или поздно объявится сам. Другое дело Алмагуль… Говорят, будто, уходя, она сказала: «Если брат мой будет искать меня, пусть ходит только по влажным от слез дорогам…» Когда я это услышал, у меня прямо сердце перевернулось. Но тебе я ничего тогда не сказал, чтобы не растревожить напрасно: ведь у тебя семья была в те годы!
* * *
Вечером пришел хмурый Бектемир с двумя товарищами. Он повел их красть скот, а вернулись они с пустыми руками. Не зная, что в лачуге сидит Маман, он еще с порога разразился бранью:
— Проклятая жизнь! Ни единого светлого дня не видим. Так и умрешь, другого имени, кроме «вор», не услышав! Теперь хоть убейте, хоть с голоду подохну, а воровать не пойду…
Увидев Мамана, он нимало не смутился, обрадованный, после долгой разлуки, бросился к желанному гостю, вопя: «Бий-ага!»
Маман-бий не морочил ему голову мелкими упреками, обнял по-братски, и за полночь длился их долгий разговор. А наутро, собрав всех ребят, развязал Маман-бий свой черный мешок.
— Вот, джигиты, привез вам семена пшеницы. Надо сеять!
Как завороженные смотрели парни на крупное золотое зерно. И хотя вслух никто не спросил: «А где быки, где соха, где ярмо, откуда взять лемех?»- но вопросы эти вертелись у них на языке, и они стояли молча, растерянные и смущенные.
— Не бойтесь, — сказал Маман. — Вам не все засевать придется. Знаю, знаю я ваши мысли. Разбаловал вас лес, стали вы дичать, труда боитесь. Хватит с вас, если засеете хоть с пол-батмана. Остальные семена повезу Бегдулле Чернобородому. Они там сами вместо волов впрягутся, а посеют.
Хотя Бектемир да и все ребята жалели, что зерно из их лачуги уходит в чужие руки, и ревность-то их одолевала, но было уже поздно, перечить бию они не посмели. А Маман, отсыпав им с три четверти батмана, завязал мешок, вынес его, с трудом обхватив обеими руками, приторочил к седлу и, уже собираясь садиться на коня, окликнул:
— Эй, пучеглазый, езжай в сторону Кара-Терена, в аул Есим-бия. Скажи, пусть завтра к вечеру приедет к Есенгельды-бию на дом. Я там буду. А ты, Бектемир, с ребятами пригляди землю для посева. Смотри, как бы не пустили семена на куирмаш![4]
…Бегдулла Чернобородый встретил Маман-бия с открытой душой, начал было прощения просить за прежнюю дерзость, но Маман только рукой махнул: ладно! Как услышал Бегдулла, что привез Маман пшеницу, тотчас разослал своих ребятишек по соседям, быстро собрал односельчан.
— Джигиты! — радостно крикнул он, покрывая многоголосый шум толпы. — Бий привез нам пшеницу сеять. Говорите, кто мне по силе под стать, будем сами в соху впрягаться!
— Я! — сказал дюжий, кряжистый, как обрубок карагача, джигит с волосатой грудью.
— Я! — сказал другой и встал. — Я…
Маман намеревался оставить в этом ауле половину привезенных семян, но, видя горячее желание людей трудиться, отдал им все три батмана. У Бегдуллы заночевал, а утром вместе со всеми пошел выбирать земли, валить пригодные для сохи и ярма турангили, а после полудня поехал в аул Есенгельды.
3
Богатый аул Есенгельды-бия сразу отличишь среди других каракалпакских аулов. Вольно раскинулся он на широкой, вытоптанной скотом поляне: ни кустика, ни травинки не сыщешь между просторными загонами. Но зато вдали за аулом стеной встают дремучие лесные чащи, подковой охватывающие его с трех сторон.
Отсюда по дороге, идущей дном высохшего озера, заросшей редким камышом, движется на юг, в сторону Амударьи, группа осанистых нарядных всадников. Это посланцы Мухаммед Амин-инаха, привозившие Есенгельды-бию пресловутую новую юрту. Три дня красовались они во главе пира, а теперь отбывают обратно. Впереди на расстоянии копья едет Гаип-бахадур, человек огромного роста, с пухлым и красным, как лепешка из джугары, лицом, с густой черной бородой и усами. На голове у него традиционная черная шапка. Изредка подхлестывая камчой своего могучего пышногривого коня, он с треском крутит и ломает верхушки редкого камыша и кустарника, задевающие его стремена, чтобы — не дай бог! — не коснулись они знатных гостей, едущих сзади. За Гаип-бахадуром следует на остроухом темно-буром скакуне сам Есенгельды-бий в легком шелковом халате, в высокой арабской меховой шапке огненного цвета. На аршин опережает он свою свиту, а потому, беспрестанно оглаживая бороду, к которой липнет пух от созревших камышей, то и дело оглядывается, поддерживает непринужденную беседу. За Есенгельды-бием поспешает полный и моложавый, с круглым бледным лицом, обрамленным реденькой бородкой, глава рода кенегес Аманкул-бий, ближайший соратник Есенгельды по давней перекочевке. Под ним косматый серый конь, на нем высокая черная меховая шапка, чуть сбитая набекрень, и желтый халат, широкие полы которого прикрывают поклажу, притороченную к крупу коня. Аманкул слушает разговор своих спутников с видимым интересом. За старшими едет худой желтолицый юноша в потрепанной черной шапке и выцветшем верблюжьем халате. Беспечно провожает он глазами вспархивающих из-под копыт всадников фазанов и шарахающихся в стороны трусливых шакалов и жирных барсуков. Юный потомок Давлетбай-бия, Курбанбай-бий живо воображает, как бы он гонялся сейчас за всем этим зверьем на своем огромном тощем гнедом коне с белой звездочкой на лбу. Видимо, юноше барсуки и фазаны куда интересней умных разговоров.
Провожая сына на той, мать Курбанбай-бия, почтенная Шарипа, сама достала из хурджуна мятую черную шапку Давлетбай-бия и надела на сына с наказом с головы не снимать, ибо в эту шапку впитался отцовский дух.
А Есенгельды-бий разглагольствовал не умолкая:
— Не помню, говорил я уже вам об этом или не говорил, но в прежние времена, когда наместники хивинского хана — инахи — были простым смертным недоступны, предок почтенного Мухаммед Амин-инаха, приславшего мне юрту, Умбай-инах, был главой придворных его высочества хана, происходившего из аральских узбеков, Кунград населявших. Я рад, что божьего милостью удостоился внимания такого высокопоставленного и великодушного человека, как наш инах… А замечаете ли вы, господа мои, что, кочуя, народ наш все уменьшается в числе? Вот для того чтобы положить этому конец, навечно поселившись на одном месте, мы и пришли под высокую руку умнейшего правителя этого. И уж чтобы быть до конца откровенным, поведаю вам тайну своего сердца, слова самого досточтимого Мухаммед Амин-инаха: если будет на то воля божья, вскоре взойдет он на ханский престол. Вот тогда-то и станет ваш Есенгельды по-настоящему Есенгельды-благополучным. Народ укрепится…
— Наверное, вы хотите рассказать нам предание о Тубиршик-султане, Есенгельды-бий? — угодливо молвил Аманкул-бий.
Есенгельды расхохотался.
— Хитер ты, Аманкул-бий! Понял я, на крючок меня подцепить хочешь… Ну-ну!.. Так вот: с полсотни лет тому назад жил-был храбрый дед наш по имени Тубир-шик-султан. Хивинский хан, когда одолевали его враги, призвал на помощь нашего деда с войском. А когда враги были разбиты, хан, силы нашего Тубиршика опасаясь, приказал тайно заманить его в сети и убить. Да, да, много было у хивинских ханов непонятных, темных дел. Сам Мухаммед Амин-инах мне рассказывал, что в тот год, когда мы сюда переселялись, хан подослал к нам своих соглядатаев: «Идите, мол, разведайте, что каракалпаки на кунградском базаре покупают». Ну, что могут покупать вечно голодные, без крова над головой горемыки? Одежду — только поношенную, а пищу — потроха. Если надо дорогу спросить у такого же бедняка, как они сами, спросят, поговорить захотят — к нему же. Так соглядатаи хану и донесли. «А народ-то этот, оказывается, глупый, — сказал хан, — хорошего от плохого не отличает. Пусть пока живут-насыщаются, мы их, когда надо будет, голыми руками возьмем…» Теперь нам, потомкам обманутого Тубиршик-султана, надо самого хана в коварстве превзойти. Знай, Аманкул-бий дорогой, сейчас рот разевать не время. Будешь мягким как пшеничная мука — съедят, колючим да задиристым — тоже не пожалеют. Будешь из упрямства против ветра плевать — халат перепачкаешь, против течения поплывешь — назад отнесет… А вот если Амин-инах вступит на престол, а мы его с божьей помощью под локотки поддержим, — и он и мы внакладе не останемся. Есть у нас на сей счет некое соглашение.
— Курбанбай-братец, ты слушаешь? Отец твой Давлетбай-бий был человеком мудрым. Не знаю, разве что в мать ты уродился, а если в отца — порядочный человек из тебя выйдет.
Седло под молодым бием пухом стало, он слегка сжал коленями бока своего гнедого, и тот, трубно заржав, вырвался вперед, поравнялся с темно-бурым скакуном Есенгельды-бия.
Всадники выехали к Кок-Узяку. Кучка джигитов, рыбачивших на берегу, со смехом о чем-то толковавших между собой, примолкла; джигиты, косясь на господ, провожали их злыми глазами.
— А Маман-бий где? — отчетливо прозвучал в наступившей тишине голос какого-то рыбака.
И, не сообразив по молодости лет, понравится ли это Есенгельды-бию, ввязался в разговор юный Курбанбай-бий:
— Зачем вам Маман-бий, когда Есенгельды-бий с нами?
— А мы по Маману соскучились!.. На кой нам бий, у которого язык не поворачивается нам «бог в помощь» сказать!
Точно молния ударила в середину веселой гурьбы всадников, потешавшихся рассказами речистого Есенгельды-бия. Опустив глаза, проезжали они мимо рыбаков, бесшумно, как рыба, когда плывет вниз по течению, не шевеля плавниками.
— Как ни назови этот народ, слепым ли, глухим ли, а все ж это твой народ! — молвил он с горечью.
Хотя Есенгельды-бий говорил спокойно, но сердце его сжалось тревожно, в смятении он сильно ударил в бока коня ногами, обутыми в стальные стремена. И конь, плавно шагавший по дороге, всхрапнув, затанцевал на месте, упираясь.
Давно уж понял Аманкул-бий, что мудреные речи Есенгельды, его замысловатые иносказания неизменно направлены против Маман-бия, однако Аманкул твердо усвоил хитрое правило «не плевать против ветра», а потому притворялся, что ничего не понимает, молчал. Но терпению юношески опрометчивого Курбанбай-бия пришел конец.
— А может быть, и вправду, Есенгельды-ага, люди скучают по Маман-бию? — сказал он, поднимая на Есенгельды бездумные детские глаза.
— Об этом-то я и скорблю, братец мой милый. Из-за этих своих русских оставил Маман родителей без детей, младенцев осиротил, весь народ покоя лишил, землю кровью залил. А неразумный мой народ никак не может в этом разобраться, тянется к Маман-бию. В год великой беды Бегдулла Чернобородый поймал его на дороге, посадил на серого осла задом наперед, — словом, проучил хорошенько за все его каверзы. Но вот у мамаши твоей чересчур жалостливое сердце вдруг оказалось — выручила она Мамана. — В волнении Есенгельды захлебнулся собственной слюной. — Хотя и тигр и тигрица вроде бы одинаково охотятся на скот, но у тигрицы другой аппетит и повадки другие, Курбанбай, братик мой меньший! Ну, да тебе это по молодости твоей еще не понятно… А Маману все неймется, — упрямый. Пришел он со слезами к Убайдулла-бию на Жанадарью, выпросил коня, сел на него и давай шнырять по аулам вдоль и поперек, кружить головы разоренному народу. Сначала он все носился со своими русскими: «великая страна», да «русское оружие», да «бумага большой надежды». Но потом видит: никому до этого дела нет, угас и скрылся. И вот в бытность мою в Кунграде слышу, что какой-то каракалпакский бий попрошайничает в Шаббазе, пшеницу клянчит. Видимо, это и был Маман-бий. Разве не слеп и не глух тот народ, что скучает о человеке, который, забыв наставления мудрого Амина — инаха нашего, заботясь о своих мелких делишках, позорит народ каракалпакский? Давно ли люди гнали Мамана, как бездомную собаку, камнями в него кидали. А теперь, извольте видеть, скучают по нем! Ох, накличет народ черные тучи на свою голову!
Если правду сказать, кто нашел для народа этот райский приют, край светлых озер? Я! Я, и только я! А кто такой Маман? И впрямь голодный пес, плетущийся за кочевкой!
Хотя Гаип-бахадур и ехал впереди, но до него доходили обрывки разговора, и лицо его начало темнеть. Конечно, Есенгельды-бий помог ему обжиться на новом месте, и теперь Гаип поправил свое хозяйство, живет не хуже, чем на Сырдарье. Но он любил Мамана и не хотел, чтобы о нем говорили дурно. Желая положить конец мелкой клевете на большого бия, Гаип натянул поводья, приостановил коня.
— А не получилось ли неудобным, Есенгельды-бий, что на той не пригласил никого из местных казахов, не пригласил даже достойного брата почтенного Айгара-бия — Мырзабек-бия? — заговорил бахадур.
Всегда вы бросаетесь чесать мне то самое место, которое у меня не чешется! — раздраженно, срываясь на визг, крикнул Есенгельды. — Самые подлые из казахов, разоривших нашу землю, это именно те, кто пристал к нам и на новом месте как заплатка к чекменю! Все они предатели, и мы еще заплачем от них кровавыми слезами. Как вспомнишь, что Маман-бий, вечно нос сующий не в свое дело, показал этим казахам прекрасное стойбище да еще назвал какую-то там речку Казахдарьей, просто задыхаешься от гнева! Воистину этот смутьян Маман-бий — несчастье всего нашего народа!..
Если судить по тому, что все мы слышали, а многое даже видели своими глазами, эти казахи немало помогали народу, о котором вы тут толкуете, — упрямо стоял на своем Гаип-бахадур. — Да вы сами не хуже меня знаете, что султан Ералы согнал Мырзабек-бия, и друга его Седет-керея с их собственной земли, согнал за то, что они нам, каракалпакам, помогали.
Вы с Маман-бием хоть и на разных полях росли, но, похоже, все-таки одного поля ягода, — ехидно заговорил Есенгельды, слывший острословом от берегов Кок-Узяка до самой Белой переправы, заговорил и осекся, увидев, что Гаип-бахадур торопливо слезает с коня.
Глянул вперед, — навстречу едет Маман-бий. В замешательстве оглянулся на спутников, но они, забыв Есенгельды-бия и его великое словесное искусство, спешно соскакивали с коней. Есенгельды нахмурился, как туча, внутренне кипя от злобы, сначала молча наблюдал, как пешие его товарищи почтительно здоровались с сидящим на коне Маман-бием, а потом и сам поздоровался, правда не сходя с коня.
А так как в голосе Мамана, который вежливо сказал, что ехал поздравить Есенгельды-бия с новой юртой, не было и следа обиды, Есенгельды и сам не заметил, как выехал вперед, приглашая Мамана и всех присутствующих снова к себе в аул.
* * *
Новая белая юрта Есенгельды-бия, обвязанная узорчатой пестрой тесьмой, сверкала среди старых черных юрт, лачуг и землянок, как полная луна, взошедшая на звездное небо.
Но гости, сидящие в этой юрте, забыв о ее красоте и пышном убранстве, который уже час ведут горячий многоголосый спор. Кроме прежних своих спутников Есенгельды-бий пригласил еще человек пять соседей-кунградцев, и все они тоже вмешались в словесную битву, а кому говорить не досталось, молча кивали головой на каждое слово Есенгельды-бия. Как и подобает хозяину, он сидел ниже гостей и вел себя скромно, однако не упуская случая вставить свое веское слово в разговор, когда представлялась к тому малейшая возможность.
Спорили о завтрашнем дне народа. Маман-бий пересказал собравшимся слова Багдагуль о том, что постепенно народ каракалпакский с лица земли исчезнет, и заклинал немедленно принять меры, чтобы этого не произошло. А единственное средство предотвратить несчастье сегодня у нас в руках. В народе много вдов и сирот, но мало рождается детей. Надо отдать приказ, чтобы все эти овдовевшие горемыки, осиротевшие девушки и юноши без всякого калыма вступали в брак, жили совместно. Вот тогда и будет у нас много детей и род каракалпакский не переведется.
Если бы это предложил Есенгельды-бий, присутствующие сразу бы его поддержали, но то, что первым заговорил Маман-бий, вызвало такой шумный спор, что и конца ему не было видно. Да к тому же Маман-бий подлил масла в огонь — намекнул на не подобающую хозяину дома горячность Есенгельды-бия, никак не желающего отстать в словесной перепалке, да еще помянул предсмертные заветы большого бия Кунграда, покойного Рыскула, в пример сородичам его поставил, и тут-то, стремясь унизить Мамана недвусмысленным намеком на мужскую несостоятельность, крикнул один из прихлебателей Есенгельды:
— А сами-то вы можете жениться?
— Женюсь. — Спокойный голос Мамана уверенно и громко прозвучал в мгновенно наступившей тишине. — Женюсь на овдовевшей снохе Юсуп-бия из рода табаклы.
Тягостную эту тишину нарушил насмешливый голос Аманкул-бия, внимательно следившего за настроением Есенгельды-бия:
— Вот, оказывается, почему вы, Маман-бий, хотите заставить людей пережениться! Сами хотите попробовать!
Громовой хохот потряс нарядную юрту. Есенгельды-бий смеялся до упаду. Не смеялись только Есим-бий да Гаип-бахадур.
— А не много ли на себя берете, Маман-бий? Против божьего произволения идете! — заговорил Есенгельды-бий, вытирая рукавом брызнувшие из глаз слезы. — Вы, вероятно, забыли, что человек рождается для того, чтобы умереть?
— Человек рождается для того, чтобы жить, множиться и населять землю, — степенно молвил Есим-бий, но мелкие прихлебатели Есенгельды-бия дружно загомонили:
— Не подпускайте беспородных ябы к потомству знатных аргамаков, Есим-бий!.. Слова господина нашего Есенгельды-бия просеяны сквозь сито великого ума его!.. Слово его высоко, как священные мысли хивинских инахов и хазретов!..
А один без году неделя бий позволил себе даже подсмеиваться над Маман-бием, спрашивая, почему он приехал на худородном коне ябы вместо доброго скакуна, пожалованного ему на бедность Убайдулла-бием.
Но Маман-бий, упорно сохраняя спокойствие, не давал вовлечь себя в ссору. Он обстоятельно разъяснил, что конь Убайдулла-бия действительно оказался отличным скакуном и что Маман решил отдать его любителю байги и знатоку коней, сыну некоего Ауэз-бия из Шаб-база. А взамен получил вот эту свою беспородную лошадку да три с половиной батмана пшеницы, которую в ауле Бегдуллы уже посеяли. Так свел он знакомство с нужным человеком, который обещал оказывать каракалпакам подмогу во всех их затруднениях.
В ответ на разумные эти слова прихлебатели Есенгельды-бия стали шумно нахваливать некоего Серкер-де — должностное лицо при дворе хивинского хана, высокого покровителя хозяина дома.
И так в бестолковой перепалке под ворохом пустых слов было погребено предложение Маман-бия о брачном указе. Терпение Маман-бия наконец иссякло.
— Чем попусту верещать, как чайки над падалью, без конца превознося новую юрту бия, не лучше ли вам, дорогие мои, призадуматься над бедой народной, которая в конце-то концов просочится и в эту пышную юрту. Слепое стремление к роскоши к добру не приведет. Вспомните, как прославленный Байкошкар-бий, заверяя всех, что выступает за народ, из-за одного ковра кровью захлебнулся. А теперь мне пора отъехать! — В гневе поднялся Маман-бий, рывком снял со стены свою камчу, повешенную под куполом юрты. — Болтайте без меня что хотите, а я без вас оглашу брачный указ. А кто станет мне поперек дороги, повешу на турангиле! Если думаете о завтрашнем дне народа, посылайте детей учиться. В Хиву ли, в Бухару, в Петербург ли или в Казань, лишь бы обучались наукам и ремеслам. Я сам повезу их в города, когда улажу дело с указом. Если и это не по душе вам, Есенгельды-бий, то забудьте, что есть на свете Маман, который приехал к вам сегодня порадоваться вашей новой юрте.
И Маман покинул собрание. Есим-бий решительно вышел вслед за Маманом, колеблющийся Гаип-хан проводил их до двери, но на пороге словно запнулся, отстал, а юный Курбанбай-бий вскочил было бежать за ними, но кто-то потянул его за полы халата, и он шлепнулся на свое место. Все остальные сидели не шелохнувшись, точно привязанные. Хозяину дома Есенгель-дыбию и в голову не пришло хотя бы спросить у обиженных биев, куда они едут одни среди ночи.
Старый Есим-бий ехал за молчаливым Маманом, думая: как утишить бурю, которая бушевала в его душе? И когда проехали уже с полпути, осторожно молвил:
— Не печалься, Маман-бий. Ты ни в чем не виноват. Эти спесивые бии все равно тебя не поймут, а народ тебе верит. Оглашай указ. Исполнят… Знаешь, я побывал на южном берегу Кара-Терена. Там, оказывается, хорошие земли есть для посева.
— Правильно делаете, Есим-бий, что думаете о посеве. Нельзя только на рыбу в воде надеяться, надо землю пахать, — живо откликнулся Маман. — Вот если бы вы еще съездили в Шаббаз. Неплохие у нас там оказались соседи. Если бы нашли вы там Ауэз-бия, о котором я сегодня толковал, да сказали бы, что вы от меня, он для вас ничего не пожалел бы, снабдил бы наших пахарей семенами! Я ведь о вас с ним говорил.
— Ладно, братец мой, съезжу…
Едва забрезжило утро, Маман-бий пришел в лачугу Аманлыка и всех разбудил:
— Джигиты, вставайте! Будете оглашать в народе мой указ: «Заботящиеся о завтрашнем дне своего народа вдовы, заботящиеся о своем народе одинокие мужчины пусть забудут свое горе и объединяются в семьи сами, без калыма, растят и множат детей! А кто захочет остаться вдовой, кто захочет остаться холостяком, на том божье проклятье навеки нерушимое и сорок плетей в наказание от Маман-бия. А кто вздумает доброму делу сему противиться, тому виселица на турангиле». Так будете повсеместно оглашать! Бектемир, вставай, мы с тобой пойдем к Багдагуль свататься. А вы, джигиты, пока мы не вернемся, к дому ее оглашать не ходите, идите в другую сторону. Ну, а ты, Аманлык, что делать будешь?
— Благословите, бий-ага, я пойду.
— Счастливого тебе пути, но помни: глашатаем моего указа среди бухарских каракалпаков будешь ты. Будешь послом каракалпакским для тех, кто захочет переселиться сюда, к нам. Недаром ведь в народе говорят: «Чем сидеть на троне в чужой стране, лучше своего племени овец пасти». Ты напоминай людям об этом. Как говорится: если к бедняку вернется его скот — это божий дар. Если вернутся к нам в чужие земли ушедшие вдовы и сироты наши — прибыль народу. Коли найдешь Алмагуль и она там с кем-нибудь жизнь свою связала, детей родила, то ты считай их узбеками ли, казахами ли, но на чужбине не оставляй. Коли муж ее захочет за ней пойти, веди и его к нам, будет нам зятем. Прибавится людей, прибавится и достатка… Ну, знаешь что, Аманлык, плакать-то не годится. У других народов такие джигиты, как ты, уже все четыре стороны света обошли. Когда я ездил в Хиву, встретил там армянских парней, которые с русским посольством в афганскую землю ходили и возвращались обратно. Думаешь, устали они, замучились? Да ничуть не бывало! А ты что нос повесил? Иди с поднятой головой да покрепче на ногах держись! Скажи бухарским каракалпакам, что мы с русской стороной не порвали. Вот обживемся немного, снова посольство к царю пошлем. «Бумагу великой надежды», скажи, ищем и найдем непременно! Пусть никто не теряет надежды в жизни! …А ты, Бектемир, готов? Чай пить у Багдагуль будем…
4
— Внимайте, внимайте! Не говорите, что не слыхали, что Маман-бий повелел! Не говорите, что не слыхали, что Маман-бий повелел… Заботящиеся о завтрашнем дне своего народа вдовы, заботящиеся о завтрашнем дне своего народа одинокие мужчины (холостяки и вдовцы) пусть забудут свое горе и объединяются в семьи сами, без калыма, пусть растят и множат детей! А кто хочет оставаться вдовой, кто хочет остаться одиноким (холостяком или вдовцом), на том проклятие божие, навеки нерушимое, и по сорок плетей в наказание от Маман-бия. А кто вздумает доброму делу сему противиться, тому виселица на турангиле-е-е!.. — Внимайте, внимайте!..
Курбанбай-бий тихонько приподнял циновку у входа юрты — интересно, кто это так громко кричит посередь аула? Осторожно выглядывая наружу, юноша вытянул шею, как черепаха из панциря. Увидев, что мать замерла у двери, внимательно слушает глашатая, Курбанбай сразу втянул голову в плечи и нырнул в постель. Ша-рипа заметила присутствие сына лишь тогда, когда хлопнула тяжелая циновка, сплетенная из крепких джангилевых прутьев и стеблей камыша.
«Как бы не подумал обо мне сын чего-нибудь плохого!» — с этой мыслью Шарипа вошла в юрту, но сын уже лежал навзничь на высокой пуховой подушке, словно бы ничего и не слышал.
«Внимайте, внимайте!..»-удаляющийся голос глашатая все еще доносился с ветром, и мать осторожно сказала:
— Не знаешь ли, Курбанбай, что это за повеление такое?
Вспомнив разъяснения Есенгельды-бия относительно разницы между тигром и тигрицей, Курбанбай опасливо подумал: «А может, и моя мать будет рада избавиться от вдовства?»- и в страхе, красный от стыда, поднял голову: хорошо, что мать не знает об этой его кощунственной мысли!
— Слышал я, мама, об этом повелении… — мямлил он. — Большой спор был о нем в доме Есенгельды-ага. Маман-бий отъехал от него в обиде, но, видимо, решил-таки сделать по-своему.
— Что же теперь он сам-то, Маман, будет делать? Ведь он старый холостяк! — Задавая этот вопрос, Шарипа с равнодушным видом, но что-то уж слишком усердно мешала угли в очаге. Волей-неволей надо было Курбанбаю отвечать, хотя, ни на минуту не забывая о «повадках тигрицы», юноша и предпочел бы промолчать.
Ты ведь знаешь, мама, что сын Юсуп-бия из рода табаклы, — его тоже Маманом звали, — так он, оказывается, умер. Вот Маман-бий и собирается теперь жениться на его вдове.
Бледность залила темное лицо Шарипы, ее остановившиеся глаза, бессильно опустившиеся руки невольно выдавали то, что она всеми силами скрывала от сына: ее внезапно рухнувшие надежды самой выйти замуж за Мамана.
— Ну и пусть женится! — процедила она сквозь зубы и, тщетно стараясь скрыть от сына свои чувства, пустилась в длинные рассуждения:- Удивляюсь я, сын мой, странному поведению двух наших биев. Сами друг с другом никак не поладят, крутят да вертят неизвестно зачем, и люди вокруг них толкутся, как льдины в ледоход по течению плывут, куда кривая вынесет! А все Маман-бий мутит. А я полагаю: раз уж пришли сюда наши каракалпаки вслед за Есенгельды-бием, так уж и слушались бы мудрого его слова!
Юный джигит, который ехал на пир к Есенгельды, не хотел ни о чем советоваться с матерью, хранил про себя свои мальчишечьи секреты. «Тигр», вернувшийся с тоя, уже понял, что свет не так прост, как ему казалось, и материнский совет был ему вот как необходим! — Мама, вот вы обо всем этом хорошенько подумайте сами и мне посоветуйте: за кого мне держаться? Я сам видел, как два бия лбами столкнулись, ну прямо как бараны, — и ни с места! Маман-бий первый не вытерпел, обиделся и уехал, Есим-бий — за ним. А я подумал было тоже уйти, да постеснялся Есенгельды-бия обидеть: ведь у него в доме сидели, хлеб-соль ели. Ну, я и остался. Все остались. Есенгельды-бий сильно разгневался на Маман-бия: «Этот беззубый старый мерин, говорит, еще хочет скакуном стать, ханские указы оглашать! Он, оказывается, воображает, говорит, что раз наш народ его, Мамана, милостью разорился да в камышах запрятался, так никто за ним сюда не придет, никто его здесь не сыщет — и теперь он сам, Маман, будет над каракалпаками ханом! Божья смерть Маману, говорит, а не ханство! Никто из его предков, говорит, ханом не был, и ему вовек не бывать. Если у мудреца, говорит, ум укорочен, то нужно ему сидеть смирно, а не то об первый же корешок джангилевый споткнется и нос расшибет». И знаешь, мама, всем Есенгельды-бия слова очень понравились, все его хвалили. Только Гаип-бахадур молчал да я. А другие-то говорили, что вот, мол, спотыкается теперь Маман-бий, как неподкованный конь на льду. Теперь, мол, повелевать народом уже не может. А похоже, что Маман-бий человек упрямый. Кто что ни говори, а он по-своему повернул. На обратном пути ехал я через аул Бегдуллы Чернобородого. Так все мужчины там землю пашут. Помнишь отцова конюха Омара? Так вот он вместе с сыном своим Нурабуллой и с самим Чернобородым впряглись вместо быков в соху и тянут. Я сказал им: «Не уставать вам! — и спросил:- Вы что тут делаете, съедобные корешки ищете?» А они мне: «Не корешки, мол, ищем, а пшеницу сеем. Нам Маман-бий семена дал!»
— А сам-то он их откуда взял?
— Вот к этому-то я и веду, мама. Оказывается, Маман-бий сменял своего скакуна на беспородную лошадку, а в придачу к ней эти семена взял. И еще хвалит людей, которые его так обманули: добрые, говорит, у нас оказались соседи. Удивляюсь я этому большому бию: три с половиной батмана пшеницы, которую с таким трудом добыл, этим голодранцам даром отдал!
— Значит, все еще надеется укорениться в народе… А это правда, что он женится на Багдагуль, или, может, зря болтают? — Шарипа, жалея, что невольно выдает себя этим вопросом, снова вильнула в сторону:- Знаешь, Курбанбайджан, я думаю, что вся эта склока между биями оттого идет, что измельчали нынче бии, жадные стали, бессердечные — вот как хотя бы и Маман!
Наблюдая за матерью, у которой одно слово было не в ладу с другим, Курбанбай начал понемножку смекать, почему она раньше без меры хвалила Маман-бия, а теперь на чем свет стоит бранит. Теряясь, не зная, что и сказать, он во все глаза глядел на свою сорокапятилетнюю мать, которая, как молоденькая девушка, то бледнела, то краснела. Вот и теперь она вдруг замолчала, ни с того ни с сего вскочила, лицо бледное, обильный пот выступил на лбу, и девичьей походкой, плавно покачивая бедрами, вышла за дверь.
Не решаясь взглянуть ей вслед, Курбанбай потупя голову размышлял об одиноких женщинах и их странном поведении: «Оказывается, душа вдовы полна непонятных забот и противоречий. Ну, как это можно называть укороченным ум человека, который, разумно понимая страдания одиноких женщин, огласил повеление им же на пользу?»
Это было первое душевное волнение юноши, первое его тяжелое раздумье "над первой головоломкой, которую задала ему жизнь. Снаружи донесся голос матери, которая кого-то звала, и Курбанбай затаился, подслушивая.
— Абадан? Проходи, проходи!
— Иду, Шарипа-апа, иду к вам, бегу.
В голосе Абадан слышалось, что она торопится, говорит, слегка запыхавшись, отрывисто.
— Гонятся за тобой, что ли? Гляди-ка — вспотела! Идем в юрту, поговорим. И с приторной лаской сыну: — А конь твой сено уже съел, голодный стоит!
Курбанбай понял, что у матери свой тайный разговор с этой женщиной. Он поспешно снял с камышовой стенки серп и, не успев поздороваться с гостьей, выскочил в одну половинку двери в то время, как женщины входили в другую.
— Ну, говори, Абадан, что случилось?
Скромно присевшая на краешек циновки Абадан пригладила волосы, на бегу выбившиеся из косы, и вытерла потное лицо:
— Слыхали, Шарипа-апа, указ большого бия?
— Что еще за указ? — Шарипа притворялась, что не знает, о чем говорит гостья.
Так вот, будто мы, вдовы, имеем право выходить замуж за любого, кто нам понравится! Мне кажется, что теперь женщина в сорок лет расцветет снова.
— А мне кажется, что и в сорок пять не угасает огонь в ее душе, сестрица. И как, есть у тебя человек на примете?
Был! А вот сейчас указ есть, а человека нет: женился тот, кого я любила, на женщине, которая его не любит.
— Время как конь необъезженный, сестрица. Хочешь его обуздать — убегает, если не побережешься — затопчет. Поневоле пешочком идешь. Как услышала я об указе, кости мои, как от целебной воды, разомлели А теперь говорю «не слыхала», сижу, сама себя утешаю. А знаю ли я этого твоего человека, что у тебя на примете?
— Знаешь. Все его знают. Это — сам большой бий.
— Маман-бий, что ли?
— Ну, а кто же у нас еще большой бий? Женился он на вдове своего тезки из рода табаклы. Удивляюсь я, Шарипа-апа, и чем только она его приворожила? Что в ней такое привлекательное он нашел? Наверное, молодость! Но разве может постичь достоинство большого бия малодушная молодка, которая от первого же несчастья с ума спятила, на бога топор подняла?!
У Шарипы все тело пылало, будто на костре. Ненависть к Абадан — сопернице в любви — смешалась в ее душе с благодарностью к Абадан — подруге по несчастью, так зло и беспощадно клевещущей на Мамана и Багдагуль, и невольный вздох вырвался из груди Шарипы:
— И ты его тоже любишь?
— Люблю, Шарипа-апа. А вот Багдагуль не любит. Даже с топором на него бросалась. Оказывается, даже лучший из мужчин не стоит нашей улыбки. Ты ему улыбаешься — он хмурится. Ты нахмуришься — вот тогда он за тобой с улыбками побежит. Упрямый бык всегда левым боком ложится!
— А ты что смотришь, Абадан? Если бы у меня не сын взрослый, не посмотрела бы я на то, что Маман — большой бий, собрала бы пять-шесть баб да пошла, устроила бы ему взбучку хорошую, вовек больше жениться не захотел бы!
Облегчив злыми словами свою пылающую обидой душу, Шарипа и сама не заметила, что сгоряча подстрекала к бунту и без того распаленную Абадан. За несколько дней до того пришел к Абадан домой Гаип-бахадур, говорил о брачном указе, советовал и ей за кого-нибудь замуж пойти. Угрюмое молчание Абадан принял Гаиц за согласие и наутро привел к ней Бекмурата-си-роту, который жил в Аманлыковой лачуге и, как и все сироты, ходил холостым. Бекмурат был из рода кунград, и Гаип-бахадур заявил, что потому его и выбрал, что не хотел вдову кунграда отдавать в чужой род. «Уважая повеление большого бия и мою родственную заботу, выходи за этого парня». Абадан знала Бекмура-та с малых лет: бедный из бедных да к тому же еще и лентяй. И она отрезала: «Не пойду!» Бахадур ушел в обиде вместе с отвергнутым женихом. А в тот день указ Маман-бия оглашали второй раз… Это окончательно раззадорило Абадан, и она побежала к Шарипе за советом. Совет напасть на бия и учинить над ним суд и расправу пришелся Абадан по душе. Стремительно вскочила она с места и бросилась вон из дому, широкий подол ее ветхого бязевого платья развевался, поднимая тучу пыли, которая кружилась вокруг женщины, забиваясь в прорехи ее одежды.
— Мама! — с удивлением воскликнул подошедший в это время с охапкой травы Курбанбай. — Платье этой женщины прямо как знамя реет, вихрь за ней поднимается, что это с ней?
Уж такая она женщина! — усмехнулась Шарипа. — Ее ветер только-только начинается, вихрь-то еще впереди!
5
В немой предутренней тишине дремлют камыши, склонив отягощенные ночной росой пушистые головки. Но вот слегка вздрогнули широкие листья, и блиставшие на них жемчужные капли влаги, скатываясь с тоненьким хрустальным звоном, оповестили вселенную о наступающем дне. Зашевелилось все живое, поднимая голову навстречу его первым лучам.
Только один аул, раскинувшийся на самом берегу Кок-Узяка, спит еще мертвым сном… Но нет, на самом краю селения открылся дымоход над куполом большой белой юрты, и, будто ожидали этого сигнала, над юртами, лачугами и шалашами один за другим начали вставать и тянуться к небу дрожащие голубые дымки.
Первой в ауле поднялась со своей теплой постели, блаженно зевая и потягиваясь, хозяйка большой белой юрты, новобрачная Багдагуль. Наскоро оправив постель, она принялась разжигать огонь в очаге. Изломала припасенную с вечера охапку сухого камыша, притоптала стебли ногами и, разгребая остывшую золу, пыталась раздуть еще тлеющие искры. Кизяк в очаге почти совсем прогорел, и камыш никак не загорался. Но упрямая Багдагуль, раскрасневшаяся, со стелющимися по краю очага полураспустившимися косами, все дула и дула…
Первый раз в жизни проснулся Маман-бий в супружеской постели. С чудесной легкостью во всем теле, охваченный радостным чувством полноты жизни, — словно внезапно нашел давно утерянное сокровище, — он отбросил одеяло и, повернувшись на бок, молча смотрел посветлевшими ненасытными глазами на хлопочущую у очага Багдагуль. Все в ней казалось ему прекрасным, даже зола, запятнавшая ее щеки, была ей словно бы к лицу.
Трудно было поверить, что эта самая молодка всего три дня назад гневно кричала: «Не пойду за большого бия! Он мне противен, ни за что не пойду!» Об этом замужестве она и слушать не хотела, а от Бектемира, пытавшегося ее урезонить, отмахнулась как от назойливой мухи. И как ни просили, как ни уговаривали ее соседи внять голосу благоразумия, твердила она одно: «Не надо мне его, не надо!» А коли подступали к ней ближе с разъяснениями и доказательствами, она затыкала уши, мотала головой и топала ногами, как дикий жеребенок.
Но большинство все-таки есть большинство, и ее наконец уломали и, хотя членораздельно высказанного согласия на брак не получили, все же уложили их с вечера в одну постель.
И вот теперь перед ним та самая дикая лошадка, уже покладистая, смирная, будто бы давным-давно прирученная… В чем тут дело? Кто их, женщин, разберет!
Не успел Маман додумать до конца свои веселые мысли, как камыш в очаге внезапно вспыхнул, едва не спалив щеки Багдагуль. Отпрянув назад, она повернулась к мужу и, встретившись с ним глазами, поняла, что он следит за каждым ее движением. Щеки ее заалели еще ярче. Она вскочила и, ласково поглаживая по взъерошенным волосам Мамана, старалась прижать его лицом к подушке, словно бы говоря: «Не гляди на меня, мне совестно!» Маман-бий отнюдь не сопротивлялся ее нежным рукам, уткнувшись в подушку, он слушал, как гудит в очаге разгоревшийся огонь.
— Внимайте, внимайте! Не говорите, что не слыхали… Повеление Маман-бия…
Он быстро поднял голову, насторожился, хотя на губах его еще играла счастливая улыбка.
Голос проходившего по аулу глашатая привлек внимание Багдагуль. Еще не зная, о чем пойдет речь, она вслушивалась в его крик, и в глазах ее разгорался свет, а когда глашатай умолк, она с сияющим лицом повернулась к мужу: «Это твое слово? Горжусь!» Теперь пришел черед смущаться Маману, и он, словно играющий ребенок, спрятал пылающее лицо за подушкой.
— Что ты там притаился, большой бий? (Так звала она и теперь мужа.)
Маман стремительно, как змея-стрела, поднял голову.
— Слыхала? Это по твоему совету огласил я такой указ. О чем задумалась? Не помнишь, что ли, что ты мне сказала, когда мы встретились на берегу Кок-Узяка? Не помнишь: ты тогда боялась, что не только один род, но и весь народ наш пропадет.
Багдагуль жадно прислушивалась к прерывистым удаляющимся голосам глашатаев: «…думающий о будущем народа вдовец, думающая о будущем народа вдова… пусть без всякого калыма соединяются в семьи…»
— А не скажут люди, что ты все это придумал потому, что у самого жены не было?
— Как хочешь, так и думай. Не скрою, однако, эта ночь мне вернула молодость, будто опять я двадцатипятилетним джигитом стал!
— Да брось ты! — нежно проворковала Багдагуль и, застыдившись, вышла из юрты.
А Маман, охваченный истомой, лежал на спине и смотрел сквозь раскрытый купол юрты в небо, гадая о том, какая будет сегодня погода.
Первый муж Багдагуль, сын Юсуп-бия и тоже Маман, был человеком предусмотрительным. Когда они в год бедствия спешно откочевали с берегов Сырдарьи, он кроме двух-трех коров прихватил и остов этой юрты, кошмы, тесьму — все, что нужно, чтобы поставить дом на новом месте. Навьючив этим добром смирную свою лошадку, он резонно рассуждал, что, где бы ты ни был, летом пригодится крыша над головой — защита от солнца и дождя, а зимой — свое надежное укрытие от непогоды. Но так как впопыхах он забыл шанырак, колесо, скрепляющее купол юрты, она хотя и выделялась среди других лачуг своей опрятностью, но все же оказалась какой-то приземистой.
Сейчас, следя за бегущими по небу редкими тучками, Маман почувствовал, будто дом над ним поднимался ввысь, стал таким высоким, что облака ласково гладят его кровлю.
— Большой бий! — окликнула его Багдагуль снаружи, и, хотя голос ее был ровным, Маман остро почувствовал: что-то случилось! Как был, без рубахи, в одних штанах, он выскочил наружу.
— Знаешь, бий, с конем твоим что-то неладно, лежит, — сказала она, стараясь сохранить спокойствие.
Маман бросился в камышовый загон. Лошадь лежала со вздутым брюхом, растопыренные ноги торчали, как палки, воткнутые в бурдюк, кровь, вытекшая из ноздрей животного, запеклась на морде.
Другие хозяева на всякий случай стреноживали своих коней на ночь. Маман никогда этого не делал, жалел лошадь, и вот…
— Хоть бы украли! Зарезали да мясо унесли! А то так, напрасно извели! Какая злоба!
Невольно закралась мысль: «А не дело ли это рук Есенгельды-бия? — Но тут же Маман одернул себя: — Куда тебя занесло, грязная ты душа? Не такой уж он мелочный человек, чтобы пойти на такую пакость!.. А тогда кто?..» Маман почесал в затылке и больше раздумывать не стал.
— Непохоже, Багдагуль, что это кровный враг сделал. Чин чином выпустил кровь из жил, — мясо не опоганил, его есть можно. Позови соседей, пусть поделят мясо между собой.
Сдержанные и терпеливые, муж и жена понапрасну никого не охаяли, никого не проклинали и не обвиняли.
Маман топтался около людей, разделывающих тушу, и шутливо приговаривал: «Видно, на ваше счастье это случилось, видно, на ваше счастье…»
Гибель единственного коня — великая печаль, не только для мужчины, который на нем ездит, но и для всей семьи, где стряслась такая беда. Она укорачивает людям шаг, увеличивает расстояния. Как ни смирял Маман свое горе, как ни старался держаться молодцом, все внутри у него пылало, будто напился он в жаркий полдень воды из соляного озера. Все тело его горело, казалось, полжизни отняли у него лиходеи. И когда время приблизилось к полудню, Маман не выдержал.
— А не пойти ли мне прогуляться до аула Бегдуллы? — молвил он виновато. — А? Как ты скажешь, Багдагуль?
— Иди, иди, большой бий! — живо отозвалась она. — Может, надумаешь рядом с ним клочок земли засеять. — Жена чувствовала, что тоскующая душа мужа не вмещается в тесную юрту, просится на волю.
«Клочок земли засеять!» — повторил Маман про себя и усмехнулся в усы. Прищурившись, он с благодарностью глянул на жену. А она не смотрела в лицо мужу, а, нагнувшись, счищала камышовый пух с его халата, заметила, что кровь налипла на желтые голенища его сапог, намочила тряпку в воде и стерла.
Поправив его воротник, она попросила его потуже подпоясаться кушаком. И Маман внезапно понял, что отныне жена будет для него не только ночной утехой, но всегда и всюду самым дорогим на земле человеком. Ничего не сказав, он только погладил ее по спине и, кивнув головой, вышел.
Аул Бегдуллы Чернобородого словно вымер. Ни души. Все от мала до велика были на поляне близ приозерья. Вода после весеннего паводка схлынула, и земля парила, готовая для сева. Поле кишело людьми, как большой муравейник, одни, впрягаясь в ярмо, тянут на себе соху, другие следом рыхлят землю, оттаскивают кучи сорняка в сторону от борозды. Середкой поля, завернув полы халата, степенно шагает сеятель, разбрасывая семя. За ним, галдя как галчата, бегут ребятишки, комьями земли отгоняя каркающие стайки ворон, не дают им садиться на землю. Посередине поля возвышается косматый, как огромная старая шапка, турангиль. Его ветви увешаны выдолбленными тыквами для воды и айрана, железными кумганами для кипятка, узелками с нехитрой снедью.
Когда народ жил еще на исконном своем месте, в нижнем течении Сырдарьи, первым сеятелем у дехкан был всегда Мурат-шейх. И если враг не вытаптывал посевов, зеленя всходили дружно.
И когда Маман увидел, что сегодня так же, как некогда Мурат-шейх, ходит, завернув полы своего рваного халата, Бегдулла Чернобородый, сильными взмахами руки разбрасывая зерно, сердце бия вздрогнуло, и он подумал, что хорошо сделал, отдав всю пшеницу этому аулу.
— Молодцы! Счастливых вам всходов! Не уставайте!
— Долгой жизни вам, большой бий!
— Добро пожаловать, благословенны ваши шаги, Маман-бий!
Пеший бий окинул глазами пахарей, задерживая испытующий взгляд на их лицах, и подошел к старому Омару, который пахал, впрягшись в ярмо, вместе с тыном. Седая голова старика была всклокочена, белые волосы на груди взмокли от пота, он струйками катился" по загорелому телу. Маман поздоровался, старик ответил ему с одышкой. Жалость кольнула сердце Мамана.
— А ну-ка, Омар-ата, дай я примерю твой хомут!
Старик, открывая в улыбке щербатый рот, молча надел хомут на шею Мамана.
Когда Маман, толкнув плечом впряженного рядом с ним здоровенного чернявого джигита с круглыми, как сливы, глазами, рванулся вперед, соха даже с места не стронулась, только постромки натянулись. Мышцы Мамана сжались, он приналег, соха двинулась, взрывая землю, и пошла, и пошла.
— Вот, люди, скажите спасибо нашему бию, и вправду, оказывается: глава народа — слуга народа, — удовлетворенно молвил Бегдулла Чернобородый, прижмурив глаза от солнца.
Народ дивился. Никто и не ожидал, что большой бий всерьез возьмется пахать, но он уверенно и твердо, упираясь в землю ногами, слегка заваливаясь набок, упрямо двигался вперед. Люди, нехотя шевелившиеся в борозде, заработали с новой силой. И тут из камышовых зарослей, словно вышедшая на солнышко стайка фазанов, показалось человек десять женщин. Впереди важно, как бойцовые петухи, в платках, кончики которых гребешками торчали над их головами, выступали, видимо, заводилы.
— Глянь, Нурабулла, что за собачья свадьба! — крикнул чей-то задорный голос.
Сын Омара, в прошлом — степенного аткосшы Давлетбая, остановился как вкопанный, завороженно глядел на женщин.
Оглянулся и Маман:
— Вон та, впереди, не Абадан ли, есаулова вдова? Нурабулла, вытирая пот, заливавший ему глаза, пригляделся.
Что-то не узнаю, бий-ага! Если она, то, значит, это и есть Абадан-белоногая. Лихая баба, говорят. Да отпустите же меня! — крикнул он, поспешно сбрасывая ярмо.
— Ну-ну, передохни! — сказал Маман и быстро пошел навстречу женщинам.
А те, то ли услышав возглас Нурабуллы, то ли узнав Мамана, прячась одна за другую, сбились в кучку, как козы, которых подогнали к месту.
— Добро пожаловать, женщины! — приветливо молвил Маман и остановился.
— А вы, Маман-бий, чего встали! Идите, идите-ка сюда поближе! — крикнула одна из женщин.
Хотя Маман и почувствовал что-то недоброе, подошел. Раскрасневшаяся сорокалетняя Абадан статью и красотой могла поспорить с любой из своих молодых подружек. Они робко толпились за ней, прикрывая румяные как яблоко или преждевременно увядшие лица ветхими старушечьими платками. Они явно стыдились своих изорванных в клочья линялых платьев.
— А ну, берите его! — сердито насупившись, приказала Абадан, когда Маман остановился в двух шагах от нее.
Уверенный в том, что им его не осилить, он спокойно стоял на месте. Женщины, пронзительно голося, налетели на него и вцепились в его одежду. Они хватали Мамана за руки, тянули в разные стороны, дергали, даже били кулаками, но он стоял недвижимо, как дуб, ушедший корнями в землю, ни на одну из них не крикнул, не поднял кулак.
— За что? Почему бьете? Что вам надо?
Никто не слушал его, били с злобным упоением, приговаривая: «Ишь какой повелитель! Опозорить нас хочет!», «В пропасть нас тащишь, дурак!», «Так мы и будем тебе детей рожать! Нищету плодить!», «Да ты сам их, несчастный, погубишь!», «Вот сам и найди дуру, чтобы тебе детей рожала!», «Был бы ты мудрый, знал бы, от кого рожать!»
От их визга и брани у Мамана голова кругом пошла, и он рванулся.
— Нет, ты погоди! Будешь у меня мерином, проклятый! — не помня себя, вцепилась в него Абадан, и тогда, не вытерпев, Маман пнул ее ногой, но наседающие со всех сторон женщины не дали ему отпихнуть от себя обезумевшую от злобы товарку, и Маману пришлось бы плохо, если бы не подбежавшие ему на помощь Бегдулла и Нурабулла. Парень обхватил Абадан сзади и оторвал от бия.
Женщины смешались, Маман, как лев, прорвавший старую сеть, стряхнув с себя своих мучительниц, с трудом встал. Вытирая кровь с лица рукавом, он искал глазами Абадан, а она барахталась в мощных объятиях Нурабуллы, и ноги ее не доставали до земли.
— Ну-ка, Абадан, повтори, что за вздор ты тут орала? — угрюмо молвил Маман.
— Женщины, а вы что? Вы что молчите? — визжала, извиваясь, Абадан. — Скажите ему! Все вместе скажите!
— Не признаем мы вашего указа! — загомонили они, вновь, хотя и не столь уж решительно, приближаясь к Маману.
— А ну, Маман-бий, отменяй немедленно свой указ! — Сильный и звучный голос грянул словно бы с неба. Все обернулись.
К толпе рысью приближались четыре всадника, во главе с Есенгельды-бием.
Руки Нурабуллы разжались. Абадан, скользнув наземь, толкнула его и отбежала к женщинам.
— Эх ты, старый козел! Слушай больше свою дурную вдову, людей-то не смеши! — завопила она. — Ты что, вдов, что ли, пожалел? Так мы не нуждаемся! Баба и без мужика проживет, не ахнет. Лучше в одиночку век вековать, — и она победно глянула на спесиво подбоченившегося на своем скакуне Есенгельды, — чем того вон пешего дурня баловать!
— Заткнись, женщина! — рявкнул кто-то со стороны. — Не твоего ума дело большого бия указы обсуждать!
От аула вслед за готовыми к драке пучеглазым джигитом и Бектемиром бежали трое парней с палками. Это неожиданное подкрепление обрадовало и удивило Мамана: откуда было парням знать, что на мирном поле разгорится вражда?
— Люди! — крикнул Маман, поднимаясь на холмик. — Если вы думаете о народе, не отвергайте моего указа, в нем наше будущее! Джигиты, гоните прочь отсюда эту бесстыжую Абадан!
Бектемир и его товарищи ринулись к Абадан, как голодные беркуты на дичь, но всадники Есенгельды преградили им дорогу.
— Валите их с коней, джигиты! — приказал Маман. Бегдулла и Нурабулла хватали под уздцы храпящих коней и сдергивали всадников с седел, а парни, поймав Абадан, связали ее же собственной шалью, щедро награждая бьющуюся, кусающуюся в ярости женщину тумаками.
Есенгельды немедленно воспользовался волнением людей, чтобы подогреть вот-вот готовое вспыхнуть недовольство собравшихся.
— Неужели мало тебе слез этих несчастных, что пролили они по твоей вине, Маман-бий? — громко провозгласил он.
— Люди! Народ! — истошно вопила связанная Абадан. — От глупого рождается глупый! Набейте рот землей извергу этому Маману, пока ублюдки его не заполонили весь свет! Люди! Бейте его…
Бектемир бросился к связанной женщине и вытянул ее по спине палкой. Абадан подпрыгнула, перевернулась, как рыба, выброшенная на песок, и умолкла, обливаясь слезами.
Безжалостный… глупый… не знаешь, кого любить… — горестно бормотала она, но никто не слушал ее, и она, выбившись из сил, затихла. Скучившись, как овцы, завидевшие волка, женщины испуганно глядели на беспомощную Абадан.
— Кто еще против моего указа? — громко спросил Маман-бий.
Все молчали. Маман бросил вопросительный взгляд на Есенгельды: «Ты, что ли, против?»-говорил его взгляд.
Только что гарцевавший на своем со скрипом грызущем удила скакуне, Есенгельды повернул его, намереваясь убраться восвояси.
— Погоди, Есенгельды-бий!.. — процедил Маман сквозь зубы.
— Пес, стоящий на земле, не лает на льва, сидящего на коне! — надменно молвил Есенгельды.
Маман сделал джигитам знак глазами, и они мигом вырвали поводья коня из рук всадника.
— Валите его!
Есенгельды мгновенно оказался на земле.
— Скажи, Есенгельды-бий, ты против моего указа? Есенгельды с презрением отвернулся.
— Кто убил моего коня?
— Я приказал убить! — ответил Есенгельды.
— Джигиты, волоком тащите их за мной! — распорядился Маман-бий, направляясь к одинокому туран-гилю, возвышающемуся посреди поля, засеянного пшеницей. Джигиты под руки поволокли Есенгельды и его спутников. Женщины, дрожа от страха, тихонько плелись следом.
— Бегдулла, принеси повод коня Есенгельды-бия! Да будет турангиль виселицей, а повод — петлей.
Над голой равниной, в недрах которой лежали семена пшеницы — надежда завтрашнего дня, воцарилась мертвая тишина, только воробьи беспечно нарушали ее своим чириканьем.
Маман-бий ловко влез на дерево, выбрал толстый сук, укрепил на нем повод, спустил петлю и повернулся лицом к безмолвствующим людям. Взгляд его остановился на Есенгельды, хотя и заметно обмякшем, но все еще не упускавшем возможность кольнуть противника ядовитым словом:
— Ну что ж, Маман-бий, кого первым повесишь? Вешай, вешай скорей, пока люди не вспомнили, что за счастье народа я вместе с тобой посла джунгарского убил и Гаип-хана убил. А кто, как не я, первый привел народ на благословенную эту землю, врагу недоступную? Слушай, коли сам не знаешь, что у каракалпаков от веку не бывало своих ханов. А коли нет хана, так и виселицы быть не может. Не очень-то своевольничай с народом, в камышах приютившимся, за льва себя не выдавай! Ты не хан. Руби-ка перекладину своей виселицы, пока тебя самого на ней не вздернули!
— Я всегда считал тебя человеком, верным своему слову, Есенгельды-бий, — сказал Маман. — И сейчас мне нравится, что ты, не собираясь плюнуть против ветра, не побоялся встать против него грудью. Но все же я тебя повешу. Джигиты, наденьте ему петлю на шею!
Два джигита, державшие Есенгельды под руки, нерешительно шагнули вперед. Все замерли, но сквозь толпу, тяжело дыша, пробился старик Омар и пал к ногам Мамана, с плачем целуя землю.
— Бий, сынок, прости ты его, помилуй! Пусть не будет вражды в нашем народе! Уважь седины мои, старость мою пощади!
Маман склонился над стариком, ласково погладил его лежащую в пыли круглую голову, и, пока поднимал на ноги, пронеслись перед внутренним оком Мамана губительные распри между кунградом и ябы, вспомнил он, как убил в сердцах Жандос-бия, Аллаяра, как в страстном раскаянии потом кусал свои пальцы… И словно смягчилось что-то, потеплело в груди Мамана… Он отступил назад. Старик суетливо побежал к Есенгельды:
— Проси, Есенгельды-сынок, прощения у большого бия. Не спорь с ним. От вашей ссоры дети наши заплачут. Скажи ему: прости, мол, большой бий!
— Пусть прощает… — жалобно всхлипнул Есенгельды.
Глухой, плачущий голос противника задел Маман-бия больнее пули. Стремительно обернувшись к Есенгельды, Маман обрушился на него:
— Эй ты. черная кость! Почему прощения просишь? Голова у Есенгельды была опущена, невнятное его
бормотание доносилось глухо, будто из-под воды. Никто, кроме Маман-бия, и не разобрал, что он там гнусавил, хотя изо всех сил тянулись, чтобы услышать и понять.
— Помню, Есенгельды-бий, все твои добрые дела у меня на памяти, — громко ответил Маман. — И когда перекочевали мы сюда, неплохим соседом ты нам показался. И то, что ты признался, что коня моего приказал убить, — мужественный твой поступок. Однако за эти твои большие и малые заслуги никто тебе челом бить не обязан. Ты тоже вожак народа. А вожак — раб народа. Заноситься перед людьми ему негоже. К народу надо с открытой душой идти, с бескорыстной заботой. А ты о ком позаботился, когда против ветра не плевал и против течения не плавал? Боюсь, не о своей ли ты шкуре печешься! Джигиты… развяжите этого труса, посадите на коня, пусть бежит на все четыре стороны!
Слова не молвив, сел Есенгельды на своего скакуна, отпустили с ним и его людей. Прибывшие в торжественном строю, с важной осанкой и победными кликами, четыре всадника ехали теперь опустив головы, гуськом, словно с похорон дорогого сородича. Стремянный бия подстегнул свою лошадь и выехал в затылок хозяину.
— Бий-ага, а если народ услышит о сегодняшней неприятности, не бросит ли это тень на ваше лицо?
— И что ты вертишься, скачешь, как шалая коза? Я, как всегда, был верен своему слову, плюнул по ветру. А Маман, видишь ли, черной костью меня обозвал! Услышал, что батюшка мой Байкошкар-бий из-за ковра погиб, и хочет этим мое лицо замарать. А мне-то что! Я, если хотите знать, вовсе и не сын этому Байкошкару: я сын знатного бия Жангельды, а он, бедный, в год великого разорения — актабан шубарынды — пал смертью праведника, вот Байкошкар-бий и взял меня на воспитание. А коли посмотреть в корень-то, у кого из нас все предки порядочные? У Султанбая тоже настоящий отец вовсе не Жандос-бий, говорят, а какой-то Ха-тыкельды. Кто тут после года великого разорения разберет? Старики от нас, детей, все скрывали, чтобы мы, их потомки, не горевали да друг друга не унижали. Мне об этом одна древняя старуха рассказывала, когда мы сюда из Туркестана кочевали… Ну, да пусть все это останется между нами. Меня теперь другое беспокоит: что с нашим несчастным народом делать? Верят люди в Маман-бия, как в самого бога. Сколько он их подводил, — все забыли. Ну, и пусть Маман народонаселение умножает, коли сможет. И вы тоже ему помогите. А я другое дело: во мне кунградская кровь течет, я им не какой-нибудь ябы. Вы еще увидите, как я сорву маску с бесстыжего Маманова лица. Будь я проклят, если его бродяжничать не заставлю! Вот скажу Мухаммед Амин-инаху… — И, прервав свою речь, приказал: — Гоните быстрее!
Всадники съехались, построились попарно и, с треском ломая сухие камыши, поскакали.
Когда они спешились у белой юрты Есенгельды, навстречу им вышла байбише и сказала, что богатый северный бий прислал нарочного, просит Есенгельды-бия пожаловать к нему — нарекать имя младенцу. Не застав хозяина, гонец только что уехал.
Даже не заглянув в дом, Есенгельды снова сел на коня:
— По коням, джигиты! Отдохнем у Султан-бия!
…А на пшеничном поле толпа у тургангиля все еще не расходится. Так же неподвижно лежит связанная Абадан и над ней свисает петля, сделанная из повода Есенгельдыева коня. Ошеломленные, взъерошенные, как овцы перед волком, люди безмолвствуют. Иных все еще бьет дрожь.
— Ну, Есенгельды-бий, видно, теперь призадумался, не будет, может, нашему делу перечить, — Маман-бий многозначительно глянул на петлю.
Услышав в его голосе признаки неуверенности, — видно, был он смущен, что сам первый нарушил свой указ, отпустив Есенгельды-бия живым, — народ зашевелился. Люди оправлялись от испуга, успокаивались, облегченно полной грудью дышали; жизнь, земля, небо, солнце над головой — все обретало свои обычные краски.
Бий, почувствовав, что люди приметили его минутную слабость, расправил плечи, голос его окреп:
— А ну-ка, женщины, невесты, затеявшие тяжбу с женихами! Вам даю первое слово: любого из этих джигитов берите себе в мужья!
Женщины застеснялись. Отворачиваясь, прикрываясь платками, проводили пальцем черту по лицу в знак смущения, подталкивая друг друга, топтались на месте. Одна из них, с тонким лицом, с играющими черными глазами, дрожа выступила вперед. Она заговорила, чуть приподняв платок, звонким, срывающимся от обиды голосом:
— Если бы женщина могла рассказать, что у нее на душе, бий-ага, и если бы желание ее исполнилось, то Абадан-aпa не лежала бы здесь связанная. Делайте что хотите сами!
Маман-бий расправил усы и, хмурый, повернулся к джигитам:
— Ваша очередь!
Пучеглазый костлявый парень, что ходил всегда следом за Бектемиром, уже давно выдвинулся вперед и, не сводя глаз, смотрел в лицо говорящей, готовый заявить о своих правах. Теперь его час настал.
— Бий-ага! Я люблю вот ее, что сейчас говорила!
— Я согласна, — сказала женщина с тонким лицом и, не ожидая приглашения, медленно, словно вытягивая ноги из трясины, отошла от товарок.
— Радуюсь смелости женщин! — сказал Маман. — Сын не будет отважным, если мать робкая. Пусть дети ваши растут здоровыми и сильными, пусть множится ваша семья и достаток.
— Ну-ка, Нурабулла, а ты что скажешь? Нурабулла смущенно топтался на своих тяжелых
толстых ногах, осторожно и робко всматривался в лицо лежащей на земле Абадан. Теперь он в упор глянул в глаза Маману, — «эта пусть будет моя», — ожидал благословения. Но как только дано было слово Нурабулле, в толпе встрепенулась невзрачная, косенькая женщина с преждевременно увядшим лицом и с робкой надеждой во взгляде. Бий почувствовал ее волнение, подошел к ней, взял за руку и подвел к Нурабулле.
— Возьми и эту. Если твоя Абадан не захочет рожать, от этой пойдут у тебя дети… Будьте счастливы, пусть множится ваше потомство.
Кровь бросилась в лицо дурнушки, на глазах начала она расцветать, молодеть, — видно, исполнилось ее заветное желание. Бий неприметно ухмыльнулся в усы и с грозным видом обратился к джигитам:
— Бектемир, отойди назад… Ну-ка ты скажи, — он давал очередь худенькому босому пареньку.
— Я вот ту… в белом платке…
— Будьте счастливы, пусть множатся ваши потомки! А теперь, Бекмурат, ты!
До вечера под грозной сенью турангиля — любят не любят — продолжался брачный обряд вдов со вдовцами, холостяков со вдовами.
* * *
В сумерках Маман-бий возвращался домой вместе с приунывшим Бектемиром…
— На свете еще много вдов осталось, Бектемир, — сказал он, положив ему на плечо свою большую тяжелую руку, — на твою долю хватит. А пока ты мне нужен холостяком. Кстати, почему вы явились на поле с палками?
— А мы зашли к вам домой, хотели сказать, что указ ваш донесли до всех аулов. А там, видим, Есенгельды-бий с вашей женой разговаривает — странные какие-то слова ей говорит, и что, мол, раз вас нет, то он со своими людьми уходит вас искать. Ну, а мы за ними следом…
— Аманлык ушел? Ушел, сегодня утром.
Трудно бедняге. Ну, да кому теперь легко?.. Хорошо бы нашел он свою сестру в Бухаре да привел ее к нам с мужем и детишками… Ты, Бектемир, не унывай. Будут и у тебя ребятишки… Возьмешь себе жену, а захочешь — и двух. Ну, доброй ночи, спокойного тебе сна. Завтра приходи пораньше, захвати человек пять джигитов, будем аулы обходить, посмотрим, как наш указ действует.
Веселое настроение бия так обрадовало Бектемира, что он бегом ринулся в темноту, в свой аул, не чуя под собой ног, как мальчишка.
6
Среднего сына Жандос-бая Султангельды в детстве звали просто Султаном. Это уменьшительное имя к нему пристало. Его и взрослым стали именовать так же, только в знак уважения к его богатству вместо «гельды» приставили словечко «бай»- и стал Султан Султанба-ем. А богатым его считали потому, что во время бегства с берегов Сырдарьи ухитрился он пригнать сюда несколько десятков голов скота. После переселения ему и здесь неплохо жилось. Достаток его рос, скот умножался, сети были полны рыбы. Если гибкостью ума и остротой языка Султанбай намного уступал Есенгель-ды-бию, не умел так ловко влезть человеку в душу, как тот, то богатством был ему ровней. Жил Султан в полном довольстве. Одно только омрачало безмятежные его дни — смерть двух братьев, утонувших в проруби. Но никто добровольно не идет на тот свет вслед за умершими, — смерть неизбежное, но для многих быстро проходящее несчастье. Ушедших забывают — забыл и Султанбай своих братьев, тем более что вскоре у него один за другим родились трое сыновей. Старшего он назвал созвучно имени деда Жандоса — Айдосом, и смышленый мальчик остался жить, а двое младших умерли, и Султанбай забыл их вскоре так же, как забыл братьев Когда же Айдосу минуло двенадцать лет, на свет появился еще один мальчик, которого при непосредственном участии Есенгельды-бия нарекли Бегисом, что значит «прочный».
А вот теперь бия снова звали нарекать имя еще одному отпрыску Султанбая. Вместе со старейшинами рода кунград были приглашены и другие знатные гости: Гаип-бахадур, Аманкул-бий, Курбанбай-бий. Но выше всех на почетном месте сидел Есенгельды. Оттого ли, что льстили бию оказываемые ему почести, либо потому, что пытался он скрыть урон чести, нанесенный Маман-бием, но Есенгельды был отменно весел и любезен.
Рыжебородый, с птичьим носом и толстым брюхом, Султанбай, обхватив короткими ручками закутанного в пеленки младенца, вместе с богато изукрашенной камчой передал его с рук на руки Есенгельды-бию:
— Милостивый и высокородный бий кунграда, соблаговолите дать имя сыну верного слуги вашего!
Лицо Есенгельды просияло солнечной улыбкой, он благосклонно принял мальчика на руки и, опустив голову в пышной меховой шапке, долго всматривался в его сморщенное красное личико.
— Люди, Султанбай! — торжественно провозгласил бий, поднимая голову. — Мальчика ожидает, оказывается, блестящее будущее. Но если я дам ему возвышенное имя, соответствующее его уму и красоте, как бы его не сглазить! Поэтому имя ему будет Мыржык, что значит уродец, — тогда злые силы его не заметят и сынок ваш будет здоров.
— Хорошо! Хорошо! Ладно! — зашумели гости. — Пусть будет Мыржык, лишь бы не сглазить!
Султанбай, завернув с обеих сторон полы своего желтого верблюжьей шерсти халата, почтительно принял младенца обратно и, низко поклонившись бию, передал старшему брату новорожденного — Айдосу:
— На, светик мой, отнеси мамочке опору ее, Мыржыка.
Гости, чтобы запомнить мудреное новое имя, умильно твердили: «Мыржык… Мыржык»-и ухмылялись себе в усы.
Есенгельды не интересовало, нравится людям придуманное им имя или нет. Зажмурив глаза, как дремлющий сытый кот, он облокотился на кожаную подушку, но беспокойная душа его не дремала, и, не выдержав, заговорил вслух:
Человека, привыкшего к почету, ноги сами на почетное место несут. Мы еще потягаемся с тобой, Маман-бий. Я еще покажу тебе, кто я и кто ты! На этом свете есть место только для одного из нас двоих!
При этих словах Айдос вошел в гостевую юрту и почтительно присел на одно колено.
— Слушай-ка, Султанбай, — начал Есенгельды-бий. — Дед твоих мальчиков был сильным и мужественным человеком. Да, джигиты, хоть и был я в то время еще юным, но я хорошо знал деда Жандоса. Он всегда повторял: «Чем смотреть из рук ябинцев и быть зерном белой осоки, лучше своей волей соломинкой пшеницы стать». Ох и ненавидел же он этого самого Маман-бия и отца его Оразана, хитрецами их считал. Оказывается, видел он их всех насквозь, да будет земля ему пухом!
Султанбай был отцом чадолюбивым, следил, чтобы дети его росли людьми достойными, не были бы грубыми невеждами, учил почитать старших, набираться от них ума-разума. Если приходили в дом хорошие гости, то, хоть и было у хозяина много слуг, он поручал Айдосу разжигать очаг, чтобы слушал разговоры мудрых людей. Хотя Султанбай и рассказывал сыну похвальные истории о жизни деда его Жандоса, но никогда не связывал его имя с именем Маман-бия, не говорил о их вражде между собой. Наоборот, видя, как любили Маман-бия в народе, он поддерживал его славу в глазах сына, оберегая мальчика от путаницы противоречивых мнений и слухов.
«Маман-бий в заботах о народе все четыре стороны света обошел, — говорил Султанбай. — Он с русским царем за одним дастарханом сидел, видел сказочной красоты города Макарию и Маскеу».
Легендой вставал Маман-бий перед Айдосом. Мальчик мечтал свидеться с героем, разговаривать с ним, ему подражать. Он даже видел его во сне летающим по небу на крылатом скакуне или на ковре-самолете. Но Айдосу ни разу не привелось увидеть Мамана воочию. Теперь, услышав бранные слова Есенгельды-бия, Айдос растерялся. Его нежные свежие губки беспомощно раскрылись, круглые глаза испуганно перебегали с лица родителя на лицо Есенгельды-бия.
Не только Султанбаю, но и всем присутствующим стало не по себе от той жестокости, с какой Есенгельды-бий рушил прекрасный мир, созданный в воображении мальчика. И Есенгельды-бий сразу это почувствовал.
— Однако полой халата луну не закроешь! — молвил он, пытаясь загладить свою ошибку. — Вот указ Маман-бия оказался хорошо придуманным, полезным. Как отнеслись к нему в ваших аулах, Аманкул-бий?
— Очень дельный указ, Есенгельды-бий! — угодливо поддакнул Аманкул-бий. — Мысль об увеличении народонаселения весьма полезная мысль. Те, кто понимают, радуются, что и говорить!
— А ты что скажешь, Гаип-бахадур?
— Аманкул-бий правильно говорит. Слов нет, хороший указ, поддержать надо.
— Курбанбай-бий, а твой род как мыслит?
— Наш род тоже… — мямлил Курбанбай, с опаской думая о «тигрице».
Пока, опросив всех, Есенгельды-бий собирался подвести итог, снаружи до его ушей донеслись обрывки разговора каких-то людей, которые вполголоса на чем свет стоит честили Маман-бия и его указ.
— Кто это там? В чем дело? Зовите сюда! — приказал Есенгельды.
В дверях показался невысокий человек средних лет с аккуратно подстриженной густой черной бородой, в опрятной, ловко сидящей на нем одежде, в черной шапке, щеголевато сбитой набок, с румяным, как спелое яблоко, гладким лицом. Это был известный в округе богатенький бездельник Сабир, по прозвищу Франт. Он стоял, часто дыша от волнения и утирая рукавом обильно струящийся со лба пот. Потоптавшись у порога, он робко присел на колени у входа и поднял на Есенгельды испуганные круглые глаза.
— Бий, Есенгельды-бий! — залепетал он, запинаясь, не ожидая вопроса: зачем пришел? — С жалобой я… с жалобой… Сегодня утром пришел… пришел Маман-бий… к нам… в аул… Пешком пришел… а с ним бродяг этих… с полдюжины… А моя жена уж лет восемь как… не рожает. А он говорит: зачем не рожаешь?.. А она: из-за мужа, говорит, наверное… Тогда он к нам в дом бродягу своего… к ней послал… Вот как… да… Боюсь, уж они там… да… баба она и есть баба… да…
Презрительная усмешка скривила губы высокородных гостей, одни удивлялись, другие хмурились.
— Отец, я поеду к Маман-бию! — Айдос стремительно бросился вон из юрты.
Султанбай поспешно вышел за ним, хотел его остановить, спросить, что задумал, на худой конец, посоветовать, как вести себя с большим бием. Но мальчик уже отвязал расседланного коня, вскочил на него и умчался.
Для всадника на добром скакуне аул Сабира Франта близехонько — рукой подать. Айдос появился там, когда суматоха уже улеглась, все было тихо-спокойно. Направив коня к кучке людей, которые о чем-то толковали у крайней юрты, Айдос, не поздоровавшись, крикнул:
— Маман-бий где?
На Казахдарью, видно, подался, — ответил парень помоложе других.
Айдос круто повернул коня, вытянул его камчой и с треском врезался в густые камыши.
* * *
Гости Султанбая расходились, прощались, шумно садились на коней, а Есенгельды, будто внезапно вспомнив о чем-то, вернулся в дом. Султанбай сидел один, задумавшись. Подойдя к нему вплотную, Есенгельды наклонился и громко — Султанбай был туговат на ухо —.спросил:
— Куда сын поехал?
— Искать Маман-бия, наверное, — раздумчиво молвил Султанбай.
— А зачем?
— С доброй мыслью поехал. Айдос любит Мамана. Кровного врага любит? Я не ослышался?
— Прошу вас, бий, не называйте его врагом! — В голосе Султанбая звучал испуг.
— Нет, ты не кунградской крови! Видно, мать твоя с ябы блудила! — Грубый окрик Есенгельды заставил хозяина вздрогнуть. — Но так или иначе запомни: я знаюсь с высокородным наместником хана, а Маман — с черной костью из Шаббаза; в моих жилах течет благородная кунградская кровь, а у Мамана — мутная кровь ябы. Следи за сыном, чтобы не опоганился, чтобы вместе с Маманом русским не продался!
— Народ любит Мамана! — робея, сказал Султанбай.
— Знаю. Потому-то и нельзя его сразу прикончить. Поначалу убил я его коня, оставил Мамана без ног, а теперь поражу его в самое сердце через жену, — вот тогда ему будет конец! Тогда мы и с тобой поговорим по-настоящему. Хочешь держаться особняком, моя, мол, юрта с краю? Запомни: корень у нас один — кунград! Впрочем, ты ведь подлый человек, не нашей крови, чего доброго, откроешь врагу мою тайну! Воля твоя, но поберегись, подумай хорошенько! Я поехал!
Ошеломленный, ощутив внезапно слабость в коленях, Султанбай не смог даже встать и проводить гостя — так и остался сидеть у смятого дастархана.
7
По травянистому берегу старого заброшенного арыка, некогда соединявшего с морем озеро Кара-Терен, ехал Есим-бий во главе пестрой кучки всадников. Передний, маленький человечек с тонким личиком в яркой тюбетейке и полосатом халате, подпоясанном широким поясом из домотканой бязи, важно восседал на осле, упираясь босыми ногами в деревянные стремена. За ним теснились джигиты, одетые кто во что, по-узбекски, кто на лошадке, кто на ишаке.
Внезапно Есим-бий придержал коня.
— Что там за страсти, господи, не пойму? Всадник гонится за пешими, — глянь-ка, Кудайберген! Впереди-то вроде бы Маман-бий идет! — Старик покраснел, заволновался.
Человечек в тюбетейке выпростал ноги из стремян и, взобравшись на седло ишака, поднялся на цыпочки.
— Ха! Вижу, Есим-бий, не тревожьтесь! Все у них тихо-мирно. На беглецов и погоню не похоже.
— Глаза помутнели, милый. Старость берет свое, ничего не поделаешь!
Между тем Маман-бий со своими джигитами и Айдосом, торопившимся вслед, быстро приближался к арыку. И пока бии, встретившись, обнимались, задавая друг другу положенные вопросы о здоровье и скоте, Айдос, мгновенно соскочивший с коня, с любопытством рассматривал маленького человечка, его невиданное одеяние и по-чудному заседланного осла.
Оказалось, что Есим-бий уже побывал в указанных ему Маманом аулах Шаббаза и теперь возвращался оттуда с джигитами, также прошедшими все муки бегства с Сырдарьи и теперь охотно ехавшими с Есим-бием, чтобы вместе трудиться на новой земле. У старого канала искали они поля для посева. И когда Маман-бию рассказали, что глава вновь прибывших Кудайберген — умелец на все руки: и пахарь, и садовник — может вырастить на земле все, кроме человека, обрадованный Маман-бий обратился к приезжим с приветственными словами:
— С хорошими аулами мы оказались в соседях, добро пожаловать к нам, молодцы! — Маман обнимал и целовал каждого из приезжих, приговаривая:-Помогите нам… Научите… Погрейте и нас огнем, у коего сами греетесь… будьте товарищами в новых наших делах… Нас научите и у нас поучитесь…
— Гляньте-ка, Маман-бий, мы вам кое-чего привезли! — сказал Кудайберген, окинув глазами тощие мешки с пшеницей, притороченные поперек каждого седла и прикрытые мотками конопляного волокна. — Малое наше приношение, но в каждом зерне пшеницы, в каждой пряди конопли, из коей можно и сети вязать и веревки вить, — сердечный вам привет от нашего аула.
— Вечные должники мы ваши, родные, — сказал тронутый Маман-бий. — А теперь пожалуйте к нам в аул. — И, оглянувшись на гостей, двинулся было вперед.
Но Есим-бий понимал, что у Мамана были какие-то иные свои дела, и, не желая отвлекать упрямого бия от этих его дел, вмешался:
— Сейчас мы с гостями поедем в мой аул, отдохнем с дороги, а вы не теряйте времени с нами, идите, куда задумали.
Маман-бий глянул на своих ребят. Он и вправду намеревался, пока не было дома Есим-бия, с проверкой указа в его аул не ходить, а посетить аулы по Казах-дарье, заночевать у верного друга Мырзабека — давненько они не видались, соскучились, — а уж после того держать путь дальше, в аул Убайдулла-бия на Жана-дарью. Да, видно, приходилось менять направление.
— Ведите нас, а мы — за вами, — сказал он Есим-бию.
Айдос подвел Маману своего неоседланного коня:
— Садитесь, ата! А я пойду с вашими джигитами.
— Бий-ага, вы, наверное, его не узнали? Это сынок и наследник Султанбая, Айдос, — сказал Бектемир.
— Это отец твой дал тебе коня? — спросил Маман-бий.
— Нет, я сам взял, ата, выехал вас искать, ата! Говорят, вы знаете много сказок. Интересно, говорят. Хочу послушать. Для того и приехал. Сегодня у нас Есенгельды-бий и другие деды были в гостях. Нарекали имя моему новорожденному братцу. Так все они тоже вас хвалили. Говорили: надо поддержать ваш указ.
Теплые огоньки заиграли в глазах Маман-бия, и он ласково погладил по голове бойкого мальчика, заботливо поправив круглый с красной каймой воротничок его белой бязевой рубашки. Пристально вгляделся бий в живые блестящие глаза Айдоса — не лжет ли он? Но весь облик мальчишки, гордого тем, что рука большого бия касается его головы, говорил о его чистосердечии, — нет, чуждый хитрости взрослых, он ничего не таил.
— Живи много лет, сынок! — сказал Маман, ловко вскочил на неоседланного коня, сам возглавив шествие гостей Есим-бия.
… Вечером в этот аул созвали множество людей из всех близлежащих селений.
8
В пустой лачуге Нурабуллы не было ничего, кроме рваного одеяла, из которого клочьями лезла вата и которым укрывались он и обе его жены, да ветхой, вывернутой шерстью наружу овчинной шубы старика Омара, которая служила своему хозяину одеялом ночью и теплой одеждой зимой.
У очага, скрестив ноги по-турецки, сидел сам Омар, а справа и слева от него — обе его снохи. Снохи вили веревки из волокна кучи, а старик готовил им пасмы, то и дело посматривая на веревки, намотанные на вытянутые ноги женщин.
Омар знал, что младшая жена Нурабуллы довольна своей судьбой, но Абадан раньше жила в достатке, и, хотя она скромничала, прибеднялась перед свекром, старик не очень-то ей доверял. Когда накануне вечером Нурабуллу позвали в аул Есим-бия, Омар опасался, что без него Абадан заупрямится, ляжет и будет себе лежать без дела. Однако все вышло наоборот: поплевывая себе на ладони, старшая сноха бойко сучила волокно, нисколько не отставая от младшей. Обе работали быстро, словно наперегонки, и старик начал от них отставать. Бестолково суетясь от волнения, не успевая вовремя подавать им пасмы, Омар от души радовался их спорой работе.
Ближе к полудню вернулся домой усталый Нурабулла. На спине у него был мешок с полубатманом пшеницы и четыре клубка конопляного волокна. Нурабулла бережно опустил свой груз на пол и сел, опираясь спиной на край нар.
— Что за добыча досталась тебе, сынок? — спросил Омар, осторожно поглаживая мешок с зерном. — Ого! Уж не пшеница ли?
— Она самая. Есим-бий привез. Там и Маман-бий оказался, велел засеять. А конопля для рыболовных сетей пойдет да для силков.
— Откуда они-то взяли?
— Привезли из Шаббаза, и узбеки с Есим-бием приехали.
Обе жены не сводили умильных взглядов с усталого мужа, радуясь его возвращению. Но старик Омар не дал им долго засиживаться.
— Пошли сеять, а то и дня не пройдет, как семена будут съедены. Ну-ка, снохи, спеките всем по лепешке в золеив поле!
На широком поле закипела работа. Ярмо тянул Нурабулла с женами, а старик шел за сохой. Глядя на них, потянулись сеять другие.
— Омар-ата, если можно, когда вы кончите, мы с мужем впряжемся в ярмо, а вы уж не откажите сохой управлять! — попросила молодуха, показывая старику мешочек с пшеницей.
— Готовьте землю, а коли я устану, Нурабулла поможет, — милостиво согласился Омар.
— А по силам ли это будет человеку, у которого пара молодых жен? — раздался чей-то насмешливый голос.
Все мигом обернулись. Перед ними красовался на своем скакуне сам Есенгельды-бий. Абадан тотчас же смекнула, что это ее он пытается уколоть за то, что самовольно перестала быть вдовою кунграда.
— Наш муженек не только с парой жен, с четверкой целой шутя управится! — отрезала она. Нурабулла самодовольно ухмылялся, а румяная, обильно вспотевшая под ярмом младшая жена фыркала от смеха.
С тех пор как Есенгельды-бий решил не плевать против ветра, ему не доводилось терпеть по две неудачи в один день. А дерзкий ответ Абадан был уже второй сегодняшней неудачей. Первую потерпел он в разговоре с Шарипой, к которой отправился после случая с Айдо-сом, опасаясь, как бы и молодой Курбанбай-бий не перешел на сторону Мамана. Считая Шарипу мешком мудрости ее сына, Есенгельды завел с ней душевный разговор наедине:
— Поддерживаете ли вы, апа, известный вам указ Маман-бия?
— Если хотите, чтобы я его поддержала, найдите мне достойного мужа, — отрезала Шарипа.
— А есть ли у вас желание любить мужа и рожать ему детей?
— Какой толк от любви, если дети не родятся!
— А вот Маман-бий нерожающих женщин и людьми не считает!
— Пусть отсохнет поганый язык у того, кто скажет, будто мы рожать не сможем!
Есенгельды-бий самодовольно захохотал, но уже на обратном пути из аула Шарипы сообразил, что это доброе пожелание скорее обращено к нему самому, чем к ненавистному Маман-бию. Дерзкая вдова обманула его ожидания…
В аул Бегдуллы Чернобородого Есенгельды-бий стремился попасть в отсутствие Мамана, чтобы там, где началось действие Маманова указа, узнать истинное отношение к нему народа. Настроение людей этого аула покажет настроение всех других. Потому-то он и пытался запутать Нурабуллу и его жен оскорбительными намеками, утопить их в потоке словесных хитросплетений, а потом вывести в угодную ему самому сторону. Не удалось. И он подступился к Нурабулле с другого конца:
— Нурабулла, не проводишь ли ты меня в дом Маман-бия? Бий в отъезде, и мне одному ехать к молодухе не пристало.
— Слушаюсь, бий-ага! — И Нурабулла взял под уздцы коня бия.
Багдагуль во дворе колола дрова,
— Дома ли Маман-бий? — учтиво спросил Есенгельды.
Нурабулла уставился на него, недоумевая: «Сам же сказал, что Мамана дома нету!»
— Если нет самого бия, то есть кровля его дома. Слезайте с коней — гостями будете, — приветливо молвила Багдагуль, оставляя работу.
На этот раз не можем. Я приехал распространять указ Маман-бия и проверять его исполнение. Этот так называемый указ обязателен не только для простонародья, но и для того человека, который его придумал. Надо, чтобы дело было чистым в своем истоке. Я и приехал к тебе, чтобы узнать, завершил ли сам Маман свое дело. Может быть, он постеснялся тебя спросить или забыл: а у тебя-то будет ребенок? Способен ли Маман дать жизнь ребенку?
— Не извольте беспокоиться, наш бий успешно завершает все свои дела, — сдержанно молвила Багдагуль.
— Ну, коли так, прекрасно. Лишь бы не оказался Маман-бий несостоятельным перед собственным своим указом. Хорошо, Нурабулла, ты свободен. Желаю тебе, чтобы обе твои жены принесли сыновей. — И Есенгельды, повернув коня, величественно удалился.
Нурабулла так толком и не разобрал, зачем бий сюда приезжал и почему, несолоно хлебавший, веселый уехал. Но он не стал голову ломать, а, вернувшись в свой аул, во всеуслышание объявил:
— Видно, Есенгельды-бий одумался. Сам выехал указ большого бия распространять!
— Так ведь и властителям нашим народ нужен. Переведется народ — некем будет им управлять, — сказал Бегдулла Чернобородый.
9
Никто не знал прямой дороги на Бухару. Люди говорили: иди на юго-восток. Аманлык вышел из дому на рассвете и пошел куда глаза глядят. Его вела надежда найти живой сестренку Алмагуль.
Сначала он шел заброшенными дорогами, по которым некогда гнали скот, потом неведомо кем протоптанными тропами, а когда и они потерялись в буйной траве, пошел целиной по солнцу.
Не было на пути его высоких гор с поднебесными перевалами, но попадались зыбучие барханы, и ноги путника увязали в песке. Потом открылись пустынные равнины, перемежающиеся густыми зарослями джангиля и поднимавшейся выше купола юрты осоки, сквозь которую еле-еле можно было продраться. Сквозь холод и зной, вламываясь в могучие густолиственные дебри камыша, шел Аманлык одиноким волком.
Выходя из аула, опасался он лишь одного — жажды, а потому стремился не терять из виду воды Амударьи. Река не только утоляла жажду, но и помогала не потерять направление.
По счастью, это были дни, когда у зайчих появились зайчата, а фазаны несли яйца, выводили цыплят. В камышах на берегу реки было вдоволь яиц. А стоило только, приложив палец к губам, пискнуть, как пищит голодный зайчонок, со всех сторон сбегались кормилицы — зайчихи, и, подбив одну из них камнем, а потом прирезав мечом Оразан-батыра, добывал Аманлык и мясо. С этим мечом он не боялся ни зверя, ни лихого человека, не чувствовал себя одиноким, словно рядом с ним был испытанный, верный друг и защитник.
Так шел он и шел, не считая ни дней, ни вере, с одной только мыслью — вперед и вперед.
Когда проходил он илистым берегом урочища под названием Дульдуль Отлагай, из зарослей куги (навстречу ему вышел не крылатый конь, чье имя носила местность, а свирепая тигрица с выводком тигрят. Защищая своих щенков, она стрелой ринулась на незваного гостя, и завязался бой не на жизнь, а на смерть. Обливаясь кровью, Аманлык уже терял надежду остаться в живых. Но человек есть человек, исхитрился он все-таки выхватить меч из ножен, полоснуть зверя по горлу. Со стоном, похожим на рыдание, тигрица рухнула наземь, увлекая за собой Аманлыка. Тигрица была мертва и уже не могла причинить вреда человеку, лежащему без сознания в ее могучих объятиях. Очнувшись и вознеся хвалу всевышнему за чудесное спасение, Аманлык встал. Шатаясь на подламывающихся ногах, он подошел к реке и обмыл мутной водой кровь на лице и голове. Оказалось, тигрица оторвала ему ухо. Сморщившись и застонав от невыносимого жжения, Аманлык оторвал клок от подола рубахи и перевязал раны. Медленно, осторожно ступая, он побрел сквозь засохшую турангилевую рощу, и тропинка вывела его к аулу.
— Слава тебе, господи! — прошептал он, чувствуя, что, его словно ветер шатает.
С трудом дотащился он до крайнего низкого домика и, тихонько плача, остановился перед запертой дверью:
— Откройте, люди добрые. Я божий гость, гонимый судьбой, сжальтесь.
Скрипнула дверь, на пороге показалась женщина, закутанная в паранджу, с мальчиком лет десяти. Увидев страшного, окровавленного человека в лохмотьях, они испуганно отступили и уже были готовы захлопнуть дверь, как зоркие глаза женщины приметили, что Аманлык пошатнулся. Она быстро подхватила его сильными руками и, поддерживая под локоть, уложила спать.
Аманлык, недвижимый, пролежал целые сутки. Вечером она снова накормила его, а ночью, как пропели первые петухи, разбудила и молвила:
— Пока ни одно двуногое не увидело вас, уходите, дорогой гость мой, подобру-поздорову.
Почувствовав в голосе женщины и страх и нежность Аманлык дрогнул, смутился, рука сама потянулась, чтобы погладить ее блестящие шелковые косы, но он сдержался: «Негоже возмущать покой человека, который сделал тебе добро!» Он встал. Отступая к двери, долго благодарил хозяйку и с трудом шагнул за порог с чувством человека, навсегда изгоняемого из родного дома.
Одинокая тень, пройдя темной улицей, снова двигалась на восток — в преславный городок Бухару.
Теперь Аманлык уже не чувствовал одиночества. Он не спал в голой степи, она не была ему подушкой, — на его пути то и дело вставали аулы. В одном он полдничал, в другом ночевал.
Узбекские аулы заметно отличались от каракалпакских. Вокруг домов, построенных из саманного кирпича, возвышались глиняные дувалы, за ними раскинулись сады и посевы, защищенные рядами пирамидальных тополей. При виде всего этого Аманлык почувствовал, что, обойди он все четыре стороны света, нигде не найдет такой прекрасной земли.
«А что, если перекочевать нам сюда всем народом из нашего озерного края, где пьют нашу кровь гнус и неотвязные комары? Жаль, что не видит этого всего наш Маман-бий! — И тут же одернул себя:- Эк куда занесло тебя неугомонное твое воображение! Пусть никогда больше не доведется народу моему кочевать. А кто того пожелает, чирей тому на язык!»
Поздним утром вошел Аманлык в город Бухару. Кругом громоздилось множество высоких домов, а над ними вздымались в синее небо гигантские купола, радуя глаза и страстно томя душу своей непостижимой красотой. Улицы кишели пестрыми толпами людей, как большой растревоженный муравейник. С разинутым ртом бродил по городу Аманлык, глазея на невиданное и невообразимое его великолепие. Робко спросил он у какого-то продавца лепешек, где дворец его высочества эмира. Торговец движением подбородка указал ему ворота дворца, и джигит, в одиночку осиливши пешим столько бесконечно длинных дорог, не оробевший в схватке с тигром, задрожал от волнения и страха. Переждав, пока унялась дрожь в коленях, Аманлык пошел к воротам арки. Завидев оборванца с оторванным ухом, до глаз обросшего косматой бородой, с копной волос, будто растрепанное птичье гнездо, стражники еще издали закричали: «Стой! Стой!» А когда тот остановился, спросили, кто он такой.
— Аманлык я, самой ханши старший брат. — Говоря это, он и впрямь верил, что здесь в ханском дворце ждет его сестричка Алмагуль.
Стражники, смеясь, быстро-быстро заговорили между собой, не обращая ни малейшего внимания на чудного бродягу. Хотя в дороге Аманлык не раз объяснялся с узбеками, сейчас он не понимал ни слова из их разговора и наконец, потеряв терпение, крикнул:
— Каракалпак я!
— Калпог? — спросил один из стражников, потешаясь.
— Не калпак, а каракалпак. Это не меня так зовут, а народ мой: каракалпак!
Оба стражника громко захохотали. В обиде схватился было Аманлык за меч, да вовремя одумался, опустил руки. Одинокий, в чужой стране, что он мог сделать против этих краснорожих, до зубов вооруженных людей?!
Между тем неподалеку остановился какой-то оборванец, чуть не до земли согнувшийся под тяжестью огромного мешка, лежащего у него на спине. За ним поспешал толстяк в нарядном халате с белой чалмой на голове, обутый в новые ичиги с блестящими калошами, — похоже, бай.
— Из каких ты мест, каракалпак? — спросил носильщик, едва переводя дыхание.
— Из Нижних, — ответил Аманлык.
— Иди-ка помоги мне! — попросил тот, сбрасывая мешок на землю. Бай тоже остановился неподалеку. Человек с мешком обтер лицо полой рваного халата и молвил тихонько, чтобы бай не услышал:- Эх ты, дурень! Чем кричать: «Я каракалпак», говорил бы: «Я несчастный ишак». Вот я тоже каракалпак. А кто я теперь? Ишак. Вон хозяин стоит, от жары ручкой обмахивается. А я? Чем я лучше осла? Поднеси хоть малость мой мешок, я передохну. А потом мы с тобой поговорим.
Аманлык молча взвалил мешок себе на спину, и хотя устал с дороги, он был сильней своего нового знакомца и быстро пошел вперед, мелкой перепелиной походкой, обгоняя и самого бая, поспешавшего вслед воробьиным скоком.
— Шошма! Шошма! Не торопись! — крикнул бай, отставая.
— Не бойсь, господин, не рассыплю, — ответил Аманлык, путая узбекское «шошма» (не спеши) с каракалпакским «шашпа» (не рассыпь).
Бай не понял, что Аманлык сказал, а носильщику невдомек, что он узбекского слова не знает: «Сам еле жив, а еще шутит, несчастный!» И, смеясь, покрутил головой.
— Куда бежишь? Иди потихоньку! — крикнул по-каракалпакски.
Аманлык сбавил шаг.
После того как они донесли поклажу бая и, получив положенную плату, возвращались восвояси, носильщик рассказал пришельцу о себе, мешая каракалпакские слова с узбекскими:
— Зовут меня Косымбет, а бухарцы говорят «Кошмат». А мне что? Пусть как хотят называют. Сам я из Верхних Каракалпаков, с Сырдарьи. Здесь нас, каракалпаков, с тысячу душ. Гляди, вон гора виднеется, — Косымбет указал на вздымающуюся в дымке утреннего тумана далекую гору. — Вот у подножия ее мы и живем. У каждого семья. Забот хватает. Ходим в город на заработок. Сегодня-то мне повезло. На хлеб, конечно, я не заработал, а на куырмаш — жареную джугару — нам с женой да детьми на целый день хватит, — добавил он, легко перебрасывая с руки на руку маленький мешочек джугары, которую получил от бая за то, что тащил ему с добрую версту огромный чувал с базара. — А ты чем занимаешься?
— Вот ты зовешься каракалпаком, — сказал Аманлык, — а говоришь не то по-каракалпакски, не то по-узбекски.
— Ну и дурень! — рассердился Косымбет. — Коли не будешь говорить на языке хозяина, то и работы вовек не сыщешь. Скажи спасибо, что я хоть как-то по-каракалпакски еще маракую, чтобы ты мое слово понял.
— Да-а-а, — протянул Аманлык, подумав про себя, что, хоть он и объяснил стражникам свое дело как есть, они его, видно, все-таки не поняли.
— Пойдешь в аул — сам увидишь, — продолжал Косымбет, — дети наши все говорят по-бухарски. Уже сорок лет, как мы здесь поселились. Мы среди местных жителей что капля воды в озере, — нас даже и не заметно. А тебя-то как занесла сюда судьба? Землицы, что ли, пришел просить у хана?
И Аманлык рассказал ему, зачем пришел в Бухару…
— Ха! — удивился Косымбет. — Оказывается, умом тронулся ты, джигит! Да если каждый каракалпак свои потери искать пойдет, ни одному на месте сидеть не придется!
— Нет, Косымбет, в своем уме я… А вот ты знаешь здешние порядки, расскажи, как можно к Хану пробиться?
— Пойдем к нам в аул — сам все поймешь.
— Это как?
— А вот побудешь у нас, и все тебе станет ясно. Мы с тобой вместе будем ходить на поденщину. Поработаешь, язык свой поломаешь — научишься со стражниками объясняться, сунешь им в лапу, а без того во дворец пройти не надейся.
— Ну, коли так, веди меня к себе в аул, Косымбет.
Хотя Верхние каракалпаки и стали оседлыми, но в жизни мало чем отличались от Нижних. «Несчастный народ мой, довольствуешься ты помоями, как бродячая собака!»- с горечью думал Аманлык. Ничем не мог он помочь, ничего не мог посоветовать соотечественникам, кроме исполнения указа Маман-бия: «Умножайте семьи свои, — во множестве сила!»
— Множество — великое дело, — вторили ему старики.
Но никто не торопился выполнять указ. И тех-то детишек, что уже были, прокормить трудно, где уж тут думать об умножении голодных ртов. Да к тому же и сам Аманлык был занят своим делом, заботой о том, чтобы проникнуть за ворота ханского дворца.
Арк был окружен заколдованным тесным кругом алчных людей, и преодолеть путь к приемной хана было труднее, чем выучить незнакомый язык. Люди эти облепили дворец, как плотная кожура луковицу. Чтобы содрать хоть один слой кожуры, надо сунуть в руку набольшему этого слоя. Без того на пути твоем скрестятся копья, а то и мечи, и шагу вперед не ступишь.
Чтобы заработать на взятки ханской охране, Аманлык, сначала вместе с Косымбетом, а потом и один не покладая рук трудился на поденщине. Он и грузы таскал, и дровами промышлял, и воду носил, и нужники чистил…
Священный и преславный город Бухара, хотя и вмещал в свое бездонное нутро многоязычные тысячи приезжих, торговцев, караванщиков, дервишей, хотя и славился множеством своих домов, улиц, базаров и просторных площадей, казался Аманлыку сумрачной темницей; он задыхался в четырех стенах глиняных дувалов, под каменным навесом низких потолков, томился, как дикий конь в тесном загоне.
Еле дотянул он до новой весны, когда, с накопленными от скудного своего заработка жалкими крохами, снова появился перед воротами дворца.
Стражники, как вороны, сидящие по углам ворот, снова преградили ему путь. Молча кинул Аманлык одному из них узелок с приношением. Стражник ловко, как жадная кошка, подхватил узелок на лету, и его длинное копье, которое преграждало вход, поднялось вверх. Однако второй не только не поднял свое, но и кончиком копья ткнул в грудь Аманлыку. Тогда первый, схвативший узелок, с треском ударил мечом по древку копья второго, тот выпустил древко из рук и, подойдя вплотную к Аманлыку, слегка оттолкнул его, заискивающе улыбаясь и многозначительно глядя на другой узелок, который Аманлык намеревался отдать начальнику внутренней стражи.
— Что у тебя за дело к священной особе повелителя нашего?
Если бы у стражника был хвост, то он завилял бы им, как голодная собака, и Аманлык, не в силах смотреть на унижения попрошайки, сунул ему в руку свой последний узелок. Стражник вернулся на свое место у входа, оба перемигнулись и одновременно обратились к просителю:
— Говори свою жалобу. Что тебе надо? Аманлык рассказал.
— А какая она из себя, сестрица твоя? Аманлык, глядя в землю, задумался, потом поднял голову, заговорил запинаясь:
— Алмагуль ее зовут. Тринадцать лет ей было, когда с караваном ее увели, черноглазая, волосы длинные, в косы заплетала, на голове укладывала, как корзину.
— Эй, Ташмат! Чего встал? — заорал внезапно стражник. — Иди ступай своей дорогой!
Аманлык оглянулся. Неподалеку от ворот, держа в поводу серого ишака, стоял старик с большой белой бородой, покрывающей ему грудь. Он был такой худой, что ветхий чекмень висел на нем складками и под ними не угадывалось тела.
— Эй, каракалпак, примет тебя хан или не примет, — приходи ко мне. Я буду поить осла вон там за углом у колодца! — сказал старик и не спеша свернул за угол.
Аманлык растерянно глядел ему вслед. Между тем один из стражников скрылся в воротах и быстро вернулся.
— У хана нет времени с тобой толковать, — молвил он с важностью. — А женщины, какую ты ищешь, в наших местах, оказывается, не было.
Аманлык все еще стоял, с надеждой глядя на стражников.
— Дело кончено. Иди. Если хочешь полюбоваться на священную особу господина нашего, приходи сюда в четверг. Они соизволят из этих ворот на скачки выезжать.
Не зная, что делать, стоял Аманлык перед воротами, но вспомнил о старике, заторопился, шепнул «ладно, приду» и бегом бросился за угол. Старик со своим ослом шел ему навстречу, первым поздоровался и, отведя в сторонку, сказал:
— Сынок, слышал я, как ты жаловался привратникам, и что-то мне показалось в рассказе твоем знакомым. Расскажи-ка ты мне свое дело.
— Что толку, если и расскажу? — с досадой молвил Аманлык. — Видно, никто, кроме самого хана, ничего не знает. Ищу я сестрицу свою Алмагуль, тринадцать лет ей было, когда с караваном увели…
— Знаю я твою сестру, — перебил старик, — был я помощником того караванбаши, который ее увез. Да дорогой задумал он хитрое дело: продал твою девочку хорезмскому хану.
— Продал хорезмскому хану?
— Да, сынок, продал. Ничего удивительного. Аманлык тупо уставился в землю. Земля под ним качалась.
— Караванбаши был человек жадный, — из глаз Ташмата скатилась скупая слезинка. — Ничего не поделаешь, много жадных людей на свете! Какой-то человек из нашего каравана, тоже в отместку, что хозяин с ним деньгами за девочку не поделился, как вернулись мы в Бухару, донес хану. Всех нас потянули на допрос. Кто говорил «не знаю», пытали: язык отрезали, уши отрезали, остальных с глаз долой прогнали. А самого караванбаши повесили. Я-то чудом уцелел! С той поры уже добрых двадцать лет минуло. А ты, оказывается, человек упрямый — двадцать лет за своей потерей гонишься. Ну, коли у тебя острый глаз да цепкая хватка, может, ее во дворце хорезмского хана и сыщешь. Умная девочка была твоя сестренка. Бог наказал за нее проклятого караванбаши. Ищи ее, может, и на ней божье заклятье, но все равно ищи. А у меня груз с души свалился, как тебя встретил. Двадцать лет душа у меня горела, покоя не знал! Счастливого тебе пути-дороги. Прощай!
И старик Ташмат, ведя в поводу своего осла, степенно удалился. Аманлык не успел и расспросить его толком, долго стоял как в землю вкопанный. Смутные мысли громоздились у него в голове, не знал он даже, верить или не верить этому старому колдуну. «А ты, оказывается, человек упрямый — двадцать лет за своей потерей гонишься». Как это понять? В насмешку он сказал или с доброй душой?
Вернувшись в аул, Аманлык рассказал обо всем Косымбету.
— А ведь верно, двадцать лет тому назад какого-то караванбаши на дворцовых воротах повесили. Три дня висел, — сказал Косымбет. — Мы-то не знали за что, разные слухи ходили. Говорили и про девочку, будто эмиру ее везли, а врагу его, хану хорезмскому, продали.
Похоже, старик правду сказал. Надо было Аманлыку в Хорезм возвращаться.
Аульные каракалпаки толковали между собой и о том, как это можно отпустить сородича в дальний путь пешим, и где находится низовье Амударьи, где владения Хорезм-шаха. Толковали, толковали, собрали деньги и купили Аманлыку в складчину осла.
— Вот, молодец из края Нижних Каракалпаков! — сказал старейшина, передавая в руки Аманлыка повод заседланного осла. — Это тебе подарок от бухарских каракалпаков. Больше ничего тебе дать не можем, не обессудь. Доберешься до своей земли — нас не забудь. Укоренитесь на новом месте, и мы к вам перекочуем. Пока вы там устроитесь, и мы малость окрепнем, сейчас-то мы захудали, на перекочевку силенок не хватит. Оразан-батыр был человеком храбрым. Если сын задался в отца, сумеет собрать народ свой воедино. Поклон отнеси от нас Маман-бию и Есим-бию, посетившему нас. А мы коли сытно будем жить, то и детки у нас пойдут. Указ вашего большого бия и для нас закон непреложный.
— Земно кланяюсь вам за любовь и заботу, родные братья мои! — молвил Аманлык со слезами. — Слово ваше донесу до нашей земли. Есть у нас и еще один славный бий из рода кунград, Есенгельды, и ему ваш поклон передам. Его слово теперь, пока слушается ошМаман-бия, тоже имеет вес. Если не вздумает он старые раны да обиды между ябы и кунградом бередить, большую пользу народу принести сможет. Но, друзья jaoH, признавать Маманов указ мало, надо его исполнять. Нас, каракалпаков, мало, а ведь недаром говорят — во множестве сила народа. Сами знаете: сила солому ломит. Будет нас много, и враги нас будут бояться.
— Всякое доброе дело ваше поддержим. Как услышим, что вы важное начинание затеяли, тотчас и мы за вами, — заверяли Аманлыка провожающие.
Со всеми обнялся он троекратно и тронулся в путь по южному берегу Амударьи, подгоняя своего осла остроконечной палочкой:
— Где ты, страна Хорезм?
10
После долгого пешего хождения по аулам, забот и трудов, разбора жалоб и споров сегодня наконец-то Маман-бий у себя дома. Как и в первое утро своей семейной жизни, он опрокинулся навзничь, подложив под голову скрещенные ладони, и следит сквозь раскрытый купол юрты за караваном легких белых облаков, плывущих в синей выси. Но сегодня уже нет у него того счастливого чувства бездумной легкости: глаза его в небесах, а тревожная мысль — на земле. Всю ночь не знал он покоя возле чем-то, видно, взволнованной жены. Едва задремав, она начинала быстро-быстро бормотать какие-то непонятные речи: с кем-то спорила, кого-то проклинала сквозь зубы, дважды вскакивала с отчаянным криком «мама!» и снова впадала в забытье. Что с ней такое? Два месяца назад она, счастливая и смущенная, сказала ему: «Ну вот, большой бий, скоро вы увидите нашего ребенка». Сегодня от радости ее следа не осталось… Ночью он собирался было спросить жену, что с ней случилось, да не хотелось беспокоить, нарушать ее и без того тревожный сон. И сейчас он никак не мог решиться заговорить с женой, а лишь следил за ней краешком глаза, видя, что творится с ней что-то неладное.
Багдагуль сидит, вытянув ноги, в кухонном уголке своей юрты и прилежно вьет веревку из волокна куги, изредка бросая робкий взгляд на суровое, обросшее дремучей бородой лицо мужа, мечтая, чтобы он хоть на час сомкнул свои острые, как иглы, ресницы, отдохнул от своих больших дел и забот.
«Сказать или не сказать»? — мучительно думает она, время от времени вытягивая шею и стараясь заглянуть в глаза мужа. Если бы знал он, какие тревожные ночи проводила она в его отсутствие, боясь задремать, чутко прислушиваясь к малейшему шороху снаружи. Если бы знал, как, вся покрываясь холодным потом, ждала, что вот опять скрипнет дверца юрты и к ней проскользнет тот страшный человек, который в первую же ночь после ухода Мамана внезапно возник перед нею и, тяжко навалившись на ее уже заметно вздувшийся живот, стал душить. Она тогда сопротивлялась отчаянно, и у него не хватило сил справиться с нею. Спасаясь от обезумевшей женщины, схватившейся за топор, насильник выскочил из юрты и, тяжело топая кривыми ногами, убежал. Но непоправимые последствия своего появления оставил. У Багдагуль уже не было ребенка, но остался страх, от которого она с криком проснулась и сегодня, в счастливую ночь, когда под надежной охраной мужа наконец-то впервые за последний месяц могла выспаться спокойно. Багдагуль никому не сказала об этом ночном происшествии, боясь, что слухи дойдут до мужа и тот вернется домой, не закончив свои дела, на радость тому страшному человеку, который к ней приходил.
— Что-то ты так похудела, милая женушка? — заговорил Маман, словно бы почувствовав ее колебания. Чтобы не смущать жену, он оставался лежать с глазами, обращенными к небу. — Всю ночь дрожала, бредила.
Кровь бросилась в исхудалое бледное лицо Багдагуль, сердце мучительно забилось.
— Сама я виновата, большой бий, — еле слышно шепнула она, потупившись, — испугалась падучей звезды и выкинула, лишилась надежды.
Бий молчал, потрясенный, придавленный тяжестью обрушившихся на него противоречивых мыслей и чувств, не находя слов, чтобы выразить свою боль. А Багдагуль вся сжалась, впервые подумав, какие могут возникнуть новые беды из-за того, что она скрывает страшное дело ночного гостя.
В этот миг словно ветер приоткрыл циновку на двери и тихо, как кот на мягких лапах, в юрту скользнул Айдос. Не замечая волнения хозяев, он уже у порога почтительно скрестил руки на груди:
— Ассалам алейкум, бий-ага! Большой бий приподнялся.
— Проходи, сынок, проходи! Женушка дорогая, окажи честь гостю, это наш умница Айдос.
Багдагуль вскочила, путаясь в веревках и уроняя пасмы куги.
— Садитесь, пожалуйста, шеше! — поспешно сказал Айдос, краснея от смущения. — Бий-ага, а я вас приглашать приехал. У Есенгельды-бия родился сын. Старшие решили, что вы должны дать ему имя. Многие говорили, что вы не придете. А отец сказал, что, если я поеду приглашать, вы придете.
Маман-бий пристально вглядывался в лицо Айдоса, в его свежие, бормочущие губки, хотел заглянуть в глаза, но мальчик говорил опустив веки, и острая душевная боль пронизала Мамана.
— Учись, сынок, говорить, прямо в глаза людям глядя, — сказал он, неохотно вставая. — Ну, раз уж ты просишь, сынок, так тому и быть, поеду.
— А вы и вправду не поехали бы, если бы я за вами не приехал?
— Устал я, сынок… Седлай, даенушка, коня. Накануне вечером Маман вернулся с Казахдарьи на белом коне, как две капли воды похожем на его прежнего коня из косяка Мурат-шейха. Мырзабек-бий, когда тайком от хана Малого жуза навещал своих родственников, привел от них этого коня. Не стерпело сердце Мырзабека, что большой бий каракалпаков пешком ходил по аулам, отдал ему коня безвозмездно.
Когда бий с Айдосом вышел из юрты, Багдагуль, отвязав коня, расчесывала ему гриву. Благодарно улыбнувшись жене, Маман взял из ее рук поводья и вскочил в седло.
Два всадника ехали вдоль берега Кок-Узяка по словно прочерченной у края воды тропинке. Весна была в самом начале, и над аулами, прячущимися в густых камышах, раскинулось ясное небо. Мягко светит солнце, блаженный ветерок веет с моря, под его дыханием парит земля, от корней сухих прошлогодних камышей пробиваются и стремительно тянутся вверх острые зеленые иглы молодых побегов.
То ли от мерного перестука лошадиных копыт, нарушающего тишину над озерами, то ли от волшебного веяния весны, пробудившей все живое на земле и под землей, но вокруг поднимался какой-то лепет и шорох. Стремясь понять, что это за чудные звуки, Айдос натянул поводья, остановился. Нет, это не топот копыт, — вся вселенная, шепча, шелестя и вздыхая, творила для кого-то плавную музыку радости.
Ехавший впереди Маман понял, почему остановился мальчик.
— Это шум весны, сынок, — сказал он, придержав коня. — Всему живому дано разрешение рождаться, расти, цвести и наполнять землю. Смотри! — Он указал камчой на открытую полянку с проросшими на ней юными всходами камыша, подобными стрелам, вонзившимся в землю. — Кому, по-твоему, они жизнью обязаны?
Счастливый вниманием большого бия, который и вправду ведь хотел узнать его мнение, Айдос задумался и, глядя Маману в лицо, ответил:
— По-моему, подземным корням, бий-ата.
— Верно, сынок. Не будь у них корней, они бы не росли. Но если бы не светило солнце, погибли бы и корни. Поэтому обязаны они и солнцу. Пусть всегда светит оно, как сегодня, им и жизнь наша красна.
— А что такое жизнь, бий-ага?
Маман обвел глазами цветущий берег, поляну, высокое небо, распахнул руки, — хотел сказать мальчику многое, но, глянув в его чистые детские глаза, понял: надо попроще.
— Жизнь ведет человека на вершину и сбрасывает в пропасть, палит огнем и леденит морозом… Нет, не так!.. Жизнь — это когда отец дает тебе палочку, чтобы ты скакал на ней, играл в лошадки. А ты, когда вырастешь, дашь ему палочку, чтобы он опирался на нее. Станешь большой — сам поймешь, что такое жизнь, сынок.
Слова бия, охотно отвечавшего на вопросы мальчика, все больше разжигали его любознательность. В волнении облизав нижнюю губку, он подъехал к Маману вплотную.
— Бий-ата! А вы собираетесь когда-нибудь поехать к русским?
На высокий открытый лоб Мамана набежали морщинки: он и любовался Айдосом, и разволновался до слез, когда мальчик, сам того не подозревая, посыпал солью незаживающую рану. А ведь ребенок задал этот вопрос не потому, что он тревожил его, а просто из детского любопытства. Любопытство к русским возникло у Айдоса после того, как он походил вместе с Маманом по аулам и тот рассказывал ему сказки-были о посольстве каракалпаков во пресветлый город Санкт-Петербург, где никогда не заходит солнце потому, что стоит он на самой вершине земли, и где бий видел женщинутцаря, Элизабет; о державной реке Неве — царице рек, о Волге, Яике, реке Орь, о славном городе Москве, о славящемся великими базарами городе Нижнем и о Кузьме Бородине, научившем Мамана мысли, в которую вмещаются все семь чудес света. Маман также пересказывал мальчику услышанные от Кузьмы Бородина сказания о князе Юрии Долгоруком и спасителях отечества Минине и Пожарском. Говорил Айдосу и о большом начальнике Неплюеве, жаловавшем Маману почетный камзол со своего плеча, и о добром друге каракалпакского посольства Дмитрии Гладышеве. Повествовал и о хане Малого жуза Абулхаире — только доброе: что хотел, мол, он связать нить дружбы с русскими, да погиб на войне со своими же сородичами, султанами.
С тех самых пор, как наслушался мальчик этих увлекательных сказаний, тесен стал ему убогий мир аулов, затерявшихся в камышах, и живая мысль его устремилась на просторы вселенной, облетая неведомые страны, моря и горы, леса и равнины. Айдосу и во сне виделись города и люди волшебных Мамановых сказаний, и в сознании впечатлительного мальчика вставал великий и славный героический народ русский так ясно, будто сам видел его воочию… Но, занятый своими детскими мечтами, мальчик не заметил выступивших на глазах большого бия светлых слез радости. А тот резко осадил своего белого коня.
— Сынок мой Айдос, вопросом своим снял ты пелену скорби с помутившегося взора моего, осветил солнцем заросшую было сорняками тропу счастья. Однажды непременно поедем мы с тобой в страну русских. Пока что пути к ней нам заказаны. Не на чем нам с тобой и море переплыть, нас с тобой от них отделяющего… Но все было бы для нас возможно, если было бы единство у нас, старших… А его нет.
Гордый и смущенный вниманием большого бия, который, будто считая его взрослым, обсуждал с ним дела, какие решались между старейшинами, Айдос даже оробел, по все же, не отступаясь, задавал и задавал новые вопросы:
— А почему старшие аксакалы такие… несогласные? Скажите — и поедем!
— Эх, сынок, сейчас тебе старших не понять! Все поймешь, когда сам аксакалом станешь. Коли доведется мне к русским поехать — и ты со мной поедешь. Не побоишься, так обязательно поедешь.
— Бий-ата, а что, если я спрошу о том, что люди про вас говорят?
— Спрашивай, не стесняйся!
— Правда ли, что вы огорчались тем, что иные пренебрегают черной шапкой, одеждой своего народа?
Бий новыми глазами с удивлением смотрел в невинные детские глаза Айдоса и толком не расслышал его вопроса, а мальчик, видимо, это заметил и подошел к Маману с другой стороны:
— Бий-ата, а что лучше: Кааба или Петербург?
— Каабы я, сынок, не видал, но и не стремлюсь туда потому, что побывал в Петербурге. Могучая страна русских поистине Кааба для таких малых народов, как мы. Туда приходят караваны из многих и многих стран, везут туда свои товары, обычаи, языки, а оттуда увозят русские товары да русские обычаи. В мире много разных племен и народов, и мы среди них народ малочисленный, а раздоров у нас больше, чем у самых больших. Не сумели мы все дружно ухватиться за протянутую нам руку России, потому-то и претерпели столько бедствий, вконец разорились.
Маман заметил, что Айдос слушает так напряженно, что морщится даже, когда кони, с треском вламываясь в камыши, заглушают его речь.
— А насчет одежды ты спрашивал? Я уж не помню, что кому об этом говорил, но тебе скажу так: рубашка у нас, сынок, шьется по-ногайски, штаны — по-индусски, чекмень — по-башкирски, вышивкой украшаем — по-украински, а шубу шить научились у казахов. Вот черная шапка у нас искони своя, черная, в знак скорби. Потому-то и жалею весьма, что Есенгельды-бий и его присные, прибывшие сюда с ним раньше нас, спрятали в сундук черную шапку скорби — каракалпак, обрядились по обычаю Хорезма в мохнатую меховую шапку — шегирме.
Я многих стран мира не видел, но, единожды Санкт-Петербург повидав, мню, что весь свет облетел. И радовался бы весьма, если бы наши люди у всех других народов добрым обычаям, наукам и ремеслу научились.
— А вы не сказали, бий-ата, чему мы у русских выучились.
— У русских, сынок, многому можно научиться: всякому знанию, мастеровому делу, хлебопашеству и ремеслам. К этому-то всему мы, можно сказать, чуть прикоснулись, но, близко общаясь с ними, научились мы их трудолюбию, упорству, верности слову.
— А почему нам русский царь не помогает? Почему русские к нам не приезжают?
— Царица, сынок, сейчас войной озабочена, напал на нее султан турецкий, русские против него воюют.
На лицо мальчика словно тучка набежала, огорчился, но любопытство его не унималось.
— Бий-ата, а кто это деда моего кровный враг? Бесхитростные вопросы юного Айдоса, его стремление все знать, все понять, увлекали и радовали Мамана, но этот его вопрос показывал^ что он ничего не знает о своем деде и о его конце. Радостное настроение бия померкло.
— Откуда ты узнал о каком-то кровном враге? — спросил Маман, хмурясь.
— От мамы слышал, бий-ата, — ответил мальчик, ничего не замечая. — А мама услышала, когда Есенгельды-бий говорил об этом отцу. В прошлом году это было, когда я ускакал вас искать.
— Ассалам алейкум, бий-ага!
За разговором они и не заметили, как выехали на пшеничное поле Бегдуллы Чернобородого. На краю поля, согнувшись, как сломанный прут, стоял Сабир Франт, почтительно приветствуя их со сложенными на груди руками.
— Здоров ли, Сабир, как поживаешь?
— Ваш раб, бий-ага, хорошо живу, благодарствуйте! Вот взялся поле караулить. Во-он с того конца завидел вас и прибежал поприветствовать.
— Нет ли обиды тайной у тебя в душе?
— Все зажило, бий-ага! Хотел прийти вас поблагодарить, да вот отсюда никак не вырвусь, бий-ага! Бог дал, жена на сносях. А я уж было решил: если жена не родит, возьму усыновлю мальчика-сиротку… Все, у кого милостью вашею потомство появляется, все радуются, как я.
Униженная благодарность человека, который, и года не прошло, проклинал бия за оскорбление своего очага, возбудила у Мамана смешанное чувство горечи, жалости и презрения, и стало ему уж совсем не по себе.
— Ну, спасибо, Сабир, за добрую весть. Сообщи, когда родится ребенок, подберем ему хорошее имя, — молвил Маман, отворачиваясь.
А Сабир, высказав свою благодарность, так и остался стоять, согнувшись пополам, будто сломанный прут. Айдос не понял тайного смысла разговора старших и не удивился, — Маман-бия многие благодарили.
— Хороший какой человек! Верно, бий-ата?
— Да, сынок, хороший человек.
— А сколько языков вы, бий-ата, знаете?
— Кроме своего, родного, знаю русский.
— А Есенгельды-бий, говорят, много знает: казахский, узбекский, туркменский, киргизский, ногайский
— Эти языки — нашему родня, похожи один на другой, как дольки дыньки-скороспелки, сынок. Пять-шесть дней говорящего на этих языках послушаешь — и сам будешь их понимать.
— Я хочу знать много языков, разных!
Тогда надо тебе хорошенько учиться, сынок. Знание — слава народа. Об этом сегодня у Есенгельды-бия будем с аксакалами совет держать.
— А где лучше учиться: в Петербурге, в Казани или Москве?
— Пока дорога в Россию нам не откроется, будем учиться поближе: в Хиве.
— Ну, будем пока в Хиве учиться, бий-ата.
— А кто еще, кроме тебя, хочет учиться?
— Есть у меня друг Кабул… Да много еще, бий-ата, все учиться хотят!
Так пока я буду у Есенгельды-бия гостить, собери их, мы с ними поговорим.
— Вот хорошо!
11
Над древним шумным городом Хивой, над головами правоверных хорезмских мусульман жарко пылает, словно бы истекая расплавленной медью, беспощадное яростное солнце. Жирные люди с красными, опаленными зноем лицами, удушливо сопя, ныряют на теневую сторону улиц подобно курам, прячущимся в курятнике.
Перед вечером жара немного спадает, дышать становится легче, и город как бы раздвигается, кажется просторнее.
Солнце клонится к западу, — значит, скоро начнут возвращаться с базара постояльцы, и хозяева заезжих дворов — шарбакши, за день и высморкаться неуспевающие, выбегают к воротам встречать гостей. Матьякуб-шарбакши, посвободнее распустив кушак из домотканой бязи, опоясывающий его поношенный грязно-серый халат, надетый прямо на голое тело, стоит, прислонившись спиной к притолоке ворот, упираясь в землю ногами в огромных кожаных калошах. Засучив рукава, как силач, выходящий на борьбу, он взимает с постояльцев плату «за кол», к которому будут привязаны их кони и ишаки.
Низко кланяясь тем, кто, выезжая со двора, бросает в его раскрытую ладонь какую-то мелочь, он, поглаживая седую свою бороду, смиренно напутствует:
— Заезжайте к нам, гость дорогой, снова, уж не обессудьте, коли чем не угодили; счастливого вам пути.
В час вечерней молитвы, когда приезжавшие на базар люди уже разъехались, перед Матьякубовым двором появился Аманлык, слез со своего осла, почтительно, как подобает со старшим, поздоровался и попросился ночевать.
Матьякубу не нужно было долго разглядывать пришельца — босой, обросший волосами, одно ухо оторвано, лицо покрыто пылью немереных дорог, — чтобы пожалеть смертельно истомленного путника: Так уж и быть, входите!
— Божьей благодати, доброго достатка тебе, милостивый хозяин!
— Говоришь ты по-бухарски, а ведь, оказывается, каракалпак… — заметил шарбакши.
— Угадали, дорогой мой человек, — тихо молвил Аманлык и пошел за Матьякубом в глубь двора привязывать осла к указанному хозяином колу,
Матьякуб позвал Аманлыка к ужину. Рассказал ему о себе, похвалился, что на его дворе всегда останавливаются приезжающие в Хиву каракалпакские бии. Вот и две недели тому назад ночевали у него достославные старейшины: Есенгельды-бий да Маман-бий.
Аманлыку дремалось, и глаза уже закрывались от усталости, но, услышав имена биев, он очнулся и вскочил, будто окатили его холодной водой.
— А зачем они приезжали? Расскажи, почтенный! И почему вы назвали первым не Мамана, а Есенгельды-бия? Не обижайтесь, но у нас большого бия Мамана принято первым называть.
— Верно, гость мой. Когда они приехали, я заметил, что мудрый Маман был старшим надо всеми. Только на другой день пошли они в дом жалоб к хану. Так Есенгельды хан принял, а Маман-бия даже на порог не пустил.
— Почему же так?
— В точности не знаю. Говорили товарищи его, что он с русскими близок и управляет будто по-русски. А уж известно, что мусульманская вера и русская что огонь и вода. Видно, побоялся хан, что, коли плеснет Маман водой на огонь, по всему ханству чад пойдет.
— А еще кто с ними был?
— Были ребята, которых они учиться в медресе привезли, а еще двадцать человек взрослых джигитов. Тех, чтобы они ремеслу учились, с собой взяли.
— Они еще здесь в городе?
— Которые в медресе, здесь. Их сам Есенгельды-бий отдал в медресе Шергазы-хана. Как повидаться с ними? Уж не знаю.
— А взрослые джигиты где?
— Их Маман-бий на невольничий рынок увел и там кого куда роздал.
— Да ведь там в рабы продают! Домой-то они потом смогут возвратиться? — Комок подкатил к горлу Аманлыка.
— На невольничьем рынке и рабов продают, и поденщиков нанимают… Вернутся, коли нанялись.
Сердце Аманлыка успокоилось, но томила его неотвязная мысль, обида: как же так — хан Маман-бия не принял! И он не стерпел:
— А вот, Матьякуб-ага, скажите, милостивы будьте, кто из двух биев умнее вам показался?
— Приметил я, что Маман-бий человек мудрый, заботливый. Он, бедняга, всю ночь не спал, наставлял ребят, которые шли в медресе учиться: «Учитесь, мол, постигайте науки-знания, ищите пути, чтобы народ наш стал народом. Учитесь упорно, с душой. Помните, что ученый человек прославляет народ свой на весь мир. Знайте, что добывать знание — все равно что иголкой клад копать. Но вы не ленитесь, неустанно копайте — и клад найдете». А взрослым парням говорил: «Не торопитесь возвращаться. Настоящему джигиту и семи ремесел мало. Пока каждый хоть одним ремеслом не овладеет, о доме и думать забудьте. Кому возможность откроется, женитесь на узбечках, приходите назад семейными людьми, с женами и детьми».
В первый день, как они в город приехали, Есенгельды-бий Маман-бию в рот смотрел. А после хамского приема сразу изменился, начал над Маман-бием! куражиться: «Я, мол, уезжаю, а ты, коли тебя на невольничий рынок тянет, можешь хоть и совсем тут оставаться!» И уехал один со своими людьми.
— Упрямый он человек, упрямый, — сказал Аманлык, в волнении сплевывая сквозь зубы.
— Да просто грубиян! — сказал Матьякуб, всем сердцем понимая Аманлыка, какое-то особое чувство к нему шевельнулось в его душе. — Я ведь думал, что каракалпаки народ тихий, смирный, у овцы клок сена изо рта не отнимут. У меня ведь был большой друг — каракалпак, Кудияр-конюх, был он смирный, как овца, безответный, как рыба…
— Вы сказали, Кудияр-конюх? — встрепенулся Аманлык.
— Да, гость мой. Уж такой хороший был человек. Я думал, все каракалпаки такие.
И, увлекаясь, горячо заговорил о судьбе Кудияра, и из слов его выходило, будто того уже и в живых нет. Но все же Аманлык спросил, на что-то надеясь:
— А где он сейчас, Кудияр-конюх?
— Скончался. Где похоронен?
— И не спрашивай, гость мой, — Матьякуб тяжело вздохнул, — дал бог человеку этому счастье, но кончилось все бедой.
И, истомившись многолетним молчанием, — некому было поведать печальную участь друга, — шарбакши говорил долго, горячо о том, как сын каракалпака Бо-рибай выпросил, выкупил у хивинского хана девочку, которую везли купцы эмиру бухарскому, а продали в хивинский гарем, и как девочка эта оказалась родной племянницей Кудияра, и как однажды ночью сели они на скакуна из ханской конюшни и хотели бежать на родину, а ханская погоня их настигла, Кудияра убили и бросили в реку, сказав — для рыб, а девушку убили и бросили на дороге, сказав — для птиц.
Матьякуб не думал, что его рассказ так поразит гостя. Аманлык словно окаменел, поднял кулак ко лбу и застыл.
— Знал ты их, что ли? — испуганно спросил хозяин. Аманлык сидел молча, недвижимо. Потом тяжко, с надрывом вздохнул, точно пламя вырвалось у него из г РУДи:
— Нет, не знал, Матьякуб-ага…
Хозяин понял, что душа у гостя горит, а говорит он «не знал», чтобы не растравлять свое горе расспросами, и Матьякуб долго сидел молча, боясь шевельнуться, а потом привстал:
— Утомился ты, гость мой, ложись отдохни.
Утром пришел шарбакши убрать постель Аманлы-ка, — жесткая кожаная подушка его обмякла от слез. Гость оседлал ишака, видимо собираясь уехать без завтрака.
— Уезжать хочешь, гость мой?
— Еду, Матьякуб-ага, еду…
Глаза у Аманлыка красные, сам бледный, едва на ногах стоит, — как бы не свалился дорогой.
— А куда едешь?
— Куда?! — спросил сам себя Аманлык и умолк.
— Может, ты тоже ремеслу какому обучишься, тогда и домой поедешь?
— А где можно работу найти? — живо спросил Аманлык, тщательно обтирая ладонью круп своего ишака.
— Заходи в дом, за чаем посоветуемся. Можно на невольничий рынок пойти. Там тебе, такому здоровому парню, да еще с ослом твоим, цены не будет, живо найдут.
* * *
На невольничьем рынке всегда многолюдно. Там обок с закованными по рукам по ногам рабами стоял и Аманлык с засученными рукавами на огромных, как оглобли, руках, грудью опираясь на своего серого ишака.
Какой-то круглый, как ступа, человек с блестящими маслянистыми щеками и выпуклым лбом, из-под которого, сквозь кустистые рыжие брови, остро выглядывали маленькие, глубоко запавшие глазки, кругом обошел Аманлыка, задевая его подвернутыми с обоих боков полами промасленного халата, раскрыл рот ослу, осмотрел зубы, а потом с ног до головы окинул взглядом Аманлыка.
— Какое ремесло знаешь? Никакого, кроме черной работы.
— Осел у тебя молодой, а у самого-то сил хватит?
— Пока не жалуюсь.
Тогда айда ко мне наниматься. Я куурда)кши, рыбный повар, хозяин рыбожарки я.
— Рыбожарки? Разве есть такое ремесло? Куурдакши обиделся.
— А ты потише! — засипел он, раздувая горло. — Да я свое ремесло на ханский трон не променяю! Ведомо ли тебе, что сам хан, на охоту выезжая, в моей рыбожарке останавливаться изволит? Вот ты и подумай, ремесло это или не ремесло? Рыба у меня откуда, говоришь? Нижние Каракалпаки мне рыбу возят.
Хотя Аманлык и понял, что хозяин хочет кольнуть его, что, мол, вот каракалпаки на него работают, но он нисколько не обиделся, а тотчас же согласился идти в рыбожарку. Самое главное для него было то, что сородичи возят туда рыбу и однажды он их непременно увидит.
Рыбожарка стояла в тесно застроенном домами поселке у большой дороги в полудне ходьбы от Хивы. Хозяин сначала напоил его чаем с хлебом, потом отвел в темный хлев, маленькое оконце которого было заткнуто соломой.
— Вот вам с ослом и дом.
Аманлык, попав в незнакомое место, больше всего беспокоился, как бы не украли его осла. То ли потому, что он начал стареть, то ли из-за того, что всех родственников лишился, но осел казался теперь Аманлыку единственным задушевным другом и опорой. Работаешь — и он с тобой, устанешь — на себе повезет И джигит от души поблагодарил куурдакши:
— Спасибо тебе, хозяин! — А когда тот ушел, подстелив себе потник ишака и положив под голову седло, лег и уснул.
12
Есенгельды-бии как на радостях хлестнул своего коня камчой на выезде из Хивы, так и мчался, не переводя дыхания, будто конь его обрел крылья, а сам он стал мухой, затаившейся на крыле сказочного коня. Даже сам удивился он собственной удали, когда оказалось, что путь, занимавший добрую неделю времени, он проделал за считанные часы. Душа его с приближением к дому требовала воли, и он истошными воплями поднял на ноги весь аул.
— Эй, кто там есть?! Помогите слезть с коня! Идите, скачите, сообщите биям кунградским, удалым нашим джигитам, что я приехал! Пусть все собираются сюда и часу не медля!
Завидев играющего под знатным седоком темно-бурого коня, бийские подхалимы, не ожидая приказа и не тратя времени, чтобы оседлать лошадей, взбирались на их голые спины и, неистово колотя пятками в конские бока, с великим шумом и гамом ринулись во все стороны, словно испуганные зайцы, вытряхнутые из мешка. Не оттого, что уморился в дороге, а от горделивой радости, голову ему кружившей, Есенгельды, едва войдя в дом, бросился на постель, перевернулся на спину, приказал снять с себя сапоги и подложить под каждую ногу по подушке, а под мудрую свою голову — целых три. С приходящими к нему здоровался лежа, едва протягивая старейшим кончики пальцев, а посетители, ранее чувствовавшие себя в его доме свободно, теперь, ощутив ветер Хивы, от бия исходящий, робко переступали порог и садились на то место, которое он указывал им небрежным кивком подбородка. Когда все приглашенные собрались, Есенгельды, важно покряхтывая и покашливая, поднялся и присел на постели.
— Старейшины кунграда, вам от Мухаммед Амин-инаха привет! — начал он с важностью. — Вот мы с вами тут болтаем «указ! указ!», мечемся туда-сюда, со всех сторон коварным Маман-бием опутанные, и все без толку, только на языке мозоли набили! А Маман-бий-то, оказывается, русского царя да казахского хана лазутчик. За большие деньги народом нашим торгует… — И, видя недоуменные взгляды присутствующих, сорвался на визг:-Что глаза вытаращили? Не верите, что ли? Так это из дворца ханского весть. Я приехал, мне так все и рассказали. О судьбе нашей Хива думает, оказывается. Не заботились бы о нас, зачем бы тогда делами нашими заниматься?
Собравшиеся сидели, испуганно посматривая друг на друга, а кто сочувствовал Маману, растерялись, не зная, что и подумать, — все ждали, чтобы Есенгельды-бий высказался до конца, пролил свет своего разума на темное это дело. А Есенгельды-бий не торопился, с чувством своего превосходства покашливал, прочищая голос, прихлебывал холодный чай из пиалушки, стоявшей на приступочке у очага. На людей поглядывал прищурившись, со снисходительной улыбкой, как на балованных ребятишек.
— Вот так, старейшины, — молвил он с важностью, снова отхлебнув из пиалушки. — Дорогой друг мой Мухаммед Амин-инах поделился со мною заветными своими думами. Много беспокойства у него на душе из-за нас, каракалпаков, на Арале обитающих, даже, оказывается, ночи не спит, уважаемый, в тревоге за нас. На детей наших, которых отдал я учиться, собственными глазами изволил взглянуть. Особенно понравился ему сынок твой Айдос, Султанбай. Благодаря тому, что именно я привез детей в город, сам его высочество пресветлый хан повелел принять их в самую лучшую медресе. Хотел он было с позором выгнать Маман-бия из города, да я уговорил его оставить. Никуда, мол, не денется, домой приедет, а тут мы сами с ним разделаемся. Разве лазутчик такой сможет народ народом сделать? Оказывается, иной раз, чего сам человек у себя под носом не замечает, другой со стороны разглядит. Мы-то сами Мамана не распознали, а инахи, со стороны наблюдая, всю его зловредность обнаружили. Что, господа аксакалы, неплохие у нас соседи, с ханом хивинским во главе, оказались?
— Да, Есенгельды-ага, соседи-то у нас неплохие, об этом и Маман-бий говорил, — угрюмо молвил Гаип-бахадур. — И Айдоса Маман-бий тоже очень хвалил.
— Привыкли все хорошее Маман-бию приписывать! — сердито крикнул Есенгельды. — А теперь хватит за него богу молиться! С сегодняшнего дня будете исполнять то, что Амин-инах нам прикажет. А мое дело маленькое: скажете «хорошо»- передам хану, скажете «нет»- тоже передам. Во всем этом бо-олыпой смысл заключается, советую подумать.
— Извините, бий-ага, — робко молвил Курбанбай-бий. — А Маман-бий где сейчас находится?
— Остался джигитов ваших на базаре продавать. Даст бог, и сам в поденщики там наймется! Научится какому-нибудь ремеслу, так мы его, так уж и быть, примем.
— Аи, до чего язык ваш сладкий, слова ваши, как щербет, приятные! — льстиво залепетал Аманкул-бий.
Есенгельды-бий, будто ему по усам маслом помазали, прищурившись, засмеялся.
— Слушай, Аманкул-бий, аксакалы, послушайте! — сказал он, самодовольно закручивая усы. — Мы с вами испокон веку жили в единстве, словно одним узелком завязанные. Если враги на нас нападали, единым народом грудью на него шли. А теперь, коли мы Мухаммед Амин-инаху добрые его замыслы осуществить поможем, будем жить как сыр в масле катаясь.
Один из старейшин, помоложе, все вертелся на своем месте, ожидая, когда же Есенгельды самое важное радостное известие огласит, да не вытерпел и намекнул, что хозяин, мол, чересчур затянул разговор.
— А какая инаху от нас подмога нужна, чтобы до доброй своей цели добраться?
— Уместный вопрос, господа аксакалы, очень уместный, — оживился Есенгельды. — Так вот слушайте: некоторые весьма нужные Хивинскому ханству земли захватили йомуды. Мухаммед Амин-инах весьма этим обеспокоен и за благо положил земли те от йому-дов очистить. А для этого надо на них напасть, а чтобы напасть — нукеры нужны. Мухаммед Амин-инах и говорит: «Пусть ваши каракалпаки пятьсот нукеров нам дадут». И я сказал «хорошо».
У присутствующих будто языки отсохли. Молчание длилось столько времени, что можно было пиалушку чая не спеша опорожнить.
Есенгельды удивился. Не хотят! Этого он никак не ожидал, снова откинулся на подушки.
— Призадумайтесь над повелением Мухаммед Амин-инаха, крепко подумайте! — угрожающе молвил он.
— Если мы лицом к Хиве повернемся, не нарушим ли тем свои обязательства? — раздался чей-то голос от порога.
— Что еще за обязательства? — вскинулся Есенгельды.
— Да обязательства, стране русских данные! Не получим ли пинка в зад, как жадный козленок, за вымя каждой козы хватающийся?
— Это верно, что мы и есть беззащитный козленок-сирота, мать которого Маман-бий убил, — сказал Есенгельды-бий, поднимаясь. — Вся Хива об этом знает, оказывается. А за Хивой — весь мир. Ну, так или иначе, готовьте нукеров, защищайте землю нашу. Верно я говорю, Аманкул-бий?
— Правильно говорите, Есенгельды-бий. Мы ведь понимаем, что, если не пойдем за кочевкой великого кунграда, мудростью вашей руководимой, будет нам всем конец. Я лично добьюсь, чтобы люди моего рода дали нукеров. Из многодетных семей возьму.
— А вы как, Гаип-бахадур?
Гаип-бахадур, приподняв черную шапку, почесал свою лысину.
— Гаип-бахадур мамановец — пускай подумает хорошенько.
— Мужественный джигит рода ктай, Курбанбай-бий, а ты что скажешь? Или с матерью сначала посоветуешься?
Вопрос этот больно кольнул Курбанбая, и он заносчиво крикнул:
— Мы из тех, кто для народа родной бабушки не пожалеет!
— Ну что же, Гаип-бахадур. Задумали мы общими силами сшить большой кунградский халат. Рассчитываю, что ты поможешь хоть одну полу этого халата собрать.
— Все это так, Есенгельды-бий, — тянул Гаип-бахадур. — Никто не скажет, что вы не дело говорите. Так ведь надо бы срок дать, обдумать все хорошенько. Каждому со своим аулом надо посоветоваться. Я-то лично готов жизнь за народ отдать…
Этот совет показался Есенгельды-бию разумным. Еще раз обвел он глазами сидящих и понял: надо дать срок — и велел им через неделю, к будущему четвергу все обдумать, а сегодня разрешил расходиться.
Неделя эта черной тучей нависла над аулами, не слышно стало ни песен, ни смеха, поползли слухи — один другого нелепей и страшнее. Нашлись и такие люди, которые, припомнив все неудачи Маман-бия, искренне уверовали, что он и есть вражеский лазутчик, виновник всех бед. Особенно усердно поносили его те люди, кто получил обещанных сорок плеток за невыполнение брачного указа: «Маман — изменник! Маман — бездельник! Маман — неверный, чистое от поганого не отличает!»
В самый разгар смуты, когда бии, обещавшие свою поддержку Есенгельды, уже потеряли надежду собрать народ воедино, появился Маман-бий. Обросший волосами, худой — кости да кожа, — он наутро после первой ночи, проведенной дома, узнал от пришедших к нему друзей и товарищей о страшной новости, привезенной Есенгельды.
— 0-о-х уж эти хивинские шакалы! — только и сказал он, отлично понимая, что, если скажет что плохое о Есенгельды-бие, это будет как если бы подбросил сухих щепок в костер, родовая вражда жарким пламенем разгорится. И он решил прежде всего с глазу на глаз поговорить с Есенгельды-бием.
А Есенгельды был очень доволен, что, расходясь от него, бии не посмели открыто с ним спорить. Он тогда шепнул про себя: «Стоило только слово «Хива» произнести, как люди угомонились. Волшебный город!» Бий всю неделю до четверга отдыхал от трудов праведных, с великой думой о благе народном, лежа на боку в своей юрте.
Маман-бия он принял и головы не повернув в постели. Удивленный, что Есенгельды так быстро забыл о всяких приличиях, Маман, переступив порог, остановился, насупив брови, перебирая в руках плетку.
— Не торчи перед глазами, сядь! — приказал Есенгельды.
— А ты встань и принимай гостя как положено!
— Ха-ха! Маман! Все еще не понял, кто ты теперь есть, гордишься? Садись же, чего уж там!
— Какое обещание дал ты Амин-инаху?
— А сидя ты разговаривать не можешь? Ну ладно, слушай стоя, разозлишься — скорей уйдешь. Мы даем пятьсот нукеров Мухаммед Амин-инаху, чтобы помочь ему очистить Хиву от йомудов.
— А дальше что?
— Дальше открывается и нам широкая дорога к ханскому трону. Садись же, — сам знаешь: у нас со здешними узбеками одна судьба, из одного моря рыбу ловим.
— Это и так известно. А вот, помогая Амин-инаху, не восстановим ли мы против себя туркмен?
— Вот делать тебе нечего! Чем стоять у дверей, как неверный русский, не поленись — согни колени ради народа, который ты дотла разорил, помогая другу своих русских — тирану Абулхаиру, как будто он каменная гора — наша опора!
— Помогать-то ему надо было, только Абулхаир нас обманул, это верно.
— Мухаммед Амин-инах не обманет!
— Все они, ханы, на одно лицо, приблудному псу подобны!
— Ты что сказал?! — Есенгельды привскочил с постели. — Вон из моего дома, пока крамольные слова твои до инаха не дошли!
— Глаза твои жиром заплыли, Есенгельды-бий.
— Слепец ты, Маман, коли истинно болеешь за народ или хотя бы себя жалеешь, угомонись, моего приказа слушайся. А не то свалишься в яму — не выберешься. Если осталась у тебя капля ума, поймешь: ведь это я тебя от хивинцев вызволил, убить тебя не дал…
— Эх ты, пустозвон! Видно, Амин-инах голову твою тыквой подменил, ветром надутой! Не понимаешь, что ли, что, угождая одному человеку, делаешь врагом нашим целый народ! Брось недостойную эту возню, не соберешь ты пятьсот нукеров, народ не даст!
— Ха-ха-ха! Народ не даст? А народ кто? Народ — я; а ты кто: попугай, всю жизнь одно слово-«русский»- твердящий. Народ теперь понял, на какой закваске ты замешен. Посмеешь много разговаривать — укажу тебе твое место. Подожми хвост и беги в свой аул, да смотри, сиди тихо!
Маман понял, что спорить с этим человеком бесполезно, и, резко повернувшись, вышел, с треском захлопнув за собой дверь. Но только выехал он за аул, на встречу ему показались всадники: Аманкул-бий, Кур-банбай-бий и Гаип-бахадур ехали к Есенгельды с отчетом.
— Стойте! — крикнул Маман-бий. — Зачем едете? Аманкул-бий со своими людьми молча проехал мимо
Мамана, Курбанбай-бий растерянно остановился, разинув рот, а Гаип-бахадур повернул коня к Маману и поздоровался, намереваясь обо всем подробно поговорить.
13
Правду сказал хозяин рыбожарки: заведение его всегда полно народу. И проезжие торговцы, и пешеходы, даже многие горожане наведываются сюда поесть рыбы. У хозяина и за пазухой, и в карманах монеты колокольчиков звенят. Аманлык с утра до ночи покоя не знает, стоит у очага, подбрасывая хворост в огонь. Хозяин нет-нет да и кинет ему кусок подгорелой рыбы. Так он стоя и ест.
Рыбожарка и приют голодных сирот и нищих. Только двери откроются — они тут как тут. Тощие ребятишки — кости да кожа — с черными от сажи лицами дерутся с бродячими собаками из-за рыбных отбросов. Глядя на них, Аманлык даже стыдится своего «благополучия». Он не договаривался с хозяином о жалованье, ничего не просил, и тому нравился молчаливый безответный труженик.
— Эй, каракалпак, — время от времени подбадривает хозяин работника, — мы с тобой о жалованье не договаривались, но ты не сомневайся, в обиде не будешь. Я не из тех проходимцев, что норовят у человека кусок урвать.
И Аманлык трудился еще усерднее, забывая усталость. Вечером как закроется рыбожарка, едет со своим ослом в лес за топливом, иной раз и на ночь там остается, а чуть свет возвращается домой, ведет в поводу осла, которого и не видно из-под огромного вороха сухого джангиля, — одни копытца семенят. Ну, как не уважить таких безотказных тружеников, и хозяин расщедрился, пожаловал Аманлыку старое домотканое одеяло, а ослу новый потник под седло.
Сладкоречивый хозяин не скупился на похвалы, но не давал Аманлыку времени и глазом моргнуть. Работа шла за работой. Некогда было даже Матьякуба-шарбак-ши проведать. Ночами мучила бессонница, — очень скучал по аулу, и совсем бы Аманлык извелся, если бы неожиданно не появился в рыбожарке… Бектемир! Везли они откуда-то со своим хозяином-плотником дерево на арбе, завернули по пути рыбкой полакомиться. Соскучившиеся друг по другу джигиты, никого не видя и не слыша кругом, как обнялись, так и застыли. Хозяин не хотел обидеть дармового своего слугу.
— Видать, односельчане! Нате-ка, покушайте рыбки да за едой и поговорите по душам, — сказал он и дал им три-четыре кусочка рыбы. — А ты, эй, там, как тебя звать, — крикнул он чумазому пареньку с опухшими веками, глодавшему отбросы на помойке, — иди помешай в очаге!
Не зная, с чего и начать, смотрят друг на друга Аманлык с Бектемиром, расплываясь в улыбке.
— Мы ведь в город торопимся, а ты откуда идешь? — заговорил наконец Бектемир.
— Я с тех пор, как ушел тогда из аула, в Бухару ходил, а потом сюда пришел. Алмагуль моя — верный человек сказал — умерла… а я что? У нас в ауле все ли живы-здоровы? Маман-бий где?
— Маман-бий, заботясь о завтрашнем дне народа, собрал нас, джигитов, двадцать человек, да еще четырех умных юнцов захватил и привел сюда, в Хиву. Тут Есенгельды-бий этих четверых в медресе; прйстроил.
— Ну, они в медресе. А сам Маман-бий где?
— С ним здесь ни хан, ни муллы разговаривать не захотели, за то будто бы, что с русскими дружит.
— А потом, потом что?
— Отвел нас десятерых на невольничий рынок, отдал в ученье здешним мастерам, а еще десятерых в Туркмению повел, вроде на баксы учиться — петь там, на дутаре играть и все такое… С тех пор мы друг о друге ничего не знаем. Домой, видно, раньше, чем лет через пять, не вернемся. В прошлую пятницу мы с хозяином ездили в Хиву, видел я там Дауима. Он ведь стремянным у Есенгельды-бия, Дауим-то! А с ним человека четыре-пять хивинцев, все с оружием. Выехали они из города гуськом и уехали.
— Хорошо, если все спокойно, зачем поехали-то?
— Не знаю.
— Сам-то какому ремеслу учишься? Жалованье получаешь?
— Какое жалованье? — Бектемир понизил голос. — Хорошо, если мой плотник с меня плату не спросит за обучение! Он сам арбы делает. Мне еще инструмент в руки не давал. Я ему дерево пилю, ступицы кипячу.
— Хорошее твое ремесло! А мое-то занятие можно ремеслом считать?
— А то как же? Мы сами рыбаки, надо же нам знать, как рыбу люди готовят!
— А что у нас там из брачного указа получилось?
— И не спрашивай! — Бектемир, смеясь, похлопал Аманлыка по плечу. — Можно сказать, большое удовольствие мы со вдовушками получили.
И Аманлык ответно ухмыльнулся себе в усы.
— Сам-то на ком-нибудь женился?
Бектемир опасливо оглянулся на своего плотника и еще тише зашептал:
— Глянь, Аманлык, на наших хозяев: твой-то толстый, как ступка, а мой словно пест. Один к другому подходит… Ну хватит, больше на них не смотри!.. У моего плотника есть, оказывается, дочка-разводка, от мужа в отцовский дом воротилась. Буду домой уходить — украду ее.
— А вы как, еще не перемигнулись? Может быть, уже того…
— Не спрашивай, друг! Целые ночи напролет с ней гуляем, тешимся, бабочка она безотказная… Кстати сказать, сам-то ты времени зря не теряй. При первой же возможности подцепи какую-нибудь. Будь хоть вдова с ребенком, бери, не отказывайся. Таков приказ Маман-бия!.. Я, брат, когда холостяком был, толком-то и не знал, что такое жизнь. Все радости жизни, оказывается, в женщине!.. Да, да.
И Аманлык, вот уже сколько лет не смеявшийся, и самодовольный Бектемир так громко расхохотались, что все посетители рыбожарки с недоумением уставились на них.
Оборвав смех, Аманлык утирал веселые слезы, катившиеся из глаз.
— А Маман-бий умишко-то этих юнцов, что в медресе пошли, сам проверил?
— А как же! Он говорит: если в чужую землю тупой каракалпак приедет, на всем народе пятно, потому что чужеземцы о людях из неведомой страны по одному, к ним пришедшему, судят. Однако среди всех ребят ни одного с Айдосом Султанбаевым равного умом не оказалось, как их Маман-бий за уши не тянул.
— А кстати, Багдагуль от Мамана родила?
— И не вспоминай, Аманлык! Какой-то подлец так ее напугал, что у нее выкидыш получился.
Боже ты мой! Будет ли конец вражде на этом свете?!
У Есенгельды-бия родился сын, и ему Маман-бий хорошее имя дал, сказал: «Имя мальчика, который родился после того, как каракалпаки объединились в низовьях Амударьи, пусть будет Ельгельды — народ пришел». Отец-то радовался, на том бии и помирились, да вот Хива все дело испортила. Приехал Есенгельды отсюда домой спесью надутый, стал опять Мамана, нашего бия, притеснять.
— Ну что за человек, как он от такой возни не устанет? Между прочим, когда я уходил, Есим-бий в Шаббаз подался. Что с ним?
— Вернулся с прибылью. Пятеро дехкан с ним приехали нам помогать, мастера — золотые руки. Они там у Есим-бия арык новый роют. Хотят земли Кара-Терена в сады превратить.
— Это хорошо! — Аманлык облегченно вздохнул, искоса поглядывая на Бектемира, и, боясь, что Бектемир уедет и потом бог весть когда свидеться доведетсяу Аманлык спросил: — А где тебя искать, коли что?
— В ауле Кенегес.
— Это каракалпакский, что ли?
— И у узбеков есть аул Кенегес, и даже род балгалы у них есть. Как это получается, не пойму! Говорят, они раньше каракалпаками были, а хан их обузбечил. Не знаю уж, так это или нет. Во всяком случае, мой плотник со мной неплохо обращается.
— Дай тебе бог, дай бог!
— Кончай, что ли, Бектемир! — крикнул хозяин.
— Слушаюсь, мастер! — Бектемир вскочил. — Прощай, мы ушли, — сказал он, пожимая руку Аманлыку.
Аманлык смотрел им вслед, пока их фигуры не растаяли в наступающих сумерках.
— Что, каракалпак, успокоилась теперь твоя душенька?
— Будто я сегодня в ауле своем побывал, хозяин!
— Ну и хорошо. Эй ты, оборванец, на тебе и убирайся! — крикнул хозяин, бросая нищему парнишке, усердно хлопочущему у очага, обгорелый кусок рыбы. И тот ушел, дуя на горячий кусок, перебрасывая его с ладони на ладонь.
С посветлевшим лицом, с легкостью в груди встал Аманлык на обычное свое место — к очагу.
14
В то время как Аманлык и Бектемир, сидя в рыбо-жарке, обменивались новостями, свирепый ураган разразился над их разоренным народом, ютившимся в дремучей чащобе камышей, среди густых испарений рыбных озер и переполненных гниющими водорослями болот.
Ураган вздымал высокие волны на тихих озерах, с корнем выдирал и уносил прочь заросли камыша…
Огромная сумрачная толпа идет, бушующим валом охватывает новую юрту Есенгельды-бия…
Слова Мамана: «Угождая одному человеку, мы сделаем своими врагами целый народ»- ведут эту толпу. «Не пойдем в нукеры!» В доме Есенгельды ищут люди неведомо куда пропавшего Мамана, и недаром.
Убедившись, что обещание, данное им Мухаммед Амин-инаху, выполнить не удастся, Есенгельды уже принял меры, тайно послал своего стремянного Дауима в Хиву с доносом на Мамана, бунт поднимающего. Дауим вернулся и привел пятерых воинов во главе с есаул-баши, принес он хозяину привет и твердое слово инаха: «Пусть уберут Мамана, отвечать буду я». Но Есенгельды-бию Маман живой, но опозоренный был дороже мертвого героя. Поэтому тайные его посланцы подстерегли Мамана, когда он в одиночку возвращался из аула Бегдуллы, связали ему руки-ноги, избили, притащили в аул Есенгельды еле живого, поставили перед хозяином.
Предупредив, что не остановится перед тем, чтобы послать душу Мамана в преисподнюю, и что отвечать на вопросы ему разрешается только одним словом «да» или «нет», торжествующий Есенгельды приступил к допросу:
— Поможешь собирать нукеров или нет?
— Нет, нет и нет! Угождая одному человеку, мы не можем превратить в своего кровного врага весь туркменский народ, — сказал Маман-бий и умолк.
Но Есенгельды не терял надежды. Маман-бия запеленали длинным волосяным арканом и, заткнув ему рот и уши, бросили в черный угол юрты.
Нарочные поскакали созывать гостей.
К вечеру начали прибывать гости. Радостные, в ожидании веселого пира переступали они порог, но, увидев вооруженных нукеров, стеной отгородивших нежилую часть большой юрты, и бледного, как мертвец, Мамана, безмолвно и недвижимо лежащего за их спиной, сникли и, тревожно кося глазами, послушно занимали места, указанные кивком подбородка Есенгельды-бия.
— Никак не выходит у меня из головы сказанное мне однажды мудрое слово Мурат-шейха, — начал Есенгельды, уголком глаза поглядывая на Мамана и давая понять, что ведет речь не от себя, а как бы от имени покойного шейха: — «Не увидя мертвой головы врага, не вспомнишь и о своей голове».
Эти слова сказаны были мудрым старцем, когда бии собрались на совете в Жанакенте и вели долгие споры — присягать русскому царю или нет. А молодые тогда Маман и Есенгельды привезли и показали собравшимся мертвую голову убитого ими джунгарского посла. Посмотрели бии на отрезанную эту голову, пощупали свои — и подписали присягу. Есенгельды сам тогда не обратил внимания на слова старика, а услышалтгх позже из уст Маман-бия. Но связанный Маман его не слышал, и обличить Есенгельды-бия во лжи было некому.
Есенгельды все крутил вокруг этих слов, а гости исподлобья глядели на Мамана, не зная, куда деться от тягостного ощущения неловкости. Напряженное это положение было прервано ураганом народного гнева, вплотную докатившегося до нарядной юрты Есенгельды. Разбушевавшаяся толпа готова была уже ринуться на юрту, ломать и рвать ее в клочья, брать за глотки сидящих внутри, как рыбу за жабры, но Бегдулла Чернобородый, шедший во главе, раскинув руки, как крылья, сделал знак остановиться.
Растерявшиеся гости в страхе выбегали из дому, но, завидев сумрачную толпу, ощетинившуюся лопатами, топорами, дрекольем, все теснее наседающую на юрту, в страхе замирали, теснясь у входа. Подняв дубинку, Бегдулла то и дело оборачивался и, коротко взмахивая руками, сдерживал людей: «Тише! Тише!»
Длинный и худой, как кишка, есаул-баши затаился за спиной Есенгельды, готовый свернуться, как кольчатый червь из сорока суставов.
— Ах, беда какая! Я-то думал, что ваш край квакающими лягушками населен, а это — настоящая нора змеиная, — трусливо бормотал он. — Спроси, спроси, что им нужно, на что жалуются?
Есенгельды, злобно взмахнув своим тяжелым, украшенным серебром поясом, шагнул за порог.
— Люди! Народ мой! Что за гвалт, что за бесчинство! Или вы, как щука, сами себя с хвоста съесть хотите?
— Маман-бий где? Жив ли? — загомонили в толпе.
— Жив, конечно. Что мы, сумасшедшие, убивать своего каракалпака, когда приказ дан население умножать! Ой, народ мой, бегаете, шумите вы понапрасну…
— Хватит! Довольно!
— Показывай нам Маман-бия, предатель!
— Давай, давай, живо!
И хотя люди все еще напирали, Есенгельды-бий успокоился: все же слушают его, стоят. Тревога его улеглась.
— Чуть потерпите, — молвил он властно. — Вы же юрту сломаете, повалите. А ведь она ваша!
— Ха! Наша юрта!
«Сломаете»! И очень просто повалим и сломаем!
— Ты что же, Есенгельды-бий, думаешь, брать джигитов в нукеры — все равно что на чистку арыков?!
— Где Маман-бий?
— Не тяни, показывай!
Чего медлите? — угрюмо молвил Бегдулла, готовый дать знак к нападению. Есенгельды встревожился.
— Эх, будь бы мой конь подо мной, уж я бы поиграл над вашими головами! — злобно шепнул есаул-баши.
Толпа, повинуясь движению руки Бегдуллы, колыхнулась.
— Люди! Народ! Послушайте-ка, Аманкул-бий вам слово скажет! — закричал Есенгельды.
— Не надо нам его!
— Не надо!
— Сам говори! Почему хочешь сделать нас кровными врагами туркменов? Сам отвечай!
— Ты думаешь, людей убивать — что сено косить?
— Ну, сам, ну, сам, ладно! — заторопился Есенгельды, понимая, что говорить все-таки придется. — Слушайте!
И он шагнул вперед, рванул халат на груди, взбираясь на каменную ступу, опрокинутую перед юртой.
— Сперва о Мамане-урусе вам скажу. Не верьте ему, он вас обманывает. Эти его слова, будто мы превращаем в кровного врага весь туркменский народ, только красивая тряпка, которая камень у него за пазухой прикрывает! Сам-то Маман предал нас русским да еще тянет к казахам, нас дотла разорившим. Хочет опять на ваши головы камни сыпать! Все наше спасение Мухаммед Амин-инах. Если он на трон сядет, будем и мы настоящими людьми! А теперь Аманкул-бия послушайте!
— Народ! — И Аманкул-бий тоже полез на ступу. — Птица счастья одна на весь народ дается. Пусть Маман-бий пальцы кусает, отпугнул он ее от себя, отлетела от него птица счастья, Есенгельды-бию на голову села, на его высокую шапку-шогирме. Маман искал гнездо птицы счастья во дворце русского царя, не нашел, только народ разорил, а Есенгельды-бий поближе его нашел — в Хиве. Гаип-бахадур, а ты что скажешь?
— Мое слово все то же, что я и вам сказал. Слушайте, люди! Прежде чем чужих детей плакать заставлять, своим в глаза загляните. Подумайте, из-за прихоти ина-ха хотим мы туркменских детей обидеть! А они-то согласятся терпеть, что ли? Нет, они наших горько плакать заставят! Вот вам и все мое слово!
— Правильное слово! Теперь Маман-бия нам покажите! — требовали из толпы.
Тем временем Есенгельды под шумок приказал своим присным потихоньку развязать Маман-бия, привести в пристойный вид и показать народу.
— Народ мой! Сейчас Мамана приведут! — провозгласил он. — А пока Курбанбай-бий нам свое слово скажет!
Курбанбай-бий покраснел и застеснялся, опасаясь, что вот ему перед таким множеством людей «посоветуйся с мамой» скажут. Но дома он, конечно, успел с ней посоветоваться, — Шарипа с детства его к этому приучила, — а так как у Шарипы все еще был зуб на Мамана, то ли потому, что не прошла ее женская обида, то ли потому, что была согласна с путем, избранным Есенгельды, Курбанбай-бий был ею настроен воинственно.
Куда мой народ повернет, — важно сказал Курбанбай, — туда и я. А Маман-бий пусть перестанет против нас камень за пазухой прятать!
— Вылитый отец! Молодец! — тихонько шепнул ему Есенгельды и обратился к есаул-баши:-Теперь ты говори!
И в этот момент из юрты показался Маман-бий. Голова у него кружилась от голода и побоев, шагнув за порог, он чуть не упал и, шатаясь, прислонился спиной к войлочной стенке. Толпа придвинулась, ожидая, что он будет говорить, но он стоял среди людей Есенгельды и молчал. А заговорил хивинский есаул-баши:
— Я вам привез привет из Хивы, но вы встретили гостя не очень-то дружелюбно. Но я на вас не обижаюсь. Мухаммед Амин-инах сказал, что вы дружный боевой народ. И верно, вот и сегодня порадовали вы нас своим единством. Если вы так же дружно поможете очистить хивинский дворец от врагов, то и ваши дела пойдут на лад, и к нам счастье придет.
А теперь хотите знать правду про своего Маман-уруса? Мы в Хиве не хуже вас знаем этого предателя. Ну что он вам дал? Беду да разорение! Сколько вы из-за его лживых посулов страдали-мучились, с родной земли кочевали! А он вам какой-то «бумагой великой надежды» голову морочил. Да он бумаги этой и в глаза не видел, и в руках не держал! Тогда он, из Петербурга возвращаясь, сам товарищей своих по дороге убил, а землю вашу продал не русским, а казахам. Сами помните, как он вас, бедных, обманом помогать Абулхаиру-злодею заставил! Уж не буду говорить о последствиях… Какой бы ни был, но царь есть всегда царь и свое царское слово держит. Была бы у Мамана эта самая бумага, не пришлось бы вам так мытариться. Вот наш Мухаммед Амин-инах не только на бумаге писанное, но и из уст своих данное обещание на ветер не бросает. А Есенгельды-бий ваш — великодушный, добрый человек, другой бы этого Мамана вам на растерзание отдал либо сам убил бы. Не слушайте Мамана, лживым словам его не верьте!
Многие из тех, кто только что стеной стояли вокруг юрты, готовясь обрушить на нее свой праведный гнев, теперь стали остывать, затылки почесывать, не находя слов в защиту Мамана.
Тяжело было все это Маману, который только-только приходил в себя. Оттесненный назад свитой Есенгель-ды, он, никого не прерывая, ждал, чем дело кончится. Наконец, видя, что никто и не думает дать ему слово, он, осторожно ступая ноющими ослабевшими ногами, вышел вперед.
— Народ мой, ты пришел искать меня? Земно кланяюсь тебе! Спасибо. Пусть это будет началом собирания сил наших воедино. А теперь хорошенько поглядите на этого продажного человека! — молвил он, гневно указывая пальцем на Есенгельды. — Эй, Есенгельды-бий, берегись: хану продавшись, с ханской хитростью к народу не подходи! Чтобы белую юрту свою возвысить, даешь ты Мухаммед Амин-инаху пятьсот нукеров на убой. Подумай хорошенько. Хоть и сделаешь хана хивинского покровителем дома своего, но воздвигнешь против нас весь народ туркменский. Не бросай свой народ между двумя огнями. Не терзай его из-за своей алчности! — Маман почувствовал, что разгорячился, понизил голос, опустил руку. Заговорил спокойнее:- Народ мой, люди, не подозревайте меня в измене. Рано или поздно найдется «бумага великой надежды». Мы найдем. Прошу я вас, бросим раздоры, вздохнем свободно в душном нашем краю, давайте дружно трудиться! Дайте срок, я снова поеду в страну русских! Всего добьюсь…
Ты, урус-бий, забудешь ли наконец эту свою страну русских! — крикнул Есенгельды-бий.
Рыбак, голый до пояса, в одних штанах, подпоясанный веревкой из куги, с телом, блестящим и темным, как чешуя высохшего на солнце сазана, вышел из толпы, снял свою черную шапку.
— Смотрите на нее! — сказал он и помахал шапкой. — Это шапка скорби. С ней мы народом стали, от нее имя свое получили. Люди, что с вами случилось? Эй, бии-старейшины, что с вами? Есенгельды-бий, к тебе мое слово: хоть и бросил ты шапку скорби, надел на голову хивинскую меховую шегирме, но ведь не скроешь, что деды твои носили каракалпак и каракалпаками именовались! Забудется ли, что надевали черную шапку со слезами? Ну, ладно, бросим мы все свой каракалпак, шегирме напялим, а скорбь да печаль наша с нами останутся! Верили мы, люди, Маману, давайте попробуем и Есенгельды поверить! Ну уж если он нас обманет, не пощадим, набьем его шкуру мякиной. Как смотрите? — сказал он и повернулся к толпе. — Не забывайте, люди, что деды наши клялись с русскими на хлебе. А раз русские хлеба этого не оправдали, доколе будем мы за ними гоняться? Найдутся у них хорошие люди — сами нас найдут, а мы от слова своего не откажемся. А если не найдут, если обмануты мы будем и Хивой, что же, — одни как-нибудь справимся. Нурабулла, друг мой, что скажешь? Я готов хоть и в нукеры пойти!
Будет воля народа, и я своих двух жен на спину взвалю да пойду! — ответил Нурабулла для себя самого неожиданно.
— Ладное слово сказано! — возликовал Есенгельды, быстро взгромоздясь на ступу. — Уж на этот раз прости нам свою обиду, народ мой! Расходитесь, люди, с миром!
Толпа дрогнула и стала таять, как весенняя льдина.
— О-о-о, народ мой! — воскликнул Маман. — Не верьте Есенгельды, люди! Ведь он поклялся не плевать против ветра. Сейчас он вас боится, потому и такой добренький стал. А сядет он со своими нукерами на коней, меч заиграет над вашими головами! Уведите их коней!
Уводите, уводите! — вкрадчиво молвил Есенгельды. — Правда, учтивые люди гостей своих не позорят. Моих коней берите, лишь бы их кони остались. Станьте нукерами инаха, я и вас сам на коней посажу! Уводите. Люди снова заколебались, но большинство молча и тихо повернуло назад, к юрте.
— Приведите коня уруса! — крикнул Есенгельды. — Пусть уходит!
Конюх побежал в загон и вывел под уздцы белого коня Маман-бия. Маман с трудом поднялся в седло. Толпа, пришедшая освободить Мамана, теперь разбрелась поодиночке, как стадо, впервые выпущенное на волю весной, разбредается в поисках свежей травки. Только Бегдулла Чернобородый со своими людьми остались сопровождать Мамана.
Грозная сила, способная перевернуть вверх дном прославленную юрту бия, таяла, таяла, а вскоре и вовсе рассеялась бесследно, как сон.
— Ну, преславный бий, что теперь будем делать? — Железные пальцы есаул-баши сжимали плечо Есенгельды.
-. Отдыхать будем.
Нет, отдыхать сейчас не время. Пока они там ползают, как слепые щенки, надо сесть на коней да проучить их как следует! Завтра уже поздно будет: опомнятся — рычать будут.
Предложение это показалось Есенгельды весьма соблазнительным, но, подумав, прикинув, что из этого получится, он вскинул голову и решительно сказал:
— Потерпи, лев мой, потерпи малость, много еще у нас впереди крутых перевалов. Только что Маман-урус им сказал: «Если сядут они на коней, меч заиграет у вас над головами». Оправдаются эти его слова — народ опять валом за ним повалит. Потерпи!
Так-то так, да раненый волк, говорят, сам на человека кидается!
— Куда ему! Все ребра у него поломаны, еле живой уполз!
Тебе виднее, мудрый бий!
Не могли сегодня бии-старейшины спокойно насладиться обильным хозяйским угощением и теперь с легким сердцем гурьбой двинулись назад, в юрту.
Казалось им, дело на мази, и пошел у них оживленный разговор о наглых бесчинствах ничтожных голодранцев, о мудрости почтенного Есенгельды и воинской доблести хивинского есаул-баши, о том, как поскорей собрать нукеров для его светлости Мухаммед Амин-инаха.
* * *
По обоим берегам нового арыка, проведенного Есим-бием и дехканами к югу от Кара-Терена, зеленым туманом поднялись дремучие заросли конопли. Уже издали щекочет ноздри всадника маслянистый ее запах. Маман-бий, привыкший к сырости заросших камышом рыбных озер, то и дело чихает и, блаженно щурясь, сам себе говорит «будь здоров!». После тяжкой обиды и гнева здесь, на воле, сердцу его все кругом, даже сытный запах конопли, кажется приятным, и он поднимает в галоп медленно и скучно шагавшего коня.
Издали завидев Есим-бия и Кудайбергена, обходивших поля уже заколосившейся джугары, Маман, из уважения к труду дехкан, слез с коня и учтиво поздоровался.
— Спасибо вам, родные, принесли вы сытость нашему роду. Однако… — и, не договорив, стал следить глазами за тем, куда смотрел Кудайберген. А тот, приподняв голову, любовался своими посевами.
— Мы узбеки, Маман-бий, — заговорил Кудайберген, не отрывая взгляда от своего поля, — но не думайте, что мы на вас в обиде из-за нукеров Амин-инаха. Мы дехкане, а у всех дехкан и мысли, и судьба одна, и у нас душа лежит к вам, как и у Бегдуллы Чернобородого. Нам была бы земля, вода и солнце, больше ничего не надо, а им, важным господам Амин-инаха, — он быстро прикрыл ладонью овода, севшего на щеку Мамана, и, раздавив кровососа в кулаке, раскрыл перед бием ладонь, запачканную кровью. — Видите, что это? Нет на этом свете такого существа, которое не хотело бы сосать сладкую кровь человеческую. Даже сам человек жаждет крови. А у нас, дехкан, тоже кровь добрая. Вот и сосут нашу дехканскую кровь высокие хозяева наши. Надо терпеть, мудрый бий. Человек для того и создан, чтобы терпеть.
«Человек создан, чтобы терпеть», — раздумчиво повторил Маман-бий. — Хорошо вы сказали — одна судьба у тех, у кого кровь добрая. Кто и когда защитит их от кровопийц? Идемте поговорим, — предложил Маман.
— Идемте, — сказал Есим-бий и повел их к себе в аул.
15
Хозяин рыбожарки оказался человеком обходительным. Он перед Аманлыком нос не задирал, даже иногда приходил к нему по утрам вместе позавтракать. Увидев, что хлев, пожалованный Аманлыку с его ослом, превращен в человеческое жилье, стал время от времени давать своим постояльцам две-три охапки просяной соломы: мол, освежи подстилку. Утром обязательно спросит: хорошо ли выспался? И хотя частенько всю бесконечно длинную ночь, дрожа от холода или тоскуя по сыну, по друзьям-товарищам, мертвым и живым, Аманлык и глаз не смыкал, он неизменно отвечал: «Хорошо»- и, ободренный хозяйской заботой, работал еще усерднее.
— А ты слыхал, каракалпак, — спросил однажды хозяин между делом, — народ твой по приказу Мухаммед Амин-инаха с туркменами воюет?
— Как это воюет?
Потешаясь над Аманлыком, хозяин захихикал, жирное брюхо его затряслось, как студень.
— А очень просто: выгнали туркменских советников из ханского дворца, теперь и все ханство надо от них очистить.
Не зная, радоваться или огорчаться, Аманлык спросил, насторожившись:
— А кому от того польза, кому вред? Хозяин снова зашелся смехом:
— Не знаешь, не знаешь! Вот невежда! — всхлипывал он, давясь слюной. — Вам польза, вам. Благочестивый Мухаммед Амин-инах богу помолился, и на его голову птица счастья села. Он и пожелал прикрыть вас, каракалпаков, полой халата мудрости своей. Вот и я пожертвовал на его нукеров годовую прибыль от своей рыбожарки, потому не смог до сих пор вам с ослом за труд заплатить. Но зато я тебя не выдал, не сказал, что\ мой работник каракалпак. А то тебя тоже в нукеры за-j брали бы.
— Надо было сказать. Я ведь раньше был нукером. Видели вы у меня меч? Мне его Оразан-батыр, отец нашего большого бия Мамана, подарил.
— Вашего так называемого бия Мамана Мухаммед Амин-инах терпеть не может. Без него Есенгельды-бий кунградский, Аманкул-бий кенегесский, Курбанбай-бий ктайский да Гаип-бахадур пятьсот нукеров в Хиву пригнали. Знаешь их?
— Знаю.
— Ну, если знаешь, моли бога, чтобы инах ваш вступил на престол.
С того дня лишился Аманлык покоя, все думал: идти ему искать каракалпакских нукеров или нет? И совсем было решился уходить из рыбожарки, да выпал ему такой случай, что вербоваться в нукеры не пришлось.
Чуть свет, как поднимется дым над рыбожаркой, словно из-под земли вылезают голодные сироты в прокопченных лохмотьях, тянутся на помойку, и рычание бродячих псов возвещает о том, что уже началась грызня из-за отбросов. К этому все привыкли, и никто не обращает внимания на несчастных ребят. Аманлык никогда не скажет псу «пошел», а сиротам «вон отсюда». Они напоминают ему собственное голодное детство, и он шутит с ними, кого отечески щелкнет по голому пузу, кого пощекочет, — ребятишки хохочут, и Аманлык с ними. Но если хозяин придет и сам их прогонит, Аманлык не вмешивается, никогда не заступается за сирот, как мухи облепивших помойку, — глаза его привыкли к этому зрелищу, да и знает Аманлык, что никому не в силах помочь по-настоящему…
В тот день, хоть и солнечно было, холод не смягчился и к полудню, с утра дул пронзительный, студеный ветер. Лицо у Аманлыка пылало от жара очага, а спину пробирала дрожь. Чтобы согреться, он вышел нарубить хвороста и увидел на помойке женскую фигуру, такую худую, что казалась она составленной из сухих, вот-вот готовых рассыпаться палочек, — не человек, а скелет. Аманлык с охапкой хвороста в руках остолбенел от страха: скелет двигался! Вот, оказывается, до чего может дойти человек! Как же эта женщина на ногах держится?! Глаза, неподвижные, мертвые, блестели, как белые бусы на дне глубокого колодца, волосы свалялись, как овечья шерсть, лицо в грязи, будто нищенку только что подняли из могилы и пустили по миру бродить. Кончик носа у нее словно бы срезан. Пожелтевшее бязевое платье и грязный халат изорваны в клочья, тело сквозит в прорехи, будто наряжена она в рыболовную сеть. Если бы несчастная не шевелилась, можно было бы усомниться, что она жива…
Но вот женщина наклонилась, выхватила какой-то отброс из-под носа собаки, положила в рот, но, не в силах прожевать, выплюнула. В этот момент на пороге показался хозяин рыбожарки. Повернув тощую, как прутик, шею, женщина протянула к нему обе руки. Он ее не заметил, и она бессильно их опустила. Это безжизненное тело сначала показалось Аманлыку отвратительным, но постепенно в нем пробудилась жалость, и он сунул в руку попрошайки припасенный было для себя кусок рыбы. Женщина тихонько положила его в рот, но разжевать, видно, опять не хватило сил, и она, вытягивая шею, задыхаясь, как птица, схватившая чет ресчур крупную добычу, с трудом проглотила его и снова протянула руку. И тут ее увидел хозяин.
— О-ой, эта, оказывается, еще жива, — равнодушно протянул он, как будто речь шла не о человеке, а о собаке. — С прошлого года не показывалась, думал, уж давно померла. Вот поди ж ты, самые дорогие нам люди умирают, а ее ни мороз, ни жара, когда в голове будто медь плавится, не берет. Живучая какая!
Женщина то ли не слышала, то ли не поняла. Обычно нищие просят, умоляют, плачут, а эта стоит тихо и молчит. Хозяин взял со сковородки головку леща, кипевшего в масле, и бросил ей
— Вон отсюда!
Женщина медленно повернулась, засеменила муравьиным шагом и снова остановилась.
— Следи, чтобы больше сюда не ходила. Видал, голая как есть! Людям смотреть на нее тошно. Пропади она пропадом, чтоб ее нечистая сила задавила! Как появится, так непременно либо день холодный будет, либо гость к нам не идет!
На всей фигуре этой женщины с протянутыми руками лежала печать вечной приниженности, робости и печали. Иссохшие ее пальцы с отросшими черными ногтями напоминают птичьи лапки; смирная, беспомощная, ветром ее качает.
Слезы жалости выступили на глазах Аманлыка, он стоял в нерешительности, а между тем кто-то из посетителей крикнул:
— Эй, хозяин, нам уходить или бесстыжая эта тварь уйдет?
Хозяин, целиком поглощенный своим поварским делом, вскочил и, подойдя к нищенке, приложил горячую шумовку к ее протянутой ладони.
— Me, ме, ме! — залепетала несчастная, отступая назад, и пошла было прочь, но упала.
— Тащи ее отсюда и брось куда-нибудь подальше! — распорядился хозяин.
Аманлык подбежал к женщине и увидел, что она лежит, прижав к губам обожженную ладонь, а из глаз ее льются слезы. Он не понял сразу, что она делает, показалось — слизывает с руки остатки пищи. Аманлык попросил у хозяина еще головку сазана и положил ее в руку попрошайки, но она, видимо думая, что это опять шумовка, отдернула ладонь, и жареная головка упала на землю. Увидав, что перед ней валяется что-то съестное, она, с трудом приподнявшись на локтях, бросилась на головку всем телом и, лежа, с хрустом впилась в нее зубами.
— Эй, каракалпак, чего стоишь? Тащи ее быстрее, да подальше!
Аманлык приподнял женщину под мышки, но она не могла стоять и всей тяжестью повисла у него на руках. Он вывел ее на улицу и отпустил, но женщина тут же свалилась ничком на дорогу. Аманлык хотел было уйти, оглянулся, и сердце его дрогнуло: она лежала лицом в землю и пыль набилась ей в рот.
Он вернулся, снова поднял ее, подтащив к старому заброшенному дому, посадил, прислонив спиной к стене, и убежал, закрывая лицо рукой, чтобы не видеть, как она там сидит, — сердце у него разрывалось.
Огонь в очаге угасал, Аманлык, поспешно раздувая пламя, немного забылся.
Пока рыбожарка не закрылась, ему не удалось сбегать посмотреть, что сталось с женщиной. Но вечером, кончив топить и засыпав тлеющие угли золой, он побежал взглянуть, ушла ли она. Оказалось, что женщина сидит все так же, как он ее усадил, только, боясь, видимо, упасть, опирается о землю обеими руками. Аманлык, поняв, что у нее нет сил подняться, наклонился, всматриваясь в ее лицо.
Что же ты так сидишь? Где ты живешь? Куда идешь?
Женщина молчала.
— Не слышишь, что ли?
Будто испугавшись, что Аманлык уйдет, женщина подняла правую руку. У Аманлыка было с собой немного рыбы на ужин, и он положил кусок на ладонь. Женщина сидела неподвижно с протянутой ладонью. «Уж не умирает ли?»- подумал Аманлык. Он взял ее протянутую руку, и она, ухватившись за него, попыталась встать, но не смогла. Поняв, что она уже не просит еды, Аманлык осторожно поднял ее и, подставив плечо, потихоньку повел к себе.
Дома ему не с кем было словом перекинуться. Приходя с работы, он либо потихоньку напевал себе под нос, либо лежал, вспоминая прошедшее, и слезы лились из его глаз. Он знал, конечно, что с появлением этой несчастной, быть может, помешанной женщины, не понимающей даже, что надо прикрывать свое тело, жизнь его станет труднее, но он ни о чем не жалел.
«Кто много плачет, у того рот кривой, — думал он. — Кто знает, какой она была прежде? Наверное, жалкий листок, вихрем времени от родной ветки оторванный, затоптанный неправедной жизнью проклятой этой Хивы. Может быть, и обезумела она, но ведь бывает же, что человек выздоравливает!»
Аманлык привел женщину к себе, уложил на свою постель. Когда утром она проснулась, напоил чаем и, уходя на работу, оставил лежать.
С заходом солнца поспешил домой, — она неподвижно лежала на том же месте. Аманлык разбудил ее, снял с нее пыльные лохмотья, встряхнул их над огнем и снова одел женщину, — она оставалась немой и неподвижной. Долго не могла она прийти в себя.
Дадут ей есть — ест, нет — не просит. Уложат — лежит, посадят, засунув свернутое одеяло за спину, — сидит, опираясь на расставленные в стороны руки… В каком человеческом законе сказано, что такую бедняжку можно на улицу выбросить? Хоть и много забот стало у Аманлыка, но он от души ходил за больной, делил с ней кров и пищу.
И женщина стала оживать.
— Как тебя зовут? — спросил ее однажды Аманлык. В ответ из глаз несчастной потоком хлынули слезы, и он дал себе слово никогда больше ни о чем ее не спрашивать. «Кто знает, какие беды довелось ей пережить? Может, ей и вспоминать-то о них горестно! Ну и пусть забудет обо всем, пусть не вспоминает! А может, и косноязычия своего стесняется… Наверное, она такой же несчастный человек, как я. Конечно, если я буду настаивать, она в конце концов что-нибудь да расскажет, но станет ли ей от этого легче?.. Да никогда!»
— Наверное, тебя зовут Каракоз, черноглазая? — сказал однажды Аманлык, желая ее подбодрить.
Взгляд женщины немного смягчился, но потом она вдруг застыдилась и прикрыла рукой свое изуродованное лицо.
— Да, ты и есть Каракоз. Я так и буду теперь тебя звать: Каракоз!
Женщина отвела глаза, безразлично кивнула головой.
Аманлык выпросил у жены хозяина старое платье и нарядил в него Каракоз. Постепенно она приобретала человеческий облик, стала лучше есть, немного даже пополнела. Сама не говорит, но что ей говорят — слышит, что велят — делает. А Аманлык об одном заботится: ничем ее не потревожить.
Ближе к весне она уже могла поставить на огонь кувшин с водой, вскипятить чай к приходу Амаилыка. Иногда она приходила за ним к рыбожарке, чтобы вместе идти в лес за дровами.
То ли она к нему привязалась, то ли была благодарна, что избавил ее от собачьей жизни, но, пока он не заснет, сама спать не ложилась. Сядет около его постели. Он дремлет тихонько, а она с легким нажимом поглаживает ему шею, плечи, ноги, — нет такой частицы на его теле, какой не коснулась бы ее рука. Аманлык давно уже забыл о женской ласке, но руки ее были такими приятными, что он засыпал в блаженной истоме, благодарно шепча: «Спасибо тебе, Каракоз милая, спасибо!»
Постепенно Аманлык так привык к ее нежным рукам, что с нетерпением ждал конца работы, чтобы скорее бежать домой.
Это страстное его стремление согревало их охладевшие было сердца. В одну из теплых весенних ночей Аманлык, сказав про себя: «Прости меня, боже, если, лаская эту женщину, я нарушаю ее брачный обет», заключил Каракоз в свои жаркие объятия.
Наутро они встали, с трудом преодолевая дремоту, смущаясь и посмеиваясь, сели поесть.
16
Тщетными оказались все попытки сопротивляться в посылке пятисот нукеров на войну, все старания Маман-бия защитить народ от новой беды. Из Хивы прибыли уже двадцать до зубов вооруженных воинов.
В аулах поднялись вопли и рыдания, народ толпился на улицах, слышались гневные выкрики, люди перебегали из дома в дом, суетились, грозили, просили пощады, — ничто не помогло, требуемые пятьсот нукеров были собраны. Противники войны отступились.
Даже Есим-бий, который, договорившись со своими дехканами, обещал Маману поддержку, благоразумно сказал:
— Маман, если мы будем упорствовать, как бы народ наш оттого не пострадал. И ты тоже смирись, потерпи, подумай. — И собрал для Мухаммед Амин-инаха заранее определенное количество джигитов своего племени. В противном случае власти грозились отобрать посевные земли.
Маман-бий потерпел поражение. Мир показался ему теперь душным и тесным, как тропинка, только что проложенная сквозь дремучую чащу камышей. Желая посоветоваться с другом, он поехал к Мырзабек-бию на Казахдарью. Мырзабек, оказывается, был в отъезде, на родине. На обратном пути Маман завернул на Жана-дарью, в аул Убайдулла-бия. Старик был настроен благодушно, воздвиг городок для сына своего, Орын-бая, пригласил муллу из Бухары. Разговор о присоединении к русским, затеянный Маман-бием, одним словом прекратил: «Однако пока подождать придется». А когда зашла речь о своевольных действиях Есенгельды-бия, Убайдулла степенно разгладил длинную седую свою бороду и молвил уклончиво:
— Всякое дело конец венчает, мудрый бий, посмотрим, что у Есенгельды получится. Муж, о народе своем пекущийся, не станет раздора между людьми сеять. Правильно ты сделал, что прекратил сопротивление. Если мы и не поняли человека поначалу, попробуем теперь ему довериться. Есенгельды-бий тоже, надо думать, благом народным озабочен, не станет же он свой сан позорить!
Путались мысли в голове Маман-бия, что и делать теперь, не знал. Решил опять скакать в аул Мырзабека, — может быть, он вернулся? Оказалось, что и вправду Мырзабек только что приехал. Друзья встретились с распростертыми объятиями. Расспрашивая друг друга о делах и здоровье, забыли свою усталость. Мырзабек-бий был и у Седет-керея, пригнал от него скот, каракалпакам в дар, а сверх того двух коров и быка лично Маману.
Поделился Маман-бий с Мырзабеком и своими сомнениями, тревогой о том, что с народом происходит. Мырзабек-бий, как и Убайдулла, Есенгельды-бия не осуждал.
— Есенгельды-бий твой, думается мне, человек скрытный, но толковый. Если Мухаммед Амин-инах предоставит ему свободу действий, глядишь, и окажется он народу полезным. Может быть, и «бумагу великой надежды» поможет найти, а то так и в Петербург тебя снарядит. Может, до поры не оглашая, добрые мысли свои он про себя таит. Жди! Если потомки окажутся верными заветам предков, все к лучшему пойдет. Есенгельды-бий, может, так и задумал. Жди, дорогой мой, жди!
Распахнулась душа Мамана, переполненная благодарностью другу:
— Будет окончание дела добрым — поровну поделимся.
— И плохим — тоже поровну, — сказал Мырзабек. Раскрыв друг другу все думы свои без утайки, бии
больше о спорных делах не говорили. Порадовались тому, что природа этих мест от побережья Сырдарьи выгодно отличается, — здесь и дехканину и рыбаку удобно. Хвалили новое свое местожительство за то, что и русских, и казахов, и узбеков, и туркменов, и каракалпаков как бы в один узел связывает. Благодарили слепого бога, который от веку гнал каракалпаков с обжитых земель, а теперь чуть приоткрыл глаза и даровал им этот край камышей, где все четыре времени года равную долю имеют и людям блага свои приносят.
Три ночи переночевал Маман-бий в гостеприимном ауле Мырзабек-бия и уехал из щедрого этого аула, гоня перед собой небольшое стадо скота.
* * *
— Маман-бий! Суюнши! Суюнши! Добрая весть: Мухаммед Амин-инах ханом хивинским стал!
Стосковавшемуся по своим сородичам в отъезде, бию так хотелось, вернувшись, увидеть народ в радости и довольстве, что новость эта показалась ему неплохой. Бегущему с доброй вестью навстречу — тому самому голому рыбаку, у которого не было ничего, кроме штанов, подпоясанных веревкой, Маман от души подарил телку-однолетку, отбив ее от маленького своего стада.
— Держи эту вот, красную! Что, Есенгельды-бий приехал?
— Нет еще. Нукеры начали возвращаться. Прыгая на радостях и за уши таща дареную телку, голый рыбак побежал к аулу, вопя во весь голос:
— Люди, радуйтесь! Маман-бий тоже радуется, радуйтесь! Хивинский хан-то ведь наш теперь, каракалпак. Маман-бий радуется, радуйтесь!
Маман-бий скорбно покачал головой: «Бедный человек, голый, а радуется…» И тихонько поехал следом, чтобы оставить у него до завтрашнего дня весь скот под присмотром. Уже вечерело, и гнать ночью скот в одиночку Маман не решался.
Когда уже в глубоких сумерках Маман ехал берегом Кок-Узяка мимо аула Бегдуллы Чернобородого, услышал бий горестные вопли и причитания. Сильный голос какой-то молодухи вырвался из общего хора плачущих: «Ух, супруг мой ненаглядный, мудрым бием данный мне супруг! Ушел ты, потомков своих не увидя, супруг мой милый!»
— Не плачь, сноха, — старческий голос дрожал, срывался. — Будь благодарна, что остался его наследник — родная кровиночка, завтрашний день наш. Что бы сталось с нами, кабы ушел он из жизни бездетным, как тополь без ветвей. Далеко видел мудрец наш Маман-бий бедный. Не плачь, помолимся за ушедшего.
Маман-бий придержал коня, прислушался: «Где война, там и смерть. Кто же это погиб?..» И тихонько поехал прочь. На другом конце аула грянул ему навстречу дружный хохот. И Маман снова натянул поводья, прислушался.
— Чтобы уцелеть на войне, надо героем быть. Вот я: скачет на меня огромного роста йомуд, конь под ним так и играет. Трусы как мухи перед ним разлетелись, а я стою, гляжу на него в упор. Как он со мной поравнялся — раз! Подцепил его пикой, поднял вверх, как сазана на остроге, и трах оземь, только белая его шапка мохнатая в воздухе мелькнула! — упоенно врал веселый молодой голос.
Раскат веселого хохота, возгласы: клянусь твоей силой!.. Аи да джигит! Здоровья тебе, батыр! И снова тот же голос:
— Кто спереди — заколол, кто сзади — дубиной по башке… бью, колю, бью, колю! Ха-ха-ха-ха!
Дрожь сотрясала могучее тело бия, словно болотная лихорадка. Сколько раз все это он видел и слышал, но каждый раз скорбь сжимала сердце.
«В одном доме — слезы, в другом — смех… Проклятый мир. Одного обрадуешь — другой заплачет…» В печальных этих раздумьях Маман и не заметил, как приблизился к своему дому. Выбежавшая из юрты на стук копыт Багдагуль и в темноте узнала мужа.
Что это ты едешь и сам с собой разговариваешь, господин мой, сегодня разве узнал, что человек человека плакать заставляет. Слезай с коня, господин мой! — И она, взяв коня под уздцы, придержала стремя. — Мир уж так устроен: сейчас светло, а потом темно, и снова будет светло… Пусть бог ничего не дает бедняку, лишь бы возвращал его домой живым-здоровым, и это великая милость божья.
17
Ранним утром Аманлык и Каракоз везли дрова из лесу. Их обогнал какой-то всадник на сивом коне, во весь голос провозглашая: «Да будет ведомо всем — настало время новой власти, Мухаммед Амин-инах воссел на ханский трон!»
— Каракоз, ты гони осла потихоньку, а я побегу — хозяина обрадую! — И он побежал что есть силы, спеша сообщить хозяину новость раньше глашатая. И недаром старался: пока всадник на сивом коне задержался с какими-то стороной идущими путниками, Аманлык уже влетел во двор, едва касаясь ногами земли.
— Суюнши, хозяин, добрая весть! Власть в Хиве перешла к инаху, к тому самому, хозяин, о котором мы говорили!
Тот в это время отпирал замок на двери рыбожарки, обернулся, насупив брови, глянул на Аманлыка, — что это он бежит, как мальчишка, а осел где, а дрова? Но, увидев, что работник растерялся, ухмыльнулся.
— Добрую весть ты принес, каракалпак, однако все равно я буду жарить рыбу, а ты — очаг топить! Дрова твои где?
Аманлык стоял, запыхавшись, мокрый, точно из проруби вылез, и, утирая потное лицо, не знал, куда теперь идти: на свое место, к очагу, или назад, к лесу.
А хозяин тем временем одумался, понял, что хватил лишку, обидел безответного каракалпака, а ведь ихнее время теперь пришло! И он, открыв двери, обернулся:
— Что инах ваш к власти пришел — наше счастье, каракалпак. Молодец ты, настоящий джигит! Пусть сегодня на твое место к очагу жена встанет, а ты поди в Хиву, прогуляйся. Может, новости какие от своих услышишь, нам расскажешь. Иди повеселись!
* * *
Матьякуб-шарбакши, как обычно, оказался у ворот своего постоялого двора.
— Проходи, Аманлык, проходи! Далеко, что ли, живешь, показываешься редко, как сизоворонок! Оба тут же обменялись новостями, все равно — Мухаммед Амин-инах у власти.
— Сейчас в Хиве только и шумят о каракалпаках, — добавил Матьякуб. — Ваш Есенгельды-бий получил от нового хана высокое звание мехрема. — И с гордостью рассказал, что именно в его дворе закатил по этому поводу каракалпакский бий пир, а на пире том пол-Хивы побывало. И, рассказывая, как все происходило, шар-бакши все время приговаривал:-А Есенгельды-мех-рем, оказывается, щедрый! Хан имел беседу и с твоим земляком, юношей Айдосом, — из всех молодых каракалпакских мулл его одного отличил. Айдосом вся Хива восхищается!..
Эта весть привела Аманлыка в восторг.
— Скажите, Матьякуб-ага, а повидаться с Айдосом можно?
— Кстати сказать, он сам спрашивал меня, не приезжал ли в Хиву кто-нибудь из каракалпаков? И вот что ты будешь делать, забыл о тебе сказать! Если еще раз придет — обязательно скажу. Ты где живешь? Когда еще приедешь меня проведать? — Взглянув на солнце, сказал, что сейчас как раз молодые муллы с обеда в медресе пойдут, и указал, на какой улице можно их встретить.
Выйдя из затененного высокими домами переулка на светлую улицу, Аманлык увидел высокого, богато одетого юношу в легком халате, ичигах с кожаными калошами, в красивой, искусно намотанной чалме, напоминающей белую луковицу со снятой кожурой. У юноши было чистое приятное лицо с нежным румянцем, пристально глядящими глазами и крупным, упрямым ртом. За пазухой у него засунуты книги. Он шел солнечной стороной, слегка склонив голову набок. Аманлыку показалось, что он видел этого юношу где-то, но никак не мог вспомнить, где и когда. Не решаясь крикнуть: «Эй, братец, погоди!» — Аманлык издали шел за ним, размышляя о том, чей это сын: какого-нибудь мехрема, визиря, а может быть, и самого хана? Но походка его и то, как скромно он держался, напоминала каракалпакских мальчиков из хороших семей.
Юноша шел потупившись, словно обдумывая что-то важное, наверное, суры Корана! — почтительно подумал Аманлык. Улица, прохожие, высокие купола и минареты его, видимо, не интересовали. А что, если его остановить? Спросить: «Не знаете ли вы Айдоса?» А если он сам и есть Айдос? И Аманлык не ошибся. За его спиной послышались веселые голоса, его обогнала гурьба нарядных мальчиков, спешивших вслед за высоким юношей.
— О чем задумался, Айдос? — крикнул один, его догоняя.
— Айдос! — воскликнул Аманлык с такой радостью, будто после долгой разлуки встретил родного сына.
Мальчики остановились и вежливо поздоровались. Слезы поступили к глазам Аманлыка, и он немо глядел на Айдоса, не в силах вымолвить слово.
— Вы, Кабул, идите вперед, не задерживайтесь, а то как бы учитель не обиделся! — сказал Айдос и обернулся к Аманлыку.
Они познакомились.
— Слышал о вас. Вы давно из Бухары? — спросил юноша.
И Аманлык коротко рассказал, как ездил в Бухару, как узнал, что Алмагуль в Хиве, а, приехав сюда, услыхал, что она умерла. Рассказал, и чем сейчас занимается.
Чистый лоб Айдоса слегка нахмурился, — мальчик жалел Аманлыка.
— Да, — по-взрослому веско молвил он. — От судьбы не уйдешь. Жаль, что человек родится, живет, стремится все увидеть, узнать, и вдруг — смерть…
— Я вас не задерживаю, милый? — забеспокоился Аманлык.
— Нет, нет, они там скажут. Сегодня занятий нет. Ребята пошли к мулле на его участке землю рыхлить под посев.
— Скажите еще только одно: каков новый хан, справедливый ли?
— Хан очень хороший. Есенгельды-бию нашему он звание мехрема пожаловал. В честь этого пир был на всю Хиву!
— Слыхал я, милый, слыхал. Пусть это будет добрым началом милостивой заботы хана о каракалпаках.
— А вот ваше ремесло мне кажется неважным, — по-детски живо выпалил Айдос. — Жарить рыбу женское занятие, не дело для мужчины. Ну, если бы вы хоть на маслобойке работали, было бы еще ничего… — И столь же внезапно застеснялся: не обидел ли взрослого человека. — Кстати, сегодня к Матьякубу-шарбак-ши должен прийти один наш каракалпак Бектемир-ага. Он у мастера-плотника в учениках. А товарищ его Бекмурат-ага был учеником у мастера по юртам, так вот он на войне с йомудами погиб. — И, не замечая, как поразило Аманлыка это известие, продолжал:- Вот вам бы на его место поступить, как было бы хорошо! Идемте вместе к Матьякубу-шарбакши, с Бектемиром повстречаетесь, он вам, где мастер по юртам живет, покажет.
— Не опаздывайте из-за меня, милый. Я Бектемира знаю. А вы торопитесь к учителю, еще обидится на вас.
Ничего мне не будет. — Айдос уже знал себе цену.
Как только вошли они на постоялый двор, появился откуда-то и Бектемир. Издали завидев Аманлыка, он пошел, открывая в улыбке крупные, как долото, зубы и широко распахнув руки. Два здоровенных джигита, в старых халатах и черных шапках, слились в объятии. Айдос смотрел на них с радостной детской улыбкой, покусывая большой палец.
Стесняясь говорить в присутствии Айдоса о своем житье-бытье, Аманлык поспешил отпустить юношу.
— Будьте здоровы, долгой жизни вам, милый. Идите по своим делам, а с Бектемиром я сам договорюсь.
— Хорошо. Если понадоблюсь, ищите меня в медресе, — сказал мальчик и, приложив руку к груди, поклонился старшим.
— Какой вежливый, скромный мальчик! Маман-бий очень его хвалил, — сказал Бектемир, глядя вслед Айдосу.
— Прекрасный мальчик. Маман-бий все мечтал найти такого вот юношу, воспитать себе на смену. Такой умница, пусть исполнятся все его желания!.. Да ты слушай, Бектемир, я ведь женился.
— О-о-о, вот спасибо тебе, что выполняешь указ Маман-бия. Поздравляю! Что же ты сразу не сказал!
— Да боялся, ты надо мной смеяться будешь! Ты-то сам как? Не сорвалась еще твоя лошадка с привязи? Гляди за ней хорошенько!
Бектемир загадочно ухмыльнулся, оглянувшись по сторонам, — как бы кто посторонний не услышал! Убедившись, что поблизости никого нет, с размаху хлопнул Аманлыка по плечу.
— И не спрашивай! Я-то думал, она дочка мастера — разводка, а на самом деле она его младшая жена!
— Да что ты говоришь?
— Да, да. Оказывается, она меня полюбила и сказалась дочкой плотника, боясь, что, если скажет — жена, я к ней и близко не подойду. Ну, а когда убедилась, что и я ее люблю, тогда мне правду открыла. «Теперь ничего не бойся, говорит. Уходить будешь, меня с собой заберешь», — сказала. — Бектемир сложил руки, будто благословения просил. — Ой, какая же она красавица! Луноликая, ротик колечком, глаза как солнце яркие, волосы как ночь темные, брови вразлет насурьмленные, бедра широкие, талия тонкая — чистый дутар, грудь как кувшин! Ну, что еще? Ничего не забыл?.. А теперь ты, хитрец, привыкший красивых казашек целовать, теперь ты расскажи про свою! Глаза твои — мера, а сердце — весы.
Аманлык было засмеялся, но улыбка ушла с его лица, как уходит солнце под набежавшее облако. Он нахмурился.
— Мерить глазами, взвешивать сердцем — все это, брат Бектемир, прошло. Взял ее, можно сказать, из жалости. Бедняжка она, смирная, кроткая, работящая. Что укажешь — все сделает, безответная, покорная, не укажешь — так сидит. А вид ее, что вид? Кончик носа срезан, косноязычная, что лепечет, сразу-то и не поймешь. Стесняется, что ли, сама не заговаривает. Ну и я ее не заставляю говорить, боюсь — заплачет. Беспокойная она у меня. Я даже не говорю ей «жена», может, обидится, огорчится, зову ее, черноглазую, Каракоз.
— Ну и хорошо сделал, что женился, — серьезно сказал Бектемир. — Все женщины суть женщины. Красота совсем не обязательна. Умеет печку топить, детей рожает — и все.
— Думаю, что она уже беременна, братец.
— Вот это дело! Молодец ты. А я, брат, попусту стараюсь. Все равно мое потомство будет за хозяином числиться.
— Да уж пока это так и будет, — сказал Аманлык и, разгладив усы, рассмеялся.
Бектемир сказал, что год еще потерпит, а там станет мастером — и домой. Узнав о гибели Бекмурата, Бектемир огорчился до слез, все вспоминал, каким тот был тихим, уступчивым парнем — травинку у овцы изо рта не отнимет.
Когда мы ходили в лес деревья валить, виделся я с ним, бедным. Он все говорил: «Выучусь, тебе первому юрту построю». Не успел обучиться! А его мастер, правда, не умеет учеников в строгости держать, но человек добрый и мастер хороший.
— Вот ты и сведи меня с этим человеком хорошим. Мастер-юрточник жил севернее Хивы, близ Шаббаза, на берегу Амударьи. Чтобы туда ехать, нужно Бек-темиру у своего плотника отпрашиваться. А сейчас послал его хозяин на здешний базар масло для ступиц покупать, и пошли они вместе с Бектемиром к лавочнику, на рынок. И вдруг, издали увидев какого-то человека, Бектемир закричал:
— Ну, брат, счастлив твой бог! Вон и сам юрточник сюда жалует. Во-он тот, гляди!..
— Эх, кабы он меня принял!
— Примет. Он Бекмурата любил. Вообще сам человек добрый, с охотой учит каракалпакских ребят.
Джигиты встретились с мастером, поздоровались, стали рассказывать все по порядку, кто Аманлык, да где работает, да почему хочет к нему в ученики проситься. Но он сразу все понял.
— Знаю я твою рыбожарку и хозяина твоего знаю… Правильно задумал юрты строить учиться. И тебе будет хорошо, и народу твоему польза. Нет большего счастья, чем строить дома человеку, душу его веселить. Строить дома — дело добрых людей, рушить дома — дело грязных свиней. Приходи — приму.
— Спасибо, мастер, приду непременно, — сказал Аманлык, прощаясь. Юрточник сразу ему полюбился.
А вот сладкоречивый хозяин рыбожарки на деле оказался совсем не таким, каким его считал Аманлык. Судя по тому, как ласково он обращался с работником, голоса на него не повысит, дня не пройдет, чтобы о житье-бытье не спросил, даже, что во сне видел, интересовался, Аманлык думал, что хозяин благословит его на благое дело, заплатит за труд, оденет и отпустит с добром.
Но стоило заикнуться об уходе, как хозяин показал, что он за человек. Визгливым бабьим голосом начал он перечислять все те беды и убытки, которые, оказывается, причинил ему Аманлык. Скуля, как голодная сука, он напоминал Аманлыку, как «пожалел» его, бедного скитальца, голого, босого, с оторванным ухом, и из милости взял на работу. Потом он столь же долго и подробно, нанизывая одно свое благодеяние за другим, расписывал все убытки, какие понес, кормя и одевая неблагодарного своего работника и его прожорливого осла…
Аманлык стоял, закрыв уши, понимая, что не только о плате за труд говорить не приходится, но опасаясь, чтобы и последнее его имущество — осла — хозяин не отобрал. И как в воду глядел! Стоило Аманлыку с Ка-ракоз взяться за свои тощие узелки, как хозяин, брызгая слюной, схватился за недоуздок осла.
— А осла себе оставляю, себе, за то, что ты ел-пил у меня!
Аманлык, разъяренный, дрожа всем телом, выхватил из ножен свой меч и взмахнул им над головой, но Кара-коз грохнулась ему в ноги и, словно железными путами, охватила колени, плача и еле слышным голосом что-то лепеча. Остывая, Аманлык сунул меч в ножны, свернув в круг веревку, заменяющую повод ослу, с размаху бросил ее на шею хозяина:
— На, подавись! — И ласково поднял Каракоз:- Не плачь, пойдем отсюда!
Осел всхрапнул и закричал вслед уходящим «и-а! и-а!», будто оплакивал своего хозяина.
18
Никому еще не довелось видеть Маман-бия без дела лежащим на боку. Соглядатай со стороны, посмотрев на него сегодня, легко мог бы пустить слух, что вот, мол, бий спился, с утра самого валяется дома пьяный. Раздав накануне весь скот, подаренный казахами бедствующим семьям нукеров, погибших на войне, сегодня бий лежал в своей юрте, изредка прихлебывая холодный чай из глиняной пиалушки и мучительно думая о том, что же это опять приключилось с народом.
Давно ли шли к нему радостные вести: «такая-то родила», «у такого-то сын родился»- и словно звездное небо открывалось над ним в сумраке ночи, и силы в нем прибавлялось, светлое будущее виделось впереди. Сбор нукеров, война и печальный ее конец — большинство нукеров не вернулись живыми — были как гром среди ясного дня. Беда усугублялась обидой: у тех каракалпаков, которые уцелели в битвах, Хива отобрала оружие, отпустила домой и калек и здоровых с пустыми руками. Болела душа у Мамана, скорбь не давала поднять голову.
Глядя на мужа, страдала и Багдагуль. Бесшумно бродя вокруг, она выбирала удобную минутку, чтобы, напомнив Маману о добрых его делах, хоть немножко отвлечь от мрачных мыслей о жестоких потерях. Господин мой, можно ли спросить у вас…
— Спрашивай, милая, — ответил он, не двигаясь.
— Каким был бы свет наш, если бы человек человеку не помогал?
— Земля кишела бы клыкастыми тварями, день и ночь грызущимися между собой. — Бий поднял глаза, жена никогда не задавала ему подобных вопросов.
Между тем очаг угасал, Багдагуль вышла во двор за топливом и быстро вбежала обратно:
— За домом, за дровами, скорчившись, какие-то три парня прячутся!
— Почему же ты их сюда не позвала?
— Не хотела, чтобы увидели вас расстроенным, господин мой.
— Позови, милая. Эй, ребята, идите сюда! — крикнул бий громко.
Он сел, расправив усы, скрестив ноги по-турецки. Лицо его порозовело от огня.
— Оу, Аманлык! — воскликнул он, увидев первого из входящих ребят. — Входи, Жаксылык, сынок! — поправил он сам себя, поднимаясь и безошибочно узнавая сына своего друга.
Сейчас юноша был таким, каким был его отец в те незабвенные годы, когда свободные как птицы сироты, Аманлык и Алмагуль, бродили по аулам, прося подаяния.
— Ох, Жаксылык, сынок, — молвил Маман, гладя густые черные волосы паренька и целуя его в лоб, — будто я с Аманлыком, отцом твоим, повидался, ну вылитый ты отец! А эти ребятки чьи? — спросил он, гладя по обросшим головкам двух мальчиков помладше Жаксылыка, похожих между собой, с чуть раскосыми глазами, одетых в косоворотки и армяки, как дети татарских или русских баев.
— Братишки мои, — коротко ответил Жаксылык. Тут, видно, была какая-то тайна, и бий больше вопросов не задавал.
— Молодцы, джигиты, что пришли навестить де-душку-бия, — сказал он, чтобы подбодрить дичившихся ребят. — Очень хорошо, светик мой Жаксылык. Отец твой уехал в Бухару, тетушку твою Алмагуль искать. Ждем его, скоро приедет.
Открытое лицо Жаксылыка словно бы потускнело. Он молчал.
После того как ребята поели и попили горячего чаю, оба младших повалились, разомлев, на кошму и дружно засопели.
— К трудной жизни не привыкли, — сказал Жаксылык.
— Похоже на то! — поддержала Багдагуль. Байскими детьми были, — молвил Жаксылык,
готовясь к длинному рассказу.
— Говори, сынок, говори, — подбодрил его Маман и придвинулся к мальчику, готовый слушать.
— Меня ведь Тилеунияз-бай тогда купил, — начал Жаксылык. — Хитрый был человек, оказывается. После большой перекочевки сюда он и говорит: «Будто богом проклятый наш народ. Только на новом месте обживается как подобает, сытости достигнет, враг тут как тут, опять нас разоряет, опять на новое место беги! Вот я и хочу один жить, без народа, — целее будем». И повел нас берегом моря на север. Прикочевали мы в какой-то дремучий темный лес, развьючиваться стали. Дом построили, стали жить одни, годов не считали. Скот байский умножаться стал. Сам бай съездит иной раз куда-то на верблюде, пшеницы привезет. Говорил, из страны русских, а то так от башкир либо от татар. И рубашки эти тоже из тех краев. И ту, что на мне, он из последней своей поездки привез. — Жаксылык показал надетую на нем рубашку с татарским воротником. — Вот раз пасу я спокойно телят в лесу, вдруг выскакивают из чащи двое каких-то верховых и давай моих телят угонять, шумят, лошадьми теснят, на меня и внимания никакого не обратили. Кинулся я к дому, бая звать, а дом — весь в огне. Эти двое сидят перед крыльцом, плачут, родителей зовут. А те лежат на земле неподвижно. Отец уже мертвый, а мать чуть жива. Увидала она меня и шепчет: «Светик мой, прости, если когда обидное тебе слово сказала, не бросай сыночков моих, пусть братьями тебе будут. Ушли мы от своих и пропали. Говорят же, одинокого всяк съест. Съели нас волки!.. Наживали добро от родины вдалеке — все врагу досталось… Теперь с братиками вместе идите все к югу, к югу, к народу нашему, к Маман-бию идите…» — и померла. Ждал я до утра пастухов, которые на лугу коров пасли, думал — придут, а их тоже, видно, враги угнали вместе со скотом. Не пришли они. Наутро закопал я хозяев мертвых как сумел. Поделили зерно, какое уцелело, на троих и пошли. На авось пошли, по солнышку. Вышли к синему морю без конца без края. Потом узнали: называется Арал. Кругом, сколько глаз видит, — ни аула, ни человека, ни души! Берегом шли долго. Увидели: плывет лодка, а над ней, узнали мы потом, парус называется, ветром надутый. Люди в той лодке, русские, оказывается, заметили нас, давай руками махать. Пристали они к берегу, вышли из лодки, рыбу выгрузили, снасти, воду вычерпали. Один из них малость по-каракалпакски знает, спросил: что здесь делаем, куда идем? Я сказал им все как есть. Он с товарищами своими поговорил. Один здоровый такой, с бородой, подошел, по головам нас погладил, а тот, кто по-каракалпакски знал, «садитесь, говорит, в лодку». Сели. Сел с нами и тот, бородатый, и мы поплыли. Остальные трое на берегу остались, руками нам махали. Устали мы, в лодке заснули и не знали даже, долго ли плыли и куда приплыли. Даже и сколько дней прошло, не знаем. Вышли на какой-то берег. Они высадили нас, каждому по две рыбы дали из тех, что дорогой поймали, и сказали нам: «Теперь идите по суше, от берега все прямо и прямо, — здесь каракалпакские аулы недалеко». Попрощались с нами, и мы ушли. Кабы не мальчики эти, которые сроду пешими не ходили, я бы давно здесь был. Ну, а так мы до аулов позавчера к вечеру добрались, а к вам вот — сегодня утром…
— А ты смог бы найти место, где вы на берег сошли? — спросил Маман.
— Найду.
Хотя и видел бий по лицу, что парень измучился в дороге, но не вытерпел, — уж очень хотелось узнать, кто эти русские люди, что ребят спасли.
— А что, сынок, если мы с тобой съездим поищем тех русских, пока они к себе не воротились?
Жаксылык не мешкая вскочил:
— Едемте.
Багдагуль спешно замесила тесто, напекла им лепешек на дорогу, и, когда солнце перевалило за полдень, Маман-бий и Жаксылык сели вдвоем на белого коня и поехали в сторону моря.
* * *
На просторе однообразных, уходящих в далекую даль морских берегов трудно оказалось Жаксылыку точно указать место высадки: мол, вот здесь! Да и море сегодня было совсем другое. С грохотом катились высокие валы, украшенные белой пеной, словно горы с могучими хребтами, перевалами, с увенчанными снегом вершинами. С шумом бились волны о берег, кипели и бурлили, выбрасывая на песок все, что не могло устоять на их пути.
Маман-бий не торопил джигита. Конь у них притомился, и, проезжая берегом бескрайнего синего моря, они садились в седло по очереди. Глаза путников устремлены в беспредельную даль, и, если на вершине огромной, как гора, волны зачернеется что-то — огромный куст принесенного бешеной Аму турангиля, — они останавливаются, с тревогой всматриваются: не человек ли?
— Не дай бог, человек утонет! — бормочет Маман-бий, тихонько следуя на коне за Жаксылыком.
Тщетно ездили они по берегу, не нашли никого. Пришлось возвращаться. Но они не теряли надежды и через неделю снарядились к морю опять. На этот раз ехали вдоль одного из рукавов Амударьи.
На мутной поверхности бешено рвущейся к морю реки, крутясь в кипящих водоворотах, плыли трупы животных, вырванные с корнем изломанные деревья, всякий мусор и хлам, выброшенный из человеческого жилища. Маман-бий новыми глазами вглядывался в пучину, будто видел все это в первый раз.
— Всю падаль, всю грязь жизни, мертвечину несешь ты на себе, бешеная Аму! — горестно прошептал бий. — Сходны наши с тобой судьбы! Но ты очищаешься от грязи, выносишь ее в море. А мы? Мы все вмещаем в себя. Мы не только река, мы — и море! Да, мы — и море!
Жаксылык не понял, о чем толкует Маман-бий. Бий-ата, вы устали, садитесь теперь вы на коня.
Бий молча сел в седло.
На обратном пути, объезжая аул Есенгельды, они увидели бесчисленные следы конских копыт на дороге. Камыши по обеим сторонам дороги были поломаны и истоптаны. Видно, многочисленные всадники рыскали здесь рядами взад и вперед. Удивленный, Маман остановил коня.
— Видишь, сынок, что это?
— Ой, бий-ата, видно, копыта у них каменные, — не только поломали камыши, в прах растолкли.
У коня, сынок, две походки. Одна далекое приближает, человеку на благо; другая все живое в пыль превращает, это беда. Не дай бог, коли наш конь второй походкой пойдет!
И опять ничего не понял Жаксылык. Поехали, сынок! — сказал бий.
И Жаксылык сел на лошадь у него за спиной.
Когда они проезжали берегом Кок-Узяка и уже приближались к пшеничным полям аула Сабира Франта, выехал им навстречу Дауим.
Урус-бий, Есенгельды-мехрем повелел, чтобы завтра утром явились вы к нему на ноншуту! — нагло ухмыляясь, сказал он.
Маман-бий не удивился, что даже стремянной Есенгельды-бия позволяет себе называть его в насмешку урус-бием. Его удивило другое.
— Советник хана? Мехрем?!
— Да, не Есенгельды-бий, а Есенгельды-мехрем! Мехрем, и чин и звание у него выше вашего! — злорадно молвил Дауим и поднял коня в галоп.
Что такое ноншута, бий-ата? — спросил Жаксылык немного спустя.
— По-хивински это значит — завтрак.
— А что бы ему по-каракалпакски сказать: завтрак, халкас?
Тогда не был бы он мехремом! — ответил Маман как бы очнувшись, мысли его заняты были появлением «каменных копыт».
«Новое бедствие! — думал он в тревоге. — Беспощадный бог, снова глянул ты на нас незрячим своим оком! Неужели и этот малый клочок земли, камышом заросший и гнусом, кровь пьющим, населенный, кажется тебе слишком хорошим для народа моего, с головы своей черную шапку скорби не снимающего, для души его, полной горести бесконечной… Создаешь людей на этом свете еще в утробе материнской друг другу врагами… А что, если, разгадав твое коварство, все они восстанут против тебя? Мир тогда перевернется вверх дном — и вот тут-то все и встанет на свое место!»
Глухой гул голосов доносился теперь из аула Сабира Франта. Шумная гурьба людей, окружив какого-то всадника, вышла оттуда. Еще слов нельзя было разобрать, но видно было, что они спорили, в чем-то его убеждали, грозя кому-то кулаками. Маман-бий, пристально вглядевшись, узнал всадника, старика с сутулой спиной. Это был Есим-бий. Маман подъехал к толпе, поздоровался. Рыбак, который год назад, перейдя на сторону Есенгельды, расколол толпу, пришедшую протестовать против набора нукеров, теперь, вместо ответа на приветствие, снял свою черную шапку и пошел навстречу Маману:
— Прощения просим, Маман-бий. Искали мы вас, нигде не нашли. Оказывается, прибыли из Хивы вооруженные люди от хана. Говорят, за то, что сделали Есенгельды-бия мехремом, налог пришли с нас собирать. Так ведь грабят они народ, обижают. Вчера, к примеру, устроили в ауле игру на конях, а мы им вместо кокпара. Кто из дома выглянет, того плетью! Это за что же нам такое издевательство?
Кровь бросилась Маману в лицо, в сердце точно нож всадили. Не понимая толком, что тут такое случилось, он вопросительно глянул на Есим-бия.
— Еду я из дома Есенгельды-мехрема, мудрый бий, — сказал старик. — Наших людей обложили налогом в двести золотых монет. А всего только наши, здешние каракалпаки, должны дать хану две тысячи золотых. Это не считая жанадарьинских, с тех особо берут. Вот и приехали сорок всадников налоги взимать.
— Это и есть благодарность Мухаммед Амин-инаха населению, помогавшему ему на ханство сесть!
— Хан будто сказал, что это на укрепление его престола.
Так вот нукеры его трон и укрепляли! — сказал Маман в горьком раздумье. — Да-а-а, из всех наших нукеров, что трон его на войне защищали, никого в ханской охране не оставили да и домой отпустили безоружными. Теперь, видно, так и будет в наших местах: хлеб наш, а скатерть ханская. Не дай бог нам, каракалпакам, от овода жужжащего убежав, к пиявке, потихоньку кровь людскую сосущей, прибиться. — Он почувствовал, что его слова разочаровали людей, не того они от него ждали. — Ну, хорошо, расходитесь теперь по своим делам, а я с мехремом поговорю, что и как — разузнаю.
— Мы и деда нашего, Есим-бия, о том просили, — вступил в разговор Сабир Франт. — Пускай бы обирали, да не до нитки, а то, глядишь, и той справить по случаю рождения сына не на что будет.
Глянул Маман на сгорбившегося в седле Есим-бия и подумал, что сегодня ему до своего аула не добраться, и зазвал к себе в дом ночевать. По дороге они и мыслями своими поделились.
— Не знаю, не знаю, — сказал старый бий, задыхаясь от гнева. — Превратились мы в забаву для скучающих бездельников, как козел на козлодранье. Из рук джунгарского хана попали к хану Малого жуза, а от него русскому послу под колено, а когда уж ни шерсти, ни мяса на нас не осталось, до костей ободрали, хан хивинский нас подмял. Куда ни подадимся, все оказываемся чесоточным козлом, что перед смертью о посох пастуха трется.
Слов не находя от негодования, Маман-бий молчал, стиснув зубы… И виделись ему, словно в тумане, скачущие кони, плачущие дети, женщины, старики, с криком спасающиеся из-под «каменных копыт», — и горючие мужские слезы обожгли глаза бия.
— Жаксылык, беги-ка ты к тем вон домам! — сказал он, ссаживая мальчика с коня возле аула Бегдуллы Чернобородого. — Найди там человека по имени Нура-булла, который хромым с войны воротился, и вечером приходи с ним ко мне домой. Видите теперь, Есим-бий, почему хан наших нукеров безоружными по домам распустил? Но что бы там дальше ни случилось, а нам надо слова своего держаться. Гореть, так под державой русского царя!
— Да кто же против мудрого твоего слова, большой бий? Все согласны. Да ведь чем одно и то же говорить, лучше приступать к делу!
И Маман понял, что все его призывы к России присоединяться ныне былое значение теряют, а сам он превращается в пустого болтуна.
— Да, похоже, пора действовать, — молвил он. — Позовем еще и Бегдуллу Чернобородого, пошлем человека за Убайдулла-бием. Пусть Нурабулла за Мырзабек-бием сходит. Посмотрим, нельзя ли тем, кто несет нам смерть и беду, тем же самым ответить?!
Есим-бий ничего не сказал, но Маман-бий приметил, что смотрит старик с одобрением.
19
— Есть много способов показать малое — большим, слабого — сильным, труса — храбрецом, — спесиво разглагольствовал Есенгельды-мехрем среди своих приближенных, прибывших к званому завтраку и с нетерпением ожидавших, когда пышные речения уступят место обильному угощению. — Все дело в том, что надо уметь складно говорить, — продолжал Есенгельды, — Когда сиятельный Мухаммед Амин-инах пожаловал мне звание мехрема и спросил, каков народ мой, не хотел я, конечно, показать ему, что народ наш малочисленный и бедный. Я каждые две-три лачуги, полдюжиной голодранцев населенные, приютившиеся в камышах, богатыми аулами назвал, различным многолюдным родам и племенам принадлежащими. Начал речь со своего аула и рода, подроды племенами нарек да и новые роды-племена придумал. Аулы, близ казахов притулившиеся, родом казаяклы назвал, семью Нурабуллы-хромого — баймаклы (много хромых), в ауле Сабира Франта четверо рыжих есть, — стали они у меня родом бессары (пятеро рыжих). Все какие есть старые роды-племена, наши ли, казахские ли, все у меня в ход пошли: ктай, кипчас, кенегес, мангыт, аипа, мажек, аралбай, бексыйик, карамойын, ябы, добал, оймауыт, тамга-лы, шуит, колдаулы, муйтен, балгалы, ырраклы… никто у меня в стороне не остался. А что я забыл, то Дауим мне напомнил. И вышло, что народу у нас множество, тьма, а множество — сила!
— Мудро сделали, мехрем!.. Числом народ наш возвеличили!.. Всему миру показали, что значит кунград!.. А ябы что?
— Ябы — род небольшой, незначительный, — пренебрежительно молвил мехрем. — Кстати, напомнили. Звал я и Мамана ихнего — уруса — на завтрак, да человек-то он нерасторопный, телом велик, а умом не вышел, глядишь, и к обеду не доберется. Но уж чем его бог не обидел — завистью, зависти у него невпроворот. Такой человек нехороший — никому добра не пожелает, да и ему… В Хиве только имя его помяни, всяк голодным волком ощетинится! Вот и напустить бы этого волка на него. А? Как вы скажете? Стоит нукерам хивинским, что сейчас лошадей купать пошли, глазом мигнуть, они Мамана этого разом язык прикусить заставят!.. Да нет, уж очень я добрый, истинно каракалпакекая кровь во мне. Каждого жалею. Только он, глупец, ценить этого не умеет. Вот в свое время мудрецом его считали. А вся-то его мудрость в том и была, что он слова Мурата. — шейха нашего, да будет земля ему пухом, как попугай повторял. Вспомните-ка, сколь жестоко он бедный народ наш мучил пустых слов ради: «великая Русь» да «бумага великой надежды»! И теперь вот опять Маман этот, урус, хочет народ взбаламутить да разорить! Поехал к казахам — врагам нашим, честь каракалпакскую продав, несколько голов скота пригнал, голодранцам своим роздал: «Это, мол, от братьев ваших, казахов, подарок!» А того, пустая голова, не понимает, что ныне правым глазом смотрит на нас бог и нам не подаяния у них просить должно, а набег совершить да силой все отобрать! Я ведь тоже не собак гоняю, а о народе денно и нощно пекусь. Не то что Маман! Вот в Хиву поехал, именем народа нашего под милостивую руку хана Мухаммед Амина земли каракалпакские отдал!
На беду тут-то и подъехал к дому мехрема званный им гость, Маман-бий, и всю пышную речь хозяина, не слезая с коня, от первого до последнего слова услышал. Рукояткой плетки своей приподнял он войлок над тыльной стороной юрты и громовым голосом молвил:
— А кто тебе право дал от имени народа говорить? Присутствующие тревожно завертели головами: голос-то этот все хорошо знали, но вот откуда он идет? Сам мехрем, испуганно метнувшийся к двери, почувствовал, что Маман пристально смотрит ему в затылок, обернулся и увидел: вот он, приподнял войлок, сидит на коне и вправду смотрит!
Растерянный, схватил мехрем свой висевший на стенке жалованный ханом, серебром богато изукрашенный, пояс с драгоценным дамасским кинжалом и, опоясываясь им, — как бы Маман его своей плеткой не подцепил, — сердито забормотал:
Трус! Подкрадываешься, как вор! Теперь уж за юртой подслушивать стал?
Маман еще шире распахнул войлок.
— Надо над такой вороной, как ты, громко каркающей, в поднебесье летать, и то голос услышишь? Ну-ка повтори, кому, говоришь, ты продал народ?
— Не извращай слова мои, лиса! Не продал я, а даром, добровольно отдал под власть благородной Хивы. Это ты народом торгуешь! Неверным продаешь, у кого и вера иная, и язык чужой! — выкрикивал Есенгельды-мехрем, устремляясь к двери. За ним, теснясь, поспешали его приближенные.
Есенгельды сначала было рванулся на противника, как борзая, завидевшая зайца, но когда оказался перед неподвижно возвышающимся на своем белом коне Маманом, хмурое лицо которого не сулило ничего доброго, внезапно остановился, ухватившись за аркан, опоясывающий юрту.
— Не подпускай коня к юрте, слезай! — взвизгнул мехрем.
— Эх ты, воробей, ястребом стать стремящийся! — процедил Маман сквозь стиснутые зубы. — Воробьем ты был, воробьем и останешься!
Гневные эти слова вонзились в самую душу Есенгельды, и он молчал, растерянный.
Со стороны Кок-Узяка зачернелись фигуры всадников. Это были нукеры, присланные Мухаммед Амин-инахом вместе с Есенгельды-мехремом наводить хивинские порядки в каракалпакских аулах. Это «каменные копыта» их коней истоптали камыши вокруг озер. Уже неделю веселились хивинцы в ауле мехрема, выезжая время от времени и в соседние села поразвлечься и попугать людей, без разбору хлеща плетьми каждого встречного-поперечного.
Сейчас они гнали своих коней с водопоя — дело, которое не доверяли местным джигитам.
— Ну ты, пыль из воды в глаза пускающий! Ты, что ли, привел вот тех молодцов, баб и детишек не боящихся, шум и гвалт поднимающих, «каменными копытами» все окрест истоптавших?! Только вам, злодеям, и осталось леса и озера наши поджечь, последний приют несчастного народа нашего, — с горечью молвил Маман-бий.
— А у тебя душа твоя завидущая уже горит из-за того, что нет у тебя такой опоры, как эти мои нукеры. Пускай горит, пускай! — злорадно крикнул Есенгельды.
Моя-то душа — ладно, ты душу народа в огонь не кидай!
— Ну, конец пустословию! Эй, старейшины, помогите-ка нукерам спешиться! — приказал Есенгельды, и старые люди, тряся седыми бородами, кинулись хватать под уздцы хивинских коней.
Длинный, как кишка, есаул-баши, тот самый, кто возглавлял сбор нукеров, лихо щелкая саблей по блестящим голенищам своих сапог, вплотную придвинулся к мехрему.
— Этот старый бугай все еще бродит, злыми своими глазами косится, — сказал он, небрежно ткнув саблей в сторону Мамана. — Хотите, я его так обуздаю, что в арбу будете его запрягать? Прежде надо наголо выбрить вон тот поганый бурьян вокруг озера. Озеру нужен простор, а вам, мехрем, — свобода действий!
Хотя у Мамана горела душа, но он терпеливо ожидал, как поведет себя Есенгельды.
Маман, вы ведь у нас мастер речи произносить, — сказал Есенгельды, призадумавшись. — Помогите нам уговорить друга нашего есаул-баши вложить саблю в ножны.
Хмурый Маман-бий молчал.
— Видно, ты, урус, не понял, в чем смысл наших слов? — Есенгельды снова напыжился, он издевался. — Вызвал я тебя с тем, чтобы не было раздоров в народе. Ты любишь короткие речи. Так вот я тебе коротко все объясню: Мухаммед Амин-инах потерпел на войне большой убыток. Мы обязаны помочь ему убыток тот возместить. Две тысячи золотых с нас причитается. Надо правду сказать, золота у нас нет. Потому я дал слово внести в ханскую казну иную дань стоимостью в две тысячи золотых.
Тем временем за спиной мехрема, ощетинившись пиками, выстроились пешие нукеры во главе с есаул-баши.
— Ну, а если не взыщешь дань в две тысячи золотых, что будешь делать? — спросил Маман-бий спокойно.
— Пусть невозможно, — все равно взыщем.
— Чего у народа нет, того и ты не сможешь взыскать! — сказал Маман, туго натягивая повод коня.
Мехрем локтем подтолкнул есаул-баши. Тот выхватил саблю: берите его! Как собаки на волка, ринулись нукеры на Мамана. Испуганный конь, всхрапнув, вскинулся на дыбы. Нукер, бежавший впереди, рухнул под его копытами, второму Маман рассек лоб плетью, третий подвернулся под сабельный удар, и голова его покатилась в пыли. Но нукеры, шумя, как осиный рой, наседали. Завертелась кровавая метель.
Силы были не равны, но могучий белый конь, прорвавшись сквозь толпу нукеров, вынес Маман-бия из схватки невредимым. Измученный конь из последних сил уходил к югу. Есаул-баши тщетно палил ему вслед, Маман-бий нырнул в гущу камышей и исчез.
Раъяренный есаул-баши плетью сгонял в кучу своих нукеров:
— Несите огонь, палите камыши вокруг этой поганой лужи! Дымом выкуривайте бия-уруса!
Путаясь в полах парчового халата, упал в ноги есаул-баши обезумевший от страха мехрем. Все, чего достиг, все, к чему столько лет стремился, — слава, почет, власть, — все рушилось в миг единый.
Милый мой, милостивый, почтенный, прости! — стонал он, целуя землю, обнимая сапоги есаула. — Прости, гость мой уважаемый, драгоценный! Посланец священной Хивы, не губи! — бормотал он, захлебываясь слезами.
— Встань, двуличный мехрем! — заорал есаул. — Натравил на нас бешеного своего волка, а теперь слюни распускаешь!
— Правильно сказали, господин мой! Бешеный волк он, с юности душу мою грызущий! Клянусь вам от великого всего кунграда, священным прахом родоначальника нашего хайылганаата клянусь: волка того со всеми его волчатами прикончу… Только не окутайте землю мою в огонь и дым. Весь род кунградский на ноги поставлю. За пролитую кровь священного нукера хивинского сторицею отплачу…
Так не ной, поднимай свое племя, посмотрим!
— Подниму, высокородный есаул-баши! Дайте срок, подниму! — Есенгельды встал на карачки, потом выпрямился, — опасность, казалось ему, миновала, и он из твари дрожащей снова превращался в мехрема. — До пятницы дайте нам срок, — уже деловито договаривался он, начальственно посматривая на своих преданных прихлебателей. — Видели, люди, что наделал этот бешеный волк? На беду всего нашего народа пролил священную кровь хивинскую на грязную нашу землю, а сам сбежал. Терпению нашему пришел ныне конец! Пока урусу этому нечестивому язык не отрежу, пока в землю его не вобью, не будет вам всем покоя, так и знайте! Коли не хотите, чтобы несчастный народ наш в дыму задохнулся, чтобы дети наши слезами горючими захлебнулись, сами уруса этого ловите и всех людей своих шэ грязному следу его пустите! Поймите, за невинную кровь нукеров священной Хивы проклятье на наши головы и грех великий!
— Головы положим за вас, мехрем!
Голоса приближенных пролили бальзам на потрясенную душу прослезившегося мехрема. Есаул-ба-ши, прошедшего через многие войны, смерть одного нукера волновала не больше, чем смерть приблудной собаки, но он не мог упустить случая покуражиться над столь любезным хану выскочкой мехремом. Теперь, заставив вельможу поваляться у себя в ногах, есаул нашел возможным смягчиться.
— Уж так и быть, мехрем, до пятницы потерпим, но помните: даже землю должны вы выскоблить и выжечь, на которую копыто коня крикливого этого уруса ступало!
— Слушаюсь и повинуюсь, почтенный есаул-баши! Сородичи мои, слышали? Пусть каждый, кто живет и дышит, выходит на битву с проклятым урус-бием!
* * *
Прорвав кольцо напиравших на него нукеров, Маман отнюдь не намеревался просто спастись. Уверенный, что они ринутся в погоню и неизбежно заплутаются в незнакомой им непроходимой чащобе, бий надеялся подстеречь их и перебить поодиночке. Но те обманули его ожидания, как собаки, упустившие волка, сгрудились они вокруг своего начальника и стали оправдываться да совещаться.
Бий понял, что обстоятельства принимают дурной оборот. Нещадно хлеща плетью белого своего скакуна, он примчался в аул Бегдуллы Чернобородого, нашел ему с Нурабуллой по коню и спешно отправил за помощью к Убайдулле и Мырзабеку биям:
— Скажите, что пришел день, когда от огня, у которого мы согреться мнили, пожар загорелся. Скажите: пришли из Хивы конные воины камыши наши, многострадальный народ приютившие, огнем палить. Скажите, из-под копыт коней их смертоносные искры летят. Скажите, сердце Маман-бия беду почуяло, кровью плачет, со склоненной головой просит у вас бий помощи и совета.
Вымолвил слова эти и вихрем метнулся к Есим-бию.
Слушали аулы неистовый топот коня Маман-бия, понапрасну никогда шума не поднимавшего, и готовились к неведомой новой беде.
20
Хивинскому есаул-баши не терпелось. Задолго до назначенного срока и за утренней трапезой, и за вечерней долбил он все одно и то же:
— Слабо вы управляетесь, мехрем, со своими камышами. Дальше так будете сидеть да тени своей бояться, они вам не только руки изранят, а глядишь, и голову отрежут!
Ни дня, ни часу не было, чтобы он к Есенгельды-мехрему не приставал. Тот уж совсем издергался, даже похудел, сердитый стал, — не подходи близко. Голос его день ото дня звучал все громче и сварливей. А дела его оказались не так уж плохи. В пятницу со всех сторон потянулись всадники к его аулу, — целое войско собиралось.
Есаул-баши повеселел. Вместе с Есенгельды, сопровождаемый своими нукерами, поехал он навстречу прибывшим и сразу, будто обращался к людям давно знакомым и хорошо осведомленным, зачем они здесь, приступил к делу:
— Врага нашего, урус-бия, видели мы в последний раз во-он в тех камышах притаившегося, — сказал он, ткнув камчой в сторону Кок-Узяка. А чтобы его поймать, нет иного средства, чем уничтожить все эти заросли дочиста, так, чтобы и мыши спрятаться было негде! — И весело подмигнул маленькому толстенькому нукеру, тут же легко спрыгнувшему с коня.
Коротышка кинулся к камышам, мигом срезал саблей несколько стеблей, связал их в снопок, поджег от пылающей головешки, которую бегом принес ему из крайней юрты другой нукер, и сунул в гущу растительности. Никто и опомниться не успел, как над камышами встало высокое красное пламя.
— Теперь дело за вами, — сказал есаул-баши, стрельнув в Есенгельды круглым птичьим глазом из-под крутого низкого лба: посмотрим, мол, что ты будешь делать?
Словно придавленный непомерной тяжестью, скованный ужасом, Есенгельды безмолвно сполз с коня, взял из рук толстого нукера связку камыша, поджег и, еле передвигая негнущиеся ноги, подошел и сунул огонь в другое место…
Горохом посыпались с коней его прихлебатели и, стремясь угодить первому — шутка сказать! — каракалпакскому мехрему, разбежались, как голодный скот по весеннему лугу, поджигать камыши… Словно на помощь злому делу, поднялся упругий ветер с моря, гоня и раздувая огонь. Скоро пламя слилось с пламенем, дым с дымом. Темно-багровая туча встала между небом и землей и начала расти, расползаться. В смертной муке гибло все живое в камышах. С жалобным криком взмывали над пожарищем птицы с опаленным оперением и снова падали в огонь. С пронзительными воплями птиц и зверей, гибнущих в своих гнездах и норах, слились крики людей, кинувшихся в пламя спасать свой пасшийся в камышах скот. Обожженные животные с дымящейся шерстью, мечущиеся среди огня, не находя выхода, люди, с плачем бегущие за ними, рев, рыдания, стон, треск и гудение все пожирающего огня, — неравная борьба между жизнью и смертью нарастала с каждым мгновением.
Аулы, еще утром отделенные друг от друга дремучей чащей камыша и джангиля, теперь оголились и торчали разбросанными кучками лачужек на юру, как рыба на дне высохшего озера.
— Люди, народ! Пожар тушить выходите! Сброшено врагами теплое ваше одеяло, в стужу и зной вас укрывавшее! Все на борьбу с огнем выходите, люди! — гремел голос Маман-бия над дымящимся пожарищем, над нетронутыми еще огнем лесами и озерами, то замирая вдали, то снова приближаясь.
Против вала огня поднималась волна народная, шла прибоем, как идут в бурю соленые воды Арала. Смыкаясь плечами, шли за белым конем Мамана густые толпы: шли мужчины и женщины, шли старики и подростки, малые дети и древние старухи, шли с кетменями, ведрами, кумганами, шли наперерез огню, который с каждой минутой неумолимо приближался.
Водой забивали люди искры, летящие впереди пожара, и начинающую тлеть траву. Пахари Есим-бия засыпали очаги огня землей, другие, впрягаясь в соху, пропахивали защитные канавы, кто долбил землю кетменем, кто царапал ее, волоча стволы сваленных туран-гилей с обрубленными сучьями. Но опасность с часу на час росла, ветер перебрасывал искры огня на другую сторону Кок-Узяка, и там вспыхивали язычки пламени, занималась трава. А позади огненного вала открылось оголенное выгоревшее пространство. Нукеры, нахлестывая своих коней и вздымая тучи пыли, с криком и гамом скакали взад и вперед, чая наткнуться на опаленный труп Маман-бия. За ними от бугра к бугру бродили согнанные Есенгельды-мехремом толпы людей, время от времени восклицая: «Вон, вон, глядите: урус-бий, вон что-то чернеется, он, наверное!» Но оказывалось, что чернеется обугленный ствол повалившегося турангиля, и бестолковые поиски продолжались.
На оголенном пепелище обе стороны, хивинская и Маманова, наконец сошлись, и грянула настоящая битва. Люди сшибались врукопашную, выдергивали друг друга из рядов противника, схватывались бороться, как силачи на тое, дрались плетьми. Дехкане с кетменями и топорами шли против нукерских копий и сабель. Маман-бий, ведя за собой вчера еще мирные толпы безоружных людей, то и дело врезался в строй нукеров, поощряя свое воинство криком, возвещавшим, что он здесь, жив, — и, выхватив из рядов какого-нибудь нукера, отнимал у него саблю и бросал безоружного на землю, устремляясь к другому. И все же, продлись эта битва еще день, победа досталась бы вооруженным насильникам. Но уже когда силы истомленных неравной борьбой защитников стали иссякать (детишек и стариков сами гнали они по домам), сквозь шум схватки послышался бодрый голос:
— Не уставать вам, Маман-бий, хорманг! Пропустите-ка нас вперед, отдохните! — Мырзабек-бий с двумя сотнями всадников подошел на помощь каракалпакам.
Сражение вспыхнуло с новой силой. Нукеры оказались не столь поворотливыми, как вновь прибывшие степняки на своих быстроходных конях. Если из схватки с дехканами нукеры устроили своего рода игру, гоняясь верхом за безоружными, неискушенными в кровопролитии людьми, то теперь приходилось биться не на жизнь, а на смерть. А тут подошли еще вооруженные дубинками-соилами полсотни конников под водительством Убайдулла-бия. И хотя старика тут же сбили с коня, перевес оказался уже на стороне хозяев.
С утра бывшее в деле воинство мехрема, а особенно хивинские его приспешники вконец измотались и с наступлением сумерек исчезли, канули как камень в воду…
Битва прекратилась до утра. А с первыми лучами солнца прошел слух, что нукеры священной Хивы возвратились в свой город, попросту говоря — бежали.
Слухи подтвердились, война окончилась. Люди возвращались к своим мирным домам.
21
«Строить юрту — дело добрых людей, разрушать — дело грязных свиней!»
Эту присказку не устает повторять новый хозяин Аманлыка, вообще-то человек на слово скупой. Мастеру не до болтовни, всегда делом занят. Неторопливо строгает он дерево, гнет шесты для купола юрты, строит деревянные решетки — кереге, на которые натягивается войлок… За что бы он ни взялся — все на пользу ученику. Пилит ли, режет ли, постоянно объясняет: что это такое, как и для чего делается. Устанет, приляжет боком на пахучие стружки и скажет Аманлыку:
— А ну, джигит, сделай-ка сам! Посмотрим, что у тебя получится!
И следит за работой ученика. Если Аманлык заготовку испортит, не ругается, не дерется, а, не двигаясь с места, скажет спокойно:
— Ну-ка, постой, во-он ту дощечку возьми да приложи, проверь, правильно ли получилось!
И жена мастера, бездетная болезненная женщина, оказалась доброй и отзывчивой. К Каракоз, увидев, что та беременна, отнеслась как к дочери родной, тяжелой работы ей не давала. По утрам, жалея бедняжку, у которой уж и ноги отекли, сама чай вскипятит и разбудит тихонько:
— Вставай, дочка, утро на дворе.
За доброту хозяев, за чистый, красивый труд привязался Аманлык к этому дому, полюбил искусного мастера и его кроткую спутницу. С усердием предавался он делу, его даже в город не тянуло, на диковины хивинские глядеть. И вести из аула узнавать не спешил. «Будет срок, обучусь, домой придем, сам все увижу». Вспомнится ему Бектемир, захочется пойти его повидать, и раздумает. «Уж больно злые у него шутки. Придет сюда, еще обидит бедную мою Каракоз».
Мастер, приметив усердие и понятливость Аманлыка, все больше и больше дело ему доверял. Теперь уже Аманлык один ездит в лес, выбирает и рубит дерево, для постройки юрты пригодное. Сегодня он долго бродил по лесу, и не потому, что нужного дерева не находил, а хотелось ему отдохнуть, о судьбе своей поразмыслить спокойно…
Вот проходит перед глазами вся его прожитая жизнь, вспоминается сын Жаксылык. Где он теперь? Найти бы его, стал бы он тоже мастером, юрты бы строил. Жаксылык — добро. Добрый служил бы доброму делу, получил бы благодарность от людей… «Женил бы я его, пошли бы у него дети. Нянчил бы внуков, и Кара-коз, моя бедная, успокоилась бы, нашего ребенка добрым человеком воспитала. Не скорбели бы мы о прошлом, радовались будущему, говорят, жить хорошо можно, а умирать всегда плохо. Ну, да хоть выпала бы смерть полегче».
Частые удары «тук-тук-тук» нарушали дремотную тишину леса. Аманлык прислушался. Кто это так часто топором стучит? Похоже на Бектемира, — он ведь всегда торопится, — такой уж у джигита характер… Да откуда ему тут взяться?
Но все же Аманлык пошел на стук. Действительно, какой-то парень рубил иву. В такт каждому удару топора на голове дровосека подскакивала черная шапка. Конечно, Бектемир! Мало кто в этих местах носит черные шапки. Хотел было Аманлык подкрасться к дровосеку потихоньку да напугать, а потом решил, что не пристало ему такое ребячество, и издали окликнул Бектемира.
— Оу, Аманлык-ага! — Бектемир живо обернулся, вытирая пот своей черной шапкой, лицо его расплылось в улыбке. А когда чин чином поздоровались, первым делом спросил:- Жива, что ли, ваша безносая, Аманлык-ага?
«И зачем я о бедняжке своей этому болтуну рассказал?» — с горечью подумал Аманлык, и взгляд его посуровел.
— Смеяться тут не над чем, — сдержанно молвил он. — Принесет мне она будущее мое — ребенка, матерью станет, а мать всегда красивая, хоть курносая, хоть шепелявая, а лучше ее на свете нет.
Бектемир понял, что обидел друга, но смущаться было не в его характере.
— А знаете вы, что у нас в ауле делается, Аманлык-ага?
— Ничего не знаю.
Они рядком, как птицы, уселись на срубленное дерево.
— В ауле у нас все вверх дном перевернулось! — весело объявил Бектемир.
Чем же это мы опять перед богом немилостивым провинились?
— Не волнуйтесь, Аманлык-ага, с легким сердцем слушайте. Лопнуло наконец терпение у народа нашего, восстал. У ханов хивинских есть такая привычка: под-
ставил ты одно плечо — так тебе на всю спину груз навалят. Мухаммед Амин-инах как сел на трон, так отправил с Есенгельды-мехремом сорок нукеров, дань с нас золотом собирать на укрепление престола. Ну, а степные наши каракалпаки откуда золото возьмут? Маман-бий, говорят, в гневе сел на коня и поднял народ против хивинских сборщиков. К нему на помощь не только Убайдулла-бий, но и Мырзабек-бий со своими джигитами пришли. Аул Есим-бия поднялся, все как один. Битва произошла кровопролитная. Даже бедняга Убайдулла-бий на старости лет пал смертью храбрых. Узбека Кудайбергена, что из Шаббаза пришел, хивинский нукер зарубил. «Ты, говорит, предатель!» Говорят, сейчас между аулами ни лес, ни даже камыш не растет, — осталась голая степь, как в землях Малого жуза. Все огонь слизнул!
— Есенгельды на чьей стороне сражался?
— На хивинской. И многие сородичи его к хивинцам перебежали. А хивинцы, говорят, один аул на другой, как собак, натравливали, а сами со стороны камни кидали.
— Ой, да неужели правда?
— Как я все это услышал, душа во мне загорелась! Не знал, что и делать: то ли тут оставаться — доучиваться, то ли домой бежать. Что хорошо, так это что Маман-бий разъярился да и убил из Хивы прибывшего есаул-баши. Еще десяток нукеров с землей сровняли, а остальные в Хиву убежали, да и Есенгельды, говорят, с ними в город подался.
— Ой, беда какая! Теперь хан озлится, всю свору свою на нас спустит, весь народ наш истребит до последнего человека, на семя никого не оставит!
— А вот и нет! В том-то и дело, что нет! Хан-то, видно, разбирается, что к чему. За есаула своего, говорят, нисколько не обиделся. Тот, оказывается, не одному Мухаммед Амин-инаху прислуживал, а и другим многим ханам до него, как подхвостник, от одного осла к другому переходил. «Так ему и надо, — сказал, говорят, хан, — незачем было мирный народ мутить». Целую неделю держал хан Есенгельды нашего у себя во дворце в почете и уважении и домой отправил с пятью-шестью муллами. «Будете, сказал, темный народ каракалпакский лучами мудрости хивинской озарять» — учить, значит. Убайдулла-бий, слышал я, при жизни еще большой аул сыну своему Орынбаю построил, «Орынбай-кала» даже назвал, «город Орынбай», хотел мулл бухарских позвать, а хан туда от себя без всякого приглашения своих мулл послал: «успокойте, мол, волнение в народе!» Разве это не хорошо?!
— Да уж куда лучше, если и вправду все так и есть!
— А разве Хива и на самом деле не светильник разума, весь край наш озаряющий? — сказал Бектемир. — Мы-то с тобой учимся мастерству разве не у Хивы? Недаром говорят, счастлив народ, у которого мастеров много. И у нас будут свои умельцы, и у нас будет хорошо. Вот Маман-бий во всяком деле мастер, а уж слово его — благословение его устам — любого человека за собой поведет, и вы, знаю я, ради него жизни не пожалеете! А все же скажите спасибо и Есенгельды за то, что мудрых старцев — мулл за собой из Хивы привел. Затеется в народе раздор или тяжба какая, будет кому спорщиков по божьему закону рассудить.
— Скажи-ка лучше, где ты все эти разговоры слышал? — Аманлык усомнился. Уж больно все складно получалось.
— Да в Хиве от разговоров о каракалпаках оглохнуть можно. Вчера я Айдоса видел. Он все это мне и сказал. А ему сам хан говорил.
— Аи, какой вежливый хан! — Аманлык все еще сомневался. — Айдос-то ведь еще мальчик, а хан с ним советуется, а? Пусть тысячу лет живет такой хан, коли он есть на белом свете!
— Пусть ангелы скажут аминь! — добавил Бектемир.
Они долго сидели молча, то мысленно благословляя хана, что послал мулл народ просвещать и уладить все миром, то опасливо раздумывая: а что из этого посольства в конце концов получится? И не виляет ли под этой благостной добротой красный хвост какой-нибудь хитрой лисицы?
Непоседливый Бектемир не утерпел, нарушил затянувшееся молчание:
— Ну, Аманлык-ага, давайте-ка теперь сердечными своими тайнами поделимся… Вы первую свою юрту думаете строить кому?
— Я?.. Маман-бию построю. А ты кому первому арбу сделаешь?
— Я? Вы сначала подумали, потом сказали, и я подумаю. Вы когда домой пойдете?
— А ты?
— Мастер говорит, через год.
— А я, если божья воля будет, больше полгода здесь не останусь.
— А вы почему меня о моей жене не спрашиваете?
— Да у тебя же нету жены!
— Как это нет? Сына она мне родила: мой! Как вылитый в меня!
— Поздравляю, дай ему бог здоровья! Захватишь с собой, как домой пойдешь?
— Да я сдохну, а мальчишку своего плотнику не оставлю. Мастера этого я терпеть не могу! Злющий, себя одного любит. Росточком от горшка два вершка, а трех жен завел, да и как же он их лупит! За косы всех вместе свяжет — и давай палкой охаживать. У меня за мою все кости изболелись. Он ее бьет, а мне мочи нет! Иной раз думаю: брошу это ученье и — домой!
— Ну, это не дело. Теперь уж немного осталось. Потерпи! Давай вставай, работать нужно.
— Ну и вы малость потерпите. Я как раз ответ свой обдумал: в первую очередь, прежде чем большую арбу построю, сделаю ма-а-аленькую тележечку, адак-арбу, своему сыну, а потом — вашему, а уж там — на людей работать начну.
— Дай бог тебе век жить — не стареть!
— Не так, не так, переделывайте свое благословление. Что же это я один, без вас, на улице жить буду? Уж коли жить, так вместе! Не станет мастер юрту мне строить, какая же это будет жизнь!
— Чудной ты парень, Бектемир! А теперь вставай, пора!
Попрощавшись с Бектемиром, Аманлык положил топор на плечо и пошел в глубь леса. А Бектемир лихо размахнулся и всадил топор в недорубленное дерево. С разноголосым криком взметнулись вспугнутые птицы, и долго еще и далеко шла по лесу тревожная их перекличка, нарушая мертвое молчание дремучих чащоб.
22
Хоть и короткая была эта война, но и она то в дрожь бросала, как лютый мороз, то душила народ зноем. Хоть и вздохнули люди с облегчением, когда хивинцы убрались восвояси, но потери в аулах были немалые. Кто лишился скота, кто — дома, а кто так и мужа, отца-кормильца, сына — надежду на будущее, многие осиротели, остались в слезах безутешных.
Глянет человек на закат: «Солнце село, и слава богу! — скажет. — День да ночь — сутки прочь!» А как ляжет в холодную постель, черные мысли вздремнуть не дают. Пусть забудется горе, так тревожит забота о хлебе насущном, — где его в великом разорении этом взять? — либо опасение за день грядущий: как бы не пришли опять супостаты бить да огнем палить!
Появись в эту пору мудрец, беду народную, мысли тяжелые к сердцу принимающий, да пойди он по аулам с вещим словом своим, надежду возвещающим, — всяк человек, поднявшись с постели, оставив дом свой и добро, пошел бы за мудрецом на любую битву, лишь бы положить конец беспокойным этим ожиданиям новой напасти неминучей, незнаемой.
С часу на час ожидая нового набега из Хивы, Маман-бий собрал джигитов и по всей границе заставы учредил, чтобы и змея тайно рубеж не переползла, и мышь не перебежала. И сам он денно и нощно объезжал посты, с белого своего коня не слезая.
И вот с хивинской стороны появился отряд, какого от веку не видывали каракалпаки.
На серых ишаках ехали почтенные седые старики в белых, как пух лебединый, одеждах. Как тигры прянули наперерез им джигиты из приозерных камышей, и Маман сам предложил им остановиться, собственноручно их обыскал. Но из-за пазухи вместо тайного оружия выпало по две-три книги, и среди них обязательно Коран.
Маман, всей душой преданный науке — знанию, растерялся, стоял немо, не зная, что и делать, а джигиты окружили старцев, зло косясь на гостей.
Напуганные старики съехались вместе, сбились в кучку в ожидании ударов.
Один из мулл, бодрый еще, плотный и румяный старик с живым приветливым лицом, увенчанный огромной чалмой, слегка тронув ногой в бок огромного своего конеподобного ишака, выехал вперед и с важностью изрек:
— Разгадал, оказывается, мысли народа, к недоступным глазу высотам устремленные, многоопытный многомудрый хан хивинский. Не держит он обиды на каракалпаков за убитых своих нукеров, за то, что сборщиков его ханских с пустыми руками прогнали. «Сначала надо темному народу глаза открыть, а тогда и поймем друг друга», — молвил он милостиво и вместо нукеров, нас, почтенных старейших — мулл, послал. А в руках у нас, сами видели, не оружие, а книги. Согласно сердечному желанию Есенгельды-мехрема, повсечасно о бедном народе своем пекущегося, едем мы в ваш край учить детей ваших. Если скажете нам «не нужно», с этого самого места повернем мы ишаков и назад поедем.
На каком языке детей учить будете? — спросил Маман.
— На языке божьем.
— А что это за язык? Язык Корана.
— А каракалпакский язык как же?
К божьему языку отношения не имеет. Тогда почему же бог наш язык создал?
— Зазнался ты, богоотступник! — рассердился старец. — Сейчас же символ веры нашей, калиму священную за мной повторяй: «Лаа, илаха-иллаллахуу…»
Маман ответил:
Так это же по-арабски!
Х-ха! Да не ты ли и есть Маман-бий? — воскликнул старец, отирая лицо белоснежным платком. — Если так, то слезай с коня, прими благословение. Я Авез-ходжа ишан, духовный руководитель общины суфийской. С Мурат-шейхом вашим в Бухаре я учился. Когда отец твой Оразан-батыр в Хиву приезжал, я перед ним свой дастархан раскрыл. Хо-хо! Птенец с железными крыльями, почему требуешь ты дерзновенно, чтобы тебя люди слушали и понимали? А попробуй-ка ты сам народ понять! Что ты все нам за спины заглядываешь? Думаешь, там нукеры на конях притаились. Нет за нами никаких нукеров! Мы — люди кроткие, как голуби, с миром к людям прилетающие. Будем стремиться вызволить священный прах святого хазрета каракалпакского Мурат-шейха с проклятого побережья сырдарьинского, перенесем на священную землю Хорезма, маяком истины возвышающегося.
Ошеломленный, Маман-бий молчал.
— Почему ты на Есенгельды с ненавистью смотришь? Думаешь, он за каракалпаков меньше, чем ты, болеет, — продолжал ишан, ободренный молчанием. А вот и неправда! Знаем мы, что каракалпаки — народ малочисленный, а Есенгельды-мехрем, чтобы перед ханом свое красноречие показать, число родов-племен ваших малость преувеличил. Вот мы, рабы ислама, на ишаках едущие, и помолимся богу за то, чтобы простил он мехрема вашего, перед ханом разок солгавшего.
Не зная, на что решиться, Маман озирал окрестности зоркими своими глазами и убеждался, что за мирными старцами действительно не идет вооруженный враг на конях. Может быть, и вправду «голуби» эти смиренные дурных намерений не имеют? Но уж разговора о родах-племенах бий не стерпел:
— Если Есенгельды действительно поделил единый народ наш на множество мелких родов-племен и сказал, что это и есть множество, — значит, сильный огонь большого очага разбил он на множество мелких слабых огоньков врагам нашим на радость. Большой огонь погасить целого озера не хватит, а на маленький огонек врагам нашим одного плевка достаточно. И коли хан ваш это одобряет, а вы за вранье Есенгельды-мехрема богу молитесь, — значит, радуетесь за наших врагов.
Авез-ходжа-ишан прекрасно понял Маман-бия, и ему стало страшно, но он и виду не показал, засмеялся:
— Говорили люди, что ты ядовитая трава, а ты-то еще, оказывается, птенец желторотый. — И утер губы своим белоснежным платком.
— Ну, хватит! — хмуро молвил Маман. — Проезжайте, но проезжайте с добром. А уж если за вами следом появятся нукеры со злом, не взыщите: с вас первых головы долой полетят, а тела — в море!
— Пусть каждый останется верным своей клятве! — сказал ишан совершенно уважительно.
Люди, которые поначалу смотрели на старцев злыми глазами, теперь принимали их с распростертыми объятиями. Все же муллы сначала держались кучно, а потом разделились и поехали каждый своим путем. Везде готовы им были и кров, и пища, и свежая постель, и почетное место за дастарханом. Хивинские муллы вот уже год разъезжают по разным родовым владениям и аулам, сеют свои семена в раскрытые души истомленных горем людей. Муллы не встречаются друг с другом, но мысли и слова, которые несут они своей пастве, настолько схожи, будто они что ни час советуются между собой, друг друга поддерживают и дополняют. Однажды поверив «мирным голубям» и открыв перед ними границу, Маман-бий считал низостью и малодушием приставлять к ним соглядатаев, и они свободно творили волю пославшего их хана.
* * *
После полуденной молитвы приближенные Есенгельды-мехрема снова сидят в его белой юрте за чаем, уставившись в рот хивинского имама, который сильным певучим голосом, раздающимся по всему аулу, читает Коран. Перед тощим темнолицым человеком с козлиной бородой, ниспадающей на белоснежный халат, лежит раскрытая книга в желтом кожаном переплете. Изредка лизнув палец, он для отвода глаз перелистывает страницы, но то, что он говорит, не имеет никакого отношения к священному писанию.
«В день Страшного суда собранные на этом свете богатства никакого облегчения владельцу своему не принесут. Только страдания, в этом бренном мире перенесенные, только покорность воле божьей и терпение бесконечное откроют человеку дорогу в рай. Вот Есенгельды-мехрем, на счастье славного рода кунград рожденный, истинно верующий Мухаммеда-пророка ученик, поможет вам встать на путь истинный! Все эти слова, которые я вам сейчас доверяю, он от самого пресветлого хана из собственных уст его слышал. Хорошо человеку, если он вместе с родом своим в рай войдет. Но истинно свидетельствует нам Коран: если человек сей грешный язык свой священному языку Корана предпочтет и мудрствовать лукаво станет, того человека бог отринет и проклянет. А кто богом проклят, в ад будет низвергнут на веки веков. Берегитесь божия гнева! Помните прежде всего, что мы мусульмане правоверные, а русские, урусы — неверные, им же место в аду уготовано и всем, кто с ними пребывает»
* * *
И в доме Курбанбай-бия ведется все тот же разговор. Почтительно внемлющие хивинскому мулле люди мирно дремлют, но настойчивый голос вероучителя пробивается и в их полусонное сознание.
«Род ктай испокон веку для господства создан. Так речет всемилостивый хан наш, кому поведал это глас некий, с неба раздавшийся. Великий бий ваш Давлетбай еще на берегах Сырдарьи окаянной за господство ктая боролся и праведной смертью мученика-шахида пал. Если потомки его, верные заветам предков, дело Дав-летбай-бия завершат и во главе всех каракалпаков встанут, будут они достойны святых прародителей своих и место им будет в раю уготовано. Когда человек у бога детей просит, должен он и о своем месте в потустороннем мире позаботиться. Учащий дитя свое на языке Корана прежде всего научит его благочестию мусульманскому: с неверными не якшаться, есть правоверному мусульманину из одной чаши с урусом — неверным — великий грех. Для праведных — райские кущи, а для грешников, неверными соблазненных, — на веки веков ад».
* * *
«…Ах, Аманкул-бий, человеку с таким стройным станом, с таким добрым светлым лицом, как у вас, просто-таки предписано в священной книге, Кораном именуемой, вместе с родом-племенем своим всеми каракалпаками здешними править. Эх, если бы пошли вы да встали пред светлые очи всемогущего хана нашего, да голову перед ним склонили, да… эх, что тут и говорить!.. Однако же не забывайте: в Коране сказано: если кто пострадает в борьбе за чистоту ислама с неверными, душе его уготовано место в раю… Урус-бия остерегайтесь…»
* * *
Хивинский мулла, самое высокое место захвативший — иминбер в «Орынбай-кала», был самым начитанным и хватким проповедником ислама среди всей честной своей братии. Его чалма, халат, борода, даже штаны были белее белого, не всякий лебедь с ним белизною сравнится. Напирая на прежнего орынбаевского муллу из Бухары в разговорах о Страшном суде и вообще о том свете, он своего предшественника оттеснил и сегодня впервые взобрался на минбер. «Когда бог задумал вселенную создать, то прежде всего ад для иноязычных иноверцев учредил, а уж потом — рай для правоверных мусульман. А тюркский язык есть также язык мусульманский. Недаром изрек пророк Мухаммед: «Раб божий, у кого язык повернется «алламидулла» выговорить, в аду не останется». Вы, каракалпаки, на жана-дарьинских берегах проживающие, — суть камыши, между адом и раем произрастающие. Как поднимется ураган с русской либо с казахской стороны, вздуются волны на реке, и вы все утонете, прямиком в ад угодите. Но милостию божьею лицо ваше искони в нашу сторону, на юг обращается. И горе вам, если на север, в сторону иноверцев, богом проклятых, вы лицо свое повернете! Когда еще деды и прадеды ваши в благословенные наши края кочевали, они на светильник мира, священную Хиву нашу, с надеждой взирали. А Хива из Мекки-Медины немеркнущим солнцем вселенной озаряется…
Много вы терпели, много страдали, и место вам в райских садах предопределено. Но если язык заблудшего брата вашего словами чужой веры оскверняется, великая заслуга и долг ваш к истине — исламу его воротить. А не поддастся увещаниям вашим, тому, кто уничтожит неверного, при жизни земной слава, а в жизни вечной — райское блаженство.
Тайну, великую тайну благочестивого и всемогущего хана нашего я вам сейчас поведаю. А вы уж ее, смотрите, никому не выдавайте, храните в сердце своем. Мудрый хан наш жанадарьинских каракалпаков, к роду покойного Убайдулла-бия — да будет земля ему пухом — принадлежащих, из всех каракалпаков наидостойнейшими считает. Из вашего рода советников хочет всемогущий хан к своей особе приблизить, взять к себе во дворец… Коли сумеете вы, лишнего часу не медля, захватить власть в свои руки, дела ваши на лад пойдут… Уж если правду сказать, спесивые кунградцы его светлости надоели, во все дела ханские нос суют… Не мешкайте, и будет вам счастье на том и на этом свете…»
* * *
Подобные речи вели «мирные голуби» в белых одеждах и в ауле Есим-бия, и в селении Гаип-бахадура, и даже у пахарей Бегдуллы Чернобородого. А народ принимает речи эти со вниманием: всякому лестно услышать похвальное слово своему роду-племени, да и в тайне, которую хранить советуют наставники духовные, тоже что-то привлекательное есть. И хранят, сколько терпения хватает.
Маман-бий встретил однажды Бегдуллу Чернобородого, заметил, что тот какой-то невеселый, на себя непохож. О делах, о здоровье его расспросил и между прочим о том, какими хивинские муллы ему показались.
Бегдулла и пересказал Маману, что за слова «мирные голуби» среди народа распространяют. У Мамана чуть глаза от гнева не выскочили, а Чернобородый с беззаботной будто бы усмешкой еще и добавил:
— А что ж тут такого? Нечего удивляться!
— Опять, значит, лисьи уловки Абулхаировы, поджигательство Гаип-ханово в ход пошло… Проклятые ханы те подохли, а хитрости их другим достаются, — все они из одной колыбели выходят, одними пеленками повиты, одним ядовитым молоком вскормлены! Ох, Бегдулла, Бегдулла, опять один род на другой натравливают, одному племени нож, другому копье суют… Что и делать с ними, ума не приложу!
Постояли Маман-бий с Бегдуллой, подумали и поехали к Есим-бию в аул посоветоваться. А тот и вовсе с горя в постель слег. Красный весь, томился в жару.
— Люди эти — камни, ханом в нас брошенные, да только камни молчат, а эти с языком, — сказал Есим-бий. — Был у меня вчера пресловутый этот Авез-ходжа-ишан. Он мне так, не обинуясь, и выложил: «Вы, мол, роду жалаир принадлежите, а роду этому над всеми каракалпаками господство самим богом предопределено». Я с ним спорить стал, а он мне в глаза рассмеялся, бесстыжий. На том и разговор наш кончился. Некогда пустоголовый — не тем будь помянут — Гаип-хан то же самое мне болтал…
Не вытерпел Маман-бий, вскочил на коня и помчался Авез-ходжу искать. Ишан оказался в ауле «Аранша кенегесов», прозванных так за то, что мастера были арыки копать.
Авез-ходжа-ишан сидел у себя в юрте хмурый. Только что закончилась у него беседа с аульчанами, и нашлись среди них люди разумные, стали ему возражать, он и поторопился, чтобы смуты не вышло, народ распустить, удалился к себе, сидел один и ел простоквашу. Увидев злое лицо входящего в дверь Маман-бия, он вскочил, бороды и усов не обтирая, сам первый стал расспрашивать Мамана о делах и здоровье.
— Вот что, таксыр, господин мой, — молвил Маман-бий глухо, тяжелый гнев душил его, — вы у нас здесь как точильщик на базаре, сразу двум хозяевам друг на друга ножи точите. Этим своим двурушничеством вы у себя дома, в Хиве, заниматься можете. А нас избавьте!
— Если уж тот бий, которому сам преосвященный Мурат-шейх благословение дал, нам не доверяет, за нами соглядатаем ходит, то чего же нам от других людей, доброе слово наше искажающих, ждать?! — заговорил ишан, тряся бородой, перемазанной простоквашей. — А мы — смиренные рабы ханской воли, стремимся слепым щенкам ислама незрячие глаза их открыть.
— Какова же именно воля вашего хана? — спросил Маман, смиряя свой гнев.
— А вы поговорите с ханом самим — узнаете! Верите ли, думы пресветлого хана нашего словно прозрачная вода, в чашу серебряную налитая. Взгляните в чашу ту — дно увидите и свое отражение в ней.
— Нет, таксыр, если действительно вы языком хана мысли его выражаете, то все это ложь. Мысли хана вашего — бездонный колодец. Заглядывал я в него: холодно там и темно. Страшно даже становится. Лучше забирали бы вы с собой свой камень точильный да убирались бы восвояси, в Хиву!
— О-о! Кяфир-неверный, выродок из мусульман, ядовитая горькая трава! Вспомнишь еще нас, когда будут рвать полы одеяния твоего верные щенки ислама, которым мы раскрыли глаза на скверну твою! — зашипел ишан, брызжа слюной.
— И тогда нас разнимать не суйтесь!
— Хоть и стукнуло тебе много лет, а все живет в тебе глупое мальчишеское упрямство. Уйдем! Не приросли мы к скудной вашей земле!
В дверях показался Жаксылык и заговорил, запыхавшись, еле дух переводя, — видно, бежал, торопился:
— Багдагуль-шеше прислала. Ехали бы вы домой, говорит. К вам в гости Айдос с друзьями жалует.
Глаза Мамана загорелись радостью, лицо осветилось доброй улыбкой:
— Сейчас, сынок, сейчас поедем!
— Помни! — крикнул ишан вслед уходящим. — Только в Хиве благодетельной обретут мудрость такие упрямые глупцы, как ты!
23
То, что Айдос со своими друзьями собрался его навестить, Маман посчитал большой удачей, не сомневался: самые заветные стремления его поможет разумный этот юноша осуществить. «Посмотрим, — думал Маман, — чему их там в Хиве научили: сухой грозой или дождем благодатным придут они на родную землю. Пусть послушают ученых джигитов и здешние наши ребята. Недаром ведь Кузьма Бородин говаривал: народ без знаний — что бурдюк, на дороге валяющийся, каждый встречный-поперечный ногой его пинает».
Созывая к себе в дом на встречу Айдоса и старых, и малых, и биев, и пахарей, замыслил Маман-бий и другое важное дело: выяснить до конца и рассказать народу о том, чем занимаются здесь хивинские праведные старцы, какие семена сеют среди людей. И если окажется, что и вправду все они, по примеру ишана, родовую вражду и раздоры насаждают, пусть убираются в свою Хиву поскорее. Никто не вправе, делая вид, будто человеку глаза открывает, исподтишка его в сердце колоть! Не было у Мамана скота, чтобы барана или бычка зарезать, и приказал он единственного своего коня для почетных гостей заколоть. А тем, кто удивился, — как же так, — коня лишиться? — коротко ответил:
— Конь, друзья мои, для езды со временем другой найдется, а души человеческой, будущего для народа моего, надежды светлой такой, как Айдос, так-то просто не сыщешь. Конем будущему нашему пожертвовать для меня большая честь… — И, отвернувшись, молвил: — Колите!
В пустую просторную юрту Мамана, от которой и в светлый солнечный день веяло сумраком и печалью, сегодня словно теплое лето пришло. Даже висящие у дверей черные шапки и старые халаты казались теперь яркими и нарядными…
Торжественно проводив старших на почетное место, молодые люди скромно присели на коленях по обе стороны аксакалов. Ближе всех к Маману сидел Айдос, за ним его однокашник Кабул. Приветствуя вновь приходящих старейшин вставанием, мальчики снова садились, скромно потупившись, все это делали они легко, ловко, с изяществом, как и подобает хорошо воспитанным юношам Хивы. Все заметили, что Айдос, с которого все товарищи его глаз не сводили, повторяли каждое его движение, слегка побледнел, круглое румяное лицо его осунулось, крупная фигура словно бы поникла, как привядший камыш, жаждущий влаги.
— Видно, наука-то тянет соки из человека, — тихонько перешептывались старшие между собой.
А народ все подходил и подходил к юрте бия. Те, кому не хватило места в доме, рассаживались вокруг на земле, и уже образовалось два-три ряда любопытных. Войлок на стенках юрты приподняли, и сквозь обнажившиеся решетки кереге видно было все, что происходит внутри. Желая обратить внимание народа на примерное поведение учеников медресе, Маман-бий поднялся со своего места.
— Вот, дорогие мои, что значит получить воспитание в школе, — сказал он. — Спасибо вам, дети мои, за ваше внимание, за уважение к людям. Наука и знание возвышают человека. И если вы, образование в Хиве закончив, поедете учиться еще и в страну русских, то подниметесь на такую вершину, с которой весь мир увидите как на ладони.
— Все еще будет, ата, дайте срок! — с достоинством молвил Айдос.
Умница ты, сынок! Если птенец вороны выкарабкается из гнезда да на ветку рядышком сядет, он уж и каркает от радости, что высоко залетел. А если птенец беркута, в поднебесье взмыв, всю вселенную не облетит, он считает, что и вовсе не взлетел. Беркутом стать великое счастье! Будьте же и вы беркутами, дети мои!
— Бий-ата! А почему народ наш не смог наукой-знанием хотя бы с Хивой сравняться? — спросил Айдос.
Все, кто был в юрте и кто снаружи сидел, замерли в ожидании ответа. Все понимали, что жизнь и смерть народа решает этот вопрос. Старые бии потупились, словно окаменели. Волнуясь, оглядывал Гаип-бахадур привезенных с собой юнцов. Только Есим-бий оставался спокойным, зная, что у Мамана на любой вопрос найдется достойный ответ. Растроганный, любовался он Айдосом, по-взрослому чинно сидевшим в кругу старейшин, с лицом, выдававшим, однако, наивное ребячье его ожидание.
— Ждал я от тебя этого вопроса, сынок дорогой! — воскликнул Маман-бий. — Ты еще все это сам увидишь, сам поймешь. Бедный народ наш когда находил хлеб, то не было у него дастархана, куда хлеб этот положить. А соседи наши, будто бы нас жалеючи, расстилали перед нами свой дастархан. Только мы на него хлеб положим, они дастархан свернут и вместе с хлебом уносят, а мы ни с чем остаемся. И все потому, что среди нас-то самих не было единства. О науке-знании никто у нас и думать не хотел. Всяк сам по себе, от греха подальше в сторонку становился. Так мы все в стороне от общей дороги и остались, и люди добрые нас забывать начали. Будто туча тяжелая окутала юрту, люди сидели понуро, друг друга не замечая.
— Бий-ата! А вы испытайте, каким таким наукам-знаниям молодые муллы наши обучились! — крикнул снаружи чей-то задорный голос.
Сидящие в юрте, будто очнувшись от тяжелого сна, оживленно задвигались, заговорили:
— А ну-ка, ну-ка! Испытайте их, испытайте!.. Посмотрим, чему их там, в Хиве, научили!
Маман-бий не спеша разгладил усы, окинув юнцов испытующим взглядом, спросил:
— Скажите, дети мои, кто кому и что в народе нашем в долг дает, а кто и как с долгами своими расплачивается?
В юрте на мгновение воцарилось молчание, а потом люди начали шептаться между собой, робко предлагая свои решения; старались вспомнить, кто у кого что занимал: рыбу, скот, зерно, даже о проигранных ребятишками альчиках не забыли. Айдос переглянулся с Кабулом, шевельнулся, привстав, уселся поудобнее и прижал руку к груди:
Уместным ли, бий-ата, сочтете, если я ответ дам?
— Да бий тебя только и ждет! Говори, говори!
— Разреши ему, мудрый бий! — загомонили собравшиеся.
Маман-бий поднял руку — тихо! Говори, сынок, не стесняйся! У народа нашего все дети родителей своих должники, — молвил Айдос.
— Как? Как? — зашумели снаружи сидящие. Пока не утихли их голоса, Айдос, волнуясь, переводил дыхание, искал слова, думал.
— Смысл сказанного в том, что каждое дитя в долгу у родителей своих за то, что родился, что растет, заботы не ведая. А если достигнет лет совершенных, за родителями своими ухаживает, значит, возвращает им свой долг.
— Вот это да!
— Аи, молодец!
— Умница!
— Священной Хиве спасибо!
— Хиве низкий поклон!
Хотелось Маману встать и поцеловать юного мудреца, да, услышав славословие Хиве, сдержался: «Как бы народ всецело Хиве не доверился, не клюнул бы на приманку хивинских мулл, раздор приносящих!»
— А кого можно считать бедным среди народа? — задал бий второй свой вопрос неспешно.
Айдос подмигнул Кабулу: ты, мол, теперь отвечай.
— Если почтенные аксакалы позволят, я скажу.
— Говори, говори, отвечай! Маман-бий кивком разрешил: скажи.
— Бедняк не тот, у кого достаток мал. Бедный тот, у кого ни родных, ни друзей нет, одинокого и защитить некому.
Снова всколыхнул сидящих ропот одобрения, снова посыпались благодарности Хиве.
Старый Есим-бий глянул на Мамана, понял по хмурому лицу невеселое его настроение, осторожно вступил в разговор:
— Наслышаны мы, Айдос-сынок, что ты с самим ханом беседы удостоился? Каков тебе хан хивинский показался?
В знак уважения к особе хана Айдос приподнялся и снова сел, выпрямившись, плечи расправив, как подобало приличию:
— По-моему, нет на этом свете человека, светлейшему хану нашему достоинствами равного. В обращении с людьми доступен хан наш и прост, мысли свои мудрые высказывает ясно, будто в чистом зеркале они отражаются.
— Айдос, сынок, — вступил в разговор Маман, — с тобою беседуя, всегда ли хан все твои слова одобряет или бывает, что заметит: «А это сказал ты неправильно»?
Айдос снова приподнялся и сложил руки на груди.
— Пусть бог свидетелем будет: неоднократно имел я счастье беседовать с великим ханом нашим, но ни разу не слышал от него: «Эй, каракалпак, а вот это твое слово ложно!»
Люди замерли, сдерживая дыхание, словечко боясь упустить.
Маман-бий качнул головой, сожалея:
— О-ой, сынок, видно, мысли хана — глубокая тайна! Слово его как лед, снегом покрытый, а что под ним, неведомо никому. Если ни одно слово твое не признал он неправильным, значит, не хочет он тебя от опасной полыньи на пути твоем предостеречь, сынок!
Краска мгновенно залила лицо Айдоса, капли пота выступили у него на лбу, но, все еще пытаясь сохранять сдержанность, приличествующую взрослому человеку, он, кривя губы в усмешке, процедил:
Теперь понимаю, почему называют вас, бий, ядовитой травой: все еще надеетесь, что род ваш ябы будет главенствовать над каракалпаками. Не надейтесь: только Хива принесет благоденствие народу.
— Айдос, сынок, — молвил Маман-бий скорбно, — рано зазнался ты, а народ без вас, молодых, остывшей золе подобен. Одумайся, попроси прощения за оскорбление старших!
Весь лоск «хорошего хивинского воспитания» мигом слетел с исказившегося злобой лица Айдоса.
— Нет, это вы просите прощения у посланца священной Хивы, это вы оскорбили великого хана хивинского! — грубо закричал он. — Недаром говорится: старый волк, из ума выжив, своих же щенков пожирает. Теперь понял я вас, старый бешеный волк, на людей бросающийся!
— Айдос, сынок, — возразил Маман терпеливо, — опомнись, пусть ошибка отца станет укором сыну. Я хоть и малочисленный народ свой гнездом беркутов все же считал! Теперь вижу — ошибся: неведомая сила злая превращает его в гнездо летучих мышей! Проси прощения, пока не поздно!
— Старый козел! — не помня себя, заорал Айдос. — Вы со своим «считал» да «считаю» в полынью народ ведете, поймите, в полынью! — Вскочил стремительно, словно под ногами своими змею увидал. — Мы пошли! — И стремглав бросился к выходу. За ним, шумя, приказывая успокоиться, опомниться, поднялись потрясенные аксакалы.
Не слушая ничьих просьб и уговоров, Айдос ринулся прочь, а за ним и все его товарищи, и потерявший голову Гаип-бахадур, сопровождавший молодых мулл в аул Маман-бия.
Никто не услышал слабого голоса Есим-бия: «Вернитесь, дети, вернитесь!» — юрта мгновенно опустела, померкла, и снова стало в ней уныло и просторно, как в печальной осенней степи.
Уверенный, что юнцы одумаются и вернутся, Маман-бий не бросился их догонять, уговаривать, а старался успокоить старших:
— Люди, родные, не волнуйтесь, не расходитесь! Молодость, как рыба в воде, плывет против течения, пока на преграду житейскую не наткнется. Мальчик обманут, но он это поймет, и ошибка сегодняшняя будет ему уроком… Такой находчивый умный джигит, избалован он похвалами, а призадумается — пальцы будет кусать от стыда, придет еще сам прощения просить! А вы садитесь! Садитесь!
Айдос и его товарищи не слышали слов Мамана, не слышал их и Гаип-бахадур, поспешая за Айдосом и юнцами, растянувшимися цепочкой. Когда запыхавшийся, с тоской озирающийся, как верблюдица, оставившая позади верблюжонка, Гаип-бахадур нагнал наконец вверенных его попечению прытких молодых людей, навстречу им выехал на своем конеподобном ишаке Авез-ходжа, словно бы подстерегавший их на дороге. Авез-ходжа знал, куда был приглашен Айдос, и сейчас, увидев его вытирающего пот со лба и ребят, бегущих друг за другом с пыхтящим, еле дышащим Гаип-бахадуром позади, понял, что вышло что-то из ряда вон выходящее. Сначала он было вознамерился с ходу начать изобличение Мамановых «хитростей» и «козней», но вовремя одернул себя: «Наш день еще наступит…» — и тоном заботливого отца, о несовершенстве мира сего скорбящего, заговорил:
— Сынок мой Айдос, обиделся ты, вижу я, на Мамана. Не обижайся, милый, понапрасну не расстраивайся. Разве Маман этого стоит? Ведь человек обижается на равного ему человека. А ты на кого?.. Когда впервые встретились мы с ним и он спросил: «На каком языке учите вы детей?» — я понял, что невежда этот путает каракалпакский язык свой с языком божьим. Об этой дерзости его я великому хану нашему сообщил и повеление его получил, каковое сегодня же обнаро>-дую. Мамана — богоотступника — покараю.
А когда месть моя свершится, свободно хлынут благостные ветры юга на землю каракалпакскую. Есенгельды-мехрем и ты, славный род кунградский, будете теплым ветром этим, воле вашей послушным, повелевать.
Сердитый Айдос молчал.
Авез-ходжа тронулся вперед, не ожидая ответа. «Мальчишка, что он понимает… Ну, да потом поймет», — пробурчал ишан себе под нос и, дав пинка безответному своему ишаку, потрусил к аулу Есенгельды-мехрема.
* * *
Выйдя вслед за нарушившими мирную беседу юнцами на улицу, гости Мамана в нерешительности толпились около юрты: может, одумаются ребята, вернутся назад, — грешно же пренебрегать дастарханом большого бия. И гости все поглядывали на дорогу.
— Хо! Смотрите-ка, кто там по-над берегом идет? Не Аманлык ли? — крикнул какой-то глазастый парень. Все, прикрывая руками глаза от слепящего солнца, повернулись к Кок-Узяку.
Только заслышав слово «Аманлык», взволнованный Маман-бий, опережая других, ринулся к берегу, не отрывая взгляда от ярко освещенных солнцем двух путников, идущих у края воды.
«Похоже, и впрямь Аманлык! А кто это с ним? Женщина?.. Шагают ровно». В глубине души бий не терял надежды, что хоть и окажется это сказкой, но отыщет рано или поздно Аманлык сестру свою Алмагуль. И сейчас радостью дрогнуло сердце Мамана…
А издали завидевший у юрты Мамана множество людей Аманлык, заранее ожидавший счастливой встречи, — наверное, к тою готовятся, ребенок, может, у бия родился, — весело осклабившись, издали закричал:
— Ассалаума-алейкум, старейшины! Добрым путем иду к вам на той! Не осуждайте, что с пустыми руками: несу вам в дар веселое свое ремесло. Выполнил я повеление любимого бия нашего — юрты строить научился!
Маман-бий, издавна привыкший по наказу отца своего Оразан-батыра мерить судьбу народа по участи семьи сиротской, с радостью шагнул навстречу другу.
— С новым умением-ремеслом, со счастливым прибытием в аул поздравляю! Добро пожаловать, молодец! Честь и слава тебе, что не пожалел труда своего, нашел сестру свою, дорогую нашу Алмагуль!
Дрожь пробежала по телу Аманлыка.
— Ошиблись, бий! — сказал он, опасливо оглянувшись на свою спутницу. Зорок глаз Маман-бия! И с новым волнением, бледнея от охватившего его сомнения, всматривался Аманлык в лицо жены, ища в нем родные черты.
А Маман, охваченный радостью встречи, одного опасаясь, чтобы не обидеть холодностью столько лет томившуюся вдали от сородичей Алмагуль, устремился к женщине с распростертыми объятиями:
— Иди, светик мой, Алмагуль! Давай поцелую глаза твои от всего народа нашего, в малолетстве твоем тебя утерявшего.
— Ошиблись, бий наш, ошиблись… — твердил Аманлык, с ужасом глядя на жену, которая от возгласа бия «Алмагуль!» покачнулась, как от удара, и, словно человек, внезапно облитый ледяной водой, задрожала, встряхивая головой, судорожно хватая руками воздух. Более двадцати лет никто не называл ее по имени, да она и сама его забыла, все забыла, кроме одного, как встала она, шатаясь, на дороге, как с криком взлетело над ней воронье, как шла она потом, повинуясь чьему-то приказу, за солнцем, утром на восток, днем на юг, вечером на запад, кружила, кружила и кружила, как теленок, привязанный к колышку, и никак не могла отойти от места, где когда-то упала. Годы мазали ее белое тело черной грязью, а черные волосы — белой краской. Заживала рана на языке, загрубел шрам на кончике носа, а она, все казалось ей, кружилась, кружилась, кружилась, теряя силы и память, пока не пришла к теплым рукам того, кого назвали сейчас впервые за долгие годы знакомым, дорогим именем «Аманлык».
А тот все твердил с упрямством безнадежности:
— Ошиблись, бий, ошиблись. Она не Алмагуль — Каракоз!
А сам со все нарастающей тревогой вспоминал, как часто хотелось ему всмотреться в лицо дорогой жены, но боялся огорчить ее, стеснявшуюся своего увечья, все боялся обидеть такую робкую, забитую, жалкую… Где же было и ей узнать в этом обезображенном когтями тигра седеющем человеке с лицом, изборожденным горестными морщинами, веселого, хохочущего парня, зд которым, преданно заглядывая в лицо, бегала она чумазой девчонкой с красными ягодками спелой джиды в ушах.
— Не Алмагуль она — Каракоз!
— Никогда ты не шутил со мной прежде! — все еще не понимая, что происходит, молвил удивленный Маман-бий. — Видно, теперь, когда душа твоя успокоилась, решил пошутить со старым бием своим, да? Шути, шути, меня не обманешь! Ведь знаю я, что ты сестру свою искать пошел.
И тут с решимостью отчаяния Аманлык шагнул к женщине и, как в детстве бывало, с силой дернул ее за косу.
У-а-а-а! — так кричала маленькая Алмагуль, когда ей делали больно.
Белый, без кровинки в лице, Аманлык отпрянул назад и резким движением выхватил из ножен меч Ораза-на. Полы его халата, связанные за спиной, распахнулись, с жалобным писком выпал из них новорожденный младенец и, ударившись оземь, затих. Ничего не видя вокруг, Аманлык схватил за волосы Алмагуль и что есть силы полоснул ее мечом по горлу. Фонтаном брызнула кровь, но, не дав телу упасть, Аманлык подхватил его, еще содрогающееся, и столкнул с высокого берега в реку. Голубая вода вспенилась кровью, но Аманлык, не глядя вниз, стремительно повернулся, рухнул на колени перед ошеломленным Маман-бием, протянул ему обеими руками окровавленный клинок и, до ломоты согнув шею, умоляюще прохрипел:
— Убей меня, ради бога всемогущего! Запутался я: родную сестру в жены взял, сам того не мысля. Сжалься надо мной, сними грех с души, смой кровью моей окаянной пятно с рода человеческого. Пусть никто, кроме тебя, не узнает о страшном деянии моем! Не мучай, убей!
Слезы хлынули из глаз Мамана, сердце, казалось, окаменело у него в груди, руки повисли бессильно. Но, тяжко вздохнув со стоном, расправил он плечи, принял отцовский меч из онемевших рук Аманлыка и, глядя прямо перед собой, изо всей силы ударил по жилистой шее друга. Голова отскочила прочь и покатилась по траве…
И в этот миг подбежали к Маману его гости, долгое время не желавшие мешать встрече друзей и наблюдавшие за ними издалека.
Маман, с искаженным лицом, встал перед аксакалами, не давая никому подойти к берегу Кок-Узяка. А толпа перед ним росла. Пораженные ужасом люди теснились, совсем забыв о младенце. Но не забыл о нем Маман-бий. С лицом, посиневшим, как воды Кок-Узяка, он подошел к ребенку. Ударившийся мягким темечком о землю, младенец был мертв, но Маман, не видя этого, бережно поднял маленькое тельце и нежно прижал к груди, бормоча: «Не успев взглянуть на свет божий, чем провинился ты перед людьми, дитя мое, мечта моя, сиротинка моя? Беспомощный, как и народ мой несчастный, смиришься ты перед слепою судьбой. Но нет, нет, твоя жизнь впереди! Мы с тобой, верю, доживем еще до светлых дней… Я жду, и ты расти и жди… Я, старый, живу и жду хорошего, будущего, и ты, и ты жди…»
И, не мысля о том, что можно доверить хоть кому-нибудь на свете страшную тайну усопших, Маман себя, себя одного ощущал хранителем и виновником этой тайны, носителем правды жестокой, безобразной, невероятной. Он предстал перед народом с мертвым младенцем на руках, с искаженным нечеловеческой мукой пепельно-серым лицом, с налитыми кровью глазами. Густые седеющие волосы дыбом стояли над его высоко поднятой головой. И люди решили, что он обезумел. Никто не смел слова молвить или приблизиться к нему. Стояли перед ним толпой, немо и недвижно. И только Есим-бий осмелился сказать:
— Выжил ты из ума, беркут с поломанными крыльями! — И все услышали его дребезжащий старческий голос. — Неудачами своими разъяренный, сорвал зло на невинных, погубил преданную тебе семью, с радостью на родину воротившуюся. А ведь к тебе они шли, на тебя уповали! Воистину безумный ты, сам против себя восставший! Своими руками начал ты истреблять народ свой, об умножении которого сам же заботиться призывал! — Безмолвно кинулся Нурабулла к коновязи, отвязал своего ишака, посадил на него двух своих сыновей — близнецов, сам вскочил позади мальчиков и, нахлестывая ишака, уехал.
— Давайте, поехали! — крикнул Бегдулла Чернобородый своих аульчан. — От человека, ума лишившегося, добра ожидать не приходится!
— Маман с ума сошел… Маман обезумел., бий ума лишился… — зашелестели в толпе.
— Я-то сразу понял, что бий спятил, когда он единственного коня своего зарезал! — хвастливо молвил до пояса голый рыбак в штанах, подвязанных веревкой. Жаксылык, эй, эй, Жаксылык! — Топивший очаг перед котлом юноша бежал к толпе с перемазанным сажей лицом. — Глянь! Отец твой воротился, а сумасшедший этот Маман-бий его зарубил!
В недоумении остановившийся перед толпой, Жаксылык стремглав бросился назад, выхватил пылающую головешку из огня и сунул ее под камышовую дверку Мамановой юрты. Огонь змейкой скользнул вверх, и в этот миг снова поднялся с моря сильный, упругий ветер, юрта вспыхнула, как огромный костер, с треском запылали камышовые циновки, гудело желтое пламя, увитое черным дымом.
А ничего не понявшая Багдагуль металась вокруг, голосила:
— Люди-и! Воды! Воды! Во-о-ды-ы-ы!
И тут появился незнакомый всадник на неоседланном коне:
— Не говорите, что не слыхали! Не говорите, что не видали! Слушайте повеление хана нашего, — вопил он. — Маман — богоотступник! Маман — кяфир неверный! Мусульмане, бегите от него! Проклятие на нем навеки нерушимое! Мусульмане, бегите от Мамана…
Никому и в голову не пришло, что это посланец коварного Авез-ходжи, ловко воспользовавшегося всеобщей смутой. Люди постояли, разинув рты, в недоумении, и бросились врассыпную. Юрта догорала, треща и шипя, — некому было остановить Жаксылыка, некому помочь несчастной Багдагуль. Как вкопанный застыл над рекой пораженный новой бедой Маман-бий: «Что еще за бедствие разразилось надо мной? Чем я еще про винился?»
С широко открытыми глазами на обожженном солнцем лице, стоял Маман, неподвижный, как каменный идол, и упругий ветер с моря играл, развевая полы его багрово-красного халата, все дальше унося кувыркающуюся в воздухе черную шапку — каракалпак.
Вдруг посиневшие губы Мамана шевельнулись:
— Эй, люди, дорогие мои люди, родные! Не верьте, что я безумный!.. Не расходитесь!.. Не бегите от меня! — Но слабый голос его подхватил и унес ветер, а Маман продолжал взывать в пространство: — Не убегайте!.. Объединяйтесь!.. Верьте мне… придет народ братский, укроет нас полами большого халата своего от врагов… Протянет руку помощи…
Но некому было слушать Мамана. Несколько бедняков, оставшихся верными своему бию, ссутулившись сидели там и сям на земле, посматривая испуганными глазами то на Мамана, то на бегущих прочь людей.
— Будь ты проклят, беспощадный, неправедный бог на холодном своем небе! — крикнул Маман, воздевая вверх окровавленные кулаки. — За что сыплешь ты беду на неповинные головы несчастного народа моего? Если и вправду ты существуешь, то не я, а ты, слышишь, ты — обезумел!
* * *
После горестных этих событий не было человека, кто сказал бы: «Я видел Мамана» или «Я знаю, где он». Прошел слух, будто он утонул в реке; говорили люди и другое: что находится он якобы на острове, посреди Арала лежащем, где из отбившихся родов своих каракалпаков собирает войско против Хивы. Люди говорили, что несчастная Багдагуль, куда исчез ее муж не зная, с горя ума лишилась, отыскала свой старый топор и побежала по берегу Кок-Узяка сводить свои счеты с богом. И ее тоже больше никто не видел.
Года шли за годами. Молодой Айдос пошел в гору: из рук самого пресветлого хана хивинского получил титул «бала-бия», бия-мальчика. Сначала послушно следовал он за Есенгельды-мехремом, а там с ним поравнялся, соперничать стал. То гремела окрест слава Есенгельды-мехрема, то верх брал бала-бий. Оба, каждый по себе, в Хиву со свитой ходили, все больше погружаясь в пыль исламских интриг. Мешалась эта пыль со слезами народными, грязной пеленой застилала людям глаза. Путались большие дороги, проложенные мирным степным народом в новом краю, блуждали люди, не находя прямого пути. Забываться стали дела и даже самое имя мудрого большого бия Мамана.
И вот в один из теплых летних дней рыбаки, вязавшие камышовые плоты свои на берегу моря, увидели, что наперерез огромным шумным волнам из тумана морского выходят два невиданных огромных плота, каждый величиной с большую восьмикрылую юрту. Плоты эти пристали к малому островку в устье Аму-дарьи, там, где, ошибаясь, кипят пресные воды реки и соленые волны моря, еще не успев смешаться. С плотов сошли два человека, одетые по-русски, в грубых башмаках с медными пряжками, в коротких плисовых штанах, цветных камзолах, подобных некогда жалованному Маману начальством в Оренбурге, и в темных сюртуках с широкими обшлагами. На головах приезжих были черные шапки.
Рыбаки стояли, испуганные невиданным чудом, и глазели, раскрыв рты, в ожидании новой напасти. Один, посмелее, подошел к самой кромке воды, пристально всмотревшись в приезжих, отчаянно завопил: «Оу, да это же сам большой бий!» — и, рыдая, полез в воду. А за ним, сталкивая с берега свои камышовые плоты, с криком и плачем двинулись к островку и все рыбаки.
Собачью жизнь вели они, ловя рыбу на хлипких своих камышовых плотах, связанных непрочной бечевой из куги, не смея отойти далеко от берега, и все ж подчас находя безвременную гибель в своенравной стихии Арала.
Растроганный Маман-бий пошел им навстречу, здороваясь и обнимаясь с каждым.
— Ну, вот мы и опять с вами вместе, милые мои! Недаром я столько лет пропадал, снова ездил в русское царство. Жаль, опять воюет русский царь с султаном турецким. Но как только кончится война, и про нас вспомнят, и будет у нас все хорошо. А пока принимайте, милые мои, посланца народа русского. — И бий положил руку на плечо рыжеволосого человека с большими крепкими руками. — Это младший сын друга нашего Кузьмы Бородина. Ну, что рты разинули? Забыли, что ли, сына его, Владимира-кузнеца? Так он его брат младший. Петром зовут. По всей Руси славный он мастер-корабел. Будет вам лодки строить, а потом и корабли мы с вами построим, откроем прямой путь в Россию через Арал… Прошу любить и жаловать!
Возликовали рыбаки, — конец собачьей жизни подходит, новая, человеческая, начинается. Земно кланялись они Петру, а потом пошли обниматься. Вывели на берег диковинные плоты, развязали невиданные длинные и звонкие сосновые бревна, дерево пело под ударами топора. Наутро послали за славным по всей округе, хивинской выучки мастером Бектемиром, набрали охотников новому лодочному делу обучаться, и пошла у них с Петром дружная, спорая работа.
Первую лодку спускали на воду с торжеством великим, с радостью всенародной. Русского мастера Петра на руках носили, все добрые слова, в душе накопившиеся, каждый ему высказывал. И пошла радость рыбацкая из уст в уста гулять, со свежим ветром над аулами она загремела. Услышали в народе: «Маман-бий из России помощь привел», потянулись люди к нему вместе порадоваться, повидаться. Да не пришлось.
Безжалостная и бездонная — будь она проклята! — черная ночь, беды великие приносящая, поглотила Маман-бия вместе с преславным мастером Петром. Нашли их наутро после празднества люди в темной лачуге на краю рыбачьего поселка мертвыми, — у каждого в сердце воткнутый нож торчит. Лодка, ими построенная, исчезла, а поодаль, на берегу, дотлевал костер — доски и бревна, для новых судов заготовленные.
Не нашли виновника страшного этого деяния: то ли на лодке пропавшей он в море ушел, то ли здесь же, среди людей плачущих, вокруг хижины убитых, как льды в паводок весенний толпящихся, затаился.
Оплакали рыбаки усопших, обмыли и с честью похоронили в общей могиле, на островке, куда пристали они в день своего приезда. Могила их, мучеников за счастье народное, объявлена была священной, зажгли на ней светильник, и огонь в нем денно и нощно поддерживали, сменяясь, караульщики из рыбаков. Народ из близи и издалека шел и шел к ней на поклонение.
Но еще одна бедственная, злая ночь восстала на светлую память печальников каракалпакских. С грохотом пошли с взбаламученного шквальным ветром Арала высокие валы и смыли священную могилу, а наутро вышли люди на берег, ласково оглаживаемый голубой, успокоившейся волной, и увидели, что нет уже и островка, лежавшего в устье Аму, где кипят, встречаясь, пресные и соленые воды, островок в пучину ушел.
Идут своим чередом ночи, дни и годы, то ясные, то дождливые, то тихие, то метельные; по-прежнему короткая радость сменяется печалью, мирный труд — кровавой бедой. По-прежнему бешено мчится необузданная Аму, размывая и руша свои берега, неся на своих волнах загубленные ею кусты и деревья, падаль и мусор человеческого жилья в терпеливый Арал, все в лоно свое принимающий. По-прежнему и малый народ, близ устья реки на тесном клочке земли обитающий, подобно великому Аралу все в душу свою принимает и в ней хранит. Многие горести и беды, сокрушавшие людей, многие усилия тружеников, подвиги борцов канули в пучину времени… Не забыто и живет в памяти народной лишь одно «сказание о Маман-бие», свидетельствующее о том, что братская могила Маман-бия и русского мастера-корабела находится на маленьком островке, опустившемся на дно в том самом месте, где своенравная Аму впадает в Арал, где кипят и клокочут пресные и соленые воды, еще не успев соединиться.
Примечания
1
Тулепберген Каипбергенов — Народный писатель Каракалпакстана и Узбекистана. Герой Узбекистана. Лауреат Государственных премий СССР, Узбекистана, Каракалпакстана. Лауреат Международных премий имени Махмуда Кашкарий, Михаила Шолохова, а также премий ВЦСПС и Союза писателей СССР. Победитель конкурсов газеы «Правда» и журнала «Крестьянка». Хаджи.
(обратно)2
Далее перевод 3.Кедриной.
(обратно)3
Герои народного эпоса.
(обратно)4
Куирмаш — жареное зерно.
(обратно)



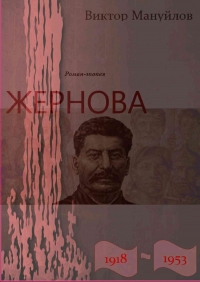
Комментарии к книге «Сказание о Маман-бие», Тулепберген Каипбергенович Каипбергенов
Всего 0 комментариев