Кондратий Петрович Биркин Временщики и фаворитки
Об авторе
Кондратий Биркин – один из псевдонимов русского историка и литератора XIX века Петра Петровича Каратыгина (1832–1888), сына известного актера Петра Андреевича Каратыгина.
Петр Петрович Каратыгин получил домашнее воспитание и образование, в учебных заведениях не обучался и «аттестата о науках не имел». В 19 лет Петр Каратыгин поступил на службу канцеляристом в Департамент внешней торговли и прослужил там три года, после чего еще два года служил вольноопределяющимся в Императорском австрийском полку Франца I. Все последующие годы Каратыгин зарабатывал на жизнь исключительно литературным трудом.
В двадцать пять лет в бенефис отца, Петра Андреевича Каратыгина, П. П. Каратыгин впервые вышел на сцену Александрин-ского театра и очень успешно дебютировал, но в труппу театра так и не был принят. Отец объяснял это происками недоброжелателей, а сам П. П. Каратыгин не считал, что создан для сцены и характеризовал себя так: «…я совершенный медведь и нелюдим… образ моей жизни самый замкнутый и уединенный».
П. П. Каратыгин постоянно сотрудничал с журналами «Всемирный труд», «Русская старина», «Исторический вестник», публиковался в «Современнике», газете «Свет» и других изданиях. После смерти отца в 1879 году, еще при жизни доверившего все свое немалое состояние недобросовестному человеку, П. П. Каратыгин не получил ни копейки и вынужден был браться за любую литературную работу, что в конце концов и истощило его силы.
Наибольшую известность принесли Каратыгину исторические и историко-литературные исследования, составившие самую ценную часть его литературного творчества. Тема, которая интересовала литератора всю жизнь, и к которой он возвращался на протяжении всего творчества – история Петербурга. Каратыгин посвятил любимому городу монографию «Холерный год. 1830–1831», в которой собраны многочисленные свидетельства и рассказы очевидцев, а также наиболее полную «Летопись петербургских наводнений. 1703–1879». Большой интерес Каратыгина к истории вылился в ряд документально-исторических очерков: «Императрица Мария Александровна», «Великий князь Михаил Павлович», «Светлые минуты императора Павла», «Сила Андреевич. Характеристические черты из жизни графа Аракчеева», «Бенкендорф и Дубельт» и многие другие.
Будучи опытным и добросовестным литератором, Каратыгин составил ряд историко-литературных очерков, которые отличаются живым языком и доступной формой изложения. При работе историк пользовался официальными документами, архивными материалами, письмами, воспоминаниями современников, устными рассказами очевидцев и активно вводил в свой материал сведения прежде неизвестные или недоступные для печати. Перу Каратыгина принадлежат также труды об Александре Сергеевиче Пушкине, о Наталье Николаевне Пушкиной (Гончаровой), о Тарасе Григорьевиче Шевченко, литературно-бытовой портрет Ф. В. Булгарина, о цензуре времен императора Павла I и многие другие.
Хорошо знакомый с театральной средой, Каратыгин собрал богатый материал по истории русской сцены с описанием закулисных нравов и преданий, биографическими очерками и сценическими портретами под названием «Русский театр, артисты и артистки. 1801–1855».
К исторической беллетристике Каратыгин обращался, скорее всего, ради заработка, активно используя наработки для своих историко-литературных трудов. Одним из самых значительных трудов Петра Петровича Каратыгина стали «Временщики и фаворитки XVI, XVII и XVIII вв.» – хроники исторических скандалов при дворах европейских и русских монархов, впервые вышедшие в свет в Петербурге в 1870–1871 гг. и до сих пор вызывающие неугасающий интерес у читателей.
Вступление
Sur cent favoris du roi, quatre-vingt cinq ont ete pendus.
Napoleon ILa femme d'un charbonnier est plus respectable que la maitresse d'un prince.
J.-J. RousseauВнимательно перечитывая летописи былых времен, наши и иностранные, невольно приходишь к тому убеждению, что, кроме ненависти, злобы, эгоизма, зависти, и любовь играла не последнюю роль во многих мировых событиях и весьма часто оказывала немаловажное влияние на судьбы народов и целых государств. К сожалению, к этому вопросу – о значении любви в истории– с должным вниманием доныне относились весьма немногие, и нельзя надивиться бедности европейских литератур по части биографий героев и героинь, эксплуатировавших слабости сильных мира сего – временщиков и фавориток, бывших спутниками и спутницами многих светил политического горизонта, одновременно с последними и затмевавшимися. В чем искать причины равнодушия новейших историков к этому фазису домашней, так сказать, закулисной жизни монархов былых времен? Не опасно ли вводить скандалезный элемент в такую строгую, серьезную науку, какова история? Если так, то подобный взгляд, узкий и слишком односторонний, напоминает жеманницу, отворачивавшуюся от наготы античной статуи, или малодушного брюзгу, опрометью бросающегося наутек от смрадного трупа из анатомического театра. Наука и скандал несовместны: для антиквария или художника античная статуя, несмотря на ее наготу, точно такой же драгоценный предмет для изучения, как рассекаемый смрадный труп для анатомиста. От историка, посвятившего свое перо жизнеописанию фавориток, никто и не потребует сальных анекдотцев; в биографии фаворита или временщика не должно быть страниц, напоминающих Аретино, Боккаччо или Лафонтена. Если к любви в истории отнестись единственно как к источнику добра и зла, если на любовь посмотреть только как на силу слабых и слабость сильных, тогда биография временщика или фаворитки, бесспорно, может иметь смысл и значение.
Геркулес, прядущий у ног Омфалы или облачающийся в хитон Деяниры, Самсон, покорно склоняющий голову под ножницы Далилы, – символы многознаменательные! В них олицетворения любви и неги, торжествующих над силою и могуществом и побеждающих героев непобедимых… И сколько раз в истории встречаются нам те же Геркулесы с Омфалами и Самсоны с Далилами в лицах правителей царств и их фавориток: Таис подстрекает Александра Македонского сжечь Персеполис, Антоний предпочитает римскому престолу ложе Клеопатры, дочь Иродиады требует у Ирода головы праведника и получает ее… В руках Мессалины – тигрицы, страдающей нимфоманией, – слабоумный Клавдий дуреет окончательно; Нерон, обольщенный блеклыми прелестями достойной матери своей, Агриппины, или ласками Помпеи, прибавляет к своей биографии несколько лишних страниц, написанных кровью. Мудрый Юстиниан становится бесхарактерным ребенком пред своей Теодорой; бич Божий Атилла умирает в объятиях красавицы… Как мал и ничтожен Карл Великий, плачущий над гробом своей любовницы, от которого его не могут оторвать, к которому, по наивному объяснению летописцев, его влечет волшебная сила.
Минуя длинный ряд многих великих событий, в которых любовь являлась главным деятелем, укажем на Франциска I, сведенного в могилу ядовитыми ласками прелестной Фероньеры; на Генриха IV, преклоняющего колени пред Габриэлью д'Эстре; на грозного Ришелье, пляшущего сарабанду пред Анной Австрийской… Вот, наконец, влюбчивый Людовик XIV, напевающий нежности какой-нибудь Лавальер, Монтеспан; или он же, версальское солнышко на закате, под башмаком ханжи Ментенон, вдовы шута Скаррона.
Восемнадцатый век, открывающийся во Франции безумными оргиями Регентства и оканчивающийся кровавыми поминками по убиенной монархии, – восемнадцатый век особенно богат временщиками, фаворитами и фаворитками повсеместно. Август Саксонский хвалится распутством, не на шутку воображая себя Юпитером; любовницы играют им как пешкой, а он, в угоду любовницам, играет честью и совестью… «Соtillon I, Соtillon II, Соtillon III!» – угрюмо считает своих державных неприятельниц Фридрих II, суровый ненавистник прекрасного пола; и в числе этих трех «юбок» находится титулованная любовница Людовика XV – маркиза Помпадур. Эту женщину целомудренная, высоконравственная Мария-Терезия, императрица австрийская, удостаивает самой радушной приязни, распространяющейся и на преемницу маркизы – Жанну Вобернье, графиню Дюбарри…
La maitresse de Blaise, La belle Bourbonnaise, Est fort mal a son aise!..[1] —распевает о ней озлобленный народ французский. Эта «Бурбоннеза» – прелюдия «Марсельезы»; памфлеты и пасквили, которыми со всех сторон осыпают короля и его фаворитку, пишутся перьями, очиненными ножичком Дамьена.[2] Дряхлеющий и коснеющий в разврате Людовик XV сам поет слагаемые о нем водевили и песенки, упуская из виду, что народ его обыкновенно начинает песенками дела нешуточные: под песенки Лиги и Фронды лилась кровь… Но король равнодушно хохочет над памфлетами, читает пасквили и, отнимая у народа последние крохи, тешит свою Дюбарри сюрпризами да подарочками. Таким образом, хлеб в его руках превращается в камни, хотя и драгоценные, но от этого не легче народу, негодование которого растет да растет. Всмотритесь в Дюбарри и Людовика XV: разве эта красавица, отнимающая у народа последний кусок хлеба, а у королевской власти – всю ее силу и значение, не та же Далила, остригающая Самсона? А предпоследний король Франции разве не напоминает Ирода, царя иудейского, жертвующего Иродиаде головою Иоанна Крестителя?… Одной ли головой? Пересчитайте, сколько невинных голов легло под гильотину.
Мы указали на те исторические факты, в которых любовь являлась в виде источника зла, когда она не только свергала королей с престолов, но даже лишала человека достоинства человеческого, низводя его на степень животного. Такова изнанка любви; не должно упускать из виду, что это самое чувство может так же подвигнуть человека к высокому и прекрасному. Бросим же беглый взгляд на светлую сторону любви, на ее роль доброго гения в судьбах монархов и народов.
Почти повсеместно любовь, являясь в лице цариц-христианок, жен царей-язычников, была участницей в великом деле просвещения царств светом Христовым. В истории находим не одну женщину – законную супругу или фаворитку, употреблявшую влияние свое на могучих людей в пользу и во благо их подданных. Агнесса Сорель умела воскресить в Карле VII чувства долга и чести; Ментенон обращала внимание Людовика XIV на ученых и литераторов, заслуживавших поощрения. Если в вышеприведенных примерах злой любви нежные ручки женщин разрушали престолы или подавали монархам перья для подписи смертных приговоров, то бывали между женщинами и светлые личности, укрощавшие порывы лютости во владыках земли, славившихся жестокосердием. Бывали минуты, когда ласки Дивеке, фаворитки Кристиана II Датского, из зверя превращали его в человека… У нас Анастасия Романовна, первая супруга Ивана IV, была ангелом-хранителем России, унесшим с собою в гроб все человеческие чувства Грозного… Человек тем покорнее обаянию любви, чем он чувственнее, лютее, звероподобнее; в человеке, как в тигре, кровожадность и сладострастие равно совместны. В истине этой физиологической аксиомы убеждает нас страшная личность Пугачева. Кому из нас не известна его нежная привязанность к Лизавете Харловой? Дочь и жена верных слуг царских, повешенных по приказанию беглого каторжника, Харлова сделалась его наложницею и в короткое время сумела настолько подчинить своему влиянию, что, усыпляя мужество в самозванце, пробуждала в нем совесть; ходатайствовала о пощаде приговоренных к смерти, и Пугачев уважал ее ходатайство. Женщина эта была расстреляна казаками, опасавшимися, чтобы самозванец окончательно не «обабился» в объятьях своей «душеньки».[3]
Повторяем, критическая разработка исторических фактов, в которых любовь – в хорошем или дурном смысле – играла главную роль, была бы трудом громадным, но и любопытным в высшей степени. Труд этот ждет руки достойного, даровитого деятеля, и, как нам думается, руки по преимуществу женской. Сознавая всю важность предпринятого нами сочинения, мы ограничились жизнеописаниями временщиков, фаворитов и фавориток трех последних столетий, именно трех, в которые при разнузданности нравов любовь деспотствовала повсеместно и над сильнейшими деспотами. Синхронический порядок, которого мы намерены придерживаться, даст нам возможность с должной последовательностью рассказать о жизни и приключениях счастливых несчастливцев; сынов и дочерей счастия, из ничтожества достигавших высших степеней славы, почета и – большею частью – тем ниже падавших. Участь временщиков и фаворитов (неизбежной принадлежности женщин, стоявших во главе правления) напоминает нам участь трех турецких визирей, которым султан жаловал шубу с собственных плеч, а завтра посылал тем же визирям шелковый шнурок для их собственной шеи… Иной временщик, думая сесть на престол, попадал вместо того на кол; другой, недавно покоивший голову на подушках королевского ложа, клал ее на плаху; третий, несколько дней тому назад соединявший уста с устами своей повелительницы, выпивал яд по ее приказанию; четвертый, по мановению скипетра, будто волшебного жезла, из дворцовых чертогов переносился в убогую хижину изгнанника; пятый, засыпая под горностаевым мехом, просыпался под солдатской шинелью… Кардинал Уолси, Риччо, Эссекс, Басманов, маршал д'Анкр, граф Лерма, Валленш-тейн, Мональдески, Монс, Меншиков, Долгорукие, Бирон, Тренк, Струэнзе, Потемкин… С каждым из этих имен не сопряжено ли целой драмы или романа, каких, конечно, не измыслить и самому изобретательному воображению!
Незавидна участь временщиков и фаворитов, но и судьба фавориток не лучше. Счастливиц, из объятий пьяных солдат попадавших в объятья монархов или из развратных трущоб в чертоги дворца, было немного: чаще случалось наоборот. Фаворитки, подобно Лавальер, успевавшие вовремя удалиться в монастырь, были счастливее других, как избравшие благую участь; вообще же говоря, судьба полудержавных содержанок была почти всегда та же, что и обыкновенных. Старость, дающая людям права на уважение, постигая отставную фаворитку, обращалась ей в позор и поругание; если же и бывали люди, оказывавшие ей уважение, то едва ли оно могло быть лестно разжалованной прелестнице.
Представьте себе графиню Дюбарри на ее Люсьенской даче; Дюбарри, осыпанную бриллиантами, утопающую в шелках, бархатах, кружевах; Дюбарри, которую Людовик XV запросто потчует кофе собственной варки, за что, также запросто, удостоивается услышать из уст графини: «Меrсi, lа France!» Через двадцать лет эта же самая Дюбарри на эшафоте ползала на коленях перед палачом, умоляя о пощаде; эту же самую Дюбарри палач потчевал тогда пинками и подзатыльниками, побуждая склонить голову под топор гильотины, грубо повторяя бывшей фаворитке:
– Altans, саnаille![4]
Таков был конец последней титулованной фаворитки короля французского – конец, над которым стоит призадуматься…
Раздумье над бедствиями, которыми временщики искупали свое мимолетное величие, над позором, постигавшим большинство фавориток при жизни или после смерти, побудило нас избрать эпиграфами для нашего труда изречения двух величайших людей своего времени.
«Из сотни королевских фаворитов восемьдесят пять погибло на виселице», – сказал Наполеон I – сам временщик счастья, пред которым раболепствовал весь свет.
«Жена угольщика достойнее уважения, нежели любовница государя», – говорил Ж.-Ж. Руссо, мудрец, кроме божества своего – природы, не преклонявший головы ни перед кем на свете.
ВРЕМЕНЩИКИ И ФАВОРИТКИ
Генрих VIII, король английский
Кардинал Уолси. – Анна Болейн. – Джейн Сеймур. – Екатерина Говард. – Екатерина Парр
(1509–1547)
Тирания и лютая кровожадность в венценосцах – вот еще две характерные черты XVI века, о которых мы хотя и не упомянули во вступлении к нашему труду, но не теряли их однако же из виду. Почти каждое государство, будто состязаясь с другими, порождало своего Тиберия, Калигулу или Нерона. Турция имела Сулеймана II, Испания – Филиппа II, Дания – Христиана II, Россия – Ивана Грозного, Швеция – Эрика XIV, Англия – Генриха VIII. Все они, будто звери одинаковой породы, во многих чертах имеют какое-то родственное сходство, но оно особенно бросается в глаза при сличении Генриха VIII, короля английского, с Иваном IV Васильевичем, царем всея Руси.
Царствование Генриха, подобно царствованию Грозного, можно разделить на две эпохи: славы и бесславия. В первую пору тот и другой отличались прекрасными качествами, заботливостью о народе, о пользах государства и славными воинскими деяниями. Потом они словно перерождаются, и все их действия клонятся как будто к тому, чтобы невинно проливаемой кровью смыть первые страницы своих биографий, а злодействами изгладить из памяти народной все отрадные впечатления первых лет их царствования! Новейшие казуисты утверждают, что каждое преступление совершается человеком не в нормальном состоянии его умственных способностей и что оно есть проявление болезни воли или припадок сумасшествия. Допуская этот взгляд на преступления и преступников, можно, право, подумать, что в XVI веке, от его начала до конца, в Европе свирепствовала какая-то эпидемия зверства: лихорадка деспотизма, красная горячка или мания самодурства. Действительно, при сравнении тиранов разных стран между собою они по разительному сходству зверских своих выходок, по изобретательности на пытки и истязания, по адской иронии, которой приправляли смертные приговоры, напоминают одержимых однопредметным помешательством. Возьмем неукротимое сладострастие Генриха VIII и нашего Грозного, их языческое женолюбие, облекаемое, однако, в форму законного, супружеского сожительства, – в этом один как будто подражал другому. Генрих VIII любил богословские прения и выказывал при них претензию на основательное изучение предмета; Грозный точно так же любил беседовать с духовенством, хвалил иноческое житье и кощунственно подражал ему со своей опричниной в Александровской слободе. Советы Вассиана, инока Кирилловского монастыря, растлили сердце царя Ивана Васильевича и посеяли на эту восприимчивую почву первые семена злобы и ярости… То же самое, хотя иными путями, сделал с сердцем короля Генриха VIII его любимец, честолюбивый кардинал Уолси. Наконец, по какому-то таинственному предопределению и царь русский, и король английский преобразились к худшему и впали в тиранию почти через одинаковое число лет: Грозный – через двадцать два года (1538–1560), Генрих VIII – через двадцать один год (1509–1530); тирания первого длилась, однако, двадцать четыре года (1560–1584); к Англии Провидение было милосерднее: Генрих VIII свирепствовал семью годами менее – с 1530 по 1547 год. И того достаточно было.
В покойном короле Генрихе VII скупость, доходившая до гнусного скряжничества, поглотила все человеческие и родительские чувства. При содействии своих министров, Эмпсона и Дадлея, он систематически грабил народ под видом всяких податей, прямых и косвенных налогов. Народ беднел, королевская казна обогащалась, и, несмотря на последнее, двор и королевское семейство были не только далеки от роскоши, но явно терпели неудобства от непомерной экономии и расчетливости скупого короля. Эта жизнь была особенно несносна наследнику престола – Генриху, принцу Уэльскому,[5] одаренному умом и сердцем, склонному ко всякого рода развлечениям и – как оно всегда бывает с сыновьями скупцов – к расточительности. Естественная, хотя и неблагородная мысль – вознаградить себя за все лишения после смерти отца – переходила в желание ему скорейшей кончины, разделяемой втайне и всем народом. Наконец 22 апреля 1509 года скончался Генрих VII, завещая восемнадцатилетнему принцу Уэльскому престол, казну в 1800 тысяч фунтов и вместе с короной руку своей невестки, Екатерины Арагонской, вдовы принца Артура, бывшего наследника, скончавшегося за шесть лет до этого.
Первый брак был следствием политических соображений Генриха VII, второй – следствием его скупости.
Дочь Фердинанда Католика и Изабеллы, родная сестра Хуаны Безумной, Екатерина Арагонская родилась в 1485 году и, по обычаю того времени, с колыбели была присуждена на принесение в жертву политике. Семнадцати лет она была выдана за наследника английского престола Артура, принца Уэльского (14 ноября 1502 г.), юноши хворого, снедаемого изнурительной болезнью; Екатерина была для него не женой, но сестрой милосердия и вместо брачного ложа нашла в чужой стране смертный одр несчастного, которого дали ей в мужья… Через год Артур скончался. По договору державных сватьев Генрих VII обязан был возвратить своей невестке приданое (100 тысяч фунтов) и отпустить ее на родину. Расстаться с громадной суммой было королю-скряге едва ли не тяжелее, нежели потерять сына. Право престолонаследия перешло к младшему брату покойного Артура, двенадцатилетнему Генриху, и нежный родитель решил обручить его с вдовою его брата, на что и получил разрешение от Папы Юлия II. Приданое осталось неприкосновенно, и дружественные отношения с Испанией упрочились. Когда Генрих достиг совершеннолетия, король-отец снова вступил в переговоры с испанским королем о прибавке приданого и пересмотре нового брачного договора и в ответ на отказ Фердинанда принудил сына от его собственного имени протестовать против предстоящего брака (27 июня 1505 г.). Дело однако же уладилось; Папа вторично признал его законность, дал разрешительную буллу, и, несмотря на это, Генрих VII все медлил бракосочетанием сына с невесткою, желая, вероятно, выторговать еще какую-нибудь прибавочку к приданому… Так продолжалось до его смерти.
Через два месяца по восшествии на престол Генрих VIII отпраздновал свою свадьбу с Екатериной Арагонской, а через несколько дней короновался. Не было предела радости народной, не было конца и праздникам, балам, турнирам, которыми Генрих VIII вознаграждал себя за долгий пост при жизни слишком расчетливого родителя. Просим извинения у читателя за тривиальное сравнение, но первые два-три года своего воцарения Генрих был похож на купеческого сынка, вырвавшегося на волю после смерти своего тятеньки и протирающего глаза наследственным миллионом. Окруженный толпою любимцев, он полной чашей пил удовольствия, пристрастился к игре и часто проигрывал. Руководителем короля на этом, его недостойном, поприще был его придворный духовник и милостынераздаватель Томас Уолси – изобретательный на забавы, потворщик страстям короля, его советник в государственных делах и неизменный спутник в кутежах и гулянках. Опасны бывали королям фаворитки, сирены, своими ласками побуждавшие их на злодейства, вместе с их здоровьем и умственными способностями истощавшие казну, разорявшие народ; но тысячу раз опаснее фавориток бывали временщики, подобно Уолси, систематически развращавшие государей ради вернейшего достижения своих честолюбивых целей. Фаворитка – только сирена: любовь и красота – ее единственные орудия; не таков временщик, развивающий в своем государе порочные наклонности, могущий при случае подстрекнуть его самолюбие, раздуть в его сердце злобу, ненависть или, наоборот, коварными наветами угасить в нем искры добра и благородных побуждений. Именно таков был Уолси, для которого монашеская ряса и духовный сан были путеводителями на поприще честолюбия, ведшими его ни более и ни менее как на престол римского первосвященника.
Томас Уолси родился в Ипсвиче (графство Суффолк) в 1471 году и был, по сведениям некоторых историков, сыном зажиточного мясника, человека настолько умственно развитого, что он послал сына учиться в Оксфорд. При богатейших способностях Уолси занимался с таким успехом, что пятнадцати лет был удостоен степеней бакалавра и магистра. Эразм Роттердамский при своем посещении Оксфорда познакомился с даровитым юношей, с удовольствием беседовал с ним и совещался об учреждении при университете кафедры греческого языка. Трудно было решить, что в молодом Уолси было сильнее: самолюбие или способности. Когда у него со сверстниками заходила речь о будущем, он постоянно повторял: «Лишь бы мне только попасть ко двору, а там нет, кажется, той высокой должности, до которой бы я не добрался!»
Задавшись этой целью, Уолси вступил в свет – приходским священником в Лимингтоне и наставником детей маркиза Дорсет. После того он подружился с Нэнфэном, сборщиком податей в Кале, и сначала по собственной охоте помогал ему в должности, а потом по увольнении Нэнфэна за старостью занял его место. Это обстоятельство сблизило Уолси со статс-секретарем Ричардом Фоксом, доложившим вскоре королю Генриху VII об усердии и исправности нового сборщика податей. Король, особенно любивший финансистов и судивший о людях по степени пользы, ими приносимой государственной казне, пожелал видеть Уолси и принял его к себе на службу для особых поручений. Сначала тот был послан в Брюссель к императору Максимилиану по важному секретному делу и, успешно выполнив все возложенное на него королем, возвратился так скоро, что последний не мог поверить глазам. «Вы были в Брюсселе? – воскликнул он, принимая ответную грамоту. – Но как же так скоро? Три дня тому назад я только отправил к вам курьера…» – «Я встретил его на моем обратном пути!» – скромно ответил Уолси. За это король пожаловал его саном своего милостынераздавателя и деканом Линкольнского собора. При воцарении Генриха VIII Томас Уолси был, несмотря на духовное свое звание, первым вельможей двора и в самое короткое время сделался любимцем и другом короля. Одного слова Уолси было достаточно, чтобы подвергнуть придворного опале или возвести его в новый чин… Так лишились места статс-секретари Серрей и Фокс – бывший его покровитель. Вскоре по воцарении Генриха VIII Уолси сделан был членом Государственного совета, наконец – канцлером (1510).
Война, свирепствовавшая в Южной Европе в первые годы XVI века, велась без участия Англии. Генрих VIII при восшествии своем на престол подтвердил мирные договоры с соседними державами, особенно с Францией. Папа Юлий II, для которого вспомогательные французские войска были неприятным бременем, решил отделаться от их невыгодного содействия и для этого старался привлечь на свою сторону английского короля… Начав, как водится, с задабривания по всемирной пословице – маленькие подарки поддерживают дружбу, – Папа прислал королю золотую розу вместе с титулом христианнейшего и выражением скромного желания принять участие в судьбах церковной области. Генрих повел дело путем мирных переговоров: отправил Людовику XII чрезвычайное посольство с ходатайством за угнетаемого Папу и с предъявлением прав Англии на французские области Нормандии, Гюйенны, Анжу и Мэн. Ответ был отрицательный, и началась война. Генрих VIII, вступив в союз с Испанией, прославил себя несколькими воинскими подвигами, приняв личное участие в действиях. Оставив Екатерину Арагонскую правительницей королевства, он в сопровождении неизменного Уолси отправился в армию. Битва и победа при Гинегате, высадка во Франции, осада и взятие Теруанны и Турнэ – срытых до основания, – поражение шотландских войск при Флоуденфильде, где король Яков IV, союзник Людовика XII, лег костьми, – снискали Генриху VIII живейшую благодарность Папы Льва X, выраженную присылкою освященных тока, шпаги и титула защитника церкви. Эти любезности Папы не помешали другим его союзникам – испанцам – вступить в тайные переговоры с враждебной ему Францией. Узнав об этом коварстве, Генрих VIII отступился от Папы и вошел со своим недавним врагом Людовиком XII в самые дружественные сношения, скрепленные браком сестры короля английского Марии с королем французским 7 августа 1514 года. Уолси был тогда утвержден договорившимися в сане епископа Турнэ – города французского, англичанами завоеванного.
Преемник Людовика XII Франциск I подтвердил мирный договор с Англией, выхлопотал у Папы для Уолси кардинальскую шапку, но вместе с тем нанес жестокий удар непомерному его самолюбию, сложив с него сан турнейского епископа.
За это кардинал отомстил королю французскому, восстановив против него Генриха VIII, особенно после победы Франциска I при Мариньяно. Генрих помогал императору германскому субсидиями и вообще выказывал к Франциску отношения неприязненные. Король французский, зная, что это следствие происков кардинала, заискивал, льстил и всеми путями старался заслужить его расположение. Началась борьба Франции с Австрией, Франциска I с Карлом V, и, несмотря на родство (Карл был родным племянником Екатерины Арагонской), Генрих VIII сохранял самый благоразумный нейтралитет. Стараясь однако же привлечь дядю в союзники, Карл V обещал кардиналу Уолси папскую тиару и посох первосвященника римского! Тогда дела приняли другой оборот. Генрих VIII и Франциск I свиделись в «парчовом лагере» (camp de drap d'or) 7 июня 1520 года, где пировали самым дружеским образом семнадцать дней, обмениваясь ласками и любезностями. Этот «парчовый лагерь» можно было назвать позолоченной пилюлей, которую кардинал Уолси готовил королю французскому: Генрих, расставшись с ним, виделся с Карлом V, которому обещал свое содействие. В самое это время Южную и Среднюю Европу возмутило появление Реформации, угрожавшей папской власти и заставившей дрожать доныне непоколебимый престол римский. Король английский, приняв сторону Папы Льва X, написал и послал в Рим книгу, заключавшую в себе громовое опровержение еретического Лютера и защиту семи таинств. Книга эта, на две трети наполненная текстами и цитатами из сочинений Фомы Аквинского, привела Льва X в восторг, и державный автор удостоился получить от его святейшества за подписью двадцати семи кардиналов диплом на титул защитника веры. Союз с Карлом V был делом решенным, и Генрих VIII приступил к приготовлениям к войне, но тут явилось самое естественное препятствие: в казне не было денег – ее истощили пиры и праздники, на которые был так щедр английский король в первые годы своего царствования! Пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам. Сделав перепись имущества, верноподданных его величества обложили податью: мирян в 1/10, духовников в 1/4 долю общей стоимости движимого и недвижимого… Этого оказалось мало, и кардинал Уолси от имени короля потребовал у парламента взаймы на военные издержки 800 тысяч фунтов. Требование это было отвергнуто большинством голосов. Раздосадованный Генрих на другой же день потребовал к себе главного коновода оппозиции, и когда тот по этикету преклонил перед ним колени, король очень ласково поздоровался с ним и в то же время, положив ему руку на плечо, внятно прошептал:
– Если завтра же вы, милейший мой, и все подобные вам упрямцы не подадите голосов за выдачу требуемой мною субсидии – всем головы долой!!
Сверкнув глазами и тряхнув рыжей головой, этот лев, впервые выпустивший когти, дал понять несчастному члену парламента, что он не шутку шутит… На другой же день 800 тысяч фунтов лежали в государственной казне. С их помощью английские войска заняли Пикардию.
И весь этот грабеж, и все приготовления к войне были плодами честолюбия кардинала Уолси, по чужим головам взбиравшегося до обещанной ему папской тиары!..
Пробил давно желанный час: смерть Папы Льва X (19 ноября 1521 года) открыла вакансию на престол первосвященни-ческий. Уолси, не теряя времени, послал в Рим своего секретаря Писа (Реасе) с поручением интриговать, задаривать, задабривать членов конклава… Но как ни торопился усердный Пис, он по прибытии в Рим нашел на престоле нового Папу, Адриана VI, и все радужные надежды кардинала Уолси лопнули как мыльный пузырь. Делать было нечего; пришлось покориться враждебной судьбе и ждать с прежним нетерпением, питаясь новыми надеждами, приправленными льстивыми обещаниями Карла V.
Адриан VI царствовал с небольшим год, и, таким образом, Уолси ждал недолго. На этот раз французские кардиналы, бывшие на конклаве, заявили, что Уолси как иноземец не знает Рима, что невозможно совместить ему в своем лице должности канцлера английского и Папы Римского, что, наконец, он, радея единственно об интересах своего отечества, едва ли будет заботиться об интересах церкви… Словом, Уолси был забракован, и в папы избрали Климента VII из дома Медичи.
На этот раз бешенству кардинала Уолси не было предела! На французских кардиналов он едва негодовал: от врагов Англии нечего было ожидать поддержки, – но императору германскому Карлу V грешно, стыдно, бессовестно было водить кардинала за нос или обещать ему то, что Карл V не в силах был исполнить. Ему Уолси отомстил вдвойне союзом Генриха VIII с Франциском I и впоследствии разводом того с несчастной Екатериной Арагонской. Надобно заметить, что в эту эпоху кардинал Уолси был на высоте своего величия. Он управлял почти всеми епархиями королевства, получая соответствующие доходы; пользовался пенсиями от Папы и императора германского; с титулом кардинала а lаtеге[6] имел право ежегодно возводить без папского разрешения пятьдесят человек в достоинство рыцарское, столько же – в графское и сорок – в апостольско-нотариальное; кроме того, мог (опять же без предварительного разрешения Папы) узаконивать незаконнорожденных, расторгать браки, давать индульгенции, преобразовывать уставы монастырей и даже упразднять их. Доходы кардинала равнялись королевским; он имел собственных телохранителей, особый придворный штат, в котором состояли графы, бароны, знатнейшие рыцари, а в пажах – юноши первейших аристократических фамилий… Между последними находился лорд Перси, сын герцога Нортумберленда. Число придворных кардинала простиралось до восьмисот человек. Когда он в качестве посланника посетил Франциска I, в торжественном кортеже вели тысячу превосходных коней из его собственной конюшни. Во дворце Хэмптон-Корт, кроме золотой и серебряной посуды, ковров, картин и драгоценностей всякого рода, хранилось сто восемьдесят одних шелковых постелей… В духовных процессиях несли знаки кардинальского достоинства на парчовых подушках; шляпу свою при богослужении кардинал клал на престол и все обряды церковной службы совершал по чину самого Папы. Наконец, Уолси первый из архиепископов Кентерберийских употреблял при облачении парчу, глазет и украшался драгоценностями. «Если Климент VII – Папа Римский, – мог сказать кардинал себе в утешение, – так я Папа Английский!»
Охладив короля к интересам его племянника, Карла V, кардинал Уолси без труда уговорил Генриха VIII выказать свое сочувствие Франциску I, бывшему тогда в плену у императора после несчастной битвы при Павии (1525). Генрих своеручно писал Луизе Савойской, чтобы она, радея об интересах Франции, не уступала Карлу V ни пяди земли и не входила с ним ни в какие соглашения. Эта, по-видимому, бескорыстная внимательность тронула Франциска, и следствием ее был мирный договор 8 августа 1526 года Франции с Англией и разрыв последней с Австрией. Повредив Карлу V с этой стороны, кардинал Уолси начал свои интриги с другой.
Екатерина Арагонская, честнейшая жена и прекрасная мать, была старее Генриха VIII пятью годами. Эта разница, неприметная в первые годы супружества, стала обнаруживаться впоследствии, когда королева приблизилась к старческому возрасту, а король был во всем цвете мужества, при полном развитии страстей неукротимых. Восемнадцать лет прожил он с женою в добром согласии, заменив страсть уважением, дружбой, привычкой. Бывали в течение этого времени случаи неверности со стороны мужа, но все эти мимолетные страстишки так же скоро гасли, как скоро вспыхивали, и Генрих ими не довольствовался. Сердце его томилось какой-то нелепой, идеальной страстью и искало женщину, к которой бы оно могло привязаться надолго. Охлаждение короля к Екатерине не могло ускользнуть от внимания кардинала, и мысль разлучить короля с его женой зрела и развивалась в уме честолюбца. Екатерина была звеном, связывавшим Генриха VIII с Карлом V, и звено это, по соображениям Уолси, необходимо было порвать навеки. Улучив минуту раздумья короля над его супружеской жизнью, кардинал очень тонко повел речь о браке с точки зрения богословия и постепенно довел короля до сознания, что брак на жене родного брата и сожительство с нею есть дело противозаконное. Так внушена была Генриху VIII первая мысль о разводе и расторжении брака после чуть что не двадцатилетнего сожительства. Король в виде запроса сообщил ее Паччи, декану собора Св. Павла, а сам между тем стал соображать, подыскивать статьи закона духовного и остановился на двух статьях закона Моисеева (Левит, гл. XVIII, ст. 16 и гл. XXV, ст. 5), прямо осуждавших вступление в брак лиц, состоящих именно на той степени родства, как он, Генрих, и его супруга. Вспомнил он и свой протест, писанный по приказанию покойного Генриха VII (27 июня 1505 года): двадцать лет тому назад он повиновался отцу, не понимая сущности дела; шестнадцать лет тому назад, смеясь над ним, вел Екатерину к алтарю… но теперь самый этот протест казался ему вполне законным и основательным. Готовясь на дело возмутительное, король был похож на механика, складывающего сложную машину; все части ее были собраны, приводы натянуты, оставалось только дать первый толчок двигательной силе, таящейся в колесах и шестернях…
Толчок этой адской машине был дан прелестной, белоснежной ручкой одной из тех презренных женщин, которых сама преисподняя посылает в семейства для разрушения согласия, для посева раздора и преступлений. Этим гнусным существом была прославленная романистами и оперными композиторами Анна Болейн,[7] признаваемая чуть не мученицей людьми сентиментальными, имеющими дурную привычку к каждой исторической личности, погибшей на эшафоте, относиться с каким-то ребяческим мягкосердием. Эшафот был самым справедливым возмездием Анне Болейн – не столько за ее распутства (она была дочерью своего века), сколько за ее происки для достижения престола, ее глумления над свергнутой Екатериной, за те позорные страницы, которыми она запятнала летописи Англии. Анна Болейн, которую всего вернее можно охарактеризовать нашим метким простонародным прозвищем проходимки, принадлежит к числу тех многих псевдогероев и псевдогероинь, на которых потомство глядит с превратной точки зрения наперекор законам оптики, превращающей этих господ и госпож из пигмеев в исполинов по мере их удаления от нас на расстояние трех-четырех веков… Это те же театральные декорации, издали чарующие зрение, а вблизи оказывающиеся грубо размалеванными кусками парусины. Эшафот, на котором погибла Анна Болейн, мог примирить с ней ее современников, но суд потомства обязан быть беспристрастным; ему не след при произнесении приговора над памятью злодейки принимать во внимание «смягчающие вину обстоятельства», то есть томные глазки и смазливое личико.
С кем вздумала соперничать и кого, благодаря своему лукавству, победила Анна Болейн? С дочерью короля, с законной женой своего государя; она победила честную, прекрасную женщину… Она, будучи демоном, убила этого ангела и, как площадная плясунья, плясала и кривлялась над могилой усопшей соперницы, наряжаясь в ее корону и путаясь в складках еще не простывшей, с королевы сорванной порфиры. В наше время не бывает разве примеров измены мужа, который, мирно и согласно прожив со своей женой двадцать лет, меняет ее и всю семью на какую-нибудь горничную и, обзаведясь новым, побочным семейством, делается рабом недавней служанки? Эта самая история была с Генрихом VIII и Анной Болейн. С его стороны главную роль играла чувственность, искусно разжигаемая притворным целомудрием; с ее стороны – самое утонченное кокетство, расчет и лукавство. Самозванцы обольщали народ наружным сходством с государями; Анна Болейн обольстила Генриха VIII маской стыдливости, невинности, придававшей ей вид женщины добродетельной, тогда как на самом деле Анна была развратницей, в чем может убедить нас нижеследующий биографический очерк.
Семейство Болейн, состоявшее из отца Томаса Болейна, матери (урожденной графини Норфолк), сына и двух дочерей, пользовалось незавидной репутацией. Мать и старшая дочь одно время при содействии сына и брата пользовались благосклонностью короля, хотя и непродолжительной. Младшая дочь Анна (родившаяся в 1500 году) в четырнадцать лет сопровождала принцессу Марию, невесту Людовика XII, во Францию, где провела первые годы юности, меняя и госпожей и поклонников. После отъезда Марии в Англию Анна Болейн была принята фрейлиной к супруге короля Франциска I, Клавдии Французской; после ее смерти, в 1524 году, к его сестре – герцогине Алансонской. Нравственность двора того времени известна читателю; мы не будем входить в грязные подробности, но не можем не сказать, что из всех придворных едва ли могла отыскаться под пару Анне Болейн другая, которой бы так хорошо пошли впрок уроки кокетства и свободы обхождения… Красавица удивляла своей наглостью самых отчаянных бесстыдниц, и молва о ее подвигах немало обогатила устную соблазнительную хронику того времени. Вернувшись в Англию, Анна поступила в штат королевы Екатерины Арагонской (1527) и мгновенно преобразилась из прежней красавицы легкого поведения в скромницу, смиренницу такую, что и водой не замутишь. Стыдливо потупленные глазки, румянец, появлявшийся на щеках при мужском взгляде или неосторожном слове, тихий, мелодичный голос очаровали Генриха VIII с первой же его встречи с новой фрейлиной, и он не замедлил объясниться в полной уверенности, что Анна не будет с ним упрямее своей матери и старшей сестры. К совершенному удивлению и пущему обольщению короля, Анна отвечала ему суровым отказом, весьма основательными укорами и стереотипными нравоучениями, которых, заметим, истинно честная и невинная девушка и читать-то никогда не станет в ответ на страстное признание… Ослепленный король не сумел, однако, отличить этой поддельной добродетели от настоящей. Фразы Анны Болейн, вроде следующих: «Я ваша верноподданная, государь, но не более…» или: «Любить я могу и буду любить только мужа…» – вскружили ему голову окончательно, и он, тогда помышлявший уже о расторжении своего брака, решился приступить к осуществлению этого замысла и покупке любви Анны Болейн ценою короны. Два года длилась эта интрига – безукоризненная, пока совершенно платоническая, и в это же время готовились Генрихом необходимые документы для развода с супругой. Начало позорному процессу сделали кардиналы а lаtеге Уолси и Компеджио, предложившие королеве удалиться в монастырь, так как брак ее и сожительство с мужем были делом противозаконным… Королева отвечала отказом, Папа Римский медлил с решительным ответом. 21 июня 1529 года состоялось первое заседание суда над королевой. Ложные свидетели в числе 37 человек (почти все родные или клевреты Анны Болейн) обвинили Екатерину в нарушении супружеской верности, духовные лица упоминали о кровосмешении, так как она, будучи вдовой одного брата, вышла за другого; король и гражданские судьи ссылались на его протест 1505 года, и общий говор принуждал королеву, сложив с себя свой сан, удалиться в монастырь. Безвинно позоримая, унижаемая, но еще не униженная, Екатерина Арагонская сказала со всем величием правоты:
– Что я в течение двадцатилетнего супружества была верна супругу и государю, это он может подтвердить и сам. Брак наш был разрешен святым отцом – Папою именно потому, что я не разделяла ложа со старшим братом короля, но чистой девственницей, со спокойной совестью пошла с ним к алтарю. Отвечать согласием на предложение поступить в монастырь я не могу до тех пор, пока не получу ответа от родных моих из Испании и от его святейшества из Рима.
Заседание было прервано. Большинство судей поняли, что суд неправый, противный законам Божию и гражданскому. Когда король после того объявил кардиналу Уолси о своем намерении жениться на Анне Болейн, временщик, упав на колени, со слезами заклинал его не унижать так ужасно достоинства королевского и взять себе в супруги сестру французского короля или Ренату, дочь покойного Людовика XII. Этот протест раздосадовал Генриха VIII, и он, разумеется, не замедлил сообщить о нем своей возлюбленной. Прелестная, грациозная Анна Болейн с яростью фурии потребовала увольнения кардинала Уолси от всех его высоких должностей, предлагая на его место Крен-мера, капеллана своего почтенного родителя. Падение Уолси было решено, однако же Генрих не увольнял его, ожидая ответа из Рима. Ответ вскоре пришел: Папа признавал брак короля с Екатериной Арагонской законным и нерасторжимым. Тогда-то Генрих VIII все свое бешенство излил на кардинала, уволив его со службы и предав суду за превышение власти, казнокрадство и множество преступлений (вымышленных), изложенных в 45 пунктах обвинительного акта. Личным врагам кардинала, герцогам Норфолку и Суффолку, было поручено присутствовать в следственной комиссии и при конфискации всего имущества недавнего королевского любимца… Разоренный, униженный, убитый, Уолси отправился в изгнание в одну из беднейших епархий. В дороге его нагнал Норрис, камердинер короля, нарочно посланный, чтобы передать от Генриха несколько слов утешения, и бедный временщик сошел со своего коня, преклонил колени посреди грязи перед королевским посланным, смиренно прося поблагодарить его величество за эту последнюю милость.
По мере своего удаления от столицы изгнанник, еще недавно выказавший жалкое малодушие, свойственное каждому павшему временщику, мужался и успокаивался. По приезде к избранному им самим месту своего пребывания, преобразованный в убогого благочинного, Уолси и душевно преобразился к лучшему, посвятив себя служению Богу и страждущим. Он посещал бедных и больных, принося им помощь и утешение, заботился о воспитании детей, о нуждах поселян, таким образом, искренними слезами и христианскими подвигами заглаживая свои проступки во времена своего могущества. Любовь и уважение паствы, принятой кардиналом на свое попечение, возбудили ревность в Анне Болейн и Генрихе VIII; они поняли, что и в изгнании своем Уол-си нашел свою долю счастья и мир душевный, заменивший ему все недавние сокровища, а король и его любовница желали отнять у него все, может быть, даже и самую жизнь! Недолго было настрочить на бывшего канцлера новое обвинение, на этот раз в государственной измене, и вызвать его в Лондон для заточения в Тауэр, из которого была одна дорога – на эшафот. Герцогу Нортумберленду, тому самому, который двадцать лет тому назад за счастье почитал отдать своего сына в пажи кардиналу, было препоручено привезти пленника. Последний путь кардинала из его епархии в Лондон был его торжеством, вполне заслуженным, далеко оставившим за собою те пышные процессии с их мишурным блеском, на которых он первенствовал когда-то. Во всю дорогу до Лейчестера народ, теснясь по окраинам и провожая своего доброго пастыря, напутствовал его благословениями и осыпал теплыми выражениями душевной благодарности. В Лейчестере кардинал заболел изнурительным поносом и остановился в тамошнем монастыре в предчувствии близкой смерти, прося окружающих похоронить его в стенах этого последнего своего прибежища. Бывший при нем смотритель Тауэра Кингстон, тронутый его страданиями, телесными и душевными, стал утешать и успокаивать его.
– Я у гроба, – отвечал Уолси, – не обнадеживайте меня ни милосердием короля, ни его вниманием к моим прежним заслугам… Напомните ему от моего имени о том, как часто я предостерегал его от покорства страстям, от увлечений и зачем он не послушал меня?… Скажите ему еще, – продолжал умирающий, – что я искренне сожалею, зачем Богу не служил я так, как служил королю? Господь не обидел меня на старости лет. Он был милосерден к своему верному служителю…
Кардинал Уолси умер 29 ноября 1530 года. При известии о его смерти Генрих VIII заплакал и воздал должную справедливость памяти честолюбца, жизнью своей явившего не первый и не последний пример превратности судеб временщика – пример, из которого, впрочем, ни один временщик последующих времен не извлек для себя предохранительного нравоучения. Во время могущества кардинала Уолси его боялись все сословия, но и проклинали почти все. Духовенство католическое негодовало на него за дело о разводе короля, протестанты – за преследования, монахи досадовали на кардинала за его лихоимство, дворяне – за темное его происхождение, народ – за обременительные налоги. Одно только ученое сословие, пользуясь покровительством временщика, могло сказать о нем доброе слово. Стараниями кардинала Уолси в Оксфордском университете было учреждено семь кафедр, была основана коллегия Христа; Ипсвичский университет был обязан ему многими преобразованиями и существенным улучшением быта студентов.
Екатерину Арагонскую теснила с престола Анна Болейн, вакантное место фаворита при Генрихе VIII занял клеврет последней – Кренмер. Решительный ответ Папы Климента VII не отклонил Генриха от его намерения развестись с супругою, и он, по советам Кренмера, перенес свое дело на рассмотрение суда гражданского или, правильнее, ученого. Вопрос о законности брака передан был Кренмером на рассмотрение всех европейских университетов. Это явное неуважение к воле римского первосвященника вызвало ропот негодования со стороны духовенства. Король, признавая католическое вероисповедание главенствующим в Англии, начал именоваться в документах покровителем и верховным главою церкви англиканской, чем сделал первый шаг к отходу от власти Папы Римского; кроме того, в присягу он ввел новый и еще небывалый термин: «на сколько дозволяет закон Христов». Последнее уже носило на себе явный отпечаток лютеранского учения, в глазах Климента VII и всего католического мира не могло не показаться ересью, но именно для отклонения от себя подобного упрека Генрих VIII преследовал лютеран и в 1531 году, по примеру католических государств, сжег на костре трех последователей нового учения Лютера. Положение короля было самое скандальное: с женою он расстался без формального развода, с Анною Болейн, пожалованной титулом маркизы Пемброк, сожительствовал без брака. В 1532 году при свидании своем в Булони с Франциском I Генрих VIII представил ему Анну как невесту. Король французский как нельзя любезнее обошелся с бывшей фрейлиной своей жены и сестры (говорили даже – бывшей своей любовницей) – будущей королевой; подарил ей драгоценный бриллиант и обещал свое ходатайство у Папы Римского о разрешении Генриху вступить с нею в брак. Со своей стороны, король английский, видимо довольный новым, собственного изобретения титулом «главы англиканской церкви», предлагал и Франциску I последовать его примеру, назвавшись «главою церкви галликанской». По возвращении в Англию Генрих, не дожидаясь папского разрешения, тайно обвенчался с Анной Бо-лейн (14 ноября), бывшей тогда уже в интересном положении. 23 мая 1533 года Кренмер, архиепископ Кентерберийский, объявил брак короля с Екатериной Арагонской недействительным и расторгнутым, а через пять дней Анна Болейн была признана законной супругой и коронована. Екатерине был оставлен титул герцогини Уэльской; дочь ее Мария (родившаяся в 1510 году) могла быть наследницей в том только случае, если у отца ее не было бы детей мужского пола от второго брака; жилищем развенчанной королеве-супруге вместе с дочерью назначен монастырь Эмфтилль, в Дунстэбльшире. Королева отвергла все эти предложения, на которые Папа Римский Климент VII отвечал, в свою очередь, угрозой отлучить от церкви короля-самоуправца. Франциск вымолил Генриху прощение с тем условием, чтобы он явился с повинной в Рим, о чем и сообщил Генриху нарочный посол от короля французского – Жан Беллэ. Генрих обещал. Папа уведомил его, чтобы он в определенный срок дал письменный ответ, и Генрих не дал никакого. Тогда негодующий римский первосвященник 22 марта 1534 года обнародовал буллу, отлучившую Генриха от церкви и лишающую прав законной жены и дочери Анну Болейн и новорожденную Елизавету… Король, как бы издеваясь над Папою, указом объявил брак свой с Екатериной недействительным, а дочь ее Марию незаконной и отрешенной от всех прав на престолонаследие.
Преемником Папы Климента VII был Павел III (13 сентября 1534 года), доброжелатель короля английского, примирение которого с Римом было еще делом весьма возможным; но Генрих VIII уже осуществлял великую идею отпадения от Папы, присвоив себе окончательно духовную власть, именуя в документах Папу Римского «епископом», упраздняя монастыри и конфискуя их имущество в государственную казну.
Тем временем Екатерина Арагонская, приближаясь к гробу, написала королю письмо, в котором излилась ее кроткая, незлобливая душа и выразились прекрасные чувства, которыми эта святая женщина отличалась всю свою жизнь. Письмо было отправлено из замка Кимбэльтона, последнего местопребывания Екатерины.
«Я приближаюсь к смертному часу, – писала она, – и любовь, которую я все еще чувствую к вам, государь, побуждает меня умолять вас озаботиться о спасении души вашей и предать забвению все плотские и житейские попечения. Повинуясь побуждениям страстей ваших, вы ввергли меня в пучину великих бедствий и сами на себя навлекли не меньшие тревоги и заботы… Я все забываю, государь, и молю Господа: да предаст Он забвению все, что было! Поручаю вам дочь нашу Марию и заклинаю вас: будьте ей добрым отцом – в этом единственное мое желание. Не оставьте также моих фрейлин, которые не будут вам в тягость – их только три. Прикажите выдать годовой оклад жалованья всем лицам, бывшим при мне в услужении, иначе они останутся без куска хлеба…»
Далее умирающая выразила желание увидеть своего короля и мужа и в подписи назвалась его женою. Генрих, читая письмо, плакал – раскаяние и жалость его были, может быть, тем искреннее, что Екатерина на следующий день (6 января 1535 года) скончалась. Львиное сердце короля было тронуто; о королеве сожалели все, самые ее недоброжелатели, кроме прелестнейшей Анны Болейн, которая имела бесстыдство оказать самую живейшую радость при вести о кончине соперницы и вырядиться умышленно в цветное платье, когда по повелению короля при дворе был наложен траур, а по церкви воссылались моления об упокоении души усопшей королевы Екатерины.
Не будем особо останавливаться на великой религиозной реформе, совершавшейся в это время в Англии при ревностном содействии королю Кренмера, Томаса Кромвеля и многих других. Томас Морус, Форест и Джон Фишер, духовник покойной королевы, пали на эшафоте, отстаивая католицизм или, лучше сказать, папскую власть. Наступило царствование ужаса, не прекращавшееся до самой кончины Генриха VIII в 1547 году. В течение семнадцати лет число жертв деспота достигло почтенной цифры – семидесяти трех тысяч восьмидесяти семи человек, казненных, запытанных, умерших в темницах. В этом числе, при раскладке его по сословиям, находились: два кардинала, двадцать с одним духовных лиц в сане епископов и архиепископов, тринадцать аббатов, сто каноников и докторов богословия; герцогов, графов и баронов – сорок один человек; триста дворян, сто десять знатных женщин и семьдесят две тысячи простых граждан. Эти цифры, кажется, не нуждаются в комментариях!
Милая грациозная Анна Болейн в это время (1535 год) резвым мотыльком порхала на празднествах, не обращая внимания ни на кровь, ни на костры, ни на вопли казнимых и истязуемых. Этот демон в образе женщины не занимался подобными пустяками, избрав целью дальнейшей своей жизни веселье и удовольствия. Надев на себя корону, Анна в то же время сняла маску и из застенчивой скромницы превратилась в ту вольного обхождения красавицу, каковою была при дворе Франциска I десять лет тому назад. Существенная разница была только в том, что тогда за нею ухаживали мужчины, а теперь она окружила себя целой свитой придворных красавцев, между которыми особенно были заметны родной ее брат лорд Рочестер, Норрис, Брартон, Уэстон и некто Смиттон, миловидный юноша, забавлявший королеву игрой на лютне. Королева со своими любимцами обходилась без чинов, в полной уверенности, что супруг ее эту наглость сочтет наивностью; но выскочка королева забывала то, что в ее годы немножко поздно разыгрывать из себя наивную девочку. Генрих хмурился, и ласки его были уже не те, что года четыре назад… Анна ему надоела, а после рождения ею мертвого урода окончательно опротивела, и король в кругу придворных девиц уже избрал себе новую подругу в лице красавицы
Джейн Сеймур. Анна Болейн вздумала было выказать ревность и на все упреки получила в ответ ледяной, бесстрастный взгляд не мужа, но властелина. В этом взгляде более проницательная женщина могла бы угадать угрожавшую ей участь, могла бы понять, что лев близок к бешенству…
Анна вздумала еще подразнить его. На турнире, данном 21 мая 1535 года, королева, сидя в своей ложе, нечаянно – а может быть, умышленно – уронила свой платок перед проезжавшим мимо нее на коне Норрисом. Тайный ее любимец был настолько неблагоразумен, что, подняв платок, не возвратил его королеве, а отер им свое лицо. Генрих VIII, встав со своего места, пристально посмотрел на жену и, не говоря ей ни слова, уехал во дворец. На другой же день по его повелению были арестованы королева, ее брат и все вышепоименованные любимцы. Анна от ужаса впала в помешательство: то смеясь, то заливаясь слезами, она проклинала Норриса, предрекая погибель ему и себе самой; умоляя стражу, охранявшую ее в Тауэре, допустить ее к королю, звала дочерей своих Елизавету и Марию. Обвинительный акт гласил, что королева Анна с сообщниками злоумышляла на жизнь короля-супруга, что поведение ее было всегда более чем предосудительно не только до замужества, но и после; что, наконец, между ее сообщниками находятся лица, с которыми она состоит в преступной связи. Начались пытки и допросы. Музыкант Смиттон сознался в том, что пользовался неограниченной благосклонностью Анны Болейн и трижды бывал у нее на тайном свидании; прочие упорно молчали. Позор Генриха VIII был полный и неизгладимый! Для обвинения покойной Екатерины Арагонской нужны было клеветники и лжесвидетели; для Анны Болейн это было вовсе не нужно, так как достаточно было одной правды. Архиепископ Кренмер, ее креатура, писал королю в ее защиту, и надобно отдать справедливость – весьма неловко. «Подражайте Иову, государь, – говорил Кренмер в своем послании, – Бог сторицей наградил его за покорность своему жребию, точно так же Он воздаст и вам. Супругу вашу уличают в нарушении верности, и это, бесспорно, великое бесчестие, но бесчестие лично ее, а отнюдь не ваше».
Защита Кренмера не привела ни к чему; судопроизводство шло своим порядком, и 17 мая 1536 года следственная комиссия из двадцати пэров королевства, признав бывшую королеву Анну Болейн виновной, а равно и сообщников ее, постановила: преступницу казнить смертью, по усмотрению короля, сожжением на костре или четвертованием; брату ее с тремя сообщниками отрубить головы; музыканта Смиттона повесить. Тела пятерых казненных разрубить на части и выставить на позорище народу и в назидание злоумышленникам. Брак короля, по определению архиепископа Кренмера, объявить недействительным; дочерей его, рожденных Анною Болейн, Елизавету и Марию, признать незаконными.
Выслушав приговор, Анна по примеру закоснелых преступников, желая затянуть дело, припутав к нему новую кляузу, объявила, что в числе членов комиссии находится лорд Перси, герцог Нортумберленд, тайно с нею обвенчанный еще до выхода ее замуж за короля. Она рассчитывала на то, что судьи, приняв эту выдумку за правду, снимут с нее обвинение в измене Генриху VIII, только бедная интриганка жестоко ошиблась в расчете. Перси в дворцовой капелле торжественно поклялся, приобщаясь святых тайн, что все его отношения к королеве до ее замужества ограничивались ласками, никогда не преступавшими пределов благоразумия… Уведенная в Тауэр, Анна Болейн предалась самому малодушному отчаянию. Как то было с нею год назад, началась истерика со странным бредом, и, вероятно, непритворным. Накануне казни 19 мая 1536 года она попросила к себе жену коменданта Тауэра и, упав перед нею на колени, рыдая, сказала ей: повидайте принцессу Марию, дочь покойной королевы Екатерины, точно так же на коленях вымолите у нее прощение мне за все обиды, причиненные мною ей и ее несчастной матери!..
Ночь, предшествовавшую дню казни (20 мая), Анна провела без сна и с самого раннего утра до прибытия к эшафоту тем более падала духом, чем ближе наступала роковая минута. Сначала Анна молилась вслух задыхающимся голосом, потом принималась хохотать, затем впадала в оцепенение или глубокое раздумье. В эти страшные минуты она, между прочим, вдруг очень спокойно стала говорить окружающим, что палач – мастер своего дела и мучить ее долго не будет. «Топор острый и тяжелый, – заключила она, – а шейка у меня такая нежная, тоненькая…» И опять раздирающие душу рыдания и вопли.
Одни историки говорят, будто Анна Болейн шла на место казни мужественно и сложила голову на плахе с величием праведницы; другие, напротив, – будто бы малодушие ее перешло в ярость, и, осыпаемая проклятиями присутствовавшего народа, она сказала ему: «Королевой жила, королевой и умру, хотя бы вы все лопнули с досады!» Которое из двух сказаний правдивее, решать не беремся; что же касается разночтений у историков, причина их весьма проста: память Анны благословляли протестанты, проклинали католики.
Четыре друга королевы были обезглавлены в тот же день; горло музыканта Смиттона, издававшее когда-то нежные, мелодичные звуки под аккомпанемент лютни, было затянуто позорной петлей на виселице. Церемониал мрачной процессии на казнь был начертан собственной рукой Генриха VIII; палач был нарочно выписан им из Кале… В Ричмондском парке доныне показывают пригорок, на котором король стоял, ожидая вести о совершении казни своей второй, незаконной супруги.
На другой же день после казни он обвенчался с Джейн Сеймур. Эта личность, подобно Анне Болейн, большинству образованного мира представляется в весьма ложном свете, и в этом случае опять виноваты романисты, авторы мелодрам и композиторы. Анну они изображают обыкновенно угнетенной невинностью, тогда как на деле было совсем наоборот; Джейн Сеймур – злой интриганкой, клеветницей и лукавой кокеткой, происками своими погубившей свою жертву, – и это чистейший вздор. Красавица Сеймур была девушка тихая, кроткая, покорная воле тирана и всего менее домогавшаяся короны, снятой с обезглавленной Анны Болейн. Надобно предполагать в этой женщине неестественное мужество и геройскую смелость, чтобы допустить с ее стороны возможность домогательства короны, когда перед ее глазами только что разыгралась кровавая катастрофа, оборвавшая жизнь другой женщины, путем интриг достигшей престола и свергнутой с сего, чтобы взойти на эшафот. Дрожа от ужаса, Джейн Сеймур шла к алтарю со своим державным женихом, и не на радость ей был сан королевы, в который он возводил ее; не ослепляли ее ни блеск короны, ни багрянец порфиры, служившей гробовым покровом первой жены короля и обрызганной кровью второй. Она не могла любить Генриха как мужчину (в это время он был обрюзглым, чудовищной толщины субъектом, страдавшим одышкой), но настолько боялась его, что не осмеливалась и думать об измене. Во все кратковременное ее замужество Джейн не покидала мысль, что супружеское ее ложе воздвигнуто на гробнице Екатерины Арагонской и на плахе Анны Болейн.
Эта мрачная обстановка хуже всякого дамоклова меча могла отравить и, вероятно, отравила существование третьей жены Генриха VIII, которая не успела надоесть ему и унесла за собою в гроб (24 октября 1537 года) его искреннее сожаление, подарив ему наследника – Эдуарда.
Четвертый брак короля английского, в который он вступил через два года с небольшим после смерти Джейн Сеймур, можно назвать смешным фарсом, разыгранным Генрихом VIII после трагедии. На этот раз король решил взять себе в супруги не подданную, но принцессу одного из владетельных домов Европы. Политические соображения почти не руководили им; он искал жену себе по вкусу и для этого окружил себя портретами разных принцесс, заочно сравнивая и выбирая. Хотя живопись и называют художеством «свободным», тем не менее она имела тогда, как имеет и теперь, два существенных недостатка: или рабски подражает подлиннику, или рабски ему льстит, особенно если подлинник – особа женского пола. Художник, изобразивший на холсте черты принцессы Анны Клевской, на которую пал выбор Генриха VIII, долгом себе поставил польстить ей и вместо дебелой девы, ростом и дородностью способной поспорить со своим массивным женихом, изобразил чуть не Юнону – волоокую, с выражением на лице томной неги, едва ли когда оживлявшей круглое, как полнолуние, лицо принцессы. Плененный портретом, Генрих послал формальное посольство сватов за оригиналом, и Анна прибыла в будущие свои владения в январе 1540 года.
– Что это за фламандская кобыла? – сказал король окружающим после первого же своего свидания с новой королевой. – Бог с ней; я ее видеть не могу!..
Неизвестно, дошел ли этот отзыв до ушей флегматической Анны, но если бы и дошел, едва ли она была способна обидеться. Полгода Генрих, однако, сожительствовал с нею и, наконец, решил развестись. На оскорбительное предложение короля о расторжении брака и замене титула королевы титулом приемной сестры с приличной пенсией Анна отвечала самым простодушным согласием. Брак был расторгнут 12 июля 1540 года. Генрих VIII забраковал ее, не скажем его же словами, как «кобылу», но как кормилицу, нанятую в господский дом и отпущенную с вознаграждением за то, что не умела «потрафить» господам. Жажда любви или просто животное сластолюбие, которое он желал облечь в законную форму, побудило короля немедленно вступить в пятый брак, по примеру второго и третьего – морганатический, с племянницей герцога Норфолка, Екатериной Говард. Странности характера Генриха VIII и частые смены жен невольно заставляют сказать о нем: с женщинами истинно честными и по происхождению своему достойными быть его супругами он обходился как с потерянными, а содержанок своих возводил в достоинство королевское, уважая их как равных себе. Сравнение короля английского с султаном турецким может быть очень невыгодно первому: у поклонника Магомета султанша-валиде обыкновенно бывала одна, у Генриха VIII ею становилась первая встречная…
То же можно сказать и о нашем царе Иване Васильевиче Грозном. Чем объяснить сумасбродства этих великих государей XVI века? Желанием ли унизить свое достоинство, надругаться над законами или просто оправданием поговорки самодуров: «Ндраву моему не препятствуй»?… И в руках подобных деспотов находились судьбы государств!.. Пушкин назвал нашего Грозного «венчанным гневом»; Генриха VIII можно назвать «венчанным бешенством».
В описываемую нами эпоху на великого короля английского окончательно напала религиозная мания, осложненная помешательством эротическим. Через три недели после развода с Анной Клевской Генрих VIII торжественно объявил своей супругой Екатерину Говард, с которой еще до развода обвенчался тайно. Эта красавица, родственница Анны Болейн, нравом оказалась еще хуже этой последней. В угоду своему достойному дяде герцогу Норфолку Екатерина нашептала королю на ненавистного Норфолку Томаса Кромвеля и возвела его на эшафот; тайно благоволя католикам, она восстановила державного своего супруга против реформаторов и лютеран, умножая число казней и усиливая гонения. По повелению Генриха парламент обнародовал кровавый указ (bloody bill) в шести пунктах, излагавший религиозные обязанности верноподданных его величества. В силу этого указа приверженцев Папы вешали, а последователей лютеранства или анабаптистов жгли на костре… Исповедовать следовало веру англиканскую, изобретенную королем, в которой дикие фантазии его величества были возведены в степень неопровержимых истин и догматов. «Я действую по вдохновению свыше!» – говорил тиран окружающим, и эта раболепная дворня вполне с ним соглашалась… Просим читателя найти разницу между Генрихом и Гелиогабалом, заставлявшим воздавать себе божеские почести… Казни католиков и лютеран происходили с каннибальской утонченностью: несчастных возводили на костер с вязанкой хворосту за плечами или связывая спина со спиной лютеранина и католика. Жертв не перечисляем, чтобы не потерять им и счета; мать кардинала Полуса, врага реформы, дряхлую старицу графиню Солсбери, последнюю ветвь Плантагенетов, приговорили к смертной казни. Чувство самосохранения придало ей силы бороться с палачом, который, наконец, зарезал ее тут же на эшафоте. Кроме нее, назовем лорда Монтэгю, маркиза Эксчестера, Эдуарда Нельдилля, Керью, Леонарда Грея, наместника ирландского, генерала Кореи; из духовных: А. Брорбея, Ф. Корка, Ф. Бельчиома, Ф. Эбль, доктора Лемберта и юродивую Елизавету Бартон!.. Вполне довольный своей пятой супругой, Генрих VIII приказал читать по церквам особые молитвы о ниспослании ему супружеского счастья – увы! – непродолжительного.
Некто Лешле (LasceLLes) представил Кренмеру донос на Екатерину Говард, обвиняя ее в распутстве еще до брака с королем и после брака. Ссылаясь на свою сестру, горничную герцогини Норфолк, в семействе которой воспитывалась Екатерина, доносчик счастливыми ее обожателями называл Диргема и Меннока, с которыми она была в преступной связи до брака. Кренмер сообщил королю эти нерадостные вести, и хотя в первую минуту Генрих усомнился в их правдивости, тем не менее поручил канцлеру навести справки, собрать сведения. Донос Лешле оказался истиной от слова до слова: Екатерина Говард за брачный свой венец и за корону увенчала голову своего супруга весьма неприлично. Тем более, что рогатый тигр даже ненормальное явление. Сообщницей и помощницей Екатерины в ее любовных похождениях была невестка Анны Болейн, сестра ее брата, леди Рошфор – существо гнусное и развращенное. Суд был недолог: и Екатерину и ее сводницу казнили в Тауэре 12 февраля 1542 года. Желая впредь застраховать себя от неприятных ошибок при выборе супруги, Генрих VIII обнародовал неблагопристойный указ, повелевавший всем и каждому в случае знания каких-либо грешков за королевской супругой до ее брака немедленно доносить королю. Второй пункт обязывал каждую девицу, в случае избрания ее в супруги его величества короля (читайте султана) английского, заблаговременно исповедоваться ему в своих былых прегрешениях, ежели таковые за нею водились.
– Теперь нашему королю остается жениться на вдове! – пошла шутливая молва в народе.
Ровно год вдовел Генрих VIII, ведя его в политических распрях с Шотландией и Францией и прилежно занимаясь делом преобразования церкви. В это время издан был перевод Библии для употребления при литургии и для чтения знатных господ, народу чтение Библии было воспрещено под угрозой смертной казни. Сверх того, для пояснения верноподданным короля английского догматов новой веры изданы были «Постановления для христианина» (Institution of a christian man), вскоре замененные не менее бестолковым «учением» (Erudition of christian man). Во внешней политике подвигами великого короля были его успешные войны с Шотландией (во время которых для покрытия издержек были упразднены и ограблены монастыри) и союз с Карлом V против Франциска I, охладевшего к своему бывшему приятелю вследствие его безобразничания. Перед отбытием в армию, в феврале 1543 года, король английский изволил жениться в шестой раз, на Екатерине Парр, вдове лорда Летимера, женщине, пользовавшейся безукоризненной репутацией. Молва народная, предрекавшая королю женитьбу на вдове, сбылась! К этому можно прибавить слово о странной судьбе Генриха при его многочисленных браках. Первая его супруга, вдова его брата, была чистой и непорочной девственницей; Анна Болейн и Екатерина Говард, выдавая себя за честных девиц, не были ими, а будучи замужем, не умели быть даже и честными женами; отзывы Генриха о целомудрии Анны Клевской до ее брака были также не совсем основательны; Екатерина Парр была вдовой… Таким образом, за исключением Екатерины Арагонской и Джейн Сеймур, король английский не обрел в своих женах того высокого идеала чистоты, женственной прелести и кротости, к которому он так упрямо стремился. Добрая, истинно любящая женщина могла бы исправить этого человека, но такой он не нашел; разочарование в женщине было, конечно, одной из существенных причин того скотообразия, до которого он унизился в последние годы своей жизни.
Женщина умная, Екатерина Парр втайне благоволила лютеранам и была дружна с Анной Эскью (Askew) – запытанной королем за ее отзывы о религии, не согласные с идеями самодура. На престол шестая жена Генриха VIII не возлагала никаких надежд, так как, женясь на ней, король дал права законных дочерей принцессам Марии и Елизавете, объявив наследником своим принца Эдуарда. Екатерина Парр надеялась образумить короля касательно вопроса религиозного и душевно желала, чтобы в делах церковных Генрих VIII остановился на учении Лютера. То, что король делал в это время с духовенством, едва ли могло быть извинительно даже Чингисхану или Тохтамышу. 7 июня 1547 года он заключил мир с Францией и Шотландией и по этому случаю приказал в церквах петь благодарственные молебны и совершать процессии со всеми драгоценными принадлежностями богослужения: крестами, дароносицами, ковчегами и иконами… На другой же день все эти драгоценности были отняты в казну. Вычеркнутые из богослужения молитвы о Папе Римском были заменены молитвами об охране короля от «тирана римского». С докторами богословия Генрих вел диспуты с неизменной готовностью за противоречие казнить своего антагониста. Костры пылали, тюрьмы были переполнены узниками, без казней не проходило дня…
Оплакав втихомолку казнь своего друга, Анны Эскью, Екатерина Парр приступила к делу обращения короля в лютеранство, дерзая вступать с супругом в богословские диспуты.
В одной из подобных бесед Екатерина слишком явно высказалась за аугсбургское исповедание, на что король с адской иронией заметил ей:
– Да вы доктор, милая Китти!..
И сразу после ухода супруги Генрих вместе с канцлером составил против нее обвинительный акт в ереси. Добрые люди немедленно уведомили Екатерину о готовящейся грозе, и королева своей находчивостью спасла голову от плахи. На другой же день она, придя к мужу опять, затеяла с ним диспут и, постепенно уступая, сказала наконец:
– Мне ли спорить с вашим величеством, первым богословом нашего времени? Возражая, я только желаю просветиться от вас светом истины!
Генрих, нежно обняв ее, отвечал, что он всегда готов быть ее наставником и защитником от злых людей.
Будто в подтверждение этих слов на пороге показался канцлер, пришедший за тем, чтобы арестовать королеву.
– Вон! – крикнул король. – И как ты смел прийти? Кто тебя звал? Мошенник! Дурак! Скотина! (Knave, fooL, beast!)
Великий король вообще был неразборчив в выражениях.
Жизнь Екатерины Парр была спасена, хотя, нет сомнения, что над головой ее висела секира палача, до времени припрятанная, но Бог сжалился над нею и над всеми подданными Генриха VIII: 28 января 1547 года этот изверг испустил последний вздох на руках своего клеврета Кренмера, завещая похоронить его в Вестминстерском аббатстве рядом с Джейн Сеймур. Воспоминание о своей единственной любви была искрою человеческого чувства в умирающем. Народ вследствие тридцативосьмилетнего ига до того оподлился, до того привык к раболепству, что оплакивал этого великого короля.
Существует убеждение, что все тучные люди добры, так как «жир будто бы поглощает желчь». Генрих VIII лет за пять до смерти был до того жирен, что не мог сдвинуться с места: его возили в креслах на колесах. Самая болезнь его была следствием этой чудовищной тучности. Видно, нет правил без исключения.
Анна Клевская пережила его десятью годами и умерла в Англии, пользуясь своей пожизненной пенсией.
Екатерина Парр, через тридцать четыре дня после смерти Генриха VIII, вышла за Томаса Сеймура, адмирала королевского флота, но внезапно скончалась 7 сентября 1547 года. Существует предание, будто она была отравлена мужем, имевшим виды на руку принцессы Елизаветы, будущей королевы английской.
Елена Васильевна Глинская, государыня и великая княгиня, правительница всея Руси. Детство и отрочество царя Ивана Васильевича Грозного
Князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. – Князья Василий и Иван Шуйские. – Князь Иван Вельский. – Глинские
(1533–1547)
После смерти государя и великого князя Василия Ивановича (4 декабря 1533 года) у нас в России была точно такая же неурядица, как во Франции при Франциске II или в Англии при Эдуарде VI. Именем наследника-младенца управляли царством: сначала его мать, государыня Елена Васильевна Глинская, а после ее смерти – быстро сменявшие друг друга временщики, бояре-крамольники, раболепной угодливостью развившие в младенческом сердце будущего Грозного порочные наклонности, своими интригами и злодействами посеявшие в том же сердце ненависть к боярству, впоследствии выразившуюся неслыханными злодействами. Гонитель дворян, совмещавший в лице своем должности неумолимого судьи, а подчас и палача, Иван Грозный, подобно Христиану II Датскому и Людовику XI Французскому, был демократ в душе и сочувствовал народу. Простые люди русские отвечали ему взаимностью, доказательством которой служат, во-первых, предания о царе, в которых он является чаще героем, нежели тираном; во-вторых, самое его прозвище – Грозный, так верно его характеризующее. Народ уподобил своего царя грозе Божией: она ужасом леденит сердце человека, но в то же время освежает воздух, оживляет растительность, разгоняет гнилостные, удушливые испарения. Так понимал русский народ своего царя Ивана Васильевича, но это уподобление его Божией грозе, при всей своей поэтической красоте, не выдерживает суда потомства. Божий гром, ударяя в жилье, хотя нередко зажигает его, но дождь, неизменный спутник грозы, заливает пожар, напоминая людям пословицу: «где гнев, тут и милость»; грозы же Ивана Васильевича были грозами сухими или сопровождались кровавыми дождями и разливами кровавых рек; они щадили избы простого народа, но никогда не миновали домов боярских, даже церкви Божией в лице мученика митрополита Филиппа. Чтобы добраться до двух-трех крамольников, царь Иван Васильевич истреблял бояр целыми сотнями, из-за одной нечистой овцы резал все стадо, ради истребления одного куста куколя – выжигал целую ниву… Не плахами, не виселицами управляется самодержавие, как это делал Грозный, но милостями и благодеяниями; сила царя всегда должна быть в любви народной. «Сердце царево в руке Божией, – говорит Писание, – Бог же есть любовь!..»
Царь Иван Васильевич вырос на престоле, наследуя его трех лет после отца; шапку Мономаха держали над ним Елена Глинская и верховная боярская Дума, в которой заседали дяди государевы и двадцать знатнейших бояр. Так по завещанию покойного государя Василия Ивановича было организовано правление царством… Скажем лучше: должно было быть организовано, на самом же деле правителями государства были: Елена, дядя ее Михаил Глинский и ее возлюбленный, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Матери царя-младенца своим и его именем предоставлено было решать дела внутренние; Дума решала его именем дела внешние. Не ждал народ русский добра от этих новых порядков, чуя здравым умом и любящим сердцем грядущие распри и неурядицы.
Предав тело Василия Ивановича земле в Архангельском соборе, правители, бояре и духовенство поспешили в Успенский собор, где митрополит благословил младенца-царя властвовать над Россией, отдавая отчет в делах своих единому Богу. Во все пределы царства были разосланы гонцы-чиновники для приведения народа к присяге, принесенной единогласно и единодушно. Однако же стоустая молва предупредила гонцов и разнесла по всем концам Руси, что государыня Елена Васильевна глазами князя Оболенского видит, его ушами слышит, что он не токмо по ней первое лицо, но чуть ли и не повыше ее самой; что князь да сестра его, няня царя и брата его, царевича Юрия, боярыня Аграфена Федоровна Челяднина, всем при дворе управляют и своевольничают, будто чем государыню приворожили… Эта ворожба заключалась в связи князя Ивана Федоровича с правительницей – связи, при которой боярыня-сестрица играла весьма неприличную роль свахи. Эта интрига – явление весьма обыкновенное в западных государствах того времени – у нас на Руси было редкостью, чтобы не сказать небывальщиной. Великие княгини – до Елены Глинской – были в глазах народа образцами целомудрия, стыдливости и всех добродетелей женских; русский народ, не ведая слов Юлия Цезаря о Каль-пурнии, всегда говорил о своих государынях его фразу: «Супруга царя – вне подозрений!» Древние наши государи и цари, до времен Петра Великого, избирали себе супруг из боярских фамилий, но избранницы эти бывали всегда совершенством в физическом и моральном отношениях, однако же дочери великокняжеские и царские за бояр не выходили, а уж и того менее связью с ними себя не позорили. Елену Васильевну, как видно, не удержали от греха ни стыд, ни титул правительницы, ни имя вдовы государевой: беглая литвинка литвинкой и осталась и вместе с сердцем отдала князю Оболенскому в руки и судьбу сына и почти что державу царскую. Все последующие события были делами этого временщика, фаворита Елены Глинской.
Ровно через неделю по принесении народом присяги (11 декабря) старший дядя государя, князь дмитровский Юрий Иванович, вместе со своими боярами был заточен в темницу, ту самую, в которой при Иване III был задушен или уморен голодом внук его Дмитрий. Почему князь Юрий подвергся опале? Об этом в наших летописях существует два сказания: одно обвиняет, другое оправдывает князя. По первому он на другой же день присяги младенцу-племяннику подсылал дьяка своего, Тишкова, к князю Андрею Шуйскому, чтобы уговорить его перейти к себе на службу и способствовать возведению его на престол. Шуйский донес о том князю Борису Горбатому; тот – Елене, а Елена, созвав боярскую Думу, приказала ей действовать по закону. По другому сказанию, Андрей Шуйский оклеветал Юрия, чуждого всяких честолюбивых замыслов, и это сказание всего вероятнее, так как Андрей Шуйский, заточенный в тюрьму, мог сделать извет на князя Юрия в надежде заслужить милость и прощение… Всего же вернее, дядя государев был помехой Елене и князю Оболенскому и в их самоуправстве, и в нежных отношениях, сделавшихся окончательно чуть не явными. Участь Юрия ужаснула боярскую Думу и возбудила в ней ропот, а в народе жалость. Бывшие с войсками в Серпухове князь Симеон Федорович Бельский и окольничий Иван Лятцкий бежали в Литву и передались Сигизмунду. Следствием этой измены были новые жестокости правительницы: князь Воротынский с сыновьями и брат Симеона Бельского Иван, член верховного совета, были схвачены в Коломне за сообщество будто бы с изменниками, привезены в Москву и посажены в темницы; опала правительницы не пощадила родного ее дядю, Михаила Глинского, и ближнего боярина Михаила Семеновича Воронцова: Глинский был заточен в темницу, Воронцов удален от двора. Эти вельможи были двумя совершенно невинными жертвами, принесенными Еленой Глинской своему князю Оболенскому. Старик дядя не давал ей покоя, укоряя ее постоянно за неприличное поведение, требуя разрыва с фаворитом и удаления его от занимаемых должностей. Страсть заглушила в Елене Глинской чувства родства и уважения к старику дяде: не довольствуясь его заточением, она в угоду Оболенскому приказала уморить Михаила Глинского голодом… Характер правления принимал кровавый оттенок тирании, возмутительной тем более, что она проявлялась в женщине, руководимой любовником. Боярская Дума значительно убыла, зато увеличилось число узников и эмигрантов. Брат князя Юрия Андрей, князь старицкий, страшась подвергнуться одинаковой с ним участи, уехал в свой удел, ропща и негодуя на правительницу, о чем услужливые наушники ей исправно доносили. 26 августа 1536 года князь Юрий скончался в темнице, то есть, подобно Михаилу Глинскому, был уморен голодом. Князь Андрей, извещенный об этом, со всем своим семейством бежал из Старицы и, сделав привал в шестидесяти верстах от нее, решился собрать войско и, свергнув правительницу, занять ее место… может быть, даже и место государева племянника. К областным детям боярским он разослал грамоты, призывая их к себе на службу и побуждая свергнуть ненавистное иго боярской Думы: «Великий князь – младенец; не ему, а боярам вы служите!» – говорил Андрей в своих грамотах. Они сделали свое дело: многие из боярских детей приняли сторону мятежника, другие, более предусмотрительные, препроводили возмутительные грамоты в Москву. Правительница приняла решительные меры: в Новгород с сильным гарнизоном был отправлен князь Никита Оболенский, а Иван Федорович Телепнев со своей дружиной пустился в погоню за Андреем, которого и настиг в Тюхоли, за Старой Руссой. Войска встали друг к другу лицом к лицу, приготовились к битве, и в эту самую решительную минуту недавняя отважность князя Андрея сменилась малодушием, он смиренно вступил с Телепневым в переговоры, требуя от него клятвы, что в случае сдачи в плен ему мстить не будут… Клятву эту Телепнев дал ему и привез князя в Москву. Елена, строго выговорив своему любимцу за своевольную дачу клятвы, в противность ей, велела оковать и заключить Андрея, семейство его посадить под стражу, боярских советников немилосердно пытать; наконец, тридцать детей боярских, взявших их сторону, перевешать вдоль по новгородской дороге в далеком расстоянии друг от друга. Полгода томился Андрей в тюрьме, где был тайно удавлен по повелению той же великодушной Елены Глинской. Современница Франциска I, Генриха VIII, Карла V и Сулеймана II, она, хотя и слабая женщина, не уступала им в жестокосердии…
Но самое это жестокосердие и совершенное отсутствие сострадания к ближним не мешали Елене Глинской быть нежной, детски уступчивой и женственно-сладострастной в объятиях князя Телепнева… В них находила она самый приличный для себя отдых от казней и злодейств.
Ужасая дворянство и народ своими жестокостями, явными и тайными, возбуждая в них справедливое негодование своим распутством, наша литовско-русская Мессалина выказывала много ума и такта во внешних сношениях с соседними державами. Она подтвердила дружественные договоры России со Швецией, Ливонией, Молдавией, царством Астраханским и князьями ногайскими; в последний год своего правления сносилась дружественно с императором Карлом V и братом его Фердинандом, королем венгерским и богемским; вела успешные войны с Крымом и Литвой (1534). Подвиги наших воевод Пупкова, Гатева, Немирова, Лавина, Кашина, князей Федора Мезецкого и Никиты Оболенского не могут быть забыты историей, а нашествие князя Телепнева на Литву (в октябре и ноябре 1534 года) снискало и ему если репутацию не даровитого полководца, то, по крайней мере, отличного резаки, зажигателя и грабителя. Говорим это ему не в упрек: бесполезная резня, пожар, грабеж и насилие были неизменными спутниками войн не только в XVI столетии, но и гораздо, гораздо позже. Князь Телепнев, как бы желая оправдать избыток милостей к себе Елены Глинской, принимает также деятельное участие и в последующих наших войнах с литовцами и крымцами. 29 августа 1535 года отличился брат временщика Федор Телепнев при осаде литовцами Стародуба, хотя и попал в плен с князем Сицким. Этот плен послужил на пользу Литве и России при заключении между ними перемирия в 1537 году.
Пользуясь неограниченным расположением правительницы, князь Телепнев-Оболенский главенствовал в правлении и, как человек предусмотрительный, вкрался в доверие к юному царевичу Ивану и снискал его любовь и искреннюю приязнь. На дворян и бояр он смотрел с пренебрежением, издеваясь над их бессильным гневом, горделиво попирая ногами тех из них, которые перед ним пресмыкались. Народ возненавидел и его и Елену; последняя, желая ханжеством воротить себе утраченную любовь народную и задобрить общественное мнение, строила храмы, ездила по монастырям… но этим лицемерием она возбуждала к себе только пущее презрение. Князь Телепнев, надменный с боярами, не имел настолько такта, чтобы прилично держать себя в отношении Елены: постоянно сопутствуя ей в ее разъездах по обителям, он останавливался в одних с нею покоях, садился в одну колымагу, даже при богослужении становился рядом с ней; малолетнего царя Ивана и царевича Юрия ласкал, как добрый вотчим ласкает пасынков. Место правителя царства, которое князь Иван Федорович занимал при жизни Елены Глинской, по его мнению, было упрочено за ним и в случае ее смерти. Задобрить народ – не велика хитрость; бояре, которые теперь тише воды ниже травы, тогда не осмелятся вымолвить слово, тем более что царь подрастает и первым по нем, конечно, пребудет князь Оболенский.
Расчеты временщика оказались однако же воздушными замками. Заслужить любовь войска – он ее заслужит; задобрить народ – он мог бы его задобрить… но он ошибся в суждениях о боярах; он позабыл, что согнутая олигархия в случае переворота тем стремительнее воспрянет, чем более он теперь ее гнет.
Третьего апреля 1538 года правительница проснулась в свой обычный час, занималась делами, была свежа, как весеннее утро, и не жаловалась ни на скуку, ни на нездоровье. В первом часу полудня ей сделалось дурно: дышавшее молодостью и красотой лицо исказилось, дрожь и судороги начали пробегать по стройному ее телу и через час, невзирая на помощь врачей, она скончалась – от яду, как справедливо замечает Герберштейн.[8] Пораженный ужасом, князь Телепнев, его сестра боярыня Аграфена Челяднина и восьмилетний царь Иван Васильевич, рыдая, стояли у смертного одра правительницы, и вопли их глухо и безответно раздавались под сводами царской опочивальни… Бояре молчали, не высказывая ни жалости к покойнице, ни уважения к ее сыну, ни недавнего страха к ее любимцу. Елену, в самый день смерти, похоронили в Вознесенском девичьем монастыре; в течение недели глубокое безмолвие и затишье, предвещавшее бурю, царило при дворе. Толпы бояр – живые волны, готовые поглотить временщика, а с ним вместе, может быть, и царя-отрока, извергли наконец из своей пучины боярина Василия Васильевича Шуйского, потомка князей суздальских, бывшего членом совета еще при покойном супруге Елены Глинской и подозреваемого в ее отравлении. Он объявил себя правителем царства и опекуном царя Ивана и начал свое правление тем, что велел заковать князя Телепнева и сестру его, Челяднину: ни того, ни другую не спасли от насилия даже объятия державного отрока, из которых их исторгли; Шуйский не обратил внимания ни на слезы, ни на мольбы царя Ивана… Это был не арест, но прямой разбой и самое неуважительное к царю бесчинство. Боярыня Челяднина была пострижена в монахини в отдаленном каргопольском монастыре; князя Ивана Федоровича Телепнева-Оболенского уморили голодом. Адские муки этой смерти, испытанные четыре года тому назад его жертвами Михаилом Глинским и князем Юрием Ивановичем, суждено было изведать ему самому. Василий и Иван Шуйские встали во главе правительства; вместо одного временщика их явилось двое, и вдвое хуже прежнего стало Думе, государству и самому царю. В угоду родственнику Ивана, князю Димитрию Федоровичу Бель-скому, временщики, освободив из темницы брата его Ивана, допустили его к занятию прежней должности в Думе. Василий Шуйский, желая упрочить за собой место правителя, будучи вдов, имея более пятидесяти лет от роду, женился на молоденькой княжне Анастасии, дочери казанского царевича Петра, в полной уверенности, что его своевольству не будет ни конца, ни предела. К счастью для царства, Василий Шуйский властвовал только шесть месяцев и умер, вероятно отравленный, в октябре того же 1538 года. Это полугодие было ознаменовано подвигами наглости беспримерной и совершенного забвения законов Божеских и человеческих. Князь Иван Бельский, митрополит Даниил и дворецкий Михаил Тучков вместе с другими вельможами, негодуя на временщиков, решились ослабить их власть в пользу законной, царской. Иван Бельский непосредственно просил царя дать чин боярина князю Булгакову-Голицыну и сан окольничьего сыну Хабара Симского. Узнав об этом, Шуйские на первом же заседании боярской Думы напустились на Бельского с укоризнами и бранью, упрекая в неблагодарности. Как бы в подтверждение справедливости этих упреков братья Шуйские опять заточили Ивана Бельского в темницу, приверженцев его разослали по деревням, а дьяку Федору Мишурину после жестоких пыток отрубили голову! Все эти приговоры были утверждены Шуйскими и Думой без ведома царя Ивана, даже не его именем. Этими подвигами Василий Шуйский закончил свое земное поприще – умер, как мы говорили, передав присвоенную самодержавную власть брату своему Ивану. Продолжая мстить врагам своим, новый глава царства, превращенного в олигархическую республику, свергнул митрополита Даниила, заменив его игуменом Троицко-Сергиевской лавры Иосифом Скрыпицыным. Груб и нагл был Василий Шуйский, но Иван его превзошел, являя в своей гнусной особе даже тип не временщика, а просто чванливого холопа, грабящего малолетнего барина и еще хвалящегося своим нахальством. Иван Шуйский, входя в опочивальню царя Ивана, никогда не стоял перед ним, а садился, облокачиваясь на постель или закидывая ноги на ближайшую скамью, грабил казну и народ без зазрения совести, в наместники назначал своих клевретов, давая им право творить что им ни заблагорассудится… Так, князь Андрей Михайлович Шуйский и князь Василий Репнин-Оболенский ограбили Псков дотла, не хуже на-беглых татар былого времени. Внутренняя неурядица не могла не привлечь в русские пределы наших давнишних врагов – татар, крымских и казанских. Саип-Гирей, хан крымский, дерзкими грамотами угрожал царю Ивану, издеваясь над его молодостью и бессилием, и Шуйский не постыдился вступить с ним в соглашение, обещая не воевать с царем казанским, его союзником. Пользуясь этим, казанцы вторгались в области Нижнего, Ба-лахны, Мурома, Мещеры, Гороховца, Владимира, Шуи, Юрьевца, Костромы, Кинешмы, Галича, Тотьмы, Устюга, Вологды, Вятки и Перми; выжигали города и села, грабили храмы и монастыри, пытали священников, насиловали монахинь, увечили и уводили в неволю жителей… А дума боярская молчала и, по собственному выражению, «не двигала ни волоса» для отражения союзников разбойника Саип-Гирея. В сношениях с европейскими державами достоинство царства русского унижено не было, но мог ли утешаться этим народ-страдалец, из-под рук малолетнего царя угнетаемый злодеем-правителем…
В 1540 году в правительстве произошел переворот сравнительно к лучшему: бояре столкнули Ивана Шуйского с высокого занимаемого места. Митрополит Иоасаф со многими боярами после ходатайства перед юным царем за Ивана Бельского царским именем освободили узника из темницы и посадили на место, прежде им занимаемое в Думе. Воображая, что царь променяет на него всю партию недовольных, желая устрашить его, Иван Шуйский с того же дня, оставив все дела, удалился из Думы… Его никто не удерживал, и, таким образом, партия Бельских торжествовала. Внезапное свое возвышение (чтобы не сказать, воцарение) Бельский ознаменовал многими благодетельными преобразованиями. Уволив Андрея Шуйского, грабителя и обидчика, от должности наместника в Пскове, он восстановил в этом древнем городе суд присяжных, или целовальников, решавший дела независимо от воли наместника; освободил царского двоюродного брата, Владимира Андреевича, вместе с его матерью, заключенных еще Еленой Глинской; облегчил тяжкую участь другого полудержавного узника, Дмитрия Андреевича Углицкого, внука Василия Темного. Эти истинно добрые дела Иван Бельский затмил однако же ходатайством своим за своего брата Симеона, беглеца и переметчика. Симеон не воспользовался, впрочем, прощением русского царя, предпочитая возврату на родину позорное служение в рядах крымского хана Саип-Гирея, угрожавшего вторжением в наши пределы, приглашая к себе в союзники и царя казанского. Нашествие произошло летом 1541 года. Саип-Гирей, с изменником Симеоном Бельским и бесчисленной ратью, перешел Дон и 28 июля осадил Зарайск, от которого был отражен воеводой Назаром Глебовым. Русские дружины, расположенные на берегах Оки, поджидали неприятеля; в Москве происходили молебствия о даровании нам победы; одиннадцатилетний царь Иван объявил боярской Думе о намерении своем встать во главе своих воинов, однако же уступил благоразумным советам митрополита и остался в Москве, приведенной в оборонительное положение и готовившейся к осаде. Небывалое единодушие господствовало в дружинах царских: воеводы, позабыв свое местничество, распри и личные расчеты, дали друг другу слово крепко постоять за царя и утвердили договоры клятвою и крестным целованием. 30 июля хан показался на берегах Оки и занял нагорья; луговой берег защищен был передовыми дружинами князей Ивана Турунтая-Пронского и Василия Охлебина-Ярославского. Они с помощью подоспевших запасных полков отразили крымцев, принудив их отказаться от переправы и искать спасения в бегстве. После трехдневной неудачной осады Пронска (с 3 по 6 августа) Саип-Гирей бежал окончательно из пределов царства русского, гонимый нашими воеводами.
Когда мужественные дружины возвратились в Москву, столица встретила их с почестями, царь, заливаясь слезами, благодарил воевод, на что они отвечали ему:
– Государь, мы одолели врага твоими ангельскими молитвами и твоим счастьем!
Недавнее бедствие, угрожавшее царству, смирило гордецов, сблизило соперников и в сердцах бояр-крамольников пробудило чувства любви к царю и родине… Это благодатное настроение умов было однако же непродолжительно: крута гора, да забывчива!
Вознесенный боярами по милости доброхотствовавшего ему митрополита, Иван Бельский не только пощадил соперника своего Шуйского, но даже дал ему воеводство – в надежде окончательно победить его великодушием. Дорого поплатился Бельский за эту ошибку. Пользуясь мягкосердием Бельского и его благородным доверием, Иван Шуйский составил заговор к низвержению его и митрополита. Сторону крамольника приняли князья Кубенские (Михаил и Иван), Димитрий Палецкий и казначей Третьяков; к ним вскоре присоединились многие бояре в Москве и других областях, особенно в Новгороде. Начальствуя войсками, Шуйскому нетрудно было и их привлечь к себе. Отделив триста всадников, злодей прислал их в Москву вместе со своим сыном Петром в помощь своим клевретам на случай восстания. Бунт вспыхнул в Кремле в ночь на 3 января 1542 года. Вторгнувшиеся в дом Ивана Бельского заговорщики захватили его и преданных ему Хабарова и князя Щенятева; градом камней осыпали окна дома митрополитова и едва не умертвили Иоасафа, бежавшего в Троицкое подворье, оттуда во дворец, к царю Ивану… Отрок, пробужденный воплями мятежников и стуком оружия, заливаясь слезами, дрожал всем телом! Бояре ворвались в царские покои, схватили Иоасафа и отправили в ссылку в Кириллов белорусский монастырь, велели священникам храмов кремлевских за три часа до света служить заутреню, всполошили весь город – от царя до последнего нищего. На рассвете Иван Шуйский, прибыв из Владимира и заняв прежнее место правителя, стал немедленно чинить суд и расправу: князя Ивана Бельского сослал на Белоозеро, Щенятева в Ярославль, Хабарова в Тверь. Чутко прислушиваясь к народному говору, временщик услышал сетования об участи Бельского; опасаясь движения в его пользу, Шуйский послал в Белоозеро трех убийц покончить с ним, и с Бельским покончили…
Дума боярская безмолвствовала, покорная Шуйскому; церковь два месяца оставалась без архипастыря, еще не избранного на место Иоасафа; выбор Шуйского пал наконец на преданного ему архиепископа новгородского Макария. На воеводства, как и в прежнее время, посажены были клевреты и приверженцы
Шуйского; опять пошли грабежи, притеснения народа – словом, царило безначалие, но вместе с тем занималась и заря перемены в правлении. Временщик дряхлел, а царь Иван Васильевич из отрока становился юношей. Первый удалился от дел, сдав их на попечение своим родственникам, Шуйским же: Ивану и Андрею Михайловичам и Федору Ивановичу Скопину. Иной умирающий временщик напоминает гидру, на место одной отрубленной своей головы порождающую десять новых; так, вместо одного Шуйского явилось их трое. Возникла партия недовольных, душой которой был советник Думы Федор Семенович Воронцов, любимый царем и ненавидимый Шуйскими. С ним они обошлись точно так же, как Иван Шуйский с Бельским. На одном из заседаний Думы в присутствии царя и митрополита крамольники, поддерживаемые Кубенскими, Палецким, Шкурлятевым, Пронскими и Алексеем Басмановым, стали в глаза Воронцову возводить на него оскорбительные небылицы и после жестокого спора с площадной бранью бросились на него, поволокли в соседнюю комнату и там хотели умертвить. Царю едва удалось вымолить ему пощаду, тогда Шуйские приказали стащить его в темницу. Царь послал к ним бояр и митрополита просить оставить Воронцова на службе в Москве. Крамольники отвечали грубостями, отказом, а один из их клевретов, Фома Головин, заспорив с митрополитом, порвал на нем мантию! Эти безобразия переполнили чашу терпения в тринадцатилетнем Иване и зажгли в его сердце ту неугасимую ненависть к олигархам, которую впоследствии не в состоянии были залить целые реки боярской крови. Возросший на руках разврата, Иван Васильевич с самых юных лет обнаруживал порочные наклонности и дикую лютость. Забава охотой развила в нем равнодушие к страданиям живых существ, вид крови производил на него сладостное впечатление. Льстецы хвалили его за шалости, за которые всякий умный наставник строго взыскивает с питомца, кто бы он ни был. Царь истязал щенков, котят, наслаждаясь их визгом, а хор придворной челяди хвалил его изобретательность на муки; царь, разъезжая верхом по московским улицам, топтал под копытами своего коня детей и женщин, и те же бояре славили его молодечество, не понимая, что молодой тигр пробует и острит свои когти, чтобы впоследствии лучше терзать тех же льстецов, недальновидных пестунов и потатчиков. Так развивалось сердце Ивана Васильевича; об образовании его ума, от природы обширного, не говорим: невежество, в котором умышленно заставляли его коснеть крамольники, было их надежным союзником во всех кознях и происках.
От партии боярской мало-помалу стали отделяться приверженцы единодержавия. Дяди царя, Глинские, Юрий и Михаил Васильевичи, непрестанно внушали племяннику, что пришла ему пора объявить себя самодержцем, свергнуть иго боярское и с себя, и с угнетаемого народа, что вся Русь ждет его призывного клика, чтобы восстать на временщиков и разнести их в прах. Советы эти не пропали даром. На Рождество 1543 года, именно 29 декабря, был пир во дворце, на котором присутствовали вельможи и бояре. Здесь царь Иван Васильевич объявил им свой гнев и исчислил все их проступки против него и царства, в заключение приказал казнить, по его мнению, виноватейшего из всех – Андрея Шуйского. Его в ту же минуту вывели из царских покоев и отдали на растерзание псарям. Эта первая жертва ярости царя Ивана была с восторгом принята озлобленным народом. Затем всех клевретов Шуйских разослали по отдаленным местам, заточили в темницы; Афанасию Бутурлину урезали язык; временщикам именем царя объявлена опала.
Стоя укрепленным лагерем под Коломной, царь, тешась охотой, был остановлен пятьюдесятью новгородскими пищальни-ками, желавшими принести ему какую-то жалобу; он приказал их разогнать – они заупрямились; приближенные царя употребили силу, десять человек легло на месте. В этом Иван Васильевич заподозрил заговор и поручил дьяку Василию Захарову расследовать дело. Захаров, приверженец Глинских, сообщил царю, что новгородцев к мятежу подстрекнули князь Кубенский, Федор и Василий Воронцовы. Не разобрав, действительно ли они виноваты, царь приказал казнить их, и 21 июля 1546 года все трое были обезглавлены. Побуждая царя к жестокостям, Глинские нимало не заботились (хотя и говорили) об утверждении единовластия; они свергли Шуйских затем, чтобы занять их место.
Летом 1546 года, под предлогом ближайшего ознакомления с бытом народным, царь ездил с огромной свитой и братьями своими: родным – Юрием Васильевичем и двоюродным – Владимиром Андреевичем, – по разным областям своего царства. Эта прогулка окончательно разорила посещенные Иваном Васильевичем области, отняв у жителей последние крохи; для охоты вырубали леса, вытаптывали нивы, потравляли луга… Видел народ, что хотя бояре и угомонились, да царь-то не больно о нем радеет и на тоску и нужду народную рукой махнул. Самые терпеливые упали духом и перестали ждать себе добра, даже и от новых порядков. Царю исполнилось шестнадцать лет 25 августа 1546 года. В середине декабря, по совещании с митрополитом, он объявил боярам о намерении своем приступить к обряду священного коронования на царство и вместе с тем вступить в брачный союз, но не с иноземкой, а с девицей из русского боярского рода, так как, «в младенчестве лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, мог не сойтись нравом с женой иной страны». 16 января 1547 года Иван Васильевич венчался царским венцом в Успенском соборе с пышностью и торжеством невиданными; а 13 февраля венчался венцом брачным с дочерью вдовы Захарьиной – кроткой, благочестивой Анастасией Романовной. После пиров и ликования новобрачные ходили в Троицко-Сергиевскую лавру, где провели всю первую неделю поста, молясь над гробом св. Сергия.
Однако же ни молитвы в стенах монастырских, ни беседы с пастырями, ни кроткие убеждения супруги не смягчали ожесточенного сердца юного государя. Тяготясь делами, он жаждал праздности и забав, власть свою проявлял не в милостях, а в жестокостях, бояр ненавидел, но слушался Глинских, которые, пользуясь родством с государем, безнаказанно угнетали народ и своевольничали не хуже Шуйских. Челобитчиков до царя не допускали; если же бывали смельчаки, дерзавшие на притеснения, царь жестоко их наказывал, называя мятежниками. Бояре молчали, целые сотни шутов и скоморохов забавляли царя своими глупыми играми, а льстецы восхваляли его мудрость. Кроткая Анастасия, видя, что она бессильна в великом деле правления царя, молилась Богу, чтобы он просветил Ивана Васильевича и смягчил его ожесточенное сердце.
Пожар Москвы озарил царю ту бездну пороков, в которой он утопал; железное его сердце размягчилось при виде пламени, расплавившего колокола столичных церквей и добела раскалившего их златокованые главы.
12 апреля 1547 года вспыхнул пожар в Китай-городе, истребивший в несколько часов тамошние лавки, казенные гостиные дворы и множество домов от Ильинских ворот до Кремля и Москвы-реки. Взлетел на воздух пороховой магазин и вместе с рухнувшей городской стеной обломками запрудил реку. Через неделю огонь обратил в пепел все улицы за Яузой, населенные гончарами и кожевниками. Оба эти пожара были предтечами третьего – страшнейшего и, по сказаниям летописей, беспримерного.[9] В полдень 21 июня при сильной буре и жестоком вихре начался пожар за Неглинной, на Арбатской улице, в церкви Воздвижения. Рекой разливаясь по улицам, огонь достиг Кремля, Китай-города и Большого Посада. Вся Москва превратилась в костер, пылавший под тучами густого удушливого дыма. Деревянные дома обращались в золу, каменные распадались в известь, железо рдело, колокольная медь таяла и лилась, как воск. С ревом бури сливались отчаянные вопли народа, грохот пороховых взрывов и клокотание неукротимого пламени, пожиравшего царские палаты, казну, сокровища, оружие, иконы, хартии, книги, гробы с мощами святых. Митрополит, страшно изувеченный, едва мог выбежать из успенского собора и был отвезен в Новоспасский монастырь. Пожар утих к трем часам ночи по недостатку дальнейшей для себя пищи! До двух тысяч человек, кроме младенцев, погибло в пламени, и на месте Москвы лежали груды дымящихся развалин. Царь со своим семейством оставался на Воробьевых горах, откуда ему видно было зарево, но куда не достигали стоны погорельцев. Пользуясь скорбным и раздраженным состоянием духа в народе, царский духовник Федор, князь Скопин-Шуйский, боярин Федоров, князь Темкин, Нагой и дядя царицы, Григорий Юрьевич Захарьин, желая свергнуть ненавистных Глинских, подстрекнули народ к мятежу. Когда на другой день пожара царь посетил митрополита в монастыре Новоспасском, туда явился Скопин-Шуйский с сообщниками и объявил царю, что Москва сгорела от злодеев. Царь поручил боярам произвести следствие, и через два дня на их вопрос народу, созванному на площади: кто сжег Москву? – тысячи голосов отвечали: «Глинские. Их мать, государева бабка княгиня Анна, кропила улицы водой, в которой мочила сердца мертвецов!»
Княгиня Анна с сыном своим Михаилом находилась тогда в своем ржевском поместье, но другой ее сын, Юрий, был на улице, и на него ринулись разъяренные жители Москвы. Они убили его в Успенском соборе, разграбили все его имущество и не пощадили ни бояр его, ни слуг! На месте недавнего пожарища пылал бунт со всеми своими ужасами… Подстрекатели сами ужаснулись ярости народной, так безрассудно разожженной ими. Царь бежал в свой дворец на Воробьевых горах, страшась за участь свою и своего семейства.
В эти критические минуты к Ивану Васильевичу, будто посланник Божий и глашатай совести царской, явился простой священник Сильвестр с книгой Священного Писания в руках, речью смелой и строгой. Князь Курбский в своих воспоминаниях упоминает о каких-то видениях, которыми Сильвестр будто бы ужаснул и образумил царя Ивана Васильевича, но эта фантастическая прикраса не заслуживает внимания истории. Никакие видения не могли так ужаснуть царя, как зрелище недавнего пожара; никакие призраки не могли говорить ему так внушительно, как говорил Сильвестр, или, вернее, как устами Сильвестра говорили ему собственная совесть, здравый смысл и Божия правда. Сильвестр шаг за шагом проследил всю жизнь царя от его сиротской колыбели до данной минуты, угрожавшей ему могилой; он пробудил в Иване Васильевиче чувство долга и сознания истинного назначения царя – быть отцом народа, а не мучителем его.
Сподвижниками Сильвестра явились Алексей Федорович Адашев и царица Анастасия. В пожаре московском, как в адском пламени, вместе с окончившимся владычеством временщиков сгорели порочные наклонности царя Ивана. Он переродился, он воскрес для новой, счастливой жизни, для славы и счастья царства русского.
Тринадцать лет благоденствовала Россия. Начало этой эпохи в сумраке веков озарено пламенем московского пожара, а конец ее – надгробными свечами над трупом царицы Анастасии Романовны. В следующей части нашего труда мы увидим Ивана Васильевича, но уже далеко не таковым, каким теперь оставим его.
Сулейман II
Роксолана (1532–1557)
Слава и гордость Турции, гроза и ужас Южной и Юго-Восточной Европы Сулейман II (правильнее – первый)[10] принадлежит к числу тех властителей-исполинов, явление которых на земле можно уподобить явлению кометы или страшного метеора на небе. Эта личность умещает в себе самые противоречивые качества и пороки, соединяя обширный образованный ум с пылкими, необузданными, животными страстями, великодушие с бесчеловечием, непреклонную волю с ребяческой уступчивостью, подозрительность с доверчивостью, коварство с прямотой. Некоторыми чертами характера, особенно же казнью сына, Сулейман напоминает нашего великого Петра, и для Турции он был действительно тем же, чем Петр для России, с той однако же существенной разницей, что в жестокосердии далеко оставляет за собой нашего преобразователя. Петр – альфа русской славы; Сулейман – омега славы турецкой: при нем луна оттоманская светила в полном блеске и затем стала клониться к ущербу, в недалеком будущем угрожающему ей окончательным затмением.
Австрия, Венгрия, славянские земли, Молдавия, Валахия, Польша, Венецианская республика, Архипелаг, Родос, Южная Италия, Алжир, Египет, Персия, Грузия трепетали перед Сулей-маном; сотни городов и крепостей были обращены им в пепел и развалины, сотни тысяч людей были принесены им в жертву его ярости или непомерному честолюбию… И этот самый исполин, герой, чудовище был игрушкой женщины, в течение двадцати пяти лет делавшей из Сулеймана все, что ей было угодно.
Бусбек, австрийский посланник при Высокой Порте, первый в своих записках ознакомил Европу с личностью султанши Роксоланы, из простой рабыни достигшей звания законной супруги Сулеймана благодаря своей красоте, уму и лукавству. Следующий наш рассказ о жизни этой замечательной женщины мы основываем на самых достоверных данных, так как многие сказания о ней частью несправедливы, частью же и вымышлены. Обманываясь созвучием имен – собственного и нарицательного, некоторые историки видят в Роксолане русскую, так как роксоланами называли в Западной Европе славян, живших по прибрежьям Дона; другие, преимущественно французы, основываясь на комедии Фавара «Три султанши», утверждают, что Роксолана была француженка. То и другое совершенно несправедливо: Роксолана – природная турчанка – была куплена для гарема еще девочкой на невольничьем базаре для прислуги одалискам, при которых и занимала должность простой рабыни. При воцарении Сулейма-на султаншей-валиде была грузинка Босфорона, родившая ему наследника Мустафу; за Босфороной, любимицей султана, была Зулема, которую он и променял на Роксолану, очаровавшую его молодостью, красотой и пламенными ласками. В первые пять лет своего сожительства с Роксоланой Сулейман имел от нее сыновей Магомета, Баязета, Селима и Джехангира и дочь Хамерие. Семейство еще более привязало султана к любимице, и тогда-то Роксолана приступила к осуществлению хитрого замысла – посадить на престол оттоманский вместо Мустафы сына своего Баязета, обожаемого ею до безумия, особенно после смерти старшего его брата, скончавшегося в юных летах. Интригу свою Роксолана вела с тем умом и тактом, которые могут быть свойственны женщине, твердо уверенной в своем всемогуществе над мужчиной. Выдав четырнадцатилетнюю дочь свою Хамерие за великого визиря Рустама-пашу, Роксолана без труда привлекла его на свою сторону и приобрела в нем самого верного клеврета и сподвижника. Осенью 1542 года в отсутствие Сулеймана, бывшего в походе в Венгрии, Роксолана, призвав к себе муфтия, стала совещаться с ним о своем намерении построить великолепную мечеть с богадельней (имаретом) ради спасения души своей и в угоду Аллаху. Муфтий, одобряя благое намерение, заметил любимице султана, что постройка мечети не может послужить ей во спасение души, так как по закону всякое доброе деяние рабыни вменяется в заслугу ее повелителю и что только свободная женщина властна в своих поступках. Роксолана очень хорошо знала о существовании этого закона; тем не менее она выказала глубокое огорчение и в течение нескольких дней была грустна и задумчива. Сулейман по возвращении своем в Константинополь не узнал в Роксолане прежней веселой, страстной красавицы. Равнодушный к недавнему зрелищу проливаемой крови, глухой к мольбам матерей и жен и воплям истязаемых младенцев, Сулейман был тронут слезами и воздыханиями своей Роксоланы и не хуже нежного юноши стал приступать к ней с расспросами о причине ее грусти.
– Причина моей тоски, – отвечала фаворитка, – сознание рабства и лишения прав человеческих!
Сулейман, за улыбку Роксоланы способный поработить целое царство или, наоборот, освободить из-под своего ига тысячи невольников, объявил ей тотчас же, что слагает с нее позорное звание рабыни и дарует ей желанную свободу. Прежняя улыбка явилась на лице Роксоланы, и, с небывалой нежностью осыпав поцелуями руку повелителя, она быстро удалилась в свои покои. Настала ночь. Евнух, присланный к Роксолане с приглашением в опочивальню повелителя правоверных, принес нерешительный отказ. Разгневанный Сулейман вытребовал однако же ослушницу на свою половину и спросил, что значит это неповиновение?
– Оно означает мою покорность велениям Аллаха! – отвечала Роксолана. – Раба исполняет приказания господина, но женщина свободная грешит, разделяя ложе не с законным мужем… Ты ли, высокий образец для всех правоверных, нарушишь заповедь пророка?
Сулейман призадумался, послал за муфтием, и тот вполне одобрил действия Роксоланы, подтвердив, что они согласны с законом Магомета.
Через два дня Роксолана была объявлена законной супругой своего государя с предоставлением ей всех прав и преимуществ султанши. Так достигла Роксолана той высоты, с которой ей легче прежнего было властвовать над Оттоманской империей в лице султана. Суеверы всех стран говорят о возможности будто бы приколдовывать к себе человека приворотными зельями да корешками. Читая о Роксолане, можно не шутя подумать, что она «обнесла» чем-нибудь Сулеймана – такими несокрушимыми цепями приковав к себе его сердце. Ему в то время было за шестьдесят лет, Роксолане – под сорок. Как бы ни были кипучи его страсти, они, во всяком случае, не могли равняться со страстями юноши, который, слушаясь их голоса, всегда глух к возражениям рассудка, иногда и совести; как бы ни была хороша собой Роксолана, но едва ли в сорок лет она, южанка, могла сохранить себя от влияния беспощадного времени. Что же могло привязывать к ней Сулеймана? Перебирая все возможные узы, останавливаемся на могущественнейших, сплетаемых привычкой, так справедливо называемой второй натурой, – привычкой, сменяющей в старческом сердце любовь, как плод на дереве сменяет цветок. И кто из нас в своей жизни не испытывал или не испытывает на себе самом силы привычки; да и что, наконец, вся жизнь человека, если не привычка души к ее хрупкой оболочке? Семейство Сулеймана, при его законном сочетании супружеством с Рок-соланой состояло из сына Босфороны, Мустафы, наследника престола, трех сыновей Роксоланы и ее дочери, жены великого визиря. Мустафа, занимавший должность правителя Сирии, жил в Диарбекире, обожаемый народом и войсками, неизменно покорный воле своего родителя и государя. Сулейман любил его, всегда отдавая должную справедливость его высоким душевным качествам. Погубить Мустафу во мнении отца было делом почти невозможным… только не для Роксоланы.
Отправив сына своего Джехангира в Диарбекир, где он сошелся и подружился с Мустафой, Роксолана принялась восторженно восхвалять своему супругу добродетели его наследника именно тем вкрадчивым голосом и в таких выражениях, которые даже в отцовском сердце возбуждают зависть и ревнивые опасения. Она говорила, например, что народ ждет не дождется дня, когда обожаемый им Мустафа взойдет на отцовский престол, что войска готовы пролить за него последнюю каплю крови, что даже соседние управляемой им области персы не нахвалятся им и способны отстаивать его в случае надобности, как родного государя. После всех этих прелюдий Роксолана вспоминала, как горько было султану Баязету II, когда против него взбунтовался Селим, отец Сулеймана, но что кроткий и благородный Мустафа, конечно, на это не способен…
Разжигая этими речами в сердце отца ненависть и подозрительность к сыну, Роксолана приказала зятю своему уведомить пашей, подвластных Мустафе, чтобы они сколь возможно чаще извещали Сулеймана о его добрых делах и заботах о народе. Правители малоазиатских властей, повинуясь великому визирю, осыпали диван посланиями, переполненными похвалами наследнику Сулеймана. Эти послания Роксолана показывала султану в те минуты, когда в нем особенно проявлялись опасения, чтобы сын не вздумал поднять знамени мятежа. «Как его единодушно все любят! – говорила при этом Роксолана. – Его, право, можно назвать не наместником, но государем; паши повинуются ему, как велениям самого султана. Хорошо, что он не употребляет во зло своего влияния, но если бы на его месте был человек лукавый, честолюбивый, тот мог бы…»
И тут эта коварная женщина следила за действием яда своих речей на Сулеймана и видела, что каждое слово жгучей каплей впивалось в его сердце. С другой стороны, Баязет и Селим, принятые отцом ко двору, выказывали ему самую детскую покорность, осыпая его нежными ласками… Эти маневры, свойственные и европейским мачехам для отторжения пасынков от отцовского сердца, увенчались наконец полным успехом.
Волнения, возникавшие в Персии, заставили Сулеймана послать в соседние ей области обсервационный корпус под начальством Рустама-паши и с тайным приказанием последнему умертвить Мустафу в предупреждение его соучастия в мятеже. Зять Роксоланы по прибытии на место отписал султану, что в Сирии настроение умов самое враждебное, что не только все паши, народ и войска намерены провозгласить Мустафу султаном турецким, но даже в полках, подначальных ему, Рустаму, заметно опасное волнение. Усмирить грозящее восстание, по мнению доносчика, мог только сам Сулейман. Прибыв немедленно в Алеппо с войсками и расположась с ними в лагере, султан потребовал мнимого мятежника к себе в шатер к ответу. Мустафа знал о происках Роксоланы, но, твердо уверенный в своей невиновности, с надеждой на отцовскую любовь отправился к Сулейману без всякой свиты и спокойно вошел в его пышный шатер, состоявший из двух отделений, разгороженных коврами. В передней части шатра вместо отца Мустафа нашел немых чаушей с шелковыми петлями в руках, приблизившихся к нему с несомненным намерением накинуть ему аркан на шею. Выхватив ятаган, Мустафа со всем отчаянием самосохранения несколько времени отмахивался от палачей и принудил их отступить; но в эту самую минуту ковер, отделявший приемную от опочивальни султана, быстро отдернулся, и в полутени показалась грозная фигура отца Мустафы. Не говоря ни слова, Сулейман только взглянул на оробевших чаушей, а с них медленно перенес свой взгляд на сына, покорно опустившего ятаган и склонившего голову… Пользуясь этим, чауши смело накинулись на него; один из метко брошенных арканов сжал горло несчастного Мустафы, его лицо побагровело, дыхание пресеклось, и через две минуты все было кончено. Детоубийца Сулейман перед отъездом в Алеппо получил от муфтия фетфу (разрешение) умертвить мятежника, без страха ответить за то на страшном судилище. Участи Мустафы подвергся в Бруссе и малолетний сын его; путь Баязету к престолу был очищен. Одновременно с убиением наследника Сулеймана умер и друг Мустафы Джехангир, сын Роксоланы; от горя – говорят романисты, от яду – гласит история. Кровавые эти события совершились летом 1553 года.
Труп Мустафы был выставлен у палатки Сулеймана для прощания с ним войск. Безмолвное уныние воцарилось в лагере; солдаты добровольно наложили на себя двухдневный пост и, благословляя память невинно убиенного, не осмеливались проклинать убийцу. Опасаясь бури, предвещаемой этим затишьем, Сулейман уволил Рустама-пашу от должности великого визиря и, назначив на его место любимого войсками Ахмета-пашу, возвратился в Константинополь. Эта мера не только не отклонила бунта, но еще более способствовала ему, хотя войска и не принимали в нем никакого участия. Та же любовь к убитому Муста-фе послужила Роксолане и Баязету орудием к мятежу, имевшему целью свержение Сулеймана с престола. Эта адская махинация заслуживает подробного исследования.
По наущению матери Баязет вскоре по убиении Мустафы приискал человека одних с ним лет и разительно на него похожего. Золотом и клятвенными уверениями в совершенной безопасности Баязет убедил двойника Мустафы выдать себя за убиенного, спасшегося будто бы от смерти. Весной 1554 года Никополис, прибрежья Дуная, Валахия и Молдавия были взволнованы вестью, что Мустафа жив, являлся многим, призывал их к восстанию и к свержению Сулеймана. Видевшие и слышавшие самозванца, обманутые сходством, передавали жителям городов и деревень, будто Мустафа, в прошлом году приглашенный отцом в Алеппо, не сам явился к нему, но вместо себя послал раба, как две капли воды на него похожего; сам же бежал из азиатской Турции в европейскую. Образовались шайки, вскоре слившиеся в целую армию. Самозванец, как говорила молва, намеревался идти прямо на Константинополь, захватить Сулей-мана и истребить вместе с ним Роксолану и все ее семейство. Ахмет-паша со своими войсками двинулся навстречу ополчению лже-Мустафы, рассеял его, самозванца же захватил в плен, чего никак не ожидали ни Баязет, ни Роксолана. Они рассчитывали на одно из двух: или самозванцу удастся овладеть Сулейманом, и тогда по убиении того и другого Баязет займет место отца, или двойник Мустафы, убитый в сражении, унесет тайну заговора в могилу, а Сулейман окончательно убедится в виновности сына, убитого по подозрению. Плен самозванца разрушил все эти ковы. Преданный истязаниям, самозванец чистосердечно сознался в обмане и указал на Баязета как главного виновника восстания. Лже-Мустафу по повелению Сулеймана утопили, а Баязет был позван к ответу. Ахмет-паша, ненавидевший и Роксолану, уличал изменника; чауши ждали знака султана, чтобы накинуть на Баязета позорную петлю… Но Сулейман медлил, смягчаемый мольбами и слезами Роксоланы, – и Баязет был помилован, и Роксолана не утратила в глазах своего супруга обаятельной своей прелести. Головой поплатился за свое усердие Ахмет-паша, удавленный через год по повелению Сулеймана за тайные сношения будто бы с рыцарями Иоанна Иерусалимского о сдаче им Родоса; на самом же деле оклеветанный Ахмет-паша был жертвой, принесенной султаном своей супруге.
С этой минуты Роксолана, не боясь ни врагов, ни соперников, смотрела на своего Баязета как на государя, может быть, в недалеком будущем, но так не думал ее сын Селим, завидовавший брату и изыскивавший все способы к его пагубе. Об этом соперничестве, погубившем Баязета, может быть, и не подозревала предусмотрительная и дальновидная Роксолана. Она умерла в 1557 году, оплаканная неутешным Сулейманом, и была погребена с подобающими почестями. Счастливее Генриха VIII и Христиана II в своей слепой привязанности к женщине недостойной, Сулейман не разочаровался в ней ни при ее жизни, ни после ее смерти… Да и кто осмелился бы запятнать память Роксоланы в глазах ее супруга?
Вражда Селима с Баязетом разрешилась кровавой усобицей 30 мая 1559 года. Сорок тысяч человек легло с обеих сторон при этом поединке двух братьев-честолюбцев. Баязет со всем своим семейством бежал в Персию, где его, по повелению Сулеймана, удавили или отравили ядом, и, таким образом, вместо Баязета сделался наследником престола Селим, на который он и взошел после смерти отца 23 августа 1566 года.
Не хотим утомлять внимание читателя рассказами о тех зверствах, которыми позорили себя и Сулеймана его войска в странах завоеванных: ни возраст, ни пол не защищали жертв от насилия и мучительной смерти. Доныне в славянских землях существует множество преданий о кровопролитии и истязаниях, которым Сулейман безжалостно подвергал сопротивлявшихся ему неприятелей, пленников и даже мирных горожан и поселян, уступавших ему без боя. Повторим то, что мы сказали во вступлении к нашему труду: в XVI веке в Европе был потоп, кровью человеческой заливший все царства – от устьев Шотландии до устьев Печоры; от Финмаркена до Кандии; от Северо-Западной Шотландии до берегов Каспийского моря. Войны, внешние и междоусобные, религиозные распри и ко всему этому частые моровые поветрия – такова была обстановка гражданского быта всех европейских государств, вконец не опустошенных однако же смертью потому, что ей противодействовала любовь – грубая, чувственная, чисто животная, доходившая до распутства; любовь, свирепствовавшая в виде нравственной эпидемии повсеместно… Но эта нравственная эпидемия спасала от эпидемий физических и от смерти, которую несли войны, междоусобицы или государи-тираны… Одно зло было противоядием другому, и упадок нравственности в Европе XVI столетия был, если можно так выразиться, едва ли не необходимостью, сохранявшей равновесие в цифре размножения рода человеческого.
Екатерина Медичи. Карл IX
Братья Гизы, герцог Франциск и Карл, кардинал Лотарингский. – Альберт Гонди. – Мария Туше
(1560–1574)
Последние сорок лет шестнадцатого века и первое десятилетие семнадцатого были ознаменованы во Франции кровавыми распрями между католиками и протестантами, или, как их тогда называли, гугенотами.[11] Бешеное изуверство с одной стороны, неуступчивость – с другой; обоюдные интриги, нетвердость в слове, взаимное предательство и вероломство; войны, сменявшиеся постоянно нарушаемыми перемириями; наконец, Варфоломеевская ночь и избиение гугенотов, поглотившее во Франции свыше семидесяти тысяч невинных жертв фанатизма; знаменитая Лига, отточившая ножи двум цареубийцам, – таковы характеристические черты этой страшной эпохи.
На этом кровавом фоне мы представим читателю (попеременно) несколько силуэтов, по наружному облику – человеческих, по злодействам – адских чудовищ. Из них первое место принадлежит женщине, уже не молодой, но статной, красивой. На лице ее приветливая улыбка, в белой руке, увешанной четками, кубок яду; на полной, высокой груди, на одной и той же золотой цепочке, крест со святыми реликвиями, волшебные амулетки и ладанки с заклинаниями.
Черные, пламенные глаза обращены к небу – не для благоговейного созерцания, а для обретения в нем ответа на вопрос о будущем. Утро эта женщина посвящает молитве или, правильнее, чтению узаконенного числа молитв; день – государственным делам; вечером она совещается с астрологами, чернокнижниками, алхимиками и знахарями, снабжающими ее косметическими снадобьями… и ядами; ночью она предается порывам необузданного сладострастия. По изуверству – Изабелла Испанская, по кровожадности – Паризадита персидская, по властолюбию – Агриппина римская, по распутству – Клеопатра египетская, – женщина эта, вдова короля французского Генриха II, королева-родительница, – Екатерина Медичи. Тридцать лет (с 1559 по 1589 г.) именами своих сыновей – Франциска II, Карла IX и Генриха III – участью государства располагала она, играя в правительстве при королях ту же самую роль, которую в древних капищах играли жрецы, скрывавшиеся в пустых истуканах, называвшихся оракулами. Единодушные проклятия сопровождали ее в гроб; современники Екатерины и их правнуки не могли без ужаса вспоминать о ней; однако же с веками взгляд на нее изменился. Нашлись историки, которые, обсуждая деяния Екатерины, отважились замолвить слово в ее пользу, а трудолюбивый историограф-компилятор Капфиг[12] в наше время явился адвокатом королевы-злодейки перед судом потомства. По его словам, Екатерина была совершенно права во всех своих интригах, явных и тайных преступлениях, кровавых распрях, ею разжигаемых, даже в резне Варфоломеевской ночи. Все это, по мнению Капфига, было необходимостью, единственным рациональным средством умиротворения Франции. С точки зрения людей, для которых плахи, виселицы и расстреливания – верные средства умиротворения; которые, например, в парижской бойне 2 декабря 1851 года видят геройский подвиг и гениальность, – с точки зрения подобных господ Екатерина Медичи, разумеется, великая женщина; спорить с ними было бы пустой тратой времени. «Таков был век», – говорят другие снисходительные судьи в оправдание Екатерины, но и это оправдание нелепо, и оно не лучше предыдущего. Тит, цезарь римский, жил за полторы тысячи лет до Екатерины Медичи, однако же снискал себе прозвище утешителя рода человеческого…
О роде тосканских деспотов Медичи существуют два сказания: то есть историческое и ложное, фантастическое, сплетенное лестью. Приводим и то и другое как одинаково заслуживающие внимания читателя. Историки Павел Иовий и Гвиччардини фактически доказывают, что родоначальником фамилии Медичи был флорентиец, врач-шарлатан, торговавший разными лекарственными снадобьями и этим наживший огромное состояние. Пользуясь смутами, свирепствовавшими в республике, благодаря своему золоту, врач втерся во дворянство, заменив свое малоизвестное имя фамилией Медичи,[13] намекая на свою прежнюю профессию. Кроме того, он сочинил себе герб, состоявший из щита с изображением на нем пяти шариков, в которых нетрудно угадать пилюли. Внуками и правнуками врача-дворянина были герцоги урбинские и великие герцоги тосканские: Алессандро, Джулиано, Козимо, Лоренцо, Франциск – и Папы Римские Лев X и Климент VII. Стыдясь откровенности предка, потомки, гордые собственными заслугами, никак не хотели сознаться, что их фамилия происходит от слова «медик», что пять шариков на их гербе не что иное, как прозаические пилюли…
Геральдика, вечная угодница гордости, вывела герцогов из неприятного положения, протрубив во все концы Европы нижеследующую сказку о происхождении герба великих герцогов тосканских.
Одновременно с Геркулесом, удивлявшим своими подвигами Грецию, в Италии жил великан-богатырь по имени Муджелло. Этот герой, соперничая с сыном Алкмены, имел с ним довольно частые столкновения, обыкновенно оканчивавшиеся обоюдными потасовками, из которых однако же Муджелло почти всегда выходил победителем. Однажды во время ратоборства Геркулес ударил своей палицей по щиту противника, и от этого удара на щите образовалось пять круглых впадин. Так, по словам геральдики, произошел герб Медичи. Сказание, как видит читатель, весьма остроумное, не лишенное своего рода поэзии, положительно невероятное и, может быть, по этой самой причине принятое в Европе XVI века без апелляции. Говорят, впрочем, будто нашлись скептики, заметившие, что если бы шарики на гербе Медичи произошли от удара палицы, то они были бы вдавлены внутрь, а не выпуклы; но на это геральдика отвечала презрительным молчанием – и весьма умно сделала. Что касается нас, мы придерживаемся первого сказания, то есть что предок Медичи был врач и что пять шариков на их гербе изображают пилюли; если Павел Иовий (историограф-взяточник, за щедрые благостыни писавший какие угодно панегирики) не заслуживает веры, то Гвиччардини правдив, насколько может быть правдивым летописец XVI века.
Известно, что характер предка запечатлевается на потомках до третьего и четвертого колена, даже далее. Всматриваясь в семейство Медичи, нетрудно угадать в некоторых его членах родство с врачом-эмпириком. Врач всего прежде должен быть образован – Козимо, Лоренцо и Папа Лев X любили науки и покровительствовали ученым; Франциск всю свою жизнь занимался алхимическими опытами. Екатерина, как мы уже говорили, была весьма сведуща в изготовлении всяких ядов, косметических средств, в особенности же выказывала непреодолимую страсть ко всякого рода кровопусканиям… Это ли не достойнейшая правнучка своего пращура? Аптекарь миланец Рене и астролог Козимо Руджиери были ее бессменными спутниками на грязном поприще интриг любовных и политических. Кроме ядов и возбудительных средств, Екатерина Медичи орудием своей политики употребляла и систематический разврат, имея для того верных помощников и сотрудниц в лице своих фрейлин. Это великая женщина? Протестант, парижский книгопродавец ГенрихЭтьенн (или, как он латинизировал свое имя, Стефанус), автор любопытного памфлета о жизни Екатерины Медичи, недаром сказал о ней (хотя и немножко резко) в своем вступлении: «Я, некоторым образом, боялся перепачкать себе руки и почувствовать тошноту, раскапывая эти смрадные мерзости!»[14]
О хитрости и лукавстве Екатерины Медичи автор выразился такого рода прогрессией: «Итальянцы лукавы вообще, жители Тосканы – в особенности; из тосканцев лукавейшие – флорентийцы, из последних лукавейшею и хитрейшею женщиной была Екатерина Медичи!»
Единственная дочь славного Лоренцо Медичи, племянница папы Климента VII, Екатерина родилась во Флоренции в 1519 году. По обычаю того времени при появлении ее на свет астрологи, в том числе знаменитый Василий-математик, составили ее гороскоп, и все в один голос объявили, что Екатерина будет виновницей гибели того семейства, в которое со временем попадет. Испуганные родственники решили не выдавать ее ни за кого замуж и обрекли ее на вечное одиночество. Когда ей исполнилось одиннадцать лет и она была отправлена в Рим, ее родные совещались о том, куда ее пристроить, – одни предлагали повесить в корзинке на зубцах городской стены под неприятельские выстрелы; другие, не менее жестокие, – отдать в дом разгула; третьи – заточить в монастырь. К счастью для Екатерины и к несчастью для Франции, последнее мнение превозмогло. Три года она провела в стенах монастыря, откуда была вызвана дядей Климентом VII для выдачи замуж за Орлеанского герцога Генриха, второго сына короля французского Франциска I. Этот брак, чисто политический, был заключен во вред и назло императору Карлу V и ради увеличения областей Франции присоединением к ним герцогства Миланского, обещанного Климентом VII в приданое за Екатериною. Свадьбу праздновали 28 октября 1533 года в Марселе, куда невеста прибыла с многочисленной свитой обоего пола итальянских пройдох, подобно ей самой, приехавших во Францию искать счастия, почестей и поживы. Нам уже известен быт двора Франциска I, при котором тогда в полном блеске сияла герцогиня д'Этамп, окруженная целой армией льстецов и приверженцев. Другая, слабейшая партия группировалась вокруг дофина Франциска; третью, ничтожнейшую, составляли сторонники герцога Орлеанского, имевшие во главе своей Диану де Пуатье… Мысль первенствовать при дворе при этой неблагоприятной обстановке была бы чистейшим безумием, особенно со стороны нового лица, только что принятого в королевскую семью. Екатерина как нельзя лучше выпуталась из этого неловкого положения: раболепствуя перед державным своим свекром и его полудержавной фавориткой, она льстила дофину, ласкала любовницу своего мужа, Диану де Пуатье, держала себя перед всеми тише воды, ниже травы и, таким образом, ладила со всеми. Своей итальянской челяди она выхлопотала выгодные места при большом дворе и при дворе дофина Франциска; к последнему, между прочим, попал в мунд-шенки некто Себастьян Монтекукколи, которому особенно протежировала Екатерина. Дофин полюбил угодливого итальянца и не мог достаточно нахвалиться его усердием. В 1536 году летом, сопровождаемый Себастьяном, дофин отправился в Лион и здесь недели через две, забавляясь игрою в лапту, сильно вспотев, выпил стакан холодной воды, поданный ему услужливым Монтекукколи. Эта неосторожность имела самые гибельные последствия: через пять дней дофин скончался от воспаления легких. Болезнь, бесспорно, весьма обыкновенная, но, несмотря на это, итальянского мундшенка притянули к ответу. При обыске в его квартире найдена была книга о ядах, по объяснению Монтекукколи, ему необходимая, так как он по своей должности мундшенка обязан был знать, какие напитки вредны, чтобы в случае нужды оказать необходимую помощь. Этим объяснением не могли удовлетвориться; Монтекукколи, заподозренного в отравлении дофина, пытали. Итальянец показал под пыткою, что он отравил дофина по наущению клевретов императора австрийского Карла V; лютейшие истязания не могли у него исторгнуть никаких дальнейших подробностей. Отравитель был четвертован в Лионе 7 октября 1536 года; яростная чернь разнесла его труп по клочьям и побросала их в Рону. Гроб дофина послужил супругу Екатерины Медичи ступенью к престолу: Генрих, герцог Орлеанский, был объявлен дофином. Это первое преступление флорен-тийки, искусно замаскированное благодаря упорству преданного ей Монтекукколи, не может подлежать сомнению, несмотря на опровержения многих историков. Воспаление легких, как увидим далее, было исключительной болезнью, от которой умирали соперники и соперницы Екатерины Медичи: брат Колиньи, кардинал Шатийон, видам[15] шартрский, Антоний де Круа, принц Порсиан (Роrcian), Жанна д'Альбре, мать Генриха IV, и чуть ли не сам Карл IX, так как и его смерть, по многим уважительным причинам, была нужна Екатерине Медичи.
Возвышение Генриха и превращение его из герцога Орлеанского в наследника престола умножили его партию и придали смелости его фаворитке Диане де Пуатье; главная же виновница этого переворота по-прежнему оставалась в тени и чуть что не в загоне. Негодуя на нее за продолжительное ее неплодие, Генрих в первый год воцарения помышлял о разводе и отсылке ее на родину. Узнав об этом, королева решилась прибегнуть к покровительству Дианы де Пуатье, которая действительно взяла ее сторону в своих личных интересах. В царствование своего супруга Генриха II Екатерина Медичи как-то стушевывалась и умалялась сперва перед Дианой, а потом Гизами, дофиной Марией Стюарт, даже Сарой Флеминг-Левистон. Нам точно так же уже известно, что и в кратковременное царствование Франциска II дела Франции прибрали к рукам братья Гизы. Действительное начало владычества Екатерины совпадало с восшествием на престол ее девятилетнего сына Карла IX стараниями фаворита его матери Альберта Гонди (впоследствии маршала Ретца), уже развращенного и бездушного изверга. Карла, когда он был младенцем, забавляли петушиными боями и звериными травлями; Карл-отрок находил особенное наслаждение одним взмахом палаша отсекать головы кошкам, баранам и жеребятам (значит, руку набивал, и то занятие!). На охоте лютостью и зверством десятилетний Карл мог потягаться с самым закоренелым ловчим, умел отлично трубить в охотничий рог, подковывать лошадей и стрелять необыкновенно метко, впоследствии, сознавая в себе отсутствие чувства жалости, он этим хвалился, часто повторяя ок– ружающим бессмысленную аксиому: «Жесток тот, кто милосерд; тот милосерд, кто жесток!» (C’est cruante d’кtre clement, c’est clemence d’кtre cruel). Кроме этого милого молодого человека, в королевском семействе Валуа были еще герцоги: Анжуйский (впоследствии Генрих III) и Алансонский; принцессы Елизавета (просватанная за испанского инфанта дона Карлоса, но выданная за его отца, короля Филиппа II) и Маргарита, впоследствии супруга короля Генриха IV. Все они, наследовав от отца и матери их пороки, были с юных лет испорчены воспитанием при дворе, при котором распутство считалось достоинством, а любовные интриги доблестями… Таковы были последние Валуа.
После смерти короля Франциска II во главе правоверной католической партии красовались братья Гизы, герцог Франциск и Карл, кардинал Лотарингский; во главе партии гугенотов – адмирал Колиньи и принц Людовик Конде. Антуан Бурбон, король наваррский, коннетабль Монморанси и маршал Сент-Андре образовали третью партию, умеренных, то есть не служивших ни нашим, ни вашим, а собственным своим интересам. Канцлер Мишель де л'Опиталь, единственная добрая и благородная личность, до этого времени участвовавшая в делах внутренней политики, по проискам Гизов был удален, а с его удалением для борьбы двух партий открылось свободное поле. Очень хорошо понимая, что как Гизы, так и Конде со своими приверженцами стремятся к достижению королевской короны, Екатерина Медичи решила поддержать вражду в тех и других в полной надежде, что соперники погубят друг друга и поле сражения останется за нею.
На первый случай она сблизилась с Антуаном Бурбоном и Конде, предоставив первому важный сан правителя. Гугеноты восторжествовали, а герцог Гиз, оскорбленный этой несправедливостью, удалился в Лотарингию. Всячески потворствуя гугенотам, Екатерина при каждом удобном случае высказывала живейшее сочувствие их вероисповеданию, допустила торжественное собрание духовных лиц, католиков и протестантов, для диспута о догматах в августе 1561 года (colloque de Poissy). Пользуясь благосклонностью королевы, гугеноты стали притеснять католиков, и тогда Екатерина вместе с королем наваррским присоединилась к партии Гизов, призвав герцога Франциска в Париж. Ненавистник гугенотов ознаменовал свой путь к столице избиением протестантов в Васси (в Шампани), чем отдалил всякую надежду на миролюбивое соглашение враждовавших партий. Чтобы последовательно рассказать об адских интригах этого времени, чтобы выбраться из этого лабиринта, в котором ноги по колена вязнут в лужах крови, нужно иметь перо даровитого аббата Верто или Сен-Реаля. Следя за ходом междоусобия, мы невольно отдалились бы от героини нашего очерка и легко могли бы потерять ее из виду. Возвратимся же к ней и попытаемся передать читателю все уловки и увертки этой змеи, по рассказам Соваля, в его любопытной истории любовных интриг королей французских.[16]
Пригласив к своему двору короля наваррского, а с ним и принца Конде, Екатерина Медичи пустила в ход все обольщения любви и неги для успешнейшего подчинения себе начальников партии, враждебной Гизам. Она ослепила своих гостей пышными праздниками, домашними спектаклями, на которых ее фрейлины, являясь в виде полунагих нимф и мифологических героинь, исполняли самые сладострастные танцы, способные поколебать нравственные правила самого сурового стоика. Двум красавицам, девице Руэ (Rouet) и девице де Лимейль, королева поручила во что бы то ни стало вскружить головы королю наваррскому и принцу Конде, и обе девицы принялись за дело с усердием, а главное – с опытностью достойных прислужниц лукавой флорентинки. Та и другая шли разными путями к одной и той же цели. Мадемуазель Руэ явно выказывала свою симпатию Антуа-ну Бурбону; мадемуазель Лимейль, напротив, отзывалась о принце Конде с самой невыгодной стороны, твердя всем и каждому, что разве только с отчаяния можно решиться иметь такого несчастного обожателя. Простодушный король наваррский дался в обман и, позабыв о своей милой жене Жанне д'Альбре, доброй и заботливой матери его детей, Генриха[17] и Екатерины, увлекся, как юноша, и привязался к мадемуазель Руэ со страстью, тем сильнейшей, что она держала себя с ним неумолимо строго. Эта строгость, спешим оговориться, была не чем иным, как самым хитрым расчетом, так как в это же самое время один из придворных кавалеров, д'Эскар, пользовался неограниченной благосклонностью лукавой кокетки. Филипп II Испанский, зорко следивший за ходом междоусобий во Франции, через своего посланника Манрикеца предложил королю наваррскому свой союз и содействие с условием, чтобы он развелся с Жанной д'Альбре, женился на Марии Стюарт и вытеснил протестантов из Франции. Это предложение разбивало в прах все замыслы Екатерины Медичи. Не теряя времени она поручила мадемуазель Руэ употребить все зависящие от нее средства для расстройства предполагаемого союза короля наваррского с Испанией и Шотландией. Покорная велениям своей государыни, верная фрейлина принудила Антуана Бурбона к отказу, уступив наконец его страстным желаниям… Плодом этой любви был Карл Бурбон, впоследствии архиепископ Руана, признанный и провозглашенный королем под именем Карла X во время мятежей Лиги.
Между тем война кипела; города из рук гугенотов переходили в руки католиков; первых преследовали Гизы, вторым не давали пощады Колиньи и Конде. Король наваррский, смертельно раненный под стенами Руана, умер 7 октября 1562 года близ Андильи на руках Екатерины Медичи, поручая ей своих детей и супругу. Заливаясь слезами, королева клятвенно обещала заботиться о них как о своих единокровных. Начало 1563 года было ознаменовано событием кровавым, но для Екатерины Медичи радостным. Адмирал Гастон де Колиньи, которого не так-то легко было обольстить ласками фрейлин или очаровать балетами да домашними спектаклями, решился избавить гугенотов от их непримиримого гонителя, герцога Франциска Гиза, посредством тайного убийства. Гиз, взяв Руан и одержав над гугенотами блестящую победу при Дрё, подступил к Орлеану. В это самое время к нему явился бедный дворянин-гугенот Польтро дю Мере с предложением своих услуг против своих же единоверцев. Гиз принял переметчика как нельзя лучше и согласился оставить у себя на службе. Дня через два после того, 15 февраля, поздним вечером Гиз вместе с приближенным своим Ростенгом проходил по лагерю. Внезапно из ближайшего куста сверкнул выстрел, и Гиз упал со стоном, тяжело раненный, как впоследствии оказалось, отравленной пулей.[18] Убийца Польтро дю Мере был тотчас же схвачен, подвергнут допросу, пыткам. На последних он показал, что действовал по наущению адмирала Колиньи, снабдившего его деньгами и советами. Герцог Франциск Гиз умер на девятый день после раны (24 февраля), убийца был четвертован; что же касается до Колиньи, несмотря на все улики, он, по распоряжениям Екатерины Медичи, даже не был привлечен к ответственности. У королевы не хватило духу мстить тому, кто избавил ее от такого могучего врага, каким был герцог Гиз; к тому же до самого Колиньи тогда еще не дошла очередь. 18 марта 1563 года королева заключила с гугенотами мир в Ам-буазе. Интрига фрейлины Лимейль с принцем Конде, на время войны прерванная, возобновилась с прежней силой. Коварная сирена созналась, что злословила с принцем единственно потому, что досадовала на его равнодушие к ней. На это признание Конде отвечал ей самыми страстными уверениями в любви и вечной верности. Супруга принца, до слуха которой дошли нерадостные вести о неверности Конде, затосковала и умерла с горя. Искательницей руки вдовца явилась, кроме девицы Ли-мейль, вдова недавно убитого на войне маршала Сент-Андре, прочившая перед тем свою дочь за старшего сына покойного Гиза, Генриха. Отказав обеим невестам, Конде женился на Франциске Орлеанской, сестре герцога Лонгвиля. Екатерина Медичи, досадуя на девицу Лимейль за неудачное ее сватовство, удалила ее от двора в Оссонский монастырь минориток, где изгнанница разрешилась от бремени мертвым младенцем, а потом вышла замуж за своего давнишнего обожателя Жофруа де Козак, сеньора де Фремон. Вообще этот год после недавних войн был годом торжеств Амура и Гименея; двор Екатерины Медичи для героев междоусобиц был тем же, чем для войск Ганнибала их развратительница Капуа: королева старалась прикрывать розами и миртами те могилы, которые она в это же время готовила гугенотам! Она сама, несмотря на свои сорок четыре года, не довольствуясь дорого покупаемыми ласками своего возлюбленного Альберта Гонди,[19] сошлась с братом Франциска Гиза, кардиналом Карлом Лотарингским.
В 1565 году Карл IX, объявленный совершеннолетним, вместе с матерью, братьями и Генрихом, двенадцатилетним сыном покойного короля наваррского, ездил по разным областям Франции и, между прочим, посетил Байонну, где Екатерина Медичи виделась и совещалась с любимцем Филиппа II, страшным герцогом Альбой. На тайном совещании (подслушанном сыном покойного Антуана Бурбона) кровопийца Нидерландов, испанский палач-генералиссимус от имени достойного своего государя предложил Екатерине Медичи умиротворить волнующуюся Францию посредством повторения в ней сицилийской вечерни, то есть истребить гугенотов так, как французы были истреблены во времена оны в Палермо. Это предложение, разумеется, пришлось как нельзя более по сердцу Екатерине Медичи, и, таким образом, в голове ее возникла и созрела мысль избиения гугенотов, осуществленная в роковую и позорную для Франции ночь св. Варфоломея. Генрих Бурбон немедленно уведомил свою мать Жанну д'Альбре, принца Конде и адмирала Колиньи о страшных замыслах Екатерины. По предложению престарелого вождя своего гугеноты решили захватить королевскую фамилию в плен при обратном ее возвращении в Париж, куда она прибыла однако же 29 сентября совершенно благополучно благодаря надежной охране бывшего при ней большого отряда швейцарцев. Опять начались междоусобицы, но на этот раз ознаменованные постоянными поражениями гугенотов: 10 ноября 1567 года коннетабль Монморанси разбил их при Сен-Дени; затем после перемирия в Лонжюмо они опять были побеждены при Жарнаке (13 марта 1569 года) и Монконтуре (3 октября). Аржанс, взявший принца Конде в плен при Жарнаке, честным словом заверил его в милосердии к нему короля и пощаде его жизни, но, несмотря на это, в ту минуту, когда пленный принц следовал за ним верхом и обезоруженный, на него сзади напал гвардейский капитан Монтескью и пистолетным выстрелом размозжил ему голову. Так по повелению Екатерины Медичи были сведены счеты с опаснейшим из всех ее соперников. Еще года за два перед этим королева пыталась отравить его посредством яблока, побывавшего в руках ее парфюмера, миланца Рене,[20] но неудачно: лейб-медик принца Конде доктор Ле Лон, подозревая злой умысел, не дозволил ему прикоснуться к отравленному плоду, а, отрезав небольшой кусок и завернув его в хлебный мякиш, дал съесть собаке, которая через несколько минут околела в жестоких судорогах. Лицо самого доктора, имевшего неосторожность только понюхать отравленное яблоко, на несколько дней опухло.[21] Яд Рене, как видит читатель, был надежный, но пуля Монтескью оказалась и того лучше. Одновременно с неудавшейся попыткой отравить принца Конде слуга адмирала Колиньи Доминик д'Альб по поручению Екатерины пытался отравить адмирала и его брата д'Андело, однако же вовремя принятое противоядие спасло Колиньи от смерти; брат же умер 27 мая 1569 года. Отравителя схватили, он сознался во всем и по повелению Карла IX был колесован… надобно полагать – за неловкость. Ссылаясь на признание своего слуги-предателя, адмирал Колиньи мог бы, конечно, задать Екатерине Медичи довольно неприятный для нее вопрос касательно ее соучастия в этом черном деле, но смолчал по деликатности, так как и его не беспокоили расспросами после убийства герцога Гиза.
Третий мир между католиками и гугенотами был подписан в Сен-Жермене 15 августа 1570 года. На этот раз, несмотря на явный перевес партии Екатерины Медичи и Карла IX над партией Колиньи и Жанны д'Альбре, гугенотам были даны все те права, которых они домогались, и предоставлена совершенная свобода вероисповедания и богослужения. Кардинал Лотарингский, даже тот выказал необыкновенную кротость и уступчивость. «Это недаром! Тут что-нибудь да не так!» – говорили дальновидней-шие приверженцы Колиньи, влагая в ножны свои мечи, иззубренные в бою и потускневшие от крови фанатиков-иноверцев. Жанна д'Альбре вместе с сыном удалилась в свое наваррское королевство; адмирал Колиньи отправился на отдых в кругу семьи в родное поместье.
Здесь на минуту остановимся, чтобы сказать несколько слов о первой любви короля Карла IX, из жестокосердного ребенка ставшего теперь девятнадцатилетним юношей-извергом, совершеннолетним и для злодейств, и для грубых наслаждений, о которых смутное понятие было ему внушено еще в лета безгрешного младенчества. За развитием его страстей, за первым ударом его сердца, забившегося любовью, следила королева-родительница, следили и ее прелестные фрейлины. Первая, верная своей системе развращать с политической целью, рекомендовала сыну заблаговременно некоторых из своих девиц в надежде приобрести верную шпионку в фаворитке королевской. К совершенной досаде заботливой матери, Карл, не обратив внимания на ее доморощенных казенных красавиц, выбрал себе фаворитку из народной среды, обратив первый страстный взгляд на дочь орлеанского аптекаря Марию Туше, фламандку по происхождению, полную двадцатилетнюю блондинку. Утром он ее увидел, а вечером Ла Тур, гардеробмейстер короля, привел красавицу в его комнату. Менее всего склонный к идеальной любви, чуждый всякого чувства изящного, не имевший ни малейшего понятия о стыдливости женской, так как он вырос в кругу бесстыдниц, Карл IX был слишком нетерпеливым циником, чтобы тратить время на переговоры и сентиментальные объяснения. До своего сближения с Карлом IX Мария Туше была неравнодушна к Монлюку, брату епископа Валенцского, и, сделавшись фавориткой, продолжала вести с ним переписку. Узнав об этом, король (как повествует Соваль), желая убедиться в истине, употребил хитрость. Он созвал к себе на ужин придворных дам и девиц, в том числе Марию Туше, и в то же время приказал шайке цыган, призванной для увеселения компании, тихонько отрезать от поясов присутствующих дам их кошельки. Цыгане удачно исполнили это поручение, и Карл, обыскав кошелек своей фаворитки, нашел в нем письма Монлюка. Уличив Марию и прочитав ей дружеское наставление, король внушил ей быть ему верной и впредь не шалить. Сдержала ли Мария Туше данное ему слово или продолжала вести переписку с должной осторожностью, неизвестно, но как бы то ни было, более не попадалась с поличным. Король мало-помалу привязался к ней, особенно после рождения ею сына, и по-своему любил горячо до самой своей смерти. К чести Марии Туше, прибавим, что она не употребляла во зло влияния на Карла IX, не выводила в люди своих близких и дальних родственников, даже сама не домогалась ни титулов, ни щедрых даяний. Когда шли переговоры о браке Карла IX с австрийской принцессой Елизаветой и портрет последней был прислан жениху, Мария Туше, взглянув на изображение будущей королевы, потом в зеркало, сказала с усмешкой: «Ну, эта немка мне не опасна!» Действительно, бедная Елизавета, кроткая, добрая, но некрасивая, в течение четырех лет замужества не сумела ни привязать к себе своего супруга, ни охладить его к Марии Туше. Какой-то придворный грамотей, желая польстить фаворитке, составил из ее имени MARIE TOUCHET любезную анаграмму: JE CHARME TOUT (я все очаровываю), что отчасти было даже справедливо, так как никто из придворных не мог пожаловаться на обходительность фаворитки. Выбор короля был весьма счастливой случайностью или делом весьма умного расчета. Что было бы с королевством в это несчастное время, если бы фавориткою короля была какая-нибудь госпожа вроде герцогини д'Этамп или одна из казенных красавиц, рекомендованных ему его услужливой маменькой?
С самого начала 1570 года Екатерина Медичи была занята множеством государственных дел, одно важнее другого. Возникли какие-то интимные отношения с польским дворянством, и в то же время кардинал Шатийон (брат Колиньи) вел переговоры об избрании герцогу Анжуйскому в супруги королевы английской; с римским и испанским дворами шла деятельная секретная переписка… Вероятно, о подавлении восстания в Нидерландах. На донесения правителей французских областей о частых столкновениях между гугенотами и католиками королева не отвечала никакими особенно строгими инструкциями; напротив, всего чаще оправдывала гугенотов, подтверждая права, данные им недавними эдиктами умиротворения. Парижский кабинет, очевидно, желал сохранить самое доброе согласие с адмиралом Колиньи и Жанной д'Альбре, единственными защитниками кальвинистов. При всем том смутное предчувствие чего-то страшного тревожило сердца людей осторожных, не доверявших этому затишью и принимавших его за предтечу бури. Суеверов беспокоили «небесные знамения», то есть явления кометы, метеоров; частые северные сияния и необыкновенные ураганы, о которых в летописях того времени сохранилось множество чудесных, фантастических россказней. Астрологи предрекали в близком будущем новые распри и кровопролитнейшие побоища; в книге «Центурий» покойного Мишеля Нострадамуса отыскали несколько четверостиший весьма зловещего содержания.[22] Вся Франция была в напряженном состоянии томительного, лихорадочного ожидания горя или радости… «Радости», – поспешила ответить Екатерина Медичи, возвестив своим верным подданным о предстоящем бракосочетании Карла IX с Елизаветой Австрийской. Желая сделать соучастниками семейной своей радости и католиков и гугенотов, королева радушно пригласила на брачное торжество тех и других. Было много званых, но мало избранных. На свадьбе Карла IX приверженцы Колиньи и Жанны д'Альбре блистали своим отсутствием; довольствуясь миром, гугеноты, очевидно, избегали тесного сближения с католиками, не обращая внимания на любезности и заигрывания Екатерины Медичи. Старик Колиньи беспрестанно напоминал окружавшим, что королевский двор со всеми своими обольщениями в мирное время едва ли не опаснее ратного поля во время усобиц, и в подтверждение истины своих слов указывал на недавние примеры покойных Антуана Бурбона и Людовика Конде. Жанна д'Альбре, женщина честная, еще красавица, несмотря на годы, но строгих правил, инстинктивно ненавидела двор, при котором, как она писала к своему сыну, «женщины сами вешаются на шею мужчинам».[23]
В начале 1571 года Екатерина Медичи радушнейшим образом опять приглашала к себе адмирала и королеву наваррскую, обещая первому доверить предводительство над войсками, которые намеревалась тогда послать на помощь Фландрии; но Колиньи и Жанна д’Альбре опять уклонились от приглашения королевы-родительницы. Видя, что это не помогает, она отправила к Жанне д’Альбре в качестве чрезвычайного посланника маршала Бирона с предложением руки принцессы Маргариты сыну Жанны д’Альбре, Генриху. Брак этот, по мнению Екатерины Медичи, был единственным средством для окончательного примирения всех партий, религиозных и политических; в дозволении Папы Пия V не могло быть ни малейшего сомнения, так как его святейшество, по словам маршала Бирона, душевно желал примирения партий, волновавших Францию. Это сватовство, льстившее самолюбию вдовы Антуана Бурбона, соответствовавшее ее задушевному желанию видеть со временем своего сына на французском престоле, поколебало ее недавнюю решимость отнюдь не сближаться с семейством Валуа. В то же время Колиньи, уступая просьбам своих друзей, принца Нассауского и маршала Коссе, согласился ехать в Блуа, где тогда находились Карл IX и Екатерина Медичи со всем двором. На это последнее обстоятельство указывал маршал Бирон как на явное доказательство искренности и любви королевы-родительницы. «Она сама и державный ее сын, – говорил маршал Жанне д’Альбре, – не колеблясь делают первый шаг к родственному свиданию с вами. Зачем же вы будете оскорблять их ничем не извинительным недоверием?» Вдовствующая королева наваррская более не колебалась, изъявила маршалу свое согласие на предполагаемый брак, вместе с тем обещая приехать ко двору в непродолжительном времени. Прием, оказанный Карлом IX адмиралу Колиньи, превзошел все его ожидания. «Это счастливейший день в моей жизни! – восклицал король, бросаясь адмиралу на шею. – Я вижу моего милейшего папашу. Наконец-то вы в наших руках, наконец-то вы наш, и теперь, как хотите, а уже мы вас не выпустим!» Затем Карл IX объявил дорогому гостю, что поздравляет его с назначением членом Государственного совета, жалует 50 тысяч экю на покрытие путевых издержек, уступает ему движимое имущество недавно умершего в Англии кардинала Шатийона[24] и весь годовой доход с недвижимого. Не менее щедрыми милостями были осыпаны прибывшие с адмиралом дворяне-гугеноты и молодой зять его Телиньи. В знак особенного почета и для удостоверения его в личной безопасности адмиралу было разрешено иметь при себе отряд телохранителей из полусотни алебардистов; но это еще не все: единственно в угоду своему папаше 14 октября 1571 года Карл IX именным указом подтвердил гугенотам своего королевства все прежние права с присоединением многих новых льгот и привилегий. Остальные сыновья Екатерины Медичи, ее дочь и она сама ласкали Колиньи, угождали ему и ухаживали за стариком так, как ухаживают за богатым дедом недостойные внуки, то есть с нежностью, доходящей до приторности; с угодливостью, впадающей в докучливость. Тронутый Колиньи, приняв все эти ласки за чистую монету, доверился с простодушием ребенка. Это было торжество флорентийской политики Екатерины Медичи, наконец-то поймавшей старого льва в свои сети, сплетенные на этот раз из шелка и золота. Обольстив лицемерием своим старика адмирала, Карл IX приготовился к свиданию с Жанной д'Альбре. Он сам с Екатериной Медичи и блестящей свитой выехал к ней навстречу в Бургейль, со слезами радости целовал ей руки, называя возлюбленной тетушкой, обожаемой красавицей. А вечером того же дня спрашивал у своей достойной родительницы:
– Хорошо ли я сыграл мою рольку? (Ai-je bien joue mon petit rolet?)
– Как нельзя лучше, – отвечала Екатерина, – но что же дальше?
– Дальше увидите сами; главное дело сделано. Как опытный охотник, я заманил птичек в западню, остальные залетят сами!
В Париже король и его родительница в одно и то же время одинаково деятельно занялись устройством великолепных праздников и перепиской с римским двором о разрешении Маргарите выйти за гугенота, короля наваррского. Пий V медлил ответом; Жанна д'Альбре сомневалась в успехе, но Карл IX успокаивал ее словами: «Сестра Марго будет за Генрихом, хотя бы Папа Римский лопнул с досады! Если же он не позволит, тогда мы обойдемся и без его позволения; я не гугенот, но также и не дурак; вы же и сестра для меня, конечно, дороже, нежели его святейшество!» Для устранения, однако, всяких недоразумений решили отправить в Рим для переговоров о браке кардинала Карла Лотарингского,[25] а в ожидании категорического ответа тешили Жанну д'Альбре и всех ее приверженцев, съехавшихся в Париж, пирами да балами. Екатерина Медичи, как добрая, радушная хозяйка и нежная мать, заботилась и о доставлении гостям всевозможных удовольствий, и о заготовлении приданого своей милой Марго, совещаясь о последнем пункте со своей возлюбленной сватьюшкой Жанной д'Альбре. Наряды последней, щегольские для скромного беарнского двора и приличные для королевы наваррской, были не довольно богаты и изящны для двора короля французского. Та же внимательная, обходительная Екатерина Медичи давала дружеские советы Жанне д'Альбре насчет ее туалета, дарила ей обновы, снабжала духами, пышными фрезами по моде того времени, перчатками, вышитыми шелком и золотом. Сорокалетняя королева наваррская по своей красоте и моложавости казалась не матерью, но сестрой юного Генриха Бурбона; ее величавость и полнота не мешали ей в танцах отличаться ловкостью и грацией. Скрепя сердце, однако, королева наваррская принимала участие в придворных празднествах, вполне сознавая всю их пустоту, сумасбродную роскошь и нравственную распущенность, замаскированную этикетом. Ее не покидала мысль, чтобы Генрих вместе с Маргаритой немедленно после бракосочетания уехал из Парижа в родимый Беарн или Нерак, где образ жизни хотя и гораздо проще и не было при тамошнем дворе сотой доли той роскоши, которая владычествовала при дворе парижском, но зато где люди похожи на людей, а не на раззолоченных кукол или ненасытно сластолюбивых обезьян. Бедная Жанна д'Альбре еще не знала, что двор Екатерины Медичи и Карла IX не только царство разврата, но прямой разбойничий притон, из которого добрых людей живыми не выпускают.
Четвертого июня 1572 года городской глава Марсель давал великолепный бал королевской фамилии в здании парижской ратуши. Праздник продлился далеко за полночь, а на заре, по возвращении в Лувр, Жанна д'Альбре почувствовала себя плохо. Призванные доктора объявили, что у королевы наваррской воспаление легких… Обращаем внимание читателя на это обстоятельство: тридцать шесть лет тому назад от воспаления легких скончался сын Франциска I по милости своего мундшенка Мон-текукколи. При первом же известии о болезни Жанны д'Альбре Екатерина Медичи сказала окружающим, что королева навар-рская, вероятно, простудилась, так как в последние дни много выезжала, несмотря на ненастную и холодную погоду. Было бы гораздо вероятнее, если бы Екатерина сказала, что на больной, бывшей на балу в ратуше, были надеты перчатки, раздушенные миланцем Рене, и высокий крахмальный воротник с фрезами, опрысканный ароматами той же лаборатории… На пятый день, 9 июня, Жанна д'Альбре скончалась. Вскрытие показало паралич легких – неизбежное следствие воспаления, причины же воспаления не нашли; так и порешили, что во всем была виновата простуда. Генрих Наваррский, Колиньи и все дворяне-гугеноты были в ужасе, подозревая отравление; Екатерина Медичи и Карл IX успокаивали их, ссылаясь на показания людей ученых и сведущих, между прочим, на свидетельство знаменитого Ам-бруаза Паре, которое должно было рассеять всякие сомнения. Колиньи, а за ним и другие (кроме Генриха) поверили, что Жанна д'Альбре скончалась своей смертью, по воле Божией.[26] На старого адмирала тогда точно затмение нашло; он верил коварным речам короля французского, ласкам его матери, но не верил очевидности. Кардинал Пельве, клеврет Карла Лотарингского, бывшего в Риме, уведомил о подробностях заговора против гугенотов; последние перехватили письмо, уличавшее злодеев, – и этому письму Колиньи не поверил! Он ссылался на неизменную к нему внимательность Карла и Екатерины, на их охлаждение к Генриху Гизу, на досаду и негодование последнего. В конце июля прибыло из Рима письмо от кардинала Лотарингского с давно желанным разрешением Папы Пия V на бракосочетание короля наваррского с Маргаритой; письмо подложное, написанное кардиналом единственно для ускорения страшной развязки заговора против гугенотов, сопряженного с этой свадьбой. От этого греха его святейшество дал кардиналу свое пастырское разрешение – цель оправдывала средства. Гугеноты, разумеется, не усомнились в подлинности папского благословения на брак короля наваррского и стали целыми семьями стекаться в Париж на близкое торжество… Расчеты Карла IX были верны; сбылись его слова, сказанные Екатерине: «Я заманил птичек в западню, остальные залетят сами».
Восемнадцатого августа совершилось бракосочетание короля наваррского Генриха Бурбона с Маргаритой Валуа и сопровождалось пышными празднествами. Тут произошло то желанное слияние партий, которого так жаждали – хотя и с противоположными целями – Колиньи, Карл и Екатерина Медичи. Гугенот пил из одного бокала с католиком; жены и дочери дворян наваррских порхали в танцах вместе с фрейлинами и статс-дамами Екатерины Медичи, и как невинность доверчиво подавала руку разврату, так будущие убийцы шутили и смеялись со своими ничего не подозревавшими жертвами.
Гугеноты со своими семьями веселились и плясали над вулканом, прикрытым блестящим паркетом ярко освещенного Лувра. Сияя самодовольной улыбкой, король Франции и королева-родительница для каждого гостя находили ласковое слово, любезность, лестный комплимент и в то же время разменивались выразительными взглядами со своими сообщниками… Кровавая трагедия готовилась под этой личиною веселой комедии! Праздник сменялся праздником, один бал другим, и если бы в те времена существовали в Париже газеты, подобные нынешним французским, то нет ни малейшего сомнения, что какой-нибудь фельетонист-лизоблюд отпустил бы стереотипную фразу: «Эти дни ликования парижского двора были днями радости всей столицы»… Бывали политические злодейства во все века вообще, в шестнадцатом в особенности, но чтобы убиению нескольких тысяч жертв предпослать пиры, заставлять плясать свои жертвы, поить их, откармливать буквально на убой, чтобы потом перерезать, надругаться над ними… до подобного цинизма в злодействе могли дойти только Екатерина Медичи и достойное ее отродье Карл IX! Дня через три после свадьбы, ранним утром, в кабинете короля происходило таинственное совещание между ним, Екатериной и Генрихом Гизом.[27] О чем именно они говорили, мы поймем, проследив путь последнего от Лувра до своего дома. По возвращении от короля Гиз, призвав к себе гвардейского капитана, преданного ему Морвеля, и бывшего своего наставника Вилльмюра, объявил им, что король и королева «разрешили ему то, о чем он их просил». В ответ на это Морвель вынул из кармана две медные пули и показал их Гизу; осмотрев их с видом знатока, герцог возвратил их Морве-лю с придачею кошелька, туго набитого золотом. Потом, приказав Вилльмюру позаботиться об устройстве всего как следует, отпустил обоих клевретов. На другой день (в пятницу 22 августа) адмирал Колиньи по окончании заседания в Государственном совете возвращался домой через улицу Бетизи, где встретил короля. Взяв адмирала под руку, король пригласил его на партию в лапту (jeu de paume), на нарочно устроенную для игры эспланаду, на которой в это время находились Генрих Гиз и Телиньи, зять адмирала. Окончив игру, Колиньи, сопровождаемый двенадцатью дворянами из своей свиты, пошел домой обедать и дорогою читал какую-то бумагу, переданную ему королем. На углу улицы Св. Германа Оксеррского путники были оглушены выстрелом из мушкетона, раздавшимся в нескольких шагах из окна дома Вилльмюра. Колиньи зашатался: одна из медных пуль раздробила ему указательный палец правой руки, другая сильно поранила левую. Наскоро перевязав раны, опираясь на прислужников, Колиньи кой-как дотащился до дому, откуда немедленно послал нарочного к Карлу IX с известием обо всем случившемся. При первых словах вестника король побледнел и с художественно подделанным отчаянием вскричал:
– Опять! Нет, это уже слишком… Этому не будет конца! Пора до корня истребить эти проклятые распри!..
Король наваррский и принц Генрих Конде поспешили навестить раненого и присутствовали при перевязке. Лейб-хирург Амбруаз Паре признал необходимым отнять палец, но ампутировал так неловко, что причинил адмиралу невыразимые страдания. Старик однако же мужественно перенес операцию и, благодаря Бога за сохранение жизни, послал тысячу золотых экю для раздачи бедным гугенотам своего прихода. От адмирала Генрих и Конде отправились в Лувр к королю, покорнейше прося его отпустить их из Парижа.
– Нет, нет, ни за что! – перебил Карл IX.-Этого преступления нельзя оставить без наказания, и вы обязаны присутствовать при производстве следствия. Клянусь вам честью и Богом, что убийца будет наказан примерно и так, что его муки отобьют у мятежников дальнейшую охоту покушаться на жизнь моих друзей!..
– Непременно, непременно! – подтвердила Екатерина Медичи. – Если это дело оставить без последствий, то наконец и мы в Лувре не будем уверены в нашей безопасности.
Немедленно по королевскому повелению все парижские заставы, за исключением двух, были закрыты; всем временным жителям столицы – гугенотам, знатным и простым, – было приказано переселиться в квартал, где находился дом адмирала, чтобы находиться под охраной его стражи, теперь усиленной. О всех этих благодетельных распоряжениях король сообщил адмиралу лично, посетив больного со всем двором. Герцог Анжуйский и Екатерина плакали, увидя раненого старика, а король, ударяя себя в грудь, твердил:
– Милый батюшка, я страдаю душой так, как вы – телом! Меня злодеи ранили, меня оскорбили вместе с вами!
– Благодарение Господу, – произнесла Екатерина, подымая глаза к небу, – что он сохранил нам нашего бесценного Ко-линьи!
– Как – бесценного? – усмехнулся старик. – Давно ли вы, государыня, предлагали 50 тысяч экю за мою голову? К слову сказать, этим же самым искателям моей гибели вы теперь поручили исполнение эдикта умиротворения по областям, почти несоблюдаемого…
– Папаша, не сердитесь, бога ради! – перебил заботливо король. – Теперь вам вредно сердиться. Клянусь вам честью, мы назначим новых комиссаров и все-все уладим к совершенному вашему удовольствию.
Колиньи завел речь о походе в Нидерланды против испанцев, но Екатерина и Карл, уклоняясь от ответа, только убеждали его беречь себя, клялись Богом и честью разыскать убийцу и предать его самым адским истязаниям. Перед отъездом в Лувр король сказал адмиралу, что для совершеннейшей его безопасности он прикажет оцепить его дом, и действительно прислал стражу под начальством Коссена (Cosseins), заклятого врага Ко-линьи и ненавистника гугенотов. Вечером у адмирала было собрание всех его друзей и приверженцев. Жан де Феррьер, видам шартрский, объявил, что покушение на жизнь адмирала – первый акт трагедии, которая окончится избиением всех родных и друзей; напомнил о подозрительной кончине королевы навар-рской, о странных мероприятиях для безопасности гугенотов… Как в древней Трое Кассандра предостерегала семейство Приама, но никто не послушал ее советов, так ни друзья Колиньи, ни он сам не обратили внимания на пророческие слова вида-ма; Телиньи особенно горячо защищал короля, ссылаясь на его клятвы и уверения. То же самое повторилось и на другой день (в субботу 23 августа), когда к голосу Телиньи присоединились Генрих Конде и король наваррский.
Между тем и в Лувре происходили совещания – совсем иного рода. Карл, Екатерина, герцоги Анжуйский, Неверский, канцлер Бираг, Таван, Гонди и пригулок Ангулемский[28] обсуждали важный вопрос: убить или пощадить при предстоящей резне Конде и короля наваррского?
– Увидим, как разыграется дело! – порешил Карл IX.
В послеобеденную пору около Лувра показались толпы вооруженных людей весьма подозрительной наружности. На вопрос короля наваррского король французский отвечал, что это все проделки Гизов, замышляющих что-то недоброе, «но я их угомоню», – успокаивал он своего зятя. Заметив, что во дворе Лувра тридцать шесть дрягилей сносят копья, бердыши и мушкетоны, Генрих тревожно спросил: «Что это значит?» – «Приготовления для завтрашнего спектакля!» – двусмысленно отвечал ему сын Екатерины Медичи. Он опять навестил Колиньи, опять уверял его в своем искреннем участии и жаловался ему на Гиза, бог весть по какой причине решившего удалиться из Парижа. Еще с утра особые комиссары ходили по домам, составляли перепись живших в них гугенотов, уверяя последних, что все это делается по королевскому повелению для их же собственной пользы. Городские обыватели-католики в это же самое время неведомо зачем нашивали себе белые бумажные кресты на шляпы и перевязывали левые руки платками; одни точили топоры, другие осматривали замки у мушкетонов и лезвия у мечей; на расспросы своих жен и дочерей отвечали мрачными улыбками. Тихо догорел жаркий день, и вскоре ночной мрак стал опускаться на постепенно смолкавший город, по окнам домов замигали огоньки, башни собора Богоматери и соседних храмов, чернея на темном небе, казались исполинами, стерегущими обывателей. Часу в одиннадцатом Генрих Гиз оцепил Лувр швейцарскими стражами, приказав им не пропускать слуг короля наваррского или принца Конде. Купцы и цеховые, вооруженные чем попало, собирались в залах городской ратуши, где купеческий старшина Жан Шарон, клеврет Гиза и Екатерины Медичи, говорил им речь, проникнутую фанатизмом, и призывал к отмщению гугенотам за все минувшие мятежи, а главное – за их неуважение к истинной вере Христовой… Карл IX, бледный, дрожа всем телом, расхаживал по своему кабинету, изредка выглядывал из окна на набережную, кое-где освещенную фонарями, кровавыми искрами отражавшимися на черных зыбях тихо плескавшейся Сены. Сидевшая у стола Екатерина Медичи со спокойствием закоснелой злодейки медленно говорила сыну:
– Не раздумывай, пользуйся случаем, подобный которому не представится более… Отступить – значило бы погубить себя и все наше семейство. Смерть еретиков спасет не только нас, но и все королевство… Приказы по областям разосланы и должны быть приведены в исполнение завтра же, на заре; столица должна подать пример всем прочим городам!..
Время близилось к полуночи. При всей таинственности, которой злодеи окружали свои умыслы под покровом ночи, весть о сборище войск во дворах Лувра и вокруг дворца дошла до квартала, где жил Колиньи. Некоторые из его приближенных отправились к Лувру узнать о причине сборища, но у самых ворот часовые перегородили им дорогу; на расспросы гугенотов грубая солдатчина отвечала ругательствами… Несчастные потребовали караульного офицера, и тот явился – за тем, чтобы приказать солдатам угомонить незваных гостей. Первые жертвы кровопийц пали под ударами бердышей усердной швейцарской стражи.
– Дух войск превосходный! – донесла Екатерина своему сыну, узнав о начале убийств. – Надобно ковать железо, пока оно горячо; раздумывать нечего!..
Удар набата в церкви Св. Германа Оксеррского прервал речь королевы-родительницы, через несколько минут с ревом колокола слился смутный гул тысячи голосов, ропот народных волн, разлившихся бурным потоком по улицам. Со смоляными факелами и оружием в руках солдаты, горожане и яростная чернь устремились на кварталы, в которых приютились гугеноты…
Глядя в эту минуту на Париж, можно было подумать, что в нем празднуют свой шабаш сотни демонов, извергнутых преисподней. Но мы оставим на время Лувр с Екатериной и Карлом, стоявшими у растворенного окна, и посмотрим, что в эту минуту происходило в доме адмирала Колиньи.
Движимый чувством мщения за убийство своего отца – убийство, в котором Польтро дю Мере был орудием адмирала Колиньи, – герцог Генрих Гиз с пригулком Ангулемским и вооруженным отрядом устремился в квартал, где жили гугеноты. Ворвавшись во двор дома Колиньи, Гиз именем короля требовал, чтобы спутникам его отворили дверь. У адмирала в это время находился Амбруаз Паре и перевязывал раны, нанесенные старику два дня тому назад Морвелем.[29] Услыхав необыкновенный шум, бряцание оружия во дворе и заметив красноватый отблеск факелов сквозь опущенные оконные занавеси, адмирал поручил одному из своих приближенных узнать о причине… Треск ломаемых убийцами парадных дверей предупредил ответ убитого посланного; остальное досказали слуги, толпой вбежавшие в спальню адмирала.
– Спасайтесь, отец наш! Это Гиз и убийцы!.. – кричали они обожаемому ими Колиньи. – Смерть ваша стучится у дверей!..
– Я давно готов принять эту гостью, – невозмутимо отвечал Колиньи. – Мне, искалеченному, дряхлому, без того немного жить и бежать трудно, а лучше спасайтесь вы сами…
Чувство самосохранения подавило в слугах адмирала чувство привязанности; многие из них бежали на чердак, оттуда пробрались на кровли дома, некоторые спаслись.
В эту самую минуту бывшие в отряде Гиза капитан Аттен (Attin), Бем (Besm), Сарлабу и несколько солдат с проклятьями всходили на лестницу и шли прямо к спальне адмирала, который, поднявшись с кресел, в халате, с рукою на перевязке, вышел к ним навстречу.
– Ты адмирал? – спросил Бем на ломаном французском языке (он был уроженец эльзасский), приставляя факел к самому лицу старика.
– Молодой человек, – отвечал Колиньи, – имей уважение к моим сединам…
Вместо ответа Бем схватил его за бороду, воткнул ему шпагу в живот, а потом несколько раз ударил эфесом по голове и по лицу; примеру Бема последовали бывшие с ним солдаты – и Колиньи пал под их ударами.
– Бем, покончил ли? – крикнул Гиз, стоявший во дворе.
– Конечно! – отозвался тот, выглянув в окно.
– Бросай его сюда…
Труп Колиньи, покрытый ранами, залитый кровью, был выброшен из окна во двор, к ногам Гиза и пригулка Ангулемского. Они, носовыми платками отерев окровавленное лицо мертвеца и внимательно осмотрев его и перевязанные руки трупа, убедились, что жертва не избегла своей роковой участи, несколько раз пнули покойника ногами в лицо и, сев на коней, ускакали в город, где вместе с герцогом Неверским, Таванном и Гонди ободряли убийц словом и собственным примером. Труп Колиньи на заре был отвезен на живодерню Монфокона и повешен на железных цепях головою вниз на тамошней каменной виселице.[30]
Дня через три Карл IX, Екатерина Медичи, герцог Анжуйский и многие дамы и девицы ездили полюбоваться этим зрелищем. Сохранилось предание, что здесь Карл IX в ответ на замечание кого-то из присутствовавших о зловонии уже разложившегося трупа отвечал, смеясь:
– Пустяки, пустяки! Труп врага всегда хорошо пахнет!
Нам пришлось бы написать целую книгу, если бы мы вздумали подробно перечислить все злодейства Варфоломеевской ночи и представить читателю именной список жертв обоего пола и всякого возраста. Участи Колиньи подвергся его зять Телиньи, умерщвленный отрядом герцога Анжуйского; приближенные Конде и Генриха Наваррского, дворяне Сегюр, барон Пардайян, Сен-Мартен, Бурс, капитан Пилль убиты Нансеем, капитаном королевской стражи, в стенах Лувра, под окнами королевского кабинета, из которых любовались резней Карл IX и его матушка… Любовались! Этого мало: королю вид крови и стоны умирающих внушили остроумную мысль придать убийствам окончательно вид охотничьей травли и, таким образом, соединить приятное с полезным. Призвав в кабинет своего биксеншпан-нера (заряжальщика ружей на охоте) с двумя мушкетонами и приказав ему заряжать их поочередно, Карл IX стрелял из окна в бежавших по набережной гугенотов, сваливая их меткими пулями, будто зайцев. Бледный, с пеной у рта, но с улыбкой самодовольства, его величество король Франции кричал убийцам диким голосом:
– Бей! бей! Стреляйте в них, черт побери! (True! True! Tirons, mordieu!)
Столь ревностно возлюбленный сын римской церкви служил двум своим повелителям, то есть Римскому Папе и флорентийке Екатерине Медичи. Она сама блаженствовала в эти минуты, опьяневшая от запаха крови, очарованная воплями и выстрелами, казавшимися ей чудной симфонией. На другой день убийств (продолжавшихся последнюю неделю августа, весь сентябрь, до половины октября) королева-родительница со своими фрейлинами любовалась нагими трупами убиенных обоего пола, делая при этом замечания весьма игривого свойства о тайных прелестях покойных. Соединяя неслыханные злодейства с делом богоугодным, королева-родительница и сын ее приказали раздать окровавленные одежды, содранные с убитых, беднейшим жителям города Парижа, и те щеголяли в шелках, бархатах и кружевах, не отмытых от крови прежних владельцев. Этот подарок был назван кровавой милостыней.[31]
Из всей королевской семьи одна Маргарита, королева на-варрская, выказала себя женщиной с сердцем. Дворянин Тежан, раненный убийцами, обессилевший от боли и отчаяния, бросился в спальню Маргариты, и она скрыла его у себя под кроватью! Знаменитый Амбруаз Паре был пощажен единственно благодаря тому обстоятельству, что в это время лечил Карла IX от сифилиса…[32]
Кроме королевского семейства, запятнавшего себя навеки невинной кровью мучеников Варфоломеевской ночи, прославились усердием и зверством нижеследующие герои: любовник Екатерины Медичи, Альберт Гонди, собственноручно удавил в Бастилии статс-секретаря Марциала де Ломени, владельца версальского замка, чтобы овладеть его поместьями. Фаворит Маргариты, Бюсси д'Амбуаз, умертвил своего двоюродного брата, маркиза Ренеля. Миланец Рене вламывался в лавки богатых купцов-гугенотов, предлагая им спасение за громадный выкуп; когда же несчастные отдавали ему все свои сокровища, Рене резал их, как овец. Профессор университета Шарпантье, соперник славного ученого Петра Рамуса (Рiегге dе lа Rаmеe), предал его в руки убийц и взбунтовавшихся школьников. Дряхлого Рамуса замучили в страшных истязаниях, секли розгами и волочили по улицам обнаженный его труп! Золотарь Томас Круазе собственноручно убил 400 человек гугенотов, а мясник Пезон убивал их теми же самыми приемами, как быков, то есть сначала оглушал их ударом молота по голове, а потом перерезал горло… Таким образом Пезоном истреблено было 120 человек. Сардинский граф Коконна покупал живых гугенотов, захваченных солдатами, обещая несчастным спасение, если они согласны отречься от кальвинизма; отказавшихся душил, а отрекавшихся закалывал кинжалом, говоря им: «Это-то мне и надобно: души отступников идут прямо к черту в лапы!»
Домов было разграблено свыше шестисот; число убитых простиралось до десяти тысяч; женщины, девушки, дети, разумеется, подвергались сначала зверскому насилованию, и их убийству предшествовало осквернение. Трупы в течение нескольких дней свозили возами на берега Сены и сваливали в воду; зарывали в ямы за городом, жгли или бросали на съедение собакам! Королевское повеление об истреблении гугенотов, разосланное по областям Франции недели за две до Варфоломеевской ночи, к чести человечества, еще не повсеместно было исполнено. Губернатор байонский отвечал отказом, а Монморен (Montmorin), начальник военного овернского округа, писал Карлу IX следующее письмо:
«Государь! Я получил приказ, скрепленный печатью вашего величества, об убиении всех протестантов, находящихся в подведомственной мне провинции… Слишком уважаю ваше величество, чтобы не догадаться, что приказ этот – подложный; если же – чего Боже сохрани! – он действительно от вас, то опять же уважение к вам запрещает мне повиноваться!»
Жена Карла IX Елизавета Австрийская во все продолжение убийств плакала и молилась в своей уединенной спальне, окруженная немногими прислужницами. Прислушиваясь к выстрелам, визгу убиваемых женщин, детей, воплям их мужей и отцов и реву убийц-каннибалов, бедная королева шептала:
– Да что же государь, супруг мой, не уймет их? Как же он позволяет совершать такие злодейства?!
Несчастная долго не могла поверить, что убийства не только были позволены Карлом IX, но были приказаны им.
Утром 24 августа принц Конде и Генрих, король наваррский, которым Карл IX грозил смертью, дали ему слово отступиться от кальвинистской ереси; 26 августа в соборе Парижской Богоматери было отслуженo благодарственное молебствие, при котором король торжественно хвалился победой, одержанной над гугенотами. Манифестом парламента все убиенные были приговорены к смертной казни… Пример едва ли не единственный в истории обратного действия смертного приговора. Убийства, как уже говорили, продолжались; кто из гугенотов мог, тот бежал за границу, но пойманных беглецов и укрывавшихся казнили. Так, дворяне рекетмейстер Кавань и Брикемо вечером 20 октября были повешены на площади городской ратуши в присутствии Карла, Екатерины, принцесс и всего двора, при свете факелов, вместе с куклой, изображавшей Колиньи. Брикемо было от роду семьдесят пять лет!..
Вся Европа, за исключением России, Испании и Италии, содрогнулась от ужаса и негодования при вести о кровавых событиях в королевстве французском. Равнодушию предков наших была причина самая уважительная: им нечего было ужасаться на Варфоломеевскую ночь, когда для них самих тогда были Ивановы дни, то есть, говоря яснее, тогда в России свирепствовал Иван Грозный. Испанский король Филипп II возрадовался истреблению гугенотов во Франции. На организацию Варфоломеевской бойни и вообще на поддержку религиозных междоусобий Филиппом II, по собственному его признанию в его духовной,[33] была в течение шести лет (1566–1572) потрачена невероятная сумма – шестьсот миллионов золотых. Папа Григорий XIII «возрадовался зело» поражению врагов церкви, Пия V уже не было в живых, Бог не привел его дожить до этой радости.[34] Зато Григорий XIII праздновал великое событие молебствиями, крестными ходами, пальбою с крепости Св. Ангела, иллюминацией Рима и, наконец, медалью с надписью: «Избиение гугенотов» (Ugonotarum strages). Кардинал Лотарингский, бывший тогда при ватиканском дворе, подарил вестнику, прибывшему из Парижа от герцога Омальского, 10 тысяч золотых экю и задал великолепный пир на весь мир. Скажем в заключение, что изуверы в своем ослеплении были душевно убеждены в том, что резня гугенотов – подвиг великий и богоугодный. До нас дошли сотни брошюр в стихах и в прозе, оправдывавших, одобрявших злодейства Екатерины Медичи и Карла IX… Авторами этих гнусных панегириков были: в Риме – Камилло Капи-лупи; во Франции – Жан Монлюк, историограф Франциск Белль-форе, Леже Дюшен, Шантлув, написавший трагедию «Адмирал Колиньи», в которой вывел покойного прямо сообщником «диа-вола и аггелов его»… Иезуиты вообще явились защитниками преступлений короля и королевы французских. При Людовике
XV, в 1758 году, аббат Кавейрак не постыдился написать апологию Варфоломеевской ночи; а в 1819 году какая-то семинарская гадина написала то же самое во французском журнале «Консерватор» (Le Conservateur)… Да зачем ходить так далеко: спросите в наше время у любого клерикала: какого он мнения о Варфоломеевской ночи? И можете быть уверены – одобрит и выразит pium desiderium о повторении (repetatur)…
Польское дворянство, имевшее намерение избрать себе в короли Генриха Анжуйского, брата Карла IX, призадумалось, так как палачей на польском троне еще не бывало… Немалых трудов и расходов стоило Екатерине Медичи уговорить панов и магнатов не лишать короны ее возлюбленного детища. Генриху Анжуйскому в 1573 году пришлось ехать в Польшу через Палатинат, где нашли себе приют многие гугеноты и, между прочим, родные Колиньи. Электор-палатин, принимая у себя во дворце второго сына Екатерины Медичи со всеми подобающими почестями, подвел его к портрету старика, под которым на золотой раме было написано латинское двустишие: «Такова была наружность героя Колиньи, так же славно жившего, как и умершего».[35]
– Знакомо вам это лицо? – спросил электор своего гостя.
– Это покойный адмирал Колиньи, – отвечал смущенный Генрих.
– Да, храбрый, честный, благороднейший Колиньи, истерзанный в Париже извергами! – с жаром подтвердил электор и продолжал с усмешкой: – Я дал у себя приют его друзьям и детям, чтобы и их не загрызли на родине французские псы!
Генрих робко осмотрелся. Его в эту минуту окружили гугеноты, одни – с улыбками презрения, другие – с угрожающими взглядами.
Сын Екатерины покраснел от стыда; с его подленькой мордочки только осыпались румяна, которыми она была щедро оштукатурена; Генрих побледнел от страха, вообразив, что гугеноты, мстя за Колиньи, не погнушаются выпачкать себе руки его грязной, гнилой кровью…
Но они удовольствовались единственно непонятной Генриху Валуа моральной ему пощечиной.
О смерти Карла IX 30 мая 1574 года существует три сказания. Первое гласит, что он умер подобно своему деду, Франциску I, в чем, по многим причинам, можно усомниться; второе предание тоже не совсем вероятно, так как в нем заметен элемент фантастический, приплетенный к истине ради нравоучения. По этому сказанию, на Карла IX каждую ночь нападала изнурительная испарина, мало-помалу перешедшая в кровавый пот, от которого он и скончался, несмотря на все старания докторов. Третье предание, вероятнейшее, приписывает смерть Карла IX грудной болезни, которой он страдал более года. История сохранила подробности агонии короля, доказывающие, что перед смертью, в виду вечности, в сердце его пробудилось что-то похожее на угрызения совести. Он умирал на руках находившейся при нем безотлучно своей кормилицы (гугенотки), простой крестьянки, и дня за два до смерти тревожно метался, проклиная тех, которые подстрекнули его на убийства, дико озираясь потухающими взорами… Ему мерещились убитые гугеноты: Ко-линьи, Ла Рошфуко, Пардайян и те полунагие беглецы по набережной, в которых он стрелял из окон Лувра… Что толку в подобном бесплодном раскаянии? Оно для Франции было тем бесполезнее, что Екатерина Медичи злодействовала после Карла IX еще пятнадцать лет, по прежней своей программе, увеличивая длинный список прежних жертв многими новыми, как увидим, переходя теперь к царствованию преемника Карла IX, его брата Генриха III, бежавшего по зову матери из Польши для занятия французского престола.
Генрих III
Генрих Порубленный (1е Ва1а/гё), герцог Гиз. – Мария Клевская, принцесса Конде. – Красавчики (les mignons)[36]
(1584–1589)
За три дня до смерти Карла IX, 27 мая 1574 года, в Париже были казнены на Гревской площади граф Аннибал Коконна и Иосиф Бонифаций де Ла Моль, обвиненные и уличенные в исполнении злодейского умысла – порчи короля посредством восковых кукол, найденных у злодеев при обыске в их квартирах. Порча куколками, в которую тогда повсеместно верили, состояла в том, что из воску вылепляли фигурку, похожую на того человека, которого желали изурочить. Окрестив ее, как человека, со всеми обрядами и дав имя последнего, куколке с разными заклинаниями пронзали грудь булавкою или, продернув сквозь всю куколку светильню, зажигали ее… Тот, на кого таким образом напускали порчу, сохнул, увядал, видимо таял, и спасти его не было никакой возможности. Все симптомы болезни умирающего Карла IX подтвердили, что он был испорчен.
Этой нелепой сказкой Екатерина Медичи маскировала истинную причину казни де Ла Моля и Коконна – причину, огласка которой могла быть источником новых кровавых столкновений между гугенотами и католиками. Дело было в том, что Генрих Наваррский и принц Конде, насильно удерживаемые при дворе, составили так называемый скоромный заговор (Complot des jours gras), имевший целью возведение на престол младшего сына Екатерины Медичи Франциска, герцога Алансонского, бывшего тогда королевским наместником. Он обещал начальникам предполагаемого восстания все, что они желали, то есть полную свободу богослужения кальвинистам, уступку им нескольких крепостей, семейству Монморанси – места, занимаемые Гиза-ми. Ла Моль, любимец герцога, фаворит Маргариты Наваррс-кой и Коконна, возлюбленный Генриетты Клевской, герцогини Наваррской, были в заговоре главными деятелями. Испуганный теми размерами, которые принимал заговор, малодушный Ла Моль довел о нем до сведения Екатерины Медичи, чем, однако же, не спас от плахи ни своей головы, ни головы товарища.
Из всех жертв королевы-родительницы эти два искателя приключений всех менее достойны жалости: один, как видим, был доносчиком и трусом; а другой – тот самый граф Коконна, который резал гугенотов в Варфоломеевскую ночь.
Пользуясь болезнью сына, Екатерина Медичи деспотствова-ла как ей было угодно и с неослабным ожесточением преследовала гугенотов. По ее велению маршал Матиньон с сильным отрядом был отправлен в Нормандию против графа Монтгомери и Франциска де Брикевилля, барона де Куломбьер. Последний был убит при осаде Сен-Ло, а Монтгомери захвачен в плен и доставлен в Париж в самый день кончины Карла IX. По повелению королевы-родительницы пленника заточили в Консьержери, допрашивали его, разумеется, с пытками, наконец, обвиненный в государственной измене, умышлениях на спокойствие королевства, злодейском убиении пятнадцать лет тому назад короля Генриха II на турнире, Монтгомери был приговорен к смертной казни и обезглавлен 26 июня. Дети его, в том числе одиннадцать человек, были лишены доброго имени и всех прав состояния. Через месяц на Гревской площади сожгли на костре орлеанского уроженца Жофруа Балле, автора двух книжонок атеистического содержания. От роду ему было девятнадцать лет, и по всем признакам он был не в своем уме. Этими четырьмя казнями Екатерина Медичи потешала любезно-верный свой город Париж в ожидании прибытия из Польши нового короля, Генриха III, с личностью которого спешим ознакомить читателя.
Этот французский Гелиогабал родился в Фонтенбло 19 сентября 1551 года, рос и воспитывался под надзором Екатерины Медичи, то есть, другими словами, в нем развивали одни только порочные наклонности, за полным отсутствием добрых качеств, в которых природа ему отказала. Хитрость заменяла в Генрихе ум, а животная чувственность – чувства человеческие. Хотя наружность обманчива и теории физиономики Лафатера, как назло, оказываются несостоятельными при их применении ко многим историческим личностям, однако же, судя по портретам Генриха III, можно сказать, что у него лицо было действительно зеркалом души. Генрих был невысокого роста, очень нежного телосложения, с мелкими чертами лица и постоянно сладенькой улыбкой на тонких губах. Сознавая неприглядность рыжих волос и бровей, он, думая сделаться красивее, пуще безобразил себя, подкрашивая волосы в черный цвет, подводя брови, румянясь и белясь не хуже отъявленной кокетки. С первых годов воцарения, когда для совершенного сходства с Гелиогабалом король воображал себя женщиной, он носил серьги, ожерелья и лифы с открытыми плечами и грудью. Наследовав от матери многие черты ее гнусного характера, Генрих, верный правилам итальянской политики, был особенно ласков и приветлив с теми, кого он ненавидел или боялся. Восемнадцати лет он принимал участие в столкновении с гугенотами, отличался в сражениях при Жар-наке, Монконтуре, но еще того более – во время Варфоломеевской ночи, так как резать полусонных и безоружных было ему тем приятнее, что не сопрягалось ни с малейшей опасностью. Благодаря проискам и золоту Екатерины Медичи польские дворяне избрали его себе в короли в 1573 году. Теперь мы сделаем небольшое отступление.
Герцог Генрих Гиз, сын покойного Франциска Лотарингского, с 1570 года был женат на Екатерине Клевской, вдове Антония де Круа, принца Порсиен. Всячески стараясь породниться с королевским домом, Гиз, дружный с Генрихом III (тогда еще герцогом Анжуйским), обратил его внимание на свою свояченицу, шестнадцатилетнюю красавицу Марию; тот влюбился в нее до безумия и, не откладывая далеко, решил жениться на Марии, но встретил неумолимую оппозицию со стороны королевы-родительницы: Мария Клевская была протестантка. Чтобы утешить опечаленного Генриха, Екатерина Медичи поручила своей фрейлине Ренате Риё де Шатонеф отвлечь его своими ласками от Марии. Рената начала свои маневры кокетством, томными взглядами, нежными вздохами – и они произвели на Генриха желанное действие: он начал ухаживать за Ренатой, ответившей отказом на его страстные домогательства. Маневр очень искусный, но тем неудачный, что в это же самое время Рената удостоивала своей благосклонностью любимца Генриха де Линьеролля. Последний в откровенную минуту похвастался герцогу Анжуйскому своими успехами и тем нанес жестокий удар его самолюбию, за который поплатился головою. Месяца за три до Варфоломеевской ночи тот же Линьеролль (а может, и другой кто-нибудь) разболтал о преднамеренных убийствах и за это по повелению герцога Анжуйского был убит его приверженцем Виллькье. Разочарованный в Ренате Шатонеф, Генрих опять обратился к Марии Клевской. Различие вероисповеданий, бывшее главным препятствием к их браку, было устранено переходом Марии 3 октября 1572 года в католицизм. Но явилось другое: Генриху, избранному в короли польские, прочили в супруги княжну Анну Ягеллон… Очарованный Марией, Генрих готов был отказаться и от руки княжны, и от королевства Польского. Видя, что сын ее окончательно потерял голову, Екатерина Медичи постаралась о скорейшей выдаче Марии Клевской за принца Генриха Конде, а герцога Анжуйского, убитого горем, отправили в Польшу, где он и царствовал по 19 июня 1574 года, то есть по самый день своего бегства во Францию, куда призывала его Екатерина Медичи на открывшуюся после смерти Карла IX ва-канцию. Генрих, едучи окольными дорогами на Вену, в Венецию, оттуда в свое королевство, прибыл во Францию в сентябре. Здесь он прежде всего приступил к расторжению брака Марии Клевс-кой с принцем Конде, ссылаясь на то, что муж ее еретик, гугенот, и не обращая внимания на беременность Марии. Бог весть чем бы кончились старания Генриха III, если бы Мария, принцесса Конде, не скончалась 30 октября 1574 года от несчастных родов. Король в неутешной своей горести дошел до карикатуры: он в течение нескольких дней безвыходно просидел в комнате, обитой черным сукном, нарядился в траурное платье, состоявшее из черного бархатного колета с вышитыми на нем серебром мертвыми головами на скрещенных костях; из мертвых голов, выточенных из слоновой кости, были тогда снизаны и его четки… Добрая утешительница, Екатерина Медичи поручила его вниманию Ренаты
Шатонеф (на этот раз ему послушной), девицы д'Эльбеф, наконец, знаменитой госпожи де Сов. Генрих, как говорится, очертя голову бросался в объятия и той, и другой, и третьей – затем чтобы в пресыщении найти лекарство от своего горя… Этот переход – от слез к безумному распутству – понятен; в нем еще виден был человек, вскоре превратившийся в животное, одержимое извращением своих чувственных побуждений.
До сих пор мы говорили о фаворитках, пользовавшихся благосклонностью государей благодаря любви, которую они умели пробуждать в последних; упоминали мы также и о временщиках, которых собственная дерзость или слабость возводила на престол… Царствование Генриха III, прозванное царствованием фаворитов (regne des favoris), представляет совсем иную картину, о которой приличие запрещает нам распространяться. Какую роль играли при Генрихе III его знаменитые красавчики (les mignons) Келюс, Можирон, Шомбер, Сен-Люк, Сен-Мегрен, Жуайёз и д'Эпернон – об этом читатель может догадаться сам, если мы скажем, что эти красавчики были неприлично женоподобны, имели что-то задорно-сладострастное в манерах, во взгляде, в походке. Госпожа де Сов сосватала королю невесту – Луизу, дочь графа де Водемон, из дома Лотарингского, на которой Генрих женился 15 февраля 1575 года; женатый, он ухаживал за падчерицей вдовы президента Буланкура, девицей Бюсси, но ни жена, ни эта девица не пользовались такой неограниченной нежностью короля, как его милейшие красавчики. Все они занимали знатнейшие должности при совершенной бездарности и гнусной изнеженности, безнаказанно бесчинствовали в Париже, бесчестили женщин и девиц, убивали на дуэлях мужей, отцов и сами, будуарные опричники, оканчивали жизнь или на поединках, бывших тогда в большой моде, или, еще хуже того, под ножами тайных убийц! Не стоят они – эти фаворитки в образе мужчин – подробных биографических очерков, и их имена заслуживают памяти потомства разве только для того, чтобы служить бранными нарицательными именами им подобных гермафродитов. Единственным мужчиной при дворе этой позорной, неблагопристойной эпохи был знаменитый герой, фаворит всей Франции, претендент на престол королевский – герцог Гиз Генрих Порубленный (Henri le Balafre).
Он родился 31 декабря 1551 года и, удостоенный титула герцога Жуанвилль, воспитывался при дворе Генриха II. С двенадцати лет под руководством отца своего Франциска он ознакомился с боевой жизнью под стенами Орлеана, где в одно и то же время выказал храбрость воина, закаленного в бою, и неукротимую ненависть к гугенотам, убийцам своего отца. По усмирении междоусобий в 1567 году Генрих отправился в Венгрию, где принял участие в битвах с турками, а по возвращении на родину прославился подвигами в сражениях при Массинья-ке, Жарнаке, Монконтуре и отразил адмирала Колиньи от стен осажденного им Пуатье. В битве при Шато-Тьерри, в которой он разбил наголову 30-тысячный корпус немецких войск, шедших на помощь гугенотам, герцог Гиз был ранен в щеку ударом палаша, оставившим шрам на всю жизнь. За этот рубец, стоивший ордена, Гизу дано было прозвище Порубленного (le Balafre). Умный, одаренный увлекательным красноречием, простой или надменный в обхождении, кстати и у места, наконец, красавец собой, он побеждал умы мужчин и одинаково успешно сердца женщин. Маргарита Валуа, выданная за Генриха Наваррского, была его фавориткой. Связь их, которую Гиз был намерен загладить браком (согласовавшимся с его политическими видами), возбудила негодование Екатерины Медичи и Карла IX, для успокоения которых Гиз женился на вдове принца Порсиен. Неверный своей супруге, как и все мужья того времени, Гиз, однако же, не давал ей воли и убийством красавчика Сен-Мегрен отбил охоту у всех и каждого покушаться на его семейное спокойствие. Сен-Мегрен влюбился в герцогиню Гиз и решился сделать ей признание, на которое она отвечала ему не слишком сурово. Проведав об интриге, герцог подложным письмом от имени жены заманил ее возлюбленного в западню, где Сен-Мегрен был убит наемными убийцами. По варварским понятиям того времени Гиз был совершенно прав, и сам король не смел предъявить своих претензий за убиение одного из своих фаворитов. Гиз в своем самоуправстве действовал даже не как муж, мстящий обольстителю своей жены, а, вернее, как государь, наказующий преступника за оскорбление величества. Гроза гугенотов, опора и надежда католиков, любимец народа, Генрих Порубленный именно в это время уже прокладывал себе путь к королевскому престолу посредством Священного союза, известного в истории под именем Лиги (La Sainte Union, la Sainte Ligue).
Мы говорили, что мысль о Варфоломеевской ночи была подана Екатерине Медичи герцогом Альбой. Ослабляя Францию внутренними междоусобиями, Филипп II тайно надеялся присоединить ее к своей державе. Папа римский проник в эти замыслы, но тайно противодействовал видам испанского деспота, покровительствуя партии Генриха Гиза. Маскируя свои настоящие намерения усердным служением церкви, Генрих с 1576 года с помощью преданных своих сообщников начал образовывать в разных областях Франции тайные общества защитников католицизма, сосредоточив в Париже главное над ними начальство под именем центрального комитета. При содействии приходских священников, своими проповедями разжигавших фанатизм, Лига возрастала неимоверно, и, таким образом, Гиз осeтил всю Францию. Он весьма верно рассчитывал, что, встав во главе религиозного движения, может без всякого труда свергнуть Генриха III и занять его место. Благодаря бумагам, найденным у курьера, умершего в Лионе на пути в Рим, куда он ехал по приказанию Гиза, король узнал о существовании Лиги и догадался о настоящих намерениях своего противника. По совещании с Екатериной Медичи Генрих III, именным указом подтвердив и одобрив существование Лиги, объявил себя ее главой, то есть сам же стал во главе заговорщиков, умышлявших его низвержение. На это обстоятельство ему указал президент де Ту (de Tou), но, к сожалению, поздно. Народ и все сословия охладели к Священному союзу, лишь только король объявил себя его соучастником… Безымянные письма, пасквили, памфлеты и карикатуры градом посыпались на Генриха III, и он, думая совершить подвиг, сделал промах ничем не поправимый. Признавая короля главой Лиги в ее религиозном смысле и великодушно предоставляя ему борьбу с гугенотами, Гиз деятельнее, но и секретнее прежнего занялся вербовкой приверженцев и распространением заговора. В Париже вместо прежнего центрального комитета был учрежден Совет Шестнадцати, сообразно числу частей города. Для руководства заговорщиками в Париж прибыл брат Гиза, герцог Майенский, и объявил, что пора приступить к действиям. На первый случай было решено захватить короля в Лувре и, заточив его в монастырь, объявить королем Генриха Гиза. Как бы в ответ на это намерение король усилил свою дворцовую стражу и принял решительные меры к отражению мятежников. Герцог Майенский, призванный к ответу, оправдался, сказав, что воинские приготовления жителей имеют одну цель – истребление гугенотов, но что на свободу короля никто не осмеливается покушаться… После этого несколько раз лигёры составляли заговоры к овладению Генрихом III – и каждый раз планы их рушились благодаря доносам Николая Пулена, одного из членов тайного совета. Видя, что главными агитаторами были приходские священники, король 2 сентября 1587 года приказал их арестовать, но прихожане с оружием в руках решились защищать своих отцов духовных. Испуганный Генрих объявил им прощение, на которое никто не обратил внимания, так как он не смел поступить иначе. Он приказал сестре Гиза, госпоже Монпансье, в 24 часа выехать из Парижа, а она, смеясь, разъезжала по городу, показывая знакомым позолоченные ножницы, которыми грозилась постричь Генриха Валуа в монахи. Король, или, как его тогда называл народ, Генрих Валуа сидел ни жив ни мертв в Лувре, окруженный телохранителями, боясь показаться народу. Герцог Гиз написал ему весьма любезное письмо, предлагая свое содействие к усмирению мятежа. Еще не окончательно одуревший от страха, король понял, что прибытие Гиза в мятежную столицу будет искрой, которая подожжет этот подкоп, подведенный под его трон, и потому отвечал герцогу запрещением въезжать в Париж. Как будто издеваясь над королем, Гиз прибыл в Париж 9 мая 1588 года и, восторженно встреченный народом, явился во дворец к Екатерине Медичи. Дряхлая злодейка взялась за роль примирительницы и представила Гиза своему сыну.
Встреча соперников была самая комическая. Король, бледный, дрожащий всем телом, задыхался, шипел, как придавленная змея, а Гиз с коварной улыбкой уверял его в своей верности и совершенной преданности. Это свидание, равно и другое на следующий день, не привели ни к какому результату, а только подтвердили Генриху III, что Гиз не ставит его ни в грош и что корона королевская не сегодня, так завтра перейдет с больной головы на здоровую. Во избежание этого позора Генрих Валуа приказал вступить в Париж всем войскам, расположенным в окрестностях столицы… Воинов королевских народ встретил бранью, камнями, выстрелами и перегородил им улицы завалами или баррикадами. Этот день, 12 мая 1588 года, известен в истории под именем дня баррикад (Journe^ des barricades).
Не принимая личного участия в бунте, Гиз явился к королю с любезным предложением своих услуг для устранения мятежников. Он же, столкнувший Генриха III в яму, радушно подавал ему руку, чтобы его из нее вытащить. Не давая согласия, а просто повинуясь своему злодею, король вместе с ним явился народу, и оба Генриха верхом проехали по городу. Мятеж мгновенно утих, но поднялась новая буря – восторженных криков, которыми народ встретил своего возлюбленного Гиза.
– Ура герцогу! Да здравствует защитник церкви! Виват, отец наш, славный Гиз!!! – ревели сотни тысяч голосов.
Любезно откланиваясь народу, виновник торжества говорил теснившимся на пути гражданам:
– Довольно, довольно для меня… Крикните же наконец что-нибудь и королю…
Но охотников кричать «виват» Генриху Валуа оказалось немного, да и те были из его придворной прислуги.
Униженный, раздавленный, Генрих III проглотил обиду, возвратился в Тюильри и на другой же день – давай бог ноги – ускакал из Парижа в Шартр. Это бегство, весьма основательно показавшееся Гизу опаснее присутствия короля, испортило все дело. Тщетно Екатерина Медичи, теперь взявшая сторону Гиза, писала Генриху III, умоляя его возвратиться; тщетно парламент отправил к нему депутацию. Брат красавчика Жуайёза для умягчения короля прибегнул к средству, которое может служить доказательством, как тогда во Франции кощунствовали над религией, ее обрядами и священнейшими предметами поклонения. Брат Жуайёза, монах-капуцин, выбрав тридцать пять товарищей, отправился с ними процессией в Шартр. Капуцины шли босые; Жуайёз в терновом венце нес на плечах огромный крест, а следовавшие за ним два монаха подгоняли его ударами плеток (дисциплин) по обнаженным плечам. Прибыв в Шартр, кощуны остановились под окнами дворца, распевая священные песнопения и продолжая бичевания, от которого на плечах Жуайёза оставались кровавые полосы… Генрих III был сначала тронут этим зрелищем, но потом, осыпав негодяев бранью, велел их прогнать. Действительно, было за что: терновый венец, надетый на Жуайёза, был пришит к парику; крест был сделан из картонной бумаги, а мягкие концы плетей были обмазаны краской кровавого цвета!
Наконец 2 августа герцог Гиз вместе со своим братом, кардиналом Карлом, прибыл в Шартр с предложением Генриху III своей покорности и верного союза против гугенотов. На это предложение король отвечал Гизу пожалованием ему звания генералиссимуса. Из Шартра двор переселился в Блуа, где король предполагал созвать общую Думу. Нарушить мир с королем казалось Гизу бесчестным, однако же довольствоваться саном генералиссимуса вместо короны королевской было ему тоже не совсем приятно. На этот раз лигёры настаивали на том, чтобы покончить с Генрихом III одним решительным ударом… Гиз колебался.
Слухи о злоумышлениях Лиги дошли до короля. Желая явить Гизу пример чистосердечия и в то же время застраховать себя от подозрений, более или менее основательных, Генрих III, призвав его в Блуа, 4 декабря после торжественного молебствия заставил с клятвой на святых дарах подтвердить свою присягу на верность. Гиз повиновался – и враги разменялись клятвами, скрепив их причащением. Кощунство Жуайёза сравнительно с этим едва ли не было извинительно! В течение нескольких вечеров после того у короля с королевой-родительницей происходили тайные совещания, о которых доброжелатели Гиза уведомляли его безымянными письмами. Генрих III и Екатерина Медичи (теперь сама стоявшая одной ногой в гробу) совещались о том, как избавиться от Генриха Гиза. Маргарита Наваррс-кая, опасаясь за жизнь своего возлюбленного, переодевшись в мужское платье, предупредила его; накануне своей смерти Гиз, ужиная у своей фаворитки, госпожи де Сов, нашел под салфеткой письмо, в котором его заклинали быть осторожным, так как есть умысел на его жизнь.
– Не посмеют! – сказал он, разрывая записку.
В пятницу, 23 ноября 1588 года, к Гизу явился посланный из дворца с приглашением к королю. Герцог медлил, жаловался на нездоровье и на озноб, однако же отправился к Генриху III и всходил на дворцовую лестницу, беззаботно жуя конфетки. В приемной и ближайших к королевскому кабинету покоях, в числе 45 человек, стояли вооруженные телохранители. Начальник их Монсери (Мontsery) или, по другим сказаниям, Сен-Малин (S-t Malines) подошел к Гизу и, схватив его за эфес шпаги, вонзил ему в горло кинжал… Падая, обливаясь кровью, Гиз прохрипел только:
– Господи, отпусти мои прегрешения!.. Прости меня, Господи!..
Многочисленные удары, посыпавшиеся после того на несчастного, поражали его бездушный труп. Кардинал, сопровождавший брата и бывший в соседнем покое, бросился было на помощь, но был уведен под стражей. Генрих III, выбежавший из кабинета, чтобы собственными глазами убедиться в исполнении своего злодейского приказа, выразил свою радость тем, что подбежал к трупу будто навстречу ожидаемого друга; пинал его ногами, бил по щекам, плевал в потускневшие, страшно вытаращенные глаза покойника; потом (вероятно, чтобы окончательно уподобиться бессмысленному животному) омочил его неблагопристойным образом.
Брат Гиза, кардинал, был на другой же день зарезан в темнице; трупы того и другого были брошены в яму с негашеной известью. Мщение Генриха III было вполне его достойно, и едва ли иначе мог мстить сын Екатерины Медичи. Весть о гибели Ги-зов поразила ужасом весь Париж, а с ним почти всю Францию; к общему ропоту негодования примешались проклятия Генриху Валуа и вопли об отмщении. Главою своею лигёры провозгласили брата убиенных, Карла Лотарингского, герцога Майенского. Генрих III, отважный для предательского убийства, но трусливый и нерешительный во всех тех случаях, где следовало действовать смело и открыто, растерялся окончательно. Его советница и руководительница на пути злодейств Екатерина Медичи оказала ему последнюю услугу, дав совет войти в союз против Лиги с Генрихом, королем наваррским; говорим – последнюю услугу, потому что Екатерина Медичи вскоре умерла, 5 января 1589 года. Недавний глава лигёров не думал искать расположения их врага, а последний, в свою очередь, рассудил за благо составить против них коалицию с державным своим шурином. Тридцатого апреля в Плесси-ле-Туре произошло свидание недавних врагов и их примирение. Генрих Наваррский предложил королю французскому идти с войсками на мятежный Париж и привести его к повиновению. В июне союзная армия двух Генрихов приблизилась к столице и расположилась лагерем в Сен-Клу; готовились новые усобицы, ужаснее прежних. В Париже царствовало совершенное безначалие; проповедники со своих кафедр благословляли память Гизов и предавали проклятию имя убийцы – Генриха Валуа; по церквам служили обедни с молебствиями о низведении громов небесных на голову короля, причем богомольцы зажигали свечи перед иконами, ставя их нижней частью вверх, или вместо свеч затепливая восковые куколки, изображавшие Генриха III. Королем вместо него был провозглашен Карл X, кардинал Бурбон, побочный брат короля наваррского.
В это безвременье 29 июля к герцогу Майенскому явился приор якобитов Эдмонд Бургуан (Bourgoing) и сообщил ему, что в числе братии есть один, некто Иаков Клеман, вызвавшийся отомстить Генриху III за лишение церкви ее опоры в лице покойного Гиза.
– Этот Клеман, – говорил приор, – малый отчаянный, восторженный, даже, кажется, немножко помешанный: постоянно рассказывает братии о каких-то чудных видениях, о голосе с небес, повелевающем ему избавить родину от ее злодея…
– Убийством? – перебил герцог Майенский. – Но подумал ли несчастный о том, что ожидает его самого?
– Венец мученический, – отвечал приор спокойно. – Я и все якобиты тем более одобряем намерение Клемана, что он во всяком случае не жилец на свете!
Де ла Шартр и Вилльруа, бывшие при этом разговоре, усомнились в удаче намерения якобитов, так как Клеману едва ли было возможно попасть к королю под благовидным предлогом.
– Есть и предлог, – убедил их Бургуан. – Клеман представит Генриху Валуа бумаги с донесением о недавнем заточении в Бастилию членов парламента.
Через три дня дежурные при королевском шатре в лагере Сен-Клу доложили Генриху III, что какой-то монах-якобит из Парижа настоятельно требует видеть короля по какому-то важному делу.
– Пусть войдет, – отвечал король, – а то, пожалуй, скажут, что я гнушаюсь монахов.
Дежурный офицер ввел бедного иссохшего монаха со впалыми, но огненными глазами и крючковатым носом. Широкая ряса, опоясанная веревкой, висела на его исхудалых плечах, как на вешалке; поступь монаха была медленная, но твердая. Смиренно преклонив колени перед Генрихом III, Иаков Клеман отдал ему сверток бумаг и, когда король углубился в их чтение, мгновенно ударил его ножом в нижнюю часть живота…
Генрих, оттолкнув убийцу, выхватил нож из раны, бросил его Клеману в лицо и, падая в кресла, изгибаясь от боли, закричал отчаянно:
– Убейте, убейте злодея! Он меня ранил!
Прибежавшие телохранители бердышами и мечами изрубили Иакова Клемана на части, труп его был сожжен, а пепел развеян по ветру. Врачи, призванные на помощь к королю, объявили рану безусловно смертельной; мучения Генриха III, длившиеся целые сутки, были невыносимы… 2 августа 1589 года Генрих скончался, и с ним пресеклась королевская династия Валуа, владычествовавшая во Франции 261 год в лице тринадцати королей. Иаков Клеман был причислен к лику святых; орден якобитов гордился им и за громадные деньги продавал его изображение, несмотря на то что один из тогдашних охотников до анаграмм из букв имени его: FRERE JACQUES CLEMENT составил весьма позорную для его памяти фразу: C' EST L' ENFER QUI M'A CREE («Меня создал ад»).
В дополнение характеристики Генриха III мы могли бы представить читателю множество выписок из летописей того времени, в особенности из дневника л'Этуаля, но воздерживаемся, довольствуясь тем, что уже нами сказано о последнем Валуа.
Радость парижан при вести об его убиении не имела пределов; смерть короля праздновали иллюминацией и разгульными пиршествами. Госпожа Монпансье и герцогиня Наваррская в блестящих праздничных нарядах разъезжали по городу и в некоторых церквах, восходя на кафедры, говорили речи народу о всерадостном событии. Преемником Генриха III по закону престолонаследия был король наваррский, Генрих Бурбон; однако же корону французскую ему пришлось взять с бою. 31 октября им начата была достопамятная в летописях французских осада Парижа.
Генрих IV
Госпожа де Сов. – Фоссеза. – Прекрасная Коризанда. – Габриэль д'Эстре. – Генриэтта д'Антраг. – Шарлотта Конде
(1573–1610)
Любовь есть страсть, которой все прочие обязаны повиновением.[37]
Если читателю угодно иметь самое верное понятие об изменчивом и разнообразном образе правления, установившемся во Франции с 1789 года, ему стоит только представить себе стенной барометр с циферблатом, на котором слова: великая сушь, ясно, переменно, буря заменены символами республики, империи, королевской власти деспотической и ее же конституционной, – фригийский колпак и красное знамя; орел и знамена трехцветные; петух и белое знамя с лилиями, – опять трехцветные знамена и скрижали конституционной хартии. Более или менее продолжительная остановка стрелки этого политического барометра (вместо ртути налитого не менее живою французской кровью) в прямой зависимости от терпения великой нации, а может быть, даже и от перемен погоды, судя по тому, откуда ветер подует. Устроен этот барометр около сотни лет тому назад, но, по-видимому, прослужит Франции еще многие лета. Роковая стрелка на республике – Франция поет «Марсельезу» и строит баррикады; с политической революционной бури стрелка переходит на хорошую погоду империи – и Франция в медвежьей шапке наполеоновского гвардейца грозит Европе, напевая: «l'astre des nuits» или «partant pour la Syrie».[38] Но вот наполеоновский орел (хотя и прирученный куском говядины в шляпе) мало-помалу становится для Франции прометеевским коршуном; он клюет ей печень, высасывает из нее самые лучшие соки – и барометр падает, стрелка показывает перемену. Действительно перемена – костюмов и декораций! Франция меняет орла на петуха, трехцветное знамя на белое, заветный N и золотых пчел – на золотые лилии и поет другую песню: «Vive Henri IV…» Надоедают ей, однако, и песня, и лилии, и петух, и белые знамена; видит Франция, что правление Бурбонов– видоизменение наполеоновского капральства, и добывает откуда-нибудь нового короля из запасной орлеанской династии; короля – либерала на словах, деспота на деле, и… после засухи деспотизма опять является буря на французском барометре.
Кроме знамен, гербов и символов, у каждого образа правления свой кумир. У легитимистов, любителей королевской власти во вкусе renaissance, три идола – вроде индийских Брамы, Вишну и Шивы; трое королей-волокит, к которым легитимисты питают религиозное благоговение, окружая их мишурными ореолами незаслуженного величия – Франциск I, Генрих IV и Людовик XIV. У каждого из этих трех кумиров своя фраза, если не бессмертная, то бессмысленная…
У Франциска I знаменитое: «Все пропало – кроме чести» (о чем мы уже говорили с читателем); у Людовика XIV: «Государство – я» (l'etat – c'est moi) и «Нет более Пиренеев» (il n'y a plus de Pyrenees); у Генриха IV, самого популярного из трех, – обещание курицы в суп беднейшему из своих подданных. Эту курицу ближе всего можно сравнить с газетной уткой; не дождался ее, да едва ли когда и дождется бедный холостяк, геральдический французский петух. Фраза Генриха IV превращается даже в ядовитую иронию, если вспомнить, что этот добрый король, осаждая Париж, морил его голодом. Хлеб, который он будто бы посылал осажденным, взращен в воображении поэтов и льстецов историков. Ничего подобного не было; парижане во время осады с мая по сентябрь 1590 года вместо хлеба питались лепешками из толченого грифеля с примесью муки из костей скелетов, отрытых на городских кладбищах (pain de Madame de Montpensier);падаль почиталась лакомством; до ста тысяч человек умерло от голоду и эпидемий; вследствие тления непогребенных трупов в Париже появились ядовитые змеи…[39] Незлопамятный народ французский, позабыв о голоде, которым его морил Генрих IV, помнит только курицу, им обещанную; народ-фразер за красное или «жалостное» словцо прощает многое, и курица Генриха IV мила французам не менее наполеоновского орла, и король велик, бессмертен, незабвенен. В Генрихе каждый француз видит себя самого; Генрих – тип истого сына великой нации и вследствие этого – велик!
Немного же надобно, чтобы во Франции удостоиться титула великого. Мы, однако, не можем примирить величия с теми пороками, которыми природа оделила Генриха IV в пропорции бочки дегтю к ложке меду. Его двоекратное отречение от кальвинизма, трусость, нетвердость в слове, плутоватость в игре, чтобы не сказать – склонность к воровству, наконец, сластолюбие, доходившее до забвения достоинства и человеческого и королевского, – все эти свойства характера Генриха IV с истинным величием как-то плохо ладятся! А чтобы читатель не счел наши слова за клевету, укажем на факты, записанные историей.
Трусость Генриха доказывается не бегством его из Парижа, не прятками его во время Варфоломеевской резни – она обнаружилась в битве при Иври 14 марта 1590 года, когда на будущего победителя напал панический страх, почти лишивший его возможности держаться в седле. Ударяя себя кулаками под бока, Генрих твердил сквозь зубы, щелкавшие от лихорадки: «Вперед, вперед, поганый одер!» (Avance, avance done, vilaine carcasse!). Легко может быть, что и настоящие герои внутренне праздновали труса в сражениях, но только этого не выказывали.
В нетвердости в слове Генриха уличают его письменные обещания любовницам Габриэли д'Эстре и Генриэтте д'Антраг жениться на них, чего, благодаря стараниям Сюлли, исполнено не было. Обольщать женщин подобными обещаниями неприлично даже какому-нибудь писарю или денщику, королю же, и тем более великому… странно!
Забавляясь карточной игрой, великий король не только плутовал, но – без околичности – крал чужие ставки со стола. Однажды, играя с Бассомпьером, Генрих подменил выигранную маршалом кучу пистолей таковою же, составленною из полупистолей. Заметив этот подлог, Бассомпьер выбросил весь свой выигрыш за окно стоявшим в карауле солдатам, заменив ее на игорном столе новой, из собственного кармана. Свидетельница этому Мария Медичи сказала Генриху: «Вы с маршалом поменялись ролями: он отлично представил короля, а вы – простого солдата!» Тому же Бассомпьеру, частому своему партнеру, король не один раз говаривал: «Хорошо, что я король, а то за мою нечистую игру быть бы мне давно на виселице!»
Это признание, конечно, делает честь откровенности Генриха IV, но сами плутни не делают ему чести… Снимите этого великого короля с плеч его живого пьедестала – истинно великого, благородного Сюлли, – и перед вами явится самый обыкновенный человек; но в этом-то и вся заслуга Генриха… Да, он был человеком на троне после двух демонов, Карла IX и Генриха III, руководимых достойной их матерью, Екатериной Медичи. Мученическая смерть Генриха от руки Равальяка, бесспорно, примиряет до известной степени с его жизнью, но кровь короля, во всяком случае, не может смыть многих грязных страниц истории его царствования. Именно об этих страницах мы и поговорим теперь; поговорим беспристрастно – не оправдывая, не обвиняя. Перед нами теперь Генрих IV – живой, но не умерщвленный Ра-вальяком и через сто восемьдесят три года (1793) не исторгнутый яростной чернью из своей могилы в Сен-Дени – страница неизгладимо позорная в истории французского народа!..
В моцартовском Дон-Жуане Лепорелло, перечисляя жертвы своего господина, развертывает саженный свиток, представляющий в итоге 1003 (milla e tre). Точно таким же – хотя и менее баснословным – списком приходится и нам начинать наш очерк сердечных подвигов державного французского Дон-Жуана. Пятьдесят шесть! – произносим мы голосом Лепорелло; имена же фавориток следующие.
1573–1576: 1) Шарлотта де Бон-Самблансе – госпожа де Сов – маркиза Нуармутье (Charlotte de Beaune Samblan§ay, dame de Sauve, marquise de Noirmoustier); 2) Жанна дю Монсо де Тигонвилль, впоследствии графиня Панжа (Jeanne du Monceaux de Tigonville, comptesse de Pangeas).
1578: 3) Дайэлла, фрейлина Екатерины Медичи, гречанка-киприотка; 4) в Ажене: Екатерина дю Люк; 5) Анна де Бальзак де Монтэгю (Anne de Balzac de Montaigu); 6) в Ажене: Ар-нольдина.
1579: 7) Мадемуазель де Ребур, 8) Флёретта, дочь садовника в Нераке, 9) Франциска де Монморанси-Фоссе (Franchise de Montmorency-Fosseux); 10) госпожа Спонд; 11) девица Марокен; 12) Ксента, горничная Маргариты Наваррской; 13) булочница в Сен-Жан; 14) госпожа де Петонвилль; 15) Бавересса; 16) девица Дюра; 17) Пикотен, булочница в По; 18) графиня Сен-Мегрен (Le Sain-Maigrin); 19) кормилица в Кастель-Жалу; 20) две сестры де л'Эпсэ (De l'Epsee).
1582–1591: 21) Диана д'Андуэн, графиня Грамон, прозванная Прекрасною Коризандою (Diane d'Andouins, comptesse de Gramont, dite la belle Corisande); 22) Мартина; 23) Эсфирь Имбер (Imbert) в Ла-Рошели; 24) Антуанетта де Пон, маркиза Гершвилль, впоследствии графиня Лианкур (Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, comptesse de Liancourt) с 1589 по 1590 год. Любовь платоническая и неудачная; 25) Екатерина де Верден – монахиня Лоншана, впоследствии аббатиса в Верноне; 26) Мария де Бовийе, аббатиса монастыря Монмартр; 27) Мария Бабу де ла Бурдезьер, впоследствии виконтесса д'Этож, двоюродная сестра Габриэли д'Эстре.
1591–1599: 28) Габриэль д'Эстре– госпожа де Лианкур – маркиза Монсо – герцогиня де Бофор (Gabrielle d'Estree, dame de Liancourt, marquise de Monceaux, duchesse de Beaufort); 29) и 30) ее родные сестры: Юлиана Ипполита д'Эстре, маркиза, а впоследствии герцогиня Виллар, и Анжелика д'Эстре, аббатиса в Мобюиссоне; 31) госпожа де Монтобан; 32) Ла Гланде – куртизанка; 33) девица д'Аранкур; 34) девица де Сенант – из того же разряда.
1599–1610: 35) Генриэтта де Бальзак д'Антраг, маркиза де Вернейль (Henriette de Balzac d'Entragues marquise de Verneuil); 36) графиня Лиму; 37) Жаклина де Бейль, графиня Море (16041610); 38) госпожа Ланери; 39) госпожа Мопу; 40) Шарлотта Фулебон, впоследствии супруга Франциска Барбетьер-Шемеро; 41) куртизанка Бретолина; 42) герцогиня де Невер (неудача); 43) герцогиня Монпансье (тоже); 44) Екатерина де Роган, герцогиня Цвейбриккенская (рассердилась на любезное предложение короля); 45) мадемуазель де Гиз, принцесса Конти, сочинительница памфлета «Возлюбленные великого Алькандра» (Les amours du grand Alcandre); 46) госпожа Клен или Келен, жена парламентского советника; 47) мамзель Фаннюш – уличная камелия; 48) супруга сборщика податей госпожа де Буанвилль; 49–53) госпожи: Аарссен, де Со, де Раньи, де Шанливо, Камю де Понкарре.
1604–1610: 54) Шарлотта дез'Эссар, графиня Ромартен;
55) Шарлотта Маргарита де Монморанси, принцесса Конде;
56) девица Полэ (Paulet).
Прибавив к этому числу первую супругу Генриха Маргариту Наваррскую, знаменитую королеву Марго – французскую Лукрецию Борджа, – получим 57: число лет жизни Генриха IV. На эту странность обращаем внимание охотников до каббалистических выкладок; пусть ради забавы присоединят эту роковую цифру к числам 4 и 14, игравшим такую важную роль в жизни родоначальника Бурбонской династии.[40]
Цифирные фокусы, конечно, очень занимательны; в них досужее суеверие может даже найти себе лакомую пищу, но мы, не останавливаясь на подобных пустяках, скажем несколько слов об иных цифрах, не каббалистических, но тем более заслуживающих внимания. С 1574 по 1610 год, в течение двадцати шести лет, у Генриха IV было пятьдесят шесть фавориток. Любопытно знать, во сколько обошлись Франции эти удовольствия? Не говорим о какой-нибудь горничной Ксенте или о мамзелях вроде Баверессы, Ла Гланде, Бретолины, Фаннюш и им подобных; на этих госпож и тогда, как теперь, была своя такса. Кроме куртизанок и горничных королю продавали ласки графини, виконтессы, маркизы, принцессы, аббатисы, знавшие себе настоящую цену; мужья сводили его со своими женами, матери и отцы – с дочерьми. Не скупился король на золото, подарки; щедрился он на поместья, майораты, на чины и титулы, которыми награждал услужливых братьев, отцов и мужей, настоящих и подставных. Сумма всех этих щедрот может представить цифру весьма почтенную; данные же для составления этой суммы можно найти в записках Сюлли и во многих других мемуарах того времени.
Женитьба Генриха на Маргарите Валуа – дело адской политики Екатерины Медичи – породнила честный дом на-варрских Бурбонов с французским лупанаром. Умной Жанной д'Альбре (как мы видели) руководили расчет и надежда со временем видеть сына на французском престоле – честолюбие извинительное в доброй и нежной матери. Екатерина Медичи замышляла другое. Она, призывая гугенотов на брачное празднество короля наваррского, готовила им предательскую западню Варфоломеевской ночи; она оттачивала ножи и топоры убийц под звуки бальной музыки… Прологом кровавой трагедии были песни, пляски, а за ними – отравление Жанны д'Альбре, убийство Колиньи и резня гугенотов. Мог ли быть прочен и надежен брачный союз, заключенный при такой страшной обстановке? Генрих и Маргарита шли к алтарю скрепя сердце, с обоюдным отвращением, чтобы не сказать ненавистью.
Говорят, будто несходство характеров – главный источник супружеских раздоров… неправда! В короле Наваррском и его супруге видим совершенно противное; редко можно было найти людей, у которых в характере было бы так много родственного сходства; как в нем, так и в ней одни и те же достоинства и пороки одни и те же. Он был влюбчив – она тоже; Генрих за женскую ласку готов был отдать честь, жизнь, весь мир – и Маргарита не задумывалась над принесением этих же самых жертв своим многочисленным любовникам. Шалости и волокитство неприметно довели мужа и жену до распутства, распутство доводило их и до преступлений… Новейшие проповедники женской эмансипации, быть может, сочтут наши слова лицемерием, но, по крайнему нашему разумению, порок, терпимый в мужчине, отвратителен в женщине: подвыпивший мужчина никогда не возбудит того омерзения, которое внушает нам пьяная женщина. То же самое и во всяком пороке. Генрих, молодой страстный беарнец, воспитанный матерью в страхе Божием, не мог устоять от искушения французского двора Карла IX и Генриха III; мы его не извиняем, только оправдываем… Знаменитая королева Марго не заслуживает ни извинений, ни оправданий. Достойная дочь Екатерины Медичи, она родилась развратной, всосала с молоком матери неутолимое сладострастие, выросла в атмосфере, пропитанной пороком. Двенадцати лет она впервые вкусила заветный плод любви чувственной, и с этого возраста ревностно служила Венере, своему единственному божеству. Антраг, Шаррен (или Шарри) хвалились победою над пламенным сердцем Маргариты-отроковицы, но эту честь могли оспорить у них братья Марго: Карл IX, Генрих III, Франциск, герцог Алансонский и, кроме братьев, герцог Генрих Гиз Порубленный, друг детства Маргариты, ее бессменный сверстник в играх и забавах. Маргарита любила его до самой роковой катастрофы в Блуа, которую, как мы уже говорили, безуспешно пыталась отклонить, предупреждая Гиза об угрожавшей опасности. Немедленно по выходе Маргариты за Генриха Наваррского Гиз возобновил с нею прерванную связь, смеясь и издеваясь над простоватым бе-арнцем, который со своей стороны умел кстати зажмуриться или глядеть сквозь пальцы на проделки жены. Если римский Брут прикидывался сумасшедшим, почему Генриху Наваррскому было не прикидываться простаком, повесой, добродушно махнувшим рукою на все и на вся и думавшим единственно об игре в лапту, об охоте и любовных приключениях?
Навлекая на себя этой странной тактикой негодование гугенотов и презрение католиков, он спасал себе жизнь и вместе с тем тихонько прокрадывался к королевской короне. Раболепствуя перед Екатериной, потворствуя преступным шалостям своей жены, лавируя между Сциллой и Харибдой, Генрих особенно подружился с самым ничтожным из всех своих трех шуринов, Франциском Алансонским. Шурин, зять и сестрица составили самый согласный триумвират, на который, однако же, обратила внимание Екатерина Медичи, предугадывая в нем опасность, гибельную ее намерениям. Верная завету Макиавелли: вселяй раздор, и властвуй (divide et impera), – флорентинка поручила своей фрейлине госпоже де Сов и любимцу Генриха III дю Гасту (du Guast) во что бы то ни стало разладить мужа с женою и шурином. Все фрейлины двора королевы-матери, как мы уже говорили, душою и телом служили ее видам и замыслам, но госпожа де Сов любила искусство для искусства и, по словам историка Мезерэ, «прелестями своими служила не столько намерениям королевы, сколько своему собственному удовольствию, играя сердцами своих поклонников так ловко, что никогда не бывала в проигрыше и имела неистощимый запас обожателей». Эта прелестная дама, супруга государственного секретаря, была счастливой соперницей Маргариты (или, как ее называл Карл IX, толстухи Марго), пользуясь благосклонностью державных ее братьев, наконец, и мужа, которого вместе с герцогом Алансонс-ким прибрала к рукам. Тонкий, лукавый дипломат в своих отношениях к французскому двору, Генрих Наваррский на этот раз бросился в западню, расставленную ему коварной Цирцеей, и, согласно желаниям Екатерины Медичи, рассорился с герцогом Алансонским чуть не до поединка. Госпожа де Сов, принимая у себя в будуаре и зятя, и шурина, тому и другому клялась в неизменной верности; зятю наговаривала на шурина, шурину – на зятя, мужу – на жену. Генрих, не питавший к Маргарите иных чувств, кроме холодной дружбы, заменил ее презрительным равнодушием. Глубоко обиженная Марго, чтобы не остаться в долгу, выбрала себе другом Бюсси д'Амбуаза, главного коновода партии Алансонского. В своих записках она уверяет, что отношения их были безукоризненны, чему, разумеется, нельзя верить.
Преемник несчастного Ла Моля, удалец Бюсси, сын своего времени, был способен на что угодно, кроме нежных воздыханий и платонической любви. В те времена любить женщину значило обладать женщиной; о любви платонической проповедовали только тогдашние романисты и поэты. Душевно преданный герцогу Алансонскому, Бюсси в объятиях Маргариты нашел достойную награду за свою преданность. О связи с ним королевы наваррской дю Гаст довел до сведения ее мужа. Генрих, занятый госпожой де Сов, не повел и ухом. Генрих III и Екатерина надеялись, что беарнец будет мстить Бюсси, и жестоко ошиблись. Тогда дю Гаст (с их согласия, разумеется) выбрал из своего сардинского полка триста человек отчаянных головорезов, велел им ночью напасть на Бюсси и его товарищей. Эта горстка молодцов выдержала натиск злодеев; раненый, Бюсси защищался, как лев, и посланные дю Гаста бежали. На другой день победитель явился в Лувр, неизменно веселый, любезный, будто после потешного турнира. Дорого поплатился дю Гаст за свой неудавшийся разбойничий умысел. 30 октября 1575 года, часу в десятом вечера, когда он больной лежал в постели, в его спальню вломилась толпа замаскированных людей, предводимая Вильгельмом дю Пра, бароном де Ватто; шпаги их и кинжалы не дали промахов: шпион погиб честной смертью Юлия Цезаря. Маргарита назвала гибель дю Гаста «судом Божиим», и это было бы действительно так, если б барон де Ватто действовал не по ее поручению.
Вечером 15 сентября 1575 года Франциск, герцог Алансон-ский бежал в свой удельный город Дрё, откуда прислал в Париж манифест в оправдание своему поступку с выражением своих притязаний. Генрих III и Екатерина в бессильной ярости не знали, за что взяться; Маргарита слегла в постель, заболев лихорадкой от страха за нежно любимого брата; милый король наваррский тоже лежал… у ног госпожи де Сов, осыпая беглеца упреками и насмешками, которыми маскировал свое решительное намерение последовать его примеру. Усыпив бдительность флорентинки и Генриха III, король наваррский 3 февраля 1576 года под предлогом поездки на охоту в Санлис с небольшой свитой приверженцев своих ускакал по вандомской дороге в Алан-сон, оттуда пробрался в Мэн, Анжу, где открыто присоединился к партии Конде и опять перешел в кальвинизм, от которого отступился после Варфоломеевской ночи. Мнимый простак перехитрил умную флорентинку, лукавого ее сына и коварную госпожу де Сов, из сетей которой наконец вырвался.
На этот раз за все про все поплатилась ни в чем не виноватая Маргарита. Королева-мать и король-братец, обрушив на нее свою ярость, обошлись с ней как с пленницей, приставив стражу к ее дворцу. Для них Маргарита была драгоценным залогом при тех враждебных отношениях, в которых находились теперь к Генриху III его брат и зять. Король наваррский, равнодушный к жене во время пребывания своего в Париже, теперь в письмах своих из Гаскони прикинулся чрезвычайно нежным и внимательным, прося Маргариту, между прочим, подробно сообщить ему обо всем, что делается и замышляется при дворе. Дружбы ради королева наваррская охотно взяла на себя роль шпионки, донося обо всем обоим беглецам, то есть мужу и Франциску Алансонскому. Желая во что бы то ни стало воротить последнего ко двору, Генрих III решил вступить с ним в переговоры. Посредницей была сама Екатерина; она ездила к Франциску, но, холодно им принятая, истощив весь запас лести и заманчивых обещаний, возвратилась в Париж ни с чем. Быть примирительницей враждующих братьев попросили Маргариту, и она с удовольствием взялась за это трудное поручение. Чего не сделала мегера, то удалось сирене. Франциск, обольщенный ласками сестры (ласками далеко не родственными), возвратился в Париж, как блудный сын в дом отчий. Генрих III принял его с умилительным радушием, Екатерина – со слезами радости; тот и другая смотрели в глаза герцогу Алансонскому, предупреждая, предугадывая малейшие его желания. По этим ласкам Франциск мог заключить, что на этот раз ему не так-то легко будет вырваться из этих предательских объятий. Маргарита в награду за удачное исполнение данного ей поручения просила мать и брата отпустить ее к мужу вместе с присланным за нею Жениссаком. Ей отвечали отказом, посланного приняли с грубостями, приказав ему сказать мужу Маргариты, что он не увидит ее до тех пор, покуда не перейдет в католицизм. Желая утешить Маргариту, ей предложили прокатиться в чужие края, на воды, и она, ссылаясь на недавнюю болезнь, выбрала Спа, куда и отправилась в сопровождении княгини Рош-сюр-Ион. Эта поездка была не столько полезна ей в санитарном отношении, сколько герцогу Алансонскому в отношении политическом. Во время своего пребывания во Фландрии Маргарита сумела расположить в пользу брата партию недовольных испанским владычеством, обещавших ей в случае надобности не только дать ее брату надежный приют, но даже избрать его в предводители готовившегося восстания. Это обещание, льстившее честолюбию герцога Алан-сонского, пришлось как нельзя более кстати. По возвращении в Париж Маргарита вместо прежнего согласия между матерью и примирившимися братьями нашла страшную разладицу. Генрих III, обвиняя герцога Алансонского в измене и злых умыслах, теперь обходился с ним как с пленником, вместо объятий его держали чуть ли не за ворот. Смягчив по возможности его незавидную участь, ручаясь головой королю и королеве-матери за благонадежность Франциска, хитрая Маргарита с помощью Бюсси д'Амбуаза занялась приготовлениями к побегу узника во Фландрию. В пятницу 14 января 1578 года герцог Алансонский, Симье и Канже с помощью Маргариты, трех ее горничных и верного слуги по веревочной лестнице спустились из окна темницы в ров, оттуда бежали в аббатство Святой Женевьевы, где их ожидал верный Бюсси. Во Фландрии брат Генриха III не был ему опасен, и король, радуясь, что сбыл с рук опасного врага, нимало не сердился на Маргариту за ее содействие побегу Франциска. Главной причиной последней распри между братьями была не боязнь короля французского честолюбивых замыслов герцога, а возобновленная последним связь с госпожою де Сов, одновременно удостаивавшей и короля своей благосклонностью. До гроба верная правилу не лишать своей ласки ни единого мужчины при дворе – от короля до камер-лакея включительно, эта госпожа имела честь после герцога Алансонского быть любовницей Генриха Гиза. В бытность свою в Гаскони с Екатериной Медичи она пыталась пробудить в сердце короля наваррского прежнюю страсть, но он, как увидим, уклонился от этой камелии, выбрав цветок посвежее и привлекательнее.
Прежде нежели мы возвратимся к рассказу о любовных подвигах героя нашего очерка, окончим обзор любовных похождений его супруги до отъезда ее в Гасконь. С 1575 по 1578 год сердцем ее нераздельно владел удалой Бюсси, который, проводив свою возлюбленную, не теряя времени, нашел новый предмет обожания в лице графини Дианы Монсоро. Муж красавицы, взяв пример с Гиза, поступил с Бюсси точно так же, как тот – с графом Сен-Мегрен. Заманив любовника жены в свой замок, Монсоро выпустил на него целый отряд убийц, будто стаю бешеных собак на кабана. Долго отбивался Бюсси от этих душегубцев – сначала шпагою, потом ее обломком, наконец, стульями и скамьями, попадавшимися ему в комнате под руку… Израненному, полумертвому, ему удалось добраться до окна и выскочить во двор, где он повис на копьях решетки и был безжалостно дорезан. Так погиб 19 августа 1579 года храбрец, достойный лучшей участи, но такова уж была роковая судьба любовников Маргариты, погибавших большей частью насильственной смертью, начиная с бедного Ла Моля и оканчивая Обиаком. Обычная фраза: «Я готов отдать за тебя жизнь!» – неизбежная в устах влюбленных, у фаворитов королевы наваррской была пророчеством. Дорого обходились им ласки Маргариты. Нам в нашей книге так часто случалось и еще не один раз случится обвинять драматургов и романистов в искажении исторических фактов и личностей, что мы не можем здесь отказать себе в удовольствии отдать должную справедливость талантливому Дюма, автору великого множества исторических романов, издавна знакомых нашим читателям. Учиться французской истории по романам Дюма было бы, конечно, смешно и дико, тем более что у него вымысел и правда всегда весьма искусно сплавлены в нераздельную амальгаму; но нельзя не признать за ним и той заслуги, что он своими рассказами спас от забвения немало замечательных исторических личностей. Без королевы Марго и графини Монсоро едва ли большинству читающего мира известны были бы де Ла Моль, Коконна и Бюсси д'Амбуаз – любопытные типы истых французских дворян шестнадцатого века со всеми их достоинствами и пороками. В драме своей «Генрих III и его двор» (Henri III et sa cour) Дюма почти без изменений мастерским пером изобразил историю красавчика Сен-Мегрена, а в упомянутых романах полной рукой черпал из записок л'Этуаля, Маргариты, Брантома и истории д'Обинье. Если исторические романы Вальтера Скотта можно назвать фотографиями, то произведения Дюма имеют полное право на имя исторических картин, написанных яркими и далеко не блеклыми красками.
В течение двухлетней разлуки со своей супругой Генрих На-варрский не оставался перед нею в долгу и усердно, не менее Маргариты, служил Эроту и Венере. В 1576 году влюбчивые его глаза остановились на дочери госпожи Тигонвилль, наставницы его сестры. Эта «девочка», как ее называет д'Обинье в своих записках, полудитя, главную заманчивость которой составляли невинность и неопытность, не на шутку отвлекала Генриха от занятий делами поважнее волокитств и любовных проказ, до которых король наваррский был вообще так падок. Сначала он обратился с просьбой помогать ему к суровому д'Обинье, умоляя его «на коленях» уговорить упрямицу, на все нежные предложения короля отвечавшую отказом и бранью. «Я не гожусь в сваты и подлой этой должности исправлять не умею!» – так говорил прямодушный д'Обинье, со своей стороны стараясь отвлечь короля от глупой связи; упрямец не унимался и одержал наконец желанную победу. Два года мадемуазель де Тигонвилль пользовалась ласками его нераздельно и в награду за свою уступчивость была в 1581 году выдана за барона Пардайян, графа Панжа, члена государственного совета, камергера двора, кавалера рыцарского ордена, капитана полусотни телохранителей, командира Гюйэннского полка и губернатора Арманьяка.
Эти чины были приданым, взятым бароном за женою, и позолотою рогов, которыми задолго до свадьбы его увенчал король наваррский; недаром же сестра Генриха называла барона Панжа «толстым буйволом»…
Через полгода после бегства герцога Алансонского во Фландрию Екатерина Медичи и возлюбленный ее сынок решились дозволить Маргарите возвратиться к ее беглому супругу. 2 августа 1578 года королева наваррская из замка Оленвилля изволила отбыть в Гасконь в сопровождении королевы-матери, кардинала Бурбона, герцога Монпансье и президента Пибра-ка. За ними следовали фрейлины двора Екатерины Медичи, обоз красавиц, которыми флорентинка надеялась действовать на врагов вернее всякой артиллерии – и не ошиблась в расчетах. Не успела она со своим подвижным лупанаром приехать в Гюйэнну, как король наваррский уже растаял от огненных взоров фрейлины Дайэллы, гречанки, спасшейся от плена при разорении Кипра, а Тюреннь пленился девицей Ла Вернь (La Vergne). Восемнадцать месяцев гостила Екатерина Медичи у зятя, напоминая, окруженная своими камелиями-фрейлинами, известного разряда тетеньку с племянницами. Король и королева наваррские были просто умилительны в добром согласии и при совершенном отсутствии ревности: король дружил с фаворитами жены, она – с фаворитками короля. Житье в Нераке во время пребывания там Екатерины было самое привольное и развеселое; после него прибытие в угрюмый город По и пребывание в этом городе показалось Маргарите невыносимым… Угодно ли читателю знать истинную причину уступчивости Генриха и его снисходительного взгляда на все шашни Маргариты? Вот подлинные его слова.
«Чтобы меня не обвинили в проповеди безнравственных (?) правил приручать ревнивых мужей и пользоваться их доверием, я объясню причины, побуждавшие меня так странно вести себя. Я был королем без королевства и стоял во главе партии, которую следовало поддерживать, всего чаще без войск и без денег для их найма. Видя приближавшуюся грозу, я для ее отклонения не имел иных средств, кроме покорности. В подобных случаях добрая жена приносила мне немалую пользу. Ее ходатайство всегда смягчало досаду на меня ее матери или братьев. С другой стороны, ее красота привлекала ко мне постоянно множество удальцов, которых удерживала при мне легкость ее поведения; суровостью она могла бы повредить успехам нашей партии. Судите после этого, должен ли я был щадить ее, хотя она и доходила иногда в своем кокетстве до смешного. Бывали между ее обожателями и такие, над которыми она сама смеялась, удостаивая меня доверенности и сообщая мне об их забавной страсти. Таков был старый сумасброд Пибрак. Ради любви он сделался ее канцлером, чтобы, пользуясь правом службы, писать ей нежнейшие письма, над которыми коварная вместе со мною смеялась».
Этой же самой системы и в наше время придерживаются многие мужья, торгующие своими женами, в чаянии снискания великих и богатых милостей у своих начальников; но что мерзко в каком-нибудь министерском чиновнике, то отвратительно в короле, этим грязным путем домогающемся престола… Или будущий Генрих IV думал, что за высотою занятого им поста люди, его современники и потомки, не заметят пятен? Солнце ярче французской короны и повыше королевского престола, однако же его пятна не укрылись от глаз наблюдательной науки. Путь к славе может быть тернист, труден, извивист, но никогда не должен быть грязен; стыд и позор тем славолюбцам, которые удобряют почву для своих лавров кровью человеческой или смрадной грязью.
С переездом в По для Маргариты, как мы уже сказали, начались черные дни. В памяти беарнцев еще в полном блеске сияла покойная Жанна д'Альбре, «в которой, – по словам историка, – кроме пола, не было ничего женского»; Жанна – умная в совете, храбрая на войне, строгая, целомудренная. Сравнивали беарнцы покойную мать их короля с его женою, и невыгодно было это сравнение для молодой развратницы, мечтавшей единственно о нарядах, балах, праздниках да любовных интригах. В По Генрих взял жену в ежовые руковицы (что, сказать по правде, чести ему не делает). В Париже он «страха ради иудей-ска» ходил в католическую церковь; в По он заставил Маргариту слушать обедню ее вероисповедания в убогой часовенке, куда не допускали местных жителей, единоверцев Маргариты… Вместо обожателей королеву окружали педант Пибрак, свирепый солдат д'Обинье и фанатик гугенот Жак Лаллье. Некого было ей тешить своими кокетливыми кривляньями и пышными нарядами из камки, аксамита, турецкой парчи и венецианского бархата, о которых она с таким чувством распространяется в своих записках. Полезная мужу в Париже, она была ему почти в тягость в его владениях. Там дозволяя Маргарите ветреничать как ей угодно, здесь Генрих требовал от нее соблюдения приличия и супружеской верности. В обоих случаях он был верен политической своей системе: в Беарне честное поведение жены было точно такой же необходимостью, как в Париже – ее безнравственность. Стесняя жену в ее привычках, Генрих себе самому представил полную свободу, не давая спуску ни одному смазливенькому личику – от крестьянки до фрейлины включительно. В это время вместе с д'Амвилем и Фронтенаком король наваррский пользовался расположением мадемуазель де Ребур, всячески досаждавшей Маргарите. Эта Ребур была девица хворая, истощенная, и Генрих любил ее, может быть, единственно ради разнообразия. Она очень скоро ему прискучила, и он заменил ее девицею Фоссё, известной под именем Фоссезы. Эта новая связь была затеяна королем незадолго перед его отъездом с Маргаритой в Нерак, где и она вознаградила себя за невольное воздержание знакомством с Иаковом Гарлэ (Harlay), сеньором де Шанваллон.
После скучного По житье в Нераке напомнило Маргарите родимый Париж. Праздники сменялись праздниками, домашние спектакли – балами, балы – поездками на охоту. Придворные дамы и кавалеры кружились в каком-то чаду, покорствуя любви, этому могучему властелину самого короля, божеству, соединявшему пред своим алтарем и католиков, и гугенотов. Старики не отставали от молодежи; суровый и степенный де Рони, будущий Сюлли, репетировал балетные па под руководством сестры Генриха и долгом почел, по примеру прочих, обзавестись фавориткой.
В этом адском лабиринте любовных и политических интриг, душою которых была Маргарита, попавшая опять в свою сферу, путеводной нитью могут служить ее записки. Досадуя на маршала Бирона, правителя Гюйэнны, Генрих решился нарушить мир, заключенный с парижским двором, и 15 апреля 1580 года снова вступил в борьбу, названную войною влюбленных, так как главные действующие лица этой трагикомедии были влюбленные и любовь была главной пружиной их политических и военных действий. Д'Обинье пишет, что Маргарита, негодуя на своего брата Генриха III за то, что он наушничал королю наваррско-му о ее интригах с де Тюреннем и Шанваллоном, подстрекнула мужа затеять с шурином войну. Орудием для подстрекательства она выбрала молоденькую Фоссезу, свою фрейлину, дочь Пьера Монморанси… Другими словами, Маргарита сама сосватала ее своему влюбчивому супругу. Несмотря на свое смешное название, война была нешуточная; независимо от подвигов храбрости со стороны католиков и гугенотов, она была ознаменована неизбежными зверствами и ужасами. Несколько областей терпели нужду и голод, гибли в истязаниях женщины, дети; сотни храбрецов складывали свои головы – и все это по милости женщины-волокиты, чужой кровью мстившей своему брату за непрошеное его вмешательство в ее грязные интриги. По ее просьбе город и замок Нерак воюющими сторонами признаны были неприкосновенными, что, однако же, не мешало Генриху делать частые наезды в замок, в котором между фрейлинами его жены находилась Фоссеза. В начале этой интриги Генрих питал к прелестной отроковице самую платоническую страсть, называя Фоссезу своей «дочкой». Послушная наставлениям королевы, «дочка» держала своего «папашу» в почтительном отдалении, обещая ему – и только обещая – желанную награду за те воинские подвиги, которые он совершал во время этой срамной войны. Герцогу Алансонскому, возвратившемуся из Фландрии,
Генрих III поручил вступить в мирные переговоры с королем наваррским. Семь месяцев Франциск провел в Нераке, уладив дело по желанию короля французского, но мир был вскоре нарушен по милости Фоссезы. Ревнивый Генрих Наваррский, заметив ухаживанье за нею герцога Алансонского, заподозрил жену в пособничестве. На этот раз невиноватая Маргарита уговаривала брата оставить неуместное соперничество. Фос-сеза, точно так же в доказательство своей невинности, вознаградила наваррского короля за долгое ожидание. Лишь только обнаружились последствия близких отношений Генриха с Фос-сезою, последняя, подобно библейской Агари, возгордилась и зазналась пред своей законной соперницей, явно оказывая Маргарите неуважение. Круто изменился характер недавней девочки, готовившейся теперь быть матерью. Желая скрыть свою беременность, Фоссеза отпросилась у королевы на воды Эг-Шод, в Беарне. Делая вид, что она ни о чем не догадывается, Маргарита дала ей свое позволение. Фоссеза, сопровождаемая фрейлинами Ребур, Билльсавен, гувернанткой и Генрихом, отправилась лечиться. Ребур, отставная фаворитка, желая отомстить Фос-сезе, исправно доносила Маргарите обо всем, что делалось на водах, о дерзких отзывах новой фаворитки насчет королевы, о намерении Генриха заставить жену приехать в Эг-Шод для избежания излишнего скандала… Отклонять было нечего: при дворе и по всему Беарну ходили уже соблазнительные слухи о короле и его фаворитке. Зная, что отдалением от себя Фоссезы она будет только способствовать вящему злословию, Маргарита с удивительным тактом приблизила ее к себе, великодушно продолжив свое содействие к сокрытию от молвы угрожавшей Фоссезе катастрофы. Вместо благодарности Фоссеза, по общепринятому обыкновению падших, желающих выдавать себя за непорочных девственниц, стала осыпать королеву упреками, клясться в своей невинности, называя клеветниками тех, кто осмеливается думать, что она беременна… Бесстыдство это было тем извинительнее Фоссезе, что ее счастливый обожатель Генрих, этот «великий король», делал жене своей сцены за нанесенное ею оскорбление чистой и невинной Фоссезе! Какое умилительно патриархальное лицемерие!.. В лице жены Генрих защищал от нападок общественного мнения свою любовницу; замыкая уста Маргарите, он надеялся заставить молчать весь свет… Он, его величество король наваррский, ручался, что его «дочка» Фоссеза чиста, как младенец, значит, так оно и должно быть, хотя бы этот младенец и подарил Божьему миру второй экземпляр действительно невинного младенца, что и не замедлило последовать.
Вскоре после ссоры с женой из-за невинной Фоссезы король ночью разбудил Маргариту и ласково сказал ей:
– Милая моя, я от вас скрыл то, в чем теперь принужден сознаться. Простите меня и забудьте все, что я говорил вам. Будьте так добры, встаньте и помогите бедной Фоссезе, которой очень трудно! Я уверен, что вы, увидя ее в этом положении, простите ей все происшедшее. Ведь вы знаете, как я ее люблю! Прошу вас, окажите мне эту милость!
Маргарита, истинно великая в эту минуту, отвечала ему, что она слишком его уважает, чтобы считать его дитя бесчестием для себя; что она позаботится о Фоссезе, как о родной дочери, ему же советует этим временем ехать с придворными на охоту, затем чтобы все осталось шито да крыто.[41]
Невинная Фоссеза родила мертвую девочку. Королеве за ее услуги она отплатила тем же, чем большая часть рожениц платит бедным бабушкам, то есть самой низкой неблагодарностью. Креатуры, подобные Фоссезе, в девушках не засиживаются; на ее счастье, нашелся какой-то Сен-Марк, сеньор де Брок, предложивший ей руку и сердце.
До глубины души оскорбленная бесстыдством мужа и неблагодарностью Фоссезы, Маргарита с удовольствием приняла приглашение Генриха III и отправилась в Париж для принятия деятельного участия в интригах против короля наваррского, а самое главное – для возобновления интриги с Шанваллоном, имевшей такое роковое влияние на судьбу бедной королевы наваррской. Дорого поплатилась она, как увидим, за свое справедливое мщение своему недостойному супругу.
Теперь из легиона фавориток Генриха IV появляется первая знаменитость – прелестная Коризанда, графиня Грамон, которую один современный автор осыпает такими восторженными похвалами, каких не расточал блаженной памяти Боссю-эт в своих панегириках над гробами королев и принцесс. Она, по словам панегириста,[42] заслуживает не только внимания, но и похвал истории; кроме красоты и ума она была мужественна и бескорыстна. Качества эти (продолжает он) нельзя назвать добродетелями, но во времена, обильные пороками, многое значит иметь хоть какие-нибудь достоинства…
Посмотрим, какие же это достоинства имела прекрасная Коризанда, в девицах Диана д'Андуэн, виконтесса де Лувиньи.
Она родилась около 1554 года и в 1567 году, тринадцати лет, вышла за Филиберта Грамона де Гиш, сенешаля беарнского. Король наваррский познакомился с супругами в первый год своего прибытия в Гюйэнну (1576), посетив графа, верного и преданного слугу покойной Жанны д'Альбре. Генрих влюбился в Диану с первой же встречи, но она, как говорят записки современников, была верной женой и не запятнала своего имени связью с королем ранее смерти мужа в 1580 году. Могло быть так, могло быть и иначе. До вдовства своего или после Диана, что называется, ловко окрутила короля наваррского, до того, что он дал ей письменное обязательство, подписанное кровью, жениться на ней; предлагал признать своим ее сына Антуана (от герцога Грамона), горько оплакивал своего сына, рожденного Дианой и умершего в малолетстве. Д'Обинье в своих записках[43] не слишком-то благосклонно отзывается об этой фаворитке, отвлекавшей короля своими ласками от дел государственных, угрюмо ворчал гугенот на эту госпожу, которая вертит королем, как ей угодно, а в праздничные дни «ходит в церковь со своим сынком от Генриха в сопровождении пажа, пуделя и шута…».
Да! По этим атрибутам и отзывам д'Обинье, видно что Диана была высокого ума женщина и за отсутствием законной жены короля очень недурно разыгрывала ее роль с прибавкой почтенной роли матери семейства: шут, паж, пудель и грудной ребенок, «явный плод любви несчастной»; обстановка умилительная, трогательная, и Генрих был очень эффектен в роли отца семейства, хотя и побочного, но любимого не менее законного.
Генриха с Дианой особенно тесно сблизила восьмая кровавая усобица между католиками и гугенотами. Д'Обинье называет ее войной баррикад, прочие историки – войной трех Генрихов.[44] Это столкновение партий было следствием интриг Маргариты, мстившей Генриху III за нанесенную ей обиду.
Прекрасная Коризанда помогала своему возлюбленному, королю наваррскому, словом и делом, советами и вещественной помощью, закладывая для найма войск и покупки лошадей свои драгоценности и усадьбы. В свою очередь Генрих, не зная пределов своей признательности, мечтал вознаградить фаворитку, сочетаясь с ней законным браком; разумеется, после развода с Маргаритой. В марте 1586 года, отразив маршала Матиньона от стен Кастеля, Генрих отбил у него несколько знамен и лично привез эти трофеи к Диане, чтобы в ее объятиях отдохнуть на лаврах. После кровавой битвы при Кутрасе (20 октября 1586 года), не обращая внимания ни на ропот войск, воодушевленных победой, ни на просьбы принца Генриха Конде, желавшего овладеть Сомюром, король наваррский с новым грузом отнятых знамен у неприятеля отправился из армии к Коризанде, тратя драгоценное время на идиллические нежности и праздный отдых в объятиях своей возлюбленной. «Делу время – потехе час» – говорит житейская мудрость; но Генрих смотрел на любовные интриги как на дела, а на войну как на потеху. Сюлли говорит, что товарищем короля наваррского в его сентиментальных поездках к прекрасной Коризанде был граф Суассонский, любовник Екатерины, сестры короля. Генрих ссылался на графа, в свое оправдание утверждая, что он угождал этим своему верному помощнику… Хорошо оправдание!..
Года через два после смерти Франциска, герцога Алансон-ского (10 июня 1584 года) Генрих, теперь наследник французского престола, окончательно решил жениться на своей Кори-занде, против чего восстали Тюреннь и в особенности д'Обинье. Первый пытался отвлечь короля от его намерения действиями военными, но другой вступил с Генрихом в открытый спор, из которого вышел победителем.
Выразив д'Обинье свое намерение, Генрих для примера указывал на тридцать государей, древних и новейших, сочетавшихся браком с женщинами ниже их по происхождению; нападал на браки политические, которые называл источниками распрей и междоусобиц… Д'Обинье, неуловимый софизмами да парадоксами, отвечал королю-селадону:
– Примеры хороши, но не для вас, государь. Короли, на которых вы ссылаетесь, мирно пользовались своими правами; их, как вас, никто не вытеснял из их владений, они, подобно вам, не скитались, и благоденствие их царств не зависело от их доброй славы. Вспомните, государь, что к задуманному вами браку существует четыре препятствия, соединенные в собственной вашей особе, – вы, Генрих Бурбон, король Наварры, наследник короны французской и покровитель церквей. У каждой из этих четырех личностей свои слуги, которым она и платит разной монетой. Как Генрих Бурбон вы должны заботиться о чести вашей фамилии; как король наваррский обязаны соблюдать интересы своей короны; как наследник французского престола принуждены соответствовать надеждам, на вас возлагаемым… четвертая же обязанность ваша – быть примером строгого соблюдения закона и уставов церкви! Вас обуяла любовь, страстная, непреодолимая. Я не говорю, чтобы вы исторгли ее из сердца, – любите, наслаждайтесь любовью, но в то же время будьте достойны ласк вашей любовницы… Сейчас я объясню странный, по-видимому, смысл моих слов. Пусть ваша любовь служит вам мерой для побуждения вас к честному исполнению ваших государственных обязанностей, ради любви внимайте добрым советам, время ваше посвящайте делам необходимым, одержите сначала верх над своими врагами и собственными страстями и порочными наклонностями, а потом, пожалуй, по примеру королей, на которых вы ссылаетесь, женитесь на вашей возлюбленной. Смерть герцога Алансонского еще приблизила вас к трону французскому; не останавливайтесь же на половине дороги и, занеся ногу на ступени престола, ступайте к этой великой цели!
Генрих поблагодарил честного советника и дал ему слово на два года отложить вопрос о женитьбе своей на Диане Грамон. То же обещание, подтвержденное клятвой, Генрих дал виконту Тюренню.
В письмах Генриха к его возлюбленной – полная прагматическая история всей его любви. От Коризанды у короля наваррского не было ничего тайного; он сообщал ей обо всем: о своих воинских подвигах и политических замыслах, своих опасениях и надеждах, о настоящем и будущем… В этих письмах лавры и терния переплетены с благоухающими розами любовной поэзии, которые тем удивительнее в Генрихе, что отношение его к Коризанде было так грубо-чувственно… В письмах своих Генрих, будто влюбленный мальчик, старается умилить свою возлюбленную тирадами о смерти, ему угрожающей, о своих душевных и телесных страданиях, вызывая тем Коризанду на выражение ему совершенного сочувствия. Особенно неприятное впечатление при чтении этих писем[45] производят отзывы Генриха о своей жене. Конечно, женатый человек ничем не может угодить так своей любовнице, как браня ей свою законную жену, – это дело известное, дело весьма гадкое на словах и отвратительное в письме. Генрих в письмах своих к Диане Грамон называет Маргариту пьяницей (письмо от 7 ноября 1585 года); выражает желание свернуть ей шею (18 мая 1589 года); молит Бога о скорейшей ее смерти: «Жду не дождусь часа, когда удавят эту наваррскую королеву. Если бы протянула ноги она, как и ее маменька, я бы воспел благодарственную молитву» (17 января 1589 года).
Заключительные фразы писем Генриха к его кумиру замечательны как грациознейшие вариации на тему «верность». «Верность моя безукоризненна… Будьте уверены в моей верности – она, если только возможно, усиливается… Люблю вас и до гроба буду вам верен… Не сомневайтесь в верном вашем рабе – никогда не изменит…»
Слова, слова, слова, нимало не мешавшие верному Генриху в то же время более или менее успешно ухаживать за номерами 23–27 (просим читателя справиться со списком на первых страницах предлагаемого очерка). Начало охлаждения короля наваррского к Коризанде совпадает со временем его восшествия на престол французский (1589). Что бы ни говорили в его защиту восторженные панегиристы, но этот факт бросает на героя весьма невыгодную тень. Не надо быть особенно проницательным, чтобы не догадаться, что Коризанда, обожаемая Генрихом, была ему полезна во время его претендентства на престол, а по достижении его была брошена королем за ненадобностью. Тогда он думал жениться на ней, а теперь лишил ее даже звания фаворитки. Постепенно, «по градусам», мы проследим это охлаждение, но сперва посмотрим, что в разлуке с супругом поделывала не менее его верная Маргарита и чем она закончила свою бурную жизнь.
Она прибыла в Париж 8 марта 1582 года, очень сухо была принята братом и матерью и нашла при дворе большие перемены.
Бывшие друзья охладели к ней, милый герцог Алансон-ский скитался по Фландрии, герцог Гиз охладел к Маргарите, очерствел сердцем и, погруженный в интриги, едва обращал внимание на свою первую любовь. Король при всяком удобном случае говорил королеве наваррской колкости, нередко и упреки за легкость ее поведения. Со своей стороны Маргарита, дав волю злому своему языку, не щадила своего братца, осыпая насмешками его фаворитов, с омерзением отзываясь об отношениях короля к этим красавчикам… В этом случае она была права, так как пылкие ее страсти никогда не доводили ее до противоестественного извращения вкуса. По прибытии в Париж она возобновила свою связь с Шанваллоном, и эта любовь не только вознаградила ее за всеобщее равнодушие, но доставила ей радость, доныне еще неведомую… Маргарита родила сына, окрещенного под именем Анжа (Ангела) и отданного на воспитание усыновившему его москательщику де Во. До времени ни королева-мать, ни Генрих III ничего об этом не знали. Оскорбляемая ими Маргарита платила им самой звонкой монетой – злословием, пороча их, весь двор, и правых и виноватых. Генрих III терпел, по свойственным ему малодушию и трусости, но наконец вышел из себя после важного кровавого события, в котором, по-видимому, Маргарита принимала весьма деятельное участие. Курьер, отправленный королем в Рим к тамошнему французскому посланнику герцогу Жуайёзу, был убит в окрестностях Парижа, а все бывшие при нем депеши были украдены. В числе последних находилось собственноручное письмо короля к Жуайёзу, в котором он, не скупясь на брань, описывал любовные похождения своей сестры, все ее происки и каверзы. Решив, что, кроме Маргариты, участвовать в убиении курьера было некому, так как депеши, кроме нее, никого не могли интересовать, Генрих III через несколько дней после катастрофы (7 августа 1583 года) в присутствии всего двора отпел Маргарите все, что накипело желчного и ядовитого в его грязном сердце. Он по пальцам пересчитал ей всех ее любовников, упрекнул за распутство и в заключение – вместо лакомой закуски – бросил ей в лицо обвинение в рождении ею побочного сына от Шанваллона. Эти жестокие нравоучения, бесспорно основательные, имели бы большую цену в устах человека порядочного, а не закоснелого в распутствах содомитянина… Оскорбленная королева наваррская на другой же день выехала из Парижа, почти без свиты и обоза, с горстью приближенных ей служителей. Заливаясь слезами, она твердила, что на белом свете нет королев или принцесс, которые были бы несчастнее ее, Маргариты, и Марии Стюарт, королевы шотландской. В Палэзо королева наваррская остановилась для ночлега, и здесь ее нагнал посланный за ней в погоню Генрихом III капитан гвардии с шестьюдесятью стрелками. Посланный, без всякого уважения к сану и полу Маргариты, обыскал весь ее багаж, обшарил самую постель, на которой она спала, надавал пощечин ее прислужницам, отдал под стражу двух ее любимиц, госпожу Дюра и девицу де Бетюнь, громко обвиняя их от имени короля «в распутстве и умышленных преждевременных родах». Всех арестованных в числе десяти человек отвели в Монтаржи (в аббатство Ферь-ер), где Генрих III сам их допрашивал, пересматривал бумаги, захваченные у сестры, и при допросах особенно допытываясь о ребенке Маргариты от Шанваллона, именно вследствие этого высланного за границу. Маргарита увиделась с ним только в 1605 году после двенадцатилетней разлуки.
Что касается их сына, Анжа, он, выращенный москательщиком де Во, вступил в орден капуцинов, был духовником маркизы Вернейль, участником всех ее интриг и заговора, имевшего целью лишить Генриха IV жизни и присоединить его королевство к Испании. В лице Анжа судьба послала Генриху IV страшного мстителя за все обиды, причиненные им Маргарите.
Обыск и допросы свиты королевы наваррской убедили Генриха III если не в ее невинности, то, по крайней мере, в отсутствии всяких улик в ужасавших короля злоумышлениях. Арестованных выпустили из-под ареста, Маргарите позволили беспрепятственно продолжать свой путь в Гасконь к мужу, которого, однако же, не преминули известить обо всех этих скандалах. Король наваррский потребовал у Генриха III законного удовлетворения за обиды, причиненные королеве, высказав вместе с тем намерение окончательно развестись с ней (чтобы жениться на великолепной Коризанде). Испуганный Генрих III отвечал зятю, что все написанное о Маргарите – ложь и клевета, что его самого обманули… «Верю, – писал ему король наваррский, – но с женой все же разведусь!» Генрих III послал к нему посла Белльевра, вручившего королю наваррскому собственноручные заверения короля французского в невинности (?!!) Маргариты. От природы глупый, сын Екатерины Медичи в этих письмах дошел до идиотизма. Оправдывая свою сестру, он, между прочим, написал, что «мало ли что говорили о поведении покойной матери короля наваррского, Жанне д'Альбре, как ее порочили…».
– Благодарю покорно! – сказал Генрих Бурбон, смеясь и обращаясь к посланному. – Только этого и недоставало! В прежних письмах ваш государь называл меня рогоносцем, а теперь, в оправдание своей сестрицы, не обинуясь, величает меня сыном… – Тут король наваррский отпустил непечатное словцо.
Долго тянулись переговоры, письменные и устные; от дипломатии перешли к войне; король наваррский овладел Мон-де-Марсаном, и тогда дела уладились к обоюдному удовольствию. Все эти семейные драмы и комедии разыгрывались в то время, когда Коризанда, владея сердцем Генриха, нераздельно метила попасть в королевы, а он из короля преобразился в ее вечного раба, до гроба ей преданного. Позоря законную свою жену за огрехи, которым сам был причиной, Генрих нянчился со своим побочным сынком и, любезничая с его маменькой, проводил свободное время то в детской, то в будуаре. Бескорыстная Коризанда обеими руками держалась за своего возлюбленного, гордясь своим позором и письменным обещанием жениться, данным ей Генрихом в минуту любовного одурения. Эта госпожа, женщина практическая, приковала к себе короля прочной цепью, последним и несокрушимым звеном которой, по его обещанию, должно было быть обручальное кольцо, чего, однако же, к чести короны не случилось.
В январе 1584 года Генрих поехал за Маргаритой, во все время распрей мужа с братом остававшейся в Ажене, своем удельном городе. В Нераке, куда ее привез Генрих, бедную Маргариту ожидали те нравственные истязания, которым муж почему-то считал себя вправе подвергнуть ее за все ее тяжкие провинности. Пользуясь правом сильного или, пожалуй, силой правого, любовник Коризанды на каждом шагу осыпал жену колкостями и насмешками. Припомнил первые годы супружества, когда Маргарита не могла видеть его без омерзения, укорял ее за неуважение к его родне, перед которой она возносилась, колол ей глаза ее любовниками и побочным сыном, издевался над женой, а бедная Маргарита не имела даже духу зажать рот своему супругу – хоть бы грязными пеленками сыночка Кори-занды или воспоминанием о родинах «невинной» Фоссезы. Не довольствуясь старыми дрязгами, безжалостно выставленными теперь на позор, король наваррский, верный роли домашнего тирана, подыскивал новые сюжеты для домашних сцен. Он обвинил Маргариту в намерении опоить его ядом, на что покуда еще не была способна королева, хотя и дочь Екатерины Медичи. В оправдание Генриха нам скажут, пожалуй, что виноват не он, а варварский век, в котором он жил… Пустое! Были же в сердце этого человека чувства деликатности, нежности, проявлялись же в нем проблески идеализма, поэзии… в письмах к любовницам. Неужели на долю жены не нашлось у Генриха капли жалости, простого чувства человеческого?
Униженная, втоптанная в грязь, Маргарита не в силах была долго оставаться в ненавистном Нераке. Она возвратилась в Ажен, чтобы жить там совершенно независимо, и с этой минуты окончательно превратилась в падшую, потерянную женщину. Маргарита и сообщница ее в распутствах госпожа Дюра отчаянным поведением возбудили в жителях Ажена сильнейшее негодование, выразившееся открытым бунтом. Предводимые маршалом Матиньоном жители выгнали Маргариту из ее дворца, и она едва избегла народной ярости, ускакав верхом на одной лошади с Линьераком, своим любовником. Фрейлины ее и прислужницы по недостатку в экипажах бежали кто как мог: на крестьянских телегах, верхом, пешком, будто обращенный в бегство табор цыганский. Беглецы и беглянки остановились в крепости Карлa, на высотах овернских гор, где их приютил комендант Марсе; но и отсюда преследуемая королева наваррская принуждена была бежать в замок Ивуа, принадлежавший Екатерине Медичи, и на пути была арестована маркизом де Канилльяком; той же участи подвергся и Обиак, новый возлюбленный Маргариты, заменивший Линьерака. Последний, отобрав у нее все драгоценности, без зазрения совести прогнал от себя несчастную женщину.
Обиак познакомился с Маргаритой в бытность ее в Карлa, где покинутая Линьераком, без всяких средств, нищая, голодная, она за кусок хлеба отдалась простому повару. Обиак сам был обнищавшим дворянином, но Маргарита полюбила его, тронутая нежной внимательностью бедняги, доходившей до обожания. Он знал Маргариту в блестящую эпоху ее жизни, лет двенадцать тому назад, и еще тогда сказал одному из своих сослуживцев: «Что за красавица! За несколько часов, проведенных с нею, я не пожалею жизни и готов идти на виселицу». Разоренная, гонимая, Маргарита отдала свое сердце Обиаку, несмотря на то что он был немолод, рыж, с багровым носом и лицом, осыпанным крупными веснушками. Плодом этой связи был глухонемой ребенок, рожденный Маргаритой в крепости Карлa. Комендант Марсе, узнавший об этой интриге, был отравлен! Исполинскими шагами шла королева наваррская по торной дороге порока, на которую толкнули ее беспутства братьев, грубость и безжалостность мужа. Обиак поручил двоюродному брату своему, Рора, собрать войска в Гаскони, привести их в Карлa, где королева и фаворит ее думали запереться, как средневековые паладины в феодальном замке, но это не удалось им, и они вместо того попали в плен к маркизу Канилльяку, влюбленному в Маргариту. Обиак, по приказанию последнего, был повешен в Эгперте. При аресте Маргариты несчастного нашли зарытым ею в навозной куче; королева собственноручно его остригла, выбрила, переодела. Приговоренный к позорной смерти, Обиак до последней минуты тосковал не о жизни, но о своей возлюбленной. Покуда роковая петля не задавила его, он, не выпуская из рук, осыпал слезами и поцелуями синюю бархатную муфту, подаренную ему
Маргаритой… Не менее его несчастная супруга Генриха IV отдалась маркизу де Канилльяку. Женщина эта тогда уже утратила чувство стыда и достоинства человеческого…
Замок Юссон, назначенный местом пребывания Маргариты, вскоре превратился в притон обоего пола отверженцев, в грязную трущобу, похожую на разбойничью берлогу. Выдавая Маргариту за короля наваррского, Карл IX сказал: «Пойдет теперь моя Марго по рукам гугенотов всего моего королевства!» Другой ее брат, Генрих III, при известии о падении Маргариты отозвался и того лучше: «Пьянствовала с гасконцами, а теперь загуляла с овернскими табунщиками и медниками!»[46]
Пользуясь отъездом маркиза де Канилльяка в Сен-Сир, Маргарита приблизила к себе сына медника, некоего Помини, бывшего певчим в соборной церкви. Она пожаловала его в певчие собственной капеллы, потом в секретари и, наконец, в формальные фавориты. Ему было лет шестнадцать, Маргарите – далеко за тридцать; она обожала этого мальчика, любила его рядить, тешилась им, как куколкой, писала ему нежные стихотворения… В 1599 году брак ее был формально расторгнут; жила она после того шестнадцать лет (умерла 27 мая 1615 года), неизменно дурно ведя себя, меняя любовников, щеголяя нарядами, даже, увы! – льстя любовницам мужа, заискивая их милостей и раболепствуя перед второй его супругой – Марией Медичи. Историю Маргариты Валуа, королевы наваррской, можно назвать длинным свитком, начинающимся парчой, оканчивающимся нищенскими лохмотьями; благоухающей весной, постепенно перешедшей в печальную, грязную осень…
В какую плачевную карикатуру превратила безжалостная старость эту когда-то прелестнейшую из всех принцесс Европы. Умри она в молодых летах, и ее полуистлевший череп не мог бы возбудить в потомстве того отвращения, которое невольно рождается при взгляде на шестидесятилетнюю Маргариту, разрумяненную, разряженную, кокетничающую с мальчиками и поддерживающую в себе угасающие страсти… прозаической рюмочкой вина.
Мы забежали вперед в нашей истории и отвлеклись от другой героини, прекрасной Коризанды, биографический очерк которой пора наконец и закончить. Охлаждение к ней Генриха началось со времени смерти их ребенка. Угасли в сердце короля родительские чувства и затем не замедлили остыть чувства любовника. В письмах своих к Коризанде Генрих чаще и чаще начал заменять местоимение ты на вы. Вместо любезностей в письме он просил ее в 1589 году помочь ему отвлечь его сестру Екатерину от любви к графу Суассонскому и устроить ее брак с королем шотландским. Он без церемоний осуждал намерение сестры вступить в морганатический брак… Намек довольно грубый, разбивавший мечты Коризанды о выходе ее самой замуж за Генриха IV. Вместо желанной помощи Коризанда стала помогать влюбленным. По ее наущению Екатерина дала письменное обещание выйти за графа Суассонского и вышла бы за него, если бы министр Пальма Кайе не расстроил этой интриги. Точно таким же документом связанный с Коризандой, ему наконец опротивевшей, Генрих IV просил своего верного Сюлли добыть у фаворитки этот позорный документ, то есть не свою подписку, данную Коризанде, а письменное обязательство сестры своей, данное ею графу Суассонскому. Ловкий Сюлли добыл оба документа. Этим подвигом он спас короля от больших неприятностей, а сестру его, напротив, втолкнул в омут всевозможных огорчений вследствие насильственной ее выдачи за герцога де Бар в 1599 году. Освобожденный «раб» вздохнул свободнее и счел себя вправе (в марте 1591 года) завершить переписку с прекрасной Коризандой письменным выговором за ее умыслы поссорить его величество с сестрой. «Не ожидал я этого от вас, – писал он Коризанде, – а потому и вынужден сказать вам, что я никогда не прощу тем, которые вздумают ссорить меня с моей сестрой»…
Оставленная фаворитка (и в молодые годы не имевшая иной привлекательности, кроме полноты, приличной кормилице) под старость пуще разжирела и стала красна лицом, украшенным тройным подбородком. Еще историческая карикатура: душистый персик, переродившийся в пудовую тыкву. Коризанда умерла в 1620 или 1624 году, забытая и светом, и его злословием.
Года за два до своего разрыва с Коризандой Генрих IV, несмотря на свои уверения в преданности до гроба, начал изменять возлюбленной при первом удобном случае. В 1587 году у него были интрижки с какой-то Мартиной, потом в Ла-Рошели с Эсфирью Имбер. Покидая Коризанду, король стал приискивать на ее место новую кандидатку, и выбор его пал на Антуанетту де Пон, молодую вдову убитого в Варфоломеевскую ночь маркиза де Гершвилля. После двух-трех встреч с этой величавой красавицей, державшей себя недоступно, чистой и холодной как лед, Генрих отважился на лестное предложение ей своего изношенного сердца.
– Я слишком ничтожна, чтобы быть вашей женой, – отвечала красавица, – но слишком хорошей фамилии, чтобы быть вашей любовницей!
Логика неотразимая, и победитель сердец со стыдом отступил. Волей или неволей именно в это время ему пришлось осаждать Париж и многие города, подобно столице королевства не желавшие признать над собой власть короля-кальвиниста.[47] Ужасы войны, голод и эпидемии в Париже не только не охлаждали в короле его любовного пыла, но как будто пуще его разжигали. Во время рекогносцировок в окрестностях столицы король останавливался в женских монастырях, превращавшихся тогда по его милости в капища Киприды. Монахиня в Лоншане, Екатерина из Вердена и Мария де Бовине, аббатиса Монмартра, вписали свои имена в соблазнительную хронику Генриха IV. После того несколько времени король покровительствовал Марии Бабу де ла Бурдезьер, родственнице дворянского дома д'Эстре, доводившейся двоюродной сестрой знаменитой Габриэли.
14 февраля 1559 года Антоний д'Эстре – губернатор-сенешаль и первый барон Болоннэ, виконт Суассон и Берси, маркиз Кевр, губернатор Фера, Парижа, Иль-де-Франса, впоследствии генерал-фельдцейхмейстер – все эти титулы и чины бросил в грязь, сочетаясь браком с некоей Франциской Бабу де ла Бурде-зьер, хвалившейся, как подвигами, тем, что, когда она была в девицах, она пользовалась или, вернее, ее ласками пользовались: папа Климент VII в Ницце, Карл V в Париже и Франциск I в Фонтенбло. От мужа у Франциски было шесть дочерей и один сын, которых злые языки называли «семью смертными грехами». Габриэль, самая младшая, родилась в 1571 году. Зная по собственному опыту выгоды торговли живым товаром, мадам Бабу без околичностей занялась продажей своих дочерей именитым и богатым покупателям. Старшую дочь, Диану, приобрел герцог д'Эпернон, и при его содействии шестнадцатилетнюю Габриэль, стройную голубоглазую блондинку, представили королю Генриху III, за что он послал ее маменьке шесть тысяч экю, из которых две тысячи утаил его посланный Монтиньи, на что король, весьма основательно, изволил разгневаться.
Шеститысячная покупка вскоре, однако же, ему прискучила. «Бела и худощава, – отозвался о ней Генрих III, – точно моя жена!» Тогда Габриэль перешла к кардиналу Гизу; от него к герцогу де Лонгвиллю; от Лонгвилля к герцогу Белльгарду, а уже от Белльгарда – к Генриху IV, бывшему, в этом случае, пятым. Такова была Габриэль, которую Вольтер в своей «Генриаде» называет воплощенной непорочностью. Верьте после этого поэтам вообще, а Вольтеру в особенности: Габриэль д'Эстре, по его словам, – невинность, а Орлеанская девственница – потерянная женщина…
В начале 1591 года в Манте Генрих IV, очарованный рассказами герцога Белльгарда о Габриэли, пожелал увидеть это сокровище. Пришел, увидел и… не победил, но сам признал себя побежденным. Того же Белльгарда король попросил быть ему сватом, что возмутило и его, и бедную Габриэль. Последняя отвечала Генриху, что, кроме Белльгарда, никому не намерена принадлежать, и с этим словом из Манта уехала в Пикардию, в замок Кевр; Генрих – за ней. Надобно заметить, что все эти проделки происходили в военное время, когда кипела междоусобица; лес, окружавший Кевр, был наполнен неприятельскими пикетами, и Генрих из любовного плена легко мог попасть в другой, немножко неприятнее. Тем не менее с пятью товарищами король погнался за Габриэлью; в трех милях от замка сошел с коня, переоделся в крестьянское платье и с охапкой соломы на голове явился в убежище Габриэли. Эта солома на время поглотила лавры Генриха, а с ним обе его короны – французскую и наваррскую. Мнимый крестьянин явился к Габриэли, но жестокая не умела достойно оценить самоотверженность короля: она расхохоталась, сказала ему, что «он до того гадок, что она видеть его не может!», и вышла из комнаты. Оставшись с ее сестрою, госпожой Виллар, Генрих выслушал извинения, оправдания и со стыдом возвратился в Мант, где о нем сильно беспокоились Морнэ и верный Сюлли. Потерпев неудачу как простой смертный, Генрих решил прибегнуть к своей королевской власти и вытребовал в Мант маркиза д'Эстре со всем его семейством. Этот маневр не привел ни к чему, так как сам король, боровшийся с лигёрами, часто вынужден был переезжать с места на место; Габриэль между тем удостаивала своей благосклонностью попеременно то Белльгарда, то Лонгвилля. Отец красавицы решился ее пристроить, выдав замуж за хорошего человека. Таковым оказался пожилой вдовец Николай д'Амерваль, сеньор де Лианкур, предложивший Габриэли руку и сердце. Она хотела отказать, но отец дал за нее согласие, а отца поддержал король, так как замужество Габриэли давало Генриху возможность действовать решительнее. Габриэль жаловалась, роптала; милый король утешал ее тем, что супруг ее будет таковым только по имени. Епископ Эврё (будущий кардинал дю Перрон) воспел это сватовство Габриэли в трогательной эпиталаме, в которой от имени невесты укоряет жестокого Генриха за выдачу ее за немилого, тогда как она любит его, короля… А она о короле и не думала! Габриэль вышла за Лианкура.
Верный своему обещанию, Генрих разлучил супругов, устраняя всякое сближение между ними под благовидными предлогами… Давая Лианкуру поручения по службе, король немедленно являлся к его супруге, которая теперь стала ласковее со своим державным обожателем. Ложное положение Лианкура разрешилось наконец разводом его с Габриэлью «по самым уважительным причинам»… Другими словами, за весьма почтенную сумму Лианкур возвел на себя напраслину в негодности к брачной жизни. Габриэль, юная вдовица при живом муже, осталась под надзором своей тетки, госпожи де Сурди. В доказательство истины, что добродетель без награды тоже никогда не остается, король дал Лианкуру место губернатора в Шартре… Все вошло в приличный порядок, и желанный успех вознаградил Генриха за первые неудачи. Любовь Габриэли к королю не мешала ей, впрочем, по старой памяти любить и Белльгарда. Не раз король заставал свою фаворитку наедине с ним; Белльгард убегал, король устраивал сцену Габриэли, оканчивавшуюся всегда его падением к ее ногам и мировой. О счастливом соперничестве Белльгарда с королем существует множество рассказов в мемуарах того времени; все эти рассказы более или менее невероятны. Габриэль, достойная дочь мадам Бабу, могла дразнить ревнивого Генриха, могла при удобном случае его обманывать, но едва ли когда явно выказывала предпочтение герцогу перед королем, что с ее стороны было бы совсем нерасчетливо. Не менее сомнительно сказание, будто Генрих не один раз поручал убить Белльгарда: король мог быть ветрен, непостоянен, но лютости в нем не было. Король избавил себя от соперника, женив его на Анне де Бейль и удалив от двора. С этого времени Габриэль, в 1594 году подарившая королю сына Цезаря, оставалась ему верной.
Женщина пустая, охотница до нарядов, расточительница, ума недалекого, но любившая поумничать и давать советы, Габриэль, обожаемая королем, была нелюбима двором и народом. Сюлли в своих записках называет ее не иначе как рыжачкой (La Rousse), кальвинисты не могли ей простить ее настойчивости в том, чтобы король перешел в католицизм. Этот позорный подвиг совершен был в Сен-Дени 25 июля 1593 года, и, уведомляя о нем свою Габриэль, король называет переход в католицизм опасным скачком (saut perilleux). Во время вторичной осады Парижа Габриэль была при короле безотлучно, занимая небольшой павильон на высотах Монмартра. 22 марта 1594 года, в семь часов утра, произошло торжественное вступление короля в его столицу; в июне того же года в замке Куси, близ Лиона, Габриэль родила сына Цезаря. Это радостное для короля событие было отмечено фактом, который мог бы бросить очень невыгодную тень на личность великого короля, если бы, очевидно, не был вымышлен. Лейб-медик его величества д'Алибур, или Алибу (Aliboust), пользовавший Габриэль в первые месяцы беременности, был после ее разрешения отравлен ядом. В этом преступлении современники обвиняли короля, совершено же оно было будто бы вследствие того, что Алибур сообщил королю о несомненных признаках беременности тогда, когда Генрих еще не был в коротких отношениях с Габриэлью. Грубый анахронизм избавляет нас от труда оправдывать Генриха IV в небывалом злодействе. Мог ли король отрицать законность (в физическом смысле) происхождения своего сына, когда он сожительствовал с Габриэлью с 1592 года? Л'Этуаль в своем дневнике говорит, будто лейб-медик д'Алибур был отравлен Габриэлью (24 июля 1594 г.) за то, что донес королю, что рожденный ею ребенок – плод ее связи с Белльгардом… Опять вздор! Никакой доктор в мире не может с точностью определить, кто именно отец новорожденного из двух счастливых обожателей матери. В первые годы царствования Генриха IV при борьбе двух религиозных партий враги, не довольствуясь оружием вещественным и тайными убийствами, пользовались весьма успешно и клеветой. Лигёры, бросая грязью в Генриха и его фаворитку, легко могли сплести небылицу на обоих по поводу смерти д'Алибура.
Какая, однако, ужасная эпоха! Войны и любовные похождения, нежные песенки и свист пуль, пиры с отравленными кубками, благоухающие будуары с трупами зарезанных и удавленников…
В ответ на дурные слухи о смерти д'Алибура Генрих IV торжественно въехал в Париж 15 сентября 1594 года вместе с Габриэлью; узаконил новорожденного Цезаря, дал фаворитке маркизат Монсо и поспешил ускорением своего развода с Маргаритой Валуа, чтобы жениться на Габриэли д'Эстре. 3 февраля 1595 года парижский парламент занес в свои реестры королевский манифест, из которого любопытнейший отрывок представляем вниманию читателей:
«…Почему желанием нашим было иметь потомков для наследия власти королевской. Так как Господу доныне еще не угодно было даровать нам детей от законного брака вследствие десятилетней разлуки нашей с супругой, мы возымели желание в ожидании законных наследников обрести иных, в семьях достойных и почтенных… Посему, сведав о высоких достоинствах и совершенствах ума и тела, соединенных в особе нашей милейшей и возлюбленнейшей госпожи Габриэли д'Эстре, мы в течение нескольких лет (?) искали ее расположения, как наиболее соответствующего нашим видам. Сближение наше с этой особой казалось нам тем возможнее и для совести нашей необременительнее, что брак ее с господином де Лианкуром признан расторгнутым и уничтоженным на основании существующих узаконений. Вследствие этого упомянутая дама после долгих наших домогательств, равно и повинуясь власти нашей, согласилась на предложения наши, и Богу угодно было даровать нам от нее сына, именуемого поднесь Цезарем с титулом господина (Monsieur). Кроме естественных чувств милосердия и любви родительской, как к родному детищу, мы при виде щедрых даров Бога и природы, которыми оделен новорожденный, питаем надежду, что дары эти с годами в нем разовьются, приумножатся и что от этой отрасли будут обильные плоды… Решаем… и т. д.»
…Решаем, доскажем мы неофициальным языком рассказчика, чтобы Цезарь был признан принцем крови и по неимению иного – наследником французского престола. Возведение Габриэли в звание маркизы Монсо последовало в марте того же 1595 года с придачею замка в двух милях от Мо. Поэты воспевали красоту и высокие добродетели фаворитки… Как быть! Поэзия всех веков и народов не чуждалась приемных, даже прихожих сильных мира сего, при удобном случае и она не прочь добыть «кусочек сыру» тем же самым путем, как Лисица в басне. Поэт Паршер (Parcheres) за свой сонет на глазки Габриэли удостоился от монарших щедрот пенсии в 1400 ливров. Да что поэты!.. Историограф Генриха IV Пьер Маттье, хвалившийся перед королем прямизной и правдолюбием, не хуже льстивого поэта превозносил фаворитку до небес. «Король любил в ней не одни только наслаждения, – говорит Маттье. – Она была ему полезна своим противодействием многим интригам, так часто возникавшим при дворе. Король сообщал ей обо всех доводимых до его сведения распрях и каверзах, открывал ей душевные свои раны, и она всегда умела утишить его страдания, устраняя причину горя, примиряя ссорившихся. Весь двор сознавал, что фаворитизм Габриэли был подпорою для каждого, а не бременем, и многие радовались ее счастию. Сестра Генриха Екатерина и дочь Коли-ньи, вдова Вильгельма Оранского, удостоивали фаворитку самой нежной приязнью. Любовь к ней короля возрастала с каждым днем, выражаясь щедрыми подарками поместьев и титулов; последние исправляли должность ступенек, по которым Генрих IV намеревался возвести свою Габриэль на королевский трон. Как бы в подтверждение обещания жениться на ней король со своей руки отдал Габриэли государственный перстень, надетый им в числе прочих регалий во время обряда коронования. Этим перстнем он символически обручался с Францией, а после того – с Габриэлью. Она вместе с королем принимала депутации от покоренных городов, ключи и золотые блюда – дары покорности королю передавались им фаворитке из рук в руки. Принимал ли Генрих иностранных послов, совещался ли он с министром о государственных делах, Габриэль безотлучно была при нем, „как тень иль верная жена“. К сожалению, только именно женою-то и не могла быть фаворитка до тех пор, покуда не вышло разрешение папы о расторжении брака короля с Маргаритой Наваррс-кой; когда же оно вышло, Габриэль сошла в могилу.
Не довольствуясь коленопреклоненным двором перед своей возлюбленной, Генрих сумел – лаской и немножко лестью – заставить преклониться перед ней своих ворчунов д'Обинье и Сюлли. Первого он призвал к себе во дворец вскоре после покушения Жана Шателя (27 ноября 1594 г.). Поцеловав гостя, король повел его на половину Габриэли и отрекомендовал их друг другу, стараясь сблизить их интимной беседой. Часа два длился у них дружеский разговор, во время которого д'Обинье очаровал фаворитку своим умом, а она его – миловидностью и любезностью. Здесь не можем не привести достопамятных пророческих слов д'Обинье в ответ королю на его рассказ о покушении Шателя. Последний, девятнадцатилетний семинарист, ученик иезуитов, пробрался на половину Габриэли в то самое время, когда там был король, только что возвратившийся из Пикардии. В ту самую минуту, когда король наклонился, чтобы поднять склонивших перед ним колени Раньи и Монтиньи, семинарист ударил его ножом, думая попасть в горло, но, попав в нижнюю губу, рассек ее и вышиб зуб.
– Ты что же дерешься?! – сердито вскрикнул Генрих, взглянув на стоящую близ него женщину и не понимая, откуда нанесен удар.
Злодея схватили тотчас же, и через два дня он был казнен. Рана короля оказалась неопасной; все лечение ограничилось небольшой лигатурой и куском пластыря.[48] Выслушав рассказ
Генриха и осмотрев рану, прямодушный д'Обинье, верный правилу (опасному при дворе) говорить то, что думаешь, брякнул королю, намекая на его отступничество от кальвинизма:
– Вы, государь, отреклись от Бога покуда еще только на словах, и за это Он покарал вас, допустив злодея рассечь вам губу. Отречетесь сердцем – будете поражены в сердце!
– Хорошо, но неуместно сказано! – воскликнула Габриэль.
– Согласен, – отвечал д'Обинье, – слова эти неуместны, если не будут приняты к сведению.
Сближение д'Обинье с фавориткой было упрочено взятием первым на свое попечение и воспитание ее сына, Цезаря. Пришлось оказывать этому ребенку родительские ласки именно тому человеку, который постоянно журил короля за его слабость к прекрасному полу. Строгий д'Обинье, как видно, твердо верил, что Габриэль будет законной женой Генриха IV и королевой французской.
Женой, как мы уже говорили, она могла быть только в случае формального развода Генриха с Маргаритой; чтобы быть королевой, ей еще следовало дождаться того дня, в который Генрих окончательно будет сам королем Франции, не по титулу, то есть на словах, а на деле. Именно в эпоху его связи с Габриэлью он область за областью приводил себе к повиновению, один город подносил ему ключи и отворял ворота, другой приветствовал боевыми зарядами; в одной области кричали: «Ура Генриху!», в другой: «Да здравствует Лига или Карл X!» Злоумышления, заговоры возникали на каждом шагу; Испания грозила отнять у Генриха отцовское его наследие, королевство наваррское. Настоящим королем Франции и Наварры родоначальник Бурбонов смог назваться только в 1600 году, когда Габриэли уже не было на свете.
Подобно Юпитеру, Генрих IV золотым дождем осыпал свою Данаю, оделяя своими щедротами даже тех, кому покровительствовала его возлюбленная. В 1594 году ей было подарено имение Вандейль, в 1595-м – в Креси, в 1596-м – Монсо и Жуань (Joignes), в 1597 году король купил для нее герцогство Бофор, вместе с тем пожаловав ее из маркизы Монсо в герцогини. Кроме того, Габриэлью приобретены были: поместья Жикур и Лузикур от Гизов; Монтретон и Сен-Жан; герцогство д'Этамп от Маргариты Наваррской. Тетушке своей, госпоже де Сурди, фаворитка выхлопотала аренду в 50 тысяч ливров годового дохода. В дневнике л'Этуаля и многих мемуарах того времени подробно описаны ее наряды и драгоценности, которым могла позавидовать не одна настоящая королева. Как видно, не без основания придворные обвиняли фаворитку в корыстолюбии. Поэт-лизоблюд из лакейской фаворитки Вильгельм дю Сабль, думая уязвить недовольных, влагая в их уста следующий совет, будто бы даваемый ими Габриэли, только охарактеризовал ее систему наживы:
Подумай о себе: фортуна своенравна; Теперь ее щедрот из рук не упускай, На черный день богатства припасай, Дела свои вообще обделывай исправно — И верных слуг себе любовью привлекай![49]Просим прощения за дубоватый перевод не менее дубоватого подлинника. Не одних льстецов вдохновляла Габриэль; очарованный ее прелестями, Генрих IV собственной персоной ударился в поэзию и кропал в ее честь стишки, из которых одна песенка удостоилась даже сделаться народной… В исходе прошедшего века, по крайней мере, ее распевали во Франции:
Мне сердце грусть терзает, Красавица моя! Ах, слава призывает на ратные поля! На это расставанье Могу ли не роптать, Когда за миг свиданья Готов я жизнь отдать![50]Смысл немножко прихрамывает, но именно в этом-то и достоинство этих нежных стишков: где истинная любовь, там логика всегда в отсутствии. Генрих, человек экзальтированный, восторгался до сумасбродства или (что одно и то же) до стихоплетства, любя: Коризанду, Габриэль, Мартину, Бретолину, Ла Гланде, мамзель Фаннюш и т. д. Подобных муз у него было (вместо узаконенных девяти) ровно семью восемь. Изобретательный на эпитеты своим возлюбленным, он назвал Диану де Грамон прекрасной Коризандой; с именем Габриэли д'Эстре неразлучно было прилагательное: прелестная или очаровательная (charmante). Прозвища эти можно назвать тоже своего рода титулами.
Детей у Габриэли от короля было трое: сыновья Цезарь, Александр и дочь Екатерина-Генриэтта. Все трое были узаконены и признаны с присвоением им достоинства детей Франции.[51] Таким образом, у Генриха IV, кроме запасной супруги, не было недостатка и в наследниках. Исчисляя щедроты короля фаворитке, распространявшиеся даже на ее родных, мы позабыли сказать, что отец ее был пожалован в генерал-фельдцейхмейстеры, к крайнему неудовольствию Сюлли, домогавшегося этой важной должности. Эта несправедливость была одной из причин непримиримой ненависти, которую этот великий муж питал к фаворитке, ненависти, с трудом скрываемой под маской уважения.
В 1598 году нескончаемое дело о разводе приблизилось к развязке. Генрих IV, только что завоевавший Бретань, находился тогда в Рейне, проводя время в забавах и на охоте. Раз, после обеда у верховного судьи, король, взяв Сюлли под руку, увел его в сад и начал весьма серьезный разговор о необходимости иметь законную жену и наследников, причем выразил желание выбрать себе первую преимущественно из среды французской знати. Сюлли отвечал советом последовать примеру Артаксеркса при выборе им Эсфири, то есть созвать красавиц со всех концов королевства и выбрать себе из них в супруги достойнейшую. Генрих очень хорошо понимал, что Сюлли заранее угадывает, о чем он хочет вести речь, но нарочно прикидывается простаком, выжидая решительного слова от самого короля.
– О тонкая, лукавая бестия! – воскликнул тот наконец. – Ведь вы очень хорошо знаете, о ком я думаю, что вам лучше, нежели кому другому, известно все. Вы желаете, чтобы я назвал эту особу? Я назову… Что бы вы сказали мне, если бы я именно на ней вздумал жениться?
– Я сказал бы вашему величеству, – отвечал Сюлли, – что, кроме всеобщего неудовольствия, стыда и раскаяния, которые вы этим навлечете на себя, едва ли вам будет возможно выпутаться из затруднений с детьми, прижитыми вне брака, детьми, извините, весьма двусмысленного происхождения. За дочь вашу не поручусь, но что Цезарь рожден ею во время ее связи с Белль-гардом – это почти не подлежит сомнению. Дитя, которое вы теперь ожидаете, будет, во всяком случае, рождено вне брака… Подумайте, в какие отношения к этим детям будут поставлены те, которые будут у вас после законного брака?…
– Все уладится к лучшему, – торопливо перебил Генрих. – Даю вам слово не говорить ей о нашей беседе, чтобы не поссорить вас с ней. Она вас любит, уважает, но вместе с тем сомневается в вашем расположении и говорит всегда, что для вас королевство и моя слава всегда дороже личного моего удовольствия, даже – меня самого…
В апреле того же 1598 года Габриэль родила сына Александра. Пышный церемониал при его крещении, приличный разве только при крещении законных детей королевских, заставил Сюлли вступить в открытую борьбу с фавориткой. Сократив расходы и изменив некоторые параграфы программы, он сердито сказал распорядителям: «Пусть будет по-моему. Никаких детей Франции знать не хочу!» Назначенные для участия в церемонии чиновники решили идти с жалобой к фаворитке, но Сюлли предупредил их, отправясь к королю. Генрих раскричался, вышел из себя и послал Сюлли к Габриэли для объяснений.
Фаворитка приняла его с самым оскорбительным высокомерием; при первой же колкости с ее стороны Сюлли возвратился к королю. Генрих, которому пришлось рассудить любовницу и друга, душой не покривил, приняв сторону правого. Вместе с обиженным, даже в его карете, король приехал к фаворитке. Вместо обычной ласки и поцелуя, взяв за руку ее и Сюлли, Генрих прочитал ей нравоучение.
– Это вы, сударыня, что же изволите делать? – сказал он сурово. – Досаждаете, делаете мне неприятности, чтобы терпение мое испытывать, что ли? Кто же это вам дает такие добрые советы? Клянусь Богом, если вы будете продолжать таким образом, так очень и очень отдалитесь от исполнения ваших желаний, потому что я не намерен из-за глупых фантазий, которыми я знаю какие люди набивают вам голову, терять лучшего и честнейшего из моих слуг! Знайте, что я любил вас преимущественно за кротость, любезность и уступчивость, а не за упрямство или сварливость… Если вы вдруг так меняетесь к худшему, то я вправе подумать, что до сих пор все это было одно притворство, и вы сделаетесь самой обыкновенной женщиной, если я возвышу вас, как вы этого желаете!..
Фаворитка залилась слезами, стала целовать руки королю, потом прибегла к обычному маневру своенравных, капризных женщин, когда они не могут поставить на своем, то есть в истерике начала метаться из стороны в сторону, бросилась на постель, призывая смерть и укоряя Генриха за то, что он предпочитает лакея, на которого все жалуются, любовнице, всеми любимой и уважаемой. Король смягчился, стал уговаривать Габриэль помириться с верным Сюлли, быть терпеливой, покорной… Не обошлось дело без уверений, с его стороны, в неизменной к ней любви и верности. Габриэль не унималась и продолжала ныть и стонать; тогда, окончательно рассерженный, Генрих объявил ей, что если бы ему пришлось пожертвовать одним другому, то он охотно отдаст десять таких любовниц, как Габриэль за одного верного слугу, каков Сюлли. Фаворитка поняла, что в капризах своих зашла слишком далеко, и пала духом. В сердце ее закралось сомнение в чувствах короля и почти отчаяние в осуществлении ее заветной надежды попасть в королевы. Дочь своего времени, женщина ограниченная и суеверная, Габриэль стала совещаться с знахарями, гадателями, астрологами. Ответы их, таинственные, двусмысленные, уклончивые, только пуще нагоняли ужас на малодушную.[52] Она искала успокоения в религии, но и церковь, прибежище и утешение всех скорбящих, устами проповедников, служителей своих, осыпала фаворитку угрозами и упреками. Так, в воскресенье 27 декабря 1598 года, в день праздника св. евангелиста Хуана (по католическим святцам), священник церкви Сен-Лё и Сен-Жилля в проповеди своей сказал, что в нынешнее время во Франции праведников, подобных Иоанну Крестителю, мало, зато Иродов великое множество. Другой проповедник, Шаваньяк, говоря проповедь на тот же текст об убиении Иоанна Крестителя по просьбе Ироди-ады, заметил, что «при дворе каждого царя самое опасное чудовище – блудница, которая особенно много делает зла, когда ее подстрекают другие». В дочери Иродиады Габриэль угадывала себя, в подстрекателях – свою милую родню. Мучимая страхом и предчувствиями, фаворитка целые дни и ночи проводила в слезах. Чувство любви к ней заменялось в сердце Генриха чувствами жалости. Данное ей слово он решил сдержать по получении формального отречения от Маргариты и благословения от его святейшества папы. Первая поступала с непростительной бессовестностью: она медлила отречением от прав супруги, обнадеживая Габриэль льстивыми письмами и через нее вымогая у Генриха щедрые взятки… Папа Климент VIII медлил. По городу и при дворе ходили о короле и фаворитке самые оскорбительные слухи, злоязычники не скупились и на пасквили.
Около 20 января 1599 года Генрих отправил в Рим письмо к его святейшеству, умоляя поспешить с разрешением развестись с Маргаритой. За это Генрих IV обещал быть вернейшим рабом папы и ревностным блюстителем интересов церкви. Посланники его в Риме, Силлери и д'Осса, задаривали кардиналов, торопили, грозили. История Генриха VIII английского, ради женщины отложившегося от римско-католической церкви, у всех еще была на памяти. Когда до слуха Климента VIII дошли слова посланников, что король в случае дальнейшей проволочки обойдется и без папского разрешения, папа сослался на приближавшийся Великий пост, в продолжение которого он усердно молился Богу вразумить его или помочь ему… В первых же числах апреля папа объявил приближенным, что Бог, вняв его молитвам, помог ему. Действительно, вскоре пришло известие в Рим о скоропостижной смерти Габриэли д'Эстре, герцогини Бофор: яд сделал свое дело, и гнусное убийство было богохульно названо проявлением Божественного промысла! В этом факте иезуитизм весь, как в зеркале…
Вот рассказы современников о таинственной смерти Габриэли. Приближался Светлый праздник, бывший в 1599 году 11 апреля. Герцогиня Бофор (Габриэль), будучи на четвертом месяце беременности и чувствуя себя нездоровой, прибыла вместе с королем в Фонтенбло на Вербной неделе. По настоянию духовника своего Рене Бенуа король на время Страстной недели решил отправить свою фаворитку в Париж, где она намеревалась говеть. Они распростились, оба заливаясь слезами, и по просьбе фаворитки Генрих проводил ее до Мо, откуда она отправилась водой. «Долго они плакали, – рассказывает очевидец Сюлли, – а разъехавшись в разные стороны, часто оглядывались и перекликались. При этом последнем расставании Габриэль поручала королю детей, весь свой дом, прислугу. Растроганного короля едва высвободили из объятий фаворитки маршал Орнано, Рокелор и Фронтенак». Все это происходило в понедельник Страстной недели, 5 апреля 1599 года. Прибыв в Париж, фаворитка остановилась в доме королевского банкира Цзаметти, бывшего башмачника Генриха III, ныне страшного богача, не чуждого политическим интригам, друга и приятеля Фуке Ла Варенна, подобно ему, из ничтожества (Ла Варенн был поваром у сестры Генриха) достигшего должности королевского секретаря. Цзаметти и Ла Варенн оба были учениками иезуитов и орудиями ватиканского кабинета во Франции. В дом Цзаметти, «вертеп роскоши, распутства и злодейства», вступила Габриэль в сопровождении Ла Варенна одна, без свиты, без друзей… В этом роскошном жилище, с первого же взгляда показавшемся ей богато убранным гробом, фаворитка должна была готовиться к таинству причащения, размышлять о суете мирской и своих грехах, прислушиваясь к заунывному гулу церковных колоколов и шуму вечно живого города. Мы рассказывали об Анне Болейн в лондонском Тауэре: летописи сохранили нам подробности о ее предсмертной истоме и ужасе перед казнью; история записала даже последние ее слова… Но, сравнивая Анну с Габриэлью, нельзя не сознаться, что положение последней было ужаснее и ее безмолвие, одиночество, безотчетный страх или, вернее, предчувствие были несравненно мучительнее.
Первым посетителем фаворитки был Сюлли, явный ее недоброжелатель; но и тому она была рада и, преодолевая отвращение, осыпала его любезностями, уверениями в дружбе, искреннем расположении… Лицемерила она или по долгу христианки перед исповедью мирилась с врагом? Ответ на этот таинственный вопрос фаворитка унесла с собой в близкую к ней тогда могилу. Уехавшего Сюлли заменила жена его, женщина сухая, чопорная, надменная. К ней Габриэль была еще ласковее и при прощании с ней выразила неосторожное желание видеть ее при отходе ко сну и при пробуждении (ses levers et ses couchers), что могла сказать только настоящая королева.
Жена Сюлли возвратилась к нему в совершенной ярости от обиды, и оба отправились в свое поместье Рони. Утешая жену, Сюлли сказал многознаменательные слова: «Дай срок, друг мой: туго натянутая струна скоро лопается…»
После семейства Сюлли навестила полубольную Габриэль веселая, вертлявая, вечно живая принцесса Конти, если не любившая фаворитку, то, по крайней мере, умевшая ей ловко льстить, подражавшая ей в нарядах, в угоду ей носившая постоянно любимый Габриэлью зеленый цвет. Болтовня принцессы несколько рассеяла тоску фаворитки.
В среду, 7 апреля, Габриэль исповедовалась в церкви Св. Павла. Видимо, довольная исполнением священного долга, радуясь приближению праздника, Габриэль обедала с аппетитом, и тем большим, что ее амфитрион Цзаметти потчевал ее любимейшими блюдами и лакомствами… (В это самое время, вероятно, папа Климент VIII молился в своей ватиканской часовне.) После обеда Габриэль в портшезе, охраняемом капитаном Мон-базоном, сопровождаемая дамами, отправилась в соседнюю домовую церковь к вечерне. Бывшая при ней мадемуазель де Гиз во время богослужения показывала ей самые радостные письма из Рима о скором разрешении королю сочетаться браком со своей возлюбленной, уверяя ее, что Генрих завтра же отправит в Рим преданного Габриэли Форте за давно желанным разрешением. Мадемуазель де Гиз сопровождала будущую королеву домой из церкви, откуда Габриэль вышла до окончания службы, жалуясь на головокружение и темноту в глазах. Дома фаворитка прогулялась по саду, потом скушала апельсин или немного салату и тогда-то, говоря, что ей хуже, упала, будто убитая громом. Ее перенесли в спальню, раздели, и она очнулась, но была как будто в отупении… Новые припадки не замедлили себя ждать: с фавориткой сделались жестокие судороги, во время которых с воплями, раздиравшими душу, она часто хваталась за воспаленную голову. Прошел кризис, и Габриэль настойчиво требовала у Ла Варенна, чтобы из «ненавистного» дома Цзаметти, «где бы ей не следовало останавливаться», ее немедленно перенесли к тетке ее, в монастырь Сен-Жермен, что и было исполнено.
Здесь слабой, дрожащей рукой она написала письмо к королю, заклиная его позволить ей приехать к нему не теряя ни минуты. Письмо это было отправлено в Фонтенбло с дворянином Пюиперу (Puypeyroux), преданным Габриэли. Чтобы сократить время ожидания, несчастная женщина стала было читать письма Генриха, с которыми никогда не разлучалась, однако же не могла из-за нового припадка, продолжавшегося до самой смерти. Предатель Ла Варенн написал королю два письма, в первом уведомляя его о болезни, а во втором уже о смерти Габриэли, всячески отговаривая его ездить к ней… Злодей боялся, чтобы его жертва не высказала королю тайны ее отравления. Но Пюиперу прибыл вовремя, и Генрих, прочитав письмо, в ту же минуту решил ехать к умирающей. Письмо Ла Варенна застало его в Эссонне, откуда по настоянию вельмож убитый, растерявшийся король поехал обратно в Фонтенбло. В аббатстве Соссэ, в Вилльжюифе, с Генрихом случился страшный нервный припадок, и он слег в пoстель…
Габриэль скончалась утром в субботу 10 апреля, несмотря на все старания доктора Ла Ривьера спасти ее. Бывшая при агонии придворная дама госпожа де Мартиг, приставая к умирающей с утешениями, громко читая отходную, ловко обирала с ее пальцев драгоценные перстни, нанизывая их на свои четки. Габриэль умирала на руках Ла Варенна, и, по словам очевидцев, страдания ее были невыносимые, а судороги сводили ей рот к затылку, голову же заворачивали к пяткам. По трупу выступили пятна, что, по словам суеверов, было очевидным доказательством… не отравления, а «наваждения диавольского». Ну разумеется! Тетка покойной, госпожа де Сурди, одела покойницу белым покровом и положила ее на парадный одр пунцового бархата с золотыми галунами. Похороны происходили в понедельник 12 апреля в церкви Св. Германа Оксеррского или, как говорит д'Этуаль, в Мо-бюиссоне. Вскрытие трупа ничего не дало, что неудивительно при невежестве тогдашних анатомов и искусстве токсикологов: итальянские яды XVI века едва ли могли быть уловимы аппаратом Марша или современным микроскопом.
Ровно через семь месяцев после смерти Габриэли Маргарита прислала Генриху IV формальное отречение от своих прав супружеских и притязаний на королевскую корону.
В отчаянии Генрих возвратился в Фонтенбло и, выбрав из среды придворных Рокелора, Белльгарда, Фервака, Кастельно и Бассомпьера, всех прочих послал в Париж для отдания покойной последнего долга. За верным Сюлли в Париж был послан нарочный курьер. Друг короля встретил посланного с нескромной радостью, угостил его на славу, а прибежав к жене, самодовольно потирая руки, сказал ей: «Хорошая новость, друг мой! Теперь ты уже не будешь присутствовать при туалeтах герцогини! – струна лопнула! Но, – прибавил он, – так как Бог ее прибрал, то и желаю ей всяких благ!..»
Прибыв к королю, верный Сюлли принялся утешать его, пустив в ход свое красноречие; хор придворных примкнул к нему, а Фервак имел даже смелость сказать Генриху IV, что смерть Габриэли чуть ли не милость Божия.
– Пожалуй, что и так! – невольно сорвалось с языка у доброго короля.
Впрочем, это не помешало ему наложить на себя траур: носить восемь дней одеяние черное и два с половиной месяца – фиолетовое. Парламент и иностранные посланники явились к королю с выражением участия к его душевной скорби; первый присовокупил к ним желание скорейшей женитьбы короля на принцессе королевского рода. Сестра Генриха IV, герцогиня де Бар, трогательным письмом уверяла его, что дети Габриэли заменят ей родных, а она заменит им мать. Благодаря сестру за участие, Генрих IV в своем письме отпустил фразу: «Иссох корень любви моей и не даст более ростка никогда». Это напоминает нам эпитафии с выражением желания скорого соединения, которыми неутешные вдовцы и вдовы украшают памятники жен и мужей, а сами вторично и третично женятся и замуж выходят.
В начале октября того же 1599 года Генрих IV уже был в связи c Генриэттой д'Антраг; в декабре сватался за Марию Медичи, в подарок которой послал драгоценности, дешево купленные у наследников Габриэли,[53] а через два года подарил супруге замок Монсо, принадлежавший той же фаворитке…
Займемся теперь вместе с Генрихом IV его новой любовью (по счету номер 35) Генриэттой д'Антраг, маркизой де Вернейль. Коризанда была здоровенной, толстой бабой, Габриэль д'Эстре – миловидной, грациозной женщиной, в Генриэтте король встретил демона в образе женщины… Очень приятная встреча.
Вскоре после смерти Габриэли Генрих IV покинул Фонтенбло, где для него было слишком много грустных воспоминаний и слишком мало развлечений. Намереваясь по совету людей государственных сочетаться законным браком с невестой, избранной в одном из владетельных домов Европы, король французский пожелал как следует распроститься с холостьбой, то есть нагуляться досыта и повеселиться вволю. Прибыв в Париж в конце лета 1599 года, окруженный толпой разгульной молодежи, Генрих предался необузданному веселью, проводя время в пирах, счастливо ухаживая за женщинами всякого разбора, ни к одной не привязываясь сердцем, еще болевшим при воспоминании о Габриэли. Бывали минуты, когда в разгаре пиршества король задумывался, морщил лоб и в бокал вина невольно ронял несколько слезинок, таким образом – буквально – топя горе в вине. Шутки окружающих, однако же, разгоняли облака печали, и слезы быстро сменялись самым беззаботным смехом… Так мало-помалу сердечная рана Генриха стала заживать, он начал задумываться уже не о покойнице, но о новом предмете прочной привязанности, в которой независимо от наслаждений чувственных он мог бы найти отраду душевную. Ла Варенн, поставщик Генриха по любовной части или, вернее, министр сердечных дел короля, шепнул ему о Генриэтте д'Антраг, дочери Франциска де Бальзака, губернатора Орлеанского, и бывшей фаворитки Карла IX Марии Туше, с которой Бальзак с 1578 года состоял в законном браке. Генриэтта родилась в 1579-м, и ей во время знакомства с Генрихом IV было двадцать лет; собой она, разумеется, была красавица, хотя в чертах лица, во взгляде, в улыбке и проглядывало что-то коварное, кошачье. Кроме Генриэтты у Марии Туше была еще дочь Мария (от мужа) и сын Карл (от Карла IX), родившийся 28 апреля 1573 года. Несмотря на прозвище незаконнорожденного, или пригулка Валуа (batard de Valois), Карл был великим приором Франции, впоследствии графом Овернским и Лораге, графом Пуатье и, наконец, герцогом Ангулемским. Человек беспокойный, честолюбивый, коварный, он был создан, чтобы всю свою жизнь участвовать в крамолах и заговорах, точно так же, как и Генриэтта, достойная его сестрица. Мария Туше, из королевских фавориток сделавшаяся законной женой знатного вельможи, преобразилась к лучшему, являя собой образец доброй и заботливой матери. Обеих дочерей она воспитывала сама, в правилах строгой нравственности и, будучи превосходно образована, дала им образование, приличное разве только принцессам, рассчитывая на хорошие партии. К сожалению, не пошло им впрок ни воспитание, ни образование: Генриэтта была фавориткой Генриха IV, Мари, младшая ее сестра, была любовницей Бассомпьера.
Знакомство короля началось с переписки. Меркуриями короля были граф де Люд и Ла Варенн и должность свою исполняли с их обычным усердием. Генриэтта принимала письма, но на устные любезности короля отвечала улыбкой, на робкое рукопожатие тем же, но… далее этого интрига не простиралась. Примеры Коризанды и Габриэли научили лукавую Генриэтту осторожности; руководимая матерью и зная себе цену, она решилась продать свои ласки недешево, не более и не менее как за королевскую корону. Генрих увлекался, как юноша; во всех своих привязанностях, отодвигая свое достоинство на последний план, он был только человеком, даже слабым, бесхарактерным; но не такова была Генриэтта. Дочь Марии Туше, несмотря на свою молодость, была из породы тех милых, честнейших, невиннейших девиц, которые умеют ответить грозным взглядом на слова любовного признания, которые с ледяным равнодушием будут смотреть на слезы и страдания влюбленного, если только он не богат и не знатен, одним словом – не партия, их достойная; которые, наконец, идут за дряхлую обезьяну, если она с безобразием соединяет знатность происхождения и богатство. Грустно и больно видеть девушку, необдуманно жертвующую своей непорочностью, удостоивающую своей взаимностью первого встречного – нельзя не пожалеть об этой чистой жемчужине, втоптанной в грязь. Нельзя, однако же, не почувствовать если не негодования, то презрения к красавице, гордящейся своей непорочностью, колящей глаза всем и каждому строгостью своих правил, ищущей выгодного себе покупщика, хотя и в лице законного мужа, но без малейшего участия сердца… Подобным красавицам жизнь легка именно потому, что они не живут, не умеют чувствовать, а не чувствуют ничего потому, что в их белоснежной груди кусок белоснежного мрамора вместо сердца. Такова была Генриэтта де Бальзак.
Вот одно из первых к ней посланий Генриха IV в исходе сентября 1599 года:
«Дорогая любовь моя, вы требуете, если я люблю вас, чтобы я преодолел все препятствия к совершенному нашему удовольствию. Силу любви моей я уже достаточно доказал вашему семейству, со стороны которого после моих предложений не должно уже быть никаких препятствий. Я исполню все, о чем говорил, но сверх сказанного – ничего более. С удовольствием повидаю г. д'Антрага (отца) и до тех пор не дам ему покоя покуда дело наше не будет решено. Мне донесли, что недели через две готовятся здесь в Париже какие-то смуты вашим отцом, матерью и братом, которые могут расстроить все наше дело; завтра мне скажут, чем и как все уладить. Добрый вечер, сердце мое, целую вас миллион раз».
Затруднения и переговоры, о которых Генрих IV сокрушается в этом письме, были не что иное, как торги и переторжка. Родители Генриэтты набивали цену на продажу ее первой ласки королю. Сто тысяч экю он им посулил. Мало! Обещал еще столько же – все не то. Деньги деньгами, но и честь честью; Генриэтта объявила королю, что ответит ему взаимностью тогда только, когда он даст ей, кроме денег, небольшой документ, нечто вроде сохранной расписки, содержание которой мы увидим ниже. «Без этого, – прибавила красавица, – о любви моей не смейте и думать!»
Все эти переговоры происходили в замке д'Антрага, где гостил король под предлогом поездки на охоту. Не давая решительного ответа, Генрих IV уехал в Фонтенбло, часа два просидел в кабинете, выйдя оттуда с какой-то бумагой в руках, кликнул Сюлли и молча повел его за собой в галерею. Здесь он робко осмотрелся, подал таинственную бумагу своему другу и отошел к окну, скрывая яркую краску, выступившую у него на лице. Помимо воли Генриха, королевская кровь заговорила в нем в эту минуту.
Сюлли, не возмутимый ничем, в отношении короля верный правилу nil admirari (ничему не удивляться), развернул рукописание его величества и прочел:
«Мы, Генрих Четвертый, Божией милостью король Франции и Наварры, обещаем и клянемся перед Богом, заверяем словом королевским мессира Франциска де Бальзака, сеньора д'Антрага, кавалера наших орденов, в том, что, принимая от него нам в подруги девицу Генриэтту-Катерину де Бальзак, дочь его, обязуемся: в случае беременности ее в течение шести месяцев от сего числа и рождения ею сына немедленно взять ее в законные супруги, освятив брачный союз пред лицом святой нашей церкви, со всеми подобающими тому обрядами и торжественностью. Для вящего же удостоверения действительности сего обещания обещаем и клянемся ратифицировать и возобновить его с приложением государственной печати немедленно по получении нами от его святейшества папы формального акта о расторжении нашего брака с Маргаритой Французской и разрешении вступить в новый, с кем нам заблагорассудится. В удостоверении чего подписуемся. В лесу Мальзерб, сего 1 октября, 1599.
Генрих».
Сюлли сложил бумагу и молча возвратил ее королю.
– Что ты на это скажешь? – спросил Генрих не без смущения.
– Ничего, государь!
– Я требую твоего мнения.
– Чтобы высказать мое мнение, надобно подумать; на то, чтобы подумать, нужно время.
– Но ты друг мне, любишь меня, искренне мне предан, и потому…
– И потому именно прошу вас дать мне срок.
– Да какой тут срок, отвечай прямо!
– Вы не рассердитесь?
– Нет, не рассержусь.
– Заверяете меня в том вашим словом?
– Заверяю, будь спокоен… Что же?
Сюлли, взяв из рук короля роковую бумагу, разорвал ее пополам.
– Вот мое мнение! – прибавил он со всей холодностью и спокойствием здравого смысла.
Генрих, несмотря на свое обещание не сердиться, вспыхнул и вскричал:
– Черт возьми, что же это? Вы с ума сошли?
– Правда, государь, – отвечал герой, – я безумец, дурак и хотел бы в эту минуту быть единственным дураком во всей Франции!..
Желая более всего вразумить короля, Сюлли во всех подробностях объяснил ему неблагоразумие подобного юношеского увлечения, напомнил о подобных подписках, выданных Коризанде и Габриэли, говорил о скандале, о тех насмешках, которые навлечет на Генриха документ, роняющий его достоинство. Король слушал молча, покусывая губы, и быстро ушел в кабинет, где написал второй экземпляр своего обещания, и под предлогом поездки на охоту поскакал к Генриэтте.
Получив от короля документ, вязавший его по рукам и по ногам, его возлюбленная в свою очередь сдержала данное слово и пламенными ласками вознаградила Генриха за его терпение и уступчивость. Двое суток блаженствовал король в замке своей возлюбленной, заплатив ей, согласно договору, сто тысяч экю, присланных по его приказанию негодующим Сюлли. Чтобы хоть чем-нибудь досадить королю и его новой фаворитке, друг Генриха прислал эти сто тысяч малыми суммами, разложенными на множество мешков.
– Дорогонько, однако! – сказал король, увидя груды золота, которыми наградил Генриэтту.
Дорого, да мило, мог бы сказать ему в утешение Сюлли, теперь не щадивший своими сарказмами почтенное семейство д'Антраг. Он припоминал, как родители Генриэтты прогнали графа де Люда, месяц тому назад присланного к ним королем для переговоров, как они, радея о целомудрии дочери, прятали ее от Генриха в Маркусси, а теперь уступили, побежденные золотом.
Кроме золота, однако, у них в руках было драгоценное письменное обязательство Генриха.
Прошел месяц. В середине ноября 1599 года коннетабль Монморанси, канцлер Помпонн де Белльевр, Сюлли и Вилльруа вошли в переговоры с флорентийским посланником Джиованни о бракосочетании короля французского Генриха IV с принцессой тосканской Марией Медичи. Как-то, именно во время этих переговоров, Сюлли явился с докладом к королю, который спросил, что он поделывает?
– Думаем женить вас, государь! – отвечал тот, самодовольно потирая руки.
Король покраснел и, не говоря ни слова, стал грызть ногти, глаза его как будто избегали встречи со взглядом Сюлли, а между тем улыбка так и порывалась на принужденно-серьезное лицо Генриха. Хлопнув в ладоши, он сказал наконец:
– Быть делу так! Если вы говорите, что с женитьбой моей соединено благо королевства и моих подданных – я женюсь, хотя, признаться, боюсь этого брака. Первая жена наделала мне много неприятностей, что, если вторая окажется своенравной, капризной? Домашние несогласия для меня несноснее политических распрей и всяких воинских схваток.
Начало 1600 года не предвещало Генриху IV ничего доброго. Сватовство длилось утомительно долго, оно было поводом к объявлению войны герцогу Савойскому для получения от него маркизата Салуццо, оттянутого еще в 1588 году у Генриха III; ко всем этим неприятностям Генриэтта, объявившая себя беременной, делала своему возлюбленному неприятные сцены, плакала, упрекала, грозилась «подать ко взысканию» проклятую подписку. Король пожаловал ей маркизат Вернейль, дал слово выдать ее за принца крови, герцога Неверского, в случае, если расстроить союз с тосканским домом будет невозможно. За это Генрих надеялся получить обратно свою расписку от Генриэтты, но она не выпускала ее из рук. Видя, что фаворитка не хочет уважать его просьбы, Генрих прибегнул к приказанию и 21 апреля 1600 года послал Генриэтте и ее родителю следующие грамоты:
«Сударыня! Любовь, почести и милости, которыми я взыскал вас, могли бы привязать ко мне самое легкомысленное существо, если бы оно не было одарено таким дурным характером, как ваш. Более язвить не стану, хотя, как вы сами знаете, должен бы язвить и мог бы. Прошу вас возвратить мне известное вам обещание, чтобы не заставить меня добывать его иным путем; пришлите также и перстень, данный мною вам на этих днях. Ответ – сегодня к ночи.
Генрих»
В другом письме, к отцу Генриэтты, проглядывают робость и сдержанность:
«Г. д'Антраг, податель сего послан мною за письменным обещанием, данным мною вам в Мальзербе. Прошу вас неотлагательно возвратить, а если желаете, лично доставить его ко мне, тогда вы узнаете, что причины, к тому меня побуждающие, чисто домашние, а не политические. Вы сами удостоверитесь, что я прав; увидите, что были обмануты (?) и что у меня, могу сказать, слишком добрый характер. Уверенный в исполнении моего вам приказания заключаю уверением, что я вам благоволю.
Генрих»
Расписки своей король не получил, однако же дело на время уладилось, и Генрих занялся нежной корреспонденцией со своей невестой Марией Медичи, с которой брачный контракт был подписан в ноябре 1600 года. Перед тем, в конце июня, Генрих отправился на войну с Савойей, до Лиона его провожала Генриэтта, близкая к разрешению от бремени. Король одновременно успевал воевать с неприятелями и обмениваться письмами с фавориткой и невестой, уверяя ту и другую в нежнейшей любви и преданности «до гроба». В июле с Генриэттой случилось несчастье, на которое даже тогдашние вольнодумцы смотрели как на проявление Божественного промысла. Над замком Монсо разразилась страшная гроза, и Генриэтта, испуганная громовым ударом, родила мертвого младенца. Этот удар избавил Генриха от исполнения данного обязательства или, по крайней мере, дал ему возможность сослаться на буквальный смысл расписки: он обещал жениться на Генриэтте, если Бог даст ей сына – конечно, живого, но не мертвого.
Фаворитка довольно долго хворала, и король во время ее болезни оказывал ей самую нежную внимательность, несмотря на которую, однако же, Генриэтта поняла, что планы ее рушились. Оправясь от болезни, она следовала за Генрихом по пятам в Лион и Шамбери. В первом городе ей устроили триумфальную встречу, Генрих послал ей знамена, отбитые у неприятеля 10 сентября. Так, во времена давно минувшие, он дарил знамена лигёров прекрасной Коризанде. Король повторялся в любезностях со своими фаворитками и даже в своих письмах; в последнем случае, во избежание лишнего труда, он мог бы приказать отпечатать про запас бланки с пробелами для вставки имени возлюбленных – до такой степени стереотипны излияния его вечно юного и вечно любящего сердца! Нимало не осуждая Генриха за его постоянное непостоянство, мы готовы допустить, что он, повторяя каждой фаворитке одни и те же фразы, не обманывал, а обманывался сам и, во всяком случае, был с женщинами искреннее, нежели они с ним. Вот, например, письмо к нему от Генриэтты, написанное в июле 1600 года, когда в Лион ожидали прибытия Марии Медичи… Что за иезуитизм кокетства, как в каждом слове заметна волчица, наряженная в овечью шкурку!
«Государь, сбылось несчастие, которого я всегда так опасалась! Я, однако же, должна сознаться, что это опасение проистекало от сознания той великой разницы состояний, которая существует между нами, от которой я всегда ожидала перемены, низвергающей меня с неба, на которое вы меня вознесли, обратно на землю, где я была найдена вами. При этом смертельном падении я не могла не сознаться, что в нем виновата не только судьба, сколько ваша ко мне немилость. От вас блаженство мое зависело более, нежели от судьбы, на которую я не жалуюсь, так как душевная скорбь моя – цена блага Франции, для которого вы вступаете в брак. В этой скорби не могу не сознаться, что свадьба – погребение моей жизни; ваша свадьба требует от меня во имя скромности, чтобы я удалилась от лица вашего и от сердца во избежание надменных взглядов всех тех, которые видели меня на высоте почестей… Лучше страдать на свободе в уединении, нежели не сметь вздохнуть в кругу общественном. Эти чувства вскормлены во мне вашим великодушием, смелость эта вами внушена мне… Она не допускает меня смириться перед несчастием, пригнуть голову под его ярмо возвращением к прежнему моему ничтожеству. Слова мои, отрывчатые вздохи, о король мой возлюбленный, мое – все! Прочие тайные жалобы мои ваше величество можете угадать в моих мыслях, потому что душу мою вы так же хорошо знаете, как и тело. В неизбежном моем изгнании мне останется гордое сознание, что я была любима величайшим государем на земле; королем, снизошедшим до меня, чтобы меня, свою рабу и служанку, возвести на степень своей любимицы; королем Франции, признающим над собой власть единого небесного царя и не имеющим на земле себе равного…
Если королям свойственно воспоминание о тех, которых они любили, вспоминайте, государь, о девушке, принадлежавшей вам, которая (полагаясь на ваше слово) пожертвовала вам своей честью, над которой была столько же властна, сколько вы, государь, властны над жизнью вашей покорной служанки, преданнейшей рабыни и – сказать ли!.. – забытой любовницы Генриэтты де Бальзак».
К крайней досаде сочинительницы этого смиренного, трогательного послания, Генрих ее не удерживал, даже, как видно, был доволен ее отсутствием, чтобы тем свободнее заняться будущей супругой, по портретам судя, способной возбудить в королевском сердце страстные желания. Марии Медичи было тогда двадцать семь лет; полная, стройная, огненная брюнетка – тип флорентинки, она могла бы свести с ума человека и неплатонического. Раздражая свое воображение мыслью о прелестях невесты, Генрих писал ей самые страстные письма, в которых щедрой рукой рассыпал самые «чувствительные слова» из своего неистощимого любовного арсенала. 23 августа он из Шамбери отправил к Марии Медичи своего обер-шталмейстера Белльгарда, отдавая его в распоряжение невесты и умоляя ее не медлить прибытием во Францию. Жених с невестой свиделись в Лионе, и 17 декабря 1600 года отпразднована была свадьба Генриха с Марией Медичи. К январю 1601 года супруга короля уже успела ему прискучить, и смиренная изгнанница Генриэтта снова появилась при дворе, представленная королеве герцогиней Немурской. Принятая Марией с заслуженной холодностью, фаворитка подружилась с любимой горничной и молочной сестрой королевы, Леонорой Галигаи, получившей по ходатайству Генриэтты звание камер-фрау. Заручившись таким образом дружбой любимицы жены, фаворитка деятельно принялась интриговать и каверзничать, чтобы мстить Генриху, всячески вредить его семейному согласию и в особенности преследовать тех, которые принимали участие в сватовстве короля за Марию Медичи. Она уговорила очень расположенного к ней Клавдия Лотарингского, принца Жуанвилля вызвать Белльгарда на поединок и, если можно, попотчевать хорошим ударом. Жуанвилль предательски напал на Белльгарда вечером, около дома Цзаметти, слуги которого помогли раненому Белльгарду и, погнавшись за принцем, едва не убили его, если бы в дело не вмешался маркиз Рамбуйе. Генрих IV отдал Жуанвилля под суд, приговоривший его к удалению от двора. Этот неудавшийся заговор нимало не нарушил возобновленной связи короля с Генриэттой, для пущего удобства Генриха помещенной рядом с Лувром. От жены король шел к фаворитке, от фаворитки – к жене. Любезность и внимательность были ему тем более извинительны, что королева и Генриэтта, обе были в интересном положении. Первая – 27 сентября 1601 года родила дофина (впоследствии Людовика XIII), вторая – день в день через месяц, 27 октября, – Гастона Генриха.[54]
Европейские женщины удивляются доброму соглашению жен у магометан и язычников, одновременно сожительствующих с несколькими супругами… Чему удивляться, когда семейство французского короля Генриха IV являет нам умилительный пример азиатской полигамии или американского мормонизма? Приятельница фаворитки Леонора Галигаи умела примирить королеву с Генриэттой и настолько сблизить их, что крестины обоих сыновей Генриха праздновались одинаково пышно и сопровождались блестящими празднествами. Между прочим, Мария Медичи устроила балет, в котором участвовала сама с пятнадцатью придворными красавицами, представляя группу шестнадцати добродетелей.
– Что вы скажете об этом эскадроне добродетелей? – спросил король у любовавшегося балетом папского нунция.
– Эскадрон прекраснейший и опаснейший (bellissimo e pericolosissmio!), – отвечал тот, сладко улыбаясь.
Вскоре ясная лазурь над этим Олимпом или Пафосом покрылась громовыми тучами. Вторично разразилась гроза над головой Генриэтты, гроза моральная, но которая могла быть ей не менее гибельна, как первая, атмосферическая.
Сестра покойной Габриэли – Жюльетта-Ипполита, герцогиня Виллар – отвлекла на время внимание короля от жены и фаворитки; и наш французский Юпитер светренничал. Это была мимолетная прихоть, но обиженная герцогиня решилась привязать к себе короля надолго и прочными узами. Для этого она, по примеру Генриэтты, сблизилась с Жуанвиллем (недавно возвращенным из ссылки) и выпросила у него любовные письма фаворитки, полученные им от нее во время их связи, когда Генриэтта жила в уединении; эти письма герцогиня Виллар передала королю… Генрих разразился действительно олимпийским гневом и послал Меркурия (графа де Люда) к Генриэтте даже не с выговором, а просто с бранью. Фаворитка, выслушав упреки, не говоря ни слова, вытолкнула дерзкого за дверь. Король на свой вопрос, что она может сказать себе в оправдание, получил классическое: «Невинность не имеет нужды в оправдании!» Письма оказались подложными, в чем сознался сам Жуанвилль, что подтвердили десятки сообщников Генриэтты.
Король из судьи сам превратился в подсудимого и вместо наказания преступницы сам же чуть не на коленях вымаливал у нее прощение. Разбранив королеву, поверившую клевете, король отправил герцогиню Виллар в ссылку, Жуанвилля – в Венгрию; секретаря его за подделку писем заточил в Бастилию; в честь угнетенной невинности дан был великолепный праздник при дворе… Каким образом все это случилось? – невольно спросит читатель. Случилось все это очень просто благодаря присутствию духа и бесстыдству фаворитки. С Жуанвиллем она действительно была в коротких отношениях; письма писала к нему она своеручно, а короля и весь двор одурачила. Кроме Жу-анвилля, никто не мог уличить Генриэтту, но герцог, истый дворянин старого времени, по свойственному мужчине великодушию предпочел возвести напраслину на себя, нежели бороться с женщиной или, вернее, пачкать свою пяту, раздавив под ней ядовитую гадину. Заметим только, что это торжество невинности происходило именно в то время, когда созревал заговор маршала Бирона, в котором принимали участие брат, отец Генриэтты и она сама, в чем Генрих IV убедился только через четыре года (1605) при открытии нового заговора, в котором главную роль играет семейство д'Антраг.[55]
До тех пор король, деля свои ласки между женой и фавориткой, детьми законными и побочными, находился в самом безвыходном положении, между двух огней. О приличии, как видно, забыли и думать.
22 ноября 1602 года Марии Медичи Бог дал дочь Елизавету (в 1615 году выданную за Фридриха IV – короля испанского).
21 января 1603 года Генриэтта, маркиза де Вернейль разрешилась от бремени дочерью же – Габриэлью Анжеликой (выданной в 1622 году за Бернарда Ногаре, герцога д'Эпернон).
Имела ли фаворитка надобность в деньгах или в какой подачке от короля, ей стоило только напомнить ему о том документе, и все исполнялось по ее желанию. Сюлли то и дело получал от короля чеки на отпуск Генриэтте нескольких тысяч ливров. Из змеи фаворитка превратилась в пиявицу. Денег и подарков ей лично было мало, она выманивала у короля щедрые милости многочисленным своим родственникам, ближним и дальним. Сюлли ворчал, уговаривал, усовещевал короля – Генрих благодарил за советы, но им не следовал. С другой стороны, Мария Медичи, истая Юнона, взяла ветреного супруга в руки и постоянно колола ему глаза фавориткой и данным ей письменным обещанием; мать семейства, королева заботилась о детях. По словам историка Мезерэ, Мария не ограничивалась бранью и нередко обращала в бегство победителя при Иври и Кутрасе, сопровождая брань очень выразительными пантомимами: Генрих начал поговаривать о разлуке с женой и отсылке ее на родину. Впрочем, вот подлинная исповедь Генриха IV в одну из откровенных бесед с благородным Сюлли.
«В дополнение к тому, что я уже говорил вам, друг мой, о причинах моей досады и дурного расположения духа, скажу вам, что вчера вечером я расстался с госпожой Вернейль крайне рассерженный по трем причинам. Во-первых, теперь она вздумала хитрить, лукавить и жеманиться со мной, будто бы по чувству набожности, а как я думаю, вернее, вследствие каких-нибудь новых интрижек с людьми, которые мне не совсем-то нравятся. Второе: в ответ на мое замечание о ее сношениях с братом и другими злоумышленниками на меня и на безопасность государства она очень надменно отвечала, что все это неправда, что я старею, оттого и становлюсь подозрителен и недоверчив; что жить долее со мной нет никакого смысла… Что, наконец, я сделал бы ей величайшую милость, если бы перестал посещать ее наедине, так как пользы ей от этого мало, а одни только неприятности, особенно от королевы. При этом она королеву, жену мою, обозвала таким именем, что я едва удержался, чтобы не дать ей за это в щеку! Третья причина: я просил у нее возвратить мне мое письменное обязательство, а она дерзко отвечала, что я могу искать этот документ где угодно, но от нее никогда не получу!
Тут мы с ней посчитались, и я в бешенстве ушел, сказал, что найду способы добыть мое обязательство!»
От фаворитки король пошел к жене, где ожидала его сцена, приправленная колкостями, упреками и жалобами.
Кому другому, если не Сюлли, пришлось взять роль умиротворителя? Истинно великий государственный муж не погнушался войти в эти будуарные дрязги, видя, что от них тускнеет королевский венец державного друга, блекнут лавры и сам он, герой, превращается в какого-то бесхарактерного труса, не стоящего имени мужчины. Угадывая, что внезапная скромность фаворитки и ее уклончивость от ласк короля не что иное, как уловка кокетки, вымогающей у своего обожателя милости да благосты-ни, Сюлли, ссылаясь на собственные ее слова, набросал проект письменного договора между королем и фавориткой, в котором первый отступает от всяких притязаний на ее нежности с тем, чтобы уже и она в свою очередь не домогалась ничего. Генриэтта одобрила проект, но король был крайне недоволен разлукой с возлюбленной красавицей. Как бы то ни было, устранив всякое сближение короля с фавориткой, Сюлли добрыми советами принудил Марию Медичи быть к мужу снисходительнее, любезнее, ласковее; указал ей на те стороны характера, влияя на которые королева может привязать к себе супруга и отвлечь от всяких фавориток. В апреле 1604 года Генрих, окончательно разочарованный в Генриэтте, почти ненавидел ее; и тут же вскоре – как нельзя кстати – открыт был заговор старика д'Антрага. Заговор этот, запутанный подобно паутине, простирал свои нити по всей Франции за Пиренеи, связывая в одну шайку большую часть вельмож, даже ближайших к престолу. Тут были духовники маркизы Вернейль, отец Иларий и отец Анж;[56] английские дворяне Морган и Фортн, л'От, секретарь Вилльруа, Шевийяр, д'Эпернон, Буйон, Белльгард, граф Овернский, старик д'Антраг, милая его дочь Генриэтта, маркиза Вернейль, и, очень может быть, любимцы королевы – Кончини (будущий маршал д'Анкр) и жена его Леонора Галигаи… Вести следствие надобно было осторожно, не торопясь, но Генрих, отодвинув на задний план вопрос о спокойствии государства, озаботился единственно о своем собственном, истребовав у арестованного д'Антрага знаменитое «обязательство», возвращенное наконец 6 июля 1604 года… Затем вместо продолжения следствия комиссия прекратила свои заседания, и все дело ограничилось бегством графа Овернского в свое поместье. Маркизе Вернейль за уступку обязательства было выдано 20 тысяч экю, а отцу ее д'Антрагу (уличенному заговорщику!) обещан маршальский жезл. Так пишут Мезерэ и де Ту, и, несмотря на их авторитет, не решаемся верить этим позорным сделкам короля французского с людьми, подкапывавшимися под его престол. Следственное дело было затушено, но не угасла искра тлевшего заговора (еще бы, когда все заговорщики гуляли на свободе), и вскоре начались новые розыски, на этот раз успешнее первых, которые и привели к раскрытию страшной истины.
Испанский посланник дон Бальтазар Зунига навлек на себя основательные подозрения в покушениях на спокойствие Франции. До сведения Сюлли доведено было, что заговорщики намереваются, заманив короля к маркизе Вернейль, умертвить его там и наследником престола объявить ее сына, Генриха Гастона. Начались многочисленные аресты; графа Овернского, схваченного в его замке, привезли в Париж и посадили в Бастилию (20 ноября 1604 года), маркизу подвергли домашнему аресту, участи графа Овернского подвергся старик д'Антраг (11 ноября), захваченный со всеми бумагами… Начался суд, и открылась та страшная пропасть, которую готовили Генриху IV. Виновные выказали если не резкое присутствие духа, то небывалый цинизм. «Пусть меня казнят, пусть казнят! – кричала на допросах Генриэтта с пеной у рта. – Я не боюсь смерти, я сама ее прошу. Если король велит меня казнить, тогда скажут, по крайней мере, что он жену свою казнил! Я была его женой прежде итальянки… Я у короля прошу только трех милостей: прощение отцу, петлю – брату,[57] а мне правдивого суда!»
Эти мелодраматические выходки, в судьях возбуждавшие негодование, чтобы не сказать омерзение, тронули мягкое сердце короля и пробудили в нем прежнюю любовь. Все улики налицо: семейство д'Антраг замышляло на его жизнь, имело сношения с Испанией, намеревалось возвести на престол сына Генриэтты путем убийства Марии Медичи и ее детей, и при всем том король любил фаворитку, а любя ее, всячески помогал ей и подсудимым, тайно сносясь с арестованной Генриэттой. В конце декабря 1604 года, когда следственная комиссия снимала с преступников показания, проводила очные ставки, допрашивала, уличала, в самое это время король писал к арестованной Генриэтте: «Милое сердце мое, на ваши три письма даю один ответ. Разрешаю вам отъезд в Буажанси и свидание с вашим отцом, избавленным от стражи. Не оставайтесь долее одного дня, так как зараза сильна. При поездке в Сен-Жермен не худо было бы вам повидать ваших детей, а также и их отца, который вас очень любит и дорожит вами. О вашей поездке никто (то есть королева) ничего не знает. Люби меня, моя козочка (mon menon), ибо я тебе клянусь, что, когда я с тобой, мне весь мир ничто; целую тебя миллион раз».
К сожалению, следственная комиссия с подсудимыми не целовалась и вместо любовных записочек писала другие бумаги, поважнее. Верховный уголовный суд 1 февраля 1605 года приговорил д'Антрага и графа Овернского к смертной казни, маркизу Вернейль к заточению в монастырь Бомон-ла-Тур. В тот же день жены д'Антрага и графа, с ними и Генриэтта явились к Генриху, умоляя о прощении. Король несколько времени колебался, однако же приказал смягчить приговор и заменить его для приговоренных к смерти – пожизненным заключением, а для Генриэтты – прощением, дозволив ей удалиться в свое поместье; 16 сентября она формально была объявлена ни в чем не виновной.[58] Так шутил король французский с судом и играл законами! В его руках было искоренение заговора, а он довольствовался только обрубкой двух-трех ветвей. Оправдание этому малодушию еще могло бы быть какое-нибудь, если бы король повиновался чувствам любви христианской, а не своему неукротимому сластолюбию… Искоренение заговора д'Антрага могло бы отклонить от груди Генриха IV кинжал Равальяка. Впрочем, с точки зрения фатализма, щадя преступников на собственную свою пагубу, король повиновался какому-то таинственному предопределению… Неуместно милосердный в отношении своей возлюбленной, ее родных и сообщников, Генрих IV, в угоду католическому духовенству, умел быть жестоким и безжалостным к несчастным, которые в то варварское, суеверное время слыли за колдунов и оборотней. Так, в 1597 году были сожжены живыми некто Шамуйяр за напущение порчи и Видаль де ла Порт в Риоме; в 1598 году казнен был оборотень Пьер Опети; в 1599 году сожжены были колдунья Антида Колас, девочка Луиза Майлья, Вильгельм де Вильмероз и Роланда дю Вернуа… В 1609 году было огромное следственное дело о колдунах в Гаскони в округе Пахотной земли (Рауs da Labour), окончившееся повешением и сожжением на костре до двадцати человек… Кровавые факты, мало говорящие как в пользу ума, так и сердца великого короля.
Пощада Генриэтты и заговорщиков была жестокой ошибкой, но Генрих сделал другую, еще более непростительную. После всего, что было раскрыто на следствии о злоумышлениях маркизы Вернейль, после кровавых оскорблений королевы и законных детей Генриха он опять сошелся с фавориткой, опять домогался ее продажных ласк, опять делил свое сердце между женой и любовницей. Последняя, видя, что власть ее над Генрихом не уменьшилась, пуще прежнего стала эксплуатировать щедрость королевскую. Придворные Сигонь и Ла Варенн одновременно пользовались ее благосклонностью и вели с ней нежную переписку. Король узнал об этом – маркиза вывернулась, уверив его, что она неизменно ему верна и предана всей душой, а письма писаны по ее совету, для испытания ревности короля… Поверил! Сигонь и Ла Варенн (Меркурий, министр сердечных дел) навлекли на себя немилость Генриха, фаворитка же на своем месте даже не пошатнулась. При виде этой непростительной слабости короля к женщине, ничего не заслуживающей, кроме презрения, Мария Медичи возненавидела мужа и предоставила ему полнейшую свободу. Стараниями Сюлли между державными супругами наружно поддерживались приязненные отношения, приличия ради, но и тут Генриэтта расстроила все, что улаживал министр. Утишать эту домашнюю язву можно было только деньгами и подарками, щедро давали ей то и другое, причем она ссылалась на детей, на свои старания о их обеспечении.
– Да прогоните же ее наконец! – неоднократно говорил Сюлли Генриху.
– Не могу: не в силах! – отвечал, чуть не плача, бедный король.
На предложение выехать за границу Генриэтта отвечала согласием, но, чтобы «не умереть с голоду», требовала аренды в сто тысяч ливров годового дохода. То она грозила Генриху выходом замуж за какого-то фантастического обожателя, прося короля выдать ей приличное приданое, и он падал к ее ногам, умоляя не покидать его. О королеве Генриэтта отозвалась так, как бы могла королева отзываться о ней, презренной наложнице, а Генрих слушал и не только молчал, но едва ли не поддакивал. В августе 1607 года по настояниям Сюлли король согласился удалить Генриэтту на воды в Ванвр, но это ни к чему не привело – весь 1608 год длилась грязная, позорная связь короля, от которой его избавила новая любовь, к Шарлотте Монморанси: чем ушибся, тем и лечился…
Окончательно оставленная королем, Генриэтта д'Антраг, маркиза де Вернейль, по словам Таллемана де Рео, стала жить подобно Сарданапалу или Вителлию, думая единственно о еде и всевозможных гастрономических наслаждениях. Она растолстела до чудовищности, но не отупела умом, хотя жила почти без собеседников. Детей у нее взяли, дочь воспитывалась вместе с законной дочерью короля. Но из этого кухонного уединения отставная фаворитка до последней минуты Генриха IV метала в него если не молнии, то горячие уголья из-под плиты, которые в одно и то же время жгли и пачкали. В мае 1608 года барон де Терм обольстил фрейлину королевы обещанием жениться, чего не исполнил. «По пословице, – сказала Генриэтта, узнав об этом, – каков барин, таков и слуга».[59] Как-то ее навестил сын, прощаясь с которым она поручила сказать королю, чтобы он не воображал, будто Генрих Гастон его сын…
Убийство Генриха Равальяком, судя по многим данным, не обошлось без соучастия маркизы де Вернейль, но это пятно на памяти фаворитки исчезает во множестве других. Последним скандалом, достойно заключившим общественную жизнь куртизанки, был иск, предъявленный ею 15 сентября 1610 года на герцога Гиза, давшего ей «письменное обещание» жениться на ней и отрекшегося от своей подписи. По повелению правительницы
Марии Медичи дело было прекращено, а истице предложено избавить порядочных людей от своего лицезрения и куда-нибудь удалиться. Она умерла 9 февраля 1633 года в каком-то уединении, ничтожная, презренная.
Возвратимся к герою нашего очерка, покуда еще живому, но сильно состарившемуся – не столько от лет, сколько от забот и трудов, в особенности по части любовных приключений. Независимо от недуга, неизбежного следствия невоздержанности, расшатавшего когда-то крепкий организм Генриха, глубокие морщины избороздили его высокий лоб, глаза потускнели, щегольски закрученные усы и острая бородка посеребрились сединой, горбатый нос – типическое отличие Бурбонов – припух, подернулся красноватыми прожилками и как будто пригнулся к подбородку… Так изменило время прежнего красавца, не прикасаясь к его сердцу, бившемуся так же страстно, как в юности. Скажем более: в своей последней любви к Шарлотте Монморанси Генрих явился юношей-поэтом, вздыхающим, мечтающим и, увы! – смешным, как и всякий влюбленный старик.
В январе 1609 года Мария Медичи устраивала во дворце домашний спектакль, в котором придворные девицы должны были разыграть балет «Нимфы Дианы». В числе участвовавших находилась четырнадцатилетняя дочь коннетабля Монморанси Шарлотта Маргарита, красавица невиданная.[60] Король встретил ее на репетиции 16 января и не мог не выразить восхищения бывшим при нем Белльгарду и капитану телохранителей Монтеспану. Те, разумеется, согласились с Генрихом, что видеть Шарлотту – значит ее любить, и сердце короля запылало… последней любовью. Победить красавицу он вздумал по прежним примерам, выдав ее предварительно за сговорчивого и непритязательного мужа. Искателей руки Шарлотты был целый легион, из которого особенно выделялся друг короля, постоянный его товарищ в игре и забавах, полковник отряда швейцарцев Бассомпьер. Хотя с ним и соперничал в сватовстве двоюродный брат красавицы герцог Буйлльон, но король готовил третьего претендента – своего племянника, принца Конде, по характеру подходившего его замыслам. Конде был нелюдимый, молчаливый, всегда скромный, послушный, какой-то загнанный; вдобавок к этому, кажется, побаивался женщин и вообще не охотник до прекрасного пола. Имея под рукой запасного мужа, король приступил к интриге.
Вскоре после балета Генрих, страдая подагрой, принимал в Лувре Шарлотту и ее тетку, госпожу д'Ангулем (побочную дочь Генриха II), приехавших его навестить. После обычных приветствий король повел речь о женихах и назвал Бассомпьера, спросив Шарлотту будто мимоходом: нравится ли он ей? Красавица, как благовоспитанной, целомудренной девице подобает, покраснела и сказала, что ее долг повиноваться воле родительской. Тонкий знаток женского сердца, Генрих понял, что Бассом-пьер Шарлотте нравится, и принял это к сведению.
На другой же день Бассомпьер по приглашению короля явился к нему в кабинет. Генрих после небольшого вступления с уверениями любви и доброжелательства предложил своему приятелю составить ему партию – не карточную, а иную, женив его на мадемуазель д'Омаль и дав ему герцогство.
– Вам угодно, государь, чтобы я разом женился на двух невестах? – возразил Бассомпьер. – Вам, конечно, известно, что я сватаюсь за дочь Монморанси?
– Друг, – отвечал король, – поговорим откровенно. Я до безумия влюблен в Шарлотту. Если ты женишься на ней и она тебя полюбит, я тебя возненавижу; если же она полюбит меня, ты меня возненавидишь. Зачем нам с тобой ссориться? Я хочу выдать ее за моего племянника, принца Конде, и ввести в мою семью… Шарлотта будет опорой и утехой моей старости. Мужу ее, который охоту предпочитает всяким красавицам, я дам ежегодно по сто тысяч ливров, а от нее, кроме чистой, невинной любви, ничего другого не желаю и не потребую!..
– Знаю я эту чистую любовь! – проворчал Бассомпьер.
Но делать было нечего – покорился воле королевской, а Генрих усердно принялся за сватовство Конде. Дело уладилось, и 17 мая 1609 года Шарлотта Маргарита Монморанси сочеталась браком с принцем Конде, племянником королевским. Коннетабль дал за дочерью сто тысяч, король за принцем – полтораста тысяч экю годового дохода, да сверх того подарил невесте бриллиантов тысяч на двадцать ливров. Молодому супругу Генрих ни слова не говорил о своих замыслах; с Шарлоттой объяснялся на непонятном для нее языке вздохов и томных взглядов… Однако же, как бы то ни было, Конде очень хорошо знал тайну сердца своего державного дяди и потому немедленно после свадьбы уехал с молодой женой из столицы в Сен-Валери. Король захворал с досады, но вместе с тем, сбросив маску доброго старичка, превратился в бешеного сатира и стал гоняться за новобрачными по пятам. По примеру прежних лет Генрих прибегнул к переодеваниям и превращениям. Юпитер мифологический принимал на себя вид быка, лебедя, золотого дождя, облака, даже муравья для обольщения Европы, Ио, Данаи и многих других красавиц. Генрих, отдавая себя на посмешище если не Европы, то Франции, чтобы видеть Шарлотту, наряжался крестьянином, конюхом, псарем, не достигая цели своих желаний, а только сам служа мишенью насмешек не только племянника и его жены, но всего двора и города. На официальные приглашения прибыть ко двору с женой принц обыкновенно отвечал отказом или являлся один. В июле 1609 года молодые супруги приехали в Фонтенбло, на свадьбу герцога Вандомского с девицей де Меркер, и здесь принц не отходил от жены своей ни на шаг, к совершенному отчаянию влюбленного Генриха. Впрочем, довольствуясь лицезрением своего идеала, король разрядился, как молодой человек, выказал необыкновенную ловкость на карусели и, забывая подагру, пускался даже в танцы… Жестокосердая едва обратила внимание на это жалкое кокетство влюбленного старика. Дня через два принц со своей супругой уехал обратно в свое поместье. Осенью срок беременности Марии Медичи приблизился к концу, и по этикету, а также согласно воле короля при разрешении ее от бремени обязаны присутствовать все принцы и принцессы королевской крови. На этот раз принцу Конде отказаться было невозможно, хотя его удерживал двойной страх – и за себя, и за жену. В первом случае он опасался заточения в Бастилию за свои политические интриги, во втором – его пугала любовная интрига, которую король, несмотря на все неудачи, продолжал вести с неутомимым терпением и надеждой. Бедный муж прибыл в Париж один, прибегнув к покровительству Марии Медичи, взяв с нее слово, что королева сама будет охранять принцессу от преступных покушений своего супруга. Это было в конце октября, а 26 ноября 1609 года королева разрешилась от бремени дочерью Генриэттой Марией.[61] Понятно, что, несмотря на слово, данное принцу Конде, и собственное свое желание мешать королю в его интригах, Мария Медичи по весьма уважительным и понятным причинам не могла несколько времени заниматься чужими семейными делами – чем, разумеется, Генрих IV спешил воспользоваться. Принц просил его уволить принцессу от присутствия при родинах, король отвечал отказом. Выведенный из терпения, Конде сказал, что это тиранство, Генрих вспыхнул и упрекнул его незаконностью происхожения, заметив, что если принц хочет, то он, король, покажет ему настоящего его отца. Зная, что Генрих склоняет его мать, вдову принца Конде, помогать ему в победе над ее невесткой, оскорбленный муж осыпал ее ядовитыми упреками, назвав ее… свахою! Кроме матери Конде сообщниками короля были отец Шарлотты и тетка ее, госпожа д'Ангулем, своими гнусными советами начавшие колебать супружескую верность молодой женщины; знаменитый Малерб – отец французской поэзии, дряхлый годами, юный сердцем, – писал принцессе Конде по приказанию Генриха нежные послания, сам король не скупился на письма в замок Мюре, где оставалась принцесса… Это было уже не волокитство, а облава, травля. Озлобленный Кон-де проговорился королю, что подобные действия могут довести его до развода с женой, и король с восторгом ухватился за это средство к овладению сердцем свой красавицы, изъявив полное согласие. Это бесстыдство заставило наконец принца Кон-де бежать вместе с женой во Фландрию к своему зятю, принцу Оранскому. Сообщив о своем намерении другу своему Рошфору и секретарю Вирею, принц, объявив королю, что едет за женой, выехал из Парижа в замок Мюре 25 ноября, накануне разрешения королевы от бремени; 29-го числа ранним утром, усадив жену в дорожную карету, с небольшой свитой верных друзей и надежных прислужников, принц (не говоря жене о настоящей цели путешествия) тронулся в путь к границе Фландрии. Проводник беглецов Ла Перрьер, умышленно путая, замедляя и сбиваясь с дороги, тайно послал нарочного в Париж с нерадостной вестью о похищении принцессы ее мужем. Сама Шарлотта, когда они миновали Суассон, начала тревожиться и спрашивать принца, куда они едут; когда же он объявил, что они бегут за границу, с принцессой сделалась истерика и она отчаянными воплями стала требовать у мужа, чтобы он не разлучал ее… с милой родиной! Как видно, наставления милых родственников даром не пропали, и принцесса была далеко не прочь занять у короля вакантное место фаворитки. Само собой, принц отвечал жене отказом, приказав кучеру гнать лошадей во весь опор, невзирая ни на ненастье, проливной дождь и сумерки, ни на вопли и стенания принцессы… В Ландреси усталость принудила путников сделать привал.
Между тем доносчик, посланный Ла Перрьером, прискакал в Париж. Отчаяние и бешенство короля, воспетые Малербом, не имели границ! Роковая весть об отъезде Конде застала Генриха за картами. Вскочив с места, бледный, дрожа всем телом, он шепнул Бассомпьеру: «Я пропал! Злодей везет жену или чтобы убить ее где-нибудь, или просто за границу… Пойду расспрошу подробно; покуда сядь за стол и играй за меня». Но игра не продолжалась, и все партнеры разошлись. Вместо карточной игры за столом образовалось заседание государственного совета (ни более ни менее) для обсуждения важного вопроса, угрожавшего спокойствию Франции и равновесию Европы, а именно: вопроса о бегстве мужа с женой для спасения последней от преследований короля-селадона!.. Состав заседания был следующий: маркиз Кёвр, граф Крамайл, герцог Эльбёф, Ломени, Белльевр, Вилльруа, Жаннен и Сюлли – воплощенный здравый смысл в кругу полоумных. Один предложил немедленно разослать циркуляры к посланникам для объявления войны тому государству, которое даст приют беглецам; другой советовал послать за ними в погоню, третий – под угрозой смертной казни запретить давать им пристанище в пределах Франции…
– Молчать и ждать! – лаконически сказал Сюлли и этим самым не придавал бегству принца никакого политического значения.
Мог ли Генрих, обезумевший от горя, послушаться голоса рассудка? Предложение Сюлли было отвергнуто, а за беглецами было послано в погоню во все концы десять или двенадцать конных отрядов, настигнувших беглецов в Ландреси, то есть уже за чертой французской границы. Эрцгерцог Альберт, сначала было отказавший принцу в пристанище и предложивший ему выехать из его владений, великодушно помог ему с женой добраться до Брюсселя, куда они прибыли 17 декабря и были радушно приняты принцем Оранским. Спинола, испанский полномочный посол, объявил принцу Конде, что он находится теперь под покровительством его величества Филиппа III – короля Испании и обеих Индий.
Странная судьба Генриха IV в его любовных интригах: все они носят на себе отпечаток какой-то театральности. Связь с госпожой де Сов – водевиль; с Коризандой и Фоссезой – комедия; с Габриэлью – трагедия; Генриэттой д'Антраг – драма, с принцессой Конде – просто арлекинада, в которой король преследует молодых супругов не хуже балаганного Кассандра и, подобно ему, остается с носом. На долю испанского короля выпала роль доброй волшебницы – покровительницы угнетенных… Несмотря, однако же, на неудачу, Кассандр не унимался и отважился еще на две отчаянные попытки: или похитить у принца Конде его жену с помощью добрых людей, или развести супругов формальным образом.
Брату покойной Габриэли д'Эстре, маркизу Кёвру, в феврале 1610 года было поручено именем короля истребовать беглецов у эрцгерцога Альберта. Последний, отвечая решительным отказом, берег своих гостей, как зеница бережет око. Секретно подосланные шпионы разведали, что принцесса Конде вовсе не довольна защитой эрцгерцога и весьма скучает в Брюсселе. Скучает – стало быть, не прочь бежать во Францию, где ждут ее объятья короля, любовь которого возрастает вместе с препятствиями… Генриху посчастливилось склонить на свою сторону супругу Берни, французского резидента в Брюсселе; все было приготовлено к похищению, но один из сообщников, Ва-либр, довел до сведения испанского посланника. Неудача! Опасаясь, чтобы вместо жены его король не вздумал похитить его, мужа, принц Конде уехал в Милан, поручив жену эрцгерцогине, женщине благонадежной, поместившей принцессу в комнате рядом со своей собственной спальней. Похищение было немыслимо, зато Генрих придумал иным путем овладеть Шарлоттой, уговорив ее отца послать за ней тетку, госпожу д'Ангулем, чтобы истребовать принцессу у эрцгерцогини отцовским именем, чему не могло быть никаких препятствий. В случае успеха немедленно по приезде Шарлотты во Францию решено было расторгнуть ее брак с принцем.
Этот план созрел в голове Генриха IV в то самое время, когда он занимался приготовлениями к войне с Австрией – войне, которая могла иметь громадное влияние на судьбы европейских государств. Вместе с тем, как бы желая вознаградить Марию Медичи за все свои минувшие и настоящие погрешности, Генрих решился короновать ее в Сен-Дени венцом королевским… Так последний месяц жизни Генриха IV был им проведен в смотрах войск и работах по их вооружению, в распоряжениях о церемониале коронации и в нетерпеливом ожидании приезда Шарлотты Конде, за которой тетка ее уже отправилась в Брюссель.
На исходе апреля 1610 года придворные стали замечать в характере Генриха какую-то странную перемену. Король сделался задумчив, рассеян и необыкновенно печален. Доныне шутливый, охотник посмешить и посмеяться сам, он теперь выбирал для разговора преимущественно мрачные предметы, слово «смерть» всего чаще срывалось с его бледных губ, и невольные слезы навертывались на его глаза. Предчувствие близкой кончины, обнаружившееся теперь, возмущало душу короля гораздо ранее; еще в феврале в письме своем в Брюссель к одному из своих агентов он сделал следующую приписку: «От тоски у меня остались только кожа да кости; все мне прискучило… Я чуждаюсь общества, а если ради приличия бываю где в собрании, то вместо развлечения чувствую смертельную тоску…»
В пятницу, 14 мая 1610 года, Генрих IV в карете отправился в арсенал для осмотра новых орудий и по какому-то неизбежному предопределению приказал вести себя через узкую и извилистую улицу Железных рядов (rue de La Ferronerie), в которой два встречных экипажа с трудом могли разъехаться. День был жаркий, и оконные кожи (тогда заменявшие стекла в каретах) были спущены. Едва успел королевский экипаж въехать в эту трущобу, как принужден был остановиться, встретив воз с сеном, перегородивший ему дорогу. Карета остановилась, король разговаривал со своими спутниками, и в эту минуту человек среднего роста, рыжий, с всклокоченной бородой приблизился к карете и, вскочив на спицу колеса, просунул голову и правую руку в окно… Сверкнуло лезвие ножа, по самую рукоятку вонзившегося в сердце короля – сердце влюбчивое, непостоянное, но, бесспорно, доброе.[62]
Смерть была мгновенна; Генрих не испустил ни малейшего стона; бывшие с ним в карете в первую минуту даже не заметили убийства, когда же заметили – оцепенели от ужаса, и сами они были ни живы ни мертвы. Убийца Равальяк был схвачен; подоспевшая стража едва могла спасти его от ярости народной для заслуженной казни; медленно поехала карета в обратный путь к Лувру. На месте недавно живого короля, откинув голову назад, с вытянутыми вдоль туловища руками, сидел холодеющий труп старика с потухшим взглядом, полуоткрытым, несколько искривленным ртом и недоумевающей улыбкой на беломраморном лице… Душа грешного человека предстала на суд Божий, деяния короля, занесенные историей на ее скрижали, остались на них неизгладимо для беспристрастного суда потомства. В нашем очерке мы рассказывали только о первом, то есть не о Генрихе-короле, но о Генрихе-человеке; мы говорили о его пороках, не упоминая о достоинствах; точка зрения, с которой мы смотрели на короля французского, невыгодная для его памяти, не допустила нас сказать о нем ни единого доброго слова. В течение более полувека Франция оплакивала Генриха IV; затем он стал героем народных преданий, любимцем черни, для которой он сделал все, что мог; через сто двадцать три года (1733) Вольтер воспел его в своей «Генриаде», а еще через шестьдесят лет (1793) французский народ, исторгнув труп Генриха IV из гроба в Сен-Дени, бросил его вместе с прочими трупами королей в яму, наполненную негашеной известью.
Мы начали наш очерк списком фавориток короля, не приносящим особенной чести его памяти. Справедливость требует представить теперь другой список, который отчасти загладит неприятное впечатление, произведенное на читателя первым. В течение двадцати одного года своего царствования Генрих IV восемнадцать раз подвергался опасности погибнуть от руки злоумышленников, – опасности, наконец, не миновавшей его – в девятнадцатый. Вот имена убийц и заговорщиков, в разное время покушавшихся на жизнь короля французского.
В 1593 г.: 1) Баррьер – лодочник на Луаре, четвертованный 31 августа.
В 1594 г.: 2) семинарист-иезуит Жан Шатель, четвертованный 29 ноября.
В 1595 г.: 3) Гиньяр, повешенный 7 января; 4) Гере, изгнанный; 5) Варад, Обри и Эторель, бежавшие, а потому изображения их, то есть куклы, были четвертованы 26 января; 6) Мерло, повешенный 2 марта.
В 1596 г.: 7) Гедон, повешенный 16 февраля; 8) Ла Раме – тоже – 8 марта; 9) неизвестный злоумышленник в Мо.
В 1597 г.: 10) обойщик, повешенный 4 января; 11) Шар-пантье и Делож, повешенные 10 апреля; 12) Ридикови и Арже, тоже; 13) Уэн, признанный сумасшедшим; 14) монах-капуцин.
В 1602 г.: 15) Ришар, обезглавленный 10 февраля; 16) маршал Бирон, обезглавлен 31 июля.
В 1605 г.: 17) заговор д'Антрага и графа Овернского. Оба были приговорены к смерти 1 февраля, но помилованы и вместо казни заточены в Бастилию.
В 1606 г.: 18) Дезиль, покушавшийся на короля 19 декабря, был признан сумасшедшим.
В 1610 г.: 19) 14 мая убийство короля Равальяком. Убийца после страшных истязаний был четвертован лошадьми и сожжен 27 мая того же года.
Все эти покушения и заговоры могли бы ожесточить, однако же не ожесточили сердца Генриха IV. Неизменно ласковый и доверчивый к окружающим, он до последней минуты был искренне любим многими извинявшими и оправдывавшими все его недостатки. Историк де Ту,[63] рассказывая о всеобщем сожалении при вести об убийстве Генриха IV, приводит почти невероятный пример привязанности к королю его друга вице-адмирала Доминика де Вика, губернатора Амьена и Кале. Посетив через два дня после злодейства улицу Железных рядов, де Вик упал без чувств и через два дня скончался от горя.
Мария Стюарт, королева шотландская
Петр Шателар. – Генрих Дэрнлей. – Давид Риццио. – Граф Босуэлл
(1560–1587)
С именем каждого из двух фаворитов и двух мужей Марии Стюарт сопряжена страшная кровавая драма, в которой шотландская королева играла роль таинственную, двусмысленную и доныне еще не разгаданную. Потомство до сих пор не произнесло над памятью Марии Стюарт решительного своего приговора, потому что число обвиняющих и оправдывающих одинаково, а страдальческая смерть подсудимой, обиды, оскорбления, клевета и девятнадцать лет заточения – слишком уважительные, смягчающие вину обстоятельства, чтобы не принять их во внимание. Марию Стюарт можно назвать перед судом истории «оставленной в подозрении», покуда случайная находка каких-либо, еще неведомых, документов не озарит светом истины личность последней шотландской королевы, если не омрачит ее памяти окончательно. До тех пор, повторяем, Мария Стюарт остается в подозрении, на поруках у поэтов и романистов.
Детство, отрочество Марии, пребывание ее во Франции и замужество с дофином Франциском II нам уже известны (см. выше). Овдовев на девятнадцатом году жизни, она, притесняемая Екатериной Медичи, удалилась от двора и переселилась в Реймс к тамошнему архиепископу, дяде своему Карлу Гизу, кардиналу Лотарингскому, где провела восемь месяцев, с декабря 1560 по август 1561 года. О том, как себя вела молодая вдова в этот кратковременный период, существует два противоречивых предания. Одно говорит, что она оставалась верной памяти покойного мужа, оплакивала его неутешно, выражая свою скорбь стихотворениями, дошедшими до нас и обличающими в Марии истинное поэтическое дарование; по другим преданиям, вдовствующая королева очень скоро утешилась, и образ жизни ее в Реймсе был самый предосудительный, чтобы не сказать, скандалезный… Оба предания, как две крайности, не заслуживают веры, и потому всего справедливее придерживаться мнения среднего: безутешная скорбь девятнадцатилетней красавицы по умершем муже, с которым она не прожила и двух лет, явление ненормальное, но если бы оно так было, то едва ли Мария была бы в состоянии писать в это время стихи, слагая свои стенания в рифмы и, так сказать, нанизывая в узоры свои слезы. Вероятнее всего, что Мария скоро утешилась; но из этого опять еще не следует, чтобы она впала в распутство. Действительно ли сын коннетабля Монморанси, красавец Данвилль, или сумасброд Шателар пользовались тогда ее благосклонностью?… И на этот щекотливый вопрос трудно ответить утвердительно, хотя и смешно было бы требовать от молодой, страстной женщины верности мужу-мертвецу, и при жизни-то не заслуживавшему особенной привязанности. Красота Данвилля, блестящий ум, любезность, вероятно, вытеснили из сердца королевы призрак жалкого идиота Франциска II, но отношения молодых людей ограничивались со стороны Марии только кокетством, столь свойственным каждой, даже и не хорошенькой, женщине, а Мария Стюарт была красавица.
Вскоре по прибытии последней в Реймс Елизавета, королева английская, требовала от Марии через своего посланника Николая Трогмортона (Throgmorton) ратификации Эдинбургского договора 1559 года, в силу которого королева шотландская обязывалась отказаться от всяких притязаний на короны Англии и Ирландии, то есть, другими словами, от всякой мысли наследовать престол английский в случае кончины одинокой девственницы Елизаветы. На это требование последней Мария отвечала отказом, ссылаясь на то, что договор был заключен без ее согласия; к этому она присовокупила, что после кончины Франциска II она выключила из своего герба герб Англии, тогда как Елизавета продолжает без всякого на то права титуловаться королевой Англии, Ирландии и Франции. К этому заметим, что после кончины Марии
Лотарингской, матери Марии Стюарт, наместником Шотландии по распоряжению Елизаветы был назначен Яков, граф Меррей (Мurrау), побочный сын покойного короля Якова V, ненавистник Марии и клеврет королевы английской.
Посовещавшись с Гизами, по их совету вдова Франциска II решилась ехать в свое королевство, для чего и требовала от Елизаветы беспрепятственного пропуска через ее владения, на что королева английская отвечала отказом к тайной радости своей державной соперницы. Полюбив всеми силами своей юной, нежной души Францию, свою вторую родину, Мария готова была пожертвовать не только своей шотландской короной, но тремя коронами Соединенного Великобританского королевства, лишь бы не покидать возлюбленную страну, мирно жить и умереть в ней в кругу друзей, родных. Не того мнения была неумолимая политика, повелевавшая Марии неотлагательно ехать в свое королевство, раздражая ее честолюбие, обольщая в будущем обаятельными миражами власти, величия, даже, может быть, благоденствия подданных. Кардинал Лотарингский, как будто предчувствуя страшную участь, готовившуюся его племяннице, напоминал ей об опасностях предполагаемого пути: королева английская могла захватить Марию в плен на водах Ла-Манша или на суше во время ее высадки на берега Шотландии. Самая эта опасность, придававшая романтический колорит путешествию королевы шотландской, казалась ей особенно привлекательной. «Едучи во Францию, – отвечала она своему дяде, – я увернулась от брата (Эдуарда VI); теперь, возвращаясь в Шотландию, сумею увернуться и от его сестры!»
Начались приготовления к отъезду. В числе спутников Марии, кроме четырех ее тезок, Сары Флеминг-Левистон и немногих верных служителей, находились Данвилль, пользовавшийся более или менее заслуженной репутацией фаворита королевы, и Шателар, ее отчаянный, сумасбродный обожатель. Тот же кардинал Лотарингский советовал Марии не брать с собой всех драгоценностей, предлагая ей переслать их в Шотландию после, вслед за ее благополучным туда прибытием.
– Дядюшка, – возразила ему на это Мария, – стоит ли думать о безопасности моих драгоценностей, когда я жизнь мою ставлю на карту?
15 августа 1561 года, несмотря на страшное ненастье, Мария со всеми своими спутниками села на корабль в Кале. В ту самую минуту, когда она всходила на палубу, в нескольких верстах от берега тонул какой-то корабль, пушечными выстрелами тщетно взывавший о помощи и вскоре скрывшийся в морских пучинах, над которыми клубились и пенились громадные ревущие валы.
– Дурное предзнаменование! – невольно прошептала Мария окружающим.
Загремели цепи поднимаемых якорей, пронзительно заскрипели блоки парусов, раздались свистки матросов, отрывистые возгласы команды, и звукам этим вторили стоны и завывание бури. Стоя лицом к берегу Франции, Мария до тех пор не спускала с него заплаканных глаз, покуда его не скрыла от них пелена проливного дождя. К вечеру непогода унялась, но ветер переменился, и корабль был принужден лавировать. Напоминая спутникам о времени идти ко сну, Мария приказала постлать себе постель на палубе под импровизированным шатром из запасных парусов; при том настроении духа, в котором она находилась, каюта казалась ей гробом. Во всю ночь королева шотландская не сомкнула и не осушила глаз, при первых же лучах солнца, будто кровью обрызнувших клочья туч, быстро мчавшихся по лазури, Мария вышла из-под своего намета и задумчиво вперила глаза на узкую полосу земли, резко отделявшуюся от седых валов на горизонте… То были берега Франции, от которых корабль еще не отдалился настолько, чтобы вовсе потерять их из виду… Над кораблем, сверкая крыльями, парили чайки, и их унылые крики казались Марии воплями друзей, покинутых ею, но вспоминающих, может быть, даже плачущих о ней. Тогда вдохновение на несколько минут посетило скорбящую путницу и холодной дрожащей рукой она набросала на клочке бумаги следующие строки:
Adieu plaisant pays de France O, ma patrie La plus cherie Qui a nourri ma jeune enfance… Adieu, France, adieu mes beaux jours! La nef, qui disjoint nos amours, N'a eu de moi que la moitie… Une part te reste; eLLe est tienne Je La fie a ton amitie Pour que de L'autre eLLe te souvienne![64]Плавание продолжалось пять дней, затрудненное бурей и английскими крейсерами, высланными королевой для поимки Марии Стюарт. Благодаря туману, благополучно миновав последних, корабль едва не разбился о подводные скалы при входе в Фороский залив и, наконец, бросил якорь в Лите (Leith). После двенадцатилетнего отсутствия Марии Стюарт родовое ее наследие, королевство шотландское, показалось ей чужбиной, а явное негодование подданных и их враждебные демонстрации доказали ей, что она навсегда утратила права на народную любовь. Главной причиной неприязненных отношений народа к своей королеве было различие их вероисповеданий: протестанты не желали признать над собой власть католички или, как тогда называли Марию Стюарт, идолопоклонницы. За несколько страниц перед этим мы рассказывали читателю о неистовстве фанатиков католической Франции и о кровавых гонениях на протестантов; в протестантской Шотландии при прибытии в нее Марии Стюарт происходило то же самое, с той разницей, что здесь протестанты гнали, преследовали и истязали католиков. Проповедник Нокс (Knox) громил с высоты своей кафедры римскую церковь и вместо приветственной речи встретил Марию Стюарт изданием в свет жестокого памфлета «Первый звук трубный против чудовищного управления царств женщинами», в котором называл королеву шотландскую новой Иезавелью. Ровно через неделю после приезда в свое королевство Мария Стюарт пожелала отслужить в дворцовой часовне благодарственное молебствие по чину римско-католической церкви, яростный народ прервал богослужение и едва не умертвил королевского духовника… При торжественном въезде Марии в Эдинбург меньшинство безмолвствовало, большинство же народной массы вопило: «Долой католичку!.. Долой идолопоклонницу!..» Вместо цветочных гирлянд, ковров и флагов стены домов на тех улицах, по которым двигалось шествие, были украшены картинами религиозного содержания, изображавшими в лицах все библейские сказания о Божьей каре, постигавшей нечестивых царей-язычников от Навуходоносора до Антиоха сирийского.
– Это начало, – говорила Мария со слезами на глазах. – Какого же конца ожидать мне?
При всем том у нее не хватало духу мстить обидчикам, и единственным своим орудием королева избрала кротость. Желая доказать суровому Ноксу, что она нимало не оскорблена его ядовитым памфлетом, Мария пригласила фанатика во дворец к обеденному столу; Нокс отказался. «Приходите лучше в церковь послушать мои проповеди, если желаете обратиться на путь истинный!» – отвечал этот юродствовавший оригинал, копиями которого можно назвать пуритан, через восемьдесят восемь лет возведших на эшафот внука Марии Стюарт, Карла I. Впрочем, Нокс обещал повиноваться королеве, по собственному его признанию, «точно так же, как святой апостол Павел повиновался Нерону». Уподобляя королеву этому чудовищу, Нокс воображал сам себя чуть ли не действительно святым апостолом. Передавая в своих записках эти выходки и хвалясь ими, как подвигами, он вменяет себе в особенную заслугу то, что его беседы неоднократно доводили королеву до слез. Этими слезами Мария Стюарт искупала злодейства своих единоверцев на европейском континенте и ту невинную кровь, которую они проливали в угоду римскому двору… И единственный ли это пример в истории страданий правого за виновных?
Независимо от подстрекательства народной злобы и фанатизма проповедниками, подобными Ноксу, правитель королевства граф Меррей и государственный секретарь Мэйтленд, рабы
Елизаветы, распускали в народе слухи, самые оскорбительные для чести Марии Стюарт, обвиняя ее в преступной связи с Дан-виллем, сопровождавшим ее в Шотландию. Эти слухи принудили наконец Данвилля возвратиться во Францию; примеру его, скрепя сердце, последовал Шателар, из любви к королеве шотландской покинувший родину. Любовь эта, воспылавшая в сердце бедняка при первом же взгляде на Марию Стюарт в день ее бракосочетания с Франциском II, покуда была самая платоническая и выражалась единственно нежными стихотворениями, сладкими до приторности, плодами вдохновения влюбленного поэта. Судя по отзывам современников, Петр де Боскозель Шателар (внук славного Баярда) был сам похож на рыцаря… Печального Образа. Восторженный до сумасбродства, влюбчивый, отважный и вместе с тем рыцарски-благородный, он по примеру паладинов избрал себе девизом слова: «Бог, родина и дама моего сердца». Мария Стюарт, для которой любовь Шателара не была тайной, из жалости удостоивала этого обожателя своей ласки, терпеливо выслушивала его стихотворения, немножко кокетничала с ним, тайком смеясь над безумцем со своими фрейлинами… Но ничем не подавала ему повода тешиться несбыточными надеждами.
Отъезд французских друзей, выжитых клеветниками Марии Стюарт из Шотландии, был тем приятнее Елизавете, что теперь ненавистная ей королева шотландская осталась вполне беззащитной, во власти Меррея и Мэйтленда. Не пренебрегая никакими средствами для унижения и пагубы Марии, коварная Елизавета внешне поддерживала с ней самые дружеские, приязненные отношения, называя Марию в своих письмах к ней «доброй, возлюбленной сестрицей», и, искусная в политике, тем успешнее вела свою жертву к несомненной гибели. Детски-простодушная Мария доверялась Елизавете, совещалась с ней о государственных делах и следовала советам злодейки – советам предательским и опасным. Ненависть Елизаветы к Марии Стюарт, независимо от какой-то естественной антипатии, была следствием зависти и ревности, доходивших до смешного. Узнав, что королева шотландская пишет стихи, Елизавета тоже ударилась в поэзию и кропала вирши, восхищаться которыми могли разве только льстецы из ее дворцовой лакейской. Мария Стюарт прекрасно играла на лютне и клавесине, Елизавета, в свою очередь, считала себя отличной музыкантшей. Ничем иным нельзя было ее так порадовать, как браня Марию или критически относясь к ее безукоризненной красоте. Когда Мельвиль, посланник королевы шотландской, представлялся Елизавете, она спросила его с притворной небрежностью и без всякого такта: «Скажите мне, кто лучше из обеих нас: я или ваша государыня?» – «Моя государыня, – отвечал Мельвиль, – первая красавица в Шотландии, точно так же, как ваше величество – в Англии». Видимо довольная ответом, Елизавета заметила, что Мария Стюарт ниже ее ростом. «Никак нет, – возразил Мельвиль, – она несколько повыше вас…» – «О, в таком случае она уже слишком высока!» – засмеялась королева, утешаясь этим мнимым преимуществом над своей державной соперницей. Можно сказать без малейшего преувеличения, что, если бы природа оделила Елизавету красотой Марии Стюарт, а последнюю некрасивой наружностью Елизаветы, она, конечно, не погибла бы на эшафоте. Всякая ненависть может быть примирима, кроме ненависти женщины безобразной к красавице или глупца к умному человеку. Не столько соображения политические, сколько боязнь стать лицом к лицу с Марией Стюарт побуждала Елизавету всячески уклоняться от свидания с ней.
По возвращении во Францию бедный Шателар почувствовал тоску невыразимую по своей ненаглядной королеве и окончательно потерял голову. Нимало не задумываясь над неприличием вторичного своего появления в Шотландии, Шателар; запасшись рекомендательными письмами от коннетабля Монморанси, пустился в путь и через неделю преклонил колено пред Марией в приемной зале замка Голируд. Для королевы каждый приезжий из Франции был дорогим гостем, а потому и неудивительно, что она приняла Шателара с самым дружеским радушием. Этот прием показался влюбленному несомненным знаком взаимности, и Шателар из прежнего скромного воздыхателя вдруг сделался дерзким и предприимчивым. Отложив на время поэзию с ее сонетами, эклогами и мадригалами, поэт предался более прозаическим замыслам и на первый случай отважился поздним вечером забраться в спальню королевы. Более огорченная, нежели обиженная этой дерзостью, Мария Стюарт приняла во внимание молодость сумасброда и простила ему это увлечение, которое, несмотря на неудачу, могло набросить весьма неблаговидную тень на ее репутацию.
Шателар, глубоко тронутый великодушием королевы, дал ей честное слово сдерживать свою любовь в пределах благоразумия и, действительно, несколько времени был скромен, почтителен и преодолевал свою страсть, насколько у него хватало силы воли; силы же этой хватило весьма ненадолго. Шате-лар не искал случая увидеться с королевой наедине – случай этот, по роковому предопределению, представился сам. Зимой 1563 года он вместе с придворными Марии Стюарт сопровождал ее в северные области королевства. На ночлеге в местечке Бернт-Айленд, пользуясь благоприятной обстановкой, Шателар опять спрятался за альковом спальни королевы, за несколько минут до ее прихода… На этот раз безумцу, невидимо присутствовавшему при ночном туалете своего кумира, удалось видеть Марию Стюарт во всем блеске ее обаятельной красоты, чуть не в том виде, в котором Венера появилась из пены морской… Мог ли в эту минуту двадцатипятилетний, воспаленный страстью Шателар помнить данное королеве честное слово, мог ли сознавать, на что он решается? Позабыв весь мир, видя перед собой только прелестнейшую, обожаемую женщину, он бросился к ее ложу и разбудил спавшую бешеными лобзаниями. На отчаянный крик Марии Стюарт к ней прибежали прислужницы и ее демон Меррей, для которого настоящий случай был истинным торжеством, так как подавал едва ли не основательный повод к бесславию Марии… Она, сгорая от стыда, не вымолвила ни слова в защиту Шателара, да и что могла бы сказать королева в его защиту? Она могла простить преступнику его вторичное покушение как женщина, но как королева была обязана отдать его в руки правосудия. Шателара увели под стражей; Меррей назначил особую следственную комиссию для обсуждения этого темного и скандалезного дела. Опомнившийся Шателар на всех допросах остался верен своей роли рыцаря-паладина, готового сложить голову за даму своего сердца; он не только не оговорил королеву, но, чтобы выгородить ее, наговорил на себя много лишнего. Основываясь на его показаниях, судьи готовы были признать его не за влюбленного, увлекшегося страстью, но за злодея, умышлявшего на жизнь королевы… Обвиненный и уличенный в оскорблении величества, Петр Шателар был приговорен к смертной казни. Внук рыцаря без страха и упрека доказал несомненную законность своего происхождения, до последней минуты сохраняя невозмутимое присутствие духа. Перед казнью он декламировал «Оду к смерти», сочинение Ронсара, а восходя на эшафот, воскликнул, обращаясь к Марии:
– Прости, прекраснейшая и жесточайшая из всех государынь в мире!
Казнь Шателара дала новую работу языкам клеветников и не менее ядовитым и продажным перьям памфлетистов. Тем и другим не стоило большого труда уверить подданных Марии Стюарт, будто Шателар, ее любовник, пал жертвой ее предательства, и из уст в уста ходила молва о том, как королева, сама назначив свидание бедному молодому человеку, призвала своих служителей и безжалостно выдала им Шателара как преступника, а потом возвела его на эшафот. Королева-девственница Елизавета, в то время бывшая в весьма интимных отношениях с Робертом Дадлеем (DudLey), графом Лейчестером, была жестоко возмущена мнимым коварством и, как она выражалась, распутством королевы шотландской. Возмущаясь в кругу приближенных и вместе со своим фаворитом злословя на Марию, английская королева писала ей в ответ на уведомление о покушении Шателара самое милое, дружественное письмо с выражением душевного сочувствия этой неприятности и с присовокуплением совета подумать о замужестве. Совет этот был вполне основателен, так как и сама Мария Стюарт на двадцать первом году от рождения не располагала обречь себя на вдовство и одиночество. Простирая свою любезность и внимательность к Марии до крайнего предела, Елизавета взяла на себя даже роль свахи, предложив в мужья королеве шотландской того же графа Лейчестера, своего фаворита. В то же время, желая смягчить этот жестокий удар самолюбию молодой вдовы-красавицы, Елизавета предложила Марии Стюарт признать ее своей наследницей. Усложненный этот вопрос королева шотландская передала на обсуждение своего дяди, кардинала Лотарингского, и по его совету отвергла предложение Елизаветы… Вместо пути примирения обеих королев, хотя грязного и позорного, теперь между ними образовалась непроходимая бездна. Елизавета, недавняя сваха, в отплату Марии за ее отказ стала всячески интриговать, и весьма успешно, для расстройства предполагаемого брака и отдаления искателей руки шотландской королевы. Ей удалось отклонить от сватовства за Марию эрцгерцога австрийского Карла, сына императора Фердинанда. Испанский король Филипп II имел намерение женить на Марии своего сына, инфанта дона Карлоса, но передумал из-за происков Елизаветы. От предложения ей в супруги Антуана Бурбона, короля наваррского, королева шотландская отказалась сама по той причине, что не имела желания идти замуж за человека, разведенного с первой женой.[65]
В этот самый 1564 год в Шотландию с блестящей свитой прибыл граф Моретти (Moretti), сардинский посланник. В числе его спутников был некто Давид Риццио (или Риччио, как его называют в некоторых хрониках), человек уже немолодой, некрасивый собой, горбатый, но умный, ловкий, отлично образованный, превосходный композитор, певец и игрок на лютне. Таланты и богатые способности Риццио обратили на него особенное внимание Марии Стюарт, которая предложила ему место придворного капельмейстера, им с благодарностью принятое. В короткое время итальянец сумел до такой степени заслужить расположение королевы, что она пожаловала его в свои статс-секретари по части дипломатических сношений с Францией. В часы, свободные от занятий, Риццио занимал свою государыню любопытными и остроумными рассказами о своей далекой родине, играл на лютне, пел… словом, был настоящей душой придворного общества и небольшого кружка приближенных королевы. Мария привыкла к нему, полюбила его, хотя и вовсе не в том смысле, как тогда говорили при дворе Елизаветы, где, не теряя времени, объявили Риццио фаворитом Марии Стюарт. Остановимся на минуту на этом странном обвинении, фактически не опровергнутом и основанном более всего на догадках и предположениях. Некрасивый и немoло-дой, но умный и талантливый человек может, без сомнения, увлечь и обольстить молодую красавицу, всего чаще невинную и неопытную.
Самый разительный пример этому видим в Мазепе и его крестнице Матрене (у поэтов – Марии) Кочубей. Явление, бесспорно, безобразное, но возможное. Предполагая в Давиде Риццио ум, любезность, увлекательность, способные заставить собеседников или, правильнее, собеседницу забыть о его безобразии, мы не можем, однако, допустить в Марии Стюарт, женщине опытной, умной и образованной, увлечение, на которое может быть способна только неопытная девочка. Несомненно, что Риццио был влюблен в Марию, но из этого еще не следует, чтобы она, первая красавица своего времени, за которую тогда сватались короли, наследники престолов, чтобы она, говорим мы, бросилась в объятия заезжего чужеземца, искателя приключений. Марию Стюарт враги ее обвиняли в связи с Данвиллем и Шателаром; допустим эти связи, которым главным оправданием может служить то, что Данвилль и Шателар, оба были молодые, красавцы, а последний вдобавок еще и поэт, пылкий, восторженный юноша. Если же отношения Марии к Данвиллю и Ша-телару были безгрешны, тем более кажется невероятной, даже неестественной ее связь с Давидом Риццио. Если ее не могли пленить красавцы, мог ли очаровать ее уродец? Таковы умозаключения, к которым приходишь, рассматривая этот вопрос с логической точки зрения; но… но главное затруднение в том, что в делах любви логика и здравый смысл не всегда руководят поступками женщины, и нередко случается, что молодая красавица влюбляется в урода, как говорится, ради прихоти или разнообразия, именно потому, что это урод. Мария Стюарт жила триста лет тому назад, но, дочь своего века, это была женщина со всеми слабостями, свойственными и женщине современной… Шекспир, великий знаток сердца человеческого вообще, женского в особенности, представил нам в своей прелестной шутке «Сон в летнюю ночь» красавицу Титанию, страстно обнимающую осла, Основу. Неотесанный неуч с ослиной головой кажется ей первейшим красавцем в мире. Что, если подобные же минуты бывали и с Марией Стюарт во время фаворитизма Риццио, не неуча, не невежды, но умного, талантливого, образованного и только безобразного?
На этот вопрос, прислушавшись к собственному своему сердцу, может дать ответ только женщина.
Многочисленные враги Марии Стюарт, не зная меры своему злословию, объявили, будто выход ее замуж за Генриха Стюарта Дэрнлея (Darnley) был необходим для скрытия неизбежных последствий ее связи с Давидом Риццио, будто Яков Стюарт был сыном этого музыканта, а не Генриха Дэрнлея. Эта обидная генеалогия Якова, наследовавшего английский престол после Елизаветы, впоследствии подала повод Генриху IV, королю французскому, к шутке не совсем приличной, но не лишенной остроумия. «С какой это стати, – сказал он как-то, – короля Якова называют в Англии вторым Соломоном? Одним только на Соломона и похож, что отца его звали Давидом, который, подобно царю-псалмопевцу, отлично играл на арфе!»
Генрих Стюарт Дэрнлей, на которого пал выбор королевы шотландской, был сыном графа Леннокса и Маргариты, сестры короля Генриха VIII. Красавец собой, но с душой низкой, коварной, способный на всякое злодейство, он был тремя годами моложе Марии Стюарт и доводился ей двоюродным братом. При первом известии о предполагаемом бракосочетании шотландской королевы Елизавета приказала заточить старого графа Леннокса в Тауэр вместе с его младшим сыном и конфисковала их имущество. Это бедствие, постигшее семейство Дэрнлея, не изменило намерения Марии Стюарт, отпраздновавшей свадьбу свою 29 июля 1565 года и вознаградившей своего мужа за потерю имущества титулом короля.
Риццио, зная низкий характер Дэрнлея и предвидя, что он, сделавшись королем, не будет довольствоваться одним титулом, а захочет быть королем на самом деле, безуспешно старался отклонить Марию от подарка короны своему мужу. Кроме того, итальянцем руководила еще эгоистическая мысль сохранить за собой место секретаря и советника Марии и отстранить от всякого вмешательства в государственные дела любимцев Генриха Дэрнлея. Последний, до сведения которого было доведено о происках Риццио, возненавидел его, а дерзость и высокомерие, с которыми итальянец критиковал придворных, навлекли на него и с их стороны непримиримую ненависть.[66] Первые пять месяцев супружества прошли для Марии Стюарт в непрерывных тревогах и беспокойстве по случаю возмущения, имевшего целью низвержение ее вместе с мужем с престола. Меррей, поставивший себе целью всей жизни всячески вредить Марии и, если возможно, погубить ее, был главой восстания. Королева поручила своему мужу силой оружия смирить мятежников, но на это у него не хватило ни способностей, ни решимости; сама Мария принуждена была сесть на коня и с мечом в руках предводительствовать преданными ей войсками. Мятежники были разбиты наголову и отброшены к английской границе, за которой скрылся их предводитель Меррей. В начале 1566 года, благодаря энергии и разумной распорядительности Марии, спокойствие в государстве было водворено, и королева вместе со своим мужем переехала в Голируд. Здесь-то, в стенах этого дворца, уцелевшего до нашего времени, разыгралась та страшная драма, рассказ о которой передаем читателям из подлинных писем Марии Стюарт к архиепископу Глазго, своему посланнику в Париже.
Мария Стюарт, больная и на седьмом месяце беременности, 9 марта 1566 года, часу в одиннадцатом вечера ужинала в своем кабинете, рядом со спальней. За столом вместе с королевой сидели фрейлины и Риццио, камер-лакеи прислуживали. В конце ужина в комнату вошел Дэрнлей и разместился рядом с королевой, вслед за ним на пороге потайной двери, в полумраке, явилась свирепая фигура лорда Рутвена (Ruthwen). Не обращая внимания ни на королеву, ни на короля, Рутвен повелительным тоном приказал Риццио встать из-за стола и идти за собой.
– Вы приказали Рутвену прийти сюда? – спросила Мария у мужа.
– Нет, – отвечал тот, усаживаясь поглубже в кресло.
Королева приказала лорду выйти вон, но этот палач вместо того бросился на Риццио, который, вскочив со своего места, спрятался за кресло Марии. Рутвен, опрокинув стол, перегнулся через плечи королевы и ударил итальянца кинжалом, потом, схватив за ворот, поволок его в кабинет, куда прибежали прочие убийцы, сообщники Рутвена. Одному из них Дэрнлей подал собственную шпагу, и через несколько минут вместо Риццио на полу королевского кабинета лежал труп, покрытый пятьюдесятью шестью ранами… Рутвен, обрызганный кровью, сверкая глазами, крикнул королеве, что смерть музыканта – мщение ей за ее тиранства и привязанность к католицизму. За убийцами ушел Дэрнлей, видимо довольный; фрейлины и прислужники разбежались, и всю ночь Мария Стюарт провела, окованная ужасом, в креслах рядом с комнатой, на полу которой лежал изувеченный труп Риццио.
На другой день в Эдинбург вступили отряды мятежников, предводимые Мерреем, и королева с мужем бежала в замок Дунбар, куда последовали за нею преданные ей вельможи. Народ не присоединился к мятежникам, как они рассчитывали, несмотря на старание их сообщника Рутвена. Изъявив покорность королеве, злодеи удалились в Англию, а Мария со всем двором возвратилась в Эдинбург, где 19 июня разрешилась от бремени сыном Яковом. Страшное впечатление, произведенное на Марию Стюарт видом обнаженных мечей в ночь убиения Риццио, отразилось впоследствии на характере короля Якова, который, как известно, при виде обнаженного оружия падал в обморок. Бешенству Меррея, графа Лейчестера и Елизаветы при известии о рождении сына у королевы шотландской не было границ. В королеве английской – независимо от досады – говорила зависть, свойственная женщине, навеки лишенной отрады быть матерью.[67] «Она – мать, – говорила Елизавета, – а я одинокая, как дерево бесплодное!» Зависть и злоба не помешали ей, однако же, написать к Марии Стюарт любезное поздравительное письмо и предложить ей быть восприемницей новорожденному. Меррей, менее скрытный, преследовал супруга королевы самыми оскорбительными нападками и довел наконец Генриха Дэрнлея до того, что тот требовал от жены немедленного изгнания неугомонного негодяя… Невзирая на очевидность черноты души своего побочного братца, королева шотландская его щадила, стараясь примирить с ним своего недостойного мужа; именно недостойного, потому что в это самое время Дэрнлей, отшатнувшись от жены, проводил все дни в распутствах и пьянстве. Обряд крещения принца Якова в замке Стирлинг был причиной новых столкновений протестантов с католиками. Меррей с шайкой своих разбойников, издеваясь над обрядами католической церкви, объявил, что не намерен присутствовать в языческом храме, как он называл королевскую часовню. Графиня Эрджиль, заменявшая Елизавету при восприятии младенца от купели, была по решению англиканской консистории приговорена к торжественному покаянию… Все эти обиды болезненно отозвались в сердце Марии Стюарт, и, по целым дням заливаясь слезами, она молила Бога о единственной милости – скорейшей смерти. Даже чувства матери, впервые ею испытываемые, не могли утолить скорби несчастной женщины, разочарованной в жизни, в людях, в собственных своих чувствах; она увидела и поняла, что окружена злодеями, предателями и неблагодарными. Тот, от которого она вправе была ожидать слова сочувствия и утешения, Дэрнлей уехал к своему отцу, графу Ленноксу, в Глазго, где вскоре по прибытии заболел оспой. Послушная первому побуждению своего доброго сердца, Мария Стюарт решилась было ехать к мужу, но потом, ввиду опасности заразы не лично для себя, но для сына, отказалась от этого намерения и осталась в Эдинбурге. Желая, однако же, облегчить страдания больного, Мария послала к нему в Глазго докторов и прислужников; первые исправно доносили ей о ходе болезни, за которой она следила с непритворным участием. Когда опасность миновала и Дэрнлей стал поправляться, Мария, не обращая внимания на лютую зимнюю стужу и глубокие снега, отправилась к мужу верхом, сделав пятьдесят миль по трудным и опасным дорогам. Прибыв в Глазго, она распорядилась приготовлением уютного крытого экипажа для перевозки в Голируд выздоравливавшего мужа, но поместила его не во дворце, а в особом доме, принадлежавшем старшине коллегии св. Марии, где окружила Дэрнлея всевозможными удобствами и ежедневно его навещала. Вечером 9 февраля 1567 года она довольно долго беседовала с мужем, была как-то особенно ласкова, внимательна, а при прощании крепко поцеловала и надела ему на палец драгоценный перстень. На просьбу Дэрнлея посидеть у него еще подольше Мария отвечала, что спешит во дворец на свадьбу одной из своих фрейлин. Супруги расстались…
Часу во втором ночи, в той части города, где находился дом, в котором помещался Дэрнлей, раздался оглушительный взрыв, яркое зарево, стремительные клубы дыма и яркого пламени сверкнули на сумрачном небе. Горожане и посланные из дворца поспешили на место катастрофы и нашли груду дымящихся развалин. Жилище супруга королевы взлетело на воздух; опаленные взрывом трупы Дэрнлея и верного его слуги были найдены в саду с несомненными признаками удушения. Чьих рук могло быть это кровавое дело? Мария Стюарт обвиняла Меррея, который вместо всякого оправдания бежал во Францию; отец Дэрнлея, граф Леннокс, Елизавета, а с ними и большинство народа обвиняли Марию! На этот раз все ее поступки, предшествовавшие убийству Дэрнлея, были действительно двусмысленны и загадочны. Зачем она по прибытии с мужем из Глазго не поместила его во дворце, а в отдельном доме; чему приписать особенную нежность и ласки, высказанные королевой своему мужу за несколько часов до его страшной смерти; с какой целью был ему подарен перстень, если не для того, чтобы по нему узнать труп, даже обезображенный? Наконец, каким образом под самый тот дом, который Мария наняла для мужа, был подведен подкоп? Вот вопросы, на которые позднейшее потомство ждет и еще, может быть, будет долго ждать ответов. Не можем не указать еще на одно весьма странное обстоятельство, на исторический факт, через тридцать девять лет (1606) занесенный на страницы истории Англии. Говорим о пороховом заговоре против Якова I, сына Марии Стюарт, которому Кэтсби с сообщниками готовил ту же самую участь, которой подвергся Дэрнлей. Подражали заговорщики 1606 года убийцам мужа Марии Стюарт или между ними находился кто-нибудь из прежних заговорщиков?
В последний год супружества Марии Стюарт, ознаменованный домашними несогласиями, изменой и предательством ее мужа, характер королевы шотландской заметно изменился к худшему. Доныне мягкое, незлобливое ее сердце ожесточилось, озлобилось, и Мария Стюарт, конечно, могла решиться на преступление. Однако, всматриваясь во все подробности дела, мы видим странную смесь обдуманности закоснелого злодейства с ребяческой неопытностью и опрометчивостью. Зачем было Марии Стюарт, если действительно она убийца своего мужа, – зачем ей было прибегать к сообществу злодеев, подводить подкопы, чтобы взорвать на воздух вместе с домом трупы удавленных Дэрнлея и его слуги? Марии, ежедневно навещавшей мужа, легче, чем кому-нибудь другому, было умертвить его, не навлекая на себя ни малейшего подозрения, она могла подкупить доктора, навещавшего ее мужа, отравить его или просто уморить некстати данным лекарством. Она везла Дэрнлея пятьдесят миль, и во время этого пути, конечно, неоднократно представлялась возможность к убийству, которое самые подозрительные люди могли бы приписать простой случайности… Темное, загадочное дело! Еще один довод в пользу Марии Стюарт. Набожная до крайности, почти до фанатизма, королева шотландская в последнюю минуту жизни, у подножия эшафота, на пороге вечности, торжественно заявила о своей невиновности в убийстве Дэрнлея. Оправдываться, конечно, может и закоснелый убийца на суде при допросах, даже на эшафоте; в последнем случае именно в том преступлении, за которое его намереваются казнить. Это оправдание можно назвать последними вспышками угасающей надежды. Но Марию Стюарт казнили не за убийство мужа, и ее оправдания в этом преступлении не спасли бы ее головы. Зачем же Марии Стюарт было отягощать душу свою, предаваемую в руки Бога, лишним грехом – ложью?
Оставив сына своего в замке Стирлинг, Мария после убийства Дэрнлея на время удалилась в Эдинбург и несколько дней провела в отшельническом уединении. Это была ошибка непростительная, на которую злодеи королевы шотландской указывали как на несомненный знак ее соучастия в преступлении. Мария оплакивала мужа, молилась об упокоении его души, и эти слезы были названы слезами раскаяния, а отчуждение от общества людей – следствиями угрызения совести. Таково, впрочем, неизбежное положение каждого человека, заподозренного в преступлении: если он молчит, судьи говорят, что он не находит даже слов для оправдания; если же обвиняемый кричит и заверяет в своей невиновности, те же судьи замечают, что она не нуждается в многословии. Из Эдинбурга Мария отправилась в Стирлинг для свидания с сыном, но во время пути на нее напало восемьсот вооруженных всадников, предводимых графом Босуэлом, звероподобным кальвинистом, личным врагом королевы. Захваченная в плен этим разбойником, она была привезена в его замок, где Босуэл предложил ей на выбор смерть или выход за него замуж; это было насилие, облекаемое в законную форму. Не столько страх смерти, сколько мысль о счастии сына побудила Марию отдать свою руку извергу, не без основания подозреваемому в убийстве Дэрнлея, после смерти которого не прошло еще и трех месяцев. Брак Марии был торжеством для Елизаветы и ее министров Элиса и Сесиля! Действительно, им ли было не торжествовать и не разглашать во все концы Европы, что королева шотландская отдала руку убийце своего мужа! Нужно ли иных доказательств тому, что убийство совершено по ее желанию? Мария Стюарт стала сказкой всей Европы; имя ее сделалось синонимом всех возможных бранных эпитетов, и не было государя, который бы не произносил это опозоренное имя без негодования. Нашелся ли бы тогда сумасброд на свете, который при виде женщины покоренного города, насилуемой пьяными солдатами, сказал, что она их любит, а между тем Мария Стюарт в объятиях Босуэла была не точно ли такая же несчастная жертва? Но что говорили о ней современники, что говорят потомки, что сказал Шиллер в своей бессмертной трагедии![68] Шотландцы, проклиная королеву, подняли знамя мятежа и осадили Марию и Босуэла в замке Борсуик. После отчаянной защиты Босуэл бежал на острова Оркадские, откуда пробрался в Норвегию; королева же, переодетая мальчиком, бежала в Дунбар, где и попала в плен к мятежникам. Меррей для пущего позора пленницы приказал везти ее в Эдинбург с торжеством, вполне достойным гнусного распорядителя. Марию посадили на лошадь, которую вели под уздцы при ругательствах нескольких тысяч народа и звуках музыки; впереди несли штандарт с нарисованными на нем изображениями трупа убитого Дэрнлея и полуторагодовалого короля Якова, стоящего на коленях с воздетыми к небу руками, будто взывая об отмщении. Штандарт несли так, чтобы он во все время шествия был перед глазами Марии. Несколько раз она лишалась чувств, отворачивалась, рыдала, умоляла о пощаде; от слез, смешанных с пылью, лицо ее было покрыто грязными пятнами, которые можно было принять за следы от комьев грязи, которые чернь кидала своей королеве вслед. После этого поругания Марию заточили в замке Локлевен, где Меррей отдал ее под надзор своей матери Маргариты, дочери графа Ирскина (Erskine), бывшей любовницы Якова I.[69] Эта старая полоумная мегера, обходясь со своей пленницей как нельзя хуже, называла ее не иначе как незаконною похитительницею престола, в то же время величая себя супругою покойного ее отца, а сына своего, изверга Меррея, законным королем шотландским. Здесь же мятежники подали Марии для подписи два акта, которые она подписала, даже не читая. По первому она отрекалась от престола в пользу своего сына, малолетнего Якова VI, по второму утверждала правителем королевства графа Меррея. Все имущество бывшей королевы было разграблено, драгоценности и столовое серебро были от нее отняты; наконец, католические часовни при дворцах разрушены и осквернены. Одиннадцать месяцев провела королева в темнице, в течение которых Елизавета, чудовище лицемерия, писала ей письма, наполненные утешениями, выражениями соболезнования и приглашениями переселиться к ней в Англию. Освободителем несчастной узницы, к стыду совершеннолетних, явился пятнадцатилетний мальчик Уильям Дуглас. Он похитил Марию из темницы и привез в Гамильтон. Здесь на призыв королевы отозвалось до шести тысяч преданных ей смельчаков и поклялись ей отстаивать ее до последней капли крови. Несмотря на единодушие и храбрость, эта горстка воинов принуждена была уступить численности и была рассеяна Мерреем при первой же схватке с его войсками в Лэнгсайде.
Лишенная последней опоры, Мария была брошена на произвол судьбы, в безотрадном раздумье, куда ей бежать, где искать приюта, где преклонить свою развенчанную голову. Всего прежде она вспомнила о своей милой Франции, но там властвовала ее ненавистница Екатерина Медичи и бесхарактерный Карл IX; в северных областях Европы происходили волнения; в Германии Мария не могла рассчитывать ни на радушный прием, ни на содействие… Самыми существенными препятствиями к бегству королевы в чужие края были не столько ограниченные денежные ее средства, сколько отсутствие кораблей в ближайших портах. Находясь в Киркедбрайте, на границах английского королевства, Мария Стюарт на рыбачьей лодке переправилась через Сольвейский залив и 16 мая 1568 года высадилась в Уоркингтоне, в графстве Кумберленд. Она надеялась на великодушие Елизаветы, введенная в обман ласковым тоном писем, которыми удостаивала ее королева английская. Мария была встречена во владениях своей соперницы с подобающими почестями, и вслед за тем местопребыванием ей назначен был город Кэрлиль, где к ее жилищу был приставлен вместо почетной стражи сильный караул. Отсюда изгнанница написала королеве английской трогательное письмо, в котором просила ее, как родственницу и добрую соседку, дозволить ей прибыть в Лондон. «Готова увидеть вас, – отвечала ей Елизавета, – но прежде всего вы должны оправдаться во всех возводимых на вас обвинениях!» Через несколько дней после того Марию, пленницу, по королевскому повелению перевезли в замок Больтон. Старый граф Леннокс подал Елизавете прошение о предании Марии Стюарт суду за убийство его сына; Меррей переслал статс-секретарю Семилю шкатулку с бумагами королевы шотландской, и в числе их копии с ее писем к Босуэлу и какие-то неблагопристойные, эротические стихотворения. На основании этих данных следственная комиссия, созванная в Йорке, не только не признала Марию виновной в убийстве мужа, но убедилась, что душой заговора был ее обвинитель Меррей. В этом смысле был составлен доклад Елизавете, которая, досадуя на судей, созвала в Вестминстере, у себя под боком, новую комиссию, составленную из людей менее добросовестных и более послушных ее распоряжениям. Меррей подал апелляцию на решение Йоркской комиссии и получил в виде вознаграждения пять тысяч фунтов стерлингов. Королева шотландская, со своей стороны, протестовала против неуважения ее прав и требовала себе депутатов из среды вельмож Шотландии. Дело усложнилось и затянулось. Желая ускорить развязку, Елизавета предложила Марии свое посредничество между ею и инсургентами, с тем чтобы она отреклась от престола. Мария отвечала, что она была и пребудет до последней минуты королевой шотландской. Ее упорство разжигало ярость и бешенство Елизаветы, которая, не довольствуясь душевными страданиями своей жертвы, присоединила к ним мучения физические, из опасения бегства или похищения перевозя Марию Стюарт из одной тюрьмы в другую. В конце года, невзирая на жестокую стужу, Марию перевезли в Тьюттбюри; оттуда – в замок Уинкфильд, где ее отдали под надзор лорда Шрюсбюри (Shrewsbury) и его жены. Лорду было дано секретное поручение: прикинувшись влюбленным в пленницу, вовлечь ее в интригу, а жене его – при удобном случае уличить Марию в распутстве. Кроме того, караульному офицеру Рольстону было повелено целомудренной королевой английской обольстить, если возможно, Марию Стюарт. Не знаем, верить ли безусловно словам бедной пленницы, но именно в это же время Мария послала Елизавете официальную жалобу на леди Шрюсбюри, покушавшуюся на отравление узницы.
Бедственная участь последней обратила на себя внимание человека доброго, благородного, задумавшего освободить Марию; человек этот был старый герцог Норфолк, не видавший ее в глаза, но искренне ей преданный. Наивернейшим путем для спасения Марии, по мнению герцога, могло быть ее замужество с ним и выход дочери его замуж за малолетнего короля Якова. Это кровосмесительное упрочение династии могло успокоить Шотландию и примирить враждовавших королев. Восхищенный этим планом, герцог Норфолк имел неблагоразумие сообщить о нем Меррею, этому холопу, шпиону Елизаветы. Верный себе самому, Меррей немедленно сделал донос, и Норфолк как государственный изменник был заточен в Тауэр. Этим предательством Меррей сослужил Елизавете свою последнюю службу; через месяц, 23 января 1569 года, в небольшом городке Линлит-сгоу (LinLithgow) он был застрелен Яковом Гамильтоном Ботсуэлло (Bothwellough) за то, что осмелился обесчестить его жену. Боясь наказания, Гамильтон бежал во Францию, куда прибыл именно во время кровавых распрей католиков и протестантов. Вожаки первой партии, не зная о настоящей причине убийства Меррея и предполагая, что Гамильтоном руководил фанатизм, привлекли его на свою сторону и предложили точно так же умертвить адмирала Колиньи.
– Убью непременно, – отвечал Гамильтон, – если только ваш адмирал осмелится точно так же оскорбить меня, как Меррей!
Елизавета оплакала убиенного своего клеврета и на его место правителем Шотландии назначила графа Леннокса, которого убили в 1571 году при осаде Стирлинга… Два года продолжались кровавые усобицы между приверженцами пленной Марии и ее сына. Беспощадная к первым, Елизавета приговорила к смертной казни герцога Норфолка и графа Нортумберленда (1572). Третий доброжелатель Марии, граф Уэстоморленд, был осужден на изгнание. Пользуясь всеобщим негодованием, возбужденным в Европе Варфоломеевской ночью, Елизавета распустила слух, будто в этих злодействах принимала тайное участие ее пленница, за которой присмотр был усилен. Опять несчастную Марию перевели в новую темницу, замок Шеффильд, где в самом жалком помещении ей дали одну только служанку и тревожили днем и ночью перекличками дозорных… Елизавета потешалась над страданиями Марии, она играла ею, как кошка пойманной птичкой. Все старания Фенелона, французского посланника, смягчить участь пленной королевы остались безуспешными; умилостивить Елизавету было так же трудно, как усовестить разъяренного каннибала. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн доказывала всему свету несомненность своего происхождения от этих двух чудовищ и бешенством своим возбудила презрение даже в Екатерине Медичи! Желая погасить в порядочных людях малейшую искру жалости к Марии, королева английская заказывала, печатала и распространяла множество пасквилей и самых гнусных памфлетов о своей пленнице. Между продажными борзописцами, не щадившими для ее бесславия ни желчи, ни грязи, особенно отличался наставник юного короля Якова, некто Бечанан (Buchanan), когда-то облагодетельствованный Марией Стюарт. Брошюры этого пасквильного автора были отосланы Елизаветой во Францию для надлежащего распространения, но здесь они по повелению Екатерины Медичи были сожжены. Раболепствовавший перед Елизаветой парламент предложил ей применить к Марии Стюарт указ об оскорблении величества (biLL of attainder), но королева английская великодушно отклонила это предложение… Понятен ли читателю иезуитизм этой женщины? Она желала от всей души гибели Марии Стюарт, денно и нощно мечтала о возведении ее на эшафот, но в то же время хотела остаться чистой и незапятнанной в глазах современников и потомства; хотела умертвить королеву шотландскую на законном основании. Отвращая от Марии людей чужих, ей сострадавших, Елизавета, поручив воспитание ее сына лорду Рутвену, Бечанану и другим, им подобным злодеям, сумела внушить Якову ненависть к матери, не менее той, какую питал к королеве шотландской Меррей.
До сих пор крепкое здоровье Марии от огорчений, частых разъездов и неудобств тюремного заключения наконец ослабло, и до такой степени, что она слегла. С той мыслью, что она уже на смертном одре, Мария (8 ноября 1582 года) написала к Елизавете письмо, в котором обстоятельно изложила ей все события своей жизни и представила все доводы, которые могли служить ей к оправданию. В это же время доктора, лечившие пленницу, испрашивали у Елизаветы разрешения их больной пользоваться водами Бокстона; к голосу врачей присоединились испанский и французский посланники. Их вмешательство показалось Елизавете подозрительным, и лорду Шрюсбюри она поручила не терять Марию из виду во все время ее пребывания на водах.
Самым великодушным из всех европейских государей оказался в это время король французский Генрих III, и посланник его Мовиссьер был особенно настойчивым в ходатайстве об облегчении участи шотландской королевы. Напоминаем читателю, что Мария была двоюродной сестрой Генриха Гиза, врага короля французского; лигёры колебали его трон, междоусобицы раздирали Францию, и при всем том Генрих III непритворно жалел пленницу Елизаветы и сделал для нее все, что мог. Королева английская, письменно уверяя его в своем сострадании к Марии, уклоняясь от решительного ответа, продолжала издеваться над королевой шотландской. Доведенная до последней крайности, страдалица написала ей письмо, стоившее ей немало слез, так как в нем Мария торжественно отрекалась от престола в пользу своего сына, умоляя свою мучительницу единственно об освобождении и дозволении навеки удалиться во Францию… Это письмо осталось без ответа. Французскому посланнику было передано, что королева английская охотно согласилась бы на просьбу своей пленницы, но безопасность государства запрещает оказать ей милосердие, так как она мятежница. На тайном совете, созванном Елизаветой для решения участи королевы шотландской, граф Лейчестер предложил развязаться с Марией Стюарт при помощи яда. Это предложение доказывало, что семнадцать лет тому назад злодей с этой же самой целью сватался за королеву шотландскую. Гнусное предложение Лей-честера было, однако, отвергнуто государственным секретарем Уолсингэмом. Покуда шли эти переговоры, пленницу перевезли опять в Тюттбюри, где для ее жилища назначили две сырые низенькие каморки, в которых не согласился бы жить самый последний поденщик. Надзор был доверен сэру Эмиасу Паулету, в 1559 году бывшему посланником при французском дворе, где его видела Мария Стюарт, тогда юная новобрачная. С годами этот человек из ловкого царедворца превратился в угрюмого, брюзгливого нелюдима, неумолимого формалиста, бездушного автомата, соединившего, однако, в своей особе жестокосердие палача с благородной прямизной. Этот новый тюремщик Марии Стюарт под окнами ее темницы в одно прекрасное утро повесил католического священника за то, что тот назвал королеву шотландскую мученицей и пожалел о ней. Дважды в сутки, утром и вечером, Паулет навещал свою узницу, шарил в ее комнате по всем углам, осматривал стены, постель королевы, ее платья. Малейшая просьба пленницы была для Паулета вопросом государственным, решение которого он ни под каким видом не осмеливался взять на себя. Жалуясь на неудобства своей новой тюрьмы, Мария просила, между прочим, дать ей постель помягче; Паулет отказал ей и в этой безделице. Совещания Елизаветы с Уолсингэмом и Лейчестером окончились; тот и другой решили, что смерть Марии Стюарт – необходимость, и Паулету был прислан приказ умертвить пленницу. Старик отвечал, что он может быть тюремщиком, но не палачом. Лейчестер прислал нескольких подкупленных солдат для убийства пленницы; Паулет вытолкал их вон из своей комнаты при первых же словах о цели их посещения. Видя, что тайное убийство невозможно, Уолсингэм решил ждать повода к законному приговору Марии Стюарт к смертной казни, в полной уверенности, что ждать не придется долго. Шпионы, рассеянные по городам Англии и Шотландии, прислушивались к народной молве и зорко следили за теми, которые осмеливались выражать свое сожаление об участи королевы шотландской. Некто богатый землевладелец графства Дерби, Антоний Бэбингтон, католик по вероисповеданию и ревностный приверженец Марии Стюарт, составил обширный заговор в ее пользу, имевший целью убийство Елизаветы и возведение на английский престол освобожденной из заточения королевы шотландской. Увлекшись этой мечтой или, вернее, химерой, Бэбингтон привлек к себе множество своих единоверцев, в особенности же из среды лиц духовного звания. В числе заговорщиков был священник Гиффорд, который, рассудив, что доносчик никогда ничего не потеряет, довел замыслы Бэбингтона до сведения Уолсингэма. Некоторые из заговорщиков, вовремя уведомленные, спаслись бегством; сам Бэбинг-тон с двенадцатью товарищами был схвачен, и все они после непродолжительного следствия были казнены. Со смертью их поспешили именно затем, чтобы отнять у Марии Стюарт возможность сослаться на их показания, так как ее обвинили в соучастии и организации этого заговора, о котором она имела понятие единственно по слухам. По повелению Елизаветы у пленницы были захвачены все бумаги, находившиеся при ней в темнице; секретарей ее, Кюрля и Ноу, арестовали, и судилище началось.
Мария, как и в первый раз, объявила членам следственной комиссии, что не признает над собой власти законов английских, что о заговоре Бэбингтона ничего не знает; что бумаги, по которым ее уличают, все до единой подложные; что, наконец, показания против нее обоих секретарей вынуждены у них невыносимыми пытками. Шатонёф, посланник Генриха II, взяв на себя защиту Марии Стюарт, добился аудиенции у Елизаветы. Королева выслушала его с глубочайшим вниманием, вполне согласилась со всеми его доводами в пользу своей жертвы; сказала, что искренне ей сочувствует, рада сделать все, что только возможно для ее спасения, и в заключение прокляла безжалостные законы своего государства. Шатонёф обратился к сыну Марии, укоряя его в равнодушии.
– А мне до нее какое дело? – отвечал Яков. – Пусть моя мать то и пьет, что для себя заварила!
Этот жалкий выродок был прав… Действительно, несчастная его мать испивала тогда чашу горестей, окончательно отравленную и переполненную его варварским ответом. Воспитание, конечно, могло испортить сердце Якова, но надобно было и от природы иметь богатые задатки чудовищных пороков, чтобы выговорить о родной матери эти ядовитые слова. В ответ на них из-под сводов темницы несчастной мученицы глухо прозвучало проклятие.
Усердный Паулет при обыске в темнице отобрал у Марии все ее драгоценности и наличные деньги и последним лишил ее отрады подавать милостыню нищим, подходившим к ее окнам.
– Подите прочь! – крикнула им узница, когда они в первый раз после ее ограбления подошли к окну. – Мне нечего подать вам; теперь я сама такая же нищая, как вы!
25 сентября 1586 года по королевскому повелению Мария Стюарт была отвезена в замок Фортсрингэ в Нортсгемптоне. Здесь пленнице дозволили некоторые удобства; четырем ее фрейлинам и старому Мельвилю (бывшему посланнику английского двора) разрешено было находиться при ней. Вместе с тем, как бы для намека о готовившейся для нее участи, стены спальни Марии обили черным сукном, а пологу у кровати, тоже черному, придали вид надгробного балдахина. Узница настоятельно требовала, чтобы дело ее о соучастии в заговоре было рассмотрено в государственном совете. Требование отвергли, и разбирательство дела препоручили комиссии из двадцати лордов под председательством канцлера. Главными уликами были признаны письма королевы шотландской к Бэбингтону, почерк которых был действительно ее собственный или превосходно подведенный под ее руку… Но что же именно из двух? Это не решено. Мария Стюарт признала подделку за работу своих секретарей, которые, из желания добра ей же самой, писали без ее ведома к Бэбингтону. Ноу и Кюрль (под пытками, правда) утверждали, что письма были написаны собственной рукой королевы, что она имела непосредственные сношения с заговорщиками.
На этот раз самый ревностный защитник Марии Стюарт мог бы стать в тупик, особенно после оглядки на события всей ее предыдущей жизни. В каждом грязненьком или кровавом деле, в котором по всем признакам королева шотландская принимала участие, она при первом же слове обвинения спешила заявить о своей неприкосновенности к делу и совершенной невинности: она права и чиста, всегда и во всем.
Ее обвиняют в связях сначала с Данвиллем, потом с Шате-ларом, затем с Давидом Риццио. «Клевета, – отвечает Мария Стюарт на эти обвинения. – Данвилль был мне только друг; Ша-телар – безумец, которому я не подавала ни малейшего повода поступить со мной так нагло, что же касается до бедного Риццио, он был моим секретарем и верным советником».
Муж Марии, Генрих Дэрнлей, с которым она была не в ладах, удавлен и взорван. Действия королевы, предшествовавшие катастрофе, весьма подозрительны. «Этому несчастному делу, – отвечает она, – я ни душой, ни телом не причастна!»
Через три месяца после смерти мужа она выходит за Босу-эла, одного из его убийц. В ответ на всеобщее негодование она стонет, заливаясь слезами: «Это насилие!»
В замке Локлевен Мария подписывает акт об отречении от престола в пользу своего сына и через некоторое время на требования Елизаветы подтвердить его права она говорит: «Была и пребуду королевой шотландской!»
Наконец, ей предъявляют письма, ее рукой написанные к заговорщику Бэбингтону. «Знать не знаю, ведать не ведаю, – показывает Мария при допросах, – письма поддельные».
Если весь ряд этих обвинений – клевета, напраслина, насилие, ложь, подлог, тогда королева шотландская просто праведница, жертва какой-то таинственной судьбы; если же обвинения справедливы – Мария Стюарт преступница, подобных которой мало отыщется в истории, и тогда эшафот был самым законным возмездием ей за все злодейства…
Не потому ли она кажется нам ангелом, что соперница ее Елизавета так похожа на демона?
В последние месяцы 1586 года Шатонёф и Белльевр, нарочный посол Генриха III, неутомимо хлопотали об освобождении Марии Стюарт и едва могли добиться аудиенции у королевы английской. В течение шести недель, со дня на день, Елизавета отклонялась от личных объяснений. Сначала она сослалась на опасение заразы, так как Белльевр прибыл с континента, на котором тогда свирепствовали повальные болезни; потом королева выразила боязнь, нет ли в свите посланника наемных убийц; наконец, после всех уверток и уловок она приняла Белльевра. Эту аудиенцию можно назвать смешной эпизодической сценой в кровавой трагедии. Объясняясь с послом, Елизавета говорила на каком-то смешанном языке – то по-латыни, то по-французски; на ее лице явно отпечатлевались все волновавшие ее чувства. После бледности она вдруг покрывалась пятнами или ярким румянцем, составлявшим как бы отлив рыжих волос дочери Генриха VIII; ястребиные ее глаза попеременно щурились с выражением томной неги или, воспаленные зверской яростью, выходили из орбит… Говорила она разными голосами: то громовым мужским басом, то звонким сопрано, переходя от гневного крика к вкрадчивому шепоту. Наговорила Елизавета французскому посланнику очень много, но все-таки ничего положительного ему не сказала. На другой же день в Лондоне разнеслась весть о том, что Мария Стюарт, бывшая королева шотландская, приговорена парламентом к смертной казни. На это радостное известие весь город отозвался праздничным колокольным звоном, а к вечеру озарился иллюминациями по распоряжению полиции и тайных агентов Елизаветы; она же сама в эти минуты называла членов палаты варварами, выказывая негодование на бесчеловечный их приговор…
– Это ангел, а не женщина! – пел умиленный хор придворных. – Ее ли не оскорбляла Мария Стюарт, умышлявшая на ее корону и жизнь, и она же, кроткая, незлобивая, сожалеет о злодейке?
Слухи о приговоре дошли до Марии, и она написала Елизавете последнее письмо, в котором просила оказать ей только две милости: в случае казни дать ей католического духовника, а после смерти отослать ее тело для погребения во Францию. Елизавета, говорят, прослезилась, читая письмо, но не дала на него никакого ответа. Мoжет быть, она еще думала помиловать Марию или, того вернее, хотела ее помучить ожиданием. Белльевр почти насильно проник во дворец, просил, умолял, грозился, напоминал, что казнь Марии может послужить поводом к войне между Францией и Англией… Последняя угроза рассмешила королеву, так как в то время Генрих III сам не имел возможности у себя дома сладить с Лигой. «Не наживайте себе еще новых врагов, – писала ему Елизавета, – и, не мешаясь в дела чужого королевства, подумайте лучше о своем собственном и послушайтесь доброго совета: не ослабляйте поводьев, если не желаете, чтобы мятеж, как бешеный конь, вышиб вас из седла!» Желая отомстить французским посланникам за их докучливость, Елизавета расставила им западню, в которую, однако же, они не попались. Лорд Стаффорд по секретному ее повелению освободил из тюрьмы содержавшегося там преступника и подучил его, явясь к Белльевру, выдать себя за приверженца Марии Стюарт, и предложить ему тайно убить Елизавету. Гнусное предложение подосланного было отвергнуто с негодованием, и сам посланник довел о том до сведения королевы. Раскинутая ему сеть порвалась, как легкая паутина…
Без утверждения (warrant) королевы приговор парламента не мог быть приведен в исполнение; Елизавете же непременно было желательно свалить юридическое убийство Марии Стюарт на других. Опять она ухватилась за мысль, нет ли какой возможности тайным убийством предупредить явное, и с этой целью поручила секретарю своему Дэвисону переговорить с упрямым Паулетом. На этот раз, как и в предыдущий, тюремщик отказался наотрез быть убийцей, прибавив, что ни за какие блага в мире не решится на дело, противное совести.
– Как, однако, этот старый дурак надоел мне со своей совестью! – сказала Елизавета, когда Дэвисон передал ей ответ Паулета.
Твердой, бестрепетной рукой она подписала смертный приговор Марии Стюарт, покуда еще все недействительный без приложения государственной печати. Подправив кое-где буквы подписи и прибавив лишний штрих к росчерку, Елизавета, покусывая перо, устремила свой пронзительный взгляд на Дэвисона с торжествующей улыбкой.
– Кончено, – сказала она, – и как гора с плеч долой! Снеси приговор Уолсингэму, пусть приложит печать…
Дэвисон, взяв роковую бумагу, пошел к выходу, королева, смеясь, его остановила.
– Знаешь, что я думаю? – сказала она. – Старик Уолсин-гэм болен; что, как, увидя приговор, он умрет с горя? Ты, пожалуйста, приготовь его к этому страшному известию.
Чтобы читателю понятна была вся соль этой милой шутки, мы должны сказать, что канцлер Уолсингэм был заклятым врагом Марии Стюарт.
Часу в десятом вечера, когда Мария готовилась лечь в постель, прислужницы доложили ей о приходе графа Кента и королевских комиссаров. Одевшись наскоро, узница вышла к ним.
– Приговор ваш утвержден, – объявил ей граф Кент самым спокойным голосом. – Завтра он будет исполнен. Приготовьтесь к смерти.
– Слава Богу! – воскликнула Мария с неподдельной радостью. – Наконец-то я буду спокойна и вполне счастлива.
– Можете утешаться и той мыслью, – заметил граф Кент, – что ваша смерть послужит залогом спокойствия двух государств и водворения истинной религии в Великобритании!
– Да, мысль утешительная, – в раздумье повторила Мария. – Не как преступница, но как мученица сложу я мою голову на плаху за веру моих отцов.
Комиссары, сопровождаемые Паулетом, удалились, и едва замкнулась за ними дверь, как страшные рыдания огласили комнату Марии. Бывшие при ней прислужницы, ее фрейлины, четыре Марии, упав к ее ногам, покрывали их слезами и поцелуями.
– О чем вы плачете? – твердо произнесла Мария. – Радуйтесь со мной вместе окончанию моих страданий здесь и началу бесконечного блаженства там.
Она удалилась в свою молельню, где провела два часа и откуда вышла видимо усталая и ослабевшая. «При слабости тела, когда оно удручено, – заметила она присутствовавшим, – ослабевает и дух. Бессонница может окончательно изнурить меня, отдых необходим; но прежде дайте мне чего-нибудь закусить!»
Узнице подали немного жаркого, приправленного вином, и, покушав с обычным аппетитом, она легла на постель и погрузилась в непродолжительный, но крепкий сон, во все продолжение которого ее приближенные молились, заглушая рыдания, чтобы ими не потревожить последнего сна их королевы. Зимняя ночь долга; она кажется еще длиннее во время бессонницы беспричинной или насильственной у одра больного… Между тем подруги Марии молили Бога о продлении ночи, вопреки законам природы, друзей королевы ужасала мысль, что с каждой секундой она теперь, покуда еще полная жизни, приближается к гробу, в который будет положена не сраженная недугом по воле Божией, но обезглавленная, убитая по злобе людской, по прихоти женской.
Немедленно по своем пробуждении Мария написала письма к Генриху III и к недостойному своему сыну. В первом она, благодаря короля за его защиту и участие, просила его не оставить своими милостями ее верных друзей и прислужниц, разделявших с нею заточение. Окончив письма, Мария занялась приготовлением одежды и уборов для утра, приказала достать из шкафа черное бархатное платье, длинный белый вуаль и головную гребенку в виде короны. Она осматривала все эти вещи с таким спокойствием, как будто дело шло о поездке во дворец, на праздник.
Ночное небо из непроглядно-темного заметно становилось серым; холодное, пасмурное утро 18 февраля 1587 года безжалостно заглянуло в окна темницы, которой было суждено через два часа опустеть, как клетке, из которой птичка упорхнула на волю, или, лучше сказать, истерзана кошкой. Мария Стюарт в это время взяла со своих тезок клятву, что они немедленно после ее казни уедут во Францию.
– Там поплачут обо мне, – сказала она слегка изменившимся голосом, – поплачут, когда душа моя будет уже блаженствовать!
В молельне королевы на аналое стояло распятие слоновой кости, лежали ее четки, молитвенник и священная oблата (hostia), присланная Марии папой Пием V несколько лет тому назад, которую она сохраняла именно для смертного своего часа. Мысленно исповедуя свои грехи пред изображением распятого Спасителя, Мария приобщилась этой облатой святых его тайн…
В самую эту великую минуту стук в дверь и скрежет отодвигаемых засовов возвестили присутствовавшим о приходе новых посетителей, на этот раз за жертвой, обреченной на плаху. Фрейлины и прислужницы Марии растерялись и упали духом до такой степени, что не могли решиться впустить стучавшихся у дверей комиссаров;[70] Мария отворила им сама. На этот раз комиссаров было более, нежели несколько часов тому назад. Кроме Паулета и графа Кента между ними был англиканский пастор Флетчер.
– Могут ли мои фрейлины и прислужницы сопровождать меня до… – Она приостановилась. – Туда, куда вы меня поведете? – спросила Мария графа Кента.
– Я бы не советовал вам брать их с собой, – отвечал тот. – Их слезы и стенания расстроят вас.
– Даю вам слово за добрых подруг моих, что они не будут плакать и, искренне жалея меня, не захотят меня расстраивать.
– С этим условием пускай идут!
– Благодарю вас за себя и за них, – ласково сказала Мария. – Теперь позвольте мне собраться…
Она взяла распятие и молитвенник. Граф Кент с ядовитой усмешкой произнес при этом:
– Идолопоклонница!
Ответив ему величественным взглядом и вытянувшись во весь рост, Мария почти грозно сказала:
– Прошу не забывать, граф, что вы говорите с бывшей королевой Франции и Шотландии, внучкой вашего короля Генриха VII и двоюродной сестрой королевы Елизаветы. Где католический духовник, о котором я просила?
– Вы можете обойтись без него, – отозвался Кент.
– Я здесь, – вмешался Флетчер. – Мои молитвы могут точно так же…
Мария даже не взглянула на него и сама сделала первый шаг к выходу. Шествие тронулось; за королевой следовали комиссары и Паулет, а за ними уже фрейлины и прислужницы. Было тут еще одно живое существо, тщетно порывавшееся за королевой, – существо, в котором чувств и жалости было несравненно более, нежели в Елизавете, ее комиссарах и во всех именитых членах парламента… То была комнатная собачка Марии Стюарт, оставленная за дверьми каземата. Ее жалобный лай и вой несколько времени провожали Марию, покуда она по коридору не дошла до спуска с лестницы, ведшей в нижний этаж темницы. На площадке, истерически рыдая и ломая руки, стоял дряхлый старик Андре Мельвиль. Не имея сил выговорить слова, он почти без памяти опустился на колени перед королевой.
– И ты здесь, мой старый друг? – сказала она, силясь поднять его. – Рада тебя видеть и попрошу сослужить последнюю службу. Подай мне свою руку и помоги спуститься с лестницы.[71]
Поддерживаемая Мельвилем, Мария Стюарт вошла в обширную, на сводах, залу, в которую набралось человек около трехсот зрителей, представителей народа. Эшафот был обтянут черным сукном; на эшафоте стояли кресла и бархатная скамья, в двух шагах от них возвышалась плаха с лежащим на ней топором, при виде которого невольная дрожь пробежала по членам Марии.
– Напрасно, напрасно! – покачав головой, сказала она своим спутницам. – Было бы гораздо лучше рубить голову мечом, как во Франции…
Фрейлины и прислужницы зарыдали, но королева, приложив палец к устам, прошептала им:
– А данное мною за вас слово? Умейте владеть собой до времени. После – можно!
Флетчер, подошедший к ней, начал ее уговаривать отступиться от католицизма, от имени королевы обещая за это помилование… «Напрасная трата слов, – перебила его Мария, – я родилась, выросла и умру верной католической церкви!» Сказав это, она опустилась на колени и горячо стала молиться. По окончании молитвы к ней подошел палач со своими помощниками и предложил помочь ей раздеться.
– Благодарю за предложение услуг, – сказала им королева, – но я, во-первых, не намерена обнажаться при таком множестве зрителей, а во-вторых, мне помогут мои женщины.
С их помощью она отстегнула высокий лиф платья и обнажила шею и плечи; потом сама завязала себе глаза нарочно для этого приготовленным платком, отшпилила вуаль, подобрала волосы, не снимая гребенки, и села на кресла. Палач, без шума сняв топор с плахи, взвалил его себе на плечо. Медленно опустилась Мария Стюарт на скамью и, положив голову на плаху, произнесла пресекающимся замирающим голосом:
– In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum! (Господи, в руки твои предаю дух мой!)
Этих слов не слыхали ее верные подруги, которые, закрыв глаза и зажав уши, отбежали в угол залы; но до слуха их долетел первый удар топора и раздирающий душу вопль Марии. Вместо того чтобы направить удар по шее, неловкий палач опустил топор на затылочную часть головы, причем удар был ослаблен косой и гребенкой… Только после двух следующих ударов голова королевы шотландской скатилась на помост.
– Так да погибнут все враги ее величества королевы Елизаветы! – крикнул граф Кент, ожидая от присутствовавших в ответ оглушительного «виват!», но присутствовавшие молчали, и только Флетчер отозвался монотонно:
– Аминь!
Продолжая морочить честных людей своим притворным милосердием и поддельным великодушием, Елизавета в самый день казни послала нарочного с приказом помедлить с исполнением приговора. Посланный, разумеется, опоздал, а когда королева английская по его возвращении в Лондон узнала о совершении казни, она с неподражаемым искусством притворилась удивленной и огорченной.
– Разве я приказывала вам казнить Марию Стюарт?! – накинулась она на Дэвисона.
Он напомнил королеве о собственноручной ее подписи приговора.
– Я это знаю, – отвечала Елизавета, – но разве я приказывала вам немедленно приложить государственную печать и скрепить мою подпись без моего ведома? Помните же, – продолжала она грозно, – что вы оба, вы и Уолсингэм, виноваты в смерти Марии, а я в этом кровавом деле чиста и невинна, хотя по вашей милости стала теперь тиранкою в глазах всей Европы!..
И, как бы желая доказать свое сожаление об убиенной ею Марии Стюарт, английская королева облачилась в траур и в течение нескольких дней сказывалась больной. Дэвисон был удален от двора.
Катерина Медичи и Генрих III в своих злодействах были откровеннее: они не надевали траура ни по адмиралу Колиньи, ни по братьям Гизам. Можно сказать, что Елизавета перещеголяла их своим траурным нарядом.
Труп казненной Марии Стюарт, покрытый лоскутом сукна, содранным со старого бильярда, перенесенный с эшафота в зале нижнего этажа замка Фортсрингэ в особую комнату, невзирая на все просьбы приближенных покойной королевы, отдан им не был. Брантум, игривое воображение которого не щадило ни живых, ни мертвых, говорит в своих записках, будто мертвое тело Марии Стюарт, отданное во власть палачу, подверглось самому гнусному поруганию. Это бесстыдная ложь бесстыдного любителя скандалов; ничего подобного не было! Труп Марии был набальзамирован доктором и двумя хирургами, призванными из Стамфорда, потом, обложенный ароматными смолами и душистыми травами, в свинцовом гробу был перевезен в Питер-боро и поставлен в тамошней католической капелле, напротив гробницы королевы Екатерины Арагонской. Приличные украшения, гербы и надписи означали место упокоения последней королевы шотландской. Все они были уничтожены во время мятежа пресвитериан в 1649 году; но тело Марии Стюарт, еще за тридцать семь лет перед этим (1612), по повелению короля Якова I из капеллы Питерборо было перенесено в Вестминстерское аббатство.
Скорбь осиротевших фрейлин, прислужниц и всех приближенных Марии была невыразима; она свела в могилу Сару Левистон-Флеминг и мужа Марии Ламбрюн (Lambrun). Последняя через несколько дней после смерти мужа, обезумев от горя, покусилась на убиение Елизаветы, но, схваченная, была ею помилована и избавлена от всякого преследования. Справедливость требует упомянуть о собачке Марии Стюарт, не отходившей от ее гроба до самого отвоза тела в Питерборо и после того вскоре околевшей от тоски. Сделав заметку об этой четвероногой безгрешной фаворитке последней королевы шотландской, мы прибавим, что подобного примера бескорыстной привязанности читатель не отыщет ни в одном из последующих биографических очерков двуногих фавориток и небессловесных временщиков.
Елизавета, королева английская
Роберт Дадлей, граф Лейчестер– Роберт дЭвре, граф Эссекс (1558–1603)
Для Англии век Елизаветы по громадному своему значению для этой страны был тем же, что был для Франции век Людовика XIV; для России – век нашего Петра Первого; для Пруссии – век Фридриха Великого. Елизавете Великобритания обязана своим политическим единством, началом могущества на морях, славой на суше, почетным своим местом в сфере европейских государств, развитием внешней своей торговли и внутренней промышленности; наконец, блестящими успехами наук и искусств. Как королева Елизавета вполне достойна удивления потомства, лавры ее неувядаемы, и вечная слава венчает ее светлым, ничем не затмеваемым ореолом. Смотреть на нее с этой точки зрения нам не под силу: «глазам больно» и высота недосягаемая, доступная Юму, Робертсону, Боклю, Маколею. Избрав предметом нашего посильного труда эпизодические события жизни и те фазисы бытия великих властителей и властительниц земли, когда они или оне являлись данниками слабости человеческой, мы посмотрим на Елизавету, не вознесенную на высоту своего величия, но низведенную на степень простой, обыкновенной смертной с ее слабостями, недостатками и характером, с некоторыми чертами которого мы уже познакомились. Не в короне и порфире, окруженную великими сподвижниками, с миллионами раболепствующих подданных у ее ног мы увидим Елизавету. Нет! Мы вызовем ее тень в миртовом венке, в наряде светской кокетки, в объятиях фаворитов, смиренно преклоняющуюся перед могуществом любви; не повелевающую, но повинующуюся. Елизавета в тронном зале, в парламенте, окончательно избавляющая Англию от папского ига, побеждающая с помощью Божией Непобедимую армаду Филиппа II – одно лицо; мы увидим другое. Нас интересует страстная, как львица, и, подобно львице, ужасная в своей страстности женщина: из любви к своему Лейчестеру отказывающая сватающимся за нее и принцам и королям; женщина, которую скорбь по казненному ею графу Эссексу сводит в могилу; мечтательница в тенистых рощах Вудстока, кокетливо-резвая в чертогах Кенильвортса или в парках Ричмонда и Виндзора.
Здесь, к слову, заметим, что Елизавета, подобно многим другим историческим личностям, вдохновляла великое множество поэтов, романистов, композиторов, живописцев, и каждый из них более или менее погрешил против исторической правды, воспевая Елизавету или избирая ее в героини трагедии, романа или в натурщицы картины… Последние, то есть живописцы, пожалуй, еще менее всех прочих художников представляли королеву английскую в искаженном виде; зато поэты и романисты не стеснялись и наплели на Елизавету небылицы, которые ей при жизни и во сне не снились. Так, между прочим, в ее фавориты пожаловали славного Шекспира! Он прославил ее царствование, а романисты вместо того бесславят и его, и Елизавету небывалой между ними вымышленной связью… Только один романист действительно воскресил для потомства королеву английскую в бессмертном своем произведении, вероятно знакомом нашим читателям хоть в переводе, так как они, без сомнения, читали «Замок Кенильуртос», роман славного Вальтера Скотта.
Дочь Генриха VIII и Анны Болейн, Елизавета родилась 7 сентября 1533 года, через три с половиной месяца после их бракосочетания. Этому обстоятельству, конечно, не следует придавать особого значения, так как король-тиран мог узаконить дочь или сына, родившихся даже и за год до его свадьбы, но дело в том, что, играя законами, Генрих VIII то лишал Елизавету ее прав, то восстанавливал их по своему капризу; наконец, умирая, наследниками своими назначил поочередно всех своих детей: Эдуарда, Марию Тюдор и Елизавету. Последняя, воспитанная Паркером в законе протестантском, принуждена была в кровавое царствование своей сводной сестры Марии (1554–1558) перейти в католицизм. Этим она спасла свою голову от плахи, но не снискала при дворе того почета, которого вправе была требовать как наследница престола. При Эдуарде VI, который любил Елизавету, у нее были льстецы и поклонники; брат правителя, родной дядя короля, адмирал Томас Сеймур, искал ее руки,[72] но Елизавета отказалась от этой чести, предвидя бедственный конец временщика, главное же – втайне любя Куртенэ, графа Девоншира, к которому и Мария Тюдор питала страсть, презренную и отвергнутую жестоким. При воцарении Марии все изменилось, и дочь Екатерины Арагонской находилась в тех же самых отношениях к дочери Анны Болейн, в каких впоследствии Елизавета сама находилась к Марии Стюарт. Помимо соперничества в любви, Мария Тюдор преследовала Елизавету, во-первых, за то, что та была восемнадцатью годами ее моложе и в тысячу раз красивее; во-вторых, за различие вероисповеданий; в-третьих, за те обиды и страдания, которые по милости Анны Болейн перенесла Екатерина Арагонская. Заподозренная в соучастии в заговоре Томаса Уайта, Елизавета в марте 1554 года была заключена в Тауэр и подвергнута суду. С необыкновенным умом и тактом она оправдалась во всех обвинениях и, благодаря ходатайству жениха Марии Тюдор, испанского короля Филиппа II, была избавлена от тюрьмы. По освобождении ее Мария Тюдор предлагала Елизавете выйти замуж за герцога Савойского, но Елизавета, понимая, что это замужество не что иное, как замаскированное изгнание, отказалась от этого предложения. Этим она пуще прежнего вооружила против себя Марию, которая удалила ее в замок Вудсток, а графа Девоншира в Фортсрингэ. Разлучая, таким образом, с Елизаветою графа, равнодушного к отвратительным прелестям Марии Тюдор, последняя воображала досадить принцессе, но жестоко ошиблась, так как сердце Елизаветы в это время уже занято было другим предметом, молодым красавцем Робертом Дадлеем, сыном недавно казненного герцога Нортумберленда. Принцесса познакомилась с ним в бытность свою в Тауэр, где и он был заточен, подобно ей, но лишенный родовых прав и всего имущества. Роберт, старше Елизаветы двумя годами, родился в 1531 году и был сверстником короля Эдуарда VI. Падение отца, а вслед за тем заговор Уайта подвергли его опале королевской и были причинами заключения в Тауэр, где по таинственному предопределению судьба столкнула его с Елизаветой. С первых своих встреч с красавцем Дадлеем принцесса почувствовала в своем сердце непреодолимое к нему влечение, по объяснению Кэмдена, вследствие рождения своего с Дадлеем под одним и тем же созвездием. Трудно было бы найти причину глупее, но, может быть, именно вследствие своей пошлости это астрологическое оправдание связи Елизаветы с ее первым фаворитом нашло достаточное количество людей легковерных, им довольствовавшихся. Не рождение под одной и той же звездой сблизило Елизавету с Робертом, а нахождение ее с ним под сводами одной и той же темницы; сильнее всякого планетного влияния подействовал на принцессу очаровательный взгляд восемнадцатилетнего юноши, вкрадчивый его голос, речи, проникнутые живейшим участием; наконец, первый поцелуй пламенных его уст, первые страстные объятия, в которые пала обольщенная Елизавета… «Любовь графа Лейчестера была чисто платоническая», – говорят некоторые историки, пекущиеся о целомудрии королевы английской. Могут уверять в этом сколько им угодно, но едва ли кто поверит им! Не тот был век, да и Елизавета по своему происхождению и по страстной комплекции была далека от нелепого идеализма.
Роберт Дадлей, освобожденный вскоре после избавления Елизаветы, удостоился совершенного прощения с возвращением всех прав и с производством в фельдцейхмейстеры. Он тайно навещал Елизавету в Вудстоке, где она жила тем более забытая, почти презренная всеми, что парламент в угоду Марии Тюдор объявил тогда брак Генриха VIII с Анной Болейн недействительным, а Елизавету – незаконной. Отнимая у нее надежду когда-нибудь быть на престоле, Мария Тюдор сама тешилась несбыточной мечтой иметь законных наследников от своего супруга Филиппа II. Последний, явно сочувствуя Елизавете, уговорил Марию дозволить ей переселиться из Вудстока в иное, более приятное местопребывание. Мария согласилась; Елизавета, наконец совершенно свободная, перебралась в уединенный замок Гэтфильд и здесь прилежно занималась науками, изучением языков и на досуге садоводством. Радея о своем образовании, она как будто предчувствовала свой блестящий жребий и в недалеком будущем видела корону над своей головой. Уединение, смертельно-тоскливое для человека с ограниченным умом, бывает всего чаще благотворно для человека, одаренного разумом обширным и богатыми способностями. Дообразовывая себя, Елизавета кроме наук реальных и умозрительных в совершенстве изучила кроме своего языка природного языки французский, итальянский, латинский, читала и переводила классиков и, подобно своему покойному отцу, любила поспорить о философских доктринах и религиозных догматах. Отличительной чертой ее ума был сарказм, и в самом обыденном разговоре она не скупилась на колкости и на приправу своих речей аттической солью. С холодной степенностью истой дочери Британии она могла соединять остроумие француженки и шутливость итальянки. Люди, самые недоброжелательные к Елизавете, не осмеливались отказать ей в обширном уме, что же касается до сердца, то от чуткого слуха молвы не укрылись учащенные, прерывистые его удары при встречах Елизаветы с Робертом Дадлеем. Нежно влюбленный, заботясь о доброй славе будущей своей государыни, он для устранения подозрений женился на знатной, богатой девице… Может быть, и на Эми Робсар, памяти которой Вальтер Скотт посвятил так много трогательных страниц в своем вышеупомянутом романе. Достоверных исторических данных о первой женитьбе будущего графа Лейчестера так мало, что нам поневоле приходится ссылаться на рассказы английского историка-романиста. Едва ли мы ошибаемся, говоря, что Роберт Дадлей женился за год до восшествия на престол Елизаветы.
Мария Тюдор, старая дева, нашедшая молодого мужа, в которого влюбилась без памяти, неоднократно объявляла парламенту и народу о своей мнимой беременности, принимая за ее признаки болезнь, которая свела ее в могилу. Народ, обманывавшийся в ожиданиях, отвечал на манифесты Марии Тюдор об интересном ее положении грубыми, циническими шутками. Королева умерла от водянки 17 ноября 1558 года, кроме болезни, удрученная горем по случаю взятия Кале французами, но еще того более по случаю разлуки с мужем, уехавшим в свое королевство.
Еще недавно объявленная незаконной, лишенной прав на престол, Елизавета, теперь смертью Марии Тюдор узаконенная, не теряя времени, прибыла из Гэтфильда в Лондон, встречаемая повсюду народом с изъявлениями непритворной радости; въезд ее в Лондон был истинным триумфом. В своей речи к членам парламента новая королева сравнивала себя с пророком Даниилом, милостью Божией спасенным изо рва львиного. Всем заточенным в тюрьмах за какие бы то ни было преступления объявлено было прощение; о притеснении лютеран не только не было помину, но Елизавета явно выказала себя их защитницей и покровительницей. Бывший ее доброжелатель, Филипп II, король испанский предложил ей свою руку, от которой Елизавета отказалась, презирая в нем слишком ярого поборника католицизма. Обряд коронования и священного миропомазания по уставу церкви католической совершен был 15 января 1559 года, причем, как говорят летописи, королева выказала крайнее неуважение к святыни и великому таинству. Через два месяца после того Елизавета согласилась на принятие титула главы церкви, предложенного ей парламентом, и восстановила в прежней силе законы Генриха VIII и Эдуарда VI о независимости церкви англиканской от римского первосвященника. Высшие духовные чины отказались от признания королевы главой церкви, но на их протест не обратили внимания, так как большинство священников подало голос в пользу Елизаветы. Так, без всякого кровопролития, совершилось знаменательное для Европы событие отпадения Англии от церкви римской! В это же время разорительная для государства война с Францией была окончена честным миром. Парламент, воздавая должную дань удивления этим первым двум подвигам королевы, озаботился, однако же, приисканием ей достойного помощника в лице супруга и с этой мыслью, избрав из своей среды депутатов, отправил их к Елизавете. Выслушав их, она отвечала им: «Для славы Божией, для блага государства я решилась нерушимо хранить обет девства. Взгляните на мой государственный перстень, – продолжала она, показывая депутатам на этот символ власти, еще не снятый после коронования, – им я уже обручилась с супругом, которому буду неизменно верна до могилы… Мой супруг – Англия, дети – мои подданные. Если польза и счастие последних потребует от меня принесения им в жертву моей девичьей свободы, я изберу себе в супруги человека достойнейшего, но до тех пор желаю, чтобы на моей гробнице начертили: жила и умерла королевою и девственницею».
Эта речь делала честь ораторскому таланту Елизаветы и была умилительно-трогательна, если бы не была смешна. Отклоняясь от выбора законного мужа ради девического целомудрия, королева-девственница именно в это время осыпала щедротами и почестями Роберта Дадлея, прозванного сердцем двора и пожалованного в обер-шталмейстеры королевы, в кавалеры ордена Подвязки с придачей замков и поместий Кенильуртос, Денби и Черк. По примеру всех временщиков Дадлей, не довольствуясь этими первыми ступенями к своему возвышению, простирал свои виды далее и выше, избрав целью всех стремлений престол и корону. Предложение парламента королеве как нельзя лучше согласовалось с его заветными надеждами, а обещание Елизаветы в случае ее замужества избрать себе в супруги достойнейшего казалось ему намеком на него же самого. Бестрепетной рукой он отравил нежную, искренне его любившую жену,[73] как бы в доказательство, что он может быть вполне достойнейшим супругом достойной дочери Генриха VIII. В это время у Елизаветы не было отбоя от женихов, которых она браковала по собственному сердечному побуждению, но еще того более – по наветам Дадлея. За Елизавету сватались одновременно электор-палатин Казимир; эрцгерцог австрийский Карл, герцог Гольштинский, дядя датского короля; Эрик, наследный принц шведский. Кроме этих венценосцев руки королевы английской домогались вельможи ее двора: кавалер Пикеринг, граф Арондель, граф д'Арранн, претендент на шотландский престол, и Роберт Дадлей. Самым настойчивым женихом из первого разряда был Эрик, принц шведский. Какая-то непреодолимая сила влекла его к Елизавете, в которой он, вероятно, угадывал такое же чудовище в женском роде, каким был сам в мужском. Он с королевой английской завел нежную переписку, удивляя ее своей страстью тем более, что влюбился в нее по слухам и по портретам. Не отвечая ему ни да ни нет, кокетничая с этим сыном великого Густава Вазы, королева английская написала ему, что едва ли когда выйдет за человека, которого не видела в глаза. Приняв это за приглашение, Эрик решился ехать в Англию, в чем ему воспрепятствовала смерть его отца (29 сентября 1560 года). Посланник Эрика при английском дворе,
Гилленстиерн, узнав о нежных отношениях между Елизаветой и Дадлеем, уведомил Эрика об истинной причине упорства королевы и получил от него в ответ приказание непременно подыскать какого-нибудь итальянца или француза и предложить ему 10 тысяч талеров за убийство ненавистного соперника. Как один другого стоит!.. Тиран Швеции не задумывался умертвить Дадлея рукою наемного убийцы, а Дадлей, в свою очередь имея виды на руку королевы, отравил свою жену…
С 1561 года начались сношения между Елизаветой и Марией Стюарт, а вместе с ними происки и интриги королевы английской, окончившиеся, как мы уже видели, казнью королевы шотландской. Непрерывные мятежи, разжигаемые в Шотландии Мерреем, не привели к желанному результату – свергнуть Марию Стюарт с престола – и тогда для ее пагубы в уме Елизаветы созрел другой план, первую мысль о котором подал ей возлюбленный Дадлей. Зная, что Мария неоднократно отзывалась о красоте его с самой выгодной стороны, Елизавета, пожаловав ему титул барона Денби и графа Лейчестера, предложила его в мужья Марии Стюарт… Последняя отказалась, может быть, к счастью для самой же Елизаветы. Отравление жен, как увидим далее, было какой-то манией у графа Лейчестера; подобно сказочному Раулю Синей Бороде, этот изверг и женился-то, кажется, для душегубства. Нет сомнения, что именно для убиения Марии Стюарт он, с согласия Елизаветы, за нее сватался. Отравив королеву шотландскую и этим путем присоединив ее королевство к Англии, остановился ли бы Лейчестер на этом? Нет, разумеется. За Марией, отравив и Елизавету и оставшись после нее единственным наследником, убийца взошел бы на престол Великобритании. Что им руководила эта адская мысль, доказательством могут служить все последующие события. В год выхода Марии Стюарт за Дэрнлея (1565) английский парламент опять докучал Елизавете настойчивыми предложениями о замужестве, и опять она отвечала ему отказом. Тогда статс-секретарь Сесиль, герцоги Норфолк, Немброк и граф Лейчестер (в особенности) требовали, чтобы Елизавета из среды вельмож назначила себе преемника; Павел Вэнтсвортс (Wenthworth) заклинал ее именем Бога, угрожая в случае отказа гневом небесным и народным… Все старания олигархов остались втуне, и Елизавета попросила их до времени не поднимать вопроса о ее супружестве.
Парламент остался в ожидании, но с 1566 по 1571 год королева его не созывала. Засылала сватов к английской девственнице и Екатерина Медичи, предлагая ей в мужья на выбор Карла IX или Генриха Анжуйского, но в ответ получила отказ, приправленный насмешкой, – верные шпионы донесли Елизавете о готовившемся тогда во Франции избиении гугенотов!
Хитрость и лицемерие графа Лейчестера на пути к престолу не принесли ему никакой существенной пользы. Отказывая женихам, Елизавета не отдавала своей руки Лейчестеру; одинокая, она не назначала его своим наследником. Всячески отстраняя от милостей Елизаветы всех царедворцев, граф Лейчестер еще заботливее следил за теми из них, которые по своему происхождению имели более права, нежели он, выказать притязания на престол. Таковыми были Сеймур, граф Гэртфорд и жена его Екатерина Грэй, родная сестра несчастной Джейн. По наговорам Лейчестера Елизавета объявила брак их расторгнутым, а двух детей, рожденных Екатериной, незаконными… Заточенная в темницу вместе с мужем, графиня Гэртфорд в ней умерла, присоединив свое имя к длинному списку прочих жертв временщика. В 1572 году граф Лейчестер тайно обвенчался с леди Дуглас Говард, вдовой барона Шеффилда. Слухи об этом дошли до ушей Елизаветы, и опала готовилась обрушиться на неблагодарного Лейчестера. Опоив жену каким-то зельем, от которого у несчастной вылезли волосы и отвалились ногти, злодей принудил ее к разводу и выдал ее за Эдуарда Стаффорда. Недавно негодовавшая на своего возлюбленного, Елизавета сменила гнев на милость, и Лейчестер по-прежнему был первым после королевы лицом при дворе и в государстве. Число его льстецов возрастало с каждым годом, женщины, не смея явно соперничать с Елизаветой, наперебой ловили каждый взгляд красавца, каждое его слово. Вкрадчивый, как змей-искуситель, Лейчестер имел в своей наружности особенную, обаятельную, неотразимую прелесть; Эндимион английской Дианы, он до последней своей минуты имел на нее могучее влияние, и не было преступления, которого бы она не простила ему. Ужасная в своем гневе, способная своеручно растерзать виновника своей ярости, Елизавета не имела сил сердиться на Лейчестера, и кроме короны, то есть жизни, не было той жертвы в мире, которой бы она не была способна принести своему обожаемому красавцу. При своем могуществе сколько пользы и добра мог бы принести Лейчестер своему государству, если бы, кроме красивой наружности, природа одарила его богатыми способностями или мало-мальски благородными чувствами… Нет! Способный единственно на интриги и злодейства, Лейчестер был даже не посредственностью, но олицетворенной бездарностью, и гнусная его личность может служить типом породы вредных временщиков, тех сынов счастья, которых ближе всего следует называть ржавчиной на венцах королей, молью на их порфирах… Здесь нелишним считаем объяснить читателю, в чем мы полагаем разницу между временщиком вредным и полезным.
Наше русское слово временщик, равносильное иностранному фаворит, имеет, однако же, перед ним то преимущество, что происходит от корня время и соединяет в себе два понятия: о милостях государя к своему любимцу и о непродолжительности могущества последнего – могущества преходящего, временного. «На милость образца нет» – говорит наша родная пословица. В старину ничтожная услуга, оказанная вовремя, острое словцо, кстати сказанное, в особенности же красивая наружность выводили счастливцев в люди и возносили их до высоты тронов королевских. Пользуясь благосклонностью к ним государей или государынь, эти счастливчики вслед за собой обыкновенно вытягивали из грязи свою родню, окружавшую государя живой изгородью и тем делая его недоступным; как голодные пиявицы, сосали государственную казну, а вместе с нею и кровь народную. Загораживал ли им дорогу человек истинно даровитый, полезный – его сталкивали, втаптывали в грязь, отравляя ядом или наговорами и клеветами доводили до изгнания, до эшафота. Приберегая милости и щедроты только для самих себя, вредные временщики побуждали державных своих покровителей не скупиться на казни и немилости к другим. В истории всемирной наберется немало государей, людей, в сущности, добрых, но прослывших, однако, тиранами, благодаря своей бесхарактерности, а главное – благодаря временщикам и фавориткам, злоупотреблявшим их расположением. Вредными временщиками были Лейчестеры, Сен-Марсы, Бироны, Шуазели. Этого разряда господа не пренебрегали никакими путями для достижения своих властолюбивых или своекорыстных целей. Их не волновало, что, стремясь к почестям, они пятнали себя бесчестием и по колена в грязи и крови взбирались на высоту, где эта грязь и кровь становились особенно заметны. Какое им дело, что под их ногами раздавались стоны раздавленных и угнетенных? Лишь бы достигнуть цели, а там за золотом и ярким гербом, как они были уверены, не видно будет ни грязи, ни крови; вопли и проклятия жертв будут заглушены хором льстецов и раболепствующих паразитов. От этого разряда временщиков резко отделяется другой, который мы, за неимением под рукою более подходящего слова, назовем разрядом временщиков полезных. Думая о себе, они не забывали других, и милости случайные, незаслуженные оправдывали заслугами и подвигами на пользу общую. Кардинал Ришелье был временщиком, но он возвеличил Францию; Струэнзе был фаворитом королевы, но народ датский за попечения министра о пользах народа благословлял его; наш Меншиков тоже временщик, но вместе с тем сподвижник великого Петра, умный исполнитель многих благих его предначертаний… Временщиками были Разумовские, но их фаворитизм не вредил никому, а благодеяния их народу равнялись щедротам и милостям к ним Елизаветы Петровны. Почетные прозвища Чесменского и Таврического, неразлучно связанные с фамилиями Орлова и Потемкина, отчасти заглаживают в памяти потомства с их же именами сопряженные эпитеты временщиков…
Но после этого, возразят нам, каждого заслуженного человека можно назвать временщиком?
Нет, не каждого. Вредный временщик – вор, крадущий милости у своего государя, или, что одно и то же, шулер, фальшивый игрок, выигрывающий у счастья огромные ставки благодаря ловкой своей передержке; полезный временщик – тоже игрок, но игрок честный, которому везет… истинно заслуженный человек – богач, потом и кровью наживший громадное состояние, но могущий дать совестливый отчет в каждом приобретенном рубле. Чистейшим типом безукоризненного служаки, начавшего свое поприще с солдатским ружьем на плече, а окончившего его с фельдмаршальским жезлом в руках, в короне италийского принца крови, – наш бессмертный Суворов! Этого героя временщиком не назовешь: он грудью, а не спиной или красивым лицом взял все свои почести, на слепую фортуну не полагался, в удачу не верил. «Помилуй Бог! – говаривал наш чудо-богатырь. – Сегодня удача, завтра удача… Надобно же и уменье!»
Теперь возвратимся к прерванному рассказу и окончим биографический очерк презреннейшего из всех временщиков древних и новейших времен – графа Лейчестера.
В сентябре 1573 года Елизавете исполнилось сорок лет; она достигла того возраста, в котором безжалостное время отнимает даже у красавицы большую часть прелестей, а королева английская и смолоду не могла похвалиться красотой, хотя до гробовой доски была уверена и заставляла верить других, что прелестнее ее нет на свете. Высокая ростом, превосходно сложена, более величавая, нежели грациозная, она имела в лице что-то жесткое, отталкивающее. Рыжие затейливо убранные волосы, высоко взбитые по моде того времени, осеняли высокое чело, на которое еще в молодых годах слишком часто набегали морщинки глубокой мысли, раздумья, но всего чаще – досады. Нос напоминал клюв хищной птицы, тонкие губы, острый выдающийся подбородок обличали характер злобный, безжалостный и непреклонный… Глаза королевы английской были необманчивым зеркалом ее души, великой и коварной – как море, которое они напоминали своим изменчивым цветом. Прозрачно-серые в спокойном состоянии Елизаветы, ее глаза отливали лазурью в минуты радости и делались зеленоватыми, фосфористо-блестящими в минуты гнева. Приближаясь к сорока годам, а с ними к разрушению, Елизавета приняла все меры к сохранению себя вечно юной с помощью косметических средств, всевозможных притираний, умываний и т. п. Она именным указом запретила продавать свои портреты без особого на то разрешения по той причине, как она выражалась, что художники, не видя подлинника, придавали чертам ее лица несвойственное ему выражение или изображали его с недостатками, от которых «Бог королеву помиловал». В последние годы скрывая седины, Елизавета носила парик, а худобу и морщиноватость шеи маскировала высоким, туго накрахмаленным воротником. Гардероб ее, бесспорно, был богатейшим в Европе, так как в нем насчитывалось свыше тысячи платьев с соответствующими каждому уборами. В полном блеске туалета королева явилась на семнадцатидневных празднествах графа Лейчестера, в его великолепном замке Кенильуртос в 1574 году. Летописи единогласно утверждают, что подобной роскоши не было видано до тех пор ни в Англии и нигде в свете. Великий Могол, конечно, мог поспорить богатствами с королевой английской и ее фаворитом, но при отсутствии изящества и вкуса что значат груды бриллиантов и горы золота! Праздники в замке Кенильуртос наделали шуму в Европе, а рассказы о них возбудили завистливое любопытство в государях континента. Нет действия без причины, и граф Лейчестер истратил в течение семнадцати дней до миллиона серебряных рублей (на наши деньги) не ради пустого тщеславия. Чествуя в своем замке королеву, он видел в ней невесту, и празднества его были похожи на торжественную помолвку… С выражениями благодарности от Елизаветы он ждал слова согласия, почти уверен был, что корона и скипетр будут ему наградами за двадцатилетнюю связь, начатую под сводами Тауэра, продолжавшуюся под сенью престола…
Но о бракосочетании своем с фаворитом у Елизаветы не было и мысли; радужные мечты временщика разлетелись вместе с дымом его блестящих фейерверков, надежды угасли вместе с иллюминациями.
К этому времени можно отнести интимное сближение Лей-честера с семейством Вальтера д'Эвре, графа Эссекса, бывшего наместника Ирландии. Он был женат на Летиции Нолльс, родственнице Елизаветы (со стороны ее матери Анны Болейн), и имел сына Роберта, родившегося 10 ноября 1567 года. Сближаясь с Эссексами, граф Лейчестер шел к престолу вновь про-лагаемой тропой, по своему обыкновению – тропой злодейства. Обольстив Летицию Эссекс, Лейчестер отравил ее мужа и тайно обвенчался с нею. Расчет убийцы был тот, чтобы породниться с Елизаветой и тем приобрести неоспоримое право на престолонаследие. Малолетний Роберт, отданный умирающим отцом лорду Бурлею, рос на его попечении; брак матери с убийцей оставался тайной для него и для всего двора до 1578 года, когда посланник герцога Франциска Анжуйского открыл все Елизавете. Разгневанная, она потребовала от временщика ответа, грозилась засадить его в Тауэр, но вскоре сменила гнев на прежнюю милость. Граф Лейчестер без всякого стыда клятвенно уверил королеву, что все сообщенное ей не что иное, как гнусная клевета, дело интриги завистников. Все пошло прежним порядком…
В 1584 году иезуит Парсон издал анонимный памфлет под заглавием «Республика Лейчестера», в котором разоблачил все злодейства временщика и выставил его опасным крамольником, преобразующим на свой лад государственную конституцию и покровительствующим пуританам с целью найти в них поддержку в случае переворота. Памфлет иезуита, написанный желчью, со многими преувеличениями, содержал в себе, однако же, порядочную частицу истинной правды. Что же сделала Елизавета? Государственный совет по ее повелению от ее имени издал указ, опровергавший по пунктам все обвинения, возведенные на Лейчестера в памфлете и вместе с тем исчислявший его достоинства и заслуги. Не желая оставаться перед королевою в долгу, временщик, пригласив вельмож и дворян на чрезвычайное собрание, предложил им дать законную силу биллю о предании смертной казни каждого, осмеливающегося не только покушаться на жизнь королевы, но даже неуважительно о ней отзываться. Парламент утвердил предложение Лейчестера, и новый закон пришелся как нельзя более кстати для применения его к Марии Стюарт.
Около этого времени при дворе явилось новое лицо, обратившее на себя благосклонное внимание королевы, а потому, разумеется, и всех ее приближенных. Это был семнадцатилетний Роберт Эссекс, стройный красавец, умом и образованием напоминавший феноменального Филиппа Сиднея (бесценный алмаз в короне Елизаветы, как его называли). Граф Лейчестер не только не глядел косо на молодого Эссекса, но, представив его ко двору, всячески старался выставить Роберта с самой выгодной стороны. В этом случае, как всегда и во всем, у временщика был расчет, и довольно верный. Кроме Эссекса, едва ли кто другой мог занять место фаворита, и, таким образом, фаворитизм пасынка был бы продолжением фаворитизма отчима; наконец, и Эссекс, руководимый своей матерью и Лейчестером, был бы надежным и могущественным орудием для осуществления заветных замыслов временщика. Своими отношениями к нему и матери молодой Эссекс отчасти напоминал Гамлета: та же бессильная ненависть к отчиму, недовольство матерью, с той разницей, однако, что Эссекс боялся Лейчестера, а потому перед ним хитрил и лукавил. Дебют молодого Роберта в роли царедворца был весьма удачен и снискал ему всеобщее одобрение. Это было осенью, в Виндзоре. Пользуясь тихой, ясной погодой, Елизавета пожелала прогуляться в парке, куда отправилась, сопровождаемая несколькими фрейлинами, Лейчестером, Карлом Блоунтом и Эссексом. Бродя по аллеям парка без определенной цели, королева достигла его конца, отдаленного от замка, а потому и содержащегося довольно нерадиво… Широкая дождевая лужа перегородила дорогу Елизавете, и она остановилась, вынужденная или отступить, или обойти лужу по влажной траве. Заметив затруднение королевы, Эссекс сорвал с плеча свою богатую епанчу голубого бархата, вышитую серебром, и разостлал ее под ногами Елизаветы. Эта внимательность и находчивость понравились ей, ласковая улыбка и несколько приветливых слов были наградой молодому кандидату в фавориты, которому лужа послужила первой ступенькой к возвышению. Нравственный вывод из этого события сам напрашивается на язык, и нельзя удержаться, чтобы не сказать об Эссексе: он не первый и не последний временщик, благодаря грязи вышедший в люди.[74]
Весной 1585 года Нидерланды решились свергнуть ненавистное испанское иго. Елизавета, помогая им субсидиями и военными силами, главнокомандующим своих войск назначила графа Лейчестера. Желая дать случай Эссексу отличиться на поле брани, временщик предложил ему отправиться с ним в поход, на что Эссекс, однако же, сначала не согласился, но потом, по настояниям матери, отправился. Встреча, оказанная Лейчестеру в Нидерландах, была истинно королевским триумфом: жители Нидерландов и войска республики приветствовали его как освободителя и героя. Лейчестер единодушно был избран в правители соединенных провинций. Упоенный своим торжеством, временщик до того забылся, что принял предложенный ему сан, не испросив на то разрешения своей государыни. Оскорбленная Елизавета, довольствуясь выговором, простила фавориту его бестактность.
Военные действия начались, но успехи Лейчестера далеко не соответствовали возлагаемым на него надеждам нидерланд– цев. Ловкий на турнирах и ристалищах, он оказался бездарнейшим полководцем; искусный в интригах, одаренный способностью убивать из-за угла или опаивать ядом своих соперников, временщик лицом к лицу с неприятелем на ратном поле пасовал, смущался, трусил… Разбиваемый герцогом Пармским, он без толку тратил войска и вместо войны наступательной вел оборонительную. Нидерландцы увидели, что немного поторопились венчать лаврами иноземца, бойкого на словах, щедрого на обещания, но покуда, еще не разочарованные окончательно, ждали безропотно, что счастье авось улыбнется и Лейчестеру. Он осадил Зуфтен. Эссекс, руководивший кавалерией, оказал чудеса храбрости, сэр Филипп Сидней,[75] смертельно раненный, запечатлел кровью добросовестное свое служение правому делу, пожертвовал ему и жизнью, но ни тот, ни другой не принесли нидерландцам никакой существенной пользы, и всеобщее негодование было достойной наградой бездарному Лейчестеру, взявшемуся не за свое дело. В ноябре 1586 года он возвратился в Англию и вместо предания суду был пожалован в министры двора, а Эссекс – в шталмейстеры.
Находясь теперь в своей сфере, временщик принимал самое деятельное участие в процессе Марии Стюарт и настойчиво предлагал отравить ее ядом, что, как мы уже видели, отвергнуто было канцлером Уолсингэмом. В 1587 году Лейчестер имел бесстыдство снова отправиться в Нидерланды для отражения испанцев от устьев Шельды. На этот раз он прибыл единственно для руководства интригой и обширным заговором, организованными в его пользу многочисленными его приверженцами. Временщик надеялся после окончательного вытеснения испанцев из Нидерландов прибрать их к рукам и стать не штатгальтером республики, но сразу королем.
Слух о его кознях достиг ушей Елизаветы, и она поспешила отозвать своего возлюбленного в Англию… Заговор ширился, число приверженцев возрастало, несмотря на усилие партии друзей свободы и независимости, но Лейчестер не смел ослушаться своей королевы. Перед отъездом он роздал своим нидерландским друзьям золотые медали, которые и в его отсутствие должны были напоминать им о продолжении и доведении до желанного конца начатого дела. На этих медалях на одной стороне был изображен поясной портрет Лейчестера, а на другой – стадо овец с собакой, удаляющейся, но оглядывающейся; надпись вверху гласила: «По неволе покидаю» (invitus desero) – а внизу: «Не стадо, но неблагодарных» (non gregem sed Ingratos)… Приверженцы временщика, усердно помогая его замыслам, активно сеяли раздоры в Нидерландах, умножая число внешних врагов внутренними.
Война Англии с Испанией приняла ужасающие размеры. Филипп II снаряжал свою знаменитую Непобедимую армаду под начальством адмирала Медина-Сидониа; Елизавета, со своей стороны, готовилась встретить могучего врага, доверив предводительство морских сил великому адмиралу графу Арондель Карлу Говарду, Френсису Дрэку, Гоукинсу, Фробишору; командование войсками сухопутными, собранными в Тильбюри, было возложено на Лейчестера; граф Эссекс – теперь уже кавалер ордена Подвязки – был назначен начальником всей кавалерии. Производя в Тильбюри смотр своим войскам, Елизавета, указывая им на Лейчестера, произнесла такую речь:
– Он, мой генерал-лейтенант, среди вас заменит вам меня… Доныне еще ни у одного государя не было достойнейшего и благороднейшего подданного!..
Одному Богу известно, насколько этот благороднейший и достойнейший подданный оправдал бы доверие своей государыни, если бы Непобедимой армаде, 1 июля 1588 года отплывшей из Лиссабона, не пришлось бороться со стихиями вместо английских войск. Адмиралам легко было добить жалкие остатки испанского флота, разоренного бурями, пожарами, разбившегося о подводные скалы. Гордясь победой, Елизавета увековечила гибель Армады двумя медалями; сперва с девизом, приписывающим всю честь и славу ей, женщине, но потом, по совету парламента, велела эту хвастливую надпись заменить стихом псалма: «Помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс. 120, ст. 2).
Щегольское появление на коне, в блестящих доспехах, с жезлом фельдмаршала перед войсками на параде в Тильбюри было последним явлением жизненной трагедии Лейчестера; в том же 1588 году он умер в Корнбьюри, на пятьдесят восьмом году жизни. В конной рыцарской зале арсенала лондонского Тауэра (the horse armoury) доныне хранится одетая в подлинные доспехи Лейчестера его величавая, красивая фигура на удивление потомству. Эта кукла, точное изображение всех достоинств фаворита Елизаветы, имеет перед живым своим подлинником именно то великое преимущество, что она кукла, хотя и такая же бездушная, как Лейчестер, но зато безвредная…
Как хорошо было бы, если бы в старину короли и королевы вместо живых кукол временщиков и фавориток довольствовались восковыми или деревянными, от скольких бедствий были бы тогда избавлены их подданные, казна – от расхищения, человечество – от стыда, а история – от многих позорных страниц.
Похоронив Лейчестера, Елизавета недолго вдовствовала и недолго оплакивала его: открывшаяся ваканция, чуть ли еще не при жизни временщика, уже была занята Эссексом. Подвернулся было другой искатель счастья, Карл Блоунт, лорд Монжуа (Montjoie), но Эссекс со шпагою в руке удержал за собой выгодную позицию. Из-за пустого повода вызвал Блоунта на дуэль, скрестил с ним шпагу и был ранен в колено.
– Что за негодные мальчишки! – сказала Елизавета, узнав о столкновении соперников, но внутренне весьма довольная. – Надобно их унять, а то, пожалуй, тот и другой голов не снесут.
Пожурив бойцов тоном доброй бабушки, выговаривавшей шалунам внукам, королева их помирила, и враги сделались добрыми друзьями. Сравнение королевы с бабушкой, а графа Эссекса и Блоунта – с внуками кажется нам тем более уместным, что оба они по своим годам действительно годились ей во внуки, но именно поэтому она и удостоивала Эссекса пылом старческого своего сердца: ей было тогда пятьдесят шесть лет, а фавориту – двадцать два года. Набеленная, нарумяненная, в рыжем парике, опутанном бриллиантовыми нитями, Елизавета рука об руку с Эссексом, как молоденькая девочка, порхала на придворных балах в полной уверенности, что она неизменно все та же, какой была тридцать шесть лет тому назад, и что старость, настигая всех простых смертных, к ее британскому величеству не смеет прикасаться… Первые годы фаворитизма графа Эссекса – смешной водевиль, послуживший прологом к кровавой трагедии. Елизавета, тридцать два года сожительствуя с Лейчестером, осыпая его богатствами и почестями, покорялась ему, как жена – мужу; скажем более – она боялась Лей-честера, который держал ее в руках. Молодого Эссекса она сама взяла в руки, надоедала ему ревностью, капризами, играла им, как пешкой, и при малейшей с его стороны попытке поослабить гнетущее его иго обходилась с фаворитом не слишком вежливо. Новый временщик был похож на несчастного молодого мужа, отдавшегося в кабалу старой, сварливой жене ради ее богатства…
А между тем Эссекс, при сравнении его с покойным Лей-честером, был честнее, благороднее, добрее, талантливее. Пользуясь особенной благосклонностью королевы, он при каждом удобном случае старался оправдать ее милость к нему воинскими подвигами, на что трусливый Лейчестер никогда не был способен. Положение Эссекса было еще и тем хуже положения Лейчестера, что у последнего были только безмолвные завистники и болтливые льстецы; у Эссекса были враги и клеветники, нашептывавшие на него Елизавете. За каждым шагом, за каждым словом Эссекса следили тысячи глаз, ушей, чтобы истолковать его поступки и речи в дурную сторону и доводить их до сведения королевы. В Лейчестера она верила – в Эссексе сомневалась; последнему в каждой ябеде или клевете, на него сплетенной, приходилось разубеждать свою высокую покровительницу, оправдываться. На время успокоенная, Елизавета при первом поводе снова впадала в сомнение, слушала ябедников, косилась на фаворита.
В начале 1589 года сэр Джон Норрис и Френсис Дрэк задумали экспедицию в Португалию для возведения на престол низложенного дона Антонио. Эта мысль – опасный поход в далекий край, сопряженный с подвигами, может быть, и славными победами, – пленила графа Эссекса, и он, не сказав ни слова королеве, без ее разрешения отправился в Португалию, откуда его вызвала Елизавета грозным письмом, наполненным колкостями и упреками. Граф Эссекс возвратился, и королева успокоилась; он ждал выговора, ареста – она встретила его ласками и нежностями, стоившими телесного наказания.
Безумная ревность влюбленной старухи заставляла бедного графа Эссекса хитрить и лукавить во всех тех случаях, когда судьба сталкивала его с молодыми красивыми женщинами.
Скрепя сердце молодой красавец принужден был разыгрывать роль скромника, неизменно верного своей дряхлой мегере. Он писал ей даже стихи нежного содержания, из которых особенно замечательны одни, читанные или пропетые на празднике, данном графом Эссексом в 1589 году. В них несчастный поэт отказывался от своей бранной славы, бросал меч и шлем, уступая последний пчелам вместо улья; выражал готовность заменить воинские доспехи – власяницей, лишь бы быть исповедником и капелланом владычицы своего сердца, то есть Елизаветы.[76] Мы не смеемся над поэтом-царедворцем, нас нимало не удивляет, что его могла вдохновить пятидесятишестилетняя старуха. Будь на месте Эссекса любой современный поэт по профессии, друг народа, не преклоняющийся (на словах) перед сильными мира сего, и он бы писал Елизавете оды, послания, мадригалы, и он бы черпал вдохновение если не в тусклых очах женщины, то в золотой казне королевы. Страшась ее гнева, Эссекс в 1590 году тайно обвенчался со вдовой Филиппа Сиднея, единственной дочерью канцлера Уолсингэма. Враги фаворита не замедлили с доносом, и Елизавета была в ярости! Сохраняя еще настолько чувство своего достоинства, чтобы не выказать вульгарной ревности, королева негодовала на графа Эссекса за этот неравный, по ее словам, неприличный брак, унижающий род Эссексов. «Он мог бы составить партию более достойную, – говорила она приближенным, – от его руки не отказалась бы любая владетельная принцесса!»
В 1591 году французский король Генрих IV просил у Елизаветы помощи для усмирения мятежных своих подданных. Командование вспомогательными войсками, отправленными во Францию, было возложено на графа Эссекса. Он настоятельно требовал от Генриха осады Руана, оказал замечательную храбрость под его стенами, где брат его Вальтер был убит. Граф Эссекс уверял Генриха, что своими орудиями разгромит укрепления города и не оставит камня на камне; но король французский не соглашался на эти предложения. Его пугало ретивое усердие иноземца и удерживали жалость и стыд отдать родной город на разграбление английскому войску. Обиженный отказом короля, граф Эссекс вызвал на поединок Виллара, коменданта Руана, который уклонился от этой чести. Тогда английский полководец возвратился на родину ни c чем. Покуда он отличался во Франции, завистники его не дремали, что доказывалось суровой встречей, оказанной графу Эссексу королевой. Недовольная его действиями во все продолжение похода, она особенно выговаривала ему за своевольничанье, за превышение данной ему власти, так как он произвел некоторых в офицеры, не испросив на то разрешения королевского. Немалого труда стоило Эссексу вымолить себе прощение, и с этого времени он стал заискивать перед народом, покровительствуя пуританам и всячески стараясь стать популярным.
В 1593 году Елизавета включила его в число членов государственного совета, и в это же время за границей была напечатана брошюра возмутительного содержания «О престолонаследии в Англии», посвященная графу Эссексу. В ней неизвестный недоброжелатель, обвиняя его в домогательстве верховной власти, угрожал Англии мятежами, единственным спасением от которых могло быть свержение Елизаветы с престола. Несомненно, что это исчадие зависти и недоброжелательства было делом врагов Эссекса, отчасти достигших своей цели, так как брошюра эта восстановила королеву против ее любимца. Дряблое сердце Елизаветы повелевало ей не расставаться с Эссексом, рассудок, устами его ненавистников, советовал держать его в почтительном отдалении от дел внутренней политики, даже от Англии. Облекая устранение своего фаворита в благовидную форму, Елизавета возлагала на него поручения почетные, при удачном исполнении которых он мог заслужить новые награды и милости. В 1596 году испанцы осадили Кале; обсервационный корпус, посланный в Дувр, был отдан под начальство графа Эссекса. Пользуясь войной, великий адмирал Говард вместе с фаворитом составил план новой экспедиции в Испанию, и с сильными десантными войсками они отплыли к Кадиксу, который сдался Эссексу. 5 июля 1596 года герой отплыл из Кадик-са, а 10 августа прибыл в Плимут, где его встретила Елизавета и восхищенный народ. Последний выказал при этом живейшее сочувствие Эссексу, и триумф победителя был самым чувствительным отмщением его клеветникам, которые, разумеется, не преминули предостеречь королеву от опасности вследствие этих слишком приязненных отношений народа к графу Эссексу. По возвращении в Лондон он был приглашен во дворец к Елизавете для важных объяснений. Выведенная из терпения постоянными наговорами, происками и каверзами и выразив свое негодование не на него, Эссекса, но на его врагов-олигархов, королева явила ему новый знак расположения и искренней доверенности. Она подарила своему любимцу собственный перстень, будто волшебный, предохраняющий талисман против злодеев. На краю гибели, оговоренный в каком бы то ни было преступлении, под топором палача Эссекс имел право, предъявив этот перстень королеве, получить полное прощение. Этот перстень был даром Елизаветы не подданному, но любимому человеку, жизнь которого была ей дорога, священна. Неограниченная в тайных своих ласках, королева, однако же, явно была строга и взыскательна к фавориту, удаляла от должностей всех тех, кому он покровительствовал; его рекомендации сделались подорожными к увольнению со службы. Подпольная интрига, ведомая вельможами, шла успешнo; робкие, низкопоклонные перед покойным Лейчестером, они с возмутительной дерзостью подкапывались под графа Эссекса. Чтобы утешить его и успокоить, Елизавета произвела фаворита в генерал-фельдцейхмейстеры в 1597 году, и, как бы в благодарность королеве за ее новую милость, граф Эссекс испросил у нее разрешения на новую экспедицию в Испанию, занятую в то время снаряжением флотов в Корунье и Ферроле. Эта экспедиция не увенчалась успехом: сильная буря у Плимута, а затем противные ветры задержали английский флот у родных берегов около месяца. Выжидая погоды, Эссекс передумал ехать в Испанию, а вместо того решился вместе с Вальтером Рэйли плыть в Индию и отвоевать ее у испанцев. Но и эта экспедиция не состоялась вследствие размолвок между адмиралом и Эссексом. Все их подвиги ограничились завоеванием одного из Азорских островов и захватом трех испанских кораблей, шедших из Гаваны с богатым грузом.
По возвращении в Англию Эссекс нашел при дворе перемены к худшему и такое усиление враждебной ему партии, что решил подать в отставку. Это с его стороны не было пустой угрозой, но следствием сознания, что ему при новых порядках делать было нечего или, еще хуже, не устоять. Елизавета, желая удержать фаворита от этого намерения, произвела его в великие маршалы Англии. Это повышение придало Эссексу самонадеянности, и он вообразил, что один в состоянии будет бороться с легионом своих недоброжелателей. В 1598 году между Англией и Испанией начались переговоры о мире. Лорд Бурлей и большинство членов государственного совета подали голос за мир, граф Эссекс один стоял за продолжение войны, обещая Англии громадные выгоды и осыпая чуть ли не бранью своего воспитателя Бурлея и его приверженцев. Не довольствуясь устными доводами, Эссекс напечатал меморию в свою защиту, причем не поскупился на язвительные нападки и насмешки над своими противниками. Вообще в последние три года жизни фаворит, озлобленный, выведенный из терпения, выказывал непозволительную запальчивость. Непрерывные смуты в Ирландии требовали решительных действий, и этот вопрос всесторонне обсуждался на совете и в парламенте. Не щадя наместника и его подчиненных, Эссекс осуждал все их действия, доказывал, что при их вялости и нерешительности умиротворение мятежной страны немыслимо. Однажды при подобном споре в кабинете королевы он до того раскричался, что она ударила его перчаткой по щеке… Кто из нас еще в детстве не читал об этой знаменитой пощечине, более позорной для Елизаветы, нежели для ее фаворита? Окончательно вышедший из себя, граф Эссекс схватился за эфес шпаги и сделал шаг к королеве; свидетель скандала граф Арондель едва мог удержать его…
– Королева и женщина! – прохрипел Эссекс с пеной у рта, сверкающими глазами смотря прямо в лицо Елизавете. – Я бы не простил этой обиды Генриху VIII, если б он был на вашем месте!
И, взбешенный, он вышел из кабинета, не обращая внимания ни на увещания великого адмирала, ни на королеву, требовавшую, чтобы он остался. На предложение канцлера просить извинения у Елизаветы Эссекс написал ему длинное письмо, в котором не только доказывал, что прав, но еще осыпал королеву упреками. Последняя еще посердилась несколько времени и простила смельчака, внутренне сознавая, что он был прав.
Этот факт, как мы уже сказали, не позорит графа Эссекса, но, напротив, приносит ему величайшую честь, так как здесь во временщике пробудился герой, а в рабе воскрес человек. Необидчивость – первая и капитальная добродетель каждого истого паразита и временщика: покровитель может им давать щелчки по носу, пощечины, под горячий час удостоивать своеручно и ударом трости; но их дело гнуть свои спины, столь же гибкие, как трость, улыбаться и целовать ручку, которая за обиду не преминет наградить более или менее щедрой подачкой… Эссекс, к собственному своему несчастию, был не таков! Терпеливо перенося ласки Елизаветы, он не в силах был сносить оскорбления, и его вспышка за пощечину доказывает, что в нем фаворитизм еще не заглушил чувство личного достоинства, что он был горд не единственно только с теми, кого считал ниже себя.
12 марта 1598 года Эссекс был назначен вице-королем ирландским с неограниченными полномочиями и вместе с войсками отправился к месту своего назначения. Отличный администратор на словах, в своих спорах на совете, граф Эссекс оказался далеко не таковым на деле. Все его распоряжения в Ирландии противоречили, во-первых, высказанной им программе, а во-вторых, носили на себе отпечаток торопливости, необдуманности и совершенного незнания края. Там, где следовало употребить силу, вице-король действовал безуспешно убеждениями, где необходимо было оказать снисхождение, он был строг. Войска и деньги растрачивались им без толку, и вместо реляций об успехах он писал к королеве только о высылке ему подкрепления – то золотом, то оружием.
«Явная измена!» – шепнули Елизавете царедворцы, и она, запретив графу Эссексу отлучаться из Ирландии впредь до прибытия нового вице-короля, послала туда с войсками личного врага фаворита, графа Ноттингэма. Незадолго до прибытия последнего граф Эссекс в ожидании подкрепления имел неосторожность заключить с мятежниками перемирие… Сдав начальство и запутанные дела Ирландии графу Ноттингэму, бедный Эссекс со стыдом возвратился в Англию, где его ожидало падение и где из временщика ему было суждено превратиться в мятежника. Елизавета отдала графа Эссекса под суд, на котором он крайне плохо защищался, сваливал свою вину на других, жаловался на злоупотребления, которыми был окружен в Ирландии; наконец, упреждая приговор, предложил судьям удалить его от двора на житье в поместье. Падение с высоты моральной, как и с физической, редко обходится без вреда здоровью – и Эссекс захворал, слег в постель. В сердце Елизаветы пробудилось чувство жалости; отложив на время заседания следственной комиссии, она выразила живейшее участие к больному, несколько раз навещала его, сама подавала лекарства. Эта внимательность оказала на здоровье Эссекса благотворное влияние, и он выздоровел; всю его болезнь будто рукой сняло…
«Он притворился!» – шепнули завистники королеве, и она им поверила.
Опять начались заседания следственной комиссии, приговор которой был утвержден государственным советом. Графа Эссекса присудили к освобождению от всех занимаемых им должностей с лишением орденов и оставлении чина генерала кавалерии… Трудно решить, в каком положении временщик более жалок: на высоте величия или после своего падения? Разжалованный Эссекс смирился, впал в ханжество и, воздыхая о суете мирской, уединился вдали от общества. Летом 1600 года, будто солнце из-за туч, ему прощальным приветом улыбнулось счастье: именем королевы ему объявлено было прощение с запрещением, однако, приезда ко двору. Видя в этом, и не без основания, происки врагов графа Эссекса, секретарь его, Генрих Кюф, советовал своему патрону во что бы то ни стало добиться секретной аудиенции у королевы, при которой он мог бы изобличить своих злодеев. Граф отказался от этого, сознавая всю бесполезность подобного действия.
– Какие объяснения могут быть с женщиной, у которой ум так же одряхлел, как и тело! – сказал при этом раздраженный Эссекс.
Через домашних шпионов, из уст в уста, эти дерзкие слова дошли до Елизаветы. Она приняла это к сведению. Иной план, иные умыслы зрели в уме Эссекса. Он помнил изъявление любви народной при его встрече по возвращении из Кадикса, до него доходили сочувственные отзывы о постигшей его опале, преданные ему люди вербовали на его сторону пуритан, которым он всегда покровительствовал. Основываясь на этих данных, конечно шатких, ненадежных, граф Эссекс задумал, свергнув Елизавету, возвести на английский престол Якова VI, короля шотландского (сына Марии Стюарт), или самому надеть ту корону, которой так долго и безуспешно домогался покойный Лейчестер. С Яковом шотландским Эссекс вошел в тайные сношения, обещая в случае народного восстания поддержку со стороны войск, расположенных в Ирландии под начальством Монжуа. С января 1601 года во дворце Эссекса начались сходки по обсуждению плана восстания. Для возбуждения ярости народной решили пустить молву об измене вельмож Елизаветы и о их сношениях с испанским королевским домом, которому они будто бы намереваются продать английский престол. Подняв народ под этим благовидным предлогом, заговорщики надеялись после дать бунту иное направление. Вечером 17 февраля члены тайного общества, организованного графом Эссексом, в числе ста двадцати человек намеревались с оружием в руках идти ко дворцу и принудить королеву образовать новый парламент вместо прежнего. Елизавета, узнав о сборище, послала к графу Эссексу Роберта Сэквилля, сына государственного казначея, с приказом немедленно явиться на государственный совет. Первым движением заговорщика было пойти, но, получив безымянную записку, предупреждавшую его об опасности, он отказался от приглашения королевы под предлогом нездоровья. После ухода посланца друзья Эссекса предлагали ему бежать, но он, ответив отказом, объявил им о воззвании к народу и возмущении всего Лондона. На другой день, утром 18 февраля, триста заговорщиков собрались в доме Эссекса для окончательного обсуждения плана бунта и овладения Тауэром. Во время совещаний в залу собрания неожиданно вошел лорд-канцлер, лорд Эджертон, сопровождаемый тремя членами парламента, и от имени королевы спросил у присутствующих о причине сборища. Ему отвечали угрозами и объявили, что они все четверо арестованы. Оставив их в своем дворце, под надзором надежных друзей своих, граф Эссекс, сопровождаемый остальными сообщниками, с обнаженной шпагой выбежал на улицу с криком:
– За королеву!.. За государыню нашу!.. Народ, спасай меня от убийц и злодеев!..
На этот призыв откликнулись немногие. Народ не столько с участием, сколько с любопытством смотрел на шумную толпу, с оружием в руках бежавшую по улицам. По мере приближения к королевскому жилищу число спутников графа Эссекса убывало; более нежели на половине дороги дальнейший путь мятежникам был прегражден цепями и рогатками. Миновав одну преграду, на другой они были вынуждены прорваться силой через толпу народа, придерживавшего рогатку; при этом несколько человек было убито и ранено.
– Долой бунтовщиков! – кричали горожане, отражая толпу, предводительствуемую Эссексом, дубинами и бердышами.
Такова была поддержка мятежному временщику со стороны народа, на любовь которого он так рассчитывал.
Оставив товарищей на волю Божию, граф Эссекс пустился бегом по набережной и в лодке через Темзу возвратился к себе во дворец, совершенно опустевший. Недавние пленники – лорд-канцлер, члены парламента вместе с охранявшими их людьми графа Эссекса – спокойно ушли к Елизавете… Эссекс последовал их примеру.
Все историки единогласно отдают справедливость королеве английской, выказавшей в этот опасный день спокойствие и неустрашимость, особенно достойные удивления в шестидесятивосьмилетней женщине. Уверенная в любви народной, она смотрела на попытку графа Эссекса с той улыбкой презрения, с которой великан глядит на замахнувшегося на него ребенка. Ее глубоко тронула готовность жителей Лондона защищать свою законную королеву, и она видела в этой готовности запас любви и неограниченной преданности. Бывший тогда при английском дворе посланник царя Бориса Годунова, дворянин Микулин, стоял в рядах защитников Елизаветы, о чем она с благодарностью писала царю, славя доблесть его представителя. Для суда над Эссексом и его сообщниками была наряжена комиссия из 25 пэров королевства, и заседание началось. На первый же вопрос: что могло побудить его к восстанию? – граф Эссекс отвечал, что он действовал в видах блага государства и спасения королевы от вельмож, замышлявших ее низложение и призвание на престол инфанты испанской. Душою этого фантастического заговора граф Эссекс назвал Сесиля, упоминал и о других, но по всем его речам видно было, что он импровизирует свою защиту. Министры королевы, особенно же Френсис Бэкон (некогда облагодетельствованный Эссексом), без труда опровергли все его показания и принудили его отступиться от собственных слов. Посаженный в Тауэр, граф Эссекс чистосердечно сознался во всем, но вместе с тем малодушно оговорил, кроме своих сообщников, множество лиц, к заговору вовсе не причастных. Ни признания, ни предательство не смягчили участи мятежника, и суд после непродолжительного совещания приговорил его к смертной казни. Выслушав приговор, исполнение которого было назначено на 25 февраля, Эссекс, не приступая ни к каким предсмертным распоряжениям, выразил одно только желание – видеть графиню Ноттингэм, супругу его заклятого врага, но к нему расположенную, даже слишком, как говорили злые языки. Желание осужденного было исполнено, и графиня на несколько минут посетила его.
Елизавета не сразу решилась подписать смертный приговор бывшему своему любимцу. Ее возмущала не дерзость, но непреклонность графа Эссекса, ни разу во все продолжение следствия не выразившего даже намерения прибегнуть к милосердию королевы. Она ждала раскаяния – он молчал, она ждала просьбы о пощаде, но гордый Эссекс, как видно, не желал купить спасение жизни унижением. Утром 25 февраля 1601 года он был обезглавлен в подвальном этаже Тауэра. От внимания присутствовавших не ускользнули тревожные взгляды, которые Эссекс обращал вокруг себя, будто чего-то ожидая до самой последней минуты. Пушечный выстрел возвестил жителям столицы, что приговор над мятежником совершен, правосудие удовлетворено и душа бывшего временщика вознеслась к небу, как облачко порохового дыма, взвившееся над бастионом лондонского Тауэра. Враги Эссекса торжествовали, негодовавшая на них Елизавета со дня казни сделалась задумчива и рассеянна; имя фаворита, неосторожно при ней произносимое, заставляло ее содрогаться. Заметно было, что воспоминание о графе Эссексе пережило его в сердце Елизаветы, и ей стоило больших усилий, чтобы воздерживаться от выражения своей безутешной скорби. Дни уходили за днями, и с каждым днем королева явно дряхлела, теперь уже не заботясь об искусственной поддержке своей красоты, что, впрочем, едва ли было возможно в семьдесят лет…
В начале 1603 года графиня Ноттингэм, находясь при смерти, пожелала видеть королеву для сообщения ей, по словам больной, важной государственной тайны. Елизавета отправилась к графине и нашла ее в безнадежном состоянии, близком к агонии, но в полной памяти и в совершенном сознании. Не удаляя присутствовавших, умирающая тихим прерывающимся голосом сказала Елизавете, присевшей у ее изголовья:
– Государыня, вы видите теперь страшную преступницу перед вами, грешницу перед Богом… – Заметив по выражению глаз Елизаветы, что она принимает ее слова за бред, графиня продолжала: – Я говорю сущую правду и заранее прошу ваше величество простить меня и тем успокоить мою совесть, усладить последнюю мою минуту…
– В чем же ваш грех перед Богом и преступление передо мной? – спросила ласково королева.
– Известно ли вам, что граф Эссекс накануне своей казни желал видеть меня? Я была у него в Тауэре, и он умолял меня, именем всего святого, передать вам перстень… этот самый… и напомнить…
Рыдания задушили голос больной. Вырвав у нее из рук перстень Эссекса, подаренный ему после возвращения из Кадикса, Елизавета, пожирая графиню глазами, бледная, как она сама, дрожа всем телом, повторила:
– Напомнить? Напомнить о чем? Договаривайте все!
– Напомнить о вашем обещании в обмен на перстень оказать ему милость, какое ни было бы его желание. Несчастный Эссекс, именем той минуты, отсылая вам перстень, просил о помиловании…
– А вы не исполнили его желания! – вскрикнула Елизавета, вставая с кресел.
– Мой муж, узнав об этом, запретил мне…
– Спасти жизнь моему сопернику? Он мог запрещать вам! Но вы, женщина, не должны были повиноваться! Эссекс, Эссекс… – прошептала королева, прижимая перстень к посинелым губам и с выражением отчаяния в тусклых глазах. – Бог может простить вас, графиня, – продолжала Елизавета, с негодованием отходя от постели умирающей, – но я, я не прощаю и не прощу никогда!
Через два дня графиня Ноттингэм скончалась и тем была, бесспорно, счастливее королевы. По возвращении во дворец Елизавета в сильнейшем истерическом припадке, сжимая перстень в руках, упала на постель и до поздней ночи пробыла в каком-то самозабвении. На все расспросы фрейлин и прислужниц она односложно отвечала:
– Эссекс!.. Эссекс!..
С этого времени здоровье ее было окончательно надломлено, и вместе с телесными страданиями иногда проявлялось как бы расстройство и ума. На предложение докторов лечь в постель Елизавета отвечала выражением боязни, что, легши в нее, она уже не встанет. Вместо того она приказала весь пол своей спальни обложить подушками и таким образом приваливалась то в одном углу, то в другом. Вместо прежней изысканности в одежде, доходившей до щепетильности, теперь Елизавета выказывала пренебрежение к самой себе и отвратительную неряшливость: по нескольку дней не сменяла ни белья, ни обуви, а между тем куталась в свою королевскую мантию, не снимая со всклокоченной головы малой короны! Вечером 24 марта она погрузилась в паралитическое состояние, уставив недвижные потухшие глаза в угол комнаты, и пробыла в этом состоянии девять дней, почти не принимая ни лекарств, ни пищи.
– Эссекс!.. Эссекс!.. – изредка бормотала она помертвелыми устами, поматывая головой, будто тревожимая призраком казненного.
2 апреля она очнулась и на расспросы канцлера о выборе преемника невнятно назвала Якова Шотландского. 3 апреля Елизаветы не стало!
С нею пресеклась династия Тюдоров, с 1485 по 1603 год, в течение ста восемнадцати лет, в лице трех королей и двух королев владычествовавшая в Англии. В особе Якова VI (в королях английских первого) воцарился несчастный дом Стюартов. В назначении Елизаветой себе в преемники сына Марии Стюарт исторические романисты, романические историки и драматурги видят проблеск раскаяния в умирающей королеве английской, с чем едва ли можно согласиться, во-первых, потому, что Елизавета в последние дни жизни была разбита параличом, поразившим отчасти и умственные ее способности, а во-вторых, кроме Якова, и наследовать ей было некому.
Царь Иван Васильевич Грозный
Сильвестр и Адашев– Черкесская княжна Марья Темрюковна. – Опричники. – Басмановы. – Малюта Скуратов. – Марфа Васильевна Собакина. – Мария Ивановна Долгорукая. – Анна Колтовская. – Анна Васильчикова. – Василиса Меленьтьева. – Марья Федоровна Нагих
(1560–1584)
Горе – пробный камень души человеческой и необлыжное мерило нравственных сил человека. Под бременем одной и той же скорби один падает, другой даже не поколеблется; этот смиряется пред промыслом Божиим, тот безумно ропщет; иной ищет утоления скорби в слезах и благотворениях ближним… Бывают и такие люди, которых горе ввергает в омут распутства и злодейств.
Последнее случилось с царем Иваном Васильевичем Грозным после кончины царицы Анастасии Романовны. Навеки сомкнулись уста кроткой советницы, побуждавшей царя на все доброе и предостерегавшей его от злого; охладела рука, которая вела государя путем правды; померкли очи, взгляд которых имел такое могучее, укротительное влияние на этого грозного царя…
Пропели «вечную память» Анастасии; замерли звуки погребальных колоколов, и несколько дней после кончины своего ангела-хранителя видел царь во всем мире унылую пустыню и горькими слезами оплакивал невозвратную свою потерю и тоскливое одиночество. Вместе с этими чувствами в скорбящей его душе возникло подозрение на окружавших в невероятной вине изведется лихим зельем покойной царицы. Не осмеливаясь роптать на Бога, Грозный негодовал на людей; не довольствуясь собственными слезами, он задумал оросить свежую могилу Анастасии кровью невинных жертв и справить по ней языческую тризну. Мысль, что Анастасия скончалась не от болезни, но от яду, быстро укоренилась в сердце царя и превратилась в твердое убеждение. Кто же мог быть отравителем Анастасии? Подняв заплаканные, но грозные глаза на окружающих, царь остановился на недавних своих друзьях Сильвестре и Адашеве и решил, что кроме их злодеями царицы быть некому… Здесь нелишним считаем привести и сопоставить сказания о них князя Курбского и самого Грозного. Первый говорит, будто удалению от двора Сильвестра и Адашева много способствовали наушники бояре, которым недавние друзья царевы мешали в злоупотреблениях и плутнях, и злодеи не задумались оговорить добрых советников царских в отравлении Анастасии. Царь поверил! Обвиняемые требовали суда, очной ставки с клеветниками, но последние от очных ставок уклонились; не допустили обвиненных и до государя, опасаясь чародейства. Собор, составленный из личных врагов Сильвестра и Адашева, присудил первого к заточению в Соловецкий монастырь, второго к ссылке в Ливонию, где он и скончался в городе Юрьеве (Дерпте). «Отравился!» – донесли царю те же бояре. Анахронизм, в который впал князь Курбский в этом повествовании, заставляет усомниться в его правдивости: Сильвестр и Адашев были удалены от двора еще при жизни царицы Анастасии, первый вначале, а второй в мае 1560 года.
Оправдываясь перед Курбским, Иван Грозный писал о Сильвестре и Адашеве другое. «Видя измены бояр (говорит Грозный в своем послании), я взял из ничтожества Алексея Адашева, сравнял его с вельможами и осыпал милостями; за Адашевым следовал поп Сильвестр. Последний начал службу хорошо, и во всем, что касалось духовных дел, я ему повиновался. Впоследствии Сильвестр стал вмешиваться в дела мирские и образовал собственную партию. Заодно с Адашевым он прибрал к рукам все государственные дела, считая меня, видно, слабоумным; тот и другой стали повелевать боярам; жаловать одних, обижать других; отменять законы, вводить новые статьи в существующие уложения. Им помогал князь Димитрий Курлятев, и вскоре все части государственного управления доверены были их друзьямприятелям… Нам ни о каких делах и не докладывали, как будто нас и не было; наши мнения разумные они отвергали, а их и дурные советы были хороши». Так действовали (по словам Грозного) Сильвестр и Адашев во внешних делах, во внутренних же совершенно лишили царя его воли: распределили ему часы отдыха, выхода, назначили, в какое одеяние когда облачаться. «В летах совершенных не захотел я быть младенцем. Потом вошло в обычай: я не смей слова сказать ни одному из самых последних его советников; а советники могли мне говорить, что им было угодно, обращались со мною не как со владыкою или даже братом, но как с низшим; кто нас послушается, сделает по-нашему, тому гонение и мука, кто раздражит нас, тому богатство, слава и честь. Попробую прекословить, и вот мне кричат, что и душа-то моя погибнет, и царство-то разорится». Эти подлинные признания царя, не лишенные своего рода юмора, отголоски тех мыслей, которые волновали его после смерти царицы Анастасии. В недавних заслугах добрых и честных советников он видел зло и коварство. Зачем же царь повиновался Сильвестру и Адашеву при жизни Анастасии; почему ранее он не смотрел на них, как на вредных временщиков? Ропот Ивана Васильевича на обоих героев и сподвижников царицы напоминает жалобы человека, больного запоем, на людей, удерживающих его от питья. В обвинениях, возводимых Грозным на Сильвестра и Адашева, именно звучат нотки, которые случается слышать в жалобах больного на своего доктора или школьника на учителя. Тяготясь диетой, больной видит в своем враче деспота и зложелателя; школьник, удерживаемый учителем от вредных шалостей, всегда называет его своим тираном, чуть не злодеем. Но больной по избавлении своем от недуга благословляет врача; школьник, перестав быть таковым и сделавшись человеком, с благодарностью вспоминает о своем наставнике. Не то было с Грозным: потеряв жену, удерживавшую его от зла, он спешил избавиться от двух ею избранных опекунов, чтобы свободно предаться бурным страстям и ужасному своему кровавому запою! Разве не школьническая жалоба слышится в словах Ивана Васильевича в его рассказе о возвращении из казанского похода? Я победил врагов, говорил он, а Сильвестр и Адашев, усадив меня на корабль с малым числом людей, как пленника (?) везли сквозь безбожную и неверную землю. Затем Грозный вспоминает об измене бояр во время его болезни: подобно всем прочим, Сильвестр и Адашев, не признавая наследником царя его сына, хотели избрать ему в преемники двоюродного его брата Владимира Андреевича… Возненавидели царицу Анастасию! Во время войны с Ливонией Сильвестр со своими советниками восставал за нее на царя, и чуть постигала царя, царицу или детей их болезнь, говорил, что это наказание Божие за их непослушание. Следующие слова Грозного, едва ли не единственные, запечатленные истиною: «Как вспомню тяжкий обратный путь из Можайска с больною царицею Анастасиею? Единого рода малого слова непотребна. Молитвы, путешествия по святым местам, приношения и обеты ко святым о душевном спасении и телесном здравии – всего этого мы были лишены лукавым умышлением; о человеческих же средствах, о лекарствах во время болезни и помину не было!» Тогда-то царь, окончательно выведенный из терпения Сильвестром и Адашевым, удалил их от своего лица.
Вывод из сказаний Курбского тот, что оба они были мученики, пострадавшие за правду; по словам Грозного, тот и другой были опасные временщики, злоупотреблявшие царской милостью. Где же правда? Она как солнце пробивается сквозь облака, и нет надобности до нее доискиваться. Повторяем: при царице Анастасии Сильвестр и Адашев имели влияние на царя, влияние благотворное; после ее кончины их враги и завистники нашептали Ивану Васильевичу небылицы, обвинили недавних любимцев в отравлении Анастасии и погубили невинных. В лице Анастасии закатилось красное солнышко правды на святой Руси, воцарились мрак, кривда и злоба, и на место честных слуг царских явились крамольники, кромешники, палачи… В иных услужниках царь Иван Васильевич и не имел надобности. В первой части нашего труда мы говорили о спасении Цезаря Борджа от яду посредством купанья в горячей крови; Грозный излечился от своей скорби по царице Анастасии, выкупавшись в крови невинных жертв, казненных за соучастие с Адашевым и Сильвестром. На первый случай пало пятнадцать человек: вдова полячка Мария Магдалина с пятью сыновьями, обвиненная в связи с Адашевым и в чародействе; Данило Адашев с двенадцатилетним сыном и тестем своим Туровым; три шурина Алексея Адашева, братья Сатины; Иван Шишкин с женою и детьми. Натешившись давно не виданным зрелищем пыток и казней, Грозный сбросил свое горе с плеч долой и загулял, как подобает широкой русской натуре. В полной уверенности, что другой Анастасии не найдется не только на Руси, но и в целом мире, царь выписал себе новую жену с Кавказа в особе крещеной княжны черкесской Марии Темрюковны, прибывшей в Москву вместе с братцем татарином-идиотом, прославившимся у нас на Руси силою и обжорством. Выбор жены был, как говорится, самый подходящий; по красоте и злости Темрюковна была демоном в образе женщины. Родственное сближение Ивана Васильевича с татарской княжной не могло не иметь влияния на его неукротимые страсти; княжна и ее достойнейший братец внесли несколько новых элементов в сферу распутства, в которой вращался Грозный; за пресыщением, сладострастием естественным в царе, проявилось отвратительное извращение чувственного инстинкта, и он разнообразил наслаждения, переходя от неистовых ласк Марьи Темрюковны к баловству с Федькой Басмановым, женоподобным красавчиком, которому следовало бы ехать ко двору французского короля Генриха III, для увеличения когорты тамошних миньонов… Впрочем, и на Востоке подобные идиосинкразические субъекты существовали издревле, славились и доныне славятся на Кавказе под именем туксусов. Очень может быть, что Грозный возлюбил Федьку Басманова именно в угоду своей супруге, чтобы напоминать ей о милых нравах и обычаях ее родного края. О степени же расположения Ивана Васильевича к его любимцу можно судить по следующему факту: племянник Овчины-Телепнева-Оболенского Димитрий поспорил с Федькою и, раздраженный его дерзостью и заносчивостью, сказал ему:
– Я и мои предки служили царю с пользою, а ты – гнусною содомиею!
Оскорбленный красавчик пожаловался на своего обидчика царю, и голова Димитрия Оболенского на другой же день пала на плахе.
Таким образом, в стенах дворца через год после кончины царицы Анастасии поселились все возможные, даже, пожалуй, и невозможные пороки и мерзости. В ее чистом и опустелом тереме гнездилась, как хищная птица в голубином гнездышке, свирепая Марья Темрюковна; на половине государевой с утра до ночи не умолкали срамные песни, звон чаш, хохот; пиры сменялись пирами. Подражая цесарям римским, Грозный любил вместо десерта потчевать своих собеседников зрелищами не совсем приятными, но внушительными и назидательными. Ошпаривание горячими щами, тычок ножом, удар посохом, иногда подмесь яду в чей-нибудь кубок были забавами обыденными, без которых и веселье было не веселье. На один из пиров был приглашен между прочими престарелый князь Михайло Репнин. Когда все общество подвыпило порядком, присутствующие, надев маски, пустились плясать.
Репнин со слезами на глазах сказал Грозному, что подобные потехи неприличны христианскому царю. Грозный, надев ему на лицо маску, велел плясать и веселиться вместе с прочими, но Репнин, сорвав ее, истоптал ногами.
– Мне, боярину, безумствовать и бесчинствовать не приходится! – сказал он при этом.
– Так и убирайся вон! – крикнул Грозный, сверкнув глазами.
Через несколько дней Репнин, по царскому повелению, был зарезан в церкви у алтаря, за обедней, во время чтения Евангелия. Той же участи в ту же ночь подвергся на церковной паперти во время заутрени князь Юрий Кашин. Ни летописи, ни позднейшие историки, к сожалению, не объясняют, было ли при этих убийствах кощунство и осквернение храма делом случайным или то и другое были умышленными приправами злодейства. Последнее предположение кажется нам тем основательнее, что случаи глумления над святыней вовсе не исключительные во множестве разных подвигов Ивана Васильевича; свидетелями тому были престолы собора Успенского в Москве и Софийского в Новом городе. Другим подтверждением той истины, что для Грозного кощунство и богохульство были какой-то насущной потребностью, служат, во-первых, его житье на монастырский лад в слободе Александровской, резиденции опричнины, и бесчисленные синодики, разосланные им по разным обителям земли русской для поминовения казненных, им же самим названных невинно убиенными. Эти синодики, если бы их собрать и отпечатать, могут составить два больших тома в восьмушку мелкой печати. У Пушкина в «Истории Пугачевского бунта» приложен список жертв самозванца, но списку этому точно так же далеко до списка жертв Ивана Грозного, как самому Емельке Пугачеву до Ивана Васильевича… И то сказать: Пугачев свирепствовал только три года, а Грозный – с лишком двадцать лет; Пугачев был самозванец, а Иван Васильевич величался прямым потомком и преемником «Рюрика», даже Юлия кесаря. Большому кораблю большое и плавание!
Увидели, наконец, бояре, что царь не шутку шутит, что в казнях его и гонениях есть система, что главная его цель – уничтожение олигархии. Иван Васильевич, со своей стороны, сознавая, что приведение в исполнение его мудрого плана возможно только при соответствующем числе сотрудников, т. е. палачей, и, как человек гениальный, не откладывая дела, приступил к организации опричнины или почетного легиона заплечных мастеров, искусников по части пыток и разнообразнейших казней.
В воскресенье 3 декабря 1564 года царь выехал со всем своим семейством из Москвы в село Коломенское, где праздновал день св. Николая-чудотворца (6 декабря). Он взял с собою все свое имущество и огромную свиту. После двух недель пребывания в Коломенском царь отправился к Троице-Сергию; оттуда в слободу Александровскую. Оставшиеся в Москве духовные чины и бояре недоумевали, что бы могло означать это отбытие государя из престольного города, – и недоумение их разрешилось 6 января 1565 года при получении из слободы царской грамоты, в которой Иван Васильевич исчисляя все преступления духовенства, бояр, дьяков и детей боярских во время его несовершеннолетия, всем им поголовно объявлял свой царский гнев и опалу. Во изъявление таковых, гласила грамота, государь, покинув царство, намерен «где-нибудь поселиться, где Бог его поставит…».
Трудно описать ужас Москвы при получении этого известия! Не подозревая ловушки, духовенство и бояре немедленно отправили в Александровскую слободу депутатов с челобитием, в котором изображено было, чтобы царь-батюшка принял снова царство русское под свое правление и властвовал в нем, как ему угодно, но лишь бы властвовал. Грозный милостиво согласился с условием – казнить и наказать опальных; царство же, для вящего порядка, разделить на опричнину и земщину. К первой причислил он весь свой двор, дружину в 1000 человек, приписал на ее содержание несколько городов, сел, деревень; самой Москве назначили особые кварталы для помещения членов этой касты с их семействами. Опричнина была чем-то вроде государства в государстве; принадлежавшие к ней пользовались правами делать все что им ни заблагорассудится, давая ответ одному царю; за неповиновение опричнику – голова долой! Управление земщиною поручено было князьям Ивану Дмитриевичу Бельскому и Ивану Федоровичу Мстиславскому.
Достойным образом празднуя свое примирение с народом, Грозный, согласно обещанию казнить опальных и вместе с тем желая испытать искусство опричников, принялся за казни. Князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский с сыном Петром; братья Ховрины, князь Иван Сухой-Кашин; князья Димитрий Шевы-рев, Петр Горенский, Иван Куракин, Димитрий Немой – вот список, далеко не полный, первых жертв опричнины… Палачи-опричники как нельзя лучше оправдывали свое назначение и данные им царем эмблемы их ремесла: метлу и собачью голову… Они выметали из русского царства мнимых врагов государя и не хуже собак грызли тех, на которых Грозному угодно было натравить их. Говорят, будто план опричнины – создание Василья Юрьева и Алексея Басманова (родителя Федьки), но это сомнительно; справедливее допустить мысль, что эта шайка палачей была организована самим Иваном Васильевичем. Воинским кличем опричников было татарское «Гайда!», может быть, для напоминания русским о нашествии этих извергов-нехристей, а может быть, и для потехи царицы Марии Темрюковны. Пользовались опричники предоставленными им правами вволюшку: подпалить и разграбить купеческий дом, изнасиловать женщину, зарезать ребенка, затравить собаками старика или старуху… все эти злодейства назывались шалостями, молодечеством. В этой шайке временщиков особенной любовью Грозного и лютым усердием славились Басмановы, отец и сын, и Тристан л'Эрмит русского Людовика XI – Григорий Малюта Скуратов.
Следить погодно за царствованием Ивана Васильевича невозможно без упоминания о казнях и истязаниях – что обоюдно утомительно и для рассказчика, и для читателя… Не одно ли и то же, перечислять поименно всех жертв Грозного, что читать больничные списки холерного года? Тешился, тешился царь, любуясь истязаньями и воплями истязуемых как музыкой, упиваясь слезами и кровью, действовавшими на него подобно соленой воде, которая вместо утоления жажды только пуще ее возбуждает. Исторгнув из своего окаменелого сердца чувство жалости, Грозный не щадил в своем гневе самих служителей алтаря и увеличил список святых священномучеников русской церкви именем Филиппа митрополита. В 1566 году, по удалении от митрополии Германа, архиепископа Казанского, царь вызвал в Москву игумена Соловецкой обители Филиппа Колычева и предложил ему митру. Филипп согласился на принятие ее, с условием, чтобы царь уничтожил опричнину; Иван Васильевич разгневался, и новый митрополит принужден был удовольствоваться правом ходатайствовать перед царем за опальных; правом, которым царь не давал, впрочем, св. Филиппу и пользоваться. При встречах в храме царь избегал разговоров с митрополитом или требовал от него молчания… Опричники наушничали царю на святителя и сумели склонить на свою сторону многих лиц из духовенства, и в том числе соловецкого игумена Паисия. 8 ноября 1568 года опричники, по царскому повелению, ворвались во время богослужения в Успенский собор и выволокли митрополита на улицу; народ, рыдая, последовал за ним. Лишенный сана, св. Филипп был удален в Тверской Отрочь монастырь. На следующий год, идучи походом в Новгород, царь послал к святителю Малюту Скуратова, будто бы за благословением, а в сущности для покончания с бывшим митрополитом всех расчетов… Любимец царя, войдя в келью Филиппа, потребовал у него благословения.
– Я благословляю только добрых и на доброе! – спокойно отвечал святитель.
Этими словами он закончил земное свое поприще. За ними следовало предсмертное хрипение под руками Малюты: опричник удавил св. Филиппа. На место его возведен был Кирилл, архимандрит Троицкий.
В один год с мученическою кончиною митрополита Филиппа умерла царица Марья Темрюковна; по мнению ее державного супруга – от яду, поднесенного ей боярами-лиходеями, мстившими будто бы за казнь двоюродного брата царя, князя Владимира Андреевича, отравленного вместе с женою…
Летом 1569 года к царю явился некто Петр, уроженец волынский, с доносом, что новгородцы намереваются предаться королю польскому; в удостоверение доносчик предъявил Грозному подложную грамоту с искусно подделанными подписями архиепископа Пимена и знатнейших граждан. Основываясь на этом документе, Иван Васильевич решился разгромить Новгород. В декабре он со своими войсками выступил из слободы Александровской, устилая свой путь трупами, развалинами, особенно неистовствуя в Твери. 2 января 1570 года передовой царский отряд обложил Новгород; овладел пригородными монастырями, захватил все церковное имущество и, взяв в плен до 500 монахов, поставил их «на правеж» до прибытия царя, т. е. ежедневно бил их батогами. Той же участи подверглись целые сотни семейств новгородских горожан и купцов, имущества которых были опечатаны. Через четыре дня прибыл Грозный, а с ним и царевич Иван и 1500 стрельцов; начался разгром, напоминавший Новгороду великому времена Чингис-хана, Батыя и Тамерлана. По приказу царскому игумены и монахи, взятые на правеж, были забиты до смерти палками, а трупы их отданы в обители для погребения; архиепископ Пимен был взят под стражу, а дом его отдан опричникам на разграбление. Взятых в плен горожан и купцов пытали в присутствии царя и царевича, пытали не просто, но опаляя их каким-то необыкновенным горючим составом; затем началось потопление Новгорода в Волхове… Сотнями и тысячами на санях свозили обоего пола всякого возраста жителей на берега реки, на которых стояли опричники с копьями, баграми и долбнями, т. е. деревянными молотами. Заглушив жертву ударом долбни по голове, ее бросали в проруби; выплывавших из-подо льда прикалывали или вталкивали баграми обратно в воду, и это зверство продолжалось ежедневно в течение пяти недель! По окончании этой расправы царь со своими достойными сподвижниками начал грабить и жечь окрестные монастыри; резать обывателей, истреблять скот, житницы; разрушать дома, сквернить женщин и младенцев, наконец велел опустошить и обезлюдить окрестности Новгорода на 250 верст в окружности! Памятниками этой моровой язвы деспотизма остались встречающиеся в некоторых местах Новгородской и Тверской губерний курганы, под которыми покоится прах многих тысяч жертв царя Ивана Васильевича. В народе доныне сохранилось множество сказаний о новгородском разгроме; о том, как царь, не довольствуясь людьми, своеручно рубил уши колоколам; как один из них, именно вечевой, брошенный с колокольни, разбился вместо дребезог на тысячи ямских колокольчиков, валдаек-гуляек… И разнесли эти валдайки-гуляйки весть о гибели Новгорода во все концы царства русского – говорит в заключение эта замысловатая сказка.
Можем ли обойти молчанием ироническое прозвище, которым у нас в простонародье дразнят новгородцев? «Долбежни-ки» – слово это намек на долбни, которыми оглушали опричники утопленников на Волхове.
После шестинедельных злодейств и неистовств Иван Васильевич не то насытился, не то утомился и решился объявить пощаду тем, которые по милости Божией уцелели от рук палачей. Из Новгорода эта Черная Смерть, увенчанная шапкой Мономаха, отправилась на новые душегубства в Псков. По возвращении своем в Москву царь назначил комиссию для исследования изменного дела Новгорода и Пскова. Всегда оригинальный и охотник пошутить, Грозный начал казнями, а судом кончил; оно немножко противно и законам, и здравому смыслу, но о подобных безделицах царь Иван Васильевич не заботился и, со своей точки зрения, был совершенно прав: не все ли ему было равно – сперва судить, а потом казнить или vice versa: сперва казнить, а потом судить? Ведь ему законы писаны не были, и все они заменялись немногими словами – «нраву моему не препятствуй!».
Замешанных в сыскное дело было немало; в числе их попались даже и опричники: Афанасий Вяземский и оба Басмановы… окончилось дело, как и следовало ожидать, казнями; на плахе и под пытками погибли: князь Петр Оболенский-Серебряный, печатник Висковатый, казначей Фуников, Очин-Плеще-ев, Иван Воронцов и многие другие… Вяземский был запытан, а Алексей Басманов зарезан, по повелению царскому, сыном своим Федькою… Последний за то, что распотешил Ивана Васильевича своим повиновением, был прощен, да и как было не простить и не помиловать такое сокровище?
Пресыщенный злодействами и чувственными наслаждениями, весьма часто соединяя даже одно с другим как приятное с полезным, царь Иван Васильевич вздумал вступить в третий брак с дочерью новгородского купца Василия Собакина, девицею Марфою. Красавица собою, но хворая и слабая, она прожила не более месяца и скончалась «ненарушимою девственницею», по циническому сознанию Грозного. В полной уверенности, что ни одна из его жен не может умереть естественной смертью, царь и о Марфе Васильевне Собакиной объявил, что ее извели злые люди. По уставу православной церкви четвертое супружество воспрещается, но что значили уставы церковные для Ивана Васильевича, предавшего митрополита Филиппа в руки палача? В начале 1572 года царь женился на боярышне Анне Колтовской, приличия ради вынудив согласие у духовенства. В оправдание своего неповиновения церкви Иван Васильевич сказал в собрании архиереев умилительную речь:
– Первым браком женился я на Анастасии, дочери Романа Юрьевича, и жил с нею тринадцать лет с половиною; вражиим наветом, злых людей чародейством и отравою царицу Анастасию извели. Совокупился я вторым браком, взяв за себя из черкес пятигорских девицу, и жил с нею восемь лет, но и та вра-жиим коварством отравлена была. Подождав немало времени, захотел я вступить в третий брак, с одной стороны, для нужды телесной, с другой, для детей, совершенного возраста не достигших… Идти в монахи не мог, а без супружества жить в мире соблазнительно! Избрал себе невесту Марфу, дочь Василия Со-бакина; но враг воздвиг ближних многих людей враждовать на царицу Марфу, и они отравили ее, еще когда она была в девицах. Положив упование на всещедрое существо Божие, я взял за себя царицу Марфу в надежде, что она исцелеет, но она была за мною только две недели и преставилась еще до разрушения девства!..
На четвертый брак царь дерзнул, видя христианство растлеваемо и погубляемо, а детей несовершеннолетних. Со слезами умолял он духовную думу о разрешении ему вступить в четвертый брак, и разрешение было дано ему с наложением двухлетней епитимии… Три года сожительствовал Иван Васильевич с царицею Анной Колтовской, а затем она постриглась в монахини, вероятно, по его приказанию (1575 г.). За год до этого события Грозный заблагорассудил потешаться новыми казнями в стенах Кремля, причем отрубленные головы бросали во двор князя Мстиславского. В то же время царь объявил, что звание свое передает Касимовскому хану, крещеному татарину Симеону Бекбулатовичу. Грозный венчал его на царство шапкою Мономаха, назвав себя Иваном Московским и переселясь из дворца на Петровку. Симеон выдавал указы, в которых именовался великим князем всея Руси, и ему обязаны были все повиноваться как настоящему самодержцу. Два года тешился Иван Васильевич этим маскарадом, играя святыми символами власти, будто бирюльками, и издеваясь над чувствами благоговения народа русского к своим помазанникам. Какая цель могла быть при этом у царя? Что он хотел выразить этим глумлением? Непостижимо, загадочно… неужели Иван Васильевич до того отупел в злодействах, что, играя царским венцом, не понимал, что он смеется сам над собою и нисходит с трона на степень жалкого скомороха? Он мог, он имел право не полагать предела своей власти, но достоинство царское требовало, чтобы Иван Васильевич полагал какую-нибудь границу своему самодурству. Два года царь Симеон Бекбулатович играл роль царя; на третий возвратил венец Грозному и уехал из Москвы, получив от царя в подарок Тверь и Торжок. Палачи, сидевшие при Симеоне Бек-булатовиче сложа руки, по-прежнему принялись за работу… Впрочем, в последние девять лет царствования Ивана Грозного эпидемия казней значительно ослабела. Русская кровь лилась реками, правда, на ратном поле, в битвах с поляками, ливонцами и крымцами. Здесь бояре вместо позорной петли или плахи находили славную смерть с мечом в руках; здесь и палачи-опричники воинскими подвигами искупали прежние злодейства, между прочими пал на приступе Виттенштейна в Эстонии любимец Ивана, палач Малюта Скуратов-Бельский (1572 г.). Казни мало-помалу утратили в глазах Грозного прежнюю свою прелесть, и по мере его приближения к старости кровожадность сменилась в Иване Васильевиче ненасытным сладострастием. Вскоре после пострижения Анны Колтовской (или еще до женитьбы на ней) царь, испросив разрешительную молитву у своего духовника, взял себе в жены княжну Марию Ивановну Долгорукую. Жестоко обманувшись в ней – так как эта супруга на одни сутки оказалась не девственницею, Грозный утопил ее на другой же день в реке Сер – «в колымаге плотно запертой», как сказано в летописи, «и запряженной ярыми конями». В знак душевного сокрушения по убиенной царь приказал закрасить черными полосами золотой купол церкви Александровской слободы. Отказавшись на время от нового вступления в более или менее незаконный, пятый или шестой брак, Иван Васильевич возобновил прежнюю связь с невесткою, женою слабоумного брата своего Юрия. Связь эта, впрочем, не мешала ему брать себе в наложницы красивых девственниц из семейств боярских, купеческих, даже из стен женских монастырей… И самый этот человек, испрашивая у духовной думы разрешение на четвертое бракосочетание, осмеливался называть себя покорным сыном церкви Христовой!
По мнению новейших гуманистов, возведенному в какой-то догмат современной адвокатурой, – на свете нет ни преступлений, ни преступников, а только болезни и больные. Разбойник и душегубец называется мономаном; зажигатель – больным пироманией, вор и мошенник – одержимыми хризоманией… Словом, смотря на преступления с точки зрения патологической вместо юридической, можно любое злодейство назвать видом помешательства: оно и адвокату удобнее, да и для обвиненного полезнее. Тюрьмы, ссылки – варварство! – говорят друзья человечества, давно пора заменить их больницами и домами умалишенных; преступников наказывать не следует, их надобно лечить… Насколько справедливо подобное воззрение на преступников, этот вопрос мы до времени отложим, а покуда попробуем только разобрать деяния, т. е. злодейства, Ивана Васильевича Грозного с современной точки зрения и замолвим слово в его оправдание. Три периода казней, опричнина, разгром Новгорода и Пскова – это припадки мономании; кощунство в Александровской слободе, когда царь с опричниками наряжался в монашеские рясы, – это мания религиозная; сластолюбие, извращение чувственных побуждений, кровосмешение – это сатириазис, или эротомания… Затем потомство обязано произносить над Грозным свой оправдательный приговор и признать его, безусловно, великим, назвав смягчающими все его вины обстоятельствами дурное воспитание и плохое лечение. Да будет так!..
Эротомания, или сатириазис, Ивана Васильевича продолжалась по самый день его кончины, и самый его смертный недуг – гниение внутренности и опухоли снаружи – более нежели подозрителен. Тиверий римский сожалел, зачем у всего рода человеческого не одна голова, которую можно было бы отрубить одним взмахом топора. Иван Васильевич на закате дней сетовал, зачем прекрасная половина рода человеческого не может уместиться в одной женской личности, одаренной, сверх красоты, ежедневно обновляющейся девственностью. Мелькнула в царской опочивальне и скрылась в стенах монастыря девица Анна Васильчикова, супруга не супруга, наложница не наложница, на сожительство с которою Грозный взял, однако же, и на этот раз разрешительную молитву у своего духовника. Вскоре после Васильчиковой царь пленился Василисою Мелен-тьевой, вдовою боярина, зарезанного опричниками. Женщина эта, если о ней судить по трагедии г. Островского, была умна, лукава, играла Иваном Васильевичем как капризная содержанка своим благодетелем, не на шутку метила в царицы и была убита по повелению Грозного… В действительности ничего подобного не было и не могло быть. Грозному во время его сожительства с Василисою было лет сорок пять, и хотя он очень одряхлел от распутства, но еще не отупел до такой степени, чтобы позволить какой-нибудь бабе дурачить себя; далее минуты страстного самозабвения, до которого доходил Иван Васильевич в объятьях Мелентьевны, ее влияние на Грозного не простиралось. Всего вероятнее, кроме здоровенности, дебелости телес, иных достоинств в Василисе не обреталось, да, по правде сказать, в иных достоинствах Ивану Васильевичу не было и нужды. Что Мелен-тьевна была глупа – в этом удостоверяет нас сказание летописцев, свидетельствующее, что она не имела даже настолько такта, чтобы сохранить за собою место любовницы Грозного. В исходе апреля 1577 года, в бытность с царем в Новогороде, она вздумала засматриваться на окружного, князя Ивана Девлетева, и, как надобно полагать, не совсем осторожно: царь заметил! За это 1 мая того же года Василиса Мелентьева была пострижена в монахини, а князю Ивану Девлетеву отрублена голова. Снявши голову, плакал ли Грозный по волосам, об этом история умалчивает.
Василиса Мелентьева по счету была седьмою супругою Ивана Васильевича. Последнею его супругою в 1580 году была Мария Федоровна из боярского рода Нагих, родительница Димитрия, царевича угличского. Этот пятый или восьмой брак царя был причиною временного его отлучения от св. причастия и поводом к неоднократным ссорам со старшим сыном, царевичем Иваном, окончившимся его убиением рукою державного родителя. Царевичу, как старшему сыну и прямому наследнику престола, частые браки отца были не только неприятны, но казались даже опасными его первенству, и мысль, что новая семья может изменить порядок престолонаследия, не давала покоя царевичу. Здесь не можем не высказать догадки, может быть, не лишенной основания. Все браки Ивана Васильевича после кончины Анастасии Романовны были бесплодны или несчастливы, и две жены царя, по его заявлению, умерли от яду… Грозный подозревал бояр, но не было ли при дворе кого-нибудь другого, кому отравление цариц могло быть выгодно? Царевич Иван, воспитанный в школе заплечных мастеров, свидетель, нередко и соучастник злодейств отца, мог без малейшего содрогания посягнуть на жизнь первой мачехи, и второй, и третьей или посредством зельев и некоторых снадобьев, следовавших за ними, царских сожительниц делать неплодными. Добра от царевича ждать было нечего; на зло он был гораздо способнее. Вскоре после женитьбы Грозного на Марии Нагих начались неудовольствия между нею и невесткою, женою царевича Ивана. Муж вступился за жену, мачеха пожаловалась на пасынка самому Ивану Васильевичу, и пошли семейные распри и дрязги, возбудившие наконец вражду между царем и царевичем. В ноябре 1581 года у отца с сыном произошло довольно крупное объяснение; забылся царевич, не стерпел царь и пустил в него ножом или ударил его остроконечным своим посохом, но так или иначе – царевич Иван пал мертвый. Для полноты длинного списка грехов и преступлений Грозного именно только детоубийства и недоставало!
Надобно отдать справедливость царю в том, что раскаяние (может быть, впервые в жизни) не замедлило пробудиться в его каменном сердце. Заливаясь слезами, в отчаянии, Грозный созвал врачей, умоляя спасти убитого, обещал в награду все свои сокровища… разумеется, тщетно! Воспоминание об убиенном сыне не покидало царя до самой его последней минуты.
Женитьба на Марии Федоровне Нагой не препятствовала царю замышлять еще о новом браке, политики ради, с иностранною принцессою. Надеясь упрочить приязненные сношения с Англией, Грозный выразил желание жениться на родственнице королевы Елизаветы. Переговоры об этом предмете начались чрез посредство английского врача Роберта Якоби, присланного к Грозному королевою. Иван Васильевич поручил разведать о невесте Богдану Бельскому и шурину своему Афанасию Нагому. Якоби указал на племянницу королевы Марию Гастингс, и в августе 1582 года в Англию в качестве свата отправился дворянин Федор Писемский с приказанием доставить Ивану Васильевичу портрет невесты, мерку ее роста и подробные сведения о полноте, белизне, манерах и т. п. В случае вопроса о том, женат ли царь, Писемскому приказано было отвечать, что царь по неимению лучшей супруги покуда женат на боярышне, но в случае согласия королевиной племянницы эту жену отпустит. Писемский пробыл в Англии больше года, не успел ни в чем и возвратился в Москву с английским послом Боусом, которому было поручено королевою выхлопотать у царя монополию английским купцам, а сватовство его отклонить… Политика отвлекла Ивана Васильевича от его сумасбродного намерения развестись с супругою и жениться на племяннице королевы английской.
При всем нашем желании не касаться в нашем труде ни военных, ни политических событий не можем обойти молчанием завоевания царства Сибирского, венец которого был, так сказать, погребальным венчиком царя Ивана Васильевича… Факт этот знаменателен во многих отношениях. Завоевателем Сибири – золотого дна – был Ермак, недавний разбойник, и страна эта впоследствии времени сделалась местом ссылки злодеев и преступников, юдолью плача и скрежета зубов; преисподнею, в которой души человеческие выносят заживо загробные муки угрызений совести и отчаяния; где руки убийц и грабителей исторгают из недр земных то самое золото и серебро, алчность к которому была и еще будет причиною гибели тысячи других… И завещал Иван Грозный Сибирь царству русскому, будто на вечное воспоминание о своем царствовании, обогатившем, возвеличившем Россию, но и стоившем ей немало крови и слез… С именем Сибири для нашего уха точно так же неразлучно сопряжено содрогание ужаса, как и с именем царя Ивана Грозного!
С января 1584 года царь занемог каким-то сложным мучительным недугом, о котором безуспешно совещался со многими врачами и об избавлении себя от которого разослал по всем обителям смиренное приношение игуменам и монахам – молиться о нем небесному Целителю… Приближалась весна, и болезнь Грозного усилилась, хотя он, перемогаясь, не ложился в постель и был на ногах. Наступил пост; прошли дни Евдокии-мученицы, Герасима-грачевника, и, к ужасу Москвы, над столицею в сумерки явилась зловещая скиталица вселенной, блестящая комета… Царь со многими вельможами ходил на Красное крыльцо смотреть на нее и с тяжелым предчувствием объявил окружавшим, что комета – знамение близкой его кончины; он был твердо убежден, что ему, родившемуся во время страшной грозы, разразившейся над Москвою, невозможно было окончить жизнь без какой-нибудь другой фантастической обстановки… Да и кто из владык земных в тот суеверный век не видал в кометах вестниц своей смерти! Астролог в придворном штате каждого государя XVI и XVII веков был такою же необходимою должностною особою, как и духовник. Одновременно с молитвою последнего о новорожденном члене королевского дома первый составлял гороскоп всей его жизни, маршрут всех событий будущего. Независимо от верования «в планиды», Иван Грозный, особенно мнительный во время болезни, верил пройдохам гадателям и разным прозорливым старцам, осмеливавшимся браться за труд, превосходящий разум человеческий, – объяснение судеб Божиих. Некие старцы, неведомо на основании каких данных, предрекли царю, что пределом его жизни будет день святых Кирилла и Мефодия (18 марта). В народе сохранилось предание, будто Грозный приказал заточить пророков в темницу, с тем чтобы в случае продолжения его жизни далее положенного предела казнить прорицателей…
Болезнь царя, невзирая на старания врачей, усиливалась, но еще крепкий организм Ивана Васильевича мужественно боролся со смертью, и в этой борьбе не угасали, но как будто разгорались пылкие страсти Грозного. В минуты бреда он, выдавая приказания казнить и пытать каких-то невидимых врагов, то, заливаясь слезами, звал сына, убиенного им царевича Ивана… то возвращалось само сознание, и царь, впадая в религиозный восторг, усердно молился Богу, прося Вседержителя явить чудо и исцелить его, или же наоборот, палимый неугасаемым огнем сладострастия, срамнословил и высказывал желания насладиться объятиями женщины… Накануне его кончины, 17 марта, царская сноха Ирина Федоровна, жена его наследника Федора, пришла навестить державного свекра. Ее ласки, внимательность, а главное, свежее румяное личико воспламенили воображение больного, и, забывая свой недуг, собрав все силы, Грозный сжал царевну в своих объятиях, склоняя ее на свой смертный одр и поцелуями заглушая ее крики… Окружавшие едва могли высвободить Ирину Федоровну из объятий умирающего сластолюбца, и она, сгорая от стыда, спаслась бегством.
Занялась заря рокового дня св. Кирилла и Мефодия, и царь после ночи, проведенной довольно спокойно, пробудился, чувствуя себя бодрее, нежели в предыдущие дни; ему заметно было лучше, жизнь вспыхнула в нем, как вспыхивает лампада, в которой догорают последние капли елея, а смерть отдалилась от больного, чтобы сделать последний прыжок и задушить его в своих ледяных объятиях… Отошли обедни по церквам, окончились молебны о здравии царя, и положение его не ухудшалось. Грозный чувствовал себя настолько хорошо, что велел приготовить шахматную доску, намереваясь сыграть партию с кем-нибудь из бояр, находившихся при нем, и в эту самую минуту, оглушенный предсмертным ударом, впал в беспамятство… Обряд пострижения совершали уже над застывающим трупом, и схимником Ионою нарекли мертвеца… Унылый перезвон колоколов московских возвестил жителям о кончине царя Ивана Васильевича Грозного: царь земной предстал на суд Царя небесного, и пред мучителем открылись врата вечности…
Скончался он – и тихо приняла Земля несчастного в свои объятья… И загремели за его дела Благословенья и проклятья!Эти стихи, начертанные поэтом на гробнице Бориса Годунова, еще того применимее к могиле Грозного. Три века отделяют нас от его кровавого царствования, но память о нем не умрет на святой Руси и через три тысячи лет. Не осмеливаемся быть глашатаями приговора потомства, но едва ли нарушим правдивый закон этого неподкупного суда, если скажем, что в царствование Грозного велик был не он, а честный и добрый народ русский, тридцать лет покорно сносивший это иго безропотно и видевший в грозном царе гнев Божий, постигший землю русскую за ее прегрешения. Изменяли Ивану Васильевичу олигархи, крамольничали и волновались они – народ же ни в крамолах, ни в заговорах не принимал участия, он страдал, терпел и как мученик Христов молился за своего мучителя. Царствование Грозного небогато героями совета или бранного поля; советников Грозный не терпел, палачи были ему угоднее ратных воевод, так как в палачах Грозный только и видел защитников престола. Но в замену героев мы встречаем в летописях царствования Ивана Васильевича тысячу мучеников – от святого митрополита Филиппа до смиренного холопа князя Курбского, доставившего царю послание своего боярина и бестрепетно выдержавшего сначала удар царского жезла, пригвоздившего его ногу к полу, а затем лютейшие пытки. Забудет ли Россия боярина Ивана Васильевича Шереметьева и его ответ Грозному, допрашивавшему старца (с пыткою, разумеется), куда он девал свои сокровища?
– Руками нищих я передал их Богу! – отвечал мученик.
Этот ответ спас его от смерти и даровал ему бессмертную память в потомстве; но, помиловав одного брата Шереметьева, Грозный велел удавить другого, Никиту Васильевича.
Рассказав читателям о смерти Ивана Грозного, вменяем себе в обязанность сказать слова два о произведении нашего знаменитого драматурга графа Толстого, произведении, о котором публика почему-то обязана отзываться не иначе как с восторгом. Автор трагедии «Смерть Ивана Грозного» возводит жестокую напраслину на Бориса Годунова, к массе его грехов прибавляя один лишний – ускорение кончины царя Ивана Васильевича… Зачем ради сценического эффекта оскорблять память Годунова, и без того запятнанную, а может быть, даже и оклеветанную?
Сигизмунд II Август, король польский
Варвара Радзивилл (1548–1572)
Сын короля Сигизмунда I и супруги его Боны Сфорца, Сигиз-мунд II родился 1 августа 1520 года. По обычаю того времени, в минуту рождения младенца придворным астрологам поведено было составить его гороскоп, и, по толкованиям их, сочетание звезд и планет, под которыми родился королевич, было самое благоприятное. Зловещий Сатурн не воспрепятствовал сочетанию Марса и Юпитера с Венерою, ярко сиявших в созвездии Девы. «Младенец будет мудр, могуч, славен, – объявили звез-дословы, – будет мудр, как Соломон, но и женолюбив не менее Соломона!» Последнее предсказание, как доказала жизнь Си-гизмунда, было не совсем лишено основания. По совету тех же астрологов к имени королевича присоединено было и прозвище Августа не за будущие его подвиги, а просто в память рождения его в августе месяце.
Телосложение и наружность королевича обещали в нем здорового и сильного красавца; умственные способности хотя и не выходили из разряда посредственности, зато в сердце его с самого нежнейшего детства обнаруживались зачатки страстности и доброты, приличествующих более женщине, нежели мужчине, особенно правителю государством. Есть гермафро-дизм физический, есть и моральный, и, к несчастию, подобное уродство характера явление далеко не редкостное. Этот недостаток, сносный в человеке обыкновенном, можно назвать пороком в государе. Подобно хирургу, правитель царства должен обладать известным запасом жесткости в характере, так как чувствительность и мягкосердие не всегда уместны в делах правления. Слишком чувствительный и мягкосердый хирург, сам лишающийся чувств в минуту операции, при всей своей жалостливости принесет больному вред вместо пользы… То же самое и монарх, чересчур послушный голосу сердца: есть правительственные меры, которые для государственного тела то же, что хирургические операции для человеческого организма. Наш великий Петр – образец государя-хирурга; недаром же он и сам, готовясь подписать смертный приговор сыну, сравнивал его с «гангренозным членом, который следует отсечь, дабы спасти от заражения здоровые части тела». Далеко не таков был Сигизмунд, нежный от природы и еще, к вящему смягчению своего женственного характера, взращенный матерью, пылкой итальянкой, любившей и баловавшей его до безумия. Детство королевича протекло в кругу женщин, от которых он усвоил все вредные качества, будущему монарху почти пагубные. Семи или восьми лет Сигизмунд уже влюблялся в фрейлин своей матери; смеясь и шутя, последние невинными ласками волновали мальчика, сердце которого под знойными лучами страстей созревало преждевременно в ущерб рассудку. Мечтательность заменяла ему холодное размышление; область фантазии, населенная очаровательными призраками, отвлекала от действительности; восторженность уносила от земли на небеса…
Королевичу исполнилось десять лет, и сейм, вопреки существующим узаконениям, объявил его преемником короля Сигизмунда I. Отец, обрадованный этим решением, делавшим королевскую власть наследственною в его семействе, обратил наконец пристальное и серьезное внимание на характер сына и решился его перевоспитать. На первый случай, отняв королевича от нянюшек и мамушек, он сдал его на попечение гнез-денского каштеляна Опалинского – человека умного, ученого и сурового… Королевич в руках этого наставника напоминал ярый хмель, привязанный к сухой, безжизненной тычинке. Учебные занятия, несмотря на усердие наставника, шли вкривь и вкось; не умея приохотить ученика к наукам, Опалинский вел его к познаниям тернистым и утомительным путем педантизма. Математика хромала, история отталкивала королевича своей сухостью, и обширные ее области казались ему унылым кладбищем… Одна изящная словесность еще имела для него некоторую заманчивость, но и успехи в языках далеко не вознаграждали за нерадивость в науках. Все, чем с неутомимым терпением начинял голову ученика бедный Опалинский в течение осени и зимы, – все выветривалось при первом дуновении весны, все растаивало, как снег, во время летних жаров. Педагог потчевал своего питомца Геродотом, Квинтом Курцием, а королевич предлагал ему взамен скучной беседы за фолиантами прогулки в дворцовом парке или поездку по полям и живописным окрестностям Кракова… И бедная тычинка гнулась под набегами молодого хмеля!
Прошла юность, а с нею наступило время для родителей королевича подумать о его женитьбе. Мысль женить Сигизмун-да тем более радовала отца и мать, что с женитьбою сопряжена была возможность преобразовать недоучившегося юношу и остепенить его по мере возможности. Выбор короля пал на австрийскую эрцгерцогиню Елизавету, сестру германского императора Фердинанда… Женили королевича, и Елизавета была для него не столько женою, сколько гувернанткою. Пользуясь влиянием на мужа, она сумела приохотить его к занятиям научным, образовала его вкус, во многом исправила характер, в котором проявились было черты твердости и мужественности… К сожалению, Елизавета скончалась (1545 г.), и двадцатипятилетний вдовец, вырвавшись на волю, предался всем порывам своих врожденных склонностей и вскоре позабыл и жену-наставницу, и ее уроки. Прежний идеалист, превратившийся теперь в рьяного материалиста, служил своим страстям со всем усердием своей пылкой, огненной натуры и безжалостно губил время в наслаждениях чувственных. Между сотнями женщин, которым он жертвовал собою или которые ему приносили себя на жертву, королевич искал своего идеала – порожденного воображением, взлелеянного нежными мечтами юности, чуть ли даже не отрочества. Судьбе угодно было, чтобы королевич обрел свой воплощенный идеал и в любви своей к нему явил грустный пример, на что может быть способен человек, по-видимому, слабый и бесхарактерный, но ослепленный страстью. Избранницею сердца Сигизмунда Августа была молодая вдова паладина Троцкого Гастольда – Варвара Радзивилл, дочь каштеляна вилен-ского. Судя по портретам и описаниям современников, Варвара была блондинка, среднего роста, довольно полная лицом и станом; характера была кроткого, обходительного, обладала большим умом, но вместе с тем и кокетливостью, той умной и увлекательной кокетливостью, которая искони веков врожденна одним только полячкам. Француженка, итальянка, кокетничая, действует только на чувственность, немка – на приторную сентиментальность, англичанка – на рассудок и убеждения нравственные… Одна только дочь Сармации умеет осветить мужчину со всех сторон его характера, кружить ему голову, привлекать, завлекать, но, сводя его с ума, никогда самой не увлекаться, не терять рассудка и не преступать пределов благоразумия. Полячка-любовница остается верною и постоянною, как жена; полячка-жена любит мужа со всем увлечением любовницы… Это сирена, ведущая человека не к погибели, но всего чаще к брачному алтарю, и надобно отдать справедливость уменью полячек достигать в своей любви этой благородной цели, узаконяющей любовь. Стремясь к увенчанию последней брачным венцом, полячки повинуются двум равно развитым в них чувствам: врожденной гордости и убеждениям религиозным.
Так действовала Варвара Радзивилл с королевичем Сигиз-мундом и, пленив его, сама умела лавировать, минуя бездну, в которую менее искусную женщину могла бы увлечь страсть. Варвара любила королевича; но путь в ее опочивальню шел чрез брачный алтарь, и другого не было. Ласки Варвары, всегда скромные, стыдливые, никогда не преступали границ, предначертанных ее благоразумием. Бывали минуты, когда королевич в припадке любовной горячки падал к ее ногам, осыпая их слезами и поцелуями, тогда Варвара всегда находила возможность отвлечь страстные его помыслы на иное; отказывая ему в блаженстве в настоящем, она утешала Сигизмунда надеждами на будущее; пробуждала в его душе чувства идеальные; цветами поэзии утешала его за отсутствие вожделенного плода любви чувственной, плода сладкого, упоительного, но все же запрещенного… В ответ на слезы своего обожателя Варвара нежно улыбалась, осушала их поцелуями, не жгучими поцелуями страсти, но поцелуями родственной, чистой ласки, подобными дуновению весеннего ветерка, ароматного, сладостного, но и прохладного. Честь и слава уму женщины, так искусно маневрирующей с сердцем любимого человека, но надобно же такой героине и в собственном сердце иметь богатейший запас холодности и расчетливости. При свидании этих платонических любовников они как будто менялись ролями: Варвара казалась твердым, непреклонным мужчиною, а Сигизмунд – слабою женщиною.
– Я обожаю тебя! – повторял он Варваре.
– Женись, – отвечала она.
– Неужели страсть моя останется без ответа?
– Отвечу, когда буду твоей супругою.
– Но ты сама любишь меня?
– Люблю и потому-то уверена, что ты будешь моим супругом…
Впрочем, может быть, Варвара была бы менее сурова, если бы над нею не бодрствовала ее почтенная родительница, подкреплявшая ее своими советами, а подчас и руководившая всеми ее действиями. Окончательно побежденный страстью, королевич сочетался с нею тайным браком; тот и другая достигли своих желанных целей. Супруга королевича Варвара и после брака действовала с неподражаемым тактом ради упрочения привязанности и верности мужа. Во избежание возможного с его стороны охлаждения в том случае, если бы свидания их стали бывать чаще прежнего, Варвара не только не соглашалась переселиться из Вильны ближе к Кракову, но, напротив, убедила своего супруга навещать ее реже и сколь можно тайно, чтобы не навлекать подозрений. Эта романтическая таинственность придала любви королевича к Варваре всю заманчивость запрещенного плода; объятия красавицы, до которых он достигал, преодолевая препятствия, не теряли в его глазах своей обаятельной привлекательности, и в наслаждениях своих Сигизмунд не доходил до пресыщения… Нечего и говорить, что в разлуке нежные супруги хранили обоюдную верность. И могло ли быть иначе? Для Сигизмунда искушение было немыслимо; для Варвары и того менее: в замке своем она жила совершенной затворницей.
20 марта 1548 года король Сигизмунд I скончался, и преемником ему был единогласно провозглашен сын его Сигизмунд II
Август. Принимая должную и законную дань почестей как государь, Сигизмунд приобщил к ним и свою супругу, объявив ее королевою со всеми правами, сану ее предоставленными. Варвара прибыла из Вильны в Краков, где торжественно была встречена королем. Этот триумф и морганатический брак Сигизмунда возбудили живейшее неудовольствие в духовенстве и дворянстве.
– Без ведома его святейшества! – возроптало первое.
– Без согласия сейма! – шумело второе.
Коронация и следовавшие за ним празднества на время утишили эту бурю, но она поднялась в следующем году на Пи-отковском сейме. Здесь вельможи объявили, что брак короля не может быть признан законным как бесполезный государству и позорный трону. Король, по мнению панов, обязан был брачным союзом с одною из первостепенных европейских держав упрочить величие своего королевства, а не унижать его.
– В этом деле, – отвечал король, – я предпочел и предпочитаю повиноваться голосу сердца, а не капризам народа.
За исключением Радзивиллов и их сродников, все вельможи, не скрывая своей ярости, стали роптать пуще прежнего и от ропота перешли к угрозам. В восшествии Сигизмунда на престол видели явное нарушение закона: король должен был быть избран из среды дворянства, как это велось исстари, а не наследовать отцу на престол, будто вступая во владение движимой собственностью. Самою же главною причиною всеобщего негодования была зависть. Каждый пан, присутствовавший на Пиотковском сейме, думал, глядя на Варвару Радзивилл: зачем она, а не моя дочь, или сестрица, или племянница?
– Перед престолом Божиим Варвара Радзивилл моя супруга и пребудет моею супругою на королевском престоле! – отвечал король на смутный ропот панов. – Если она вам не угодна, я отрекаюсь от престола!
Последняя фраза была не пустою угрозою: Сигизмунд приступил к редакции манифеста о своем отречении.
– Пусть не думают мои надменные вельможи, – говорил король своим приближенным, – чтобы я мог купить их благосклонность ценою моей доброй Варвары… За нее не возьму я не только королевства польского, но и корон всей Европы!
И как бы желая вознаградить супругу за незаслуженные оскорбления от дворянства, Сигизмунд удвоил свою к ней внимательность и нежность. Варвара со своей стороны, готовая пожертвовать собою для сохранения Сигизмунду короны королевской, старалась, и весьма успешно, укротить строптивейших ласковым с ними обхождением и кротостью. Ненавидя ее как королеву, враги Варвары не могли не отдавать ей справедливости как умной и прекрасной женщине. Король не отступался от своего намерения отречься и, только уступая разумным доводам архиепископа Краковского, до времени отложил свое отречение; в данную минуту оно было бы более чем несвоевременно. Войны с Россиею, волнения в Литве и Ливонии требовали от государя самой энергичной деятельности… Тут, как нельзя более кстати, Сигизмунду представился случай смирить кичливых дворян и заставить их покориться его воле. Пересматривая по случаю войны послужные списки многих вельмож, король обратил внимание на ту вредную особенность польской государственной администрации, что одни и те же лица одновременно занимают по нескольку должностей, получая соответствующие им доходы и содержания; некоторые должности, подобно майоратам, были в вельможеских семействах наследственными… Желая нанести решительный удар честолюбию и корыстолюбию панов, король решился издать манифест, в силу которого наследственность в должностях отменялась, одно лицо лишалось права занимать разом несколько мест и должностей. Прямая польза этого разумного мероприятия не могла бы даже быть и опровергнута на сейме… Магнаты увидели, что новый закон больно ударит их по карманам, т. е. по источникам их могущества, и решились во что бы то ни стало отклонить Сигизмунда от его намерения. Король был не прочь войти в полюбовную сделку: за ненарушимость старого закона он предложил вельможам признать Варвару Радзивилл королевою… Вельможи согласились.
Преодолеть препятствия и поставить на своем отрадно и человеку, одаренному силой воли; для бесхарактерного подобный подвиг истинное торжество, и именно такими глазами смотрел Сигизмунд на свою победу над гордыми магнатами. Увенчав голову любимой женщины короной королевской, посадить ее рядом с собою на престол, сказать своим подданным: «Люди, поклоняйтесь ей, обожайте ее! Я государь ваш, но она – моя царица, а я считаю за счастье быть ее рабом…» Это ли была не блаженнейшая минута для нежного, восторженного Сигизмунда. И Варвара была коронована в Кракове и всенародно объявлена королевою польскою; недавние недоброжелатели, смирив свою гордость, преклонили пред нею колени и недавний свой ропот заменили восторженными кликами. Сигизмунд торжествовал, конечно, более самой Варвары, и празднества, которыми он в Кракове ознаменовал коронацию супруги, пышностью превосходили празднества собственного его воцарения. К сожалению, улыбка судьбы человеку всего чаще предшествует невзгодам. В числе многих тысяч гостей, ликовавших в стенах краковского дворца, невидимкою присутствовала та страшная гостья, для которой всегда открыты и чертоги королей, и лачуги нищих, гостья, которую вернее было бы назвать всемирною хозяйкою и непобедимою обладательницею вселенной… Досказывать ли, что мы говорим о смерти? Страшная невидимка, витая над королевою, уже осеняла ее готовившимся ей в близком будущем гробовым венком и веяла ей в лицо саваном. Варвара после коронации жила только шесть месяцев и в 1551 году скончалась от рака, по уверению докторов; от яда – по подозрениям Си-гизмунда. Те же магнаты могли быть и отравителями несчастной Варвары.
Можно сказать без малейшего преувеличения, что скорбь короля по его усопшей супруге равнялась любви его к ней живой. Он не отходил от гроба Варвары ни днем ни ночью, откладывая погребение до крайнего срока и продержав тело до степени разложения, отвратительного для всех окружавших, кроме него самого. Облекшись в глубокий траур, Сигизмунд надел себе на шею золотой медальон с волосами покойницы; комнаты, в которых она жила во дворце, он приказал неизменно оставить в прежнем виде, как было при Варваре. К этим комнатам он присоединил траурную залу, стены которого были обиты черным сукном с серебряными изображениями слез, мертвых голов, костей и т. п. На столе, стоявшем посредине комнаты, возвышалось распятие и тут же стоял портрет покойной королевы, и были разложены принадлежавшие ей наряды и уборы… В слезах и в молитвах Сигизмунд проводил в этой траурной зале целые дни. Увещания духовенства были напрасны, а попытки придворных рассеять и чем-нибудь позабавить короля не только оставались тщетными, но только сердили и раздражали его. Дворец принял вид обители трапистов, в глубокую темноту были по вечерам погружены его окна, во внутренних покоях царило могильное безмолвие, живые люди ходили неслышно, как тени, и только заунывный бой башенных часов напоминал о времени, а с ним и о вечности, в которую безвозвратно сокрылась королева Варвара.
За два или за три месяца, истекших со дня ее кончины, Сигизмунд постарел десятью годами и сам стал похож на мертвеца. Подобно всем вообще восторженным натурам, он находил особенную прелесть в своей грусти и наслаждался ею, напоминая больного, расчесывающего свою рану и тем не дающего ей зажить… От меланхолии до помешательства один шаг, и именно этого опасались придворные. Надобно было прибегнуть для излечения короля к средству отчаянному, страшному, и они отважились на это средство. Нижеследующий рассказ мы заимствуем из народных преданий, доныне сохраняющихся в австрийской Польше, частию и в наших западных губерниях. Именно в царствование Сигизмунда Августа жил в Кракове знаменитый медик, астролог, алхимик, маг и чернокнижник пан Твардовский. В тот век невежества и фанатизма, чтобы приобрести подобную репутацию, достаточно было быть мало-мальски ученым человеком; Твардовский же и из ученых был не последним. Трудно с точностью определить степень его познаний в тайных науках, но в народе о нем сложились странные понятия вследствие многих чудесных исцелений и нескольких опытов, которые даже и в наше время весьма многим показались бы удивительными. К этому человеку обратились приближенные короля с просьбой исцелить его от душевного недуга.
– Это возможно, – отвечал колдун посланному, – если только не будет препятствия со стороны самого короля.
– Оно есть, – отвечал посланный, – так как его величество сам не желает исцеления.
Пан Твардовский дал совет придворному, который в тот же вечер нашел возможность ему последовать. Пользуясь особенным к нему расположением Сигизмунда, каштелян будто вскользь заронил словцо о возможности свидания живых с усопшими.
– Во сне? – уныло спросил король.
– Никак нет, государь, – отвечал каштелян, – а наяву и воочию…
– Посредством нечистой силы?
– Посредством науки, ваше величество. В Кракове есть человек…
– Не о Твардовском ли вы мне намерены рассказывать? По слухам, именно этот человек и чернокнижник, и колдун не хуже немецкого доктора Фауста. Отец Архибискуп обращал мое внимание на Твардовского как на вредного человека… Нет, благодарю за предложение его услуг: между раем, в котором теперь праведная душа королевы, и адом, который повинуется Твардовскому, не может, да и не должно быть ничего общего. Я сам вызову тень моей Варвары молитвою!..
Несмотря, однако же, на свой аскетизм, король через несколько дней сам возобновил разговор о пане Твардовском.
– Вызвать тень королевы, – сказал он каштеляну, – вашему чернокнижнику едва ли возможно. Душа ее до такой степени далека от здешнего бренного мира, что даже не является мне в сновидении, несмотря на все мои старания…
– Видеть во сне именно того, кого желаешь, живого ли, мертвого ли, действительно очень трудно, особенно если об этом человеке мы постоянно думаем. Ум, утомленный одною постоянною мыслию в течение дня, естественно, стремится к иным мыслям во время ночи.
– А ваш Твардовский может вызвать тень наяву?
– Может, государь.
– Весьма сомневаюсь… а впрочем… – продолжал король в раздумье, – отчего бы не попытаться? Только предупреждаю вас, если я вздумаю решиться на этот грех, то не иначе как по предварительном объяснении колдуна: какими именно средствами он вызовет призрак? Если явление будет основано на законах науки и природы – я согласен… но если, Боже сохрани, Твардовский прибегнет к черной магии, тогда пусть лучше и не думает меня морочить!
– Когда же прикажете явиться ему во дворец?
– На днях, может быть, завтра… Я назначу сам.
Через неделю пан Твардовский был представлен королю
Сигизмунду. Король принял его в траурной зале и выказал при этом суеверный ужас: не допустив колдуна к руке и вообще удерживая его на почтительном расстоянии, Сигизмунд несколько времени молился, осеняясь знамением креста. Из придворных присутствовали при этом трое приближенных, на скромность которых король мог вполне положиться.
– Вам передали мое желание? – робко спросил он Твардовского.
– Передали, ваше величество. Надеюсь, с помощью…
– Не говорите, с чьей помощью, если в этом деле примут участие духи… В этой комнате, посвященной памяти моей супруги, не должно быть произносимо никаких заклинаний.
– Их не будет, ваше величество.
– Посредством чего же вы вызовете тень?
– Посредством курева, составленного мною по рецепту древнего ученого, – и только. К этому куреву я попрошу, ваше величество, позволить мне прибавить локон волос покойной королевы…
– Без этого нельзя?
– Невозможно, государь.
Король, медленно сняв с шеи золотую цепь, открыл медальон, и две крупные слезы капнули на сложенную в нем прядь белокурых волос… Он, видимо, колебался расстаться со своим сокровищем. Между тем Твардовский, занавесив распятие куском черного крепа, попросил одного из присутствовавших придворных принести жаровню с горячими угольями.
– Ваше величество позволит мне, – обратился он к королю, – до приступления к опыту сообщить вам весьма важную предосторожность?
– Именно?…
– Не обращаться к призраку с вопросами, не называть его по имени…
– Не выражать ему ни ласки, ни сожаления? – уныло досказал король. – Даже и этого нельзя? А если я невольно нарушу ваше приказание'?
– Тогда, государь, дух покойной королевы примет на себя тот самый вид, в котором теперь находится ее бывшая земная оболочка, и умиление ваше уступит место ужасу, может быть, даже отвращению…
– В таком случае не скажу ни слова! – прошептал король.
Принесли жаровню и поставили ее на стол перед Сигизмун-дом; двери, по распоряжению Твардовского, плотно заперли… Воцарилась тишина страха и ожидания, и только слышался легкий треск пылавших угольев. Вынув из кармана золотую коробочку, колдун высыпал на уголья содержавшийся в ней порошок, потом бросил на них же прядь волос покойной королевы. Острый, но довольно благовонный дым медленно поднялся с жаровни и, вместо того чтобы восходить к потолку, начал расстилаться по комнате… Дверь, которая вела из траурной залы в комнаты королевы, медленно распахнулась, и на пороге показался призрак покойной в богатом уборе, с головы до ног будто серебристым облаком покрытый газовой пеленой. Не касаясь ногами пола, тень, подобно клубу тумана, неслась к столу, вперяя в короля взгляд, полный грусти и невыразимой нежности. Дрожа всем телом, Сигизмунд приподнялся с кресел и, забыв обещание, данное Твардовскому, прошептал прерывающимся голосом:
– Ты… ты, моя Варвара!
Слова колдуна оправдались: спокойное, величавое лицо призрака исказилось, зубы оскалились, в глазных впадинах вместо глаз, полных ума и выражения, закопошились черви, вся фигура приняла очертание трупа, вздутого газами, и удушливый смрад разлился по воздуху… Король лишился чувств; призрак рассеялся вместе с дымом.
Вместе с щедрым вознаграждением пан Твардовский на другой же день получил от короля Сигизмунда приказание в двадцать четыре часа выехать из Кракова.
Так гласит народное предание, приправленное фантастической солью, но, может быть, основанное на истинном происшествии. Верно известно, что через год после кончины Варвары король приказал уничтожить траурную залу, перемеблировать апартаменты покойной супруги, а платья ее и уборы сдать в гардероб. По благости провидения вечной скорби нет на земле, и время, одной своей волной унося в вечность близких нашему сердцу, другой замывает наши сердечные раны:
Смертной силе, нас гнетущей, Покоряйся и терпи — Спящий в гробе мирно спи, Жизнью пользуйся живущий!В 1552 году король принял деятельное участие в спорном вопросе о свободе вероисповедания своих подданных. Духовенство угнетало протестантов; вельможи и дворяне им покровительствовали. Их же сторону в ущерб интересам патеров принял и король. Следствием его разумной веротерпимости город Гданьск (Данциг), намеревавшийся признать над собою покровительство императора германского, остался в подданстве короля польского. В следующем году (1553), уступая желанию вельмож, Сигизмунд вступил в третий брак с Катериною Австрийскою, вдовою герцога Мантуанского. Этот союз, в котором нежное сердце короля не принимало ни малейшего участия, был заключен единственно ради политики: имея виды на Ливонию, которую он и присоединил к своим владениям (1556), Сигизмунд надеялся ублажить Австрию, породнясь с нею. Нерасположение короля к нелюбимой супруге постепенно усиливалось вследствие ее неплодия, и он решился наконец расстаться с нею. Развод этот мог рассорить Польшу с Австрией, но и на этот случай король, человек предусмотрительный, принял свои меры, заключив дружественный союз со Швецией и с Россией. Застраховав себя таким образом от вооруженного столкновения с империей германской, Сигизмунд решился испросить у папы Пия IV формального дозволения о расторжении брака с Катериною; папа отказал… Не обращая на это несогласие ни малейшего внимания, король отослал свою супругу в Вену к ее брату императору (1565). Римский первосвященник грозил Си-гизмунду своими ватиканскими перунами в виде булл, экском-муникаций и т. п. На них смелый король отвечал как нельзя злее, благоволя и покровительствуя своим подданным аугсбургского вероисповедания. Присоединение Литвы к Польше в 1569 году было последним великим деянием короля Сигизмунда; следовавшие затем шесть лет он провел в Кунсине (в Подляхии), где и скончался 7 июля 1572 года, оставив по себе память умного политика, покровителя ученых и доброго служаки интересам королевства. Современники укоряли Сигизмунда только за один недостаток: щедрый на обещания, он был скуп на исполнения. За это его прозвали Королем Завтра.
В отношении психологическом личность Сигизмунда заслуживает внимания как живой образец непостоянства и изменчивости характера человеческого. Восторженный идеалист в юности, неутешный вдовец Варвары Радзивилл в зрелых летах, Сигизмунд, входя в года, остепенился, поуходился и сделался наконец вполне практическим человеком. Благодаря этой перемене к лучшему последние двадцать лет царствования Сигиз-мунда были не бесполезны и не бесславны для Польши. Что же касается до Варвары Радзивилл, честь и слава ее памяти за то, что она никогда не злоупотребляла тем влиянием, которое имела на короля, сперва пламенного любовника, а потом не менее нежного супруга. Если бы у королей XVI, XVII и XVIII столетий было поболее фавориток, подобных Варваре, в истории не было бы так много позорных страниц.
Франциск Медичи, великий герцог тосканский
Антонио Сергуиди. – Бьянка Капелло. – Пьетро Бонавентури. – Витторио Капелло
(1564–1587)
Четыре позорных пятна на памяти человека, достойного уважения потомства за свою пламенную любовь к наукам и покровительство изящным художествам! Франциск Медичи имел бы полное право на прозвище Великого, если бы вместо политической сферы посвятил себя исключительно ученой или артистической деятельности.
Отец его, герцог тосканский Козьма I, утомленный делами правления, в 1564 году передал власть свою ему, Франциску, возлагая на способности последнего самые блестящие надежды. От природы умный, но не лишенный и порочных наклонностей, Франциск, воспитанный матерью – гордой и суеверной испанкой, с малых лет усвоил все ее недостатки. Недоверчивый, подозрительный, скрытный, Франциск Медичи мог назваться миниатюрной копией Филиппа II Испанского. Весь род человеческий он делил на два разряда, питая к одному ненависть, к другому презрение. Аристократия, по мнению Франциска, была опаснейшей и вредной кастой, а простой народ – глупым стадом, которое следует стричь догола и доить до крови. С подобными воззрениями, само собою, герцог с первых же дней своего воцарения навлек на себя всеобщее неудовольствие. С утра и до глубокой ночи проводя время в своем учебном кабинете или в алхимической лаборатории, Франциск уделял час-другой государственным делам, решая их вкривь и вкось, лишь бы только спустить их с плеч долой. Благо подданных, смягчение участи простого народа, искоренение злоупотреблений – над всеми этими вопросами Франциск никогда не задумывался; важнее всего герцога занимало разрешение задач алхимических, обретение философского камня, эликсира бессмертия и живой воды, способной возвращать жизнь усопшим. В дымной, загроможденной разными снарядами лаборатории Франциск неутомимо плавил металлы, вываривал эссенции, составлял тинктуры и даже пережигал в золу целые человеческие остовы. Эти занятия, сумасбродные в наше время, в тот век привлекали к себе внимание ученейших и умнейших людей. Независимо от алхимии, своей любимой науки, Франциск вообще страстно любил естествознание: вел переписку с Петром Маттиоли, знаменитым переводчиком Диоскорида, и Улиссом Альдровандусом – итальянским Плинием… Альдо Мануччи, внук и наследник славного типографа, был также постоянным корреспондентом герцога Франциска Медичи. Скупой до скаредности, последний не жалел расходов каждый раз, когда дело шло о приобретении дорогого издания, ученого манускрипта, редкости естественной или художественного произведения. Оставляя без внимания просьбы своих подданных об оказании им милости или правосудия, герцог осыпал своими щедротами только ученых и художников; только для них и были постоянно открыты двери его приемной. Злые языки, намекая на коллекции естественной истории, собираемые герцогом, говорили:
– Государь наш поступает по словам Писания: мы просим у него хлеба, он дает камни; вместо рыбы подает нам змею!
Но вместе с камнями своего минералогического кабинета Франциск Медичи заботился о сооружении во Флоренции каменных зданий, доныне признаваемых чудесами тосканской архитектуры. Кроме многих дворцов, в столице построенных, он реставрировал падающую башню и крестильницу (baptisteria) в Пизе, украсил этот город новым мраморным собором и начертал новый план гавани в Ливорно… Все это было бы прекрасно, если бы в то же время народ не стенал от обременительных налогов, земледельцы не жаловались на чрезмерные поземельные подати, а купцы на стеснительные пошлины. Криводушие и взяточничество царили в судах. Завзятый злодей и уличенный преступник, имея более или менее значительное состояние, могли быть твердо уверены в снисходительности судей, принимавших во внимание исключительно карманные, смягчающие вину обстоятельства. При застое торговли, промышленности, при упадке земледелия, наконец, при нищете народной в царствование Франциска Медичи в Тоскане процветали разбои и грабежи. Шайки бандитов наводняли окрестности городов; мошенники чуть ли не среди бела дня грабили на улицах, вламывались в дома. В течение восемнадцати первых месяцев правления Франциска в одной только Флоренции было совершено до ста восьмидесяти шести убийств. При душегубствах простым народом руководила корысть, аристократиею – всего чаще мстительность. Обманутый муж, не удостаивая соперника вызовом на поединок, подкупал его слуг или нанимал убийц, и любовник погибал от яда или издыхал на улице зарезанный либо удавленный. С женою разделывался сам муж и за ее убиение даже не был привлекаем к ответу… Таковы были нравы и обычаи Тосканы во все время управления ею славными Медичи. Говорят, будто науки и изящные искусства смягчают и облагораживают нравы… Парадокс, опровергаемый многими страницами истории и, между прочими, итальянскими хрониками золотого века Медичи! Общественный разврат и упадок нравственности были даже в какой-то необъяснимой связи с процветанием тогда в Тоскане наук и художеств. Первые последним как будто служили тем же, чем служит смрадное удобрение роскошным и благоухающим цветам.
За девять лет до восшествия своего на герцогский престол Франциск Медичи по желанию отца своего Козьмы I сочетался браком с эрцгерцогинею австрийскою Хуаною. Некрасивая собою, не первой молодости, но умная и превосходно образованная, эрцгерцогиня с первого же дня свадьбы (16 декабря 1565 года) опротивела своему супругу, который предпочитал своей опочивальне и ласкам Хуаны свою алхимическую лабораторию и беседы с учеными и шарлатанами, выдававшими себя за обладателей великого секрета превращения металлов. Хуана могли бы мстить мужу, избрав в среде придворных любовника, но для подобного мщения она была слишком некрасива наружно и слишком чиста нравственно. Единственной отрадою бедной покинутой жены были занятия науками и покровительство ученым. Последние считали за особенное счастие, если герцогиня разрешала им посвящать свои произведения ее высокому имени, и, сказать по правде, ученое сочинение, посвященное царственной особе, прославляет ее во сто крат более, нежели льстивая ода какого-нибудь пиита за деньги или за подарочки, всегда способного переименовать Нерона в Тита, а Мессалину в Семирамиду. Любовь к наукам должна была бы, казалось, сблизить Франциска Медичи с супругою, но даже и в этой сфере они не сходились. В первые годы супружества герцог оправдывал свое равнодушие к жене антипатиею; впоследствии извинял свое охлаждение к ней ее продолжительным бесплодием… Главною же и единственною причиною ненависти герцога к его супруге была его любовница – знаменитая Бьянка Капелло.
Чтобы выставить в нашем биографическом очерке эту личность в ее настоящем свете, мы были принуждены перебрать несколько сочинений старинных и новейших, в которых рассказано о знаменитой Бьянке. Поэты и романтики окаймили эту хорошенькую головку светлой ореолой и превознесли до высоты героини. Писатели менее пристрастные признали Бьянку Капелло за ловкую пройдоху, искательницу приключений, немножко воровку, немножко убийцу – вообще же за очень антипатичную особу. Из этих двух мнений об одном и том же лице мы именно выбрали последнее как правдивейшее. Если читателю попадет в руки биография Бьянки Капелло, в которой с первых же строк о ней говорится с выгодной стороны, он может не продолжать своего чтения, если только не придерживается пословицы: не любо – не слушай, а лгать не мешай!
Бьянка родилась в Венеции в 1545 году. Отец ее Бартоло-мео Капелло, управляющий коммерческим банком Сальвиати, принадлежал к знатной фамилии, родственной Гримани, патриарху Аквилеи, доводившемуся Бьянке родным дядею. Бартоло-мео женился рано и, прожив с женою лет пять, схоронил ее, дав себе слово всю свою жизнь посвятить воспитанию оставшихся после нее сирот, дочери и сына. В массе клятв, чаще других нарушаемых, первое место принадлежит клятве вдовца или вдовы не жениться или не идти замуж. Давая подобное обещание, люди морочат самих себя, действуя под влиянием скорбной минуты без малейшего помысла о будущем. Не прошло и года со дня смерти жены, как Бартоломео Капелло сознался, что он, обрекая себя на пожизненное вдовство, немножко погорячился и что взгляд на жизнь сквозь слезы по умершей жене не всегда бывает верен… К концу года Бартоломео вступил во второй брак с сестрою одного из своих сослуживцев. Вторая жена Ка-пелло, выходя за него, дала ему в свою очередь клятвенное обещание, что падчерице и пасынку своим заменит родную мать, и солгала точно так же, как солгал супруг ее год тому назад. Как бы ни претендовали свекрови, тещи и мачехи на замену невесткам, пасынкам и падчерицам родных матерей, они никогда не могут заменить последних в моральном смысле, точно так же, как и в физическом, одна жизнь и одна мать у человека. Любить детей мужа от другой женщины, любить как своих родных – подобный подвиг вне женской натуры. Мачеха может заботиться о пасынке или о падчерице, может воспитыватать их, образовывать, беречь, ласкать… но любить, любить душевно так, как умеют любить только родные матери, – этого никакая мачеха в мире не может. Избави нас Бог попрекать женщин за это свойство их натуры; напротив! Нам весьма понятны чувства неприязни, всегда отделяющие мачеху от сводных ее детей: последние – живые воспоминания о другой женщине, когда-то любимой мужем; черты их лица напоминают ему эту женщину; любя и лаская их, он как будто ласкает ту женщину; любовь к детям – продолжение его любви к той женщине… Эта любовь – огонь, перенесенный с потухшей светильни на новую. Что нужды, что от усопшей соперницы не осталось, может быть, и костей, когда на земле растут и цветут ее живые отрасли?… И более или менее искусно скрываемая ревность грызет сердце всякой мачехи при взгляде на детей мужа от первого брака. Это гадкое чувство удесятеряется в мачехе при появлении на свет собственного, родного детища… Все это так обыкновенно, так естественно, до такой степени общее место в семейном быту народов, что и распространяться об этом нечего.
С появлением второй жены в доме Бартоломео Капелло для дочери его Бьянки и сына Витторио наступили черные дни, и над бедными детьми отяготела громовая туча. Ласковая первое время, молодая мачеха мало-помалу прибрала детей к рукам и взяла их, по нашему народному выражению, в ежовые рукавицы. Под предлогом исправления детей от их недостатков мачеха бранила их с утра до вечера; от брани перешла к побоям… Отец при первой своей попытке защитить страдальцев сам едва не подвергся их же участи и оставил их на произвол своей милой супруги… Росли Бьянка и Витторио как отверженцы в отцовском доме, завидуя его слугам. Характеры брата и сестры ожесточились; лукавство, скрытность – пороки, всегда развивающиеся в угнетаемых, – возрастали в сердцах детей с каждым днем. Ненавидя мачеху, они питали к отцу совершенное презрение; многочисленная родня казалась им сонмом мучителей и палачей. Первая ласка детям была оказана чужим семейством Бонавентури, которое, видя их порабощение и пользуясь давностью знакомства с домом Капелло, приблизило к себе его детей, стараясь радушным своим участием вознаградить их за тиранию мачехи. Это обстоятельство озлобило последнюю пуще прежнего, и обхождение ее с детьми дошло, наконец, до безобразия: она начала одевать их в лохмотья и морить голодом; била ежеминутно и без всякой причины. Синьор Бартоломео молчал, будучи сам под башмаком у жены.
Бьянке минуло шестнадцать лет, и, невзирая на каторжный образ жизни, она цвела красотой, и личико ее напоминало красавиц, которых бессмертили на полотне своих картин Тициан и Тинторетто. Новый источник гонений со стороны мачехи!.. Дорого готова была дать эта мегера, чтобы хоть каким-нибудь снадобьем обезобразить падчерицу. За каждый нечаянный взгляд последней на какого-нибудь молодого человека бедная красавица была вознаграждаема пощечинами, ударами плетки и осыпаема ядовитыми упреками весьма цинического свойства… Мачеха без всякого основания ревновала Бьянку к ее родному отцу. Несчастной девушке оставались на выбор две дороги к избавлению от адской ее жизни: бегство из родительского дома или смерть. В раздумье над этим выбором застала Бьянку ее первая любовь, в которой она нашла отраду и спасение.
Пьетро Бонавентури, конторщик банка Сальвиати, вхожий в дом Капелло и дружески в нем принятый, страстно влюбился в Бьянку, которую знал с детства. Очарованная в свою очередь умом и красотой Пьетро, девушка отвечала ему взаимностью, и молодые люди блаженствовали, проводя очень искусно своих домашних аргусов. С помощью поддельного ключа Пьетро мог в ночную пору приходить к своей возлюбленной и уходить от нее, не замечаемый ни ее отцом, ни мачехой, ни братом Витторио. Но счастливая ночью, Бьянка в течение дня бедствовала по-прежнему, и ласки Пьетро, как ни были пламенны, не вознаграждали ее за те страдания, которые заставляла ее испытывать злодейка мачеха. Пришла пора серьезнее подумать о своем избавлении и изыскать способы к бегству из родительского дома. Пьетро взялся все устроить и, как человек практический, обделать дело как нельзя лучше. При всей своей нежности к Бьянке он очень хорошо понимал, что век аркадских пастушков прошел, что любовью сыт не будешь, и всего прежде позаботился о средствах для жизни в добровольном изгнании; средствами этими были брильянты матери Бьянки, хранившиеся под ключом ее мачехи, и банковая касса, ключ от которой был доверен Пьетро. Бона-вентури уговорил свою возлюбленную решиться похитить свое сокровище и – относительно говоря – поступить по справедливости; сам же он отваживался на воровство, которое, даже по его личному мнению, ни под каким видом не могло быть извинительно. В случае поимки беглецов Бьянка могла быть оправдана, но Пьетро неминуемо ожидала виселица. Подобное разделение труда в опасном предприятии любовников во всяком случае делает честь Бонавентури и служит доказательством его любви к Бьянке.
Покровительствуемая Амуром, она исполнила поручение Пьетро как нельзя удачнее; не оплошал и он, покровительствуемый Меркурием. На другой день кражи, 12 декабря 1563 года, они бежали из Венеции. Трудно описать суматоху, последовавшую в доме Капелло и в банке Сальвиати… Мачеха Бьянки, заметив бегство падчерицы и похищение брильянтов, обрушила свой гнев на голову синьора Бартоломео; синьор Бартоломео, в свою очередь, обеими руками уцепился за старика Бонавентури, дядю беглеца; банк в лице управляющих вопиял о краже и требовал у венецианской синьории немедленного распоряжения о погоне за вором. В погоню за ним послали, но вместе с тем Бартоломео Капелло в видах содействия банку и ради собственного интереса предложил премию в две тысячи червонцев за голову
Пьетро Бонавентури и отправил на его поимку целый отряд наемных убийц, знаменитых брави. Бегство Бьянки с Пьетро сделалось сказкой всей Венеции, возбуждая крайнее негодование аристократии. По настояниям последней дядя Бонавентури за небывалое содействие беглецам был заточен в пьомбы, в которых года через два скончался. Оба отряда сыщиков и убийц при всем своем усердии и поспешности беглецов не догнали; Пьет-ро и Бьянка благополучно достигли пределов Тосканского герцогства и отсюда, уже не торопясь, держали путь во Флоренцию. Путешествие было непродолжительно, но вместе с бегством характеры любовников значительно изменились к худшему. Бьянка, искренно привязанная к Бонавентури, в бытность свою в родительском доме под игом мачехи, начала по прибытии в Тоскану трактовать любовника с обидным пренебрежением и как будто тяготилась его сопутствием. Так обыкновенно обходятся молодые жены со старыми мужьями, за которых выходят затем только, чтобы из-под крыла отца или матери вырваться на свободу. Со своей стороны Пьетро, нежный и бескорыстный любовник в Венеции, покуда был беден и ничтожен, теперь, чувствуя в своей дорожной сумке сладкое бремя похищенных брильянтов и золота, все свои мысли устремил на то, как бы в Тоскане заняться спекуляциями да денежными оборотами, наживая процент на процент. Край бедный, нищета повсеместная, а когда же и выжимать последние соки из своего ближнего, если не во время его нищеты?
Прибыв во Флоренцию (тогда Козьма I еще правил герцогством), Бонавентури нанял для Бьянки весьма порядочную квартирку в уединенной части города, а сам по целым дням разведывал и наводил справки о возможности сближения своего с герцогским двором. Благодаря взяткам должностным лицам Пьетро разузнал о герцоге все, что ему было нужно, втерся в приязнь к Антонио Сергуиди, единственному из вельмож, любимому Франциском Медичи; наконец, нашел возможность представиться герцогу и его сыну. Козьма I принял беглеца благосклонно и объявил ему, что берет его под свое покровительство и защиту от преследований Венецианской республики. О Бьянке Капелло покуда не было и помину… Угрюмому Франциску Пьетро Бонавентури угодил подарком какого-то редкого манускрипта и рассказами о сокровищах музеев Венеции. Почти не скрывая своего отвращения к Пьетро, сын герцога не мог, однако же, не отдать справедливости его уму и вкрадчивости. Беседуя с Антонио Сергуиди, Пьетро будто неумышленно рассказала ему о своей связи с Бьянкою, превознося ее красоту, ум и приятный, веселый характер. Сергуиди понял с первых же слов, что венецианец не прочь познакомить его с Бьянкою, но, не питая особенной склонности к прекрасному полу, не выразил желания сближаться с беглянкою. Он попросил Пьетро только показать ему свое сокровище и, увидев Бьянку, тотчас же решился сделать красавицу орудием своих сокровеннейших замыслов. Сергуиди – алчный взяточник, грабитель народа, но любимец Франциска – знал, что с его восшествием на престол займет первейшую должность в герцогстве, которая даст ему право грабить народ вдесятеро против прежнего. Но брать взятки и под личиною власти грабить надобно умеючи; для за-страхования себя от гнева государя необходимо было заручаться покровительством какого-нибудь лица, имеющего на герцога влияние… Подобными покровительницами временщиков могут быть жены или фаворитки; у Франциска тогда еще не было ни той, ни другой. Сергуиди, обдумав дело со всех сторон, решил, что в Бьянке Капелло он мог бы именно приобрести такую покровительницу, если бы только помог ей попасть в фаворитки к Франциску. До времени не сообщая Бонавентури о своем плане, Сергуиди приступил к плетению своей затейливой интриги.
Однажды весною 1564 года, беседуя с Франциском о любимом его предмете – изящных художествах и выражая свое удивление его тонкому вкусу, Сергуиди сказал, что ему непонятно, каким образом до сих пор сын Козьмы I еще не удостоил нежным своим вниманием ни одной из придворных девиц или дам.
– По весьма простой причине, – отвечал Франциск, – ни одна из них не приближается даже к той красоте, которую я желал бы найти в любимой женщине. Телосложением она должна напоминать мне Фидия, Праксителя или, по крайней мере, Бен-венуто Челлини; цветом лица – краски первейших живописцев Италии; голосом – звуки лютни; умом и веселостью она должна заменить мне занимательнейшую книгу.
– Требования ваши непомерны, но… – Сергуиди остановился.
– И потому-то, что они непомерны, – досказал Франциск, – я и не хочу тратить время на поиски невозможного. Я не Нерон – cupitir Impossibilium (желатель невозможного). И поверь мне, Сергуиди, что доискиваться чего-нибудь чудесного следует только в областях науки…
Тут Франциск повел речь о своих алхимических занятиях.
– Не смею сомневаться, ваша светлость, – сказал Сергуи-ди, терпеливо выслушав рассказ Франциска о его чудесных опытах превращения металлов, – не смею сомневаться, чтобы вы в самом скорейшем времени не доискались до философского камня и эликсира бессмертия; но из области науки не мешает иногда возвратиться и на землю. Любимая женщина – вот философский камень и эликсир бессмертия на земле: она способна превращать в золото неблагородные металлы, изменяя нас к лучшему и давая возлюбленному радость, покой, блаженство, – продолжать его жизнь на долгие веки в его потомстве!
– Ты влюблен? – сурово спросил Франциск. – Это пиитическое сравнение достойно только влюбленного стихоплета.
– Отчего же не сравнить женщину с философским камнем, если один из ученых сказал: Alchimia est casta meretrix?[77]
– Ты влюблен! – настойчиво повторил Франциск.
– Нет, ваша светлость, но не смею скрывать: несколько дней тому назад я видел женщину, способную своей красотой если не превратить свинец в золото, то одним взглядом оживить мраморную статую.
– Кто такая?
– Не знаю, но, по-видимому, не простого рода.
– Где ты ее видел?
– У окна старого дома на уединенной улице, в предместье. Если не ошибаюсь, неподалеку от дома, в котором живет венецианец Бонавентури. Если бы ваша светлость полюбопытствовали…
– Едва ли полюбопытствую. Уверен, что твоя идеальная красавица какая-нибудь камеристка, одна из тех тривиальных физиономий, которые бросаются в глаза как яркие цветы: чем ярче, тем бездыханнее.
– Роза не благоухает, а цветы у нее яркого колера; при всем том она царица цветов.
– И твоя красавица роза?
– Цветом лица – да. Фигурою она напоминает Венеру вашей галереи, а глаза ее искрятся умом и чувством; улыбка – весеннее утро…
– Пиши сонеты и эпиталамы, а я отвечу на них сатирами да эпиграммами.
– Заочно нельзя написать ни тех, ни других.
– Постараюсь взглянуть на твою красавицу…
На лице Сергуиди промелькнула радостная улыбка; умея владеть собою, он, однако же, придал своему лицу спокойное, беззаботное выражение и сказал будто вскользь:
– Она сидит под окном около четырнадцатого часу дня,[78] живет на улице св. Климента, в третьем доме от левого угла.
– Благодарю за эти подробности, но они лишние. Не стану же я запоминать адреса красавицы. Ты будешь сам моим проводником!
Это предложение как нельзя лучше согласовалось с планами Сергуиди. Через полчаса, отпущенный Франциском, он отправился к Бонавентури. Благодаря деньгам, похищенным последним при его бегстве, и брильянтам Бьянки, любовники имели возможность нанять квартиру весьма приличную и устроиться в ней с теми удобствами и роскошью, которые в тот век были насущными потребностями домашнего быта. Окно комнаты Бьянки было украшено алой шелковой занавесью; на подоконнике стояла изящной работы бронзовая ваза, наполненная цветами. Две мраморные кариатиды по бокам окна, угрюмо смотревшие на прохожих, как будто часовые, охраняли жилище красавицы. Бонавентури отрекомендовал ей Сергуиди, который, почтительно поцеловав руку Бьянки, не мог не устремить на нее восхищенного взгляда, внутренно сознаваясь, что недавние его похвалы и рассказы о ней Франциску нисколько не были преувеличены.
– При восхождении солнца бледнеют звезды, – сказал он Бьянке, – а вы, синьора, прибытием своим во Флоренцию заставили побледнеть наших первейших красавиц. Молва разнеслась по всему городу и достигла до ушей моего высокого покровителя герцога Франциска. Он сию минуту выразил живейшее желание видеть вас.
– Я буду ему представлена? – живо спросила Бьянка.
– Со временем – без сомнения. Покуда герцог желает взглянуть на вас без вашего ведома и, может быть, завтра проедет мимо вашего дома. Искренно любя вашего… супруга и от всей души желая вам счастья, я счел долгом предупредить вас.
Глаза Бонавентури заискрились той радостью алчности, которая блестит в глазах купца, продающего товар со сторичным барышом. Будь предложение Сергуиди сделано женщине любящей, она отвергла бы его с негодованием, а любимый ею отвечал бы дерзкому равноценной обидой… Здесь ничего подобного не было и быть не могло. Живой товар и сводники понимали друг друга как нельзя лучше.
– Само собою, – наставительно продолжал Сергуиди, – что мы должны придать свиданию вид нечаянности; до времени необходимо скрыть от герцога, что синьора Бьянка супруга синьора Бонавентури.
– Разумеется, – живо перебила Бьянка.
– Ты со своей стороны постарайся быть прелестнее обыкновенного, если только это возможно, – обратился к ней Бо-навентури с оттенком прежней нежности в голосе. – В черном бархатном платье ты будешь очаровательна.
Бьянка взглянула на него с невыразимым негодованием и только пожала плечами.
– Почем знать! – сказал ей Сергуиди при прощании. – Быть может, синьоре Бьянке Капелло суждено вырубить из каменного сердца герцога Франциска искру первой любви.
– И вместе с тем, – досказал Бонавентури, – открыть в этом камне золотой рудник.
На другой день Франциск верхом, сопровождаемый Сергу-иди, проехал мимо окна Бьянки Капелло. Как будто ничего не подозревая, красавица, приложив головку к цветам, беззаботно смотрела на улицу; пристально взглянула она на герцога, проводила его глазами и, дождавшись его возвращения, как будто нечаянно выронила из вазы на улицу несколько пышных роз.
Франциск в полной уверенности, что его сглазила красавица, возвратился во дворец, не говоря ни слова своему спутнику. Лицо его сделалось мрачнее обыкновенного, взгляд стал задумчивее. Ожидая первого слова от Франциска, Сергуиди молчал. Герцог вошел в свою лабораторию, взял было какую-то рукопись, развернул ее, но, не читая, скрестил руки на груди и опустил голову. Так прошло несколько минут.
– Сергуиди? – произнес вдруг Франциск.
– Ваша светлость? – отозвался любимец.
– Она действительно очень хороша собою. Надобно узнать… – Франциск остановился.
– Я все узнаю! – досказал Сергуиди.
– От кого ты слышал, что она умна?
– Ни от кого, ваше светлость, это одно предположение.
– Предположение может быть обманчиво, как и наружность. Надобно убедиться.
И герцог снова погрузился в задумчивость.
Дня через три Сергуиди явился к нему с озабоченным лицом.
– Я узнал все, – сказал он, – и не рад тому, что узнал. Красавицу зовут Бьянка Капелло, она венецианка, ей девятнадцать лет, она умна, весела, живого характера, но…
– Что же? – нетерпеливо воскликнул Франциск.
– Она замужем за Пьетро Бонавентури, тем самым беглецом, который представлялся родителю вашей светлости и вам самим.
– И любит его!
– Этого не знаю доподлинно. Судя по ее словам, она отдала свою руку Бонавентури для того только, чтобы он избавил ее от тиранства родных.
– В свою очередь я могу подать ей свою, чтобы избавить ее от Бонавентури, если только она этого пожелает. Его можно услать куда-нибудь… Он может и умереть от несварения желудка!
Франциск с усмешкою взглянул на стеклянный шкаф, наполненный разнообразными флаконами и коробками.
– Постараюсь, чтобы не дошло до этого, – сказал Сергуи-ди. – Всего прежде необходимо вашей светлости познакомиться с синьорою Бьянкою, чтобы убедиться, заслуживает ли еще она вашего внимания. «Она умна», – это я говорю, мне так кажется, а может быть, она совсем недальнего ума. В этом деле вы сами должны быть судьею. Еще, ваша светлость, осмелюсь дать вам полезный совет: если вам будет угодно посетить синьору Бьянку, она не должна знать, кто вы, и до времени необходимо инкогнито. Только при этой обстановке вы можете убедиться, любит она в вас человека или только герцога. Душевные ваши качества равняются вашему высокому происхождению, но женщину всего чаще ослепляет блеск почестей.
– Совершенно справедливо. Совет твой весьма дельный, и я ему последую. Но вот вопрос: согласится ли сама синьора Капелло на свидание со мною? Написать к ней?
– Можно, – подхватил Сергуиди, – можно, только не сво-еручно, а в третьем лице. Доставку письма я беру на себя. Что же касается до Бонавентури, я берусь на время выпроводить его из дому: за предлогом дело не станет.
Свидание устроилось как нельзя лучше. Сергуиди ввел герцога в комнату Бьянки, потом удалился, оставив молодых людей наедине. Бонавентури, будто бы уехавший на несколько дней из Флоренции, оставался дома, спрятанный. Все действующие лица этой комедии разыграли свои роли как нельзя лучше: герцог притворился небогатым дворянином, Бьянка прикинулась наивной, но страстной женщиной, полюбившей этого бедного дворянина с первого взгляда, когда он две недели тому назад проезжал мимо ее окон… Сергуиди, как примерный руфиано, был надежным блюстителем блаженства влюбленных; Бона-вентури, как надлежало, превратился в невидимку. Достойный триумвират окрутил герцога, и он, как муха, запутался в хитро растянутой ему паутине. Врожденная недоверчивость не предохранила его от этой западни, да и правду сказать – редко она предохраняет человека от обмана, разница только в том, что недоверчивый всегда встретит хитреца, который сумеет его обмануть: чем сильнее недоверчивость с одной стороны, тем только тоньше обман с другой.
Франциск привязался к Бьянке со всем пылом первой любви. Теснейшему их сближению немало способствовало признание Бонавентури в том, что он не связан с Бьянкою узами законного брака. За свою уступчивость венецианец удостоился получить должность интенданта дворца герцога Франциска – местечко почетное и тепленькое благодаря взяткам и бесконтрольному воровству. Сергуиди, дружный с Бьянкою, удержал за собою прежнюю позицию любимца и при герцоге Франциске был первым лицом. Замкнутый в очарованном треугольнике, вершинами которого были Сергуиди, Бьянка и Бонавентури, герцог дал им полную волю творить все что ни заблагорассудится. Женитьба Франциска на Хуане Австрийской нимало не изменила его отношения к Бьянке; великий герцог Козьма I, глядя на проделки сына, молчал и тем более обязан был молчать, что за ним самим водились немалые грешки. Нам уже известен характер правительства Франциска в десятилетний период его регентства при жизни отца (с 1564 по 1574 год): деспот, гонитель аристократии, тиран простого народа, он был бичом Божиим для бедной Тосканы.
Козьма I скончался 21 апреля 1574 года, а на следующий год, 9 ноября 1575 года, император Максимилиан II возвел Франциска Медичи в сан великого герцога, в котором признал его и король испанский Филипп II. После Козьмы I, кроме Франциска, остались еще два сына: Фердинанд, Петр и вдова Камилла Мар-телли. Вследствие явного их недоброжелательства к Бьянке Капелло великий герцог заточил мачеху в монастырь, Фердинанда услал в Рим, а Петра в Испанию. Неудовольствие дворянства выразилось заговором, душою которого был Гораций Пуччи: голова его пала на плахе; из сообщников одни были заточены, другие бежали в чужие края. Соединяя законную кару с грабительством, Франциск конфисковал имущества мятежных олигархов и эмигрантов. Эта мера, обогатив казну, разорила множество дворянских фамилий и надолго лишила их возможности отваживаться на новые заговоры. Так деспотствовал Франциск, а Бьян-ка в свою очередь над ним деспотствовала. Великая герцогиня Хуана была во дворце каким-то живым призраком. Равнодушие к ней мужа мало-помалу перешло в ненависть; неоднократно он говорил окружавшим, что имеет намерение развестись с супругою за ее неплодие. Сергуиди по-прежнему пользовался расположением Франциска, но Пьетро Бонавентури уже не было на свете: он окончил свое земное поприще в 1570 году, и окончил его весьма плачевным образом.
Получив место дворцового интенданта, Пьетро, не довольствуясь набивкою кармана, возмечтал о почестях и чинах, надеясь на покровительство Бьянки. Дерзкий и заносчивый с придворными, видя неограниченную привязанность Франциска к прежней своей любовнице, Бонавентури вообразил себе, что и с великим герцогом особенно церемониться нечего… Но Франциск при первой же его попытке на фамильярность напомнил ему о том расстоянии, которое отделяет бродягу от великого герцога. На первый случай Бонавентури смирился, но, почтительный с герцогом, стал дерзок с Бьянкою, надоедая ей то упреками за неблагодарность, то просьбами о наградах и повышениях. Выведенная из терпения, фаворитка пожаловалась наконец великому герцогу на бывшего своего любовника.
– Он мне самому давно надоел, – сказал герцог, – и если я терпел его и имел глупость награждать, то единственно за его услуги, тебе когда-то оказанные. Не век же мне быть благодарным, тем более негодяю, который этого не ценит и не понимает. Пора покончить с ним…
– Давно пора! – отозвалась Бьянка, как будто речь шла об искалеченной старой лошади, которую следовало отправить на живодерню.
На следующее утро Пьетро Бонавентури был найден на улице зарезанным. По повелению великого герцога его похоронили с должными почестями, но об убиении не было назначено никакого следствия.
Чаруя Франциска своей красотой, Бьянка особенно привязывала его к себе умением рассеять его при случае и развеселить. Ее счастливый характер был живым контрастом характеру бедной Хуаны Австрийской, да и нрав своего державного сожителя она изучила несравненно тверже, нежели законная его супруга. В начале 1576 года по настоянию Бьянки великий герцог написал к младшему брату письмо, предлагая ему мировую и из Испании приглашая в Тоскану. За два года своего пребывания при дворе Филиппа II Петр Медичи успел жениться на молодой Элеоноре Толедской и прославиться скандалезными похождениями. Он прибыл вместе с женою во Флоренцию, помирился с братом, подружился с Бьянкою и зажил как нельзя веселее, удивляя весь город своими распутствами. Элеонора, со своей стороны, не отставала от мужа и вскоре по приезде окружила себя легионом поклонников. Этот образ жизни младшего брата великого герцога как нельзя более соответствовал тайным замыслам Бьянки: занятый интрижками, Петр не мог и не имел времени принимать участие в интригах придворных против фаворитки или даже и самого великого герцога. Внезапно беспутства Элеоноры Толедской довели ее до погибели. Петр Медичи, убедясь в ее неверности, увез ее из Флоренции в загородный дворец Кастаньола и здесь 11 июля 1576 года зарезал ее! Убийца сам уведомил о ее смерти брата и Филиппа II, оправдывая свое преступление жаждою мести за позор, которым жена покрыла его имя. По своим правам, а главное, по понятиям того времени он был совершенно прав: рыцарский XVI век, предоставляя мужьям полную свободу, налагал на жен непреложную обязанность быть верными ненарушимо и за неверность мужей не осмеливаться и думать отплачивать им тою же монетою.
Впрочем, великому герцогу не время было заниматься семейными делами своего брата; собственные его семейные дела были несравненно важнее: Бьянка Капелло готовилась порадовать его рождением сына или дочери, может быть, даже того и другой… Отец двух дочерей от законной супруги,[79] Франциск был в восторге при мысли иметь сына от Бьянки Капелло, чего и она сама искренно желала. Беседуя со своей фавориткой, великий герцог в минуты откровенности весьма часто сетовал, что не имеет наследников мужского пола, кроме братьев.
– Но разве мой сын может иметь право быть твоим преемником? – спрашивала Бьянка.
– В моей власти его узаконить! – отвечал герцог.
Эти слова заронили в сердце властолюбивой Бьянки упорную мысль быть матерью будущего наследника великогерцог-ского престола. Неплодная в течение десяти лет сожительства с Франциском, она в декабре 1575 года объявила великому герцогу о некоторых признаках беременности, а вместе с нею о болезненных припадках, требующих внимательного лечения и невозмутимого образа жизни. Франциск, предложив Бьянке для жительства один из загородных дворцов, отдал ее на попечение врачей и опытной бабки. Последняя через четыре месяца подтвердила великому герцогу, что Бьянка действительно беременна. Пользуясь правами своего интересного положения, фаворитка принимала Франциска лежа в постели и беседовала с ним не иначе как в присутствии бабки и прислужницы; говорила томным, слабым голосом; со слезами на глазах умоляла своего покровителя быть верным слову своему и в случае рождения сына узаконить его… Со своей стороны бабка советовала великому герцогу навещать больную по возможности реже, так как продолжительные разговоры ее утомляют, а волнение ей вредно. Лишь только уезжал Франциск, его возлюбленная очень бодро вставала с постели, ее недавняя томность сменялась веселостью, исчезали даже самые наружные признаки ее интересного положения… Одним словом, не будучи беременною, Бьянка притворялась таковою, обманывая при содействии бабки не только великого герцога, но и находившегося при ней врача. К сроку рождения Бьянкою чаямого сына у бабки были подготовлены две-три бедные роженицы из простонародья, согласившиеся с удовольствием отдать на ее попечение своих новорожденных. Подобный же хитрый подлог – в некоем царстве, в некоем государстве – произошел в 1856 году: введение в моду женских кринолинов совпало с этим великим политическим событием.
В ночь с 28 на 29 августа 1576 года бабка тайно привезла в замок фаворитки новорожденного младенца мужского пола. Немедленно же был отправлен во Флоренцию нарочный с радостным известием о благополучном разрешении Бьянки от бремени. Великий герцог, прибыв в замок около полудня, с восторгом обнял роженицу и благословил своего сына, нареченного Антонием. Счастливый отец снова подтвердил Бьянке об узаконении младенца, просил ее беречь его и себя и, как только позволит их здоровье, поскорее возвращаться во Флоренцию. На пятый день, когда новорожденный был отдан на попечение здоровой кормилицы и доктора, Бьянка с глазу на глаз подробно расспросила бабку о том, сумела ли она сохранить все в надлежащей тайне.
– Кроме вас и меня, никто ничего не знает, – отвечала та.
– А мать ребенка?
– У нее, кроме этого, трое и есть нечего. Она просто продала мне новорожденного за десять червонцев.
– А отец?
– Она незамужняя, живет разгульно и не имеет постоянного сожителя.
– Кто содействовал вам при доставке ко мне новорожденного?
– Два прислужника здешнего замка: Фабрицио и Паоло.
– Сами они семейные люди? Я это спрашиваю затем, чтобы достойно наградить их самих и их семейства.
– Паоло женат; жена его живет у родных в Эмполи. Фабри-цио одинокий старик.
– Хорошо. Пришлите ко мне Паоло.
Прислужник явился. Бьянка, вручая ему записку, поручила тотчас же доставить ее по адресу, и прислужник, оседлав коня, поскакал во Флоренцию. Вечером этого же дня фаворитка пригласила бабку отужинать с собою и повеселиться после недавних забот и беспокойств. За ужином Бьянка была необыкновенно любезна и ласкова: ежеминутно потчевала свою собеседницу лакомствами, наконец предложила ей выпить бокал кипрского вина. Бабка осушила его за здоровье хозяйки и новорожденного Антонио. Позвав в столовую старика Фабрицио, Бьянка поднесла бокал и ему, к крайнему удивлению прислужников, не понимавших, за что ему такая ласка.
Надобно полагать, что кипрское вино, которого немного выпила и сама хозяйка, было очень крепкое. Жалуясь на головную боль, старик Фабрицио лег спать ранее обыкновенного; бабка, скрывая нездоровье, чувствовала тоже необычайную дремоту и едва имела силы дойти до своей постели, постланной в опочивальне Бьянки… Ночь свою фаворитка почему-то провела без сна, то на собственных руках укачивая сына, то чутко к чему-то прислушиваясь. Под утро один из служителей замка прибежал к доктору фаворитки и объявил ему, что старый Фабрицио найден мертвым в своей постели. Посинелое лицо и страшно вытаращенные глаза трупа свидетельствовали, что старик умер от апоплексии. В то самое время, как доктор делал распоряжение о том, чтобы страшная весть не дошла до ушей
Бьянки, камеристка последней в слезах прибежала к нему с известием, что бабка синьоры тоже скоропостижно скончалась! В одну ночь по бокам колыбели новорожденного Антонио явились два гроба. В тот век анатомия была еще в младенчестве; судебно-медицинские вскрытия допускались только в экстренных случаях, да и то преимущественно для мертвецов знатного происхождения. Не желая марать рук, вскрывая старого слугу и бабку, доктор приписал их смерть апоплексии; последняя могла быть следствием ужина. Главные заботы врача были обращены на Бьянку и ее сына; эскулап опасался, чтобы смерть Фабрицио и бабки не повлияла на здоровье фаворитки. Впрочем, она пребывала в вожделенном здравии и была довольно спокойна. Великий герцог, прибывший в замок, не мог скрыть своего ужаса, когда ему сказали о страшной катастрофе. Трупы были вынесены в часовню; Франциск сам осмотрел их и, побледнев необыкновенно, погрузился в глубокое раздумье. В его сердце закралось страшное подозрение. Войдя в комнату фаворитки, он нежно обнял ее, поцеловал сына и с глубоким вздохом прошептал:
– Тут есть какая-то тайна!
– Ты говоришь о смерти бабки и Фабрицио? – быстро спросила Бьянка. – Да, мне самой она очень загадочна. Вчера оба были здоровы, веселы, и вдруг оба, почти одновременно…
– Они отравлены! – досказал великий герцог. Бьянка вскрикнула, всплеснув руками.
– Да, – продолжал Франциск, – отравлены, и только особенная милость Божия спасла тебя и нашего сына от смерти. Вам обоим готовилась смерть, сразившая других. Неужели же ты не догадываешься, что кипрское вино, которое ты пила за ужином, которым потчевала бабку и старика, было отравлено?
– Но как же я жива и здорова? – с ужасом спросила Бьянка.
– Ты выпила его меньше, и действие яда было ослаблено аметистовым ожерельем с безоардовой амулеткой, которые ты носишь на шее. Чьей подкупленной рукой был всыпан яд в вино – до этого я доищусь; кем рука была подкуплена – это я знаю наверное. Тут целый заговор: брат Петр, синьоры, даже она, Хуана… Твоя жизнь и жизнь Антонио нужны им, и как видишь, они действуют.
– Твои подозрения не лишены основания, – сказала Бьянка, обнимая Франциска. – Есть еще одно обстоятельство, подтверждающее наши догадки. Вчера я послала прислужника Паоло с одним поручением во Флоренцию; до сих пор он не возвращался и, как мне кажется, не возвратится.
– Почему?
– Потому что его рукой была отравлена бутылка кипрского. Наши враги дали ему средства бежать или спрятаться.
– Я прикажу разыскать его, и он будет найден, живой или мертвый! – прохрипел Франциск, скрежеща зубами.
– Франческо! – сказала Бьянка голосом, напоминающим воркования голубки. – Именем нашего младенца заклинаю тебя: не мсти никому, не преследуй никого. Божия десница незримо хранит меня и моего сына. Счастливая в настоящее время, я не хочу, чтобы из-за меня пострадал кто-нибудь… даже мои враги! Прости им, как я прощаю, как Бог велел прощать ненавидящим нас…
И искусная комедиантка, всхлипывая, опустилась на колени перед великим герцогом.
– Ты ангел! – отвечал он, глубоко тронутый.
– Нет, я мать твоего сына, я женщина, любимая одним из величайших государей света.
Участь третьего сообщника Бьянки Капелло была чуть ли не хуже участи двух уже отправленных ею к праотцам. Письмо, данное ему Бьянкою для доставки во Флоренцию, было адресовано на имя подкупного убийцы, преданного фаворитке. Оно состояло из немногих слов: «Постарайтесь, чтобы податель не возвратился». Душегубец, поняв, чего от него требуют, сказал Паоло, что отведет его туда, куда приказывает синьора.
– Куда же это? – спросил Паоло.
– К старому купцу, ее должнику. Он отсчитает тебе двадцать червонцев и подарит несколько пар нарядного платья. За что тебе такие милости?
– Не знаю… Должно быть, чем-нибудь заслужил. А где живет купец?
– В предместье, на берегу Арно. Место довольно глухое и небезопасное, но бояться нечего – нас двое и мы вооружены.
Осушив с Паоло бутылку вина, клеврет Бьянки предложил ему отправиться в путь. Оседлав своего коня, злодей взял пистолеты и длинную шпагу, предложив Паоло для пущей его безопасности увесистый мушкетон. Проехав город и из предместья выбравшись за заставу, они очутились в гористой безлюдной местности, поросшей кустами можжевельника и вереска. Убийца, пропустив Паоло вперед шага на два, велел ему взглянуть влево, туда, где купол церкви.
– Видишь белый домик? – спросил он несчастного, осторожно взводя курок пистолета. – Левее, левее, – продолжал он, прицеливаясь.
Выстрел грянул, эхо откликнулось, и Паоло, даже не вскрикнув, зашатался в седле: пуля убийцы раздробила ему затылочную кость. Сняв с Паоло оружие, вынув из кармана его кошелек, убийца, взяв его лошадь под уздцы, спокойно возвратился в город.
Так умела Бьянка Капелло обделывать свои дела, не задумываясь ни над вопросом о жизни и смерти ближнего, ни над средствами к устранению препятствий. Ее возвращение во Флоренцию вместе с сыном было истинным триумфом; Антонио, окрещенный в соборной церкви, был признан сыном великого герцога, но узаконен не был. Фаворитка неоднократно напоминала Франциску о его обещании, но, видя, что тот уклоняется от прямого ответа, не стала более докучать и терпеливо ждала перемены обстоятельств. Неизменно милостивый к фаворитке, великий герцог вдруг сделался необыкновенно внимателен к супруге, ласков и почтителен с нею. Может быть, эта перемена в отношениях мужа к жене была следствием его раскаяния в обидах, нанесенных ей в былое время. Бьянка вздумала было выразить Франциску ревность, упрекнула его за любовь к супруге; но великий герцог напомнил ей, что Хуана тринадцать лет терпеливо переносила его холодность, никогда не упрекая за предпочтение, оказываемое Бьянке. Сближению супругов, хотя и позднему, много способствовали их дети: Элеонора и Мария. К отчаянию Бьянки 9 апреля 1578 года великая герцогиня разрешилась от бремени сыном Филиппом, а через два дня, к радости фаворитки, скончалась. По закону новорожденный герцог Филипп был объявлен наследником; живая контрафакция, Антонио лишался прав на престол… Но взамен всего этого овдовевший великий герцог мог жениться на Бьянке Капелло и тем исполнить ее заветнейшее желание.
Всегда искусная и осторожная, фаворитка на этот раз едва не разрушила своей настойчивостью тех подмостков к престолу, которые она строила в течение многих лет. До сих пор Франциск верил в бескорыстие ее любви, но теперь он понял, что любовь Бьянки далеко не бескорыстна. Непритворно оплакивая умершую супругу, великий герцог вместе с тем мучился и бесплодным раскаянием. «Что имеем – не храним, потерявши – плачем!» – говорит пословица, и Франциск испытывал на себе самом ее правдивость. Он сравнивал душевные качества покойной жены с качествами Бьянки, и вывод был далеко не в пользу последней; он припоминал те дни, когда в объятиях фаворитки забывал о жене, плакавшей в молельне или искавшей развлечения в чтении книг… Тоска по жене породила в сердце Франциска чувство, похожее на ненависть к любовнице, именно теперь, когда он мог принадлежать ей свободно, всецело. Но таково сердце человеческое: запрещенный плод всегда привлекает его сильнее дозволенного. В первый месяц вдовства Франциск намеревался даже совершенно расстаться с Бьянкою, и ей пришлось пустить в ход весь запас лукавства, кокетливости и нежности, чтобы отвлечь великого герцога от его намерения. Как бы то ни было, ей удалось по-прежнему поработить сердце Франциска, и 5 июня того же 1578 года, через два месяца после смерти жены, он тайно обвенчался с Бьянкою Капелло.
Тайный брак, законный в отношении религиозном, почти ничего не значит в политическом. Объявить Бьянку своею супругою великий герцог мог только тогда, когда сделал кое-какие поправки в ее метрике. Для этого флорентийский кабинет вошел в переписку с венецианской синьорией; пришлось задаривать членов совета Прегади, чтобы они признали Бьянку Ка-пелло коренной патрицианкой и прибавили к ее родословному дереву побольше ветвей и корней под рост генеалогии Медичи. Все это требовало чрезвычайных расходов, и Франциск кроме увеличения налогов обременил свой народ новыми, косвенными. «Слезы льются и через золото», а тут золото потекло в великогерцогскую казну сквозь слезы, пот и кровь тосканцев. Совет Прегади указом от 16 июля 1579 года объявил Бьянку
Капелло дочерью светлейшей республики Венецианской и признал ее законною супругою великого герцога Тосканского. 12 октября прибыло из Венеции нарочное посольство для вручения Бьянке дворянских грамот. В числе послов были и брат ее Витторио Капелло, оставшийся при дворе для занятия должности министра под крылышком сестрицы. Провозглашение Бьянки великою герцогинею сопровождалось пиршествами, на которые было истрачено до трехсот тысяч червонных… Сумма тем более громадная, что в Тоскане тогда свирепствовали голод и моровое поветрие. Бедствующий народ вместо восторженных кликов приветствовал державную чету унылыми стонами, чуть не проклятьями. Великий герцог как будто задался мыслею глумиться над бедствиями своих подданных: не уделяя им в пособие из своей казны ни медного гроша, он тратил тысячи на украшение дворца Питти и на основание академии Отрубей (Academin delta Crusca) в 1580 году. Народ может простить своему правителю отсутствие помощи за одно слово сожаления; но если этот правитель в годину испытания, зажав уши, зажмурив глаза и очертя голову тешится пустяками и сорит деньги на забавы, тогда народ питает к нему ненависть. Появление Франциска или жены его в народе приводило последний в ярость.
Семейство великого герцога состояло из двух групп: к первой принадлежали Петр Медичи, обе дочери и малолетний Филипп – дети покойной Хуаны; ко второй – великий герцог, Бьянка и Антонио. Партий не было; пограничной чертой была ненависть, которую не могла изгладить Бьянка всей своей угодливостью деверю и падчерицам. Весьма сомневаемся в естественной смерти малолетнего Филиппа, скончавшегося 29 марта 1582 года четырех лет от роду; тут, вероятно, работала рука Бьянки, бестрепетно подсылавшая яд бедному младенцу. Эта смерть опять подняла вопрос об узаконении сына Бьянки Капелло; вопрос опять неразрешенный. За неимением прямых наследников в сыновьях великий герцог должен был передать власть второму брату, а в случае его смерти – младшему. Две живые души преграждали Бьянке Капелло дорогу к наследованию в лице Антонио верховной власти; эти две души во что бы то ни стало необходимо было отправить в далекую обитель, и новый злодейский умысел созрел в уме Бьянки.
Вскоре после смерти Филиппа она особенно сделалась ласкова к Петру Медичи и падчерицам; часто говорила мужу, что душевно сокрушается, видя семейные распри, что со своей стороны готова всеми силами содействовать к сближению братьев. Франциск, не подозревая коварства, писал несколько раз к брату своему Фердинанду в Рим, приглашая его к себе, но Фердинанд (кардинал при папе Сиксте V) отклонялся от свидания, ссылаясь на службу, а главное – на свое непреодолимое отвращение к Бьянке. Последнее обстоятельство вместо примирения пуще поддерживало ненависть между братьями. Льстивые, смиренные письма герцогини Фердинанд оставлял без ответа и был тем упрямее, чем она была настойчивее. Эта настойчивость невестки стала ему наконец подозрительна… Фердинанд, пораздумав, сообразил и понял, что ему во Флоренции готовится предательская западня, и принял свои меры. Летом 1587 года он уведомил брата и невестку, что, снисходя на просьбы его и ее в особенности, решается примириться с ними, предать забвению все минувшие несогласия и жить мирно и полюбовно. Это смягчение нрава сурового деверя обрадовало Франциска и жену его, и они настоятельнее прежнего стали упрашивать его не медлить приездом. Уведомив их, что прибудет во Флоренцию к осени, кардинал Фердинанд действительно занялся приготовлениями к отъезду. Судя по его сборам, можно было подумать, что он едет не к брату, а к разбойникам. Он нанял для сопут-ствия целый отряд вооруженных телохранителей; заказал себе непроницаемую ни свинцом, ни железом кольчугу; несколько дней принимал териак и всякие противоядия; в числе дорожных запасов захватил с собою целую аптечку. Радушные хозяева со своей стороны в это же время занимались приготовленьями для приема дорогого гостя: наблюдали за убранством дворца, назначенного для его помещения, украсили его с необыкновенной пышностью; заботились о запасах вина в погребах. На эту последнюю статью было обращено особенное внимание самой великой герцогини. За пять станций до Флоренции расставлены были верховые, чтобы своевременно уведомить хозяев о приближении высокого гостя. 7 октября он прибыл в Поджио, где и остановился для отдыха, сюда же поспешили великий герцог с супругою и Петр Медичи. Встреча братьев после долголетней разлуки была умилительна; не было конца объятиям, поцелуям, даже слезам, особенно когда Бьянка, смиренно прося прощение у кардинала, преклонив перед ним колени, просила от него благословения. На другой день во дворце Поджио был назначен торжественный обед, а через два дня церемониальный въезд Фердинанда в столицу.
Во всю ночь Бьянка не сомкнула глаз, подобно роковой ночи убиения своих сообщников; не спал и Фердинанд, тревожно помышляя о завтрашнем дне. Долго он беседовал со своим врачом, перебирая походную аптечку и осматривая с особенным вниманием пару золотых кубков высокой работы, украшенных драгоценными каменьями и эмалью. Занялась заря 8 октября 1587 года, числа достопамятного в летописях тосканских. Великолепная зала пиршества была украшена цветами, лаврами и гербами семейства Медичи. Место за столом для кардинала было назначено между великим герцогом и его супругою, под парчовым балдахином… Прибыли великий герцог с супругою, детьми и со всем двором; разместились многочисленные прислужники, явились певцы и музыканты; несколько пушек было расставлено в парке для пальбы во время заздравных тостов. Все эти приготовления напоминали приготовления к спектаклю в древнем римском цирке, в котором начинали весельем, а кончали смертью. Таков большею частью бывал исход итальянских пиров XVI века.
Ссылаясь на усталость от дороги и на нездоровье, кардинал за столом почти не прикасался ни к яствам, ни к питью и удивлял всех своею воздержанностью. Когда пришло время пить за здравие гостя и хозяев, сама великая герцогиня, взяв золотую чашу, наполнила ее вином и с глубоким поклоном поднесла кардиналу. Фердинанд, в свою очередь встав с места, взял из рук своего мажордома поднос с двумя кубками, налил в них вина и предложил брату и невестке.
– Пользуясь правом гостя, – сказал он при этом, – прошу вашу светлость принять мой скромный подарок… Эти кубки были пожалованы мне его святейшеством, покойным папою Григорием XIII. Какая удивительная работа!
Великий герцог и Бьянка, взяв кубки, рассматривали их, но к губам не подносили; точно так же и кардинал, держа свою чашу в руках, следовал примеру брата и невестки. Все присутствовавшие, встав со своих мест, ожидали тоста, музыканты и пушкари – сигнала…
– За здравие его светлости с супругою! – произнес кардинал, готовясь пить.
Громкое «Evviva!» (Да здравствует!) было ему ответом. В тот же миг стены залы дрогнули от пушечного залпа, заглушившего оркестр и хор певчих. Вздрогнув от этой неожиданности, кардинал выронил из рук свою чашу, и вино пролилось; великий герцог и Бьянка осушили свои кубки до капли.
– Вот моя неловкость и пугливость! – засмеялся кардинал, показывая на упавшую чашу. – Этот залп заставил меня вздрогнуть… Видно, мне не судьба выпить чашу, вами поднесенную! – усмехнулся он Бьянке, принимая от прислужника другой бокал и выпивая его.
Бьянка тяжело опустилась на свое кресло; муж с недоумением посматривал на нее и на брата. К концу стола, вопреки обыкновению, беседа вместо оживления сделалась вялою и принужденною. Бьянка, видимо, старалась быть по-прежнему любезною с кардиналом, но странное выражение ее бледного лица слишком противоречило словам и смеху… Часа через полтора по выходе из-за стола Бьянка сообщила мужу, что чувствует себя нездоровою; великий герцог сознался в том же. Призванный лейб-медик сказал, что нездоровье великого герцога и его супруги требует внимательного лечения. Вместо предполагавшегося празднества поднялась суматоха. Кардинал Фердинанд был просто в отчаянии, хотя и уверял окружавших, что болезнь брата и невестки, конечно, не опасна. Десять дней провели они в невыносимых страданиях между жизнью и смертью… Последняя сразила Франциска 19 октября, а Бьянку на другой день – 20-го. По повелению Фердинанда, наследовавшего брату, трупы были вскрыты, и весь медицинский факультет чуть не клятвенно объявил, что великий герцог и его супруга скончались от воспаления легких. Радуясь смерти ненавистного тирана и жены его, народ, однако же, не верил показаниям докторов и громко говорил, что Франциск и Бьянка были отравлены.
– Хотели опоить кардинала, да по ошибке сами выпили отраву, которую ему готовили!
Таковы были городские слухи, не лишенные основания. Новый великий герцог, как бы желая оправдаться в глазах подданных, выказал нежную, отеческую заботу не только о законных детях покойного брата, но даже и о его побочном сыне Антонио, предоставив ему права и пользование дарованным ему духовным и недвижимым имуществом. Этот подставной сын Франциска Медичи и Бьянки Капелло умер 2 мая 1611 года, оставив по себе память отчаянного пьяницы и развратника. Нареченный его дядюшка, Витторио Капелло, и Антонио Сергуиди, подобно многим временщикам, со смертью высокого покровителя лишенные могущества и силы, умерли в нищете и безвестности.
Филипп II, король испанский
Кардинал Гранвелла. – Елизавета Валуа. – Фердинанд Альварец де Толледо, герцог Альба
(1556–1598)
К разочарованию в жизни и совершенному отчаянию человек может дойти двумя диаметрально противоположными путями: или благодаря неизменному счастью, или, напротив, вследствие постоянных неудач и обманутых надежд… Точно то же, что и в организме человека, который от голода умирает с теми же самыми симптомами воспаления желудка, с которыми он умирает от его переполнения. Крайности сходятся.
Говорят, человек не может жить без надежды; от колыбели до гробовой доски она ведет нас по жизненному пути, ободряя нас и придавая нам силы обаятельности своими миражами и, буквально, воздушными замками. Без этой путеводительницы человек падает духом, жизнь теряет для него малейшую привлекательность, и он как величайшего блаженства жаждет смерти. Таких несчастливцев вообще немного, потому что чаще всего под влиянием безотрадной тоски они добровольно лишают себя жизни, бывшей для них рядом обманутых надежд, досадных неудач и жестоких ошибок в людях. Представим себе теперь человека, с первой минуты появления своего на свет щедро осыпанного всеми благами, которыми только может судьба одарить смертного: знатностью, богатством, удачливостью и т. д. За что бы подобный счастливец ни взялся, ему успех во всем; чего бы он ни пожелал – все исполняется как по мановению волшебного жезла; пожелай он, кажется, невозможного – и для него сама природа изменит свои законы. Доходит этот счастливец, наконец, до того, что ему уже и желать нечего, а следовательно, и надеяться не на что; тогда надоедают ему почести, слава, богатство; тогда он завидует последнему нищему и в полном сознании великой их истины повторяет слова: «Все суета сует-ствий и всяческая суета!»
Таково было душевное состояние обладателя высочайшей монархии в мире императора Карла V лет за пять до его кончины. На высоте величия, обремененный лаврами, несметными сокровищами, в виду народов, раболепно коленопреклоненных перед ним, Карл осознал нищету благ земных, ничтожество величия, тленность богатств и решился остаток дней своих посвятить Богу. По мнению некоторых историков, Карл V, наследовав от матери[80] наклонность к сумасшествию, помешался под старость лет на неотразимой идее религиозной мании. Легко может быть, что наследственный органический недостаток имел влияние на странный переворот в характере Карла, но причиною этого переворота был во всяком случае апогей могущества, которого достиг великий император. Не довольствуясь своим погребением заживо в убогой келье монастыря св. Юста, Карл, как известно, в один прекрасный день приказал совершить над собою обряд погребальный и, лежа в гробу, слушал пение Reguiem и De profundi's. Последние два года жизни он провел в чтении душеспасительных книг, в беседах с монахами и в занятиях механикою. По целым дням развенчанный император просиживал над разборкою и сборкою колес и пружин часов, которыми были увешаны стены его кельи. Он ломал себе голову над разрешением неразрешенной задачи: заставить несколько часовых механизмов ходить не отставая, не убегая вперед друг от друга; но, разумеется, никак не мог добиться этого явления, возможного только в наше время с помощью гальванической силы. Карл, сравнивая свои стенные часы с людьми, решил, что между первыми так же невозможна одинаковая верность хода, как равенство между последними. Сравнение бесспорно остроумное, но полупомешанный монах св. Юста мог бы еще лучше уподобить громадную свою империю сложному механическому аппарату, им в течение многих лет строенному; аппарату, которому Карл служил главной боевой пружиной. Слагая с головы своей венцы империи и королевств, Карл как будто на части разобрал сложенную им машину. В 1554 году он уступил сыну своему Филиппу II королевства Неаполитанское и Сицилийское; 23 октября следующего года отдал ему во власть Нидерландские штаты; наконец, 17 января 1556 года отрекся в его пользу от престолов Испании, Австрии, обеих Индий и от всех своих владений во всех четырех частях света. В сентябре 1558 года он скончался, оставив по себе неизгладимую память на скрижалях истории.
Наследник Карла V, сын его от Елизаветы Португальской, Филипп II родился в Вальядолиде 21 мая 1527 года. Имея от роду более тридцати лет, при восшествии своем на престол король задался великою мыслию, чтобы царствование его было продолжением царствования отцовского. Жаль только, что Филипп II упустил при этом из виду, что австроиспанская держава, по непреложному закону судеб, достигла в развитии своем тех пределов, за которыми для каждого громадного и могучего государства уже начинается разрушение. В библейском сказании о столпотворении вавилонском таится глубокий символический смысл: вавилонскому столпу можно уподобить каждое царство земли, которое возрастает, расширяется, усиливается, но и разрушается в ту самую минуту, когда, по-видимому, дорастает чуть не до небес. Ту же мысль, что Испания в могуществе своем достигла крайнего предела, мог выказать Филиппу II герб его королевства – Геркулесовы столбы и знаменательный девиз: «Non plus ultra» (Не далее). Но собственную волю новый король ставил выше законов здравого смысла.
Приступая к характеристике этой знаменитой исторической личности, мы не можем не заимствовать нескольких строк у бессмертного Шиллера, изучавшего характер испанского деспота с двоякой точки зрения: поэта и историка. Трудно решить, насколько Шиллер был правдив как историк в своей трагедии «Дон-Карлос», насколько он был поэт при очертании характера Филиппа II в своей «Истории отпадения Соединенных нидерландских штатов», но как бы то ни было, и в трагедии, и в истории Шиллера Филипп II является лицом живым; от каждого его слова веет тем леденящим ужасом, который овладевал теми, которые имели несчастие видеть и слышать этого сына Карла V, и мы твердо убеждены, что Филипп II был именно таким, каким его изобразил Шиллер. Вот что он говорит об испанском Тиверии.[81]
«Душе этой не были доступны ни веселость, ни благосклонность. Первое чувство было подавлено в нем мрачною обстановкою нежнейшего его детства, второго люди не могли дать ему, так как между ними и королем не было никакой могучей связи. Скудный разум его был замкнут двумя идеями: собственным своим я и тем, что сам Филипп признавал выше этого я. Эгоизм и религиозность – вот вся суть и программа всей его жизни. Он был король и христианин и оставался постоянно дурным королем и дурным христианином. Человеком для людей он никогда не был по той причине, что, умея только превозноситься, никогда не умел снисходить с высоты своего величия. Вера его основывалась на мрачности и жестокости, потому что самое божество, по его понятиям, было существом ужасным, никогда не милующим, а только карающим. Не прося ничего от Бога, он умел только его бояться. В глазах человека обыкновенного в Боге утеха и спасение; но король Филипп видел в божестве какое-то страшилище, подавляющую силу, полагающую предел его человеческому могуществу. Его благоговение к божеству было тем глубже и искреннее, что оно не распространялось ни на какое другое существо. Он раболепно трепетал перед Богом, потому что только перед Ним и мог трепетать. Карл V был благочестивым сыном церкви, за услуги ему церковью оказанные; Филипп чтил ее по убеждению. Отец мечом и огнем истреблял тысячи людей, усердствуя о распространении догматов, над которыми глумился сам, издеваясь над папою, своим пленником; сын отважился вступить в борьбу с папою, скрепя сердце и вопреки голосу совести, но отказался от плодов своих завоеваний, как отказывается кающийся разбойник от своей добычи. Карл был варваром по расчету; Филипп – по призванию. Первый был человек ума мощного и просвещенного и, может быть, вследствие этого именно был лукавее; второй, будучи ограниченного ума, был, однако же, правдивее отца».
Таков был Филипп II; таковы были его отношения к Богу и к людям. Каждый деспот оправдывал свои тиранства благими целями: Людовик XI, Христиан датский, Эрик шведский, наш Иван Грозный проливали кровь знатнейших вельмож ради упрочения единовластия… Филипп II был душегубцем и кровопийцею ради распространения истинной веры, которою – по его мнению – был католицизм. Сподвижниками Ивана Грозного были палачи-опричники; сподвижниками Филиппа II – инквизиторы. Видя в Боге не Спасителя рода человеческого, но Молоха, алчущего крови, Филипп, именуясь королем христианнейшей державы, был не чем другим, как языческим жрецом, приносившим своему кумиру бесчисленные жертвы. Быть добрым Филиппу II было не в кого: ни отец, ни мать не отличались мягкосерди-ем. Воспитание могло бы смягчить его суровый нрав и жестокое сердце, если бы оно доверено было людям порядочным, а не палачам в монашеских рясах. Эти наставники внушали ему чуть не от самой колыбели, чтобы он точно так же боялся Бога, как его, Филиппа, должны бояться будущие его подданные, и до гробовой доски Филипп II был верен этим правилам. Изуверство, привитое ему в детстве, не препятствовало ему в юности предаваться порывам бурных своих страстей, в особенности сластолюбия; но в самой любви, наслаждаясь только чувственно, Филипп никогда не искал поэзии. Взгляд его на любовь не был даже взглядом эпикурейца, а просто циника. Четыре раза он был женат и ни к одной из четырех жен не чувствовал ни малейшей приязни, так как все четыре брака были делом политики. На первой супруге Марии Португальской он был женат еще при жизни отца и жил с ней недолго. В год отречения Карла V (1554) Филипп отправился в Англию для бракосочетания с королевою Мариею Тюдор, с которою он разъехался после четырнадцатимесячного сожительства. К счастию для человечества, брак этот был бесплоден. Третьей супругою Филиппа II была принцесса французская Елизавета Валуа, дочь короля Генриха II и Екатерины Медичи. Просватанная сначала за сына Филиппа, инфанта Дон-Карлоса, молодая, прелестная собою принцесса вследствие политических соображений должна была выйти за его отца. Эта замена одного другим была, как увидим, источником страшной драмы, разыгравшейся в семействе испанского короля. Четвертой супругою Филиппа II была Анна, эрцгерцогиня австрийская. Уклонение Генриха II от соблюдения договора, заключенного с Карлом V в Воселле, побудило Филиппа объявить Франции войну, которую он вел два года, и весьма успешно. Кроме австро-испанских войск под знаменами Филиппа были сардинцы, фламандцы и англичане. 10 августа 1557 года герцог Савойский, Эммануил Филиберт, одержал над французами блистательную победу при Сен-Кантене (S.Quentin). Представляясь после того королю, герцог хотел поцеловать у него руку.
– Мне следует поцеловать вашу, – сказал ему Филипп, – за те лавры, которыми она покрыла ваше оружие.
При осаде Сен-Кантена, защищаемого адмиралом Колиньи, Филипп II принимал личное участие в военных действиях. Свист пуль, рев ядер, стоны раненых и вопли сражавшихся произвели на короля весьма неприятное впечатление.
– Нравится вам эта музыка? – спросил он у сопровождавшего его духовника.
– Признаюсь, не нахожу в ней ни малейшей приятности, – отвечал тот.
– И я точно так же удивляюсь, как мой покойный отец мог восхищаться ею! – заключил Филипп.
С этого же дня он отказался от всякого соучастия в ратных подвигах своих войск. Человек с тактом, испанский король замаскировал врожденную свою трусость шутливою заметкою о свисте пуль, назвав ее «неприятною музыкою». Как и в этом, видна истинно сатанинская гордость этого полуденного демона, как называли его протестанты! После семнадцатидневной осады Сен-Кантен был взят; той же участи вскоре подверглись Кателе, Гам и Нюйон. Победа, одержанная над маршалом де Термом (de Thermes) при Гравелине, завершила успехи оружия Филиппа II во Франции, и давно желанный для последней мир был заключен в Шато-Камбрезисе 13 апреля 1559 года. К вящему упрочению договора Генрих II отдал руку дочери своей Елизаветы королю испанскому.
Желая достойным образом почтить память св. Лаврентия, в день которого (10 августа) была одержана победа при Сен-Кантене, Филипп II по возвращении своем в Испанию заложил Эскуриальский дворец, построение которого обошлось в шестьдесят миллионов золотых. По идее самого короля образцом для плана дворца послужило орудие истязания св. мученика Лаврентия: решетка, на которой он был сожжен… Как в этом виден инквизиторский вкус Филиппа II! По крайнему его разумению план дворца в виде клетчатой решетки был верхом изящества и художественного вкуса.
Разбои корсара Драгута на Средиземном море требовали немедленных и решительных мер к их пресечению. Экспедиция адмирала Медина-Цели в Триполи не увенчалась успехом точно так же, как и вторая под предводительством Пиали: из десантных испанских войск, высадившихся на берега Африки, свыше четырех тысяч солдат погибло от моровой язвы… Наконец победа, одержанная над корсаром эскадрою Франциска Мендо-сы, вознаградила отчасти Филиппа II за недавние неудачи и до некоторой степени сделала безопасным торговое плавание по Средиземному морю. В 1560 году, после пребывания в Нидерландах, Филипп II возвратился в Испанию морем и у берегов Ларедо в Бискайи потерпел страшную бурю, поглотившую везомые им из Фландрии сокровища, состоявшие из художественных произведений. Здесь кстати заметим, что море вообще было как-то враждебно обладателю полумира: буря постоянно преследовала его флот, и все столкновения его с морскими державами, Англией и Голландией, оканчивались неудачами. По прибытии в Вальядолид король ужаснул весь город и двор зрелищем аутодафе, в сравнении с которым индусские религиозные душегубства могли показаться ребяческими забавами. Тридцать три иноверца по приговору инквизиции в присутствии короля были возведены на костры и обращены в пелел во славу и утверждение Церкви Христовой! Этот праздник каннибалов, кощунствовавших над законом Спасителя, был ознаменован эпизодом, при котором характер Филиппа II обнаружился в полном блеске. Приговоренные к смерти в желтых балахонах и колпаках, с нарисованными на них фигурами бесов и огненных языков проходили мимо трибуны, на которой восседали король, весь двор и духовенство. Один из несчастных, богатый протестант Сеса, под обаянием смертного ужаса, почти обезумев от мысли о предстоящих муках, простирая руки к королю, отчаянно воскликнул:
– Государь! Да неужели это зрелище может вас тешить или радовать! Ведь мы люди, созданные тем же Богом, который дал вам всемогущество и силу… Именем Божиим заклинаю вас – сжальтесь над нами, пощадите!..
– Именно потому-то, что я чту имя Божие, – отвечал король, – я не хочу и не смею щадить еретиков. Если бы сын мой был уличен в том же самом преступлении, в котором вы уличены, я бы своеручно сложил ему костер и поджег бы его бестрепетно!
И бестрепетно, не шевельнув ни единым мускулом своего недвижного лица, Филипп смотрел, как тридцать три мученика были возведены на костры, как запылали они и как эти люди, корчась от боли, ревели голосами, от которых должен бы был содрогнуться самый ад. С этими воплями слились голоса духовенства, воспевавшего литании и величании… Эта «музыка» была для ушей короля-изувера, конечно, приятнее свиста пуль, о котором он с таким неудовольствием отзывался под стенами Сен-Кантена.
Этим временем начались волнения в Нидерландах, продолжавшиеся девятнадцать лет (1560–1579) и окончившиеся освобождением республики из-под ненавистного испанского ига. Следить за ходом этой революции с должной последовательностью было бы для нас трудом непосильным и тем более, что история этого великого переворота написана пером гениального Шиллера. К этому мастерскому произведению отсылаем любознательного читателя,[82] ограничиваясь беглыми характеристическими очерками шести наместников Филиппа II, сменившихся в девятнадцатилетний период революции в Нидерландах. Правителями этими были: Маргарита, герцогиня Пармская, при содействии кардинала Гранвеллы, герцог Альба, Реквесценс, Дон-Жуан австрийский и герцог Александр Фарнезе. С ними боролись за освобождение родины графы Эгмонт, Горн и Вильгельм, принц Оранский.
Система управления порабощенным государством у завоевателей всегда была и пребудет одна и та же. Вступая во владение чужой страной, покоритель объявляет жителям, что их права и местные законы останутся ненарушимыми; что, несмотря на различие вероисповедания покоренной страны с государством, ее покорившим, ей предоставляется свобода совести и что новый властитель этой страны будет любить новых своих подданных, как отец родных детей. Иногда для пущей важности подобные обещания подтверждались торжественною клятвою. Первые годы чужеземный властитель соблюдает данные им обещания и остается верным данному слову: потом мало-помалу он начинает прибирать покоренную страну к рукам: отменяет некоторые статьи существующей конституции, ограничивает права граждан, во главе администрации сажает своих креатур… посягает наконец (если он иноверец) на свободу богослужения. Порабощенный народ терпит год, другой; десятки лет переносит иногда тяжкое иго и оканчивает обыкновенно либо восстанием, либо, оподляясь вследствие долговременного рабства, покорствует и с течением времени сливается воедино с народом-поработителем посредством уз кровного родства или посредством перехода в вероисповедание народа-поработителя.
В этих немногих строках – история Нидерландских штатов со времени присоединения их к монархии Карла V. Семнадцать областей республики управлялись каждая особенной конституцией; правители некоторых были штатгальтеры; важнейшие государственные дела обсуждались и решались общим собранием выборных. Посредником между императором и нидерландскими областями был обер-штатгальтер. Признав над собою власть императора и изъявив согласие на то, чтобы власть эта была наследственною, государственные чины Нидерландских штатов выговорили себе право принимать или не принимать участие в войнах, ведомых императором с другими державами. Этот договор Карл V утвердил клятвенным обещанием, которому не преминул изменить при первом удобном случае. Он, раздав государственные должности своим австрийским и испанским вельможам, занял республику своими войсками, вовлек ее в войну с Францией. Принятие нидерландцами нового учения Лютера побудило Карла V учредить в республике инквизиционное судилище под скромным именем совета духовных дел. При всем том нидерландцы терпели и не протестовали на криводушие Карла V; он был только деспотом – сын его явился тираном.
Тогда началась борьба между двумя народами, в нравственном и физиологическом смысле диаметрально противоположными друг другу. Эту борьбу всего ближе можно уподобить борьбе двух стихий – воды и огня: Нидерланды были олицетворением первой, Испания со своими инквизиционными кострами – второго. Нам известно из физики, что от сочетания воды с огнем родится парсила могучая. Управляемая опытною рукою, она благодетельна, но при малейшей неосмотрительности машиниста самый этот пар рвет котел и разрушает машину… Так было и с испанским владычеством в Нидерландах: терпение народа лопнуло и взрыв революции разбил вдребезги затейливые махинации Карла V и Филиппа II.
Первою ошибкою тирана было формальное введение инквизиции и назначение правительницею Нидерландов, вопреки желанию народному, Маргариты Пармской при посредничестве кардинала Гранвеллы. Маргарита была, так сказать, лицом подставным; главную же роль играл ее советник и сотрудник Антоний Перено, внук кузнеца, родившийся в Бургундии 20 августа 1517 года. Окончив курс наук в Литтихе, особенно изучив семь иностранных языков до такого совершенства, что мог одинаково свободно изъясняться на них, Антоний для достижения своих честолюбивых целей избрал карьеру духовную. Двадцати лет, он был архиепископом Аррасским. Принимал участие в сеймах Тормском, Регенсбургском и в Тридентском соборе. Карл V, обратив внимание на богатые дипломатические способности Антония Перено, пожаловал его в государственные советники (в 1550 г.). Мир в Пассау и договор в Шато-Камбрезисе были заключены и редактированы по плану Антония. После смерти Карла V Антоний не только не лишился занимаемых им должностей, но еще сумел снискать особенное благоволение Филиппа II благодаря своей вкрадчивости, умению носить личину смирения и покорности, а самое главное – служить интересам инквизиции, которой Антоний Перено постоянно пребывал всепокорнейшим рабом. Управляя Нидерландами, он действовал в духе иезуитизма, на словах проповедуя кротость и милосердие, на деле же прибегая к мерам крайнего насилия; мерам тем более нестерпимым, что они касались вопроса неприкосновенного: свободы совести и веротерпимости. Ненависть нидерландцев к прелату в два, три года достигла крайней степени. Со своей стороны и Филипп II был им недоволен; кардинал думал действовать умом там, где, по мнению короля, следовало прибегнуть к грубой силе. Пожаловав его в архиепископы Мехельна и исходатайствовав ему кардинальскую шапку под именем кардинала Гранвеллы, Филипп отозвал Гранвеллу из Нидерландов в Франт-Конте (1564 г.). Здесь Гранвелла провел шесть лет в собесед-ничестве со своим секретарем Юстром Липсием и ученым-эллинистом Суффридием Петри, услаждая скуку почетного своего изгнания занятием науками. В 1570 году Филипп II вызвал его для отправки в Рим с важным дипломатическим поручением касательно заключения оборонительного союза с папою против турок, угрожавших нападением на берега Сицилии. Успешно исполнив возложенное на него поручение, Гранвелла в качестве вицекороля отправился в Неаполь, где в течение пяти лет управлял краем с редким тактом и умением. Филипп, придерживаясь правила – не давать особенно быстрого хода людям даровитым, чтобы они не зазнавались, – отозвав Гранвеллу из Неаполя в Испанию, облек его саном президента верховного государственного совета. Последним дипломатическим подвигом кардинала Гранвеллы было заключение брачного договора между инфантою Катериною и герцогом Савойским. Этот родственный союз Испании с Савойею упрочивал влияние последней на Северную Италию. Страдая издавна изнурительной болезнию, Гранвелла скончался 21 сентября 1586 года, завещая, чтобы его похоронили в Безансоне, в одной гробнице с его покойным отцом. В 1793 году, во время революции, свинцовый гроб кардинала был исторгнут из склепа и, опорожненный от бывших в нем костей и праха, года три служил корытом для водопоя лошадей на городской площади.
Умный, превосходно образованный, одаренный всеми талантами истинного дипломата, кардинал Гранвелла в то же время был безмерно честолюбив, завистлив и чересчур привязан к интересам католицизма, поддерживаемым инквизициею. В Варфоломеевской ночи, например, он видел весьма разумное и доброе дело, лучше этого, по его мнению, Карл IX и Катерина
Медичи ничего не могли придумать! За это одобрение злодейства неслыханного не заслуживает кардинал Гранвелла внимания потомства, несмотря ни на свой ум, ни на любовь к наукам. При Филиппе II – тигре в образе человеческом – Гранвел-ла был старой лисицей. Отзывая его из Нидерландов, Филипп назначил на его место не льва (подобное сравнение было бы слишком лестно для памяти герцога Альбы), а просто лютого вепря, кровожадного палача – герцога Альбу.
Девять лет этот изверг умиротворял мятежные Нидерланды. В эти девять лет край был доведен до совершенной нищеты; торговля, промышленность – пали; до ста тысяч граждан эмигрировали в Германию и во Францию, и восемнадцать тысяч человек погибло на эшафоте. Постоянно побеждая Вильгельма Оранского, вытеснив его наконец из Нидерландов, Альба, пользуясь усмирением мятежа, принялся выказывать свои административные способности, превращая торговые города в цитадели, заселяя их буйной солдатчиной, утверждая королевскую власть на кострах, плахах, виселицах, темницах и казармах. Графы Эгмонт и Горн, Жильбер, Петр д'Андело и с ними до тридцати вельмож нидерландских были первыми жертвами палача Альбы (в июне 1568 года). Лучшего себе наместника Филипп II едва ли мог и выбрать!
В то самое время, как в Нидерландских штатах свирепствовал герцог Альба, при дворе короля в Испании разыгрывалась кровавая семейная трагедия, героем которой был его сын инфант Дон-Карлос. Аббат Сен-Реаль, Кампистрон, Ксименес, Андрей Шенье, Отуэй, Альфиери и Шиллер, обессмертив Дон-Кар-лоса в своих романах и трагедиях, выставили его – увы! – далеко не таковым, каков он был в действительности. У Альфиери это мученик, у Шиллера – иенский или мангеймский студент, честная, прямая душа, восторженная натура, орленок в золотой клетке… Повторяем: инфант Дон-Карлос, сын Филиппа II, был далеко не похож на Дон-Карлоса – детище фантазии Шиллера. Во многих отношениях жалкая эта личность напоминает нам другую, из недавнего времени, именно сына Петра Великого – царевича Алексея Петровича… Даже загадочная смерть того и другого была почти та же. Шиллер при изображении в своей трагедии Дон-Карлоса ровно настолько же погрешил против истины, насколько был ей верен при изображении Филиппа II.
Дон-Карлос родился в Вальядолиде 8 января 1545 года. Родительница его, первая супруга Филиппа II, Мария Португальская, скончалась через четыре дня после появления Карлоса на свет. Младенец был слабый, хилый и увечный; одна нога у него была короче другой. Растили его, как говорится, в хлопчатке, потакали капризам, предупреждали малейшие желания, и вследствие этой излишней заботливости и баловства из Карлоса вышел злой, своенравный и капризный мальчик. Воспитание его было доверено французу Боссюлюсу, побочному сыну монаха Сен-Дени, человеку безнравственному и со злым сердцем. Беседуя с воспитанником, наставник постоянно злословил ему его отца и, так сказать, по каплям вливал в молодое, восприимчивое сердце инфанта ненависть к королю и ко всем его приближенным. Однажды Карлос спросил Боссюлюса, правда ли, что тот незаконнорожденный?
– Правда, – отвечал тот, – но, во всяком случае, мой отец получше вашего!
Благодаря подобным шуткам и наветам воспитателя между сыном и отцом возрастала ледяная стена обоюдной холодности и взаимного недоверия. Если бы Боссюлюс клеветал, Карлос легко мог бы опровергнуть клевету, указав на какую-нибудь светлую сторону отцовской личности; но таковой светлой стороны в наличности не обреталось. Патеры, шпионы, доносчики, инквизиторы – таков был придворный штат Филиппа II, и в ином он не чувствовал никакой надобности. Покорный чопорному и нелепому этикету, он и в ласках своих к сыну следовал пунктам и параграфам придворного устава, видя Карлоса в определенные часы, говоря ему то, что требовалось этикетом, улыбаясь ему… нет, в этом ошибаемся: во всю свою жизнь Филипп II никогда и никому не улыбался.
В 1560 году, когда Карлосу исполнилось пятнадцать лет, король, созвав государственные чины на чрезвычайное собрание в Толедо, объявил своего сына наследником престола. Через два года инфант Дон-Карлос отправился в Алкалу, в тамошний университет, но не мог окончить курса вследствие несчастного события, имевшего гибельное влияние на всю его жизнь. Всходя по лестнице дворца кардинала Ксименеса, инфант упал и, ударившись затылком о мраморную ступень, лишился чувств.
Призванные доктора, освидетельствовав молодого человека, не нашли никакого повреждения ни на голове, ни на теле. Придя в себя, Карлос ни на что не жаловался; но через одиннадцать дней у него открылась лихорадка. Врачи и хирурги по продолжительном совещании решились прибегнуть к операции: обрив голову инфанту, они подрезали ему кожу на затылке и на кости нашли багровое пятно, свидетельствовавшее об излиянии крови в подкостную плеву. Все меры, принятые к излечению больного, оказались тщетными; положение его ухудшалось день ото дня и стало наконец совершенно безнадежным. Тогда (по словам испанского историка Феррераса) король Филипп предложил врачам прибегнуть к помощи Божией через предстательство блаженного Дидация, хотя еще и не причисленного церковью к лику святых, но к которому инфант всегда питал особенное благоговение. По приказанию короля гроб с мощами был принесен в спальню больного; Карлоса накрыли пеленой, снятой с лица усопшего… Это прикосновение произвело благодетельный кризис. По просьбе короля папа римский признал блаженного Ди-дация святым, и больной инфант выздоровел. К несчастию, здоровый телом, он стал в то же время обнаруживать ненормальное состояние умственных своих способностей, или, говоря короче, в нем показались признаки помешательства. Оно выказывалось по временам глубокой задумчивостью, иногда же раздражительностью, доходившей почти до бешенства. Как-то ночью, гуляя с молодыми спутниками по мадридским улицам, инфант имел неудовольствие попасть под неожиданный душ: жильцы какого-то дома опорожнили за окно какую-то посуду и обдали инфанта помоями с головы до ног. Задрожав от бешенства, он тотчас же приказал своим спутникам поджечь дом со всех четырех концов. К счастию, товарищи сумасброда были в своем уме. Один из них войдя в дом, вскоре вышел оттуда, объявив Дон-Карлосу, что приказание его не может быть исполнено.
– Почему? – воскликнул сын Филиппа II.
– Потому что в одной из квартир находятся св. дары, принесенные из церкви.
– Это другое дело! – отвечал смирившийся инфант.
Был тогда в Мадриде комедиант Сиснерос, которого Дон-Карлос давно собирался видеть на сцене. Президент Спинола, за что-то прогневавшийся на комедианта, выслал его из столицы. Весть об этом распоряжении дошла до ушей инфанта. В тот же день он встретил президента на дворцовой лестнице и, схватив его за горло и выхватив из-за пояса кинжал, крикнул:
– Как ты смел выслать Сиснероса? За это сию же минуту я всажу тебе клинок в сердце…
Президент, упав на колени, едва мог вымолить пощаду.
В другой раз адъютант Дон-Карлоса, молодой человек знатнейшей фамилии, замедлил явиться к нему в комнату на звонок. Не говоря ни слова, инфант, схватив виновного за ворот, потащил его к окну, чтобы выкинуть на улицу, и бедняга едва спасся бегством.
Как-то сапожник не угодил инфанту, сшив ему слишком узкие ботинки. Дон-Карлос, изрезав их в мелкие куски, заставил сапожника съесть их, и волей-неволей сапожник съел это кушанье, приготовленное руками его высочества. Хотя каждый ремесленник кормится своею работою, но едва ли это не единственный случай буквального подтверждения этой истины!
Все эти анекдоты, заимствованные нами у Феррераса, доказывают, что Дон-Карлос годился скорее в герои арлекинады, нежели трагедии. И этому идиоту Шиллер влагает в уста свои чудные идеи и чувства; между прочим стих:
Drei und zwanzig Jahre, Und nichts fur die Unsterblichkeit gethan.[83]Впрочем, смеем ли укорять бессмертного поэта, подарившего человечеству своего Дон-Карлоса? Создал же Шекспир своего Гамлета из какого-то полоумного датского принца!..
Ненависть к отцу, сдержанная в детстве, выразилась в Дон-Карлосе-юноше ядовитой выходкой. Он выпустил в свет книгу, состоявшую из чистых страниц, озаглавленных: «Великие и удивительные путешествия короля Филиппа» (Los grandes y admirables viajes del rey don Philipe). Чтобы понять всю соль этого бессловесного пасквиля, надобно знать, что король в последние двадцать лет жизни только и ездил из Мадрида в Эскуриал и обратно.
Принимая во внимание слабоумие сына, Филипп II не только не давал ему никаких должностей, но в 1563 году вызвал из Австрии своих племянников, эрцгерцогов Родольфа и Эрнста с намерением одного из них назначить своим преемником. Он встретил их в Барселоне 5 января 1564 года, оказав при этом ласку, как родным сыновьям. Это была ошибка со стороны Филиппа, и ошибка жестокая! Дон-Карлоса следовало лечить, а не раздражать; снисходительность и кротость помогли бы… Но мы опять впадаем в заблуждение: Филиппу II неведомы были ни кротость, ни снисходительность. На душевные недуги смотрели тогда (в Европе вообще, в Испании в особенности) как на бесовское наваждение; безумных отчитывали, экзорсировали… Если же человек был помешан на вопросе религиозном или воображал себя чародеем, в таких случаях инквизиция лечила его радикально – железом или огнем. Недаром же еще Гиппократ говорил: «Огонь исцеляет (Ignis sanat!)»!
Женитьба Филиппа II на прелестной Елизавете Валуа, которую он прежде прочил в супруги своему сыну, была вторым безжалостным ударом, нанесенным уму и сердцу несчастного молодого человека. Судя о дочери Генриха II по рассказам и по портретам, инфант влюбился в нее; он утешался мыслию быть мужем красавицы, которая (почем знать!) могла бы иметь на него благотворное влияние, и вдруг эта самая красавица делается женою его отца, а его, Карлоса, мачехою! От подобной шутки судьбы и здравомыслящий человек может потерять рассудок; каково же было перенести ее полупомешанному? К мрачным мыслям инфанта присоединилась новая, тяжелая, неотразимая: любимая им женщина в объятиях другого; этот другой – его отец! Чтобы утешить огорченного Карлоса, король обещал ему приискать другую невесту, именно эрц-герцогиню Анну Австрийскую. Эта замена доказывает, какими глазами Филипп II смотрел на сердце человеческое вообще, сыновнее – в особенности.
Противны, гадки стали бедному инфанту и отец, и мачеха, и родина… По влечению, свойственному всем вообще меланхоликам, Дон-Карлос намеревался покинуть родину и ехать на защиту острова Мальты, тогда блокируемого турками. Приготовив на путевые издержки 50000 червонных, инфант под секретом сообщил о своем намерении гранду Рюи-Гомесу де Сильва; этот, в свою очередь, довел о том до сведения короля. Филипп поручил вельможному шпиону заготовить подложное письмо, будто бы полученное с Мальты и извещавшее об отражении турок; поездка, таким образом, делалась бесполезною. Дон-Кар-лос поверил обману и остался, по-прежнему снедаемый тоскою и мучимый жаждою деятельности. Он умолял отца позволить ему ехать в Нидерланды на смену ненавистному герцогу Альбе; на эту просьбу Филипп II отвечал насмешками. Раздраженный обхождением короля, бедный инфант решился бежать в Германию, а оттуда пробраться в Нидерланды. Тамошние жители сами желали назначения Дон-Карлоса, надеясь найти в нем доброго посредника и ходатая перед Филиппом. Уполномоченные согражданами граф Берг и барон Монтиньи виделись с Дон-Кар-лосом; он вошел в тайную переписку с начальниками народного восстания. В это время просветлел рассудок бедного инфанта, озаренный доброй и счастливой мыслею примирить отца с его подданными, выговорив им все те права, которые они отстаивали… Бедный ребенок воображал, что он сможет низложить герцога Альбу и вымолить у Филиппа II возвращения нидерландцам их конституции и уничтожения в штатах ненавистной инквизиции! Муравей надеялся сдвинуть гору, мошка намеревалась порвать сеть, сплетенную из стальной проволоки…
Переписка велась настолько секретно, что ускользала от глаз шпионов, которыми изобиловал испанский двор; но опять и на этот раз Дон-Карлос ошибся в выборе конфидентов. Первый из них, Гарсиа Альварес Оссорио, отправился в Сельвию для займа 600000 ефимков, необходимых на путешествие; другим сообщником инфанта был его побочный дядя Дон-Жуан австрийский… Ему сообщил Дон-Карлос о своих замыслах. Этот победитель турок при Лепанте попробовал сначала отговорить инфанта, но, видя, что он упорствует, выдал его королю. Устраняя сына от всякого следствия, Филипп приказал только усилить за ним надзор, барон Монтиньи поплатился за свои сношения с инфантом головою.
Тогда отчаяние окончательно овладело Дон-Карлосом, и он снова погрузился в меланхолию; но тогда же судьба послала ему ангела-утешителя в лице королевы Елизаветы. Она, бедная, страдала не менее своего пасынка, увядая на чужбине, в стенах мрачного дворца, обремененная оковами этикета и ласками немилого мужа. Не было ей иной отрады, кроме молебствий в храмах; не тешил ее Филипп II иными развлечениями, кроме процессий да разве казней еретиков, при которых королева, разумеется, никогда не присутствовала. Жалея от всей души бывшего своего жениха, Елизавета мало-помалу перешла от чувств сожаления к иным, менее бескорыстным… Она почувствовала любовь, и любовь страстную, к пасынку. Видеться молодым людям, кроме как на выходах, было невозможно; говорить без боязни быть подслушанными – тоже. Поневоле пришлось прибегнуть к переписке.
С этой минуты Дон-Карлос как будто переродился, или, лучше сказать – переменил пункт помешательства. Постоянная мысль об Елизавете слилась в его разуме с мыслию о следящих за ними шпионах и злоумышленниках. Он не расставался с заряженными пистолетами; обвешал оружием стены своей комнаты; поручил архитектору Людовику де Фуа (строителю Эску-риальского дворца) устроить в ней дверь с потайной пружиною, которая, замыкая ее изнутри, делала бы невозможным всякое нечаянное или насильственное вторжение в комнату. Кроме того, для хранения записок королевы и писем нидерландских своих друзей он заказал железную шкатулку, которую держал под изголовьем постели… Иногда проговаривался он о твердом намерении убить какого-то человека, от смерти которого зависит все счастие его жизни. На кого намекал несчастный? Может быть, и на отца…
Последний, которому дворцовые шпионы донесли о каких-то таинственных сношениях королевы с пасынком, стал внимательно следить за ними. От его ревнивых глаз не ускользнули вскоре знаки, которыми Елизавета разменивалась с Дон-Кар-лосом… Ревнивые подозрения короля оправдались, когда он заметил, что сын особенно часто ходит на половину Елизаветы под разными более или менее благовидными предлогами. Чем теснее сходился инфант со своею возлюбленною, тем, разумеется, становился непочтительнее к отцу-сопернику. Мысль отделаться от него зрела в душе инфанта, но в самых средствах, изыскиваемых им для отцеубийства, проглядывало несомненное помешательство. Вычитав в какой-то хронике рассказ о том, как один прелат убил своего слугу ударом книги в голову, Дон-Карлос попросил Людовика де Фуа сделать ему каменную книгу в четырнадцать фунтов весом, прикрыв камень кожаным переплетом и подкрасив края под цвет обреза. Этим массивным пресс-папье инфант хотел размозжить голову своему родителю. Маскируя орудие смерти, он и не думал о замаскировании ее самой; отваживаясь на ужаснейшее из всех преступлений, безумец счел долгом сообщить о своем намерении духовнику на исповеди, в рождественский сочельник, 24 декабря 1567 года. Инфант не сказал, кого именно он хочет убить, а только упомянул, что умышляет на убийство.
Почтенный патер, подобно всему испанскому духовенству того времени, был вместе с тем шпионом инквизиции и его величества короля. Он передал Филиппу от слова до слова признания инфанта, и король решился прибегнуть к отчаянным мерам.
18 января 1568 года, в глухую ночь, Филипп II, сопровождаемый шестью грандами, вошел в комнату спящего сына и всего прежде овладел заветной шкатулкою с бумагами. Пробудившийся инфант, увидя отца, не решился пустить в ход ни холодного, ни огнестрельного оружия, которыми были увешаны стены его спальни. Протянув руки к Филиппу, заливаясь слезами, он воскликнул:
– Батюшка… я не сумасшедший. Не убивайте, пощадите меня!! Вспомните, я сын ваш!
– Никто и не думает убивать тебя, – отвечал король спокойно, – однако же как отец я должен родительски наказать тебя.
В ту же ночь инфант был переведен в пустую, отдаленную комнату дворца и отдан под надзор четырех придворных. Здесь рассудок окончательно покинул страдальца: он отчаянно метался в предчувствии готовящихся ему истязаний и, чтобы избежать их, несколько раз покушался на самоубийство. Жалуясь на холод в комнате, он попросил затопить камин и, когда дрова разгорелись, бросился в огонь, из которого его тотчас же, но с большим трудом вытащили. После этой неудачи он пытался уморить себя голодом, жаждой, обжорством; проглотил крупный брильянт в надежде подавиться им. Своевременно принятыми мерами ему спасали жизнь и берегли ее – для казни, для пытки или только для допросов? Про то ведает Бог… Доныне это тайна неразгаданная. О смерти Дон-Карлоса, о дне, в который она постигла страдальца, существует несколько предположений, много догадок, и все-таки неизвестно ничего наверняка.
Сказания испанских историков, особенно эпохи, близкой к событию, пристрастны, а потому и весьма сомнительны; иностранные летописцы, особенно протестанты, писали о Филиппе II, вдохновляемые ненавистью. С одной стороны, находим льстивые панегирики, с другой стороны – пасквили. Кому тут верить?
Феррерас говорит, что инфант Дон-Карлос умер в феврале 1568 года от нервической горячки. Иностранные авторы, опровергая Феррераса, утверждают, что инфант погиб в июне смертью насильственной – задушенный, удавленный или отравленный ядом. Существует мнение, будто Филипп II предоставил сыну самому избрать себе род смерти, и Дон-Карлос умер, подобно Сенеке, в теплой ванне, открыв себе вены на руках и на ногах. Об арестовании сына и потом о его смерти король испанский написал ко всем первостепенным европейским государям, оправдывая свою строгость изменою сына и его тайными сношениями с нидерландскими мятежниками; о связи Дон-Карлоса с королевою само собою не было сказано ни слова. Елизавета умерла в том же 1568 году, 3 сентября, на двадцать третьем году жизни. Ее кончину даже испанские историки приписали отравлению… Вопрос: сама ли она кончила жизнь самоубийством или была отравлена Филиппом II – доныне остается неразрешенным. Вообще на катастрофы смерти Дон-Карлоса и Елизаветы большинство смотрит сквозь романическую призму. Нет сомнения, что Филипп II способен был убить и сына и жену… А если тот и другая умерли своей смертью? Слабый организм Дон-Карлоса мог не выдержать последнего столкновения с отцом, и молодой человек легко мог быть жертвою горячки. Что же касается до королевы Елизаветы – разве стыд и отчаяние не могли убить ее не хуже всякого яда?
Окончив более или менее кровавой развязкой свои семейные дела, Филипп II с прежней энергией занялся политикой. Альба, свирепствуя в Нидерландах, со своей роли наместника перешел на роль диктатора и самовластного правителя, каким в двадцатых годах нашего столетия были в Греции Куршид-паша и Али-Тебелен Янинский. Если Гранвелла был временщиком благодаря уму и дарованиям, то Альба стал временщиком благодаря оружию. Филипп II скрепя сердце должен был терпеть самовластие наместника, Альба нужен был ему, как бывает нужно сильное и отвратительное лекарство в опасной болезни: по миновании надобности лекарство выбрасывается за окно, и так думал поступить с герцогом Альбою король испанский. Вместе с успехами усмирения мятежа возрастала гордость герцога Альбы.
1572 год ознаменован был позорными и кровавыми событиями Варфоломеевской ночи во Франции. В этом событии, как мы говорили (см. кн. 1), Филипп II и герцог Альба принимали весьма деятельное, хотя и косвенное участие. Кровь гугенотов, пролитая во Франции, подобно маслу, пролитому на огонь, ожесточила пламя мятежа в Нидерландах. Ожесточение жителей достигло крайней степени, но вместе с тем не ослабевала и лютость герцога Альбы. Вильгельм Оранский, бежавший в Германию, обратил внимание тамошних государей на бедственное положение его родины… Немецкие герцоги, князья и ландграфы негодовали, волновались, но только этим и могли выразить свое сочувствие Нидерландам. Вся Европа негодовала на Филиппа, вся Европа ему завидовала, но вместе с тем и боялась. Прислушиваясь к проклятиям нидерландцев герцогу Альбе, Филипп II внутренне сам его проклинал, но еще крепился и терпел до тех пор, покуда Альба не разгневал его своей дерзкой, надменной и нелепой выходкой. Видя, что король не награждает его заслуг по достоинству, или, может быть, считая их выше всяких наград, наместник-палач вздумал сам наградить себя, воздвигнув в память своих подвигов свою бронзовую статую в Антверпене с изображением коленопреклоненных перед собою вельмож и рыцарей нидерландских. За эту наглость Филипп II отозвал герцога Альбу вместе с сыном в Испанию, назначив на его место слабого, нерешительного Реквесценса в декабре 1573 года.
Встреча, оказанная герцогу при дворе, отличалась не столько почетом, сколько холодностью; Филипп II, очевидно, хотел напомнить временщику, что «время его прошло» и что пора ему стать в ряды обыкновенных придворных. Перенеся обиду довольно равнодушно, Альба не выказал раболепного смирения, которое всегда обнаруживается во временщике, постигнутом опалою. Король со своей стороны искал только удобного случая удалить герцога от двора, и случай этот не замедлил представиться. Сын герцога, обольстив фрейлину королевы обещанием жениться на ней, женился на другой. Обманутая пожаловалась Филиппу II, который приказал старику Альбе – за потворство сыну, а последнему – за оскорбление, нанесенное двору, – удалиться из Мадрида в замок Узеду. Уподобляя себя Кориола-ну, Фемистоклу и прочим героям древности, которым отечество за их услуги отплатило неблагодарностью, герцог Альба повиновался повелению королевскому и шесть лет провел в изгнании. Оскорбленное его самолюбие было вознаграждено, а непомерная гордость вполне удовлетворена, когда Филипп II зимою 1579 года обратился к нему с просьбою принять начальство над войсками, отправляющимися в Португалию для присоединения этого королевства к испанской державе.
В 1580 году Филипп II к бесчисленным своим титулам присоединил и титул короля португальского. Теперь Филипп II мог бы сказать слова Шиллера: «В моем царстве солнце не закатывается!»[84] – если бы Нидерландские соединенные штаты не угрожали ему отпадением, а удержание их в повиновении не требовало громадных расходов на содержание там войск и гарнизонов!
Покорение Португалии было последним подвигом герцога Альбы. Благодаря героя за эту услугу, оказанную престолу и отечеству, Филипп II тем не менее не позволил герцогу возвратиться ко двору, и в 1582 году, 12 января, герцог Альба умер в своем замке семидесяти четырех лет от рождения. Гроб его осенили лавры, которыми по справедливости Испания почтила его память, и на веки вечные заклеймили проклятья, с которыми еще того справедливее сопрягали его имя нидерландцы, а с ними и все человечество.
Герцог Альба родился в 1508 году. Первая половина его жизни принадлежит к истории царствования Карла V и его войн с германскими протестами. В начале военного своего поприща Альба выказывал неуместную осторожность и нередко благоразумную уклончивость от боя, которые можно назвать не совсем лестным для герцога именем трусости.
Вместо осады или штурма крепостей он нередко советовал императору действовать подкупами. Один испанский дворянин, желая подшутить над герцогом, адресовал ему письмо с надписью: «Его светлости герцогу Альбе, предводителю импе-раторско-королевских войск в мирное время и министру двора во время войны». Этот грубый намек на уклончивость герцога от воинской службы произвел на него магическое действие, и с этой минуты Альба посвятил все свои способности на высшее военное образование, изучая науки, без знания которых невозможно быть военачальником. Его войны с Вильгельмом Оранским в Нидерландах, по мнению знатоков, доныне достойны удивления и изучения, как превосходно разрешенные стратегические задачи. Усердный католик наружно, герцог Альба в душе был заклятый атеист, веруя, подобно древнему язычнику, только в бога войны, т. е. в грубую животную силу, способную противодействовать силе Божией правды. В бытность свою при дворе Генриха II для заключения от имени своего короля брачного контракта с принцессой Елизаветой Альба рассказывал как-то о сражении при Мюльберге, в котором он участвовал.
– Правда ли, – спросил Генрих II, – что во время битвы были какие-то чудесные видения на небесах?
– Не знаю, ваше величество, – отвечал герцог с улыбкою, – я так был занят тем, что делалось на земле, что не имел времени обратить внимания на небо!
Он мог бы прибавить, что и во всю свою жизнь не думал о небе, иначе не обременил бы своей совести казнями восемнадцати тысяч человек!
В последние шесть лет испанского владычества в Нидерландах наместниками были: Реквесценс, умерший в 1577 году, Дон-Жуан австрийский (один год) и Александр Фарнезе, сын Маргариты Пармской. Первый, как мы уже говорили, был воплощенная слабость; второй надеялся водворить спокойствие в мятежных областях ласкою и льстивыми обещаниями; третий, ученик политической школы Макиавелли, верный его правилу: divide ed impera (разделяй и властвуй), сумев привлечь на свою сторону южные штаты, начал ссорить их с северными. Александр Фарнезе рассчитывал при этом на различие вероисповеданий, так как южане были католики, а северяне протестанты. Проникая в коварные умыслы Александра Фарнезе, Вильгельм Оранский предложил штатгальтерам северных областей отделиться от областей южных и образовать особую независимую республику. Утрехтским договором, на который собрались все государственные члены, Голландская республика была провозглашена независимою от владычества испанского и ничем не связанною с южными штатами (1579 г.). В штатгальтеры единодушно был избран Вильгельм Оранский, и таковым признали его все европейские державы; из них Великобритания была первою. Теперь Филиппу II пришлось бороться уже не с одними мятежниками, а с державою сильною, могучею, особенно на море… Признавая себя побежденным Вильгельмом Оранским или, по крайней мере, низведенным им с высоты величия, Филипп отомстил ему убийством из-за угла. В 1584 году фанатик Вальтасар Жерар за соответствующую сумму взялся быть орудием мести испанского кровопийцы. В июле месяце он явился в замок Дельфт будто бы для подачи прошения Вильгельму, и в ту минуту, когда штатгальтер стал читать поданную ему бумагу, Жерар выстрелил по нем в упор из пистолета, заряженного тремя пулями. Убийца, тотчас же схваченный, на допросах выказал необыкновенную твердость и, не выдавая Филиппа, стоял на том, что действовал по внушению небесному. 14 июля 1584 года его казнили, и эта казнь служит доказательством зверства тогдашних нравов. Палачи до кости прожгли ему правую руку горящей серою; мягкие части тела выстригли раскаленными щипцами… потом рассекли грудь и, вырвав сердце, били труп этим сердцем по лицу. Тело Жерара было изрезано на куски, и каждый из них был отослан в главнейшие города республики для позорной выставки на площадях. Филипп II дал семейству казненного дворянские грамоты.
– Жаль, – сказал он при этом, – что Вильгельма не убили года два тому назад… Церковь и я были бы тогда в великом выигрыше!
Убиение Вильгельма Оранского не пошатнуло прочных оснований Голландской республики. Штатгальтеру наследовал сын его, Маврикий.
В первый день июля 1588 года из Лиссабона отплыл громадный флот под хвастливым именем Непобедимой Армады и под начальством адмирала Медина-Сидонии. Об участии Армады мы уже говорили. Весть о гибели флота, сооружение которого обошлось Испании во многие сотни миллионов, была принята Филиппом II если не с покорностью христианина, то с мужеством язычника-стоика. Адмирал Медина-Сидония, имевший стыд пережить гибель своих кораблей, явился к королю с видом приговоренного к смерти в ожидании, что над его головою разразится буря, подобная той, которая истребила Армаду. Сверх чаяния Филипп II принял адмирала с необычайной ласкою и, подавая руку, сказал:
– Ты не виноват! Я посылал тебя сражаться с людьми, а не со стихиями…
Десять последних лет жизни Филиппа II протекли в интригах религиозных, которые тогда волновали Францию. Король принимал деятельное участие в святой Лиге (la Sainte Ligue), содействовал католической пропаганде и насколько мог способствовал гонению протестантов. Под старость чувства человеческие окончательно покинули короля, и сердце его закалилось в слезах и крови многих тысяч жертв его изуверства. В начале 1598 года Филиппа II постиг смертный недуг, осложнившийся мучительной подагрой – отголоском шалостей бурной молодости. Страдания свои король переносил с большим мужеством, даже имел твердость шутить с окружающими. Так, он сказал докторам, задумавшимся над вопросом: пускать ли ему кровь?
– Пускайте, пускайте! Не жалейте нескольких ложек крови человека, который за сорок четыре года своего царствования пролил целые реки крови еретиков.
В первых числах сентября 1598 года положение больного стало безнадежным, а 13-го числа он скончался.
Этой страшной личностью мы заканчиваем обзор XVI века, которого Филипп II был достойнейшим сыном и представителем. Явление утешительное: ни в XVII, ни в XVIII столетиях мы уже не встретим подобных ему чудовищ, хотя и в этих двух веках нам придется встретить личности и явления крайне возмутительные, но таковые можно обрести даже в нашем гуманном, прогрессивном и цивилизованном столетии.
Мария Медичи, королева-правительница. Детство Людовика XIII
Кончино Кончини, маршал д'Анкр. – Леонора Галигаи. – Альберт де Люинь
(1610–1617)
Детство и юность Марии Медичи протекли весьма печально и именно при той неблагоприятной обстановке, которая всегда дурно влияет на характер, особенно на характер девушки.
Матери своей, Хуаны Австрийской, Мария лишилась, имея от роду пять лет. Отец, Франциск Медичи (см. выше), занятый своей алхимией и Бьянкой Капелло, нимало не заботился ни о Марии, ни о ее старшей сестре. Принцессы росли на попечении наставниц и гувернанток, выбранных из среды придворных дам, вообще не отличавшихся ни образованием, ни строгостью нравственных правил. Если принцессам не приводилось быть свидетельницами или участницами распутных пиршеств и оргий, то до слуха их доходили рассказы о скандальных приключениях при дворе, об интригах вельмож, о каверзах ненавистной принцессам их мачехи Бьянки Капелло. Скука и одиночество развили в Марии Медичи склонность к сплетням и нескромное любопытство. С юных лет она полюбила собеседничество болтушек, наушниц, охотниц подсматривать, подслушивать, а потом передавать подсмотренное и подслушанное с прикрасами собственного сочинения. Другом Марии Медичи и бессменной ее собеседницей была ее молочная сестра Леонора Дори Галигаи, девушка годами двумя старше принцессы, некрасивая собою, немножко кривобокая, но умная, бойкая, говорливая, большая искусница гадать на картах и рассказывать разные новости городские и придворные. Неприметно, пользуясь расположением Марии, Леонора прибрала ее к рукам и дошла в обхождении с нею до самой бесцеремонной фамильярности. Собеседничество с принцессою не облагородило Леоноры, не отвлекло и не отучило от ее простонародных замашек и недостатков; напротив, Мария Медичи усвоила от Леоноры многие недостатки, и в числе их верование в приметы, в гаданья, предзнаменования и тому подобные суеверные нелепости. Это влияние служанки на госпожу всего легче можно объяснить сравнением Марии Медичи с какой-нибудь провинциальной барышней былых времен, а Леоноры – с ее горничною, поверенною всех ее задушевных тайн, помощницею, а весьма частенько – и руководительницею в ее более или менее невинных интрижках. Именно таковы были отношения Леоноры Галигаи к Марии Медичи.
В октябре 1587 года стараниями Фердинанда Медичи отец Марии, Франциск, и мачеха ее, Бьянка Капелло, переселились в вечность. Как бы желая загладить братоубийство и вознаградить племянницу за потерю отца, великий герцог Фердинанд окружил ее всеми возможными угодьями, оказывал нежнейшую внимательность и уважение. Внешняя обстановка Марии Медичи действительно изменилась к лучшему, но душевный ее быт оставался по-прежнему скучным, однообразным, апатичным. Любя изящные искусства, молодая, прелестная собою принцесса искала развлечения в занятиях живописью, музыкой, принимая участие в придворных домашних спектаклях, но все эти развлечения не разгоняли скуку, ледяными когтями сжимавшую сердце Марии. Сердце это жаждало любви, но рассудок внятно говорил принцессе, что жажде этой суждено навсегда остаться неутоленною. Что могла говорить ей судьба в ближайшем будущем? Замужество… Но с кем, если не с которым-нибудь из европейских государей? Настолько Мария Медичи была знакома с историей, чтобы знать, как тогда устраивались политические брачные союзы. Родители или старшие родственники в этом случае совещались не с невестою, а с министрами, они не брали труда дать ей на пересмотр портреты державных женихов для выбора, а выбирали их сами по географической карте. Обращали ли они внимание на то, что такому-то герцогу шестьдесят лет, что он некрасив собою, если выдача за него дочери представляла в будущем выгодную политическую комбинацию? Разумеется, нет!.. Мария Медичи могла бы еще утешаться надеждою, что судьба даст ей в мужья человека, одинакового с нею происхождения: принца, герцога, короля – молодого, умного, красивого собою, но подобный подарок судьбы– мечта невероятная.
Исполнилось Марии двадцать лет, но о замужестве еще не было помину; странствующего сказочного принца к тосканскому двору не являлось, и, что всего удивительнее, страстное сердце принцессы поугомонилось, нежные мечты об идеальном красавце рассеялись и уступили свое место мыслям более практическим, основою которым послужило врожденное властолюбие. Сама принцесса по целым часам рассматривала карту Европы и по ней гадала о своем суженом. От Италии, разбитой на части и казавшейся принцессе пестрой мозаикой, глаза Марии переносились на Испанию, Францию, останавливались и на обширной Германской империи, особенно привлекавшей ее внимание. Как бы в ответ на властолюбивые думы своей госпожи Леонора, гадая на картах, постоянно предсказывала ей, что она будет супругою могущественного государя в Европе. Как оно всегда бывает с ворожеями, Леонора, гадая Марии Медичи, не сумела угадать собственной своей судьбы и на первый случай именно замужества.
Искателем руки дочери принцессиной кормилицы в 1593 году явился сын флорентийского нотариуса – молодой, красивый, умный и отлично образованный Кончино Кончини. Самолюбивая Леонора, не подозревая даже, чтобы молодым человеком могли руководить корыстные расчеты, была твердо убеждена, что Кончини пленился ее достоинствами внутренними и наружными. Со своей стороны она влюбилась в жениха с первых двух-трех встреч и поверенною своих чувств избрала, разумеется, принцессу Марию. Восторженные похвалы, которыми Леонора осыпала Кончини, не могли не подстрекнуть любопытства Марии Медичи, вместе с тем ее любовь к Леоноре и участие, принимаемое в судьбе молочной сестры, побудили ее изъявить желание видеть жениха Леоноры. Кончини был представлен принцессе и – без всякой клеветы на ее память – произвел на Марию глубокое впечатление. Она была слишком горда, чтобы чувства свои к молодому человеку назвать любовью; она была слишком расположена к Леоноре, чтобы быть ей соперницей, но так или иначе, а Кончини понравился Марии Медичи. Снисходя к просьбам Леоноры и в то же время повинуясь своей личной симпатии к Кончини, принцесса выпросила у дяди разрешение включить молодого человека в свой штат в должности камер-юнкера. Леоноре она пожаловала значительную сумму на приданое и кроме того весьма ценные свадебные подарки.
В каких отношениях Мария Медичи была с мужем Леоноры до выхода своего за Генриха IV? Вопрос весьма щекотливый… При тогдашней распущенности нравов легче допустить связь материальную, нежели скромную, платоническую любовь: однако же для первой главным и непреодолимым препятствием была, конечно, не ревность Леоноры, но гордость принцессы, которая едва ли могла решиться пожертвовать собою незначительному дворянину. Мы будем всего ближе к правде, если скажем, что Мария Медичи, любя Кончини, лаская его при случае, держалась в пределах благоразумия, отлагая более интимные отношения до более благоприятного времени, именно – до выхода замуж, и приберегая красавца в качестве запасного фаворита. Нет сомнения, что Леонора догадывалась о чувствах Марии Медичи к своему мужу, но, алчная на подарки и милости, она не только смотрела сквозь пальцы на нежные отношения принцессы и Кончини, но еще, пожалуй, эксплуатировала их в собственную пользу. Леонора, надобно заметить, уступая Марии Медичи и мужу своему в воспитании и образовании, была умнее первой и хитрее второго; Кончини всю свою жизнь был покорнейшим слугою своей дрожайшей половины.
Дружественные и родственные связи великого герцога Фердинанда с французскою королевою Катериной Медичи и приязненные его отношения к Генриху, королю наваррскому, сблизили Тоскану с Францией, и это сближение Катерина Медичи давно желала скрепить брачным союзом племянницы своей, Марии, с которым-нибудь из принцев дома Валуа. Волнение Лиги воспрепятствовали Катерине осуществить это желание; так и умерла королева, а Мария все еще оставалась непристроенною, а годы шли, и тосканская принцесса приближалась к тридцатой своей весне… Бесплодно отцвела первая ее молодость. Генрих IV, при восшествии своем на французский престол, нашел в Фердинанде Медичи доброго союзника и помощника. Так, великий герцог исходатайствовал ему у папы римского прощение за отступничество от католицизма, обещал свое содействие и для расторжения брака короля французского с королевой Марго… Сюлли убедил своего короля и друга породниться с тосканским домом, и в октябре 1600 года начались переговоры между обеими державами о выдаче Марии Медичи за Генриха IV.
Как уладилась эта свадьба и как жили супруги, нам уже известно из биографического очерка Генриха IV. Мария не могла быть равнодушною зрительницею волокитств своего супруга, он не мог изменить своего внутреннего характера; вследствие этого между супругами были ежедневные сцены и ссоры, доходившие подчас даже до драки. Леонора Кончини и муж ее, прибывшие во Францию вместе с Марией Медичи, играли в этих домашних комедиях довольно важные роли. Первая, как истая горничная, наушничала королеве на короля, поддерживала между ними раздоры и этим отстраняла всякую возможность примирения. Генрих IV ее терпеть не мог, но никогда не имел духу приказать своей супруге расстаться с Леонорой. Что же касается до Кончино Кончини (занявшего тогда должность действительного любовника Марии), он пошел в гору, сблизился со знатью французского двора, интриговал, мутил и наживался. В последние годы жизни Генриха IV он купил поместье д'Анкр и получил звание маркиза этого имени. Обвинение, будто он участвовал в заговоре, разрешившемся убиением Генриха IV, едва ли было основательно.
27 сентября 1601 года королева Мария Медичи изволила разрешиться от бремени сыном, нареченным Людовиком и объявленным дофином французского престола. К этому времени и титулу прибавили прозвище справедливого (le juste) не потому, что новорожденный при появлении своем на свет выказал эту добродетель, которой в нем и до гробовой доски не обнаруживалось, а просто потому, что он родился в сентябре, когда солнце находится в знаке весов – символа правосудия. Злые языки говорили, будто новорожденный чертами лица и смуглотою кожи напоминает маркиза д'Анкра. Остряк Бассомпьер отпустил при этом непереводимый каламбур:
L'enfant est noir parce qu'il est d'Ancre.[85]
Историческая загадка о законности происхождения Людовика XIII осталась доныне неразрешенною; впрочем, обидные толки о новорожденном едва ли были основательны. Принц Кон-де, впоследствии намеревавшийся отдалить сына Марии Медичи и Генриха IV от престола, называл его незаконным единственно в том смысле, что Генрих IV женился на Марии до расторжения своего брака с королевой Марго; о том же, что Людовик XIII сын маршала д'Анкра, принц никогда не упоминал ни слова.
Наружностью ни в мать, ни в отца, дофин с первых лет детства обнаружил дурные наклонности, ни отцу, ни матери не свойственные. Первым его недостатком было жестокосердие: имея не более четырех лет от роду, Людовик находил особенное наслаждение мучить насекомых, птиц и мелких животных. Играя в дворцовом саду «в охоту», дофин ловил бабочек, чтобы терзать их в куски, пойманных птичек ощипывал своеручно или выламывал им крылья и ножки. Однажды Генрих IV застал милого сынка за подобной забавой: Людовик, положив живого воробушка на камень, другим камнем плющил ему головку. Жалостливый король не пощадил дофина: высек его собственноручно, и эта мера на время приглушила в ребенке его кровожадные наклонности… Но – «гони природу в дверь, она влетит в окно» – исправить Людовика и из злого сделать добрым было невозможно. Что бы ни говорили современные педагоги о могуществе воспитания, но оно никогда не в силах изменять врожденного характера человека. Говорят: «душа новорожденного – чистая книга, на страницах которой пиши что хочешь; это воск, из которого можно вылепить что угодно!» Неправда и неправда. Человек родится добрым или злым точно так же, как родится умным и талантливым или глупым и бездарным. Никакой садовод в мире не вырастил яблок на березе, так точно к злому сердцу никакое воспитание не привьет добрых и честных чувств; оно научит человека только быть скрытнее и лукавее. Людовик XIII родился злым, черствым эгоистом и таковым оставался неизменно всю свою жизнь.
«Ребенок черен потому, что он от Анкра». Апо^ по-французски– якорь, а еnсrе – чернила. На созвучии этих двух слов основан каламбур Бассомпьера.
Роковая катастрофа 14 мая 1610 года застала его восьмилетним ребенком, т. е. в том возрасте, в котором в человеке уже начинают говорить рассудок и сердце. Чем же тот и другой заявили себя в дофине? Мать свою он не любил, отца (судя по равнодушию, с которым принял весть о страшной его смерти) тоже; маршала д'Анкра и жену его ненавидел. Единственным существом, к которому Людовик питал чувство, похожее на любовь, был некто Альберт де Люинь, незначительный дворянин лет тридцати, приставленный к дофину в качестве дядьки благодаря протекции Леоноры Галигаи, перед которой Альберт в числе великого множества знатнейших придворных добровольно лакействовал. Дофину Людовику он особенно умел угождать своими глубокими познаниями в дрессировке собак и выучке соколов и кречетов для охоты. Мальчик до того привык к Альберту, что не мог обойтись без него ни минуты. Королева-родительница тоже весьма благоволила этому дядьке за его умение забавлять державного питомца. Насколько де Люинь был с ним почтителен, настолько маршал д'Анкр и жена его обходились с дофином во все время его несовершеннолетия с оскорбительным неуважением. Маршал подшучивал над ним, дразнил его или, играя с дофином, без церемонии тормошил его, называя простонародными итальянскими ласкательными именами. Леонора весьма часто покрикивала на маленького короля, как на простого мальчишку. Раз, играя в комнате, в которой сидела супруга маршала, Людовик сильно шумел и стучал передвигаемыми им стульями.
– Тише, – крикнула Леонора, – или ступайте играть в другую комнату… У меня без вашего стуку мигрень!
Обиженный мальчик (ему было тогда уже десять лет) побледнел и затрясся от злости.
– Если я вам мешаю, – сказал он, – то можете вы уйти в другую комнату, даже и вовсе из дворца… Париж велик.
Леонора пожаловалась королеве-родительнице, и Мария Медичи порядком пожурила сына за его непочтительность к ее другу. Перед маршалом Людовик не смел разинуть рта, так как просто-напросто боялся итальянца. Единственным поверенным маленького короля был все тот же Альберт де Люинь, пожалованный королевою в звание сокольничего или оберегермейстера (grand fauconnier). Он утешал Людовика надеждою отомстить итальянским пройдохам за все обиды при достижении королем совершеннолетия. В этой мысли Людовик действительно находил отраду и тем нетерпеливее ждал окончания срока регентства.
Впрочем, не забегая вперед в нашем рассказе, возвратимся к первому дню провозглашения Марии Медичи правительницею королевства.
14 мая 1610 года весть об убийстве короля Генриха IV на улице Ферронери, разнесясь по городу, достигла дворца до прибытия туда кареты с трупом государя. Медленно приближалась она к новому Лувру, сопровождаемая герцогами: Рокелор, Мон-базон и д'Эпернон. Толпа рыдающих слуг встретила их на большом подъезде и, вынув из кареты тело убиенного, снесла его в караульную залу нижнего этажа. Сюда прибежала королева, в слезах и с беспорядком в костюме, соответствующим печальным обстоятельствам.
– Убит, умер? – повторяла она, рыдая и ломая руки. – Бедная я!
– Государыня, – возразил ей герцог д'Эпернон, – короли не умирают во Франции: у вас есть сын, а по воле почившего короля вы должны быть правительницею королевства!
Что Мария Медичи должна быть правительницею, это знали и придворные, и она сама, и весь город, но последнему предстоящее регентство было не по сердцу. Маркиз д'Анкр, Леонора и банкир Цзаметти с несколькими итальянцами, ненавистными двору и народу, выдвигаясь теперь на первый план, отстраняли от правительства именитых французских вельмож, имевших на государственные должности несравненно более прав, нежели итальянские искатели приключений. В городе обнаружились признаки беспорядков: толпы горожан бродили по улицам, скучивались на площадях; в иных местах появились и вооруженные; в некоторых кварталах были протянуты цепи, замкнувшие улицы. Отстранить близкое вооруженное столкновение партий следовало решительными энергичными мерами, и они немедленно были приняты. Королевская гвардия и швейцарцы заняли луврскую дворцовую набережную; артиллерия расположилась у мостов, командуя обоими берегами Сены. Герцог д'Эпернон, вооруженный с головы до ног, сопровождаемый маршалом Бассомпьером, Витри, герцогом д'Эльбеф и герцогом Гизом, отправился в градскую ратушу, где объявил собравшимся членам о кончине Генриха IV и о восшествии на престол сына его Людовика XIII под попечительством своей родительницы королевы Марии Медичи.
Эта быстрота распоряжений делала невозможною всякую попытку к восстанию со стороны народа, но защитникам правительницы предстояло еще склонить на ее сторону дворянство, и в числе прочих славного Сюлли, на руках которого были арсенал и Бастилия, две могущественнейшие опоры власти королевской. Друг кальвинистов, любимый и уважаемый принцами крови, Сюлли мог навести пушки Бастилии на Лувр, что, конечно, сделал бы всякий другой на его месте…
Но эта страшная мысль не могла прийти в голову честного друга порядка и закона, и он, сдав правительнице ключи от арсенала и от Бастилии, признал ее во всех правах, ей законом предоставленных. Примеру Сюлли последовали ратуша и народ… Оставался парламент, президентом которого был суровый дю Гарлэ. Голоса членов разделились: одни предлагали созвание государственных чинов для выбора правителей и организации регентства; другие, признавая королеву правительницею, требовали учреждения совещательного совета из принцев крови и пэров королевства. Оба эти мнения противоречили видам герцога д'Эпернона, отстаивавшего единовластие, и здесь он выпутался из затруднения благодаря поддержке военной силы. Окружив парламент войсками, герцог, вооруженный, вошел в залу собрания. Президент предложил ему сесть на его обычное место, но герцог, уклоняясь от предложения, громогласно сказал:
– Парламенту следует решить великий государственный вопрос сию же минуту. Если он не признает королеву правительницею, мне придется обнажить шпагу. Благо отечества требует ответа безотлагательного… Такова воля короля, и долг наш, повинуясь ей, принудить к повиновению непокорных!
Выйдя из парламента, герцог принял начальство над собранными войсками. Этот образ действий лучше всяких переговоров решил дело в пользу Марии Медичи: парламент единогласно признал ее правительницею, а малолетнего дофина Людовика – королем Франции и Наварры. Сравнивая это государственное дело с фактом частным, мы, конечно, увидим в герцоге д'Эперноне того же рыцаря промышленности, который, приставив нож к горлу богача, вымогает у него добровольную отдачу денег, даже всего состояния, но в том-то и дело, что всякое преступление на свете с переменою размеров переменяет имя и называется тогда не преступлением, но подвигом. Возьмем ужаснейшее из преступлений – убийство. Разбойник, желая ограбить человека, убивает его, – это убийца и грабитель, достойный казни или другого законного наказания. Какой-нибудь владетель Нукагивы, желая отнять у владетеля Мадагаскара его владения, идет на него войной, истребляет десятки тысяч людей и именуется героем и завоевателем… Такой оборот дела называется геройским подвигом, за который завоевателя венчают лаврами и сам он возносит благодарения Всевышнему. Как же при виде подобных безобразий не прийти к убеждению, что злодейства и преступления в глазах людей тем извинительнее, чем они колоссальнее!
На другой день, 15 мая 1610 года, девятилетний[86] Людовик XIII, в королевской мантии и короне, вместе с Марией Медичи, одетой в глубокий траур, прибыл в парламент, куда съехались знатнейшее духовенство, первые чины двора, принцы крови и маршалы. Заседание открылось речью королевы, прерываемой рыданиями.
– Богу угодно было, – говорила она, – путем плачевного события призвать к себе доброго нашего короля, моего властелина. Привожу к вам короля, сына моего, и прошу вас иметь о нем те попечения, которые возлагают на вас уважение к памяти короля усопшего, к себе самим и к отечеству. Я желаю, чтобы в государственных делах он следовал вашим добрым внушениям и советам; прошу вас не оставлять его ни теми, ни другими, по доброй совести и ко благу общему.[87]
По окончании этой речи маленький король, встав с места, твердо и без запинки проговорил следующий заученный на память монолог:
– Господа, так как Бог призвал к себе покойного короля, моего властелина и отца, я, по советам и внушениям королевы, моей родительницы, явился сюда, чтобы объявить всем вам, что в управлении делами государственными я желаю следовать добрым вашим советам, в уповании, что Бог по благости своей позволит мне последовать примерам и наставлениям покойного моего родителя.
Президент дю Гарлэ отвечал приличной речью, и заседание окончилось с подобающей торжественностью. Указом парламента регентство самодержавное и безотчетное было установлено в особе королевы Марии Медичи впредь до совершеннолетия его величества короля, по государственным законам Франции наступающего с тринадцатилетнего возраста.
В первый же год своего регентства Мария Медичи выказала в распоряжениях своих благородную умеренность и терпимость в отношении к кальвинистам. Она сблизилась с герцогом Сюлли и, представляя ему сына, сказала последнему:
– Сын мой, любите господина Сюлли. Он был лучшим и вернейшим слугою вашего отца, и для вас я прошу его быть тем же!
В этот же день она подтвердила во всех его статьях Нант-ский эдикт, предоставлявший протестантам полную свободу вероисповедания и гражданские права. Эта уступка делала невозможною всякую попытку к религиозным смутам, водворяя между католиками и гугенотами доброе согласие, хотя и наружно. Уступкою дворянству со стороны правительницы было учреждение правительственного совета, составленного по указаниям государственного секретаря Вилльруа. Членами его были представители партий, на которые распадался тогда французский двор. Принц Конде и граф де Суассон – кальвинисты; герцоги Гиз и Майенн – католики; коннетабль Монморанси и герцог Невер – представители партии умеренных; таков был состав государственного совета явного; тайными же советниками правительницы (не по титулам, а на деле) были герцоги д'Эпернон, Невер, Вилльруа, отец Коттон, духовник Генриха IV, и маркиз д'Анкр с супругою.
В делах внешней политики Мария выказывала особенное расположение к мадридскому кабинету. Подобные отношения, диаметрально противоположные идеям Генриха IV, не только отстраняли всякое вооруженное столкновение между Францией и Испанией, но возбудили в короле Филиппе III желание вступить с французским королевским домом в родственный союз. Согласно этому желанию поступал испанский посол, герцог Фериа. Он уведомил кастильский государственный совет[88] о тайном договоре, который ему удалось заключить с правительницею. В силу такового обе державы обоюдно обязывались «в случае опасности, угрожающей которой-нибудь из них, доставить союзнице вспоможение из шести тысяч пехоты и тысячи двухсот человек кавалерии». Родственный союз с Испанией Мария Медичи желала заключить бракосочетанием короля с инфантою Анною, а сестры его Изабеллы – с инфантом и наследником престола доном Филиппом. Эта мысль, впрочем, принадлежала покойному королю Генриху IV. Владетель королевства, отделявшего Испанию от Франции, он и в отдаленном будущем надеялся слить обе державы воедино, сперва под венцом брачным, а потом и королевским. К сожалению, вместе с осуществлением своих замыслов на Испанию королеве пришлось сделать уступку королю испанскому, опасную для ее власти: в угоду Филиппу III и по настояниям чрезвычайного испанского посла дона Иниго де Карденьяс Мария Медичи стала отдалять от административной сферы гугенотов и протестантов. Дружбою с испанским двором правительница приобретала врагов внутренних, пробуждая умолкнувшую религиозную распрю. Первым явился Сюлли. Продав все свои должности, он удалился в свой фамильный замок де Рони, откуда надеялся руководить партией гугенотов, готовившейся при первом удобном случае снова начать междоусобную войну. Вся кальвинистская Франция была разделена на пятнадцать областей. По Нантскому эдикту кальвинистам было предоставлено право в случае надобности отстаивать свои привилегии силою оружия. Сведав о созвании депутатов в Арнэ-ле-Дюк, Мария Медичи в грамоте от 16 февраля 1611 года уверила их в своем неизменном благоволении и выразила надежду, что цель собрания несомненно благо отечества и польза короля.
В Арнэ-ле-Дюк съехались в числе семидесяти человек все коноводы кальвинистской партии: ла Тремуйлль, Буйон, Роган, Субиз, ла Форс, Шатийон и Дюплесси-Марнэ, прозванный папою гугенотов. Опасаясь бури, правительница писала к Сюлли, смиренно прося употребить все его влияние на кальвинистов к возможному дружелюбному соглашению; но тут и могучий Сюлли оказался бессильным. Вопросы, поднятые на сомюрском съезде кальвинистов, касались ни более ни менее, как перемены регентства, расширения прав кальвинистов в ущерб католикам, даже отмены в кальвинистских городах католических религиозных процессий. Дюплесси-Марнэ напечатал и издал жестокий памфлет под заглавием «Таинства кривды» (Mysteres d'iniquite), в котором уподоблял папство зверю апокалипсическому. Избегая всяких крутых мер, чтобы пуще не раздражать недовольных, правительница послала во все области нарочных комиссаров для удовлетворения жалоб кальвинистов. Она разрешила им не принимать участия в католических празднествах; дозволила иметь особые кладбища, школы, целые академии; увеличила содержание пасторам на 135000 ливров, обещала на казенный счет укрепить стены и цитадели кальвинистических городов, снабдив их артиллерийскими орудиями… Далее этого уступки правительства, кажется, не могли простираться: оно само давало на себя оружие своим врагам! Но, снисходя таким образом к кальвинистам, Мария Медичи вместе с тем надеялась, что и они удовольствуются, не будут более волновать Францию своими демонстрациями и наконец угомонятся. В то же время коварная итальянка усерднее прежнего поддерживала тайные сношения с Испанией. Верному своему приспешнику маркизу д'Анкру она пожаловала жезл маршала и сделала его губернатором Нормандии. «Этот человек, – говорит Вольтер, – был во главе правительства той страны, которой не знал законов, а в маршалы попал, не обнажив шпаги». Самою жестокою ошибкою Марии Медичи было ее неумение найти себе поддержку во французах; трудно править государством с опорою на иноземцев. Как ни сохранялись в тайне сношения правительницы с Испанией, о них узнали умиротворенные Мариею кальвинисты. Не оставаясь перед нею в долгу, они заключили союз с Голландскими соединенными штатами. По примеру последних кальвинисты намеревались образовать во Франции свою республику, избрав в ее штатгальтеры принца Конде. Для ускорения союза своего с Испанией правительница отправила в Мадрид в качестве чрезвычайного посла герцога Майенна, а Филипп II со своей стороны в Париж – герцога Пастренью. Брачный договор короля Людовика XIII с инфантою доною Анною и принцессы Изабеллы с инфантом доном Филиппом был подписан 29 августа 1612 года. Празднование обеих помолвок в Париже и в Мадриде сопровождалось народными торжествами, каруселями, иллюминациями, фейерверками. Упрочение союза с Испанией дало возможность Марии Медичи на время отложить дела внешней и внутренней политики, чтобы заняться украшением столицы новыми зданиями и водворением в ней чистоты и порядка. Кварталы, прилегающие к Бастилии от арсенала до острова Св. Людовика, правительница застроила палаццами в чистом тосканском стиле; проложила набережные по обрывистым берегам Сены; приступила к построению нового дворца на месте древних теремов Юлиана-отступника. Приучая своих подданных к изяществу, правительница, соединяя приятное с полезным, сделала важные преобразования в одежде и вооружении войск, заменив тяжелые доспехи пехоты и кавалерии сукном, бархатом и кожаными нагрудниками. Эти преобразования внешние имели огромное влияние на внутреннюю организацию войск пеших и конных, а с нею вместе и на систему ведения войны как оборонительной, так и наступательной; фехтовальное искусство, артиллерийское дело, тактика и стратегия с этого времени быстрыми шагами двинулись к совершенству. Артистка в душе, Мария Медичи, страстно любившая все изящные художества, щедро награждала живописцев, скульпторов, музыкантов и артистов сценических; изгоняя с театральных подмостков грубые фарсы и арлекинады, она заботилась о замене их пьесами исторического содержания, как особенно влияющих на народные нравы… Не знаем, кому из двух дружба делает более чести, но не можем не упомянуть, что Мария Медичи была дружна с знаменитым Питером Паулем Рубенсом, которому Бог привел отплатить державной покровительнице приютом и куском хлеба во время ее вторичного изгнания из Франции милым ее сынком Людовиком XIII.
Несчастный союз с Испанией, вооруживший против правительницы подданных ее кальвинистов, навлек на нее новую бурю со стороны принцев крови и знатнейших вельмож католической партии. Буря эта началась мелким дождем памфлетов и пасквилей, направленных на маршала д'Анкра и его супругу. Одно из злейших произведений этой подпольной литературы под заглавием «Щупальщик» (le Tasteur) оканчивалось прямой угрозою: «Кончини, берегись! Не попади на Монфокон в бессменные часовые…» Надобно заметить, что на городской живодерне Монфокона находились виселицы, воздвигнутые для казни государственных преступников еще королем Людовиком XI.
Заклятым врагом королевы явился принц Конде, постоянно осуждавший ее правительство и явно грозивший ей низвержением не только ее самой, но и Людовика XIII. С помощью Голландии, Женевы и германских мелкопоместных владетелей Конде намеревался объявить брак Марии Медичи с покойным Генрихом IV недействительным, а сына ее незаконным. Для пущей свободы действия принц со своими сообщниками удалился от двора вследствие ссоры с королевою-правительницею. Незадолго перед тем он вызвал на поединок принца де Марсийя-ка; узнав об этом, Мария Медичи запретила последнему драться с принцем Конде, и за это его слуги избили Марсийяка. Правительница поручила парламенту исследовать это дело, и принц Конде был призван в суд.
– Не могу поверить, – сказала ему королева, – чтобы вы могли дать вашим людям такое позорное поручение.
– Сударыня, – заносчиво отвечал Конде, – при покойном вашем супруге с принцами обходились почтительнее.
– Правда ваша, кузен, но при нем и принцы крови не делали того, что ныне делают.
– Я поступил с виноватым, как он того заслуживает. Его побили при короле.
– Подтверждая это, вы только доказываете свое бесстыдство.
– Как, сударыня? Вы называете принца крови бесстыдником!..
И Конде, выйдя из залы, в тот же день уехал из Парижа; за ним последовали Лонгвилль, Вандом, Латур д'Оверн, Буйон и многие другие, объявив, что они намерены с оружием в руках отстаивать общественное благо. Скрепя сердце правительница вступила с крамольниками в переговоры при содействии президента Жаннена, де Ту и кардинала Дюперрона. По договору, заключенному с недовольными в Сен-Менегу, правительница обязывалась «на 15 число августа 1614 года созвать государственную думу (генеральные штаты); отдать кальвинистам несколько укрепленных городов, а замок Амбуаз принцу Конде; именем короля не только объявить принцам полное прощение, но и уплатить им 450000 ливров в вознаграждение за понесенные ими убытки при приготовлениях к восстанию…». Унизительнее этого договора едва ли что можно было придумать для правительницы, но она его подписала. Это постыдное малодушие навлекло на Марию Медичи живейшее негодование со стороны короля испанского. Посланник от его имени выразил ей сомнение насчет хранения союза между обеими державами. К пущему затруднению бедной правительницы государственный совет решил по случаю недоразумений о наследстве герцогства Мантуанского отправить в Италию обсервационный корпус под начальством герцога Ледигьера, отчаянного гугенота, а другой корпус во Фландрию, под начальством принца Конде. Ввиду этих обстоятельств, враждебных ее планам, Мария Медичи совершенно потеряла голову. На расспросы дона Иниго де Карденьяс она отвечала: «Не говорите мне, пожалуйста, об этих делах!» – а государственный секретарь Вилльруа присоединил при этом: «Крайне сожалею, но, кажется, самому небу не угодно, чтобы состоялся сродственный союз между обеими державами».
Словом сказать, монархическая власть во Франции готовилась уступить свое место олигархии и именно в это время оканчивался срок регентства и наступало для Людовика XIII желанное совершеннолетие. Как же готовился король к воспринятию самодержавия? Сказать по правде – почти никак. Несмотря на свои тринадцать лет, он оставался довольно ограниченным мальчиком, хотя нравом сделался как-то злее прежнего. Беседы его с Альбертом де Люинем касались исключительно до предметов охоты с ружьем и соколиной… Иногда обер-егермейстер наводил речь на супругов д'Анкр, и тогда король зеленея дрожал от злости и пускался в обещания им лютейших наказаний, если только Бог приведет Людовику дожить до счастливого дня, когда он будет избавлен от материнской опеки. К прежним талантам короля прибавилось, впрочем, два новых: он начал выказывать склонность к музыке и удивлял де Люиня искусством своим приготовлять бураки, шутихи и прочие пиротехнические игрушки.
На 28 сентября 1614 года возвещено было чрезвычайное собрание парламента по случаю вступления короля в совершеннолетие. Первым указом, подписанным им в этот великолепный день, он подтвердил Нантский эдикт; воспретил под опасением строжайшего взыскания всякие сборища и сходки. За поединок, богохульство и оскорбление величества высочайше повелено было подвергать виновных смертной казни. На этом заседании присутствовал цвет французской аристократии, и дебют короля-мальчика в роли совершеннолетнего мог назваться вполне удачным. Королева-родительница объявила, что сдает все дела, возлагая надежду на верность присяги членов парламента и на великие дарования своего державного сына. Людовик XIII, встав со своего места, просил свою родительницу также не оставлять его добрыми советами. Генеральный адвокат дю Гарлэ в льстивой благодарственной речи, обращенной к Марии Медичи, уподоблял ее королеве Бланке, родительнице Людовика Святого.
Вскоре во исполнение договора в Сен-Менегу назначено было собрание государственной думы. Еще с июня месяца из всех провинций Франции начали съезжаться в Париж депутаты и выборные. По старинному обычаю представители народа были разделены на кастовые группы: дворянства, духовенства и среднего сословия. Представитель духовенства архиепископ Лондонский благодарил короля за благоразумие, выказанное им в первые годы его царствования. Почтенный прилат не позабыл при этом и польстить королеве-родительнице. Дворянство сравнивало ее с царицею Амаласонтою; среднее сословие – с королевою Бланкою. Затем приступили к заявлениям претензий, и оказалось, что все три сословия требовали обнародования во Франции постановления Тридентского собора, столь ненавистных кальвинистам, которые именно ожидали от государственной думы разрешения всех административных недоразумений в свою пользу! Длинные речи депутатов всех сословий можно было резюмировать в следующих немногих словах: королева-правительница – сама мудрость в образе женщины, юный король Людовик XIII – Соломон, Август, Тит, Карл Великий; народ блаженствовал под их мудрым правлением, иного не желает, и если они ко всем своим подвигам присоединят еще один – будут твердо и мужественно отстаивать интересы папской власти, т. е. католицизма, тогда вся Франция будет могущественнейшим государством в мире!
В числе многих сотен, присутствовавших на заседании государственной думы, на скамье, предназначенной для депутатов от духовенства, сидел среднего роста мужчина лет тридцати, худощавый, с орлиным носом и таковым же взглядом, тонко закрученными усами и небольшой остроконечной бородкой. После долгих утомительно скучных речей депутатов, речей, вздутых риторикой и начиненных грубой лестью, этот депутат попросил слова и мягким, вкрадчивым голосом заявил, во-первых, свое удивление на малочисленность депутатов от духовенства. «Не могу допустить, – прибавил он, – чтобы правительство чуждалось соучастия нашего в государственных делах, так как совет лица духовного весьма часто может быть не менее полезен, как и воина или правоведа. Предки наши, галлы, не только чуждались своих друидов, но не предпринимали ничего важного без совещания с ними. Принося дань удивления и благодарности мудрой королеве-правительнице, – заключил оратор, преклоняясь перед Марией Медичи, – я скажу, что она столько же мать короля, сколько мать всего королевства, и вполне достойна этого имени!»
Речь молодого прелата произвела весьма приятное впечатление на всех присутствовавших. По всему собранию из уст в уста разнеслось его имя… Оратора звали Арман Жан дю Плесси Ришелье, и тогда, на тридцатом году от рождения, он уже был епископом Люсонским. Королева и ее министр маршал д'Анкр инстинктивно ожидали в этом человеке силу, ту могучую силу, которая в состоянии поддержать не только регентство, но и самый трон, если в том будет надобность…
И Ришелье был включен в число членов государственного совета. Положение Марии Медичи и короля в это самое время было отчаянное; обе партии, кальвинистов и принцев крови, окружили теперь престол, будто огненным кольцом, совершенно изолируя его от сближения с испанским королевским домом. Маршал д'Анкр предложил королеве-правительнице употребить военную силу и, взяв с собою сына и дочь, ехал на границу Испании в Бидассоа сквозь полчища гугенотов и мятежников. Испанский посланник взятками и угодливостью Леоноре Галигаи упросил последнюю употребить все зависящие от нее средства, чтобы уговорить Марию Медичи безотлагательно ехать в Бидассоа.
«На днях (писал посланник своему государю) флорентинка, жеманясь и ребячась, выпросила у меня несколько драгоценных каменьев для убора. Я не только не отказал ей, но к каменьям присоединил еще золотой ларчик в 500 экю. Эта внимательность ее глубоко тронула, и с той поры меня и моего секретаря она принимает как нельзя дружелюбнее!»
Решаясь на поездку в Испанию, Мария Медичи в последний раз отважилась на попытку примирения с беспокойным и вздорным Конде… Напрасно! Принц, которому роль главы партии недовольных пришлась особенно по вкусу, продолжал дуться на королеву и осыпать памфлетами ее, короля и маршала. Ему во что бы то ни стало хотелось расстроить предположенную свадьбу короля с испанской инфантой. Не знаю, чему из двух более удивляться: злобе принца Конде или его глупости, так как для унижения королевы и вооружения против нее народа он распускал слух, будто Генрих IV был убит Равальяком по наущению Марии Медичи, герцога д'Эпернона и маршала д'Анкра. Невзирая на все происки интригана, двор выехал из Парижа 15 августа 1615 года с огромной свитою телохранителей и конных. Мария Медичи и Людовик XIII водою по реке Дордони благополучно добрались до Бордо. Охранение Парижа было доверено маршалу Буадофен; сам маршал д'Анкр занимал Нормандию, не допуская проникнуть в нее герцогу Лонгвиллю. Эта энергичная защита монархической власти против покушения олигархов навлекла с их стороны крайнее бешенство на маршала, и гибель последнего была неизбежна.
Ришелье, приближенный к королеве-правительнице, окинув своим проницательным взором лагерь враждебной партии и приняв в соображение ход явных и тайных интриг, указал Марии Медичи и маршалу на трех врагов, едва ли не опаснейших, нежели весь табун клеветников и памфлетистов, предводимый принцем Конде. Врагами этими, по мнению Ришелье, были братья де Люинь: Альберт, Брант и Кадене.
– Эти ничтожные людишки? – смеялась королева.
– Де Люинь, который обязан мне всем? – возражал маршал.
Последний, щадя гадину, которая вскоре смертельно уязвила его, точно повиновался какому-то таинственному предопределению. Де Люинь, тайное оружие мятежников, успешно интриговал при короле в их пользу. Королева, маршал и Ришелье довели до сведения Людовика XIII о намерении принца Конде объявить его незаконным; они подтверждали свой донос несомненными доказательствами… Король готовился сделать распоряжение об аресте клеветника-принца, но в тот же вечер де Люинь убедил его, что на Конде возводят небылицы единственно с тем, чтобы долее и долее протягивать время регентства.
– Родительница ваша руководит вами, – сказал при этом негодяй, – а ею руководят итальянцы; все же они думают только о личных своих выгодах. Государь, пришло время быть самодержавным! Долго ли еще вы будете терпеть близ себя флорентинку Галигаи, околдовавшую вашу родительницу!
Мария Медичи по мере озлобления принцев делалась уступчивее и снисходительнее. Она поручила Ришелье вести с ними переговоры в Лудене, но требования Конде были до того дерзкими и нелепыми, что уступить им не было никакой возможности. Пришлось решиться на то, что следовало сделать, по крайней мере, пять лет тому назад, – арестовать Конде. Это щекотливое поручение было возложено на де Темина, капитана мушкатеров, выполнившего его как нельзя лучше. Конде был посажен в Вен-сенский замок. Мария Медичи могла бы предать его суду, как завзятого мятежника, но, не желая карать за минувшее, она ограничилась лишением принца возможности вредить правительству в будущем. Затронув вепря, раздразнили все стадо. Челядь Конде разграбила дом маршала; достойная матушка принца Конде имела намерение силою принудить королеву освободить милого сыночка…
Преобразование государственного совета, составленного из людей даровитых и единомыслящих, спасло власть королевскую. Председателем был маршал д'Анкр, министром иностранных дел – Ришелье: министром финансов – флорентинец Бар-берини; хранитель государственной печати – Манжо. Все эти люди были одушевлены мыслью – задушить гидру олигархии, пришибленную Людовиком XI, но очнувшуюся со времен царствования Карла IX. Ришелье, дальновиднейший и умнейший из всех членов государственного совета, лучше их всех понимал, что подобное великое предприятие под силу только ему одному, но что для выполнения его еще не пришло время. Мария Медичи, отважная на словах, была робка на деле; тратила время на переговоры и соглашения там, где надобно было действовать силою. Увидя, что Ришелье был прав, предостерегая ее от Альберта де Люиня, королева-правительница вместо удаления его от Людовика XIII сама сблизилась с ним, обещая щедроты и милости, т. е. обещая то, что он сам готовился взять в ближайшем будущем. Маршал д'Анкр, желая снискать расположение короля, отправился в Нормандию для набора отрядов телохранителей, из которых в стенах Лувра намеревался образовать особый гарнизон. Вот подлинное письмо маршала, по которому можно судить о характере этого несчастного счастливца:
«Государь, я сдержал свое слово. Я могу служить интересам вашего величества, выставив шесть тысяч пешего и восемь сот конного войска. Я поведу их, куда будет угодно приказать вашему величеству. Ожидаю, чтобы вы указали мне место, где мне находиться и служить вам. Заранее соглашаюсь на все условия, лишь бы Франция признала меня верным слугою вашего величества».
Эта поездка ради пользы всего дела только пуще его усложнила, чтобы не сказать, испортила. Мария Медичи, Ришелье и даже Леонора Галигаи ухаживали за Альбертом де Люинем, привлекая его на их сторону. Альберт ненавидел маршала, и в угоду ему недавние его единомышленники (даже жена!) оказывали ему обидное пренебрежение. Обе стороны хлопотали об утверждении королевской власти в руках короля Людовика XIII.
– Души и не щади олигархов, – говорила ему Мария Медичи, – они главная помеха самодержавию!
– Избавьтесь от опеки вашей матери, – говорил де Лю-инь, – изгоните итальянцев, и только тогда вы будете самодержавным королем!
Людовик XIII, видимо, склонился на последнее. На тайных своих совещаниях с де Люинем он только затруднялся в выборе средств к избавлению себя от маршала д'Анкра: арест, отдача под суд и казнь или тайное убийство? Де Люинь советовал последнее, да и собственное сердце короля подсказывало ему, что это средство – вернее. За выбором исполнителя королевской воли остановки быть не могло – подобного рода поручения исполняются всегда с удовольствием и охотников являются десятки. Выбор де Люиня пал на гвардейского капитана Витри де Опиталя; наградою за убийство маршала д'Анкра капитану был обещан маршальский жезл… Цена хорошая! Витри, подозревая, не личная ли ненависть руководит Альбертом де Люинем, потребовал у него письменного королевского повеления; Альберт подал ему и это, и патент на звание маршала в случае успеха. Тогда капитан не мог прийти в себя от недоумения… Он знал маршала д'Анкра за усерднейшего слугу короля и за заклятого врага мятежных олигархов. И этого самого человека король приказал убить, как бешеную собаку?
Впрочем, особенно долго не задумываясь над разрешением этого странного вопроса, Витри сообщил о данном ему поручении под строжайшим секретом своим родственникам Дюайле, Неркану и Бюрнонвиллю. Убить маршала положено было в стенах Лувра. Этот разговор короля против своего подданного был замышлен в половине апреля 1617 года и дней через десять был приведен в исполнение.
Утром 24-го числа маршал д'Анкр вышел из своего дворца в предместии Сен-Жермен и отправился в Лувр. Новый мост тогда еще строился, и маршал пошел к перевозу у Нельской башни. За ним следовал отряд телохранителей из двадцати четырех человек. Переехав через Сену на барке, маршал вошел в новые ворота луврского дворца. На лестницу вел коридор, замыкавшийся дверьми на обоих концах; в этом коридоре находилась еще дверь, которая вела в караульную швейцарцев, и тут-то притаился капитан Витри со своими тремя сообщниками. За поясом у наемного убийцы был приказ об аресте маршала, а за пазухой патент на наследование его звания. Д'Анкр шел впереди, телохранители поодаль за ним… Пропустив его в коридор, Витри захлопнул дверь перед его спутниками и заложил его засовом; потом, схватив маршала за правую руку, капитан крикнул:
– Именем короля я вас арестую…
– Друзья! Ко мне… – начал было маршал, но в эту минуту Витри пистолетным выстрелом в упор размозжил ему череп. За этим выстрелом последовали еще три, в сердце и в живот. Бывший тут алебардист проколол ему левый бок, но маршал был уже мертв.
Застрелив д'Анкра, Витри воскликнул: «Да здравствует король!» – и ему отвечал конный отряд, выстроившийся во дворе Лувра. Тело убиенного лежало на плитах коридора, а Людовик XIII между тем принимал поздравления своих приближенных с освобождением от ненавистного попечителя. Сохранилось предание, что при первом известии об убиении маршала д'Анкра король бросился на шею к Альберту де Люиню, говоря ему:
– Благодарю тебя! Вот первый день настоящего моего владычества.
Так понимал слабоумный сын Генриха IV власть королевскую. Ему удалось убить человека из-за угла, и это злодейство он считал подвигом и первым дебютом своего владычества. Жалкий идиот!
Весть об убиении маршала произвела на его недавних сообщников: на Марию Медичи, на его жену и на Ришелье – самое слабое впечатление. Королева сначала прослезилась, сказав, что после семилетнего царствования ей приходится снизойти с престола и чуть ли не запереться в монастыре; потом она одобрила мероприятие короля: если он приказал убить маршала, стало быть, так и следовало. Кто-то из присутствовавших попросил ее сообщить Леоноре об убийстве ее мужа.
– Боитесь сказать ей, – крикнула королева с досадою, – так спойте! Покорнейше прошу об этих людях больше мне не говорить… Я… я с давних пор советовала им убираться в Италию!
Супруга маршала не проронила о нем ни слезинки. «Я всегда говорила ему, что его непомерная гордость не доведет до добра!» – вот что сказала она при вести об убийстве мужа.
Затем она поспешила зашить в свой матрац наличные деньги, брильянты и драгоценности и, растянувшись на нем, ожидала своей участи, по всей вероятности, незавидной.
Ришелье, внутренне, может быть, жалея смельчака, которому был обязан своим возвышением, отправился к Альберту де Люиню и рассыпался в похвалах его высоким дарованиям и умению избавить короля от докучливого руководителя.
Карманы убитого маршала были обысканы, и в них найдено было до двух миллионов ливров векселями на иностранные банки. Эта добыча по праву победителя досталась его величеству королю Людовику XIII. Им же немедленно выдано было приказание об аресте вдовы маршала и конфискации всего их имущества. Исполнителем монаршей воли был все тот же герой де Люинь, перед которым трепетал теперь весь двор, или, правильнее сказать, королевская дворня. Обнаженный труп недавнего временщика, наскоро похороненный на бедном приходском кладбище, был вырыт из могилы яростной чернью и истерзан на куски… Отряд гвардейцев отправился во дворец маршала за его вдовою.
Посланные нашли Леонору Галигаи в постели, будто бы сраженную тоскою по убиенном муже, а на самом деле для охранения зашитых в матрац драгоценностей. На приглашение капитана мушкетеров встать и следовать за ним в Бастилию вдова маршала сначала отвечала грубым отказом, потом мольбами, наконец, бранью и угрозами. Ее принуждены были схватить силою, и эта женщина, еще вчера обладавшая миллионами, женщина, перед которой еще так недавно преклонялся весь двор, теперь полунагая, нищая была повлечена в Бастилию и ввергнута в секретный каземат. Сюда одна из ее горничных прислала ей две сорочки, а сын – горсть мелкой монеты.
Вечером этого рокового дня Мария Медичи отправилась к сыну во дворец и приказала одному из камергеров доложить о себе королю. Людовик XIII отвечал посланному:
– Теперь я очень занят; в другой раз… Скажите моей матушке, что я как добрый сын буду уважать ее; но я король и отныне хочу управлять государством. Скажите еще королеве, что я не желаю, чтобы у нее были другие стражи, кроме моих телохранителей. Прошу вас объяснить ей теперь же мои намерения!
Охранение королевы было доверено мушкетерам под начальством Витри. Ему она сказала, что ей необходимо видеть короля, но и на это тот отвечал через другое лицо:
– Не угодно ли матушке оставить меня в покое и впредь не вмешиваться в государственные дела?
Королева, смиренно поникнув головой, удалилась. Следствием опалы, постигшей Марию Медичи, была, разумеется, перемена министерства. Манжо и Барберини были взяты под стражу; Ришелье, подав в отставку, выразил желание не оставлять королевы. Последняя, находясь под стражею в своих луврских апартаментах, испытывала со стороны своего тюремщика Витри тягчайшие обиды и унижения. Убийца, исполняя с усердием роль сыщика, являлся в комнату королевы ежеминутно, рылся в ее бумагах, шарил по шкафам, даже перерывал постель и лазил под кровать. Все эти наглости оказывались королеве маршалом Витри по приказанию Людовика XIII с той целью, чтобы принудить Марию Медичи удалиться от двора. Угадывая желание сына, королева вошла по этому поводу в переписку с де Люинем. Сначала она выразила намерение удалиться в Монсо, близ Руля. «Близко к Парижу!» – отвечал временщик и предложил ей ехать в ее удельный город Мулен; но там не было ни дворца, ни парка. Вместо Мулена она выбрала Блуа – замок, ознаменованный частыми посещениями семейства Валуа во все продолжение XVI столетия.[89] Когда все приготовления к отъезду были окончены, де Люинь, хотя ему этого весьма не хотелось, не мог воспрепятствовать прощальному свиданию матери с сыном. Временщик сумел, однако же, настроить короля на тот лад, как ему было угодно. Свидание это, кроме того, происходило в присутствии всего двора. 2 мая Мария Медичи явилась в Лувр, где была встречена с должными почестями. Лица многочисленных присутствовавших были угрюмы; кроме короля, все чувствовали себя как-то неловко, всем, кроме короля и де Люиня, было как-то совестно. Мария Медичи, умея владеть собой, говорила довольно спокойно и не выходила из границ строгого приличия.
– Не знаю, – сказала она между прочим, – угодны или нет действия мои его величеству моему сыну; если они ему не угодны, тогда мне они ненавистны, но придет день, когда он убедится, что деяния мои были не бесполезны. Что же касается до бедняжки Кончини (il poveretto), я жалею о душе его и о способе, которым предложили королю от него избавиться. Относительно дел государственных я скажу, что давно уже просила государя меня от них уволить!
Увидя де Бриенна, нового государственного секретаря, она обратилась к нему:
– Надеюсь, Бриенн, что вы будете доставлять мне непосредственно все письма, которые государь, сын мой, будет мне писать в ответ на мои. Надеюсь, вы не позабудете, что я королева и мать вашего государя.
Бриенн молча поклонился. В эту минуту возвестили о выходе короля. Людовик XIII вышел рука об руку с Альбертом де Люинем. Увидя сына, Мария Медичи не могла удержаться от слез и закрыла лицо платком. Взяв короля за руку, она привлекла его к амбразуре окна.
– Сударыня, – сказал король, обменявшись с де Люинем выразительными взглядами, – я пришел сюда проститься с вами и уверить вас, что буду о вас заботиться, как должно заботиться о матери. Я желал избавить вас от труда участвовать в моих делах. Таково решение мое, чтобы, кроме меня не было иных властителей в моем королевстве. По прибытии в Блуа вы еще получите от меня известия. Прощайте, сударыня.
Мария Медичи, низко приседая, отвечала ему:
– Досадую, государь, если во время моего регентства я не управляла государством так, как вам было приятнее. Тем не менее я прилагала всевозможные труды и старания и прошу вас считать меня всегда вашей покорной и послушной служанкой. Куда же ехать мне, в Мулен или в Блуа?
– Куда вам угодно.
– Еду; но перед отъездом смею ли просить о милости, в которой, надеюсь, мне не откажете? Возвратите мне моего интенданта Барберини.
Король не отвечал ни слова. Освободить Барберини и возвратить его Марии Медичи значило бы дать возможность итальянской партии усилиться. Королева с глубоким поклоном пошла к дверям.
– Де Люинь, – сказала она временщику, – сделайте мне одолжение, отпустите Барберини со мною.
Вместо ответа де Люинь молча поцеловал край платья королевы. Видя, что надеяться больше не на что, Мария Медичи быстро сошла по лестнице Лувра во двор, где ожидали ее кареты. Свита ее была многочисленна: статс-дамы и фрейлины числом свыше двадцати разместились в трех больших каретах. Поезд тронулся по набережной Сены; на Новом мосту королева увидела глыбу флорентийского мрамора (подарок Лаврентия Медичи) для статуи Генриха IV. Она могла полюбоваться новой площадью Дофина, расположенной по ее плану, зданиями и садами Люксембурга – ее любимого дворца. Наконец Мария Медичи выехала на Орлеанскую дорогу через Адскую заставу, надеясь, что счастье еще повернется в ее сторону и она будет вызвана из изгнания.[90]
Оставим на время королеву, едущую в Блуа, и возвратимся к Леоноре Галигаи.
Первые дни своего заточения в Бастилии вдова маршала провела в том состоянии оглушения и отупения, в котором человек самому себе не может дать отчета, бодрствует он или грезит. Забившись в угол своего каземата, Леонора без слез, без жалоб сидела по целым часам, недвижно уставив глаза на дверь, в томительном ожидании, что она отворится и ее выведут на свободу, исходатайствованную ей Мариею Медичи. Мысль, что державная ее подруга сама находится в изгнании и, что еще хуже – не вымолвила ни слова королю в защиту Леоноры Галигаи, не приходила последней в голову. Перебирая в памяти все свои минувшие деяния, вдова маршала не останавливалась ни на одном, которое казалось бы ей достойным постигшего ее наказания. Она вмешивалась в государственные дела: на то была воля Марии Медичи. Она интриговала: но кто же тогда не интриговал при дворе? Она не гнушалась подарками, брала взятки, пользовалась благами, которые сами падали ей в руки: но кто же на ее месте не делал бы того же? В последние два-три месяца Леонора была весьма почтительна к могучему де Люиню, неоднократно выражала ему неудовольствие на строптивость и заносчивость маршала… Неужели де Люинь не примет во внимание этого смирения Леоноры и не замолвит королю слова в ее защиту? Вместе с помышлениями о личной своей участи несчастная фаворитка (жадная и корыстолюбивая) тосковала о своих сокровищах. Если бы при ней в Бастилии находилась тысячная доля громадного ее состояния, она могла бы, может быть, если не отомкнуть двери своей темницы золотым ключом, то, по крайней мере, за деньги приискать защитника и ходатая.
Низвержение и убиение маршала д'Анкра открывали де Люиню беспреградный путь к почестям и возвышению, но, не довольствуясь этим, новый временщик имел виды на громадное состояние своего убитого соперника. По закону движимое и недвижимое имущество маршала подлежало конфискации и делалось достоянием казны…
Но король мог передать их в обладание де Люиня. Тут явилось очень важное затруднение. Маршал д'Анкр был убит без всякого суда; после него в лице вдовы и сына остались прямые и законные наследники. Отнять у них наследство король не имел права без отдачи их под суд, и не только их, но и покойного маршала. Суд над убитым – явление бесспорно безобразное, но он был наряжен по стараниям де Люиня, и к суду этому, разумеется, была привлечена Леонора Галигаи. Сочинение обвинительного акта на живую и на мертвого было поручено прокурору Куртену (Courtin), креатуре де Люиня, и этот крючкодей, закаленный в кляузах, настрочил акт, как будто диктованный ему самим адом. Маршал обвинялся в казнокрадстве, обременении народа излишними налогами, в оскорблении величества небесного и земного, наконец, в принятии участия в заговоре, разрешившемся злодейским убиением покойного короля Генриха IV. Обвинять Леонору Галигаи можно было только в излишнем расположении к ней королевы Марии Медичи, и именно на этом Куртен основал главные пункты своего обвинительного акта. Ссылаясь на показания свидетелей, он обвинил флорентинку Леонору Галигаи в чародействе, посредством которого она приворожила к себе королеву-правительницу. Сильную поддержку этой нелепице Куртен нашел в суеверии самой Леоноры. Действительно, не только ее приближенным, но и весьма посторонним лицам было известно, что вдова маршала д'Анкра занималась гаданием на картах, носила на шее амулетки с заклинаньями, часто совещалась с ворожеей Изабеллой и евреем Монталло, пользовавшимся репутацией чернокнижника. Прокурору Куртену в его трудах много помогал советник де Ланд, в простоте души веровавший в колдовство, чародеев и черную магию.
Приговор парламента над памятью убитого маршала, по невозможности кассации, был утвержден королем. Имя маршала предавалось вечному позору и проклятию; сын его (крестник короля Генриха IV) был обвинен лишенным всех прав состояния и вне покровительства законов. Покончив с мертвецом и с безгрешным отроком, парламент принялся за Леонору.
3 мая 1617 года происходило первое заседание суда, на которое вызваны были обвиняемая и свидетели. Таковыми явились конюший маршала Ла Пласа и каретник Леоноры. Подтверждая данные ими показания, они объявили: 1) что обвиняемая имела целую коллекцию талисманов, восковых кукол и гороскопов королей и королев французских; 2) что она неоднократно служила ночью обедни, принося в жертву черного петуха; 3) что она, убивая голубей, пила их кровь, глотая с каким-то волшебным заклинанием восковые пилюльки; 4) совещалась с колдуньей Изабеллой и чернокнижником евреем Монталло… На основании всех этих данных, обвиняя подсудимую в сношениях со злыми духами и в чародействии, прокурор спросил, что она может сказать себе в оправдание.
– Вместо ответа, – гордо произнесла Леонора, – позвольте мне спросить вас, где мы – во Франции или в Испании; в парламенте королевском или в инквизиционной огненной палате?
– Занимались вы гаданьями? – повторил прокурор.
– Да, занималась, точно так же, как ими занималась королева, как занимаются тысячи придворных дам и кавалеров.
– У вас были амулетки и гороскопы?
– Да, соответственные правилам умозрительной астрологии, в которую верят все и вы сами, может быть. Восковые фигурки, найденные у меня, – печати с изображением агнца (Agnus Dei), полученные мною из Рима от его святейшества. Между ними и чародейством, кажется, не может быть ничего общего.
– Сознавайтесь же, что вы приворожили к себе королеву-правительницу Марию Медичи, чтобы властвовать над нею?
Горькая, презрительная улыбка мелькнула на мрачном лице Леоноры.
– В этом случае, – сказала она, – все мои чары и волхво-вания заключались в превосходстве моего ума над умом королевы и в прямой пользе моих советов.
– Укажите на источник ваших богатств!
– Богатства мои пожалованы были мне и покойному моему мужу королевою. Она, я полагаю, властна была располагать собственной своей казною.
Тем закончилось первое заседание. Мнения судей разделились: благоразумнейшие, составлявшие меньшинство, находили, что обвинения не выдерживают никакой критики. Советник Орланд Пайен (Payen) просил уволить его из числа членов суда. Следующее заседание происходило в Турнелле, здесь при допросах Леонора выказывала то же мужество и непреклонную твердость. На этот раз она обращалась к здравому смыслу своих судей, из которых весьма многие были обязаны ей или ее покойному мужу своим возвышением. Она требовала над собою суда правого и неподкупного. Заметим здесь, что женщина всегда и повсюду несравненно смелее перед законом, нежели мужчина; в деле тяжебном она терпеливее, настойчивее и доходчивее, не задумываясь ни перед какой инстанцией; заметив криводушие судей, она, не обинуясь, уличает их и, дав волю языку, не щадит кляузников. Эта гражданская отвага свойственна женщинам всех стран и веков, и чтобы убедиться в этом, стоит только перебрать несколько уголовных процессов, в которых главную роль играли женщины.
Де Люинь, находившийся тогда на высоте своего могущества и тем тверже державшийся на этой высоте, что юный король, очарованный супругою временщика, герцогинею де Люинь, пользовался ее благосклонностью, – де Люинь был вне себя от бешенства и на судей, и на подсудимую. Первые, страшась временщика, начали действовать решительнее, т. е. бессовестно. Они засыпали Леонору словами, статьями закона, оскорблениями, не выслушивали ее возражений. Бороться одной, при всей ее энергии, стало наконец ей не под силу… Она поняла, что смерть ее уже предрешена, и начала помышлять уже не об оправдании, не о свободе, а единственно о спасении жизни. Она готова была умолять судей, чтобы они приговорили ее к вечному заточению, но только оставили ей жизнь, которая и в сорок шесть лет еще не утратила для Леоноры своей привлекательности. Надеясь продлить свое существование, несчастная объявила, что она беременна… Даже в этом снисхождении к ее положению парламент отказал Леоноре, отвечая, что утробный ее плод – незаконный, ибо покойный маршал лишен доброго имени и всех прав состояния. Из судей, приспешников де Люиня, выискались даже и такие, которые к прежним обвинениям, возведенным на вдову маршала, присоединили новые, одни говорили, будто она беременна вследствие своей связи с тюремщиком, а другие (доходя до Геркулесовых столбов нелепого) – с самим дьяволом!
Приговор над Леонорой Галигаи, ее сыном и покойным мужем состоялся 8 июля 1617 года. Вот подлинный его текст:
«Палата объявила и объявляет Кончино Кончини, при жизни его маркиза д'Анкра, маршала Франции, и Элеонору Галигаи, вдову его, виновными в оскорблении величества божественного и человеческого, в воздаяние за каковое преступление приговорила и приговаривает память помянутого Кончини к вечному позору, а помянутую Галигаи к смертной казни обезглавлени-ем на эшафоте, воздвигнутом на Гревской площади, а тело ее к сожжению с обращением в золу; движимое их имущество к конфискации в пользу короны, все же прочие пожитки в пользу короля. Сына преступников, рожденного ими в брачном сожительстве, палата объявила и объявляет лишенным честного имени и права занимать какие бы то ни было должности; дом, в котором преступники жили, срыть до основания и место его сровнять с землею».
За неделю до обнародования этого приговора в публике были распущены пасквили и карикатуры на семейство д'Анкр. К бранным прозвищам Леоноры: кольдуньею, чернокнижницею, присоединили новое – отравительница; народная злоба от приговоренной к смерти распространилась на всех проживавших в Париже итальянцев, занимавшихся большею частью торговлею и ростовщичеством. Итальянский элемент, привившийся к гражданскому французскому быту, исчез, уступив свое место – испанскому… Родственный союз одной державы с другою всегда вносит из одной в другую моды, обычаи, особенности, всегда находящие в чужой земле восприимчивую почву. Со времен Катерины Медичи до Людовика XIII французский двор был осколком двора тосканского; произведения изящных художеств итальянских служили образцами для художников французских; язык итальянский при дворе и в высшем кругу вытеснил язык французский. При Людовике XIII, частию и при Людовике XIV, Франция обезьянила Испанию; при Людовике XV вся Европа взяла за образец Францию, тогда не подражавшую ни одной иностранной державе. В наше время французский элемент выдохся в Европе, кому теперь будет она подражать?
После падения нравственного итальянского владычества во Франции она с восторгом ухватилась за испанское, и этот переход не обошелся без смешных явлений, неизбежных, впрочем, во всякой стране, переживающей переходную эпоху от старого к новому. Как мы уже говорили, с лишком полстолетия высший французский круг и зажиточный средний класс строили и меблировали свои дома в итальянском вкусе; мужчины и женщины следовали итальянским модам; говорили по-итальянски все имевшие претензию на тонкость и образованность… Костер Леоноры Галигаи словно выкурил из Парижа эту страсть к итальянщине, и французы ухватились за испанщину. Военное сословие всех прежде признало испанские клинки первейшими в мире, щеголи и щеголихи сознались, что испанские моды верх изящества, севильское сукно и кордуанские кожи изгнали из употребления сардинские шелковые материи и бархаты Венеции. Подражая Испании во внешнем быту и в домашней обстановке, Франция не замедлила усвоить язык этой страны и отчасти ее несносное ханжество и фанатическую нетерпимость. Сам король Людовик XIII более походил на испанского гидальго, нежели на французского короля… Самая казнь вдовы маршала д'Анкра была снимком с испанского аутодафе.
Казнь эта происходила на Гревской площади 9 июля 1617 года. Весь Париж сбежался на давно не виданное зрелище, и не только улицы были наводнены народом, но любопытными были унизаны кровли домов и колокольни церквей. Ходила молва, что осужденная выслушала свой приговор с удивительным мужеством, не унизив себя ни мольбами о пощаде, ни проклятьями на судей и главного виновника своей гибели – де Люиня. Эту твердость большинство приписывало помощи бесовской; многие жалели, что колдунью не пытали при допросах; иные опасались, чтобы она с помощью чар не обратилась перед казнею в ворону или сову и не улетела от достойного наказания. В полдень процессия тронулась из Бастилии на Гревскую площадь. Леонору везли на позорной телеге, одетую в длинный холщовый балахон, с восковою свечою в руках. Несчастная была бледна, глаза ее горели лихорадочным огнем, но лицо было почти спокойно и даже на нем появлялась порой презренная усмешка. Ропот и дерзкие крики толпы не доходили до ее слуха. В течение семилетнего владычества она убедилась многократным опытом, что любовь народная изменчива и непостоянна, как осенняя погода. Было время, этот самый народ приветствовал маршала и жену его восторженными кликами, выражал им свою благодарность, тешась праздниками, которые они давали народу… Теперь все он же, все тот же народ напутствует Леонору в вечность проклятьями и оскорблениями. Ему велели признать ее за колдунью, и он ее признал за таковую: если бы маршалу удалось возвести де Люиня на эшафот, парижане, проклиная де Люиня, благословляли бы маршала. В глазах толпы прав и достоин похвалы всегда тот, кто взял верх, хотя бы соперником его был сам праведник. Смерть маршала и жены его могла служить примером временщикам будущим… Но кто из них обратил внимание на этот пример? Да и сами Кончини, муж и жена, думали ли когда об измене счастия?
Твердой поступью Леонора взошла на эшафот, склонила голову на плаху… топор сверкнул, и голова флорентинки рухнула на помост. Подхваченное железными крючьями, тело ее было брошено на костер, и через несколько минут его охватили клубы дыма и огненные языки. Народ рукоплескал и возглашал многие лета правосудному королю Людовику XIII.
Помочи, на которых водила его мать, маршал и Леонора, перешли в руки де Люиня, не перестававшего уверять короля, что он, наконец, государь самодержавный… То же впоследствии говорил ему, водя его на тех же помочах, и кардинал Ришелье. Прав был какой-то древний мудрец, говоря: «Хотите ли подчинить гордого и могучего глупца вашей воле? Уверяйте его постоянно, что умнее его нет человека на свете».
Королевская опала, постигнув одну партию, обратилась в милость для другой. Принцы крови и могучие олигархи, сосланные во время регентства, были призваны ко двору и восстановлены в прежних своих должностях. Старому герцогу д'Эпернону отдано было губернаторство Гюйенны; Морнэ, Сюлли, Ледигьер снова засияли на придворном горизонте… Позабыли только о принце Конде, и позабыли потому, что его присутствие при дворе угрожало де Люиню опасным соперничеством.
Теперь перейдем к обзору царствования кардинала Ришелье, правившего Францией под именем короля Людовика XIII. Это царствование напоминало басню Крылова «Оракул»: жрецом, сидевшим во внутренности пустого кумира, был Ришелье; Людовик XIII превосходно играл роль истукана – пустого, бездушного или, выражаясь точнее, душою которого был кардинал Ришелье… Король после него не прожил и году. Смерть его была первым, и последним, и единственным подвигом, совершенным на пользу Франции.
Il eut cent vertus de valet Et pas une vertu de maitre,[91] – гласила шутливая эпитафия, написанная на кончину Людовика. Лучшей и вернейшей оценки этому королю нельзя было и сделать.
Кардинал Ришелье. Людовик XIII
Марион де Лорм. – Госпожа де Шон. – Госпожа де Комбалле. – Анна Австрийская. – Герцог Бекингэм. – Маркиз Баррада. – Маргарита д'Отфор. – Генрих д'Эффиа. – Маркиз де Сен-Марс
(1617–1643)
В числе немногих спутников, сопровождавших королеву-изгнанницу в Блуа, находился и епископ Арман дю Плесси Ришелье. Эта приверженность опальной Марии Медичи была бы достойна похвалы и удивления потомства, если бы почтенным прелатом не руководили в этом случае осторожность и своекорыстие. Оставаться в Париже, при дворе, где владычествовал де Люинь, было опасно и нерасчетливо. Поклоняться временщику, признавать его главенство над собою – этого Ришелье, по уму и по гордости, позволить себе не мог; как человек прозорливый, он предугадывал, что временщик – долго ли, коротко ли – должен пасть, а Людовик XIII – рано или поздно – примириться со своей матерью. Вследствие этих соображений Ришелье безошибочно расчел, что ему гораздо выгоднее держаться за опальную королеву, нежели за полудержавного любимца. Верный правилам приличия, прелат, однако же, вел с де Люинем весьма любезную переписку, поддерживая с ним самые приязненные отношения. Мария Медичи в простоте души и не подозревала, какую страшную змею отогревает у сердца в лице епископа Лю-сонского. Она верила его бескорыстной привязанности, надеялась на его обещания примирить с нею короля и возвратить ей утраченное место во главе государства.
Два года провела Мария Медичи в Блуа и в течение этого времени сблизилась со старым герцогом д'Эперноном, губернатором Сентонжа и Ангулема. Он приглашал королеву перебраться из Блуа в Ангулем и тем освободиться из заточения. В Ангулеме, полная хозяйка своих поступков, Мария Медичи могла жить независимо и войти в переговоры с сыном не как изгнанница, просящая о помиловании, но как самостоятельная владетельница, готовая в случае надобности отстаивать свободу и права вооруженной рукой. Но, чтобы выбраться из Блуа, надобно было или подкупить почетные караулы, окружавшие замок, или бежать тайно. Королева отважилась на последнее и с помощью своего шталмейстера графа де Бриенна и двух преданных ему людей в полночь 12 февраля 1619 года бежала переодетая и, благодаря темноте, никем не узнанная, беспрепятственно прибыла в Ангулем. Встретивший ее там д'Эпернон объявил, что к ее услугам его шпага и все войска, ему подначальные. Письмом от 23 февраля Мария Медичи уведомила Людовика XIII о своем побеге, оправдывая его желанием перемены места и в то же время заверяя сына, что она нимало не намерена принимать какое бы ни было участие в делах правления. Парижский двор в это время вместе с королем тешился праздниками по случаю бракосочетаний: принцессы Христины Французской с принцем пьемонтским и побочной дочери Генриха IV мадемуазель де Вандом с герцогом д'Эльбеф. Весть о побеге Марии Медичи была если не громовой тучей, то облаком, омрачившим всеобщее веселье. Король, усматривая из письма, что желания матери весьма умерены, был еще довольно спокоен, но де Люинь, зная средства, которыми она тогда обладала, – де Люинь трусил за свое могущество. Мария Медичи ставила вопрос: если она не имеет намерения вмешиваться в дела государственные, за что же ее подвергать изгнанию? Выражая надежду на содействие короля испанского, королева вошла с сыном в письменные переговоры о примирении. Договор был редактирован кардиналом де Ларошфуко, герцогом Монбазоном и отцом Берюлем, духовником Марии Медичи; доставку этого договора королю возложили на Ришелье, тогда удаленного в Авиньон. Вызванный в Ангулем и пересмотрев статьи договора, он выговорил королеве-родительнице: сохранение всех прав; полную свободу проживать где угодно, хотя бы и при дворе; пользование всеми доходами с ее удельных имений. Сверх того, по этому договору король обязывался дать всепрощение лицам, содействовавшим бегству Марии Медичи из Блуа, а герцога д'Эпернона наградить 300 000 ливров. Соглашаясь на все эти условия, король через герцогиню Монбазон пригласил родительницу прибыть в Тур для свидания, а оттуда вместе с королем возвратиться в Париж.
В Туре, кроме короля, был, разумеется, и де Люинь. Первый вопрос, сделанный ему Мариею Медичи, было о несчастном маршале д'Анкре.
– Никто не приказывал его убивать, – отвечал де Люинь. – Он сам виноват тем, что хотел защищаться против посланных его арестовать, – и только арестовать!
Увидя маршала де Витри (убийцу д'Анкра), королева с ядовитой улыбкой сказала:
– Вы, маршал, были всегда вернейшим и послушнейшим слугою короля!
– Да, государыня, – отвечал убийца, – и эта покорность заставила меня…
Ришелье, видя, что разговор принимает не совсем дружелюбный оттенок, поспешил прервать его, чему много помогло и появление короля. Встреча и примирение матери с сыном были трогательны; последнее, по-видимому, было искренно, хотя прозорливый Ришелье не надеялся на его прочность. Дело в том, что это примирение порождало при дворе две партии, главами которых являлись королева-родительница и де Люинь. Через месяц после свидания в Туре Мария Медичи удалилась в Анжер, куда следом за нею явились все противники де Лю-иня, в это время метившего попасть в конетабли. Супруга его занимала при молодой королеве Анне Австрийской должность первой статс-дамы… Партия временщика была сильна; могла бы быть могущественной, если бы сам де Люинь был человеком с головой и твердой волей; к сожалению, он своими способностями далеко отставал от покойного маршала д'Анкра. Волнения кальвинистов в Южной Франции послужили к слиянию в государственном совете обеих партий – и де Люиня, и Марии Медичи. 2 апреля 1621 года Альберт де Люинь был возведен в достоинство конетабля и на первый же случай должен был начать новое поприще на ратном поле, приняв участие в войнах с кальвинистами…
Умалчиваем об этих бесконечных усобицах, о неудачах де Люиня, подвигах Людовика XIII, об осаде Монтобана (послужившей в недавнее время сюжетом для лубочного романа какому-то модному французскому романисту)… Самым важным событием этой эпохи была смерть де Люиня, открывшая путь к престолу королевскому гениальному Ришелье. Королева-родительница, не оставлявшая его своим покровительством, содействовала по мере сил возвышению этого человека, благодаря собственному уму и дарованиям не имевшего даже и нужды ни в покровителях, ни в покровительницах. Будучи простым членом государственного совета в 1624 году, он сообщил королю о своем исполинском плане возведения Франции на высоту державы первостепенной. Для этого королевству было необходимо, во-первых, избавиться от олигархии, во-вторых, угомонить неугомонных кальвинистов, в-третьих, унизить и ослабить свою соперницу, Австрию. Такова была программа государственного строя Ришелье, и до последней минуты этот король Франции (под псевдонимом Людовика XIII) оставался ей верен.
Читателям, без сомнения, известен анекдот о Петре Великом и о монументе Ришелье? В бытность свою в Париже наш преобразователь посетил гробницу кардинала и, обращаясь к его статуе, сказал восторженно:
– Великий человек, живи ты в мое время, и я отдал бы тебе половину моего царства, чтобы ты научил меня управлять другою половиною!..
– Напрасно! – заметил кто-то из присутствующих. – Он бы и другую половину прибрал к своим рукам.
Таков действительно был Ришелье – временщик-король, двадцать лет державший Францию в своих железных руках, но и вознесший ее этими самыми руками на высокую степень могущества. Людовику XIV легко было разыгрывать роль Юпитера благодаря титанским трудам кардинала Ришелье, воздвигшего целый Олимп для подножия королевской власти и, подобно Вулкану, выковавшего громы и молнии, которыми Франция в течение целого века грозила Европе. Кардинал Ришелье совместил в своей личности и Людовика XI и национальный Конвент 1793 года: первый – благодаря монфоконским виселицам, второй – благодаря гильотине искоренили олигархию; то же сделал и Ришелье с содействием эшафота на Гревской площади. В царствование кардинала приутихли потомки Гизов, протягивавших руки к скипетру Генриха III, Конде – ступавших на ступени трона Генриха IV, принцы Орлеанские, умышлявшие сорвать корону с головы Людовика XIII… Этой короны Ришелье себе на голову не надевал, но он придерживал на короле точно так же, как и порфиру на его слабых плечах. Удачная борьба с Англией, участие Франции в Тридцатилетней войне – все это подвиги, и подвиги исполинские, дающие кардиналу Ришелье полнейшее право на имя великого человека…
Однако предмет нашего труда – не величие великих людей, а те фазисы их жизни, когда она нисходила на степень людей обыкновенных. Подобно курице в басне Крылова, подшучивающей над орлом, сидящим на овине, мы в нашем посильном труде рассматриваем слабости сильных мира сего. Так рассматривали мы жизнь Генриха IV и с этой же точки зрения взглянем на кардинала Ришелье. Одно не помешает другому: Ришелье – лев, терзающий своих врагов и упивающийся их кровью, и Ришелье, как влюбленный кот,[92] отчаянно мяукающий нежности Анне Австрийской или принимающий у себя Марион де Лорм, – так же мало имеют общего один с другим, как кот со львом; порода-то, пожалуй, и одна, да звери-то разные!
Посмотрим сначала на льва.
В 1624 году благодаря стараниям Марии Медичи буквально из ее рук Ришелье получил кардинальскую шапку. «Государыня, – сказал он ей при этом, – пурпуровая моя мантия будет мне постоянно напоминать о моем обещании не щадить за вас и последней капли моей крови!»
Просим читателя запомнить эту фразу, в полном смысле слова красноречивую.
Вместе с кардинальской шапкой Ришелье получил должность государственного секретаря с правом голоса совещательного, т. е. с обязательством подавать советы королю только в случае запроса с его стороны. Первым указом, подписанным Людовиком XIII по совету Ришелье, воспрещались поединки под опасением смертной казни; затем следовал второй – о соблюдении простоты в одежде и преследовании роскоши… Обоими указами Ришелье наносил первый удар дворянству, а вторым указом – и кальвинистам, постоянно укорявшим двор и вельмож за их безумную роскошь. Отнять у кальвинистов хотя и один из поводов к жалобам значило их хоть сколько-нибудь обезоружить. Обиженные дворяне мстили кардиналу пасквилями, прозвищем Красного чулка, кальвинисты волновались по-прежнему и бунтовали, рассчитывая на содействие Англии. Олигархам Ришелье до времени отвечал презрительным молчанием, а у кальвинистов (с 1628 по 1631 год) отнял Ла-Рошель, Катр, Мильго, Прива, Але, Андюз и все укрепления этих городов обратил в развалины! Мария Медичи, несмотря на обещание, данное королю не вмешиваться в дела как внутренние, так и внешней политики, не могла, однако же, не затеять обширной политической интриги. Имея в виду болезненное состояние Людовика XIII и отсутствие прямых наследников престола, королева-правительница решила передать права наследства (в случае смерти короля) младшему сыну Гастону, герцогу Орлеанскому, с тем чтобы он женился на вдове короля Анне Австрийской. Испанский двор вполне одобрил этот проект, и между Мариею Медичи, королем испанским и супругою Людовика XIII возникла по этому предмету переписка и самые приятные отношения… Словом сказать, составился заговор, вскоре принявший угрожающие размеры. Главными его соучастниками были старый маршал Орнано, молодой и знатный Шалэ (Chalais) из дома Перигоров и два побочных сына Генриха IV – Вандомы. Своей приверженностью к Гастону Орлеанскому заговорщики маскировали свою ненависть к Ришелье и желали не столько возведения Гастона на престол, сколько низложения кардинала. Усердные шпионы последнего следили за ходом заговора шаг за шагом, донося своему патрону о каждом слове, чуть не о каждой мысли его врагов. Нетрудно было Ришелье убедить короля к принятию решительных мер для предупреждения мятежа, и 4 мая 1626 года маршал Орнано по подозрению в сношениях с испанским двором был арестован и заточен в Венсенский замок; очередь стояла за Шалэ и побочными братьями короля, но они еще до времени пользовались свободою. Подстрекаемый своей любовницею герцогиней де Шеврез, Шалэ замыслил сообща со своими товарищами арестовать кардинала и держать его в заточении до тех пор, покуда король, убежденный доводами врагов своего министра, не подпишет приговора о его изгнании. Так порешили на тайном совещании Шалэ, приор Вандомский, граф Море, Пюилоран, Рошфор и другие, к которым присоединился Балансе, тайно преданный кардиналу. В ответе на преждевременную радость Шалэ о несомненном успехе отважного предприятия Балансе спросил его:
– А приняли вы в соображение, что в случае неудачи можете попасть на эшафот?
Простой этот вопрос остудил пылкие фантазии Шалэ; он выразил желание отступиться от участия в заговоре, малодушно обвиняя герцогиню де Шеврез в том, что она его вовлекла в эту опасную игру.
– Отступиться мало, – возразил Балансе. – Этим вы не спасете вашей головы. Мой совет – идите к кардиналу и сознайтесь ему чистосердечно во всем.
– Я не хочу быть доносчиком!
– Не доносчиком, а обличителем. Признанием вашим вы спасете не только себя, но и принцев крови… И знаете ли что? Не откладывая дела в долгий ящик, отправляйтесь сейчас же к кардиналу в Малый Люксембург.
Шалэ последовал этому совету. Он и Балансе застали кардинала дома и были им очень любезно приняты. Он выслушал Шалэ, по обыкновению, закрыв глаза и подкачивая в такт головою.
– Душевно вам благодарен, – сказал он весьма ласково, – за разоблачение темного и грязного дела, о котором до меня доходили неясные слухи. Не могу не похвалить вас за отречение от соучастия с негодяями, которое могло бы обесславить ваше знаменитое имя!
– Балансе убедил меня…
– В честности его я всегда был уверен, – перебил кардинал. – Вот что я скажу вам, господа: касайся этот заговор меня лично, я бы, может быть, и не обратил на него внимания… но тут дело идет о спокойствии и славе моего государя; мальчишки посягают на государственное благоустройство. При всем том я не беру на себя тяжкой обязанности довести о заговоре до сведения короля, а советую вам самим теперь же отправиться к нему и повторить все мне сообщенное. Вы, Шалэ, назвали мне всех заговорщиков. Кроме мужчин, тут, верно, замешаны и дамы. Герцогиня де Шеврез, например…
– Ваша эминенция, клянусь вам, что она ничего не знает!
– Полноте, полноте, – усмехнулся Ришелье, – она знает все, и первою вам наградою за ваше признание будет помилование герцогини, дамы вашего сердца. Ей не говорите только ни слова о нашем теперешнем разговоре; с недавними вашими товарищами действуйте по-прежнему заодно, и все уладится как нельзя лучше!
Проводив гостей, кардинал отправился к королю в Фонтенбло.
План заговорщиков состоял в том, чтобы захватить кардинала в его загородном замке Флери. На другой день доноса, сделанного малодушным Шалэ, он сам и его сообщники явились в замок, где их приняла госпожа Комбалле, племянница кардинала. В ожидании прибытия в замок Гастона Орлеанского гости (в числе шестидесяти) занялись вином и игрою в кости.
Этим временем кардинал беседовал в Фонтенбло с Гасто-ном. Любезно, с самой радушной улыбкой он говорил принцу, что, узнав о его намерении посетить замок Флери мимоездом на охоту, очень рад предложить свое жилище к его услугам для отдыха…
– Вы сами туда не пожалуете? – спросил Гастон.
– Рад бы принять гостей, но сегодня у короля заседание совета.
Таким образом, замысел захватить кардинала рушился, мнимые охотники не захватили этого красного зверя, а двое главнейших были арестованы через несколько дней. Оба брата Вандомы были заточены в Амбуаз и в Венсен по обвинению в происках против предполагаемого брака Гастона Орлеанского с госпожою Комбалле; кроме того, ходили слухи о их тайных сношениях с Испанией и Англией. Шалэ, видя вероломство кардинала, душой и телом предался партии Гастона. Принц намеревался бежать в Испанию и, собрав там войско, вторгнуться во Францию и избавить короля от кардинала. Надзор за ходом этого нового заговора Ришелье поручил своему клеврету Ла-фейму… Этим временем король, обе королевы и весь двор отправились в Нант; случай благоприятствовал заговорщикам, и все было приготовлено к бегству в Тур, оттуда в Лотарингию; но ищейки кардинала не дремали: граф Рошфор, маркиз Пюило-ран, президент де Куанье (de Coignet) и Генрих Шалэ были арестованы. Шалэ, приведенный к кардиналу капитаном дю Гайлье, едва удерживаясь от бешенства, сказал:
– Ваша эминенция, смею ли я хоть спросить, за что я арестован?
– Смеете, смеете, и я сию минуту удовлетворю ваше любопытство! – отвечал Ришелье с неизменной улыбкой.
Выслав капитана, он подал Шалэ перехваченное письмо к Гастону, написанное Рошфором, Пюилораном и де Куанье и уведомлявшее принца о том, что все готово к его побегу.
Надобно заметить, что кардинал де Ришелье первый из властителей Франции к громадной машине государственного управления присоединил могучую пружину, без которой (по его мнению) благоустройство администрации немыслимо. Эта пружина – шпионство – была доведена кардиналом до совершенства. Он содержал на жалованье обоего пола шпионов, агентов, сыщиков; при канцелярии его находилось несколько чиновников для дешифровки писем, писанных цифрами или условными знаками, и эти способнейшие люди умели разобрать какую угодно тарабарскую грамоту.
– Что вы на это скажете? – спросил Ришелье, когда Шалэ прочел роковое письмо. – Прав ли я, подвергнув вас аресту, граф Шалэ?… Но, помня ваши недавние услуги, я готов сжечь это письмо и тем самым уничтожить все следы вашего соучастия в заговоре, только с условием… Виноватыми в заговоре должны быть: королева Анна и Гастон, сговорившиеся объявить короля неспособным к брачному сожительству, заточить его в монастырь и сочетаться браком…
– Но они и не думали этого! Принц никогда не был зложелателен к королю… Вы хотите, чтобы я клеветал?
– Тут нет клеветы, а сущая правда. Зачем Гастону бежать в Испанию и оттуда с войском возвращаться на родину? Неужели же принцу для свержения меня с места нужна целая армия?
Поймите, граф, что, обвиняя только королеву и принца, вы дадите мне возможность испросить милости вашим друзьям… Супруги своей и брата король не пошлет на эшафот, и дело будет замято…
– А я и друзья мои будем помилованы?
– Клянусь вам, и за вашу жизнь ручаюсь собственной, – произнес Ришелье со слезами на глазах. (Он обладал завидной способностью плакать в случае надобности.)
– Сделав показание, – продолжал он, – вы сознаетесь, что заговорщики поручили вам арестовать короля при возвращении его из Нанта.
– Но это будет напраслина!
– Для вашего же спасения…
Под диктовку Шалэ один из секретарей Ришелье написал донос, сочиненный по желанию кардинала. За это он отдал графу Шалэ перехваченное письмо, которое граф тут же бросил в огонь камина.
– Теперь, – сказал Ришелье, – вы возвратитесь в тюрьму, из которой, по всей вероятности, выйдете через неделю.
Заставив Шалэ быть доносчиком на Гастона, кардинал ставил их друг к другу в самые враждебные отношения, что именно ему было необходимо. Он надеялся, что Гастон, видя предательство друга, примирится с королем и, покорствуя его воле, женится на госпоже Комбалле. Всегда дальновидный, Ришелье ошибся в последнем: Гастон Орлеанский признался королю во всех своих умыслах, выдал с головой всех своих сообщников, примирился с Людовиком XIII, но женился на мадемуазель де Монпасье.
Гром пушек возвестил графу Шалэ, сидевшему в темнице, о бракосочетании герцога Орлеанского. «Если король простил брата, он, без сомнения, простит его приверженцев» – эта простая мысль утешала узника; кроме того, он помнил клятву, данную ему кардиналом, и надеялся. Герцогиня де Шеврез нашла возможность послать к графу Шалэ в темницу небольшую записку, спрятанную в крупной ягоде земляники. Не зная о свидании графа с кардиналом, любовница Шалэ писала к нему: «Ни слова ни о чем кардиналу. Надейтесь; у вас есть друзья и подруга… мы бодрствуем!»
Ягоду с этой запиской предатель слуга доставил кардиналу.
Ришелье прочел и приказал передать ее узнику: «Пусть утешается», – и сказал при этом: «Мне эти пустяки не опасны!»
Из темницы дня через два граф Шалэ был вызван в следственную комиссию под председательством хранителя печати Марильяка (Marrillac). Начались допросы. Шалэ, помня обещание Ришелье, подтвердил письменное свое показание и плел небылицы на королеву и Гастона. Судьи произнесли смертный приговор, несмотря на протест Марильяка, видевшего в обвинении графа Шалэ адскую хитрость кардинала. Приговор, представленный на утверждение короля, был им подписан бестрепетной рукой. Из дела, лично до него касавшегося, Ришелье сумел смастерить дело государственное; партия недовольных угрожала только ему – он сумел напугать короля, уверив, что опасность ему, королю, угрожает. О помиловании Шалэ Людовика XIII умолял весь двор, но король, выказывавший непреклонность и твердость характера во всех тех случаях, когда речь шла о злом деле, был неумолим. Старый Марильяк присоединил свой голос к общему хору ходатаев за графа Шалэ.
– И вы просите за это чудовище? – крикнул Людовик XIII. – Приговор шел через ваши руки!
– Да, но я его не утверждал. Смерть Шалэ будет убийством…
– Нет, справедливостью! Слушайте, Марильяк, я милосерден, очень, даже – слишком… Я щажу мою жену, моего брата, но графу Шалэ нет пощады. Казнить его!
– Государь, казнь необходимо отложить: палач неизвестно где.
– Знаю… Друзья графа его куда-то запрятали. Они позабыли, что топора он не унес с собою! Был бы топор, а рука найдется…
– Ваше величество!
– Молчать! Вы пришли за милостью и прощением, и я дарую и то, и другое. Вы думаете, графу Шалэ? Нет: прощаю любого разбойника из содержащихся в нантской тюрьме, чтобы он согласился отрубить голову графу. Такова моя воля, и да будет так!
Граф Шалэ надеялся до самой минуты объявления ему смертного приговора; выслушав его, он настоятельно требовал свидания с кардиналом, – разумеется, напрасно. Вечером 19 августа 1626 года состоялась казнь Шалэ. Всходя на эшафот, он все озирался, ожидая вестника о помиловании, и окончательно впал в отчаяние, когда наступила роковая минута – не казни, но пытки, как увидим. Опуская голову на плаху, Шалэ закричал:
– Так вот твоя клятва, предатель кардинал? На том свете я не упрекну тебя, потому что буду в раю, а ты пойдешь в вечный огонь!..
Преступник, по воле короля взявшийся за дело палача, был неопытный и робкий; он рубил голову графу не топором, но мечом, очень легким и плохо отточенным. После трех первых ударов Шалэ, еще в полной памяти, кричал и рыдал от боли, упоминая имена своей матери и герцогини де Шеврез. Палач-самозванец рубил мечом по шее Шалэ, не нанося ни одного смертельного удара. Ропот негодования народа вторил воплям жертвы. Какой-то бочар, бросив на эшафот отточенное широкое долото, крикнул неопытному палачу:
– Возьми, негодяй, авось хоть этим доконаешь!
Всех ударов – мечом и долотом – было нанесено тридцать четыре; при двадцатом Шалэ еще кричал; кровь ручьями лилась по эшафоту, на который падали клочья и обрезки мяса и кожи. Через шестнадцать дней после казни Шалэ, маршал Орнано умер в темнице от яда. Герцогиня де Шеврез была отправлена в ссылку; герцог Вандомский пробыл в темнице четыре года и семь месяцев; брат его Александр в ней умер. Олигархи трепетали от ужаса и негодования. Как бы желая не дать им опомниться, 22 июня 1627 года кардинал возвел на эшафот Франциска Мон-моранси, графа де Бутвиля и Франциска де Росмадек, графа де Шапеля – за нарушение закона о поединках…
Первый министр действовал с полновластием самодержавного государя. Сердце Людовика XIII, подобно сухой песчаной почве, произращающей полынь да терновники, было особенно восприимчиво на чувства злобы и ненависти. Кардиналу-министру не стоило особенного труда внушить королю недоверие к дворянству, ненависть к супруге, брату и матери, в которых Людовик видел только заговорщиков и злоумышленников. Ришелье со своей стороны очень хорошо понимал, что казнь Шалэ – только пролог к борьбе с олигархией; что еще не одна голова должна скатиться на эшафот и что еще понадобится много крови, чтобы окончательно потушить тлеющую искру крамолы и происков раздраженных вельмож.
Осенью 1627 года начались военные действия против кальвинистов при личном участии кардинала-министра и Людовика XIII. Длинный ряд битв и осад городов был ознаменован страшными зверствами как со стороны католиков, так и кальвинистов. Северною армиею командовали: Ришелье, король, маршалы Бассомпьер, Туарас и кардинал де ла Валет; флотом – принц Конде. В марте 1628 года он овладел городом Памье (Pamiers), восставшим против короля. Градской консул Пра (Prat) и с ним пять советников ратуши были повешены на зубцах городских стен. Севенский дворянин Бофор и д'Орос, губернатор мазер-ский, захваченные с оружием в руках, были обезглавлены в Тулузе. Кальвинисты, раздраженные этими казнями, в отплату католикам перевешали пятьдесят человек пленных. Принц Кон-де, не желая оставаться в долгу, повесил пятьдесят пленных кальвинистов. Осада Ла-Рошели продолжалась без перерыва: менее нежели в три месяца осажденные потеряли свыше 16 000 человек, большей частью от голода, и 1 ноября 1628 года город сдался на капитуляцию, несмотря на энергичные мольбы своего главы Гюнтона. За взятие Ла-Рошели кардинал-министр был пожалован в генералиссимусы. В начале 1629 года сильный корпус под предводительством герцога Генриха Монморанси и дяди его маркиза де Порта был отправлен в Виварэ; король же с 17 000 войска отправился в Савойю на помощь к герцогу Ман-туанскому, который вел войну с герцогом Савойским и королем испанским. Ришелье сопровождал Людовика XIII. Овладев Сю-зою (в которой 24 апреля был подписан мир между Францией и Англией), королевские дружины отправились в Виварэ к стенам города Прива. 4 мая Монморанси и де Порт представлялись королю, принявшему герцога весьма сухо, почти с неудовольствием. Причиной тому были наговоры кардинала и более или менее основательные подозрения о связи Монморанси с Анною Австрийскою. Маркиза де Порта король поздравил маршалом, не столько за его услуги, сколько для обиды его племянника. Людовик, однако же, не достиг цели, так как Монморанси от всей души радовался за дядю.
Здесь не можем не рассказать о странном событии, случившемся с герцогом в ту же ночь с 4 на 5 мая 1629 года.
Он спал в своей палатке и часу в первом ночи был разбужен своим дядей, который гнусным голосом говорил ему: «Прости». Быстро открыв глаза, Монморанси не увидал никого около постели и в полной уверенности, что ему пригрезилось, заснул опять. Голос маркиза де Порта раздался вторично, и на этот раз, открыв глаза, герцог увидел его перед собою бледного, со слезами на глазах и с головою, повязанною окровавленным платком.
– Господи помилуй! – прошептал герцог, более удивленный, нежели испуганный.
– Надеюсь на милосердие Господне, – прошептал призрак, – но ты, ты, мой бедный друг…
– Именем Бога, дядюшка, – воскликнул Монморанси, – как понять ваши слова и что значит ваше появление?!
– Я пришел напомнить тебе о разговоре, который когда-то был у нас с тобой, о жизни за гробом и о клятве, которую мы дали друг другу, чтобы тот из нас, кто умрет прежде, уведомил пережившего. Я сдержал слово: дух мой, одетый теперь в призрачную оболочку, мое неотъемлемое «я» говорит с тобою… До свидания! Через тысячу двести семьдесят два дня, вечность…
Призрак не договорил и исчез. Испуганный сновидением,[93] герцог послал слугу в лагерь к маркизу де Порту, и посланный возвратился и доложил герцогу Монморанси, что дядя его около восьми часов вечера был ранен в голову выстрелом из мушкета и без четверти двенадцать часов ночи скончался.
Город Прива был взят штурмом 11 мая, весь гарнизон был перерезан, жители ограблены, разорены; женщины и девицы подверглись неизбежной участи – поруганию и осквернению. Подвиги распутной солдатчины в Прива вне описания, и неистовства воинов Людовика XIII кладут неизгладимое пятно на память – не короля-автомата, но его министра-кардинала, генералиссимуса Ришелье… Впрочем, война и человеколюбие несовместны. По крайнему нашему разумению: убить человека за то только, что он сражается под голубым знаменем с вензелем икса, а его противник под белым с вензелем игрека, право, точно такой же подвиг, как и изнасилование беззащитной женщины!
Вслед за взятием Прива были завоеваны многие города в Севенах, нижнем Лангдоке; герцог де Роган сложил оружие, и Ришелье приступил к осаде Монтобана вместе с маршалом Бассомпьером. Последний служил кардиналу той кошкой, лапами которой обезьяна выгребала из печки горячие каштаны. Представляя маршалу труды и победы, Ришелье оставлял себе одному награды и похвалы. Король оставил армию и возвратился в Фонтенбло. Заболев в Морене опасной лихорадкой, он остановился в Лионе, куда вскоре прибыли его супруга и Мария Медичи. Больной, под наитием мнительности воображения, что пришел его последний час, покаялся жене и матери в своих против них прегрешениях, умоляя простить его великодушно. Кардинала он назвал своим демоном и клятвенно обещал дать ему отставку, лишь только будет подписан мир с Испанией. Анна Австрийская через свою фрейлину, госпожу Фаржи, уведомила Гастона Орлеанского о близком его восшествии на престол, который он наследует после смерти короля вместе с рукой королевы… Крамольники, позабыв о казни Шалэ, опять гордо подняли головы. Генрих Монморанси, Гиз, Бассомпьер вместе с Марией Медичи уже совещались о важном вопросе: что сделать с кардиналом-министром?
– Сослать его в Рим! – предложил Гюиз.
– Нет, – сказал Бассомпьер, – заточить его в Бастилию, чтобы в ней и издох.
– Вздор! – крикнул Монморанси. – Ришелье убил Шалэ, Орнано, приора Вандомского, Бутвиля, и щадить его нечего: кровь за кровь, и кардиналу-министру следует снести голову с плеч.
Совещание было прервано д'Аманкуром, лионским губернатором, объявившим, что королю стало заметно лучше. С этим известием отправлен был в Дофинэ к Ришелье преданный ему дю Трамбле. Само собой разумеется, что он от слова до слова передал кардиналу совещание вельмож. Ришелье, выслушав доносчика, спокойно вынул из кармана красную книжечку и вписал в нее несколько имен. Эта книжечка – синодик кардинала – была предназначена для списка всех лиц, чем-нибудь ему не угодивших и заслуживающих наказание, судя по провинности: плахи или изгнания.
– Ты говоришь, – переспросил кардинал своего клеврета, – что Гиз предлагает ссылку, Бассомпьер – Бастилию, а Генрих Монморанси – эшафот? Какой мерой меряют, такой же мерой и воздается им!
Мщение до времени было отложено, но, подобно вину, мщение Ришелье крепчало тем более, чем продолжительнее была его отсрочка. Король, благодаря Бога, выздоравливал; мирные переговоры с Савойей, открытые в Кацзале, предвещали близкое окончание войны. Они происходили с соучастием молодого итальянского дипломата Джулио Мазарини, которому через десять лет суждено было явиться копией (довольно бледной) кардинала Ришелье. Партия Марии Медичи почти торжествовала. Королева-родительница неоднократно напоминала сыну его обещание уволить Ришелье, но Людовик XIII, видимо, колебался, медлил и проговорился даже, что обещание больного, у которого расстроены мысли и чувства, не следует считать обязательством непреложным… Он боялся Ришелье; он сознавал, при всей своей ограниченности, что без кардинала-министра могущество Франции немыслимо. Желая угодить матери и вместе с тем не обидеть кардинала, Людовик XIII предложил им помириться и действовать единодушно. Ришелье со своей стороны убедил короля, что он к Марии Медичи не питает иных чувств, кроме глубочайшего уважения и неограниченной преданности. Приверженцы Гастона не дремали, и подземная их интрига против министра шла успешно. Им удалось привлечь на свою сторону фрейлину Анны Австрийской – мадемуазель д'Отфор (d' Hautefort), пользовавшуюся расположением Людовика XIII. Она наушничала королю на кардинала и всячески старалась вооружить его против Ришелье… И без ее наветов король ненавидел своего патрона, но свергнуть с себя его иго не смел и думать. Впрочем, осторожный министр сумел поссорить короля с его фавориткой, и Маргарита д'Отфор была удалена от двора. За ходом заговора вельмож против него кардинал следил неусыпно.
В ноябре 1630 года Мария Медичи уже не просила, но требовала от сына, чтобы он уволил Ришелье от должности первого министра, указывая вместо него на старого Марильяка, человека (по ее мнению) способного и бескорыстного, преданного интересам Франции. Затрагивая самолюбие короля, она утверждала, что Людовик XIII, вышедший из-под опеки кардинала, будет славою своего королевства и предметом удивления всей Европы. Король колебался, просил дать ему время на раздумье, но Мария Медичи была неумолима.
– Кардинал, – говорила она, – попирает ногами права дворянства, возводит знатнейших вельмож на эшафот, и если вы не примете меры, обезлюдит ваш двор. Он поставил вас во враждебные отношения ко всему семейству, вооружил вас против меня и против брата жены вашей. Вы – король по имени, а он – король на деле. Он стращает вас заговорами и злодейскими умышлениями аристократии на вашу жизнь… Но эти заговоры и умышления – только им же самим вылепленные пугала. Неужели я буду умышлять на вашу жизнь, или Гастон, или супруга ваша?
– Дайте мне обдумать…
– Нет, государь, – перебила Мария Медичи, – раздумье тут неуместно: теперь или никогда!
И она подала сыну на подпись указ об увольнении Ришелье.
– Один взмах вашего пера, – продолжала она восторженно, – и вы спасете Францию, всех нас, себя самого!
Король взял перо в руки, и в эту самую минуту на пороге кабинета показалась облаченная в свое красное одеяние тощая фигура кардинала.
– Ваше величество, – произнес он с глубоким поклоном, – я пришел просить вас уволить меня от занимаемой мною должности…
Король и Мария Медичи вскрикнули в один голос: первый – от испуга, вторая – от радости.
– Точно так, – продолжал Ришелье, – ибо семейное спокойствие должно быть вам дороже блага Франции. Под руководством вашей родительницы, Марильяка, вашего братца, супруги и при содействии вельмож, имеющих постоянные сношения с испанским двором, вы, без сомнения, докончите начатое дело умиротворения кальвинистов, усмирения олигархов и возвеличения Франции… Ваше королевство под опекою иноземцев и вельмож, без сомнения, достигнет в самое короткое время высокой степени могущества. Что касается до меня, я сегодня же еду в Гавр!
Отвесив поклон королю и Марии Медичи, кардинал медленно удалился. Что он не шутил и не попусту стращал короля, тому доказательством служила отправка его мебели в Гавр еще два дня тому назад, а в самый этот день, 10-го числа, он отправил туда же обоз с золотой монетой на двадцати пяти мулах… Ястреб выше взлетел, чтобы вернее ударить стаю кур, которой уподобились в эту минуту его враги-недоброжелатели. Вечером того же дня кардинал прибыл в Версаль для окончательного прощания с королем.
– Сеть интриг, которая опутывает теперь ваше величество, – сказал он между прочим Людовику XIII, – гордиев узел; я не Александр Македонский, чтобы рассечь его одним взмахом меча…
– Но благо Франции?
– В ваших руках ее гибель и спасение; выбор в вашей воле. В четыре года времени вы могли убедиться, к тому или другому клонились мои советы.
– Если бы я попросил вас остаться? – заискивающим голосом произнес король.
– Я бы не согласился, ваше величество.
– Ни на каких условиях?
– Вы бы их не приняли. Узы родства для вас дороже короны и счастья подданных. За все ужасы безначалия вас вознаградит любовь матери, супруги и дружба вашего брата… В последней вы, кажется, не можете сомневаться!
Людовик XIII, меняясь в лице, грыз ногти. При всей своей недальновидности он понимал, что без кардинала он останется как без головы.
– Кардинал, вы погубите Францию! – прошептал он.
– Боже сохрани, государь, не я! Не хочу отнимать этой заслуги у других.
– Так спасите ее!
Ироническая усмешка исчезла с бледного лица кардинала, и, устремив на короля долгий проницающий взгляд, он произнес:
– Спасу, но для этого требую от вашего величества совершенной доверенности и повиновения!
Франция была спасена; враги кардинала пропали. Этот день принятия кардиналом прежней должности, которую он оставил на несколько часов, назван «днем одураченных» (journee des dupes). На другой день, 11 ноября, по повелению Ришелье (т. е. короля), арестованный Марильяк был отправлен в Шатоден; принцесса Конти, герцогиня д'Эльбеф и маркиза де Фаржи были сосланы. В это же время дано было повеление вызвать из армии маршала Марильяка. Указом парламента (писанным под диктовку кардинала) объявлено, что король, будучи главою семейства, не обязан повиновением своей матери… Это было предостережение, даваемое Марии Медичи, непрозрачный намек, что месть кардинала обрушится и на ее коронованную голову. Арестованная в Компьене, она сбежала в Бельгию. Этому бегству предшествовал арест маршала Бассомпьера, посаженного затем в Бастилию.
Власть кардинала в эту эпоху достигла своего апогея, и террор деспотизма дал себя почувствовать.
В марте 1631 года Гастон Орлеанский бежал за границу. Сообщники его для пущей безопасности желали привлечь на его сторону один из укрепленных пограничных городов, в котором он мог бы найти прибежище. Некто ла Лувьер вошел в переговоры с комендантом города Ардра, маркизом де Монкорель, в то же время капитан дю Валь намеревался овладеть Вердюном. Тот и другой не успели в своих замыслах: ла Лувьер был обезглавлен, а дю Валь повешен. Начало кровавого 1632 года было ознаменовано казнью доктора Бенара за умысел отравить Ришелье. В марте начался процесс маршала Марильяка, обвиняемого не в государственной измене, но в хищениях из казны… 10 мая 1632 года в половине пятого часа пополудни ему отрубили голову на Гревской площади. Брат его умер через три месяца.
– Хотя бы причину казни моей подыскали порядочную! – говорил маршал, восходя на эшафот. – А то обвинили в преступлении, за которое и лакея не стоило бы наказывать телесно!
Гастон Орлеанский, находившийся в Брюсселе, собрав около 8000 войска, готовился вторгнуться с ними в пределы Франции. Губернатор Лангдока Генрих Монморанси, сведав о намерении герцога, поднял знамя мятежа, встав во главе взбунтовавшихся войск, находившихся в Лангдоке. Маршал де ла Форс сразился с мятежниками 18 августа 1623 года близ горы Сен-Андре и разбил их наголову. В замке Турнон, вскоре сдавшемся королевским войскам, были взяты в плен виконт де л'Этранж (de I'Estrange) и барон д'Антраг (d'Entragues). Несмотря на заявление герцога д'Эльбефа, Ришелье обоих пленников приговорил к смерти, и они были казнены 6 и 7 сентября; через неделю той же участи подвергся в Лионе капитан Капистон. Все эти жертвы не только не остановили, но, напротив, придали энергии герцогу Монморанси, и он дал клятву до последней капли крови отстаивать права Гастона Орлеанского. Озлобленный на короля и на кардинала, т. е. вообще на это правительство двулицего Януса, Монморанси намеревался заменить его одним Гастоном Орлеанским. Войска последнего соединились с войсками Монморанси в Пезена; с юга угрожали вторжением во Францию войска испанские. 7 сентября 1632 года мятежники сразились с полками ла Форса близ Кастельнодари. В битве принимали личное участие Гастон, Монморанси и граф Море, побочный сын Генриха IV; она продолжалась не более получаса и окончилась бегством Гастона, смертью Море и пленом Монморанси, поднятого замертво и покрытого семнадцатью ранами. Получив известие о гибели своих приверженцев, Гастон протяжно свистнул и сказал только:
– Пропало мое дело!
Этот панегирик графу Море лучше всяких разглагольствований дает читателю понятие о характере брата Людовика XIII… И за подобную дрянь люди жертвовали своими головами! Положим, что приверженцы Орлеанского действовали в его пользу не столько из любви к нему, сколько из ненависти к королю и кардиналу, но неужели они не могли выбрать достойнейшего претендента на престол! На другой же день после поражения при Кастельнодари Гастон вступил в переговоры с Людовиком XIII и подписал следующие условия:
1) отступаюсь от всяких сношений с Испанией, Лотарингией и королевой-родительницей;
2) обязуюсь поселиться в городе, который будет мне назначен для жительства;
3) обязуюсь не ходатайствовать за моих единомышленников, взятых в плен;
4) иноземцы, мои союзники, через восемь дней выйдут из пределов Франции;
5) прислуга и весь мой штат будут состоять из лиц, выбранных самим королем;
6) лиц, которые неугодны государю, обязуюсь немедленно уволить от моей службы;
7) сеньор Пюилоран сообщит подробно королю о всех моих злоумышлениях;
8) отныне и впредь обязуюсь доводить до сведения государя обо всем, что может клониться к нарушению спокойствия его и государства.
Другими словами, Гастон обязывался быть доносчиком, шпионом и предателем и согласился принять все три предложения, лишь бы спасти голову свою от плахи.
В то время как герцог Орлеанский подписывал позорный договор, Генрих Монморанси, заключенный в Лектуре, спокойно ожидал решения своей участи, вверив себя попечениям своего верного лекаря Люканта. Раны заживали одна за другой – к несчастию.
– Друг мой, – сказал ему герцог однажды, – запомните первую статью моего духовного завещания. Прядь моих волос, отрезанная после моей смерти, должна быть разделена на три доли: первую возьмите вы, вторую – жена, а третью… нет, после скажу! Эта мысль отравляет мои последние минуты.
– Ваша светлость! Да о каких последних минутах вы говорите? – спросил удивленный лекарь. – Ваши раны…
– Малейшая из них смертельна.
– Понимаю! Вы намекаете на суд? Но, как Бог свят, вы будете помилованы.
– Добрый друг! Вы прекрасный врач, но плохой политик… Помните, что я в руках кардинала; я – муха, запутавшаяся в паутину, из которой ей живой не суждено вырваться. Ах, – вздохнул Монморанси, – зачем я не родился простым пастухом или виноградарем! Посмотрите, – прибавил он, указывая в окно на крестьян, собиравших виноград, – вот где жизнь, спокойствие и счастье!..
Грустные предчувствия узника вполне были основательны. Из Лектура он был отправлен в Тулузу и здесь под сильным конвоем введен в ратушу, в которой заседала следственная комиссия под начальством хранителя печати де Шатонефа, бывшего пажа в доме Монморанси.
– Ваше звание и имя? – спросил Шатонеф.
– Вы должны знать и то и другое! – гордо отвечал герцог.
– Я спрашиваю по долгу службы…
– Быть по-вашему. Я потомок Монморанси; крестник и тезка короля Генриха IV. Звание мое: маршал Франции, победитель англичан в море, испанцев и кальвинистов на суше.
– Вы сражались против короля при Кастельнодари?
– Да, защищал права его брата. Мог ли уважать их король, приговоривший к изгнанию свою родную мать?
– Напоминаю вам об уважении к королю.
– Оно неизменно. Я защищаю не жизнь мою, а честь.
При третьем заседании герцог Генрих Монморанси был обвинен в открытом мятеже и приговорен к смертной казни. Приговор свой Монморанси выслушал с невозмутимым спокойствием; плакали судьи, читавшие его. Твердой, бестрепетной рукой приговоренный написал жене своей следующее письмо:
«Сердце мое! говорю вам последнее прости с любовью, которая постоянно связывала нас. Спокойствием души моей и неизреченным милосердием Божиим заклинаю вас не предаваться отчаянию. Утешайтесь мыслью, что Господь даровал душе моей желанное спокойствие. Еще раз – простите!
Генрих, герцог Монморанси».
Вся бывшая при дворе знать подняла голос в защиту герцога. В ответ на просьбы Людовик XIII более или менее остроумно отшучивался.
– Вы, кажется, готовы отдать руку на отсечение за герцога? – сказал он графу дю Шателе.
– Обе отдам! – отвечал тот. – Лишь бы спасти руку, которая выиграет вам сотни сражений!
Сен-Прейль, взявший герцога в плен, сказал в присутствии кардинала несколько колкостей на счет его эминенции. Ришелье, возвратясь домой, записал его в красную книжку. Принцесса Конде, сестра герцога, приехав к нему, рыдая, на коленях умоляла замолвить королю слово о прощении Монморанси.
– Сударыня, – отвечал кардинал со слезами, – что значит мой голос перед непреклонной волею государя?
– Он много значит, – сказала принцесса. – Я уехала из дворца именно в ту минуту, когда король, видимо, смягчился…
– Смягчился? – быстро перебил Ришелье. – О, в таком случае я не теряю надежды его умилостивить. Даю вам слово, честное слово… только вы, со своей стороны, не докучайте королю.
Утром 30 октября (день казни герцога) граф Шарлю принес к Людовику XIII жезл маршальский и цепь ордена св. Духа, отобранные у Монморанси. Король играл в шахматы с Лианку-ром. Последний и граф Шарлю, упав на колени, умоляли короля помиловать осужденного.
К ним присоединились: дю Шателе, д'Эпернон, Гиз, Конде и Шатилльон. Их вопли сначала раздражали Людовика, потом как будто тронули.
– Кардинал! – сказал он Ришелье, входившему в комнату. – Что мне делать?
В эту минуту с улицы дошел в комнату крик нескольких тысяч граждан, единогласно просивших о помиловании Монмо-ранси.
– Это бунт! – пояснил Ришелье. – Уступать в подобных случаях – верх неблагоразумия!
– Дайте мне обдумать, сообразить… – пробормотал король, удаляясь в кабинет, куда минуты через две явился и кардинал.
– Государь, – произнес он, – кажется, вам придется простить герцога. Народ, дворянство за него, и кроме них есть у него еще один ходатай – немой, но красноречивый.
– Кто еще?
Ришелье подал ему медальон с миниатюрным портретом Анны Австрийской и локоном ее волос под нижней дощечкой медальона.
– Этот портрет герцог отдал на сохранение приятелю своему Белльевру, – пояснил кардинал. – Надеюсь, государь, что этот залог дружбы, данный супругою вашей герцогу, окончательно смягчит ваше сердце.
Король – оглушенный, бледный, едва переводя дыхание, – смотрел на портрет безумными глазами; потом с ужасной улыбкой прошептал:
– А я уже хотел его помиловать!
В два часа пополудни из кабинета он вышел в залу. Здесь его опять обступили вельможи, и между ними герцог Гиз и принц Конде.
– Не просите, господа! – крикнул король громовым голосом. – Монморанси умрет.
– Государь! – прошептал Конде. – Мне жаль не его, мне вас жаль… Страшный грех берете вы на душу.
– Право? – усмехнулся король. – Так я открою вам глаза насчет вашего зятя. Это что? – шепнул он принцу, показав ему портрет королевы. – Если вы не обижаетесь на ветреность герцога, то я не могу ему простить связи с моей женой! Слышите – связи!.. Помните это! Скажите преступнику, что во внимание к его имени и прежним заслугам я разрешаю вести его на эшафот не связанным. Довольствуйтесь этой милостью.
Приговоренный к смерти ждал в зале градской ратуши роковой минуты шествия на эшафот, беседуя со своим духовником, отцом Арну, сидя у камина.
– В котором часу казнь? – спросил он бывших тут чиновников.
– В пять, ваша светлость.
– Нельзя ли ускорить? Я желал бы умереть в час крестной кончины Иисуса Христа.
– Это в вашей воле.
– И прекрасно. Прикажите же подать мне одеться и остричь мне волосы. Долой богатое платье!.. Спаситель на Голгофу шествовал полуобнаженный.
– Позвольте мне остричь вас! – сказал врач Лежант, пересиливая свою скорбь.
– Да, остригите и помните дележ. Одну прядь – вам, другую – жене, а третью ей (Анне Австрийской), и скажите, что я умер с мыслию о ней.
– Теперь все? – спросил герцог по окончании стрижки.
– Все! – прошептали присутствовавшие, задыхаясь.
– Господа, господа, умейте же владеть собою! – смеясь, сказал Монморанси. – Если бы Бог посылал мне смерть на поле сражения, я сумел бы умереть как следует, но умирать на плахе для меня новость, и я боюсь, чтобы как-нибудь не оплошать. Позовите сюда палача: я хочу переговорить с ним.
Палач явился.
– Друг мой, – сказал герцог, – потрудись показать мне, как надобно встать на колени и класть голову на плаху?
– Вот так, ваша светлость, – отвечал палач, – колени раздвинуть, шею вытянуть.
Герцог повторил и, встав на колени, спросил: «Хорошо?»
– Хорошо!
– Ну, не позабуду твоих наставлений!
Войдя во двор, на котором был воздвигнут эшафот, Монмо-ранси взбежал по ступеням.
– Скажите королю, что я умираю верным его подданным.
– Вы становитесь слишком близко к краю, – заметил палач, – голова упадет с эшафота на мостовую.
– Виноват, – отвечал герцог. – Видишь, я говорил, что неловок.
Когда его привязывали к чурбану, прилаженному к плахе, он просил вязать осторожнее, чтобы не повредить ему еще не заживших ран. Кладя голову на плаху, он поцеловал поданное ему распятие и произнес: «Господи, в руки твои предаю дух мой!» Последними же его словами была просьба к палачу:
– Бей смелее!
Генрих Монморанси был счастливее графа Шалэ: голова его отлетела от туловища с одного удара.
Окончим, однако, нашу скорбную летопись и длинный перечень жертв кардинала-министра.
В ноябре того же 1632 года в Безьере судили дворянина Дэзе де Курменен (Deshayes de Courmenin), сына губернатора Монтаржи. Он служил по министерству иностранных дел и в молодости путешествовал по северным государствам Европы: бывал в Швеции и у нас, в России. В полной уверенности, что Ришелье поручит ему ведение переговоров с Густавом-Адольфом, королем шведским, он предложил свои услуги кардиналу, но получил отказ. Недовольный и обиженный, он уехал в Брюссель к Марии Медичи и Гастону Орлеанскому. Первая поручила ему заложить в Германии ее брильянты и просить помощи у императора австрийского. В Вере Дэзе по повелению французского посланника барона де Шарнасе был арестован и отправлен во Францию. По приговору суда Дэзе за государственную измену был обезглавлен.
В сентябре 1633 года в Метце был колесован солдат Де-льфинстон за намерение умертвить кардинала. В марте 1634 года за то же самое преступление был повешен некто Жанэ, именовавшийся д'Юрфэ, бароном де Шаваньяк. 8 апреля были повешены и сожжены в Париже священник Адриан Бушар и диакон Гарган – за чародейство! Нелепому верованию в возможность сношения людей со злыми духами тогда не были чужды во Франции, как и во всей Европе, просвященнейшие классы общества. Мария Медичи совещалась с астрологами, Людовик XIII потратил немало денег на алхимические опыты, которыми его морочил некто Дюбуа, повешенный впоследствии за обман; придворные дамы и знатнейшие вельможи прибегали в своих любовных интригах к содействию знахарей, ворожеек, покупая у них приворотные корешки, симпатические амулетки и т. п. Уличенные в чародействе на допросах, сопровождаемых невыносимыми пытками, сами на себя наговаривали Бог знает какие небылицы, которым верил суд. Процесс священника Урбана Грандье в Лудене служил тому ясным доказательством. Урбан, молодой, красивый собой, славился скандалезными своими похождениями и вообще вел образ жизни, несогласный со священническим саном. Епископ Пуатье наложил на него пятилетнюю епитимью, снятую, однако же, архиепископом Бордоским де Сурди. Несмотря на это прощение, вскоре на Урбана Грандье была предъявлена жалоба от луденского урсулинского монастыря о порче, пущенной Урбаном на тамошних монахинь. Сущность дела состояла в том, что бедный Грандье имел с некоторыми из них связь; неудостоенные его внимания подруги его возлюбленных из ревности оговорили Грандье, и начался процесс под наблюдением Лобардемона, одного из клевретов кардинала Ришелье. По следствию оказалось, что Урбан Грандье имел самые близкие сношения и даже переписку с бесами: Астаротом,
Асмодеем, Уриелем, Левиафаном, Валаамом и многими другими, по его повелению вселявшимися в тела урсулинок. В бумагах Урбана нашли подлинный его договор с адом, писанный кровью; рукописное сочинение против безбрачия католического духовенства, стишки соблазнительного содержания… Сверх того, Лобардемон секретно донес кардиналу, что подсудимый всегда непочтительно отзывался о нем и что едва ли не Урбан Грандье автор безымянного пасквиля на королевскую фамилию.
Процесс начался 2 февраля 1633 года, 29 июля следующего года был обнародован указ, приговаривавший к цене в 10000 ливров каждого, дерзающего отрицать порчу и дьявольское наваждение. Урбан Грандье был приговорен к принесению всенародного покаяния на папертях церквей св. Петра и св. Урсулы, потом к сожжению на костре после предварительной пытки сапожками;[94] исполнителями приговора вызвались быть священник Лактанций из Пуатье и монах-капуцин Транкилль; они же исправляли должность палачей и при пытках Урбана. Судьи дали им секретное приказание: до зажжения костра удавить Грандье для избавления его от страданий, но палачи-аматеры нарочно запутали веревку петли, накинутой на шею казнимого, и он сгорел живой. Для убеждения народа, что Урбан действительно раб злого духа, во время шествия его на казнь ему предложили приложиться к серебряному распятию, которое держал в руке… Урбан, приложась, с воплем отдернул губы: распятие было раскалено и обожгло страдальца… Инквизиторская изобретательность!
30 июня 1635 года герцог Пюилоран, один из сообщников Гастона Орлеанского, был отравлен в Венсене по повелению Ришелье. Усмирение мятежей в южных областях Франции сопровождалось также страшными зверствами. 9 ноября 1641 года был казнен Сен-Прейль, тот самый капитан, который, подав голос в защиту Генриха Монморанси, был записан в красную книжечку кардинала. Предлог к обвинению был самый ничтожный, но стараниями клеветников Ришелье ему был придан характер преступления уголовного.
Казнь де Ту и любимца короля Людовика XIII Генриха Ку-аффье, маркиза де Сен-Марс (Cing Mars) 12 сентября 1642 года была последнею казнью в царствование Ришелье; в июле скончалась Мария Медичи в Кельне, а в декабре умер и сам кардинал, кровавыми, неизгладимыми буквами вписавший свое имя на скрижали истории Франции. Он в оправдание своих жесто-костей говорил на смертном одре:
– Я был строг для иных, чтобы быть добрым для всех! Фраза, бесспорно, остроумная, но так ли оно было на самом
деле? Был ли для кого-нибудь добр кардинал Ришелье, кроме своих клевретов?… Из последних особенным его расположением пользовались: Лафейма, дю Трамбле (отец Жозеф), Лобарде-мон, Шавиньи. Первый при кардинале играл ту же самую роль, которую при Людовике XI играл Тристан де л'Эрмит. Шавиньи был побочным сыном Ришелье от госпожи де Бутийе (BoutiLLet), получивший стараниями своего родителя должность статс-секретаря. Ссорясь иногда с королем, Шавиньи грозил ему, что будет жаловаться кардиналу, и Людовик XIII смирялся. В должности шутов при кардинале состояли: его духовник отец Мюло, Ла Фоллон и Буа Робер. Первые два славились обжорством и любовью к бутылочке; Буа Робер писал в честь кардинала оды, хвалебные гимны и восхищался стихотворениями его эминенции, достойными похвал разве только из уст лизоблюда. К чести кардинала заметим, что он собеседничеству шутов предпочитал собеседничество кошек. Этих животных было у него штук до десяти; они прыгали у него по столу в кабинете, ложились к нему на колени или с громким курлыканьем терлись около его шеи… Прыжки и игры кошек смешили кардинала, а глядя на их драки, он говаривал:
– Точно наши придворные господа!
Выше мы уже говорили, что и в характере этого человека была смесь лютости льва с лукавством и влюбчивостью кошки. Данник слабости человеческой, страшный Ришелье в течение своей труженической жизни неоднократно искал отдохновения от умственных трудов в объятиях любимой женщины. После упорного – но безуспешного и смешного – ухаживания за Анной Австрийской он удостаивал благосклонным своим вниманием знаменитую куртизанку Марион де Лорм, госпожу де Шон и до последнего дня сожительствовал со своей родной племянницей госпожой Комбалле, в 1638 году переименованной в госпожу д'Эгилльон (d'Aiguillon).
Марион де Лорм два раза имела счастье посетить кардинала: в первый раз переодетая пажем, во второй – курьером. За оба посещения Ришелье послал ей со своим камердинером де Бурнэ сотню пистолей… Обиженная куртизанка подарила их посланному. Впрочем, связь кардинала с ней едва ли не имела особенной цели. Есть основание полагать, что Марион де Лорм состояла на жалованье у Ришелье в качестве шпионки. При ее огромном знакомстве с молодыми знатными людьми, при откровенности с ней последних эта камелия имела возможность без особенного труда выведывать от них все, что нужно было знать кардиналу, и доводила о том до его сведения.
Госпожа де Шон пользовалась благосклонностью Ришелье довольно долгое время, но недешево поплатилась за эту благосклонность. В один прекрасный вечер, при возвращении ее из Сен-Дени в карете, на нее напали шесть всадников с намерением разбить об ее лицо две бутылки с чернилами, насыщенными раствором купороса. Фаворитка кардинала сумела, однако, защитить лицо руками, и весь вред, причиненный ей негодяями, ограничился разбитыми стеклами, испятнанными каретными подушками и испорченным платьем красавицы. Эту шутку сделала над ней ревнивая госпожа де Комбалле из опасения, чтобы она не отбила у нее любезного дядюшку.
Эта фаворитка выдана была кардиналом в 1620 году за Антония Дюбур де Комбалле – старого горбуна с лицом, изрытым оспой. Разумеется, красавец этот был мужем подставным, которому Ришелье недешево платил за его фамилию. Овдовев, госпожа Комбалле дала клятву навеки остаться вдовой и облачилась в наряды кармелитки. То и другое плохо согласовывалось с ее наружностью, в полном смысле слова очаровательной. Как бы то ни было, Комбалле не расставалась с монашеским платьем, хотя и состояла при Анне Австрийской в качестве камер-фрау. По мере возвышения Ришелье его племянница начала изменять своему костюму, а при возведении его в должность министра готова была изменить и обету безбрачия. Ее сватали: де Брэзе, де Бетюнь и граф де Со (Sault) Ледигьер, но по воле ревнивого кардинала она всем им отказала. Четвертым настойчивым искателем руки Марии Комбалле был граф Суассон, но и тут дело разошлось… Ходили слухи, будто племянница кардинала, хотя и вдова, – девственница непорочная. Слухи эти основывались на том, что из девического ее имени Мария де Виньеро (Marie de Vignerot) можно составить анаграмму: vierge de ton mari! (девственница твоего мужа). Де Брэзе, оскорбленный отказом, первый пустил в ход молву, что кардинал живет со своей племянницей и что имеет от нее четверых детей. По этому поводу по рукам пошла довольно злая эпиграмма неизвестного автора:
Вчера Филида в страшном гневе И в огорченьи к королеве С формальной жалобой вошла: «Злодей Брэзе пустил в огласку Нелепую пустую сказку — Что четырех я родила. И от кого же? От Армана». Тут королева ей в ответ: «Брэзе, то знает целый свет, Любитель сплетен и обмана! Утешьтесь: даже самый тот, Кто к вам приязни не питает, Вам скажет, что Брэзе и лжет, И вечно вдвое прибавляет!»Все эти оскорбительные слухи доходили до ушей кардинала, но он не обращал на них никакого внимания и, как будто издеваясь над злоязычниками, ежедневно утром и вечером принимал у себя во дворце госпожу Комбалле, проводя с нею время с глазу на глаз. Охотники подглядывать замечали, что, идучи к кардиналу, она имела на груди букет цветов, а возвращалась без букета… Если на этом обстоятельстве были основаны слухи о связи с нею кардинала, то связь эта весьма сомнительна; впрочем, были и иные доказательства, гораздо убедительнее. На руках племянницы Ришелье и умер: она закрыла ему глаза. Нужно ли прибавлять, что при жизни дяди госпожа Комбалле имела целую свиту льстецов, поклонников и угодников, готовых за нее в огонь и в воду? Расчет этой челяди был верен: племянница замолвит ласковое словцо дяде, кардинал не оставит своей милостью добровольного холопа племянницы.
О Ришелье-селадоне, обожателе Анны Австрийской, мы подробно поговорим при биографическом очерке королевы; теперь заключим характеристику кардинала описанием его последних минут.
В конце ноября 1642 года кардинал начал жаловаться на колотье в боку и, несмотря на поданную помощь, в течение двух дней чувствовал себя все хуже и хуже. Во дворец к больному прибыли маршалы Брэзе, де ла Мейлльере и верная госпожа д'Эгилльон (бывшая Комбалле). В понедельник 1 декабря кардиналу стало несколько лучше, но к вечеру открылась лихорадка, и к врачам, окружавшим постель больного, присоединился лейб-медик Бувер, присланный Людовиком XIII. Во вторник утром он сам навестил кардинала.
– Государь, – сказал Ришелье, – пришло время собираться мне в далекий путь, но я умираю с сознанием, что государство возведено на высокую степень могущества и что все враги его, внутренние и внешние, истреблены. Во внимание к моим заслугам не оставьте моих родных. Поручаю еще вниманию вашему людей дельных и полезных: де Нойе, де Шавиньи и кардинала Мазарини.
– Будьте спокойны, – отвечал король, – все желания ваши будут исполнены, но я надеюсь, что еще не скоро.
Не желая утомлять больного, Людовик XIII вышел из спальни и, проходя по картинной галерее, рассматривал ее сокровища не только с улыбкой, но и со смехом. Он радовался смерти кардинала.
– Сколько еще остается мне жить? – спросил больной у докторов.
Они отвечали комплиментами и успокоительными уверениями.
– Хорошо, – перебил их кардинал с досадою. – Позовите ко мне доктора Шико.
Ему Ришелье особенно доверял и уважал его за прямодушие.
– Шико, говорите мне прямо: скоро ли я умру?
– Вы не рассердитесь, если я скажу правду?
– За этим-то я вас и позвал.
Шико на минуту призадумался и отвечал:
– Через двадцать четыре часа вы умрете или произойдет кризис к выздоровлению.
– Вот это называется говорить дело. Благодарю вас. Ночью Ришелье исповедовался и приобщался; весь день 3
декабря провел довольно спокойно, но в первом часу пополудни 4-го числа почувствовал приближение агонии.
– Друг мой, – сказал он племяннице, – выйди из комнаты: любя от всей души тебя, моя милая, не хочу огорчать тяжелым зрелищем.
Она не дошла и до дверей, как кардинал скончался. Умер он, как видит читатель, очень спокойно, без всяких мелодраматических эффектов, выдуманных позднейшими биографами-романистами. Одни пишут, будто смертный одр кардинала окружали тени всех им казненных; другие – будто он в бреду беседовал с Сен-Марсом и Монморанси; третьи – будто плакал по убиенным… И все это вздор, фантазия, выдумки, делающие честь как пылкому воображению авторов, так и их простодушной уверенности, что злодей без угрызений совести и умереть не может… А между тем, Боже мой, какое множество людей, у которых на совести лежат десятки, если не сотни преступлений, умирают себе так спокойно, как редко доводится иному добрейшему человеку. Наполеон I на острове Св. Елены умирал как праведник, рассказывая окружающим о том, что за гробом он будет беседовать с Аннибалом, Сципионом, Юлием Цезарем, Фридрихом Великим. Не тревожили последних минут сына судеб призраки ни герцога Ангиенского, ни одной из сотен тысяч жертв его властолюбия, похороненных на ратных полях трех частей света; даже знаменитая фраза: «Солдаты – цифры, которыми разрешаются политические задачи», – даже и та не пришла в голову умирающему герою.
Женитьба Людовика XIII на дочери испанского короля Филиппа III, Анне Австрийской (25 декабря 1615 года), была следствием политических соображений Марии Медичи. Супруги чуть не в пеленках были обручены друг с другом. По прибытии Анны во Францию она с первой же встречи со своим нареченным женихом и вскоре супругом поняла, что супружество не принесет ей особенного счастья. Людовик XIII – угрюмый, молчаливый, немножко заика – собеседничеству с супругою предпочитал занятие охотою и музыкою и целые дни проводил то с ружьем, то с лютнею в руках. Молодая королева, ехавшая во Францию с надеждою жить весело, счастливо, на радость себе и другим, вместо всего этого нашла скуку, однообразие и печальное одиночество. Скука сблизила ее с герцогиней де Шеврез, определенной к ней в качестве статс-дамы. Герцогиня – первая любовь короля – теперь имела при дворе репутацию красавицы, опасной кокетки и лукавейшей интриганки. Она первая внушила Анне Австрийской отплачивать королю за его холодность той же монетою; не губить молодости в безотрадном уединении, наконец, в кругу придворных отыскать себе обожателя, по наружным и внутренним своим качествам достойного взаимности. Эти внушения с первого раза показались королеве противными тем нравственным правилам, в которых она была воспитана в родительском доме; но мало-помалу она последовала советам герцогини и, будучи не прочь взять себе фаворита, затруднялась только выбором… В толпе обожателей она заметила между прочими и тощую фигуру кардинала. Смеясь, она сообщила о своем открытии герцогине; но в уме любимицы быстро созрел план: подчинить Ришелье влиянию королевы и тем лишить министра его всемогущества. Предлагая Анне Австрийской невинно кокетничать и завлекать влюбленного кардинала, герцогиня взяла на себя не совсем благородную роль посредницы. Гениальный дипломат, истинно государственный муж, Ришелье повел себя в отношении к королеве как влюбленный мальчишка. Некоторые историки, желающие в каждом поступке кардинала Ришелье видеть единственную цель – благо Франции, – утверждают, будто он ухаживал за Анной Австрийской и домогался ее взаимности для того, чтобы порадовать неплодного и расслабленного Людовика XIII наследником. Есть основания предполагать, что он действительно оправдывал этим свое ухаживание. Ришелье был влюблен не на шутку, вздыхал, писал стихи и особенно услуживал герцогине де Шеврез, умоляя ее, хотя намеками, довести до сведения жестокой королевы о его сердечных страданиях. Герцогиня обнадеживала кардинала; утешала его мыслию, что он не совсем противен Анне Австрийской и что своим усердием и постоянством, конечно, может добиться взаимности. Ловя его на слове, что он для королевы готов на всевозможные жертвы, лукавая герцогиня предложила ему от имени Анны позабавить королеву пляскою сарабанды в шутовском наряде полишинеля.
– Мне, плясать? – вскричал Ришелье. – Но это будет курам на смех!
– Вы не говорили бы этого, если бы получше знали женское сердце, – невозмутимо отвечала герцогиня. – Недавно королева отзывалась о вас с весьма выгодной стороны, но заметила только, что постоянная ваша угрюмость ей неприятна. Я отвечала, что, вероятно, и вы умеете быть веселым. «Едва ли, – сказала она, – не протанцует же он в угоду мне сарабанду?» – «А если?» – спросила я. «Если да, то и я с моей стороны буду готова на многое; слышите – на многое».
– И завтра же я явлюсь к ее величеству! – воскликнул Ришелье.
– В костюме полишинеля?
– Непременно.
– И протанцуете сарабанду?
– Как сумею… Но, надеюсь, все останется в тайне, между нами?
– Еще бы, ваша эминенция!
На другой же день Ришелье явился к герцогине. Он был одет в красный бархатный камзол, перетянутый кожаным поясом с широкой медной пряжкой, короткие пестрые штаны были окаймлены у поджилок серебряными бубенчиками, в обеих руках пощелкивали кастаньеты.
– А шапка? – спросила герцогиня, едва удерживаясь от смеха.
– Вот она! – отвечал Ришелье, надевая дурацкий колпак с погремушками.
– Прекрасно. Теперь я проведу вас на ту половину, где вас ждет королева; спрячу вас за дверную занавесь, и когда хлопну в ладоши, выскакивайте в комнату и танцуйте!
Через четверть часа Ришелье с балаганными кривляньями плясал сарабанду перед Анной Австрийской, смеявшейся до слез; герцогиня аккомпанировала плясуну на спинете.
– Теперь, ваше величество, – прошептал кардинал, задыхаясь, по окончании танца, – теперь верите ли вы, что для вас я способен на все?
– Верю, что вы прекрасно танцуете, – уклончиво отвечала королева.
– Любовь творит чудеса, – вскричал Ришелье, целуя руку Анны Австрийской.
– Браво! – засмеялась она. – Сыграв роль полишинеля, вы ударяетесь в любезности, приличные арлекину… Талант! Но мне пора во дворец, – сухо досказала она, вставая. – Благодарю за забаву… Герцогиня, прикажите подавать мою карету.
– Дела ваши идут отлично! – сказала герцогиня, возвращаясь к кардиналу после проводов королевы. – Надобно ковать железо, пока горячо. Теперь необходимо приступить к переписке.
– Зачем это? – спросил удивленный Ришелье.
– Интрига без переписки немыслима. Клятва клятвою, документ документом. Докажите королеве на деле ваше совершенное к ней доверие…
Странный, неуловимый луч счастливой мысли мелькнул в глазах кардинала.
– И вы полагаете, прелестная герцогиня, что любовная записка скрепит мой предполагаемый союз с королевою? – произнес он, покручивая усы.
– Непременно, ваша эминенция!
– От души благодарю за совет… Я ему последую. Ранним утром на другой день он позвал к себе в кабинет некоего шевалье Ландри, состоявшего на жалованье при его канцелярии. Ниже мы увидим, в чем состояла его должность.
– Садитесь к столу, – скомандовал Ришелье, – и пишите под диктовку моим почерком!..
Он продиктовал письмо на имя королевы, в котором делал ей самое нежное признание, с предложением сердца и всевозможных услуг на политическом поприще. Содержание было таково, что, если бы письмо попало в руки Людовика XIII, он не поблагодарил бы своего первого министра. Когда Ландри дописал письмо и скрепил его подписью Ришелье, кардинал просмотрел его от первой до последней строчки и отсчитал писцу 1500 пистолей. Вечером письмо, переданное кардиналом герцогине де Шеврез, было уже в руках королевы… Та и другая были уверены, что им удалось уловить Ришелье в растянутые ему сети, но вместо его самого они держали в руках его тень.
Дальнейшее ведение любовной интриги с королевою было отложено кардиналом. Двор и весь город готовились к торжеству бракосочетания сестры короля, принцессы Генриэтты, с королем английским, только что воцарившимся Карлом ЬЛицо последнего при церковном обряде должны были изображать чрезвычайные посланники графы Кэрлиль и Голланд. Ко дню празднества (11 мая 1625 года) совершенно неожиданно прибыли в Париж любимец Карла I и первый его министр герцог Бекингэм. Этот приезд был крайне неприятен как королю Людовику XIII, так и кардиналу. Причинами неудовольствия была и политика (герцог намеревался ходатайствовать за кальвинистов), и ревность, так как стоустая молва давно разнесла по всем концам французского королевства тысячи чудесных рассказов о красоте, любезности, ловкости – в особенности же об успешных волокитствах – герцога Бекингэма. По распоряжению короля он был приветствуем градским главою и выборными от всех сословий. По старинному обычаю, они поднесли герцогу четыре дюжины белых восковых свеч, столько же ящиков конфет и шесть дюжин бутылок вина. Герцог благодарил депутатов за внимание в самых любезных выражениях. Брачных торжеств не описываем; подобных пиров и турниров Париж давно не видывал. На великолепном балу, данном на второй день свадьбы, во дворец кардинала явился, обращая на себя всеобщее внимание, великолепный герцог Бекингэм, к восторгу дам, бешенству и зависти кавалеров. Высокий ростом, превосходно сложенный, с черными пламенными глазами, герцог мог бы пленить собою и в самом простом наряде, но на бал он явился в одеянии, которое богатством затмевало костюмы первейших щеголей. На Бекин-гэме был серый атласный колет, вышитый жемчугом, с крупными жемчужинами вместо пуговиц; на шее в шесть рядов было надето такое же ожерелье, из под которого сияла брильянтовая звезда ордена св. Георгия, оцененная в 800000 ефимков. Белые перья на головном берете были прикреплены пятью солитерами в 50000 ливров каждая… В ушах были вдеты жемчужные серьги; вышивка зеленой бархатной епанчи была совершенством своего рода. Ослепив весь двор богатством и красотой, герцог удивил его и своей грациозностью в танцах. На несколько кадрилей он был кавалером Анны Австрийской, и эта пара, говоря без всякой лести, напоминала Венеру и Аполлона, наряженных в костюмы XVII столетия. Тысячи глаз любовались ими, и между этими тысячами одна пара глаз особенно настойчиво следила за всеми их движениями… То были глаза кардинала.
– Змея под цветами! – шепнула королева герцогине де Шеврез, кивнув ей на Ришелье.
Очарованная Бекингэмом, Анна Австрийская стала с ним еще любезнее, желая досадить влюбленному кардиналу. Последний во время самого разгара бала послал нарочного за отцом Жозефом (дю Трамбле), который и явился в кабинет Ришелье, вышедшего из бальной залы.
– Вы знаете о приезде Бекингэма? – спросил Ришелье.
– Знаю. В Лондоне я видел этого блестящего мотылька. Он пустой человек…
– Так, но присутствие его в Париже мне несносно. Его необходимо выпроводить. Надобно поставить его в необходимость самому требовать у парламента своего удаления или еще того лучше принудить парламент отозвать герцога.
– Это можно… я это устрою.
– Завтра же отправляйтесь в Лондон. Золота не жалейте, лишь бы через две недели герцога Бекингэма не было в Париже.
Отец Жозеф исчез как тень; кардинал возвратился в бальную залу. Здесь из уст в уста ходил рассказ о только что сделанной герцогом выходке, изумившей всех присутствовавших. Во время танцев и по их окончании, прохаживаясь по комнатам, он растерял несколько жемчужин, осыпавшихся с его колета и епанчи. Когда находчики приносили ему растерянные зерна, он, улыбаясь, пенял им, что они из-за такой безделицы беспокоились, и просил их оставить находки у себя на память. Таким образом, любимец английского короля рассыпал жемчуга свыше чем на сто тысяч ефимков. Юпитер обольщал Данаю золотым дождем, а герцог Бекингэм Анну Австрийскую – жемчужным… Подобные выходки роскоши, доходящие до сумасбродства, были испокон веков свойственны преимущественно временщикам и фавориткам (благо, тем и другим деньги легко достаются). Так, наш Потемкин-Таврический разъезжал по Петербургу верхом на коне с серебряными подковами, слабо пригвожденными именно затем, чтобы терять их и дарить находчикам. Правда и то, что серебряная подкова не жемчужина, да и между герцогом Бекингэмом и Потемкиным есть тоже немалая разница.
Бал окончился на заре. Придворные дамы и девицы разъехались по домам, более или менее очарованные не столько праздником, сколько главным его украшением – английским герцогом. Два сердца признали себя его пленниками: они пе-рерывисто бились в лилейной груди Анны Австрийской и ее любимицы герцогини де Шеврез. Положение последней было тем грустнее, что она предвидела неприятное положение, готовившееся ей в близком будущем: быть помощницей в интригах с любимым ей человеком другой женщины, выслушивать от нее страстные признания, караулить и охранять любовников при их нежных свиданиях… видеть их райское блаженство и в это время изведывать все адские муки ревности, зависти и отверженной любви. Несмотря на свой ветреный характер, герцогиня де Шеврез была одинаково способна и на привязанность, и на самопожертвование.
В тот век высший и средний классы французского общества смотрели на супружество и на обязанности, им налагаемые, как на бремя, сбросить которое при удобном случае не почиталось проступком. Непостоянство и ветреность почитались отличительными признаками высшего тона и порядочности. Анна Австрийская влюбилась в герцога Бекингэма с первой же с ним встречи и привязалась к красавцу со всем пылом первой страстной любви. Ее не столько тревожила мысль о ее расслабленном супруге, сколько боязнь происков кардинала Ришелье. Анна и Бекингэм напоминали нежных голубков, над которыми высоко в поднебесье кружились ястребы; они инстинктивно чувствовали на себе его взгляд, следивший за ними везде и всюду. Тайное свидание, которого жаждали влюбленные, было почти немыслимо: невидимки-шпионы наблюдали за ними, и в числе их был усердный Лафейма. Последний, по приказанию Ришелье, собрал даже целую шайку наемных убийц, которым было приказано, в случае удавшегося свидания Анны с Бекингэмом, умертвить последнего. Дворец королевский и дом герцогини де Шеврез, в котором остановился английский посланник, были как бы в оцеплении. При такой обстановке устроить свидание было бы геройским подвигом для герцогини; она не задумалась совершить этот подвиг. По ее распоряжению был прорыт подземный ход из погребов ее дома в склепы смежной с ним церкви женского монастыря Валь-де-Грас. Работали люди, душой и телом преданные Бекингэму. Было условлено, что королева придет вечером в церковь, куда придет ее возлюбленный, переодетый в одежду монаха-капуцина; отсюда подземным ходом они безопасно проникнут в дом герцогини. К несчастью, этот план был известен Ришелье, и один из его шпионов был спрятан в церкви. Королева и герцогиня де Шеврез успели убежать вовремя; Бекингэм при содействии своих приближенных угомонил непробудным сном дерзкого лазутчика. На следующее утро неудавшегося свидания в ризнице был найден труп… По всему городу разнеслась молва, что убиенный не кто иной, как вор, забравшийся в ризницу для похищения облачений и церковной утвари. Так показал и садовник монастыря Валь-де-Грас, сознавшийся чистосердечно, что он подстерег злоумышленника и на месте преступления решился наказать его за святотатство. Следствие было назначено по распоряжению кардинала, и оно привело к открытию подземного хода из погребов дома герцогини в церковь. Герцогиня отозвалась, что она о существовании подкопа не имела и понятия, прибавив к этому, что подкоп мог быть веден и из церкви в погреба ее дома. Дело, впрочем, поспешили замять, но по повелению Людовика XIII королеве было предложено не отлучаться из Лувра.
Покуда в Париже разыгрывалась эта комедия, отец Жозеф в Лондоне не терял времени и действовал как нельзя лучше. Немедленно по прибытии в Великобританию он вошел в самые дружеские отношения с леди Клэрик, любовницей Бекингэма, им покинутой, но тем не менее или, лучше сказать, тем более ревнивой и злобной. Отец Жозеф сообщил ей о сближении Бе-кингэма с королевой; объяснил ей, сколь необходимо удаление посланника из Парижа; наконец, совещался с ней о мероприятиях к побуждению герцога спешить возвратом в Лондон. Леди Клэрик указала на способ вернейший и надежнейший.
– Известно ли вам, – сказала она отцу Жозефу, – что теперь у нас идут страшные религиозные расправы между пресвитерианами и пуританами? Вопрос религиозный – только щит, под которым скрывается меч усобиц, а может быть, даже и секира, готовая подсечь под самый корень королевскую власть. Покуда этот мятеж тлеет, как искра… раздуйте ее, и зарево мятежа будет видно Бекингэму, хотя он и на континенте!
Совет был хорош; лучшего не могла дать отцу Жозефу и сама Немезида. Клеврет кардинала немедленно ему последовал, и, бродя по грязным тавернам и трущобам, местам сборищ диссидентов, говорил возмутительные речи, воспламенял фанатическую ненависть в приверженцах пуританизма, обещал им содействие французских кальвинистов… одним словом, раздувал искру мятежа в пламя и подливал на него масла. Что же касается до его знакомства с Оливером Кромвелем, о котором упоминает Тушар-Лафос в своих Хрониках Воловьего глаза,[95] – это фантазия, детище игривого воображения, не заслуживающее внимания. Участие Ришелье в религиозных мятежах Англии при Карле I несомненно. Ослабить эту державу и тем способствовать возвышению Франции это, конечно, входило в политическую программу кардинала, но что особенно побудило его ускорить мятежное волнение в Англии? Ненависть к Бекингэму, зависть и ревность. Будь на месте Анны Австрийской женщина старая, безобразная, будь герцог Бекингэм годами тридцатью старее, и в истории Англии XVII века не было бы многих кровавых страниц. К несчастию, в биографии рода человеческого, называемого историей, мы чаще видим важные последствия от самых ничтожных причин. Тут невольно сравнишь государство с человеческим организмом: от лишней крошки кушанья может произойти воспаление желудка; простуда какого-нибудь микроскопического волосного сосудца ведет к горячке; от соринки, попавшей в глаз, человек может лишиться зрения… Не то ли самое бывает и с государствами? Первый министр одной державы после сытного ужина чувствует расстройство желудка и вследствие этого находится в раздраженном состоянии духа; желчь играет, на весь Божий свет министр смотрит сквозь какую-то злобную призму. В эту неприятную минуту ему докладывают о приезде посланника, которого он принимает с кислым лицом; посланник обижается, гримасы министра кажутся ему умышленными дерзостями, о чем он и уведомляет свой двор. Возникают неприязненные отношения; слово за слово, око за око, зуб за зуб, и оканчивается дело войной, и тысячи людей гибнут из-за того, что у первого министра болел желудок в тот день, когда его посетил посланник N. N. двора. Ложка клещевинного масла могла бы отстранить реки человеческой крови; не попади в желудок министра лишняя крупинка кушанья, и головы тысяч людей были бы спасены.
Стараниями отца Жозефа мятежи пуритан в Англии приняли угрожающий характер, и клеврет Ришелье поспешил возвратиться к своему патрону накануне отбытия из Парижа герцога Бекингэма. Встревоженный вестями, полученными из Лондона, герцог, однако же, успокаивал Генриэтту, которую он должен был сопровождать и представить супругу, венчавшемуся с ней заочно. Отец Жозеф уезжал в Лондон во время бала у Ришелье и возвратился точно так же во время прощального празднества в честь Бекингэма. На заре Бекингэм, принцесса Генриэтта, сопровождаемые всем двором, выехали из Парижа. Первый ночлег был в Компьене, где Людовик XIII захворал лихорадкой. Пользуясь удобным случаем, герцогиня де Шеврез нашла возможность уладить первое и последнее свидание королевы с Бекингэмом в гардеробной комнате… Покуда король тревожно метался на постели, страдая не столько от лихорадки, сколько от мнительности, супруга его и герцог Бекингэм блаженствовали под охранением бдительной герцогини де Шеврез. В эту ночь на сумрачном челе Людовика XIII выросли два украшения, обыкновенно видимые всем, кроме тех, кто их носит.[96] К вящему счастью любовников, он остался в Компьене, позволив Анне Австрийской провожать Генриэтту до Амьена. Здесь на празднике, данном высоким путешественником, случилось происшествие, непонятное и несколько скандалезное.
Вечером, гуляя под руку с Бекингэмом, сопровождаемая герцогиней де Шеврез, лордом Голландом и шталмейстером де Пютанж, королева с Бекингэмом уединились в беседку из кап-риофолий, откуда вскоре раздался ее крик… Почему королева, молчаливая в гардеробе, вскрикнула в саду? Этой загадки история не объясняет. Прибежавшие на помощь нашли герцога Бекингэма весьма переконфуженного, королеву – бледную и плачущую. Так говорит Лапорт в своих мемуарах, а госпожа де Моттвиль в своих записках утверждает, что крик королевы служит доказательством ее «добродетели и целомудрия»… Все это очень странно и загадочно!
На другой день герцог Бекингэм, королева Генриэтта и их свита отправились в Булонь. Прощаясь с герцогом, Анна прослезилась, и по его смуглым щекам также катились крупные слезы. Желая оставить герцогу на память «вещественный знак невещественных отношений», королева поручила герцогине де Шеврез (провожавшей королеву Генриэтту в Лондон) передать ему аксельбант[97] с двенадцатью брильянтовыми подвесками – подарок короля Людовика XIII. Этот аксельбант был надет на королеве в день первого представления Бекингэма на аудиенции в Лувре. Передачу ящика с подарком заметила старая графиня де Ланнуа, шпионка Ришелье, сообщившая о том, кому ведать надлежало.
По отбытии Генриэтты в Булонь между Анной Австрийской и герцогиней де Шеврез возникла деятельная переписка через посредство камердинера королевы Лапорта. Размен писем был до того част, что губернатор, не желая задерживать посланного, приказал не запирать на ночь городских ворот… И за этой корреспонденцией наблюдали ищейки кардинала. Совершенно неожиданно из Булони в Амьен прибыл герцог Бекингэм. Он оправдывал свой приезд получкою депеш из Лондона, в которых Карл I поручал своему любимцу подтвердить, что лондонский кабинет употребит все от него зависящие средства к поддержанию дружественных отношений с кабинетом парижским. Герцог представился Марии Медичи и спрашивал у нее разрешения представиться ее невестке. Старая графиня де Ланнуа ввела герцога в комнату Анны Австрийской. Королева по случаю нездоровья приняла его в постели. Пылкий Бекингэм вопреки не только этикету придворному, но и правилам приличия упал перед постелью на колени, осыпая поцелуями края одеяла… Все эти излияния восторга происходили в присутствии графини де Ланнуа и госпожи де Конти. Королева наружно гневалась на герцога и, высылая его из своей опочивальни, успела, однако, шепнуть ему утешительное: «До свидания…» Поздним вечером ему посчастливилось увидеться с королевой во дворцовом саду, а на заре он был уже на корабле, снимавшемся с якоря в Кале для отплытия в Лувр с королевой Генриэттой. Когда супруга Карла I ступила на палубу, на нее посыпался с вершин мачт и рей благоухающий снег из белых роз и померанцевых цветов; пушки грохотали, заглушая звуки музыки и неистовое «ура!», которым английские матросы приветствовали свою королеву. Подобно Марии Стюарт, шестьдесят лет тому назад оплакивавшей свою разлуку с Францией, плакала и Генриэтта, супруга внука Марии, в смутном предчувствии грядущих бедствий. Лицо Бекингэма было также угрюмо и влажно от слез: он оставлял во Франции женщину, им обожаемую всеми силами последней любви, без надежд на скорое свидание…
По возвращении своем из Амьена в Париж Анна Австрийская была встречена королем с грубой холодностью, из которой бедняжка весьма основательно заключила, что Людовику XIII уже известны все ее проделки с Бекингэмом. Благодаря вмешательству Марии Медичи гнев короля поутих, поразив, однако, приближенных Анны Австрийской: шталмейстера Пютанжа и камердинера Лапорта. Как бы в вознаграждение за ссылку этих людей судьба возвратила королеве ее верного друга герцогиню де Шеврез, возвратившуюся из Лондона вместе с мужем, недавно пожалованным в кавалеры ордена Подвязки. Герцогиня привезла королеве поклон от Генриэтты и от милого Бекингэма; Анна, в свою очередь, подробно сообщила своей любимице о всех неприятностях, перенесенных ею со времени их разлуки… Гнев Людовика XIII на супругу сменился охлаждением: он заметно чуждался даже случайной с нею встречи. Тогда-то Ришелье написал преданной ему леди Клэрик в Лондон письмо следующего содержания: «Так как благодаря вашему содействию цель наша достигнута и герцог выехал из Франции, то не сомневаюсь, что он сблизился с вами по-прежнему. От этого сближения, равно как и от услужливости вашей, я ожидаю великой пользы в весьма важном деле. Мне доподлинно известно, что королева Анна Австрийская подарила герцогу на память голубой аксельбант с двенадцатью брильянтовыми подвесками. При первом же удобном случае постарайтесь отрезать две или три привески и доставьте их немедленно ко мне; а я уже знаю, что с ними сделать. Этим вы навеки рассорите королеву с вашим вероломным возлюбленным, мне же дадите возможность уронить его окончательно во мнении Людовика XIII, а может быть, даже и самого его величества, короля Карла I».
На первом же маскараде в Виндзоре герцог Бекингэм явился в костюме, украшенном подарком Анны Австрийской. Леди Клэрик, вооруженной парой ножниц, не стоило большого труда отстричь две привески заветного аксельбанта. Камердинер герцога, раздевавший его по возвращении домой, заметил кражу, и Бекингэм был настолько проницателен, что увидел в ней не корысть, но явно умысел повредить ему и королеве Анне… Он даже догадался, что вором был не кто иной, как леди Клэрик, и, не теряя ни минуты, принял меры к отклонению опасности, грозившей ему и королеве французской, а опасность эта была почти неминуемая. Ришелье, всячески уговаривая Людовика XIII примириться с королевой, предложил ему дать большой бал во дворце, пригласив королеву.
– Если при этом, – сказал Ришелье, – ваше величество в присутствии всего двора окажете королеве любезное внимание, тогда умолкнет злословие и затихнут нелепые слухи о приключениях в Компьене и Амьене. В неосновательности их вы убедитесь сами, если супруга ваша явится на балу беспечно-веселая, спокойная. Не дурно было бы также, если бы она надела аксельбант, подаренный вашим величеством… если только она может его надеть…
– Почему же не может? – спросил Людовик XIII, меняясь в лице.
– Об этом аксельбанте тоже ходили странные слухи, которым не стоит верить…
– Однако для чего-то вы советуете мне предложить королеве надеть аксельбант?
– Чтобы зажать рот клеветникам. Впрочем, ваше величество, увидите сами.
Вечером того же дня Анна Австрийская получила от короля следующее письмо: «Государыня и возлюбленная супруга, с удовольствием и от всего сердца сознаемся в неосновательности подозрений, дерзких и несправедливых, которые пробудили в нас по поводу некоторых событий в Амьене. Мы желали бы публично заявить вам, сколь глубоко были мы тронуты невольною несправедливостью. Посему завтра 9 января приглашаем вас в замок Сен-Жермен, а если вы желаете доказать ваше незлопамятство, то потрудитесь надеть аксельбант, подаренный вам в начале прошедшего года. Этим вы совершенно нас порадуете и успокоите. Людовик».
Это милое письмо как гром поразило Анну Австрийскую; даже находчивая герцогиня де Шеврез, даже и та растерялась и не нашлась сказать ни слова, которым могла бы утешить бедную королеву. Анна решилась на несколько дней сказаться больною; этим временем она надеялась послать в Лондон к герцогу Бекингэму доверенного человека с просьбою возвратить подарок, сделавшийся теперь яблоком раздора между королем и королевою. Испуганному воображению последней уже мерещились развод, ссылка, монастырь, разрыв Франции с Испанией и Англией и, что всего ужаснее – позор неизгладимый. К совершенному отчаянию Анны Австрийской, герцогиня де Шеврез объявила ей, что сообщение с берегами Англии прервано и по повелению Карла I все порты заперты.
– В таком случае я пропала! – воскликнула королева.
– Успокойтесь, государыня, Бог милостив, может быть, мы еще что-нибудь придумаем. Что вы желаете сказаться больною на несколько дней – эта мера самая благоразумная и тем более удобная, что вы действительно нездоровы от всех этих неприятностей. Позвольте мне от вашего имени уведомить короля…
И герцогиня тотчас же написала к Людовику XIII письмо, извещая его о болезни Анны Австрийской, вследствие которой она при всем своем желании не может воспользоваться радушным приглашением государя впредь до выздоровления. Об аксельбанте не было упомянуто ни слова.
На другой же день король прислал своего камергера понаведаться о здоровье королевы; вслед за камергером явился лейб-медик с предложением услуг, в которых Анна Австрийская действительно нуждалась. Страшное нервное расстройство угрожало ей серьезной опасностью. Два дня прошли в мучительном беспокойстве для Анны и для герцогини де Шеврез; на третий день утром слуга последней вручил ей депешу из Лондона с надписью: «Весьма нужное». Быстро вскрыла она конверт и, пробежав письмо, воскликнула, задыхаясь от радости и обнимая королеву:
– Вы спасены, спасены!!
Депеша от Бекингэма была следующего содержания: «Заметив пропажу привесок и догадываясь о злоумышлении на спокойствие королевы, моей владычицы, я в ту же ночь приказал запереть все порты Великобритании, оправдывая это распоряжение мерою политическою: ради препятствия к сношениям подданных моего короля с мятежниками Ла-Рошели. Король одобрил мои распоряжения и приписал их моей заботливости к поддержанию доброго согласия между Англиею и Франциею. Пользуясь временем, я заказал хорошему ювелиру заменить отрезанные две привески новыми, и надобно отдать ему справедливость, он сделал свое дело нельзя лучше, в чем легко убедитесь и вы при первом взгляде на аксельбант, который при сем препровождаю. Курьер мой пробудет в Париже целые сутки, и ко времени его возвращения все порты Великобритании будут открыты… Скажите государыне, что, если бы дело касалось не до ее спокойствия, я не расстался бы с ее бесценным подарком, который ежечасно осыпал поцелуями и слезами. Теперь, кроме воспоминания, не остается в душе моей иного сокровища, но этого уже у меня не отнимет никакая сила в мире, и я сохраню это воспоминание в глубине моего сердца до той минуты, в которую оно замрет под рукою смерти. Эти слова, надеюсь, вы передадите королеве вместе с ее подарком!»
Через четверть часа герцогиня привезла в Лувр футляр с аксельбантом. Две привески были приделаны так искусно, что и сам ювелир, работавший остальные десять, не мог бы отличить их от своей работы.
– Вы спасены, государыня, – сказала герцогиня де Шеврез, – но этого мало: подумайте о мщении кардиналу. Напоминаю вам о его любовном письме, которое вы обязаны вручить вашему супругу. Когда Ришелье увидит на вас аксельбант, он онемеет с досады, а вы, пользуясь минутой, можете окончательно раздавить этого ядовитого змея!
На другой день был назначен бал. Перед выходом королевы король, сопровождаемый кардиналом, вошел в ее уборную (Анна уже была одета) и, окинув ее наряд мрачным взглядом, произнес дрожащим голосом:
– Радуюсь вашему выздоровлению и в то же время не могу не досадовать, видя, как мало обращаете вы внимания на мое спокойствие!
– Я вас не понимаю, ваше величество! – отвечала невозмутимо Анна Австрийская.
– Мудрено надеть убор, которого у вас нет… – вскрикнул король и остановился под обаянием змеиного взгляда Ришелье.
– Да, государыня, – произнес кардинал с своей приторной улыбкой. – Ревнуя о спокойствии короля, я следил за странными поступками герцога Бекингэма в бытность его при дворе и убедился, что он имел дерзость домогаться вашей благосклонности. Само собою, что искания его были с негодованием отвергнуты, и только из жалости вы, государыня, подарили ему аксельбант, которым герцог так мало дорожил, что отдал его другому лицу, распродавшему привески по мелочам. Один из моих агентов в Лондоне купил у жида вот эти две привески…
Ришелье подал коробочку королю, и в будуаре воцарилось минутное молчание. Лицо королевы было величаво-спокойно; герцогиня де Шеврез едва удерживалась от смеха.
– Ваше величество, – произнесла Анна Австрийская, – потрудитесь отомкнуть ларчик, который стоит на туалете…
Людовик XIII повиновался, и аксельбант со всеми своими привесками засиял радужными огнями, которые жгучими стрелами врезались в глаза и его величества, и его эминенции кардинала.
– Что вы на это скажете? – гневно спросил король у министра.
– Меня обманули, государь! В Лондоне или здесь, но меня обманули!
– Нет, – вмешалась королева, – вы хотели обмануть короля и поселить раздор между им и мною. Как ни оскорбительны были мне неосновательные подозрения государя, вами ему внушенные, я, может быть, еще сказала бы слово вам в оправдание, если бы вами руководила благородная ревность о его спокойствии, а не ревность отвергнутого любовника, плясавшего передо мною сарабанду и имевшего дерзость писать ко мне любовное письмо.
Королева, дрожа от ярости, чуть ли не в лицо кардиналу бросила письмо, писанное его секретарем Ландри. Король, схватив бумагу, пожирал ее огненными глазами, а по окончании чтения перенес их на Ришелье.
– Скажи мне, – произнес он дрожащим голосом, – человек ты или сам дьявол в человеческом образе?
– Всмотритесь в мое лицо, ваше величество, – спокойно отвечал Ришелье, – и решите сами, в состоянии ли был бы сам дьявол быть так невозмутим, как я в эту минуту.
– Вопрос не есть ответ! – вскрикнул король, заикаясь от ярости. – Вы писали это письмо? Вы? Знаете ли, что за это вас мало колесовать? За это следует жилы вымотать…
– Именно этого и желали мои враги, подделавшие это письмо!
– Подделавшие?!
– В чем вы и ее величество сию же минуту убедитесь. Не угодно ли вам выйти в соседнюю залу.
Король, королева и герцогиня вне себя от изумления вышли из будуара; через пять минут в аванзалу был введен Ландри.
– Кто писал это письмо? – спросил Ришелье, показав ему бумагу.
– Я, ваша эминенция.
– Вы слышите? – обратился кардинал к державным супругам.
– С какой целью?
– Этого я не знаю, но меня обольстили щедрой наградой.
– Кто?
– Герцогиня де Шеврез, – отвечал Ландри, указав глазами на герцогиню.
– Я? – воскликнула та, дрожа всем телом.
– Вы сами!
– Докажи истину, – сказал король, – и напиши сей же час этим самым почерком…
– Нет ничего легче! – сказал Ландри и тотчас же написал несколько строк.
– Государь, – сказала королева, – клянусь вам Богом, что это письмо написал сам кардинал и через герцогиню передал мне.
– Клянусь и я, ваше величество, – воскликнула герцогиня, – что кардинал из рук в руки передал мне это письмо.
– А я клянусь святым распятьем, – торжественно произнес Ришелье, – что письмо подложное.
– Кому же верить? – быстро сказал король. – Тут, я вижу, все обманывают, все лгут, и одурачен я один. Этого молодца, – продолжал он, кивнув на Ландри, – в Бастилию и допросить как следует. Его показания решат и вашу участь, герцогиня!
– Государь, – воскликнула любимица королевы, – неужели вам не угодно понять, что этот человек – клеврет кардинала…
– Изучивший мой почерк, – досказал Ришелье, – и по этому самому избранный вами в сообщники. Это, конечно, весьма понятно не только его величеству, но малому ребенку.
Собеседники разошлись в невыразимом негодовании друг на друга; Ландри спокойно отправился в Бастилию, вполне уверенный, что Ришелье согласно своему обещанию выручит. Действительно, в ночь Лафейма явился в келью Ландри, вручил ему от имени кардинала две тысячи пистолей и объявил, что за стенами крепости его ждут два проводника, которые будут ему сопутствовать до Марселя, где он сядет на корабль. Эти попутчики были шпионы кардинала, подчиненные Лафейму, друзья-приятели Ландри. Верхом все трое (Ландри и его спутники) воротами св. Антония выехали в Венсенский лес, и здесь в самой чаще «друзья» пристрелили ничего не подозревавшего Ландри… Кардинал умел прятать концы в воду. Весть о бегстве Ландри дошла до ушей короля. «Не ясно ли, ваше величество, что ему помогла герцогиня!» – сказал Ришелье. Таким образом, кардинал не утратил ни на волос своего влияния на Людовика XIII, продолжавшего питать к своей супруге и ее приятельнице непримиримую ненависть.
Любовь Анны к Бекингэму была единственным скоротечным лучом счастья всей ее жизни. Воспоминание о нем было единственной отрадой бедной королевы. Он, со своей стороны, делая политику оружием своей любовной интриги, изыскивал все способы для приезда во Францию под благовидным предлогом. Желанный предлог не замедлил представиться. Между Карлом I и его супругою Генриэттой вследствие несходства характеров возникло неудовольствие, и их семейный быт напоминал отчасти быт королевского семейства во Франции. Злые языки того времени говорили, будто герцог Бекингэм был виновником несогласий между Карлом I и его супругою, несогласий, посева-емых герцогом умышленно, чтобы побудить королеву съездить для свидания с родными во Францию. Карл I на это согласился, и Генриэтта отписала Марии Медичи, что намеревается приехать к ней в сопровождении Бекингэма. Королева-родительница сообщила об этом кардиналу; кардинал доложил королю.
– Генриэтта может приехать с кем угодно, но только не с Бекингэмом! – отвечал он в бешенстве.
– Но, ваше величество, – возразил Ришелье, – теперь его присутствие во Франции необходимо: не сегодня, так завтра английский парламент может принудить Карла I оказать помощь кальвинистам в Ла-Рошели.
– Пусть принуждает, но Бекингэму при моем дворе не бывать.
– Вспомните, государь, что путем переговоров вы можете спасти жизнь нескольких тысяч ваших подданных.
– Я не против этого, но лишь бы переговоры велись не через Бекингэма!
Герцог, уведомленный об упрямстве Людовика XIII, дал клятву вредить Франции и во что бы то ни стало рассорить с нею своего короля.
– Пропадай же заодно с моим блаженством и спокойствие всей Европы! – вскричал он, бросая об пол великолепную чернильницу, выточенную из цельного халцедона. – Клянусь моим покровителем, святым Георгием! Я им докажу, что можно быть королем и не нося ни короны, ни порфиры. Они не хотят принять меня как посланника с мирными предложениями, я явлюсь во Франции как полководец и приведу за собою войну!
С этой минуты между обеими державами начались самые натянутые, неприятные сношения. Дипломатические ноты, которыми они разменивались, дышали взаимной ненавистью, предательством, были приправлены угрозами. Английские крейсеры открыто снабжали мятежный Ла-Рошель оружием и военными припасами. Все предвещало неизбежный разрыв. Ришелье понял, откуда ветер дует, и с сатанинской усмешкой радостно потирал руки, торжествуя в войне как политик и как соперник Бекингэма на любовном поприще…
23 августа 1628 года герцог Бекингэм был убит Фельтоном. Сохранилось предание, будто убийца за две недели перед тем был во Франции и имел несколько свиданий с кардиналом Ришелье.[98]
Весть об убиении герцога жестоко поразила Анну Австрийскую, и скорбь ее не имела границ. По целым дням запершись в своей молельне, она, заливаясь слезами, молилась за упокой души человека, подобного которому она уже не встречала более во всю свою жизнь. Людовик XIII, в характере которого был богатый запас хамства и подлости, особенно когда представлялся случай обижать беззащитного или бить лежачего, – Людовик XIII решился отомстить своей супруге за ее минувшие шалости и за любовь к мертвому Бекингэму.
В первых числах сентября он назначил в Лувре домашний спектакль с балетом, в котором должны были принять участие первейшие красавицы двора. Причисляя к ним и свою супругу, король предложил ей протанцевать какое-то па в этом балете.
– Мне, танцевать? – простонала королева.
– А почему же и нет? Вы так молоды, так прелестны…
– Но, государь…
– Или вы опасаетесь встретить опасную соперницу? Не бойтесь, их у вас нет и быть не может… Или по случаю траура по убиенному…
– Я буду танцевать, ваше величество!
– И прекрасно! Этим вы доставите мне большое удовольствие.
На первой же репетиции королева, бледная, как привидение, попробовала протанцевать свое па, но в глазах у нее помутилось и она без чувств упала на пол.
– Снесите королеву в ее покои, – сказал Людовик XIII тем же самым тоном, каким на охоте он приказывал поднимать и нести затравленного оленя. – Жаль, она действительно нездорова, – прибавил он, – впрочем, и лекарство, мною придуманное, тоже недурно!
В заголовке этой статьи мы выставили в перечне временщиков и фавориток царствования Людовика XIII Маргариту д'Отфор, маркиза Баррада и Сен-Марса, маркиза д'Эффиа, пользовавшихся особым расположением короля. Это расположение было мимолетной прихотью бездушного Людовика XIII. Хвалясь своим целомудрием, он ухаживал за Маргаритою д'Отфор, не домогаясь взаимности и в то же время издеваясь над своей возлюбленной. Ласки, им оказываемые Маргарите, носили на себе отпечаток наглой солдатчины и денщичьего ухарства, непростительных в короле, сыне любезного и деликатного Генриха IV. Однажды, сидя за столом рядом с Маргаритой д'Отфор, Людовик, набрав в рот красного вина, прыснул ей этим вином на открытые плечи и грудь. Если этой выходкой он хотел доказать, что он глуп и невежлив, то напрасно трудился: за глупца и невежу его знавал весь двор. Маркиз Баррада, за короткое время заслуживший тьму почестей и наград за свои познания в псовой и соколиной охоте, точно так же очень скоро подвергся изгнанию, оставив на память по себе поговорку: счастье Баррада (fortune de Barradas), которую применяли вообще к человеку, которому счастье везет, везет, а там неожиданно изменяет и давит тем же самым колесом, которым недавно возносило на высоту почестей и благополучия. Не такова ли участь и всех временщиков, кроме французского маркиза Баррада?
Сен-Марс – герой знаменитого романа Альфреда де Виньи, превознесенный романистом до небес, – был на самом деле дрянь человек, по нашему народному выражению. В люди его вывел кардинал Ришелье, уговорившийся с этим любимцем, чтобы он при Людовике XIII играл роль шпиона, что Сен-Марс и исполнял с особенным усердием. Его отношения к королю были, кажется, те же самые, которые были у Федьки Басманова к Ивану Васильевичу Грозному. Людовик XIII ревновал своего любимца к его любовницам Марион де Лорм и мадемуазель де Шамеро. Когда Сен-Марс уезжал на осаду Арраса, король взял с него клятву, что он будет ему писать дважды в день, и когда любимец как-то позамешкал и не прислал к королю письма, его величество проплакал целый день, в полной уверенности, что Сен-Марс, или, как его называли, Господин Великий (Monsieur le Grand) убит. Со всеми придворными Сен-Марс держал себя нагло, грубо; любил хвалиться своими нарядами, а пред королем кокетничал не хуже какой-нибудь камелии. Забыв все милости кардинала, Сен-Марс принял участие в заговоре на его жизнь и вместе с тем вошел в сношения с Испанией. Марион де Лорм не замедлила донести кардиналу на своего возлюбленного… Схваченный в Сорбонне, допрошенный и уличенный в государственной измене, Сен-Марс был казнен 12 сентября 1642 года вместе со своим другом и сообщником де Ту. Месяца за два до его падения Людовик XIII говорил о нем капитану Фаберу:
– Надоел он мне! Вот уже полгода как меня тошнит, когда гляжу на него!
– Я готов бы был поручиться, что милость вашего величества неограниченна.
– Все то же думают, но это не так. Сен-Марс самое развратное и неблагодарнейшее существо; не ценит он ни моего расположения, ни милостей, которыми я его осыпаю… А если бы вы знали, каких денег он мне стоит! Знаете ли, что у этого мота одних сапог до трехсот пар?
Этот отзыв Людовика XIII о своем фаворите напоминает жалобы старого папаши на мотовство своей содержанки. И самый этот Сен-Марс попал в герои романа Альфреда де Виньи, романа, над которым наши отцы проливали слезы! Впрочем, вообще царствование Людовика XIII, т. е. Ришелье, – неистощимый источник романических сюжетов, из которого один покойный Дюма почерпнул своих «Трех мушкетеров», «Двадцать лет спустя», «Виконта де Бражелона» и, если не ошибаемся, еще два или три романа, знакомые нашей читающей публике по переводам.
Одновременно с последним вздохом кардинала Ришелье (4 декабря 1642 года) вздохнул свободнее и Людовик XIII. Место умершего временщика немедленно заняли кардинал Мазарини и де Нойе; узникам Бастилии, и в числе их – маршалу Бассомпьеру, была объявлена свобода; останки королевы Медичи, умершей в доме Рубенса в Кельне, были перевезены в королевскую усыпальницу Сен-Дени. Не скрывая своей радости о кончине Ришелье, король предложил своему казначею Мирону написать стихи на смерть кардинала. В басне Эзопа осел лягнул умирающего льва; почему же какому-нибудь Мирону было не поглумиться над памятью Ришелье. Вот приблизительный перевод, вполне достойный плохих виршей оригинала:
Его уж нет! Исчез наш кардинал? Для всех его друзей – ужасная потеря, Но не для тех, которых угнетал, Преследовал, тиранил, обижал… Они теперь избавлены от зверя! Исчез наш кардинал! И тот, кто за железную решетку Других с таким усердием сажал, Сам, наконец, в свинцовый гроб попал! Когда кортеж чрез мост переезжал, Наш медный всадник, верно, во всю глотку, Взглянув на этот гроб, захохотал…[99] Исчез наш кардинал!Эти стихи до того понравились Людовику XIII, что он сам переложил их на музыку. Одно другого стоило!.. Издеваясь над памятью человека, прославившего его царствование, Людовик XIII сам, видимо, приближался к гробу, снедаемый изнурительной хронической болезнью, которая в феврале 1643 года осложнилась воспалением желудка, от которого, впрочем, в начале апреля король как будто избавился и встал с постели, однако же слег через два дня и более уже не вставал. С 3 по 19 апреля страдания его были невыносимы, и он, при всем своем жизнелюбии, пришел к убеждению, что болезнь его смертельна. 20 апреля он объявил Анну Австрийскую правительницею королевства, а на другой день совершился торжественный обряд крещения над дофином Людовиком, которому было тогда четыре с половиною года (он родился в 1638 году, 5 сентября). Восприемниками были кардинал Мазарини и принцесса Шарлотта де Монморанси, мать великого Конде. Обряд совершался в часовне старого замка Сен-Жермен в присутствии королевы и всего двора. Когда после церемонии дофин пришел к отцу, король спросил его:
– Как же тебя зовут?
– Людовиком четырнадцатым, – бойко ответил мальчик.
– Покуда еще нет, – сказал умирающий с улыбкою, – но молись Богу, чтобы оно случилось поскорее!
Последние дни апреля месяца больной провел в душеспасительных беседах со своими священниками, читал Евангелие и с аккомпанементом лютни пел псалмы Давида. Иной, глядя на умирающего Людовика XIII, сказал бы, пожалуй: «Вот кончина праведника!» – и как бы жестоко ошибся. Умилительная обстановка смертного одра Людовика XIII была следствием не религиозности, а только ханжества этого человека; тут главную роль играла обрядность; не было истинно христианского смирения, а «уничижение паче гордости»… Король драпировался в свой саван и, как фигляр, кривлялся перед смертью, фразировал: «Если пришел мой час ехать в далекий, неведомый путь, – я готов!» «Я не боюсь смерти…» Эти фразы он повторял ежеминутно. С 11 по 13 мая положение его стало безнадежным; в четверг 14-го числа в три четверти третьего часа пополудни он скончался в полной памяти, вслушиваясь в чтение отходной молитвы…
Умер-то он, пожалуй, и хорошо; жаль только, что жил очень дурно. Наперекор латинской пословице De mortuis aut bene, aut nihil («О мертвых отзывайся хорошо или ничего не говори») мы рассмотрим пороки и достоинства Людовика XIII и предоставим самому читателю решить, которых в нем было больше. Неблагодарный, как все Бурбоны, он был, кроме того, скуп, жесток и пошл, т. е. любил тратить время на пустые забавы, казавшиеся ему чуть не государственными делами. Когда ему доложили, что Корнель желает посвятить ему своего «Полиевкта», король отказался от этой чести, чтобы не потратиться на подарок великому трагическому писателю. После смерти кардинала он вычеркнул из списков всех членов Академии, получавших пенсию.
– Теперь им хвалить некого, – сказал он при этом, – стало быть, и пенсию платить не за что!
Не ради экономии, но единственно по чувству скаредности он сам проверял дворцовые расходные ведомости, сокращая некоторые статьи, всего менее разорительные. Супруге генерала Коке и де ла Врилльеру во время их дежурства во дворце каждый раз отпускалась из королевской кухни: первой – тарелка битых сливок, второму – бисквиты.
– Прекратить это лакомство! – изволил приказать Людовик XIII.
Во время болезни одного из его камер-лакеев доктор прописал больному, незадолго до его смерти, яблочное желе. Когда больной умер, король, пересматривая счета, сказал:
– Я бы готов был отпустить ему вместо одной банки желе целый пяток, лишь бы он был жив!
Эта фраза, впрочем, доказывает, что и Людовик XIII бывал великодушен.
Насчет жестокости скажем, что при осаде Монтоблана он, обходя перевязочный пункт, натолкнулся на целую груду пленных кальвинистов, оставленных без всякой помощи. Страдальцы, мучимые болью и томимые жаждою, громко стонали и умоляли сжалиться над ними. Король не велел ни давать им пить, ни перевязывать их ран; он любовался их муками и, издеваясь над пленниками, сказал графу де ла Рош-Гюйону:
– Посмотрите, какие рожи они делают! Впоследствии, когда граф был при смерти, король прислал
нарочного узнать о его здоровье.
– Плохо, – отвечал больной. – Скажите королю, что и я скоро начну строить рожи, как кальвинисты в Монтобане.
В день казни Сен-Марса, когда дворцовые часы пробили роковой час, в который голова любимца скатилась на эшафот, король улыбаясь сказал придворным:
– Теперь наш красавчик делает весьма нехорошую гримасу!
Таковы были пороки Людовика XIII; посмотрим на добродетели.
Во-первых, король отлично стрелял, умел дрессировать собак, плести тенета, чинить ружейные замки и даже выковывать целые ружья и вытачивать резьбу на прикладах.
Во-вторых, он мастерски чеканил медали и монеты; в последнем занятии ему помогал побочный внук Карла IX д'Ангулем. Он как-то сказал королю:
– Что бы нам соединиться, ваше величество, и работать в компании? Я бы вас научил приготовлять сплав, заменяющий в монете золото и серебро, а вы за это берегли бы меня от виселицы!
В-третьих, король разводил в парниках ранний зеленый горошек и посылал его продавать на рынке.
В-четвертых, он прекрасно стряпал некоторые кушанья; в-пятых, отлично брил… Однажды, забавляясь цирюльным мастерством над бородами дежуривших во дворце офицеров, он оставил у каждого на подбородке небольшой пучок волос, названный с того времени роялькою (royale). Наконец, в-шестых, он играл на лютне и очень дрянно сочинял музыкальные пиески.
– Охотник, слесарь, огородник, повар, брадобрей, музыкант… все это очень хорошо, – скажете вы, – но где же добродетели короля?
– Тут они все, – ответим мы. – Иных добродетелей за Людовиком XIII не водилось. Мир его праху!
Анна Австрийская. Кардинал Мазарини. Детство Людовика XIV
Семейство Манчини. – Герцог Бофор. – Ретц-Гонди. – Герцог Эльбеф. – Герцог Буйон. – Принц Конти. – Графиня де Лонгвилль. – Принц Конде
(1643–1651)
Вдовствующей королеве Анне Австрийской, назначенной Людовиком XIII правительницей Франции, в год кончины короля исполнилось сорок два года. Трудно было узнать прежнюю красавицу в разжирелой матроне, с одутловатым румяным лицом, крючковатым носом, отвислой нижней губой и двойным подбородком. В нравственном отношении Анна Австрийская точно так же изменилась, как и в физическом. Из прежней страстной мечтательницы, угнетенной мужем-самодуром, она сделалась ворчливой ханжой, которая при удобном случае была не прочь угнетать других; женщина, некогда обожаемая Генрихом Мон-моранси, потом герцогом Бекингэмом, была теперь любовницей, чуть не рабыней кардинала Мазарини, вместе с королевой прибравшего и всю Францию к рукам. Владычеством Ришелье это королевство было обязано слабоумию Людовика XIII; Ма-зарини попал во властители государства благодаря сердечной слабости Анны Австрийской… Разница между обоими кардиналами до того огромна, что их невозможно и сравнивать.
Джулио, или Юлий, Мазарини родился в Писшине (Абруцкой области) 14 июля 1602 года. Отец его Пьетро и мать Гортензия Буфалини принадлежали к хорошим дворянским фамилиям. Первоначальное образование Юлий получил в одной из римских семинарий и в юношеских летах продолжал свое учение в Испании, сопровождая туда аббата Иеронима Колонну. Три года молодой Мазарини слушал лекции в Алкале и в Саламанке. Он возвратился в Рим в 1622 году, когда иезуиты намеревались отпраздновать представлением трагедии причисление к лику святых их патрона Игнатия Лойолы. Главная роль была дана Юлию Мазарини, и он сыграл ее с блестящим успехом. Недурной дебют для будущего дипломата! Сценическое дарование юноши обратило на него внимание кардинала Бентиволио, который принял его к себе на службу простым служкою; но, как видно, в этой ничтожной должности Юлий сумел выказать свои дарования. Бентиволио рекомендовал его кардиналу Барберини, племяннику папы Павла V.
– Препоручая этого молодого человека вашему благосклонному вниманию, – сказал он при этом, – я надеюсь отплатить вашей эминенции за все благодеяния, оказанные мне вашим семейством.
– Благодарю за подарок, – отвечал Барберини. – Имя этого юноши?
– Юлий Мазарини.
– Но если он такой способный и дельный малый, почему же вы не хотите оставить его у себя?
– Я недостоин иметь его у себя в услужении.
– Хорошо, я его беру; но на что же он способен?
– На все, ваша эминенция.
– Прекрасно. На первый же случай мы отправим его в Ломбардию вместе с кардиналом Джинети.
И таким образом Мазарини начал свое дипломатическое поприще. В 1629 году он принимал деятельное и успешное участие в качестве уполномоченного интернунция при дворах Франции с Савойею в Сузе. В 1630 году с дипломатическими поручениями он был в Лионе, где представлялся Людовику XIII. Кардинал Ришелье провел более двух часов в беседе с молодым итальянцем и отозвался о нем, что это единственный государственный человек, которого ему доводилось встретить. Само собой разумеется, что в течение этих двух часов Ришелье успел привлечь Мазарини на свою сторону и приобрел в нем ревностного приспешника интересам Франции. Война с Испанией была тогда в полном разгаре. Мазарини удалось склонить воевавшие стороны к шестинедельному перемирию, а при возобновлении военных действий он имел храбрость выехать верхом между выступившими друг против друга войсками и, невзирая на свистевшие мимо него пули, кричал, махая шляпой: «Мир!!» Маршал Шомберг, видя из условий, предложенных Юлием Мазарини, что выгоднейших невозможно было бы и выговорить даже после самой победы, решился заключить мир, который через два часа был подписан в Кераско. О том, какими глазами смотрели в эту эпоху на Юлия Мазарини европейские дипломаты, читатель может судить по следующему о нем отзыву венецианского посланника Сагредо:
«Ясновельможный синьор Джулио Мазарини обладает приятной наружностью и хорошо сложен; вежлив, ловок, бесстрастен, неутомим, сметлив, прозорлив, скрытен, умеет молчать, точно так же, как и говорить красно и убедительно; не теряется ни при каких обстоятельствах. Одним словом, он одарен всеми качествами, необходимыми искусному дипломату; первый его дебют на этом поприще обличает мастера своего дела; на театре света он, конечно, займет одну из первых ролей. Судя по его здоровой комплекции, он, если не ошибаюсь, еще долго будет пользоваться готовящимися ему почестями, путь к которым затруднен ограниченным его состоянием».
Пророчество посланника Сагредо сбылось в 1634 году. Ришелье, пригласив Мазарини во Францию, назначил его вице-легатом в Авиньоне. В 1639 году он ездил в Савойю в качестве чрезвычайного посла; наконец 16 декабря 1641 года был наименован кардиналом и 25 февраля следующего года получил шапку из рук короля Людовика XIII. Ришелье на смертном одре указал ему на Мазарини как на благонадежнейшего чиновника, и король, назначив в пособие королеве-правительнице государственный совет под председательством принца Конде, назвал кардинала Мазарини одним из его членов; прочими были: кардинал Сегье, суперинтендант Бутийе и государственный секретарь Шавиньи. Гастон Орлеанский, наименованный главным попечителем дофина, был, однако же, подчинен королеве и государственному совету. Умирающий король особенно не доверял ни ему, ни своей супруге. Когда Шавиньи вздумал оправдывать перед Людовиком XIII Анну Австрийскую от всех взводимых на нее напраслин, король отвечал:
– В моем теперешнем положении я должен ее простить, но верить ей все-таки не могу.
Действительно, он был прав, отзываясь подобным образом о своей супруге. Находясь при последнем издыхании, он убедился в ее коварстве. Двор разделился на две партии: Вандома и ла Мейлльере. Вандом, побочный сын Генриха IV, во времена оны был губернатором Бретани, где вместе со своим братом приором был арестован по делу Шалэ. Кардинал Ришелье назначил губернатором, на место Вандома, маршала де ла Мейлльера. Семейство Вандома протестовало, называя поступок Ришелье противозаконным, произвольным, а сын бывшего губернатора герцог де Бофор заявил, что он тотчас после смерти короля овладеет отцовским местом, хотя бы пришлось прибегнуть к силе. Кроме партий двух претендентов на губернаторство, существовала третья, партия Орлеанского. Анна Австрийская взяла сторону герцога Бофора и, называя его честнейшим человеком во всем королевстве, доверила ему интендантство Нового Замка (Chatean-Neuf), в котором находились король и герцог Анжуйский.[100] Это своевольное распоряжение, еще при жизни короля, возбудило в нем крайнее негодование и навлекло на королеву ненависть принца Конде и герцога Орлеанского… Через два дня Людовик XIII скончался. Из всего его семейства и всего двора при трупе осталось только три человека для оказания покойному последних услуг: Карл Амедей Савойский, герцог Не-мур, маршал Витри и маркиз де Сувре. Они присутствовали при вскрытии, омовении, одеванье и положении Людовика XIII на парадный одр. Королева со своими дамами удалилась в старый замок, в котором находились и ее дети. Придворные группировались около герцога Орлеанского, ла Мейлльере и герцога Бофора. Последнему Анна Австрийская поручила попросить к ней герцога Орлеанского. Принц Конде, желавший за ним последовать, был остановлен Бофором.
– Королева могла бы прислать капитана своих телохранителей, а не вас, – заметил обиженный Конде. – Вы и должности никакой не занимаете.
– Я исполнил приказание королевы, – отвечал Бофор, – и во всей Франции нет человека, который осмелился бы запретить мне повиноваться королеве.
Следствием этого столкновения была непримиримая ненависть между принцем Конде и герцогом Бофором.
17 мая парламент признал Анну Австрийскую правительницей, с предоставлением ей совершенной свободы при выборе сотрудников и помощников в великом деле государственного управления. Эта статья парламентского указа низводила всех членов государственного совета, назначенных покойным королем, на степень подчиненных воле Анны Австрийской. Все были уверены, что ни Мазарини, ни Шавиньи не удержатся на своих местах и немедленно будут уволены. Тот и другой обедали у командира де Сувре в самый тот день, когда весь двор полагал, что Мазарини готовился к отбытию в Италию. Когда после обеда хозяин и гости сели за карты, вошел в комнату Беринген, первый камер-лакей королевы. Передав свои карты одному из гостей, Ботрю, кардинал поспешно подошел к посланному и отвел его в сторону.
– Добрая весть! – шепнул Беринген.
– Какая?
– Ее величество неизменно благоволит к вам.
– От кого вы это знаете?
– Я слышал, как господин де Бриенн говорил, будто королева желает назначить вас первым министром.
– Вот как! Что же сказал де Бриенн?
– Он сказал королеве, что если правительству нужен первый министр, то выбор на эту должность вашей эминенции не оставит желать ничего лучшего; что вы и человек опытный в делах, и самый верный подданный ее величества.
– А Бриенн ручался за меня?
– Сказал, что за ваше повышение вы отплатите королеве благодарностью и неизменной преданностью. Государыня выразила только опасение, не связаны ли вы с которой-нибудь из придворных партий.
Мазарини усмехнулся.
– Благодарю вас, господин Беринген, за сообщенные мне сведения. При случае надеюсь достойным образом наградить вас. Камер-лакей медлил уходом.
– Я еще не все сообщил вам, – сказал он нерешительно. – Я пришел к вам не сам от себя…
– От кого же?
– От королевы.
– А, это другое дело. Досказывайте же.
– Разговор с де Бриенном передан мне самой королевой, для сообщения вам. Кроме того, она желает знать: может ли она в случае надобности верно на вас рассчитывать, как на надежную опору?
– Скажите ее величеству, что весь я принадлежу ее интересам. Хотя мне следовало бы обо всем сообщить моему другу Шавиньи, но я сохраню все дело в тайне, как и сама королева…
– Ваша эминенция, не напишете ли вы всего этого сию же минуту?
– Этого нельзя, потому что хозяин и гости могут подумать…
– Долго ли написать карандашом, – сказал Беринген, подавая свою записную книжку и карандаш. Мазарини написал четким своим почерком:
«Иной воли у меня никогда не будет, кроме воли государыни. Теперь же от всего сердца отступаюсь от тех выгод, которые предоставлены мне духовным завещанием короля,[101] полагаясь на беспременную доброту ее величества королевы. Писано собственною моей рукою. Ее величества покорнейший, подданный и признательнейший раб ее Юлий, кардинал Мазарини».
Беринген вручил королеве это обязательство, начертанное кардиналом в его записной книжке; Анна Австрийская отдала ее на сохранение графу де Бриенну. На другой же день Маза-рини был назначен председателем государственного совета. Эта милость и неограниченное доверие королевы к кардиналу пробудили давно умолкнувшие слухи о связи Анны Австрийской с Мазарини, существовавшей будто бы при жизни короля, с 1635 года. Нашлись злоязычники, утверждавшие, что дофин Людовик и брат его герцог Анжуйский – сыновья Мазарини; впоследствии, когда по всей Франции пронесся слух о таинственной железной маске, тысячи уст утверждали, что несчастный узник Бастилии не кто иной, как побочный сын Анны Австрийской от кардинала Мазарини. Время разоблачило клеветы завистников первого министра, и на основании несомненных данных можно сказать, что кардинал интимно сблизился с Анной Австрийской только в год кончины Людовика XIII (1643), когда вместе с ее нежным сердцем она доверила его рукам кормило правления. Не скрывая своего расположения к кардиналу, королева старалась уверить всех своих приближенных, что ее отношения к Мазарини самые безукоризненные, а беседы с глазу на глаз касаются вопросов государственных и религиозных о спасении душевном… В характере Анны Австрийской в эту эпоху проявились черты того лицемерия и ханжества, которые вскоре привились во французском обществе второй половины XVII века; черты, память о которых на веки вечные сохранится в потомстве благодаря мольеровскому Тартюфу. Нравственная эпидемия иезуитского ханжества в царствование Людовика XIV быстро распространилась по всей Франции, угрожая в будущем самыми плачевными последствиями. Таковыми были: отмена Нантского эдикта и безобразное настроение духа всего французского общества в последние годы жизни Людовика XIV. Риторические громы Боссюэта, Бурдалу, Массильона и Флешье нагнали на аристократию суеверную панику, сообщившуюся среднему и даже низшему классу. С Мольером, нисшедшим в могилу, театр утратил свое высокое нравственное значение, и эту кафедру, с которой Мольер громил общественные пороки, иезуитские проповедники – в свою очередь – провозгласили «сосудом диавольским, орудием сатаны» и т. п. Мольер – комедиант, скоморох – мог смело сказать, что он до последней минуты был верен девизу: смех исправляет нравы (ridendo castigal mores); иезуиты-витии, наоборот, своими проповедями, заставляя Францию плакать, изуродовали общественные нравы, наложили на них вериги ханжества и фанатизма. Эпоха регентства (1715–1723 гг.) была обращением Франции от одной крайности к другой; но иначе быть не могло! Общество, утомленное напускным аскетизмом, изнуренное насильственным воздержанием, сбросило с себя власяницу, в которую его закутали иезуиты и явилось в наготе языческой вакханки, вознаграждая себя за долгий пост возмутительными вакханалиями и луперкалиями.
Вместо прежнего пепла вся знать посыпала себе голову ароматной пудрой; вместо недавнего сухоедения ударилась в чревоугодие, пьянство, распутство; вместо покаянных воздыханий затянула неблагопристойные песни. На смену витиям явилась целая плеяда авторов, последователей Бокаччио и Аретина; явился Вольтер – бич ханжества и суеверия, и, не отделяя пшеницы от плевел, истины христианской от лжи иезуитизма, выжег из умов и сердец верования, к ним привитые… Где Мольер колол булавкою, там Вольтер рубил топором; первый старался отрезвить общество от иезуитского хмеля, второй – одно опьянение заменил другим…
Мольер для французского общества исхода XVII столетия был пиявицею, отсасывавшею у него вредные соки, привитые иезуитизмом; Вольтер для XVIII века был ядовитым аспидом: он язвил, но не исцелял, и вместо одного яда прививал другой; Мольер старался перестроить, Вольтер – разрушал, и все его произведения – протест нового поколения на заблуждения старого; он не был сеятелем революционных идей, а только пахарем, приготовившим почву для их восприятия.
Всмотритесь пристально в этот переход Франции от старого образа мыслей к новому, восходите к источнику. Анна Австрийская, истая дочь Испании, – блудливая, как кошка, в молодости, трусливая, как заяц, под старость, – являет французскому обществу дурной пример ханжества, прикрывающего тайные грешки: она усердно слушает проповедников, строго соблюдает их приказания, чуть не бичуется дисциплиною и в это же самое время сожительствует с кардиналом в полной уверенности, что это сожительство, благодаря сану возлюбленного, извинительно. Придворные дамы следуют поданному примеру; лицемерие, кощунствующая набожность входят в моду. Достойный сын Анны Австрийской, Людовик XIV – Юпитер в молодости и чуть не Будда в том возрасте, когда – по выражению Бертрама в опере «Роберт»:
«Когда грешить нет силы боле!»– Людовик XIV доходит в ханжестве до Геркулесовых столбов; французское общество не отстает от него. Регентство – революция нравственная, предшественница революции политической; одна начинается разливанным морем вина, другая оканчивается разливанным морем крови, и где же находим источники того и другого? В будуаре Анны Австрийской, в котором она беседует со своим Мазарини о душевном спасении, не забывая и наслаждения телесного. Нравственный недуг, который стараниями королевы прививается к государственному организму, через полтораста лет требует операции радикальной, и до 900000 голов падает под лезвием гильотины.
На шестой день кончины Людовика XIII (20 мая 1643 года) в Париже получено было известие о победе, одержанной над испанцами герцогом Ангиенским, сыном принца Конде и Шарлотты Монморанси – последней любви Генриха IV. Он и сестра его герцогиня де Лонгвилль родились у супругов после десятилетнего бесплодного сожительства. Принца с Шарлоттой сблизило пребывание первого в заключении в Венсенском замке. Предоставляем физиологам разрешить любопытный вопрос: до какой степени сильно влияние на характер человека места его рождения? Герцогиня де Лонгвилль и брат ее герцог Ангиенский в тюрьме родились, и оба играли весьма важные роли во время волнений, ознаменовавших эпоху регентства Анны Австрийской. Победа герцога при Рокруа обратила на него внимание всей Франции и снискала ему расположение королевы-правительницы. В это же самое время она воротила из ссылки своих приближенных: госпожу д'Отфор, маркизу де Сенесе, Лапорта и наконец герцогиню де Шеврез. Любимица возвращалась из Брюсселя в Париж с пышностью королевы. Прислуга ее помещалась в двадцати каретах, за которыми следовал целый обоз имущества. На расстоянии трехдневного пути до Парижа навстречу герцогине выехал принц де Марсильяк и предупредил ее, что Анна Австрийская теперь не та, какой была прежде, и чтобы герцогиня в беседах с ней была повоздержаннее на язык и менее игрива в шутках. Захватив в собой мужа, жившего в Сан-лисе, герцогиня де Шеврез прибыла наконец в Лувр.
Холодность, выказанная королевой при приеме бывшей своей любимицы, доказала герцогине де Шеврез, что Анна Австрийская действительно изменилась к худшему; кроме того, место любимицы было уже занято супругой принца Конде Шарлоттой Монморанси, которая, несмотря на свои пятьдесят лет, не утратила ни красоты, ни способности интриговать и наушничать.
Преувеличенная набожность королевы, умышленное забвение ею времени минувшего, когда и она, грешная, пошаливала благодаря содействию герцогини де Шеврез, наконец, ее охлаждение к Испании и приверженность интересам Франции – все это ставило герцогиню в какое-то ложное, натянутое положение. Она рассчитывала на расположение к себе Анны Австрийской за услуги, ей оказанные двадцать лет тому назад; но услуги-то эти были такого рода, что королева теперь стыдилась и вспоминать о них; тогда, увлеченная страстью к герцогу Бекингэму, угнетаемая Людовиком XIII, оскорбляемая кардиналом Ришелье она считала герцогиню другом и единственной своей утехой… Теперь эту же самую герцогиню она готова была назвать своей сводницей и чуть ли не главной виновницей своих заблуждений молодости. В политических убеждениях та и другая точно так же диаметрально расходились, и приязненные отношения герцогини к Фландрии, Лотарингии и Испании не могли нравиться королеве. Через два часа после представления герцогини, по возвращении ее домой, ей доложили о приезде кардинала Ма-зарини. По старой памяти, считая его лакеем кардинала Бен-тиволио, герцогиня приняла могучего временщика высокомерно и была с ним тем надменнее, что итальянец был вежлив до самоунижения и рассыпался перед бывшей любимицей в любезностях. Перед уходом он упросил ее, в особенное для него одолжение, принять заимообразно пятьдесят тысяч ефимков золотом, на покрытие путевых издержек герцогини. Не подозревая ловушки, герцогиня, уверенная в преданности Мазарини, попросила его похлопотать о возвращении семейству Вандома бретанского губернаторства. Министр отвечал, что отнять достояние Мейлльере он не вправе, но что если герцогине угодно, то он с удовольствием готов вознаградить Вандома назначением его управляющим адмиралтейством и генерал-инспектором всех французских портов. Герцогиня, довольная уступчивостью кардинала, попросила у него для герцога д'Эпернона возвращения ему чина генерала от инфантерии и губернаторства Гюйэнны. Чин герцогу Мазарини согласился возвратить, но губернаторство было уже отдано графу д'Аркуру… Герцогиня с назойливостью попрошайки обратилась к кардиналу с третьей просьбой: заменить канцлера Сегье маркизом де Шатонефом в должности хранителя печати. На этот раз Мазарини, обещая ей иметь этого претендента в виду, внутренне дал себе слово при первом же удобном случае подставить ногу любезной герцогине, немножко чересчур радеющей о своих приятелях. Со своей стороны, и эта госпожа, одолжаясь кардиналу, любила давать лишнюю волю своему острому язычку и подсмеивалась над ним королеве, воображая, что Мазарини тот же Ришелье… Но Анна Австрийская была не та, и шуточки над кардиналом имели последствием совершенное охлаждение к ней королевы. Не долго думая бывшая любимица пристала к партии Бофора. За злоречие о министре подверглась опале королевской и госпожа д'Отфор: ей Анна Австрийская напомнила через своего камердинера, что она, дурно отзываясь о первом министре, обижает и государыню. В это время прибыл ко двору бежавший за границу друг и сообщник покойного Сен-Марса – де Фонтрайль. Королева приняла его как нельзя суше и холоднее. Фонтрайль попытался укрыться под крылышко герцога Орлеанского, но и тот отстранил от себя старого интригана… Тут же, как нарочно, Бутийе и Шавиньи впали в немилость и, обиженные Мазарини, подав в отставку, присоединились к партии недовольных, группировавшейся вокруг герцога Бофора. Герцогиня де Шеврез доводилась ему даже несколько сродни: ее молодая мачеха госпожа де Монбазон была его любовницей. Глава партии герцог де Бофор – молодой, красивый собою, храбрый и предприимчивый – был вместе с тем груб и без всякого образования, до того, что в разговоре делал непозволительные грамматические ошибки. В стенах своего дома он открыл ежедневные сходки своих приверженцев, названных народом партией важных (partie des Importants). Эту партию ко вступлению в открытую игру побудило обстоятельство самое ничтожное.
В гостиной супруги герцога Геркулеса де Роган, госпожи де Монбазон, после собрания, бывшего у нее, были найдены две безымянные любовные записки, кем-то подброшенные или потерянные. Хозяйка дома из их содержания догадалась, что записки потеряны внуком адмирала Колиньи, а к нему писаны были герцогиней де Лонгвилль (дочерью герцога Конде), молодой супругой старого урода, в свою очередь, до безумия влюбленного в герцогиню де Монбазон. Последняя разгласила по всему двору о находке писем, не умалчивая об именах нежных корреспондентов. Супруга герцога Конде, вступаясь за доброе имя дочери, принесла королеве жалобу на герцогиню Монба-зон, обвиняя ее в клевете и диффамации. Анна Австрийская успокоила просительницу обещанием примерно наказать клеветницу. Как бы в задаток исполнения этого обещания королева навестила беременную герцогиню Лонгвилль в ее загородном замке и выразила ей свое искреннее участие. В этот же день недовольные явились с визитами к герцогине Монбазон.
Верная данному слову, королева приказала кардиналу набросать формальное извинение, которое герцогиня Монбазон в присутствии всего двора должна прочитать герцогине Лонг-вилль. Для пущего унижения вельможной клеветницы ее отречение от напраслины, возведенной на невинную де Лонгвилль, происходило на балу, в доме последней. Прощение, прошенное с одной стороны и данное с другой, разумеется, не примирило их, но только пуще разожгло обоюдное озлобление. Дочь Конде испросила у королевы позволения не выезжать и ко двору даже во все те дни, когда при нем появляется герцогиня Монбазон… Столкновение врагов, как и следовало ожидать, не замедлило с результатами.
Герцогиня де Шеврез давала в саду завтрак в честь королевы, на которой Анна Австрийская приехала с герцогиней Лонгвилль… Их встретила, разыгрывая роль хозяйки, ненавистная Монбазон. Обиженная дочь Конде попросила у королевы позволения удалиться, но Анна ее удержала, предложив удалиться герцогине де Монбазон под предлогом нездоровья… Та отказалась от предложения.
– В таком случае и я не останусь! – сказала Анна Австрийская и, не прикоснувшись к завтраку, возвратилась в Лувр вместе с герцогиней Лонгвилль.
На другой же день соперницу ее попросили выехать из Парижа в свое поместье. Досадуя за свою возлюбленную, герцог Бофор стал на каждом шагу делать дерзости кардиналу и королеве, в то же время располагая умертвить первого из-за угла. Гнусный заговор, без сомнения, удался бы, и только счастливый случай спас жизнь Мазарини: в его карету сел Гастон Орлеанский, и убийцы не посмели стрелять по ней. В другой раз его уведомили накануне, чтобы он не проходил в Лувр обыкновенной дорогой под опасением убийства из-за угла.
– Этого я без наказания не оставлю, – сказала королева, узнав о заговоре на жизнь кардинала, – и через сорок восемь часов злодеи за все поплатятся!
На другой же день герцог де Бофор был арестован в Лувре, в комнатах королевы, и заточен в Венсенский замок. Для прислуги ему дали придворных повора и лакея; он просил, чтобы ему прислали его слуг, но просьба эта была отклонена. Отцу, матери герцога и брату его герцогу де Меркеру высочайше повелено было выехать из Парижа… Герцогиня де Шеврез (меднолобая госпожа) поехала к королеве и вздумала было заступаться за семейство Вандом, за что удостоилась услышать добрый совет: жить в Париже смирно и не в свое дело не вмешиваться. Герцогиня попыталась возражать, и тогда королева предложила ей вместе с дочерью отправиться в Тур. Отсюда та и другая, переодетые в мужское платье, перебрались в Англию.
За опалою герцогини де Шеврез следовали падения госпож Сенесе и д'Отфор. Выведенная из терпения их постоянными просьбами и попрошайничеством, королева попросила первую удалиться от двора, а вторую не докучать ей более. Так расстроены были все козни и происки партии важных, и Мазарини остался полным обладателем выгодной своей позиции, и весь двор перед ним раболепствовал.
Около этого времени прибыл в Париж герцог Ангиенский, брат герцогини де Лонгвилль. Узнав о нанесенном ей оскорблении, он решился наказать если не главных клеветников, то, по крайней мере, их сообщников. В этом вызвался быть ему сподвижником граф Колиньи, любовник герцогини де Лонгвилль. Он попросил у герцога Ангиенского позволения вызвать на дуэль любовника герцогини Монбазон герцога Генриха Гиза, принца Жуанвилль. Внук знаменитого «Порубленного», Генрих родился в Блуа 4 апреля 1614 года и в эпоху рассказываемых нами событий имел двадцать девять лет от роду. Как младший в семействе, он должен был посвятить себя духовному званию и вскоре приобрел громкую известность своими соблазнительными похождениями и шутовскими выходками, достойными не потомка Гизов, а скорее какого-нибудь площадного шута. Весь Реймс (в котором он был архиепископом) говорил о его связи с женой Жуайеза, губернатора Шампании. Горничная госпожи де Жуайез пришла однажды к архиепископу с просьбой дать ее брату место каноника. Гиз исполнил ее просьбу с условием, чтобы она, подобно своему брату, облачилась в одеяние каноника, и горничная месяца три щеголяла в этом наряде. Не правда ли, остроумная шутка? После госпожи де Жуайез герцог-архиепископ усердно ухаживал за мадемуазель де Виллье, актрисой Бургонского отеля, и в ее честь одевался в платье желтого цвета, особенно ею любимого. При всем своем тупоумии этот выродок знатной фамилии Гизов любил чваниться своим происхождением и требовал, чтобы при утреннем его туалете ему прислуживали знатнейшие прелаты. После актрисы Виллье Гиз затеял интригу с Бенедиктою Гонзаго, младшей дочерью герцога Невер, настоятельницей женского монастыря Авенэ… После двухнедельной связи он сблизился с ее сестрой Анной, с которой, несмотря на свое духовное звание, тайно обвенчался. Это не помешало ему в бытность во Фландрии обвенчаться и со вдовой графа Боссю Гонориною Глим. Спасая свою пустую голову от эшафота, этот скоморох жил за границей по самый день смерти Людовика XIII; Анна Австрийская разрешила ему возвратиться во Францию. Покинув и вторую жену свою, Гиз прибыл в Париж во время распри двух герцогинь из-за любовных писем и принял сторону герцогини Монбазон, скрепив свой союз связью с ней.
К этому-то милому Дон-Жуану граф Маврикий де Колиньи прислал своего секунданта д'Эстрада. Местом поединка назначена была Королевская площадь, на которую выходили окна дома герцогини Роган.
Невидимая бойцами, герцогиня де Лонгвилль смотрела на поединок. Бились на шпагах Гюиз, Колиньи и их секунданты д'Эстрад и Бридье… После трех первых пассов граф Колиньи упал, тяжело раненный в грудь, и месяца через четыре умер от этой раны. Фамилии Колиньи, как видно, было написано на роду постоянно страдать от фамилии Гизов. С легкой руки этих бойцов дуэли, утихнувшие при Ришелье, снова вошли в моду между французским дворянством; указ против поединков утратил свою силу. Здесь нелишним считаем заметить, что, по статистическим сведениям, собранным де Ломени, в Париже с 1589 по март месяц 1607 года пало на дуэлях до четырех тысяч человек. Прав ли был Ришелье, принимая жестокие меры к искоренению этого зла?
7 октября 1643 года королева вместе с сыновьями – королем Людовиком и герцогом Анжуйским – переехала из Лувра во дворец, завещанный королю кардиналом Ришелье и с этого времени переименованный во дворец королевский (Palais-Royal). Построение его обошлось кардиналу в 816 618 ливров, что составляет около четырех миллионов франков (миллион рублей серебром). Племянница покойного, знаменитая госпожа д'Эгилльон (Комбалле), подала королеве прошение о сохранении за дворцом его прошлого названия кардинальского, и Анна Австрийская согласилась; но прозвище Пале-Руайяля сохранилось и удержалось в народе. Пятилетнего короля (будущего Людовика XIV) поместили в комнате кардинала; себе королева взяла кабинет, присоединив к нему молельню, будуар и драгоценную картинную галерею, наполненную произведениями Леонардо да Винчи, Андре дель Сарто, Аннибала Каррачи, Па-оло Веронезе, Гвидо Рени, Рафаэля и Пуссена. Возлюбленный кардинал занял флигель дворца, соединенный с королевскими покоями внутренней галереей.
Король до семи лет оставался на попечении нянюшек и гувернанток. Попечителем его был кардинал; гувернером – Вилльруа; наставником – Бомон; сверстником – Людовик Генрих де Ломени, граф де Бриенн; камердинером – Лапорт. Последние два вели записки о детстве будущего версальского Юпитера, которые можно назвать драгоценнейшими материалами для его биографии. Кроме маленького графа де Бриенна, в сверстники к королю приставлены были сыновья маркиза де ла Шартра, графа дю Плесси Прален, малолетние Куален (племянник канцлера Сегье) и де Вивонн. Этим отрядом потешных командовала горничная королевы, госпожа ла Салль. Раз в сутки дети играли с королем в солдаты, причем он исправлял должность барабанщика, так как в нежнейшем возрасте выказывал особенную склонность к барабанному бою… Какая богатая тема для фальшивых хвалебных гимнов придворной челяди и поэтов-прорицателей! «В пятилетнем младенце видим будущего героя!» – твердили они, упуская из виду, что к игре в солдатики искони веков одинаково склонны и дети королей, и обыкновенных смертных. Кроме госпожи ла Салль, в играх пятилетнего дофина участвовала и госпожа де Сенесе.
При переселении королевской фамилии в Пале-Руайяль король Людовик отдан был на попечение мужчин, чем он был весьма недоволен, привыкнув к своим собеседницам. От Ла-порта, ложась спать, он требовал, чтобы тот говорил ему сказки. Вместо сказок камердинер каждый вечер читал королю главу из «Истории Франции» Мезере, и чтение это приносило Людовику большое удовольствие. Кардинал Мазарини, узнав об этом, сказал, что если камердинер Людовика учит его истории, то учитель, вероятно, его обувает. Кардинала король решительно ненавидел и при каждом удобном случае выказывал ему свою ненависть. Независимо от инстинктивного отвращения, питаемого детьми вообще к любовникам их матерей, причиной ненависти Людовика к Мазарини была скаредность последнего, которую испытывали на себе дофин и брат его. Кардинал уменьшил наполовину количество белья, ассигнованного маленьким принцам, удвоив срок, на который оно выдавалось; вследствие этого, говорит Лапорт в своих записках, простыня короля была в дырах, а халат, который он носил зиму и лето и из которого вырос, доходил ему до колен. Это содержание будущего короля в черном теле – истинный источник его безумной страсти к роскоши в зрелом возрасте. «Каким образом?» – спросит читатель, и мы ответим: «Самым естественным». Чувство возмездия врождено каждому человеку, и за лишение чего-либо в одном возрасте человек всегда старается вознаграждать себя в другом. Укажем для примера на факт обыденный: сын скупого богача всегда бывает мотом и в два-три года расточит капитал, собранный его отцом в течение двух-трех десятков лет. Если бы почтенный родитель не лишал сына тех удовольствий, которые с юности составляют насущную потребность, если бы старик выдавал ему на его гардероб сумму, соответствующую своему состоянию, – сын, введенный во владение наследством после отца, конечно, не был бы мотом. Соря деньгами теперь, он вознаграждает себя за минувшие лишения и за прежнее воздержание от удовольствий пресыщается ими. Та же самая история была и с королем
Людовиком XIV: он не был бы расточителем, если бы не рос на попечении скряги кардинала Мазарини. От скаредности последнего терпел весь двор – от королевы и ее детей до последнего сторожа. В видах сокращения расходов Мазарини лишил фрейлин и статс-дам обеда и ужина, отпускавшихся им прежде; придворные дамы и девицы питались объедками, остававшимися от обедов и ужинов королевы; многие были принуждены есть приносимое им из их собственных кухонь. В ноябре 1645 года, по случаю подписи брачного контракта принцессы Марии Гонзаго и Владислава IV, короля польского, при дворе дан был праздник и ужин его посланникам. Первое блюдо было съедено голодными придворными лакеями, прочих блюд было, как говорится, в обрез; когда же гости начали разъезжаться и вышли на парадную лестницу, она не была освещена, и они едва не разбили себе носов. Жалкое понятие составили себе польские магнаты о дворе французском и его администрации. Анна Австрийская, дочь обладателя обеих Индий, богатства которого вошли в пословицу, покорялась распоряжениям Мазарини, жадного проходимца, и не имела смелости требовать от него и малейшего улучшения своего придворного быта. Скуп был Людовик XIII, но зато Ришелье, ревнуя о возвышении королевской власти, окружал его пышностью и блеском, составляющими необходимые элементы обстановки, окружавшей короля. Мазарини, напротив, низвел эту обстановку на степень какого-то нищенства, возбуждавшего омерзение.
Между тем события политические шли своим чередом. Франция вела войну с Австрией и Испанией. Одержав верх над первой в битве при Фрейбурге и отняв у нее Гравелин, она проиграла второе сражение при Лериде и принуждена была снять осаду Тарагоны. На папском престоле Иннокентий X сменил Урбана VII; королева английская Генриэтта, устрашенная началом революции, бежала из своего королевства в свою родину – Францию… 1644 год был, кроме того, ознаменован бунтом в Париже и появлением секты янсенистов. Бунт был следствием налога на домовладельцев за возведенные ими строения в предместьях, вопреки старинному указу парламента. Народ три дня шумел и волновался, наконец смирился и утих, называя свою демонстрацию бунтом размежевки (revolte du toise). Эта вспышка народного восстания в сравнении с янсенизмом была искрой в сравнении с пожаром. Откуда произошла эта секта? Покойный Ришелье, обратив внимание на возвышенный ум и высокие качества аббата Сен-Сириана, предложил ему епископство в 1636 году, от которого аббат, к удивлению кардинала, отказался, довольствуясь своей скромной долей и не желая лучшего. Гастон Орлеанский, потеряв первую супругу (мадемуазель де Гиз, родившую ему дочь, известную под именем Мадемуазель), решил вступить в брак вторично с принцессой Лотарингской. Ришелье, бывший против этого брака, вздумал его расторгнуть, и все французское духовенство в угоду деспоту объявило его недействительным; один аббат Сен-Сириан признал его законным. За это неповиновение воле кардинала аббат был заточен в Венсенский замок 14 мая 1638 года. За восемь дней перед тем в Бельгии умер друг его Корнелий Янсениус, епископ Ипрский, оставив после себя огромное сочинение под именем Augustinus, посвященное рассуждению о благодати, – вопросу, которого папа Урбан VIII строжайше запретил касаться. Это сочинение было напечатано и навлекло на себя жестокие нападки со стороны иезуитов; друг автора, аббат Сен-Сириан, поручил защищать книгу Антонию Арно, младшему из двадцати сыновей известного адвоката. Приверженцы нового учения Ян-сениуса названы были янсе-нистами. Королева, взяв сторону иезуитов, отдала приказание, чтобы Антоний Арно отправился в Рим на суд папы, но адвокат скрылся, а университет и Сорбонна вошли к королеве с ходатайством о помиловании их члена… К их голосам присоединился и парламент, объявивший, что галликанская церковь, будучи самостоятельной, не подлежит ведению ватиканского кабинета и Арно должен быть судим (если только подлежит суду) не в Риме, а в Париже. Таким образом, вопрос о янсенистах с теологической почвы был перенесен на политическую, и Анна Австрийская принуждена была отменить свое решение. Эта уступка правительницы парламенту породила множество толков во всех сословиях вообще, в духовном в особенности. Ярыми приверженцами янсенизма явились отшельники Пале-Руайяля, и впоследствии немало наделали они хлопот королю Людовику XIV и всем вообще сторонникам иезуитизма.
За исключением полемических перебранок между этими двумя партиями в Париже все обстояло благополучно; Маза-рини царил спокойно, вполне уверенный в непоколебимости своей власти. В октябре 1647 года он выписал из Италии свою многочисленную родню: семь племянниц и двух племянников. Один временщик или одна фаворитка – горе для государства; но если они выводят в люди еще своих родственников и окружают государя живой изгородью целого племени будущих временщиков, это можно назвать бедствием. Орда родственников кардинала, этих голодных оборванцев, не замедлила прибытием во Францию под теплое крылышко дяди. То были: Лаура и Анна-Мария Мартиноцци, дочери его сестры Маргариты; Лаура-Виктория, Олимпия, Мария, Гортензия и Мария-Анна Манчини с двумя братьями. 11 сентября госпожа Ножан встретила дорогих гостей в Фонтенбло, и в тот же вечер они представлялись королеве в Пале-Руайяле. Маршал Вилльруа, смотря на юных паразитов, сказал кому-то из придворных:
– Да! Пока эти девицы не богаты, но помяните мое слово, очень скоро у каждой из них будут замки, наряды, брильянты, серебряная посуда и знатные мужья в придачу… За братьев не поручусь!
Слова маршала можно было назвать пророческими. Виктория Манчини вышла за герцога Вандомского, внука Генриха IV; Олимпия – за графа Суассона; Мария, думавшая попасть в супруги Людовика XIV, утешилась Лаврентием Колонною, неаполитанским конетаблем. Брат их был убит, не достигнув никаких почестей.
Мазарини принял племянниц и племянника очень холодно, чем, однако же, никого не обморочил, так как весь двор понимал, что он играет комедию и равнодушным только прикидывается. Поселились милые родственники при добром дядюшке, к которому прибыл впоследствии и второй транспорт племянниц вечных Манчини и Мартиноцци. Оставим, однако, на время это гнездо залетных хищных птиц, обращая внимание на новую личность одного из главнейших героев Фронды – на Иоанна-Франциска Павла де Гонди, племянника клеврета и любовника блаженной памяти Катерины Медичи. Он родился в 1614 году и, как младший в семействе, будучи предназначен в духовное звание, был принят в каноники собора Парижской Богоматери (31 декабря 1627 года); впоследствии ему было дано аббатство Бюзэ с фамилией Ретц. Тяготясь своей сутаной и не имея ни малейшего желания оставаться в духовном звании, Ретц умышленно дрался на дуэли с Бассомпьером и ранил его в надежде, что за это будет расстрижен… Родственники его упросили генерал-прокурора замять это дело, и Ретц остался при прежней должности. Досадуя на непрошеное ходатайство родных, Ретц вскоре вызвал на дуэль графа д'Аркура, вместе с ним ухаживавшего за госпожой дю Шатле, но и этот поединок окончился примирением, так как граф при всей своей храбрости был человек добрый и миролюбивый. Третья его дуэль с де Праленом окончилась довольно серьезной раной, нанесенной аббату в горло; в четвертый раз он дрался с капитаном Контено – и опять неудачно! Противник аббата упал во время драки, а Ретц помог ему подняться на ноги: это великодушие до того тронуло Контено, что он, прося прощения у Ретца, предложил ему вечную свою дружбу. Видя, что из-за дуэлей ему не суждено быть уволенным из духовного звания, Ретц явно взял на содержание молоденькую девушку, племянницу булавочницы Мэньеле, проданную ему за пятьдесят червонцев. Эта молоденькая девушка при первом посещении содержателя так умно объяснила ему гнусность его поступков, что Ретц, от природы благородный, отпустил ее, не воспользовавшись своими правами покупщика бедной непорочности… Третий способ, выбранный аббатом для избавления себя от рясы, было его вмешательство в заговор графа Суассона; но родные, предвидя опасную развязку, услали Ретца на год в Италию. По возвращении оттуда он попал в Бастилию, из которой, однако, был выпущен после смерти кардинала и королевой-правительницей был пожалован в коадьюторы.[102] Кардинал Мазарини не благоволил ему особенно и отзывался о нем, называя его беспокойным человеком; зато в простом народе Ретц слыл за человека доброго и пользовался большой популярностью.
В январе 1648 года, по поводу указа о тарифе в Париже произошли волнения. Купечество отправило к герцогу Орлеанскому депутацию, прося его заступничества. Герцог обещал иметь просителей в виду. Эта стереотипная фраза, которую сильные мира сего обыкновенно золотят горькую пилюлю отказа, была и тогда в большом употреблении. На другой день депутаты, придя во дворец и встретив президента де Торе, сына генерального сборщика податей д'Эмери, накинулись на него, называя сыном тирана, и чуть не поколотили; на следующий день точно такие же неприятности были сделаны Матье Моле, который пригрозил им виселицей…
– Вешать надобно не нас, – отвечали депутаты, – а наших судей, взяточников и грабителей.
Одновременно с купеческой депутацией рекетмейстер Го-мен, явясь к Мазарини от имени товарищей, требовал сокращения штатов по финансовому управлению или увеличения окладов жалованья. Вечером у королевы был совет, окончившийся ничем, а ночью в некоторых кварталах столицы слышны были выстрелы. В ответ на расспросы полицейских горожане отвечали, что они пробуют оружие на случай, если правительство не уступит им дружелюбно. Громко ссылались на недавнее восстание Неаполя; поговаривали и о мятежах в Англии. Наутро королева, ехавшая к обедне в собор, была окружена женщинами, умолявшими ее о сложении тягостных налогов… Анна Австрийская не удостоила их ответом. К вечеру Мазарини выдал приказ войскам держаться наготове, и по всему городу расставлены были пикеты и ходили патрули. Градской глава заявил, что эти правительственные мероприятия озлобляют народ и могут привести к плачевным столкновениям. Сознавая справедливость этих слов, кардинал велел войскам разойтись по казармам. Тем не менее, опираясь на силу, королева-правительница пятью новыми указами подтвердила сбор всех тягостных податей, а недовольным рекетмейстерам приказывала подать в отставку. Деспотизм был тем невыносимее французскому народу, что угнетали его иноземцы в лице королевы, бывшей испанской принцессы, и Мазарини, итальянского прелата. Отдельные вспышки народного негодования слились в одно пламя явного восстания. Около этого времени герцог де Бофор бежал из своего заточения в Венсенс-ком замке, в котором он просидел пять лет под присмотром личного своего врага Шавиньи.
В исходе 1647 года по всему Парижу пронесся слух, будто астролог Гуазель предсказал, что Бофор будет на свободе ко дню св. Троицы. Встревоженный молвой, Мазарини призвал смотрителя замка ла Рамэ и расспросил его, хорош ли присмотр за Бофором. Ла Рамэ отвечал, что, кроме надежного Шавиньи, с герцога не спускают глаз восемь часовых. «Бегство Бофора, – прибавил ла Рамэ, – возможно только в таком случае, если он превратится в птицу, да и то самую маленькую, так как оконные решетки в Венсенском замке не слишком-то широки!»
Бофор после нескольких неудачных попыток подкупить часовых сблизился со слугой ла Рамэ Вогримоном. Через него он нашел возможность войти в переписку со своими друзьями. Им удалось подкупить пирожника, который взялся запечь в паштет, назначенный для стола герцога, два кинжала и веревочную лестницу. Этот паштет с приятной для Бофора начинкой был ему доставлен накануне Троицына дня; кроме кинжалов и лестницы, он нашел в нем клубок бечевок и железную грушу, посредством которой можно было заклепать рот сторожу. Не вдаваясь в излишние подробности, скажем, что предсказание астролога сбылось, и в Троицын день 1648 года герцог Бофор убежал из Венсенского замка. Эта новость не очень-то поразила Анну Австрийскую и Мазарини.
– Я на его месте сделал бы то же, – сказал кардинал, – только годами тремя пораньше!
Правительство, т. е. Мазарини и Анна Австрийская, занято было тогда другим делом, поважнее, именно – скандалезной историей о несостоявшемся похищении дочери герцога Орлеанского эрцгерцогом Австрийским. В 1646 году ей прочили в мужья принца Уэльского, сына короля английского Карла I и Генриэтты; это сватовство, однако же, не состоялось, так как Мазарини, узнав о вдовстве императора австрийского, вздумал посватать ему принцессу против ее желания. Эрцгерцог Леопольд Вильгельм решился избавить ее от ненавистного брака путем похищения и предложения ей своей руки… Это намерение не удалось, но шуму оно наделало большого, и нравственная Анна Австрийская была возмущена этим до глубины души. Принцессу подвергли домашнему аресту. Семейные неприятности отвлекли внимание королевы и кардинала от волнения народного, возраставшего с каждым днем. Коадьютор предупреждал их о серьезной опасности, но они не слушали. Члены парламента – советник Петер Бруссель и президент сыскной палаты Бланмениль – при каждом заседании отстаивали народные права, открыто нападая на правительство. Впрочем, и весь парламент находился к правительству во враждебных отношениях. Коадьютор взялся за роль посредника между королевой, кардиналом и народной партией, пытаясь склонить первых на уступки. Отделываясь фразами, Мазарини обещал удовлетворить требование парламента, откладывая, однако, со дня на день решение вопроса о налоге. 26 августа назначено было молебствие в соборе Богоматери по случаю победы, одержанной принцем Конде при Лэне (Lens). Присутствовали в церкви Анна Австрийская с семейством, огромной свитой, в сопровождении военного отряда из трех батальонов гвардии. По окончании богослужения королева отдала приказание капитану Комменжу и двум его сослуживцам арестовать Брусселя, Бланмениля и Новиона. Первый был схвачен у себя в доме и, посаженный в карету под конвоем, был повезен в Лувр… Народ пытался силой отбить у Комменжа своего защитника; произошло несколько схваток между горожанами и гвардейцами: первые действовали палками и камнями, вторые – палашами и прикладами… Дошло дело и до перестрелки. С обеих сторон насчитали несколько раненых и изувеченных. Как бы то ни было, Бруссель был отвезен в Седан, а Бланмениль и Новион в Венсенский замок.
На другой же день Париж представлял грозную картину явного мятежа: все лавки были заперты, многие улицы оцеплены, граждане и купцы, вооруженные ружьями и алебардами, толпились на площадях, с громкими криками требуя освобождения Брусселя. Маршал де ла Мейлльере с отрядом гвардейцев был встречен градом булыжников; любимый народом коадьютор, окруженный толпой инсургентов, дал им слово немедленно отправиться к королеве и от имени народа истребовать освобождение Брусселя и его товарищей. Вместе с коадьютором отправился во дворец и де ла Мейлльере.
Главные виновники народного восстания – королева и ее возлюбленный кардинал – находились в эту минуту в самом неприятном положении. Указы о налогах были жестокой несправедливостью, которую они надеялись поправить другой вопиющей несправедливостью – арестом членов парламента. Первая вызвала ропот, вторая – бунт. Коадьютор и де ла Мейлльере застали в кабинете у королевы собрание умных голов, совещавшихся о принятии мер к усмирению мятежа. Кроме кардинала и герцога Орлеанского, тут были герцог Лонгвилль, маршал Вилльруа, аббат де ла Ривьер, Ботрю, Нажан и капитан гвардии Гито. Все эти господа, успокаивая королеву, уверяли ее, что так называемый бунт – вздор, безделица, не заслуживающая серьезного внимания. На возражение коадьютора королева дала ему понять, что он трус и из мухи делает слона. В эту минуту возвратившийся с площади полковник доложил Анне Австрийской, что мятежники усиливаются; с таковыми неутешительными вестями явился к королеве и канцлер Сегье. Все присутствовавшие, за исключением коадьютора и Гито, предлагали душить мятеж силой.
– Сила пуще ожесточит народ! – сказал Гито.
– Что же делать по-вашему? – грубо спросил кардинал.
– Отдать им Брусселя, живого или мертвого!
– И я того же мнения, – подхватил коадьютор.
– Отдать?! – крикнула Анна Австрийская, и лицо ее побелело от злости. – Да знаете ли, Ретц, что я лучше удавлю его своими руками, точно так же, как и тех, которые…
Мазарини шепнул ей что-то на ухо, и она присмирела.
– Не могу не согласиться, – сказал он в свою очередь, – что выдача Брусселя – самый верный способ усмирить волнующийся народ, но тут есть одно неудобство: Бруссель в настоящую минуту вывезен из Парижа, на его возвращение потребно не менее суток. Конечно, – продолжал кардинал, – если народу от имени королевы объявить, что Бруссель завтра же будет освобожден, народ угомонится… Господин коадьютор, вы умеете говорить с ним; не возьметесь ли быть вестником освобождения?
– Весьма охотно, – отвечал Ретц, – если ваша эминенция снабдит меня письменным обещанием…
– Зачем? Народ верит на слово, особенно если это слово королевское. Не теряйте времени, спасайте государство!
То же говорили и все присутствовавшие, а де ла Мейлльере, схватив Ретца за руку, повлек его за собой. Солдаты, стоявшие в карауле во дворце, вынесли его на руках на улицу. Здесь ко-адьютора опять окружила народная толпа, требуя освобождения Брусселя. Ретц, благословляя мятежников, уверил их, что советник парламента непременно будет освобожден; но в эту минуту с конным отрядом явился де ла Мейлльере, кричавший народу то же самое. К сожалению, не расслышав его слов, народ видел только обнаженную шпагу. Какой-то дрягиль с саблей в руках бросился к маршалу, и де ла Мейлльере убил его наповал из пистолета. Это было знаком к отчаянной схватке отряда маршала с народом, и началась перестрелка. Ретц с опасностью для жизни убедил разъяренную чернь прекратить пальбу, а маршал де ла Мейлльере скомандовал то же своему конному отряду, однако же в течение пятиминутной перестрелки с той и другой стороны многие были поранены, и два или три человека убиты.
– Да здравствует коадьютор! – кричал народ, увлекая в своих волнах смелого Ретца к рынку, где еще слышны были угрожающие вопли и теснились толпы вооруженных торговцев. Чтобы окончательно усмирить мятежников, коадьютор объявил им, что он отправится во дворец за подтверждением королевского обещания. Близ заставы Сержантов он встретился с де ла Мейлльере. Маршал сопровождал его до Пале-Руайяля и, вводя его в комнату Анны Австрийской, восторженно сказал:
– Вот, государыня, человек, которому одолжены спасением жизни я, мой отряд и, может быть, даже жители вашего дворца.
– Столица усмирена, и граждане слагают оружие! – объявил Ретц не без самодовольствия.
Коадьютор имел полное право хвалиться своим подвигом: возмутить и разъярить народ насилием несравненно легче, нежели усмирить его словом убеждения. Анне Австрийской показалось непонятно, даже подозрительно это скорое усмирение народа, и, взглянув на Ретца с какой-то странной улыбкой, она сказала:
– Как видно, народное волнение было не слишком-то сильно, если коадьютору удалось так скоро его утишить.
– Волнение это было до того сильно, – вмешался де ла Мейлльере, – что если завтра, согласно вашему обещанию, Бруссель не будет освобожден, то в Париже не останется и камня на камне.
– Его освобождение, конечно, пройдет, – подтвердил Ретц. Королева захохотала оскорбительным хохотом, в котором звучала насмешка.
– Советую вам, господин коадьютор, идти домой и отдохнуть после ваших великих подвигов.
Женщина эта, играя с народом в обещания, имела низость издеваться над человеком, ради ее спасения подставляющим под пули лоб. Истинно австрийская благодарность! За два часа перед тем королева дрожала и изменялась в лице, прислушиваясь к реву мятежной черни; теперь же, когда все утихло, она не постыдилась издеваться над усмирителем мятежа и для умаления заслуги коадьютора без зазрения совести назвала восстание легоньким беспорядком, утишить который мог бы простой полицейский служитель. Послушание народа любимому им человеку она принимала за трусость и малодушие; Ретц на время укротил бешеного зверя, которого Анна Австрийская почитала за смиренного барана. Все правители царств, одаренные таким неверным взглядом на свои народы, всегда рисковали не только своими коронами, но и головами.
Дав себе клятву отомстить королеве, коадьютор, выйдя из дворца, подтвердил толпившемуся у подъезда народу, что Но-вион, Бланмениль и Бруссель непременно будут освобождены. Глубокая тишина воцарилась в городе, недавние мятежники мирно разошлись по домам; буря народная миновала. Обиженный, взбешенный Ретц возвратился домой и не успел сесть в кресло и собраться с мыслями, как к нему явился Монтрезор, друг покойного Сен-Марса, вечный и неизменный приверженец оппозиции и заклятый враг тирании.
– Отличились вы сегодня! – сказал он коадьютору с насмешливым поклоном.
– Чем?
– Тем, что два раза забегали к королеве. Много вы этим выиграли?
– Выиграл то, что исполнил долг коадьютора и честного человека.
– И воображаете, что ее величество вами довольна?
– Воображаю.
– Разочаруйтесь. Она, лишь только вы вышли за дверь, объявила госпожам Навайлль и де Моттвиль, что вам потому удалось усмирить бунт, что вы сами были подстрекателем. Понимаете? Королева уверена, что вы нарочно затеяли кутерьму, чтобы после похвалиться заслугой… Одним словом, что вы разыграли комедию.
Ретц хотел ответить, но на пороге показался Лэг, капитан гвардейцев герцога Орлеанского. Коадьютор спросил его, правду ли говорит Монтрезор?
– Истинную правду, – отвечал Лэг. – Я только что слышал это же самое за ужином у королевы. Над вами смеются все и говорят, что, думая удивить весь двор трагедией во вкусе Корнеля, вы его потешили балаганной арлекинадой.
– За которую, – досказал Монтрезор, – завтра же будете посажены в Бастилию.
Как будто по условию, в комнату коадьютора вошел третий гость, давнишний его приятель д'Аржантейль.
– Вы погибли! – сказал он Ретцу. – Де ла Мейлльере поручил мне сказать вам, что королева, кардинал и, разумеется, весь двор уверены, что бунт затеян вами. Поговаривают о том, чтобы арестовать вас сегодня ночью, а на заре отвезти в Кемпер-Корентен, Брусселя – в Гавр-де-Грас, а парламент – в Монтаржи.
– И они воображают, что народ позволит им это! – воскликнул коадьютор.
– Народ? – усмехнулся д'Аржантейль. – Народ спит, а завтра проснется, как пьяница после попойки, т. е. смирнее обыкновенного. Самая эта тишина города после недавней бури служит главным против вас обвинительным пунктом. Завтра, кроме вас, переберут зачинщиков и, чего доброго, десяток-другой перевешают.
– Увидим, увидим, – захохотал Ретц и тотчас же отправил слугу с запиской к казначею Мирону, бывшему вместе с тем и полковником квартала св. Германа Оксерского. Была полночь; Ретц, отворив окно, задумчиво глядел на ясное небо и на спящий город.
– О чем вы думаете? – спросили его собеседники.
– О том, что завтра в полночь я буду хозяином целого Парижа.
Коадьютору отвечали хохотом.
Явился Мирон и, поговорив вполголоса с коадьютором, поспешно удалился; Ретц передал ему письмо к аудитору счетной камеры Лепинэ. Минут через пять Мирон возвратился в сопровождении какого-то простолюдина. Последний сообщил Ретцу, что ему на улице удалось подслушать разговор двух гвардейских офицеров, Рюбантеля и Ванна, сговаривавшихся о том, как бы арестовать Мирона и в то же время расположить пикеты от Нового моста до Пале-Руайяля.
– Все это принимаем к сведению! – сказал торжествующий коадьютор. – Сообразно их распоряжениям будем действовать и мы.
Ночной совет в доме Ретца длился до трех часов ночи. Монтрезор, Лэг и д'Аржантейль, каждый со своей бандой, согласились занять в городе позиции, назначенные коадьютором. Мирон растянул до 400 человек вооруженных горожан вдоль по набережной Нового моста; Лепинэ брался по первому сигналу воздвигнуть баррикаду у заставы Сержантов. Ретц уснул на заре, а в шесть часов утра секретарь Мирона доложил ему, что военные пикеты во всю ночь и не показывались; в семь часов два конных отряда выступили к Нельскому мосту, и тогда междоусобная битва в стенах Парижа началась. Д'Аржантейль разбил эскадрон швейцарцев и отнял у него штандарт; Лепинэ занял заставу; Монтрезор и Лэг укрепились на Новом мосту. До тысячи двухсот баррикад было выдвинуто по главнейшим улицам… Овладев без боя домом государственного канцлера Сегье, народ разграбил все найденные там сокровища, переломал мебель, перебил зеркала и стекла. Посланный от Сегье принес нерадостную весть во дворец; тогда королева и кардинал поняли, что народ не шутку шутит. Маршалу де ла Мейлльере было поручено перевести канцлера и его брата, епископа Мо, во дворец. Во время переезда, несмотря на конвой, охранявший путников, народ встретил их на площади Дофина сильным огнем… Шальная пуля раздробила руку дочери канцлера, герцогине Сюлли; камер-лакей, стоявший за каретой, был убит наповал. Анна и Мазарини имели бесстыдство послать нарочного к коадьютору с просьбой об усмирении, но Ретц отвечал, что, не имея на народ ни малейшего влияния, он не может исполнить желание ее величества. Королева грызла ногти от злости; Мазарини трясся как в лихорадке, придворные фанфароны храбрились, не трогаясь с места. К довершению бешенства Анны Австрийской ей доложили о приходе во дворец членов парламента. В кабинет вошел президент, сопровождаемый депутатами.
– Странно и стыдно, господа, – накинулась на них королева. – При покойной матушке принцев крови арестовывали, и вы молчали… Теперь из-за какого-то Брусселя в городе бунт, и вы с бунтовщиками заодно.
– Ваше величество, – отвечал президент, – не время вспоминать былое, а следует подумать о том, чем пособить бедствию народному. Мой совет – отдать узника доброй волей, не заставляя мятежников прибегнуть к насилию.
– Унизить королевскую власть! – вспыхнула королева.
– Вы отвечаете отказом?
– Да, и буду отвечать отказом до тех пор, покуда у меня будут требовать освобождения Брусселя так нагло. Лично я, может быть, и простила бы Брусселя, но уважение к власти королевской не дозволяет мне потакать народному своеволию.
Сказав это, королева удалилась, и депутация вышла из дворца к народу с нерадостными вестями.
– Ах вы мошенники! – заревели тысячи голосов. – Так вы заодно с ними нас морочите? Марш опять во дворец – и без помилования Брусселя не возвращаться!
Вторичное посещение депутатами королевских апартаментов увенчалось желанным успехом: дрожащей от бешенства рукой Анна Австрийская соблаговолила подписать приказ об освобождении Брусселя. Племянник арестанта, показав народу этот документ, объявил, что дядя его завтра же к восьми часам будет в Париже.
– Мы подождем, – отвечали коноводы мятежников, – и всю ночь будем дежурить на площадях. Если же и завтра нас обманут, мы разнесем Пале-Руайяль по камешку, а на развалинах повесим Мазарини!
Народ сдержал свое слово – он не спал всю ночь, да и ее величество королева не изволила сомкнуть своих ясных очей: она трусила, и не без основания. Мазарини не на шутку заболел расстройством желудка.
На следующее утро к десяти часам Бруссель явился среди восторженного народа: его на руках донесли до собора Богоматери, где был отслужен благодарственный молебен. Указом парламента от 28 августа 1648 года гражданам Парижа приказано было возвратиться к их мирным занятиям, и часа через два тишина водворилась, и все шло прежним порядком.
– Наши парламентские господа, – сказал Мазарини, – похожи на школьников, бросающих камешки пращами (qui frondent):[103] разбегаются, завидя полицейского, а только он уйдет, то сходятся опять. Эта шутка не понравилась парламенту. Утром в день баррикад советник Барилльон, смеясь над Мазарини, импровизировал следующую песенку:
Un vent de Fronde
A soufflece matin;
Je crois qu'iL gronde
Centre Le Mazarin!
Un vent de Fronde
A soufflece matin.[104]
Песенка дня через два сделалась народной. Противники Мазарини назвались пращниками или фрондерами (Les frondeurs) и носили на шляпах шнурки наподобие пращей… Появились булочные печенья, перчатки, платки, опахала, шарфы a La Fronde. Как не сказать при этом, что французы – единственный народ в мире, умеющий мешать дело с бездельем, искусно сочетая шутку с вопросом государственным и делая из предмета своего обожания чуть не детскую игрушку!
После бунта Париж опротивел королеве. Под предлогом очищения Пале-Руайяля после кори, которой хворали дофин и его брат, королева со всем семейством выехала в Рюэйль, поручив председательство в государственном совете герцогу Орлеанскому. Опасаясь его властолюбия, она вызвала из действующей армии ему в товарищи принца Конде. В то же время желая вознаградить себя за уступку, сделанную народу, Анна приговорила к ссылке маркиза де Шатонефа и к аресту – Шавиньи: первого за участие будто бы в недавних смутах, а второго за его связь со многими членами парламента. Истинной причиной опалы того и другого было нерасположение к ним кардинала. Принц Конде прибыл в Париж 20 сентября, в то самое время, когда парламент ходатайствовал об освобождении Шавиньи и Шатонефа. Президент Бланмениль предлагал применить к Ма-зарини указ 1617 года, обнародованный вскоре после убиения маршала д'Анкра. В указе этом значилось, что всякому иноземцу воспрещается состоять на государственной службе по части высшей администрации. В отплату за это предложение королева отвечала указом от 4 октября, повелевавшим через 24 часа отдавать под суд каждого арестованного чиновника, как гражданского, так и военного ведомства. Думая этим связать руки парламенту, Анна Австрийская ограничивала собственный свой произвол. Желая оградить своего милейшего Мазарини от дальнейших нападок, королева (как гласит предание) сочеталась с ним тайным браком. После этого временщик стал обходиться с Анной еще непочтительнее прежнего и нередко отвечал посланным на приглашение пожаловать к королеве: – Ну что ей там нужно!
О тайном браке Анны и Мазарини до времени знала только ее старая горничная госпожа Бовэ. Эта особа не замедлила воспользоваться доверием королевы, или, лучше сказать, – злоупотребить этим доверием, разыгрывая роль любимицы и вымогая у Анны щедроты и милости. Вот подлинные слова Данжо: «…знатнейшие господа одно время заискивали ее расположения; несмотря на свою старость, безобразие и кривой глаз, она являлась при дворе в блестящих нарядах и пользовалась почетом…» Эта самая госпожа Бовэ была первой любовью юного Людовика XIV; она преподавала ему азбуку той великой науки, которую Овидий изложил в своей знаменитой поэме «Ars amandi». Эта кривая безобразная старуха соблазнила отрока-дофина своими блеклыми прелестями. Хороши были наставники у Людовика XIV, хорош был век, хороша была нравственность французского двора того времени! Почти на глазах у матери, сорокалетней Мессалины, соблазняли ребенка, растлевая его, а она докучала своими нежностями и обезьяньим сластолюбием своему Мазарини! Удивляться ли после этого нравственности Людовика XIV?
Одновременно с бракосочетанием итальянского проходимца и королевы французской на первого сыпались бесчисленные памфлеты и пасквили; кроме тех и других, парижане не скупились на песенки, на которые Мазарини отвечал с ехидной улыбкой:
– Пусть поют – поплатятся! (ILs chantent – iLs payeront!)
Самым ядовитым из всех памфлетов был один, озаглавленный: «Прошение трех сословий губернаторства Иль-де-Франс в парижский парламент». Правда, высказанная на страницах этого памфлета, не могла не колоть глаза могучему временщику. Вот что, между прочим, о нем говорилось:
«Он происхождения низкого, уроженец Сицилии, бывший подданный испанского короля; в Риме был лакеем; принимал участие в гнуснейших распутствах; вышел в люди благодаря плутням, интригам и шутовству. Во Франции он начал свою службу шпионом, потом, благодаря влиянию своему на королеву, в течение шести лет стоял во главе правительства к соблазну королевского дома и для посмешища иностранных государств. По его милости подверглись опале, были изгнаны и заточены принцы крови, знатнейшие чиновники, члены парламента, вельможи и вернейшие слуги короля. Он окружил себя изменниками, казнокрадами, нечестивцами и безбожниками; присвоил должность наставника королевского, чтобы образовывать короля на модный лад; развратил двор, введя при нем карточные азартные игры; ниспроверг правосудие, ограбил казну, за три года вперед собрал подати и растратил их. Пересажал в тюрьмы до двадцати трех тысяч человек, из которых в один год умерло пять тысяч. Пожрав до ста двадцати миллионов, он не выдавал жалованья военным, пенсий старым служакам, провианта крепостным гарнизонам… Эти громадные суммы он разделил со своими друзьями, отправил большую часть денег в заграничные банки в виде векселей и драгоценностей».
Несмотря на все старания Мазарини, автор памфлета отыскан не был; за все поплатился типографщик, приговоренный судом Шатлэ к вечному изгнанию из пределов Франции. Теряя с каждым днем народную любовь, королева решилась образовать собственную партию и для начала сблизилась с герцогом Орлеанским. Принц Конде со своей стороны предложил ей для умиротворения столицы переехать с королем в Сен-Жермен, воспретив подвоз жизненных припасов в Париж. Знаменитый победитель испанцев и австрийцев смотрел на соотечественников своих как на неприятеля. В ночь с 5 на 6 января 1649 года королева с обоими сыновьями бежала из Рюэйля в Сен-Жермен, откуда молодой Людовик XIV письменно уведомил градского главу, что к бегству его побудили злоумышления на его жизнь членов парламента. Седьмого числа того же месяца парламенту было передано высочайшее повеление о переселении его, парламента, в Монтаржи; в то же время королева запретила жителям окрестных деревень доставлять в Париж хлеб, вино, мясо и дичину… Правительница обходилась со своей столицей, как учитель со школьником, которого наказывает, оставляя его без обеда. Депутация, отправленная от парламента в Сен-Жермен, не была принята Анной Австрийской, и тогда в ответ на письмо короля парламент обнародовал следующий указ:
«Королевский парламент, в заседании своем 6 января сего 1649 года, постановил: кардинала Мазарини, виновника государственных бедствий и настоящих смут, объявить нарушителем общественного спокойствия, врагом короля и королевства от сего же дня и в течение восьми дней удалиться ему, кардиналу, из пределов Франции, с применением к нему, по прошествии этого срока, закона об изгнанниках. Всем и каждому воспрещается давать приют кардиналу. Сверх того, парламент сим повелевает собрать соответствующее число вооруженных граждан для содержания караулов в городе, а ровно и для охранения обозов с жизненными припасами, следующих в столицу из соседних деревень. Указ сей обнародован посредством чтения и выставления его печатного на всех углах и перекрестках».
Королева и ее челядинцы отвечали на этот указ презрительным смехом, вскоре чуть не перешедшим в слезы. Герцог д'Эльбеф и принц Конде отбыли из Сен-Жермена в Париж; герцог Буйон объявил, что он принимает сторону парламента; герцогиня де Лонгвилль в градской ратуше торжественно заявила, что за права народные постоят ее супруг – герцог и принц де Марсильяк – ее любовник. Таким образом, совершенно неожиданно народная партия усилилась шестью сильными приверженцами, и сметливая королева принуждена была призадуматься. Несколько времени она и кардинал тешились мыслью приманить на свою сторону коадьютора Ретца-Гонди, но герой дня баррикад не был прост и не только не поддался на ловушку, но с содействием герцогини де Лонгвилль располагал вовлечь в народную партию и принца Конти, оставшегося при дворе в Сен-Жермене. Принц Конти прибыл в Париж и, явясь в парламент, предложил свои услуги для принятия главного начальства над гражданами в случае вооруженного их столкновения с королевскими войсками. Это предложение было, однако же, отклонено, так как герцог д'Эльбеф предъявил свои права и преимущества. На герцога коадьютор не возлагал особенных надежд, однако же, видя, что народ сочувствует ему более, нежели принцу, особенно не настаивал на назначении последнего главнокомандующим. К счастью для фрондеров, в самый день выбора д'Эльбефа герцогиня де Лонгвилль перехватила копию с записки, писанной герцогом д'Эльбефом к аббату де ла Ривьеру, креатуре Орлеанского. В записке этой было следующее:
«Скажите королеве и герцогу Орлеанскому, что бес коадьютор орудует здесь всем и что через два дня я лишусь моей власти. Скажите им, что, если они намерены дать мне выиграть мою партию, я им докажу, что приехал в Париж не с теми дурными умыслами, как они думают». Итак, главнокомандующий инсургентов, ничего не видя, уже вошел в переписку с противной партией… Радуясь этому открытию, коадьютор в тысяче копий пустил письмо по рукам парижан; письмо читали, смеялись над герцогом, не скупились даже на эпиграммы и шуточные песенки. Между тем по распоряжению кардинала королевские войска приближались к Парижу и уже заняли Шарантон. На другой день, 11 января, принц Конти снова явился в парламент, предлагая свои услуги; за ним герцог де Лонгвилль, губернатор Нормандии, предложил Парижу содействие Руана, Кана и Диэппа. Это предложение было принято с восторгом. Герцог Буйон, маршал де ла Мотт Гуданкур объявили, что они готовы отстаивать Париж, но не иначе как под начальством принца Конти, а не герцога д'Эльбефа. Покуда в парламенте совещались об отрешении последнего от звания главнокомандующего, супруги герцогов Лонгвилль и Буйон, разъезжая по улицам со своими детьми, кричали народу, что его охранению герцоги вверяют то, что для них дороже всего на свете, т. е. своих жен и детей. Коадьютор, чтобы пуще разжечь народный энтузиазм, кидал в толпу пригоршни золота… Горожане ревели, что они готовы головы положить за Лонгвилля и Буйона. «Кого тут обманывать?» – сказал бы Фигаро Бомарше, глядя на эту комедию. Кто за кого стоял? Мятежи Фронды были вызваны деспотизмом Мазарини; сторону народа приняли герцоги и принцы крови с супругами, и этот же самый народ кричал им, что он готов умереть за них. Сбрасывая с себя одно ярмо, народ покорно протягивал шею под другое.
Если бы жители Парижа времен Фронды взглянули на своих любимцев «с холодным вниманьем рассудка», они поняли бы, что Ретц, Конти, Лонгвилль, Буйон и Бофор держат сторону народа не из любви к нему, а из ненависти к королеве и кардиналу; что этими самыми защитниками народных прав руководит своекорыстие, мелочное самолюбьишко; что они, эти защитники, и друг на дружку посматривают с затаенной мыслью столкнуть другого, чтобы встать на его место. Но как бы то ни было, а в истории Франции мятежи Фронды имеют то великое значение, что они сблизили под своим знаменем народ и аристократию, две касты, до того времени враждебные одна другой; после того они уже не сблизились более. Во время революции 1789 года аристократы, перешедшие на сторону народа, все до единого погибли на гильотине; французский народ не доверял этим отщепенцам от своего родимого сословия.
Благодаря проискам коадьютора принц Конти был избран в главнокомандующие с титлом генералиссимуса; д'Эльбеф, Буйон и де ла Мотт Гуданкур оставлены при нем в качестве маршалов. Д'Эльбеф без труда овладел Бастилией, сданной ему комендантом дю Трамбле; в это же время Нуармутье, де ла Булэ и Лэг вытеснили мазаринистов из Шарантона. Вечером герцогини Буйон и Лонгвилль отпраздновали победы балом в градской ратуши. Дня через два в стенах Парижа явился беглец из Венсенского замка герцог де Бофор, встреченный народом восторженно. С криками «Да здравствует Бофор!» за ним бежали тысячи мужчин и женщин, особенно рыночных торговок. Когда весть о торжестве Бофора дошла до Сен-Жермена, тамошние добровольные узники, т. е. кардинал, королева со своими сыновьями и придворные, дали Бофору прозвище рыночного короля (roi des HaLLes). Этому импровизированному королю было, однако же, несравненно лучше, нежели настоящему. Бофор поместился во дворце, пользуясь всеми угодьями, тогда как в Сен-Жермене, благодаря скупости и нераспорядительности Мазарини, королевское семейство помещалось в пустых немеблированных покоях, а придворные дамы и фрейлины спали на соломе и даже на голом полу.
Число знатных приверженцев Фронды возросло до двадцати человек.[105] Благодаря мерам, принятым парламентом, жители Парижа были в состоянии выдержать серьезную борьбу с мазаринистами и даже более или менее долговременную осаду. Против восьми тысяч конных и пеших королевских войск город выставил до шестидесяти тысяч ополчения, занявших Шаранто, Ланьи, Корбейль, Пуасси и Понтуаз. В продовольствии недостатка не было; в деньгах – тоже. Движимое и недвижимое имущество Мазарини в исполнение парламентского указа было конфисковано. До сорока тысяч ливров было выдано в пособие Генриэтте, королеве английской, помещавшейся в Лувре и в течение шести месяцев терпевшей крайнюю нужду… Ей на отопление занимаемых ею покоев не отпускали даже дров, так что бывали дни, в которые супруга Карла I вместе со своей малолетней дочерью не вставала с постели, кутаясь в одеяло.
Королева, объявив, что герцог Лонгвилль отрешается от должности губернатора Нормандии, поручила д'Аркуру, младшему брату герцога д'Эльбефа, отправиться в Руан и объявить монаршую волю тамошнему парламенту. Город не впустил его в свои стены, и он со стыдом возвратился в Сен-Жермен. В окрестностях Парижа происходили ежедневные стычки между горожанами и войсками, с переменным успехом. В одной из них близ Бенсенна был смертельно ранен и взят в плен Танкред де Роган. 10 февраля произошла правильная битва у Шарантона; Бофор одержал победу над маршалом Граммоном. Через два дня комендант заставы Сент-Оноре уведомил парламент, что от королевских войск шествует в столицу герольд с двумя трубачами для переговоров. Парламент его не принял под тем предлогом, что переговоры ведут равные с равными или враги с врагами, а Париж не равняет себя с королем и врагом его себя не считает. Действительно, фрондеры и мазаринисты сражались с одним и тем же кликом: «Да здравствует король!» На знаменах ополчения была вышита надпись: Мы ищем нашего короля. Кровь лилась единственно из-за Мазарини, и если бы этого пройдоху король приказал повесить, междоусобие прекратилось бы само собой. Одновременно парламент отправил депутацию в Сен-Жермен, а Мазарини прислал в Париж некоего Фламарена для тайных сношений с принцем Конти, с начальниками восстания: всем им за покорность обещали повышения и милости. Через три дня по отбытии парламентской депутации открылись конференции о мире в Рюэйле. Успеху их много способствовали вести о движении на помощь к Парижу герцога Лонгвилля 10000 войска и о переходе Тюрення на сторону парламента. 13 марта 1649 года был подписан мир между Парижем и королевским правительством на следующих условиях:
1) Военные действия с обеих сторон прекращаются; сообщение со столицей и торговое ее движение возобновляется по-прежнему.
2) Парламент призывается в Сен-Жермен на чрезвычайное заседание.
3) В течение года палаты не будут созываемы.
4) Указы июля и октября 1648 года будут приведены в исполнение (о налогах).
5) Указы парламента, обнародованные им по прибытии короля из столицы, теряют свою силу.
6) Указы короля, изданные в течение недавних событий, остаются во всей силе.
7) Народное ополчение распускается и 8) королевские войска очищают занимаемые ими местности около Парижа.
9) Все жители столицы сложат оружие.
10) Депутат эрцгерцога Австрийского будет отпущен без ответа.
11) Частное имущество, отнятое у владельцев, будет им возвращено; арсенал и Бастилия будут сданы королю.
12) Город в текущем и будущем году ссудит королю потребную ему сумму за 12 %.
13) Все предводители восстания остаются при прежних должностях, которые они занимали на королевской службе.
14) Король возвратится в столицу, лишь только ему дозволят государственные дела.
Принимая эти условия, парламент выторговал у правительства награды всем предводителям народного ополчения. Принцу Конти – доходы города Данвиллье; герцогу д'Эльбефу – уплату долгов его жены и 100 000 ливров старшему его сыну; герцогу Бофору – полное прощение, отцовскую пенсию и денежное вознаграждение за конфискованное его имущество; герцогу де Буйону – тоже; герцогу Лонгвиллю – губернаторство Пон-де-л'Арш; маршалу де ла Мотт Гуданкуру – 200000 ливров серебром… Эти награды мятежникам из королевской же казны в общем итоге составили несколько миллионов. Правительство согласилось на все, и 5 апреля заключение мира между королем и его подданными было отпраздновано торжественным молебствием в соборе Парижской Богоматери.
Подобно отзвучию далекого землетрясения, мятежи Фронды волновали Париж в то самое время, когда в Англии свирепствовала страшная революция, ниспровергнувшая трон Стюартов. 30 января 1649 года голова короля Карла I пала под секирой палача в Уайт-Холле…
Вскоре по заключении мира герцог Орлеанский возвратился в Люксембург; королева со своим семейством еще оставалась в Рюэйле. Мир нимало не улучшил положение дел. Бофор по-прежнему величался, рыночным королем; коадьютора народ любил по-прежнему; он не выговорил себе от правительства ни наград, ни повышений и тем выиграл в мнении народном. Герцогиня де Шеврез, возвратившаяся из Англии вместе с дочерью, сблизилась с фрондерами, поддерживая в них ненависть к Мазарини. Прекратилась война физическая, но моральная продолжалась по-прежнему: партии перестреливались памфлетами и пасквилями. Вместо переезда в Париж орлеанское семейство перебралось из Рюэйля в Компьен; Мазарини вместе с принцем
Конде отправился в Ла-Фер на смотр войск, отправляющихся во Фландрию. Наконец 18 августа 1649 года королева торжественно въехала в Париж. Мазарини истратил до ста тысяч ливров на подкупку крикунов, приветствовавших Анну Австрийскую восторженными «Виват!». Вечером в Пале-Руайяле королева принимала своих недавних врагов; разменивались любезностями, ласками, внутренне сознаваясь, что все это притворно и только маскирует непримиримую вражду. Интриги и козни не утихали. Следить за их ходом так же трудно, как трудно очертить карандашом ткань хитросплетенной паутины… Скажем немногими словами, что королеве и кардиналу с помощью герцогини де Шеврез удалось привлечь на свою сторону коадьютора, вскоре пожалованного в кардиналы; задарить его друзей и арестовать Конде, Лонгвилля и Конти (18 января 1650 года), которых заточили в Венсенский замок; герцогиня де Лонгвилль с обоими сыновьями была удалена в Нормандию, откуда она перебралась в Голландию, где ей дал приют принц Оранский. Герцогиня Буйон вместе со своей дочерью была заключена в Бастилию… Так верна была своему слову Анна Австрийская, так честно соблюдала она статьи мирного договора с Фрондой! Город Бордо принял сторону семейства Конде и дал в своих стенах приют его матери, герцогам де Ларошфуко и де Буйон, в течение четырех месяцев выдержавших правильную осаду со стороны королевских войск. Тюреннь вошел в сношения с испанцами, готовясь вести их прямо на Париж; ему удалось проникнуть до Дамар-тена. Весь 1650 год прошел в междоусобиях, интригах, крамолах, истощавших казну и разорявших народ. Положение дел внутренней политики Франции было самое плачевное; не было мужественной руки, которая, взяв кормило правления, дала бы крутой поворот к лучшему делам государства, которое благодаря гению Ришелье доведено до высокой степени могущества и благодаря бездарности Мазарини в шесть лет было низведено на степень какой-нибудь Оттоманской империи. Об освобождении принцев, отправленных из Венсена в Гавр, ходатайствовал безуспешно парижский парламент. Кардинал Рета настойчиво требовал от королевы: во-первых, освобождения узников, во-вторых, удаления Мазарини; в последнем его поддерживал герцог Орлеанский. На первое королева соглашалась, но с
Мазарини – было выше ее сил; за своего возлюбленного она готова была отдать корону и все королевство ввергнуть в пропасть бедствий и междоусобий. «Это ли не любовь?» – скажет читатель. Нет, возразим мы со своей стороны, это не любовь, а старческое упрямство и обезьянья чувственность. Любовь облагораживает человека; она делает его вообще добрее, мяг-косерднее; такого благотворного влияния любовь не оказывала на сердце Анны Австрийской. В январе 1651 года новый бунт угрожал власти королевской, но на этот раз он мог разыграться страшнее, нежели год тому назад. Госпожа де Шеврез предложила королеве поспешить освобождением гаврских пленников, отправив вестником этого освобождения самого кардинала. Интриганка рассчитывала, что за эту милость озлобленный народ примирится с Мазарини… 6 февраля он тайно выехал из Парижа, а на следующий день королева со своим семейством стала собираться в путь следом за своим кумиром. Уведомленные вовремя, кардинал Ретц и герцог Орлеанский решили запереть все городские ворота и волей-неволей удержать королевское семейство в Париже. Весть о предполагаемом бегстве взволновала весь город; народ ворвался в Пале-Руайяль, требуя, чтобы ему показали короля и его брата герцога Анжуйского… Это было ночью; король спал, но для устранения мятежа принуждены были его разбудить и показать народу, приветствовавшему его восторженными криками. 16 февраля освобожденные Конде, Конти и Лонгвилль прибыли в Париж. Мазарини, после тщетного ожидания королевы в Гавре, пробрался за границу и остановился в Брюле, городке электорства Кельнского. Парламент счел долгом поднести королеве благодарственный адрес за удаление первого министра, вместе с предложением удалить от участия в государственном совете всех и каждого, присягнувших какому-нибудь иностранному государю… Анна тотчас же применила этот закон и к кардиналу Ретцу как присягавшему его святейшеству папе римскому. Коадьютор удалился на покой в монастырь Богоматери; это уединение не препятствовало ему, однако, пристально следить за ходом придворных интриг и извещать герцогиню де Шеврез, с дочерью которой он был в весьма близких отношениях.
Удаление Мазарини из Франции и отстранение Ретца от правительства не только не водворили спокойствия в королевстве вообще, в Париже в особенности, но пуще прежнего усилили неурядицу. Коноводы фрондеров, все эти праздношатающиеся принцы крови, герцоги, герцогини, маркизы и виконтессы, играли благосостоянием народа и королевской властью, эти господа и госпожи тешились и забавлялись, не обращая внимания на то, что из-за их потехи бедствует народ и проливается кровь. Если б иноземец, прибывший тогда во Францию, всмотрелся пристально в ее государственный строй, он не мог бы себе составить точного понятия об образе правления в этом королевстве: республика эта была, монархия или просто анархия? Только ленивый не брался за управление государством, или, лучше сказать – не играл скипетром и короной. Был ли во Франции законный король? Был: его величество Людовик XIV, но величеству этому еще не исполнилось тринадцати лет, и потому королевством управляла Анна Австрийская… Правительством, в свою очередь, управлял и руководил кардинал Мазарини, изгнанный из Франции по указу парламента. На этот парламент имели могучее влияние и герцог Орлеанский, и Конде, и Конти, и Буйон, и Лонгвилль – имя же им легион, и все они метили в короли точно так же, как их жены и любовницы – в королевы. Все они кричали о своей любви к народу; народ, в свою очередь, кричал «Виват!» в чаянии от которого-нибудь из них великих и богатых милостей… Такова была позорная эпоха Фронды, во время которой Франция напоминала пьяного, которого непослушные ноги несут неведомо куда и который на каждом шагу рискует сломать себе шею. При покойном Ришелье подобное положение королевства было бы немыслимо; десятка два голов, может быть, пало бы на эшафоте, но зато тысячи других были бы спасены от напрасной смерти на баррикадах или под знаменами изменников вроде Конде или Тюрення. В течение тридцати лет (1621 – 1651 гг.) во Франции, по воле судеб, властвовали три кардинала: Ришелье, Мазарини и Ретц; назовите первого – орлом, второго – ястребом, третьего – вороном, и вы составите самое точное понятие о разнице между ними и о характеристике их правительств. Ретц принадлежал к разряду тех жалких людишек, которых природа, оделяя крошечными пигмейскими дарованиями, вознаграждает за них гигантским самолюбием: интриговать, мутить, крамольничать их насущная потребность; этим людям тошно и «моркотно», в какой бы сфере они ни общались, потому что сфера их – мятеж и безначалие. Все беснования коадьютора Ретца-Гонди во время Фронды имели целью получение кардинальской шапки и должности первого министра: он достиг того и другого в сентябре 1651 года. Занялся ли он делом и посвятил ли свои миниатюрные дарованьица на пользу отечества? Ничуть не бывало: он всю свою жизнь продолжал интриговать, каверзничать, попал в Венсенский замок, бежал за границу, скитался из одного государства в другое и наконец угомонился навеки 24 августа 1679 года. Его назначение в первые министры, на место изгнанного Мазарини, было внушено Анне Австрийской, и лучшего способа отомстить своему врагу Мазарини, конечно, не мог и придумать: он знал очень хорошо, что Ретц, во-первых, на этом месте долго не удержится; во-вторых, навлечет на себя ненависть и аристократии, и народа; в-третьих, тем ниже падет, чем выше заберется. Самым лучшим доказательством криводушия кардинала Ретца может служить позорный договор, заключенный им с королевой, Мазарини, канцлером де Шатонефом и герцогиней де Шеврез (неизбежной принадлежностью всякой интриги). Вот подлинная статья этого контракта, заключенного этими госпожами и господами:
1) Коадьютор, для сохранения народного к нему доверия, может говорить в парламенте и где ему вздумается против кардинала Мазарини до той поры, покуда не улучит благоприятной минуты к объявлению себя его приверженцем.
2) Канцлер де Шатонеф и герцогиня де Шеврез наружно будут высказывать недоброжелательство коадьютору, чтобы свободнее вести переговоры с кардиналом, явно пользоваться милостями королевы и хорошим общественным мнением.
3) Герцогиня, коадьютор и канцлер употребят все усилия, чтобы разладить друг с другом герцога Орлеанского и принца Конде.
4) В награду за все эти услуги коадьютор будет пожалован в кардиналы и первые министры…
По остальным статьям Ретц отдавал себя в покорнейшие слуги кардиналу Мазарини и, может быть, единственный раз за всю свою жизнь поступил справедливо: роль слуги или лакея была ему приличнее, нежели роль господина. Вышеупомянутый контракт был заключен накануне дня объявления короля Людовика XIV совершеннолетним, т. е. тринадцатилетним… Это событие предвещало в ближайшем будущем важные перемены, конечно, к лучшему, так как в худшем положении дела правительственные быть не могли. Приверженцы порядка, люди благоразумные и миролюбивые, надеялись, что король избавит Францию от беспокойных принцев, герцогов, герцогинь и им подобных, отменит многие указы регентства, убавит налоги, простит недоимки… Разочарование было тем печальнее, чем утешительнее были надежды!
Утомленные зрелищами недавних междоусобных битв в стенах города, горожане с особенным удовольствием любовались пышным церемониальным шествием короля из Пале-Руайяля в парламент. Восхищались статностью и красотой Людовика XIV, его умением управлять… покуда еще только своим конем, на котором он прекрасно держался. Церемония прошла обычным порядком: говорили речи члены парламента, король, королева; потом Людовику XIV присягали: его брат герцог Анжуйский, принцы крови, герцоги, пэры; один только принц Конде блистал своим отсутствием. Он выехал из Парижа накануне с целью вторгнуться во Францию с испанскими войсками. Мазарини на собственный счет снарядил отряд в 8000 человек и, вверив их предводительство маршалам д'Омону и Гокенкуру, двинулся с ними на границу для охранения ее от вторжения Конде. Эта услуга правительству со стороны изгнанника была тем великодушнее, что незадолго перед тем парламент конфисковал его имущество, решил продать с молотка его библиотеку и выдал указ о вознаграждении в 150000 ливров тому, кто захватит Мазарини живого или мертвого. И на этот раз парижане, верные своему характеру, обратили дело серьезное в шутку, благодаря которой голова Мазарини была спасена. Какой-то весельчак рядом с парламентским указом поместил на всех перекрестках объявление, на котором голова кардинала была оценена по мелочам таким образом: «за уши – столько-то, за нос – столько-то» и т. д. Народ смеялся, и потому-то в среде его не нашлось охотника получить цену крови, обещанную парламентом: француз никогда не будет повиноваться тому, кто ему смешон, это отличительнейшая черта французского народного характера. Вмешательство Мазарини в распрю с Испанией и его противодействие изменнику Конде дали ему право возвратиться в пределы Франции, и 30 января 1652 года он прибыл в Пуатье, где его встретил король и оказал ему самое милостивое внимание. Весть о возвращении изгнанника была причиной новых волнений Фронды и неудовольствия между королем и парламентом. Последнему Людовик XIV предложил выехать в Пунтуаз. Удалился опять за границу и Мазарини, но, согласно данной им инструкции, король действовал решительнее и принял против мятежников энергические меры. Герцог Орлеанский со своей дочерью и многие фрондеры обоего пола были сосланы, и к концу 1652 года от Фронды не осталось и следов. Парламент смирился не только перед королем, но и перед Мазарини, возвратившимся в Париж 3 февраля 1653 года и занявшим прежнее свое место во главе правительства. На этот раз кардинал Мазарини явился уже не тем малодушным временщиком, каким он был десять лет тому назад, нет! Теперь Мазарини был твердой опорой власти королевской и верным служителем интересам Франции. Мирный договор с Англией, брачный союз короля с инфантою испанской Марией-Терезией (9 июня 1660 года), Пиренейский мир в особенности – все эти подвиги Мазарини на дипломатическом поприще, конечно, не будут забыты историей Франции. Имел ли кардинал Мазарини виды на папский престол? Это вопрос нерешенный, хотя и ничего мудреного не было кардиналу, обладателю капитала в 200 миллионов франков, домогаться тиары римского первосвященника. Руки одной из племянниц – Марии Манчини – искал сын Карла I, короля английского; другая его племянница, как увидим, едва не попала в королевы Франции… Одним словом, последнее десятилетие царствования Мазарини было апогеем его мугущества и более или менее громкой славы. Тяжело и неприятно было Людовику XIV терпеть над собой другого властителя королевства; он в этом случае был похож на шахматного игрока, только сидящего за столом, в то время когда другой искуснейший игрок передвигает его фигуры… При всем том Людовик не мог не сознавать, что на дипломатической шахматной доске Мазарини действительно игрок неподражаемый!
Последний год его жизни заслуживает подробного описания, на которое, надеемся, благосклонный читатель не посетует.
Мазарини уже давно страдал сложной хронической болезнью, которая особенно ожесточилась в январе 1661 года и принудила его слечь в постель. Людовик XIV навещал его ежедневно, и в самой спальне больного в назначенные дни происходили заседания государственного совета; здесь же Мазарини принимал министров с докладами и иностранных посланников. Присутствием тех и других он не стеснялся: не только принимал при них лекарство, но даже не высылал их из комнаты, когда оно на него действовало… Вообще во время предсмертной своей болезни Мазарини обходился с окружавшими его с нецеремонностью, доходившей до цинизма. Анна Австрийская навещала его очень часто, когда одна, когда и с фрейлинами; но больной, видимо, тяготился ее визитами и заботливыми расспросами о состоянии его здоровья. В одно из подобных посещений, рассказывая ей о ходе болезни и жалуясь на возрастающую худобу тела, кардинал, сбросив с себя одеяло, показал королеве и бывшим с ней фрейлинам свои иссохшие ноги, покрытые синими и багровыми пятнами. Из всех своих докторов он особенно доверял доктору Генару, любя его не столько за его искусство, сколько за искренность. Мазарини особенно сблизился с ним после разговора, в котором Генар, не обольщая больного напрасными надеждами, откровенно сказал ему, что долее двух месяцев ему не прожить.
– Этого за глаза достаточно, чтобы устроить мои домашние и государственные дела, – сказал больной. – Но успею ли я покончить мои расчеты с совестью?
Болезнь, как оно вообще бывает со смертными недугами, шла с остановками, давая больному некоторый отдых, на день или на два. Чувствуя облегчение, Мазарини вставал с постели и приказывал катать себя в креслах по великолепным чертогам своего дворца. С выражением глубокой тоски он смотрел на полки книг своей библиотеки, состоявшей из тридцати пяти тысяч томов, собранных Габриэлем Ноде, любовался картинной галереей, драгоценными мраморными, бронзовыми статуями и вазами.
– И оставить все эти сокровища! – шептал Мазарини со вздохом.
Вообще в течение последнего месяца жизни кардинал в расположении духа обнаруживал странную смесь малодушия с покорностью воле Божией. О смерти в иные дни он говорил спокойно, почти весело, в другие дни – с ужасом, почти с отчаянием. К составлению духовной он долго не решался приступить, хотя и сверил по книгам все счеты своего громадного имущества, движимого и недвижимого. При этом помощником кардинала был молодой его конторщик, скромный, застенчивый, но вместе с тем способный и ума обширнейшего…
Этот молодой человек был знаменитый впоследствии Кольбер… Мазарини умирая поручал его вниманию короля Людовика XIV и сказал при этом почти ту же самую фразу, которую сказал о нем сорок лет тому назад кардинал Бентиволио, рекомендуя его кардиналу Барберино:
– Предлагая вам принять на службу Кольбера, надеюсь оплатить этой рекомендацией за все ваши милости, мне оказанные!
Состояние кардинала простиралось, как мы говорили, до двухсот миллионов франков, нажитых всеми правдами и неправдами. Независимо от доходов с нескольких аббатств, Ма-зарини обращал в свою пользу часть государственных доходов; продавал за деньги чины и места; под чужими именами занимался подрядами в казну. Переехав из города в Венсен, умирающий послал за отцом Жоли, священником церкви св. Николая-на-Полях (St. Nicolas-des-Champs), чтобы вместе с ним заняться составлением духовной. На исповеди священник спросил кардинала: не укоряет ли его совесть за неблагоприобретенные богатства?
– Ими я обязан щедротам его величества.
– Щедроты его величества сами по себе, но и своя рука – владыка. Много ли вы брали сами?
– Отец мой, зачем вы полагаете подобное различие?
– Затем, что монаршими даяниями вы можете распорядиться как вам угодно; собственные же приобретения обязаны возвратить королю: «Кесарево кесарю!»
– Ах, – произнес Мазарини, – в таком случае мне придется отдать королю все мое состояние!
Предложение патера поддержал и Кольбер. Духовная была составлена именно в этом смысле – четвертую часть громадного своего состояния Мазарини завещал родственникам, остальные три – королю… Нельзя умолчать о двух миллионах, ассигнованных на построение коллегии, названной впоследствии именем покойного. Независимо от завещания духовного, кардинал оставил королю письменные наставления, диктованные умирающим своему приближенному ле Теллье. Некоторые историки утверждают, что вместо всяких письменных наставлений Мазарини сказал королю накануне своей смерти:
– Государь, упраздните навсегда должность первого министра и, если желаете, чтобы другие уважали вас, всего прежде уважайте сами себя!
9 марта 1661 года кардинал Мазарини испустил последний вздох, и с его смертью окончилось во Франции итальянское владычество, тяготевшее над ней со времени Екатерины Медичи. Много ли оно принесло королевству добра и зла, этот вопрос должна решить история… Здесь не можем не сделать любопытной заметки. Несмотря на географическое свое положение, Италия не только триста лет тому назад, но и в ближайшем прошедшем имела – и в будущем, конечно, будет иметь – громадное влияние на государственный строй Франции. Важные роли играли в истории этого королевства Екатерина и Мария Медичи, Кончини, Леонора Галигаи, Мазарини; но эти имена тускнут, теряют свой блеск при роковом для Франции имени Бонапарте. Таинственная связь Франции с Италией еще не порвана окончательно с падением Наполеона III, и кто поручится, что в будущем появление наполеонидов во Франции не принесет в эту страну опять страшных бедствий, междоусобий и внешних войн?
Само собой разумеется, что смерть Мазарини, подобно смерти Ришелье, обрадовала большинство и вдохновила памфлетистов, строчивших живому кардиналу чуть не хвалебные гимны. Из множества сатир, эпиграмм, пасквилей и шутливых эпитафий мы не нашли ни одного стихотворения, мало-мальски проникнутое солью или хоть желчью: все они грязны или пошлы до крайней степени… Песни Фронды (которых написано было до девятисот) были гораздо злее и остроумнее. Искренно оплакивала своего друга только Анна Австрийская, со времени его кончины сделавшаяся еще брюзгливее прежнего и впавшая окончательно в ярое ханжество. Она душевно желала преобразовать двор молодого короля на монастырский лад, конечно безуспешно, причем дело не обходилось без неприятных столкновений старческого ханжества с юношеским эпикуреизмом. Анна Австрийская облачилась в темное саржевое платье, заменила драгоценные туалетные украшения четками и целые дни проводила в своей молельне; журила придворных дам и девиц за их легкомыслие, проповедуя им правила нравственности, которым сама в молодости никогда не следовала. Песенка ее была отпета, и доживала королева свой век, сетуя на развращение нравов молодого поколения. Интриги Людовика XIV с Манчи-ни, ла Вальер, Монтеспан громовыми ударами поражали нравственную Анну Австрийскую; она не скупилась на наставления, а король в свою очередь щедрился на колкости и непрозрачные намеки на минувшее своей родительницы (о чем мы поговорим подробнее при обзоре царствования Людовика XIV).
В 1664 году у Анны Австрийской обнаружились признаки ужаснейшей болезни – рака груди, которым она страдала два года и от которого скончалась 25 января 1666 года. Ее лечил шарлатан Жандрон какими-то секретными снадобьями, только усилившими страдания больной. К мучениям телесным присоединились и нравственные, вследствие всеобщего равнодушия к страдалице, не только не скрываемого, но даже явно выказываемого. Так, ее камергер Беринген (бывший камер-лакей), милостям ее обязанный своей знатностью и всем состоянием, сказал ей при одном из своих посещений:
– Конечно, государыня, всем нам жаль терять вас, но мы утешаемся мыслью, что смерть избавит вас от страданий и вместе с ними от ужасной вони, которая отделяется от вашей раны… Вы всегда любили ароматы и нежные духи!
Но чего было ждать от лакея, когда родной сын королевы, Людовик XIV, по-прежнему сам отличался в балетах и интермедиях? Этот король-рыцарь за два дня до кончины матери спорил с братом в комнате, соседней с ее спальней, о том, кому из них должны достаться ее жемчуга и некоторые из драгоценностей… Тяжко было умирать Анне Австрийской при подобной обстановке! Самое погребение ее отличалось простотой, чуть не бедностью, резко противоречившей роскоши двора, самому званию покойной; даже надгробная речь Боссюэта отзывалась общими местами и принадлежит к числу неудачнейших произведений знаменитого витии.
Анна Австрийская, старшая дочь испанского короля Филиппа II, наследовала от отца его непомерное властолюбие и склонность к деспотизму, которую она обнаруживала и во время регентства, и в первые годы воцарения Людовика XIV. «Усыпляйте народ обещаниями, – говорила она сыну, – а там, пользуясь его сном, смело накладывайте на него оковы!» Воспитанная при дворе тирана и самодура, который на все человечество смотрел как на стадо, созданное для ярма и бича, Анна не могла не усвоить этого взгляда на своих подданных и во все продолжение своей жизни не сделала ничего в пользу французского народа, к которому не питала иных чувств, кроме антипатии, доходившей до омерзения. Ни нужды, ни страдания народные не обращали на себя внимания королевы, которая, однако же, сама Любила комфорт и безумную роскошь. В молодости она, кроме красоты, славилась нежностью комплекции и впечатлительностью кожи до того сильно, что прикосновение к ее телу обыкновенной полотняной ткани производили в ней сильное нервное раздражение. Иного белья, кроме батистового, она не носила. Однажды Мазарини, подшучивая над ней, сказал:
– Если вы попадете в ад, то вместо всяких мучений там будет достаточно стлать вам постель с парусинными простынями.
Она до страсти любила ароматы и цветы, кроме розы, которую не могла видеть на картинах без того, чтобы не упасть в обморок (физиологическая причуда, называемая идиосинкразией). Эта же самая женщина с бесстрастием мраморной статуи смотрела во время восстания Фронды на слезы жен и матерей, умолявших ее о сложении тягостных налогов и жаловавшихся на дороговизну хлеба. Как примирить с подобным жестокосердием вышеупомянутую нежность нервной системы у Анны Австрийской? Примирить трудно, бесспорно; однако же нельзя не сказать, что подобные противоречивые явления в характере женском далеко не так редкостны. В недавно прошедшее время можно было встретить и у нас милейших и нежных дам и девиц, проливавших слезы над сентиментальными романами, любовавшихся луной, наслаждавшихся пением соловья и в то же время чуть не на смерть засекавших своих служанок, иногда и своеручно… Жены и дочери американских плантаторов, тоже нежные, деликатные, скуки ради бичевали своих негритянок, в простоте души не считая их даже за женщин. Но и это не оправдание: женщина, находящая удовольствие в мучениях животных, сама не заслуживает имени женщины! Такова была и Анна Австрийская.
Из героев и героинь Фронды ни один и ни одна не заслуживают подробного биографического очерка. Эти мимолетные любимцы народа, подобно шутихам фейерверка, блеснули, нагремели и исчезли так же быстро, как появились, и слава их рассеялась дымом. Одни кончили дни в изгнании, другие, обратясь на путь истинный, загладили службой королю и Франции свои минувшие ошибки. Бурное, революционное движение Фронды выдвинуло на первый план женщин, делавших из любви главную пружину своих политических махинаций. Чтобы привлечь на свою сторону приверженца противоположного лагеря, почти каждая принцесса и герцогиня кружила голову, обольщала кокетством и, подобно Омфале, заставляла этого Геркулеса падать к своим ногам. Герцогиня Монбазон, Шеврез и де Лонгвилль особенно прославились этим искусством уловлять мазаринистов в свои сети. Не находя никакой разницы между этими тремя грациями, спекулировавшими своими блеклыми прелестями, и какими-нибудь трущобными нимфами, заманивающими прохожих в свои вертепы, мы не имеем желания пятнать страницы нашего труда их биографиями.
Вторая половина семнадцатого и первые пятнадцать лет восемнадцатого столетия называются во французской истории веком Людовика XIV. Обзору любовных приключений этого короля мы считаем нелишним предпослать небольшой очерк того состояния французского общества, в котором его застал Людовик XIV при своем воцарении. Говоря сравнительно, во многом оно изменилось к лучшему против недавно прошедшей кровавой эпохи царствования Карла IX, Генриха III и Генриха IV. Вот что говорит в своей любопытной книге «Век Людовика XIV» покойный Дюма.[106]
Дух этой эпохи и характер французского общества могут быть олицетворены пятью женщинами противоположных сословий, нравственности и воспитания. Им первым Франция обязана началом могущественного женского влияния на общество. До сих пор влияние это было чисто физическое. Диана де Пуатье, герцогиня д'Этамп, Габриэль д'Эстре обязаны были своим владычеством наружной красоте; женщины XVII века влияли на общество иной силой, силой ума, и женщинами этими были: Марион де Лорм – куртизанка, Нинона (Аннета) Ланк-ло – женщина свободного поведения (femme galante), госпожа де Шуази – дама светская, девица Скюдери – писательница и госпожа Рамбуллье – знатная дама.
Марион де Лорм, о которой мы уже упоминали при обзоре царствования Ришелье, в эпоху Фронды была в полном блеске красоты, несмотря на свои тридцать пять лет. Она родилась в Шалоне-на-Марне в 1616 году; отец ее, человек достаточный, назначал за ней в приданое до 25000 ефимков, но Марион была увлечена своим призванием. Первым счастливым ее обожателем был сын Дебарро, интенданта финансов при Генрихе IV; с ним она бежала из родительского дома. Дебарро был сменен неким Рувиллем, зятем графа Бюсси-Рабютен; за Рувиллем следовал гвардейский капитан Миоссан; затем Сен-Марс (которого она предала кардиналу Ришелье); потом – Арно; потом – герцог Шатийон; потом – Бриссак. Эти семь возлюбленных были действительно любимы куртизанкой не единственно ради интереса. За деньги же она продавала свои ласки кардиналу Ришелье (верно сказать, она служила при нем в качестве шпионки), суперинтенданту д'Эмери и президенту де Шеври. Д'Эмери, сын лионского банкира, богача Партичелли, был, по словам кардинала Ретца, «одним из бессовестнейших людей своего времени»;[107] он говорил во всеуслышание, что «честное слово создано только для торгашей». Отец его, Партичелли, приобрел огромное состояние вследствие злостного банкротства; сын, наследуя его миллионы, переменил фамилию и назвался д'Эмери. Ришелье, покровительствуя ему, вошел к Людовику XIII с докладом о принятии д'Эмери на службу интендантом финансов.
Фамилия незнакомая, но во всяком случае дайте место интенданта лучше ему, нежели этому мошеннику Партичелли.
– Партичелли повешен! – спокойно отвечал Ришелье.
– И прекрасно! Утверждаю д'Эмери в должности интенданта.
Так и служил мнимый висельник Партичелли под псевдонимом д'Эмери. Посланный в Лангдок, он отнял у Монморанси его пенсию в 100 000 ливров, и эта обида была одной из главных причин его мятежа. Д'Эмери не давал постоянного содержания Марион де Лорм, но он пускал ее деньги в прибыльные обороты.
Карл Дюре сеньор де Шеври, племянник лейб-медика Карла IX, Генриха III и Марии Медичи, славился при дворе как весельчак, ловкий танцор и немножко оригинал. У него была следующая поговорка: «Если человек обманет меня один раз – накажи его Бог; два раза – накажи Бог его и меня; но если он меня обманет три раза, тогда пусть Бог накажет меня одного». Другой любимой поговоркой или присловьем президента Шев-ри была фраза: «Ешь, мой волк, ешь, моя собака» (mange mon loup, mange mon chien), – которую он вставлял в разговор ни к селу ни к городу. Зная за собой эту странность, он старался воздерживаться от прибаутки при разговоре с важными лицами, но однажды, говоря с кардиналом Ришелье, не утерпел и выговорил: «Ешь, мой волк…»
– Ваша эминенция, – воскликнул он, остановясь, – простите великодушно; волк сорвался у меня с языка!
– Ну, что же, – засмеялся кардинал, – спускайте заодно и собаку. Если она хорошей породы, то угонит волка и он более не попадет вам на язык!
Марион де Лорм президента называла своим папашей (petit pere), т. е. именно тем именем, каким содержанки величают своих содержателей.
Несмотря на свой образ жизни, Марион де Лорм умела держать себя в обществе с таким достоинством и тактом, что внушала к себе какое-то уважение со стороны людей знатных и гордых. Ее гостиная была местом сходбища придворной молодежи, беседовавшей с непринужденной веселостью, никогда не преступавшей пределов строгого приличия. Одаренная способностью ценить все изящное, Марион де Лорм, принимая у себя гостей, в обхождении с ними и в своих манерах являла им прекрасный образец грациозной вежливости и умения говорить и держаться…
Одно худо: эта сирена была шпионкой кардинала Ришелье, и неосторожное слово, произнесенное у нее в гостиной, немедленно доводилось до сведения его эминенции. Беззаботная, как все вообще куртизанки, Марион сорила деньгами на прихоти, но и не скупилась на добрые дела. Губя одних своими доносами, она благотворила других, ходатайствуя за виноватых, помогая бедным и выводя в люди тех, которые обращались к ней с просьбой об оказании им протекции. Некоторые биографы выдумали о Марион де Лорм, будто она жила сто тридцать пять лет, до 1751 года, но это чистейшая выдумка: тридцать девять лет прожила Марион и скончалась в 1655 году вследствие принятого ею лекарства для изгнания плода. Это неумышленное самоубийство не помешало ей на смертном одре принести чистосердечное покаяние в грехах, или, лучше сказать, в одном грехе, которым и для которого она жила на белом свете.
Нинона Ланкло (femme galante) – личность замечательная. Это дочь своего времени, жрица Венеры, любительница «искусства для исскусства»; Дон-Жуан в образе женщины, меняющей своих обожателей как перчатки и тщетно отыскивающей в их толпе человека, заслуживающего привязанности постоянной. По правде сказать, пограничная черта, отделяющая уличную камелию, куртизанку и женщину свободного поведения (как иначе перевести слово femme galante?) едва ли может быть определена с должной точностью иным способом, кроме денежной оценки… или сравним этих женщин одну с другой таким образом: первая – разносчик, вторая – магазинщик, третья – биржевой негоциант… Медный грош, серебряная монета, червонец – общее же имя им – деньги; та же классификация может быть применена и к женщинам, расточающим свои ласки сегодня – одному, завтра – другому, послезавтра – третьему.
Нинона Ланкло, которую называют Аспазией или Лаисой века Людовика XIV, родилась в Париже в 1606 году и принадлежала к хорошей дворянской фамилии из Турени. Красавица собой, умная, грациозная, она получила превосходное образование, развившее в особенности ее аристократические дарования: она прекрасно пела, играла на лютне, писала стихи, танцевала как олицетворенная грация. Самый именитый вельможа не задумался бы предложить ей руку и сердце, но Нинона уж в девятнадцать лет следовала правилу: выбирая мужа, слушайся рассудка; выбирая любовника, советуйся с сердцем. Обязанности, налагаемые на женщину супружеством, казались красавице несоответствующими ее характеру – непостоянному, независимому; составить счастье одного человека казалось ей недостаточно, самое же главное – она сама не полагала счастия в супружестве и избрала иной путь, хотя и усыпанный розами в своем начале, но часто грязный и тернистый в конце. К счастью, грязи и трений Нинона избежала на своем поприще. Гаспар Колиньи, герцог Шатийон, сын адмирала, был ее первым обожателем, которого любила сама Нинона искренно и бескорыстно. Влияние ее на герцога было до того сильно, что из любви к ней, убежденный ее доводами, он перешел из кальвинизма в католичество. Несмотря на это, он первый, пресытясь ласками своей возлюбленной, охладел к ней; она, в свою очередь, не осталась перед ним в долгу и, судя по герцогу о человечестве вообще, решила, что постоянной любви нет и не может быть на свете, что чувство, называемое любовью, не что иное, как мимолетная прихоть. Затрудняясь только выбором нового обожателя, она сблизилась с Марион де Лорм, от которой позаимствовала многое, в особенности же усвоила нравственные или, пожалуй, безнравственные ее убеждения. Гостиная Ниноны в Париже была центром, в который стекались первейшие умники и даро-витейшие писатели того времени: Дебарро, Буаробер, Скаррон, Шапелль, Сент-Эвремон; Буало читывал здесь свои сатиры, Мольер – комедии. Дом Марион де Лорм походил немножко на танцкласс, в котором, как мы говорили, молодые вельможи обучались изящным манерам, порядочности и вообще приобретали лоск светскости, которого не могло дать им посредственное их воспитание. Гости Марион де Лорм сходились затем, чтобы поговорить более или менее остро и послушать неизменно милую и веселую хозяйку… Иную картину представляла гостиная Ни-ноны Ланкло. Здесь авторы читали свои произведения, отдавая их до издания в свет на предварительный суд умной и образованной Ниноны; замечаниями ее не пренебрегали, похвалами дорожили, собеседничеством наслаждались. Платоническая дружба с литераторами не препятствовала Ниноне в то же время расточать свою неплатоническую любовь знатным поклонникам вроде аббата д'Эффиа, маршала д'Этре; впоследствии число их умножили Конде, маркиз Вилларсо, де ла Татр, Севинье и… многие, очень многие другие. Знатные дамы, не скрывая своего негодования на Нинону, не столько из ревности к ней своих супругов, сколько из зависти ее уму и красоте, просили Анну Австрийскую принудить ее идти в монастырь. Посланный от имени королевы приказал ей выбрать какую-нибудь обитель и ехать туда через двадцать четыре часа.
– Выбираю мужской монастырь миноритов и через полчаса еду! – отвечала Нинона.
Однако же в угоду нравственной королеве она на время удалилась в поместье маркиза де Вилларсо.
Поэт Скаррон, разбитый параличом, женился на Франциске д'Обинье, сосватанной ему графиней де Нейлльан. Бедный калека представил Франциску Ниноне, они подружились, и дружба эта не разрушилась даже тогда, когда вдова Скаррона была маркизой Ментенон, любовницей, а впоследствии и супругой Людовика XIV. Ум и образованность Ниноны не мешали ей быть ветреной и непостоянной в ее сердечных связях, но вместе с тем эта женщина умела быть другом, и в этом случае ее честность и бескорыстие были выше всякой похвалы. Гурвилль, приверженец принца Конде, перед бегством своим за границу отдал на сохранение десять тысяч ефимков Ниноне Ланкло и десять же тысяч одному патеру, своему другу. По возвращении в Париж после Пиренейского мира Гурвилль навестил своих друзей и во первых посетил патера. После обычных приветствий возвратившийся изгнанник завел разговор об отданных патеру на сохранение десяти тысячах ефимков; тот выслушал друга с крайним удивлением.
– Какие десять тысяч? – спросил он.
– Которые я вам отдал на сохранение…
– Вы? Мне? Когда?
– Перед моим бегством. Неужели вы забыли?
– Помнить или забыть можно то, что было; я же от вас никогда никаких денег на сохранение не принимал.
Гурвилль онемел от удивления и негодования; пользуясь этим, честный патер выпроводил его за дверь. Ограбленный одним другом, от которого подобной низости он всего менее ожидал, Гурвилль отправился к Ниноне в полной уверенности, что и она промотала его деньги. Да и чего иного мог ожидать Гур-вилль от куртизанки, если, пользуясь безнаказанностью, патер не постыдился присвоить половину приятельского имущества?
Нинона встретила своего бывшего обожателя с непритворной радостью и родственным радушием. Обласкав его, она с грустной улыбкой объявила ему, что очень перед ним виновата.
«Истратила мои деньги!» – подумал Гурвилль.
– Отсутствие твое было продолжительно, – сказала Нино-на, – быть верной отсутствующему, по мнению моему, глупо и чересчур сентиментально. После тебя у меня было два обожателя, а теперь есть третий, и он покуда мне нравится. Останемся друзьями, хочешь?
– Ваша воля, Нинона!
– Не подумай, чтобы я так же не сберегла твоих денег, как и моего сердца. Вот твои десять тысяч – целы и невредимы!
И она подала Гурвиллю мешок с его ефимками.
Годы уходили, не только не оказывая на Нинону своего разрушительного влияния, но еще как будто придавая ей новую прелесть. В пятьдесят лет она была так же свежа и хороша собой, как была и в двадцать пять. Ее дом в улице Турнелль, как мы уже говорили, был собранием поэтов и артистов того времени. Прибавим к этому, что Ниноне Мольер был обязан идеей написать своего Тартюфа; аббат Шолье, знаменитый идиллик, дорожил ее приязнью; ла Рошфуко читал ей свои афоризмы… Славный Фон-тенелль представил своего друга, голландского астронома Гюйгенса, и флегматический сын Батавии, очарованный французской Венерой, на время позабыл Венеру небесную, а с ней и все прочие планеты. Госпожи Севинье, де ла Саблиер, де ла Ферте, де ла Файэт гордились ее дружбой; знатнейшие дамы и девицы перенимали у Ниноны ее умение держать себя, разумеется, не усваивая ее очаровательной грации. Христина, королева шведская, в бытность свою во Франции в 1656 году до того была очарована Ниноной, что умоляла красавицу сопутствовать ей в Рим. Года за два до кончины Ниноны маркиза Ментенон представила ее Людовику XIV, и король назвал ее феноменом. В девяносто лет она была еще красавица и очаровывала своей остроумной беседой. Скажем наконец, что Вольтер по выпуске из коллегии пользовался покровительством Ниноны, помогавшей ему деньгами, поощрявшей первые его опыты на литературном поприще и завещавшей ему две тысячи франков на покупку библиотеки. Нинона скончалась ста лет от роду 17 октября 1707 года. Поэт Сен-Эвремон написал ей следующую правдивую эпитафию:
Как чудно щедрая, премудрая натура
Умела сочетать в душе твоей, Нинона,
Все сладострастие, всю нежность Эпикура
С высокой добродетелью Платона![108]
Разумный эпикуреизм красавицы, ее завидное умение жить шутя и невозмутимо много способствовали долголетию и сбережению ее организма. Сердце свое Нинона как будто омыла в водах Стикса, и оно было неуязвимо; она жила сердцем и умом, но не душой: люди, живущие душой, воспринимающие ею всецело жизненные радости и невзгоды, не бывают долговечны. На шестьдесят первом году жизни Нинона испытала первое и единственное горе в своей жизни и перенесла его с мужеством, явно доказывающим, что «щедрая и премудрая природа» отказала Ниноне в чувстве, составляющем святыню женского сердца, в чувстве материнском. Сын Ниноны от маршала д'Этре, называвшийся кавалером де Виллье, вырос, не зная тайны своего рождения. Когда ему исполнилось двадцать лет, его воспитатель, маркиз де Жарсе, представил его Ниноне. Она, не открываясь сыну, поместила его у себя в доме и занялась его окончательным образованием. Случилось то, что неминуемо должно было случиться: воспитанник влюбился в свою наставницу и открылся ей в любви. Нинона, надеясь образумить юношу, сказала ему, кто он… Новый Эдип, хотя еще и неприступный, подобно древнему, выбежав из комнаты в парк, проколол себе сердце шпагой! Два года оплакивала его Нинона, потом успокоилась и прожила еще сорок лет, не изменив образа жизни. По ее мнению, безрассудно скорбящему убивать себя, если сама скорбь его не убивает. Вот несколько афоризмов Ниноны, дающих понятие об уме и сердце этой необыкновенной женщины.
– Любовь – самая рискованная торговля, оттого-то в ней такие частые банкротства.
– Дитя предпочитает сказку истории; люди взрослые предпочитают любовь браку.
– Брак для любви то же, что дым для огня.
– Коварство не в неверности, но в лицемерных ласках неверного. Неверность простить можно, коварство – никогда!
– Начало привязанности там, где конец любви; конец там, где начало неверности.
– Любовь – забава, не обязующая ни к чему; дружба – чувство святое.
– Мудрость заключается не в том, чтобы преодолевать наши страсти, но чтобы направлять их к нашему благополучию.
– Несчастья друзей должны скреплять узы нашего к ним расположения.
– Лучше быть обманутым своим другом, нежели оскорблять его своей недоверчивостью.
Госпожа де Шуази – образец женщины светской, была супругой канцлера герцога Орлеанского. Ее салоны славились, будучи сборными пунктами знати первой половины XVII столетия. Вежливость и обходительность хозяйки, ее умение занять гостей, приискать общеинтересную тему для разговора снискали ей при дворе эпитет самой вежливой дамы во всей Франции. Она сама говорила малолетнему Людовику XIV:
– Если вы желаете быть великим королем, беседуйте чаще с кардиналом Мазарини; если же хотите быть вежливым человеком, тогда чаще беседуйте со мною.
Впоследствии, когда королю говорили об изяществе его манер и вежливости, он постоянно отвечал: «Нет ничего удивительного, я ученик госпожи де Шуази!»
Однако же два-три анекдота об этой учительнице вежливости не совсем говорят в ее пользу. Так, например, гостю, который ей не нравился, она прямо говорила: «Когда я привыкну к вам, тогда попрошу посещать меня». Если в ее салонах набиралось много гостей, она объявляла во всеуслышание: «Нас здесь ужасно много и слишком шумно… не угодно ли кому уступить свое место другому?» Граф Руаси на другой день раута, бывшего у госпожи де Шуази, заехал к ней.
– Граф, – сказала она, выглянув из окна, – вчера мы виделись, и этого для меня весьма достаточно!
Все эти фразы едва ли могут быть названы вежливыми и деликатными. Как бы то ни было, госпожа де Шуази пользовалась репутацией примерной светской дамы до самой своей кончины. С ней были в постоянной переписке королева польская Мария Гонзаго, герцогиня Савойская и Христина, королева шведская.
Девица Скюдери (родилась в 1607 году) в свое время приобрела громкую известность как первая писательница, проложившая тропу целому легиону последовательниц. С детства обнаружилась в ней страсть к чтению романов, в чем ей не было ни малейшего препятствия со стороны родных. Вдохновленная этим чтением, она под руководством своего брата Георга сделала попытку написать роман собственного сочинения и, поощренная успехом, вскоре сделалась писательницей по профессии, ради куска насущного хлеба. Романы «Великий Кир» и «Клелия», в которых она под вымышленными именами вывела придворных дам и господ, обратили на нее особенное внимание всей знати, выразившееся щедрыми подарками и пенсиями. Это дало возможность мадемуазель де Скюдери существовать безбедно и продолжать заниматься литературой. Гостиная ее была открыта по субботам, и сюда сходилась пишущая братия читать свои произведения и толковать об изящном. Сочиненная девицей Скюдери карта фантастического Царства нежности (Carte de rayaume de Tendre) во множестве тысяч экземпляров разошлась по всей Франции.
Некрасивая собой, состарившаяся в безбрачии, мадемуазель де Скюдери вознаграждала себя за отсутствие семьи частым произведением на свет своих детищ фантазии, и в этом случае ее плодовитость была изумительна. Ныне ее романы и повести совершенно забыты, но во второй половине XVII столетия читались нарасхват. Хотя Франция со времен Элоизы была не бедна писательницами, тем не менее пример девицы Скюдери нашел множество подражательниц, и век Людовика XIV был особенно богат авторами прекрасного пола. Перечислим собственно писательниц по части изящной словесности: графиня де Сюз (1618–1673) писала элегии и нежные эротические стихотворения, имевшие многочисленных читателей и почитателей; госпожа де Севинье (род. 5 февраля 1626 г., ум. 20 апреля 1696 г.) заняла и доныне занимает почетное место во французской литературе за свои неподражаемые Письма; девица де ла Винь (ум. в 1684) писала оды; графиня де ла Файэт (1633–1693) – романы; госпожа Дезульер (1633–1696) – идиллии; госпожа де Вильдье (1640–1683) – романы, трагедии и комедии; госпожа Ламбер (1647–1733) – повести и рассказы из мифологии. Из писательниц, которых произведения доныне составляют драгоценный материал для истории Франции, не можем не назвать госпожу де Моттвилль (1615–1689), герцогиню Немурскую Марию де Лонгвилль (1625–1679), герцогиню Орлеанскую мадемуазель де Монпасье (1627–1693), маркизу де Виллар, маркизу Ментенон (1635–1719), оставивших потомству мемуары и письма. Век Людовика XIV достопамятен проявлением во французской женщине деятельности умственной, немало способствовавшей к перемене общественного на нее взгляда, до того времени обращенного на нее с восточной точки зрения – цинической, грубо чувственной.
Маркиза Рамбуллье дочь Жана Вивонна, маркиза Пиза-ни, и Юлии Савелли соединяла в себе ум, любезность, приятность обхождения итальянки и француженки. Отказав себе в удовольствии посещать двор, маркиза в 1617 году построила свой собственный дворец, в котором не замедлили появиться и свои придворные. Отель Рамбуллье по наружной своей красоте, внутреннему убранству, а самое главное – по собиравшемуся в его стенах обществу мог смело соперничать с дворцом королевским. Хозяйка – умная, образованная – была кумиром своих гостей; дети ее, особенно дочери, были полубожествами миниатюрного Олимпа отеля Рамбуллье. К сожалению, утонченная вежливость, возведенная в какой-то культ на этом Олимпе, дошла до границ нелепости, а последователи этого культа превратились в фанатиков, величавшихся жеман-никами и жеманницами (precieux et precieuses). Эти сектанты вежливости, возведенной в догмат, взяли себе за правило в разговоре и в сочинениях не называть своими именами тех вещей, собственное название которых (по их мнению) может оскорбить ухо благовоспитанного человека… Дошли до того, что даже собственные имена заменили фантастическими: Альцест, Валер, Зарфея, Маналинда и т. д. Таким образом, члены этой академии вежливости и деликатности говорили своим особенным языком, для человека постороннего загадочным, подобно египетским иероглифам. Эта причуда не могла ускользнуть от наблюдательного взора Мольера, и в 1659 году он написал своих «Смешных жеманниц» (Precieuses rudicules), в которых все действующие лица были списаны с натуры, ровно как и вычурный язык, которым они говорили.
Антоний Годо, епископ Грасса, девица Поле и поэт Вуатюр были корифеями отеля Рамбуллье. Звание Годо не было помехой его веселости и не набрасывало на окружающих даже тени принужденности или стеснения. Девица Поле славилась красотой, любезностью и легионами поклонников. Что же касается до Вуатюра, ему доступ в отель Рамбуллье открыли его талант и известность; происхождения он был незнатного – сын ди-жонского виноторговца. Знакомства с Вуатюром не чуждались, впрочем, и знатнейшие вельможи, с которыми поэт держал себя гордо, с чувством собственного достоинства. Карты и женщины были его преобладающими страстями; в кругу друзей Вуатюр отличался неподдельной веселостью, остроумием, умением шутить и дурачиться. Однажды, гуляя с сыном маркизы Рамбуллье и адвокатом Арно, он вызвался угадывать по наружности прохожих их звание. Мимо приятелей проехал в карете пожилой господин в черном кафтане и зеленых шелковых чулках.
– Это непременно советник уголовной палаты! – решил Вуатюр.
– Неправда! – отвечали товарищи.
– Правда! – настаивал поэт. – И пари держу, что это так.
– Догони и спроси!
Вуатюр опрометью бросился за каретой; догнал, крикнул кучеру, и карета остановилась.
– Милостивый государь, – сказал поэт, подходя к дверце. – Будьте столь добры и решите мой спор с приятелями: я говорю, что вы советник уголовной палаты, а они бьются об заклад, что нет. Кто из нас прав?
Пожилой господин, взглянув в глаза Вуатюру, отвечал невозмутимо:
– Бейтесь постоянно об заклад, что вы дурак, и всегда будете в проигрыше!
Вуатюр, почесывая за ухом, возвратился к друзьям.
– Ну что, угадал? – спросили они.
– Я-то не угадал, кто он, – отвечал Вуатюр, смеясь, – но он угадал, кто я!
Ходила молва, будто Вуатюр тайно женат. Граф де Гиш, встретив его как-то в отеле Рамбуллье, спросил: правда ли это? Вуатюр, пропустив, по-видимому, вопрос мимо ушей, не ответил ни слова; де Гиш не настаивал. Ровно через неделю часу во втором ночи камердинер графа, разбудив его, доложил, что Вуатюр желает видеть его по какому-то важному делу.
– Проси, проси! – сказал граф, вскакивая с постели.
– Граф, – сказал вошедший Вуатюр, – неделю тому назад вы спрашивали меня, женат ли я?
– Что же?
– Не желая долее оставлять вас в неведении, я пришел сказать вам, что я женат.
– И для этого вы меня разбудили? Это и есть ваше важное дело?
– Да, граф, дело важное, семейное, которое, вероятно, интересует вас, если вы меня о нем спрашивали. Ради пустого любопытства никто о семейных делах не спрашивает.
Как-то поздно вечером адвокат Арно приехал в отель Рам-буллье с десятилетним семинаристом Босюэ – будущим знаменитым витией. Мальчик говорил проповеди на заданные тексты, и говорил действительно прекрасно. Беседа продлилась далеко за полночь.
– Что вы скажете? – спросил кто-то из гостей у Вуатюра.
– В жизни моей не слыхивал, чтобы кто-нибудь проповедовал так рано и вместе с тем так поздно! – отвечал Вуатюр.
Отель Рамбуллье славился по всему Парижу по самый день смерти маркизы в 1665 году. Дочь ее, госпожа Монтозье, пыталась поддержать блеск ее гостиной, но он исчез вместе со своей хозяйкой.
Кроме упомянутых нами пяти общественных сфер, средоточиями которых были женщины, огромное влияние на нравы имел театр, деятели и деятельницы на артистическом поприще. Французский театр облагорожением своим обязан был кардиналу Ришелье; до его времени ни одна порядочная женщина не посещала театр. Представления давались в двух отелях: Бургонском и Марэ. Костюмы брались напрокат с толкучего рынка; репутация актеров и актрис была самая жалкая; звание последних было синонимом звания проститутки… Духовенство, отказывая тем и другим в христианском погребении, было почти право. Гюг Герю, прозванный Готье-Гаргилем из труппы Марэ, был первым актером, имевшим репутацию человека порядочного; за ним следовали Генрих Легран (Бельвилль в высокой комедии и Тюрлюпен в фарсе) и Робер Герои (Гро-Гилльом). Представляли они большей частью итальянские площадные фарсы, играли в масках и разговоры свои импровизировали, пересыпая их грубой, невымытой солью. В таком виде застал театр кардинал Ришелье и решил его преобразовать. Сотрудником кардинала в этом деле был талантливый Пьер ла Мессье (Белльроз) и актрисы Бопре и ла Вилльэт. Первая играла в трагедиях Корнеля; вторая славилась более красотой, нежели талантом. Аббат д'Армантьер был от нее без памяти, и когда она умерла, он купил у могильщика ее голову, поручил доктору выделать из нее череп и до конца своей жизни берег его у себя на письменном столе. Эта любовь аббата к актрисе могла бы послужить богатой темой для романа.
По мере очищения театра от итальянской мишуры и балаганщины на его подмостках начали появляться актеры и актрисы из порядочных классов общества. Таковым был Мондори, сын овернского судьи, из любви к театру бросивший службу и собравший собственную труппу, состоявшую первоначально из Ленуаров, мужа и жены. Граф Блан, ухаживавший за женой, нарочно для нее заказывал пьесы сочинителю Мэре…
В 1653 году возникла труппа сестер Бежар, антрепренером которой был бессмертный Мольер.
Авторами для сцены были в эту эпоху Георг Скюдери, Буа-робер, Демерэ, ла Кальпрандр, Мэре, Тристан л'Эрмит, дю Риэ, Пиже де ла Сер Коллете, Бойэ, де Бертерон, Ротру и Корнейль или, как его принято называть, Корнель. Эти имена, за исключением трех (Скаррон, Ротру, Корнель), ныне забыты, хотя произведения упомянутых авторов имели значительное влияние на упрочение самобытности французского театра; их стараниями изгнанные со сцены Кассандры, арлекины, коломбины, пьеро и полишинели были заменены героями древности в трагедиях и более или менее верно скопированными с натуры живыми личностями в комедиях. Гениальный Ришелье понимал, что театр, насущная потребность французского народа, может и должен иметь хорошее влияние на общественную нравственность… На деле оказалось противное.
Вновь возникшее сословие актеров и актрис образовало особую корпорацию, вместо уважения снискавшую со стороны общества самое незавидное мнение. Знатная молодежь полюбила театр и посещала его не ради любви к самому искусству, но к его жрицам. Волочиться за актрисой почиталось особенным удальством, шиком, признаком хорошего тона; взять ее на содержание – чуть не подвигом. На подмостках театра актриса изображала героиню добродетели, за кулисами же вне театра была развратницей. Актеры не отставали от актрис и без зазрения совести продавали свои ласки дряхлым графиням и полуразрушенным виконтессам. Театр, лицевой стороной исправлявший нравы, растлевал их своей изнанкой. Вследствие этого у людей нравственных во Франции XVIII века сложился тот предубежденный взгляд на артистов, который от одного поколения к другому перешел из Франции во все страны Европы и сохраняется во многих из них даже в наше время. Читателю не должно казаться странным, если мы в историческом очерке временщиков и фавориток касаемся общественной характеристики и заводим речь о театре, по-видимому, не имеющем ничего общего с предметом нашего сочинения. Нет, одно с другим в тесной связи, и мы не должны упускать из виду тех явлений общественного быта, которые более или менее влияли на общественную нравственность. Театр – школа нравов; но ребенок, обучаясь в школе уму-разуму от учителей, в ней же научается от товарищей многому, что ему не следовало бы и вовсе знать. Французское общество XVII и XVIII столетий испорченностью нравов во многом было обязано театру, бывшему для него древом познания добра и зла.
В первые годы воцарения Людовика XIV французская аристократия группировалась на четыре двора, из которых каждый образовывал особую сферу; центром ее была одна из четырех королев: Анна Австрийская, супруга Людовика XIV инфанта Ма-рия-Терезия, герцогиня Орлеанская (Манате) и вдовствующая королева английская Генриэтта.
Двор Анны Австрийской был невелик и состоял большей частью из старых вельмож и пожилых дам, современников Ришелье. Эти господа и госпожи свято соблюдали обычаи старины, отличались строгостью правил и крайней набожностью, доходившей до ханжества. Сетуя на распущенность нравов молодого поколения, они надеялись явить ему образом своей жизни благой пример нравственности и благочестия, к сожалению, не имевший подражателей. Двор молодой королевы, составлявший противоположный полюс, отличался щегольством, пышностью и веселостью, не выходившей, однако, из пределов приличия; молодежь обоего пола славилась шалостями, любовными приключениями и безумным мотовством.
Герцогиня Орлеанская – герцогиня по титулу, но королева по окружавшей ее обстановке, – тоже имела собственный придворный штат, образовавший «царство в царстве» и отличавшийся легкостью поведения особ женского пола, его составляющих; герцогиня была Цирцеей или Армидой, с помощью своих фрейлин способной завлечь в свои сети любого Улисса или Танкреда. Молодой король Людовик XIV еще до женитьбы своей любил посещать собрания герцогини Орлеанской, на которых мог ухаживать за ее приближенными, шутить и заигрывать с ними без боязни навлечь на себя со стороны хозяйки строгий выговор… Четвертым светилом, полупомеркшим, тусклым, была, наконец, Генриэтта Английская – королева-изгнанница, королева-нищая, пользовавшаяся щедротами Анны Австрийской и Людовика XIV, питавшаяся крохами, падавшими с их стола. И около Генриэтты сгруппировалась горстка преданных ей друзей, деливших с ней горе и страдания. На попечении Генриэтты росла ее дочь, красавица, остановившая на себе впоследствии страстные помыслы сластолюбивого Людовика XIV.
При Людовике XIII, в числе многих преобразований в придворном штате, дружина королевских телохранителей, состоявшая до того времени из иноземных наемников, была заменена правильно организованной ротой мушкетеров. В нее поступали младшие сыновья знатнейших дворян; капитанами были графы и герцоги. Эта дружина – облагороженная опричнина – вскоре по учреждении своем прославилась буйством и всякого рода распутствами; после смерти Ришелье – частыми дуэлями, картежной игрой и скандальными приключениями. Придворные дамы и девицы особенно благоволили мушкетерам, а ежедневные встречи с ними во дворце давали возможность затевать интриги чуть не на глазах короля и королевы. Удальцы мушкетеры хвалились своими любовными подвигами не менее того, как чванились подвигами ратными; подражая древним рыцарям, носили цветы своих возлюбленных, украшая свои шляпы и мундиры бантиками и кокардами, полученными из рук прелестных. Эта сентиментальность маскировала чувственность грубейшую, циническую. Таким образом, мушкетеры соединяли в себе типы отъявленных волокит, пьяниц, бретеров и вместе с тем сыщиков, так как им преимущественно поручалось арестовывать знатных преступников и отвозить их в Бастилию, в Пиньероль и Венсен-ский замок.
Не можем не умолчать еще о двух нововведениях при дворе, имевших огромное влияние на общественную нравственность. Первое – азартные карточные игры, введенные в моду кардиналом Мазарини и встреченные придворными господами и госпожами с живейшим сочувствием. Ландскнехт вытеснил прежние кости, давая играющему возможность более затейливым способом очищать карманы своих партнеров. Вторым нововведением было вошедшее в моду употребление шоколада, из подражания испанским вельможам, прибывшим во Францию с невестой молодого Людовика XIV, инфантою Марией-Терези-ей. Шоколад, приправленный ванилью, как известно, напиток сильно возбуждающий. Одряхлевшие вельможи обрели в нем источник живой воды; молодые нашли в шоколаде драгоценное свойство усиливать чувственность и сладостно волновать кровь… Утонченный разврат обратился к содействию токсикологии: она указала на некоторые примеси к шоколаду, действующие на организм лучше всякой ванили, и тогда испанский напиток изгнали из употребления старинные приворотные зелья и любовные эликсиры. Разврат и роскошь французского двора становились позорищем всей Европы, но вместе с тем и примером. Людовик XIV и его Версаль вскружили головы не только государям держав первостепенных, но даже мелким итальянским и германским князьям, герцогам, курфюрстам и ландграфам. Обладатель клочка земли в две-три десятины вменял себе в обязанности непременно обзавестись увеселительным замком: Ма-ретрэт, Мон-бижу, Мон-репо и т. д., с фонтанами, статуями, гротами, цветниками и прочими затеями, на которые версальский Юпитер потратил миллион. Басня о Лягушке и Воле, которую во Франции в назидание расточителям читал добряк Ла-фонтен, могла быть тогда применена и не к одним маркизам да виконтам.
Здесь нелишним считаем сказать несколько слов о Версале – театре любовных похождений Людовика XIV, обзору которых мы посвятим следующий биографический очерк.
В 1561 году Марциал де Лoмени, секретарь финансов короля Карла IX, приобрел поместье Версаль и владел им недолго. Л'Этуаль говорит в своих записках,[109] что королева Катерина Медичи приказала удавить государственного секретаря де Ло-мени, владельца Версальского замка, в угодность графу Ретцу, который с 1573 года обладал имуществом своей жертвы и оставил его в наследство своему сыну, архиепископу Парижскому, продавшему Версаль (8 апреля 1632 года) его величеству королю Людовику XIII за 66000 ливров (49500 руб. сер. на наши деньги). Прикупив к Версалю еще участок земли у соседнего владельца, король приказал старый замок сломать и на его месте построить новый не для резиденции, а единственно для временных отдыхов во время охоты по окрестностям. Людовик XIV, которому местоположение Версаля весьма понравилось, задумал увеличить старый замок обширными пристройками, развести сады, посадить парки, осушить соседние болота и застроить пустынные окрестности. Сен-Симон говорит в своих статьях, что Версаль – место неблагодарное, унылое, без всякой красоты, без леса, без воды, без земли – так как, кроме болот да зыбучих песков, там нет ничего; наконец – без воздуха…
Но Людовику XIV было угодно, чтобы на месте этой пустыни по его велению явился рай земной; чтобы в Версале были леса, воды, земля, воздух, и все явилось будто по мановению волшебного жезла. К построению дворца приступили вскоре после смерти Мазарини, планы были начертаны двумя архитекторами – Лево и Мансаром; рисунки садов – Ленотром.
В феврале 1672 года король со всем двором переселился в замок, еще не вполне достроенный; дальнейшие украшения продолжались во все время пребывания Людовика XIV в его раю земном, а прожил король в Версале пятьдесят три года. Недешево обошлась Франции эта игрушка; но мог ли утруждать себя какими-нибудь вздорными, мелочными расчетами король, говоривший: «Государство – я сам!» (L'etat c'est moi!) и уподоблявший себя солнцу, которое тем сильнее, чем далее шествует по небесному своду (vis oquivit aeundo)? Уподобление не совсем справедливое в отношении космографическом: солнце по небосклону не шествует и по мере кажущегося своего шествия к западу не приобретает силы, а, напротив, ослабевает. Но солнце само по себе, а Людовик XIV сам по себе решил, что он – солнце, и дело кончено, и весь двор с ним согласился. Если бы он вместо солнца назвался луной, тот же двор единогласно подтвердил бы его величеству, что он воистину луна, в сравнении с которой солнце – тускло горящий ночник.
Возвратимся к расходам по построению Версальского замка. По вычислениям архитектора Жансона оказывается, что покупка земли, постройки, прорытие реки Еры (Eure), водоподъемные машины Марли и Кланьи обошлись в 86668726 ливров 2 су. Построение часовни стоило 3260341 ливр 19 су. Итого: 89929068 ливров 1 су, равняющихся четыремстам миллионам франков (100000000 руб. сер.), к которым следует прибавить стоимость картин и статуй свыше нежели на шесть с половиной миллионов… Вольней говорит, что Версаль стоил четыре миллиарда шестьсот тысяч франков; Мирабо ограничивает цифру одним миллиардом двумястами миллионами. Впрочем, тот и другой присоединяют расходы на украшение Версаля при Людовиках XV и XVI.
Напоминаем читателю, что, создавая Версаль и бросая на его украшения четыреста миллионов, Людовик XIV не забывал и других резиденций: Сен-Клу, Фонтенбло, Компьеня и т. п. Золото при версальском солнце заменяло лучи дневного светила; но солнечный луч, падая на землю, дает ей жизнь и плодородие, а червонцы, которыми сыпал Людовик XIV, разоряли Францию, так как они были выжаты из несчастного народа, раздавленного непомерными налогами. Не водой, но потом и кровью должны были брызнуть версальские фонтаны в первый день их открытия! Этому дворцу, который можно назвать «гробом повапленным» монархии французской, суждено было играть какую-то роковую роль в судьбах ее народа.
В 1783 году в Версале подписан был мир между Англией и освобожденными от ее ига Северо-Американскими Штатами. Торжество свободы над деспотизмом предшествовало вспыхнувшей через шесть лет революции французской.
В 1789 году в Версале созваны были Людовиком XVI генеральные штаты (etats generaux): на этом собрании голос Мирабо был первым раскатом того грома, под ударами которого рухнул трон королей французских.
После июльской революции 1830 года Людовик-Филипп превратил Версальский дворец в драгоценный музей, в котором сосредоточены были живописные и скульптурные изображения славнейших эпизодов истории французской и знаменитейших деятелей на поприщах военном и гражданском… Место, бывшее когда-то палладиумом гордости королей, превратилось в палладиум славы и гордости народной…
18 февраля (2 марта) текущего 1871 года в стенах того же самого Версальского дворца в присутствии безмолвных свидетелей минувшей славы Франции был подписан мир с Пруссией, которым окончилась семимесячная война, бывшая для Франции тысячу раз тягостнее войны Семилетней… По роковому предопределению, и в ту неудачную борьбу с Фридрихом Великим, сто десять лет тому назад, Франция была вовлечена вследствие интриг и происков маркизы Помпадур, любимой султанши версальского гарема Людовика XV.
Людовик XIV
Олимпия, Мария и Лаура Манчини. – Генриэтта Английская. – Ла Вальер. – Маркиза де Монтеспан. – Маркиза де Тианж. – Мария-Магдалина Мортемар. – Фонтанж. – Маркиза Ментенон
(1651–1715)
В биографическом очерке Сигизмунда Августа, короля польского, мы говорили о вредном влиянии на характер мужчины воспитания его в кругу женщин; теперь, приступая к жизнеописанию Людовика XIV, нам приходится повторить то же самое. Внук флорентинки и сын испанки, Людовик был одарен пылкой, страстной, неукротимой натурой. На попечение воспитателя своего Перефикса, епископа родезского (впоследствии архиепископа парижского), он отдан был уже в отроческих летах, когда к сердцу его были привиты многие дурные качества – неискоренимые. Первым из них была непомерная гордость и ненасытное сластолюбие: гордость находила себе обильную пищу в раболепной лести придворных; что же касается до сластолюбия, то и оно было развито в отроке не по летам, благодаря, во-первых, постоянному его обращению в кругу фрейлин и статс-дам Анны Австрийской, во-вторых, вследствие прилежного чтения рыцарских романов, распалявшего и без того пылкое воображение короля-мальчика. Он вбил себе в голову, что ему суждено быть героем вроде Танкреда или Амадиса, но вместо того разыгрывал при дворе своей матери роль Дон Кихота, с тою единственною разницею, что ламанчский гидальго был в летах зрелых, а Людовику едва исполнилось четырнадцать; Дон Кихот был идеалистом, а у его юного двойника сквозь рыцарскую мечтательность прорывалась грубая чувственность. Он лазил в окна комнат, занимаемых фрейлинами, подглядывал в замочные скважины, когда они одевались; наконец, иногда забирался и прямо в их дортуары чрез тайные двери… Горничная Анны Австрийской госпожа де Бовэ (как мы уже говорили) первая посвятила юного рыцаря в таинства любви и толкнула его на поприще разврата, на котором он так успешно подвизался до того возраста, когда бессилие физическое заставило его опомниться и удариться в старческое ханжество.
В восемнадцать лет Людовик был стройный широкоплечий юноша, среднего роста, с высоким лбом, орлиным носом, пламенными выразительными глазами, несколько выдающейся вперед нижней губой и грациозно округленным подбородком: отличительные признаки бурбонской крови и вместе с тем, по наблюдениям Лафатера, склонности к наслаждениям чувственным. Улыбка его лица, слегка протронутого оспою, была не лишена приятности; говорил он протяжно, с расстановками, с легким недостатком в произношении, заменяя твердый р гортанным г… Походка у него была величавая, несколько театральная; впрочем, театральность проглядывала не только в движениях Людовика, но и в самых его речах и поступках; он вообще любил и – надобно отдать ему справедливость – умел ходульничать и позироваться. Отличный наездник и ловкий танцор, он удивлял своим искусством на каруселях и в придворных балетах. Избрав своею эмблемою солнце, он действительно ослеплял своими блестящими внешними качествами, но не обладал даром обогревать окружающих душевной теплотой: и северное сияние, и фосфор светят, но греют ли они? Душа Людовика была жестка и холодна, как лед, а от лучей его славы отдавала фосфористым смрадом могильного тления, или, лучше сказать, как фосфор – продукт гниения органического, так и лучистая ореола, которою окружал себя версальский полубог, была продуктом его непомерной гордости и душевной испорченности. Внешность и только внешность занимала Людовика, и ею он маскировал душевное свое ничтожество. Упоминая о его преобладающем пороке – сластолюбии, мы забыли сказать, что оно проявлялось во всех своих видах, т. е., кроме сладострастия, Людовик славился любовью к лакомствам, перешедшею с годами в обжорство; в зрелых летах он просыпался по ночам и ужинал вторично с таким аппетитом, как будто и не закусывал, отходя ко сну. Вследствие этой неумеренности король очень часто страдал расстройством желудка, отражавшимся и на его расположении духа. В эти минуты хандры жутко бывало придворным, невесело бывало народу и страшно бывало приговариваемым к наказаниям – лишние годы каторги, несколько лишних степеней пытки, даже смертная казнь, в тех случаях, когда она могла бы быть заменена пожизненным заточением, – таковы бывали последствия обременения королевского желудка лишним куском паштета… В чужом пиру похмелье!
Восемнадцатилетний Людовик в любовных своих похождениях сделался отважнее и предприимчивее, да и придворные девицы перестали смеяться над его влюбчивостью, так как тут кошке были игрушки, а мышкам слезки. Госпожа де Навайль, надзирательница за фрейлинами, зорко следила за ними, наушничала Анне Австрийской на ее сынка; приказала, наконец, замуровать потайную дверь, чрез которую Людовик прокрадывался к своим одалискам. Препятствия и выговоры только пуще разжигали страсти в молодом короле. Дочь метрдотеля Елизавета де Тернан была первою его любовью, по которой он вздыхал, плакал и томился… месяца два. Видя неприступность красавицы, он поверг свое нежное сердце к стопам фрейлины де ла Мотт д'Аржанкур (в январе 1658 года), но и тут ему отвечали совершенным равнодушием, да, кроме того, и строгая матушка задала влюбленному порядочную головомойку. Наш мотылек, согнанный с одного цветка, не замедлил перепорхнуть на другой, и цветком этим была племянница кардинала Олимпия Манчини. Будучи годами старше Людовика, она, однако же, отвечала ему вздохами на вздохи, взглядами на взгляды, но и только, а король домогался чего-нибудь посущественнее. Брак Олимпии с графом Суассоном, подобно мечу Александра Македонского, рассек гордиев узел этой платонической связи. Людовик, не унывая, обратился к сестре Олимпии, некрасивой, но умной и хитрой Марии. Кто-то из современников назвал ее обезьяной за хитрость, отчасти же и за наружность: очень смуглая, как арабка, толстогубая, небольшая ростом, Мария живостью движений и игривостью действительно напоминала гориллу или макаку, но и это сходство карикатуры человека с животным не только не охладило, но чуть ли не усилило страсти Людовика к Марии. Начали они перепискою; куда она их завела, об этом история стыдливо умалчивает, но весьма вероятно, что страсть короля вознаграждена не была. Мария Манчини увлекала его в надежде быть не фавориткою, но законной супругой, от чего и Людовик был бы не прочь, если бы в это дело не вмешались кардинал и Анна Австрийская. Как ни честолюбив был Мазарини, но он как человек умный понимал, что подобный брак был бы посмешищем всей Европы, да и его самого поставил бы в неприятное положение.
– Пора женить короля! – решил он сообща с Анной Австрийской, и решение это тем более было непреложно, что оно находилось в тесной связи с событиями политическими; этот брак Людовика XIV с инфантою испанскою Марией Тере-зией (9 июня 1660 года) был могущественною скрепою недавно заключенного Пиренейского мира. Объятья прелестной супруги отвлекли короля от Марии Манчини, впрочем, весьма ненадолго. Довольствоваться ласками жены, имея возможность обладать первейшими красавицами двора… подобное самоотвержение было не в характере Людовика XIV.
31 марта 1661 года Анна Генриэтта Английская, дочь короля Карла I, возросшая во Франции, выдана была за герцога Филиппа Орлеанского, брата Людовика. Брак этот, следствие политических комбинаций, был ей не по сердцу; втайне она любила Людовика XIV, но умела преодолевать себя и не выказывала ему своих чувств: страдала и ревновала молча. Если бы король менее увлекался страстями, не порхал от одной фрейлины к другой, а обратил бы свое внимание на Генриэтту, почему знать, не нашел ли бы он в ней верную, добрую жену, способную обуздать его пылкость и дать его страстям благородное направление? В политическом отношении родственный союз с Англиею мог принести Франции громадную пользу и устранить многие бедственные столкновения ее с Великобританиею в недалеком будущем… но ничего подобного не было, и Генриэтта покорилась своей безотрадной участи. Двор ее, по составу женского персонала, уподобляли гирлянде живых цветов; так прелестны были фрейлины Генриэтты, между которыми особенно отличались красотой и грацией девицы де Сурди, де Сойянкур, Сент-Эньян, де Вард, Монтозье, Бюсси, де Гиш, Тоннэ-Шарант и ла Вальер, о которой теперь нам предстоит рассказывать читателю.
Луиза Франциска де ла Бом ле Блан де ла Вальер родилась в 1644 году в Туренни и в детстве, потеряв отца, воспитывалась в замке Блуа, принадлежавшем Гастону Орлеанскому. Пятнадцати лет она поступила фрейлиною к Генриэтте Английской и обратила на себя внимание всего двора красотой, умом и грацией, несмотря на маленький физический недостаток: она прихрамывала. Вот что говорит о ней один из современников: «Девица эта роста посредственного, но очень худощава, походка у нее неровная, хромает. Она белокура, лицом бела, рябовата, глаза голубые, взгляд томный и по временам страстный, вообще же весьма выразительный. Рот довольно велик, уста румяные. Она умна, жива; имеет способность здраво судить о вещах, хорошо воспитана, знает историю и ко всем этим достоинствам одарена нежным, жалостливым сердцем».
Охладев к своей супруге, Людовик XIV в Сен-Жермене стал часто навещать свою невестку Генриэтту Английскую, чем подал ей повод думать, что он сочувствует ее безответной любви, но… «умысел другой тут был»: король в толпе фрейлин отыскивал себе предмет страсти, и пламенный его взгляд особенно часто останавливался на молоденькой ла Вальер. Однажды он заговорил с нею, и заметно было, что этот разговор доставил и ему, и ей большое удовольствие. Генриэтта, не подозревая возможности серьезной связи Людовика с молоденькой ла Вальер, не обращала внимания на предпочтение, оказанное ей королем перед другими фрейлинами, из которых многие были гораздо красивее ее. Однако Людовик в ухаживаньях своих за ла Вальер принялся действовать систематически, как и следовало опытному волоките. Он подарил красавице пару драгоценных серег и браслет, которые она надела и носила постоянно; вскоре связь короля с ла Вальер сделалась сказкою всего двора; фаворитка обратила наконец на себя внимание всей Европы. В Англии и Голландии появились во множестве памфлеты, посвященные более или менее правдивому описанию нежных отношений короля французского к фрейлине герцогини Орлеанской. Из подобных памфлетов особенно замечателен изданный под именем графа
Бюсси-Рабютен и будто бы заимствованный из дневника Генриэтты Английской. Подробности сближения Людовика с его первой фавориткой до того любопытны, что мы приводим их в двух редакциях: по рассказам Бюсси-Рабютена и Тушар-Лафосса – компилированным последним из современных мемуаров. Вот рассказ первого от имени Генриэтты Английской:
«Король, как вам известно, часто посещал меня, чтобы исповедовать мне сердечную свою тоску, мучившую его после отъезда принцессы Колонна,[110] и сокращать время, тянувшееся для него слишком долго. Раз, когда король был скучнее обыкновенного, Роклор, желая вывести его из задумчивости, сказал шутя, что им очарована одна из моих фрейлин, и, передразнивая ее, прибавил, будто она ради сердечного своего покоя не желает более видеть короля. Шутка Роклора развеселила короля. Через несколько дней, выходя из моей комнаты, король увидел девицу де Тоннэ-Шарант[111] и сказал Роклору: «Желал бы, чтоб эта самая любила меня. Не она ли?» – «Нет, – отвечал Роклор, – а вот кто (указав на ла Вальер) и продолжал:– подойдите же, сударыня, подойдите, коль скоро вы так обожаете великого государя!» Эта шутка переконфузила девицу ла Вальер, которая не оправилась от смущения даже и тогда, когда король почтительно поклонился ей и говорил с нею как нельзя учтивее. В этот день она, вероятно, ему еще не понравилась, но он хотел оградить ее от насмешек. Через шесть дней он, увидя ее, часа два разговаривал с нею, и эта беседа решила ее участь. Стыдясь приходить к этой фрейлине, не видаясь со мною,[112] он вздумал разгласить по всему двору, будто влюблен в меня, и при ком-либо из посторонних нарочно ухаживал за мною, нашептывая мне всякие пустяки. В другое же время он заводил разговор о своей красавице, расспрашивая меня о малейших безделицах; видя, что это его тешит, я отвечала ему на все его расспросы. Помнится, как-то фрейлина де Тоннэ-Шарант заболела лихорадкою, а ла Вальер провела с нею целый день, что весьма раздосадовало короля».
Далее в памфлете находим следующие подробности: «Раз вечером король вместе с королевою-родительницею был у меня. На последней был надет прекрасный бриллиантовый браслет, украшенный миниатюрою, изображавшей Лукрецию. Все мы, дамы, бог знает чего бы не пожелали за эту драгоценность, а я, к чему скрывать, в полной уверенности, что король намерен подарить его мне, всячески подговаривалась к тому, давая ему понять, как бы я была довольна этим подарком! Король, взяв браслет из рук матери и показав его всем моим фрейлинам, сказал девице ла Вальер, что мы все умираем с зависти; она отвечала ему со своими томными ужимками… Тогда король попросил свою мать отдать ему браслет в обмен на другой, что королева и исполнила с удовольствием. По отъезде короля я сказала всем фрейлинам, что, вероятно, завтра же он подарит мне этот браслет; ла Вальер покраснела и вскоре удалилась с девицею де Тоннэ-Шарант, которая видела, как ла Вальер, тихонько вынув браслет из кармана, поцеловала его. Заметив это, она сказала своей подруге:
– Теперь вы знаете секрет короля; смотрите же, умейте быть скромны!
На другой день король, посетив меня, более часу разговаривал с ла Вальер; хотел увезти ее от меня в Версаль, но она не согласилась; выразил желание, чтобы она надела свои серьги, часы, все свои драгоценности и в этом виде показалась мне: она так и сделала. Я при короле спросила, откуда у нее все это, и король за нее довольно грубо отвечал: «Это мои подарки!» Потом он предложил мне приехать в Версаль вместе с этой тварью, и я поехала бы только затем, чтобы хорошенько ее отделать при королеве… Он, вероятно, догадался об этом и в самый этот день выказал нам крайнюю невежливость, оставив нас всех под дождем, а подав руку ла Вальер, прикрыл ее голову своею шляпою. Таким образом он, издеваясь над нами, выставил на позор то, что мы долгом считали хранить в тайне. Вскоре он надарил своей ла Вальер мебели и всяких убранств, в том числе канделябр ценою в две тысячи луидоров. В отплату фаворитка вышила ему нарядный кафтан, которого он не снимал целые две недели, и за него одарил возлюбленную шестью платьями, между ними одно было украшено бриллиантами и таковым же поясом; затем последовал камзол, такой же точно, как у королевы. Ла Вальер была в нем одета во время парада в Венсенне в честь английских посланников. Заметив карету ла Вальер, король подъехал к ней в галопе и полтора часа простоял у дверей без шляпы, несмотря на моросивший дождик. Отъехав, он шагах в двенадцати встретил кареты обеих королев, но им он только поклонился. Через неделю король и ла Вальер вдвоем поехали в Версаль, где пропировали дней восемь. Возвращаясь в Париж, она упала с лошади. Не будь она королевской любовницей – не ушиблась бы; но тут явилось необходимым кровопускание – по ее желанию из ноги. Врач два раза пробовал отворить жилу и не сумел; король, побледнев как рубаха, пустил ей кровь сам, и фаворитка на целый месяц слегла в постель. Вследствие этого король на два дня отложил свою поездку в Фонтенбло, по возвращении же весьма изволил радоваться; не радовалась только королева: ей было и так довольно горя, а тут еще каждую ночь король стал бредить своей потаскушкой:[113] так королева, плохо знакомая со значением некоторых французских слов, называла девицу ла Вальер».[114]
Таков рассказ Бюсси-Рабютена о первом сближении Людовика XIV с его первой фавориткой, – рассказ, будто бы записанный со слов Генриэтты Английской, герцогини Орлеанской. Переводя этот рассказ, мы нарочно придерживались чуть не площадной простоты слога, более приличного какой-нибудь судомойке, нежели дочери короля английского и невестке короля французского. Трудно поверить, чтобы так выражалась Генриэтта, влюбленная в Людовика XIV и скорбившая о явном предпочтении, им оказываемом девице ла Вальер. Ревность, конечно, могла ослеплять герцогиню; она могла резко выражаться о ла Вальер, но любовной ревности именно мы и не видим: из ее слов скорее видна жадность и зависть, да и завидует-то Генриэтта не любви короля, а его подаркам, которым ведет самый совестливый инвентарь…
Нет! женщина любящая, негодуя на счастливую соперницу, не только не станет оценивать делаемые ей подарки, но даже отвергнет их, если бы жестокосердый вздумал ее самое утешать ими. Этот фальш бросается в глаза, и потому к повествованию Бюсси-Рабютена мы относимся с недоверием. Факт налицо: Людовик пленился девицею ла Вальер и, обольстив ее, возвел в сан фаворитки; но едва ли этот факт сопровождался такими странными эпизодами, которые видим в вышеприведенном рассказе.
Тушар-Лафосс (Chronigues de L'OeiL de boeuf), компилируя свои рассказы из современных мемуаров несколько на романтический лад, едва ли не правдивее Бюсси-Рабютена.
По его словам, скромная, застенчивая ла Вальер при посещениях королем Генриэтты Английской первая пленилась им и засматривалась на красавца. Он и сам обратил на нее внимание, но по какой-то робости долго не отваживался высказать ей свои чувства… может быть, вследствие искренней симпатии, которая влекла его к ла Вальер, так как истинная любовь всегда робка и труслива. Как-то прогуливаясь в Венсенском парке, он в уединенной аллее подслушал разговор девицы ла Вальер с фрейлиною д'Артиньи. Красавица беседовала со своей подругою о короле и говорила с таким детским простодушием, что король не мог усомниться, что он любим первой, девственной любовью. Ему не стоило большого труда увлечь неопытную девушку, к которой он вскоре душевно привязался, хотя и далеко не до той степени, до которой дошла она в привязанности к нему.
Вначале король вел свою интригу с ла Вальер настолько осторожно, что о ней никто из придворных даже и не догадывался. Любовь свою к ла Вальер он маскировал ухаживаньем за Генриэттой Английской: заказывал Бенсераду или Данжо, своим придворным поэтам, нежные послания, которые передавал ей; она отплачивала ему тем же, в полной уверенности, что она единственная причина частых его посещений сен-жерменского замка… Прежняя любовь Людовика, Олимпия Манчини, графиня Суассон, была проницательнее и ревнивее Генриэтты. Не теряя времени, она открыла герцогине, что она служит королю ширмою – не более. Генриэтта вне себя от бешенства сообщила о связи короля с ла Вальер его супруге, инфанте Марии Терезии и Анне Австрийской и безжалостно поставила любовников между двух огней. Начала разыгрываться семейная драма вперемешку с придворными спектаклями, каруселями и блестящими пиршествами, которыми король тешил свою фаворитку. Любовь можно назвать гипокреною поэта или художника: вдохновляемые этим чувством, они создают произведения образцовые на удивление потомству; эти произведения можно назвать прекраснейшими плодами, созревшими под знойными лучами любви. Людовик XIV – прозаик в душе, – любя ла Вальер, воспевал ее чужими устами и собственной своей любовью к ней вдохновил Мансара, Ле-Нотра и ле-Брена – создателей Версаля. Этот волшебный замок – памятник любви короля французского к ла Вальер, любовная поэма, созданная из мрамора и вместо иллюстраций украшенная статуями, фонтанами, террасами, цветниками и рощами.
Можно положительно сказать, что, если бы Людовик не любил своей ла Вальер, не было бы и Версаля. Замок этот был эдемом, созданным владыкою Франции для своей возлюбленной.
Девятилетний период любви короля к ла Вальер (1661–1670 гг.) можно разделить, подобно периоду годовому, на четыре времени, т. е. весну, лето, осень и зиму. Весна этой любви началась в Сен-Жермене; знойное ее лето и плодоносная осень продолжались в Версале; зима наступила в стенах кармелитс-кого монастыря, в которых исчезала ла Вальер под белоснежным покрывалом сестры Луизы… Бурями и грозами, с которыми были неразлучны лето и осень этой любви, были гонения и обиды бедной ла Вальер со стороны завидовавшей ей Генриэтты Английской, ревнивой жены короля – Марии Терезии Испанской и сварливой ханжи Анны Австрийской… Целая коалиция! Эти три женщины были тремя фуриями, готовыми подвергнуть фаворитку вместе с истязаниями душевными и лютейшим физическим мукам. Как быть? Во всякой любви ад и рай помещаются стена об стену; недаром же древняя пословица гласит: «Нет розы без шипов, нет сладости без примеси желчи». Истины несомненные; но вознаграждать ли аромат розы за царапины, наносимые ее шипами, а ложка дегтя в бочке меда не уничтожает ли всю его сладость? Могли ли утешать ла Вальер бриллианты, которыми ее осыпал Людовик, за грязь и камни, которыми в нее кидали его мать, жена и невестка; могли ли ее тешить карусели и фейерверки в то самое время, когда те же высоконравственные особы вели против нее подкопы и метали в нее чуть не олимпийскими перунами?
Первый громовой удар грянул со стороны Генриэтты Английской. Она накинулась на ла Вальер, как барыня на крепостную горничную. Не довольствуясь градом насмешек и колкостей, Генриэтта сообщила о связи короля догадывавшимся о ней королевам – родительнице и супруге; последнюю могла бы и пощадить хоть ради ее интересного положения. Призвав к себе юную грешницу, Анна Австрийская принялась читать ей такие нотации и нравоучения, что довела ее до истерики; молодая королева была великодушнее; она хоть не желала допустить ла Вальер к себе на глаза. Доведенная до отчаяния, фаворитка, не сказав ни слова королю, уехала в монастырь Шальо,[115] умоляя аббатису скрыть ее от позора и преследований как любящего короля, так и ненавидящих ее королев. Весть об этом нравственном самоубийстве его возлюбленной возбудила в короле жестокий гнев и негодование. Позабыв свое достоинство, он поскакал в монастырь, как волк в овчарню, и нежданно-негаданно вбежал в приемную.
– Вы не умеете владеть собою, – заметила ему супруга, когда он садился в карету.
– Зато сумею совладать с теми, которые осмеливаются оскорблять меня! – отвечал он в бешенстве и уехал. Когда ла Вальер вышла в приемную, сопровождаемая аббатисою, король заплакал. «Дешево же вы цените жизнь того, кто любит вас!» – сказал он фаворитке рыдая.
– Господи, умилосердись надо мною! – простонала ла Вальер, падая на колени.
– Господь не заточал вас в монастырь и этого от вас не требует, – сказал ей Людовик XIV. – Страх загнал вас в эту обитель, но я увезу вас отсюда.
– Не страх… раскаяние в моих прегрешениях!
– Раскаиваться вам не в чем. Едемте!
– Государь, – умоляла ла Вальер, – при дворе ожидает меня новый гнев вашей родительницы и супруги.
– Та и другая – мои подданные!
Прямо из монастыря король привез ла Вальер в Пале-Руайяль и ввел ее в комнату Генриэтты Английской.
– Сударыня, – сказал он ей тоном вежливым, но не допускавшим возражений. – Поручаю девицу ла Вальер вашему благосклонному вниманию.
– Буду заботиться о ней, как о родной дочери! – смиренно отвечала Генриэтта.
Другими словами, буду молчать и воле вашей прекословить не стану!
Труднее было примирить с фавориткой негодовавшую на нее молодую королеву Марию Терезию. Посредницею для примирения король избрал госпожу Монтозье и имел малодушие подслушивать ее разговор со своей обиженной супругой.
– Король желает, чтобы вы принимали девицу ла Вальер и ее уверение в чувствах покорности и благоговения.
– Я в них не нуждаюсь! – сухо отвечала королева.
– Осмелюсь сказать вашему величеству, – возразила госпожа Монтозье, – что эта внимательность к королю будет ему весьма приятна; отказ может огорчить его.
– Весьма сожалею, но девицы этой видеть не могу. Я люблю короля, но король только ее и любит.
В эту минуту вошел Людовик. Королева смутилась, покраснела до того, что у нее носом кровь пошла, и она быстро удалилась из комнаты.
Внутренно сознавая, что он перед супругою не совсем прав, Людовик тем не менее употреблял все зависевшие от него средства, чтобы сблизить ее с ла Вальер посредством принятия участия той и другою в придворных празднествах. Этот путь был неудачен; королева чаще всего отказывалась от выходов под предлогом беременности, и ла Вальер являлась на праздниках чем-то вроде наместницы. Ей льстили, перед нею раболепствовали не менее, как бы раболепствовали и перед настоящей королевою. В это самое время ярким метеором промелькнул при дворе знаменитый Фуке, осмелившийся роскошью своею затмить версальское солнце. Молодой, красивый собою, отлично образованный, Никола Фуке, суперинтендант финансов, вздумал из своего замка воссоздать другой Версаль – царство в царстве. Вокруг этого солнца группировались в виде планет-спутниц, заимствовавших от него свет, старые фрондеры, юные красавицы и многие из даровитейших поэтов того времени. Лафонтен – правдолюбивый в баснях, низкопоклонник на деле, за честь почитал посвящать имени Фуке свои произведения; Скаррон тешил его своими шуточками; чопорная госпожа де Севинье не гнушалась его лукуловскими обедами. Понятно, что Людовику XIV, деспоту до мозга костей, личность, подобная Фуке, была ненавистна. Со своей стороны французский меценат чуть не открыто бравировал короля, хвалясь своими победами над красавицами и даже дерзая домогаться благосклонности ла Вальер. Неведомо какими путями он добыл прекрасный портрет фаворитки в виде Дианы и украсил им стену своего великолепного кабинета; чрез содействие ее приятельницы фрейлины Дюплесси-Белльевр он предлагал ла Вальер двадцать тысяч пистолей за то, чтобы она хоть на один час забыла короля. Современники говорят, будто Фуке достиг своей цели; по крайней мере, Буало в своей XI сатире дерзнул прямо сказать о блестящем Фуке:
Он никогда ни в чем отказа не встречал И над жестокими всегда торжествовал.[116]
Состязаясь с королем в роскоши, соперничая с ним на любовном поприще, Фуке, кроме Людовика XIV, имел еще заклятого врага в лице Кольбера, своего контролера, тайно под него подкапывавшегося. Когда Фуке подвергся опале, остряки, намекая на гербы его и Кольбера (на гербе которого был изображен уж), говорили: «Уж заел белку!»[117]
17 августа 1661 года Фуке давал в своем замке волшебный праздник, который можно было назвать последним, прощальным лучом закатывающегося солнца. Король, Анна Австрийская со всем двором удостоили праздник своим посещением; ла Вальер была царицею празднества, и король не отходил от нее ни на шаг в течение всего вечера. Лафонтен сохранил для потомства описание этого валтасаровского пира и, судя по его словам, подобного изящества, роскоши и великолепия не представлял до тех пор ни один из королевских праздников. Красавицы, наряженные нимфами и вакханками, танцевали целые балеты на воздушном театре; в сумерки великолепная иллюминация озарила цветники и рощи; фонтаны и каскады, казалось, струились алмазами и жемчугами; звезды ракет и бураков фейерверка соперничали со звездами небесными. Труппа сестер Бежар, приглашенная Фуке, разыграла аллегорический пролог, нарочно сочиненный Пелиссоном; затем играли новую комедию Мольера Сварливые (Les Facheux), рассмешившую короля и всех присутствовавших, так как многие лица, в ней выведенные, были скопированы прямо с натуры и зрителям были очень хорошо знакомы оригиналы. Здесь, к слову сказать, Мольер началом своей артистической славы был обязан благородному Фуке, сумевшему его оценить и извлечь из того грязного омута, в котором он вращался, скитаясь с труппою сестер Бежар по ярмаркам. Праздник Фуке окончился великолепным ужином, за которым каждому гостю при десерте подан был кошелек, набитый золотом… И в самый этот вечер Людовик XIV решил гибель радушного хозяина. К этому решению побудила короля не столько безумная роскошь, та золотая пыль, которую Фуке пускал ему в глаза, сколько ревность: обладатель Франции имел средства заживо схоронить расточителя в глубочайшей могиле, до краев засыпанной червонцами, но любовь ла Вальер он тогда ценил выше всех сокровищ в мире, и эту самую любовь дерзкий Фуке намеревался похитить у короля. Этого Людовик простить ему не мог и не простил. Прохаживаясь вместе со своей матерью по пышным чертогам замка Во, король заметил в кабинете хозяина портрет ла Вальер и остановился перед ним как вкопанный, ежеминутно меняясь в лице; рука его, на которую опиралась Анна Австрийская, заметно задрожала.
– Какая дерзость! – прошептал он невольно.
– Что так гневит вас, государь? – спросила Анна Австрийская.
– Что? – переспросил вне себя Людовик XIV, думая одно и говоря другое. – Разве вы сами не видите и не понимаете, что весь этот праздник не что иное, как наглая насмешка надо мной; оскорбление величества с аккомпанементом музыки, сопровождаемое фейерверком и иллюминацией? А герб и девиз этого хвастуна? «До чего не достигну?» Что это, вызов? Перчатка, которую подданный осмеливается бросать своему королю? «До чего не достигну!» – продолжал Людовик, скрежеща зубами. – Ни до чего не достигнешь, потому что я обрублю прыткие лапы твоей геральдической белке… Сию же минуту прикажу арестовать Фуке!
– Государь, у него в доме?
– Дом – не его, он мой! Все, что здесь, все это золото, сокровища, редкости – все куплено на деньги, у меня же накраденные.
– Государь, подобный поступок может затмить вашу славу.
– Мою славу? – повторил король в раздумье. – Хорошо, будь по-вашему, но будьте свидетельницей даваемого мною слова: недолго чваниться Фуке и падение его недалеко!
Король уехал в десятом часу вечера, отвечая на поклоны провожавших его хозяина и хозяйки брюзгливой гримасой и оскорбительным молчанием. Многие гости остались ночевать в замке; пир продолжался до утра, но утро это сопровождалось зарею гибели тороватого хозяина. Через две недели король со всем двором отплыл в Нант, отдав перед своим отъездом приказание арестовать Фуке. Исполнение этого королевского повеления было возложено на д'Артаньяна, поручика мушкетеров. Посланный со стражею прибыл в замок в то самое время, когда Фуке со своими друзьями тешился балетом, составленным из молодых поселянок. Он удержал за руку Фуке, вышедшего на подъезд, и указал ему на портшез с решетчатыми окнами.
– По королевскому повелению! – заметил при этом д'Артаньян.
– На это его воля, – отвечал смущенный Фуке, – но для его славы я желал бы, чтобы он действовал не с такой скрытностью!
В течение дня той же участи подверглись все приближенные опального и его родственники: де Бетюнь, его зять, архиепископ нарбонский, епископ агдский, братья Фуке – аббат и шталмейстер – были отправлены в ссылку. Повальный обыск в доме арестанта не мог способствовать его оправданию. По счетным книгам обнаружено было, что Фуке ежегодно расходовал до 4 млн. франков на подарки и на взятки вельможам, чтобы тем безопаснее пользоваться хищениями казны. Кроме счетных книг и разных документов, бросавших на него неблаговидную тень, у Фуке были найдены: алфавитная роспись всем красавицам, над которыми он одержал победу, и богатые коллекции любовных писем и женских локонов всевозможных цветов. Имя девицы ла Валь-ер было также найдено в позорном реестре побед счастливого Фуке… Для суда над ним и его сообщниками-казнокрадами назначена была особенная следственная комиссия: преследуя Фуке, подвергая его и сообщников более или менее заслуженной каре законов, Людовик XIV в то же время желал нанести решительный удар партии недовольных, состоявшей из прежних корифеев Фронды. Дело Фуке выдвинуло на первый план Кольбера и Летелье – судей предубежденных, недобросовестных, но вместе с тем прославило имена благородных защитников подсудимого: Пелиссона и д'Ормессона, особенно последнего, который спас голову Фуке от угрожавшей ей плахи. Даже знаменитый Ламуаньон – первый президент парламента, узнавший себя в мольеровском Тартюфе,[118] – даже он отступился от участия в следственной комиссии, сказав во всеуслышание: «Lavavi manus meas (умываю руки)». Вообще говоря, сочувствие к бедному бастильскому узнику выражалось весьма многими. Так, Лафонтен, пользовавшийся щедротами суперинтенданта в счастливейшие дни его жизни, писал ему хвалебные стихотворения даже во время продолжительного ареста Фуке и его процесса. Баснописца предостерегали его друзья, говоря, что он может навлечь на себя гнев короля, но добряк отвечал им:
– Благодарность не порок. Если же за то, что я говорю и пишу о моем благодетеле, я буду привлечен к ответу – не беда! Напишу по этому случаю басню с самым дельным нравоучением!
Если бы великий король имел в своей душе хотя наполовину благородства Лафонтена, он, без сомнения, не отдал бы Фуке под уголовный суд, маскируя обвинением в преступлении государственном соперничество Фуке со своей олимпийской особою и делая из закона орудие личной мести. Что Фуке обкрадывал казну – этот факт не подлежит сомнению, но почему же Людовик XIV до обретения портрета ла Вальер в замке Во молчал и глядел сквозь пальцы на все хищения Фуке и его сообщников? Не явствует ли из этого, что король всегда и во всем личные свои интересы ставил выше государственных? Три года и три месяца тянулся процесс Фуке, окончившийся приговором к пожизненному заточению в крепости Пиньероль. Как мы уже говорили выше, пристрастные судьи подводили его под статью закона, определявшую ему смертную казнь. «Не пожалел бы, – сказал Людовик XIV, – если бы его повесили!» Из мемуаров современников видим, что улики против Фуке были весьма слабы, и надобно предполагать, что суперинтендант, запуская руки в казенные сундуки, умел хоронить концы в воду… Но суть дела была не в казне: единственною причиною гибели Фуке была его любовь к неприкосновенной ла Вальер. Приговор, произнесенный над соперником Людовика XIV, возмутил общественное мнение и послужил какому-то стихоплету темою для следующего водевиля:
Фуке помилован! Веревка продается, Которую ему враги его сплели… Теперь веревкой той других вязать придется, И семерых уж мы сочли: Кольбер и Сент-Элен; прибавим к ним: Пассора И канцлера Понсе, Беррье[119] нельзя забыть, Затем – Геро, Ноге… как раз – четыре вора И трое бешеных… Вязать же их, крутить, Повесить для позора![120]Рассказ о падении Фуке отвлек нас от настоящего предмета нашего повествования, и мы возвратимся к событиям, следовавшим вскоре после ареста суперинтенданта.[121]
Королева Мария Терезия разрешилась от бремени сыном. Людовик XIV порадовался рождению дофина именно настолько, насколько требовал этикет; душа его и сердце по-прежнему неизменно принадлежали ла Вальер. Он купил для фаворитки и великолепно отделал дворец Бирон и здесь посещал ее ежедневно, весьма часто проводя время до утра. Независимо от наслаждений любовью, его величество тешился карточной игрой, проигрывая партнерам громадные суммы. Это явное сожительство было соблазном для всего двора, однако же, кроме обеих королев, все молчали и раболепствовали пред фавориткою. Людовик вторично попытался уговорить свою супругу принять девицу ла Вальер в свой штат, и Мария Терезия согласилась с условием, чтобы фаворитка была выдана замуж. Король и сам видел в этом неотлагательную надобность, так как ла Вальер была беременна. Выбор короля остановился было на графе де Варде, но, однако, Людовик раздумал, приняв в соображение, что де Вард в связи с его бывшей пассией, супругой коннетабля Колонна (Мариею Манчини). Эта женщина, со своей стороны, мстя ла Вальер, старалась всячески, чтобы один из ее чичисбеев де Вард или граф де Гиш отбили у короля его фаворитку… Мария Манчини воображала, что король, разлюбив ла Вальер, опять вспомнит былое и возвратится по старой памяти в объятия ее, т. е. Марии. Как бы издеваясь над ее замыслами, но в то же время и над чувствами своими к ла Вальер, король мимоходом завел интрижку с фрейлиной де ла Мотт Гуданкур, девицею очень вольного обхождения. Впрочем, этой мимолетной любовью Людовик XIV тешился несколько дней. Многочисленные враги ла Вальер изощряли все средства к ее низвержению, и в этих кознях, кроме графини Суассон и Генриэтты Английской, принимала деятельное участие Анна Австрийская. На первый случай поручили начать атаку герцогу Мазарини. В одно прекрасное утро, испросив у короля особой аудиенции, этот шут объявил, будто он имел «видение», в котором свыше было открыто ему: «королевство погибнет, если король не отпустит от себя блудницу…*
– А я, с моей стороны, открою вам, – отвечал Людовик XIV, – что у вас голова не в порядке. Советую вам полечиться, а по выздоровлении возвратить в казну все, что из нее было покрадено кардиналом, покойным вашим дядюшкой.
Миссионер со стыда едва нашел двери, за которыми и скрылся, едва держась на ногах; но заговорщики этим не ограничились. Дня через два к Людовику явился иезуит, отец д'Анна, придворный священник. Сетуя на развращенность нравов, последователь учения Лойолы объявил, что если королю не угодно отпустить ла Вальер, то он, д'Анна, удалится от двора.
– Сделайте одолжение, не удерживаю! – отвечал Людовик, смеясь.
За иезуитом следовала госпожа Гамелен, бывшая кормилица его величества, пользовавшаяся за прежние заслуги правом невозбранного входа в его кабинет и опочивальню во всякое время. Подученная королевой-родительницей и молодой королевой Марией Терезией, эта выжившая из ума, дряхлая Амальтея версальского Юпитера воображала, что двадцатичетырехлетний Людовик все тот же малютка, которого она нянчила во времена оны, придя к нему ранним утром, пустилась в нравоучения, выслушанные королем с ироническим вниманием.
– Бабушка, – спросил он ее по окончании проповеди, – это вам кто же все внушил?
– Небо, государь, само небо!
– Удивительно, право, что в этом деле оно вдохновляет такое множество народу. Советую вам, бабушка, оставить эти сказки и не умножать собою число вдохновенных… Без вас довольно!
– Однако, государь, смею заметить…
– Если вы не желаете, чтобы я приказал не впускать вас…
– Этим вы меня убьете.
– Так живите, но не давайте лишней воли вашему языку.
– Но, государь, загляните хоть на один миг в вашу собственную совесть…
– Госпожа Гамелен, извольте выйти вон.
– И вы решитесь выгнать ту, которая питала вас своей чистейшей кровью? – взмолилась старуха.
– За прошедшее благодарю, но раз навсегда возьмите себе за правило в мои дела не вмешиваться и отвечать только тогда, когда вас спрашивают!
И бедная Амальтея ушла с тем же, с чем и пришла. Вместо чуемого врагами фаворитки охлаждения к ней Людовика любовь его только усиливалась вследствие всех этих каверз… Впрочем, оно всегда так. Любовь как молодое деревцо: чем более его подстригают и подрезывают, тем только более оно разрастается. За разговором с кормилицей не замедлило объяснение короля с его престарелой родительницей. Анна Австрийская принялась читать формальную проповедь, пропитанную елеем иезуитизма и приправленную афоризмами ханжества – разными цитатами; Людовик прервал ее:
– Довольно, матушка, не выводите меня из терпения и не заставьте забыться… Упрекая меня за мое настоящее, не мешало бы вам самим вспомнить свое прошедшее!
Анна Австрийская прикусила язычок, но в тот же вечер в присутствии многих придворных дам и кавалеров она вздумала продолжать свои наставления сыну, на этот раз Людовик XIV действительно забыл всякое уважение к матери и вышел из себя; отповедь его была довольно удачна.
– Не могу понять, – сказал он Анне Австрийской, – почему люди, в молодости жившие далеко не безукоризненно, смеют осуждать других за те удовольствия, которыми они по праву молодости пользуются? Вероятно, из зависти… Так, впрочем, заведено на свете, не нами началось, не нами и кончится! Когда нас утомит любовь, когда мы пресытимся ею и состаримся, тогда и мы, в свой черед, ударимся в ханжество и пустимся в нравоучения!
Сам того не подозревая, король пророчил о собственной своей жизни.
– За примерами ходить недалеко. Графиня де Шеврез, она ли не нападает на вольность других женщин, а за самой мало ли грешков? Герцогиня д'Эгийон, принцессы Кариньян, Монако… да им счет потеряешь! Волокитство всегда было и будет; те дамы, о которых не говорят, умеют только хитрее и секретнее вести свои интриги либо связываются с ничтожными любовниками. Госпожа Шатийон и Конде, госпожа де Люинь и президент Тамбонно, принцесса Монакои Пегилльян и т. д. и т. д.,– заключил король, смеясь от всего сердца.
И ла Вальер осталась на месте титулованной фаворитки, к досаде матери и супруги короля и к пущей злобе многочисленных завистниц.
5 июля 1662 года на дворцовой площади дано было Людовиком XIV конное ристалище, или карусель, на котором присутствовали обе королевы, и ла Вальер, разумеется. Наездники были разделены на пять кадрилей: римлян, персов, турок, индусов и американцев; первою предводительствовал сам король, второю – герцог Орлеанский, остальными принц Конде и герцоги Ангиенский и Гюиз. Наездники ловили кольца копьями, сбивали сарбаканами (духовыми ружьями) картонные головы; призы победителям раздавали королевы, но за призами Людовик XIV не гнался: выше всякой награды, дороже рыцарского шарфа, даже лаврового венка он ценил нежные взгляды бесценной своей зрительницы – ла Вальер. Враги фаворитки, на время приутихнувшие, опять принялись за свою подземную работу. Вскоре после каруселя королеве Марии Терезии подброшено было безымянное письмо, извещавшее ее о связи короля с ла Вальер… Этой выходки мы решительно не понимаем! Зачем, с какой целью извещали королеву о том, что уже почти два года было ей известно? Оказалось по справкам, что эта бумажная бомба была брошена графом де Гиш по научению Генриэтты Английской: дочь Карла I не постыдилась действовать против королевской фаворитки гнусным оружием, которое пускать в ход решится не всякая потерянная женщина. Король отомстил Генриэтте, послав графа де Гиш в Польшу с дипломатическим поручением, и лучшего мщения своей невестке он, конечно, не мог придумать, по крайней мере, на месяц, на два… Там она утешилась, взяв себе другого возлюбленного. Дочь своего века, Генриэтта Английская, герцогиня Орлеанская не могла похвалиться строгостью правил, и скандалезные летописи двора Людовика
XIV сохранили немало сказаний о ее любовных похождениях. Беспристрастное потомство должно, однако же, отнестись к памяти этой женщины не без снисхождения. Она шла замуж за герцога Орлеанского, любя всей душой его брата, короля Людовика XIV. Внимательность и ласки последнего к невестке заронили в ее скорбящую душу луч надежды на взаимность, и вдруг – с небес на землю – оказалось, что она, Генриэтта, служит королю только ширмою, загораживающею его ухаживания за ла Вальер. Подобных обид женщина не прощает. Глубоко уязвленная, Генриэтта для мщения не задумывалась ни перед чем: наушничала, сплетничала, интриговала; даже, как мы говорили выше, унизилась до сочинения безымянных писем… Видя безуспешность всех этих маневров, она очертя голову бросилась в омут распутства, т. е. сделалась в смысле нравственном – самоубийцею.
Мы сравнивали фазисы любви Людовика XIV к ла Вальер со временами года. Прошла весна, и наступило знойное лето. Страсть короля достигла, подобно солнцу, своего поворотного круга: пыл ее служил признаком недалекого охлаждения. Во время вторичной беременности фаворитки (в 1663 году) король почти ни на минуту не расставался с нею, в критическую же минуту родов растерялся, расплакался так, как только может в подобных обстоятельствах растеряться нежнейший супруг. Свидетели и свидетельницы этой сцены не преминули, разумеется, довести о ней до сведения королевы Марии Терезии, матери законного дофина. Припомнила она обстановку своих родин два года тому назад, живо воскресли в ее памяти спокойно-величавые черты супруга в те минуты, когда она, давая жизнь наследнику его престола, сама была близка к смерти… Ни слова сострадания, ни единой одобрительной ласки! Много тайных слез пролила Мария Терезия в своей уединенной молельне и, терзаемая ревностью, часто жаловалась приближенным на ненавистную ей фаворитку, не стесняясь выражениями.
– Чем эта чахоточная, мерзкая, развратная девчонка, – говорила она, – могла приворожить к себе моего мужа? Между ею и мною разница в возрасте только один год… Или я так безобразна?
На последний вопрос могло дать утешительный ответ – зеркало; что же касается до предпочтения, которое Людовик оказывал своей фаворитке перед супругою, оно могло быть если не объяснено, то оправдано нашей русской пословицей: «Не по хорошу мил, а по милу хорош».
Самой привлекательной и похвальной чертой в характере ла Вальер было ее бескорыстие; никогда ничего она не домогалась и не выпрашивала у короля; подарки его принимала с непритворным неудовольствием; посещая праздники, даваемые в ее честь, душевно скорбила за их роскошь, тяжким гнетом падавшую на бедный народ. Истая идеалистка, ла Вальер была бы вполне счастлива, если бы по примеру пастушек в идиллиях госпожи Дезульер могла жить в хижине со своим ненаглядным, пасти овечек и плести ему венки из роз с куста, насажденного перед дверьми убогого жилища. Таковы были ее желания, конечно, неисполнимые; но король смотрел на любовь иными глазами: роскошь и великолепие были его насущными потребностями. Вместо желанной хижинки он воздвигал дворцы и увеселительные замки; вместо кустика розанов разводил огромные сады, рощи и парки, населенные беломраморными статуями, вместо овечек, беспечно прыгающих на травке, созывал тысячи гостей на балы и праздники. В мае 1664 года в версальских садах он давал восьмидневный праздник в честь ла Вальер на так называемом очарованном острове. Программа была составлена по сюжету, заимствованному из Ариоста. Итальянцу Торрелли поручено было приготовить пиротехнические декорации и аранжировать иллюминацию; ле Нотру заняться убранством садов; Мольеру с труппой сестер Бежар сочинить интермедию; Люлли и д'Ассуси написать музыку для балетов и пантомим. В первый день был карусель, на котором призы были раздаваемы королевою Мариею Терезиею; после того: балет, мифологическое шествие Аполлона, Флоры, дриад, сатиров и вакханок. За обедом, сервированным на открытом воздухе, гостям прислуживали актеры и актрисы труппы Бежар, наряженные Горами, временами года и нимфами. Вечером на воздушном театре представляли комедию Мольера Принцесса Элидская (La princesse d'ELide), наполненную непрозрачными намеками на красоту ла Вальер и на нежные к ней отношения Людовика XIV. На другой день в сумерки представляли волшебную пантомиму из влюбленного Орланда, оканчивавшуюся фейерверком, изображавшим пожар и разрушение замка Альсины. Так что ни день, то карусель, турнир, бал или придворный спектакль. Играли комедию Сварливые (les Facheux), игранную два года тому назад в замке Фуке. Наконец Мольер читал три первые действия бессмертной своей комедии Тартюф. Что представление этой комедии встретило страшную оппозицию со стороны Анны Австрийской и иезуитов двести лет тому назад, это дело понятное, но вот что непостижимо: как в 1859 году известный компилятор Капфиг мог дать о Тартюфе нижеследующий отзыв, который мы ради курьеза выписываем с дипломатической точностью:[122]
«Король переживал тогда эпоху молодости, страстей и забвения своих обязанностей. Французский двор был тогда в разладе с римским первосвященником по случаю ссоры между слугами герцога де Креки, французского посланника в Риме, с корсиканскими гвардейцами его святейшества; Людовик XIV несправедливо занял Авиньонское графство, пользуясь правом сильного над слабым. Действительно невелика была доблесть для дворянства вытеснить из графства охранявшую его горсть швейцарцев. Папа грозил королю великим отлучением, и при этих-то обстоятельствах, благоприятствовавших войне с церковью, Мольер написал первый акт своего Тартюфа. Главный режиссер труппы, актер Бежар, вскормленный учением эпикуреизма, принятый у Гассанди[123] со своими друзьями Шапеллем и д'Ассуси, в глубине души таил ненависть к церкви под личиною человека, притворяющегося набожным. Мольер клеветал на благочестие вообще. И директору ли труппы скоморохов подобало определять и класть разницу между благочестием истинным и ложным? Эти сцены грязного блуда Тартюфа были, без сомнения, задуманы в кабаке, под вывескою Лотарингского креста бок о бок с Лафонтеном, писавшим свои неблагопристойные подражания Боккаччо тем же самым пером, которым Мольер изобразил впоследствии Мнимого рогоносца (Le Cocu Imaginaire).
Сначала Людовик XIV противился представлению Тартюфа на сцене. Благочестивая Анна Австрийская еще сохраняла настолько нравственного влияния на своего сына, чтобы внушить ему, что под этими однообразными разглагольствованиями против притворной набожности скрывается коварный замысел против религии. Из-под личины Тартюфа проглядывал человек благочестивый, строго соблюдающий свои обязанности, а под складками его плаща глумились над истинно благочестивыми монахами святой капеллы и обителей Богоматери, святого Стефана-на-Горе и Валь-де-Грас. У ученика Гассанди, поклонника Лукреция, была своя мысль, которую он весьма умно проводил сквозь все свои сцены и срамные выходки бесстыдной служанки, говорившей только в таком роде: «Если б я увидела вас голым с головы до пят, я бы всей вашей кожей не пленилась»:
Et je vous verrais nu du haut jusques en bas, Toute vorte peau ne me tenterait pas!Все характеры, выведенные в Тартюфе, были или неверны, или смешны: и этот отец, который думает головой Тартюфа; и эта сцена, когда этот простак только и расспрашивает, что о Тартюфе, когда дочь и жена его страдают, а в доме неурядицы; и гнусный характер Тартюфа, готовящего позор и умышляющего преступную связь с хладнокровием изверга, и эта развязка под столом во вкусе Скапена.[124] Стихи, скучные сентенции, нет действия, нет интриги. Пьесу эту спасла ее политическая цель – служить страстям Людовика XIV. Король повел образ жизни соблазнительный, который мог навлечь на него осуждение со стороны церкви; Мольер напал на церковь под маскою ханжества; король рукоплескал ему, ибо нуждался, чтобы менее строгие нравственные убеждения набросили покров на его соблазны и беспутства!»
Так громит Капфиг великого Мольера за его Тартюфа… Бедный зоил! В оправдание ему можем сказать, что годами он чуть не Мафусаил, так что едва ли не помнит первого представления Тартюфа.
Кроме Мольера, действительно потакавшего слабостям великого короля, его поэтами были Буало и Расин; тот, другой и третий частенько писали по заказу в угоду державному Аполлону. Король неблагосклонно смотрел на бедное дворянство Прованса, видя в нем опасный реактив своему деспотизму; Мольер написал Господина Пурсаньяка; короля тревожили сборища фрондеров в отеле Рамбуллье: Мольер осмеял их в Смешных жеманницах (Precieuses ridicules)… Буало был едва ли не ра-болепнейшим из всех льстецов стихотворцев, воспевавших Людовика. Громя его врагов сатирами и эпиграммами, он воскурял ему фимиам, способный довести до угара:
Перестань, о государь великий, побеждать. Иль перестану я победы воспевать!..Так пел Буало, доходя в своих одах до крайних пределов, до которых только может дойти поэт, ожидающий от милостивца щедрой подачки. Расин почти во всех своих трагедиях под тогами героев древности выводил того же Людовика XIV… Высокий пьедестал, на который был провознесен этот король, сложен из произведений стихотворцев его века; величие этого, в сущности, очень маленького человека создано поэтами; они, гиганты по своим дарованиям, подняли этого пигмея на своих плечах. Единственным человеком, говорившим королю горькую правду в глаза во время его припадков безумной расточительности, был Кольбер. На все праздники и пиры он смотрел со стесненным сердцем и каждый раз писал вместо хвалебной оды сухой, неумолимый счет, изображавший в итогах сотни тысяч франков. Король сердился, ворчал, обещал сократить расходы, ассигновывая бросаемые на ветер суммы на более полезные предприятия. К сожалению, он всего чаще только обещаниями и ограничивался. Ла Вальер и только одна ла Вальер занимала все его помыслы. Безжалостный к ее врагам и недоброжелателям, король, удалив от двора Марию Манчини, назначил ей ежегодную пенсию в 20 тыс. ливров, с тем чтобы она не показывалась при дворе, а тем более ему на глаза. Повинуясь королевскому повелению, племянница Мазарини сказала посланному:
– Другим женщинам платят, чтобы видеть их, мне же наоборот – лишь бы с глаз долой!
В 1667 году король принял личное участие в походе во Фландрию, и эта первая разлука была первым осенним днем его любви к ла Вальер. Именно с этого времени в ее нежное, любящее сердце закралось смутное предчувствие иной разлуки с любовью короля без надежды на ее возврат. Вследствие родов фаворитка заметно подурнела и утратила ту девственную прелесть, которая в первые годы сближения ее с королем так обаятельно на него действовала. Пышный цвет красоты поблек и осыпался, чтобы уступить свое место более или менее горькому плоду, а плодов, т. е. детей, было у ла Вальер трое.[125] Из них один сын и дочь были узаконены под именами графа Верман-дуа и девицы де Блуа. По возвращении из Фландрии Людовик XIV пожаловал девице ла Вальер герцогский титул; указ об этой милости был написан тем же самым слогом, каким в подобных случаях выражался покойный дед короля Генрих IV. «Для вящего и всенародного изъявления нашей благосклонности к нашей возлюбленной и любезно верной Луизе Франциске де ла Вальер жалуем ей высшее почетное звание в знак уважения и особенной любви, возжженной в сердце нашем редкими совершенствами сей особы…»
Это герцогство было, так сказать, нравственной пенсией, которою король вознаграждал свою фаворитку за ее любовь и тот позор, который она вытерпела в первые два, три года своей связи с Людовиком… Так инвалидов при увольнении в отставку от службы награждают чинами и пенсиями. Ла Вальер поняла любящим своим сердцем, что король награждает ее и обеспечивает ее детей для очистки совести, дает ей все блага земные в замену утрачиваемого ею сердца, бывшего для нее единственным сокровищем в мире… Увы! сокровище это король, отняв у ла Вальер, готовился отдать другой избраннице, и избранница эта была не кто иная, как маркиза де Монтеспан, подруга ла Вальер, поверенная задушевных ее тайн, посредница между ею и королем в первый год их любви и блаженства. Более жестокого удара судьба, конечно, не могла нанести бедной фаворитке: в одно и то же время она испытывала неверность любви и коварство дружбы.
Франциска Атенаиса, маркиза де Монтеспан (в девицах де Тоннэ-Шарант) была тремя годами старше ла Вальер и как по наружности, так и по душевным качествам составляла с нею совершенно противоположный полюс. Белокурая, томная, нежная ла Вальер напоминала стыдливую дочь туманного Альбиона или Германии; Монтеспан – пламенная, страстная, с огненным взглядом, могла служить типом чистокровной южанки; одну можно было назвать ясным весенним утром, другую жаркою летнею ночью, приносящею не успокоение, но навевающею страстные сновидения или сопровождаемою томительной бессонницей. В любви ла Вальер Людовик в течение нескольких лет находил покой, отдыхал душою в ее объятиях. Но этот покой его утомил, безмятежность прискучила, в маркизе де Монтеспан он нашел именно ту женщину, которая могла вместо рая дать ему желанный ад любви со всем его пылом и муками.
В 1663 году девица де Тоннэ-Шарант самим Людовиком XIV была выдана за камергера двора герцога Орлеанского Генриха Людовика де Пардайян де Гондрен, маркиза де Монтеспан и в то же время пожалована в статс-дамы королевы Марии Терезии. Замужество нимало не изменило дружественных отношений маркизы с ла Вальер; подруги видались ежедневно; маркиза забавляла фаворитку своими рассказами о придворных интригах, причем, будучи злоязычною от природы, не скупилась на насмешки и колкости. Король иногда любил послушать маркизу Монтеспан и, от души смеясь ее остротам, говаривал, что не желал бы когда-нибудь попасться на язычок колкой рассказчицы, которая, как говорится, не давала спуску никому, кроме разве своей подруги да его величества. Случалось, что маркиза посещала дом ла Вальер в сопровождении обеих своих сестер и брата,[126] составляя с ними весьма забавный квартет, на котором всему двору доставалась порядочная порция сатир, эпиграмм, нередко весьма ядовитого свойства. Вообще семейство Мортемар принадлежало к категории тех опасных людей, которым ровно ничего не значит ради красного словца оклеветать честного человека, очернить порядочную женщину, опозорить честную девушку. Языков сестер Мортемар боялись при дворе не менее, как в царствование Карла IX страшились кинжалов наемных убийц или тайной отравы. Добрая ла Вальер нередко спорила с маркизою, защищая и выгораживая бедных жертв ее злословия, но маркиза и ее добрые сестрицы, оставаясь глухими на возражения, в подобных случаях давали только пущую волю своим беспощадным языкам, особенно если им случалось говорить в присутствии короля.
Начало его интриг с маркизою де Монтеспан отчасти напоминало его любовные маневры в первый год его знакомства с ла Вальер: ради последней он посещал дворец Генриэтты Английской, ради встреч с маркизою он чаще начал посещать дом своей фаворитки.
Чуткое, любящее сердце герцогини ла Вальер в смутном предчувствии измены Людовика побудило ее наблюдать за королем во время его бесед с маркизою Монтеспан. Людовик говорил с нею мало, он больше ее слушал, причем не спускал с рассказчицы своих страстных взоров, на которые она отвечала таковыми же. Заманивая короля в свои сети, Монтеспан действовала как опытная кокетка, по всем правилам своего рода тактики. Всего прежде ей необходимо было уронить ла Вальер во мнении Людовика, и она очень ловко разрешила эту задачу. Злословя, по своему обыкновению, всех придворных, осмеивая дам и девиц, Монтеспан изредка отпускала какую-нибудь шуточку или насмешку насчет ла Вальер, и король, не вступаясь за свою фаворитку, смеялся точно так же от души, будто речь шла о женщине, ему совершенно чуждой. Ободренная первым опытом, маркиза Монтеспан пошла далее. Подруга детства и юности бедной ла Вальер, она сообщила королю несколько анекдотов из жизни его фаворитки, набрасывавших на нее невыгодную тень. Будто неумышленно она пробудила в памяти Людовика неприятные воспоминания о соперничестве Фуке, соперничестве, по ее словам, весьма успешном. Наконец, всеми правдами и неправдами маркизе Монтеспан удалось унизить ла Вальер в глазах короля, и это унижение было верным залогом близкого падения фаворитки.
Не одаренная качествами или, вернее сказать, пороками, необходимыми для ведения борьбы с коварной интриганкой, кроткая ла Вальер обратилась к Людовику и без упреков, но заливаясь слезами, выразила ему свои опасения касательно возраставшей его благосклонности к маркизе Монтеспан. Король (как оно всегда бывает в любовных изменах) отвечал ла Вальер уверениями в неизменной своей любви и в совершенном равнодушии к маркизе. «Если бы, – говорил он, – я когда-нибудь и решился изменить вам, то уж, конечно, не выбрал бы в ваши наместницы эту злоязычную женщину. Я люблю слушать ее сплетни, она умеет смешить меня, но далее этого мои отношения к ней не простираются!» Все эти фразы нимало не успокаивали бедную ла Вальер, а поступки Людовика служили им живейшим опровержением. К довершению горя обхождение маркизы Монтеспан с прежнею своею подругою заметно изменилось к худшему; вместо ласк, более или менее искренних, она начала на каждом шагу делать неприятности ла Вальер и говорить ей всевозможные колкости… Вместо того чтобы защищать свою фаворитку от дерзких нападок маркизы, король малодушно молчал или отвечал новой своей возлюбленной одобрительными улыбками. Тогда-то для ла Вальер началась та нравственная пытка, в которой она видела впоследствии наказание небесное за свои проступки. Терзаемая ревностью, в сознании своего бессилия вырвать короля из сетей соперницы, фаворитка в то же время припоминала о тех страданиях, которые переносила королева в те дни, когда Людовик, покинув жену, глухой к ее мольбам и к убеждениям матери, лежал у ног ее самой, ла Вальер. «Вправе ли я требовать постоянства от человека, для меня изменившего своей доброй и любящей жене?» Эта фраза, неумолимая по своей логике, преследовала бедную ла Вальер, с каждым днем усиливая ее душевные муки. Припоминала она то блаженное время, когда Людовик, упоенный страстью, клялся ей в вечной, неизменной любви до гроба; даже далее – за пределами вечности. Она верила этим клятвам, в простоте души забывая принять в соображение непостоянство человеческого сердца вообще, а сердца Людовика XIV в особенности. Он по-своему любил ее, покуда она была молода, свежа, покуда, пресытясь любовью, не нашел нового предмета страсти. Стало быть, все его уверения в любви душевной были ему внушены грубой чувственностью; не за ум, не за доброе сердце он любил ла Вальер, а единственно за ее привлекательную наружность. Вдумываясь в эти безотрадные выводы из фактов минувшего и настоящего времени, ла Вальер остановилась на будущем, и оно показалось ей мрачным и грозным, как безбрежное море в бурю. Что оставалось ей в грядущем? Три дороги, на одну из которых неизбежно вступает женщина, разочарованная в жизни, обманутая и покинутая. Первая из этих дорог вела к той бездне распутства, в которую бросилась Генриэтта Английская; вторая – к самоубийству; третья же – к прощению, покаянию… к Богу; и эту последнюю дорогу избрала ла Вальер, повинуясь голосу своего доброго, незлобивого сердца. Но прежде нежели мы приступим к повествованию об обращении несчастной, не лишним считаем рассказать о событии, ознаменовавшем год сближения Людовика XIV с маркизою Монтеспан (1670). Говорим о смерти герцогини Орлеанской Генриэтты Английской. Несмотря ни на прежние обиды от Людовика, ни на равнодушие, которым он отвечал на ее любовь, несмотря, наконец, на свои частые любовные интриги с другими, Генриэтта не переставала любить неблагодарного. Дружба, которую он питал к ней, отдавая должную справедливость ее уму и доброму сердцу, была – хотя и слабым, но все же – вознаграждением за минувшие огорчения. Как добрый друг, Генриэтта для Людовика была готова на всевозможные услуги, даже на самопожертвование. Получив от Помпонна, своего посланника в Голландии, известие о тайном союзе, заключенном этой республикой с Испанией и Австрией, Людовик, опасаясь, чтобы и Англия не присоединилась к ним, обратился с просьбою к Генриэтте секретно повидаться с ее братом Карлом II, королем английским, и употребить все от нее зависящие средства и родственное свое влияние для отклонения короля от союза, столь опасного для Франции. Генриэтта с восторгом согласилась взяться за это важное дипломатическое поручение и успешно его исполнила. В этом деле ей много содействовала сопровождавшая ее в Англию девица Керуаль, будущая фаворитка Карла, под именем герцогини Портсмут игравшая важную роль в истории его жалкого царствования.[127] По возвращении своем из Англии Генриэтта решилась напомнить Людовику прежнее, счастливое для нее время, когда он оказывал ей благосклонность, хотя и притворную (как впоследствии оказалось), но которая все же доставила ей несколько отрадных дней. Сравнивая себя с Береникой, царицей иудейской, а Людовика с Титом-Цезарем, она поручила написать на эту тему трагедию, сперва Корнелю, а потом счастливому его сопернику Расину. Весь сюжет этой пьесы состоит в том, что Тит, влюбленный в Беренику, колеблется между чувствами долга и страстной любви к своей пленнице. Первые велят ему отпустить ее в Иудею, вторые – оставить красавицу в Риме и самому сделаться ее пленником. И Корнель, и Расин, каждый по-своему, не могли ничего выработать из такого ничтожного сюжета: первый, вместо двух живых людей, вывел в своей трагедии двух античных статуй; второй-двух миниатюрных куколок из севрского фарфора… Тем легче было признать в лицах расиновской трагедии Людовика и Генриэтту. Берени-ку представляли в театре в присутствии короля: он был тронут, Генриэтта плакала; в некоторых монологах многие видели намеки на прежние отношения Людовика к своей невестке. «Ave Caesar, morituri te saLutant»,[128] – могла бы сказать королю бедная герцогиня, присутствуя на представлении Береники, если бы предвидела недалекую свою кончину. Она умерла 30 июня 1670 года, скоропостижно, умерла – отравленная! По предписанию докторов она ежедневно пила цикорную воду, сохранявшуюся у нее в комнате в особом шкафу, ключ от которого был постоянно при ней. Накануне ее смерти один из пажей ее видел, как маркиз д'Эффиа замыкал шкаф, робко озираясь. Утром 30 июня Генриэтта выпила свое лекарство и тотчас же почувствовала невыносимую боль в груди и в желудке; несмотря на оказанную ей помощь, она скончалась к полудню, а к вечеру тело ее уже разложилось до крайней степени. В ту же ночь Людовик, призвав к себе метрдотеля покойной герцогини Мореля, сам учинил ему допрос, дав обещание пощадить ему жизнь, если только он чистосердечно сознается во всем. Морель признался, что Генриэтта отравлена им в сообществе с маркизом д'Эффиа и его другом Бевроном. Яд был прислан из Рима высланным туда кавалером де Лоррень, фаворитом… нет, вернее, любовницею герцога Орлеанского. Гнусный этот гермафродит не заслуживает имени мужчины.
Верный своему слову, Людовик XIV помиловал Мореля; сообщники его бежали, герцог Орлеанский скоро утешился, и все пошло обычным чередом, как будто Генриэтты Английской никогда и не существовало на земле… Память о ней сохраняется, впрочем, в потомстве благодаря надгробному слову, произнесенному над ее прахом славным Боссюэтом. Бессмертный вития словом своим обессмертил Генриэтту Английскую.
Итак, бывшая соперница и ненавистница ла Вальер сошла в могилу; вскоре за нею последовала и фаворитка, похоронившая себя заживо в стенах монастыря Шальо… Маркиза Монтеспан могла беспрепятственно шествовать к своей цели и достигла ее: связь Людовика с нею перестала быть тайною, двор и весь город знали, что муж ее удален, вознагражденный за великодушную уступку супруги королю очень выгодным губернаторством; что маркиза уже беременна; что две новые комедии Мольера: Жорж Данден и Мнимый рогоносец (Le Cocu Imaginaire) написаны им глумления ради над обманываемыми мужьями вообще, а маркизом Монтеспан в особенности. Достойный внук своего деда Генриха IV, король, позабыв всякое приличие, занял при своей новой фаворитке бессменный пост ординарца… скажем более – превратился в ее лакея. Маркиза переехала в Лувр, и, когда пришло ей время разрешиться от бремени, ее камеристка отправилась в карете за знаменитым акушером Клеманом, которого и привезла во дворец с завязанными глазами. Клема-на ввели в спальню, в которой у постели роженицы находился сам король. Не узнав Людовика, акушер попросил у него чего-нибудь поесть и выпить. За отсутствием прислуги Людовик XIV своеручно достал из буфета хлеб, банку варенья и бутылку вина; потчевал Клемана и по его настоянию сам осушил рюмку за благополучное разрешение от бремени своей возлюбленной… Роды были трудные; король во все время не отходил от маркизы, скрываясь за драпировкой постели. Когда акушер, исполнив свою обязанность, поздравил родильницу с сыном, ему опять завязали глаза, вручили кошелек с сотней луидоров и с прежними предосторожностями отвезли домой. Его величество ликовал, торжествовала маркиза… Плакали только две женщины, отыскивая в молитве утешения в их скорби: королева Мария Терезия и она, отставная фаворитка – ла Вальер.
Избегая в нашем труде по мере возможности скандалезных подробностей, мы рассмотрим отношения Людовика XIV к маркизе Монтеспан с точки зрения влияния этой фаворитки на дела государственные, на быт придворный и на изящные искусства. Ла Вальер любила в Людовике человека; маркиза Монтеспан – короля; первую ослепляли праздники, блеск и роскошь; вторая, напротив, подобно мифологической Семеле, требовала от своего Юпитера величия олимпийского; ла Валь-ер любила бескорыстно, маркиза Монтеспан эксплуатировала любовь короля. Братцу своему герцогу де Вивонь она выхлопотала титул маршала и главного начальника морских и сухопутных сил королевства. Маркиза сумела охладить короля к Кольберу и к Помпонну и вывела в люди Лувуа. Голландские памфлетисты, смеясь над Людовиком XIV, сетовали на его покорность «потерянной женщине»… За это прозвище маркиза Монтеспан отомстила республике голландской, поддерживая в короле воинственное настроение духа, которое едва не довело Голландию до конечной погибели. На украшения Версаля и на тамошние праздники Людовик XIV при ла Вальер тратил сотни тысяч; в угоду Монтеспан он сорил миллионами. Раззолоченные чертоги версальского дворца, украшенные картинами ле Брена, Миньяра, Жувенеля, Гуасса и Одрана, статуями, изваянными Жирардоном, Марси и Пюже, были обмеблированы произведениями Буля, гениального мозаиста, давшего свое имя мебели высокой наборной работы, ценимой знатоками чуть не на вес золота. Всем этим художникам покровительствовала маркиза Монтеспан; ее покровительство – надобно отдать ей справедливость – много способствовало успехам изящных искусств во Франции, но не дешево обходились эти успехи государству. Как проводили время в Версале? На этот вопрос находим ответ в письмах госпожи де Севинье, и вот что говорит она об одной из суббот, бывших jours-fixes при дворе Людовика XIV:
«В субботу вместе с семейством Виллар я была в Версале. К семи часам в эти чудные чертоги прибыли: король, королева, герцог, герцогиня,[129] принцесса Орлеанская (Mademoiselle), вся знать, госпожа де Монтеспан со своей свитою, наконец, весь двор. Меблировка – божественная (!!), и все здесь чудесно… Карточная игра в реверси оживляет общество; король садится подле Монтеспан, которая держит игру; тысячи луидоров рассыпаны по столам; иных жетонов здесь нет. Красота маркизы, говоря без шуток, поразительна. Она одета вся в кружева; прическа ее состоит из мелких букель, ниспадающих по вискам, на голове черные ленты, на шее жемчуги, на руках бриллиантовые браслеты… словом – красота торжествующая, которою восхищаются все посланники. Эти собрания самого блестящего общества продолжаются с трех до шести часов пополудни; в случае прибытия депеш король на минуту удаляется для их чтения, потом возвращается к гостям; слушает музыку; удостоива-ет разговором некоторых дам; в шесть часов прекращает игру. Наименьшие ставки 700 – наибольшие от 1000 до 1200 луидоров; говорят без умолку, и предмет говора постоянно один и тот же: «сколько в червях? Десять… три!» Данжо особенно нравится этот говор, он подтасовывает карты и нагревает руки. В шесть часов катанье в колясках, в котором участвуют король, госпожа де Монтеспан, госпожа де Тианж и г. Гедикур. Коляски эти устроены так, что едущие не видят друг друга, будучи обращены лицами в одну сторону. Затем весь двор расходится кому куда вздумается: кто катается в гондолах на прудах; занимаются музыкой; в десять часов спектакль. В полночь полунощничают (on fait la media noche).[130] Так проводят в Версале субботы».
Маркиза Монтеспан, как женщина умная и высокообразованная, покровительствовала всем писателям, прославившим царствование Людовика XIV, в особенности же Мольеру и Ла-фонтену. За это, но единственно за это одно, женщина эта заслуживает признательность потомства. Опять приходится выводить параллель между нею и ла Вальер. Последняя на апогее своего могущества, окруженная льстецами, неизменно оставалась фавориткою; маркиза Монтеспан попала прямо в королевы – правда, не венчанная, но превосходившая могуществом настоящую королеву, забытую, презренную королем Марию Терезию. Людовика она обирала без зазрения совести. По ее настоянию он выдал семейству Мортемар для уплаты долгов 800 000 ливров да сверх того 600 000 ливров герцогу Вивонь при его женитьбе на дочери Кольбера. Итого 1 400 000 ливров – сумма, равняющаяся нашим 350 000 руб. серебром. Одновременно только…
Ла Вальер, томимая душевной скорбью в своем добровольном заточении, опасно занемогла. Людовик не столько по чувству любви или жалости, сколько для очистки совести навестил страдалицу и выразил ей свое участие. Мертвящим холодом веяло от этого участия; не слышно было в нем ни единого задушевного слова. Точно с тем же бесстрастием король преклонился бы пред бывшей своей фавориткой, если бы она лежала в гробу. Не утешение принес он страдалице, только окончательно разбил ее сердце и погасил в нем последнюю искру надежды на сближение! Да и какое оно могло быть, когда король был с головы до ног опутан сетями милого семейства Мортемар? Страдая недугом телесным, ла Вальер выздоравливала душою: в огне горячки истлели ее житейские попечения, перегорали земные страсти. Просветленная, чистая душою, встала она с одра болезни, с твердой решимостью посвятить себя Богу и постричься в монахини строгого ордена кармелиток. Плодом этой решимости была книга, написанная герцогинею под заглавием Размышления о милосердии Божием (Reflexions sur La misericorde de Dieu). О намерении своем она сообщила старому маршалу де Белль-фону, который вполне его одобрил. Детей своих, сына и дочь, герцогиня решила отдать на попечение их отца, короля, а кроме детей – что же могло привязывать несчастную к жизни?
Чтобы достойно оценить самопожертвование, на которое отваживалась ла Вальер, надобно иметь понятие о неумолимом уставе, которому был подчинен орден кармелиток. Пост строжайший, а три дня в неделю совершенное воздержание от пищи; отдых не свыше четырех часов времени; облачение из грубой материи; отсутствие обуви; хождение за больными; погребение усопших – хотя бы от моровой язвы – и постоянные молитвы, бдения и стояния ради умерщвления плоти и просвещения духа… Таковы были обязанности кармелиток! Следующее письмо герцогини ла Вальер к маршалу Белльфону всего лучше может ознакомить читателя с тем настроением духа, с которым она решалась отречься от мира, со всеми его заботами и тревогами, в сущности, пустыми и суетными.
«Сен-Жермен-ан-Лэ 6 декабря 1673 года.
Вы удивитесь, узнав от других о случаях касательно удаления моего в кармелитский монастырь. Десять или двенадцать дней говорят об этом, но я еще ничего решительного не предпринимала. Затруднений тьма на каждом шагу; время тянется неимоверно долго, а я жду не дождусь роковой минуты. Клянусь вам, что я поступаю по твердому убеждению и, с милостию Бо-жиею, чувствую себя тверже и решительнее, чем когда-либо».
В следующих письмах находим самые задушевные признания:
«Увлекаемая гибельной привычкой грешить, не имея ни единой добродетели, я имею все слабости ума и сердца. Приходится просить государя, а вы знаете, как это мне тяжело; свет против моего намерения, но я на это не жалуюсь: свету ли щадить меня, когда я пред его лицом не побоялась гневить Бога?»
Два месяца колебалась ла Вальер и наконец положила решение неизменное. Она просила Людовика XIV дать ей свое согласие на поступление ее в монастырь. Если бы Расин, вместо своих древних героев, взглянул на ла Вальер и на короля – вот где он мог бы найти богатый сюжет для трагедии не классической, правда, но зато выхваченной живьем из действительности. Бедная, отставная фаворитка шла к бывшему своему возлюбленному и властелину за своим собственным смертным приговором, долженствовавшим навсегда отделить ее от мира, похороненную заживо в стенах монастыря. Она шла с надеждою, что Людовик скажет хоть одно слово против предпринятого ею намерения; она ждала этого слова, которое должно было помирить ее с жизнию – и не дождалась. Король очень равнодушно отвечал герцогине, что мысль идти в монастырь – мысль благая, отклоняться от которой было бы даже грешно… Так последняя нить была порвана! Кающаяся грешница ла Вальер от короля отправилась к его супруге и в присутствии всего двора на коленях просила у нее прощения за свои минувшие грехи, за свое прошедшее счастие… каялась в своем блаженстве!
Истая дочь Испании, королева Мария Терезия была глубоко тронута и вполне удовлетворена благородным поступком и истинно христианским смирением своей бывшей соперницы; она ее простила и в знак совершенного забвения былых неприятностей лично присутствовала при пострижении ла Вальер (1675), с этой минуты смиренной сестры Луизы… Аббат Фро-мантье говорил проповедь; десница Боссюэта осенила Луизу благословением на великий подвиг «вольной страсти», которая отныне должна была поглотить все страсти и житейские попечения развенчанной фаворитки. Пал с ее головы венок, сплетенный из роз и мирт, пряди волнистых кудрей пали под ножницами, и белое покрывало осенило голову, в которой утихли грешные мысли, угасли желания и надежды…
А Людовик XIV этим временем блаженствовал в объятиях госпожи Монтеспан и тешился забавными россказнями ее остроумных и злоязычных сестриц. Прежде нежели мы поговорим о его препровождении времени в этом приятном собеседничес-тве, скажем последнее слово о ла Вальер. Сестра милосердия Луиза подчинилась безропотно строгому уставу ордена кармелиток и, отрешась от света, посвятила всю свою жизнь до последней минуты добрым делам, хождению за больными и молитве. Ее жизнь в монастыре могла назваться примерною. Она не скрывала ни от кого заблуждений молодости и припоминала минувшее с полным сознанием ничтожества жизни. Вольтер, неумолимый бич ханжества и лицемерия, отдал должную справедливость сестре Луизе. «Обращение ее к Богу, – говорит он, – прославило ее так же, как и ее нежность. Она была монахинею в Париже и пребыла ею неизменно: одевалась в власяницу, ходила босая, строго постилась, проводила ночи в пении молитв, нимало не сетуя о былой роскоши и той неге, в которой она проводила свою молодость. Тридцать пять лет прожила она таким образом (1675–1710). Если бы король наказал подобным заточением виноватую, его назвали бы тираном, а между тем так наказывала себя сама ла Вальер за то, что любила его.» Она скончалась 7 июня 1710 года, за пять лет до кончины Людовика XIV, примирившись со своими врагами и в самой искренней дружбе с госпожою Монтеспан, своею бывшею соперницею, в свою очередь, свергнутою госпожою Ментенон.
Госпожа де Монтеспан, как мы говорили, достигла апогея могущества, пользуясь благосклонностью короля вместе со своими сестрами: маркизою де Тианж и Мариею, аббатисою монастыря Фонтевро. Людовик XIV не стеснялся и, любя одну грацию, не хотел обижать остальных двух. Султанша-валиде, т. е. госпожа де Монтеспан, в течение пяти лет подарила ему четырех детей, воспитательницею которых была вдова поэта Скаррона Франциска д'Обинье. Старший сын герцог Мэн (род. 10 марта 1670) был узаконен королевским указом 29 декабря 1673 года, невзирая на возражения парламента.
Франциске д'Обинье, вдове Скаррон, было тогда около 35 лет, и она до того времени была известна королю с весьма ему частыми просьбами о пенсии и пособии. Ее отец, Агриппа д'Обинье, прославился во время войн кальвинистов как самый рьяный их защитник, человек честнейший и редких правил. По повелению Ришелье он вместе с женою своей был заточен в крепость Ниор, в которой 27 ноября 1635 года родилась у них дочь Франциска. По повелению кардинала она была крещена по обряду католическому. Восприемниками ее были герцог Ла Рошфуко, губернатор Пуату, и графиня де Нейльян, супруга коменданта крепости Ниор. Тетка Франциски маркиза де Вильет, кальвинистка, взяв ее к себе, хотела воспитать в правилах кальвинизма, но девочка была у нее отнята и возвращена отцу, переведенному в новую тюрьму Шато-Тромнетт. Отсюда все семейство д'Обинье было отправлено в ссылку на остров Мартинику. Воспитание семилетней Франциски было строгое, отчасти педантическое; мать читала ей постоянно Библию и жизнеописание великих людей Плутарха, в переводе Амиота. Отец вскоре умер, оставив жену и дочь в крайней нищете. С великим трудом они возвратились на родину во Францию, где их приютила маркиза де Вильет, возобновившая попытки обратить свою племянницу в кальвинизм. В это дело вмешалась Анна Австрийская и, отдав Франциску другой ее тетке, госпоже де Нейльян, приказала поместить ее в женский монастырь улицы Сен-Жак. Потеряв мать, пятнадцатилетняя Франциска возвратилась к госпоже де Нейльян, которая начала вывозить ее в свет, именно в собрание кальвинистов в квартале Марэ. Здесь Франциска встретила кавалера Мере, о котором сохраняла воспоминание всю свою жизнь. Мере, ловкий, остроумный, превосходно образованный, приятель Нинон Ланкло, Скаррона и один из корифеев кружка фрондеров, ввел молодую индианку[131] в гостиную Нинон, вскоре тесно сблизившуюся с будущей маркизой Ментенон. В гостиной барского дома д'Альбре она встретила поэта Скаррона, бедного, расслабленного, предложившего ей свою руку, пораженную параличом и, несмотря на это, принятую Францискою. Расслабленный телом, но бодрый духом, здоровый умом, Скаррон был солнцем той сферы, в которой, как звезды первой величины, блистали многие поэты и остроумцы того времени. Неистощимо-веселый, даже среди невыносимых физических страданий, Скаррон щедрою рукою сыпал шутки, остроты, экспромты; собеседники ловили каждое его слово и наслаждались чтением этой живой книги в ветхом, исковерканном переплете. Злые языки поговаривали, будто молодая Франциска была нечувствительна к нежным заискиваниям Вилларсо, с которым будто бы имела свидания у Нинон Ланкло… Мудреного ничего нет, но Скаррон, как человек рассудительный, и не требовал от своей жены безукоризненной верности; ему была нужна не жена, а сестра милосердия, и Франциска исполняла ее тяжкие обязанности с терпением и истинно родственной заботливостью. Десять лет прожила она со своим мужем, скончавшимся в 1660 году и не оставившим ей в наследство ничего, кроме известного доныне своего имени.[132] Друзьями вдова Скаррона не была забыта: Нинон любила ее по-прежнему и помогала ей, девица Скюдери, семейство д'Альбре не изменили к ней своего расположения. В доме д'Альбре она встретила маркизу де Тианж, одну из трех граций Мортемар. Супруги д'Альбре просили эту сестру могущественной Монтеспан попросить короля о выдаче пенсии вдове Скаррона, существовавшей покуда чуть не доброхотными даяниями своих друзей и между прочими суперинтенданта Фуке. Ей представлялись выгодные партии, но она, по совету Нинон Ланкло, предпочитала бедную независимость богатой неволе. Не надеясь на протекцию сестер Мортемар, вдова Скаррон решилась искать места компаньонки на отъезд и имела виды на поступление в эту должность к герцогине Немурской, которая уезжала в Португалию. «Сердце мое свободно, – писала она к одной из своих приятельниц, – и всегда останется свободным. На людей особенно рассчитывать нечего: когда я ни в чем не нуждалась, я могла бы добиться всего, а теперь, когда терплю нужду, встречаю одни отказы». Королю она до того надоедала частыми прошениями, что он однажды сказал в приемной:
– На меня падает целый дождь просьб вдовы Скаррон!
Несмотря, однако же, на свою любовь к независимости, вдова Скаррон умела ловко льстить и низкопоклонничать; мастерица говорить красно, она, подобно лисице, льстящей вороне в басне, обладала искусством находить «уголок в сердце», обучившись этому искусству в школе нищеты. «Бедность не порок» – говорит пословица; но опыт веков прибавляет к этому: не порок, но проводник ко всевозможным порокам; из них же первые: лесть и низкопоклонничество. Вдова Скаррон раболепствовала пред семействами д'Альбре и Фуке, льстила маркизе Тианж и косвенно ее сестрице, говоря, что не уедет до тех пор из Франции, покуда не увидит «дива». Под этим именем она разумела маркизу де Монтеспан. Фаворитка допустила ее до своего лицезрения; попросила за нее у короля, и Людовик XIV пожаловал горемычной вдовице пенсию в 200 пистолей. При появлении вдовы Скаррон в дворцовой приемной, пришедшей благодарить короля за его милость, Людовик сказал ей несколько любезных слов, причисляя себя к ее друзьям. Пенсия сама по себе, но король, награждая вдову Скаррон, имел в виду дать ей должность, которая, по его мнению, была самая подходящая к ее способностям; именно он хотел поручить ей воспитание сына и дочери, побочных своих детей от госпожи Монтеспан.[133] Самая главная задача воспитательницы заключалась в том, чтобы она сохраняла в строжайшей тайне истинное происхождение своих питомцев, даже от прислуги. Предложение вдове Скаррон сделано было через герцога Вивонь, и отказа, конечно, не воспоследовало.
Воспитательный дом побочных детей короля, находившийся на улице Вожирар, был для вдовы Скаррон преддверием ко дворцу королевскому; но прежде нежели она более или менее нечистыми путями достигла цели своих властолюбивых желаний, она в течение пяти-шести лет играла весьма жалкую роль, нянчась с королевскими деточками. Вот подлинные ее признания о том образе жизни, который она вела в уединенном доме на улице Вожирар:
«Я лазила по лестницам, исправляя должность обойщиков, потому что вход в детские был им воспрещен. Кормилицы из опасения, чтобы у них не портилось молоко, ни к чему не прикладывали рук. Весьма часто я переходила от одной к другой, подавая им белье, кушанье; ночи проводила при больных детях, а к утру возвращалась в свою городскую квартиру и, переодевшись в другое платье, посещала знакомых моих, д'Альбре и Ришелье, именно затем, чтобы отклонить от себя всякие подозрения насчет вверенной мне тайны. Чтобы не краснеть при нескромных расспросах, я часто отворяла себе кровь».
Вот оно, геройское усердие; вдова Скаррон служила верой и правдой, проливая кровь если не за отечество, то за королевских детей.
Однажды король пожелал их видеть у себя в Версале, куда они прибыли со своими кормилицами и воспитательницею, которая осталась в приемной, даже в прихожей.
– Чьи это дети? – спросил король у кормилицы.
– Вероятно, той дамы, – отвечали они, – которая живет у нас. По крайней мере, судя по ее заботливости о них и попечениях, она, вероятно, их мать.
– А кто же отец? – продолжал допрашивать король.
– Должно быть, какой-нибудь знатный господин или президент парламента.
Этот последний наивный ответ рассмешил короля до слез.
Дети подрастали и с рук кормилиц перешли на попечение вдовы Скаррон, которая и в этом случае отличилась своим усердием, за что выдаваемая ей пенсия была увеличена до 600 пистолей. Госпожа Монтеспан осыпала ее своими милостями; король покуда особенной ласки не оказывал, смотря на нее как на охотницу поумничать и на педантку. По совету докторов маленький герцог Мэн для излечения от сведенной ноги должен был ехать в Антверпен в сопровождении вдовы Скаррон; на следующий год он пользовался водами в Баньере. Во время обоих путешествий вдова Скаррон вела переписку с госпожою Монтеспан. Из писем гувернантки явствует, что она добивалась подняться во мнении короля, о чем и умоляла свою высокую покровительницу. Фаворитка, не допуская мысли, чтобы ничтожество, подобное вдове Скаррон, могло когда-нибудь встать ей поперек дороги, просила за нее Людовика XIV, аттестуя ее с самой выгодной стороны. Следствием этого ходатайства было расположение короля, которое он не замедлил доказать вдове Скаррон по ее возвращении из чужих краев. Беседуя с герцогом Мэн, весьма довольный умными его ответами, король выразил любезному своему сыну совершенное свое удовольствие.
– Государь, – отвечал герцог, – не удивляйтесь моим разумным словам: меня воспитывает дама, которую можно назвать воплощенным разумом.
– Прекрасно! Скажите же ей, что я ей жалую десять тысяч пистолей, вам на конфеты.
Эти десять тысяч были основой будущих успехов вдовы Скаррон. Вскоре после того госпожа Монтеспан поместила ее в своем отеле, дав хорошее жалованье, но обращаясь с нею с самым оскорбительным пренебрежением. У фаворитки появилась какая-то антипатия к гувернантке сына; психолог назвал бы эту антипатию – предчувствием. Несколько раз госпожа Монтеспан жаловалась королю на вдову Скаррон, на что он равнодушно отвечал:
– Так прогоните ее; ваша воля!
Но по какому-то роковому предопределению фаворитка не прогоняла будущую свою наместницу. Владычество маркизы Монтеспан длилось шестнадцать лет (1670–1686), и этот период небезынтересно проследить погодно, взвесить, сколько добра и зла эта женщина принесла Франции.
Война с Голландией вооружила против Людовика XIV Германию, Испанию и Лотарингию; Великобритания колебалась между выбором к сохранению союза с Францией или приступ-лением к коалиции против нее.
Во время этой борьбы с Европою маркиза Монтеспан, пользуясь влиянием своим на короля, убеждала его принимать личное участие во всех военных действиях, и его пример увлекал все дворянство и всю знать. По возвращении на зиму с театра войны король потешался праздниками в Версале. Фаворитке удалось охладить расположение Людовика к Кольберу и поставить во главе государственного управления Лувуа и ле Теллье; на украшения версальского дворца и его садов расходовались баснословные суммы. На одном из спектаклей дворцового театра был представлен Амфитрион, комедия Мольера, в которой под маскою Юпитера нетрудно было узнать короля, а под маскою Алкмены его фаворитку.
Людовик XIV тогда вел действительно образ жизни, напоминавший веселое житье олимпийского царя богов. Маркиза Монтеспан была Юноною; ее сестры и многие из придворных дам и девиц были нимфами и полубогинями, которых удостаивал ласками своими версальский Юпитер.
Супруга принца Субиз гордилась тем, что новорожденный сын ее (1674) похож на Людовика XIV; за нею ласками короля пользовалась госпожа деЛюдр, немножко косноязычная, но очень приятная особа. На придворном балу какой-то наушник намекнул королеве Марии Терезии о благосклонности короля к этой красавице.
– Это не мое дело, – отвечала королева, – скажите об этом госпоже Монтеспан.
Следовавшая затем связь короля с графинею Граммон была расстроена фавориткою, убедившею Людовика, что графиня отчаянная янсенистка. Бросив ее, король утешился девицею Гедами, побочной дочерью герцога Ангиенского, молоденькою красавицею, едва вышедшею из лет отрочества… Наконец, в 1679 году Людовик сблизился с девицею де Фонтанж.
Подобно ла Вальер, фрейлина герцогини Орлеанской, Ан-гелика де Скорайлль де Рувилль-Фонтанж, родившаяся в 1661 году, была дочерью небогатого руэргского дворянина. Безукоризненная красавица, белокурая, с прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодостью, свежестью, но уж никак не умом, весьма ограниченным. При первой встрече с нею Людовика маркиза Монтеспан сама обратила на нее его внимание, назвав девицу Фонтанж прекрасной статуей. Триста тысяч ливров покорили ее сердце обладателю Франции. Как бы в вознаграждение маркизы Монтеспан, окончательно уволенной от звания фаворитки, король предложил ей титул герцогини, пожалованный и девице Фонтанж вместе с 1 200 000 ливров ежегодного содержания.
– Нет, государь, – отвечала гордая фаворитка, – предоставляю эти титла каким-нибудь ла Вальер и Фонтанж. Герцогская корона им нужна, чтобы приблизиться к вам… Я, по моим родовым правам, выше их и не утратила бы моей знатности, даже если бы не имела счастия вам нравиться.
Двор, недавно раболепствовавший пред маркизою Мон-теспан, теперь склонился в прax пред герцогинею Фонтанж; воля ее, малейшая прихоть – была законом для всех, начиная с короля. Она ввела в моду прическу, сохранившую ее имя от забвения в позднейшем потомстве. Как-то на охоте в лесах Фонтенбло красавица, носясь на коне, растрепала свою прическу и, чтобы поправить ее, обвязала голову лентой. Эта незатейливая куафюра очаровала короля, и он просил свою возлюбленную, чтобы она другой не носила. Примеру ее последовали все придворные дамы и девицы, и прическа a La Fontanges еще была в моде лет сорок тому назад.
Неизбежное последствие любви короля – беременность обезобразила прелестное личико красавицы: худоба и отвратительные хлоазмы на лице не могли быть привлекательны для короля, так же точно, как пятна на нежном плоде для лакомки. Прием короля, оказанный герцогине при ее появлении при дворе в интересном положении, дал ей понять, что прошло ее время.
– Дитя мое, – сказала ей маркиза Ментенон (бывшая вдова Скаррона), – таков у нас обычай: обожаемая сегодня позабывается завтра. Всего благоразумнее с вашей стороны было бы, не дожидаясь удаления, удалиться самой, добровольно. В первом случае вы сбережете к себе некоторое уважение от людей, во втором – навлечете на себя только стыд.
– По вашим словам, – отвечала герцогиня, – оставить короля так же легко, как переодеть платье!
Однако же она удалилась в аббатство Шелль, где находилась аббатисою ее сестра; отсюда она переехала в аббатство Пор-Руайяль. Трижды в неделю король присылал к ней герцога ла Фельяд справляться о ее здоровье, которое ухудшалось день ото дня. Чувствуя приближение кончины, бедная фаворитка пожелала увидеть короля, и он исполнил ее желание – пришел, чтобы окончательно разочароваться. Перед ним вместо недавней красавицы лежал еле дышащий остов, обтянутый кожею…
– Государь, – сказала умирающая, – вот что осталось от той женщины, которая доставила вам несколько дней счастия, к ногам которой еще полгода тому назад вы были готовы сложить вашу корону… Неужели в вас нет жалости?
Людовик залился слезами, покрывая ими иссохшую руку герцогини.
– Теперь я умру спокойно, – прошептала она, – меня оплакал мой возлюбленный, мой король!
На другой день, 28 июня 1681 года, она скончалась. Ребенок, ею рожденный, прожил несколько дней.
Нескромная – скажем более, зверская радость маркизы Монтеспан при вести о кончине соперницы была причиною разрыва между королем и ею, чему, впрочем, немало способствовали происки и подпольные интриги маркизы Ментенон. Возвышение этой женщины могло служить самым ясным доказательством, насколько ум выше красоты, насколько искусство ловко интриговать выше самого увлекательного кокетства. Если бы красота маркизы соответствовала ее уму, она была бы первой красавицей в мире, но, превосходя всех прежних фавориток умом, она далеко уступала им в красоте. Пресыщенному наслаждениями чувственными, одряхлевшему от распутств, Людовику XIV, в эпоху его сближения с маркизою Ментенон, было уже под пятьдесят лет. Неумолимая старость, предтеча смерти, избороздила лицо его морщинами, посребрила сединой его кудри, лишила прежнего блеска его глаза, когда-то имевшие такую обаятельную силу на самых непреклонных красавиц. Сердце, никогда не отличавшееся особенною мягкостью, совсем очерствело; в слабеющей памяти сохранялись кое-какие воспоминания о былом, но воспоминания эти были безотрадны. Келья ла Вальер, гроб Фонтанж, миллионы, рассоренные на прихоти маркизы Монтеспан и ее родни, – вот те картины, которые воскресали в воображении короля при воспоминании о минувшем. Именно теперь он чувствовал потребность в верной и заботливой подруге остатка своих дней, и подругою этого нравственного инвалида была маркиза Ментенон – в молодости своей заботливая сиделка бедного калеки – Скаррона.
Начало ее жизненного поприща нам известно: жалкая, полунищая паразитка, богатая умом и образованием, она ради куска насущного хлеба определилась в гувернантки к побочным детям маркизы Монтеспан. Последняя, третируя ее, имела, однако же, настолько великодушия или самоуверенности, что расположила предубежденного короля в пользу вдовы Скарро-на. Людовик в начале своего знакомства с гувернанткою своих детей неоднократно высказывался против ее педантизма и неуместного умничанья; снисходя на просьбу маркизы Монтеспан, он в 1674 году пожаловал вдове Скаррона поместье Ментенон с правом носить это имя. Смиренная в бедности, ловкая пройдоха приосанилась и сделалась посмелее, благодаря обеспеченному своему состоянию. При столкновениях с маркизою Монтеспан она отвечала колкостями на ее грубости и, будучи несравненно ее умнее, нередко заставляла молчать неотразимыми логическими доводами. Пострижение ла Вальер произвело глубокое, потрясающее впечатление на весь двор: пожилые грешницы ставили ее в пример молодым, внушая и проповедуя им всеми забытые правила нравственности; знаменитые вития: Боссюэт, Бурдалу, Массильон громили разврат с высоты церковной кафедры, напоминая сильным мира сего о бренности и ничтожестве жизни человеческой. В великом посту 1675 года маркиза Монтеспан под обаянием проповедей Боссюэта вздумала отказаться от света и, удалясь в уединение, оплакивать там свои прегрешения, вольные и невольные. Об этом намерении она сообщила маркизе Ментенон, которая, разумеется, не только не отговаривала фаворитку, но, заключив тайный союз с Боссюэтом и Флешье, просила их укрепить маркизу Монтеспан в благом ее намерении всею силою их красноречия… Боссюэт убедил фаворитку, что ее удаление будет великим подвигом, за который Бог, конечно, простит ей все ее грехи; к голосу Боссюэта присоединил свой голос друг и приятель маркизы Ментенон – аббат Гобелен. Лукавая Ментенон в этом случае перехитрила почтенных отцов иезуитов, уверив их, что единственная ее забота – с удалением фаворитки сблизить короля с его супругою.
Маркиза Монтеспан удалилась наконец в замок Кланьи, с тем чтобы… весьма скоро оттуда возвратиться, жалея о своем недавнем раскаянии. После двухнедельной разлуки с фавориткою Людовик XIV стосковался по ней и весьма нежным письмом, посланным чрез Боссюэта, умолял маркизу Монтеспан возвратиться опять ко двору и в его объятия. С этого времени вражда между обеими маркизами, Монтеспан и Ментенон, сделалась явною; они боролись из-за короля, как два вора из-за дорогой добычи. Маркиза Ментенон со своими иезуитами старалась обратить Людовика на путь истинный с тем, чтобы быть его спутницею… Фаворитка, напротив того, всячески вовлекала его в разврат, обольщая не только своими блеклыми прелестями, но еще, кроме того, сватая ему из толпы придворных молоденьких и хорошеньких девушек. Одна заботилась о его душе, другая о грешном теле. Не желая обижать ни той ни другой, король жил какой-то странной, двойственной жизнью, совмещая в ее образе черты и христианина, кающегося грешника, и поклонника Корана, погрязнувшего в грехах. Утомленный негою в стенах своего версальского гарема, Людовик удалялся в часовню для молитвы или проводил несколько часов в собеседничестве своего духовника иезуита, отца ла Шеза, наоборот, утомленный проповедями, он опять обращался к своим одалискам, между которыми маркиза Монтеспан по-прежнему разыгрывала роль султанши-валиде.
Именно в это время случилось приключение, по которому можно судить о тех отношениях, в которых находились друг к другу маркизы Монтеспан и Ментенон. Людовику XIV вздумалось посетить кармелитский монастырь, в котором находилась ла Вальер. Стены смиренной обители едва могли вместить в себе огромную свиту, сопровождавшую французского падишаха. Герцогиня Ришелье, чтобы чем-нибудь занять Людовика, предложила тут же в монастыре разыграть лотерею, состоявшую из четок, крестиков, образков и тому подобных предметов, которые, в сущности, не игрушки, но в тот век, при шаткости религиозных понятий, подобный взгляд на священные символы был почти извинителен. Ла Вальер, или, правильнее, сестра милосердия Луиза, выиграла статуэтку кающейся Магдалины. Этот выигрыш заставил призадуматься маркизу Монтеспан.
– Сестра моя, – сказала она Луизе, – неужели в стенах здешней обители вы нашли свое счастие?
– Спокойствие? Да… А вы нашли ли свое счастие в мире?
– Нет, я не нашла ни спокойствия, ни счастия…
– В этом самом, – заметила маркиза Ментенон, – именно и есть существенная разница между Магдалиною покаявшеюся и Магдалиною грешницею…
Маркиза Монтеспан взглянула на соперницу глазами разгневанной Юноны и ядовито возражала:
– Во всяком случае, Магдалина грешница или покаявшаяся гораздо лучше Магдалины, готовящейся быть грешницею!
Маркиза Ментенон имела над маркизою Монтеспан то великое преимущество, что у королевы Марии Терезии сумела снискать к себе самое искреннее расположение. Бедная, покинутая супруга Людовика XIV смотрела на маркизу Ментенон как на доброго гения, чуть не ангела-хранителя распутного короля.
В 1680 году Людовик XIV пожаловал маркизу Монтеспан в гоф-мейстерины к королеве Марии Терезии, купив эту должность у графини Суассон за 200 000 талеров.
– Видно, такова судьба моя, – сказала при этом королева, – чтобы супруг мой брал себе любовниц из толпы моих служанок или заставлял любовниц быть моими служанками.
Маркиза Ментенон была назначена в камер-фрау к супруге дофина баварской принцессе, в том же 1680 году прибывшей в Париж. Это назначение более прежнего сблизило маркизу с королем и, кроме того, с семейством дофина – будущего короля и всеми его приближенными. «Я уверен, – говорил Людовик XIV, – что беседы маркизы с моей невесткой будут иметь на последнюю самое благодетельное влияние». Таким великим почетом пользовалась тогда вдова Скаррона!
Дочь герцога Орлеанского, так называемая Мадемуазель, престарелая пятидесятилетняя дева, одержимая эротоманией, докучала королю просьбами об освобождении своего возлюбленного, герцога Лозен, засаженного в крепость Пиньероль и содержавшегося в ней десять лет. Она просила маркизу Мен-тенон ходатайствовать перед королем о прощении Лозена, и маркиза обещала ей это прощение, если Лозен уступит все подаренные ему дочерью герцога Орлеанского поместья побочному сыну короля герцогу Мэн. Мадемуазель согласилась на это, но маркиза Монтеспан к этим уступкам присоединила еще одну: чтобы дочь герцога Орлеанского уступила герцогу Мэн все свое недвижимое имущество, ценимое в семнадцать миллионов франков… Торги на освобождение герцога Лозен не состоялись. Это позорное дело на время сблизило обеих маркиз, но, разумеется, не примирило их между собою. После смерти герцогини Фонтанж Людовик XIV, по советам маркизы Ментенон, отказался от прежнего мусульманского образа жизни и решился распустить свой гарем, оставив одну только маркизу Монтеспан или, вернее, оставив ей титул фаворитки с отстранением от всякого вмешательства не только в государственные дела, но даже от частых посещений его величества. С этого времени маркиза Ментенон окончательно прибрала его к своим рукам, из которых уже и не выпускала великого короля до самой его смерти. Судьба, благоволившая маркизе Ментенон, оказала ей громадную услугу, прервав нить жизни королевы Марии Терезии. Несчастная эта женщина скончалась в 1683 году, и смерть ее исторгла из каменного сердца Людовика XIV вместе со слезами следующие слова – лучше всякого панегирика:
– Вот первое горе, которое бедняжка причиняет мне!
Склеп королевской усыпальницы Сен-Дени принял под свои своды бренные останки державной страдалицы, испившей горькую чашу жизни до последней капли. Каждой жене, какого бы сословия ни была она, больно и обидно видеть предпочтение, оказываемое ее мужем другой женщине, но каково было королеве Марии Терезии всю свою жизнь видеть распутства мужа, быть свидетельницей его связей с ла Вальер, Монтеспан, Фон-танж, с целым легионом любовниц, терпеть от них оскорбления и обиды, выслушивать грубости от мужа – и безмолвствовать?
Грустно соединить с именем Марии Терезии рассказ о скандалезном приключении, бросившем пятно на жизнь ее, в течение долгих лет безукоризненную. После ее кончины открылось, что в монастыре Море воспитывалась под строжайшим надзором маленькая негритянка, побочная дочь покойной королевы. Отцом этой девочки злые языки называли араба Набо, придворного фокусника, забавлявшего Марию Терезию разными штуками своего искусства, игрой на гитаре и пением. Говорили, будто при рождении этой девочки короля уведомили, что супруга его во время беременности часто смотрела на араба и следствием этого было рождение ею негритянки. Поверил ли Людовик XIV подобной сказке, нет ли, об этом история умалчивает, но как бы то ни было, а фокусник Набо вскоре умер скоропостижно, а девочка отвезена была в монастырь, откуда впоследствии исчезла неведомо куда. Впрочем, исчезновения людей без вести были не редкостью во Франции в царствование великого короля, завещавшего потомству доныне неразрешенную загадку в образе человека в железной маске.[134]
Болезнь и кончина Марии Терезии дали возможность иезу-итке Ментенон отличиться в глазах короля уходом, попечениями о больной до ее последней минуты… Странная судьба маркизы Ментенон! Перечитывая ее биографию, можно подумать, что ей было на роду написано всю свою жизнь ухаживать за увечными и больными: она десять лет нянчилась со своим мужем, калекою Скарроном, потом с хромоногим герцогом Мэн, затем услуживала больной королеве Марии Терезии и, наконец, остаток дней провела, ухаживая за одряхлевшим и выжившим из ума Людовиком XIV… Не герцогине ла Вальер, но, конечно, маркизе Ментенон приличнее было бы именоваться сестрою милосердия.
Прежде нежели мы приступим к обзору государственной деятельности маркизы Ментенон, мы считаем необходимым сравнить ее с тремя ее предшественницами: ла Вальер, Мон-теспан и Фонтанж. Ла Вальер, первая и единственная любовь Людовика XIV, всей душою ему преданная, оставила по себе в памяти народа французского доброе воспоминание, как женщина бескорыстная, нежная, достойная сожаления, когда была грешницею, и героиня, когда, одумавшись, принесла покаяние в своих грехах.
Монтеспан – воплощенное корыстолюбие – в шестнадцать лет своего владычества поглотила миллионы и этим нанесла бессознательно первый удар престолу королевскому, удар, за которым началось быстрое его разрушение. Нам возразят, что сила королевская не в деньгах – так! Но деньги каждого государства – его кровь, необходимая его организму, точно так же, как кровь настоящая необходима нашему организму. К чему, если не к смертельному недугу, ведет человека бесполезное кровопускание? Маркиза Монтеспан (вечно позорной памяти) была той ненасытной пиявицей, которая, высосав из Франции много крови, заронила в организме этого королевства зародыш смертельного недуга, от которого оно доныне не может поправиться. Имя этому недугу – безначалие, горячка анархии, бешеный бред со светлыми промежутками в виде мимолетной королевской или императорской власти.
Герцогиня Фонтанж – жертва старческого сластолюбия Людовика XIV – промелькнула как метеор и скрылась в могилу, оставив по себе в сердце этого деспота грустное воспоминание и бесплодное раскаяние. Фонтанж была глупенькая овца, попавшаяся на зубы голодному волку. Ее любовь (если только она была) можно назвать прощальным лучом юности, покидавшей короля, или улыбкой счастья, за которой следовали долгие годы скуки, разочарования – и, может быть, раскаяния.
С именем маркизы Ментенон соединено воспоминание о подвиге тупоумия, навеки обесславившем царствование Людовика XIV. Подвигом этим была отмена Нантского эдикта, которую можно назвать, в нравственном смысле, тем же, чем была Варфоломеевская ночь в смысле физическом. Чтобы решиться на последнюю, надобно было быть зверем, подобным Карлу IX, но отменить Нантский эдикт дрожащей старческой рукой мог только выживший из ума идиот, подобный Людовику XIV.
С 1680 года в характере европейской политики произошла важная перемена. Недавние войны Людовика XIV, его виды на Испанию и непомерное властолюбие, расширение пределов Франции тревожили европейские кабинеты, и следствием этого была коалиция, имевшая целью ослабить королевство, вознесенное не Людовиком XIV, но гениальными его министрами и полководцами на высоту державы первостатейной. Англия и Голландия, заключив Аугсбургский союз, к вопросу политическому присоединили вопрос религиозный, именно: защиту прав французских гугенотов, терпевших при Людовике XIV всевозможные притеснения; сторону их приняли и государи Северной Германии. Гугеноты Лангдока, Сентоважа, Пуату, Дофинэ и Севенн имели постоянные сношения с иностранными своими единоверцами, получая от них богослужебные книги, вклады на церкви и т. д. Иезуиты, окружавшие Людовика XIV, втолковали ему, что сношения его подданных с враждебными ему державами ведут прямо к бунтам и кровавым распрям и что только единство вероисповедания во Франции – неколебимая основа ее могущества. Убежденный доводами иезуитов, король по их совету начал с добровольного[135] обращения гугенотов в католицизм, и маркиза Ментенон, сама бывшая кальвинистка, предложила королю содействовать этим мероприятиям. Несмотря на это, дело добровольного обращения не двигалось вперед; проповеди иезуитов были гласом вопиющих в пустыне, а ограничения прав иноверцев, предоставленных им Нантским эдиктом Генриха IV, возбуждали негодования в самых терпеливых. Ле Теллье, отец ла Шез, духовник короля и маркизы Ментенон, видя спасение Франции в отмене Нантского эдикта, убедили Людовика XIV прибегнуть к этой мере, и 22 октября 1685 года эдикт был отменен: протестантам и кальвинистам, не желавшим перейти в католицизм, было предоставлено в двухнедельный срок оставить пределы Франции. Переселение многих тысяч протестантских семейств в Германию, Швейцарию и Голландию напомнило исход Израиля из Египта… Все эти переселенцы были мирные, трудолюбивые граждане, честные торговцы, искусные фабриканты. На своих любовниц, маркизу Монтеспан и герцогиню Фонтанж, Людовик XIV потратил миллионы; Нантским эдиктом, подписанным в угоду маркизе Ментенон, король разорил Францию, нанес смертельный удар ее торговле и промышленности.
Был ли Людовик XIV женат на маркизе Ментенон? Вопрос спорный, на который доныне история еще не дала прямого ответа. Вот что мы видим о нем в любопытной книге Капфига, несмотря на многие промахи, послужившей нам в некоторых случаях материалом для нашего очерка.
В поведении маркизы Ментенон при дворе Людовика XIV одною из самых похвальных черт было ее неизменное уважение к королеве Марии Терезии, невзирая на щекотливое свое положение воспитательницы побочных детей ее супруга. Госпожа Монтеспан и девица Фонтанж не умели держать себя в отношении королевы и весьма часто забывались, особенно последняя, которая, проходя мимо Марии Терезии, даже не кланялась ей. Королева скончалась на руках маркизы Ментенон; ее заботливость о больной и умирающей дала ей право на особенное расположение короля. Кроме того, она отличалась набожностью: вставая постоянно в семь часов, она отправлялась к обедне, потом читала душеспасительные книги, надзирая за детьми короля как заботливая и рассудительная мать. Следствием последнего обстоятельства было то могучее влияние, которое она приобрела над ними, в особенности над герцогом Мэн, характер которого был точным снимком с серьезного, деятельного и педантического характера маркизы. Наставница знала бесконечную нежность короля к его побочным детям, и потому, когда они стали подрастать, она всеми мерами способствовала возвышению их общественного положения путем брачных союзов с особами знатных фамилий. Мадемуазель Блуа, дочь герцогини ла Вальер, была выдана за принца Конти; герцог Мэн женился на принцессе Конде; сестре его мадемуазель де Нант прочили в мужья герцога Шартрского.
Это слияние незаконных детей короля с его родственниками отклоняло в будущем всякие распри и столкновения между ними. Маркиза Ментенон тем усерднее способствовала этим видам Людовика XIV, что дофин и дофина были против них. Король по целым часам беседовал с маркизою о будущности детей и вскоре был с нею почти неразлучен; когда она была нездорова, навещал ее. Скромная Ментенон приписывала причину этой внимательности любви короля к детям… Для устранения от нее всяких двусмысленных слухов Людовик XIV пожаловал ей должность при дофине, своей невестке, которую она в 1686 году сопровождала в Фонтенбло, где, как полагают некоторые историки, совершен был тайно обряд бракосочетания Людовика XIV с маркизою Ментенон. Письменных документов этого брака не существует; брачное свидетельство не было нигде отыскано ни во Франции, ни в архивах Ватикана. Писатели, утверждающие, что брак был совершен, ссылаются
1) на строгость нравственных правил состарившегося короля, которая, конечно, не дозволила бы ему сожительствовать с маркизою Ментенон без союза брачного. На этот довод ответим, что маркизе было тогда 51 год (в этом возрасте, по уставам католической церкви, женщина может поступать в услужение к священнику и жить с ним под одною кровлею); в этом возрасте едва ли она могла возбуждать в короле какие-нибудь чувственные желания, тем больше, что именно в это время он был в связи с молодой протестанткой, девицею Фонтанж.
2) Король (по словам тех же историков) оказывал маркизе уважение, будто королеве; она жила в его покоях, сиживала рядом с ним во время службы в дворцовой церкви и за парадными обедами. Всеми этими почестями пользовались и фаворитки Людовика XIV. Она не вставала с места и не кланялась ни принцам крови, ни дофину при их входе в покои короля. Довод этот тоже не выдерживает критики, когда дофин и принцы крови посещали короля, когда с ним беседовала маркиза Ментенон, она, по правилам придворного этикета, не имела права никого приветствовать в присутствии короля.[136] Безграничное влияние маркизы Ментенон на Людовика XIV и на последние годы его царствования не подлежит сомнению. Одобряя все его распоряжения, она при случае давала ему советы и руководила им; он питал к ней глубочайшее уважение. Кто желал угодить Людовику XIV, обязан был угождать маркизе Ментенон. Когда герцогиня Бургундская прибыла ко двору, она, обходясь с маркизою Ментенон с почтительной кротостью, называла ее тетенькой… Почему же не бабушкой, если Ментенон была тайной супругою деда герцогини? Но если Людовик XIV действительно был женат на ней, почему же, повторяем, нет тому никаких письменных доказательств? Почитатели памяти маркизы Ментенон говорят, будто все документы, касательно ее брака с королем, были ею уничтожены после его смерти. Капфиг в своей книге не допускает возможности подобного геройского самопожертвования.[137] Для маркизы Ментенон такой подвиг был бы действительно не под силу, но в нашей отечественной истории есть одна личность, подобным подвигом прославившая свое имя гораздо более, нежели титулом морганатического супруга русской императрицы… Этот герой – Разумовский, в присутствии графа Орлова сожегший брачное свое свидетельство и все письма своей державной супруги. Трудно решить, чей подвиг был славнее: Орлова ли, который сжег турецкий флот при Чесме, или Разумовского, принесшего памяти императрицы Елизаветы Петровны такую огромную жертву?
Но возвратимся к предмету нашего очерка.
На основании всех вышеприведенных данных, Капфиг в своей монографии приходит к тому заключению, что Людовик XIV не был женат на маркизе Ментенон. Это подтверждают: 1) преклонные лета маркизы и отсутствие всякого намека на брак в ее письмах и сочинениях; 2) отсутствие какой-нибудь статьи в ее пользу в духовном завещании Людовика XIV; 3) ее поселение в Сен-Сире после его смерти. Приязненные отношения их не были скреплены ни любовью, ни браком. Для любви оба были слишком стары; в браке, который предоставлял бы какие-нибудь права более тех, которыми пользовалась маркиза, она не имела надобности. Жизнь маркизы началась должностью сиделки, той же должностью и окончилась… только больной, бывший на ее попечении, был познатнее Скаррона.
Существует предание, будто какой-то каменщик Барбе, знакомый Скаррона, однажды предсказал его жене, что она будет королевою, хотя и никогда не будет ни особенно счастлива, ни особенно богата. Это одна из тех сказочек, которыми романисты любят прикрашивать правду, забывая, что она всего менее нуждается в прикрасах. Предсказание Барбе подлежит сильному сомнению, но если даже оно и было – может ли оно служить доказательством тому, что вдова Скаррона была супругою Людовика XIV? При этом короле каждая его фаворитка могла назваться королевою – кроме его законной жены, Марии Терезии. Карикатуристы его времени изображали его четырех фавориток: ла Вальер, Монтеспан, Фонтанж и Ментенон в виде карточных дам: бубновой, трефовой, червонной и пиковой. К этому можно было бы прибавить, что счастье и могущество трех первых напоминали карточные домики, рушившиеся при первом дуновении переменчивого ветра, который благоприятствует до поры до времени и временщикам, и фавориткам.
Снискав расположение короля, перешедшее со временем в неограниченную привязанность, маркиза Ментенон старалась, и весьма успешно, отучить его от привычек, усвоенных им смолоду и особенно развившихся в нем в эпоху его сожительства с маркизою Монтеспан. К числу таковых принадлежала страсть Людовика XIV строиться. Версальский дворец с его садами и фонтанами можно было назвать пышным памятником лет бурной юности и мужества Людовика XIV. При ла Вальер король обращал особенное внимание на сады, цветники, крытые беседки и тому подобные украшения, в которых искусство, прикрашивая природу, идет с нею дружно рука об руку. В царствование маркизы Монтеспан внимание Людовика было особенно обращено на увеличение версальского дворца новыми пристройками, на украшение чертогов позолотою, живописью, резьбою и драгоценными мраморами. Тут природа, отдаленная на второй план, уступила все место искусству; исчезла буколическая простота, которую так любила скромная ла Вальер, и воцарилась сумасбродная роскошь, бывшая для маркизы Монтеспан насущной потребностью. Померкла счастливая планета маркизы Монтес-пан, и версальский дворец постигли новые преобразования. Суровая педантка Ментенон была не охотница ни до садов, ни до раззолоченных чертогов; она называла версальский дворец «храмом гордыни человеческой», и в угоду ей Людовик XIV построил скромный дворец Марли, состоявший из замка, окруженного двенадцатью павильонами, напоминавшими отшельнические кельи; вместо шумливых фонтанов Марли был украшен зеркальными прудами, в которых плавали карпы и караси с золотыми сережками, продетыми в их жабры чуть ли еще не руками Людовика XIV; вместо цветников явились фруктовые сады и огороды… Одним словом, в обстановке нового жилья состарившегося короля проза заменила поэзию, существенное вытеснило все фантастическое. Прекратились шумные сборища, праздники, спектакли; вместо всего этого образ жизни принял характер чуть не монастырский: проповеди, чтение нравственных книг и душеспасительные беседы с иезуитами. К довершению всего маркиза Ментенон убедила Людовика XIV – в видах спасения его души и сбережения его желудка – соблюдать посты, и бедный лакомка смиренно покорился велениям своей полудержавной сиделки. Таков непреложный закон судьбы, человек на старости лет почти всегда является врагом всего, что в юности было ему особенно мило и сердцу близко… Безбожник делается ханжой, развратник ударяется в нравоучения, обжора проповедует воздержание. Из одной крайности человек бросается в другую.
Маркиза Монтеспан и ее креатура – Лувуа много способствовали основанию Людовиком XIV знаменитого инвалидного дома (Hotel des Invalides); маркиза Ментенон – женщина вовсе не воинственная, основала Сенсирский институт для воспитания благородных девиц – кальвинисток, перешедших в католицизм. Устав этого училища, утвержденный епископом шартр-ским (в 1686 году), был составлен самою маркизою и во всех своих статьях являл странную смесь простоты протестантской с католическим ханжеством, – одним словом, маркиза Ментенон была сама олицетворением устава института Сен-Сир… И еще несколько десятков лет тому назад это заведение почиталось образцовым во многих европейских государствах! В первые годы своего основания Сен-Сир был чем-то вроде монастыря и вместе с тем рабочего дома. Невинных девочек заставляли каяться в их будущих грехах, изнуряли учением, работою и чуть не морили голодом под предлогом поста.
Некоторые историки, основываясь на собственных мемуарах маркизы Ментенон и на льстивых отзывах о ней современников, хвалят ее за бескорыстие… Правда, в течение тридцатипятилетнего сожительства своего с Людовиком XIV она сама нажила немного, но зато, по примеру Монтеспан, вывела в люди свою роденьку, которую Людовик награждал по-королевски. Брат ее Жан д'Обинье, отчаянный рубака и кутила, по ее милости получил губернаторства Бофора, Коньяка, Эг, Морта и орден Святого Духа. Маркиза, выговаривая ему за расточительность, в то же время платила за него долги, выпрашивая у короля пособия; поместила дочь его в Сен-Сир, дала ей прекрасное образование и выдала за молодого графа д'Айен. Маркиза дала ей от себя в приданое 600 000 ливров, но эта сумма была ничтожною в сравнении с щедротами короля: 800 000 ливров наличными деньгами, на 100 000 ливров бриллиантами; графу – губернаторства Руссильон и Перпиньян, приносившие свыше 40 000 ливров ежегодного дохода, – таковы были подарки Людовика XIV новобрачным.
Тесное сближение короля с маркизою, прибравшею его к рукам, не могло нравиться дофину, а неуважение последнего к Ментенон, этому Тартюфу в женском платье, было источником семейных неудовольствий между королем и его сыном. Негодуя на старческую слабость отца, дофин отдалился от него, а Людовик не имел настолько воли, чтобы пожертвовать ему своею полудержавною сиделкою. Слабость короля к ней возрастала по мере ее усиления, или, вернее, могущество маркизы усиливалось по мере одряхления Людовика XIV. 28 марта 1687 года маршал ла Фельяд воздвиг в честь короля бронзовую статую на Вандомской площади. Глубокое, символическое значение имел этот кумир версальского Юпитера: он, во-первых, напоминал тех оракулов древности, бронзовыми устами которых говорили жрецы (жрецом Людовика XIV была тогда маркиза Ментенон), во-вторых, этот памятник гордыни человеческой и деспотизма королевского, заняв то самое место, на котором через сто двадцать лет воздвигся другой – бронзовая колонна со стату-ею другого деспота на вершине… Ныне колонна эта разбита вдребезги, и кумир Наполеона рухнул точно так же, как во время первой революции рухнул кумир Людовика XIV. Любопытно знать, какому идолу будет теперь поклоняться Франция и чье изображение займет опустелое место колонны на Вандомской площади?
Лувуа, как мы уже говорили, был креатурою герцогини Мон-теспан; одной этой причины достаточно было, чтобы маркиза Ментенон его ненавидела. При всех своих недостатках министр был человеком полезным и не лишенным способностей мужа государственного, но мог ли принять это во внимание Людовик XIV, глядевший глазами маркизы, ее ушами слушавший? И Лу-вуа впал в немилость. Король придирался к малейшему поводу, чтобы спорить с министром и язвить его; Лувуа, в свою очередь, не оставался в долгу, и, таким образом, они стали друг к другу в самые натянутые и неприязненные отношения. В 1688 году весною, прогуливаясь вместе с Лувуа в Трианоне, король заспорил с ним о том, будто одно из окон дворца меньше других, Лувуа не уступал, и когда архитектор ле Нот решил вопрос в пользу короля, Людовик осыпал Лувуа ядовитыми упреками. В тот же день министр, обедая в кругу друзей, отвечал им на все расспросы о причинах его дурного расположения духа:
– Все вздор! Но по обхождению короля со мною я вижу, что пропал в его мнении. Исход один: надобно затеять войну, и война будет!
Эта война была та самая, во время которой Людовик XIV вооружил против себя всю Европу, затронув соединенные штаты Голландии.
По словам некоторых историков, заслуживающих веры, поводом к войне с Голландиею было высокомерие Вильгельма Оранского и оскорбительный его отказ на предложение Людовика XIV жениться на его побочной дочери мадемуазель де Блуа. «Принцы Оранские, – отвечал Вильгельм, – имеют обыкновение жениться на законных дочерях государей, а не на их батардках!»
Если это было истинною причиною разрыва Франции с Гол-ландиею, тем не менее Лувуа много способствовал решению распри достичь путем вооруженного столкновения. Мы не намерены следить за ходом войны, в которой принимали участие знаменитые полководцы Людовика XIV и дофин, наследник его престола; скажем только, что король французский дал у себя приют Якову II, королю английскому, с его семейством, свергнутому с престола Вильгельмом Оранским. Герцог Лозен в декабре 1688 года помог бежать из Англии супруге короля Марии и его сыну, принцу Уэльскому. В Кале они были встречены г. Шара, откуда письменно уведомили короля французского о своем прибытии в его владения; Людовик назначил им местопребыванием замок Сен-Жермен и с свойственной ему любезностью отправился навстречу к своим гостям. Свидание это произошло в Шату. Король сам отворил дверцу подъехавшей кареты и, взяв на руки маленького принца, несколько раз поцеловал его. Отличный фразер, умевший всегда кстати отпустить блестящее и звонкое словцо, Людовик отвечал королеве на изъявление ею живейшей признательности:
– Печальную услугу оказываю я вам ныне, но вскоре надеюсь оказать иную, более достойную вас, короля, – брата моего и меня самого!
Он намекал на возведение Якова Стюарта на родительский престол.
Супруга короля английского была помещена в покоях покойной королевы Марии Терезии, сын ее на половине внука королевского герцога Бургундского. В пятом часу вечера 7 января 1689 года сюда прибыл и король английский Яков II, преклонивший колено перед встретившим его Людовиком. В сравнении с подобным самоуничижением Якова II поступок его жены с маркизою Ментенон можно было назвать геройским подвигом.
Маркиза, не принимавшая участия в церемониальной встрече высоких гостей, явилась к королеве Марии с визитом, как равная к равной. Желая напомнить этой женщине, сожительствовавшей с Людовиком под псевдонимом жены, что между нею и супругою Якова Стюарта есть значительное расстояние, она продержала ее несколько минут в приемной. Правда, королева позолотила эту пилюлю, сказав маркизе, что в этом промедлении вся потеря на ее стороне… но эта медовая фраза не усладила горечи самой пилюли, раскушенной маркизою. Оскорбленная фаворитка жаловалась Людовику и отомстила державным гостям многими затруднениями при регламентации правил этикета в отношении короля и королевы английских. Постановлен был вопрос о том, следует ли Якову Стюарту воздавать одинаковые почести с Людовиком XIV и обходиться ли последнему со своим гостем как равному с равным? Оба вопроса были решены в пользу Стюартов, однако же не без препятствий со стороны маркизы Ментенон.
Замечательно, что каждая фаворитка Людовика XIV делала театр и литературу орудиями своих происков. В угоду ла Вальер Мольер написал Принцессу Элидскую, для Монтеспан – Амфитриона, Расин по заказу Генриэтты Английской написал Берени-ку, и его же избрала Ментенон для обработки сюжета Эсфири, ею заимствованного из сказаний библейских: Артаксеркс… разумеется, король; Астинь (Vasthi) – герцогиня Монтеспан; Аман – Лувуа; Эсфирь – маркиза Ментенон. Этой трагедией, разыгранной воспитанницами Сен-Сира, маркиза – будто одним камнем двух птиц – поразила и соперницу, и своего ненавистника. Оба они были приглашены на спектакль и при монологе Эсфири:
Peut-etre on t'a conte la fameuse disgrace. De l'altiere Vasthi, dont j'occupe la place?[138] —взоры всех зрителей обратились на герцогиню Монтеспан; когда же царь персидский, превращенный Расином во французского селадона, ворковал Эсфири:
Je ne trouve qu'en vous je ne sais quelle grace Qui me charme toujours et jamais ne me lasse![139] —те же зрители выразительно посматривали на маркизу Мен-тенон, скромно потуплявшую глазки. К сожалению, на ее собственную долю досталась не совсем приятная аппликация. На сцене бранили Эсфирь за ее покровительство единоверцам – и в этом почти все заметили намек на кальвинистов. Вслед за тем досталось и королю. Вся зала разразилась аплодисментами, когда были произнесены стихи по поводу указа Артаксеркса о преследовании иудеев:
Et le roi trop credule a signe cet edit![140]Нантский эдикт и подвиг Лувуа в областях кальвинистов еще у всех были свежи в памяти. Лицо Людовика XIV наморщилось, он нахмурил брови и по окончании пьесы не удостоил бедного Расина ни единым ласковым словом. Всыпая лесть в своей трагедии пригоршнями, по ошибке захватил крупинку правды, а она и испортила все дело. Вообще Расин, возросший при дворе Людовика XIV, был неловок на слова и в выражениях непозволительно опрометчив. Еще незадолго до представления Эсфири король говорил с ним о театре и спросил, что дают хорошего?
– Очень мало, ваше величество, – отвечал Расин. – Хорошего наша публика не ценит; она довольствуется и пошлостями какого-нибудь Скаррона!
А вдова этого самого какого-нибудь была тут и не в силах была скрыть неудовольствие. С этого самого дня Расин впал в немилость. Эсфирью он надеялся заслужить прощение маркизы, но и тут не угодил ни ей, ни королю. Всех горше и обиднее при представлении Эсфири было бедному Лувуа. Когда на сцене персидский царь приговорил Амана к позорной казни через повешение, Лувуа, бледный, дрожащий всем телом, встал с места и, расталкивая зрителей, стремительно вышел из залы. Проходя мимо короля, он довольно громко сказал:
– Подобное обхождение с человеком государственным позволительно только тогда, когда в нем не имеют надобности.
Вслед за представлением Эсфири Расин (опять по заказу маркизы Ментенон) написал Гофолию (Athalie). Эта трагедия была приноровлена к политическому перевороту в Англии и гонениям тамошних католиков королевою Мариею. На сцене ее олицетворяла Гофолия; гонимый ею наследник престола иудейского – Иоад был не кто иной, как сын Якова II – принц Уэльский. На этот раз Расин не промахнулся и по ходатайству маркизы Ментенон был пожалован в камер-юнкеры двора его величества. Людовик XIV умел поощрять таланты, и лучшей награды для поэта, изготовлявшего трагедии по заказу, нельзя было и придумать, как произведя его в ливрейные льстецы. Исчез поэт, как было мало, и на его месте явился лакей, каких при дворе было слишком много.
Гофолия Расина была прологом иной – страшной, кровавой трагедии, в которой Франция была одним из главных действующих лиц. Людовик XIV снарядил огромную эскадру, которая с соответствующим количеством десантных войск, предводимых Иаковом II, должна была отправиться в Ирландию. Кроме громадных затрат на вооружение, обмундирование и продовольствие войск, король французский отсчитал сверженному королю английскому до двух миллионов франков золотом. В сподвижники ему были назначены графы д'Аво и Лозен; пехоту и конницу можно было назвать отборными, а между тем, глядя на все эти приготовления, можно было вспомнить нашу пословицу: «не в коня корм». Развенчанный изгнанник перед отбытием в экспедицию дни и ночи проводил с парижскими иезуитами и производил опыты исцеления опухолей шейных желез (свинки) посредством прикосновения в женском монастыре англичанок (Нот' soit qui mal у pense!). Когда все было готово к отправлению в поход, произошло прощание обоих монархов в замке сен-жерменском. Людовик XIV подарил Якову II латы и оружие, служившие ему самому во всех походах.
– Желаю, чтобы они принесли вам удачу, – сказал при этом король французский. – Как ни грустно мне расставаться с вами, но дай Бог, чтобы вам не пришлось возвратиться. Если же случилось бы подобное несчастье, вы всегда найдете меня таковым, как теперь!
28 февраля 1689 года Яков II уехал в Брест; его супруга с сыном отправилась в монастырь Пуассель.
Морская победа графа Шато-Рено над английским флотом, которым командовал вице-адмирал Герберт, могла бы способствовать успехам короля Иакова, если бы он имел хоть каплю воинских способностей. К сожалению, все его подвиги ограничились занятием нескольких городов и бесполезною осадою Лондондерри, защищаемого пресвитерианским пастырем Уокером. Обсервационный корпус Вильгельма III под предводительством маршала Шомберга не трогался с места; Яков со своими войсками благоразумно уклонялся от боя. Но если он не проливал крови, то супруга его заливалась слезами, досадуя на его медленность и возмутительную апатию. Чтобы утешить и развлечь печальную супругу Якова II, Людовик XIV убедил ее переехать из Пуасси опять в Сен-Жермен и стал забавлять праздниками и балами, которые давал в Версале, каждый раз лично заезжая за королевою в Сен-Жермен. Эта нежная внимательность встревожила маркизу Ментенон не на шутку; при сем удобном случае она могла бы заказать Расину новую трагедию, заимствованную из библейского сказания о Вирсавии, жене Урия, отправленного на войну царем Давидом, но маркиза вместо театра прибегнула к совершенно противоположному средству образумить Людовика XIV: она обратилась к посредничеству отца ла Шеза, Боссюэта и Бурдалу, прося их хорошенько пугнуть короля ораторскими громами с вершины церковной кафедры. Бурдалу своими беседами об адском пламени охладил вспышку нежности в старческом сердце Людовика XIV; король присмирел и стал менее любезен с супругою Якова II.
Война день ото дня принимала все более угрожающие размеры; против Франции восстали Австрия и Германия. Лувуа в государственном совете предложил выжечь и опустошить Палатинат, Людовик отверг это предложение, но, несмотря на то, Лувуа решился быть ослушником в видах блага отечества. Шпионы маркизы Ментенон довели до ее сведения, что министр на другой же день отправил курьера в Палатинат к тамошнему начальнику французских войск с каннибальским приказанием сжечь эту область.
– Верите ли вы снам? – спросила маркиза у Лувуа, когда он вечером того дня явился к королю. – Сегодня мне снилось, будто весь Палатинат охвачен огнем.
– Сны иногда сбываются, – отвечал Лувуа, – и я умею служить его величеству, даже не повинуясь ему.
– Вы говорите в шутку? – крикнул Людовик XIV.
– Нет, государь, совершенно серьезно. Утром я отправил в Палатинат курьера именно с этим приказанием.
– Дерзкий! – закричал Людовик XIV, схватывая каминные щипцы.
– Государь, что вы делаете? – вмешалась маркиза.
– Оставьте, сударыня! Я хочу наказать лакея-грубияна!
– Ваше величество, – вскрикнул, в свою очередь, Лу-вуа, – уважайте сами себя, если вам угодно, чтобы другие вас уважали. Если вы дозволили женщине властолюбивой оскорбить меня на театральных подмостках, меня – прослужившего вам двадцать пять лет, довольствуйтесь этим, но не унижайте себя, поднимая на меня руку.
– Сию же минуту послать курьера с отменою приказа! – горячился король. – Ты мне отвечаешь головой за все последствия. Если в Палатинате сгорел хоть один дом, тут тебе и смертный приговор!
Отмена приказа Лувуа прибыла поздно: Палатинат, выжженный дотла, представлял груды пепла и развалин. После этого Лувуа пал окончательно, к совершенному удовольствию маркизы Ментенон.
1690 и 1691 годы были ознаменованы многими достопамятными событиями. 20 апреля скончалась дофина Виктория Баварская после изнурительной грудной болезни, оставив по себе память благотворительницы бедных и убогих и подозрение в сношениях с германскими государями, врагами Людовика XIV. Умалчиваем о некоторых подробностях ее домашней и будуарной жизни, так как она была не без пятен; но в тот век при дворе французском не было ни одной женщины с незапятнанной репутацией. Маркиза Ментенон не удостоила погребения дофины своим присутствием; она ненавидела и покойную и ее мужа. Может быть, именно вследствие этой ненависти могущественной фаворитки к дофину была искренне расположена фаворитка опальная – герцогиня Монтеспан. Вскоре после смерти жены дофин вздумал возобновить связь с одною из своих многочисленных любовниц – госпожою де Рут. На это понадобились деньги, которые не водились у расточительного дофина; он был принужден через доверенное лицо продать свои бриллианты одному богатому ювелиру. Узнав об этом, герцогиня Монтеспан выкупила бриллианты за двойную цену и на другой же день привезла их к дофину.
– Ваше высочество, – сказала она при этом, – позвольте мне оказать вам эту ничтожную услугу. Я богата щедротами вашего родителя и, делясь с вами, возвращаю то, что мне было пожаловано.
Черта благородная, делающая честь женщине довольно сомнительной честности. Ровно через сто лет (как увидим) точно так же поступила и графиня Дюбарри с внуком своего державного обожателя – Людовиком XVI и этим погубила себя.
Благородный поступок герцогини Монтеспан с дофином взбесил маркизу Ментенон; желая со своей стороны чем-нибудь досадить дофину, она уговорила короля выслать госпожу де Рут из пределов Франции. Дофин по королевскому повелению обязан был отправиться в действующую армию. Герцогиня Монтеспан объявила Людовику XIV, что она окончательно покидает двор, избирая своими местопребываниями женские монастыри Фонтевро и св. Иосифа.
Подвиги великих полководцев и адмиралов Людовика XIV прекратили на время интриги и происки маркизы Ментенон. В войне принял участие сам король, осаждая Монс, под стенами которого у него произошло неприятное столкновение с Лувуа. Считая себя великим стратегом, Людовик XIV расположил отряд, которым он командовал, самым невыгодным образом. Эта диспозиция, по соображениям Лувуа, могла повредить успеху дела, и он переместил войска на другой пункт. Это своевольничанье возбудило в короле страшный гнев, хотя оно и способствовало взятию Монса. По возвращении в Версаль король был встречен восторженно и если воздержался от официального триумфа, то единственно по настояниям смиренной маркизы Ментенон.
Вот подробности об образе ее жизни в эпоху апогея ее могущества. Она не терпела при себе многочисленной прислуги, но и немногие лакеи и служанки, находившиеся при ней, с трудом уживались: им было запрещено ходить со двора и принимать у себя гостей. Нинон Бальбиен, бывшая горничная маркизы, когда она была еще вдовою Скаррон, была ее любимицей. Воспитанницы Сен-Сира и племянницы маркизы побаивались этой Нинон и обходились с нею с глубочайшим уважением. Из посетителей Ментенон можно назвать королеву английскую, герцога Ришелье и г. Моншеврейль; только первой маркиза отдавала визиты; кроме королевы она не ездила ни к кому. С самого раннего утра до поздней ночи она просиживала в кабинете Людовика XIV, и не было дела – от важнейшего государственного до самого ничтожного домашнего, о котором с нею не совещался бы король. Дочерей его она распекала и журила, как злая мачеха падчериц, и нередко доводила их до слез. Военные высшие чины перед отбытием на войну являлись к ней на поклон, как к законной супруге короля. Однажды маркизе вздумалось посетить монастырь Великих кармелиток, в стены которого, по уставу, не допускалось никого, кроме королев французских. Об этом маркизе напомнила аббатиса монастыря и получила в ответ:
– Знаю, знаю… И все-таки вы должны принять меня.
Вскоре после фландрской кампании в заседании государственного совета произошла бурная сцена (последняя) между королем и Лувуа. Министр, выведенный из терпения колкостями и воркотней старого брюзги, бросил на стол бумаги и, сказав: «На вас не угодишь!» – вышел из залы совета, хлопнув дверью. Вечером того же дня он получил письмо от маркизы Ментенон, в котором она извещала его, что король не сердится и не выключает его из совета… Действительно, на другой же день, когда Лувуа явился к королю, последний обошелся с ним довольно ласково, но министр понял, что под этою ласкою скрывается нечто для него опасное. Возвратясь домой, он сжег многие бумаги, долго ходил взад и вперед по комнате, потом выпил залпом стакан воды из кувшинчика, стоявшего на камине, и мгновенно упал в кресла, будто пораженный громом, без малейших признаков жизни. По вскрытии трупа доктора нашли признаки отравы.
Весть о смерти Лувуа сильно подействовала на Людовика XIV; он не мог не пожалеть о верном и полезном слуге, бывшем когда-то одним из ярких лучей версальского солнца, т. е. его величества, что же касается до маркизы Ментенон, она замаскировала свою радость о смерти врага самым ледяным равнодушием.
– Помолитесь ли вы об усопшем? – спросила ее какая-то из бойких придворных дам.
– Мне слишком много приходится молиться и о собственных грехах! – отвечала ханжа, воздевая руки к небу.
Временщиков при Людовике XIV не бывало и быть не могло, так как в царствование деспотов (это историческая аксиома) возможно только владычество фавориток. Лувуа не был временщиком, хотя его роль при Людовике XIV напоминает ту, которую играл граф Аракчеев при Александре I у нас в России. Неограниченно честолюбивый, дьявольски злой, мстительный, Лувуа не был лишен ни ума, ни способностей. Он во Франции радикально преобразовал военную администрацию, введя в войсках дисциплину, правильную строевую службу, систему выслуги, повышений и наград по заслугам. Инвалидный дом (Hotel des Invalides) – создание Лувуа.
При известии о его смерти Катина (Catinat), впоследствии маршал, сказал кому-то из придворных:
– Царствование Людовика великого кончилось и началось царствование Франциски д'Обинье!
Действительно, в следующем же году (1692) маркиза Мен-тенон присутствовала на всех заседаниях государственного совета, подавая свой голос, которому повиновались все – от короля до последнего камер-лакея.
Семейство герцога Орлеанского находилось постоянно во враждебных отношениях к семейству старших Бурбонов; иначе не могло быть: зависть искони веков – со времен Каина и Авеля – была и будет причиною единокровных братьев. Желая по возможности приблизить к себе семейство своего младшего брата, Людовик XIV по совету маркизы Ментенон задумал женить герцога Шартрского на своей побочной дочери (от ла Вальер) – мадемуазель Блуа. Способ к сближению весьма неловкий, возбудивший в матери герцога Шартрского, герцогине Орлеанской, живейшее негодование. Маркиза Ментенон при-бегнула в этом случае к посредничеству наставника герцога, аббата Дюбуа, бессменного спутника своего воспитанника в его кутежах и распутствах. Наградою за успешное сватовство аббату Дюбуа было обещано весьма доходное аббатство. Дело уладилось: племянник короля, герцог Филипп Шартрский, подписал свадебный контракт с мадемуазель Блуа. В приданое за нею король дал два миллиона наличными, ежегодную пенсию в 200 000 и свыше чем на 200 000 ливров бриллиантов; сверх того, герцогу подарен был в потомственное владение Пале-Руайяль. Вслед за тем герцог Мэн, побочный сын короля, женился на мадемуазель Шаролэ, сестре герцога Шартрского. Набожная Ментенон в этих брачных союзах не видела даже и кровосмешения. Когда аббат Дюбуа подал прошение духовнику короля отцу ла Шезу о награждении его обещанным аббатством, иезуит, наотрез отказав, доложил королю, что Дюбуа волокита, пьяница и картежник.
– Волокита, но не привязан ни к какой женщине, – отвечал Людовик XIV, – пьяница, но не напивается допьяна, картежник, но никогда не проигрывается!.. Дайте ему аббатство.
В 1696 году мир Франции с Савойею был закреплен выдачею его дочери Марии Аделаиды за внука Людовика XIV герцога Бургундского. Попечительницею принцессы и ее наставницею в правилах придворного этикета была назначена маркиза Менте-нон. На первых порах она озаботилась окружить молодую герцогиню иезуитами и возить ее по женским монастырям. Одна из племянниц маркизы попала в любимицы к Марии Аделаиде, соединяя с лестным именем ее подруги совсем нелестное ремесло шпионки своей тетушки. Свадьбу герцога Бургундского отпраздновали по заключении славного Рисвикского мира в декабре 1697 года: мужу было пятнадцать лет, жене его исполнилось двенадцать. Этот мальчик – надежда Франции, – горбатый и некрасивый собою, выкупал недостатки телесные прекраснейшими душевными качествами. Невзирая на вражду дофина с маркизою Ментенон, сын его и невестка оказывали ей глубочайшее уважение; впрочем, могло ли быть иначе, когда сам патриарх французского королевского семейства Людовик XIV раболепствовал перед нею?
Перебирая придворные хроники того времени, находим под 1698 годом любопытный эпизод, дающий ясное понятие о расположении короля к своей последней фаворитке. Летом 1698 года она присутствовала на маневрах, сопровождавшихся примерным штурмом крепости. Маркиза явилась в портшезе с поднятыми стеклами. Когда его опустили на землю, по четырем углам разместились на поручнях: герцогиня Бургундская, принцесса Конти, герцогини Орлеанская и Шартрская. Король, разговаривая с маркизою, снимал шляпу и ежеминутно на нее оглядывался, как молодой супруг на возлюбленную супругу. Когда портшез тронулся с места, все принцессы крови следовали за ним пешком. Большего почета, конечно, не могла иметь и законная супруга короля.
Семнадцатое столетие кануло в вечность; первые годы столетия восемнадцатого можно было назвать бедственными для всей Европы, так как они проведены были в непрерывных войнах, свирепствовавших почти повсеместно. На Севере происходила борьба двух исполинов – Петра Великого и Карла XII; государства Средней и Южной Европы вооружились против Франции по поводу вопроса о наследстве испанского престола. По какому-то роковому предопределению свыше Франции суждено было играть главную роль во всех великих событиях XVII века, от его начала до конца. Сравнивая одно с другим, нельзя не призадуматься. В начале века видим Францию в апогее ее могущества; не ведая преград, деспотизм Людовика XIV расширял пределы его королевства вопреки всем требованиям европейского политического равновесия; принц Конти был избран в короли польские; внук Людовика XIV, герцог Анжуйский, готовился увенчать себя короною испанскою. «Пиренеев более не существует!» – сказал французский деспот, не останавливаясь ни перед политическими, ни естественными границами европейских государств. Король испанский Карл II, будучи бездетным, по происхождению был родственно близок Австрии и Франции; супруга его, принцесса Баварская, отстаивала интересы первой, и по ее настояниям незадолго до Рисвикского мира Карл II уничтожил духовное завещание, передававшее его престол брату ее Леопольду, обещая назначить своим преемником сына императора австрийского. Рисвикский мир, водворяя в Европе тишину и доброе согласие, обратил внимание всех держав на королевство испанское, престолонаследие которого ежеминутно могло нарушить политическое равновесие, усиливая власть одного государя в ущерб другим. На кого должен был пасть выбор умирающего Карла II, – этого в Европе никто не знал и знать не мог, но по многим причинам догадывались, что наследником его будет эрцгерцог Австрийский. Особенно тревожились Англия и Голландия, для которых подобный исход мог быть крайне невыгоден в политическом и в торговом отношениях. Людовик XIV негодовал ввиду личных интересов, так как считал себя вправе, основываясь на связях родственных, присоединить к Франции нить владений испанских. Ввиду этих недоразумений маркиз Торси составил программу конвенции между Францией, Англией и Голландией, заключенной в Гааге (еще в 1696 году), в силу которой эти три державы обязывались наблюдать за миролюбивым разрешением испанского вопроса, предполагая разделить королевство следующим образом: Франции предоставлялись Неаполь и Сицилия; эрцгерцогу Карлу Австрийскому – Милан; от всяких притязаний на престол испанский Людовик XIV отступался.
Весть о конвенции, заключенной в Гааге, едва не убила Карла II, и он немедленно написал духовную в пользу принца Баварского, вскоре умершего в Брюсселе, вероятно, от яда. Эта смерть подала повод к некоторым изменениям в конвенции трех держав: Франция заявила притязания, кроме Неаполя и Сицилии, еще и на Милан. Эти распоряжения над чужою собственностью, это размежевание владений испанского короля и назначение ему преемников и наследников еще при его догорающей жизни были последними каплями, переполнившими меру терпения и душевных страданий Карла II. Назло Людовику XIV он назначил своим преемником эрцгерцога Карла Австрийского, которого и приглашал немедленно прибыть в Испанию с 10 тыс. войска для поддержки своих прав. Отец эрцгерцога император Леопольд отказал Карлу II в его желании, ссылаясь на распри и неурядицы, волновавшие тогда испанский двор и, по его мнению, угрожавшие эрцгерцогу великими опасностями. Следствием этого отказа был разрыв между Испанией и Австрией и обоюдное отозвание посланников той и другой державы. Пользуясь этим, французский полномочный министр маркиз д'Аркур щедрыми подарками и происками успел составить при мадридском дворе сильную партию в пользу герцога Анжуйского и расположить в его пользу больного Карла II. В это время мавры осадили Се-уту, и д'Аркур великодушно предложил французские корабли для содействия испанскому флоту. Император Леопольд, желая расстроить это доброе согласие, возобновил сношения с мадридским двором, и малодушный король испанский опять сблизился с Австрией. Эта шаткость действий Карла II побудила Людовика XIV отозвать д'Аркура из Мадрида. Он отбыл во Францию, но партия, им организованная, действовала с неослабной энергией, и принадлежавшие к ней чины государственного совета убедили наконец Карла II остановить свой выбор на внуке короля французского, герцоге Анжуйском.
– Первый долг вашего величества спасти отечество от ужасов безначалия, – говорили они королю. – Вспомните, что владения императора Леопольда отделены от ваших королевством французским. Только принц французской крови может быть вашим достойным преемником и в то же время уничтожить гнусный договор, заключенный в Гааге!
Карл II обратился за советом к папе Иннокентию XII, и тот сказал ему то же самое. 2 октября 1700 года король испанский написал третье духовное завещание, передававшее его престол герцогу Анжуйскому, а через месяц он скончался.
Государственный совет, созванный Людовиком XIV, предложил королю не нарушать договора 1696 года; особенно настойчивы были канцлер Поншартрен и герцог де Бовийллье, но честолюбие Людовика XIV и его самовластие были превыше требований политики и здравого смысла: король утвердил своего внука в правах наследника Карла II, а 3 февраля 1701 года представил королям испанским Бурбонской династии наследовать и французский престол в случае пресечения тамошней королевской фамилии. По духовной Карла II в случае кончины Филиппа Анжуйского испанская корона переходила к герцогу Беррийскому (третьему сыну дофина), за смертию же и этого принца к эрцгерцогу Карлу Австрийскому, который обязывался отречься от всяких наследственных прав на корону императорскую; за смертию же эрцгерцога королем Испании мог быть герцог Савойский. 24 ноября 1701 года Филипп, герцог Анжуйский, внук Людовика XIV, был провозглашен королем Испании и обеих Индий; соединенные королевства слились в монархию, размерами превосходившую монархию Филиппа II. В крайнем негодовании вся Европа восстала против Франции.
Новый король испанский принял известие о своем избрании весьма неприлично: он в кабинете своего деда стал хлопать в ладоши и скакать как школьник по выходе из класса. «Я король испанский, – сказал он, – и брат мой герцог Бургундский будет королем Франции, один только ты, Беррийский герцог, ничем не будешь!»
– Я буду охотиться, – отвечал тот, – буду рыскать с собаками и егерями от стен Парижа до Мадрида.
Таковы были представители молодого поколения Бурбонов, будущие обладатели Франции и Испании. Какого благополучия могли ожидать эти государства от жалких выродков фамилии Генриха IV? Плохи были его внуки, его правнуки, а потомки оказались и того хуже. В самый год восшествия герцога Анжуйского на испанский престол скончался брат Людовика XIV – Гастон Орлеанский. В каких отношениях находились братья друг к другу, можно судить по тому, что на другой день король очень весело напевал арию из какой-то оперы и очень наивно спросил у герцогини Бургундской, почему она грустна. Правда, покойный герцог Орлеанский славился только пороками и беспутствами, но и король никогда не бывал героем добродетели, и его чувство родства могло бы уделить хоть каплю сожаления памяти умершего брата. Наследник его Филипп немедленно образовал собственный двор (или дворню, правильнее) из людей, прославившихся безнравственностью и гнусностью правил. То были корифеи будущего регентства. Между ними особенно заметны были: капитан гвардии ла Фар, циник, способный заставить покраснеть самого Диогена; духовник герцога аббат Гранса – певец неблагопристойных песен; маркиз д'Эффиа, потомок Сен-Марса; граф Грасимон, Нэль, Кондолан, Полиньяк и десятки других негодяев, и во главе их аббат Дюбуа. Этой шайке ясновельможных бездельников всякие шалости, даже преступления сходили с рук, благодаря дружбе с ними д'Аржансона, министра полиции.
Одновременно с началом военных действий – неминуемого следствия самовластия Людовика XIV, он, как бы глумясь над врагами, ради упрочения новой Бурбонской династии на испанском престоле женил своего внука на Марии Луизе Савойс-кой, младшей сестре герцогини Бургундской. Опасаясь, чтобы отец ее, герцог, чрез посредство Марии Луизы не имел влияния на политику Испании, Людовик, сообща с маркизой Ментенон, придумал средство для противодействия, вполне достойное человека, одряхлевшего в разврате, и женщины, прикрывавшей маскою ханжества гнуснейшие пороки. Филиппа V, короля испанского, и супругу его необходимо было разладить; необходимо было поставить между ними третье лицо, которое сумело бы подчинить Филиппа своему влиянию и руководить его поступками согласно видам версальского кабинета. Подобную креатуру маркиза Ментенон нашла в Марии Анне де ла Тремуйлль де Нуармутье, по первому мужу принцессе Игалэ, по второму – герцогине Браччиано, княгине дез'Юрсен. Мы подробно поговорим о ней при обзоре царствования Филиппа V, здесь же заметим только, что она была креатура маркизы Ментенон, с которою она немедленно по прибытии в Мадрид затеяла самую прилежную переписку. Десять лет длилась война Людовика XIV с европейскими державами, и распространяться о ней было бы неуместно. В эту эпоху судьбы трех первостепенных держав находились в руках трех своенравных женщин: Англи-ею, именем королевы Анны, управляла ее любимица герцогиня Мерльборо; во Франции владычествовала маркиза Ментенон; в Испании принцесса дез'Юрсен. Англо-австрийские войска, предводимые герцогом Мерльборо и принцем Евгением, одержали над войсками Людовика XIV ряд блистательнейших побед, ознаменовавших пятилетний период с 1701 по 1706 год. 7 сентября 1706 года Филипп Орлеанский был разбит наголову под стенами Турина и со стыдом отступил за Альпы, потеряв весь свой обоз; супруга его тотчас же заложила свои бриллианты и вырученные за них 2 000 000 франков отправила в действующую армию; примеру ее последовала и маркиза Ментенон, пожертвовавшая на парижский монетный двор всю свою серебряную посуду. Франция находилась тогда в самом бедственном положении, на ее остывавшее солнце, т. е. на Людовика XIV, нашло плачевное затмение. Безвозвратно миновали для него счастливые, ясные дни, и последние годы его жизни, говоря без всякого преувеличения, были годами тяжкого искупления минувшей славы и минувшего блеска.
14 мая 1707 года Людовик XIV праздновал шестидесятипятилетний юбилей своего царствования и мог сказать при этом, что последние двадцать лет разрушили все то, что было делано для славы Франции в первые сорок пять. Ровно через две недели после этого печального праздника на бурбонских водах скончалась герцогиня Монтеспан. Когда она находилась уже в безнадежном положении, приближенные уведомили ее сына (от мужа) маркиза д'Антен. Он подъехал к дому, в котором кончалась его мать, и, не выходя из кареты, спросил у слуги:
– Где ларчик с деньгами и бриллиантами?
– Маркиз, – отвечала, заливаясь слезами, одна из служанок, – герцогиня находится при последнем издыхании…
– Я тебя спрашиваю не об этом, а о ларчике! – перебил нежный сынок. – Подай сюда ларчик.
Служанка вынесла ему объемистый ларец черного дерева и подала в окно кареты.
– Где ключ?
– Надет на шее у герцогини. Я не смею его снять…
– Так я и сам сниму, – сказал маркиз, выходя из экипажа. Поднялся по лестнице в спальню матери, в горле которой переливалась предсмертная хрипота, сорвал с ее шеи шнурок, на котором висел ключ, и уехал.
Вот нравственный вывод, основанный на факте, подобных которому встречались тысячи в тот век, начиная от королевского двора и кончая лачугой последнего свинопаса: чем сильнее укореняется разврат в государстве, тем равнодушнее становятся люди к жизни и к смерти и к самым узам родства, тогда люди буквально нисходят на степень бессмысленных животных.
Герцогиня Монтеспан завещала, чтобы сердце ее в металлической урне было поставлено в часовне дома св. Иосифа для трудящихся, ею основанного. «Да разве у герцогини было сердце?» – подшутил какой-то придворный остряк, узнав об этом. Маркиз д'Антен, который в этом случае мог бы потягаться с покойной своей матерью, счел, однако же, долгом почтить память ее трауром. Из прочих, побочных детей герцогини это не сделали ни герцог Мэн, ни граф Тулузский, ни герцогиня Конти, ни герцогиня Шартрская. Людовику XIV доложили о кончине бывшей его фаворитки в ту самую минуту, когда он собирался на охоту.
– А-а, – произнес он, осматривая свой костюм, – герцогиня умерла? А какая еще была бодрая и свежая… Странно! Хорошо, что был дождик, – произнес он вслед за этим, – пыль улеглась, и наши собаки побегут бодро!
Маркиза Ментенон изволила присутствовать при заупокойной литургии по герцогине, исказив свою постную физиономию сообразно печальному обряду.
– Ваши сожаления по усопшей, – сказала ей герцогиня Орлеанская, – были бы искреннее, если бы она умерла, когда вы нянчили ее детей… Тогда и Франция, может быть, не проклинала бы ее памяти за то, что она сблизила короля с людьми, омрачающими его славу!
20 января 1709 года скончался духовник короля, знаменитый отец ла Шез, на восемьдесят шестом году от рождения. Место его занял отец ле Теллье, друг и приятель маркизы Ментенон. На первый случай он отрекомендовал себя королю и народу с самой выгодной стороны для первого, а для последнего весьма невыгодной. Намереваясь подписать указ о новых налогах с народа, и без того разоренного войной и неурожаями, король спросил у отца ле Теллье, не будет ли это противно совести?
– Все, что принадлежит подданным вашим, – отвечал иезуит, – все то принадлежит вам. Получая подати с народа, вы получаете свое!
Вступив в должность королевского духовника, ле Теллье начал жестокое гонение на янсенистов и на питомник этой секты – монастырь Пор-Руайяль. Деятельною сподвижницею отца ле Теллье в этом преследовании была, разумеется, маркиза Мен-тенон. Иезуиты и янсенисты – фарисеи и саддукеи Франции XVII столетия – не могли не враждовать, и исход этой вражды нетрудно было предвидеть, коль скоро сам Людовик XIV был покорнейшим слугою иезуитов. Пор-Руайяль находился в шести милях от Парижа, между Версалем и Шеврезом. Это был упраздненный женский монастырь, построенный Филиппом Августом. Арно, Сен-Сиран и другие последователи учения янсенизма возобновили обветшалые здания, расчистили сады и вместе со многими сектаторами поселились в этой пустыне, которую можно назвать подобием наших раскольничьих скитов. От отшельника требовалась, во-первых, набожность, чуждая ханжества, во-вторых, он должен был быть милосерд, бескорыстен, целомудрен и исполнен непритворного смирения. Правилом отшельников было изречение св. Августина: «Говори более Богу о людях, нежели людям о Боге» – и правила этого они строго придерживались. В Порт-Руайяль при Людовике XIV стекались люди ученейшие, прославившие свои имена в истории, философии и в литературе. Тут был Демаре – превосходный вития; Дюфосс – автор мемуаров о царствовании Людовика XII, Арно – историк, одинаково искусно владевший пером автора и заступом садовода; Николль,
Тилльемон, Клавдий Лансело и, наконец, великий Паскаль. Точные и умозрительные науки процветали в стенах Пор-Руайяля, и этот раскольничий скит во всех отношениях, нравственном и научном, мог смело соперничать с любой иезуитской коллегией. Общественное мнение приняло сторону янсенистов, и хотя Пор-Руайяль еще в 1679 году повелено было закрыть, он снова превратился в приют янсенистов в последние годы XVII столетия и первые годы восемнадцатого. Отец ла Шез особенно их не преследовал, но ле Теллье решился истребить «гнездо нечестия». Ему не стоило большого труда уверить Людовика XIV, что отшельники Пор-Руайяля, помимо распространения вредной ереси, могут быть опасны отечеству как изменники, клевреты принца Евгения и Мерльборо. Король, запуганный иезуитом, немедленно приказал д'Аржансону разрушить Пор-Руайяль, соседние женские монастыри и даже разорить тамошние кладбища. Королевское повеление было исполнено, и скит янсенистов с его тенистыми рощами и садами исчез с лица земли. Здесь, к слову, заметим, что к числу основных пунктов учения янсенизма принадлежал один, в недавнее время возбудивший живейший спор в католическом мире: пункт о непогрешимости папы. Янсе-нисты отрицали эту нелепость, принять которую за истину может только тупоумное изуверство.
Королевское семейство, в эту эпоху довольно многочисленное, состояло из дряхлых старцев и шаловливых детей, т. е. из людей, выживших из ума, и людей, еще не развившихся умственно. Невестка дофина герцогиня Бургундская особенно отличалась ребяческой шаловливостью и дурачествами, нередко смешившими короля, несмотря на то что они переходили границы приличия. Принцесса в присутствии придворных теребила короля за нос, за уши; срывала с него парик, заставляла его бегать, прыгать; распечатывала вручаемые ему депеши и, читая их, умышленно перевирала их содержание. Король смеялся, маркиза Ментенон хмурилась. Радея о душевном спасении его величества, она в этих невинных играх не видела ничего доброго. Постоянное обращение старика в кругу молодежи могло, по ее мнению, пробудить в нем греховные помыслы; от помысла недалеко до слова; от слова до дела. Эти опасения старой ханжи отчасти оправдались: Людовик что-то особенно стал любезен с ее племянницею, герцогинею Ноайлль. Ухаживание это, едва ли увенчавшееся успехом, было прибыльно ее супругу, ни за что ни про что произведенному в маршалы. В то самое время, когда Людовик полупотухшими взорами и дрожащим от старости голосом выражал свою нежность герцогине Ноайлль, первая его любовь сестра милосердия Луиза (герцогиня ла Вальер) тихо отошла в вечность. Трижды она умирала для Людовика: в день его охлаждения к ней, в день ее пострижения в кармелитки и – окончательно – в день кончины. Она умерла, заочно благословляя дочь свою принцессу Конти, умерла с молитвою на устах, как праведница, утешая себя словами Спасителя: простится ей многое за то, что любила много. В современных мемуарах находим, что смерть ла Вальер произвела на Людовика XIV тяжелое впечатление: дня два он был грустен, молчалив и задумчив. Смущало его, вероятно, не воспоминание о счастливых днях юности, а, скорее всего, страх смерти, которая невидимкою носилась над ним, выхватывая из среды окружавших его, даже из членов его семейства, многочисленные жертвы.
14 апреля 1711 года в Медоне умер на пятидесятом году от рождения сын короля великий дофин от злокачественной оспы. В первых числах месяца он охотился в окрестностях замка и, отстав от свиты, зашел в крестьянскую хижинку выпить стакан воды. Приближаясь уже к выходу, он заметил в углу на постели больную девочку и спросил, что с ней. Ему отвечали: «Оспа», а крестьянка, бывшая при больной, прибавила: «А нынешний год она зла!» Возвратясь в замок, дофин слег и на четвертый день скончался. При дворе и в народе разнесся слух об отраве, который мог бы подтвердиться при вскрытии, но тело не вскрывали. Тело наследника французского престола предали земле в склепе Сен-Дени, как труп зачумленный. Дофин Людовик, – красивый, стройный, величавый, – отличался леностью, апатией и равнодушием к жизни. Благодаря этой складке характера он при дворе своего родителя был одним из немногих нравственных людей. Потеряв жену, он тайно обвенчался со своей фавориткой мадемуазель Шуен (Choin), удаленной из Медона в самый день его кончины. Наследником престола был объявлен старший сын покойного герцог Бургундский. Король выдал повеление, чтобы новый дофин принимал участие в заседаниях государственного совета и подавал свой голос – по предварительном совещании с маркизою Ментенон. Взяв в руки дофина, маркиза не могла выпустить из рук и его супруги, в это время бывшей сказкой всего двора вследствие ее связи с молодым герцогом Фронсак. После скандалезной сцены, когда любовник герцогини был найден у нее в будуаре под кушеткою, король, маркиза и герцог Ришелье (отец Фронсака) на домашнем, семейном совещании решили засадить шалуна в Бастилию ради исправления. Будущий герой распутных историй регентства нимало не исправился, а вернее сказать, только развил свои дарования, сидя в тюрьме. Когда он находился в Бастилии, мимо его каземата ежедневно проезжали длинные ряды экипажей, наполненных придворными дамами и девицами, которые этим желали доказать свое сочувствие милому узнику.
1712 год, предшествовавший заключению Утрехтского мира, невыгодного для Франции, был годом тяжких утрат в королевской фамилии: дофина, муж ее и герцог Бретанский сделались добычею смерти. Подробности кончины их сопряжены с таинственными обстоятельствами, еще и доныне вполне не разъясненными.
Года за два перед тем герцог Орлеанский подарил дофине небольшую золотую табакерку, которая в январе 1712 года пропала или была украдена, неизвестно; только она исчезла. Дофина пожалела о потере вещицы, довольно ценной, к которой она привыкла. Ровно через месяц табакерка явилась на ее туалет, наполненная прекрасным испанским табаком, ее любимым. Это было 5 февраля. Взяв щепотку, дофина через несколько часов почувствовала лихорадочную дрожь и слабость во всем теле. Нимало не приписывая этого болезненного состояния действию табака, она захотела понюхать его еще и послала свою придворную даму госпожу Леви в соседнюю комнату за табакеркой, оставленной там на столе. После долгих поисков оказалось, что табакерка вторично пропала, и на этот раз безвозвратно! На другой день после кровопускания дофине было полегче, но на третий (7 февраля) невыносимая головная боль заставила ее слечь в постель. После двух новых страданий больная погрузилась в мрачную задумчивость, и предчувствие смерти не покидало ее до последней минуты.
– Чувствую, что угасаю, – говорила приближенным эта прелестная двадцатишестилетняя женщина. – Скоро, скоро будет траур при дворе… Я вас всех так и вижу в черных платьях… Пройдет срок, вы их забросите куда-нибудь в шкаф, забросите вместе с воспоминанием обо мне… Удел умирающих забвение; вечной памяти нет на земле… только воспоминание более или менее продолжительное. Муж мой забудет меня прежде всех и женится на какой-нибудь монахине!
К вечеру дофина потребовала духовника, и исповедь ее продолжалась около двух часов; потом с ним вместе она сожгла в камине многие бумаги. Скончалась на другой день к вечеру в полной памяти на руках мужа и короля Людовика XIV. На этот раз этот мраморный истукан почувствовал в себе пробуждение чувств человеческих: скорбь его по умершей внучке была глубока и неподдельна. Последний вздох дофины был сигналом к неумолкаемой молве о том, что она была отравлена; подозрение это выразили лейб-медики Фагон и Буден; Ширак утверждал, что Мария Аделаида скончалась от скарлатины.[141] Слухи, однако же, не только не умолкали, но день ото дня усиливались. Убийцами называли или герцога Мэн, или Филиппа Орлеанского, племянника короля. Последний, которому был прямой расчет истреблять наследников престола, занимался алхимическими опытами и имел превосходную лабораторию. При дворе и в народе еще не исчезла память об отравителе ле Саже и злодейках ла Вуазен и Бренвиллье. Со смертию последней секрет состава порошка наследников (poudre de succession) мог быть и не утрачен.[142] За два дня перед своей кончиною дофина писала длинное письмо к гвардейскому полковнику Нанжи (Nangis), фавориту мужа и своему возлюбленному. Чтобы замаскировать свою интригу, она приказала ему явно ухаживать за госпожою ла Вальер, невесткою брата знаменитой фаворитки. Ла Вальер перехватила одно из писем, писанных дофиною к Нанжи, и передала это письмо мужу, не сказав, однако, к кому оно писано. Дофин, глубоко обиженный, поверил свое горе тому же Нанжи, который на другой же день, со страху, бежал из Парижа и пробрался за границу… К этому человеку дофина на смертном одре писала свое прощальное письмо. Эта семейная драма набросила мрачный покров на память покойницы в глазах ее мужа; еще того более негодование навлекла она на себя после смерти со стороны Людовика XIV. Духовник ее, монах реколлект, отец Юлиан при сожжении ею секретных бумаг утаил несколько писем и представил их королю. Из их содержания Людовик XIV увидел, что покойная супруга его внука вела переписку с кабинетами держав, которые вели войну с Францией, и передавала им все государственные тайны. После смерти жены старшего дофина то же самое подозрение отяготело над ее памятью, хотя оно было менее основательно; тут же улики были на лице, и обличителем явился духовник, не постыдившийся украсть документы.
На другой день смерти дофины муж ее, герцог Бургундский, заболел лихорадкою, и на этот раз признаки отравления были почти несомненны. Тело больного покрылось сыпью и синеватыми пятнами; он жаловался на жестокий внутренний жар, будто огнем паливший ему грудь и желудок. «Я горю, – говорил он, – но тот огонь, в котором очищаются души наши, еще ужаснее!»
17 февраля над спальнею больного раздались глухие удары молотков: в верхнем этаже заколачивали гроб дофины. Больной, подняв руки вверх, с невыразимой грустью прошептал:
– Погодите немного, я за нею не замедлю!
Действительно, на другой день он скончался, напутствуемый чтением молитв и пением псалмов. Оплакивая внука и наследника своего, дряхлый Людовик XIV был вне себя от отчаяния. Панегиристы герцога Бургундского, щедрые на похвалы, говорят в его биографиях, что он имел все задатки, чтобы быть великим государем и составить счастие Франции. De mortuo nil nisi bonum – о мертвых, кроме хорошего, ни слова – говорили римляне, но если бы люди следовали этому завету, то не было бы и истории. Герцог Бургундский с самых юных лет любил выпить, вкусно поесть, покутить, поволочиться; ко всему человечеству чувствовал глубокую безотчетную ненависть. Воспитатель его Фенелон набальзамировал сухой моралью это испорченное сердце и, думая внушить питомцу правила истинного благочестия, развил в нем то ханжество, которое измеряет любовь свою к Богу количеством молитв, излишней строгостью постов, а любовь к ближнему – осуждением и глупыми сетованиями на развращенность нравов. На престоле герцог Бургундский был бы повторением Людовика XIV, т. е. жалкой бездарностью без гениальных сподвижников и сотрудников в великом деле правления.
Едва дофин испустил дух, как маркиза Ментенон, подобно глашатаю общественного мнения, объявила королю, что герцог Бургундский отравлен, и не кем иным, как Филиппом Орлеанским. Эта весть, переходя из уст в уста, разнеслась в народе, и озлобление последнего на отравителя (настоящего или мнимого) выразилось вечером 22 февраля, когда герцог Орлеанский ехал в Версаль на поклонение телу дофина. В улице Сент-Оноре его карету окружила толпа черни, называвшая его отравителем, и грозила ему костром на Гревской площади. Какой-то оборвыш, протеснясь до каретной дверцы, закричал ему: «Берегись, Филипп! Из огня костра прямая дорога в адское пламя!» Офицер почетного караула, сопровождавшего герцога, ударил оборвыша шпагою и рассек ему руку. Вид крови и крик раненого разъярили толпу, и герцогу угрожала нешуточная опасность, от которой он избавился благодаря присутствию духа.
– За что вы его ударили? – сказал герцог офицеру и продолжал, бросив кошелек с золотом раненому оборвышу: – Вот тебе на лечение. Побывай у меня в Пале-Руайяле.
Эта взятка, данная представителю черни, угомонила толпу; недавние крики угроз перешли в радостные восклицания; многие вслух хвалили Орлеанского, некоторые даже позавидовали раненому. Пользуясь этим усмирением недовольных, герцог ускакал.
По закону преемником дофина следовало быть старшему сыну, герцогу Бретанскому, но и этот ребенок умер от скарлатины 8 марта; младший его брат герцог Анжуйский был также при смерти… Королевский дворец был тогда похож на чумной госпиталь. Если современники не выразили подозрения на отравление королевского правнука, то мы, потомки, можем предполагать, что злодейская рука, систематически истреблявшая наследников престола, одним ядом не довольствовалась: отравив дофину посредством примеси яда в табаке, мужа ее в питье или кушанье, она могла привить скарлатинную заразу их детям, а этот яд для судебной медицины неуловим. Ребенок умирает скарлатиною, но заразился ли он нечаянно и сам, или зараза передана ему умышленно – этого вопроса не разрешит ни один доктор в мире. Четвертый дофин герцог Анжуйский (будущий король Людовик XV) – грудной младенец – заболел тоже какой-то злокачественной сыпью, соединенной с худосочием и признаками сухотки: врачи, отчаиваясь в его выздоровлении, хотя и не решались произнести над ребенком смертного приговора, но ожидали смерти его с часу на час. Герцогиня Ван-тадур, попечительница Анжуйского, вспомнила о венецианском противоядии, о котором ей рассказывала чудеса госпожа Вор-рю, любовница герцога Савойского. По словам последней, это лекарство неоднократно спасало ему жизнь. Но откуда было достать этого чудесного снадобья? Знать о его существовании и не иметь лекарства под рукою значило только увеличивать собственную душевную тревогу и нимало не облегчать страданий больного. Герцогиня Орлеанская, мать Филиппа, услыхав от Вантадур о заботе, сказала ей, что венецианское противоядие есть у него и он с удовольствием доставит его во дворец. С первого приема больному, видимо, стало лучше, а за последующими он был уже совершенно вне опасности. Это спасение маленького герцога Филиппом Орлеанским не только не сняло с него подозрения в отраве семейства дофина, но еще того более подтвердило его основательность. Вместо всякой благодарности этому немольеровскому «лекарю поневоле» (medecin malgre lui) Людовик XIV, подстрекаемый маркизою Ментенон, сказал своему племяннику:
– Если бы вам было угодно, сударь, то у меня в семействе не было бы четырех покойников!
Филипп Орлеанский побледнел, смутился; однако же, собравшись с духом, отвечал:
– Если бы мои обвинители, вместо того чтобы тратить время на клеветы, обратились ко мне с просьбою о помощи больным, я подал бы эту помощь. Пора наконец, ваше величество, разъяснить эти темные дела: я требую над собою формального суда. Гумбер, с которым вместе я занимался химическими опытами, уже отправился в Бастилию по моему совету. Я последую его примеру.
– Я об этом подумаю! – отвечал Людовик XIV, уходя из комнаты.
В тот же день король созвал тайный совет для обсуждения обстоятельств скоропостижной смерти дофина и его семейства и степени подсудности в этом случае герцога Орлеанского. Бо-вийллье и Поншартрен подали голос против обвинения принца крови и предложили дело это замять, по недостатку прямых улик и во избежание скандала. Прав или виноват был Филипп Орлеанский, но он решился вступить в открытую борьбу с партией маркизы Ментенон, распространявшей о нем самые дурные слухи. Главными коноводами были герцог Мэн и отец ле Теллье. За них первых принялся Филипп. Герцога, приехав к нему в замок Ссо, он в присутствии многочисленного общества вызвал на дуэль, а когда тот уклонился от нее, то Орлеанский потребовал торжественного отречения от всякого участия герцога Мэн в распространении клевет и всяких небылиц на его, герцога Орлеанского, счет. Получив такого рода удовлетворение, герцог Орлеанский отправился к отцу ле Теллье и, сдерживая себя по возможности, начал просить у него содействие к открытию источника клеветы, довольно ясно намекая, что иезуит в этом деле не без греха.
Бесстыдство и маска смирения – надежнейшие орудия многих ксендзов вообще, но иезуитов в особенности, не помогли отцу ле Теллье. Сначала он «клялся и божился», что он никогда ни слова не говорил о герцоге; потом начал грубить и защищаться неприкосновенностью своего сана.
– А я моей тростью докажу вам, – крикнул герцог, – что принц крови имеет право защищать свое доброе имя от всякого наглеца, какого бы он ни был сана или звания.
– Я служитель церкви… Вы забываете это?
– Нет, вы забываете, что служение церкви и наушничество, злоречие и злоба несовместны! В одно и то же время нельзя быть пастырем и волком…
– Но чего же вы желаете от меня, ваше высочество? – смиренно спросил ле Теллье.
– Желаю и требую, чтобы отныне вы употребили все ваше влияние на короля, весь двор и на общественные мнения, чтобы истребить все клеветы на мой счет, истребить до корня. Если вы их распространяли – это недостойно не иезуита, но лица, облеченного духовным саном; если же вы не принимали в этих гнусностях ни прямого, ни косвенного участия, вы опять виноваты: зачем не опровергали клеветы? Во всяком случае, если клеветы не умолкнут, тогда мы с вами объяснимся опять, но уже далеко не так миролюбиво… Понимаете?
И герцог пояснил иезуиту раза два, свистнув своей тростью по воздуху. Свист этот утишил недавнюю бурю, грозившую герцогу Орлеанскому: двор и народ единогласно сознались, что покойные внуки короля скончались волею Божиею не от яду, а от болезней неизлечимых.
Напоминаем читателю, что последние годы царствования Людовика XIV можно назвать годами смерти, а хроники скорбными летописями. В 1714 году 4 мая скоропостижно скончался младший сын покойного старого дофина, внук короля герцог Беррийский. Незадолго перед тем он имел довольно крупное объяснение со своей супругою и в запальчивости поднял на нее… не руку, а ногу, ударив ее пинком. За эту обиду она отомстила мужу на средневековый итальянский лад. Герцог, сопровождаемый супругою, охотился в окрестностях Марли и, гоняясь за волком, сильно разгорячился и попросил пить. Герцогиня подала ему охотничью фляжку с ратафией… Он сделал несколько глотков и часа через полтора почувствовал страшную боль в желудке, которую приписывал сотрясению от того, что конь его споткнулся и он ударился желудком об седельную луку. Это повреждение (если только оно было) свело его в могилу… Таким образом, к последнему году жизни Людовика XIV из многочисленного его потомства (законного) прямым наследником престола остался младенец герцог Анжуйский; правителем королевства по закону мог быть только герцог Филипп Орлеанский – знаменитый регент, превративший дворец королевский в лупанар из гарема, которым он был при Людовике XIV.
Именно этого законного правителя маркиза Ментенон ненавидела и заодно с отцом ле Теллье решилась всеми силами устранить Орлеанского от регентства назначением в правители узаконенного герцога Мэн. Дело это было нелегкое, но чего бы не смогла умная, хитрая женщина заодно с иезуитом? Наша русская пословица говорит: «где бес не сможет, туда бабу пошлет», а тут работали заодно иезуит – умный как бес, и баба, уму которой мог позавидовать любой мужчина. Двор разделился на две партии: герцога Орлеанского и герцога Мэн; первая группировалась в Пале-Руайяле, вторая в замке Ссо, с той и с другой стороны не скупились на сатиры, эпиграммы, памфлеты и пасквили. Эта мелкая перестрелка была заглушена указом 11 июля 1714 года, который громовым ударом оглушил приверженцев герцога Орлеанского: король предоставлял побочным своим детям права принцев крови и наследников престола в случае пресечения династии законной. Этот указ назвали «последним скандалом, достойным образом закончившим скандалезную жизнь деспота». Действительно, бесстыднее надсмеяться над Францией едва ли было возможно! «Провознесенные на эту недосягаемую высоту, – говорит Сен-Симон в своих записках, – побочные дети короля явились к нему в Марли на несколько минут. Герцог Мэн счел необходимым принять вид скромника, избегающего огласки, и был совершенно прав. Двор негодовал и роптал, Париж был взволнован; парламент и начальники провинций королевства не скрывали своего негодования. Госпожа Ментенон, в восторге от улаженного ею дела, принимала поздравление от своих приближенных. Хотя наследников прямых, законной крови, опасаться было нечего, однако же они были на стороне, следили за королем, которого уверяли во всеобщей радости по случаю издания указа, всеми одобряемого. Не очень лестно герцогу Мэн было поздравление от двора унылого, огорченного, смущенного; супруга его ликовала в замке Ссо, проводя время в пирах и забавах».
Около этого времени умерла герцогиня Вернейль, вдова побочного сына Генриха IV, и Людовик XIV облекся на две недели в траур. Выживший из ума старик не только не равнял побочных с законными – он первых ставил выше. Партия герцога Мэн, желая упрочить его права на регентство, намеревалась предложить королю созвать генеральные штаты (государственную думу) для обсуждения этого важного вопроса, но Людовик XIV в этом случае был верен программе своего царствования: его испугали эти штаты, как подобие учреждения республиканского. Совещаться с народом и спрашивать его мнение о своих делах домашних казалось королю унижением его достоинства. Он отказал наотрез. Пришлось избрать другой способ к устранению герцога Орлеанского от регентства: это могло сделать духовное завещание короля, написанное именно в этом смысле. Но как предложить писать духовную королю, которого называли бессмертным? Пришлось исподволь подготовить его к приступле-нию сочинения этого великого акта. Начали с того, что стали тешить короля всякими забавами, пирами, маскарадами, причем маркиза Ментенон, пользуясь хорошим расположением духа Людовика XIV, весьма тонко, с свойственным ей тактом наводила разговор на права, предоставленные герцогу Мэн на его будущность, и ввертывала слово о ее обеспечении актом законной силы, т. е. духовным завещанием. 2 августа 1714 года король приказал канцлеру Даниилу Франциску Вуазену составить проект духовной; канцлер повиновался скрепя сердце, ибо сам принадлежал к партии Орлеанского. В воскресенье 27 августа Людовик XIV призвал к себе в кабинет первого президента Мема (de Mesme) и генерал-прокурора Дагессо, вручил им конверт, запечатанный семью печатями, сказав при этом:
– Вот моя духовная, господа; кроме меня, содержание ее никому не известно. Вверяю ее вам для сдачи на хранение в парламенте, которому не могу лучше выразить мое уважение и доверие. Мне памятна участь духовной покойного моего родителя; моя может подвергнуться ей же, но так хотели другие; меня мучили, мне надоедали. Возьмите; будь с нею что будет. По крайней мере, теперь меня оставят в покое.
В этом завещании король, не отнимая регентства у герцога Орлеанского, назначил его председателем небывалого государственного совета. Опекуном малолетнего короля (Людовика XV) и генерал-фельдмаршалом назначался герцог Мэн. В понедельник (28 августа) в Версаль приехала королева английская и поздравила короля с подвигом обеспечения блага государства в будущем. Он отвечал ей:
– Да, я диктовал мое завещание, но боюсь, чтоб с ним не случилось того же, что было с духовною моего отца.
Дней восемь после того король был в весьма мрачном настроении духа. Партия Ментенон торжествовала, но канцлер Вуазен чрез маршала Вилльруа предложил Филиппу Орлеанскому передать содержание духовной из слова в слово с условием получить за это 400 000 ливров и сохранить место государственного канцлера. Благодаря нескромности Вуазена протестанты и янсенисты узнали, что в завещании есть статья, обрекавшая их на новые преследования. Этого было достаточно, чтобы они присоединились к партии Орлеанского; вскоре она усилилась и многими вельможами феодального закала, которым деспотизм Людовика XIV был невыносим. Завещание было замуровано в стену одной из башен палаты Правосудия (Palais de Justice), в комнате, помещавшейся рядом с кабинетом первого президента. Ниша была защищена железною решеткою и таковою же дверью с тремя разными замками. Первый ключ был отдан президенту; второй генерал-прокурору; третий генеральному повытчику парламента. Весь Париж, зная, что духовное завещание написано, терялся в догадках и предположениях. Большинство угадывали инстинктивно, что регентом назначен герцог Мэн.
С сентября 1714 по июнь 1715 года здоровье Людовика XIV, видимо, ослабевало, и слухи о близкой его кончине носились по городу. Лорд Стэр (граф Дельрихипль) бился об заклад, что Людовик не доживет до сентября месяца. Вообще в Англии состоялось тогда множество громадных пари на жизнь короля французского; о них было даже напечатано в газетах, к несчастью, и в голландских, которые обыкновенно читал королю Торси. Напав на эту статью, чтец остановился и пропустил ее, перейдя к следующей. Король заметил его смущение и настоятельно требовал, чтобы он читал без пропусков; приказал прочитать пропущенное и выслушал с притворным равнодушием. Это было в предобеденную пору. За столом Людовик XIV накладывал себе на тарелку вдвое более кушаньев, говоря присутствовавшим, что аппетит у него еще не пропал, что он прекрасно себя чувствует. Однако же кусок останавливался у него в горле, и по временам на него нападала не то задумчивость, не то рассеянность.
Первые признаки старческой изнурительной и неизлечимой болезни обнаружились у короля в начале августа 1715 года. Он как-то весь опустился, сгорбился и ослабел, несмотря на все усилия преодолевать слабость и бодриться. В пятницу 9-го числа он ездил на охоту в коляске, которою сам правил; 11 августа заседал в совете и гулял по саду Трианона. Это был последний его выход. До 23-го числа он еще занимался государственными делами и принимал министров; в этот день он написал добавочную статью к духовному завещанию, назначая Флери наставником, а ле Теллье духовником малолетнего своего наследника. Приверженцы герцога Мэн окружали старика и толпились около него, как рой мух над куском меду. 24 августа у больного на левой ноге показались пятна антонова огня. 25-го он назначил смотр кавалерии, но принужден был поручить сделать его за себя герцогу Мэн. Это было в самый день именин умирающего; к вечеру ему стало, видимо, хуже; созвали консилиум. Лейб-медики Фагон и Марешаль предложили прибегнуть, вместо помощи врачебной, к помощи небесной. Явились ле Теллье, кардинал де Роган и священник церкви Версальской Богоматери; больного причастили и соборовали. После того он с четверть часа очень ласково разговаривал с герцогом Орлеанским наедине; потом точно так же беседовал с своими побочными сыновьями: герцогом Мэн и графом Тулузским. Посеяв между ними раздор, бедный старик надеялся примирить их. На другой день король прощался со всеми придворными и благословил своего правнука и наследника:
«Дитя мое, – говорил он ему, – вы скоро будете повелителем великого королевства. Никогда не забывайте Бога, которому вы обязаны всеми вашими благами. Старайтесь сохранять мир с соседями. Я слишком любил войну, в этом, а равно и в расточительности не подражайте мне; не избегайте добрых советов. Тягости подданных облегчайте неотлагательно и исправьте все, что я не имел счастия исправить».
Эти слова были записаны на мраморной доске, которую вделали в стену у изголовья постели будущего короля… Ни одно из этих слов не врезалось ему в память, и все его царствование было им живейшим противоречием.
Во вторник 27 августа, призвав к себе маркизу Ментенон и канцлера Вуазена, умирающий сжег многие секретные бумаги; потом поручил бывшему канцлеру Поншартрену исполнить его предсмертную волю: отдать его сердце в церковь иезуитов. Им оно должно было, конечно, принадлежать после смерти короля, так как они наперекор словам Писания: «сердце царево в руце Божией!» владели им и при жизни Людовика XIV. Впрочем, это желание умирающего было осмеяно каким-то шутником, пустившим в ход следующее четверостишие:
C'est done vous troupe sacree
Qui demandez le coeur du roi?…
Ainsi d'un vieux cerf aux abois
On donne aux chines la curee![143]
Окончив предсмертные свои распоряжения, Людовик XIV сказал маркизе Ментенон:
– Мне всегда говорили, что умирать очень тяжело… Я приближаюсь к последней минуте, но не могу сказать, чтобы это было трудно…
– Тяжело умирать тому, – отвечала ханжа, – кто слишком привязан к земному, в чьем сердце есть ненависть, на чьей совести есть какие-нибудь обязательства…
– Их у меня нет как у человека, как король я уповаю на милосердие Божие.
Ночь больной провел тревожно и часто молился. Под утро он успокоился и говорил о предстоящей кончине с твердостью стоика. Припоминая минувшее, он выражался о себе уже в прошедшем наклонении… Когда я был королем. Маркиза не отходила от него ни на шаг; бывшие в комнате камер-лакеи плакали.
– Зачем вы плачете? – сказал король. – Когда же и умирать, если не в мои годы… Или вы думаете, что я бессмертен?
Потом, обращаясь к маркизе Ментенон, он продолжал:
– При предстоящей нашей разлуке меня утешает мысль, что она не будет продолжительна… Мы скоро свидимся!
Старуха переменилась в лице и, встав с места, отошла от постели больного, пробормотав: «Очень любезное утешение! Эгоистом жил, эгоистом и умирает!» Обиделась ли она на короля или не желала долее расстраивать свои нервы, присутствуя при его агонии, но она немедленно уехала в Сен-Сир… Роль ее была отыграна.
Герцог Мэн делал распоряжения к созванию государственного совета тотчас по кончине короля. Ее ожидали с минуты на минуту. В этот самый день (28 августа) во дворец явился некто Лебрен, доктор-эмпирик из Марселя, предлагая королю эликсир собственного изобретения, излечивающий все болезни. Придворные врачи дозволили испытать это новое средство; лейб-медик Фагон, вступивший было в спор с Лебреном, принужден был умолкнуть пред шарлатаном… Прием нескольких капель эликсира в малаге придал бодрости Людовику XIV и оживил его, точно так же, как оживляет умирающего прием мускуса или сумбула… 30 августа началась агония, а в воскресенье 1 сентября 1715 года в восемь часов с четвертью утра Людовик XIV испустил последний вздох. Закатилось версальское солнышко!
Маркиза Ментенон пережила Людовика тремя годами (она скончалась в 1718 году), проводя свои дни в молитвах, в слушании чтения душеспасительных книг и в чтении нравоучений воспитанницам Сен-Сира. Петр Великий в бытность свою в Париже в 1717 году посетил маркизу Ментенон и, невзирая на ее отказ принять высокого гостя, без церемонии прошел к ней в спальню и, отвернув занавеси постели, несколько минут смотрел на эту полуживую развалину женщины, игравшей такую великую роль в течение тридцати пяти последних лет долговременного царствования Людовика XIV.
Насколько этот король был велик как правитель – этот вопрос решит история; насколько он был ничтожен и слаб как человек, о том, смеем думать, дает некоторое понятие наш очерк.
Карл I
Джордж Вильерс, герцог Бекингэм. – Томас Уэнфсуорт, граф Страффорд
(1625–1649)
Перья французских романистов и кисти французских живописцев окаймили отрубленную голову Карла I такой лучистой ореолой мученика, что у нас едва хватает духу говорить о нем как о человеке обыкновенном, даже довольно слабом и бесхарактерном. При имени Карла I (мы уверены) в воображении просвещенного читателя является портрет Ван Дейка: гордо подбоченившаяся фигура и худощавое лицо с закрученными усами и остроконечной бородкой; лицо, имеющее некоторое сходство с лицом кардинала Ришелье, только без выражения лукавства, свойственного последнему… Или читателю приходят на память картины Поля Делароша: «Карл I, оскорбляемый солдатами Кромвеля», «Прощание Карла I с семейством», «Кромвель над гробом Карла I» – картины, знакомые по многочисленным копиям и литографиям. Бесспорно, последний год царствования этого несчастного сына Якова Стюарта был для Карла I годом тяжких испытаний, обид и мучений, от которых его наконец избавила смерть на эшафоте… Но он царствовал двадцать четыре года, и каждый из них можно назвать ступенью лестницы, возведшей несчастного Карла I на эшафот или – низведшей его с высоты престола на степень простого гражданина, преступившего закон и наказанного по закону. Он страдалец и мученик – бесспорно! Однако же нельзя не обратить внимание на причины его страданий и мученической смерти. Эти причины – его ошибки и заблуждения: его неуважение к закону и к правам народным, которые он был обязан чтить и охранять свято и ненарушимо. Он сам себе сплел терновый венец мученика и сменил на него венец королевский; жить не умел, но зато умел умереть, и в этом единственная его заслуга в глазах потомства. Не соразмерив своих сил, не имея необходимой к тому энергии, Карл I отважился вступить в борьбу с народом, и его падение было неминуемым и весьма естественным следствием непосильной отваги.
Карл родился в Думферлинге, в Шотландии, 29 ноября 1600 года. Он был третьим сыном короля Якова и королевы Анны; после смерти старших братьев, Генриха и Роберта (в 1616 году), был провозглашен наследником престола. В детстве прелестный, кроткий и покорный ребенок, Карл в юности отличался если не особенно богатыми способностями, то старанием в учении и склонностью к богословским и философическим диспутам. Непритворно набожный, он свято чтил постановления англиканской церкви, сохраняя при этом дух веротерпимости в отношении вероисповедания католического. Свидетель распутств своего отца, Карл не осмеливался выказывать ему своего негодования и смиренно молчал во всех тех случаях, когда даже имел полное право заметить отцу все неприличие его поступков. Король Яков не любил ни правды, ни прямодушия; вследствие этого Карл постепенно приучил себя ко лжи и лукавству, и эти пороки (приличные рабу, но в монархе непростительные) развились в нем с годами, чему немало способствовал и Бекин-гэм, не замедливший подчинить наследника престола своему влиянию, подавлявший в нем добрые чувства и всеми мерами способствовавший нравственной его порче. Этому демону удалось сделать труса – из человека миролюбивого, криводушного – из правдолюбца. Сначала Карл не ладил с временщиком и пытался свергнуть с себя его непрошеную опеку; но однажды после горячего спора, при котором Бекингэм позволил себе поднять на него руку, сын Якова Стюарта смирился и признал над собою власть отцовского любимца. Когда испанский посланник Гондомар предложил королю Якову породниться с Филиппом IV путем бракосочетания Карла с инфантою, доною Мариею, Бекингэм (подкупленный испанским золотом) сумел обольстить неопытного юношу рассказами о прелестях его нареченной невесты и победить в нем невольную к ней антипатию.
Во время пребывания Карла в Мадриде Бекингэм, не гнушаясь ролью сводника, всячески старался содействовать принцу к одержанию преждевременной победы над сердцем инфанты, гордой дикарки, воспитанной в правилах крайнего ханжества и инквизиционной нетерпимости. Когда же дальнейшие действия мадридского кабинета доказали тупоумному Якову, что сватовство было только хитрой мистификацией со стороны короля испанского, Бекингэм с не меньшим усердием начал стараться о женитьбе принца Карла на сестре короля французского Людовика XIII принцессе Генриэтте. Он в качестве свата ездил в Париж и уладил этот несчастный брак, ознаменовав пребывание свое при дворе Людовика XIII скандальной интригой с его супругою. 11 июня 1625 года принцесса Генриэтта прибыла в Дувр; 12-го числа того же месяца совершилось ее бракосочетание с Карлом I в Кантербьюри, а 16-го происходил торжественный въезд новобрачных в Лондон. Радостно приветствовал народ доброго короля и его прелестную супругу; но восторг его был бы еще живее, если бы в толпе царедворцев, на первом месте, не торчала красивая, но всем ненавистная фигура надменного Бекингэма. Некоторые из зрителей, глядя на него, разодетого в парчу, бархат и с головы до ног осыпанного жемчугами и бриллиантами, называли Бекингэма «гробом повапленным». Другие, еще того остроумнее, сравнивали его с «содомским яблоком», одним из растущих, по сказаниям библейским, на берегах Мертвого моря; эти прекрасные, румяные и на вид сочные плоды наполнены гнилью и смрадом… Таков и действительно был герцог Бекингэм – величавый красавец, у которого сердце было точно так же испорчено, как сердцевина в содомском яблоке, да и сам он в начале блестящей своей карьеры был истинным содомитянином.
Брачные пиршества продолжались два дня; на третий (18 июня) королем был созван парламент. На этом шумном собрании высшего дворянства и выборных от народа по предложению Карла I обсуждался вопрос о выдаче субсидий для продолжения войны с Испанией, начатой по желанию народному. Парламент сначала отвечал королю отказом; когда же Карл решился настоятельно требовать субсидий, ему предложили вместо необходимых 700 000 только 120 000 фунтов стерлингов. Впервые, со времени своего существования, парламент обнаружил такое дерзкое своеволие. Он вступил в открытую борьбу с королевской властью не из ненависти к Карлу I, нет! но единственно из нежелания повиноваться Бекингэму, устами короля вздумавшему повелевать парламентом. Временщика ненавидели все столько же, сколько и боялись. Вернейшими его клевретами были в это время архиепископ Лауд и знаменитый чернокнижник и астролог доктор Лэм. С обеими королевами, родительницею и супругою Карла I, Бекингэм обходился с непозволительным высокомерием. Однажды, когда молодая королева напомнила временщику о великом расстоянии между ним и ею, Бекингэм дерзко отвечал:
– У нас, в Англии, иным королевам и головы рубили!
Жалоба, принесенная королевою ее супругу, была оставлена им без внимания. Он сознавал весь стыд быть во власти временщика и не имел духу столкнуть его с той высоты, на которую он забрался еще при покойном Якове I.
Невзирая на отказ парламента королю в выдаче ему субсидий, война с Испанией продолжалась на деньги, занятые у вельмож и косвенными податями выжатые из народа. Экспедиция Бекингэма в Кадикс, безуспешная и позорная, пуще прежнего ожесточила парламент и народ. При заседании обеих палат 9 мая 1626 года пэры и депутаты настоятельно требовали от короля увольнения Бекингэма и предания его суду как государственного изменника. Вместо того чтобы уступить народному требованию, король распустил парламент, сурово объявив ему, что отныне будет управлять государством без сотрудников. «Советовать мне можно, – сказал он при этом, – но водить себя на помочах не позволю никому…» Никто при этом не досказал: «кроме Бекингэма!» Депутаты, особенно настойчиво требовавшие увольнения временщика, сами были отправлены в Тауэр. Для покрытия издержек на неудачный испанский поход король прибегнул к внутреннему займу, к увеличению налогов, к которым присоединился новый – именно: военный постой, насильно навязанный городским и сельским обывателям. Буйная солдатчина, по обыкновению, принимая дома сограждан за завоеванные у неприятелей, бесчинствовала, оскорбляла жен и дочерей, силою отнимала у мужей и отцов последнее имущество. На эти насилия и вообще на последние распоряжения короля депутаты принесли ему формальную жалобу. При этом особенно горячо отстаивал народные права депутат Томас Уэнфсуорт. За эту дерзость он был заключен в Тауэр, впрочем, ненадолго. Сознавая, что депутат был прав, Карл I заменил тюремное заключение высылкою Уэнфсуорта в графство Кент. Таким образом, истинные сыны отечества подвергались опале, а временщик, достойный виселицы, торжествовал и кичился пред многочисленными врагами. Гнусные его поступки, подобно едкой кислоте, пятнали королевскую порфиру, и она тлела на плечах Карла I неприметно для него самого. С этого времени парламент и король составили два враждебных лагеря, готовившихся к борьбе за главенство над народом. Карл ссылался на свои права родовые; парламент на свои права благоприобретенные, дарованные ему законом и древнею хартиею… Стоглавая гидра республики готовилась ринуться на змея деспотизма, пытавшегося опутать Англию своими кольцами. Уступить народу не позволяло Карлу I чувство собственного достоинства; бороться с народом было ему решительно не под силу… Как утопающий за соломинку, он держался за Бекингэма.
Презренный временщик между тем тратил время и деньги на волокитство, продолжая вести свою интригу с Анной Австрийской. Людовик XIII не пожелал его принять в качестве посла, и Бекингэм решился вторгнуться во Францию как полководец. За предлогом к объявлению войны дело не стало: помощь кальвинистам была предлогом самым благовидным, к которому даже и парламент не мог отнестись несочувственно. Французская кампания 1627 года началась экспедицией графа Денби, зятя Бекингэма, на остров Ре. Она окончилась точно так же позорно, как и экспедиция в Кадикс. Потеряв без толку множество людей, Денби со стыдом возвратился на родину. Кальвинисты Ла-Рошели, оставленные без помощи, испытали всю тягость мщения, обрушенного на них кардиналом Ришелье. Все эти неудачи принудили Карла I созвать парламент в третий раз (17 марта 1628 года). Заседание открылось очень мирно и дружелюбно. Члены верхней палаты в льстивых своих речах называли короля святилищем добродетелей; депутаты держали себя скромно и почтительно. Это было затишье перед бурей: она разразилась с обеих сторон, когда король отклонил просьбу парламента о возвращении ему прежних прав, а сам в то же время потребовал субсидий от парламента… И на этот раз заседание окончилось подобно предыдущим, и некоторые из членов нижней палаты со своих скамеек попали в Тауэр. Герцог Бекингэм, вопреки воле народной, был объявлен главнокомандующим армии и флота для новой экспедиции в Ла-Рошель. Флот был собран на Темзе; сухопутные войска были сосредоточены в Гаспорте и Фарнгаме. На этот раз ярость народная уже не знала предела, и жертвою ее, предтечею Бекингэма, пал достойный его клеврет доктор Лэм.
В глазах простого народа – чернокнижник; в глазах людей образованных – торговец ядами, отъявленный мошенник и преступник, неоднократно избавленный от суда благодаря ходатайству своего патрона, доктор Лэм не миновал наконец своей участи. Поздно вечером 18 июля 1628 года он возвращался из театра и проходил через Сити – квартал, населенный чернью и обильный трущобами. Несколько уличных мальчишек, заметив Лэма, стали его преследовать с криками: «колдун! дьявол!!» Доктор, выбежав из Сити в Чипсайд, попросил встретившихся ему матросов защитить его от уличников, и матросы, благодаря щедрой подачке, полезли в драку… За мальчишек вступились взрослые, и произошло побоище нешуточное. Пользуясь суматохой, Лэм бросился в ближайшую таверну; но хозяин, опасаясь, что ее разнесут по камням, выгнал доктора на улицу. Началась травля несчастного, травля, на которую может быть способна только буйная чернь, в остервенении своем всегда превращающаяся в дикого зверя. Лэм, преследуемый сотнями полупьяных мастеровых, рыбаков, лавочников и матросов, бежал по улице, осыпаемый комьями грязи и булыжниками. С размозженной головой, с переломанными ребрами, залитый кровью, полурастерзанный, он был поднят на мостовой и перенесен в Комтерскую тюрьму, где и умер. Всю ночь по всем улицам Лондона раздавались веселые крики: «Дьявол околел! Дьявол издох!!» В это же время, неведомо чьей рукой, портрет Бекингэма, висевший на стене в верховном суде, был сброшен на пол.
Когда Карлу I донесли о беспорядках в Сити, он, в наказание тамошних обывателей, лишил их прежних привилегий и преимуществ. «И герцогу будет то же!» – отвечали граждане. На новые угрозы короля они отвечали, вывесив на воротах Сити надпись, что «герцогу Джорджу не миновать участи доктора Лэма!».
Должно заметить, что чернокнижник всегда уверял герцога, будто между их бытием есть таинственная связь и смерть одного будет предзнаменованием близкой смерти другого. Бекин-гэм, эта красавица в мужском теле, был суеверен, как последняя рыночная торговка. Весть об убиении Лэма поразила его как громовой удар, и он в предчувствии гибели решился отказаться от начальства над войсками… На этот раз, впервые в жизни, Карл I приказал любимцу повиноваться королевской воле. Будто сама судьба устами короля говорила Бекингэму в эту минуту: что посеял, то и жни!
Как в армии, так и во флоте, при совершенной разнузданности, господствовал дух неповиновения и ненависти к герцогу, которого вместо радостных кликов приветствовали ропотом, чуть не бранью. Жители городов, через которые следовали военные отряды, смотрели на них как на шайки разбойников, и солдаты своими бесчинствами вполне оправдывали это нелестное о них мнение. Напутствуемые проклятьями сограждан, они сами проклинали ту власть, которая посылала их на смерть ради прихоти пустоголового баловня счастья. Каждый солдат задавал себе вопрос: да из-за чего мне подставлять лоб под пулю? Что мне французские кальвинисты и что я им? Миновали для короля английского те блаженные времена, когда солдаты по мановению его руки очертя голову шли в огонь и в воду, подуськиваемые криком: «За короля и отечество!», хотя бы война была объявлена из-за какого-нибудь поношенного башмака его величества… Теперь народ рассуждал и мыслил, а здравый смысл в народе – самый мощный реактив деспотизму. Потому-то деспоты всегда так и радели о невежестве народном, употребляя все средства для наложения тормозов на народное образование. Не стадо покорных волов, ведомых на убой, встретил Бекингэм в королевских войсках; это были стада разъяренных зверей, способные растерзать смельчака, воображающего, что он может быть их укротителем. В Гаспорте солдаты взбунтовались, и при усмирении бунта четверо были убиты. В городе Ботлее между ними и горожанами произошло весьма серьезное столкновение. В Спидгете матрос нагрубил Бекингэму и за это был арестован, но товарищи, смеясь над властью, выручили его из-под ареста.
Наконец, герцог прибыл в Портсмут и занял квартиру на главной улице, в доме, принадлежавшем капитану Масону. При главнокомандующем находилась огромная свита адмиралов, военачальников и знатных дам, явившихся провожать в поход свое красное солнышко. В субботу 23 августа 1628 года у него было собрание, на котором лорд Дорчестер объявил, что осада Ла-Рошели снята и едва ли есть надобность отправляться в поход. Эта весть обрадовала полудержавного Адониса, но бывший при нем герцог Фонтенуа требовал настоятельно, чтобы герцог не медлил и не верил ложным слухам. Покуда эти переговоры шли в доме главнокомандующего, на улицах Портсмута происходили сильные волнения; матросы, проклиная временщика, вступили в драку с его солдатами и только благодаря дружному напору кавалерийского отряда были оттеснены к гавани. Главный зачинщик, по повелению Бекингэма, был схвачен и повешен. Несмотря на настояния герцога Фонтенуа, Бекингэм, отложив отплытие в Ла-Рошель, намеревался ехать к королю для личных объяснений. Дорожный экипаж был подан, и Бекингэм по узкому коридору шел на крыльцо. Вдруг лорд Клевеланд, шедший за ним, услыхал глухой удар и кем-то шепотом произнесенные слова: «Господи, помилуй его душу!» В эту же минуту герцог, шатаясь, силился выхватить из груди нож, вонзенный в нее сильною рукою невидимого убийцы.
– Злодей! – пролепетал временщик и, захлебываясь своей кровью, бездыханным трупом рухнул на землю.
Так погиб на тридцать седьмом году от рождения[144] могущественный герцог Бекингэм, в течение тринадцати лет разыгрывавший в Англии первостепенную роль во главе правительства, имевший множество врагов, но не имевший ни одного соперника. Спокойствие короля, народа было для этого человека игрушками, которыми он располагал по своему произволу. Не коронованный, он был настоящим королем при двух королях-автоматах и, не возведенный на престол, сидел на нем, оскверняя его своим прикосновением.
В первую минуту убиения герцога спутники его подумали, что он пал от руки герцога Фонтенуа; но неосновательное это подозрение рассеялось, когда из толпы народа, теснившейся у крыльца, вышел среднего роста человек, смуглый, без шляпы, в запыленной одежде, и громко произнес: «Я убийца!» денный производством в чине и не получивший следующего ему жалованья. Но не эти обиды были причиною убиения герцога. Зная, что Бекингэм объявлен государственным преступником, Фельтон решился покарать его за все злодеяния и в то же время пострадать за правое и святое дело. Это был фанатик, из породы наших раскольников, безропотно слагавших головы за свои убеждения, изменить которые не в состоянии были ни власть, ни сила. Весть об убиении Бекингэма застала Карла I за утренней молитвою. Король залился слезами и объявил, что у Фельтона должны непременно быть соучастники между членами нижней палаты, и как на главнейшего из них он указал на Эллиота, еще недавно обвинявшего временщика в своей сильной, громовой речи. По королевскому повелению Фельтона привезли в Лондон. Путь убийцы от Портсмута до столицы можно было назвать триумфальным шествием победителя. Повсеместно народ восторженно его приветствовал, называя его Давидом, победившим Голиафа, и призывая на него благословение Божие. Не только гуляки в тавернах, даже студенты в Оксфордском университете пили за здоровье героя Фельтона. Все, от мала до велика, молились за него как за освободителя отечества; поэты в его честь сочиняли оды и хвалебные гимны. О Бекингэме, кроме короля, сожалели только его клевреты и любовницы. Для следствия по делу об убиении герцога назначена была особенная комиссия под председательством архиепископа Лауда. Желая выведать от Фельтона имена небывалых сообщников, Лауд пригрозил ему пыткою.
– Под пыткою я и вас могу назвать моим сообщником! – весьма справедливо отвечал Фельтон.
Король приказал пытать упрямца; верховный, уголовный суд не только воспрепятствовал этой варварской мере, но даже приказал истребить все орудия пытки. Если бы Карл I помиловал Фельтона, он, без сомнения, воротил бы утраченную народную любовь, но о ней он всего менее заботился. Убийца Бекин-гэма был приговорен к казни и, покорный своей участи, погиб как герой и был оплакан как мученик.
Вскоре после казни Фельтона был созван парламент для обсуждения вопроса о субсидиях и о налогах. В первых было отказано, а что касается до вторых, то парламент объявил короля лишенным права налагать подати. Сверх того, один из членов нижней палаты обвинил короля в потворстве католикам, а архиепископа Лауда в искажении основных догматов англиканской церкви. Этот молодой смельчак был не кто иной, как Оливер Кромвель, двадцать лет спустя – протектор Английской республики. Король объявил парламенту через посланного, что заседание прекращается; но, не обращая на это приказание ни малейшего внимания, члены продолжали размениваться речами, имевшими главною целью крайнее ограничение прав королевских. Наконец единогласно было утверждено три следующих предложения:
1) Всякий переменивший религию да будет признан врагом общественного спокойствия.
2) Всякий взимающий пошлины с меры и веса (т. е. король), будет считаться врагом отечества и
3) таковым же будет признан каждый торговец, который будет вносить вышеупомянутые подати.
Отменить этих постановлений парламента король не имел права; но никто и не осмелился воспрепятствовать ему арестовать и заключить в Тауэр девятерых членов нижней палаты, особенно горячо отстаивавших права народные. Все они, после более или менее продолжительного заключения, были освобождены, уплатив значительные пени, и только один Эллиот скончался в темнице, не желая смириться перед королем и купить свободу ценою унижения или отступничества от своих убеждений. Прав или неправ был король, поступая таким образом с народными представителями, но как бы то ни было – спокойствие было водворено и власть королевская, которую парламент хотел ограничить, приняла размеры власти самодержавной. Сотрудниками Карла I в эту мрачную эпоху были архиепископ Лауд и Томас Уэнфсуорт, известный более под именем графа Страффорда. С точки зрения народной, и он, подобно Бекингэму, был временщик, но между тем и другим какая же неизмеримая разница! Место Бекингэма, занятое Страффордом, было загрязнено его предшественником, сам он был чист, безукоризнен и настолько же высок и честен, насколько Бекингэм был низок и подл. Новейшие историки (в том числе и Диксон) отзываются о графе Страффорде с пренебрежением и вообще стараются выставить его в невыгодном свете; причина тому весьма понятна. Эти господа судят о последнем любимце Карла I с предубеждением тех пристрастных либералов, для которых каждый приверженец монархии должен быть непременно злым, а республиканец прекраснейшим человеком. Справедливо ли это? Почему же, воздавая должное должному, не чтить в равной степени память каждого человека, пожертвовавшего жизнью за свои убеждения? По крайнему нашему разумению, роялисты первой Французской революции, слагавшие свои головы под топор гильотины с криком: «Да здравствует король!», точно такие же герои, как и жирондисты, умиравшие с возгласом: «Да здравствует свобода!» Память Страффорда тем более достойна уважения, что он, как увидим, был принесен в жертву народной ярости именно тем человеком, права которого он защищал до последней своей минуты… Человек этот был сам король, Карл I.
Прошло пять лет со дня великого переворота, совершившегося в правлении. Карл властвовал как самодержец, парламент замолк и не вступал более в борьбу с единодержавием. Бурные волны революции, еще недавно угрожавшие престолу, вошли в свои берега и угомонились… до новой бури. Если бы король сам умел держаться в пределах благоразумия, не преступая в своем правительстве той демаркационной линии, которая отделяет монархию от деспотизма и тирании, прочный мир мог бы водвориться в Англии. К несчастию, Карл I, подобно всем слабым характерам, впал из одной крайности в другую. Было время, он миловал людей, достойных казни, теперь начал преследовать и карать невинных или, по крайней мере, заслуживавших снисхождения. Телесные наказания, каторжные работы, ссылки, тюремные заключения были неизбежными результатами судебных приговоров; подати взимались вооруженною рукою. К довершению зла во все церкви Англии было введено богослужение с изменениями, введенными в него архиепископом Лаудом. Эти изменения во многом отличались от обрядов первобытной англиканской церкви и были схожи с обрядами католическими. Это посягательство на предмет неприкосновенный возбудило ропот в многочисленных старообрядцах, блюстителях древнего благочестия, именовавшихся пуританами. От столкновения короля с этими фанатиками вспыхнули первые искры мятежа, превратившегося вскоре в страшное пожарище революции.
Покойный король Яков неоднократно и безуспешно пытался соединить Шотландию с Англиею посредством введения в обоих королевствах одних и тех же законов, судебных учреждений и богослужебных обрядов (так как литургия англиканской церкви несколько разнилась от литургии шотландской). Задавшись этой же самой несчастной мыслью, Карл I решился начать объединение королевств именно введением единообразной литургии. Лауд, по желанию короля, взял на себя труд приступить к этому важному преобразованию и именно в это время встретил сильного противника в лице адвоката Вильяма Прайна, даровитого писателя и вместе с тем закоснелого пуританина. В небольшой книге «Бич скоморохов» (Scourge for stage players) Прайн, называя театр бесовскою потехою, затронул и Лауда, говоря, что по его милости ныне и церковь Божия превращена в театр и богослужение смахивает на комедию. Книга Прайна была напечатана с разрешения цензуры, но Лауду ничего не значило обвинить Прайна в самовольном ее издании, причем он показал королю и королеве некоторые страницы, содержавшие будто бы дерзкие намеки на поведение их величеств. По королевскому повелению книга была конфискована, а Прайн, вместе с издателем и типографщиком, были отданы под суд Звездной палаты. Она приговорила книгу к сожжению рукою палача, а Прайна к лишению прав и званий, к выставке у позорного столба, к от-рублению ушей и к четырехлетнему тюремному заключению… Далее увидим, что гонения Прайна этим не кончились.
Бедственное положение Ирландии настоятельно требовало самых энергичных мероприятий. Между тамошними католиками и протестантами происходили частые и довольно серьезные столкновения; земледелие, при скудости почвы, было в упадке; народ, страдая от голода и от эпидемий, коснел в невежестве, так как в Ирландии не было ни порядочно организованного сельского хозяйства, ни народных школ. Наместником в этот несчастный край Карл I назначил Уэнфсуорта, и королевский любимец явился ангелом-спасителем Ирландии. Он сумел, не притесняя протестантов, оградить от их произвола угнетенных католиков; оживив земледелие и промышленность, повсеместно учреждал школы, приюты, больницы и в короткое время снискал благословения народа как гениальный администратор. Покуда Уэнфсуорт призывал к жизни бедную Ирландию, Карл I и архиепископ Лауд бросили в Шотландию первые искры религиозных мятежей. Желая лично ознакомиться с духом и настроением умов в Шотландии, король в 1633 году посетил это королевство и был принят тамошними своими подданными восторженно. Преобразования в литургии пресвитериан, сделанные Лаудом, отвергнуты не были, так как покуда были еще незначительны. Пользуясь этой уступкою со стороны народа, Карл I поспешил приступить к изменениям обрядов более существенным. Это посягательство на уставы церкви пресвитерианской возбудило ропот, перешедший в открытый бунт, когда (в 1637 году) Лауд вздумал служить новую обедню в Эдинбургском соборе. Толпы (пресвитериан) бегали по улицам с отчаянными криками: «Пре-свитерианизм или смерть!» К ним присоединились и пуритане (старообрядцы), и волнения народные приняли угрожающий характер. Образовалась религиозная уния, известная под именем Ковенанта. Предводители мятежников обвинили епископов в приверженности к католицизму и поэтому объявили их отрешенными от их должностей. Бродяги обоего пола, выдавая себя за вдохновенных свыше, призывали простой народ к защите церковных прав от покушений папистов, как называли Лауда и Карла I. Последний вызвал из Ирландии Уэнфсуорта, умоляя его содействовать усмирению мятежной страны. Прайн, несмотря на свое заточение в Тауэре, писал и выпускал в свет памфлеты возмутительного содержания против религиозных реформ. За это по приговору Звездной палаты он, Бастуик и Бертон – его единомышленники – были приговорены к пожизненному тюремному заключению, а Прайн, кроме того, и к заклеймению железом обеих щек. Пуритане признали его мучеником. На соборе народном, созванном в Глазго (21 ноября 1638 года), Ковенант был единогласно принят, а власть Карла I над королевством шотландским была объявлена отринутою. Шайки шотландских инсургентов соединялись в целые полки и под предводительством Лесли двинулись к границам Англии.
– Дайте парламент Ирландии и объявляйте войну шотландцам! – так говорил Уэнфсуорт растерявшемуся королю.
Но чтобы воевать, нужно было иметь войска и деньги, а у Карла I не было ни тех ни других. Тогда Уэнфсуорт, ссудив короля 30 000 фунтов стерлингов, на собственное иждивение снарядил три полка, обнародовал воззвание к ирландцам о пожертвованиях в пользу Карла I и об ополчении на его защиту. Клич Уэнфсуорта не остался без ответа: в короткое время было собрано до 28 000 правильно организованного войска, котороес 5000 человек матросов могло смело вступить в бой с мятежниками. Именно в эти решительные минуты король медлил и, уклоняясь от междоусобия, вопреки советам Уэнфсуорта, вступил в переговоры с предводителями инсургентов. Переговоры эти происходили в Беруике и 17 июня 1639 года окончились перемирием, основным условием которому положено было обоюдное разоружение враждовавших сторон. Верный договору, Карл I распустил свои войска, но инсургенты оружия не сложили, продолжая угрожать королю вторжением в английские пределы. Это вероломство шотландцев требовало примерного наказания, и опять верный Уэнфсуорт, не щадя на военные издержки собственных денег, деятельно занялся новым набором войск и благодаря поддержке ирландского духовенства (пожертвовавшего шестую долю с церковных доходов) с 11 000 солдат прибыл в Честер, но здесь, к несчастью для Карла I, опасно заболел. Парламент совершенно безучастно относился к бедственному положению короля, а в нижней палате главными коноводами были пуритане, искренние доброжелатели мятежников и заклятые враги Карла I и Уэнфсуорта. Так как в пожертвованиях на войну участвовали безразлично протестанты и католики, этим обстоятельством не могли не воспользоваться пуритане, чтобы обвинить Карла I в небывалых умыслах водворить католицизм во всех трех королевствах как владычествующее вероисповедание. Таким образом, политический вопрос сливался с вопросом религиозным, и это слияние особенно содействовало брожению умов и волнению страстей, будто соединению двух газов, угрожавших монархии в недальнем будущем гибельным взрывом. В благодарность Уэнфсуорту за все его старания к усмирению мятежа король пожаловал его в графы Страффорд. Положение дел с каждым днем ухудшалось, и необходимость заставила Карла I прибегнуть к содействию парламента и просить о выдаче субсидий. Сторону его приняли Гайд и Гленуилл; парламент изъявил согласие помочь королю, но министр его, Генрих Вэн, умышленно увеличил сумму требуемых субсидий, и члены парламента, пуритане, настояли на отказе королю (5 мая 1640 года). Пламя революции, разгораясь с каждым днем, приняло ужасающие размеры. Толпы черни и рабочих устремились на дом архиепископа Лауда; перебили стекла, посуду, переломали мебель… Городские власти безмолвствовали не столько от сознания своего бессилия, сколько от ненависти к королю. Последний вместе с графом Страффордом и Лаудом удалился в Йорк, а пуритане, пользуясь этим, беспрепятственно вступили в Англию. Страффорд опять настоятельно требовал от Карла I полномочия – вытеснить мятежников, обещая в несколько дней опрокинуть их в пределы Шотландии… Король медлил, оправдываясь жалостью к заблудшим подданным, с тщетной надеждой, что они образумятся. Желая доказать Карлу I, как легко сладить с круглоголовыми,[145] Страффорд сразился с ними близ Дургама и обратил в бегство; но испуганный король приказал ему немедленно отступить, а сам вошел в переговоры с вождями мятежников (16 октября 1640 года). Условия предписывали они ему, не он им. Они требовали, чтобы он немедленно распустил свои войска, а им, мятежникам, уплатил причитающееся им жалованье, и Карл согласился! Чем бы историки ни оправдывали этого малодушия, оно ни в каком случае не простительно. Это была вопиющая несправедливость в отношении к Страффорду и предводительствуемым им войскам. Одной ошибкой поправляя другую, Карл I созвал парламент, известный в истории под именем долгого (long parlament), в течение десяти лет управлявший королевством. На первом же заседании пуритане и главные двигатели народного восстания выразили королю общее желание, чтобы он был отстранен от правительства. Пим, обвиняя графа Страффорда в государственной измене и в подстрекательстве короля к междоусобию, потребовал, чтобы этот единственный защитник Карла I был отдан под суд. Невзирая на протест короля, Страффорд и архиепископ Лауд были заключены в Тауэр. Началось судбище. Народ судил человека, дерзнувшего отстаивать права монархии против посягательств республики; решение суда не могло быть сомнительно, и Страффорду был произнесен смертный приговор. Играя законом, республиканцы не взяли на себя утверждения приговора, но представили его для подписи королю. В эти ужасные минуты сама судьба представляла Карлу на выбор одно из двух: или самому пасть жертвою народной ярости, или выдать ей на жертву своего недавнего ангела-хранителя. Карл избрал второе и, заливаясь слезами, утвердил смертный приговор над Страффордом! Далее этого, в унижении своем, король идти не мог, и, кроме эшафота, на котором он искупил свои ошибки, идти ему более было некуда!
Невозмутимо, с гордой улыбкой Страффорд выслушал свой смертный приговор и просил только три дня сроку на приведение в порядок своих домашних дел, в чем ему было отказано. В день казни, 15 мая 1641 года, Бальфур, наместник Тауэра, явился к Страффорду и объявил ему, что карета готова.
– Зачем карета? – спросил Страффорд.
– Для вашей безопасности, – отвечал Бальфур, – так как я не ручаюсь за народ, который способен растерзать вас…
Страффорд побледнел, однако же с улыбкою презрения спокойным голосом произнес:
– Нет, милорд, ваши опасения совершенно напрасны. Я не намерен прятаться от смерти и готов смело смотреть ей в глаза. Мне все равно: умирать ли от руки палача или быть истерзанным безумной чернью.
Сопровождаемый графом Ньюпорт, примасом Армагом, графом Клевеландом и многими вельможами, Страффорд остановился под окном каземата Тауэра, в котором содержался Лауд, и, преклонив колено, громким голосом попросил узника дать ему благословение на жизнь вечную. Лауд протянул руки сквозь решетки, но, не имея сил ни слова выговорить в ответ, отшатнулся от окна и без чувств упал на пол темницы.
– Да защитит Господь Бог вашу правоту! – громко воскликнул Страффорд и отправился на место казни, не обращая внимания на проклятия толпы и на возгласы пьяных баб из простонародья, возгласы, напоминавшие визг голодных гиен, алчущих мертвечины. Безжалостен был народ, права которого Страффорд в былые времена так же усердно ограждал от насилия королевского, как теперь готовился сложить голову на плаху, отстаивая законные королевские права от посягательства на них народа… Этот народ, говорим мы, был безжалостен; но не таков был палач, которому суждено было обезглавить Страффорда.
– Милорд, – произнес он, заплакав и опускаясь перед ним на колени, – прощаете ли вы мне?
– И тебе, и всем! – отвечал Страффорд, ласково положив ему руку на плечо.
С молитвою на устах, с лицом белым, как мрамор, и, как мрамор, бесстрастным, последний защитник короля Карла I положил голову на плаху, и через минуту эта голова рухнула на окровавленный пол эшафота.
Временщик! тиран! притеснитель народа! Так и доныне некоторые историки относятся к памяти этого мученика. Пусть будет так, но сложить голову за свои убеждения, во всяком случае, честнее и похвальнее, нежели, подобно многим господам из разряда пишущей братии, торговать своими убеждениями и в угоду либералам позорить память честного человека, героя.
Томас Уэнфсуорт, граф Страффорд погиб сорока девяти лет; он родился в Лондоне 13 апреля 1593 года. Оплакивая его, Карл I сказал, что Страффорд его счастливее – и не ошибся: в последнюю минуту казненного совесть не укоряла его ни в измене, ни в предательстве.
После казни Страффорда парламент окончательно прибрал к рукам верховную власть, располагая участью короля и всего королевства со всем деспотизмом, свойственным черни, мстящей свергнутому властителю. Из министров Карла I канцлер Финч и государственный секретарь Уиндебанк бежали из Англии на континент. Шотландские пуритане и индепенденты (независимые) побратались с английскими подданными короля; город Лондон вручил предводителям мятежа свыше 300 000 фунтов стерлингов, собранных из добровольных пожертвований. В Ирландии свирепствовали усобицы между католиками и протестантами… Повсеместно царил дух хаотического безначалия, и несчастный Карл I, король по имени, но лишенный власти, был как овца, окруженная стаей бешеных волков. Отняв у него власть, парламент отнял и право располагать войсками. Лорд Фалькланд с горстью немногих приверженцев и часть войск, еще не изменивших королю, защищали его до последней крайности. Междоусобная война королевских войск с парламентскими началась в апреле 1642 года. Победы Оливера Кромвеля при Мерстн-Муре (1644) и Нэзби (в июне 1645 года) доказали Карлу I, что дело его проиграно окончательно.
Оставим на время несчастного короля и займемся характеристикой его могучего противника.
Приверженцы Стюартов, враги и ненавистники Кромвеля, еще при его жизни распустили молву, будто он был сыном простого пивовара. Эта выдумка, подхваченная многими историками, перешла и к позднейшему потомству, но в недавнее время вопрос о происхождении Кромвеля решен в его пользу. Сказать по правде, если бы даже он действительно был сыном пивовара – тем более ему чести и славы, что из ничтожества он, благодаря своим дарованиям, достиг престола, хотя и под именем протектора; но отец его пивоваром никогда не бывал, и фамилия Уильямс, которую отец Оливера переменил на фамилию Кромвель, была дворянская, хотя и не из особенно важных. Оливер родился 25 апреля 1599 года и с самых младенческих лет обнаружил богатые задатки характера мощного и силы воли непреклонной. Какая-то особенная инстинктивная ненависть к дому Стюартов проявлялась в нем с семилетнего возраста. Однажды кто-то из знакомых подарил маленькому Оливеру несколько гравированных картинок, и в числе их портрет короля Якова I. Хотя в этом лице не было ничего безобразного, Оливер разорвал портрет в мелкие куски и запальчиво топтал их ногами. Не любил он резвиться со сверстниками, хотя при случае не прочь был пошалить, но шалости его всегда носили на себе отпечаток злости и страсти досаждать другим. Не по летам задумчивый, Кромвель-мальчик по целым дням бродил по пустынным окрестностям отцовского дома либо безмолвно просиживал в углу и терпеть не мог, чтобы его тревожили расспросами или докучали ему нравоучениями. На пятнадцатом году возраста он, по собственному признанию, тогда же сделанному своей матери, имел чудесное видение – физически возможное мальчику с пылкой фантазией и живым воображением. В сумерки Оливер лежал на постели в своей комнате и не дремал, а находился в расположении духа, свойственном лентяю, наслаждающемуся праздностью. Внезапно полутемная комната озарилась странным светом; призрак молодой, величавой женщины в длинном белом одеянии подошел к мальчику и сказал ему звучным голосом:
– Тебя ожидает великая и славная будущность… Ты достигнешь высоты, многим тысячам людей недостижимой, и будешь первым лицом в королевстве!
Мать Оливера, выслушав его рассказ, побранила мальчика за глупые выдумки: он клятвенно ручался ей за истину своих слов, и впоследствии времени, когда пророчество призрака сбылось, Кромвель неоднократно вспоминал о нем в кругу своих приближенных.
Отданный матерью в Кембриджский университет, он особенным прилежанием не отличался. В надежде обеспечить его в будущем верным куском хлеба мать Кромвеля предложила ему посвятить себя адвокатуре и заняться правоведением. С этой целью молодой человек отправился в Лондон, но здесь вместо изучения законов он стал, напротив того, беззаконничать, безобразничать, ведя себя как отъявленный мот и гуляка. Новая забота бедной матери: какие средства употребить, чтобы повеса образумился и остепенился? Бедная женщина не могла придумать лучшего средства, кроме женитьбы, и женила Оливера на доброй и скромной девице Елизавете Берчир (Bourchier). Действительно, брак имел самое благотворное влияние на недавнего шалуна; он ударился из одной крайности в другую и из недавнего гуляки сделался смиренником, из пьяницы и мота – постником и скопидомом; сверх того, сблизился с пресвитерианами, вел с ними диспуты, говорил проповеди, посещал их сходки, на которых эти сектаторы, подобно нашим духоборцам, юродствовали и прорицали в каком-то экстазе, будто под влиянием святого духа. Эти сходки ознакомили Кромвеля с характером пуритан и вместе с тем развили в нем ораторский дар, впоследствии принесший ему немалую пользу. Он умел говорить увлекательно, прикрашивая свою речь меткими сравнениями, заимствованными из Библии, или нравоучениями из Нового Завета. Получив небольшое имение в 600 фунтов стерлингов годового дохода на острове Эли, он переселился туда с семейством и прилежно занялся хозяйством, покуда не был избран в члены нижнего парламента (в 1628 году). Здесь он обратил на себя всеобщее внимание громовыми речами против папства и чуть не явными обвинениями высшей власти в искажении литургии первобытного пресвитерианизма. После того, вследствие расстройства домашних дел, Кромвель вознамерился переселиться в Новую Англию, но недавний королевский указ против эмиграции принудил его отказаться от переселения, и он остался на родине. При новых выборах в члены парламента Кромвель, благодаря своим проискам, был избран в депутаты от Кембриджского университета. Он явился в парламент в старом кафтане, стоптанных сапогах, вообще в одежде неряшливой до цинизма, возбудившей невольный смех в присутствовавших. Однако же Гэмпден, взглянув на Кромвеля, верно угадал, какая мощная душа таится в этом невзрачном теле, прикрытом дрянною одежишкой.
– В настоящее время, – сказал он прочим членам парламента, – этот человек едва ли не самая гениальная личность всех трех королевств!
Начались мятежи, и в них Кромвель принял самое деятельное участие. Несомненно, что он имел тайные сношения с кардиналом Ришелье, который под рукою помогал инсургентам. Когда же английский парламент присвоил власть над войсками, Кромвель поступил в военную службу и обнаружил дарования если не гениального стратега, то именно такого полководца, который был нужен индепендентам, яростным фанатикам, именовавшимся Божиимиратниками. Кромвель читал своим солдатам проповеди, заставлял их петь духовные гимны, прикидываясь вдохновенным свыше, пророчил одоление на врагов и торжество, как он называл, святого народного дела. Зять Кромвеля, Ир-тон, весьма успешно разыгрывал роль Сеида при этом английском Магомете… В 1644 году, незадолго до роковой битвы при Мерстн-Муре, Оливер Кромвель был генерал-лейтенантом всех кавалерийских войск парламентской армии, а после сражения при Нэзби (1645), хотя и не номинально, главнокомандующим.
Итак, Англия превращена была из монархии в республику. Король Карл I в надежде, что Шотландия, его родовое наследие, не откажет ему в пристанище, не отвергнет его власти над собою, бежал в это гнездо мятежа и попал из огня да в полымя. Его встретили радушно; народ и вельможи выразили ему свои верноподданнические чувства, но духовенство – бывшее душою Ковенанта, шотландские пресвитеры, именовавшиеся святыми, – продали Карла I парламенту за 800 000 фунтов стерлингов, и король возвратился в Лондон – в виде пойманного беглеца, пленника. Любопытно знать (а между тем история об этом умалчивает), какое употребление сделали шотландцы из полученной ими цены крови? Шотландские ковенантисты хвалились постоянно, что они строгие последователи учения Христова и ревностные блюстители закона евангелического… Что же? Продавая Карла I, они доказали на деле, что имели полное право называться даже учениками Иисуса Христа, так как в числе Его учеников был Иуда-предатель.
Итак, парламент мог теперь, по собственному усмотрению, располагать участью короля-пленника, и республика, по-видимому, основалась незыблемо. Этого не хотели допустить индепенденты, образовавшие, помимо парламента, другой, на свой лад, имевший целью, подобно первому, верховную власть. Войска под начальством Фэрфакса объявили, что не намерены более повиноваться старому парламенту и признают главенство нового, в котором Кромвель был президентом, Иртон и офицеры составляли верхнюю палату, а простые солдаты – нижнюю. Полковник Джойс (бывший портной) с 500 кавалеристов освободил Карла I из его заключения, по приказанию Кромвеля. Эта перемена одной тюрьмы на другую произошла, разумеется, не вследствие любви индепендентов к королю (они его ненавидели), а единственно для того, чтобы дать ему возможность бежать, и бежать на континент, чего душевно желал Кромвель. В чужих краях Карл Стюарт не мог быть опасен республике, тем более что из европейских государей, конечно, ни один не стал бы содействовать возведению его на королевский престол. Но несчастный развенчанный король имел неблагоразумие бежать на остров Уайт, занятый индепендентами, и, взятый в третий раз в плен, остался во власти Кромвеля. В этот промежуток времени приверженцы диктатора разогнали старый парламент, причем особенно отличился тележник Прайд. Сопровождаемый Гаррисо-ном, Карл Стюарт был привезен в Лондон и отдан под суд, состоявший из 60 членов. Короля обвиняли в государственной измене, в тирании, в подстрекательстве подданных к междоусобию. Против этого суда апеллировали 16 пэров, но на их апелляцию не было обращено никакого внимания. По распоряжению Кромвеля была наряжена следственная комиссия из 143 членов, из которых только 73 явились на первое заседание – 20 января 1649 года.
В траурном одеянии, в орденах, с покрытой головою, бледный, но спокойный, Карл Стюарт предстал пред судилищем, гордо обвел глазами всех присутствующих и сел на кресла с тем же величием, с которым он в былые времена садился на трон. Председатель комиссии Брэндшо начал по списку вызывать членов.
– Фэрфакс! – воскликнул он.
– Слишком умен, чтобы здесь присутствовать! – отвечалему звонкий голос с трибуны, на которой помещалась публика.
Окончив перекличку, Брэндшо объявил заседание открытым, присовокупив при этом, что суд над Карлом Стюартом есть отголосок желания всего народа.
– И не десятой его доли! – опять крикнул голос с трибуны. Председатель объявил невидимому нарушителю порядка, что он для его усмирения велит стрелять по всем зрителям. Тишина водворилась. Голос, вступивший в спор с председателем, принадлежал прямодушной и смелой жене Фэрфакса. Честь и слава памяти этой благороднейшей женщины! Карлу Стюарту было предложено несколько вопросов как подсудимому. Внятно, медленным и ровным голосом, не вставая с места, он произнес:
– Прежде нежели я отвечу на предложенные мне вопросы, я сам считаю долгом спросить: чьей волей я сюда призван? Волей моего народа? Но имеет ли право народ судить своего законного короля? По древнейшим государственным узаконениям Англии и Шотландии дворян судит палата пэров; равного судят равные, и я, первый дворянин моего королевства, требую над собою суда правильного, законного, а не комиссии, созванной неведомо кем и неведомо откуда!
Выходя из залы заседания, Карл увидел стоявший в углу топор. Прикоснувшись к нему тростью, он гордо произнес: «Я его не боюсь!»
Карла в портшезе отнесли в назначенный для его помещения дом сэра Роберта Коттона. Конвой из тридцати офицеров сопровождал узника; верный его слуга Томас Герберт[146] был с ним неразлучен. Утро следующего дня (воскресенье 21 января) Карл провел в чтении духовных книг и был в продолжение всего дня невозмутимо спокоен, хотя из соседней комнаты, в которой помещались стражи, его слуха достигали насмешки и ругательства. В понедельник 22 января было второе заседание суда, на котором Карл, как и на первом, не отвечая на обвинения, требовал над собою другого, законного суда. Когда его выводили из палаты мимо живой изгороди солдат, один из них закричал: «Да благословит вас Бог, государь!»
За это офицер, сопровождавший Карла, ударил солдата тростью по голове.
– Строго же вы наказываете за такую маловажную вину, – сказал король с грустной улыбкой.
Во вторник (23 января) приведенный в суд Карл Стюарт, отрицая все взводимые на него обвинения, по-прежнему требовал от своих врагов разбирательства правильного, законного. Как бы в подтверждение справедливых требований подсудимого палата заседания в этот день походила на разбойничий притон. Солдаты, дерзко издеваясь над королем, пускали ему в лицо клубы табачного дыма, прерывали его речи, грозили ему кулаками. Один из судей, Гарлэнд, при выходе Карла из судилища плюнул ему в лицо. Король, не взглянув даже на этого подлеца, вынул платок из кармана и утерся. Он именно настолько становился велик, насколько его враги старались его унизить, и, вообще говоря, Карл I в нравственном отношении являл в себе редкий образец человека – высокого в своем унижении и низкого в те времена, когда находился на высоте величия. Он был жалок в короне, но достоин удивления в терновом венце несчастного мученика.
В субботу 27 января председатель суда, облаченный в красную мантию, прочел королю нижеследующий приговор:
«Общины Англии на собрании своем в парламенте созвали уголовный суд над Карлом Стюартом, королем английским, который в оный суд трижды был призываем. В первый раз ему был читан обвинительный акт от имени английского народа, объявлявший Карла виновным в государственной измене и прочих преступлениях и злодеяниях. По прочтении акта Карлу Стюарту было дано право говорить в свою защиту, от чего он отказался. За таковые измену и преступления суд постановил, чтобы означенный Карл Стюарт как тиран, изменник и враг общественного спокойствия был предан смерти чрез обезглавление».
Король хотел говорить, но судьи встали со своих мест, а короля из суда препроводили сперва в Уайт-Голл, а потом в сент-джэмский дворец – предсмертное его жилище. Весть о смертном его приговоре произвела на весь народ ужасающее впечатление; представители Франции и других иностранных держав, находившиеся в Лондоне, предъявили формальные протесты. Четыре бывших члена парламента, лорды Ричмонд, Герфорт, Линдсэ и Саутхгемптон требовали от правительства отмены казни, ссылаясь на древний закон, в силу которого всякая ответственность за погрешности в делах государственных падала на министров, но отнюдь не на короля… Все усилия благородных защитников Карла I остались тщетны, и приговор именем народным был утвержден и подписан тринадцатью судьями. В последние три дня, предшествовавшие казни, при короле находились безотлучно, кроме Герберта, епископ Джэксон и капитан Томлинсон, начальник стражи, но, несмотря на то, человек добрый и жалостливый, исполнивший по мере возможности все предсмертные желания несчастного узника.
Супруга и два старших сына Карла I находились за границей; с ними проститься он не мог; в Англии оставались только дочь его, принцесса Елизавета, и младший, десятилетний сын, герцог Глочестер. Прощаясь с дочерью и благословляя ее, король поручил ей сказать своей супруге, что он всегда искренно любил и уважал ее, по долгу христианскому свято сохраняя супружескую верность. «Перед матерью твоею, – сказал Карл в заключение, – я безукоризненно чист, так как во всю жизнь мою не изменил ей даже помышлением!» Затем он взял на руки маленького герцога и, нежно его обнимая, сказал:
– Мне отрубят голову, дитя мое… (тут мальчик затрясся всем телом). Да, – продолжал король, – злые люди убьют меня, и, может быть, тебя, помимо старших братьев, изберут в короли. Прошу тебя и приказываю, как отец, не принимать короны, на которую ты не имеешь права, до тех пор, покуда живы старшие твои братья… Обещаешь ли ты мне исполнить эту мою последнюю волю?
– Исполню! – твердо отвечал мальчик. – Хотя бы меня за это изрезали на куски…
Отдав детям некоторые из бывших при нем драгоценностей, король навеки распростился с ними. Принцессу Елизавету замертво вынесли из комнаты. Тяжело прощаться с близким сердцу человеком, когда он лежит в гробу, холодный, недвижимый, когда гробовая крышка навсегда отделяет его от живых, когда гроб его опускают в могилу и глухо стучат глыбы земли об эту гробовую крышку, которая, подобно самому усопшему, навсегда скрывается под землею. Не менее мучительно прощаться с человеком, лежащим на смертном одре, человеком еще живым, но минуты жизни, самые удары сердца которого – уже сосчитаны… При всем том, что значат эти страдания в сравнении с испытываемыми родными в минуты их прощания с человеком, полным сил, здоровым, во цвете лет – которого ожидает плаха или петля?
С уходом детей Карл снова овладел собою, и мужественная твердость не покидала его уже до последней минуты. Томлинсо-ну Карл поручил переслать после казни гербовый перстень, который постоянно носил, старшему своему сыну, Карлу, принцу Уэльскому. Епископа Джэксона он просил отдать ему же орден св. Георгия, в котором король имел намерение взойти на эшафот. Из сент-джэмского дворца, накануне казни, короля перевезли во дворец Уайт-Холл, под самыми окнами которого строили эшафот, и таким образом, что он был плотно прислонен к наружным стенам дворца. Несмотря на стук топоров работников, Карл спокойно спал ночь накануне рокового дня, подкрепляя свои силы сном временным, предшествовавшим сну вечному.
Ночь с 29 на 30 января была морозная, и в комнате короля, несмотря на затопленный камин, было довольно свежо. Карл пробудился рано, при свечах, и тотчас же приказал Герберту приготовить ему одеться и подать две сорочки.
– Чтобы я не дрожал от холоду, идучи на эшафот, – сказал при этом король, – а то подумают, что я дрожу от страха!
Долго он беседовал с Джэксоном, который сопровождал его до самой плахи. Светало; восток алел; взошло, наконец, и солнце – без лучей, кровавым пятном зардевшееся сквозь морозную мглу… Королю оставалось жить не более двух часов. Сохранилось предание, будто приверженцы Карла I похитили палача, в той надежде, что казнь, за его отсутствием, будет отсрочена, а во время отсрочки они найдут возможность спасти короля. Несмотря на это (повествует то же предание), к Кромвелю явился племянник леди Стэр, когда-то обесчещенной Карлом, вызвался заменить палача и действительно заменил его, скрыв лицо под маскою… Это – фантазия романистов. Голову Карлу I рубил настоящий палач, правда, замаскированный, но это было сделано из предосторожности, чтобы лицо его осталось неузнанным; может быть, также и для того, чтобы народ не видал смущения несчастного исполнителя его воли.
Короля привели в парадный зал второго этажа, с балкона которого был выход на эшафот, обтянутый черным сукном и окаймленный с трех сторон двойным рядом солдат. Площадь до такой степени была загромождена народом, что казалась вымощенною человеческими головами. По знаку, поданному распорядителями казни, двери на балкон распахнулись настежь, и клубы морозного воздуха, будто рой призраков, хлынули в зал, навстречу королю, твердо ступавшему на роковой помост; Джэксон шел с ним рядом; за ними следовал плачущий Герберт, судьи, стража и два замаскированных палача, один из них с топором на плече. Так как на эшафоте не могли уместиться все, сопровождавшие короля, часть их осталась в зале дворца и на пороге балкона. Палач спустил топор с плеча и положил его на плаху. Кто-то из присутствовавших, желая удостовериться, остро ли отточено страшное орудие казни, стал потрагивать его лезвие…
– Не прикасайтесь к топору! – сказал король с каким-то особенным выражением.
Этим словам, в последующем времени в память страдальца, был придан смысл пословицы, равносильной нашей: «не шути с огнем – обожжешься!» Однако же Карлу I в эти роковые минуты было не до шуток, и он просил любопытного спутника, трогавшего топор, не прикасаться к нему, чтобы как-нибудь не притупить лезвия. После того он обратился к палачу с вопросом: хорошо ли тот сумеет сделать свое дело?
– Надеюсь, милорд, исполнить все как следует! – глухо отвечал замаскированный палач.
Король говорил какую-то речь народу, но ее никто не расслышал, так как она была заглушена ропотом нетерпеливой и в эту минуту кровожадной толпы. Большинство жалели Карла, многие (даже и не женщины) плакали, а между тем, если бы казнь была отменена, те же самые плачущие первые возроптали бы на то, что их лишили зрелища, сопровождаемого сильными ощущениями, до которых народная толпа всегда и повсеместно такая великая охотница.
– Я сам подам вам знак, вытянув руки, когда можно будет нанести мне удар! – сказал король палачу, развязывая ленты у ордена св. Георгия и снимая его с шеи.
– Еще один только шаг, – сказал королю епископ Джэксон, – шаг ужасный, но краткий, и вы перейдете от жизни временной в жизнь вечную, в которой вас ожидает утешение и блаженство.
– Да, – отвечал король, – от венца тленного я перейду к нетленному…
– От земного – к небесному, – досказал епископ. – Обмен хороший!
Карл передал ему свой орден и что-то еще довольно долго шептал ему… Потом он преклонил колена, читая молитву; положил голову на плаху, громко воскликнул: «Помните (Remember)!»
И вытянул руки… Раздался глухой удар, и вся площадь ахнула от ужаса: голова Карла Стюарта пала на эшафот. Палач не хвастал, говоря покойному, что исполнит все как следует: он был мастер своего дела.
Так окончил земное поприще сын короля Якова, искупив своею жизнию преступления отца и собственные погрешности. Хотя он и принадлежал к разряду людей, в которых недостатки перевешивают добрые качества, но в последние два года жизни он заслужил полное право на имя героя и мученика. Труп его был положен в свинцовый гроб, обитый черным бархатом, с надписью на крышке: «Карл, король». Гроб снесли в склеп Виндзорского аббатства и поставили рядом с гробницами короля Генриха VIII и Жанны Сеймур. Перед отправкою в Виндзор бренных останков казненного короля Кромвель приказал открыть гроб и долго, пристально всматривался в лицо обезглавленного.
– Да, – сказал он окружающим после продолжительного раздумья, – это был человек здоровой комплекции… мог бы еще пожить.
В заключение приводим читателю отзывы о Карле Стюарте двух историков: Джона Лингарда и Дэвида Юма. Как одно, так и другое достойны внимания.
«Конец Карла Стюарта, – говорит первый, – страшный урок людям, облеченным верховною властью, поучающий их следить неусыпно за успехами общественного мнения, умерять свои притязания и соображаться с разумными желаниями своих подданных. Если бы Карл жил в эпоху более отдаленную, когда чувство обиды заглушало в людях привычку покорствовать, – его царствование было бы менее обесславлено нарушением прав народных. Ему противились, он сделался тираном. Народный характер не хотел уступить злоупотреблениям власти, а король, совершив одну несправедливость, был принужден совершать целый ряд других и наконец прибегнул к насильственным мерам, которые даже его предшественниками употреблялись с крайнею осмотрительностью. В течение нескольких лет усилия его, по-видимому, увенчивались успехом, но восстание Шотландии обнаружило все самообольщения короля, который сам лишил себя власти, решась утратить доверие и любовь своих подданных».
Слова Дэвида Юма запечатлены дешевенькой моралью, которую обыкновенно пропускают мимо ушей те, кому ведать надлежит:
«Из всех государственных переворотов, совершившихся в XVII веке, англичане могут извлечь то же нравоучение, которое извлек сам король в последние годы своего царствования, а именно: как опасно государям присваивать себе власти больше, чем определено законом. Те же события приводят к размышлению о волнениях народных, ужасах фанатизма и об опасности, которой подвергаются государи, прибегая к содействию наемных войск».
Как бы то ни было, но история кровавой тяжбы между народом и королем, окончившейся роковой катастрофой, приводит каждого беспристрастного человека к тому заключению, что в этой тяжбе обе стороны были в равной степени не правы. Виноват народ, и во многом сам виноват Карл I, и за это было достаточно лишить его власти – что и было сделано: народ лишил его короны, но вместе с нею не должен был лишать его жизни и, снимая корону с головы Стюарта, обязан был щадить самую его голову. Предавая своего короля позорной смерти, английский народ доставил ему случай, первый и последний раз в жизни, выказать геройскую силу духа, и казнь Карла I была торжеством для него и позором для народа.
Карл II Стюарт
Люси Уолтерс. – Герцог Монмут. – Мисс Франциска Стьюарт (1649-1660-1685)
Карл, принц Уэльский, старший сын короля Карла I и супруги его Генриэтты Французской, родился 29 мая 1630 года. Прелестным лицом он походил на мать, а нравом был в дедушку, в покойного короля Генриха IV. Не знаем, какие планеты играли главные роли в гороскопе новорожденного, но уверены, что первое место между ними принадлежало Венере… Звезда богини любви, во все продолжение жизни Карла II, была его путеводницей, а он ревностнейшим ее жрецом. Влюбчивый в детстве, ненасытно сладострастный в юности и в зрелых годах, развратный в старости – Карл II постепенно превращался из эпикурейца в циника, подавая пример крайней разнузданности нравов всему двору. Лучше отомстить чопорным пресвитерианам и постникам-пуританам за смерть отца (и в то же время поглумиться над его памятью), Карла I, он, конечно, не мог, как превратив в срамной лупанар тот самый дворец, в котором король-мученик проводил последние свои дни, а суровый Кромвель первые годы своего царствования… Какую память оставил по себе в потомстве английский Сарданапал? Развел породу длинноухих комнатных собачек, названную в его честь кинг-чарльс, – и только. Выражаясь языком баснописцев, скажем в заключение, что и сам-то Карл II был таким же дрянным охранителем славы, богатств и интересов Англии, каким бывает избалованная комнатная собачка в отношении имущества своего хозяина: вор ее самое унеси – и ухом не поведет. Не таков был Кромвель – сердитый бульдог, грозно рычавший и скаливший зубы на каждого, дерзавшего только протянуть руку к Англии, охраняемой этим верным стражем.
Когда начались междоусобия Карла I с народом, малолетний принц Уэльский был отправлен в Гаагу и отдан на попечение Вильгельма Оранского. Известия о ходе борьбы короля английского с его подданными день ото дня становились тревожнее; несчастная королева Генриэтта отправилась во Францию умолять о помощи ее супругу всемогущего Ришелье, а после него продажного лицемера Мазарини. Короля английского, на словах, жалели все европейские государи, но из них ни один не оказал ему существенной помощи. В то время европейская политика уже была проникнута отвратительным иезуитством, основное правило которого выражено было впоследствии Талейраном ужасными словами: «язык дан человеку на то, чтобы скрывать свои мысли». Трон Карла I колебался; порфира на его плечах превращалась в хитон Деяниры, сброшенный с плеч несчастным королем вместе с жизнью. В то же самое время, когда отец томился в плену у своих подданных, восемнадцатилетний его сынок проводил время в любовных интрижках, одерживая победы над красавицами более или менее легкого поведения. В 1648 году принц Уэльский встретил в Гааге любовницу полковника Роберта Сидни, некую Люси Уолтерс, влюбился в нее по уши и упорно стал домогаться взаимности. Совесть, которую сын Карла I тогда еще не утратил окончательно, укоряла его за сопер-ничание с содержателем прелестной Люси; но Сидни был философ; узнав о слабости короля к его содержанке, он равнодушно отозвался, что Люси властна располагать собой как ей угодно. Принц Уэльский не замедлил взять Люси к себе, а она, в свою очередь, не замедлила объявить себя беременной и в 1649 году родила Карлу сына, Якова. Злые языки и люди в этом деле компетентные утверждали, что настоящий отец новорожденного не принц, но Роберт Сидни, на которого ребенок был поразительно похож, даже на щеке был помечен родинкой, точно так же, как и благодетель Люси… Но кто любит, тот и верит. Куртизанке не стоило большого труда убедить принца Уэльского, что он отец ее ребенка, и Карл беспрекословно признал его своим. Он по целым дням проводил у ног развратницы, повиновался ей беспрекословно, предупреждал малейшие ее желания; тратил на ее прихоти последние деньги из скромных субсидий, выдаваемых ему Вильгельмом Оранским. Весть о казни Карла I на время прекратила эту грозную идиллию и заставила принца – теперь наследовавшего после отца титул королевский – заняться делами более приличными его званию. Весной 1649 года, нежно распростившись с Люси Уолтерс, Карл II отправился в Ирландию, где права его мужественно отстаивал маркиз Ормонд. Отсюда с небольшим отрядом солдат, душой и телом ему преданных, Карл переправился в Шотландию. Его появление в этом королевстве произвело в народе сильное впечатление. Как бы желая загладить недавнее предательство и измену отцу, шотландцы с восторгом встретили сына и приветствовали его как законного короля. В свою очередь, Карл II, желая задобрить пресвитериан, показал себя ревностным последователем Ковенанта и вступил в эту секту, смиренно подчинясь ее строгим уставам. Это фарисейство увенчалось желанным успехом; шотландские изуверы признали его святым и решились грудью постоять за него. Эта защита была тем необходимее Карлу II, что надежная его опора в Шотландии, знаменитый Монроз[147] – погиб, а войска Кромвеля с каждым днем усиливались.
Армия Карла II, состоявшая большей частью из шотландских горцев (гайлендеров), под его предводительством двинулась к границам Англии, и здесь близ Дунбара 2 сентября 1651 года произошла первая битва между шотландцами и войсками парламента, предводимыми Кромвелем… Последние победили, и горцы были рассеяны. Беспрепятственно Кромвель занял Эдинбург, и вскоре вся окрестная страна признала над собой его владычество. Карл II, отступивший с жалкими остатками своей армии, но не преследуемый неприятелем, соединился с отрядом ирландцев, пришедшим к нему на помощь. Всю зиму 1651, весну и лето 1652 года он провел в наборе войск. Располагая наконец достаточными силами и рассчитывая на поддержку со стороны народа, Карл II решился проникнуть в Англию. Зорко следил Кромвель за движениями неприятеля и, заняв сильную позицию близ Уорчестера, преградил роялистам дальнейший путь в английские пределы. Вдохновляемые пророчествами Кромвеля, его войска были заранее уверены в победе; армия Карла, при всей готовности постоять за короля, падала духом и, вместо того чтобы внезапным и дружным натиском опрокинуть неприятелей и прорваться сквозь эту живую стену, медленно придвигаясь к Уорчестеру, казалась огромным стадом волов, ведомых на бойню. Дело было в начале сентября, погода стояла довольно теплая и тихая. В ночь с 1-го на 2-е число на окрестные поля Уор-честера пал густой, непроницаемый туман и влажной завесой отделил войска Карла II от дружин Кромвеля. Роялисты даже и не подозревали, что неприятель от них так близко. Наступило утро, туман рассеялся…
– Вот они! – сказал Кромвель своим солдатам, указывая на роялистов. – Сам Господь выдает их в наши руки. Год тому назад, в этот самый день мы победили под Дунбаром, победим и сегодня. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!
По сигналу, поданному главнокомандующим, республиканцы с яростью устремились навстречу роялистам. Последние, не выдержав натиска, быстро отступили и после непродолжительного сопротивления обратились в бегство. Пешие и конные, тесня, давя друг друга, обуянные паникой, позабыв о короле, думали единственно о своем спасении. Увлекаемый этим живым потоком, Карл II пытался остановить беглецов, умоляя их убить его, чтобы он не был свидетелем этого позора. Все напрасно – поражение было совершенное: кроме восьми тысяч убитыми и ранеными, Карл потерял свыше десяти тысяч пленных, которые, по повелению Кромвеля, были отправлены на поселение в Америку. Если бы победитель, пользуясь поражением роялистов, продолжал преследовать жалкие их остатки, он, без сомнения, захватил бы в плен Карла II и горсть его спутников, великодушно разделявших с ним бедственную его участь; но Кромвель щадил сына Карла I и в этом случае руководился не жалостью, а весьма разумным расчетом. По закону, Карл II как мятежник, взятый в плен с оружием в руках, подлежал смертной казни. Решение вопроса о его участи непременно сопрягалось бы с новыми междоусобиями, страшнее прежних; тот же самый народ мог, в виду новой плахи и топора, поднятого над головой сына казненного короля, взять его под свою защиту, свергнуть иго парламента, Кромвеля и вместо эшафота возвести Карла II на родительский престол. Щадя побежденного врага и преследуя его, Кромвель предоставил парламенту принять свои меры против претендента. Парламент объявил Карла Стюарта изгнанником и оценил его голову в 1000 фунтов стерлингов. Легко может быть, что за сумму, во сто раз большую, нашелся бы предатель, но ничтожество цены не могло прельстить и самого презренного корыстолюбца.
Увенчанный лаврами победы, Кромвель возвратился в Лондон, а развенчанный его противник с поля битвы бежал в Шотландию, но, одумавшись вовремя, он, сопровождаемый преданным ему лордом Уильмот, приютился на ферме, принадлежащей верному служителю покойного Карла I. Убежище это было, однако же, небезопасно; жители фермы со дня на день ожидали обыска и потому убедили изгнанника скрыться на соседней мельнице, хозяин которой, Пендерелль, с пятью братьями душой и телом был предан Стюартам. Здесь Карл коротко остриг волосы, выбелил себе лицо мукой, перепачкал руки, придав им вид загорелых и грубых; переоделся работником в старый кафтан, дырявые башмаки и серую остроконечную шляпу. Несмотря на свою удачную гримировку и костюм, король и на мельнице Пен-дереллей не был вне опасности: краснокафтанники (республиканские солдаты) бродили по окрестностям, угрожая мельнице неминуемым обыском. Братья Пендерелль наблюдали за сыщиками, извещая Карла условленными сигналами о степени опасности; на мельнице не было того тайного уголка, в котором не скрывался бы король, как травимый заяц в своей норке. Однажды он был принужден бежать и забраться на высокий дуб, в густой листве которого спрятался. Мельник с женой, сопровождающие его, занялись сбором валежника. Страшную минуту переживал Карл Стюарт, он видел сквозь ветви, как несколько солдат подошли к Пендереллю и расспрашивали, не видал ли он в лесу какого-нибудь подозрительного прохожего. Благодаря находчивым ответам мельника сыщики пошли в противоположную сторону и скрылись из виду. Ночью король спустился с дуба на землю и благополучно возвратился на мельницу. Маститый царь лесов – дуб, укрывший в своих ветвях короля-изгнанника, после воцарения Карла II был назван королевским (the king's oak), и роялисты отплатили ему самой возмутительной неблагодарностью: они срубили это дерево и, расщепив на тысячи обломков, разделили их между собой, чтобы сохранить в семействах своих на память. Плохая награда спасителю короля, но -
Тому в истории мы тьму примеров видим! – и не с одними дубами. На другой день Карл, братья Пендерелль и лорд Уильмот с мельницы отправились к небольшой гавани Лим, в надежде найти хоть рыбачью лодку, на которой Карл мог бы переправиться на континент. Этот переход к Лиму, сопряженный со многими трудностями и опасностями, был ознаменован благородным самоотвержением и неустрашимостью Пендереллей. Простодушные их шутки услаждали державному беглецу скуку долгого пути и разгоняли уныние и ужас, по временам на него нападавшие. Старая лошадь, на которой Карл ехал верхом, едва передвигала ноги, и он сетовал на ее медленность. «Немудрено, государь, – сказал ему в утешение один из мельников, – ведь наша животинка впервые в жизни несет на спине целых три королевства!»
Достигнув замка кавалера Уайтгрева, Пендерелли с рук на руки сдали ему короля и расстались с ним, дав клятву в нерушимой верности, с выражением надежды увидеться с ним в иные, счастливейшие времена. До Лима оставалось еще три дня пути, и Уайтгрев посоветовал Карлу, переодевшись в платье служителя, отправиться туда с ехавшей к отцу девицей, мисс Лэн. Верхом на лошади, усадив сзади себя свою добрую спутницу, король отправился к месту, где ожидали его спасение или смерть. Во время дороги им попадались навстречу солдаты и матросы; многие из них узнавали короля и, здороваясь с ним, будто со знакомцем, не выдавали его, способствуя, по мере возможности, удачному исполнению взятой им на себя унизительной роли слуги. Существует предание, вымышленное республиканскими злоязычниками, будто Карл Стюарт дорогой, плененный юными прелестями мисс Лэн, одержал над ней победу и за спасение своей жизни отнял у девушки неоцененное сокровище – честь и доброе имя. Двадцатитрехлетний юноша, конечно, мог увлечься восемнадцатилетней красавицей, тем более Карл Стюарт, в котором, после страха и ужаса, чувства голода и сладострастия проявились прежде всех прочих… но, признаться, нам не хотелось бы верить этому сомнительному повествованию, и едва ли беглецу было до нежностей в те минуты, когда топор палача, подобно дамоклову мечу, висел над его головой.
В Лиме Карл нашел лорда Уильмота, которому после долгих стараний удалось подкупить лоцмана, взявшегося перевезти его и Карла Стюарта на берега Франции. Ночь накануне побега король и его спутник провели в приготовлениях к дальней дороге на чужую сторону; им помогал трактирщик, у которого они остановились; последний хотя и узнал Карла, но делал вид, что принимает его за простого эмигранта. Когда лорд Уильмот вышел из комнаты, трактирщик, с улыбкой целуя руку у короля, сказал ему:
– А не правда ли, милорд, если мы с женой доживем до тех пор, попадем мы с ней в знатные господа?
Карл побледнел и едва устоял на ногах; но трактирщик уверил его в своей преданности и без труда убедил довериться ему как усерднейшему слуге. Через несколько часов Карл Стюарт и лорд Уильмот на небольшом катере отплыли от берегов Англии и после четырех дней благополучного плавания прибыли в Нормандию и высадились в городке Фекан (Fecamp). Отсюда, после кратковременного отдыха, король отправился в Париж, где его встретили со всеми почестями, подобающими его сану, но еще того более – перенесенным бедствиям. Крута гора, да забывчива: при дворе юного короля Людовика XIV изгнанник почувствовал себя в своей сфере и, не теряя времени, пустился ухаживать за придворными дамами и девицами. Будто резвый мотылек, перепархивающий с одного цветка на другой, Карл Стюарт остановил было страстные помыслы на младшей племяннице кардинала Мазарини Марии Манчини. Мысль о браке с Марией некоторое время занимала ее всемогущего дядюшку, но потом он передумал. Этому немало способствовали дошедшие до него слухи, будто клеврет Карла II граф Оррери в Лондоне ходатайствует о согласии Кромвеля на бракосочетание короля с его дочерью. Эти слухи, к стыду претендента, были основательны, и, к крайнему его позору, сватовство было безуспешно. Суровый Кромвель отвечал свату:
– Это дело невозможное. Карл никогда не простит мне смерти своего отца, но если бы и простил, то я не выдам дочь за такого развратника!
По мере приязненных отношений кардинала Мазарини с протектором английской республики парижский двор становился равнодушнее к Карлу Стюарту, и положение этого паразита, поддерживаемого голландским золотом, с каждым днем становилось двусмысленнее. Королева Анна Австрийская на него косилась; Мазарини ворчал; король Людовик XIV хмурился; даже фрейлины, еще недавно заигрывавшие с интересным королем без королевства, сделались с ним суровы и неприветливы… Дошло наконец до того, что кардинал, по требованию Кромвеля, попросил Карла II избавить Францию от своего присутствия, и бедный юноша со стыдом удалился в Кельн. После развеселого житья в Париже и Сен-Жермене этот город показался королю чуть не темницей; но в вознаграждение за скуку здесь он вступил в переписку с республиканским генералом Джорджем Монком,[148] уже тогда занятым мыслью о восстановлении королевского престола и возведении на него сына Карла I. Следующее письмо может служить доказательством как приязненных отношений между Монком и Карлом II, так равно и успехов партии роялистов, за два года до кончины Кромвеля:
«Кельн, 12 августа 1656 г.
Некто, хорошо знакомый с вашим характером и вашими убеждениями, уверял меня, что вы, невзирая на все мои бедствия и неудачи, еще сохраняете ваше прежнее ко мне расположение и готовы доказать его при удобном случае. Лучшего от вас ничего не желаю. Будем же терпеливо дожидаться случая, который представится, может быть, ранее, нежели вы думаете. Будьте наготове, но покуда и настороже, чтобы не попасться в руки тех, которым известно все зло, могущее быть вами им сделано, если догадки их оправдаются, и которые, вероятно, подозревают, что вы расположены, как я уверен, к любящему вас другу – Карлу».
Кромвель не только не подозревал – он был уверен в тайных сношениях Монка со Стюартом и при всем том был настолько великодушен, что щадил изменника. В одном из своих писем к Монку в Шотландию протектор, между прочим, писал ему:
«…в настоящее время в Шотландии проживает некий хитрец, умышляющий на спокойствие республики, которого поручаю вашему вниманию. Этот человек испытанной храбрости, очень умный и способный; зовут его Георгом Монком. Я бы вас попросил арестовать этого молодца и препроводить его ко мне, в Лондон…»
Монк отшутился, однако же удвоил осторожность, равно и все приверженцы Стюартов. После смерти протектора Карл II из Кельна возвратился во Францию, с надеждой на содействие и помощь кардинала Мазарини, однако же приехал не в добрый час. Занятый переговорами о Пиренейском мире, первый министр не имел ни времени, ни охоты покровительствовать Карлу II. В бессильном негодовании на временщика и на его малодушного, хотя уже и не малолетнего питомца, короля Людовика XIV, Карл II уехал в Голландию и здесь, буквально сидя у моря, ждал погоды. Политический горизонт Англии яснел; мрачные тучи, застилавшие его во время владычества Кромвеля, рассеялись, и сквозь них просвечивала кроткая лазурь мирного затишья. Сын и преемник Кромвеля Ричард, добрый, но совершенно бездарнейший малый, всего менее был способен играть роль протектора. Он удалился от зла и сотворил благо, а Монк, на время диктатор, беспрепятственно занялся приготовлениями к новому правительственному перевороту, который при тогдашнем настроении умов мог обойтись без кровопролития. Народ жаждал перемены, оплакивая Карла I, он призывал его сына, изгнанника, и восстановление престола было желанием всех трех соединенных королевств. Новый парламент, созванный Монком, выказывая самые миролюбивые наклонности, единодушно и единогласно говорил об отмене республики. Окончательного решения участи Карл II дожидался в Бреде. Желая загладить обиды, причиненные династии Стюартов во время революции, парламент решился принести в жертву новому королю виновников страшного переворота, оставшихся в живых. Член старого республиканского парламента Гаррисон с семью товарищами были приговорены к смертной казни и обезглавлены; трупы Кромвеля и зятя его Иртона, вырытые из могил, были повешены на виселицах Тибурна, и при этой гнусной мести мертвецам заметили (как говорят иные писатели) подмену трупа протектора трупом Карла I… Еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания. Историки-монархисты, задавшиеся благой идеей охранять память Карла II от нареканий, утверждают, что казни республиканцев и старых революционеров происходили помимо его воли, по распоряжению парламента; историки-республиканцы его одного обвиняют в этом поступке, действительно гнусном и бесчеловечном… Кому же тут верить? Карл II, истый эпикуреец, кровожаден не был и при восшествии своем на родительский престол, заискивая расположения народного, не стал бы пятнать себя злодействами, приличными каннибалу. Самый состав парламента, в котором роялисты сидели рядом с республиканцами, оставление королем на службе многих военных, сражавшихся против него, доказывают, что Карл II был далек от тирании в первые годы своего воцарения… Впоследствии он избаловался.
Восстановление престола было объявлено 8 мая 1660 года. По совету Монка Карл прислал в Лондон Джона Грэнвилля с письмом, в котором предъявил свои права на английскую корону. Парламент провозгласил Карла II королем Англии, Шотландии и Ирландии и поручил лорду-мэру Томасу Адамсу ехать в Гаагу и именем народа пригласить нового государя в его владения. Карл II не замедлил отъездом и в Дувре был встречен Монком, преклонившим перед ним колено. В день своего рождения, 29 мая 1660 года, Карл II совершил торжественный свой въезд в Лондон, при радостных криках нескольких сот тысяч народа, при грохоте пушек и звоне колоколов. Карл, щедро награждаемый судьбой за минувшие страдания, был сам не менее щедр ко всем своим приверженцам и милостив к врагам. Наградами он не обошел ни Монка, ни Уильмота, ни Уайтгрева, ни Лэна, ни Пендереллей. Лорд Гайд, граф Кларендон, был назначен первым министром; парламент был составлен из людей различных вероисповеданий и политических убеждений; сан епископский был восстановлен, и епископам опять было разрешено присутствовать в парламенте. Вместо прежних налогов с мер весов, составлявших главный доход короля, ему назначена была на содержание определенная сумма. Питая непреодолимое отвращение ко дворцу Уайт-Холл, бывшему жилищу Кромвеля и месту казни Карла I, король избрал своим местопребыванием дворец Сент-Джэмс с прекрасными садами, обширными парками и создал из него второй Версаль. При расстройстве финансов расходы на украшение Сент-Джэмса возбудили неудовольствия в среде людей государственных, радевших о пользах отечества. Республиканская партия выразила свое негодование мятежом, счастливо усмиренным (1661 г.). Предводитель бунтовщиков Вернер, полоумный фанатик, вербуя недовольных под свое знамя, уверял их, что сам Иисус Христос, снизойдя с небес, будет предводительствовать защитниками правого дела. Пресвитериане, недавние защитники Карла II, разочарованные в короле, роптали на его отступничество и явное его покровительство церкви англиканской; последователи ее уставов, в свою очередь, роптали на короля за его благосклонность к папистам. Таким образом, на него злобились подданные всех вероисповеданий, и, наконец, народ начал (если можно так выразиться) раскаиваться в своем недавнем раскаянии, которое побудило его призвать на королевство сына Карла Стюарта.
Державный эпикуреец, нимало не возмущаясь ропотом народным, не унывал и полной чашей пил амброзию всевозможных наслаждений на своем сент-джэмском Олимпе. Побочного своего сына от Люси Уольтерс, прибывшего из Франции, он, призвав, пожаловал в графы Оркни, в герцоги Монмут, в кавалеры ордена Подвязки. Милейшая его маменька была давно забыта Карлом II, и не без причины, так как Люси во время его скитаний по Шотландии, оставаясь в Гааге, вела себя непозволительно дурно и наконец снискала себе репутацию продажной женщины. За новыми фаворитками при дворе Карла II дело не стало; все затруднение было в выборе. Маститый Капфиг, добродушный панегирист блаженного старого времени и всех вообще фавориток, говорит о дворе Карла II следующее:[149] был занят предстоящим бракосочетанием короля с инфантой португальской (Екатериной), руки которой король официально просил у лиссабонского двора».
Нельзя сказать (еще бы!), чтобы Карлом II при его браке руководилась любовь. Инфанта была ни хороша собой, ни умна: в этом выборе главную роль играла политика; кроме того, за ней давали полновесными дублонами отличное приданое (ну, разумеется), а король постоянно нуждался в деньгах… не потому, что бы он был скуп, напротив, он был расточителен, но ему неприятно было спрашивать субсидии у парламента, каждый раз вступавшего в пререкания, чуть заходила речь о выдаче денег.
Знатные кавалеры, окружавшие короля, были люди веселые и не охотники до политики. Верный герцог Ормонд, герцоги Бекингэм и Сент-Олбени, граф Фальмут, конфидент (т. е. помощник в интригах) короля граф Гамильтон – образец придворного человека. «Он был одарен счастливыми способностями, ведущими к фортуне и успехам в интригах любовных: ловкий царедворец, умный, с изящными манерами, превосходный танцор, щеголь. Ему под пару был красавец Сидни, далеко не такой опасный волокита, каким казался с виду, ибо не имел достаточно умения, чтобы предохранять свою красоту от увядания… но особенно счастлив в любви был юный Джермин, младший сын графа Сент-Олбени, на которого отовсюду дождем сыпались удачи в интригах».[150] Дух двора был, как я уже сказал, духом подражания Версалю. Обаянием французских мод и грации проникнут был двор Карла II.
Этому настроению умов способствовало пребывание в Англии дворян, изгнанных из Франции или добровольно прибывших ко двору Карла II после Реставрации… Из таковых особенно любимы королем были: граф Сент-Эвремон и блестящий и ветреный кавалер де Грамон.[151]
Мы после пристальнее займемся этими прихлебателями сент-джэмского дворца, а здесь заметим, что для предстоящей свадьбы, на содержание красоток, на подарки приспешникам и всей своей будуарной челяди Карлу II деньги были нужны до зарезу. Чтобы не кланяться парламенту, король, долго не думая, решился продать Дюнкирхен Франции, уступленный ей Англии еще при Кромвеле. За эту крепость Карл II получил 50 000 фунтов стерлингов, и, сверх того, Людовик XIV долгое время уплачивал ему ежегодную пенсию. За эту позорную продажу злые языки прозвали Карла II «вице-королем французского короля», а патриоты, республиканцы и роялисты, возопили от негодования. В свое оправдание король мог сказать, что крепость в чужом королевстве, вообще говоря, политическая какофония, и если шотландцы продали англичанам покойного Карла I за 800 000, почему же его сын не мог продать Дюнкирхена французам за 50 000 фунтов стерлингов? Оно, пожалуй, дешево, но ведь и крепость не король!
Любовница Карла II мисс Франциска Стьюарт – личность замечательная. Не беремся описывать ее своими словами, из опасения, чтобы несколько капель желчи не придали нежному личику этой кокетки неподобающего ему колорита; мы заимствуем рассказ из записок кавалера Грамона, в назидание потомству оставившему драгоценные сведения о дворе Карла II. «Характер у нее был ребячески смешливый; склонность к забавам, приличным только двадцатилетней девочке. Любимейшей ее игрой были жмурки. Она любила строить карточные домики, в то время, когда у нее в доме бывала большая игра, причем услужливые придворные снабжали ее строительными материалами или показывали ей постройки новой архитектуры. Она также любила музыку и пение. Герцог Бекингэм умел отлично строить карточные домики, прекрасно пел, сочинял песенки и детские сказочки, от которых мисс Стьюарт была без ума, но особенно удачно он умел подмечать смешные черты в манерах и в разговоре других и искусно передразнивать для них же самих неприметно. Короче, Бекингэм был таким отличным лицедеем и приятным собеседником, что без него не обходилось ни одного собрания. Мисс Стьюарт в своих забавах была с ним неразлучна, и если он не приходил к ней вместе с королем, она тотчас же за ним посылала».[152]
Грамон, глядя на эту ребячившуюся развратницу с умилением, воображал, что пишет ей панегирик, а вышел злейший пасквиль. Не можем не пополнить его несколькими чертами, заимствованными из Диксона, писателя нам современного, который на красоток этого разбора смотрит с правдивой точки зрения и называет их настоящим именем. В нее одновременно были влюблены король, брат его Иаков и двоюродный брат Карла Стюарта герцог Ричмонд. Шалунья сожительствовала со всеми тремя, чтобы не обидеть ни того, ни другого, ни третьего. Эта Франциска была прелестнейшей и глупейшей женщиной при дворе, переполненном красавицами и дураками. Кроме трех обожателей из королевской фамилии, ее любовниками были: Бекингэм – карточный архитектор, Мондевиль, Карлингтон и Дигби, из любви к ней решившийся на самоубийство. Связь Карла с мисс Стьюарт не мешала ему в то же время сожительствовать с леди Кэстльмэн и актрисами Нелли Гуин и Молли Дэвис… О каждой из них мы поговорим подробно; сперва окончим обзор жизни Франциски.
Она жила во дворце Уайт-Холл, в котором Карл II весьма часто посещал ее. Разоряя казну для постройки Сент-Джэмса, король оправдывался отвращением ко дворцу Уайт-Холл – отвращением понятным: сыну тяжело было жить во дворце, в котором был казнен его отец… Каким же родом эти благородные чувства уважения не помешали Карлу II бывать чуть не ежедневно в Уайт-Холле для празднования в его стенах таких луперкалий, от которых могли покраснеть древние Поппея и Мессалина? Однажды ночью Франциска, леди Барбара Кэстль-мэн, Нелли Гуин, Молли Дэвис и целый лупанар им подобных в присутствии короля играли пародию венчания. Леди Кэстльмэн представляла жениха, Франциска Стьюарт – невесту, прочие фиглярки – священников и свидетелей. Обряд сопровождался всеми церковными и общественными церемониями, новобрачных уложили в постель, и следовавшие затем сцены были такого игривого, каскадного свойства, что о них ни в сказке сказать, ни пером описать! Сам король пел, аккомпанируя себе на гитаре, неблагопристойные песни, нагие фаворитки плясали перед ним, вино лилось рекой, и праздник окончился совершенной вакханалией…
Милые, шаловливые дети! Не эти ли забавы кавалер Грамон в своих записках называет невинным «строением карточных домиков»?
Из всех обожателей мисс Стьюарт герцог Ричмонд был ею пленен всех более и, ослепленный страстью, решился наконец тайно обвенчаться с ней. Тогда в сердце Карла II закипела нешуточная ревность. Он распустил свой гарем; дни и ночи проводил с Франциской… Поговаривали даже, будто он хочет развестись с королевой и жениться на своей возлюбленной. Однако же он ни сам не венчался с ней, ни Ричмонду не позволял венчаться. Франциска, как опытная развратница, разочла, что ее замужество с Ричмондом несравненно будет выгоднее, нежели с королем, так как сан королевский наложит на нее обязательства, с ее шаловливой натурой положительно не исполнимые. Досадуя на Карла II, она притворилась больной, перестала его принимать, чтобы все устроить к побегу с Ричмондом. Разобиженный Карл II отправился с жалобой к леди Кэстльмэн.
– Она тебя выгнала? – спросила леди, радуясь случаю отомстить сопернице.
– Выгнала. Нездорова…
– Так советую еще навестить ее и кстати повидаться с ее доктором. Бабиани, – продолжала она, обращаясь к своему шпиону-итальянцу, – проводите короля на половину мисс Стьюарт.
Карл бросился опрометью; оттолкнул горничную, преградившую ему дорогу в спальню фаворитки; вбежал и увидел Франциску в объятиях Ричмонда. Влюбленные сговаривались о предстоящем побеге. Король разразился бранью, приличной разве только пьяному матросу… Виновные дрожали от ужаса, и Ричмонд из спальни был отправлен прямо в Тауэр, в которой просидел три недели (с 31 марта по 21 апреля 1655 года). Немедленно по освобождении Ричмонд и Франциска Стьюарт бежали в Кент и там тайно обвенчались. Мисс Стьюарт возвратила королю все им подаренные ей бриллианты. Несколько времени Карл II бесился на изменницу, потом помирился с ней, и зажила герцогиня Ричмонд, молодая супруга, по-старому, т. е. меняя любовников, как перчатки, уверяя короля в неизменной верности и обирая его без зазрения совести. Муж ее умер в 1670 году, а она в 1700 или в 1701 году, оставив после себя огромное состояние.
Биография этой фаворитки заставила нас нарушить хронологический порядок, которого мы придерживались при обзоре политических событий царствования Карла II. Возвратимся же к ним, чтобы не утомить читателя рассказами о распутствах, которые более всяких других рассказов могут прискучить своим грязным однообразием.
В 1663 году, покоряясь требованиям парламента, король принужден был объявить войну Голландии, ради ограждения торговых интересов своего королевства. Война вначале была успешна, но самые успехи английского оружия побудили Людовика XIV и Фридриха III, короля датского, заключить с Голландией союз против Карла II. Тогда военные дела приняли несчастный оборот, угрожавший Англии конечным разорением. Голландско-датский флот беспрепятственно вошел в устье Темзы, достиг Мидуэ и у Чэтэма сжег стоявшие в гавани английские корабли. За одним бедствием следовало другое, страшнейшее. В 1665 году в Лондоне внезапно появилась моровая язва, в течение нескольких месяцев поглотившая до 90 тыс. жертв. Надобно отдать справедливость Карлу II, что он во время чумы не только не растерялся, но выказал самое благородное и великодушное самоотвержение. Он посещал чумные лазареты, помогал осиротевшим, поддерживал энергию в народе двумя диаметрально противоположными средствами: торжественными молебствиями и публичными увеселениями. Эта мрачная эпоха, подобно холерным годам у нас, в Петербурге, проникнутая поэзией ужаса, вдохновила нашего Пушкина и дала ему мысль написать одно из прекраснейших произведений, «Пир во время чумы». Впрочем, и английские поэты, современники чумы, несмотря на все ее ужасы, находили в себе достаточно энергии, чтобы писать поэмы; из таковых авторов можем указать на Драйдена. Истый тип поэта-низкопоклонника, Драйден, подобно подсолнечнику, оборачивал лицо к восходящему светилу власти. Был в силе Кромвель – и Джон Драйден в его честь сочинял греческие стансы; воцарился Карл II, и тот же Драйден приветствовал его поэмой Astra redux и воскурял стихотворные фимиамы его любовницам… Впрочем, вдохновение поэта всегда своенравно; вдохновение – вино, поэт – пьяница: кто бы его ни попотчевал, он безразлично охмелеет и в хмелю запоет в честь амфитриона. Нам еще придется поговорить в нашей книге о твердости политических убеждений поэтов вообще и наших в особенности. Мы по этой части делали много любопытных наблюдений.
Чума не утихала, угрожая Лондону совершенным опустошением; к счастью, новое бедствие, в котором во всем блеске проявилось мудрое правило промысла «нет худа без добра», успешнее всяких санитарных мероприятий способствовало прекращению моровой язвы. 2 сентября 1666 года в пекарне булочника в Пуддинг-лэне вспыхнул пожар и с неудержимой быстротой распространился по всему городу. В три дня огнем было истреблено в Лондоне 400 улиц, 13 200 домов, 89 церквей и других общественных зданий. И на этот раз Карл II и брат его Яков, герцог Йорк, снискали себе всенародные благословения за их отвагу и разумную распорядительность. Стараниями короля и парламента Лондон по новому, правильному плану в течение немногих лет возник из пепла, а чума, тотчас же после пожара, исчезла, как будто сгорела в пламени. О причинах лондонского пожара ходило множество разноречивых толков: пресвитериане обвиняли в поджоге города папистов; паписты – пуритан… Можно сказать, что пожар разжег прежнюю ненависть диссидентов. Памятниками этого страшного события остались: монумент, воздвигнутый в 1671 году архитектором Реном (Wren), и поэма Драйдена. Трудно решить, что из двух безобразнее. Придворный поэт, говоря, что проливной дождь способствовал тушению пожара, выражается так: «Господь тронулся мольбами жителей Лондона и накинул на огонь гасильник в виде огромной хрустальной пирамиды, наполненной водами небесными»…
Примечания
1
Любовница Власия, прелестная бурбонка, в весьма стесненном положении… (Под именем Власия песенка подразумевает короля.)
(обратно)2
Дамьен, в 1757 году покушавшийся на Людовика XV, слегка поранил его перочинным ножиком.
(обратно)3
Эта несчастная Харлова – неразрешенная психологическая загадка. Как назвать ее – героиней или презренным, малодушным созданием, которое предпочло позорную смерть мученической смерти? Действительно ли она любила Пугачева или только притворялась, надеясь повторить с ним историю Юдифи и Олоферна? Случаи к тому представлялись неоднократно, однако же Харлова не похитила злодея у плахи…
(обратно)4
Эти подробности о казни графини Дюбарри мы слышали от покойного Н. И. Греча; ему же они были рассказаны очевидцем. Малодушие несчастной возбуждало жалость во многих присутствовавших, даже из числа тех, которые смотрели тогда на казни, как на спектакли.
(обратно)5
Генрих VIII родился 28 июня 1491 года. Он был вторым сыном короля и Елизаветы Йоркской.
(обратно)6
Кардиналом а lаtеге назывался полномочный папский легат к христианским государям. Уолси пользовался полномочием и правами весьма обширными, ставившими его наряду с патриархами или митрополитами восточной церкви.
(обратно)7
Б о л е н а, Б о л е н, Б у л е н (Boulain) – так итальянцы и французы искажают эту фамилию, которая была Болейн (Воlеуn). Так, по крайней мере, писала ее Анна собственноручно, и мы не можем не признать этого неопровержимого авторитета.
(обратно)8
Rer. Moskovit. Comm. 80
(обратно)9
Пожар 1812 года, в сравнении с ним, то же, что ручей в сравнении с рекой.
(обратно)10
Сулейман царствовал с 10 сентября 1520 по 23 августа 1566 года. Мы озаглавили наш рассказ годами владычества Роксоланы, биография которой составляет только эпизод из жизни страшного завоевателя.
(обратно)11
В истории Франции Пьера Матьё (Pierre Matthieu. Histore de France sous Francois I et Henri II. Paris, 1 631, 2 vol. In fol.) происхождение слова гугенот объясняется тем, что прибывшие ко двору Франциска I посланники из Германии для ходатайства за угнетенных лютеран начали свою речь фразой: «Мы сюда пришли» (hus nos venimus…). Первые два слова – гук нос (hus nos) – рассмешили присутствовавших придворных, давших прозвище гукносов сначала посланникам, а после того – всем без различия иноверцам, то есть и лютеранам и кальвинистам. Постепенно слово «гукнос» перешло в «гугнот», «гугенот». По другому толкованию, весьма сомнительному, это слово произошло от имени короля Гугона, тень которого являлась в Париже во время первого гонения лютеран в царствование Франциска I. Из двух этимологий предоставляем любую на выбор читателя. Третье мнение, общепринятое, будто слово «гугенот» происходит от заставы Св. Гугона в Туре, у которой происходили сборища кальвинистов; четвертое, будто «гугенот» – искажение eidgenossen (связанный присягой), совершенно неосновательно.
(обратно)12
C a p e f i g u e s. Les Reines de la main droite: Catherine de Medicis. P., 1860, in 80.
(обратно)13
M e d i s i – ит. «врачи».
(обратно)14
J’ai craint de souiller aucunement mes mains et me faire mal au coeur en remuant et sentant une matiиre tant vilaine et puante (page 4). Мы делали выборки из этой книги с возможной осмотрительностью, так как она написана противником Екатерины и приверженцем гугенотской партии. Заглавие ее: Discours merveilleux de la vie, actions et dйportements de Catherine de Medicis etc. P., 1649, petit in 6.
(обратно)15
Начальник епископских войск и главный управитель духовных имений.
(обратно)16
S a u v a l. Les amours des rois de France. La Haye, 1738, in 12. T. 1, p. 271 et seq.
(обратно)17
Будущего короля Генриха IV.
(обратно)18
Брат Франциска Гиза, кардинал Лотарингский, умер от горячки 26 декабря 1574 года. Де Ту в своей истории подозревает, будто его отравила Екатерина Медичи посредством духов, которыми опрыскала подаренный ему кошелек с редкими монетами; но это несправедливо. Связь Екатерины с кардиналом продолжалась до самой его кончины. О подробностях см.: Journal de Henri III par P. de l’Etoile ed. La Haye, in 12, 1746, p. 112–115 et nota 55.
(обратно)19
Альберт Гонди родился во Флоренции 4 ноября 1522 года и вместе с отцом переселился в Лион, где первый содержал банк, но дважды разорялся. Мать Гонди, воспитывавшая детей Екатерины Медичи, привела Альберта ко двору, где королева отплатила ему за связь с нею званиями наставника короля Карла IX и обер-камергера. Плохой воин, но порядочный дипломат, он пользовался покровительством Генриха III, пожаловавшего ему орден Св. Духа и возведшего из маршала Ретца в генералиссимусы. Он умер 12 апреля 1602 года. Никакими заслугами Гонди не мог искупить злодейства, совершенные им во время гонения гугенотов. Брат его Пьер, родившийся в Лионе в 1533 году, благодаря протекции Альберта был канцлером и милостынераздавателем супруги Карла IX, елизаветы Австрийской, а в 1587 году пожалован в кардиналы. Умер 17 февраля 1616 года. По душевным качествам был несравненно лучше старшего брата и зла никому не делал.
(обратно)20
Придворный парфюмер и аптекарь Екатерины Медичи Рене был миланец, а не флорентиец, как ошибочно называют его в своих романах даровитый Дюма и его бездарнейший подражатель Понсон дю Террайль.
(обратно)21
Discours merveilleux, etc. p. 19–21.
(обратно)22
Н о с т р а д а м у с (1503–1566) для Франции то же, что у нас Брюс или Мартын Задека. Какую богатейшую пищу суеверию дают его знаменитые «Центурии», в которых есть, между прочим, предсказания о революции 1789 года и Наполеоне… Разумеется, правдивость предсказаний зависит от догадливости читателей.
(обратно)23
L e L a b o u r e u r. Addition aux Mеmoires de Castelnau.T. II, p. 903.
(обратно)24
Кардинал был отравлен по повелению Екатерины Медичи 14 февраля 1571 г.
(обратно)25
Он уехал в Рим в последних числах мая 1572 года, и во время Варфоломеевской ночи его не было в Париже, хотя кардинал этот был одним из главнейших организаторов этой резни, задуманной еще в Блуа зимой 1571 года.
(обратно)26
Отравление посредством духов, весьма обыкновенное в Италии, было введено во Франции стараниями екатерины Медичи. Каждый, мало-мальски знакомый с медициной, без труда поймет, что при вдыхании яда прежде всего поражаются легкие. Смерть – неизбежный исход подобного рода воспаления, настоящая причина которого легко может укрыться от исследований самого опытного анатома.
(обратно)27
Сын покойного Франциска, убитого Польтро дю Мере. Подробная биография Генриха Гиза излагается в обозрении следующего царствования.
(обратно)28
Побочный сын Генриха II и Сары Флеминг-Левистон. Мы заменили французское слово bаtard равнозначным русским простонародным термином, который по своей верности и некоторой благопристойности заслуживает права гражданства в разговорном языке.
(обратно)29
Морвель, разумеется, не был подвергнут наказанию и после неудачного своего покушения спокойно приютился в доме Гиза. Все обещания Карла IX отыскать злодея и примерно его наказать были комедией, в которой король прекрасно играл «свою рольку» (son petit rolet).
(обратно)30
По словам некоторых историков, у трупа Колиньи отрубили голову и принесли ее показать Карлу IX и екатерине, а потом, набальзамировав ее, отослали к Папе Григорию XIII. Это клевета и излишняя грязная прибавка к факту, и без того возмутительному. если бы голова у трупа была отрублена, Карл не ездил бы смотреть труп, повешенный в Монфоконе. Бальзамировать же голову адмирала нельзя было по той причине, что лицо его было в нескольких местах прорублено.
(обратно)31
Simon G o u l a r d. Thrиsor d’histoires admirables et memorables. P., 1617, 2 v. in 8. T. I. P. 264, также: Melange de Camusat. P. 22 et seq.
(обратно)32
Brantome: edition de Paris, 1787. T. VIII. Р. 204.
(обратно)33
E c o n o m i e r o y a l e s d e S u l l y, T. II, seconde partie. Сhapitre 96.
(обратно)34
Папа Пий V умер за четыре месяца до Варфоломеевской ночи, 19 апреля 1572 года.
(обратно)35
Talis erat quendam vultu Colignius heros, Quem vera illustrem vitaque morsque facit.
(обратно)36
Не можем подобрать иного слова, равносильного французскому прозвищу этой орды содомитян, к а м е л и й в мужском платье, называвшихся также и ландышками (muquets).
(обратно)37
«L’amour est une passion а laquelle toutes les autres doivent obeˆissance». Слова Генриха IV в письме к елизавете Английской от 26 октября 1596 года.
(обратно)38
Первая песня – знаменитый марш времен первой империи; другая рапсодия – отпевавшей свою песенку второй.
(обратно)39
См. J o u r n a l d e l’E t o i l e: mai—septembre 1590. Du Laure. Histore de Paris. Tome V, p. 78–104 (edition de 1823).
(обратно)40
В его имени (Henri de Bourbon – Г е н р и х Б у р б о н), как на русском, так и на французском языках—14 букв; он родился 13 декабря 1553 года (12-й месяц года, число: 1+3=4; год: 1+5+5+3=14). Первая его жена (М а р г а р и т а В а л у а) родилась 14 мая 1552 года. Варфоломеевская ночь с 23 на 24 августа 1572 года. (Это число делится на 4 без остатка.) Битва при Иври происходила 14 марта 1590 года. В именах: J a c q u e s C l e m e n t (убийца Генриха III), M a r i e d e M e d i c i s – по 14 букв. Г а б р и э л ь д ’Э с т р е умерла 8 апреля 1599 года: число 8 делится без остатка на 4, а сумма цифр всего года = 24. Брак Генриха с Марией Медичи – в 1600 году (40 x 40=1600). Генрих был убит 14 мая 1610 года (1+6+1=8).
(обратно)41
См. L e s M e m o i r e s d e l a r e i n e d e N a v a r r e. Далее этого, кажется, не могут идти ни снисходительность жены, ни цинизм мужа. О великий король!..
(обратно)42
М. de Lescure: L e s a m o u r s d e H e n r i IV. Paris, 1864, in 8 p. 121 et seq.
(обратно)43
Confessions de Sancy.
(обратно)44
Генрих III – король французский, Генрих – король наваррский, Генрих Порубленный – герцог Гиз.
(обратно)45
Prault: E s p r i t d e H e n r i IV. Musset-Patay: V i e m i l i t a i r e e t p r i v e e d e H e n r i IV. Berger de Xivrey: C o r r e s p o n d a n c e d e H e n r i IV.
(обратно)46
Прося у читателей прощения за эти грязные, цинические фразы, берем смелость ручаться за их и с т о р и ч е с к у ю в е р н о с т ь. Цензура приличия была тогда неведома при дворе королей французских.
(обратно)47
Генрих IV овладевал городами, осаждая их и покупая. За сдачу Парижа он заплатил Бриссаку 1 695 400 ливров, за Руан и Гавр – 3 477 800 ливров, за Понтуаз – 476 594 ливра и 20 тысяч экю – за Мо. См. D u L a u r e. Histoire de Paris, tome V, р. 20–128.
(обратно)48
В память злодейского покушения Жана Шателя по повелению короля в Париже была воздвигнута пирамида с надписью о соучастии в заговоре иезуитов. По их просьбе она была уничтожена в 1604 году.
(обратно)49
Pensez, madame, а vous; la fortune est muable; Vous avez la faveur, ne la negligez point. Craignant, que quelque jour ne vous laisse en pourpoint, Faites des serviteurs et vous rendez aimable!
(обратно)50
Многие из новейших историков, отвергая, что эти стихи – произведение Генриха IV, приписывают их какому-нибудь присяжному поэту. Отчего же король не мог написать этих плохих виршей: Charmante Gabrielle, Percй de mille dards Quand la gloire m’appelle. Je vole au champs de Mars. Cruelle dйpartie! Malheureux jour! Cest trop peu d’une vie Pour tant d’amour!
(обратно)51
Ц е з а р ь, как мы уже говорили, родился в 1595 году; К а т е р и н а – Г е н р и э т т а родилась в 1596, узаконена в марте 1597 года, была с 1619 года замужем за Карлом Лотарингским, герцогом Эльбёф, и умерла 20 июня 1633 года. А л е к с а н д р, названный кавалером де Вандом (de Vandome), родился в 1598 году, узаконен в 1599. Был в 1615 году посланником в Риме, умер в заточении в Венсенском замке 8 февраля 1629 года, как полагают, от яда.
(обратно)52
Одни говорили ей, что она только раз в жизни будет замужем, другие предсказывали ей смерть в молодых годах, третьи – что ребенок будет причиной ее гибели, четвертые – что ее погубит тот, на кого она всех более надеется. Куаффье, советник суда в Мулене, искусный астролог, предсказавший смерть Генриха Гиза, падение Лиги, взятие Кале, войну с Савойей и убиение Генри– ха IV, возвестил Габриэли, что она никогда не будет королевой. Приняв за правило в наших исторических трудах, что все предсказания грядущих событий астрологами, некромантами, каббалистами и т. п. записаны в летописи после событий, мы не придаем ни малейшего значения этим прорицаниям. Искуснейшие гадатели во все времена на задаваемые вопросы отвечали обыкновенно: ни да, ни нет, либо: может быть, да, может быть, нет, и, таким образом, конечно, били наверняка.
(обратно)53
Сообщая о своей покупке государственному контролю, Генрих IV выражается хотя и не совсем деликатно, зато совершенно справедливо: «Сие сберегает нам значительные расходы». Не то ли самое говорят и расчетливые вдовцы, даря вторым женам драгоценности своих первых жен?..
(обратно)54
епископ Меца, впоследствии герцог Вернейль, умер в 1682 году.
(обратно)55
Маршал Бирон был казнен 31 июля 1602 года, но с его смертью не пресеклись нити его заговора, искусно сплетенного и продолжаемого стариком д’Антрагом и его сыном графом Овернским.
(обратно)56
Побочный сын Маргариты Наваррской.
(обратно)57
Граф Овернский, храбрый в подпольных заговорах, на суде выказал самое подлое малодушие, обвиняя и уличая сообщников, даже наговаривая на них, униженно умоляя короля пощадить ему за это его жалкую жизнь.
(обратно)58
Вскоре старик д’Антраг был освобожден, но граф Овернский просидел в Бастилии двенадцать лет. Так говорит Л о к ю р (Amour de Henri IV. Paris, 1864, р. 369); по другим источникам, отец и брат маркизы были казнены 2 февраля 1605 года.
(обратно)59
Tel maitre, tel valet. Пословица, равносильная нашей: «Каков поп, таков и приход».
(обратно)60
Подробности первой встречи Генриха с Шарлоттой до того похожи на встречу Генриха II с Сарой Левистон, что мы подозреваем, не смешивают ли летописцы одного короля с другим.
(обратно)61
Генриэтта 11 мая 1625 года выдана была за принца уэльского – впоследствии несчастного Карла I, короля английского.
(обратно)62
В карете с Генрихом находились герцоги д’Эпернон и Монбазон; маршалы Ла Форс, Роклор, Лаварден; кроме того, ехали верхом Лианкур и маркиз де Миребо. Ни один из спутников не отклонил рокового удара, так как все они – более или менее – едва ли не были участниками заговора!
(обратно)63
De Thou. Histoire de France, tome XIV.
(обратно)64
Прости, прелестная страна, О Франция родная, Отчизна дорогая, Где отцвела моя весна… Прости!.. Ото всего, что было сердцу мило, От искренней любви, от дорогих друзей Безжалостно меня отторгнуло ветрило, И мне уж не видать счастливых, ясных дней! Но я не всю тебя, отчизна, покидаю; Корабль меня с тобой вполне не разлучит: Часть сердца моего он в дальний край умчит – Другую я тебе на память оставляю! Прилагая при этом прелестном, грациозном подлиннике наш слабый, бесцветный перевод, просим читателя простить великодушно, так как признание в вине по самому строгому закону смягчает наказание.
(обратно)65
Король наваррский Антуан Бурбон, муж Жанны д’Альбре и отец Генриха IV. См. выше: E к а т е р и н а М е д и ч и, К а р л IX.
(обратно)66
Существует предание, многими оспариваемое, будто Риццио, избалованный милостями и снисходительностью Марии Стюарт, в обхождении с нею позволял себе неприличную фамильярность. Так, говорят, будто однажды, когда она читала вслух письмо, только что полученное от елизаветы, Риццио, досадуя на его содержание, вырвал письмо из рук королевы и, смяв его, бросил на пол. если этого не было, оно легко могло быть.
(обратно)67
Врачи-специалисты объявили елизавете, что вследствие врожденного не– достатка она никогда не будет иметь детей, и это было главной причиной ее отвращения от супружества.
(обратно)68
В третьем акте трагедии «Мария Стюарт» (выход шестой) вымышленный герой, страстный Мортимер, открываясь в любви королеве, говорит ей: Nicht kalter Strenge klagt die Welt dich an; Dich kann die heisse Liebesbitte ruhren, Du hast den Sanger Rizzio begluckt, Und jener Bothwell durfte dich entfuhren! – то есть «Свет не укоряет тебя в строгости, и ты способна тронуться мольбами любви! Ты осчастливила певца Риццио, а Босуэл осмелился похитить тебя!.. Он был твой тиран, – продолжает Мортимер, – и ты трепетала перед ним, потому что ты его любила!»
(обратно)69
Мы не без основания не включили в наш сборник биографию этой фаворитки короля шотландского по причине незначительности ее роли, так как Маргари– та Ирскин принадлежала к разряду продажных камелий, связь с которыми – мимолетная прихоть. Таковыми у Генриха IV были Фаннюш, Ла Гланде и т. п.
(обратно)70
Двери темницы, запертые снаружи, обыкновенно замыкались и изнутри. Та– ким образом, стук в дверь заменял доклад, и Мария была постоянно застрахована от внезапного посещения.
(обратно)71
За несколько дней перед казнью Мария Стюарт нечаянно вывихнула ногу, и ей трудно было сходить с лестницы. Так говорят ее ревностные защитники, не же– лая допустить мысли, чтобы у нее, идущей на казнь, могли подгибаться колени. Зачем лишние прикрасы и без того редкостного умения владеть собой?
(обратно)72
С этой целью Томас Сеймур, женатый на вдове Генриха VIII, его последней жене екатерине Парр, отравил ее ядом 7 сентября 1547 года.
(обратно)73
Подробности этого злодейства находятся в книге Обрэ (Aubrey: Antiquities of Berkshire), нами нигде не отысканной, несмотря на все старания.
(обратно)74
По словам некоторых историков, это сделал сэр Вальтер Рэйли (Raleigh).
(обратно)75
Ф и л и п п С и д н е й, родной племянник Лейчестера, но, несмотря на это, добрый и благородный человек, родился в 1554 году. Превосходно образованный, он прославился на поприщах дипломатическом, военном и литературном. Пьеса «Lady of the May», буколический роман «Arcadia» дают ему право на почетное место между писателями века елизаветы. Польское дворянство предлагало ему королевскую корону, от которой он отказался, предпочитая вместо того быть подданным елизаветы. Скончался от полученной раны в Арнгейме 16 октября 1586 года.
(обратно)76
Они помещены в подлиннике в «Истории елизаветы», соч. Кералио (M. K e r a l i o: Vie d’Elisabeth reine d’Angleterre. P., 1786, 5 vol. in 8, tome 5). Книга отменно сухая и скучная, любопытная единственно по обнародованным в ней документам.
(обратно)77
«Алхимия – целомудренная блудница: кокетством своим и обещаниями сводит с ума всех, но не предается никому». Это слова, если не ошибаемся, Арнольда Виллановы.
(обратно)78
По итальянскому времяисчислению суток в двадцать четыре часа от заката солнца. Весною четырнадцатый час дня соответствуют восьми часам утра.
(обратно)79
Элеоноры и Марии. Первая была выдана за Винченцо Гонзаго, герцога Мантуанского, вторая, родившаяся в1573 году, была супругою короля французского Генриха IV. Биографии Марии Медичи мы посвятим особую статью.
(обратно)80
Он был сыном эрцгерцога австрийского Филиппа Красивого и Хуаны Безумной.
(обратно)81
Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierund. Munchen, Stuttgardt. Verlag der I. G. Gottдschen Buchnandlung. 1830 in 4, p. 801–802.
(обратно)82
Для незнакомых с немецким языком указываем на издание полного перевода сочинений Шиллера (Ник. Гербеля, 1870 г. Т. VIII и XI).
(обратно)83
Мне двадцать три года, и я ничего еще не сделал для бессмертия! («Дон Карлос». Акт второй. Выход второй.)
(обратно)84
Die Sonne geth in meinem Staat nicht unffter! (Schiller. «Don Karlos». Erster Akt, sechster Auftritf.)
(обратно)85
«Ребенок черен потому, что он от Анкра». Аncrе по-французски– якорь, а еnсrе – чернила. На созвучии этих двух слов основан каламбур Бассомпьера.
(обратно)86
Из множества биографий, нами перечитанных, едва ли в двух или трех мы нашли одинаковые числа рождения Людовика XIII. Он родился 27 сентября 1601 года и при восшествии на престол ему был девятый год. Срок регент– ства по-настоящему оканчивался 27 сентября 1614 года, а между тем Мария Медичи оставалась правительницею до 1617 г. Капфиг (Les veines de la main droite: Marie de Medicie), спутывая числа, говорит, что в 1610 году Людовику было шесть лет.
(обратно)87
Переведено из слова в слово с подлинной речи, занесенной в протоколы пар– ламента 15 мая 1610 года.
(обратно)88
Испанский государственный совет состоял тогда из герцогов Инфантадо и Альбукерка, кардинала Толедо, герцога Лерма и маркиза Велада.
(обратно)89
В 1870 году замок Блуа был разрушен до основания прусскими бомбами.
(обратно)90
Все эти подробности заимствованы из книги: «История матери и сына» (Histoire de la meˆre et du fils), приписываемой перу очевидца и одного из действующих лиц этой драмы – кардинала Ришелье.
(обратно)91
В нем были сотни добродетелей лакея, господина же (или повелителя) – ни одной.
(обратно)92
Здесь заметим кстати, что кардинал Ришелье имел какую-то особенную сим– патию к кошкам. Наше народное поверье говорит, будто кошек любят вообще лукавые люди. Разумеется, нет правила без исключения.
(обратно)93
Не иначе, так как призраки наяву – немыслимы. усопшему здешний мир точно так же недоступен, как загробный мир – живому. Факт странного сновидения Монморанси подтвержден многими его современниками и позднейшими источниками.
(обратно)94
S u p p l i c e d e s b r o d e q u i n s – одна из мучительнейших пыток: стопы ног допрашиваемого вкладывали в деревянные колодки и забивали в них деревянные клинья до тех пор, пока мясо и размозженные кости не обращались в одну безобразную массу.
(обратно)95
Touchard Lafosse: Chroniques de l’oeil de boeuf. Paris, edition Barba 1861, in 8 premiere seˆrie, p. 102–123.
(обратно)96
Топен, автор «Железной маски», опровергает это событие, называя его клеветой.
(обратно)97
Дамские аксельбанты, бывшие в большой моде в XVII веке, состояли из шелковых лент, связанных узлом и украшенных бахромою. Их носили на плечах, от чего и самое название: плечевая лента (Achsel-Band).
(обратно)98
Подробная биография Бекингэма будет помещена в обзоре царствования Карла I, короля английского.
(обратно)99
Намек на статую Генриха IV на Новом мосту, через который проезжала похоронная процессия кардинала Ришелье.
(обратно)100
Младший сын Людовика XIII и Анны Австрийской родился 21 сентября 1640 года.
(обратно)101
Он слагал с себя звание члена государственного совета, чтобы быть первым министром. Обмен, как видит читатель, очень выгодный.
(обратно)102
Должность помощника при архиепископе, соответствующая званию викария в нашем духовенстве. Во Франции коадьютор заведовал преимущественно раздачей милостыни и пособий неимущим.
(обратно)103
П р а щ а (la fronde) – ремень, к концу которого привязывают камешек и, сильно вертя, спускают с ремня. Точно так же дети забавляются метанием яблок или картофеля с конца хлястика. Эти игры в Париже были строго запрещены школьникам.
(обратно)104
«Ветер Фронды подул сегодня утром; мне думается, что он воет против Мазарини…» Будь это сказано прозою, никто не обратил бы внимания на шуточку парламентского советника.
(обратно)105
Конти, Лонгвилль, Эльбеф, Буйон, Шеврез, де ла Мотт Гуданкур, Бриссак, де Люинь, Витри, Марсильяк, Нуармутье, де ла Булэ, Фиэск, де Мор, Лэг, Мата, Фоссез, Монтрезор, Алигр и Танкред де Роган, побочный сын Катерины Роганде Портенэ и ее любовника де Кандаля. Все эти фрондеры были большей частью герцоги, графы, маркизы и принадлежали к знатнейшим фамилиям.
(обратно)106
«Siecle de Louis XIV». Brusselles, 1844, in 18, tome IV, p. 87 et seq.
(обратно)107
Делая эту оценку, кардинал Ретц не вспомнил о самом себе.
(обратно)108
L’indulgente et sage Nature A forme liame de Ninon De la volupte d’Epicure Et de la vertu de Platon!
(обратно)109
L’Estoile: Memoires, tome I, p. 26.
(обратно)110
Марии Манчини, сестры Олимпии и Лауры. Последняя (о которой мы упомянули в заголовке нашей статьи), выданная за герцога Вандомского, по сказаниям скандалезных хроник, подобно сестрам, также пользовалась расположением Людовика XIV и даже была слишком к нему снисходительна. Сен Симон в своих записках говорит, будто в одно прекрасное утро кто-то из придворных застал короля и Лауру Манчини в так называемой «преступной беседе», что весьма сомнительно. К чему излишняя грязь на страницах истории, без того грязных?
(обратно)111
Впоследствии маркиза де Монтеспан, счастливая соперница девицы ла Вальер.
(обратно)112
Рассказ ведется, как мы выше говорили, от имени Генриэтты Английской.
(обратно)113
В оригинале весьма непристойно выражение petite catau, которое мы нерешаемся переводить буквально. Сам автор делает оговорку, оправдывая выражение, употребленное королевою, незнанием ею французского языка.
(обратно)114
B u s s y-R a b u t i n. Discours sur les ennours du Roi et de mademoiselle de la Valliиre.
(обратно)115
По другим сказаниям, ла Вальер удалилась в монастырь бенедиктинок в Сен Клу.
(обратно)116
Jamais surintandant n'a trouve de crueLLe!
(обратно)117
Герб Фуке, изображавший белку, был украшен девизом: «До чего не достигну?» (Quo non ascendam?).
(обратно)118
Ламуаньон запретил представление Тартюфа на сцене, и весть эта пришла в Бургонский отель в то самое время, когда публика стояла у дверей, ожидая впуска в театральную залу. Отмена спектакля была причиною шума и беспорядка, полиция поручила самому Мольеру успокоить и урезонить недовольных. Выйдя на балкон, великий драматург сказал шумевшим: «Господа, Тартюф отменяется потому, что первый президент Ламуаньон не желает, чтобы его представляли!» Хохот и рукоплесканья были единодушным ответом этому двусмысленному оправданию, тем более остроумному, что к нему невозможно было сделать ни малейшей придирки.
(обратно)119
Беррье – один из судей – взбесился во время процесса, но по выздоровлении продолжал заседать в комиссии.
(обратно)120
La corde de Fouqnet est maintenant а vendre; Nous avons de quoi l’employer: Colbert, Sainte Helene, Berryer, Passort, Noguet, Herault, Poncet le chancelier… Voilа bien des voleures а pendre, Voilа bien des fous а lier!
(обратно)121
Подробности процесса и смерти Фуке (в 1680 году) читатели могут найти в любопытной монографии Тонена «Железная маска».
(обратно)122
C a p e f i g u e. Mademoiselle de la Valliиre. Paris in 12, 1859, p. 76 etс.
(обратно)123
Капфиг недолюбливает этого знаменитого ученого, по его словам, Петр Гассанди был достоин костра как еретик.
(обратно)124
Grand roi cesse de vainere oщ je cesse d’e crire.
(обратно)125
Людовик де Бурбон (род. 27 дек. 1663 г., ум. 15 июля 1666 г.). Мадемуазель де Блуа (род. в 1665 г.), герцог Вермандуа (род. в октябре 1667 г., умер в 1683 г.). Биографические подробности об этом сыне ла Вальер находятся в сочинении Тонена «Железная маска».
(обратно)126
Брат Людовика Виктор де Рошмуар, герцог де Вивонь родился 16 августа 1636 года и был флигельадъютантом короля. Старшая cecтpa Габриэль, маркиза де Тианж была с 1655 года замужем за Клавдием де Дама. Младшая из сестер Мортемар, Магдалина, была аббатисою женского монастыря Фонтерво, поль– зовавшегося издревле весьма соблазнительной репутацией.
(обратно)127
Биография этой фаворитки будет помещена ниже, в обзоре царствования Карла II.
(обратно)128
«Да здравствует Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Так в римских цирках здоровались с императорами выходившие на арену гладиаторы.
(обратно)129
Вторая супруга герцога Орлеанского.
(обратно)130
Слово испанское m e d i a n o c h e, то есть полунощничанье, означает скоромный ужин, которым заканчивается постный день или, вернее, встречается праздничный.
(обратно)131
Так называли Франциску, намекая на долгое ее пребывание на острове Мартинике.
(обратно)132
Из всех произведений шутливого поэта ни одно, по нашему мнению, недостойно такого внимания, как его эпитафия, может быть, именно потому, что в ней Скаррон, сбросив личину шутника, является скорбящим, утомленным жизнью страдальцем: Celui qui ci maintenant dort Fit plus de pitie que d’envie Et souffrit mulle fois la mort, Avant que de perdre la vie… Passant, ne fais ici de bruit Et crains bien qu’il ne s’eveille… Car voici la premiиre nuit Que le pauvre Scarron sommeille! Вот ее подстрочный перевод: «Покоящийся здесь возбуждал в людях более жалости, нежели зависти, и прежде нежели пресеклась его жизнь, испытывал тысячи смертей. Прохожий, проходи тише, не буди его… Для него наступила ночь, в которую он уснул».
(обратно)133
Всех детей было пятеро: 1) умер в младенчестве, 2) герцог Мэн, 3) граф де Вексен, 4) мадемуазель де Нант, 5) мадемуазель де Шартр.
(обратно)134
Хотя Тонен в своей монографии о таинственном арестанте Бастилии и раз– решает вопрос о том, кто был «железная маска», но мы не видим, однако же, причин верить ему на слово.
(обратно)135
Оно сопровождалось истязаниями и казнями. По распоряжениям Лувуаза за проповедниками следовали конные отряды, выжигавшие деревни протестантов и вешавшие непокорных.
(обратно)136
В записках маркиза де Сурш находим следующий анекдот. Маркиз де Вард по возвращении из изгнания, будучи во дворце, поклонился кому-то в при– сутствии короля. «Вард, – сказал Людовик XIV, – вы забыли, что при мне никому не кланяются?» – «Государь, – отвечал маркиз, – кто же на моем месте после долгого отсутствия от вашего двора не лишился бы памяти?..»
(обратно)137
Mademoiselle de la Valliиre, p. 221.
(обратно)138
Известны ли тебе Астини горделивой Паденье и позор, ее замену мной?
(обратно)139
К вам прелесть чудная влечет меня, манит И сердца моего вовек не утомит! Немножко похоже на конфетный билетец. В «Эсфири» Расин вообще очень приторен.
(обратно)140
И легковерный царь указ этот подписал!
(обратно)141
Придворный Гондрен (de Gondrin), которого попотчевала табаком из роковой табакерки дофина, умер от такой же загадочной болезни, как и она сама.
(обратно)142
Маркиза Бренвиллье (Brinvilliers) и ла Вуазен, французские Локусты XVII столетия, продавали ядовитые порошки детям, желавшим скорее получить наследство после зажившихся родителей, и супругам, желавшим отделаться от нелюбимых супругов. В их процессах замешаны были многие дамы знатнейших фамилий, и для суда над отравительницами была наряжена особая комиссия, названная огненною палатою (chambre ardente). Маркиза была казнена в 1667, а ла Вуазен в 1680 году.
(обратно)143
Итак, почтенные отцы, вы испросили себе сердце короля? Собакам обыкно– венно дают внутренности затравленного оленя!
(обратно)144
Бекингэм родился 20 августа 1592 г. в Бруксби (в графстве Лейчестер).
(обратно)145
Солдаты королевских войск кавалеры по моде того времени носили длинные волосы, пуритане и индепенденты стриглись под гребенку. Отсюда их прозвище круглоголовые.
(обратно)146
Этот верный Герберт в 1678 г. издал под именем Threnodia Carolina подробное описание последних дней и минут Карла I.
(обратно)147
Желающим ознакомиться с жизнью и подвигами этого героя рекомендуем роман Вальтера Скотта «Легенда о Монрозе».
(обратно)148
Родился 6 декабря 1608 г., умер 3 января 1670 г. Карл II произвел его в герцоги Альбемэрль.
(обратно)149
Capefigue. Duchesse de Portsmouth. Paris, 1859, р. 42–44.
(обратно)150
Memoires du chevalier de Gramont.
(обратно)151
Capefigue. Р. 45–47.
(обратно)152
Gramont. Memoires. Livre XI.
(обратно)






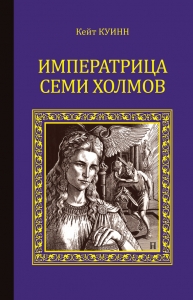
Комментарии к книге «Временщики и фаворитки», Кондратий Биркин
Всего 0 комментариев