Александр Волков Чудесный шар
Часть первая Дмитрий Ракитин
Глава первая Ночное происшествие
Город спал. На узких кривых улицах, окружавших порт, было тихо. И в тишине гулко и тревожно раздавались шаги двух запоздалых прохожих. Люди настороженно озирались, стараясь быстрее миновать пустыри, темневшие между домами.
– Митрий Иваныч, – боязливо шепнул один из прохожих, – не к добру засиделись мы в этом чертовом трактире. Не повернуть ли? Там и заночуем…
– Ничего, – отвечал другой, высокий, плечистый. – До корабля недалеко, доберемся.
Они ускорили шаг. Из туч, нависших над Кенигсбергом, проглянула луна и озарила городские улицы и корабли в порту. И в этот момент из-за ближайшего угла донесся отчаянный крик:
– Караул, спасите!.. Грабят!..
– Наш кричит, русский! Надо выручать! Яким, за мной! Оружие приготовь!..
Дмитрий бросился вперед, вытаскивая из-за пазухи пистолет. Яким следовал за ним, бормоча:
– Митрий Иваныч, сударь… На беду нарвемся… Пропадем!..
Но Дмитрий уже завернул за угол. На обширном пустыре несколько грабителей окружили невысокого тщедушного человека средних лет, одетого в темный кафтан и высокие сапоги. Один держал беднягу за воротник, другой выворачивал ему карманы.
Завидев подмогу, пострадавший забился в руках врагов, стараясь вырваться.
– Эй, вы, прочь! – закричал Дмитрий. – Отпустите человека!
– Вот как?! – насмешливо отозвался здоровенный детина с рыжей бородой, как видно, предводитель банды. – Везет нам, ребята! Еще двух овечек острижем этой ночью!
Он кинулся навстречу Дмитрию и Якиму. За вожаком поспешили и другие разбойники, оставив двоих расправляться с русским в темном кафтане.
– Тогда пеняйте на себя, – гневно пробормотал Дмитрий.
Раздались два выстрела. Рыжебородый великан упал, пораженный пулей Дмитрия прямо в лоб. Яким прострелил другому грабителю грудь, и тот корчился на земле с хриплыми стонами.
Бандиты остановились в нерешительности. Но один из них, самый смелый, опомнившись, прыгнул вперед, размахивая ножом. Дмитрий ловко уклонился и ударил нападающего кулаком по голове. Разбойник без звука рухнул в дорожную грязь. Расхрабрившийся Яким, держа пистолет за дуло, стал наступать на низенького парня, но тот не принял боя и исчез в развалинах на пустыре. Разбежались и другие грабители.
Короткая схватка закончилась разгромом банды и гибелью ее вожака. Спасенный подбежал к Дмитрию со словами благодарности и пытался поцеловать ему руку, но Дмитрий ее отдернул.
– Вы избавили меня от смерти, сударь, – признательно заговорил спасенный, назвавшийся Иваном Васильевым. – Ведь эти злодеи что делают? Ограбят, а потом камень на шею – и в воду: море, оно все скроет… А я – поверьте мне! – век не забуду вашего благодеяния…
Иван Васильев прервал взволнованную речь, прислушался. Издали доносились голоса, свистки.
– Полиция, – испуганно пробормотал он. – Бежим, сударь!
– А почему? – возразил Дмитрий. – Мы просто защищались от разбойников. Расскажем властям, как было дело.
– Что вы, сударь? Да разве эти нехристи поверят? Они на нас возложат вину, посадят в тюрьму и засудят, верьте слову. Уж я полицию знаю…
Дмитрий заколебался. Он понимал, что шуцманам[1] нужен зачинщик ночного происшествия, и хорошо одетый иностранец вполне подходит для этой роли. Если его и не засудят, как опасался Иван Васильев, то уж во всяком случае оберут до нитки.
– Вы правы, – сказал он и быстро направился к порту в сопровождении Якима и Ивана Васильева.
Через несколько минут они были в безопасности на борту брига «Прозерпина», где Дмитрий, направлявшийся на родину, ожидал отплытия корабля в Петербург.
Когда трое русских очутились в тесной каюте Дмитрия и была зажжена свеча, Иван Васильев теперь только рассмотрел своего спасителя. Чисто выбритое лицо Дмитрия, с красивым прямым носом, с голубыми глазами, с легкой складкой между бровей, было привлекательно.
Васильев просительно вымолвил:
– Ради Христа, скажите, сударь, как вас звать-величать? За кого я должен век Бога молить?
Дмитрий улыбнулся.
– Зовут меня Ракитин, Дмитрий Иванович. Родом из Петербурга. Окончил в столице университет, а сюда, за границу, приехал совершенствоваться в науках и провел здесь без малого три года. За это время успел побывать в Женеве, Париже, Амстердаме, Геттингене, Лейпциге…
Слушая перечисление городов, Иван Васильев понимающе качал головой: видно было, что их названия ему знакомы.
– Слушал я лекции знаменитых химиков, физиков, – продолжал Ракитин, – работал в лабораториях… Да вот получил скорбную весть о батюшкиной кончине.
Иван Васильев перекрестился:
– Царство ему небесное и вечный покой! Скорблю о вашем горе, сударь!
– Ну и пришлось думать о возвращении в Петербург на полгода ранее задуманного мною срока. Тяжко вдруг, душно мне стало на чужбине, захотелось увидеть родные лица, поделиться с милыми сердцу своей тоской…
Дмитрий невольно увлекся рассказом о своих печальных обстоятельствах и открывал душу незнакомцу, быть может, больше, чем следовало. Но пережитая вместе опасность располагала его к откровенности, а на лице Ивана Васильева выражалось явное сочувствие к его беде.
Иван Васильев спросил:
– Стало быть, у вас в Питере есть куда голову приклонить?
– А как же! Там живут моя приемная маменька Марья Семеновна и ее муж Егор Константиныч Марков, отставной главный механик порохового дела, – не без гордости объяснил Дмитрий. – И в эту должность его сам царь Петр за большие заслуги произвел.
Как видно, эти слова Ракитина произвели на Ивана Васильева впечатление: его поза сделалась почтительнее, он скромно потупил взор.
Дмитрий продолжал:
– Дядюшка Егор Константиныч при грустном письме своем прислал деньги, коими я покрыл долги. Остатка хватило добраться до Кенигсберга, а здесь нам посчастливилось встретить Макса Гофмана, старого батюшкина знакомца по торговым делам. Сей почтенный муж согласился доставить нас с Якимом в Питер с уплатою за провоз по окончании рейса, и за то ему великое спасибо…
– Обошлись бы и без Гофмана, – ворчливо перебил Яким. – Стоило только продать книги, что куплены в неметчине. Вон их какой тюк набрался, а цена-то им недешевая, пароль доннэр![2]
Во время скитаний за границей востроносый, вихрастый Яким запомнил много иностранных слов и употреблял их кстати и некстати.
– Опять с глупостями лезешь, – оборвал слугу Ракитин. – Сколько я говорил, что с книгами не расстанусь! Вернемся домой, как стану заниматься науками без этих бесценных сокровищ? Знаешь ли ты, что приобретены сии шедевры по рекомендации самого Михаилы Васильича?
– Что ж из того? – не сдавался Яким. – Не на ломоносовские деньги они куплены, значит, не ему и распоряжаться.
– Уймись! – сердито приказал Дмитрий. – С тобой говорить – в ступе воду толочь!
Иван Васильев с любопытством слушал забавный спор господина со слугой. Потом спросил:
– И когда корабль отплывает в Россию?
Дмитрий с досадой ответил:
– Боюсь, что его отправление сильно задержится из-за торговых дел господина Гофмана. Как бы не просидеть нам тут еще месяц.
– Очень, очень сожалею о ваших прискорбных обстоятельствах, сударь! – вежливо отозвался Иван Васильев. – Не позволите ли мне навещать вас?
– Буду очень рад! Встретить земляка на чужбине всегда отрадно. Мы с Якимом порядком наскучили друг другу за долгие месяцы вынужденного компанейства, и поговорить со свежим человеком – большое удовольствие.
Яким отправился в матросский кубрик, где обычно спал на подвесной койке, а неожиданного гостя Ракитин уложил в своей каюте. Сон долго не шел к Дмитрию, растревоженные воспоминания прихлынули к нему длинной чередой.
Глава вторая Ракитины и Марковы
О давних событиях, происходивших до его рождения, Дмитрий знал от воспитавшей его Марьи Семеновны Марковой, родной сестры отца. Как памятны были Мите долгие зимние вечера, когда Марья Семеновна, склонившись над вязаньем, вела неторопливый рассказ о прошлом двух родственных семей – Марковых и Ракитиных. Стоило ей остановиться, чтобы посчитать петли, как мальчик нетерпеливо понукал ее:
– Дальше, маменька, дальше! А потом что было?
– Экой неугомонный! – улыбалась Марья Семеновна и гладила Митю по кудрявой головке. – А дальше вот что…
И рассказ возобновлялся под тихий треск сверчка, прятавшегося за печкой.
Митин отец, Иван Семеныч Ракитин, вел свои торговые дела отлично. Еще до женитьбы на Аннушке Русаковой он скопил порядочные деньги, а наследство после тестя выдвинуло его в первый ряд петербургских богачей.
Принадлежавшая Ракитину пороховая мельница на реке Сестре давала верный доход. Выгодны были подряды на снабжение флота: смола, пенька и парусина приносили немалую прибыль.
Все ладилось в семейной жизни Ракитиных. Иван и Анна крепко любили друг друга, но до полного счастья им не хватало детей. Напрасно старались молодые супруги умолить Бога: служили молебны, ездили по монастырям. Иван Семеныч щедро жертвовал на церкви, дал обет построить часовню на собственные средства, если у него родится сын. Ничего не помогало.
В доме Ракитиных начали появляться востроглазые бабки, повязанные черными платками. Они приносили узелки, откуда приятно пахло душистыми травами. В кухонной печи что-то кипело и булькало в горшках и горшочках, ароматный пар растекался по комнатам. В спальне хозяйки слышался шепоток:
– Уж это самое бессомненное дело, касатка! Как попьешь навар с корешков любистка,[3] то и дождешься желанного, родишь любимое дитятко…
Любисток не помогал, и через месяц-другой в доме появлялась новая ведунья, предлагавшая ревень либо ромашку… Лекарства готовились с наговорами, с заклинаниями.
Старая Фоминична велела пить настой из марьина коренья по зорям, стоя на дворе в одной рубашке, скрытно от постороннего глаза; при этом полагалось двенадцать раз подряд прочитать богородичную молитву. Во время одного такого моления Анна Антиповна простудилась и едва не отдала богу душу…
Разъяренный Ракитин избил старуху и пригрозил свести в полицию первую знахарку, что появится у него в доме…
У Егора и Маши Марковых была другая беда. В их семье за десять лет брака родились три мальчика и девочка, и все умирали в возрасте нескольких недель. Сколько слез пролили Маша и Аннушка на родных могилках…
Радость наконец пришла в дом Ракитиных: летом 1730 года у них родился сын Митя. Но радость обернулась великой бедой: рождение ребенка стоило жизни матери. Иван Семеныч обезумел от горя и чуть не наложил на себя руки: его удержала мысль о сыне.
Семья Марковых незадолго перед тем опять потеряла ребенка, и Ракитину не пришлось искать для Мити кормилицу. Марья Семеновна вскормила мальчика своим молоком и привязалась к нему, как к родному сыну.
Маленький Митя очень любил отца. Среднего роста, плотный, с квадратной рыжеватой бородкой и густыми усами, Иван Семеныч обычно появлялся в доме Марковых, на 5-й линии Васильевского острова, зимой. Он вылезал из саней, с красным от мороза лицом, закутанный в медвежью доху, в оленьей шапке-ушанке, и своим громким голосом и смехом подымал на ноги двор и дом.
Иван Семеныч приезжал неожиданно и всегда из разных мест. Он появлялся из Архангельска, из Вологды, Устюга Великого или с Печоры, а раз мчался без передышки полтора месяца из Сибири и успел-таки прискакать в Петербург под первый день Рождества.
И всегда за Иваном Семенычем приказчик тащил тюк с ценными подарками всем домашним, не исключая кухарки Филимоновны. Самые богатые и разнообразные подарки получал Митя. То это была искусно сделанная модель фрегата с полной оснасткой – работа отставного архангельского шкипера, то меховой костюм, сшитый с удивительным изяществом на Митин рост руками самоедской[4] молодицы. А из Сибири Ракитин привез сыну крохотную нарту, запряженную тремя оленями. Погонщик, нарта, олени – все до мельчайших подробностей было с необыкновенным искусством вырезано из цельного моржового клыка.
Егор Константиныч, сам прекрасный мастер, вытачивавший для петербургских церквей ажурные паникадила, вырезавший сложнейшие узоры для иконостасов, пришел в несказанное удивление, увидев эту чудесную вещь.
– Да ведь это… – Марков запнулся, не находя слов. – Это многие месяцы работы… и какого мастера! Эта игрушка стоит больших денег…
Иван Семеныч улыбался и гладил бороду: радость Мити была для него дороже всяких денег.
Зато каждый раз, когда уезжал отец, Митя устраивал дикие сцены. Иногда, после того как он напрасно упрашивал отца взять его с собой, Митя тайком забирался в отцовские розвальни, приготовленные к отъезду. Найденный и вытащенный из саней, мальчик неистово кричал, царапался, кусался и два-три дня не разговаривал даже с горячо любимой приемной матерью.
Но годы шли, и Митя научился сдерживать чувства.
Крепко любил Митя дядю Гору, как называл он Егора Константиныча. Старому мастеру, приближенному токарю царя Петра I, было о чем порассказать любознательному мальчугану. Особенно любил Марков вспоминать то время, когда он подолгу жил на пороховой мельнице Ивана Семеныча, стараясь найти способы делать хороший порох. И его старания не пропали даром. Царь щедро наградил Егора Константиныча, назначил главным пороховым механиком империи, дал хорошее жалованье.
Добросовестный работник, мастер золотые руки, Егор Константиныч пользовался уважением и доверием начальства. На новой должности Марков почувствовал, что знаний, давным-давно полученных в Навигацкой школе, теперь маловато. Наука ушла вперед, да и многое, усвоенное на школьной скамье, позабылось за долгие годы. Егор Константиныч взялся за книги.
Смеясь, рассказывал он маленькому племяннику, как трудно было ему в первое время снова постигать книжную премудрость. Но постепенно дело пошло на лад.
– Вот станешь учиться, – говорил он Мите, – поймешь, что такое физика и химия и какую силу дают они человеческому уму. Не похвалюсь, что уразумел их до тонкости, но все же у меня на многое открылись глаза… И делу пороховому, у коего я приставлен, сие на большую пользу идет…
Мирным течением своей жизни Егор Константиныч был доволен, и даже ранняя смерть детей хоть и опечаливала его, но не в такой степени, как Марью Семеновну. Все-таки сердцем он был покрепче, и работа не давала времени грустить.
У Маркова имелось и другое занятие, отвлекавшее его от мрачных мыслей. Он ежедневно посвящал вечерние часы любимому токарному делу. У него всегда было достаточно заказов. Тому требовалось выточить изящную табакерку из цельного куска янтаря, другой хотел иметь дорогую трость с резьбой. Из ломоносовской лаборатории приходили с просьбой сделать хитроумные физические приборы…
До полуночи поскрипывал токарный станок в кабинете Маркова, а сам хозяин, в очках, в рабочем фартуке, мерно нажимал на педаль, и из-под его искусных рук выходили изделия, восхищавшие заказчиков.
Через долгие годы пронес Егор Константиныч горячую любовь к старшему брату Илье. Как волшебную сказку, слушал Митя дядины воспоминания о брате.
Увлекательные рассказы дяди Горы о бурных событиях давних времен, о стрелецком мятеже, о дерзком бегстве Ильи из-под стражи, о его многолетних скитаниях по стране с верным товарищем Акинфием Куликовым заставляли Митю вздрагивать и плотнее прижиматься к дяде. Глаза мальчугана горели восторгом, когда он слушал повествования о великих битвах при Полтаве и Гангуте, где дрался за русскую землю Илья Марков…
В 1719 году Илье Маркову довелось участвовать в сражении при острове Эзель, где русские корабли впервые одержали победу над шведскими в открытом море. Там Илья получил серьезное ранение в ногу, стал инвалидом. Бывалого солдата не уволили из армии, а перевели в инвалидную команду, которой командовал поручик Солодухин.
По приказу начальства рота Солодухина отправилась на Север – усмирять взбунтовавшийся рабочий люд на Кижском литейном заводе Андрея Бутенанта. Случилось это в 1721 году.
Вольнолюбивому Илье Маркову карательная экспедиция пришлась не по душе, он отказался стрелять в фабричных и перешел на их сторону.
Когда инвалидная команда поручика Солодухина после долгого отсутствия вернулась с Севера в Питер и брата в ней не оказалось, Егор повел расспросы. Но инвалиды смотрели на него с боязнью, скупо цедили слова, отговаривались незнанием, старческой забывчивостью.
Марков пошел в Военную коллегию, и один приятель показал ему солодухинское донесение. Там было написано, что Илья Марков и десять других инвалидов пали геройской смертью в битве с восставшими рабочими и разгромленные мятежники возобновили работу на заводе Андрея Бутенанта. За столь полезную деятельность Солодухина удостоили денежной награды и произвели в следующий чин.
Егор Константиныч не поверил донесению Солодухина: по рассказам брата он знал поручика как честолюбца, который не задумается солгать, чтобы показать себя перед начальством в самом лучшем виде. Токарь продолжал расспросы, и ему удалось разведать истину. В действительности никакого боя с мятежниками не было, управляющий Бутенанта сумел мирно поладить с рабочими. А хитроумный поручик доложил Военной коллегии о сражении, в котором якобы погибли Илья Марков и еще десять инвалидов, умерших от болезней и старости.
Егор Константиныч свято сохранил тайну. Он даже порадовался лживому донесению о геройской гибели Ильи: Солодухин, сам о том не думая, спас бунтовщика Маркова от розыска, который, конечно, объявили бы царские власти. А теперь Илья мог спокойно жить в далеком краю, не опасаясь жестокой кары за свой проступок. Грустно было лишь то, что Егор ничего не узнает о судьбе старшего брата, которого он крепко любил и уважал, хотя и досадовал на него за бунтарские наклонности.
Но через много лет от Ильи пришла весточка с верным человеком. Он сообщил Егору Константинычу, что работает горновщиком[5] на Вохтозерском чугуноплавильном заводе купца Терехина под прозванием Ильи Горового, женился, растет у него сынок Алешка. Радостной вестью Марков поделился с женой и Иваном Семенычем, рассказал ее в понятных словах пятилетнему Мите; мальчик давно допытывался, где дядя Илья, о котором он слышал так много рассказов.
С этих пор молитва Мити за родных звучала так:
«Помилуй, Господи, спаси от всякого зла и защити от бед святым своим покровом милую маменьку, дядю Гору, дядю Илью, братца Алешеньку и всех прочих сродников…»
Еще прошли годы, но об Илье больше не было ни слуху ни духу, и это очень печалило Егора Константиныча. Иногда Марков подумывал, не съездить ли ему самому на Вохтозерский завод, повидать Илью. Но дело было опасное: главный пороховой механик являлся персоной немалого значения. Если он явится в гости к простому рабочему человеку Илье, это вызовет подозрения, наведет царских ищеек на след мятежника, и Егор Константиныч своим посещением погубит брата. Приходилось терпеть неизвестность.
В 1741 году судьба порадовала Марковых поздним счастьем. Мальчик Андрюша, родившийся у них в этом году, не умер, как его старшие братья и сестры. Он перевалил роковую грань первых месяцев жизни, стал крепнуть, здороветь. Родители не могли нарадоваться на свое долгожданное дитятко. Но заботы о маленьком Андрюше не ослабили привязанности Марьи Семеновны к Мите Ракитину. Она по-прежнему крепко любила приемного сына, и он не чувствовал своего сиротства.
Глава третья Гимназия
В 1742 году Мите Ракитину исполнилось 12 лет, и его решили отдать в гимназию при Российской Академии наук. Об этом просил Марковых Иван Семеныч, отправляясь в очередную торговую поездку. Он сказал:
– Хочу, чтобы Митя вырос просвещенным человеком. Станет ли он негоциантом[6] или ему выпадет другая судьба – образование всегда пригодится.
Митя был силен и крепок, но очень медленно рос. Это крайне огорчало мальчика. По этой причине василеостровские ребята в своих играх отводили ему самые невидные, подчиненные роли.
Беззаботному уличному веселью пришел конец. 15 августа, в Успеньев день, по обычаю, в школах служили молебен перед началом занятий.
Егор Константиныч отправился с племянником в гимназию, на стрелку Васильевского острова. Дорогой Марков внушал Мите, что он в первые школьные дни должен держать себя уверенно.
– Сробеешь – заклюют! – наставлял он племянника. – Заходил я в гимназическое общежитие, там такие хваты, им палец в рот не клади.
Марков не преувеличивал. Большинство гимназистов были великовозрастные ребята – дети адмиралтейских служащих, придворных лакеев, канцелярских чиновников, купцов, ремесленников, солдат. Учились в гимназии поповские и дьяконские дети, переведенные из духовных школ. Трудно приходилось учителям с новичками, набранными в провинции. Пятнадцати– и шестнадцатилетние парни, псковичи, новгородцы, вологжане, оторванные от родных мест, неохотно являлись в столицу и ученье считали тяжелой повинностью.
Марков и Митя запоздали, и, когда служитель провел их в актовый зал, воспитанники гимназии уже построились. Немногочисленная группа родителей толпилась в уголке.
Митя взглянул на будущих товарищей, и сердце его замерло: самые малорослые, стоявшие в первом ряду, были на голову выше его, а в задних рядах виднелись такие усачи, что хоть в гвардию!
Инспектор гимназии поставил мальчика на левый фланг первого ряда, возле длинного парня с густой копной рыжих нечесаных волос.
– Хо-хо! – фыркнул рыжий. – Колобок прикатился!
В кругленькой, плотной Митиной фигурке и впрямь было что-то от колобка. И, как всегда бывает в школах, метко приклеенное прозвище стало спутником Мити Ракитина на целые годы.
– Колобок, колобок, ха-ха-ха! – пронеслось по рядам.
Начался молебен. Пока пелись молитвы, сосед наклонился к Митиному уху и спросил зычным шепотом!
– Как звать-то?
– Кого? Меня? – растерялся Митя. – Ракитин я, Дмитрий.
– Митька, значит? А я – дьячковский сын Колька Сарычев. Будем дружить?
– Будем, – ответил польщенный Митя.
Он сразу приободрился. Дело-то, пожалуй, складывается не так уж плохо, как опасался дядя.
Молебен кончился, инспектор повел Егора Константиныча и Митю к себе в кабинет. Здесь был произведен экзамен.
Митя показал отличное умение читать, грамотно написал несколько фраз под диктовку, благополучно разделался с таблицей умножения. Митю приняли во второй класс.
Дядя с племянником вернулись домой сияющие, и Марья Семеновна, узнав о результате экзамена, осыпала Митю поцелуями.
Крепко запомнил Дмитрий свой первый школьный день.
Погожим осенним утром Митя, храбро отказавшись от провожатого, зашагал в гимназию. Когда он вошел в класс, великовозрастные его товарищи загалдели на разные голоса:
– Колобок! Ха-ха-ха, колобок прикатился! Тебя дорогой лиса не съела?
– А я от нее сбежал! – бойко объяснил не растерявшийся Митя.
– Ого, да он боевой парень! – послышались одобрительные возгласы.
За ближайшим к классной доске столом мелькнула знакомая рыжая голова Кольки Сарычева. Тот кивал ему:
– Садись со мной! Я для тебя место сберег!
Митя начал осматриваться кругом. Неуютно выглядел класс: грязный потолок, давно не беленные стены с потеками сырости, мутные стекла немытых окон… Митя вспомнил светлые, чистенькие комнатки марковского дома и загрустил. Здесь, в этом непривлекательном помещении, похожем на сарай, среди ватаги буйных ребят, придется ему проводить годы…
В классе было человек двадцать. Гимназисты развлекались каждый по-своему. Двое играли «в носки» и свирепо лупили друг друга по носу засаленными картами. Некоторые жевали ломти хлеба, а один верзила в заднем ряду, «на Камчатке», выпускал густые клубы дыма из коротенькой трубки.
Раздался звонок, возвестивший о начале занятий, и в классе водворился порядок. Карты и хлебные краюшки исчезли в карманах школьников, курильщик спрятал трубку под стол.
Первым уроком оказалась геометрия. Учитель без всяких объяснений диктовал определения, ученики записывали. Митя от усердия высунул кончик языка и заботился больше о том, чтобы не наделать клякс. Он писал слово за словом, но общий смысл определений ускользал от мальчика.
«Ничего, дома разберусь, – думал Митя. – Дядя Гора поможет, он небось все это проходил…»
А учитель все продолжал диктовать. Определения следовали одно за другим. Из всего класса только Митя да еще двое-трое хорошо грамотных ребят успевали записывать и кое-что понимали. Остальных поглощал процесс писания, и думать над значением слов им не хватало времени.
Следующими уроками были закон Божий, латынь и немецкий язык.
После первого дня занятий Митя возвратился домой, переполненный впечатлениями. Торопясь и сбиваясь, он все их выложил приемной матери. Марья Семеновна улыбалась и сочувственно качала головой.
Так и пошли-покатились школьные деньки Мити Ракитина.
Опасения Маркова, что товарищи будут обижать Митю, не оправдались. По сравнению с одноклассниками он был таким маленьким и хрупким, таким слабым, что задирать его казалось позором. Большие и сильные школяры дрались между собой, дрались жестоко, до синяков, разбитых носов и выбитых зубов, но тронуть Колобка не решился бы самый завзятый забияка.
Митину репутацию высоко подняли его школьные успехи. Митя Ракитин, капитанский внук Вася Шумилов и сын вдовы канцелярского служителя Терентий Гамаюнов, все трое петербуржцы, – были три кита, на которых держался второй класс Петербургской академической гимназии.
Перед началом занятий в классе, тускло освещенном сальными свечами, только и слышалось:
– Колобок, дай списать задачку!..
– Тереха, ты сделал упражнение по грамматике? Давай скорее тетрадку, а то не успею сдуть…
– Васька, у тебя латинская экзерциция[7] готова?
Скрипели перья по шероховатой бумаге, продрогшие губы шептали упражнения, запоминались решения задач, и к приходу учителей класс приводил себя в боевую готовность и более или менее удачно боролся за удовлетворительные отметки…
Дни и недели проходили однообразно, и учебный год тянулся бесконечно долго. Отдых от скучных классов давали только церковные да царские праздники, а было их, к счастью, немало. Рождество и Пасха прокатились веселой вереницей дней, заполненных всевозможными удовольствиями – маскарадами, играми, гуляниями. И с первой капелью, с теплым южным ветром, принесшим весну, пришлось вплотную усесться за книги и готовиться к трудной для всякого школьника поре – к переводным экзаменам.
Митя Ракитин и его друзья Вася Шумилов и Тереха Гамаюнов сдали испытания играючи, но не всем удалось так легко преодолеть этот барьер. Из двадцати гимназистов в третий класс перешли только четырнадцать. В числе счастливцев при крепкой помощи Мити Ракитина оказался и Колька Сарычев. Идти домой на каникулы он не захотел.
– У батьки-дьячка и без меня десять ртов, – объяснил парень и нанялся грузчиком на пристань.
И вот потянулись один за другим гимназические годы, и только весенние экзамены вставали, как верстовые столбы на длинной ухабистой дороге.
И каждые экзамены вырывали из рядов Митиных товарищей очередные жертвы. Каждую осень, приходя в класс, Митя не досчитывался одного-двух бойцов, павших в битве с трудными школьными программами.
Из первых одноклассников Ракитина до шестого класса дошли только семь человек. Конечно, на первом месте среди них были «три кита» – Василий Шумилов, Терентий Гамаюнов и Дмитрий Ракитин. И, как ни удивительно, среди выдержавших все бури и грозы в долгом пути оказался и Николай Сарычев.
Дружба, которую Колька завязал с Митей в тот момент, когда впервые его увидел, имела благотворное влияние на его жизнь. Но и немало сил затратил Митя на то, чтобы постоянно подтягивать ленивого, безалаберного друга. Эти усилия не пропали даром.
В шестом классе Митя Ракитин сильно вырос. В это радостное для него время юноша поднимался точно на дрожжах. Зарубки на дверном косяке, где отмечался Митин рост, прежде не менялись по нескольку месяцев, а теперь каждую неделю появлялась новая, поднимаясь над прежней чуть не на палец.
Много премудрости вбили за эти годы преподаватели в головы гимназистов. На первом месте стояла латынь. Были дни, когда в классах разрешалось разговаривать исключительно на латинском языке и за каждую русскую фразу полагался час карцера.
Хорошее знание латинского языка помогало гимназистам слушать в свободное время профессоров академии, так как доступ на их занятия никому не возбранялся. Гимназисты ходили на лекции физика Иозефа Брауна, медика Германа Бургава и других иностранцев.
Но гораздо чаще юноши посещали выступления Михаилы Васильевича Ломоносова, достигшего к тому времени широкой известности. Слушать Михаилу Васильевича ходила по преимуществу академическая молодежь – адъюнкты,[8] студенты, гимназисты. Лекции, где звучала точная и ясная русская речь Ломоносова и ставились придуманные им остроумные физические и химические опыты, намного расширяли их умственный кругозор, способствовали распространению науки в русском обществе.
Помимо языков, которым уделялась большая часть времени, гимназисты изучали и точные науки: алгебру, геометрию и тригонометрию, прослушали краткий курс астрономии. В программу также входили география и картография, физика, ботаника, зоология, анатомия, хотя эти науки стояли на втором плане.
Глава четвертая Сосенки
Весной 1748 года, когда Митя кончал шестой класс, Егору Константинычу удалось осуществить многолетнюю мечту: он купил деревеньку с пятнадцатью душами крепостных крестьян.
Деревенька называлась Сосенки. Она живописно раскинулась на высоком правом берегу Волхова, где-то посредине между Ильменем и Ладожским озером. Свое название деревня получила от соснового бора, подходившего под самые окна господского дома.
Когда Марков съездил туда и осмотрел имение, он вернулся очарованный. Вместительный господский дом, сосновый бор со множеством грибов, чудесная рыбалка, целительный воздух…
Егор Константиныч отнюдь не рассчитывал на доход от поместья. Барской земли в нем не было, а крестьяне сидели на скудных наделах и перебивались с хлеба на квас.
Но зато как гордо звучали эти слова: «У меня в поместье…», «Еду летом отдыхать в поместье…»!
Тщеславие? Да, но какое невинное! Егор Марков вышел из низов, из самой народной гущи, и ему льстила мысль, что он хоть в чем-то сравняется с высокомерными господами, которые давали ему заказы на токарные работы. Как он теперь осадит этих знатных гордецов! Пришлет за ним какой-нибудь Нарышкин, а он важно бросит лакею:
«Передай, братец, барину, что я его заказа принять не могу: уезжаю в поместье».
А кто поедет проверять, что это за поместье!
И Егор Константиныч начинал смеяться, представив себе озадаченное лицо слуги, непривычного к таким отказам.
По правде говоря, это было не поместье, а загородный дом, где отлично, с пользой для здоровья, можно проводить лето, охотиться, рыбачить, собирать грибы и ягоды. И за все эти удовольствия просили всего-навсего тысячу двести рублей. А у Маркова нашлось только девятьсот, больше он не сумел скопить за многолетнюю службу. Пришлось прибегнуть к помощи шурина. Иван Семеныч, случившийся на ту пору в Питере, одолжил недостающие деньги с радостью.
Столь важное семейное событие было отмечено пирушкой, где Иван Семеныч не скупился на добродушные колкости по адресу новоявленного помещика. Марков так же добродушно отшучивался.
Иван Семеныч постарел, поседел, но время еще не согнуло его ладную, прямую фигуру, и из-под рыжеватых бровей все так же молодо поблескивали глаза. Он продолжал разъезжать по России в поисках выгодных дел, затевая новые предприятия, закрывая те, что переставали приносить прибыль.
И, как всегда, он появлялся в Петербурге зимой и обязательно с коробом подарков всем родным. Однажды в разговоре Митя выказал интерес к старопечатным книгам, и в следующий приезд отец привез ему старинную пудовую Библию в кожаном переплете и редкостные богослужебные книги. Он раздобыл все это в Холмогорах, у раскольничьего начетчика, и заплатил порядочные деньги.
В другой раз Ракитин преподнес Мите пару пистолетов отличной работы итальянского мастера. Ему удалось недорого приобрести их у заезжего француза, который не рассчитал своих расходов и оказался на мели в маленьком уральском городке.
Как эти пистолеты пригодились Дмитрию в Кенигсберге!
В собственное поместье Марковы выехали в конце нюня, когда Митя сдал переводные экзамены в последний, седьмой класс. Егор Константиныч не мог оставить службу, но обещал наведываться на несколько дней, благо налегке до Сосенок можно было добраться за сутки, всего сто верст езды.
Собирались долго и основательно: перед собственными крестьянами не хотелось ударить лицом в грязь. Несколько подвод нагрузили мебелью для опустевшего барского дома – старый владелец вывез все свое добро. Было взято много провизии, посуды, постельных принадлежностей и разной мелочи, необходимой для хозяйства.
Обоз тащился неторопливо, в Сосенки приехали на третий день к вечеру.
Началось устройство на новом месте. Марья Семеновна, выбрав из деревни баб порасторопнее, хлопотала по целым дням в доме и на усадьбе. А Митя неутомимо исследовал окрестности Сосенок. Он брал с собой Андрюшу, а проводником стал деревенский парень Якимка, шестнадцатилетний сирота, подпасок при общинном стаде.
По просьбе Мити его освободили, заменив другим, а веселый Якимка с озорными глазами и жесткими, непослушными вихрами стал постоянным спутником гимназиста.
Навсегда запомнилось Мите первое лето в Сосенках. Оно тянулось как бесконечно длинный ясный день. Где бы он потом себя ни вспоминал: у быстрого ли Волхова на теплом мягком песке возле расставленных по берегу удочек; на лесном ли озере, бездонную чашу которого толпой обступили кудрявые сосны; в поисках ли грибов, когда на радость Марье Семеновне наполнялись рыжиками большие корзины; за игрой ли в городки на усадебном дворе – все один ласковый летний день, полный очарования, неустанных поисков и открытий… Веселое время – оно никогда не вернется вновь!
Любили Митя и Андрюша ездить с деревенскими ребятами в ночное.
На прогалине в лесу горит костер. За деревьями жуют и фыркают лошади. Ребята сидят у костра тесным кружком. Мерцающее пламя смутно озаряет лица. Золотисто-красный дым бледнеет, подымаясь вверх, и исчезает в неведомой вышине. Куда он уходит?..
Ребята тихо шепчутся: лесная темь овевает их приятной дремотной жутью…
Впервые за свою недолгую жизнь Митя Ракитин близко познакомился с крестьянским бытом. И суровость этого быта потрясла впечатлительного юношу.
Митя любил навещать деревенского знахаря Кондратия, широко известного в округе. Лысый, согнутый старик, с пожелтевшей от старости бородой, принимал барчука ласково, но без подобострастия, без униженных поклонов.
Закоптелую избушку едва освещало оконце, затянутое промасленным бычьим пузырем. В пазах между бревнами кишели полчища тараканов. Печка топилась по-черному. Каждое утро изба наполнялась облаками дыма. Только внизу, на щелястом полу, можно было кое-как дышать.
Когда Митя начинал задыхаться от едкого дыма, он выбирался на завалинку, оставляя старика хлопотать у печки. Неприкрытая нищета глядела отовсюду. Юноша видел, как ребятишки, с черными от копоти лицами, в отцовских сапогах, а чаще босиком, в драных рубашонках, перебегали из избы в избу. Изможденный мужик вез на тощей лошаденке воз хвороста. Бабы таскали на коромыслах тяжелые ушаты воды – поливать огородные грядки. Грустные, хватающие за сердце картины…
И как же радовался Митя, когда узнал от матери, что Егор Константиныч наполовину сбавил своим крестьянам оброк, который они платили прежнему помещику. Оброк этот тяжелым бременем ложился на крестьянские хозяйства. Мужикам стало гораздо легче, тем более что новый владелец Сосенок не торопил их с уплатой.
«Не разбогатеет дядя Гора от этой покупки, – смеялся про себя Дмитрий. – А все-таки какой же он добрый, сердечный человек…»
Митя с юношеской восторженностью думал:
«Никогда-никогда не случится того, чтобы я народное горе себе на пользу оборотил…»
Два-три раза юноше довелось наблюдать, как дед Кондратий пользует больных. Однажды в избу вошла баба с распухшей щекой. Зажимая щеку ладонью, она жаловалась на зубную боль.
Под полой баба принесла тощего, заморенного петуха. Петух, выскочив на волю, ошалело закрутился по избе и хрипло заорал: «Ку-ка-ре-ку!..»
Дед Кондратий зажег восковую свечку и прилепил перед иконой.
– Ну, Дарьюшка, – обратился знахарь к женщине, – становись на колени, молись Богу!
Баба закрестилась, усердно отбивая земные поклоны. Глаза знахаря смотрели строго из-под седых кустистых бровей. Сгорбленная фигура его выпрямилась. Лысая голова отливала матовой желтизной. Кондратий читал внятно и торжественно:
– «На море-окияне, на острове Буяне стоит соборная апостольская церковь. В той церкви молятся матушка вечерняя заря Маремьяна и преподобный Антипий, зубной исцелитель. Они просят и молят: как у вас, святых угодников, зубы не болят, так бы не болели зубы у рабы божией Дарьи. Нет моим словам переговора и недоговора, не изменить их ни хитрецу, ни мудрецу, и будут они неизменны во веки веков. Аминь!» – Кончив, обратился к Дарье: – Ну, касатка, будь спокойна! Все как рукой снимет. Этот наговор сильный, супротив него никакая зубная боль не выстоит.
– Спасибо, родименький, уж будто и полегчало…
Баба с поклонами и благодарностями оставила избу.
– Много ли ты знаешь наговоров, дедушка? – с любопытством спросил Митя.
– Много, родной, много. Сколько болестей, столько и наговоров. А болести, милой, Господь на нас посылает за грехи, и несть им числа. Одних лихоманок семь сестер: знобея, трясея, бормотея, неядея…
– Какие диковинные имена… – удивился юноша.
– Поделом им даны, родименький. Накатится на человека знобея, в жаркой бане на полке не согреется. Ей на подмогу трясея спешит: затрясет его так, что и зубы в гнездах расшатываются. А тут еще и бормотея в уста ему беспамятные, беспонятные речи вкладывает, неядея голодом последние силушки подтачивает… Много народушку православного губят сестры проклятые…
В Питер вернулись к Успеньеву дню: Митя обязан был явиться на занятия. В город взяли Якимку: бывший подпасок стал дворовым человеком, слугой в доме Марковых. Егор Константиныч улыбнулся, узнав о том, как распорядилась жена, но прекословить не стал.
Глава пятая Мечты и раздумья
Последний школьный год! Как сладко замирает сердце юноши, когда он думает о том, что скоро перед ним откроется дорога в жизнь…
Судьба, казалось, улыбалась Дмитрию Ракитину. Сын богатого купца, он мог перенять отцовское дело и продолжать его с большим или меньшим успехом. Но Митю не привлекала торговля. Если бы он рос в купеческой семье, где все разговоры с утра до вечера ведутся о том, как подешевле купить и подороже продать, где вся атмосфера проникнута духом наживы, Митя, быть может, и сам заразился бы страстью к торговле.
Но у Марковых обстановка была совсем другая. Егор Константиныч, возвращаясь с поездок на пороховые мельницы, рассказывал домашним о том, какие усовершенствования удалось ему внести в производство. Случалось, посылали искусного мастера в Москву, на Монетный двор, с поручением исправить разладившиеся станки, и тогда Марков долго и интересно повествовал о том, как подготавливается сплав для монет, как вытягивается металлическая лента, из которой вырубаются на особом прессе золотые и серебряные кружки. Семейные узнавали от Маркова о том, какую важность имеет для государства правильное денежное обращение.
В кабинете Маркова стоял токарный станок, на котором он работал в вечерние часы. К станку была привинчена серебряная дощечка с изящно выгравированной надписью:
Прошу к сему станку относиться с почтением,
ибо на нем работал сам государь
ПЕТР ВЕЛИКИЙ
Это был тот самый станок, который Егор Марков когда-то сделал собственными руками – и потом вносил в него различные улучшения – и на котором приходилось работать царю Петру.
И к этому станку и ко всему, что в доме старого токаря было связано с памятью Петра, Егор Константиныч относился с фанатической преданностью. На стене в столовой висел большой портрет Петра. Царь был изображен во весь рост около пушки на поле Полтавской битвы. Раму изумительной работы Марков сделал собственноручно.
В табакерке Егора Конетантиныча на внутренней стороне крышки была вделана миниатюра кисти самого Гроота,[9] изображавшая Петра в адмиральском мундире. Каждый раз, когда старик, заложив понюшку табаку, чихал, он кланялся портрету и с глубокой серьезностью провозглашал:
– На вечную память государю Петру Алексеевичу и потомству его на доброе здравие!
Как-то Митя посмеялся над этой процедурой и получил от дяди здоровенный подзатыльник.
Марков ежедневно и ежечасно свидетельствовал свою любовь к царю Петру.
Когда к Маркову приходили старые школьные друзья, контр-адмирал Кирилл Прокопьевич Воскресенский и советник Иностранной коллегии Трифон Никитич Бахуров, то за столом разговор велся о былых делах, о тех временах, когда создавалось могущество русской земли. Кирилл рассказывал о славных морских битвах при Гангуте и Эзеле, а Бахуров вспоминал, как достойно держалась русская делегация на Аландском конгрессе, когда дипломатам требовалось закрепить успехи русского оружия в Великой Северной войне – этой суровой «трехвременной школе» нашего народа.[10]
Митя с горящими глазами слушал речи друзей Егора Константиныча, и как он завидовал им, видевшим самого Великого Петра, работавшим под его руководством!
В седьмом классе Дмитрий увлекся естественными науками – физикой и химией. В этих науках Дмитрий, удивляя и радуя преподавателей, оказывал огромные успехи. Физические и химические законы Ракитин усваивал так легко, будто они скрывались в его памяти, и достаточно было небольшого усилия, чтобы они всплыли наверх.
О талантливом гимназисте рассказали Ломоносову, и Михайла Васильевич пожелал его видеть. Смущаясь и радуясь, Митя вошел в химическую лабораторию. Краснея, шагнул юноша к обожженному кислотами столу, у которого сидел Михайла Васильич, плечистый, с могучей грудью, с сильными рабочими руками.
– Вы желали меня видеть, – пробормотал он. – Я – Дмитрий Ракитин.
– А, ты – тот даровитый гимназист, про которого я наслышан от твоих преподавателей? Рад, очень рад тебя видеть!.. Химия и физика зовут к себе свежие силы, которые продолжат наши труды.
Ломоносов стал говорить, что физике и химии суждено великое будущее, что они сыграют огромную роль в жизни людей. Ломоносов предсказывал, что физики изобретут такие машины, которые намного облегчат труд человека. Для примера он привел паровой двигатель Дени Папена,[11] о котором ему приходилось слышать в бытность за границей.
– Сей Папен даже пытался поставить свою машину на корабль, чтобы двигать его не слабой силой человеческих рук, не капризной силой ветра, а мощью пара, которую возможно довести до любых пределов. Суеверы разрушили детище Папена и не позволили искусному изобретателю довести дело до конца. Но придет время, – вдохновенно говорил Михайла Васильич, – и могучие паровые суда станут пересекать океаны, смеясь над коварством стихий…
Сердце у Мити радостно замирало, когда он слушал такие речи из уст боготворимого учителя.
«Я обязательно пойду учиться дальше, – думал Ракитин, – поступлю в университет, в физический класс… Уж там-то я от Михайлы Васильича перейму всю физическую науку и буду стараться двигать ее дальше…»
В июне 1749 года Дмитрий Ракитин окончил курс академической гимназии и подал прошение о приеме в университет.
Терентий Гамаюнов и Василий Шумилов решили стать математиками, а Николай Сарычев поступил в сенатскую канцелярию. Его отец-дьячок умер, и на руки Николая свалилась многочисленная семья.
Глава шестая Университет
Российская Академия наук, или де сианс академия, как ее называли в те времена на французский манер, была открыта в конце 1725 года. Осуществилась мысль Петра I, которую он вынашивал долгие годы. Но царь при жизни успел только утвердить устав академии да послать за границу библиотекаря Шумахера набрать для нее иностранных профессоров.
Академия наук состояла из трех «классов»: 1) математического, 2) физического, 3) гуманитарных наук, истории и права. При академии были учреждены университет и гимназия.
Каких только поручений не выпадало на долю профессоров и адъюнктов Российской де сианс академии. То вдруг прикажут срочно переплести во французские переплеты собрание арабских сказок под названием «Тысяча и одна ночь» То потребуют представить «Ведомость о том, коликое количество от Санкт-Питербурха до Москвы между городами и почтовыми станами верст». Или спешно составить по всем правилам астрологии гороскоп[12] по случаю рождения ребенка в знатной семье…
Грандиозные цели замышлял для Академии наук царь Петр, когда решил создать в России это высшее научное учреждение. Иностранные академии обычно замыкались в самих себе, в их работе занимала видное место богословская «наука». А Российской Академии наук предназначалось распространять в стране просвещение, воспитывать кадры русских ученых, чуждых церковному духу.
Огромную роль в развитии этого первого русского научного центра играл Михайла Васильевич Ломоносов.
Ломоносов стал средоточием всего русского, народного, что по крупицам собиралось в стенах Академии наук и в юном городе, раскинувшемся по берегам Невы. Все молодое, свежее, талантливое тянулось к Михайле Васильичу, как весенняя травка к солнцу, и он никому не отказывал в поддержке.
Разносторонность Ломоносова была изумительна. Его пытливый ум интересовали не только естественные науки. Он стал основателем российского стихосложения, писал звучные оды, размышлял над проблемами русской грамматики, проводил исторические изыскания, занимался металлургией… И всегда, во всем стояла у него на первом плане Россия, Родина. Единственной целью жизни гениального помора было доказать, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать».[13] И Ломоносов все делал для этого со свойственной ему необычайной работоспособностью.
Сын рыбака, сам прошедший трудную житейскую школу, Ломоносов усердно выискивал в народе способных юношей, стремившихся к образованию, и всячески помогал им на нелегком пути. Михайла Васильич благожелательно относился к иностранным профессорам, которые добросовестно работали в академии и передавали ученикам свои знания. Но он был злейшим врагом искателей счастья, приезжавших в Россию за легкой наживой. С ними у Ломоносова случались крупные ссоры и стычки, в которых приходилось разбираться высшему начальству. Михайлу Васильича наказывали, но наказания не смиряли упрямого правдолюбца – он продолжал свою линию.
Жестокую многолетнюю борьбу вел Ломоносов с правителем академической канцелярии Иоганном Шумахером.
Шумахера с полным правом можно назвать злым гением Российской Академии наук. В продолжение своей более чем сорокалетней деятельности Шумахер причинил русской науке неисчислимый вред. Еще с первой своей поездки за границу, когда он вербовал для России академиков, он со многими из них подружился, и потом, в Петербурге, они стояли за него горой.
Хитрый, властолюбивый и алчный, он на все открывавшиеся в академии должности старался протащить своих родных или сторонников.
По настоянию Шумахера Ломоносова «за оскорбление конференции профессоров» посадили в холодную сырую каморку. Там он должен был ожидать царской резолюции. Покровителей при дворе Ломоносов не имел, жалованье ему выдавать перестали, и от голодной смерти спасала жена, таскавшая заключенному узелки с провизией.
Михайлу Васильича могли ждать батоги, ссылка, но он не сдавался: ко многому приучило его многотрудное житье в Москве, когда в Славяно-греко-латинской академии постигал он начатки наук. А заключение освободило его от многочисленных повседневных занятий и позволяло сосредоточить внимание на очень важном научном вопросе, давно занимавшем Ломоносова. Он стал работать над диссертацией «О тепле и стуже».
Эта диссертация была началом его серьезных исследований, завершенных через несколько лет. И эти исследования, если бы даже они оказались единственными в научной деятельности Ломоносова, поставили бы его в число величайших физиков мира. Он создал свою знаменитую теорию теплоты.
Почему закипает вода в горшке, поставленном на огонь? Почему нагревается топор, внесенный с холода в теплую комнату? Почему остывает к утру истопленная вечером печь?
Почему, почему?.. Таких вопросов о теплоте у людей возникают тысячи и миллионы. В XVIII веке все явления, связанные с теплотой, ученые объясняли существованием особого вещества – теплорода. Физики считали, что есть особая упругая, невесомая материя, теплород, входящая в состав всех тел природы – твердых, жидких, газообразных. И температура тела зависит от количества находящегося в нем теплорода. Считалось, что теплород переходит из того тела, где его больше, туда, где его меньше: этим объясняли остывание и нагревание тел.
И, однако, теплородная теория при всей ее простоте и универсальности не удовлетворяла Ломоносова.
Еще в XVII веке Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт,[14] развивая мысль некоторых древнегреческих философов, считали, что теплота происходит от движения мельчайших молекул, из которых состоят все тела. Эту несовершенную молекулярную теорию теплоты развил Ломоносов, придал ей цельность и неопровержимость.
Корпускулы,[15] из которых состоят все материальные тела, вращаются, утверждал Ломоносов, и чем быстрее их движение, тем выше температура тела. В газах, говорил он, частицы движутся свободно, поэтому при нагревании они удаляются одна от другой, и объем газа увеличивается, а плотность его уменьшается…
Вот какие научные вопросы необычайной важности разрешал профессор химии де сианс академии Ломоносов. И к этому гениальному ученому попал в ученики юный Дмитрий Ракитин.
Овладевая тайнами физики и химии, Дмитрий не жалел ни сил, ни времени. Уйдя из дому утром, он возвращался поздним вечером. И если к нему приступал с расспросами двоюродный брат Андрюша, то слышал от студента только такие непонятные слова, как кислотная и щелочная реакция, катализаторы, анализ и синтез… Огорченный мальчишка отходил прочь.
Марья Семеновна тихо ахала, то и дело замечая на Митиной одежде новые дырки, прожженные кислотами.
«А руки-то, руки… – сокрушалась про себя добрая женщина. – Посмотришь, ну прямо раскаленные угли берет, все-то пальцы посжег…»
А Дмитрий был счастлив. Он и его товарищи – Михайла Софронов, Василий Клементьев, Иван Федоровский – под руководством профессора целыми днями проводили исследования. Окружавшие Михайлу Васильича студенты чувствовали, как со дня на день, из месяца в месяц растет их научный кругозор, как развивается уменье логически мыслить, ставить смелые опыты и делать из них еще более смелые выводы.
Первым по успехам всегда оказывался Дмитрий Ракитин. Он в полной мере показал свои огромные способности к химии. Самые сложные научные теории Ракитин воспринимал удивительно легко, ему не раз удавалось придумывать остроумные опыты, подтверждавшие их справедливость.
Как гордился Дмитрий, слыша одобрительное слово учителя после удачно проведенного опыта! Впрочем, Михайла Васильич хвалил своих учеников скупо – он знал цену похвале, понимал, что излишнее захваливание родит у человека зазнайство.
Но авторитет Ломоносова был настолько велик, что даже ласкового похлопывания по плечу достаточно было, чтобы Дмитрий очутился на седьмом небе от радости.
В жизни Марковых произошла большая перемена: Егор Константиныч оставил государственную службу. В шестьдесят лет нелегко ему стало мотаться по пороховым мельницам, трястись в телеге по избитым дорогам, ночевать на постоялых дворах в обществе разгульных ямщиков. Ему назначили небольшую пенсию, при отставке дали следующий чин, и зажил Егор Константиныч вольной птицей.
Теперь он мог уезжать с семейством на целое лето в Сосенки. И там лежи себе в саду и наслаждайся отдыхом. Но не тут-то было: неугомонные руки, за полвека привыкшие к труду, требовали работы. Егор Константиныч даже в то время, когда состоял на государственной службе, по вечерам занимался токарной работой, а теперь он мог отдавать любимому делу все свое время.
У знатных вошли в моду изделия Маркова. Платили ему хорошо. Токарь отдал Ивану Семенычу деньги, занятые на покупку поместья, и каждый месяц прятал в потайное место десяток-другой червонцев[16] на черный день.
Годы унесли у Ивана Семеныча Ракитина былую предприимчивость и силу. Он уже не мог, как прежде, совершать многомесячные путешествия по Руси и сосредоточил свою деятельность в Архангельске. Он завел там небольшую верфь и начал строить торговые корабли. Рабочих было немного, верфь выпускала по одному судну в сезон, но Ракитин довольствовался и этим.
– Проучишься три года в этом твоем университете, – говорил он сыну, – три суденышка у нас будут. Снаряжу их, нагружу товаром, и поедешь с ними за границу…
Дмитрий молчал. За границу он поехал бы с радостью, но не отцовским приказчиком, а совсем с другой целью: посмотреть другие страны, послушать иностранных профессоров, о которых рассказывал Михайла Васильич. Но, не желая огорчать отца, младший Ракитин до поры до времени таил свою мечту.
Закончив университетский курс обучения, Дмитрий решился открыть отцу свои тайные планы. Иван Семеныч посетовал, что Митя не хочет идти по проторенной им дорожке. Примирившись с мыслью, что Мите, как видно, не суждено стать негоциантом и водить отцовские корабли из Архангельска в Англию, Данию и Нидерланды, Иван Семеныч утешился тем, что сын повидает свет, усовершенствуется в языках и, вернувшись, быть может, получит видную должность по ученой части.
По своим успехам Ракитин стоял первым среди юношей, которые могли рассчитывать на заграничную поездку за счет государства. Дмитрий попросил исключить его из списка: он отправился на отцовские средства.
Старики Ракитин и Марков послали с Дмитрием Якима. Бывший пастушонок за четыре года жизни в столице значительно пообтесался, хорошо выучил грамоту, полюбил читать книги.
Иван Семеныч вручил сыну тысячу ефимков,[17] дал заемные письма[18] на банкиров, с которыми имел торговые дела, и наказал не транжирить деньги зря, вести себя достойно, помнить, что он сын не последнего в Российской империи купца. Он и Якима отправил с Митей, зная, что на человека, путешествующего без камердинера, одиноко, повсюду смотрят пренебрежительно.
В ветреный июньский день 1752 года Дмитрий Ракитин вошел на борт «Святой Екатерины», и корабль петербургского купца Карташевского отправился в дальний путь. Иван Семеныч махал с пристани платком.
Отец и сын не знали, что расстаются навсегда.
* * *
После ночи, проведенной в воспоминаниях, Дмитрий заснул только на рассвете. Разбудил его яркий солнечный луч, светивший прямо в лицо. Ивана Васильева уже не было в каюте: он ушел, аккуратно сложив постельные принадлежности на сундук.
Вскоре явился Яким с завтраком, взятым в ближайшем трактире на берегу. Расставляя судки на откидном столике, он недовольно говорил:
– Дивлюсь я на тебя, Митрий Иваныч! Всякого бродягу готов приветить. Ну скажи на милость, на кой прах разрешил ты этому пройдисвету являться сюда, на корабль?
– А почему бы и нет? – возразил Ракитин. – Поговорить с новым собеседником всегда любопытно. Скука же смертная…
– А коли скука, сударь, читал бы книжки, – наставительно заметил Яким. – Вон у тебя сколько их.
Яким продолжал ворчать, стуча судками и мисками.
– Чует мое сердце, повадится этот Ивашка шляться к нам, не выпроводишь…
Глава седьмая Заговорщик Иван Зубарев
Опасения Якима оправдались. Иван Васильев явился на «Прозерпину» вечером этого же дня. Он держал себя скромно, много раз кланялся, униженно просил прощения за свой приход, и Дмитрий, которому это надоело, довольно резко оборвал его и предложил сесть.
Иван Васильев примостился на сундуке под иллюминатором. Он начал с того, что человек он торговый и последние месяцы проживал в раскольничьих скитах на Ветке (в пределах Польши), а сюда привез кой-какие товары, которые веткинские купцы поручили ему продать в Кенигсберге.
Впрочем, о своей теперешней деятельности Иван Васильев не стал распространяться, а пустился в рассказы о детстве. По его словам, был он сыном посадского[19] из далекого сибирского города Тобольска, расположенного на могучей реке Оби при впадении в нее полноводного Тобола.
Иван Семеныч Ракитин во время своих торговых разъездов бывал и в Тобольске, и Дмитрий кое-что знал от отца об этом городе, резиденции сибирского воеводы. Ему интересно было услышать, что расскажет о нем гость.
Васильев с юмором повествовал о том, как он учился грамоте у дьячка Амфилохия. Учили его по псалтырю, переплетенному в толстые доски. Весила книжища добрых полпуда.[20] И когда кто-нибудь из учеников делал ошибку при чтении, наставник заставлял его держать на вытянутых руках псалтырь до тех пор, пока он, Амфилохий, не прочитает тягучим голосом длинную молитву.
– Поверите ли, сударь Дмитрий Иваныч, семь потов с тебя сойдет, пока держишь эту громадину и силишься не уронить. Потому, коли уронишь, все начинается сызнова. Но зато, сударь, уж и старались же мы…
Дмитрий от души смеялся, слушая, какое странное наказание придумал изобретательный дьячок для ленивых учеников.
Затем Иван Васильев перешел к рассказу о том, какое изобилие рыбы в Оби, Тоболе и многочисленных озерах в поймах этих рек.
– Какие у нас осетры водятся в Оби, сударь! – говорил Васильев с раскрасневшимся лицом. – Запутается такой зверюга в невод, его и в лодке не упоместишь – приходится привязывать на уздечке к корме… А сколько стерляди, сколько нельмы в Тоболе! А какие караси и лини в старицах – не поверите: в добрый поднос! И блестят, как червонное золото…
Даже Яким, сразу невзлюбивший Васильева, смягчился, слушая пространные рассказы сибиряка о природных богатствах его родины, об охоте и рыбной ловле в окрестностях Тобольска.
Васильев, взглянув на потемневший иллюминатор, сразу заторопился уходить.
– Пора, пора мне, сударь, засиделся я у вас… После вчерашней баталии смерть напуган я, затемно нипочем не пойду один.
Когда Иван Васильев оставил каюту, Яким пренебрежительно фыркнул:
– Пустой человек! И зачем он к нам приходил, понять не могу. Рассказывать про псалтырь да про карасей?..
Но оказалось, что у посадского, заброшенного судьбой на чужбину, были другие, гораздо более серьезные цели.
Васильев снова пришел дня через три.
Поболтав немного о разных пустяках, он перевел разговор на обстоятельства, при которых начала царствовать императрица Елизавета Петровна.[21] Это произошло в ночь на 25 ноября 1741 года, когда был свергнут император-младенец Иванушка, Иван Антонович.
Елизавета Петровна во главе роты преданных ей солдат явилась в спящий дворец, арестовала правительницу Анну Леопольдовну, мать императора, и его отца, герцога Антона-Ульриха. Были арестованы и сосланы высшие сановники государства, по преимуществу немцы.
Мите Ракитину было тогда одиннадцать лет, и политические события его мало интересовали. Но он хорошо помнил, что дядя Гора встретил известие о совершившемся перевороте с большой радостью, и это объяснялось просто: свою любовь и преданность царю Петру он перенес на его дочь Елизавету.
– Теперь дела у нас пойдут на отличку! – восторженно говорил старый мастер, вернувшись из собора, где был прочитан манифест о том, что Елизавета Петровна «восприяла родительский престол». – Кончилось немецкое засилье, довольно над нами повластвовали все эти Остерманы и Минихи![22]
Радость Маркова разделяли многие русские люди: у них появилась надежда, что в новое царствование народу станет жить легче. Эта надежда не сбылась: вековые порядки в государстве остались прежними.
Из уклончивых рассуждений Ивана Васильева Ракитину стало ясно, что тот не одобряет переворот 1741 года и хочет знать его мнение на этот счет.
– Я – человек науки, – отвечал гостю Дмитрий, – высокая политика меня не касается. Не нам с вами сажать на престол царей и свергать их.
– Ну, это еще как сказать, – неожиданно возразил Васильев, и Дмитрий посмотрел на него с удивлением.
– Я считаю такой разговор неуместным, – сухо молвил он.
Но гость не унялся. Из его намеков вытекало, что тот, кто сумел бы вернуть царство низвергнутому императору, приобрел бы неслыханную власть, стал бы вторым лицом в империи…
– Да нам-то с вами какое до этого дело? – с досадой оборвал Васильева Дмитрий. – Это вы, что ли, хотите стать таким лицом? – насмешливо спросил он.
– Ну, я не я, а есть люди, что ездят по России и чужим землям, вербуют сторонников свергнутому императору, лишенному престола в противность праву. Сии люди думают произвести в нашем государстве великую перемену.
– С такими людьми я никогда не стану иметь дела! – внушительно сказал Ракитин.
Иван Васильев, видимо, почувствовал, что зашел в своих высказываниях слишком далеко, поспешно распрощался и ушел, оставив Ракитина в недоумении и тревоге.
На следующий день Васильев явился снова. Похоже было, что он ждал, когда Ракитин останется один, потому что явился минут через пять после того, как Яким отправился в город по делам.
На этот раз гость держался гораздо развязнее, чем в предыдущие посещения; как видно, отсутствие Якима придало ему духу.
Не тратя времени на предисловия, он сразу признался Ракитину, что его странствия по России и за границей имеют определенную цель: возвести на престол низверженного Ивана Антоновича, а для этого он, Васильев, повсюду набирает сообщников…
От такой дерзости посетителя у Дмитрия перехватило дыхание и даже не нашлось слов для ответа. Наконец Ракитин заговорил глухо и прерывисто:
– Да вы… Да знаете ли вы… ведь это настоящая государственная измена! За такие дела голову на плаху кладут!..
– Э, полноте, – беспечно возразил заговорщик. – До плахи далеко, на плаху другие головы лягут. Чего мне бояться в неметчине: здесь сыщиков Тайной канцелярии[23] нет! Вам, может, и хочется побежать с доносом на меня, да ведь некуда! Не-ку-да!.. – с удовольствием повторил Васильев, наслаждаясь звучанием этого слова. – А только напрасно, скажу я вам, сударь Дмитрий Иваныч, отнекиваетесь от сообщества со мной: бо-о-оль-шим человеком можете стать!
Дмитрия трясло негодование, он с трудом сдерживал желание взять тщедушного гостя за шиворот и вытряхнуть из него душу. А тот, сознавая, что такой богатырь, как Ракитин, не унизится до кулачной расправы, продолжал, посмеиваясь:
– Я, сударь Дмитрий Иваныч, вполне вам доверяю, насчет доноса это я так, сгоряча, сболтнул, донос – ведь это, батюшка, дело обоюдоострое: он столько же опасен вам, как и мне…
Дмитрий с ужасом сознавал истину этих слов: справедливость доноса, или извета, как часто говорили в те времена, надо было доказывать на дыбе, под кнутом, и много требовалось решимости, чтобы крикнуть «Слово и дело».[24]
А осмелевший посадский все сильнее старался втянуть собеседника в ту паутину, которую он плел во время разъездов по Руси и другим странам. Ведь самое незначительное прикосновение к государственному заговору уже делало человека в глазах властей опасным преступником. К таким людям царский суд был беспощаден. Васильев называл имена раскольничьих игуменов, благословивших его на дерзкое предприятие, говорил о планах похищения царственного узника Иванушки…
Наконец Дмитрий опомнился.
– Убирайтесь прочь! – вскричал он, сжимая кулаки. – Уходите отсюда и молите Бога, чтобы эта наша встреча оказалась последней в жизни!
– Я уйду, – хладнокровно ответил посадский, – но, чтоб вы знали, как я всецело вам вверяюсь, открою вам, сударь, подлинное мое наименование, кое я до времени от вас скрывал. Прозываюсь я Иваном Васильевым сыном Зубаревым, и за сим поклон мой вам и почтение!
Зубарев одним прыжком оказался за дверью, но, обратив в каюту насмешливое лицо, успел крикнуть на прощание:
– А за то, что про дядюшку вашего, про бывшего царского механика Маркова, рассказали мне, истинное вам спасибо! Кто-нибудь из наших побывает у него в Питере, авось он окажется сговорчивее! А коли заартачится, то не сладко ему придется!..
Дмитрий хотел броситься вслед авантюристу, но тот уже грохотал по трапу.
– Негодяй, ах, подлый негодяй! – в бешенстве повторял Ракитин. – Ну, посмей только еще раз ко мне явиться! Зубарев, Зубарев!.. Ну, кто бы мог подумать, что этот проходимец окажется Иваном Зубаревым?.. Да знай я, что это он, с превеликой радостью оставил бы его на расправу разбойникам… Эх, прав был Яким, когда советовал мне не ввязываться в это дело!
Здесь необходимо рассказать, почему то обстоятельство, что мнимый Васильев оказался Зубаревым, вызвало такой гнев Ракитина. Этот авантюрист давно был известен Ракитину с самой нелестной стороны, но только заочно, встретиться с ним в Петербурге ему не пришлось.
В конце 1751 года тобольский посадский Иван Зубарев сумел вручить императрице прошение, в котором говорилось, что ему удалось открыть за Уралом на реке Исеть богатые серебряные руды и он, Зубарев, хочет закрепить за собой право на их разработку.
Зубарев представил образцы руд, они были переданы на исследование в химическую лабораторию Ломоносова и в Монетную канцелярию в Москве. Михаила Васильич нашел, что руды действительно богаты серебром, и представил об этом рапорт по начальству. А Москва дала о зубаревских образцах резко отрицательный отзыв: «В этих рудах весьма мало или ничего серебра не явилось».
Разгадка оказалась простой: предприимчивый рудоискатель подмешал в простую горную породу куски серебра из разломанного поповского креста! Вот такая фальшивая руда и попала в ломоносовскую лабораторию.
Враги Михайлы Васильича, и среди них, конечно, Шумахер, ополчились на Ломоносова, обвинили его в злонамеренном обмане, в сообществе с мошенником, который якобы обещал Михайле Васильичу долю в прибылях, если ему удастся продать фальшивое месторождение в казну.
Пришлось великому ученому писать объяснение, доказывать, что он сам стал жертвой «зубаревского воровства». Дело кончилось для Ломоносова благополучно, но пришлось пережить немало неприятностей.
Лаборанты Ломоносова и его студенты страшно возмущались поступком сибирского авантюриста, и плохо ему пришлось бы, если бы он посмел появиться в академии.
Но Зубарев уже сидел в тюрьме, и розыск по его делу только начался, когда Дмитрий покинул родину.
Каким образом Зубарев оказался на свободе, и даже в пределах Пруссии, Дмитрий не имел ни малейшего понятия. Можно было только предположить, что ему удалось сбежать из заточения, потому что вряд ли такого опасного преступника могли выпустить.
Дмитрий Ракитин понял одно: Зубарев, после того как провалился его «прожект» разбогатеть, продав казне фальшивое рудное месторождение, принялся осуществлять другой, неизмеримо более серьезный – свергнуть с престола императрицу Елизавету Петровну. Вот с этой-то целью он разъезжал по разным странам, этим объяснялись его посещения ракитинской каюты: он хотел завербовать себе еще одного сторонника.
Было очевидно, что Зубарев больше не придет на «Прозерпину», но его последняя угроза – попытаться вовлечь в заговор Егора Константиныча – чрезвычайно расстроила и напугала Ракитина. Эта попытка могла причинить Маркову серьезные неприятности, более того – грозила погубить его. У Тайной канцелярии были длинные руки, а такая добыча, как бывший пороховой механик, попадалась сыщикам не часто.
«Надо немедленно предупредить дядю об этой опасности, которой подверг я его своим длинным языком», – подумал Дмитрий и сел писать письмо в Петербург.
Глава восьмая Письмо
Жужжал токарный станок. Скрипела педаль под ногой. Высокий сутулый старик обтачивал кусок слоновой кости. Тонкими струйками била из-под резца костяная пыль. В горле у мастера першило, он сухо покашливал, но на морщинистом лице светилось довольство работой: из куска кости вырастала изящная шахматная фигурка.
За работой токаря с любопытством следил маленький лысый человек в ливрее камер-лакея.
– Устали, Егор Константиныч? Отдохнули бы, – молвил лакей.
Токарь ответил внушительно:
– В былые времена, сударь, ночи за станком простаивал, а устали не знал. Блаженной памяти государь Петр Алексеевич не терпел заминок в работе. «Промедление смерти невозвратимой подобно», – говаривал государь.
– Ведь вы, Егор Константиныч, в большом приближении были у его величества?
– Не могу пожаловаться, сударь! Любил меня покойный государь. Захаживать ко мне изволил, обедал у меня, на станке – вот на этом на самом – работал не раз.
Когда Марков говорил о Петре, глаза его горели фанатическим огнем, а голос звучал торжественно.
– Позвольте, Егор Константиныч, откланяться с превеликим моим почтением, – промолвил камер-лакей, вдоволь налюбовавшись работой Маркова. – Я доложу ее величеству государыне Елизавете Петровне, что шахматы завтра ввечеру будут готовы.
– В совершенной точности.
– Полагаю, батюшка Егор Константиныч, вы немалую награду получите. Шахматы отменно хороши. Сам падишах персидский красоте их подивился бы…
Старик проводил посетителя и только принялся снова за работу, как вбежал веселый курносый мальчуган лет четырнадцати.
– Прости, батюшка! Почтовый служитель письмо принес.
– Письмо? – встрепенулся Марков. – Уж не от Митеньки ли? Давай, давай сюда!
Токарь уселся на стул, поправил очки.
«В город Санкт-Петербург, на Васильевский остров, в 5-ю линию, его высокородию господину коллежскому советнику и кавалеру Маркову Егору Константиновичу в собственные руки».
– Так, так… – бормотал старик. – Это точно Митенька пишет. Ступай, мать позови!
В комнату проворно вкатилась толстенькая подвижная старушка с румяным и свежим лицом, с седыми волосами, спрятанными под кружевным чепчиком. В одной руке у нее был клубок шерсти, в другой чулок.
– Письмо от Митеньки?! Скорей, отец! Да ну, читай же!..
Она присела на табуретку, а руки ее проворно продолжали вязать чулок. Марков понюхал табаку, помянул царя Петра и его потомство, распечатал конверт и медленно начал читать:
– «Почтенный дядюшка, милостивый государь и благодетель Егор Константинович и милая маменька Марья Семеновна! Сколь много я обязан за ваши попечения и присланные вами деньги, на бумаге изобразить невозможно! Надеюсь, впрочем, по приезде в Санкт-Петербург…»
Старушка вскочила с табуретки.
– Митенька едет домой?!
Остановленная строгим взором мужа, она замолчала.
– «…выразить свою глубокую благодарность за вашу благодетельную помощь. Без нее не смог бы я покинуть чужие края и возвратиться в пределы отечества…»
– Скоро ли у нас-то будет? Ничего там не прописано?
Марков с сердцем крикнул:
– Да побойся ты бога, Марья Семеновна! Ежели так перебивать будешь, я и до вечера не кончу, а мне для царицы шахматы точить…
– Ведь я Митеньку с пеленок вынянчила… Ну, молчу, молчу!
Старушка плотно сжала губы, и спицы снова замелькали в ее руках.
– «…С превеликим душевным прискорбием узнал я из вашего письма, дорогой дядюшка, о разорении и смерти любезного родителя моего Ивана Семеновича…» Гм… гм…
Марков закашлялся и, опасливо взглянув на Марью Семеновну, пропустил несколько строк.
– «…Мои денежные обстоятельства оказались весьма трудными, но, по счастью, встретил я в Кенигсбергском порту батюшкина знакомца Макса Гофмана. Сей добрый негоциант принял меня на свой бриг „Прозерпина“ и доставит в Петербург с оплатою проезда в порту назначения…»– Марков поправил сползавшие очки и весело заметил: – Купец выгоду везде соблюдает. Нет, чтобы провезти Митю бесплатно: ведь небось немало барышей огреб на сделках с Иваном Семенычем… – Егор Константиныч продолжал читать: – «…Должен поведать вам, дорогой дядюшка, что здесь случилась со мной весьма неприятная история. Возвращаясь ночной порой, мы с Якимом выручили из рук грабительской шайки человека, который назвался тобольским посадским Иваном Васильевым…»
– Господи, твоя святая воля! – ахнула Марья Семеновна. – С грабителями подрался! Долго ли до беды…
– Помолчи, старая, не мешай, – оборвал жену Марков. – Чует мое сердце, не в грабителях тут дело… «…И этот якобы Васильев, поначалу вкравшийся в мое доверие и не единожды приходивший ко мне на корабль, по собственному своему признанию оказался Иваном Зубаревым…»
Морщинистое лицо Маркова мертвенно побледнело. Старик со страхом огляделся по сторонам.
– Андрюшка, постой за дверьми! Нет ли там кого из прислуги?
Выпроводив сына, он плотно прикрыл дверь и только тогда зашептал изумленной жене:
– Ребенок по глупости сболтнуть может… А я про этого Зубарева такое знаю… – Егор Константиныч продолжал чтение пониженным голосом: – «…Мы с вами, дядюшка, слыхали про воровской прожект сего мошенника обмануть казну продажей фальшивых залежей руды, чем доставил он много хлопот Михайле Васильичу. Мне неведомо, какими путями сей авантюрьер[25] обрел свободу и очутился в Пруссии, но в разговорах со мной он откровенно признался, что питает еще более опасные замыслы…» Ох, боюсь, что Митенька попал в большую беду, – мрачно сказал Егор Константиныч, прекратив чтение. – От этого проходимца всяких скверностей можно ожидать. Ты только послушай, мать, про его проделки. Посаженный в Петропавловку за воровство с рудой, сей злокозненный Зубарев объявил за собой «Слово и дело»… (Марья Семеновна побледнела и схватилась за голову.) И на допросе он показал, что будто еще в пятьдесят первом году был представлен великому князю Петру Федоровичу и вел с ним беседы о неких секретных делах. А тебе ведомо, с каким подозрением матушка-государыня к таковым делам относится: они на нее великий страх наводят… Однако ж Зубарев, опомнясь, от этих своих показаний отрекся и заявил, что великого князя отродясь не видывал. За все сии вздоры голубчика, в железы закованного, препроводили в Тайную канцелярию. Да только он ловок оказался: сторожей невесть откуда полученным зельем опоил, железы поломал и за границу утек.
– Ах, ах… – Марья Семеновна дрожала, часто и мелко крестилась. – А ты, отец, откуда про все эти тайности прознал?
– Для меня, матушка, тайностей нет. Я ведь петербургский старожил, у меня везде друзья-приятели, и в Тайной и в Сыскном… Одначе, старая, сбила ты меня с толку, я и про письмо забыл… – Марков снова поднес к глазам лист, исписанный четким мелким почерком Дмитрия: – «…Сей Зубарев считает, что государыня Елизавета Петровна овладела престолом не по праву и что наш законный монарх – находящийся в заключении Иван Антонович. И Зубарев старался завербовать меня в тайное сообщество, ставящее целью восстановить на царстве узника Ивана. Всеконечно, я на его увещания не поддался и выгнал его чуть не в кулаки. Однако сей злодей, уходя от меня, высказал немаловажную угрозу, что его сообщники попытаются вовлечь в этот преступный замысел вас, дорогой дядюшка. А посему блюдите самую крайнюю осторожность и с посторонними людьми ни в какие даже самые малозначащие разговоры не вступайте…»
Последние строки Марков прочитал едва слышным голосом. Руки его затряслись, седая голова поникла.
– Ах, Митя, безумное чадо, в какие дела впутался! Государственная измена… Да эти злоумыслители еще и меня хотят в нее втянуть… Только ведь я – не Митя, меня жизнь достаточно умудрила. С сего дня в наш дом ни одному чужому доступа не будет!..
Марья Семеновна выронила давно забытый ею чулок. Спицы с тихим звяканьем упали на пол. Охватив голову руками, старушка завела причитание:
– Уж ты, Митенька, свет мой, голубчик, желанный! Ты зачем же связался с худыми людьми?..
Старик остановил жену.
– Не ждал я от Мити такого безрассудства, – мрачно сказал он. – Донесут, недолго до беды. Уж письмо не подпечатано ли, не дай бог!
Марков долго и внимательно разглядывал оборотную сторону конверта, вздыхая.
– Позови Андрюшку!
Мальчик вошел в комнату. Отец снова закрыл дверь, прочитал последние строки письма:
«…А в прочем, поручая себя Богу и вашим молитвам, остаюсь в добром здравии в ожидании скорого свидания. Думаю, что корабль „Прозерпина“ отправится в плавание через три-четыре недели. Ежели погода будет благоприятна, надеюсь быть дома в первых числах апреля.
Крепко целую милую маменьку Марью Семеновну, а вам, дорогой дядюшка Егор Константинович, низко кланяюсь. Братца Андрюшу обнимаю и прошу уведомить, что везу ему некоторые французские волюмы,[26] кои, надеюсь, придут ему по вкусу.
Ваш нижайший слуга, покорный сын и племянник
Дмитрий Ракитин.Город Кенигсберг, 7 февраля 1755 года».При известии о подарках Андрюша стремглав понесся с антресолей по лестнице, восклицая на весь дом:
– Братец Митенька едет! Волюмы везет!
Старый токарь стал за станок и, поминутно вздыхая, принялся доканчивать царицыны шахматы. Письмо он спрятал в потайной ящик письменного стола.
Ночью Егора Константиныча будто кто толкнул. Он проснулся, растерянно поглядел вокруг.
«Дурак я… Они первым делом в стол…»
Марков встал, надел войлочные туфли и зашлепал в кабинет. Достав письмо, он с трудом приподнял токарный станок и засунул под него опасный документ. Кое-как распрямил спину и вернулся, охая, потирая поясницу.
– Что тебе не спится, отец? – спросила сонная Марья Семеновна.
– Тише… Письмо перепрятывал.
– А ты бы сжег!
– Нельзя! Может, сыщики списали и там бог знает что от себя приплели. Знаешь их повадку: втянуть человека в дело… Нет, нельзя жечь…
Токарь не спал до утра. Болела спина, неотвязные мысли лезли в голову.
«Эк, старый хрыч! – ругал он себя. – Зачем свечку зажигал? Нельзя, что ли, было в потемках управиться? А если кто из соседей видел? „Марков, скажут, свет ночью зажигал!“ И пойдет…»
На рассвете старик вытащил злополучное письмо из-под станка и упрятал под серебряную пластинку с надписью о Петре Великом. Но спокойствие не вернулось к нему. Токарю все казалось, что винты неплотно прижали пластинку к станине и что самый неопытный сыщик вмиг откроет тайник. Егора Константиныча подмывало непреодолимое желание перепрятать письмо в более надежное место.
Глава девятая У Нарышкина
Камердинер Евграф на цыпочках подошел к двери, приложил ухо к резному дубу.
– Тссс… Барин почивают.
Евграф тихонько вернулся в соседнюю комнату. Все было готово к пробуждению барина. Цирюльник Вавила держал серебряный поднос с бритвенными принадлежностями. Казачок Антошка грел у камина любимый баринов шлафрок.[27] Другой казачок, Васька, стоял у двери, готовый бежать на кухню по первому знаку.
Все застыло в ожидании. Двенадцатый час – час обычного пробуждения барина – был на исходе. Прозвучал звонок. Семен Кириллович Нарышкин проснулся.
Васька ринулся на кухню. Цирюльник заторопился налить в бритвенную чашку кипятку. Евграф бегом понес барину шлафрок. Дом ожил, засуетился.
Войдя в спальню, Евграф отдернул тяжелые оконные шторы. Комната наполнилась ярким светом погожего мартовского дня. Нарышкин сел на кровати, всунув ноги в шитые золотом бухарские туфли. Камердинер ловко накинул теплый шлафрок на его пухлые плечи. Бесшумно ступая по мягкому ковру, Евграф поспешил к двери. За дверью Васька уже держал поднос с чашкой драгоценного китайского фарфора. В ней был заморский напиток – шоколад, с недавних пор полюбившийся особам высшего света.
Камердинер поставил поднос на круглый столик у постели. Середина его изображала трех птичек в тонах, необыкновенных по прозрачности и чистоте тона. Ножки у столика были резные, золоченые, работы Маркова.
Рассеянно скользя взором по новомодным голубым штофным обоям, Нарышкин нахмурил брови.
– Это что такое? – сурово ткнул он пальцем в темно-красное пятно на стене.
– Должно быть, клоп-с, ваше превосходительство.
– Осел! Сам вижу, что клоп! Кому говорено, не давить клопов на стенах! Прежние обои испортили, за эти принялись?
– Виноват, ваше превосходительство! Только, осмелюсь доложить, это не я-с! Я ковер сниму, клопов метелочкой на пол смахну и на полу потопчу-с, а ковер расстелю снова. Оно ничего и не видно-с! А это, верно, Анютка: она тут вчера убирала.
– Чтоб это у меня было в последний раз!
– Слушаю, ваше превосходительство!
Лениво прихлебывая шоколад, Нарышкин спросил:
– В приемной кто?
– Князь Куракин Сергей Петрович, господин коллежский советник Марков да еще просителей человек пять – купцы, мещане.
– Сергея Петровича проси сюда, господин Марков пусть обождет, а мелкоту гони вон.
Камердинер пошел к двери, ворча под нос:
– «Клопы, клопы»! Эк расшумелся!.. А без клопов-то кто живет? Намедни кум Гаврила сказывал, у самой государыни во дворце от них покою нет. Не нами началось, не нами и кончится…
В комнату вошел щеголеватый молодой человек в мундире Преображенского полка. За ним бочком проскользнул цирюльник Вавила. Хозяин и гость поздоровались. Семен Кириллович предоставил себя в распоряжение цирюльника, и тот принялся осторожно брить его круглое, румяное, выхоленное лицо.
Куракин залюбовался колокольчиком, лежавшим на столике.
– Я еще не видел у тебя сей безделки. Вещь отменного мастерства.
– Старинная итальянская работа. Выменял у графа Панина за двух девок-кружевниц.
Рука цирюльника дрогнула, и бритва чуть не оцарапала горло Нарышкина. Одна из кружевниц была Вавилина сестра.
– Осторожней, скотина! Запорю… – лениво сказал Нарышкин, и круглое, толстое лицо его слегка нахмурилось.
– Ну, признаюсь, Семен Кириллыч, – сказал гость, – твоя труппа всех повергла в изумление. Такая игра и для дворца завидна. Как чисто срепетовано! Актеры и актерки говорят бойко, без запинки. И при том какие нарядные костюмы! Ручаюсь головой, сегодня весь свет говорит о твоей вчерашней пиесе!
Семен Кириллович самодовольно улыбался.
– Да, голубчик Сергей Петрович, ведь и трудов было немало положено. Танцмейстер три трости поломал, пока приучил их ходить порядочно. Произношению актеров обучал сам господин Сумароков.[28] Я тоже ни одной репетиции не пропустил. Поверишь ли, инда руки болят сих обломов учить!
– И вся труппа – твои крепостные? – спросил Куракин.
– От первого до последнего. Музыканты тоже все мои. Только капельмейстера пришлось нанять да танцевальный учитель из французов: этим двум плачу, – вздохнул Нарышкин.
– Какого мнения о пиесе его высочество?
– О, великий князь Петр Федорович представление весьма одобрил, а особливо привел его в восхищение строевой шаг по прусскому маниру, коим прошли по сцене воины древнего Киева. Да и то сказать, – хозяин наклонился к уху Куракина, – сколько труда мы на сие положили. Консультировал нас сам майор Фербер из свиты его высочества… Но более всего Петр Федорович хвалил мою первую актерку Акулину.
Сергей Петрович промолвил:
– Ах, она представляла возлюбленную Хорева[29] подлинно прелестно! Я никогда еще не слыхал такого чувствительного голоса.
– Правда! Как она говорила о своих несчастиях! Поверишь ли, Сергей Петрович, у меня слезы из глаз потекли… И приметил я, что и многие плакали.
– Да, ужасть, ужасть как прелестно!
– А ведь чуть было не испортила всю сцену, мерзкая девка! После сих слов своих вдруг замолчала и, кажется, вот-вот зарыдает. Наконец опомнилась и заговорила.
– Что же она, позабыла ролю?
– Нет, хуже того! Я дознался: говоря о злополучном роке, вспомнила о недавно происшедшей смерти матери своей, и сие сопоставление такие в ней горестные чувства произвело, что она никак не могла себя побороть. В наказание за неуместную чувствительность я после представления отослал голубушку на конюшню.
Сергей Петрович улыбнулся.
– Неучтиво с твоей стороны, Семен Кириллыч, подвергать такому наказанию родовитую Оснельду.[30]
– Я не Оснельду приказал отодрать, – возразил Нарышкин, – а свою девку Акульку. В другой раз будь умнее. Да еще приказано ей было участвовать в пантомине,[31] представленной на бале для развлечения гостей. Сие она и исполнила и, по заведенному мною обыкновению, целовав мне руку, за науку благодарила. Приметил я, что в пантомине вела себя благопристойно, только садилась с некоторым принуждением.
Хозяин и гость расхохотались.
– Но до какого времени мы дожили! – заговорил Нарышкин по-французски. – Подлый народ осмеливается иметь чувства, когда всему свету известно, что чувства – удел благородного сословия. И смерды эту привилегию хотят себе присвоить! Да ведь после этого недолго и сказать, что все люди равны. Нет, нет, сии опасные веяния всячески надо искоренять. Холоп должен помнить, что образование ничуть не делает из него человека, равного его господину.
– Золотые слова! – восхищенно согласился Куракин. – Но я должен откланяться тебе, Семен Кириллыч! Надо еще в два-три места заехать.
Куракин распростился и полетел с утренним визитом к другим знатным персонам. В спальню явился камердинер Евграф, неся на растопыренных руках вычищенный камзол Семена Кирилловича с прикрепленными к нему звездами и орденами. Обрядив барина в узкие белые панталоны, в длинный жилет и камзол, надев ему на ноги башмаки с бриллиантовыми застежками и большими алыми бантами (Нарышкин был одним из первых щеголей своего времени), камердинер с поклоном отступил.
На смену ему снова выступил цирюльник. Он надел на голову барина короткий, густо напудренный парик, осторожно обмахнул щеточкой из беличьих хвостов пудру, упавшую на воротник камзола. После этого камердинер подал Семену Кириллычу две табакерки: одну тяжелую, золотую, – подарок великого князя Петра Федоровича (Нарышкин ее не любил, но всегда носил напоказ и пользовался в присутствии наследника престола), и вторую – любимую, карельской березы, из которой он нюхал тайком. Семен Кириллыч сунул табакерки в карманы.
Закончив туалет, он вышел в приемную. Там одиноко сидел Марков, рассматривая развешенные по стенам картины в богатых золоченых рамах (немалую часть этих рам делал он сам). Завидев вельможу, старик вскочил и с низкими поклонами поспешил ему навстречу. Семен Кириллыч небрежно подал Маркову два пальца и даже не пригласил сесть. Токарь рассказал ему о близком приезде племянника в Петербург.
– Всем ведомо, ваше превосходительство, как вы благосклонны к людям, штудирующим науки. Позвольте льстить себя надеждой, что и моему племяннику окажете ваше высокое покровительство.
– К каковым же занятиям считаете вы пригодным вашего племянника?
– Он окончил курс в физическом классе университета под руководством профессора Ломоносова.
На полном лице Нарышкина появилось кислое выражение. Егор Константиныч понял, что совершил ошибку, заговорив о Ломоносове. Вельможи не любили Михайлу Васильича за его независимость, за то, что не хотел он низкопоклонничать перед сильными мира сего. Впрочем, Марков тут же ловко исправил свою оплошность.
– Последние два с половиной года племянник мой Дмитрий, – поспешно добавил он, – вояжировал своим коштом по Европе, совершенствуясь в химии и горном деле у французских и немецких профессоров.
– Ах, вот оно что! Почему же вы сразу не сказали, господин Марков? Это совершенно меняет дело.
Егор Константиныч в душе торжествовал.
«Хитер ты, лис, – думал он, – а я тебя перехитрил».
Семен Кириллыч продолжал:
– Поскольку ваш племянник сведущ в горном деле, можно его определить в Берг-коллегию.[32] На сих днях будет у меня Демидов Прокофий Акинфиевич. Слыхали о таком? – милостиво пошутил вельможа.
– Еще бы, ваше превосходительство! Первейший человек в империи по горным делам.
– Так вот, я ему скажу о вашем протеже, как бишь его по фамилии?
– Ракитин, Дмитрий Иванов сын Ракитин. Да вот я вам нотатку приготовил, тут все сказано.
Егор Константиныч подал Нарышкину записку.
– Хорошо, – снисходительно кивнул головой Семен Кириллыч. – Я скажу Демидову, а ему в Берг-коллегии достаточно мигнуть, и все будет сделано по его хотению.
– Тысячу благодарностей, ваше превосходительство! Низко кланяюсь вам за ваше премилостивое внимание! – Марков откланялся и поспешил домой с радостным известием.
Нарышкина ожидала карета. Перед отъездом он заглянул на пять минут в будуар к жене. Жена его только сидел Марков, рассматривая развешанные по стенам три. Поговорив с ней, Семен Кириллыч отправился во дворец великого князя Петра Федоровича. Нарышкин был его гофмаршалом – придворный чин большой, но не требовавший работы.
…Нарышкин не забыл своего обещания. Через две недели Егор Константиныч получил извещение:
«Дмитрий Иванов сын Ракитин, окончивший курс университета, принят на службу в Ее Императорского Величества Берг-коллегию с причислением к Санкт-Петербургской Берг-конторе в должности берг-мастера».
Оклад жалованья Ракитину был положен 80 рублей в год.
По тем временам, когда соль и крупа стоили по копейке фунт, мясо две копейки фунт, а мука продавалась по 25 копеек пуд, такое жалованье, особенно для одинокого человека, было вполне достаточным.
Старики с нетерпением ждали приезда Дмитрия. При каждом стуке у ворот жадно смотрели в окна: не распахнется ли калитка, не покажется ли долгожданный милый гость…
Глава десятая Возвращение Дмитрия в столицу
«Прозерпина» после благополучного плавания причалила в петербургском порту ранним утром ясного апрельского дня. Дмитрий, единственный пассажир на торговом судне, быстро прошел таможенный осмотр. Чиновник недовольно покосился на увесистый тюк с книгами, но рыться в нем не стал. Ракитин простился с капитаном корабля, обещал прислать плату за проезд в ближайшие два-три дня и поспешил за Якимом, который уже торговался с извозчиком.
Экипаж покатился по Большому проспекту Васильевского острова. Дмитрий с восторгом смотрел по сторонам. Вдали поднимался высокий тонкий шпиль Адмиралтейства, блестели кресты церквей. Все было родное, знакомое, чуть позабытое за долгие месяцы отсутствия.
Дмитрий около трех лет не был в столице, и за это время в ней произошли порядочные перемены. То справа, то слева зоркий глаз Ракитина замечал каменные палаты на месте снесенных неказистых домишек.
На ближней каланче пробило восемь часов, а улица была еще пустынна. Редко встречались извозчичьи дрожки – порожние или со случайным седоком. Несколько карет стояло у подъездов в ожидании господ. Прошел взвод солдат во главе с капралом. Пробежали два-три разносчика с лотками на головах. Знатный Петербург еще спал. Дмитрию пришли на память улицы европейских городов, оживленные с раннего утра.
И наконец-то, вот она, Пятая линия!
Дмитрий с Якимом узнали знакомые места. Показался дом Маркова. Яким первым вбежал во двор. Там поднялась веселая суматоха. Кучер Ермил обнимался с Якимом: он не сразу признал щеголеватого молодца, одетого и подстриженного по европейской моде. Старая кухарка Филимоновна низко кланялась Дмитрию, стараясь поцеловать ему руку. Едва лишь Ракитин вошел в переднюю, как на шею ему с плачем бросилась Марья Семеновна.
– Митенька! Сыночек мой!.. Ну, слава богу, слава богу… Да дай же мне взглянуть на тебя!
Старушка с гордостью оглядела высокую, стройную фигуру Дмитрия.
– Милая маменька! Как часто вспоминал я вас в чужих краях!
– Не дождался тебя Ванюшка… А уж как же он ждал-поджидал тебя, Митенька, выходил на крылечко косящатое… – У Марьи Семеновны уже складывалось причитание, но она сдержалась, улыбнулась сквозь слезы. – Что тебя расстраивать… Идем скорее к дяде!
Но Марков уже спешил навстречу. Он обнял племянника, и они расцеловались троекратно.
Егор Константиныч провел Дмитрия в кабинет Ракитин с нежностью погладил дощечку на станке, такую памятную ему по воспоминаниям детства.
Начались расспросы. Ракитин еле успевал отвечать. Марья Семеновна не спускала глаз со своего ненаглядного Митеньки. Со двора прибежал Андрюша. Он набросился на брата и сразу потребовал подарки. Марков унимал сына, Марья Семеновна заступилась, а Дмитрий удивился, как вырос мальчуган за три года.
Старушка неожиданно вскочила с места.
– Ах, батюшки! Ты с дороги голоден, а я и не кормлю тебя!
Марья Семеновна бросилась хлопотать по хозяйству. Андрюша схватил французские книги и побежал любоваться ими в свою комнату. Марков плотно прикрыл дверь.
– Что ты, безумный, наделал?! – неожиданно гневно напустился он на племянника. – Зачем ты связался с этим опасным заговорщиком Зубаревым?
– Но я же писал вам, дядюшка, что наша встреча была совершенно случайной, – отшатнулся Дмитрий, пораженный сердитым голосом старика. – Мы с Якимом шли по улице поздней ночью, увидели, что какой-то русский отбивается от разбойников, и поспешили к нему на помощь.
– Эх, не надо было вступаться в дело, которое тебя совершенно не касалось, – с горечью промолвил Марков.
– Так ведь человек погибал, поймите это!
– Ну, а потом, когда открылось, кто он такой, зачем ты встречался с ним?
– Дядюшка, он меня обманул! – взмолился Дмитрий. – Поначалу он не сказал мне своего настоящего имени, назвался Иваном Васильевым…
– А он таков и есть, этот проходимец, у него все стоит на обмане!
– Если бы я знал это, дядя Гора! Подлинную его фамилию я узнал только при третьей встрече, когда Зубарев полностью раскрыл передо мной свой дерзкий замысел. Я приказал ему убираться прочь, а он, убегая, высказал угрозу против вас… ну, то самое, о чем я вас предупреждал в письме. Дядюшка, – помолчав, тихо спросил Дмитрий, – а к вам никто по этому делу не являлся?
– Нет, – коротко ответил Марков. – Да у него, наверно, еще и времени не было снестись со своими клевретами.[33] Обо мне ты, Митя, не беспокойся, я травленый волк, а скажи мне: уверен ли ты в Якиме?
– Как в самом себе. Чтобы выйти из крепостного состояния, ему достаточно было остаться в Париже. Ему там и место хорошее выходило, и язык французский по малости осилил, а со мной разлучиться не захотел. Да, впрочем, при нашем последнем решительном разговоре Якима и не было, он уходил на берег.
– Ну, хоть это слава богу, – перекрестился старик. – Я думаю, у тебя хватило догадки скрыть от парня прельстительные предложения этого злодея?
– Я ничего не сказал Якиму, – заверил Ракитин. – И все-таки, дядюшка, не слишком ли преувеличены наши опасения? Быть может, со стороны Зубарева это была пустая болтовня…
Марков вспылил:
– Болтовня?! За такую болтовню головы летят и у тех, кто говорит, и у тех, кто слушает! Даже письмо твое может погубить и тебя… и меня.
– Оно же дошло, дядюшка!
– А кто поручится, что оно не подпечатано и что Тайная канцелярия не следит уже за нами?
Дмитрию стало не по себе.
– Признаюсь, дядюшка, живя за границей, я отвык от российских порядков. Объяснитесь прямее.
– Ну так слушай. Мне известно, – зашептал Егор Константиныч в самое ухо Дмитрия, – что государыня до крайности подозрительна. Она ночи не спит, боясь нового переворота. Бывший император Иван Антонович скрыт на севере, в Холмогорах. О нем запрещено разговаривать, в переписке с государыней его называют не по имени, а просто «известной персоной». Но он жив! Зубарев из тех честолюбцев, что мнят повернуть историю на пользу себе. Их немало. Встречей с Зубаревым ты замешался в их гибельные дела. Загостился ты в чужих странах, Митя, и забыл, что у нас на Руси надо опасно жить…
– Но как же мне теперь быть, дядя Гора?
Марков долго молчал, морщины на его лбу постепенно разглаживались.
– Пожалуй, я чересчур переполошился, – более мирным тоном заговорил старик, – а только в таких делах чем больше осторожности, тем лучше. Полагаю я так: может, Зубарев действительно языком болтал и на дерзкое дело, о коем говорил, не насмелится. И потому все сие прискорбное кенигсбергское происшествие мы с тобой похороним промеж себя, и никому – слышишь: ни-ко-му! – ни единого слова! Авось пронесет тучу мороком… За Марью я спокоен, а ты Якиму строго-настрого накажи: пусть он о Зубареве позабудет, точно век его не видал.
– Яким будет молчать, дядюшка, – успокоил Маркова Дмитрий. – И вы не бойтесь: в случае чего, я все возьму на себя и вас не впутаю…
– «Не бойтесь, не бойтесь»! – рассердился Марков. – Я, сударь ты мой, коли надо, в огонь и воду пойду! Вон небось я чей ученик! – с гордостью указал он на портрет Петра. – Мне чего бояться? Я, слава богу, честно жизнь прожил… Обидно ни за что пропадать. Ведь ты где-то что-то краем уха слыхал, а коснись дела – всех нас переберут…
Немного успокоившись, Егор Константиныч рассказал, что ему по протекции Семена Кириллыча Нарышкина удалось определить Дмитрия на службу в петербургскую Берг-контору.
У Дмитрия была затаенная мечта поработать с Ломоносовым, глубже изучить химическую науку под руководством Михайлы Васильича. Но, поразмыслив, он решил, что и так, как устроил дядя, тоже не плохо.
«Поработаю в Берг-конторе, поезжу по заводам, наберусь опыта, а там, глядишь, и в де сианс академию на кафедру к Михайле Васильичу…»
И он принялся горячо благодарить дядю за большую его услугу. Вниз дядя и племянник сошли успокоенные, примиренные.
Вечером Дмитрий отправился к Ломоносову – это был его первый визит в столице. Михайла Васильич, Лизавета Андреевна и маленькая Леночка встретили Ракитина как родного.
Учитель и ученик до позднего вечера беседовали за кружками пива. Дмитрий рассказывал о своих странствиях по Европе, делился научными новостями из зарубежных центров просвещения. Ломоносов с горьким юмором повествовал о нескончаемой борьбе своей с Шумахером. Изворотливый немец причинял русскому профессору большие неприятности.
Дмитрий мучительно соображал, стоит ли говорить Михайле Васильичу о своей встрече с Зубаревым, и о разговорах с ним. И, наконец, пришел к убеждению, что дядя прав; лучше об этом не говорить. Не дай бог, дело дойдет до розыска, и Ломоносова начнут допрашивать о зубаревском замысле, тогда он с чистой совестью может объявить, что ничего не знает, не ведает.
Не сказал Ракитин о своих тайных тревогах и дядиным друзьям – советнику Бахурову и контр-адмиралу Воскресенскому, у которых побывал в ближайшие дни после приезда в столицу.
Дмитрий разыскал своего закадычного гимназического дружка Кольку Сарычева. Николай успешно продвигался по службе, получил чин, женился, у него было двое детей.
Вид у Сарычева был солидный, начало расти брюшко, и он через каждые десять слов повторял: «У нас в сенате».
Как видно, у них в сенате чиновники умели ладить с просителями, потому что Николай занимал хорошую квартиру, подумывал о покупке собственного домика и помогал матери-вдове поднимать на ноги многочисленных братьев и сестер.
Сарычев очень обрадовался приходу Дмитрия, выставил обильное угощение. Друзья просидели чуть не до утра, вспоминая годы учения и веселые гимназические проделки.
Часть вторая Алексей Горовой
Глава первая Отец и сын
Беглецу Илье Маркову, покинувшему военную службу и перешедшему на сторону восставшего народа, грозила суровая кара. Пока на Кижах шла смута и царская власть не в силах была справиться с мятежниками, Марков проживал там безнаказанно. Но когда на заводах возобновилась работа и управители с каждым днем смелее восстанавливали прежние порядки, положение Ильи Маркова сделалось опасным, и друзья посоветовали ему перебраться подальше от этих мест.
Ранней весной 1722 года Илья последовал этому совету. Друзья собрали ему несколько рублей на дорогу, и он покинул Кижи. В деревенском кабаке Марков встретил старенького полупьяного приказного, который писал прошение для молодого мастерового. Оставшись наедине с приказным, Илья напрямик спросил:
– Можешь выправить мне вид на жительство?
Приказный так же напрямик ответил:
– Три рубля!
Сторговались на двух. Старик принялся за дело, разложил лист бумаги, очинил перо.
– Прозвище себе надумал? – спросил он.
Илья соображал недолго, ему сразу пала на ум фамилия Горовой.
– Пиши, – сказал он. – Пиши: Илья Константинов сын Горовой.
– Я тебе сделаю отпускное письмо от помещика, – объяснил приказный. – Крепко запомни: тебя отпустил на оброк помещик Ярославской губернии, Ярославского же уезда, деревни Осиновки, Тимофей Григорьевич господин Полубояринов. Повтори!
Илья повторил и раз, и другой, и третий.
– Не забудешь?
– На смертном одре назову, – улыбаясь, заверил Илья.
Написав отпускное письмо, приказный приложил к нему стертую печать, размашисто подписал, поставил год и число.
– Тебя на любом заводе с этим видом примут, – сказал он Илье. – В нашем крае нехватка рабочих рук огромаднейшая, и заводские управители таким, как ты, рады-радёхоньки. А я тебе документ сделал на совесть и теперь выпью за твое здоровье…
Приказный оказался прав. Управитель Вохтозерского завода, куда явился Илья со своим «документом», бегло просмотрел бумагу:
– «Илья Константинов сын Горовой, – бормотал он, – росту два аршина девять вершков, волосы на голове и в бороде черные, глаза серые, нос умеренный, на правую ногу хромает…» Все сходится! Кем на оброк отпущен? – резко бросил он.
– Ярославской губернии, Ярославского уезда, деревни Осиновки помещиком Тимофеем Григорьевичем господином Полубояриновым! – бойко отчеканил Илья.
Управитель улыбнулся сквозь густые усы. Он прекрасно понимал, что отпускной билет – чистая липа, но в его положении таких работников, как этот, еще крепкий детина, из-за сущих пустяков, как фальшивый вид, отсылать прочь не приходится.
– Принимаю тебя на службу, Илья Горовой! – торжественно объявил управитель. – Работай, старайся, а я тебя не обижу.
– Покорнейше благодарим! – гаркнул Илья и вытянулся во фрунт.
Управитель улыбнулся.
«Беглый солдат! – безошибочно решил он. – Да мне-то что? На худой конец, суну воеводскому чиновнику пятерку…»
Илья Горовой начал работу на Вохтозерском чугуноплавильном заводе подручным у доменной печи. Способный и старательный, он заслужил одобрение мастера и через год стал горновщиком.
Илье было уже сорок лет, но долгие скитания по Руси, а потом солдатская служба помешали ему обзавестись семьей.
«Теперь, видно, настало и мне время к своему очагу притулиться, – решил Илья. – Пусть пойдет от меня новый род Горовых».
Суровое лицо, покрытое постоянным загаром от пламени горна, густые, сросшиеся брови не испугали безродную Василису Антипьевну, с малых лет работавшую у богатея мужика. Товарищи по работе помогли Илье поставить избу, и молодые зажили мирком да ладком. Через несколько лет у них появился сын.
Алешка уродился в отца: такие же черные, сросшиеся брови под высоким лбом, серые марковские глаза, упрямый подбородок.
– В меня пошел! – радовался Илья. – Хочу, чтоб также за народ стоял, как я.
Алешке едва исполнилось шесть лет, как отец начал вести с ним долгие разговоры по воскресным дням – только в эти дни и выдавалось у него свободное время.
Илья рассказывал маленькому сыну, как его, семнадцатилетнего парня, только что поверстанного в стрельцы, посадили в тюрьму.
– За что, батя? – спросил удивленный Алеша.
– Да вишь, посчитали меня бунтовщиком. Будто я заодно с другими стрельцами на царя Петра руку поднял и на его место хотел Софью Алексеевну посадить.
– А ты и всамделе хотел, батя? Софья, она что – добрее была?
Илья рассмеялся.
– Я в те поры немногим больше тебя в таких делах понимал. Сказал мне старшой, когда наш полк у Истры, под Воскресенским монастырем, переправу охранял: «Стой на этом месте с фузеей[34] и назад ни шагу, а то шкуру спущу!» – я и стоял. Царские пушкари из-за реки пальбу открыли, ядра кругом жужжат. Наших кого побили, кто разбежался, а я все стою как прикованный, где меня поставили…
– А ты стрелял? – с загоревшимися глазами спросил мальчуган.
– Пальнул, зажмурившись, в небо, – улыбнулся Илья. – Вот там меня и забрали. И царский офицер сказал солдатам: «Этого как след сторожите! Он молодой, а, видать, опасный!» Дьяк у меня на допросах все выпытывал про зачинщиков, а я знать ничего не знал, так ему и говорил.
– И он тебя, батя, отпустил? – обрадовался Алеша.
– Да как бы не так! Ни единому моему слову допросчики не верили, и быть бы мне без головы, кабы я не утек!
– Ты в окошко выскочил? – догадался мальчуган.
– Нет, сынок, там на окошках крепкие железные решетки были, и кругом тюрьмы караульщики стояли. А убежал я так: пришла моя очередь в лес за дровами идти, а в конвоиры мне попался солдат, старый-престарый. Бегать быстро он не мог, вот я и навострил лыжи. Правда, стрелил он мне вслед, да только не попал…
Алешка закатился радостным смехом.
– И ты прямо домой побежал, к мамке да к дяде Егору?
– Что ты, малый, несусветное городишь! Меня бы там вдругорядь схватили, и уж тогда не жить бы мне на белом свете. Подался я в лес и сделался бездомным бродягой. Не знаю, вынес ли бы я такое житье, кабы, на счастье, не встретил дядю Акинфия, что с заводской каторги сбежал…
Илья рассказывал сыну, как странствовал он по белу свету с домовитым Акинфием Куликовым, как долгое время удавалось им укрываться от царевых соглядатаев, а потом все же схватили их и отправили строить новый город на Неве – Санкт-Петербург…
– Вот там, Алеха, – с увлечением говорил Илья, – довелось мне померяться силами с самим царем Петром Алексеичем.
– И ты его поборол? Да, батя?! – с горящими глазами вскричал мальчик.
– Экой ты дурень, – отозвался отец. – Станет царь с нашим братом бороться, другого дела у него нет. Спор у нас с ним вышел, кто скорее на носилках землю перетаскает. Они работали на пару с Меншиковым, а мы с дядей Акинфием…
– Ну и что?! Как?!
– Да поначалу-то они горячо взялись, чуть носилки не поломали. А потом и не сдюжили, потому к нашему мужицкому труду бо-ольшая привычка и сноровка нужна. Сдался царь и мне рублевик пожаловал…
– Ой, батя, какой же ты молодец! – вздохнул мальчик. – Мне бы таким стать…
– А ты старайся, – серьезно посоветовал отец. – Мамке никогда не ври, перед ребятами не заносись, слабых не обижай, потому что слабого одолеть – чести нет…
– Я буду стараться, батя, – пообещал мальчуган, – вот увидишь, буду. А долго вы с дядей Акинфием тот город строили?
Илья рассказал, как трудно приходилось строителям Петербурга, как умирали они от непосильного труда, от голода, от болезней. Болезнь и дядю Акинфия чуть не свела в могилу, и лишь только он поправился, они с Ильей сбежали из нового города, перехитрив часовых.
– Двинулись мы на юг, в теплый край, – повествовал Илья, – и спустились по Волге-реке аж до самой Астрахани. А там народ как раз поднялся супротив злодея – астраханского воеводы Тимофея Ржевского…
Так люто притеснял воевода астраханцев, что даже стрельцы не встали на его защиту, не пошли против народа. И, конечно, два друга, Илья и Акинфий, присоединились к бунтовщикам и едва не погибли, когда явилось усмирять их царское войско.
Преодолев многие опасности, Акинфий Куликов и Илья Марков пробрались на Украину. Там, в тихом городке Бахмуте, думали они найти мирное пристанище. Не вышло!
Атаман Кондратий Булавин поднял против царя восстание, самое грозное, самое внушительное из всех бунтов и треволнений Петровской эпохи. И конечно, два друга-правдоискателя примкнули к булавинцам.
Вдоволь пришлось Илье и Акинфию наглотаться вонючего порохового дыму в битвах с царскими войсками, и было такое в их жизни далеко не в последний раз. После разгрома булавинского восстания Илью и Акинфия забрали в солдаты петровской армии, и эта суровая доля была для них все же предпочтительнее, чем болтаться на придорожной виселице с петлей на шее.
Друзья были участниками Полтавской баталии, где пало навсегда шведское могущество, и Россия встала в первый ряд европейских держав. Но в этой великой битве погиб верный друг и наставник Ильи Акинфий Куликов, и Илья навсегда сохранил о нем самые теплые воспоминания…
Алеша подрастал. По будням играл с приятелями, но воскресные дни всегда проводил в разговорах с батей. Отцовские рассказы накрепко засели в памяти Алеши, а он все требовал повторять их, стараясь добиться от рассказчика новых и новых подробностей. Особенно полюбилась мальчику сцена состязания землекопов с царем Петром, и он без конца возвращался к ней.
– Так, говоришь, пыхтели они, батя? – допрашивал он Илью.
– Ого, да еще как! – соглашался отец. – Чуть гашники[35] не лопнули…
– А потом царь носилки бросил и говорит: «Все!.. Ваша взяла!..»
– Ага, так и сказал…
Алеша заливался торжествующим смехом.
Пестрой, многоцветной лентой протягивалась перед Алешей жизненная дорога отца, и самое горячее, целиком еще не осознанное желание мальчика было – провести свою жизнь так же необычно и содержательно, как провел ее вечный скиталец Илья…
И уж конечно, свободолюбивый характер отца полностью передался ему. Нет, никогда не станет Алеша на сторону угнетателей, всех этих заводчиков, управителей, старост. Сколько у него хватит силы, всегда он будет с ними бороться, пусть даже его постигнут большие беды, чем отца…
Алеша рано узнал свою настоящую фамилию. Он знал и то, что его дядя Егор, искусный токарь, живет в Москве, а до нее надо шагать сто дней, и Москва большая-пребольшая; возьми сто таких погостов,[36] как Вохтозерский, – и то будет мало. Но отец строго-настрого приказал ему хранить в тайне свое подлинное прозвище, не открывать его даже самому близкому другу.
– Не дай бог, проболтаешься, и пойдет обо мне молва, – говорил Илья. – А молва – она вольная птица, в любое ухо залетает. Узнают обо мне правду царские ищейки и зараз схватят. Им, ищейкам, награда, а мне голову долой…
И мальчик свято хранил наказ отца, даже в мыслях называл себя только Горовым.
Глава вторая Первые шаги
Илья умер, когда Алеше было 13 лет. Могучий организм извечного бунтовщика подточили долгие скитания по стране, тяжелая солдатская служба, изнурительный труд на заводе, где по 14–15 часов в сутки не отходил он от доменной печи…
Василиса и Алексей вернулись с кладбища сломленные, потерявшие всякое желание жить.
Проходили недели и месяцы, время начало залечивать душевные раны осиротевших. Однажды Василиса смущенно заговорила:
– Алешенька, милый, в здешних краях нет у нас родни, но ты же знаешь, у тебя в Питере дядя, Егор Константиныч. Илюша сказывал, большой он человек…
Алеша поднял на мать неласковые глаза. Мальчуган был высок и силен не по летам да и по развитию далеко превосходил деревенских сверстников. Ему неинтересно было с ними водиться, у них на уме были только бабки да лапта, зимой катанье с гор. А он, Алеша, знал многое такое, о чем его товарищи не имели и понятия.
– Ну и что же из того, что он большой? – спросил он мать.
– Может, доберешься до него, сынок? Уж как-нибудь сколотимся на дорогу… Корову можно продать. Дядя, он родной человек, все примет тебя, не выгонит…
– Приживальщиком пойти? – резко перебил Алеша. – Скорее у чужих людей соглашусь милостыню просить! Да как это к дяде прийти с протянутой рукой? Я со стыда сгорю. Нет, матушка, вот вырасту я и стану самостоятельным работником, тогда, может, и к дяде заявлюсь. Не просителем, а гостем!
– Милый ты мой! – Василиса крепко обняла сына. – Весь в батю, такой же гордый да неприклончивый.
Алеша зарделся от радости. Походить на отца было величайшей его мечтой.
Для Василисы и Алеши началась трудная сиротская жизнь, но они ни перед кем не клонили головы. Заботливо возделывали небольшую полоску земли, хлеба с которой хватало только до Рождества.[37] Алеша возил на санках из леса дрова, вскапывал огород, ловил рыбу в озере, зимой стрелял белок из старого отцовского ружья. Василиса нанималась к зажиточным мужикам косить и жать.
Так они и перебивались, а когда Алешке стукнуло пятнадцать лет, неусыпное начальство поставило его к делу. Таков уж был порядок на Вохтозерском заводе, как, впрочем, и на всех других, где рабочая сила набиралась из приписных деревень. Будь ты силен и крепок, как Алеша Горовой, или слабосильный заморыш, все равно шагай в цех, мастер найдет тебе работу.
Первый день, проведенный Алексеем на заводе, навсегда остался в его памяти. Мать разбудила парня раным-рано, на рассвете ясного апрельского дня. Наскоро перекусив, потуже перетянув пояском длинную рубаху, Алексей вышел на улицу. После дымной избы хорошо было вдыхать свежий весенний воздух, пахнувший хвоей и распускающимися листьями березы. По дорожкам, ведущим к главному заводскому корпусу, торопливо шли люди – согбенные старики, сильные, коренастые мужики средних лет, юнцы, такие, как Алеша.
Странные, противоречивые чувства одолевали Алексея. Ему жаль было, что кончилась жизнь под крылышком матери, жизнь хоть и трудная, но свободная, где он сам себе был хозяином. И в то же время какая-то гордость рождалась в его душе при мысли о том, что он уже «большой», что наравне со взрослыми мастеровыми идет на работу, где, уж конечно, сумеет показать себя: ведь недаром же он унаследовал от бати его силу и сноровку. Алексей чуть даже не замурлыкал песенку, но, взглянув на хмурые лица тех, кто шел рядом, сразу осекся.
Парня удивило то, что размашистые шаги работного люда по мере приближения к заводу замедлялись. Похоже было на то, что люди не прочь и вовсе остановиться и даже двинуться вспять, но какая-то неведомая сила тянула их вперед помимо воли.
И вот сгустившаяся толпа увлекла Алексея через настежь открытые ворота в заводской двор, вымощенный булыжником. Низкие, потемневшие от времени двери вели в цеха. Алеша замешкался, не зная, куда направиться, но его подтолкнул приятель и сверстник Федька Кучин, уже три недели работавший на заводе.
– Нам с тобой в литейный, – молвил он, – к Евсею Рябову.
– А как он, этот Евсей… – заговорил Алеша.
Поняв его с полуслова, приятель коротко кинул:
– Собака!
Сердце у Алексея защемило, и парень, понурив голову, перешагнул через высокий порог. У входа на табуретке сидел приказчик, внимательно следивший, кто и в какое время явился на работу; в руке у него была засаленная книга со списком всех работных людей цеха.
И не дай бог было опоздать хоть на минуту-другую после третьего гудка. Против фамилии опоздавшего появлялся жирный крест, а это означало штраф. Взыскание штрафов на заводе было возведено в строго продуманную систему. Штрафовали за всякую вину, а часто и совсем без вины, просто за косой взгляд, за дерзкое слово. Мастеровые приносили домой сильно урезанную получку, а у хозяина в кармане оставались сотни и тысячи рублей.
Переход от прохладного, ароматного воздуха улицы в задымленную, закопченную духоту литейного цеха был разителен. У Алексея даже закружилась голова, он пошатнулся и невольно оперся на вовремя подставленное Федькино плечо. Друг улыбнулся.
– Сомлел?.. Ничего, привыкнешь…
Захожая старуха богомолка, уговаривая ребят не грешить, пугала их адом, рассказывала о нем всевозможные страсти. Когда Алеша огляделся в обширном помещении литейного цеха, ему показалось, что он попал в этот самый ад. В цеху было темно, маленькие, тусклые окошки, расположенные под самым потолком, пропускали очень мало света. Но очередная струя расплавленного чугуна, выпускаемая из доменной печи ночной сменой, вполне могла сойти за адское пламя – ее багровые отблески скользили по темным стенам и потолочным балкам. А чумазые литейщики, с головы до ног покрытые сажей, походили на чертей.
«Вот только грешников не видно, – подумал Алексей и тут же с горьким юмором догадался: – Грешники – это мы…»
Начался первый рабочий день Алексея Горового. Ребята его возраста были на подсобных работах, на побегушках у старших.
– Подай!.. Принеси!.. Помоги поднять!.. – только и слышалось в разных углах цеха.
Тот из учеников, который был ближе, бросался выполнять приказание. И если мальчишка замешкался, он получал тычок или подзатыльник. А иной тяжелый на руку мастер отвешивал ребятам такие затрещины, что в голове до вечера стоял шум и звон.
На долю Алешки Горового и Федьки Кучина, которые были покрепче других учеников, досталось перетаскивать шихту[38] из склада, расположенного в дальнем углу двора. Кладовщик Ефим так загружал носилки, что у ребят спины буквально трещали под тяжестью ноши. Да он еще и злился, если ему казалось, что Алешка и Федька ходят недостаточно расторопно.
– Живей, живей, бегом! – покрикивал он на ребят, выйдя за дверь склада и глядя им вслед.
– Вот черт безрогий! – потихоньку ругался Кучин. – Что бы ты заговорил, ежели тебя бы запрячь в эти носилки?
Алеха ухмыльнулся и рассказал другу, как его отец соревновался с царем Петром.
– Давай вызовем их на спор, кладовщика и Евсея Рябова, – кто из нас проворней?!
– Заставишь их работать, дьяволов гладких! – огрызнулся Федор. – А ты давай не задерживайся, не то попадет нам…
После короткого перерыва на обед, когда ребята пожевали принесенные из дому краюхи хлеба с луком, работа возобновилась и продолжалась до позднего вечера.
Многочасовая ходьба с тяжело нагруженными носилками так утомила ребят, что под конец они едва волочили ноги, голова кружилась, перед глазами плавали огненные мухи. Алеша не помнил, как добрался до избы, отказавшись есть, плюхнулся на постель и заснул мертвым сном.
Василиса смотрела на сына с любовью и жалостью.
Через несколько дней Алеше пришлось столкнуться с Евсеем Рябовым. Алексей начал втягиваться в работу, домой он возвращался уже не таким измотанным и даже мог рассказывать матери, что делал на заводе.
У начальства усердный парень слыл на хорошем счету, но случилось так, что заводской шум и гам помешал Алеше услышать обращенный к нему приказ Рябова, и он продолжал заниматься своим делом. Рассерженный мастер замахнулся на него. К великому удивлению Евсея и всех окружающих, новичок схватил мастера за руку, привыкшую рассыпать оплеухи направо и налево.
– Не замай! – тихо, но твердо вымолвил парень. – На словах мели все, что хочешь, а рукам воли не давай!
Рябов был настолько поражен, что не сразу вырвал руку у Алешки.
– Ты что, одурел?! Да я тебя…
– Говорю, не тронь, а то худо будет…
Алексей не возвысил голоса, но он был на целую голову выше Рябова, а широкие плечи показывали незаурядную силу. Опешивший мастер отступил, разразившись крупной бранью. Он отомстил тем, что начислил на Горового штраф, поглотивший чуть не всю его скромную получку.
Ребята, товарищи Горового по цеху, втихомолку торжествовали. Никто из них не осмелился бы на такой дерзкий поступок, но они чувствовали, что Алешка защитил и их достоинство.
Глава третья На Вохтозерском заводе
С того дня, когда Алеха остановил занесенную над ним руку Евсея Рябова, он заслужил прозвище бунтаря.
– В отца уродился, – злобно говорили мастера. – Тот супротив царя шел, и этот смолоду начальству непокорен.
Илья Горовой по возможности старался скрыть от вохтозерцев свое мятежное прошлое, но не всегда сдерживал язык в веселой компании за чарой вина, и много про него стало известно односельчанам. Бунтовская слава отца перешла к сыну.
Как-то естественно получилось, что заводская молодежь стала тянуться к Алексею, ему поверяла свои горести и редкие радости, он сделался ее признанным вожаком.
А у начальства Алеха Горовой был как бельмо на глазу. Не раз порывался управитель сплавить Алексея подальше с глаз, определить хотя бы в углежоги или рудокопы, да уж больно парень способен был на мастерство. Литейное дело давалось Алексею, как никому другому. Как-то особенно умело составлял он шихту, угадывал момент, когда пора было кончать плавку и выпускать чугун.
– Это ему от Бога такая способность дадена, – шептались мастера.
В 18 лет Алексей Горовой стал доменщиком.
Мать подумывала женить Алексея и порадоваться на внучат, но внезапная болезнь свела ее в могилу, и остался Алексей Горовой один-одинешенек. Слава хорошего доменщика не избаловала его. По-прежнему был Алексей отзывчив к чужой беде, заступался за слабых и обиженных. И если начиналась на заводе какая-нибудь заваруха, начальство безошибочно угадывало ее зачинщика. Им всегда оказывался Алексей Горовой.
Ни штрафы, ни более суровые наказания не могли переломить характер Алексея. Не раз били его кнутом, приходилось ему по неделе и более сидеть в колодках… Да ведь вот беда: как нет Алехи на работе, так и начинает барахлить домна, чугун получается не такой марки, какую надобно поставлять в казну. Так и спасало мастерство Алексея от далекого пути в Сибирь, на каторгу.
В самом конце тридцатых годов Вохтозерский чугуноплавильный завод перешел к новому владельцу. Купец Терехин, основатель завода, умер, и его бездетная вдова продала обременительное имущество Василию Егорычу Ахрамееву.
На заводе появился и новый управитель – Август Иваныч Баумгартен. Он поселился в уютном домике на берегу озера, недалеко от завода.
Баумгартену в жизни повезло. Был он в герцогстве Гессенском слесарем, чинил ружья и пистолеты, делал замки с секретом. Ни богатством, ни общественным положением не мог похвалиться слесарь Август Баумгартен. Но получил он письмо из России от двоюродного брата, модного портного, что уехал из Гессена за несколько лет перед тем.
Вельтман писал, что в России немцы нарасхват (было эго во времена Бирона), что ценят их за ум, за трудолюбие. Если где и можно нажить немцу золотые горы, писал брат, то только в России. Сам он приехал в Петербург гол как сокол, а теперь имеет собственное заведение, на него работают десяток мастериц и восемь учениц-девчонок.
Поразмыслил Баумгартен, продал домик, посадил в повозку жену Каролину и маленького Ганса и тронулся в дальний путь. Он явился в Питер вовремя: купец Ахрамеев, только что купивший чугуноплавильный завод, искал управителя из немцев. Баумгартен занял эту должность по рекомендации брата-портного.
Август Баумгартен стал Августом Иванычем, мастеровые, проходя мимо его дома, еще издали стаскивали шапки. Горное начальство, приезжая в Вохгозеро, квартировало в доме Баумгартена, получало обильные угощения и дары, и плохо приходилось тому, кто имел неосторожность жаловаться советникам Берг-коллегии на управителя.
Купец Ахрамеев платил Баумгартену не слишком щедрое жалованье, но немец сумел изыскать «безгрешные доходы», как он их называл. После нескольких лет службы Август Иваныч мог бы купить в герцогстве Гессенском каменный дом с трактиром и доходными лавками, но не спешил возвращаться в Германию.
Безгрешные доходы Баумгартена оборачивались для работного люда бедой. Заводские были крайне недовольны тяжелым трудом и нищенскими заработками. Рудокопы угрюмо перешептывались между собой, замолкая при посторонних. Среди возчиков угля шло волнение, а углежоги готовы были вот-вот взбунтоваться.
Доходили слухи, что на казенных Петровских заводах мастеровые затушили было домны, и только обещания начальства рассмотреть их требования по справедливости заставили их выйти на работу. Неспокойно было на Кончезерском чугуноплавильном и на Киворецком железоделательном заводах купца Кирилла Попова. Даже на отдаленном Воицком руднике, где работали выгозерские раскольники, начиналось брожение. Вся округа глухо рокотала.
Старая лиса, Август Баумгартен почуял в воздухе беду. На Вохтозерском чугуноплавильном заводе Ахрамеева бывали волнения и прежде, но ему удавалось их усмирять. Теперь же, слушая донесения верных людей и чутко подхватывая вести, приходившие со всех сторон, немец понимал: в крае начинается буря.
Баумгартен послал конца в Петербург к Ахрамееву и просил хозяина добиться у начальства, чтобы на завод прислали отряд солдат. Август Иваныч надеялся, что прибытие воинской силы утихомирит зачинщиков смуты и позволит ему расправиться с ними. А сейчас в его распоряжении была только заводская охрана из нескольких стариков инвалидов.
Управитель собрал наиболее уважаемых рабочими мастеров и попробовал улестить их ласковыми речами. Просил он только одного: сдерживать недовольство работного люда, не дать ему вылиться во что-нибудь серьезное.
– Мы что, мы люди маленькие, – отговаривались мастера. – Не из-за нас народ волнуется. Ты вот уйми самых лютых утеснителей, таких как Евсейка Рябов да Агафошка Тюрин. Да еще добейся от Василия Егорыча, чтоб жалованье мастеровым прибавил. Можешь такое сделать?
– Ну, это вряд ли, – признался немец.
Обманувшись в расчетах на поддержку мастеров, Август Иваныч приказал охране бдительно следить, чтобы по заводу и в окрестностях не бродили возмутители из других волостей. Если же обнаружатся, хватать их без жалости и сажать в темную, а потом отправлять на Петровские заводы для допроса.
В ночь-полночь, закутавшись в теплый тулуп, немец ходил вокруг завода и проверял посты.
– Трудитесь, братцы! Караульте как следует, – наказывал он инвалидам. – Бог труды любит. На карауле не спите! Если застану на посту сонного, буду строго за это карать…
А возмутители тем временем вели тайную работу по всему Прионежью, и, как шла молва, главным из них был литейщик с Вохтозерского Алексей Горовой. Старожилы знали, что он не местного корня, что отец его появился в здешних краях всего лет тридцать назад да так и кончал тут свой век.
Повелось так, что посланцев с других заводов, приходивших в Вохтозеро для сговора с ахрамеевскими мастеровыми, в бытность их в погосте оберегал Алексей Горовой и он же провожал их до безопасной лесной тропинки.
Август Иваныч разгорался гневом на смелого смутьяна, но не решался схватить его и забить в колодки. Собственное бессилие приводило немца в ярость.
Приближался новый, 1755 год. В день Нового года в Вохтозерском погосте справлялся престольный праздник. Церковь, построенная Ахрамеевым при заводе, называлась Васильевской, в честь святого Василия Великого, именем которого был наречен хозяин.
Хозяйские именины были заводским праздником, нерабочим днем, но, конечно, мастеровые не получали за этот день ни копейки. Старики предвещали, что праздник окончится великой гульбой и великим побоищем. На престол к вохтозерцам съезжались родственники и гости из окрестных сел в радиусе верст на пятьдесят. Озлобленная непосильным трудом и постоянной нуждой, заводская мастеровщина гуляла и дралась жестоко. Подводились старые счеты, доставалось и виноватым и правым. Пускались в ход кулаки, камни, колья. После праздников говорили только об убитых. Свороченные скулы, выбитые зубы, расквашенные носы, переломанные ребра в счет не шли.
Август Иваныч возлагал большие надежды на приближавшийся праздник. Он велел наварить два десятка бочек браги, чтобы выставить даровое угощение в честь именинника, предполагая таким искусным манером много выиграть в глазах любящей кутнуть мастеровщины. Он рассчитывал, что народ забудется в хмельном угаре и, сорвав накипевшую злобу в пьяных смертоубийственных драках, снова выйдет на работу.
Действительность не оправдала ожиданий управителя и преподнесла ему нечто неожиданное.
После долгой и чинной новогодней обедни, закончившейся молебном за здравие именинника-хозяина, народ, точно сговорившись, не расходился по домам, а толкался на обширной площади около церкви и в церковной ограде. Среди вохтозерцев и их гостей были видны незнакомые лица, никогда доселе не показывавшиеся на заводе. Переходя от кучки к кучке, они втихомолку толковали с мужиками. То там, то сям слышалось словечко «суем»,[39] перекатывавшееся в толпе, как мяч.
В Прионежье народ по пустякам на суймы не собирался. Баумгартен понял, что этот суем затеян неспроста. Ведь здесь собралась вся окрестность, чуть ли не весь крестьянский люд, так или иначе связанный с заводом.
Управитель отыскал в толпе старосту Кулькова.
– Что делать, Парфен Семеныч? – тревожно спросил он.
– А что тут делать? Разве суйму воспрепятствуешь? Тут тыщу войска надо их разогнать. Смотри, слушай да на ус мотай…
Внезапно на высоком бугре появился Алексей Горовой. Толпа затихла, с любопытством разглядывая доменщика и угадывая в нем едва ли не главного из тех, что в последние месяцы будоражили народ.
– Глянь-кось, глянь, Митревна, какие глаза! – шептала в передних рядах толпы бойкая женка своей товарке. – Дерзкие да устрашительные. Ой, девка, аж боязно глядеть!..
Горовой долго смотрел на толпу и медленно поднял руку. Толпа зашелестела и затихла.
– Вот, крещеные, собрались мы на суем! Хочу я первое слово молвить!
– Дозволяем! Говори! – дружелюбно отозвалась толпа.
– А что его слушать? – раздался злобный выкрик хозяйского подголоска. – Все наперед знаем!
Толпа забурлила. Около крикнувшего поднялась суматоха. Послышались заглушенные ругательства, возня, потом наступила тишина.
Алексей говорил долго и горячо. Ничего нового, незнакомого людям не было в его словах, но речь Горового брала за сердце, каждый слышал в ней то, что сам пережил, перечувствовал. Алексей не знал приемов ораторского искусства, его и грамоте не учили, но был у него прирожденный дар говорить с людьми ясно, просто. Знакомые картины народной нужды, народного горя он рисовал необычайно убедительно, и каждому слушателю казалось, что именно о нем, о его тяжкой доле говорит этот литейщик с густыми черными бровями на смуглом суровом лице. Закончив речь, Горовой предложил отправить в Питер жалобу – челобитную.
– Долго я с верными людьми советовался на заводах, – сказал литейщик, – и решили мы: надо обо всех утеснениях самой Берг-коллегии донести и просить ее назначить строгое расследование и установить правые порядки в нашем краю!
Алексей Горовой спустился с камня. Суем шумел, волновался, как Онего-озеро во время бури. Посылать челобитье в Питер, где живет сама царица, казалось многим делом непривычным и даже опасным. Толпа выявляла свое настроение в страстных спорах, в неистовом крике. Все смешалось в каком-то хаосе.
Работая локтями, на бугор пробился один из заводских приказчиков – Данила Чурсин, низенький мужик с пышной бородой. Взобравшись на камень, Чурсин замахал руками. От камня кругами пошла тишина и, распространяясь, охватила всю толпу.
– Моя мнения такая будет, православные! – бойко заговорил Чурсин. – Ходоков в Питер посылать – дело сумнительное. Лучше бы ладом раздоры наши покончить, сговориться бы по-божески с начальством. Чай, они такие же люди, как и мы. А разгневаем их жалобами – нам же хуже придется…
Толпа разделилась на два лагеря. Меньшинство настороженно молчало, но многие встретили выступление бородача насмешливыми выкриками:
– Эй ты, хлебна рожа! Беги к управителю, он тя за твою речь наградит, уж больно крепко ты к нему подлизался!..
Чурсин поспешил скрыться в толпе. Следующий оратор взгромоздился на церковную ограду и простуженным голосом старался перекрыть шум людского моря:
– Этта вот Данила Чурсин проповедовал насчет терпения. Но я, хресьяне, скажу: ему терпеть хорошо. У него своя лошадь на дворе да две коровы. Да от хозяина кажинный месяц не пито, не едено три рубли в карман кладет! Так ведь ему, ненасытному псу, и этого мало! Нашего брата, углежога, придирками замучил! Какой уголь ни привези, все плох, никак наряд не выполнишь. А в ведомость небось все полняком заносит!
– Врешь, анафема! – неистово закричал Чурсин из толпы.
– Вру?! А пущай лесорубы да возчики скажут, как к ним ваше иродово племя придирается?
– Верно, истину бает Еремей! – раздались голоса. – Никакого житья не дают, остервенились, проклятые!
Приказчики отругивались по мере сил.
– Вам мирволить – завод в трубу вылетит! Милосердных Лазарей ноне не стало!
Среди суйма замелькали кулаки, полетели сбитые шапки. Приказчиков и хозяйских угодников было немного, их быстро утихомирили.
– Этта вот мой голос, мужики, такой: надо жалобу в Питенбурх без всякого сумненья посылать, я ее первый подпишу!
Закончив речь, углежог Еремей легко спрыгнул с ограды. Его заменил подмастерье Сазон. Голосом, привычным перекрикивать рев горна, он начал:
– Слушайте, мужички, мое простое слово! Все вы порядки наши знаете. Мы хресьяне были казенные, когда нас к заводу приписывали, а теперь нас хуже крепостных поставили. Всем известно, что с нами немец делает! Своё хозяйство у нас развалилось, и поправить нет никакой возможности. Со дворов всех работников позабирали. Было положение по указу – и я тот указ, мужики, знаю, – чтобы из двух работников одного на завод брать, и тот указ не соблюдается!
Мастеровые одобрительно кивали головами: речь Сазона пришлась им по душе.
– И вот мое крепкое слово, мужички, – закончил Сазон, – надо прочие заводы поддержать. Надо нам округу поднять, чтобы все друг за дружку стояли. А ежели один наш завод супротив начальства пойдет, нас, как тараканов, раздавят. Надо все заводы подымать и бумагу всем миром подписывать.
Толпа вновь разразилась ураганом. Страсти накалялись. Уже, как часто бывало на суймах, стенка готовилась идти на стенку. Но противники подачи челобитной увидели, что их малочисленность не дает шансов на победу, и с руганью покинули суем. Мастеровые проводили их насмешками.
Горовой обратился к толпе:
– Все ли, братцы, согласны жалобу подписывать?
– Все, все!
– Ну так слушайте же!
И при внимательном молчании затихшей толпы один из немногих заводских грамотеев прочитал обширную челобитную. В ней излагались все притеснения, чинимые заводским и приписным крестьянам, перечислены были злоупотребления местного начальства за последние годы.
Когда закончилось чтение, Горовой сказал:
– К этой бумаге уже больше трех тысяч мастерового и работного люда с других заводов руки приложили.
Да, недаром по деревням и погостам Прионежья ночной порой бродили смутные тени, хлопали двери домов, зажигались лучины, а через несколько минут с крылечка спускался грамотей, бережно пряча за пазуху грамоту с новым, только что появившимся крестом вместо подписи.
– Выбирайте письменных людей, коим доверяете, – продолжал Горовой. – От вас теперь будем руки отбирать…[40]
Среди грамотеев Вохтозерского погоста у церковной ограды очутился молодой лесоруб Никита Колчин, паренек с льняными волосами и огромными голубыми глазищами. Он сидел на скамейке, в руках у него была походная чернильница с пером, а перед ним растянулся длинный хвост мужиков. Никита писал имя и прозвище каждого на листе бумаги, и записанный непривычной к письму рукой ставил против своей фамилии корявый крест.
Мужики с серьезными лицами проходили один за другим через это неторопливое священнодействие, затянувшееся надолго. Никита и другие доверенные писали медленно, часто дули на озябшие, покрасневшие руки, отогревали чернила за пазухой. Очередь их не торопила. Мужики понимали, что пером писать – не топором рубить.
К вечеру большие серые листы бумаги зачернели рядами кривых и косых крестов – унылая кладбищенская выставка всероссийской темноты и невежества.
Наутро снова гремел завод. Брызжа огненными искрами, лились из пробитых леток струи чугуна, доменщики то и дело бегали пить воду из большой бочки. Как будто все шло по-старому. Но, начиная с Августа Иваныча и кончая учеником, впервые пришедшим на завод, все чувствовали, что это обманчивая тишина.
Назревали большие и грозные события.
Ахрамеев приехал на завод в начале февраля. Узнав о положении дел на заводе, хозяин рассвирепел и дал управителю беспощадный нагоняй.
– Дурак! Пентюх немецкий! – кричал не стеснявшийся в выражениях купец. – Распустил нюни, сидит, как баба! Даром, что ли, я тебе деньги плачу?!
Василий Егорыч покраснел от гнева.
– Я, Василий Егорыч, смотрел… – робко оправдывался немец. – Я очень наблюдал состояние завода… Мастеровые чрезвычайно возроптали от меня за строгость…
– Черта с два ты смотрел! У тебя возмутители под носом ходили, ты и того не видел. Тоже строгость! Суйму не мог помешать!
– Он собрался так неожиданно… Я не предвидел…
– Где главный заводила? Как бишь его, Алешка Горовой, что ли? В колодках сидит? На Петровские заводы еще не отправил?
– Виноват, Василий Егорыч! – Перепуганный немец упал на колени. – Сбежал Горовой… И мальчишка с ним, Никитка Колчин… Слух говорили, в Питер прошение понесли…
– Ах ты, немчура белоглазая!
Ахрамеев затопал ногами, сжал огромные кулачищи. Вид его был так страшен, что Август Иваныч убежал. Вслед ему неслось:
– Ну, погоди ты, немецкая колбаса! Ежели они со своей жалобой доберутся куда не след, я с тебя с живого шкуру сниму!
Поселившись в Вохтозерском погосте, Ахрамеев принялся за дело. По нескольку раз в день появлялся он на заводе. Добиваясь повышения выработки, фабрикант до предела завинтил и без того суровую дисциплину. С утра и до позднего вечера хозяин грозовой тучей носился по цехам. На заводе наступили тишь да гладь да божья благодать.
– Видишь, немецкая колбаса! – хвастался, подвыпив, Василий Егорыч. – Учись у меня заводом управлять. А то уеду, опять всех распустишь.
– О нет, уважаемый герр! Я буду от вас пример бирать и завод буду содержать в страхе!
Впрочем, Ахрамеев не торопился уезжать. Военная коллегия платила высокие цены за чугун, и хозяин старался выжать из завода как можно больше.
Глава четвертая Нежданный гость
Поздним майским вечером, когда Егор Константиныч стоял у токарного станка, выполняя срочный заказ, в дверь стукнул Яким. Получив разрешение войти, парень нерешительно доложил:
– Барин, к вам пришел один. Просится пустить.
– Кто таков? – буркнул Марков, отрываясь от работы.
– Да он не сказывает. Говорит, только вам откроется.
– Гм… Любопытно…
«Уж не зубаревский ли посланец явился…» – с легким беспокойством подумал Марков и тотчас же отбросил эту мысль. За те недели, что прошли после кенигсбергской истории, она как-то потеряла свою значительность в глазах старого токаря. Он уверил себя в том, что крамольные речи Зубарева были пустой болтовней и что нечего беспокоиться за Митину судьбу.
– Проводи этого человека сюда, – приказал Егор Констаитиныч.
В кабинет Маркова вошел Алексей Горовой. Удивление старого мастера было необычайным: ему показалось, что годы неслышной чередой сдвинулись назад и перед ним стоит брат Илья, каким он был в молодости, только почему-то в крестьянской одежде. Сходство Алексея с отцом было поразительное: тот же высокий рост, широкие плечи, густые волосы, падающие на лоб, угрюмоватые серые глаза под черными, сросшимися бровями…
Марков прикинул в уме: со времени получения весточки от Ильи прошло больше двадцати лет; брат сообщал тогда, что у него родился сын Алеша… Нежданный гость только и мог быть его племянником Алексеем!
Старик с рыданием раскрыл объятия.
– Алеша!..
Взволнованный сердечным приветом, Алексей горячо отвечал на дядины ласки. Какой же дядя старый, морщинистый… По рассказам отца, Алексей представлял Егора Константиныча молодым, щеголеватым любимцем царя Петра. А перед ним был седой, согбенный жизнью старик… И таким он стал для Алексея неизмеримо ближе и дороже, чем созданный воображением образ удачливого, самодовольного мастера.
Егор Константиныч первым нарушил затянувшееся молчание.
– Алешенька, родной! Какая радость!.. Если б ты знал, как часто вспоминал я об Илюше с той поры, когда след его затерялся на Севере… Ну как он, что с ним? Здоров?
– Батя давно умер, – глухо ответил Алексей, опустив голову. – Заморился на работе.
– А мать?
– И матушки нет… Один я на свете.
Марков широко перекрестился.
– Помяни, Господи, рабов твоих во царствии твоем! А уж как мне хотелось повидать Илюшу и тебя, ведь я к вам собирался поехать, да боялся погубить брата, подвести под суд… А ты садись, Алешенька, садись! – спохватился старик, усадил племянника в кресло, сам сел напротив и уставился ему в лицо сияющим взором. – Знал ведь я, давно знал, что есть ты на свете, да не думал, что ты – вылитый отец! Ну, рассказывай же, все рассказывай про себя! Что такой невеселый? Али забота какая у тебя? Давно ли в Питере?
– В Питере-то я три месяца, стоим мы с товарищем на постоялом дворе у надежного человека, у земляка Якова. Только все не насмеливался я к вам, дядюшка, прийти… – сознался Алексей.
– Вот тебе на! – с веселым удивлением развел руками Марков. – Да разве за тобой темные дела есть, что ты опасался явиться ко мне в дом?
– Темных дел за мной не бывало и не будет, – с достоинством молвил Алексей, – а в Питер я пришел по особому делу: челобитье от народа принес на лихих хозяев, на злодеев-управителей… Работу мы с Никиткой бросили самовольно, без отпускных билетов. Ищут нас, дядюшка, и о том мне весть из Вохтозера дана. Оттого я и боялся показаться к вам, чтобы вас в укрывательстве беглых не завинили. А потом… Неужто, решил я, царские шпиги[41] помешают мне навестить родного дядю, о коем столько лет неотступно думал я? Ну… и пришел! – весело закончил Алексей. – Теперь хоть казните, хоть милуйте!
Марков рассмеялся.
– Казнить не буду, помилую! Молодец, Алешка, что пришел! И напрасно товарища не привел. Могли бы оба жить у меня, места в доме, слава богу, хватит, – с наивной гордостью похвалился Егор Константиныч.
– Жить нам здесь не годится, – рассудительно возразил Горовой. – Ведь неведомо еще, как наши дела обернутся, может, ищейки и учуют нас. И придется вам, дядюшка, расплачиваться за чужие грехи…
Гордость Маркова была задета. Алеша, этот живой портрет отца, боится вовлечь его в неприятности, но неужели он, питомец Великого Петра, испугается каких-то там судейских ярыжек?[42] Да и что они, в конце-то концов, могут ему сделать, если он приютит родного племянника?..
Старик встал, подошел к токарному станку и, показывая на привинченную к нему дощечку, спросил:
– Тебе Илюша про царя Петра рассказывал?
– Еще сколько! – отозвался Горовой. – Все знаю и про победы его над шведами, и про то, как он строптивых бояр укрощал и царевичу Алексею не дал Россию вспять оборотить…
– Ну, так, стало, знаешь, чей я выученик! – гордо выпрямился Марков. – Никогда не перестану этим хвалиться! А судейских крючков, что вздумают к тебе прицепиться, за порог выставлю!
Алексея развеселило безобидное хвастовство старика, в которое он, впрочем, не поверил. Он коротко рассказал Маркову о своих делах.
После того как они с Никиткой Колчиным пришли в Петербург, Горовой подал челобитную советнику Берг-конторы Клеопину. Толку из этого не вышло никакого. Выжав из ходоков все, что можно, Клеопин выставил Алексея.
– Просьба ваша беззаконна, – заявил старый взяточник. – Берг-коллегия с вами, бунтовщиками, разговаривать не станет. Убирайтесь из Петербурга, пока не попали в Сыскной приказ.
Алексей был упорен. С помощью сочувствовавшей ему дворни он сумел подать челобитье одному сенатору. Теперь просители ожидали результата от этой попытки. Никита ходил в дом сенатора чуть не каждый день, а Горовой зарабатывал на пропитание, разгружая баржи на Неве.
Услышав об этом, Егор Константиныч достал из стола пять золотых и, несмотря на упорное сопротивление племянника, заставил его взять деньги.
Удивленная долгим разговором мужа с неизвестным посетителем, поднялась на антресоли Марья Семеновна. Радость старушки, также с первого взгляда узнавшей гостя, описать невозможно. Начались бесконечные расспросы. Марья Семеновна то крестила Алексея и целовала его в лоб, то отодвигала от себя и рассматривала глазами, полными радостных слез, то жалела, что нет Мити, который, как видно, засиделся где-нибудь у приятеля.
– А кто это – Митя? – спросил Алексей. – Ваш сын?
– Ах да, – спохватился Марков, – ведь ты ничего не знаешь о нашей семье. У нас сын Андрюша, он утомился за уроками, спит, а Митя – сын Ивана Семеныча Ракитина.
– Про Ивана Семеныча мне батя рассказывал…
Алексей дипломатично умолчал, что рассказы эти были не совсем лестными: Илья Марков не любил Ракитина и к его купеческой деятельности относился неуважительно. Горовой решил, что этот неизвестный ему Дмитрий Ракитин, вероятно, тоже купец, как и его родитель. В таком духе он и задал вопрос.
Старики Марковы рассмеялись.
– Бог с тобой, Алешенька, – сказала Марья Семеновна, – да какой же он купец? Наш Митенька по ученой части пошел. Окончил этот, как его, нивер…ситет, учился в чужих краях, а теперь служит в Берг-коллегии…
– В Берг-коллегии? – Глаза Алексея загорелись. – О, тогда он самый нужный для меня человек! Дурак я был, что раньше не пришел к вам, дядюшка!
Горовой отказался от предложенного теткой угощения и обещал прийти на следующий день – повидаться с Дмитрием.
Ушел он из дома Марковых потихоньку, как и пришел.
Назавтра Дмитрий и Алексей встретились в кабинете Егора Константиныча; старики Марковы оставили их одних. Неожиданно обретшие друг друга родственники обнялись, расцеловались, внимательно смотрели один на другого.
Судьба поставила их в совершенно различное положение друг к другу. Дмитрий с детства знал, что где-то на далеком Севере растет его троюродный брат Алеша, сын дяди Ильи, его ровесник, с которым он мог бы играть каждый день с утра до вечера, драться и мириться, живи тот рядом. И он невольно полюбил неведомого Алешу, о котором так много велось разговоров в семье, за которого маменька заставляла молиться по утрам и вечерам. В сердце Мити Алеша нашел место рядом с братцем Андрюшей, с той лишь разницей, что Андрюша был намного моложе, требовал забот и попечений, а Алеха – свой, друг и товарищ, которого можно стукнуть и от него получить тумак… Теперь воображаемый образ превратился в живого, настоящего человека, и Дмитрий с радостью убедился, что он не слишком отличается от созданного его воображением.
А Алексей только накануне узнал о существовании Дмитрия Ракитина и даже не успел как следует свыкнуться с этой новостью. Вот он, Дмитрий, сидит перед ним, красивый, стройный, хорошо одетый купеческий сын, на вид ласковый, а что у него на уме? Может, он свысока будет смотреть на мастерового, опаленного пламенем горна, прожившего свой недолгий век в глуши и впервые оказавшегося в блестящем Питере…
Первые же слова Дмитрия рассеяли опасения Горового. Он узнал, что Митя давно сдружился с ним в мыслях и теперь так рад свиданию, что не может выразить словами. Предупреждения Алексея растаяли – так тает рыхлый снег под горячими лучами весеннего солнца.
Братья радостно смотрели друг на друга, беспричинно смеялись, хлопали друг друга по плечу.
Начался длинный дружеский разговор. Дмитрий коротко рассказал о себе. Годы детства, ежегодные наезды отца из дальних путешествий, гимназия, университет, ученье у великого помора, годы странствий за границей – все прошло перед зачарованным Алексеем, как странная волшебная сказка, как видение из другого, чуждого ему мира.
– Эх!.. – горько вздохнул Алексей, когда Ракитин умолк, закончив свой рассказ. – Пожил ты, Митя, повидал свет, не мне чета. А я что – жил в лесу, молился колесу.
– Алешка, не вешай носа. Хочешь, я тебя выучу грамоте?
Горовой мрачно усмехнулся.
– Что мне даст грамота? В нашей жизни грамота не помога. Вот послушай-ка про наше житье-бытье…
Немного успел рассказать в эту ночь Алексей, но и это было для Дмитрия откровением: ведь он так мало соприкасался с народным бытом. Да и знал он только деревню по немногочисленным поездкам в Сосенки. Взволнованный рассказ Алексея о том, как заводчики притесняют рабочих, как много урывают они даже из скудного их заработка, потряс Дмитрия. Но Горовой недолго останавливался на этом: он больше говорил о своей тайной работе по сбору подписей под челобитьем. Ракитин узнал, с каким великим трудом и опасностями посещал Алеша тайком заводы, как разыскивал он крепких людей, на которых можно было опереться, как убеждал колеблющихся и слабых. Эти тысячи подписей под челобитьем потребовали от Алексея великих хлопот и много унесли у него сил и времени.
– Жалею я, Митя, – закончил свою речь Горовой, – что сразу в дядюшкин дом не пришел и с тобой дружбу не свел. Ты бы мне грамоту поискуснее написал, может, скорее правды бы добились.
– Эх, Алешка, Алешка, – вздохнул Ракитин, – наверно, дело не в том, как ваша жалоба написана… Но, конечно, надо ее доводить до конца: в нее столько трудов и надежд вложено… Знаешь, Алеша, родной, я тебе буду помогать всем, чем смогу. Насчет того, как с вашим делом в сенате, я разузнаю у Кольки Сарычева, это мой школьный дружок. Помочь он, конечно, не поможет – маленькая сошка, но разведать все сумеет.
Братья расстались на рассвете.
Глава пятая Искатель правды
На Петербург спустилась белая ночь. Было светло как днем. На берегах Невы появились гуляющие. Из дома Семена Кириллыча Нарышкина вышел оркестр роговой музыки. Музыкантов было человек шестьдесят. В руках у них были охотничьи рога, от огромных, которые с трудом держал человек, до самых маленьких. Каждый рог издавал лишь одну определенную ноту.
Оркестранты разместились на плоту перед окнами нарышкинских палат. Перед каждым лежал листок с нотами. Капельмейстер-венгерец стал перед оркестром, протянул руку, и звучный аккорд пронесся над спокойной рекой.
Каждый музыкант напряженно отсчитывал паузы, чтобы вступить в нужный момент. Беда была сфальшивить – венгерец за ошибки сживал со свету.
Нежные звуки далеко разносились под бледным ночным небом. Гости Нарышкина слушали музыку из открытых окон и с балконов. Любители роговой музыки толпились на набережной Невы.
На другом берегу реки стояли Алексей Горовой и Никита Колчин.
– Дядюшка Алексей, смотри, как народ разнарядился. Гуляют!
– Разнарядились, гуляют!.. За наш пот да за нашу кровь они гуляют, – желчно отозвался Горовой. – У тебя в Вохтозере было время наряжаться да гулять?
– Ну что ты, куда уж там… Работа…
– То-то и оно! Мы с ребячества до гробовой доски не покладя рук трудимся, чтобы бары роскошествовали…
– А все-таки, дядюшка Алексей, музыка красиво играет…
– Красиво-то красиво, – нехотя согласился Горовой.
Больше месяца прошло с тех пор, как Алексей решился навестить дядю. После этого он побывал у него в доме только два раза, предпочитая встречаться с Дмитрием Ракитиным на пустынном берегу Невы. Они вели длинные беседы, с каждым разом все более привязываясь друг к другу, открывая один в другом все новые достоинства.
Чаще говорил Алексей. Перед Ракитиным вставали картины быта прионежского крестьянства, задавленного тяжелой нуждой, работой. Много, страшно много труда и пота было заложено в каждой чушке чугуна, выплавленной на заводе Ахрамеева или Попова.
Самое первое – это железная руда. Ее добывали на многочисленных «дудках» – плохо оборудованных шахтах. Держась за края бадьи, опускаемой в шахту скрипучим воротом, рудокоп творил молитву: он не знал, выберется ли обратно живым или погибнет под обвалом.
Тук-тук-тук… – стучал обушок, и бадьи одна за другой поднимались наверх с бурыми бесформенными кусками руды. Эту руду требовалось доставить на завод, и везли по лесным дорогам тяжело нагруженные подводы заморенные лошаденки, подгоняемые возчиками, по большей части подростками или женщинами.
Руду плавили на древесном угле, а наготовить его сколько нужно было далеко не простым делом. Лесорубы валили деревья, а углежоги складывали их в огромные «костры», где древесина должна была долго тлеть с самым малым доступом воздуха, иначе от нее остался бы только пепел. Как трудно было завалить «кучу» слоем земли или песка, а потом неусыпно, днем и ночью, следить, чтоб не прорвалась туда воздушная струя и не погубила многодневный труд…
Но вот руда и уголь привезены на завод, но еще далеко до загрузки их в домну. Надо было составить шихту, а для этого, кроме руды и угля, требовался флюс – известняк. Его добывали в каменоломнях, копошась с кайлами на уступах, все глубже уходивших вниз, если слой известняка оказывался мощным.
Ракитин слушал неторопливую речь Алексея, и его охватывало восхищение перед грандиозностью труда горнорабочих. А ведь это было только начало!
После того как шихта загружена в печь, наступает очередь горновщиков: они должны следить, чтобы жар в домне распространялся равномерно, они большими мехами накачивают в печь воздух, своевременно выпускают в формы расплавленный чугун…
Всю эту длинную вереницу работ Дмитрий раньше представлял себе только теоретически, по книгам, по лекциям профессоров, но в живом рассказе человека, осуществляющего магическое превращение грубой руды в прочный металл, она возникла перед ним впервые, и Ракитин был поражен.
– Как же я мало знаю о том деле, которому учился столько лет! – не раз с горечью восклицал Дмитрий. – Нет, надо ехать на Север, все посмотреть, пощупать своими руками, спуститься с обушком в дудку, выжечь уголь, приготовить шихту, попотеть у доменной печи…
Алексей насмешливо улыбался.
– Мозоли на ручках набьешь, Митьша! – поддразнивал он брата. – Вишь какие они у тебя белые да нежные.
Дмитрий в шутливом гневе набрасывался на литейщика, и начиналась веселая возня. Побеждал то один, то другой: братья были равны по силе.
Нарышкинский оркестр кончил играть, народ стал расходиться, Алексей и Никита отправились на постоялый двор Якова Вохминцева. Уроженец Прионежья, Яков знал, зачем пришли в Питер его земляки, сочувствовал им, укрывал от полиции.
На следующий день Алексей поджидал на улице младшего товарища, который по два-три раза в неделю наведывался в приемную сенатора узнать, дал ли он ход челобитью, которое ему вручили ходоки. Но сенатор, не поощряемый крупными дарами, до сих пор даже не удосужился прочитать прошение с далекого Севера. И Никита каждый раз тоскливо выслушивал одно и то же от старика лакея:
– Их превосходительство приказали прийти на той неделе. – Сочувствуя тяжелому положению ходоков, лакей иногда потихоньку добавлял: – Плохо ваше дело, братцы. У нашего барина без подмазки ни одно дело не проходит…
На этот раз Никитка выскочил из подъезда сам не свой. Растерянно оглядываясь, он подбежал к Алексею.
– Ну как, Никита, с добром? – спросил Горовой.
– Кой прах с добром! Бежим!!
Испуганный парень помчался во весь дух, Алексей едва поспевал за ним.
– Пришел я, он почивает, – запыхавшись, говорил Никита на ходу. – Потом встал, вышел. Смотрю, гневен… напустился… ругает! «Вы-де мошенники, смутьяны… Обманули меня!..» Да ка-ак прошением в меня швырнет!.. Ой, дядюшка Алексей, будочник[43] на нас смотрит!
– Где? Да ты потише, не показывай виду… Увидит, что бежим, прицепится: кто, мол, такие, от кого спасаетесь?
– И то!
Беглецы свернули на большой пустырь, заваленный кирпичом и лесом. Прикорнув между штабелями бревен, они начали осматриваться по сторонам. Убедившись, что никого кругом нет, Горовой спросил:
– Что ты так переполошился? Тебя схватить хотели?
– Нет, дяденька!
– Что ж ты бежал?
– Напужался очень! Он мне такие слова сказал…
– Эх, парень, чересчур уж ты труслив! Ну, пересказывай!
– «Вы-де в Берг-коллегию челобитье подавали, и там вам отказано. И вы-де опять за то же смутьянство принялись… Вам сенат в вашем челобитье наотрез откажет! И велено-де вас, прионежских хресьян, на заставах хватать и в колодки забивать… И мне надоело с вами валандаться! Еще раз явишься, в Сыскной приказ отправлю…» Я прошенье за пазуху – и наутек…
– Вот уж горе так горе! – всплеснул руками Горовой. – Выходит, и это челобитье как псу под хвост?
– То-то как псу, дяденька Алексей!
– Нет, погоди, парень, тут что-то не так… – Надвинув треух на лоб, Алексей долго и мучительно раздумывал. А потом сказал: – Ну, Никита, обмишурились мы с сенатом, надо матушке жалобу подавать!
– Кому?! – опешил Никита.
– Царице! Она рассудит дело по всей истине. Она не ведает, что бояре-гады творят над работным людом. Ничего, парень, не горюй, добьемся мы своей мужицкой правды!
– Окстись, дядя Алексей! Да кто же нас допустит до царицы? Схватят, забьют в колодки, и пропали наши бедовые головушки…
– А ты не унывай, парнюга! Добьемся и до царицы – это небось не на небо залезть. Поди ты, пожалуй, как мне это сразу на ум не пришло. И Митя тоже недодумал… Вот оно, дело-то какое! Жалобу попрошу Митю переписать. Ведь она в какие руки пойдет!
Осторожно оглядываясь по сторонам, ходоки отправились к дяде Якову на постоялый двор.
Глава шестая У царицы
Всеми силами пылкой души Алексей Горовой отдался трудной задаче – подать челобитье самой царице. После предварительных расспросов Алексей и Никита отправились к Зимнему дому, что на Мойке. Улица была перегорожена цепью часовых, никого не пропускавших. Алексей подошел к одному из солдат.
– Что это, братцы, окарауливаете?
– Али ты в Питере впервой? Государыня почивает в Зимнем доме. Покудова не встанет, здесь ни проходу, ни проезду нет.
– А когда же матушка-царица встает?
Служивый запустил в нос здоровую понюшку табаку.
– Когда как… апчхи… Когда с пушкой…[44] пчхи… пчхи… а бывает, и до вечера спит.
– Так вы и до вечера никого не пропустите?
– Ну а как же? Да это еще что! Вот мертвякам… апчхи… по этой улице совсем пути нету.
– Как – нету?
– А вот так! Есть приказ покойников ни в коем разе мимо дворца не возить.
– Да ну?
– Право. Хочешь, землячок, понюхать? Нет? Государыня… апчхи… ихнего мертвецкого виду выносить не может. У нас, – вполголоса заговорил солдат, наклоняясь к уху Горового, – во дворце болеть не позволяется, боже упаси! Коли кто заболел, сейчас из дворца увозят. «Болеть, говорят, надо дома, а государыню незачем расстраивать…»
Алексей и Никита караулили три дня, прежде чем им удалось увидеть выезд императрицы. Карета шестерней промчалась мимо во весь дух. Ходоки упали на колени. Алексей размахивал челобитной. Важный кучер, без сомнения имевший придворный чин, даже не взглянул на них. У него был приказ: на улицах для челобитчиков не останавливаться.
– Нет, Никитка, – сказал литейщик, поднимаясь с колен, – так у нас проку не будет.
– Попробуем еще раз, дядя Алексей?
Попробовали еще и еще раз, но все так же безуспешно.
– А все-таки найду я ее, матушку-правду! – упрямо сказал Алексей Горовой.
Несколько дней Алексей, таясь в окрестностях Зимнего дома, дожидался случая завести знакомство с кем-либо из дворцовой прислуги, и ему удалось приметить истопника Лариона. Мужик ежедневно после обеда заглядывал в кабак, выпивал чару пенного и уходил, слегка пошатываясь. Дождавшись мужика в кабаке, Горовой усадил его за столик и принялся угощать. Ларион никогда не отказывался от даровой выпивки.
– Ты, друг, хороший мужик… – бормотал он после четвертого стакана. – Ты меня больше не угощай… Мне к вечеру на службу идтить… Лонись[45] так вот клюкнул с брательником, без ног остался… Ладно, брательник пошел. Я ему ливрею дал… Вытопил печки, сошло. Там у нас Андрей Кузьмич – всему печному делу заглавный. Спасибо, покрывает грешки… Нет, друг, хватит…
– Эх, милай… – полез обниматься Алексей. – Столько лет не видались, а ты и выпить со мной не хочешь.
– Как! – сколько лет! Я тебя совсем не знаю.
– Вона! – притворно удивился Горовой. – Да ить мы с тобой земляки! Ты из какой деревни?
– Мы-то? Мы из Черемшанки.
– И я из Черемшанки. Забыл, что ли, моя изба с краю, на выезде стоит. Давай, земляк, выпьем!
– Выпьем, земляк… Я теперича, земляк, большой человек… Я, земляк, во дворце печки топлю.
– Знаю, знаю, – подтвердил Горовой, незаметно выливая водку из своего стакана под стол. – У нас вся Черемшанка про тебя говорит.
– Говорят? Ну то-то… Пущай говорят, я не пре… препятствую… Я, земляк, до самой царицы доступ имею…
– Ой ли? Ить ты врешь! – Глаза Алексея горели как угли.
– Вот те бог! В кабинете-то камин. Я дрова таскаю… А царица вечером одна сидит…
– Ну, счастлив ты, земляк! Надо выпить по такому случаю.
– Выпьем, земляк! – послушно откликнулся истопник. Язык его заплетался, передавая слова царицы: – «Здравствуй, грит, Лларрион… Ккак жжввешшь…» – «Нниччегго, мматушка… Ддочь рродиллась…» Рруб пожжерртввоввалла…
Ларион захрапел, положив голову на стол. Горовой стянул с него ливрею, объяснив кабатчику, что он не может оставить в кабаке казенное добро, но, впрочем, парень будет за Ларионом присматривать. Никитке дана была мелочь – на опохмелку для Лариона, – если тот, случаем, проснется раньше времени.
Явившись к Андрею Кузьмичу, Алексей сделал глуповатую физиономию и поклонился ему в пояс.
– Ты что? – спросил тот.
– Я, значится, сударь Андрей Кузьмич, буду Ларивонов брат. Ларивон выпимши лежит… Тоись никак не могет явиться к своему делу…
Андрей Кузьмич сердито нахмурил брови.
– Фу, черт паршивый! Опять нахлестался! С чего это он?
– На радостях, барин. Потому как, значится, со мной свиделся, с брательником, тоись…
– Да вас сколько у него, братьев-то?
– Нас, барин, семеро братов. У нас семействие слава богу. Ларивон, потом, стало быть, я, Фрол, да Сидор, да Фома…
– Хватит, хватит! Вы хоть, обормоты паршивые, пореже бы в столицу ездили.
– Слухаю, барин! – Алексей низко поклонился.
Андрей Кузьмин призадумался.
– Что же у меня из-за вас, чертей, дворец нетоплен будет? Один пьян, другой болеет, третий отпросился еще с утра…
– Пошто нетоплен? А я-то? Он меня в замену послал. Иди, говорит, Фролка, явись к Андрею Кузьмину. Андрей Кузьмин, говорит, это у нас не начальник, а андел небесный. Мы, говорит, за него денно-ночно Бога молим…
Андрей Кузьмич подобрел. Внимательно окинув взором Алексея, он спросил:
– Сумеешь камины-то истопить?
– Да господи боже мой! Нешто мы не тапливали? У сенахтура в истопниках служил. – Горовой назвал фамилию того сенатора, у которого потерпел неудачу с челобитьем. – А сейчас тоже приехал наниматься.
– Ну, иди, принимайся за дело! Да смотри, чтобы все было как следует! Антон, покажи этому облому, куда дрова нести…
Алексей, без ума от радости, потихоньку ощупал прошение под ливреей.
Осторожно ступая, истопник внес в кабинет царицы вязанку дров. Войдя, он замялся у двери.
– Что ж ты? – послышался голос Елизаветы Петровны. – Неси к камину.
Императрица уютно устроилась в мягком кресле, положив ноги на каминную решетку.
Истопник подошел, неуклюже свалил дрова. Что-то неуверенное в его движениях привлекло внимание Елизаветы.
«Новый, – подумала она. – И где достали такого вахлака? Ливрея коробом сидит, сапоги крестьянские…» Спросила:
– А где Ларион?
– Болен, матушка. Я за него.
– Растапливай да иди отсюда.
Истопник бросил несколько поленьев в камин так неловко, что поднял облако золы.
– Да ты пьян! – гневно крикнула царица.
Вместо ответа мужик упал на колени.
– Матушка, выслушай! – отчаянно вскрикнул он.
– Ну, что так ревешь? – недовольно заметила Елизавета. – Коли пьян, так поди проспись.
– Нет, не пьян я! Я с великой просьбой к тебе пришел… – И Алексей дрожащими руками полез за пазуху.
– Что у тебя там, говори! Сыну на зубок или дочке приданое? Что-то не видала я тебя.
Елизавета любила оказывать мелкие благодеяния низшим придворным служителям.
– Нет, государыня! Не за себя прошу… Прошу за мир хресьянский, за народ православный.
Императрица смотрела с удивлением.
«Уж не сумасшедший ли?» – мелькнула жуткая мысль. Поискала глазами колокольчик.
Мужик, все еще стоя на коленях, достал наконец сверток бумаг и подал его царице.
– Челобитье, матушка. Девять тысяч мужицких душ тебя просят…
Елизавета, ничего не понимая, развернула сверток и повернулась к свету, чтобы рассмотреть получше. Она нетерпеливо скользила глазами по строкам:
«…а бьют челом тебе, всемилостивейшая матушка-государыня, рабишки твои, прионежские хресьяне…
…а вышеупомянутый Ахрамеев чинит обиды нам и теснит напрасно, отчего пришли мы в крайнее убожество, скудость и нищету…
…и за оное наказывают нас плетьми нещадно, куют в колодки железные да на чепь по неделе и больше сажают безвинно…
…а женишки да детишки наши от лютого глада мрут…
…а допрежь твоего высочайшего всемилостивейшего указа в работу не вступимся, хочь все гладкой смертью помрем…»
Императрица встала, выпрямилась. Гневно взглянула на Алексея. Тот отступил.
– Ты кто такой? – резко спросила Елизавета.
– Ходок от прионежскнх крестьян.
– Обманом сюда пробрался?
Алексей опустил голову.
Дрожь пробежала по спине императрицы.
«Лицом к лицу с опасным мятежником, возмутителем… (Где этот проклятый звонок?) Не подкуплен ли врагами? Выхватит из рукава нож…»
Встал в памяти виденный ночью страшный сон.
«А вдруг приверженец Иванушки, холмогорского узника?.. Ни на кого, ни на кого нельзя положиться… Все злодеи, все враги… Закричать? Нет, боюсь… Надо от него скорее отделаться, выпроводить…»
Притворно-ласково сказала:
– Хорошо, оставь челобитную и иди. Я расследую.
– Правда? Не гневайся, матушка, на грубое слово. Много нашего брата обманывали, теперь уж и верить трудно…
– Ступай, все будет сделано.
– Ладно, верю тебе. Прощай пока.
Алексей пошел к двери. Еще он открывал ее, как Елизавета кошкой прыгнула к столу.
– Ага! Вот он наконец!
Тревожный звон понесся из кабинета. Горовой все понял в одно мгновение.
– Схватят меня! – вырвалось у него. – Спасаться надо! – Выскочив за дверь, он опрометью понесся по сверкающему паркету дворцовых зал.
Императрица, стиснув зубы, неистово звонила. Крупные капли пота катились по ее лицу.
Горовой бежал. Полы ливреи путались у него между ногами. Навстречу ему, загораживая дорогу, выскочил важный сановитый лакей.
– Дурак! Невежа! Что, как лошадь, топаешь? Ты где?
Озарила молниеносная мысль.
– Матушка-государыня послала… трубочиста привести… Камин дымит…
Лакей мигом очистил дорогу.
– Чего стоишь как пень! Послали, так беги скорей!
Алексей не заставил себя просить. Вихрем он несся по залам все ближе и ближе к спасительному выходу. Его больше не задерживали. Молва об истопнике, посланном за трубочистом, неизвестно какими путями летела еще быстрее беглеца.
Горовой заставил себя неторопливо пройти мимо часовых, охранявших вход в Зимний дом, и с радостным вздохом увидел над собой пасмурное небо. Отбежав от дворца, он в подворотне скинул ливрею, свернул ее в комок и закоулками побежал в кабак.
Где-то вдали слышались тревожные свистки, крики. За ним уже гнались. Вскочив в кабак, Алексей мигнул Никите. Ларион еще спал тяжелым сном. Ему наскоро накинули ливрею на плечи.
Литейщик тяжело вздыхал, лицо его было сумрачно.
– Дядя Алексей, беда приключилась?
– Не время рассказывать, – бросил Алексей. – Надо ноги уносить.
Прошли улицу, стали заворачивать за угол. Навстречу неожиданно вывернулось несколько солдат из дворцовой охраны во главе с капралом.
– Стой, что за люди! Не видали, человек в ливрее тут не пробегал?
– Встрелся, батюшка! Скоро так бег и все оглядывался!
– Куда побежал?
– А во-он туда!
– Вали, ребята! – И капрал припустился во весь дух.
Солдаты затопали за ним.
Ходоки пошагали дальше.
– Да, – неожиданно сказал Алексей, – последняя надежда… А ведь как верил… Как в Бога верил…
До постоялого двора добрались благополучно.
Ночь прошла в страхе. Никитка несколько раз вскрикивал со стоном: ему все чудилось, что кто-то хватает его за руки. Горовой ворочался и тяжело вздыхал.
Утром держали тайный совет с дядей Яковом. Яков отправился на разведки. Вернулся он часа через четыре с угрюмым лицом.
– Плохо дело, паря! – без обиняков заявил он. – Ищут тебя по всему Питеру. Ты натворил делов, не дай бог! Царица, бают, разгневалась, страх сказать. Караулы усилены, город оцеплен. Обыски будут… Бирючи[46] по улицам указ вычитывают – оскорбителя ее царского величества найти и доставить живого либо мертвого…
Лицо Алексея потемнело.
– Что делать? – глухо спросил он.
– У меня вас поймают, мне с вами погибать, – неприветливо сказал Яков.
– Сбежим, – тихо сказал Горовой. – Не подведем, не бойся…
В дом Марковых Алексей не пошел. Если теперь его схватят у дяди, Егора Константиныча постигнет неминучая беда. Никита написал записку Дмитрию, где коротко рассказал о последних событиях. Эту записку Яков должен был тайно передать Ракитину, которого знал в лицо.
Алексей и Никита ушли на рассвете. Не рискуя появляться на охраняемых патрулями мостах, они пересекли Неву вплавь, привязав узелки с одеждой к головам. К вечеру они были далеко от столицы и взяли путь на север.
Дерзкая выходка Горового заставила обратить внимание на челобитье прионежских горнорабочих. Оно было воспринято как серьезный сигнал о неблагополучном положении, сложившемся в тех краях.
Власти вспомнили о том, что канцелярия Петровских заводов заваливала Берг-коллегию тревожными донесениями и просьбами прислать солдат. Небольшая команда, расквартированная на Петровских заводах, не могла держать народ в повиновении. Заводчик Кирилл Попов чуть не каждую неделю подавал слезные прошения в Берг-коллегию и Военную коллегию. Всплыли и заявления Ахрамеева все по тому же наболевшему вопросу.
И вот последовала резолюция:
«…Господам капитану Фан-Вейле и поручику Бесфамильному идти на Прионежские горные заводы с ротою солдат Астраханского полку. И оным господам офицерам смирять ослушников, кои указом чинятся противны и в работы не вступаются.
А пущим заводчикам на тех фабриках учинить наказание: бить плетьми нещадно, дабы другим так чинить неповадно было. И при том объявить им всем указ, чтобы они в свои на тех фабриках работы вступались в самой скорости, не отговариваясь ничем. А ежели они в работы вскорости не вступятся, а и по-прежнему будут чиниться противны, то с ними поступать с наитягчайшим истязанием без всякого упущения.
А наипущих возмутителей – Алешку Горового да иных с ним же – схватить да прислать в Санкт-Питербурх, железом оковав, под строгим караулом.
Содержание же отряду иметь за счет завода, где таковой будет расквартирован».
В пасмурный сентябрьский день 1755 года рота Фан-Вейле выступила в поход. Лица солдат были угрюмы. Перед самой зимой им предстоял далекий путь в пустынный край, овеваемый северными вьюгами…
Сбоку ехали офицеры. Румяное лицо капитана было спокойно. Флегматичный голландец считал, что в плохом положении надо получше устраиваться, а не падать духом.
Поручик Бесфамильный ликовал. В походе на прионежскую мастеровщину он надеялся заработать повышение по службе.
Прионежье не было захвачено врасплох приходом мушкатер. Вести о них на крыльях ветра разносились по всему краю, вплоть до самых отдаленных погостов и даже до Выгозера.
Глава седьмая Большие надежды
Дмитрий Ракитин несколько месяцев работал в Берг-конторе. Работа разочаровала его. Вместо интересных поездок по заводам, где можно было на деле познакомиться с разными способами выплавки металла из руд, приходилось заниматься бумажной волокитой. Один заводчик жаловался на другого, обвиняя его в нарушении контракта, а тот, в свою очередь, предъявлял встречный иск. Заводчики и фабриканты старались показать выпуск продукции приуменьшенным против действительного, чтобы сократить обязательные поставки в казну. И всеми этими кляузами приходилось заниматься Ракитину.
Отдыхал он только дома, в маленькой лаборатории, которую устроил в своей комнате. Он достал кое-какую аппаратуру, часть приборов, в том числе электростатическую машину, которую сделал Егор Константиныч. Дмитрий приобрел химическую посуду, лейденские банки, реактивы. Появилась у него небольшая библиотечка: ломоносовское «Слово о пользе химии», «Вольфианская экспериментальная физика», переведенная на русский язык Михайлой Васильевичем; очень пригодились приобретенные за границей труды французских и немецких ученых.
Марья Семеновна относилась к Митиному увлечению с большой опаской: ей все казалось, что в его комнате вспыхнет пожар. Она настояла на том, чтобы у двери всегда стояли наготове ведра с водой.
Июльские дни долгие, и, возвращаясь с опостылевшей службы, Ракитин весь уходил в науку. Этим летом его особенно занимали опыты по электричеству.
Электричеством Дмитрий интересовался еще с гимназических лет. В своих лекциях Ломоносов не раз предсказывал электричеству огромную роль в жизни человечества. Но тогда люди еще не подозревали, что при исследовании электрических явлений нужна крайняя осторожность. Электричество можно сравнить с прирученным зверем: такой зверь может быть добрым и послушным, но если в обращении с ним допустить небрежность, он наделает больших бед. От такой небрежности погиб товарищ Ломоносова, профессор Георг Рихман. Его убила молния, притянутая проведенным в дом громоотводом. Это случилось 26 июля 1753 года. Ракитин на ту пору был в Париже и о печальном происшествии узнал из письма своего товарища Василия Клементьева.
Делая опыты с электричеством при помощи сооруженной Егором Константинычем машины, Дмитрий не подвергался опасности погибнуть подобно Рихману. Самое большее, что ему угрожало, – это болезненный укол в палец от выскочившей искры или неприятный толчок, когда заряд проходит через тело.
Но при этом можно было сделать много ценных наблюдений и выводов. Для работы Дмитрий пользовался простейшим электроскопом,[47] который представлял собою бузиновый шарик, подвешенный на шелковой нитке. Бузиновый шарик удобен своей легкостью, а шелковая нитка – изолятор. С помощью самых простейших приспособлений Дмитрий проверил, что существует два рода электричества. Один род получался от натирания суконкой роговой расчески; Ракитин назвал его «роговым». Другой род электричества давало натирание стеклянной палочки; соответственно оно получило название «стеклянного».[48]
Дмитрий убедился, что два бузиновых шарика, заряженных одноименным электричеством, отталкиваются, а разноименные притягиваются. И при соприкосновений разноименных зарядов равной величины они исчезают, взаимно уничтожаются.
Дмитрий делал интересные опыты с лейденскими банками.
Конечно, опыты, о которых здесь говорится, кажутся теперь чрезвычайно элементарными. Но не нужно забывать, что в те отдаленные времена, когда жил герой нашей повести, наука об электричестве делала только первые шаги, и многое такое, что кажется нам безусловной истиной, надо было проверять и доказывать.
Методику проведения своих опытов и результаты их Дмитрий записывал красивым, четким почерком в большую тетрадь, снабжал изящно сделанными чертежами.
После долгих раздумий и мучительных сомнений Ракитин решился показать тетрадь Михайле Васильевичу, к которому он заглядывал частенько.
Ломоносов пришел в восторг.
– Ах, сколь отрадно видеть такую приверженность к науке! – воскликнул он. – И не так меня радует содержание сей тетради: твои опыты давно уже и многажды проделывались у нас в физических классах, мне утешна тщательность выполнения оных, желание найти все возможные вариации физического явления. Ну, Дмитрий Иваныч, быть тебе моим адъюнктом!
Потрясенный Ракитин не поверил своим ушам.
– Михайла Васильич! – побледнев, молвил он. – Возможно ли? Вы шутите!..
– Ничуть, друг мой, – спокойно продолжал ученый. – По твоему «трактату» ясно вижу, что ты весьма и весьма способен двигать российскую науку, а нам такие люди ох как нужны, особливо из чистокровных русаков.
– Михайла Васильич!.. – Не находя слов, Ракитин долго и крепко жал руку профессора. – Поверьте… Я все силы…
– Э, хватит слов, – добродушно прервал его излияния Ломоносов, – верю тебе. Да вон Лизавета Андреевна зовет к столу…
За столом Михайла Васильич объяснил до глубины души обрадованному гостю, что у него на физической кафедре как раз с нового, 1756 года открывается вакансия адъюнкта, и он завтра же представит на утверждение академической конференции кандидатуру Ракитина.
Дни Дмитрия потянулись невыносимо медленно: казалось, месяцы проходили от одного утра да другого. Так трудно приходилось ждать ему решения своей судьбы. Горячность подсказывала бросить службу в Берг-конторе, немедленно подать прошение об увольнении и вольной птицей погулять впредь до желанного назначения. А осторожность шептала: «Повремени, не спеши, цыплят по осени считают. А вдруг у какого-нибудь профессора из немцев есть свой любимчик, коего он захочет пристроить в академию. И сядешь ты, неудавшийся адъюнкт, на шею дядюшке Егору Константинычу…»
И Дмитрий продолжал тащить постылую лямку. Но тут случилось неожиданное событие. В начале октября его вызвал советник Ланской и сказал, вертя в руках какую-то бумагу:
– Вот, купец Ахрамеев жалуется, что у него на Вохтозерском заводе слишком мал выход чугуна из руды, и просит Берг-контору прислать на завод сведущего человека разобраться с этим вопросом. Полагаю, Дмитрий Иваныч, вы смогли бы помочь Ахрамееву.
Ракитин чуть не бухнул напрямик про то, что ждет нового назначения, которое вот-вот освободит его от службы в Берг-конторе. Но он вовремя спохватился, вспомнив строгий наказ Ломоносова держать язык за зубами.
«Упаси тебя боже кому-нибудь проболтаться, – говорил тогда профессор, – всю музыку испортишь».
Дмитрий, покраснев, поблагодарил Ланского за предложение и обещал дать ответ на следующий день.
– Мне нужно посоветоваться, – пробормотал он. – Семейные обстоятельства…
– Не буду вас торопить, молодой человек, – любезно согласился Ланской. – Время терпит.
В тот же вечер Дмитрий явился к Ломоносову, рассказал о случившемся, просил совета.
Пораздумав, ученый сказал:
– По-моему, тебе следует поехать. Наши вельможные паны в академии не слишком торопятся, дело может затянуться на месяц и на два. А ты получишь большую пользу и себе и будущей твоей кафедре, ежели досконально разберешься в процессах, происходящих в печи.
Дмитрий заявил Ланскому о своем согласии, благодарил советника за то, что выбор пал на него.
– Да что уж, – улыбнулся Ланской, – поезжайте, молодой человек. Я вижу, наша канцелярщина совсем вас доконала, а там хоть живое дело будет. Дорожные ваши расходы возложим на Ахрамеева: у купчины мошна толстая, выдержит.
На семейном совете было решено, что Дмитрию нет смысла трястись на перекладных и он поедет на марковских лошадях с кучером Якимом.
Неожиданная поездка на Север обрадовала Ракитина: она давала возможность отвлечься от мучительных дум о том, какое решение вынесет академическая конференция, признает ли его достойным работать бок о бок с самим Ломоносовым. А самое главное – он увидит на ахрамеевском заводе полюбившегося ему Алексея Горового.
Дмитрий отправился в путь с большими надеждами, с мыслью, что дело его бесспорное – других кандидатов на должность адъюнкта физики, по словам Ломоносова, не нашлось.
Глава восьмая На севере
Трехсотверстный путь на Вохтозеро подходил к концу. Держа путь сначала вдоль Невы, потом огибая южную оконечность Ладожского озера и, наконец, прямо на Север, минуя Шотозеро и Сямозеро, путники приближались к ахрамеевскому заводу.
Лошадки были бойкие, кучер старательный и, хотя зимний день короток, путешествие отняло всего неделю. Летом бесчисленные озера и болота заставили бы петлять, делать длинные объезды, а теперь санная дорога везде вела напрямик.
Но чем ближе к цели, тем тревожнее становилась окружающая обстановка. Отправляя Дмитрия к Ахрамееву, советник Ланской ни словом не обмолвился о том, что в Прионежье неспокойно. Ракитину пришлось убедиться в этом, как только позади осталась Ладога. На каждой ночевке слышал он о том, что на Прионежских заводах работный люд бунтует, не в силах выносить притеснения казенных начальников и заводских управителей. Казалось, путники приближаются к вулкану, который, того и гляди, выбросит раскаленную лаву.
Яким оробел. Он уговаривал Дмитрия:
– Митрий Иваныч, на кой ляд сдался нам Ахрамеев с его паршивым чугуном? Ты слыхал, все говорят, что на Вохтозере самая кипень идет, оттуда все и началось… Je vous prie,[49] вернемся-ка мы с тобой тихо-мирно в Питер, шкура целее будет. А то ухлопают нас где-нибудь на большой дороге, и прости-прощай твоя адъюнктура…
Но Дмитрий, прежде чем уйти в «чистую» науку, хотел на собственном опыте ознакомиться с выплавкой чугуна из бедных северных руд, ко всему приложить собственные руки, над белизной которых так ядовито подсмеивался Алеша Горовой.
И они продолжали путь на Север.
Капитан Фан-Вейле избрал местом стоянки своей роты Вохтозерский погост. По его сведениям выходило, что там и есть центр возмущения. Данная ему инструкция гласила, что нужно применять к зачинщикам бунта отеческие меры увещевания: сечь кнутом и сажать на хлеб и воду, предварительно заковав в колодки. Капитан был, пожалуй, и не прочь принять такие меры, но вся беда была в том, что зачинщики ушли в лес и там отсиживались в охотничьих избушках, запрятанных в недоступных чащобах. Старая, испытанная тактика прионежских мятежников – охотников и звероловов. В селах оставались старики, подростки и женщины, не их же было «увещевать» кнутом.
Бесфамильный горячился, воинственно размахивал руками.
– Надо разбить отряд на части. Неожиданно перебрасывать их с места на место. Не давать мятежникам ни минуты покоя. По дорогам выставить заставы.
– Не согласен с вашим планом, Аполлон Ильич, – возразил Фан-Вейле. – Разбить роту на части – значит отдать ее во власть бунтовщиков. Благоразумнее выжидать. Мятежникам надоест сидеть в лесу в разлуке с семьями, и они придут с повинной.
– Этого не случится, господин капитан.
– Тогда запросим подкреплений.
– И отдадим честь подавления опасного бунта другим? – горько спрашивал Аполлон Ильич.
Фан-Вейле приказал объявить по всем заводам, селам, деревням, что сам будет принимать жалобы от крестьян. Фан-Вейле рассчитывал таким путем выявить зачинщиков и принять против них строгие меры. Но в течение нескольких дней ни один жалобщик не явился на капитанский вызов.
12 октября в Вохтозеро приехал Дмитрий Ракитин. Он не был удивлен, застав в погосте вместо обычного заводскою оживления и шума кладбищенскую тишину и солдатские патрули, проходившие по пустынным улицам.
Ракитин счел нужным представиться капитану Фан-Вейле и предъявить ему свое предписание из Берг-конторы. Сетования голландца на то, что русский народ не понимает собственной выгоды – а эта выгода заключена в работе на хозяев, – Дмитрий выслушал с вежливым равнодушием, откланялся капитану и отправился на квартиру, отведенную ему старостой Кульковым.
На следующее утро взволнованный капрал разбудил капитана.
– Ваше благородие! – доложил он. – Народу собралось видимо-невидимо, и все подваливают со всех сторон.
Выглянув в окно, офицеры увидели, что на площади перед заводом чернеет многотысячная толпа.
– Мужики нас перехитрили, господин поручик, – бросил Фан-Вейле Бесфамильному, одеваясь. – Мы рассчитывали, что бунтовщики будут приходить поодиночке и попадут в темную. Нет, они умнее, чем мы думали. Попробуй возьми их теперь…
Бесфамильный угрюмо молчал.
Офицеры вышли на крыльцо. Дмитрий Ракитин одиноко стоял под окнами дома; высокий рост позволял ему видеть все, что делалось кругом.
Рота солдат была выстроена в боевом порядке, к мушкетам примкнуты штыки.
Толпа гудела. Тут были лесорубы с мощными руками, привычными по целым дням взмахивать тяжелым топором. Были рудокопы, которые каждый день навек прощались с семьей, когда шли на работу в свои узенькие дудки-шахты. Была заводская мастеровщина со смуглыми лицами, опаленными непрестанным пламенем горнов, со шрамами от ожогов, полученных при вечной возне с раскаленным металлом. Были угольщики и смолокуры, до того почерневшие от грязной работы, что самая жаркая баня не в состоянии была возвратить им нормальный цвет кожи. Были возчики, целые дни шагавшие за усталыми лошаденками, везущими по ухабистым лесным дорогам тяжелые короба с углем и рудой. Были каменоломы с согнутыми спинами, с грудью, впалыми от вечного вдыхания известковой пыли. Были тут и бабы – вековечные работницы немудреного крестьянского обихода, исхудалые и преждевременно морщинистые от бессонных ночей, от непрестанной и хлопотливой бабьей работы.
Толпа гудела. Фан-Вейле махнул рукой. Водворилось молчание.
– Кто жалобщики, выйдите вперед!
– Мы все жалобщики, – раздались голоса.
– Ну все-таки есть же у вас главные?
– Мы все главные! – не сдавалась толпа.
Капитан развел руками:
– Как же я с вами разговаривать буду?
– А хоть стоя, хоть сидя, ваше благородие! – хладнокровно посоветовал высокий старик из первого ряда толпы.
Народ разразился смехом.
– Ну что ж, говорите все вместе! – обратился к толпе Фан-Вейле.
– Зачем вместе, мы можем и по очереди!
И тут Дмитрий с радостью увидел, как среди моря голов появился Алексей Горовой. Он поднялся на плечи товарищей. Алексей тоже заметил Ракитина, в одиночестве стоявшего под окнами избы, и по его лицу промелькнула улыбка.
Горовой начал громким голосом, перекрывшим шум толпы:
– Вот послушайте меня, господа офицеры…
Фан-Вейле перебил его:
– Ты нам скажи, как звать тебя, из какой ты деревни.
– Это для чего? – насторожилась толпа.
– Для порядку.
– Знаем мы этот порядок!
– Ишь, разило бы вас! Зачинщиков выловить думаете?
– А ты, дядя, молчи!
– Что ж молчать… – добродушно вмешался в спор Алексей. – Слушай, ваше благородие! (Бесфамильный замер, прислушиваясь.) Крестил меня поп в день сорока тысяч мучеников, я один из них. А родом я прионежский. Дом мой ветром обит, тучами приукрыт…
Грянула буря смеха, точно море вышло из берегов.
– Ловко отозвался!
– Поди сыщи его…
Алексей продолжал:
– Нам с вами разговаривать не о чем. Вы наши жалобы знаете. Наше прошение до самой царицы дошло. Да что толку? Чего ж вам все снова пересказывать?
– Зачем вы в таком случае собрались?
– А вот зачем. Отпиши в Питер: покуда наши просьбы не будут исполнены, мы на работу не выйдем!
– Да какие просьбы-то?
– Жалованье по месяцам не задерживать… Провиянт доставлять вовремя… Чтоб наши ребятишки голодом не сидели… – перечислял народ свои нужды.
Горовой продолжал:
– Старост нам чтоб по указке управителей не ставили. Чтоб работников из крестьянских семей до последнего не забирали…
На каждое его требование толпа отвечала крепкой поддержкой, криками: «Верно, правильно!»
Фан-Вейле снова махнул рукой, требуя тишины.
– Вы сначала выйдите на работы, а я ручаюсь, что ваша просьба будет рассмотрена и законные требования удовлетворены.
– Нет, барин, не выйдет по-твоему, – отрезал Горовой. – Долго мы работали, долго ждали. Теперь вот тебе крепкое слово: покуда в наших жалобах не разберутся, не начнем работать. Верно, братцы?
– Верно! Истинные слова!
– Даете в том крепкую клятву?
– Даем! Клянемся! Нерушимую клятву приносим!
– Слышь, барин, так и передай в Питер.
Вдруг началось смятение. Пользуясь переговорами Фан-Вейле с мужиком, которого он справедливо считал главным зачинщиком, Бесфамильный, с десятком мушкатеров попытался проникнуть в толпу, чтобы схватить Горового. Но перед солдатами выросла плотная стена гневных, угрожающих лиц. Неизвестно откуда появились топоры, дубины.
– Нет, уж это ты, ваше благородие, оставь!
– Ступай, откуда пришел, не то ребра пересчитаем!
– Ишь какой прыткий!
– То-то вы нас сюда заманивали!
Бесфамильный отступил.
Алексей с высоты спокойно наблюдал за этой сценой.
– Слышь, барин! – крикнул он Фан-Вейле. – Ты мужиков до крайности не доводи. Ваша сила супротив нашей не устоит…
И он исчез в толпе.
Через час пусто и спокойно стало в Вохтозере. Казалось, все происходившее было сном. Только многочисленные следы лыж, тянувшиеся в лесу по всем направлениям, показывали, куда скрылись мятежники.
…Поздним вечером в окно избы, где квартировал Дмитрий, постучали. Хозяин вышел за дверь, с кем-то пошушукался и вернулся, посмеиваясь.
– Тебя, барин, спрашивают.
– Кто?
– Захочешь принять – узнаешь.
– Зови, – согласился удивленный Дмитрий.
Его удивление прошло, когда в избу вошел Алексей. Он шагнул вперед с распростертыми объятиями.
– Митя! Митьша, друг!..
– Здравствуй, Алеша!
Троюродные братья бросились друг другу в объятия и так крепко обнялись, что затрещали кости. Хозяин избы с уважением поглядел на них и, сказав: «Ну и здоровы же вы, ребята, чисто медведи!» – полез на печку, где давно храпел Яким.
Алексей и Дмитрий радостно хохотали, хлопали друг друга по спине и плечам так, что гул раздавался по избе. А потом уселись друг против друга, и при свете дымной лучины между ними завязался задушевный разговор.
Ракитин сказал:
– Передал мне трактирщик Яков твое письмецо. Значит, ты до самой царицы с прошением дошел под личиной истопника?
– Дошел, – коротко ответил Алексей.
Дмитрий вдруг захохотал по-детски весело и заливисто.
– Воображаю… ха-ха-ха… как они тебя искали… ха-ха-ха… как злились, что ты у них между рук, словно угорь, проскользнул… – Дмитрий вдруг посерьезнел: – Одного тебе, Алеша, не могу простить. Почему ты к нам в дом не пришел? Мы бы тебя так спрятали – ни одному сыщику не найти!
Алексей покачал большой лохматой головой.
– Нет, Митя, не мог я такое сделать! Разве я мог дядю Егора под беду подвести? Не мог, не должен был я этого делать, Митенька! – отчаянно вскрикнул Горовой. – Я кто? Я опасный бунтовщик, за мою голову назначена награда, и я приду к родному дяде, чтобы судейские измывались над ним, в тюрьму упрятали за сообщество с мятежником?! Нет, Митя, я бы на плахе погиб, да никому бы не открылся, что Горовой – это Марков!
– Знаешь что, Алеша, – вдруг загорелся Дмитрий, – а ведь я тебя выручу из беды! Поедешь со мной в Питер вместо кучера. Яким – парень тертый, он доберется и так, а на кучера у меня в подорожной отметка есть. Тебе только в Питер попасть, а там станешь Алексеем Марковым, и пусть ищут опасного возмутителя Горового! Я тебя грамоте обучу, службу подыщешь, семьей обзаведешься…
Дмитрий так и сиял, довольный своим планом, таким простым и в то же время неуязвимым. Против его ожидания лицо Алексея оставалось сумрачным.
– Грамота… семья… питерское раздолье… – с непонятной усмешкой повторил он. – А ты слышал нашу клятву? – с силой выкрикнул Горовой. – Забыл, как весь народ крепкое слово дал стоять всем за одного и одному за всех? А я… – тихо промолвил, он, – я сбегу из родных краев и под видом кучера к тебе в Питер спасаться… А ты, прионежский работный люд, расхлебывай кашу, что заварил опасный возмутитель Алексей Горовой! Так, что ли, Митя?!
Ракитину стало стыдно.
Не первый месяц знал он Алексея и до сих пор не понял всего благородства души этого человека. Как можно было предлагать ему трусливое бегство, подкупать грамотой, семьей…
– Прости! – воскликнул Дмитрий и горячо обнял Алешу. – Ты прав, тысячу раз прав! Вижу я, чувствую, тебе надо быть здесь, а потом что бог даст…
Дмитрий рассказал брату о своей мечте заняться научной работой под руководством Ломоносова. Горовой не очень понял разницу между теперешней Митиной службой и будущими занятиями в университете. Но, видя, с каким восторгом Дмитрий говорит об ожидаемой перемене, Алеша от души пожелал ему успеха.
Заспанный Никифор, хозяин избы, слез с печи.
– Слышь-ка ты, Алеха, – сипло прогудел он, – пора уходить. А то как бы тебя вороги не застукали.
Братья горячо расцеловались. Дмитрий на всякий случай сунул Алеше один из отцовских пистолетов, и Горовой неслышно выскользнул за дверь. Несколько минут Ракитин и Никифор чутко прислушивались к предрассветной тишине, боясь услышать крики и выстрелы. Но все было спокойно в Вохтозере.
– Обошлось… – прошептал Никифор.
Дмитрий не остался на заводе, где не велась работа. В этот же день он выехал в Петербург. Дома его ждала радостная весть. Академическая конференция утвердила кандидатуру окончившего Петербургский университет Дмитрия Ракитина на должность адъюнкта кафедры физики.
Большую роль сыграло то обстоятельство, что Ломоносов в своей рекомендации очень умело упомянул, что Ракитин после окончания университета учился своим коштом за границей, где слушал лекции Христиана Вольфа, Пьера Мопертюи и других корифеев западной науки.
Дмитрий имел благоразумие запастись аттестатами от этих ученых, которые удостоверяли прилежание и способности русского студента. Аттестаты произвели самое благоприятное впечатление, и против Дмитрия Ракитина не было подано ни одного голоса, что за время существования Российской Академии наук случилось едва ли не в первый раз.
Но оставалось еще самое трудное: получить на постановление конференции утвердительную подпись президента академии графа Кирилла Григорьевича Разумовского.[50]
Этот титулованный бездельник в детстве пас овец своего отца, реестрового казака Розума. А несметные богатства, графский титул и должность президента Академии наук получил только потому, что брат его, Алексей Григорьевич, сделался тайным мужем императрицы Елизаветы Петровны.
Кирилл Григорьевич тоже учился за границей и тоже привез оттуда похвальные аттестаты профессоров.
Но все образование новоиспеченного графа заключалось в том, что он научился кое-как болтать по-французски и по-немецки и в совершенстве узнал расположение кабаков и прочих «злачных мест» в тех городах, где побывал.
Поймать графа Кирилла Григорьевича и заставить его хотя бы на час заняться делами «руководимой» им академии было нелегко. То он с вечера до утра танцевал на балу, а потом отсыпался целый день; то уезжал на многодневную охоту; то навещал свои многочисленные поместья.
К великому счастью Дмитрия, асессору академической канцелярии Теплову удалось подсунуть графу бумагу в один из вечеров, когда тот собирался на очередной бал. Кирилл Григорьевич подмахнул ее, не читая, и так Дмитрий стал адъюнктом боготворимого им Михайлы Васильича Ломоносова. Событие было торжественно отпраздновано в доме Марковых, а также за семейным столом у Михайлы Васильича.
Глава девятая Конец восстания
Пришла весна, ручьями сбежали снега, а вместе с ними ушли из лесов и беглецы, укрывавшиеся там от господского гнева.
Первыми двинулись многосемейные: скрепя сердце шли они на поклон к управителям и просили смилостивиться, поставить их на работу. Последние запасы хлеба были съедены, семьи помирали с голоду, а заводской заработок, хоть и нищенский, давал возможность кое-как поддерживать существование.
Ушли слабые духом: они понимали, что рано или поздно цепкая рука царской власти найдет их в дебрях и потянет на расправу. Ушли старые и хилые: за долгую, трудную зиму они растеряли последние силы.
Осталось несколько десятков самых стойких, крепко помнивших клятву стоять за народную правду до последнего. Их вожаками были Алексей Горовой, литейщик Сазон, угольщик Еремей.
Мятежники устроили лагерь на мысе Вохтозера с крутыми, скалистыми берегами. Единственный подход к стану перегородили завалом, а перед завалом выкопали глубокий ров. Оружия у бунтовщиков было вдоволь: каждый уходивший на завод оставлял в лагере ружье и боевой припас – порох, свинец для литья пуль. Имелась у них и провизия – копченая рыба, дичь, немного сухарей, сохранившихся после зимы.
Властям сиденье кучки мятежников на скалистом полуострове не давало покоя. Олонецкий губернатор приказал во что бы то ни стало покончить с последними остатками вольного духа в Прионежье. Если бунтари продержатся до зимы, все начнется снова: тысячи работных людей опять сбегут в леса, заводы остановятся, в казну перестанут поступать чугун и железо, так нужные армии, – ведь война с Пруссией была на носу.
Разгромить отряд Алексея Горового было поручено роте капитана Фан-Вейле, все еще квартировавшей на Вохтозерском заводе.
Перестрелка началась с утра. Солдаты стреляли залпами, целясь в вершину завала, в просветы между бревнами. Залпы гремели почти непрерывно. Пока одна шеренга стреляла, другая заряжала мушкеты. Но урон среди мятежников был невелик. Несколько человек раненых, один убитый – вот все потери после часа стрельбы. Зато им почти не приходилось отвечать: высунуть голову за границу завала было невозможно, целиться через бойницы – опасно и неудобно.
Солдатские шеренги подвигались все ближе ко рву. Алексей с беспокойством видел, что мужики приуныли.
Когда передние шеренги мушкатеров подступили ко рву, а задние прекратили стрельбу из боязни попасть в своих, с вершины завала послышалась команда:
– Ребята, стреляй!
Грянул залп, тем более страшный, что он был сделан почти в упор. Солдаты смешались, бросились назад. Рожок горниста заиграл отбой. Ряды перестроились. Капитан объявил, что каждый отступивший будет убит на месте. Позади шеренг шли капралы и ефрейторы с обнаженными саблями, готовые закалывать тех, кто покажет тыл врагу.
Битва возобновилась. Свинцовый ливень поливал укрепления. Среди защитников было уже много убитых и раненых. Солдаты бросились в штыковую атаку. Горовой ринулся вперед.
– За мной, братцы! Не поддадимся врагу! – крикнул он и прыгнул в ров.
За ним скатились десятка два самых храбрых парней и мужиков.
Во рву закипела отчаянная схватка. Мужики рогатинами, вилами, косами отмахивались от солдатских штыков. Но все новые и новые мушкатеры появлялись во рву со штыками наперевес и теснили неопытных в рукопашном бою противников…
Восстанию прионежских горнорабочих пришел конец.
Часть третья Суд. Тюрьма
Глава первая Ново-Ладожская тюрьма
Весной 1704 года в Никольский монастырь, что стоял при впадении Волхова в Ладожское озеро, прискакал царь Петр Алексеевич.
Монахи встретили царя колокольным звоном. Тучный игумен начал в честь державного гостя торжественное богослужение, которое грозило затянуться надолго. Царь стоял на левом клиросе, и лицо его сердито дергалось. Вдруг, сказав несколько слов Меншикову, Петр быстро вышел из церкви, Александр Данилыч за ним.
Недоумевающий игумен сбился с тона, хор сфальшивил в самом ответственном месте, а царская свита прыскала в кулаки от смеха.
Петр вышел из ворот монастыря и остановился. Просторно гудело перед ним Ладожское озеро.
– Данилыч! Место-то, место какое!
– Я полагаю, не худо бы здесь крепостцу поставить, – ответил Меншиков, разгадавший мысли Петра.
– Зови игумена!
Меншиков скорыми шагами направился в церковь и, к великому смущению иноков, прошел прямо в алтарь.
– Вот что, батя! – развязно сказал он ошеломленному игумену. – Кончай службу! Царь кличет.
Игумен, пропустив пол-обедни, сбросил ризу и дробной рысцой поспешил к Петру.
– Слушай, отче! – без дальних слов приступил к делу царь. – Монастырь ваш я прикрою.
– Ваше величество!.. – Колени игумена подкосились от ужаса. – Триста лет! Деды, прадеды…
– Слишком много монастырей! Самые хорошие места захватили!
– Ваше величество!.. – Игумен упал на колени.
– Здесь ключ к Волхову! А если шведы придут? И слушать не хочу!.. Данилыч, распорядись! Согнать народ, валы поднять, рвы выкопать. Гарнизон поставить.
– А как с монахами, ваше величество?
– Монахи? Старые да больные пусть идут куда хотят. А здоровых поверстать в солдаты.
Так основалась крепость Новая Ладога. По окончании войны со шведами она утратила стратегическое значение, и гарнизон из нее вывели. Несколько лет монастырские здания пустовали, разрушались. При Анне Ивановне старинный Никольский монастырь был превращен в тюрьму.
Из трех церквей оставили самую маленькую, а две разобрали, и кирпич пошел на поправку стен. Монашеские кельи в длинном одноэтажном корпусе были легко приспособлены под камеры. Домик игумена стал жилищем коменданта, а здание у ворот, где монахи помещали странников и богомольцев, сделалось казармой тюремного гарнизона.
В 1755 году комендантом тюрьмы был майор Рукавицын.
Зной…
Десять часов утра, а от тюремных стен и зданий тянуло жаром, как от раскаленной печи. В садике у своего дома сидел майор Трофим Агеич Рукавицын в халате и вязаном колпаке. Левую руку Трофим Агеич запустил в горшок с пшеном, в правой держал дымящуюся трубку.
– Цып-цып-цып! – кричал комендант хрипловатым баском, разбрасывая пшено веером.
На зов майора бежали хохлатые пестрые куры. Рукавицын с удовольствием наблюдал, как хохлатки клевали пшено. Засаленный турецкий халат распахнулся на круглом брюшке майора. Одна туфля свалилась с его ноги.
– Цып-цып-цып, тютеньки! Цып-цып-цып, кудахтоньки!..
Лицо Трофима Агеича выдавало в нем любителя выпить. Багровый нос с фиолетовыми жилками, одутловатые щеки, подстриженные щетинистые усы и мутные глаза. Лет Рукавицыну было за полсотню.
На лавочке дремал жирный черный кот с белой отметиной на груди в виде звезды. За важный вид и звезду кота прозвали Сенатором. Сенатор был любимцем коменданта, как и куры-хохлатки.
От калитки садика послышались шаги. Майор обернулся.
– А-а… Кулибаба… – протянул он. – Время как пролетело! Слава богу, и обедать скоро.
Старший тюремщик Семён Кулибаба подошел к скамейке. Был он высок, сутуловат и в шестьдесят лет обладал еще большой силой.
– Желаю здравствовать, ваше благородие! – вытянулся тюремщик.
– Здравствуй, Семён! – отвечал майор.
Лицо тюремщика болезненно сморщилось.
– Та я ж скiльки разiв просыл ваше благородие, шоб вы меня нэ кликали Семёном. Якiй я Семён, колы я вовсе Сэмэн…
Серые глаза Кулибабы с притворной мольбой уставились на коменданта.
Трофим Агеич расхохотался, довольный шуткой: она повторялась каждый день.
– Ну-ну, Сэмэн, не сердись! С докладом?
– Так точно, ваше благородие!
– За курчонками погляди. Пойду переоденусь.
Майор встал. Трубка повисла на ремешке. Трофим Агеич молодцевато выпрямил грудь и плечи. Его фигура, ожиревшая от безделья, еще не утратила строевой выправки. И неудивительно: много лет тянул солдатскую лямку захудалый дворянин Трофим Рукавицын до первого офицерского чина.
Как только Трофим Агеич двинулся в дом, кот проснулся и, задрав хвост, поспешил за хозяином.
Вскоре Семен вошел в кабинет коменданта и стал навытяжку у порога. Майор сидел за столом. Его полную фигуру облекал мундир, перелицованный четыре года назад и уже потертый на локтях. На столе лежала рапортичка, которую комендант ежедневно заполнял со слов тюремщика.
Над головой майора висел портрет императрицы Елизаветы Петровны.
Семен почтительно кашлянул:
– Чулок стягните, ваше благородие!
Майор схватился за голову. Он был смешон, сидя под царским портретом в мундире, застегнутом на все пуговицы, с трубкой на боку и с чулком грязно-бурого цвета на макушке. Трофим Агеич торопливо сдернул колпак, обнажив порядочную лысину.
– Так что, ваше благородие, во вверенной вам тюрьме усе обстоить благополучно. Арэстантiв по списку тридцать пьять, налицо тридцать пьять…
Покинувший Полтавскую губернию четырнадцатилетним парубком в год баталии со шведом, Кулибаба до сих пор мешал русскую речь с родной украинской.
– Происшествий не было?
– Так точно, были, ваше благородие! У двадцать седьмой камере монах повесився.
– Что ж ты, пень тебе в глотку, молчишь?
Семен объяснил:
– Так он же не вмер. Оттерли его. Лежить та на стенку глаза лупить, ваше благородие!
– Почему он повесился?
– Не можу знать, ваше благородие! Казав, тоска одолела…
– Еще что?
– А больше ничего. Тiльки что из девьятой усе заговаривается… Чи спятил, чи еще ни?
– Ох уж этот мне Приклонский, – с досадой сказал майор. – Надоел с жалобами. Все думает, он персона. Нет, коли у палача в руках побывал, о вельможестве позабыть надо. Буйствует?
– Та ни… Тихесэнько сидить, очи зажмурiв. И усе Евангелием на кого-сь замахивается…
– Пусть его сидит. А буянить станет – связать и в подвал. Хлеба не давать!
– Слухаю, ваше благородие!
– Ну, все?
– За провьянтом надо посылать, ваше благородие! Подъели продухт вчистую…
Рукавицын нахмурился. Экономию от провиантских сумм он считал своей неоспоримой статьей дохода. Трофим Агеич сидел в задумчивости.
– Вот что, Сэмэн… Насчет провианту доложишь на той неделе. Да, да… в среду… или… нет, в четверг.
– Не дотягнем, ваше благородие!
– Надо дотянуть, надо! – И майор вышел из кабинета.
…Всем, знавшим Рукавицына, майор казался простоватым человеком, этаким солдафоном, которому ведом только строевой устав. Но внешность часто бывает обманчива. Под простоватой внешностью Трофима Агеича скрывалась большая хитрость, уменье пользоваться обстоятельствами. Это доказывала самая история назначения Рукавицына на должность коменданта Ново-Ладожской крепости.
Когда после смерти последнего начальника тюрьмы подполковника Шевцова эта должность освободилась, капитан Рукавицын находился в Петербурге по служебным делам. О смерти Шевцова Трофим Агеич узнал от брата жены, чиновника Тайной канцелярии. Трофим Рукавицын и Данила Щербина-Щербинский тут же решили, что преемником Шевцова должен стать Рукавицын. Дело было нелегкое, и в ход пошли все средства.
На выгодную должность нашлось немало соискателей, и, чтобы взять над ними верх, требовалось большое искусство. Это искусство Трофим Агеич проявил в полной мере. Он посетил видное лицо, от которого зависело назначение, безудержно ему льстил, простодушно распространялся о необоримом желании послужить матушке-государыне в качестве ее сберегателя от нарушителей законов, говорил о ранах, полученных за долгую и верную службу престолу, и о том, что ему, заслуженному боевому офицеру, пора бы отдохнуть на белее спокойном посту… После его ухода на столе видного лица будто бы нечаянно остался кошелек, туго набитый червонцами…
В эти же хлопотливые дни Данила Григорьевич Щербина-Щербинский представлял по начальству многочисленные доносы на конкурентов Рукавицына. Выходило так, что один запятнал себя непростительной трусостью в бою, другой хулил Тайную канцелярии, не считая ее деятельность высокополезной, у третьего не оказывалось надлежащей строгости в характере… Так были опорочены все соперники Трофима Агеича, и он получил желанную должность с производством в чин майора.
Но к новому месту службы Рукавицын явился с пустым карманом: едва хватило денег расплатиться с извозчиком, доставившим его и жену в Новую Ладогу.
Утрату сбережений, сделанных за долгие годы службы в полку, надо было наверстывать, и Трофим Агеич рьяно принялся за это. Он экономил на всем: на пропитании узников, на отоплении камер и даже на скудном пайке солдат тюремного гарнизона…
Дошло до того, что заключенные стали вспоминать о времени, когда комендантом тюрьмы был подполковник Шевцов, как о мифическом золотом веке, хотя покойный отнюдь не блистал мягкостью характера.
Капитал Трофима Агеича быстро возрастал, но он ходил в засаленном мундире и поношенном парике и вечно жаловался на безденежье. Однако власть имущие лица в Тайной канцелярии аккуратно получали от него положенные приношения, и он слыл у них примерным службистом.
Глава вторая Князь Приклонский
В Ново-Ладожскую тюрьму посылали людей, обреченных на пожизненное заключение. Некоторые из них попали туда безвинно, оправдывая старинную русскую пословицу: «От сумы да от тюрьмы не отказывайся».
Уже несколько лет сидели там два купца, неосторожно подавшие жалобу на непомерное взяточничество олонецкого губернатора. Губернатор наказан не был, а купцы «в науку другим» лишились свободы. В камере № 27 содержался монах Антоний, когда-то большой шутник и любитель веселых пирушек. Раз, выпив через меру, он хватил по столу кулаком.
– Дивлюсь я на нашу царицу Лизавету Петровну! И чего она замуж не выходит?
– А за кого? – осторожно спросил монах Иероним.
– А хоть бы и за меня! – вскричал разошедшийся Антоний.
– Ты же монах!
– Сан сниму!
Этот невинный разговор Иероним сообщил в Тайную, и Антония после жестокого наказания батогами отправили в Ново-Ладожскую тюрьму за оскорбление величества. Теперь это был желтый, изможденный старик, забывший о веселье и шутках – тюрьма довела его до покушения на самоубийство.
Камеру № 22 занимал узник, обвиненный в колдовстве: он вылечил травами двух безнадежных больных, от которых отказались доктора. «За сообщество с нечистой силой» несчастный лекарь попал в заточение.
Впрочем, в тюрьме были и настоящие преступники: фальшивомонетчики, убийцы, разбойники.
В камерах №№ 13 и 14 помещались два мелкопоместных дворянина. Один из них убил соседа, поссорившись на охоте. Второй собрал из дворовых шайку и грабил на большой дороге. За разбойные дела его нещадно наказали батогами, но из уважения к дворянскому званию – через рубашку. Это называлось быть битым «с сохранением чести»!
Самым видным из узников Ново-Ладожской тюрьмы был старый князь Приклонский, тот самый, что «заговаривался», по словам Семена Кулибабы. По вине Приклонского Рукавицыну вскоре довелось пережить много неприятностей.
Комендант обедал. Он снова надел халат и колпак: ношение мундира для обленившегося Рукавицына стало тяжелой обязанностью. Напротив Трофима Агеича сидела жена Антонина Григорьевна, урожденная Щербина-Щербинская.
Майорша гордилась своим древним происхождением и в минуты размолвок попрекала им худородного Рукавицына, отец которого вышел в дворяне во времена царевны Софьи.
Антонина Григорьевна, как все Щербина-Щербинские, была очень некрасива. На лице ее выделялся огромный орлиный нос; немигающие лягушечьи глаза были навыкате; крохотный подбородок сливался с шеей. Майорша с великим искусством готовила наливки из всевозможных фруктов и ягод.
На столе перед майором стояли, радуя его взор, бутыли, бутылки и бутылочки самых разнообразных форм. Трофим Агеич уже отведал яблочной и клюквенной, когда жена налила ему из глиняного длинногорлого кувшинчика стакан настойки янтарно-желтого цвета. Майор выпил и зажмурил от удовольствия мутные глаза.
– Хороша! А ну, мать, плесни еще!
– Сначала угадай, из чего это?
– Где там! – Рукавицын безнадежно махнул рукой.
– Это из водяных орехов! – торжествующе выкрикнула майорша.
– Ну, мать, ты волшебница! Обязательно угощу попа…
– Кульер с Питеру приiхав, ваше благородие, – ввалился в комнату Кулибаба. – Пакет привез, срочный та ще й сэкрэтный…
Майор, покачиваясь, встал.
– Подожди, Сэмэн, переоденусь, – заплетающимся языком сказал он.
…Трофим Агеич медленно водил пальцем по строкам (в грамоте он не был силен):
«…с получением сего немедленно освободить князя Приклонского Василия Васильевича…»
Майор изумленно свистнул.
– Слышишь, Сэмэн: немедленно!
Комендант и тюремщик растерянно смотрели друг на друга.
– А мы-то его, ваше благородие…
– Д-да! – Рукавицын в волнении опустился на стул и начал искать трубку, висевшую у бока. – Да где же она, проклятая?
Майор беспомощно уставился на тюремщика.
– Та вона же на вас, ваше благородие!..
– А черт его знал, – забыв о трубке, рассердился Трофим Агеич. – Черт его знал, Сэмэн…
Майор с отчаянием ударил себя по лысине.
Князь Василий Васильевич Приклонский, боярин древнего рода, страдал чудовищной спесью. Ни одному человеку в жизни не уступил ни в чем Василий Васильевич. Самому Бирону на острое словцо князь ответил такой дерзостью, что его в тот же день арестовали. По приказу временщика Приклонского посадили в Ново-Ладожскую тюрьму и забыли о нем надолго.
Просидеть в тюрьме шестнадцать лет было нелегко. Комендантом уже лет восемь был Рукавицын. Трофим Агеич считал себя человеком не злым. Единственным наказанием у него служило отправление связанного арестанта в подвал, где его морили голодом два-три дня. Но после такого «легкого» наказания людей из подвала тюремщики вытаскивали полуживыми.
Рукавицын установил режим, при котором заключенные медленно погибали от голода в тесных каменных мешках, душных летом, холодных зимой и всегда сырых и смрадных.
Силы Приклонского падали, и старик был недалек от смерти. Но случилось так, что в Тайной канцелярии вздумали пересмотреть список узников Ново-Ладожской тюрьмы, и тут неожиданно обнаружилось, что князь Приклонский сидит в ней по приказу Бирона, который давным-давно лишился власти. Так к старику пришло желанное освобождение.
Приклонский лежал в спальне Рукавицына, одетый в его рубашку, рукава которой доставали ему только до локтей. Он был умыт, причесан, вид имел торжественный и важный. На столике у кровати стояла чашка с куриным бульоном и пузатенький графинчик с ореховой настойкой.
Рукавицын в полной форме, с орденами и медалями, робко жался у порога.
– Войдите в положение, ваше сиятельство, – просительно говорил он. – Ведь я по уставу действовал… Я… ей-богу… если в чем когда и досадил… не по злому же умыслу…
Князь смотрел сурово.
– Я у тебя кошку просил. Меня крысы одолели. Ведь я Евангелием, – голос князя сорвался на рыдание, – святым Евангелием крыс бил!..
– Устав запрещал… Ей-богу, устав, ваше сиятельство…
– Иди, я отдыхать буду, – повелительно сказал князь.
Держась за скобку двери, майор прошептал:
– Не оставьте своей милостью, ваше сиятельство…
– Не оставлю! Самой царице расскажу, как обращаешься со знатными особами!
Рукавицын пошатнулся, как от удара, и схватился за дверь. Он с трудом перешагнул через порог.
– Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Кабы раньше знать… я бы ему… обед со своего стола… наливочки бы…
Майор заскучал.
«Как же это? – недоумевал он, запершись в кабинете. – Выходит, закон не для всех одинаков?..»
Антонина Григорьевна напрасно готовила мужу любимые блюда, безуспешно соблазняла наливками. Рукавицын равнодушно съедал свою порцию, без удовольствия выпивал настойку и снова шагал по кабинету. Он и ночью не знал покоя – его мучили кошмары.
Майорша решила, что мужа сглазили: подкладывала ему под подушку наговорные хлеб-соль, спрыскивала с уголька – ничего не помогало. Антонина Григорьевна пошла за советом к попадье.
Поповский домик был тесен для многочисленного семейства отца Ивана Крестовоздвиженского. У попа было девять дочерей; самой младшей исполнилось семнадцать лет. Поп Иван был сумасброд. Единственно из желания досадить жене он надавал дочерям многосложные и неудобопроизносимые имена: поповны звались Еликонида, Перепетуя, Феликитата, Голиндуха… Только младшую дочь попадья сумела окрестить тайком от мужа и назвала Зоей; одна только Зоя и была любимицей матери.
Когда огромная, грузная матушка Стефанида отправлялась с низенькими и щуплыми дочками в церковь, она напоминала наседку с цыплятами.
Встретив гостью, попадья прикрикнула для страху на дочерей, сидевших над рукодельями, и повела Антонину Григорьевну в соседнюю комнату. Склонив голову набок, попадья внимательно выслушала жалобы майорши.
– Знаешь, мать моя, – решила попадья Стефанида, – майор у тебя того… – И она покрутила пальцами у лба.
Антонина Григорьевна обиделась.
– Если твой поп от Библии с ума спятил, так ты и везде полоумных видишь!..
Расстались врагами. Впрочем, ссоры их были недолги. Через день-два комендантша и попадья встретились как ни в чем не бывало.
Глава третья Арест Ракитина
Летом 1755 года на пограничном с Польшей Злынском форпосте задержали подозрительного человека, назвавшегося Иваном Васильевым. Васильева доставили в Киев, допросили «с пристрастием», и там, не выдержав пыток, он признался, что подлинное его имя Иван Зубарев. Авантюрист перешел границу с намерением приступить к осуществлению своего дерзкого замысла – вернуть на престол свергнутого Ивана Антоновича.
По признанию Зубарева, в бытность свою в Пруссии он виделся с бывшим адъютантом Миниха[51] полковником Манштейном. Фельдмаршала Миниха отправили в ссылку, но Манштейн сумел избежать этой участи и переметнулся на службу к прусскому королю.
Манштейн, по словам Зубарева, дал ему важнейшее политическое поручение – проникнуть в Холмогоры и тайно вывезти оттуда за границу низверженного императора Ивана Антоновича. Пруссаки будто бы обещали прислать для этой цели корабль.
Если бы это смелое предприятие удалось, в России начались бы волнения и смуты, Елизавета даже могла бы лишиться престола. Все это было на руку прусскому королю Фридриху: он готовился вот-вот развязать войну с Россией.
Зубарев заявил, что ему дали тысячу червонцев на дорожные расходы и на подкуп людей в Холмогорах. Впрочем, при задержании денег у Зубарева не оказалось. Он объяснил, что его обобрали приятели-контрабандисты, с которыми он тайно перешел границу.
Были ли у него эти деньги? Было ли вообще поручение прусского короля? История не дает точного ответа на этот вопрос. А предшествующие действия Зубарева заставляют подозревать, что это был человек с расстроенным воображением, безудержный фантазер.
В самом деле, его наивная попытка продать правительству несуществующий серебряный рудник, его вымысел о секретной встрече с Петром Федоровичем говорят о нем как о человеке, поддающемся первому порыву и не осознающем, к каким последствиям приведут его поступки.
Во всяком случае, власти придали делу Зубарева чрезвычайную важность. Они знали, как болезненно боится императрица заговоров, а тут представился прекрасный случай выказать свое усердие.
В середине зимы государственного преступника Зубарева препроводили в Петербург. Здесь его содержали в чрезвычайной строгости, допросы шли каждый день. Зубарев сознался, что в бытность за границей не один раз посещал Ветку[52] и там убеждал населяющих ее старообрядцев крепко стоять за Ивана Антоновича. Если Иван сядет на престол, говорил Зубарев, то возвратит старообрядцам полную свободу веры.
– А когда меня игумены раскольничьих монастырей спрашивали: «Как-де вы посадите Ивана Антоновича на царство?» – показывал обвиняемый, – то я им на таковое отвечал: «А так вот и посадим, как государыня села…»
– Ого! – переглядывались чиновники. – Это мы крупную птицу изловили.
Скрипели перья, писцы склонялись над листами бумаги, записывая слово в слово «расспросные речи» подсудимого. А полицейские ярыжки колесили по стране, забирая людей, которых оговаривал Зубарев.
«Дело» росло, ширилось.
17 января 1756 года Зубареву учинили допрос в Тайной канцелярии в присутствии самого ее грозного начальника генерал-аншефа Александра Иваныча Шувалова. Зубарев под пыткой подтверждал свои показания, называя все новые и новые фамилии, удержавшиеся в его цепкой памяти…
– Спрячься здесь, Пустозвон! Огурцов – за угол. А мы с Жуком отрежем ему обратный путь.
Ахлестов, фискал Тайной канцелярии, оглядел позицию, выбранную для засады. Сыщики расположились на углу 5-й линии Васильевского острова, около недостроенного дома.
У низкорослого Ерофея Кузьмича Ахлестова одна нога была на вершок короче другой. На худощавом горбоносом лице его блестели маленькие бегающие глазки. Когда сыщик шел в широком темном плаще, припрыгивая на короткой ноге и размахивая руками, он походил на летучую мышь.
Ахлестов был сыщик по призванию. Еще в духовной семинарии маленький Ерошка слыл первым ябедником. Много он вынес трепок за наушничество, пока его за неуспеваемость не выгнали из бурсы. Он пошел служить в Тайную канцелярию и уже лет десять пользовался репутацией самого усердного сыщика.
Подчиненные его были фигурами значительно менее яркими, но характерными в своем роде.
Жук, в прошлом громила и налетчик, был неладно скроен, да крепко сшит. Из иссиня-черной заросли волос, покрывавшей его лицо, высовывался только сизый нос картошкой.
Купецкого сына Тихона Огурцова ременными вожжами выгнал из дома отец, когда парень, связавшись с воровской шайкой, начал таскать из родительской лавки товары и деньги. Пропившийся дотла, полуголый, в трескучий мороз приполз он в Тайную и был принят в сыщики.
Четвертым в компании был Пустозвон, прозванный так за неугомонную брехню. Он был высок и тощ, с морщинистым желтым лицом, и на плечах его, как на вешалке, болтался какой-то нелепый балахон.
Сыщики затаились за углом. На пустынной улице редко появлялся запоздалый прохожий. Ожидание тянулось долго.
– Идет… идет… – послышался шепот Ахлестова.
Вдали показался Ракитин. Он задержался на работе в академии допоздна; это случалось с ним почти каждый день. Вот уже больше месяца Дмитрий исполнял должность адъюнкта физической кафедры и считал себя счастливейшим человеком в мире.
Только теперь, работая рука об руку с Михайлом Васильичем, понял Дмитрий, как велик был всеобъемлющий гений Ломоносова. На самые простые, казалось бы, давно изученные явления природы Ломоносов умел взглянуть с новой, порой совершенно неожиданной стороны, найти в них такое, мимо чего наука, не задумываясь, проходила сотни лет.
И он не старался подавлять сотрудников своим авторитетом. Ломоносов ставил задания так, что представлялось: мысль давно бродила у них в голове и вот-вот должна была прорезаться, а Михайла Васильич только подтолкнул прозрение невзначай брошенным словом. За ошибки профессор не бранил, он тактично подсказывал пути их исправления.
А какая скромность! Ракитин только от проговорившейся Лизаветы Андреевны узнал, что значительную часть расходов по постройке и оборудованию химической лаборатории Ломоносов взял на себя. Это случилось еще в 1746 году. Деньги на содержание академии всегда отпускались в обрез и с большим запозданием. Из-за этого затормозилось строительство и оборудование лабораторного корпуса. А Михайле Васильичу в том году повезло: за оду к годовщине восшествия на престол Елизаветы Петровны ему вышла крупная награда – 2000 рублей.
Сидя в тесном кругу друзей за праздничным столом, Михайла Васильич от души смеялся:
– Жалованье по целым месяцам не получаем, за каждым рублем для академии наклоняешься, а тут за стишок две тысячи, ха-ха-ха! Ну, теперь у меня дела с лабораторией пойдут!
И, несмотря на воркотню жены, у которой очень многого не хватало в хозяйстве, Ломоносов значительную часть наградных истратил на лабораторию.
Дмитрий улыбнулся, вспомнив, как не любит Михайла Васильич намеков на эту тему. И тут же перешел к мыслям о том, как лучше приступить к завтрашнему заданию – исследованию теплопроводности газов. Его задумчивость была прервана самым неожиданным образом.
– Стой! – И сильные руки обхватили его. Из-за угла выскочили люди.
«Грабители! – пронеслась мысль. – А я и пистолета не взял…»
Ракитин так толкнул Жука, что тот слетел с ног.
– Хватай его, ребята! – взвизгнул Ахлестов, и все четверо бросились на Дмитрия, как стая волков на лося.
Но от удара в грудь Огурцов полетел наземь. Там он благоразумно и остался лежать. Пустозвон держался поодаль, а Жук решил обойти противника с тыла. Ахлестов подскакивал, как петух, и крылья плаща развевались за его спиной. Дмитрию эта история начала казаться смешной, он бросился вперед и схватил Пустозвона.
– Карр-раул! – раздался отчаянный крик.
– Молчи, дурак! – зашипел Ахлестов.
Тайная канцелярия предпочитала забирать людей так, чтобы они исчезали неведомо как и куда. Недаром же Ахлестов караулил Ракитина поздно вечером, на улице, а не пришел к нему в дом. Крик испуганного Пустозвона расстроил планы сыщика.
Из дома Марковых выбежал Яким, дремавший в передней в ожидании Ракитина. Увидев, что на Дмитрия нападают, он бросился на помощь. Первым в ночных сумерках подвернулся ему Ахлестов. Яким мигом подмял слабосильного фискала, вцепился ему в волосы и, ударяя кулаком по лицу, приговаривал:
– Je vous aime, monsier! Bitte, trinken![53]
Ахлестов отчаянно крутил головой, но пятерня Якима крепко засела в его жестких лохматых волосах.
– «Слово и дело»! – пронзительно закричал сыщик.
Испуганный Яким бросил противника. Ахлестов поднялся, тяжело дыша. Из разбитой губы его капала кровь.
– Вы де сья… сьянс академии адъ… адъюнкт Дмитрий Ракитин? – запинаясь, спросил сыщик.
– Я. Что тебе нужно?
– По указу Тайной розыскных дел ее императорского величества канцелярии вы арестованы!
– За что? – в недоумении спросил Дмитрий.
Кенигсбергская история почти годовой давности совсем вылетела у него из головы, и Ракитин никак не мог подумать, что его берут по оговору Зубарева.
– За что? – повторил сыщик. – Начальство про то знает. Повиноваться надо, а не в драку вступать.
Якима била мелкая дрожь.
– Батюшки, что же сразу не сказали?! – бормотал он заплетающимся языком. – Я думал – воры…
– А ты, н-немец, за увечье ответишь! – прохрипел Ахлестов.
Дмитрий, опомнившись, шагнул вперед.
– Где у вас доказательство?
– Читайте! – Хромой достал из-за пазухи бумагу с сургучной печатью.
Пустозвон ударил огнивом по кремню, зажег трут. При слабом свете пламени Дмитрий разглядел: «РАКИТИН…»
– Ведите, – упавшим голосом сказал Дмитрий.
Он вдруг догадался, что причиной ареста может быть только его причастность к зубаревскому делу. Ведь другой вины за ним не было.
Правда, он никакого участия в заговоре не принимал, но для Тайной канцелярии достаточно было и того, что он слушал мятежные речи и не донес о том. Дмитрия охватило позднее раскаяние в том, что он слишком легко отнесся к дядиным страхам и не принял никаких мер на случай открытия заговора. Но что толку в его раскаянии?..
– Митрий Иваныч… Да за что же?.. – И вдруг Яким сказал фискалу неожиданно окрепшим голосом: – Забирайте тогда заодно и меня!
– Тебя брать не ведено, – сердито огрызнулся Ахлестов. – Да ты не беспокойся, надо будет – на дне моря сыщем.
Яким прибежал в дом, поднял всех на ноги.
– Сам погиб и нас погубил… – простонал Марков. Он-то сразу понял причину несчастья.
Старик, еле волоча сразу одеревеневшие ноги, побрел в столовую с твердым решением – уничтожить злосчастное письмо, перепрятанное уже не раз. Добравшись до царского портрета, в раме которого было скрыто письмо, он зашатался и без памяти упал на пол.
Сыщики вышли на Неву и повели Ракитина вверх по набережной. Из-за туч выплыла полная луна и озарила окрестность. На пустыре ночной сторож развел костер, и колеблющееся пламя освещало фигуру неподвижно сидевшего человека. Картина ночного города дышала спокойствием, но не было покоя в душе Дмитрия.
Молодой ученый вспомнил, как в амстердамских трактирах открыто обсуждались политические вопросы. Собеседники в пылу спора высказывали очень резкие суждения, порицали всю систему государственного правления.
«Попробовали бы они сказать у нас в кабаке десятую долю того, что там говорилось…»
Вдали зачернела Петропавловская крепость. Все стало ясно Ракитину.
«Я теперь важная персона, – горько усмехнулся он. – Место мне только в Петропавловке…»
Дмитрий не ошибся. Тропой, проложенной по невскому льду, его привели к воротам крепости. Вскоре за ним захлопнулась тяжелая дверь камеры. Звякнул замок, Дмитрия окружили тишина и тьма…
Утром в кудрявых волосах Ракитина заблестели серебристые нити седины.
Глава четвертая Допрос
Целую неделю просидел Дмитрий в одиночке Трубецкого бастиона, прежде чем его вызвали на допрос.
Ракитин вошел в следственную камеру. За большим столом сидел судья с острой лисьей мордочкой и живыми глазами. В глубине комнаты на другом столе были разложены плети, клещи с присохшими окровавленными волосами. У печи стояла жаровня с тлеющими углями. Противно пахло паленым мясом. Здесь только что кого-то пытали.
– Де сианс академии адъюнкт Дмитрий Иванов сын Ракитин? – спросил судья.
Ракитин кивнул головой. Во рту у него было сухо. Судья строго смотрел ему в глаза.
– Имеете, сударь, отвечать на допросе, как отцу духовному на исповеди, – по чистой правде-совести.
Через низенькую дверь за спиной судьи вошел плечистый чернобородый мужик и начал перебирать орудия пытки.
– А, Жук! На смену Колобкову?
– Так точно, ваше высокородие! Вы его тут замаяли, Колобкова-то, – с грубоватой фамильярностью привычного человека ответил Жук.
Дмитрий узнал одного из сыщиков, что арестовали его в ту памятную ночь. Руки и ноги Ракитина ослабели, липкий пот струйками покатился по лицу.
– Сомлел, – деловито заметил судья секретарю, худенькому горбатому старику.
Дмитрий опомнился.
– Можете отвечать?
– Да…
Допрос начался. Судья спрашивал, когда Дмитрий уехал за границу, в каких городах бывал, каких профессоров слушал. Ракитин отвечал. Он видел, как Жук, развлекаясь, вложил пальцы левой руки в тиски, а правой завинчивал их и по временам морщился от боли. Зрелище это непонятно притягивало Дмитрия, и он даже пропустил вопрос судьи.
– Каким путем в Россию ехали? – громко повторил тот.
– Из Кенигсберга на бриге «Прозерпина»…
– Верно! – Косичка чиновника запрыгала на затылке, и острое лицо оживилось. – И с кем вели разговоры, пребывая в Кенигсбергском порту?
Ракитин замер.
«Вот оно, вот, начинается… Отрицать встречу с Зубаревым? Бесполезно… Они всё знают…»
– Беседовал я с посадским Иваном Зубаревым, – хмуро признался Дмитрий.
Глаза чиновника радостно вспыхнули.
– Пиши, Кондратьич! – обратился он к секретарю. – Арестант сознаётся, что якшался с государственным изменником.
Секретарь заскрипел пером.
– Мне довелось спасти Зубарева из рук грабителей, но он не назвал мне своего настоящего имени, – продолжал Ракитин. – Я лишь позднее узнал от него, кто он такой…
– А, стало быть, вы все же и раньше слыхали о нем? – вкрадчиво спросил судья.
– Я слышал о Зубареве в пятьдесят втором году, когда он представил поддельные руды в лабораторию профессора Ломоносова.
– Пиши, Кондратьич, пиши! – Судья радостно потирал руки и хихикал. – Тянется ниточка, тянется!.. Пиши: обвиняемый сознается в том, что слышал о злодее Зубареве от де сианс академии профессора Ломоносова.
«Я, кажется, сделал большую ошибку, – подумал Дмитрий. – А впрочем, все равно. Они знают всю подноготную Зубарева, знают и то, что он имел дело с Михайлой Васильичем. Просто они хотят запугать меня, запутать…»
Ракитин заговорил:
– Прежде Зубарев был просто мелким мошенником, авантюрьером, а встретившись с ним в Кенигсберге, я и думать не мог, что он сделался государственным изменником.
– Он злоумышлял заговор против ее величества, государыни императрицы… – Судья встал, произнося титул. – Это опасный злодей. Вы с ним знакомы, и запирательство бесполезно.
– Мне нечего скрывать.
– Зубарев вовлекал вас в заговор?
– Пытался, но я с негодованием отверг его домогательства и выгнал его.
– Так, так… Пиши, Кондратьич! А почему вы, сударь, не донесли на Зубарева?
– Я был уверен, что у него дальше разговоров дело не пойдет…
– А господину профессору Ломоносову вы о сих своих беседах с Зубаревым рассказывали?
«Хотят поймать… Хотят привлечь к делу Михайлу Васильича. Но этому не бывать! Какое счастье, что я действительно ничего не говорил ему…»
Твердо возвысил голос:
– Господину профессору Ломоносову о таких вздорах, кои никакого отношения к науке не имеют, никогда не говаривал.
– Нет?
– Нет!
– Клятвою подтверждаете?
– Да.
– Проверим. Жук, тиски!
– А может, на дыбу вздернем да поджарим, ваше высокородие?
Жук до сих пор не мог простить арестанту того толчка, которым Ракитин мгновенно сбил его с ног.
– Не умничай, делай, что приказано! – нахмурился судья.
Жук всунул большие пальцы обеих рук Ракитина в отверстия тисков и, крикнув: «Ну, держись, барин!» – начал закручивать винт.
Острая боль пронзила пальцы Дмитрия. С болью пришел гнев. Высокий лоб прорезали морщины, голубые глаза потемнели. Арестант сделал отчаянное усилие, вырвал у Жука свои руки вместе с тисками и поднял их над головой палача.
Жук отпрянул в сторону – он уже знал силу Ракитина. Судья вскочил со стула. Но Дмитрий опомнился. Он понял, что отчаянный поступок только ухудшит его положение. Ракитин опустил руки и молча протянул палачу. Жук с усмешкой закручивал винт и тянул тиски к себе. Дмитрию казалось, что у него выдергивают пальцы из суставов и протыкают их тупыми иглами. Из-под ногтей сочилась кровь, пачкая тиски.
Но Дмитрий твердо стоял на своем: профессор Ломоносов никогда, ни единого слова не слыхал от него о заграничной встрече и разговорах с Зубаревым.
Слушая прерывающийся от боли голос арестанта, судья наконец махнул палачу:
– Прекратить!
Отекшие, изуродованные пальцы ломило. Точно молотками стучало в висках. Ракитин побледнел, осунулся. Судья приказал Жуку выйти. Спросил Ракитина более мягким тоном:
– Дяде вашему, коллежскому советнику Маркову, о ваших гибельных делах что-нибудь известно?
По голосу судьи Дмитрий с радостью понял, что тот не намерен привлекать Маркова к следствию. То ли пожалел он старика, то ли смекнул, что у бывшего царского токаря найдутся сильные покровители?
– Дядя ничего не знает! – поспешил ответить Ракитин.
«Только успел ли он уничтожить это злополучное письмо?..»
Судья позвонил. Вошел тюремщик.
– Отвести арестанта в камеру.
На подоконнике стоял кувшин с водой. Дмитрий с жадностью напился, а потом долго держал в холодной воде истерзанные пальцы.
Егор Константиныч тяжело переживал беду, приключившуюся с Дмитрием. Он сразу же начал действовать.
Лишь только позволило утреннее время, Егор Константиныч поехал к Ломоносову. Их знакомство и даже дружба продолжались добрых полтора десятка лет, с того времени, когда профессор в поисках хорошего мастера побывал у Маркова на Васильевском острове. Значительная часть приборов в академических лабораториях вышла из-под искусных рук старого токаря.
Марков застал Михайлу Васильича дома. Выслушав его торопливый, сбивчивый рассказ о несчастье, постигшем Дмитрия, Ломоносов накинулся на старика с горькими упреками.
– Почему ни вы, ни Дмитрий не рассказали мне об этой злополучной встрече раньше?
– Боялись втянуть вас в неприятную историю. И так уже вы пострадали из-за этого окаянного Зубарева. Тайная канцелярия…
– Э-эх!.. – Ученый горестно покачал головой. – Вы пожилой, опытный человек, вам нужно лучше знать жизнь… Как вы не понимаете, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Знай я об этом прискорбном деле раньше, я мог бы много сделать. При случае поговорил бы с графом Кириллом Григорьичем, изобразил бы ему происшествие в Кенигсберге как полупечальный, полусмешной анекдотец. И ежели бы граф в веселый час пересказал сей анекдотец государыне, мы могли быть совершенно спокойны за Митину участь… Да что там! – воскликнул Ломоносов. – Я бы сумел предварить об этом деле самого Александра Иваныча.[54] А теперь… Поздно, все поздно! Факт свершился, Митя арестован, и все мои демарши окажутся бесполезными… Ах, Егор Константиныч, Егор Константиныч, – вздохнул Ломоносов, – сколь гибельной оказалась ваша скрытность… (Марков молчал, повесив голову.) А я-то мнил увидеть в Ракитине своего преемника и продолжателя моих начинаний – столь ревностен он к науке, такие новые и ясные феории[55] приходят ему в голову.
Егор Константиныч уехал от Ломоносова темнее ночи.
Михайла Васильич все же попытался спасти Ракитина. Он побывал у Алексея Григорьевича Разумовского, у Семена Кириллыча Нарышкина и у других вельмож. И всюду происходило одно и то же. Услыхав, что речь идет о том, чтобы заступиться за заговорщика, какой бы малой ни казалась его вина, собеседник Ломоносова мрачнел, озирался по сторонам, не подслушивают ли разговор, и категорически отказывал в помощи. Все хорошо знали, что Елизавета Петровна панически боится заговорщиков и замолвить слово за кого-либо из них означало поставить под удар свою репутацию.
Марков тоже не сидел сложа руки. Он отправился к Кириллу Воскресенскому, но оказалось, что адмирала отправили за границу по делам флота. Зато старый друг Маркова, Трифон Никитич Бахуров, дал самый, пожалуй, практичный совет.
– До приговора над Митей еще далеко, – сказал искушенный в делах старый чиновник, – и об этом еще будет время думать. А сейчас надо во что бы то ни стало облегчить его положение в тюрьме. Сунь-ка ты, братец, судье Стерлядкину взятку. Я эту приказную крысу знаю, он на такие вещи падок. Да не скупись: ежели у тебя с деньгами туго, я помогу…
Егор Константиныч поблагодарил за совет, сказал, что денег у него хватит.
Силу взятки Дмитрий почувствовал сразу. Молчаливый тюремщик, приносивший в камеру еду для арестанта, сунул ему в руку тряпку с чем-то мягким. В ней оказалась целебная мазь для изуродованых пальцев.
На допросах Стерлядкин вел себя по внешности строго, все так же задавал придирчивые вопросы о беседах с Зубаревым, расспрашивал о причастности к делу Ломоносова. Но ответы узника принимал на веру и к пыткам не прибегал.
Вскоре Ракитину пришлось убедиться, что к самому заговорщику отношение было далеко не такое снисходительное. Приведенный на допрос, Дмитрий услышал в следственной камере стоны. Затем дверь распахнулась, и навстречу ему вывели арестанта. Он шел с опущенной головой и не падал только потому, что его поддерживали конвоиры. Человек был раздет до пояса. Ракитин увидел опаленную, вздувшуюся кожу. Лицо арестанта было залито кровью, борода наполовину вырвана. Дмитрий присмотрелся к изуродованному узнику – то был Зубарев.
Замыслы Зубарева трагически отозвались на судьбе несчастного Иванушки, бывшего императора. План его похищения из Холмогор был признан весьма опасным. И нет нужды, что его не удалось выполнить Зубареву. Найдется другой, более опытный и удачливый злоумышленник, который этот план осуществит.
Холмогоры слишком близко расположены к северным воротам страны, оттуда до моря рукой подать. И через шесть дней после того, как Зубарев признался в своем дерзком замысле самому Шувалову, на Север полетел приказ переправить царственного узника поближе к столице, в Шлиссельбургскую крепость, и держать под строжайшим надзором.
И там, в каменном мешке, провел Иван Антонович восемь с половиной лет до своей насильственной смерти.[56]
Глава пятая Приговор
У палат графа Петра Иваныча Шувалова, что на Мойке, на углу Прачечного переулка, толпился чуть не весь Петербург. Фасад, выходивший на Мойку, был богато иллюминован. В саду зажигались фейерверки, вертелись огненные колеса. Разноцветные ракеты взлетали высоко в темное осеннее небо и блестящими шариками сыпались вниз. На огненном обелиске сияло: «ЕЛИСАВЕТ».
По саду гуляла избранная публика – гости графа Шувалова, первого богача империи. Публика попроще любовалась зрелищем с улицы.
– Что деньги-то делают! – говорил старик лавочник.
– Дивиться, батюшка, нечему, – отвечал другой, по виду мелкий чиновник. Их сиятельство на откупе полимперии держат. Доходы их бесчисленны, как морской песок.
– Пишут в «Ведомостях», – вмешался бойкий приказчик, стараясь перекричать шипенье ракет и гул толпы, – когда княжич Павел родился, великому князю да княгине государыня преподнесла по сто тысяч рублей. А у меня жена родила, да я в тот день на службу не вышел, меня хозяин оштрафовал!..
– Молчи, дурак! – перепугался лавочник, но его степенный сосед уже вцепился в рукав приказчика.
– Как, повтори, что сказал! А ну, идем со мной в Тайную!..
Приказчик вырвался из рук допросчика и скрылся в толпе. Фискал с криком «Слово и дело!» погнался за ним.
В палатах у Петра Иваныча Шувалова шел пир, о котором долго потом говорила петербургская знать. В серебряных канделябрах горели тысячи свечей. Гости любовались драгоценным убранством огромных зал.
Вскоре после ужина императрица внезапно покинула бал. Карета отвезла ее на Фонтанку, в Летний дворец.
В залах начались танцы. Веселье продолжалось до утра.
Возвратившись с шуваловского пира, Елизавета Петровна напрасно пыталась заснуть. Слишком много забот обременяло российскую императрицу…
И снова – не сочтешь в который раз – встала перед Елизаветой, как неотвязный кошмар, ужасная и радостная ночь переворота. Почудилось испуганное лицо Анны Леопольдовны, разбуженной прикосновением ее руки в такой же глухой ночной час… Представился младенец Иванушка, сонный, в пышных кружевных пеленках…
– Иванушка, Иванушка… Крест, наложенный на меня Господом… Когда я от тебя избавлюсь, когда?
Незабываемая ночь 25 ноября 1741 года принесла Елизавете корону и с ней вечный страх. Грозная тень Ивана Антоновича протянулась от снежных Холмогор через всю империю, от моря и до моря. Почти не проходило дня, чтобы какой-нибудь случай не напомнил императрице об ее заточенном предшественнике. Вот и сегодня на балу у Шувалова она увидела просто одетого худощавого юношу, упорно стоявшего в уголке, неподалеку от хрустального грота. Длинные белокурые волосы его жидкими прядями падали на бледный лоб, впалые водянистые глаза неотрывно смотрели на императрицу. Что-то чахлое, сумрачное было в тоненькой, болезненной фигурке.
Елизавета рассеянно взглянула на него раз-другой, и вдруг нервная дрожь затрясла ее. Незнакомец был удивительно похож на Иванушку, каким представлялся тот императрице по донесениям тюремщиков. Ей показалось, что глаза незнакомца наливаются безумием, губы угрожающе шепчут, рука опускается в карман…
«Зачем? Что ты хочешь сделать?» – чуть не крикнула Елизавета. Ей хотелось бежать, скрыться, но усилием воли она сдержалась.
– Кто таков? – заикающимся голосом спросила императрица графа Петра Иваныча.
– Где? О ком изволите говорить, ваше величество? – забеспокоился смущенный хозяин.
Началась суматоха. Елизавете назвали незнакомую фамилию провинциального дворянина. Молодой человек был в столице впервые. Попав на бал по протекции родственника, он с наивным удивлением таращил глаза на царскую фамилию, стараясь крепко запомнить виденное, чтобы рассказать о столичных чудесах деревенским соседям.
– Убрать! – проговорила императрица.
И бедного, ни в чем не повинного гостя вытолкали из дворца.
Настроение Елизаветы было испорчено, и она покинула бал.
Закрыв глаза, императрица ясно представила себе фигуру страшного незнакомца. «Такие стоят во главе заговоров, со взводами солдат врываются во дворцы…»
Елизавета в страхе приподнялась: из соседней комнаты явственно послышался тяжелый мерный топот.
– Кто там? – дико крикнула императрица.
– А никого, матушка, спи! – спокойно ответила привычная к таким сценам давняя подруга Елизаветы, главная фрейлина Мавра Егоровна Шувалова, неизменно оберегавшая покой и сон царицы.
После беспокойно проведенной ночи императрица сидела в кабинете за письменным столом. Осеннее солнце бросило одинокий луч через просвет облаков. Луч упал на лицо Елизаветы Петровны, осветив дряблость натертых белилами, нарумяненных щек, густую сетку морщинок у глаз, предательскую седину висков.
Елизавета незаметно отодвинулась в тень и украдкой взглянула на Шувалова, стоявшего перед ней в почтительной позе. Тот же луч осветил шитый золотом генеральский мундир Александра Иваныча, орденскую ленту, надетую через плечо, огромный напудренный парик.
Но лицо Шувалова было бесстрастно. Он внимательно проглядывал дела. Александр Иваныч торопился: несколько недель добивался он, чтобы его приняли с докладом. Елизавета находила бесконечные предлоги для отказа: то поездка в монастырь отнимет целый месяц, то выезд на охоту, а то просто голова болит и нет никакого желания выслушивать чтение этих противных бумаг. А приговор по зубаревскому делу и так слишком долго откладывался.
Узнав, о чем пойдет речь, Елизавета заговорила тоном обиженного ребенка, хотя в голосе ее слышался страх:
– Скажи мне, Александр Иваныч, до коих пор эти заговоры будут продолжаться? Подумать только: Турчанинов с товарищами, Лопухины, Батурин, теперь этот Зубарев… – считала Елизавета по пальцам.
Она вспомнила себя опальной, загнанной цесаревной в годы царствования Анны Ивановны. Только постоянное унижение перед всесильными немцами Бироном, Минихом, Остерманом спасло ее от ссылки в дальние сибирские вотчины или насильственного пострижения в монахини.
– Страх… вечный страх… – шептала она, забыв о Шувалове. – И тогда, и теперь…
Александр Иваныч с ловкостью умелого царедворца угадал настроение императрицы.
– Сенат мерами особой строгости решил раз навсегда дать урок тем, кто еще вздумал бы посягать на спокойствие вашего величества…
– Покажи сентенцию![57]
Небрежно взяв бумагу пухлыми пальцами, перетянутыми перстнями, Елизавета стала читать ее, далеко отнеся от глаз:
«…купца Ивана Зубарева за учинение мерзкого и богопротивного заговора против законной государыни и самодержицы всея России казнить смертию через колесование…
…игумена Митрофаньевского скита Нифонта Барыкина за сговор со злодеем Зубаревым казнить смертию через отсечение головы…
…игумена Ферапонтова скита Маврикия Любомудрова за сговор со злодеем Зубаревым казнить смертию через отсечение головы…
…Головкова… казнить… Никитина… казнить…»
Читая, императрица все более и более хмурилась.
– Что это за синодик[58] такой? Казнить! Казнить!! Эти казненные и так по ночам мне снятся! Я не утверждаю приговора! Слышишь – не утверждаю! Не утверждаю!
Елизавета, как капризная девочка, затопала ногой. Слезы готовы были хлынуть у нее из глаз. Александр Иваныч не растерялся. Не спуская глаз с изящной, маленькой ножки императрицы, он сказал с поклоном:
– Слава о великодушии вашего величества долетела до крайних пределов Вселенной. Сама богиня милосердия бледнеет от зависти в присутствии кроткой Елисавет.
Императрица проследила откровенно восхищенный взгляд Шувалова и незаметно посмотрелась в зеркало, занимавшее полстены. Зеркало, скрыв недостатки, показало ей величественную фигуру, свежее, полное лицо с прямым носом, пухлыми губами, с черными глазами под ровными дугами наведенных бровей.
«Еще хороша! В самом деле хороша! – И, любовно взглянув на свое отражение, твердо решила: – Помилую!»
Обратившись к Шувалову, императрица сказала с улыбкой:
– Садись, Иваныч, пиши: «Зубарева держать в каземате, доколе не выяснятся новые обстоятельства его преступления и связь его с прусским королем…[59]
…игуменов и прочих виновных, замешанных в деле, довольно наказав кнутом, сослать в Сибирь, на рудники…»
– Слушаю, ваше величество!
– Ну что еще там у тебя?
– Есть тут менее причастные к делу, ваше величество! Вот Ракитин, де сианс академии адъюнкт в бытность свою в Кенигсберге вел беседы со злодеем Зубаревым и об оных не донес по принадлежности. Тайная канцелярия полагает ограничиться бессрочным заключением Ракитина в крепость без наказания на теле: судьбой сего молодого ученого весьма обеспокоен профессор Ломоносов. Он ходатайствует о смягчении его участи, утверждая, что Ракитину предстояла выдающаяся научная карьера…
Императрица сморщилась, как от зубной боли.
– Ох уж эти мне ученые, слишком много о себе мнят. Ну, ин ладно, быть по сему!
И императрица нацарапала под сентенцией неуклюжими, кривыми буквами: «Елисавет».
Глава шестая Загадочный узник
Низкое осеннее небо серым арестантским халатом нависло над Ладожским озером. Тучи, гонимые ветром, щедро роняли слезы обиды: им не хотелось мчаться в неведомую даль. Волны разгуливали по озерной шири и, с грохотом налетая на берега, разлетались пенными брызгами.
Одинокой, оторванной от мира выглядела Ново-Ладожская крепость, древние стены которой осенняя сырость покрыла лишаями – серо-желтыми, буро-зелеными, темно-красными, как кровь.
Вечерело. На тюремном дворе было безлюдно. Узники дрожали от холода и сырости в камерах, часовые зябко кутались в изношенные шинели, прячась в ветхих тесовых будках.
В кабинете Рукавицына горела свеча. Майор и священник сидели за столом, уставленным бутылками. По их неверным движениям, по чересчур громким голосам можно было судить, что выпито немало.
Всегдашний гость коменданта, лохматый рыжий поп Иван Крестовоздвиженский был тщедушен и узкоплеч. Голубовато-водянистые глаза с расширенными от пьянства зрачками смотрели сумрачно. На нем была выцветшая ряса с обтрепанным подолом, из-под которой виднелись плисовые шаровары, заправленные в сапоги.
Поп Иван был горький пьяница. Однажды, служа обедню в Псковском соборе, он упал перед алтарем с Евангелием в руках. Ползя в царские врата на карачках и подпираясь Евангелием, поп громогласно пел: «Веселыми ногами скакаша и плясаша…» За это его и послали служить в Ново-Ладожскую церковь.
Трофим Агеич, выпив несколько стаканчиков, приходил в блаженное состояние и до утра с прикрасами рассказывал о походах, о войнах, в которых участвовал.
Поп был не таков. Он пьянствовал озлобленно, буйно, часто дрался и впадал в религиозный бред, пугая тихого во хмелю Рукавицына. За это майор не любил попа, но поневоле водил с ним компанию, так как других собутыльников в крепости не было.
– Выпьем, батя, по единой, – сказал майор.
Потная, горячая рука отца Ивана не отрывалась от стаканчика, даже когда майор наливал в него водку. Дрожащими пальцами, обросшими рыжей шерстью, поп притянул к себе стакан и посмотрел через него на пламя свечи.
– Не наливай, чадо, неполной, – наставительно сказал он. – Пиющие по неполной не внидут в царствие небесное…
Майор пьяно рассмеялся и долил попу через край.
– А мне, – похвастался он, выпивая, – к Рождеству полковника дадут.
Поп оскорбительно захохотал.
Выпили еще по одной, потом еще, и еще, и еще…
Внезапно отбросив рюмку, поп Иван встал и, уставившись в пространство, казалось, следил за приближением кого-то невидимого и защищался протянутыми руками. Он пятился, пока не прижался спиной к стене.
– Грядет нечестивый в силе и славе своей!.. Стража его – всадники в огненных бронях… Сера и дым из уст их пылающих… Кони их – драконы летящие…
Рукавицын дрожал как лист, перед его глазами вставали пугающие видения. Скрипнула дверь, и майор подпрыгнул на стуле от страха. На пороге появился с таинственным лицом Семен Кулибаба. Склонившись к уху майора, он быстро зашептал.
– Целый взвод? – отпрянул комендант. Хмель с него точно ветром сдуло. – Ну, батя, по домам пора!
Майор указал Кулибабе на окончательно охмелевшего попа. Тюремщик под руку повел отца Ивана к двери, а Трофим Агеич заспешил, натягивая мундир и плащ.
Водворив нового узника в камеру № 9, пустовавшую после Приклонского, майор в сопровождении Семена возвратился в кабинет. Он придвинул свечу и начал читать препроводительную.
«Ракитин Дмитрий Иванович…» – бросились в глаза слова, тщательно выписанные писарским почерком.
Сердце у майора захолонуло: фамилия «Ракитин» была подчеркнута двумя жирными чертами, аккуратно проведенными по линейке.
– Сэмэн! Гляди!
Взор неграмотного Семена привлекли толстые линии.
– Ось, бачьте, ваше благородие! Що це такое за вожжи? – ткнул пальцем тюремщик.
– И ты заметил? – Рукавицына начал пробирать озноб. – Таких подчеркиваний никогда раньше не бывало, Сэмэн… Понимаешь, никогда!
Комендант для чего-то перевернул бумагу и посмотрел через нее на свет. Мелкие писарские буквы не просвечивали сквозь плотный лист, и только виднелись загадочные линии, слившиеся в одну необыкновенной толщины, как показалось Рукавицыну со страху.
Майор озлобленно плюнул и торопливо спрятал бумагу в письменный стол.
Рано утром к Рукавицыну ворвался испуганный Семен:
– Ваше благородие! Беда зробилась!
– Ну? – Трофим Агеич задрожал.
– Из девьятого номеру… – Запыхавшийся тюремщик остановился.
– Да ну же, ну! – Майор вскочил с постели.
– Лежить… И голосу не подаеть…
– Пойдем скорее! – Комендант в халате и туфлях на босу ногу поспешил за Семеном.
Арестант метался на койке, дышал тяжело и часто. Лицо его было багрово-красным, глаза закрыты.
– Сударь… – на цыпочках подошел Трофим Агеич.
– Прочь от меня, палач! – дико закричал больной.
– Бредит! – в испуге отпрянул майор.
– Государыня оказала мне милость… Вместо Сибири – тюрьма! Ха-ха-ха!..
Наступила долгая тишина. Трофим Агеич снова подкрался к постели узника, дотронулся до горячей руки его.
Комендант и тюремщик осторожно вышли из камеры. Вслед им неслись бессвязные крики заболевшего арестанта.
– Что делать? – спросил Рукавицын, хватаясь за голову.
– Кровь, кажу, треба пустить, ваше благородие, – нахмурил косматые брови Кулибаба. – У их горячка…
Майор вытер рукавом потный лоб.
– Ты слышал, Сэмэн? Государыню поминает… Ты, Сэмэн, кровь ему пусти! Печку истопи! Да убери там… Пауков, мокриц – долой… одеяло, подушку… Стены пообмети… Приглядывай за ним, а то еще голову об стену разобьет…
– Господи, боже мiй! А я шо кажу, ваше благородие! Зараз же насчет пищии…
– Пищу с моей кухни брать!
– Беспременно с вашей. Они арестантскую пищию непривычны кушать.
– Да! – спохватился майор. – Кота ему туда! Сенатора посадить! Пусть, подлец, крыс выведет…
– Слухаю, ваше благородие…
Ракитин поправлялся. Он лежал с головой, обвязанной мокрым полотенцем. Бледное лицо Дмитрия обросло темно-русой бородкой. Зрачки голубых глаз были еще расширены, но сознание вернулось к больному. В ногах у него мурлыкал кот Сенатор. В камере было чисто, тепло.
В первый же день, лишь только узник смог говорить, Семен почтительно присел у постели Ракитина. Деликатно откашлявшись в кулак, тюремщик завел беседу:
– А шо, ваше высокоблагородие, якого вы будете звания?
– Я – купецкой сын.
– Так, так… А нэ можу ли я узнать, где вы вчились?
– В гимназии, университете, за границей…
– Так, так… («Пустили бы за границу купецкого сына!») И на якую должность, ваше высокоблагородие, вывчились?
– На физика.
– На физика?.. Бачьте… Це як же? Выше будет майора?
Дмитрий невольно улыбнулся.
– Какой физик… В столице профессор Ломоносов поважнее будет генералов и сенаторов…
– Прохвесор… Ишь ты… – уважительно протянул Семен. – Вы с ими знакомы были али слыхали про их?..
– Еще бы не знаком! Я у него в адъюнктах был, да видишь…
– Адъюн… адъюнт?! Это як же понимать, сударь?
– По-русски сказать – помощник. – Высокий белый лоб узника покрыли скорбные морщины.
– А вы, ваше высокоблагородие, не убивайтесь. Тiльки из могилы не выходят… («Проговорився! У прохвесора в помощниках ходил! От так купецкий сын!..») А где же ваш батько будут?
– Умер. Проторговался и умер.
– Царствие им небесное! – широко перекрестился Семен. («Бачь, як на своем стоить… Та мы тебя вытягнем на чистую воду…») Тюремщик наивничал, пряча лукавую улыбку под висячими седыми усами. – А шо, ваше высокоблагородие, як бы вас выпустили, а я бы с вами повидаться у Пытери прийшов? Думается мiни, що старого дурня и блызенько бы до вас не подпустили?
Дмитрий с тоской взглянул на оконную решетку.
– Эх, Семен… Будь я на свободе, я бы тебе последнее отдал за доброту твою.
– А мiни много и нэ треба! Мiни бы карбованцiв[60] хоть сорок… Я б на Вкраiну поiхав… Родных, мабуть, знайшов… Глянул бы на них, поки ще нэ вмер…
И у Семена Кулибабы, матерого тюремщика, тяжелую руку которого хорошо знали арестанты, – и у него была мечта. Голос его смягчался, когда он говорил о родной Украине, «неньке-Вкраiне», хотя Кулибаба прекрасно понимал, что легкую тюремную службу никогда не променяет на тяжелый труд хлебопашца.
Ракитин с невольным сочувствием поглядел на Семена:
– Будь возможность, я бы сотню не пожалел дать…
Семен встал и торжественно поклонился в пояс:
– Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!
– Да ведь не получил!
– Получим, – уверенно возразил Кулибаба. – Суленого три года ждуть.
Тюремщик побежал к коменданту. Трофим Агеич обедал. Перед ним стояла тарелка с борщом, бутылки и графинчики. Но майор не ел и не пил, а смотрел в пространство, рассеянно барабаня пальцами по столу.
– А, Семён… – по привычке молвил Рукавицын.
– Та я ж скiльки разiв просыл ваше благородие… – плаксиво затянул Кулибаба.
Майор рассмеялся. Антонина Григорьевна благодарно взглянула на Семена.
«Может, и аппетит явится», – подумала она.
Тюремщик на цыпочках подошел к коменданту.
– Усе разведал, ваше благородие, – таинственно зашептал он. – За границей вчился… У прохвесора в помощниках ходил, в каких-то ад… ад… адъютантах! А прохвесор у Пытери самый главный, усех сенахтуров и енералов важнее…
– В адъютантах у самого главного в Питере?!
Рукавицын был очень высокого мнения об адъютантах. Он помнил, как у них в полку молодой князь Толубеев заворачивал всеми делами, совершенно не считаясь с мнениями полковника. Майор остолбенело смотрел на Семена, машинально вертя в руках серебряную ложку. Он, так же, как и Кулибаба, не понимал, что такое таинственный «прохвесор», но ему представлялось что-то необычайно значительное.
«Не ошибся… Персона! Знатнеющая персона!! Теперь знаю, как обращаться!..»
Он согнул ложку, и та разломилась. Комендант с досадой бросил обломки на стол. Жена рассердилась.
– Эка важность, – равнодушно сказал Рукавицын. – Не в этом дело, мать! Ты понимаешь? В девятой камере счастье наше сидит! Только суметь подойти… И ты меня, мать, не учи! – гневно крикнул он. – Сам знаю, как к нему подъехать! Второй раз не обожгусь… Нуте, князь Василий Васильевич! – злорадно бросил он в пространство. – Жалуйтесь, ваше сиятельство! Ого-го! И у нас защита найдется! – Вспомнив о Кулибабе, Трофим Агеич переменил разговор: – Есть, мать, давай! Стакашек настоечки налей! Сэмэну тоже, да побольше, угостить его надо: хорошие вести принес!..
Майорша почувствовала, что тяжелая полоса в жизни мужа кончилась…
Глава седьмая Майор Рукавицын
Майор застегнул последнюю пуговицу, привычным движением расправил кресты и медали на груди.
– Посмотри, мать, нет ли упущений?
Антонина Григорьевна заставила мужа повернуться кругом.
– Ступай с богом!
Но Трофим Агеич с ужасом схватился за лысину.
– Смотришь! Парик позабыл надеть! Рукавицын снял с гвоздя жиденький парик с заплетенной косичкой и покачал головой.
– Плоховат паричок стал, надо бы новый купить… Боюсь, мать, инда дрожь пробирает, – признался Рукавицын.
– Своего арестанта да боишься!
– Сегодня он мой, а завтра на такую высоту поднимется, что и глазом не углядишь… Э, да что с тобой разговаривать!
Майор решительно вышел из дому. Но, подходя к одиночкам, он все больше замедлял шаги. Навстречу попался Семен.
– Кулибаба! – Рукавицын поманил тюремщика пальцем. – Ну как они там, не спят?
– Кто, ваше благородие?
– Ты что, дурак, не понимаешь? Ракитин – вот кто! – рассердился майор и собрался дать Семену зуботычину, но раздумал.
– Никак нет, не сплять… Воны с котом займуються, по собачьему служить обучають…
– А как он? Не сердит?
– Не оказывають виду, ваше благородие.
– Доложи! Комендант тюрьмы, майор Рукавицын, желают, мол, вас видеть…
Но, когда удивленный Семен нерешительно направился к камере, Трофим Агеич спохватился:
– Тьфу ты, черт! Я, комендант, докладываюсь узнику! Да это какое-то дьявольское наваждение! Семен, стой! Куда прешь!
Майор откинул засов, открыл тяжелую дверь камеры и шагнул с высокого порога. Шпага болталась у него в ногах, и Рукавицын едва не грохнулся на каменный пол камеры.
– Извините, – смущенно пробормотал он.
Узник при неожиданном и шумном появлении майора выпустил передние лапы Сенатора и бросился поддержать Рукавицына, но не успел.
– Благодарю, сударь, – запыхавшись, промолвил Трофим Агеич и плюхнулся на подставленную узником табуретку. – Отвык от парадной формы, – виновато сказал он, поправляя шпагу. – Начальству представляться в нашем медвежьем углу не часто приходится…
– Я очень рад вашему посещению, господин комендант, – сдержанно отозвался Ракитин, продолжая стоять.
– Да вы, пожалуйста, садитесь! – сконфуженно засуетился Трофим Агеич. – Экой я пентюх, бурбон неотесанный!
Дмитрий сел на койку. Майор с любопытством уставился на Ракитина: перед ним было мужественное лицо с ясными голубыми глазами, с курчавой бородкой, с небольшими усами, с высоким лбом, с которого были откинуты кудрявые русые волосы. Лицо узника было бескровно, под глазами лежали тени, лоб прорезали две глубокие морщины.
«Видно, что не из простых, – подумал Трофим Агеич. – Лицо-то какое белое!..»
Майор не знал, как начать разговор с узником, и окончательно растерялся.
Спас коменданта Сенатор, который спрыгнул с койки и стал тереться о сапог Рукавицына. Трофим Агеич обрадовался коту. Посадив его на колени, он смелее обратился к узнику:
– Как вам нравится мой подлец-котище?
Лицо Дмитрия осветила ласковая улыбка.
– Я приобрел в нем друга. Вдобавок здесь такое множество крыс, что, не будь Сенатора, не знаю, как бы я спал. Признаюсь, я не ожидал такого человеколюбия в начальнике Ново-Ладожской тюрьмы…
Обвисшие щеки майора раздулись самодовольством, и маленькие мутные глазки заблестели.
– Не благодарите, сударь, – с показной скромностью ответил Рукавицын. – Я выполняю мой святой долг – заботиться об узниках. Скажите, в чем вы нуждаетесь?
– Я затрудняюсь просить, – нерешительно сказал Дмитрий. – Может быть, книги…
– На этот счет у нас плохо, – покачал майор головой. – Я, признаться, не охотник до книг… Да! – Лицо Трофима Агеича оживилось. – А ведь есть книга, конечно, есть! У поповен «Сонник» имеется. Прелюбопытная, доложу вам, сударь, книжица! Всякому сну истолкование. При надобности и я, сударь, к поповнам бегаю. Да вот привиделся мне этим летом сон… Чудной сон! Вижу я себя, знаете, на головастой белой лошади, и еду я будто по страшнеющим горам… Мы с женой в «Сонник», а там прописано, что горы во сне видеть – это горе испытать, а лошадь – ложь, обман некий предвозвещает. И ведь сбылось, сударь! Да, да, не смейтесь, сбылось! Вскорости после того сна освободили князя Приклонского – в вашей камере как раз сидел, – и пришлось мне вдосталь хлебнуть горя!
– Да вам-то какое горе, что узника освободили? – удивился Дмитрий.
«Кажись, лишнего наболтал, дернуло меня за язык!» – с досадой спохватился майор и начал выпутываться.
– Тут, видите, дело было так… Человек он гордый, суровый… Незнамо за что невзлюбил меня. И при освобождении пообещал нажаловаться на меня царице, будто я плохо… Ну и тому подобное! Вот, выходит, белая-то лошадь и нагадила мне. Так полюбопытствуете «Сонничек» почитать?
– Что ж… – согласился Ракитин. – Пришлите…
Комендант и узник расстались, довольные друг другом.
«Рукавицын простоват, но человек, кажется, не злой», – подумал Дмитрий.
– Отстрадовался! – рассказывал Трофим Агеич жене, стаскивая мундир. – Арестант знатного роду, об этом и спорить нечего. Белоручка, выхоленный такой. И видно, избалован – книг просит. Обещался «Сонник» послать.
– А у меня в сундуке две чувствительные французские повести с девических времен лежат, – вспомнила Антонина Григорьевна. – Вот и дай ему. Кстати, узнаешь, силен ли он, как все персоны, во французском языке.
– Лучше не придумать! – закричал Трофим Агеич.
Книги тотчас были посланы с Кулибабой.
Когда Дмитрий выздоровел, комендант стал навещать его ежедневно.
– Вы уж, сударь, извиняйте меня, – говорил он, входя. – Может, я докучаю вам?
– Нет, что вы! – искренне возражал Дмитрий.
Французские повести узник прочел в несколько дней. Сенатор выучился стоять на задних лапах. И тюремные дни казались бесконечными. Ракитин радовался приходу майора, бросался к нему навстречу, хватал за руки, усаживал на табуретку.
Начинались долгие разговоры. Трофим Агеич расспрашивал о загранице, которая представлялась ему какой-то сказочной страной. Дмитрий рисовал картины Амстердама с глубокими, спокойными каналами вместо улиц, описывал шумный Париж. Рассказывал Рукавицыну о жизни в немецких городках, где компания разгульных буршей ходит ночью по улицам, снимая на потеху вывески и переставляя так, что булочник оказывается гробовщиком, а белошвейка – сапожником.
Трофим Агеич, в молодости сам забубенная голова, до слез хохотал над такими проделками. Захваченный рассказами узника, майор тщетно ловил в них намеки на прошлую жизнь Ракитина в высшем кругу общества. И, уходя из камеры, каждый раз признавался себе, что не узнал ровно ничего.
На следующий день Рукавицын являлся снова. Что тянуло его в камеру № 9? Майор сам не мог разобраться в своих сложных, противоречивых чувствах. Было в красивом, усталом лице узника, в его спокойных, сдержанных манерах какое-то особое очарование, которое Трофим Агеич считал признаком его высокого происхождения. Поражал объем знаний Ракитина. О чем бы ни зашла речь, Дмитрий уверенно называл имена, даты, приводил факты. Необразованный майор, конечно, не мог проверить утверждения узника, но сердцем чувствовал, что тот никогда не унизился бы до лжи, до выдумки. И майор, сам слишком далекий от правил честности, по какому-то контрасту невольно уважал за это Ракитина.
А где еще мог он найти в крепости такого собеседника, как Ракитин? Не мог же равняться с ним поп Иван, который после третьей рюмки начинал бредить антихристом и концом мира. К удивлению и радости майорши и попадьи, вечерние выпивки их мужей почти прекратились: свои досуги Рукавицын проводил в камере № 9.
Глава восьмая Радостная встреча
Тюремные ночи Дмитрий встречал со страхом. Его мучила бессонница. Волны глухо били о берег…
Ракитин прекрасно сознавал, что по какой-то необъяснимой причине его жизнь в Новой Ладоге проходит в необычных тюремных условиях. Он пользовался здесь такими удобствами, о которых не мог и мечтать. Кормили его хорошо, у него была мягкая постель, теплое одеяло.
Ему дали товарища по камере – смышленого и забавного кота Сенатора. У него целыми часами сидели майор и Кулибаба.
И все же с переводом сюда положение Ракитина неизмеримо ухудшилось. В петербургской крепости в нем жила слабая надежда на освобождение. Сама неизвестность позволяла строить предположения и не давала места отчаянию.
А здесь?
Все решено, кончено. Дмитрий знал, что его осудили на пожизненное заключение в четырех каменных стенах. И по контрасту вспоминались Дмитрию неоглядные зеленые просторы, раскинувшиеся по берегу Волхова, легкая лодка на лесном озере, купанье в прохладной воде…
Сосенки, Сосенки! Как быстро добрался бы он туда из Новой Ладоги и как они сейчас бесконечно далеки от него!..
С самых первых дней заключения Дмитрий уже начал строить планы побега. Но убежать из Ново-Ладожской тюрьмы было невозможно. Под окнами одиночек по крытой галерее шагал часовой-мушкатер. Бессонный Семен Кулибаба ночью то и дело проходил с фонарем в руке и осматривал прочность оконных решеток, целость затворов у обитых железом дверей.
А если бы и удалось Дмитрию обмануть бдительность часового и Кулибабы и, выломав решетку, выбраться во двор – что толку? У ворот караул, да и сами монастырские ворота крепки – когда-то они выдерживали натиск шведов. Четырехсаженные стены крепости отвесны, на них едва ли вскарабкается даже кот Сенатор.
Нет, из этой тюрьмы единственным путем на свободу был воздух… Как узник завидовал птицам, как жалел, что ковер-самолет существует только в сказках!
Измученный несбыточными мечтами, Ракитин засыпал под утро. И сны приносили ему то, о чем он так жадно и неустанно думал.
Сказочная Могель-птица подхватывает его железными когтями и несет ввысь. Тело Дмитрия становится легким, сердце замирает. Птица рассекает воздух. Внизу бегут города и деревни, равнины и горы… А вдали виднеется заветный край, где люди живут без нужды и горя. Но удары птичьих крыльев медленно, неотвратимо превращаются в удары ладожских волн…
Дмитрий просыпался.
Иногда приходила к нему удивительная способность летать – без ковра-самолета, без крыльев за спиной. Достаточно было напряжения воли, и тело узника отталкивалось от земли и взмывало в воздух. Дмитрий летал под погодком камеры, наслаждаясь своей невесомостью. Открывалась дверь. Прежде чем удивленный тюремщик успевал закрыть ее, узник выпархивал наружу. Пролетев под аркой коридора, он оказывался над тюремным двором. Бежали изумленные солдаты, суетливо выскакивал комендант. Все протягивали к нему руки, стараясь схватить его, но он поднимался выше и выше. На него направлялись мушкетные дула. Комендант протягивал руку, отдавая приказ. Гремели залпы. Ни одна пуля не попадала в Дмитрия. Но залпы неотвратимо превращались в леденящие сердце удары волн… И Дмитрий с тоской просыпался во мраке тюремной камеры.
Так проходили его ночи.
…Пришла весна. С разрешения коменданта Дмитрий вытащил раму из окна камеры. По целым часам стоял он на табуретке, приблизив лицо к решетке. Он слышал звуки голосов, крики ребят на тюремном дворе. Через решетку виднелось небо, по небу летели стаи перелетных птиц. Призывное курлыканье журавлей, возвращавшихся с далекого юга на северную родину, до слез трогало узника.
Дмитрий был совсем один. Верный товарищ скучных зимних дней, ученый кот Сенатор пропадал по целым суткам и возвращался ненадолго взъерошенный, исцарапанный, пахнущий свежим воздухом и волей.
Ракитин пытался завести беседу с часовыми. Те отвечали:
– Нельзя с арестантами разговаривать. Караульный начальник заругается.
Ракитин лежал на койке. Кулибаба только что принес обед, но Дмитрий думал об еде равнодушно, у него не было аппетита. Послышался легкий стук в окно. Удивленный Дмитрий вскочил на табуретку и отшатнулся. Ему показалось, что он видит сон: в окно глядело на него лицо Горового.
Оно очень изменилось: Горовой отрастил усы, подкрученные вверх по военной моде, и все же из-под солдатского кивера на него глядело лицо брата Алешки. И это лицо точно качалось перед ним вместе с тюремной стеной, и были написаны на нем и сострадание, и радость, и ужас.
– Алешка! – хватаясь за решетку, крикнул Ракитин. – Алешенька…
– Митя! Митенька! – расслышал он голос Алексея. – Как ты попал сюда?..
– Не могу говорить… Грудь теснит…
Дмитрий еле дотащился до койки.
Горовой смотрел на узника с любовью и состраданием.
– Бедняга… – шептал он. – До чего тебя довела тюрьма…
Ракитин собрался с силами, и у решетки вновь появилось его бледное лицо.
– Как ты очутился здесь, Алеша? – более твердым голосом спросил узник.
Мушкатер знал: в крепостных стенах нужна крайняя осторожность.
– Давай, Митя, до ночи! Наш капрал – собака. Увидит – разговариваю, с поста снимет. Да и тюремщик все время досматривает.
– Иди, Алеша, а я буду ждать ночи…
Горовой зашагал по галерее. Дмитрий любовно следил за его высокой фигурой, насколько позволяла ненавистная решетка.
Раз и другой сменили часовых, а Дмитрий все стоял у окна.
Ракитину казалось, что прошли годы, прежде чем настала ночь. Шумы и шорохи смолкли, и тишина окутала тюрьму. В полночь снова сменились часовые. Услышав шепот Горового, Дмитрий поспешно прильнул лицом к решетке, протянул руку и ощутил крепкое дружеское рукопожатие.
– Алешка! Алеша, друг ты мой сердечный… Как я рад, нет слов!..
– Понимаю, Митенька, понимаю… Молчи! Мы теперь вместе, и все будет хорошо… Ты мне про себя поведай!
Ракитин рассказал брату о злополучной встрече в Кенигсберге и о том, как стремление Зубарева навербовать себе побольше сторонников довело его, Дмитрия, до беды.
– И знаешь, Алеша, – закончил узник свой грустный рассказ, – я еще дешево отделался: Михайла Васильич помог. А другие прикосновенные к делу были беспощадно биты кнутом и сосланы в Сибирь, на каторгу. Но ты-то, друг мой, единственный мой друг в этой душной неволе, ты как попал сюда в солдатском мундире?
– А дело было, Митенька, так. Ты ведь видел, как мы твердо стояли за свое дело. Работный люд по лесам сидел, а к горнам баб да ребятишек не поставишь. Но только как к весне дело стало подходить, зашевелился народишка. Беглые, почитай, все к домам подались: кому охота дожидаться, когда его семья голодом станет подыхать. Осталось нас десятков шесть, самый стойкий народ. Укрепились мы на мысу у Вохтозера, да недолго там просидели, только до теплого времени. Нагрянула на нас воинская сила…
Алексей грустно замолчал. Ракитин смотрел на него с глубоким сочувствием.
– Ну, сам понимаешь, Митя, дело наше пропало. Кого насмерть побили, кого взяли. Суд был короткий и немилостивый. Перепороли пленных литейщиков, углежогов, лесорубов и на работу обратно поставили. Зачинщикам – Сибирь, а кто посильнее, кто царскую службу способен справлять, тех после надлежащего телесного внушения, – Алексей почесал спину, – в солдаты оборотили. Вот и стал я Новгородского мушкатерского полка рядовым.
– Ну и как же, Алеша? Трудно? – выдохнул Дмитрий, с жадным вниманием слушавший рассказ друга.
– Э, что там!.. – с напускной беспечностью отозвался Горовой. – Всякого бывало за этот год. Оно как на солдатской службе: недовернешься – бьют, перевернешься – бьют. Да ведь я и силен и ловок: примерным фрунтовиком слыву, – усмехнулся Алексей.
– А как ты догадался, что я здесь, в девятой камере?
– В крепость наш взвод заступил три дня назад, – объяснил Горовой. – Ну, стою на карауле то у ворот, то у цейхгауза.[61] И слышу, у этого старика тюремщика с языка не сходит: «Пойду к Митрию Иванычу… Обед Митрию Иванычу надо нести… У Митрия Иваныча в камере не убрано…» Подивился я, какой такой чудной затворник здесь завелся? Посмотреть бы, о ком так тюремщики пекутся? Поставил меня ефрейтор сюда на пост, гляжу – ан это ты! Поверишь, чуть сердце не выскочило из груди!..
– А уж как я рад, милый мой Алешенька! Будто камеру мою раскрыли, и я на белый свет вышел… Ты меня прости, ведь моя радость от твоего несчастья идет…
– Ну вот еще, – беспечно отмахнулся Горовой. – Мундир на мне не гвоздями прибит, захочу – сброшу. Признаться по чистой совести, я последнее время сильно подумывал навострить лыжи…
– И куда же бы ты подался? – с беспокойством спросил Ракитин. – Беглый солдат – фигура заметная.
– Э, нашел бы место! – весело сказал Алексей. – Думка была на Урал двинуть. Там домен много, на любую бы взяли и вид на жительство выправили. Без похвальбы скажу: таких мастеров, как я, мало сыщешь.
– Ну, а теперь? – улыбнулся Дмитрий.
– Теперь?! Теперь меня отсюда оглоблей не выгонишь! Если б ты знал, Митя, до чего же я рад, что мы с тобой свиделись! Вот только надо, чтобы здешнее начальство не прознало, что мы родные…
– Да ведь не дураки же мы с тобой! – рассмеялся Дмитрий.
– Тсс… тихо… идут!
Дмитрий бросился на постель. На душе у него стало так легко, как никогда еще не бывало с самого того часа, как взяли его сыщики на петербургской улице.
На галерее мерно раздавались шаги часового.
Часть четвертая Небывалое дело
Глава первая Смелый замысел
Прошло несколько дней с тех пор, как Горовой появился в крепости, а троюродным братьям казалось, что это случилось уже давно. Во время долгих ночных дежурств Алексея они увлеченно беседовали, делились мыслями и мечтами, и казалось им, что они век прожили вместе, не расставаясь.
Но братья были очень осторожны, и никому не удавалось застать их врасплох дружески беседующими. При появлении постороннего Горовой кричал нарочито грубым голосом:
– Слышь, барин, отошел бы ты от решетки! Как тебе не надоест цельный день на небо глаза пялить!
Столько радости внес в жизнь узника Алексей, что Ракитин с ужасом вспоминал свое прежнее беспросветное существование.
Бездействие ума – самая большая опасность для человека науки, но Ракитин понял это только теперь, когда его встряхнула встреча с Алексеем.
«Сколько времени потеряно бесплодно, – с горечью думал Дмитрий. – Вот уж больше года я не брал в руки ни единой книги по химии и физике… – Его обожгла страшная мысль: – А вдруг я забыл все формулы, физические и химические законы?.. И как это я мог дойти до такого душевного упадка?.. Ох, плохо бы мне пришлось, кабы про то узнал Михайла Васильич… Меня заточили на всю жизнь, но ведь императрица Елизавета не вечна, а при смене царствующей персоны всегда объявляется милостивый манифест, прощаются вины противу прежнего потентата.[62] И тогда – в любимую лабораторию, на привычное место у того стола, что в дальнем правом углу под окошком… А как будет рад Михайла Васильич! Сгребет меня в свои железные объятия, закричит: „Ага, вернулся блудный сын!“ Как я стану работать, горы сворочу! Ваське Клементьеву скоро небось профессора дадут, и мне его придется догонять. Но ничего, только бы на свободу выйти…»
Во время первой же встречи с майором узник попросил снабдить его письменными принадлежностями.
– Хочу заняться науками, – смущенно улыбаясь, объяснил он. – И так уж боюсь, вся физика из ума вылетела…
Майор отнесся к просьбе Ракитина сочувственно. Он принес заключенному стопу серой бумаги, которой пользовался для писания отчетов, чернильницу, пачку очиненных гусиных перьев и даже песочницу, которая в те времена заменяла промокательную бумагу.
– Только уж извиняйте, сударь, нож вам для очинки перьев предоставить никак не могу, – виновато пояснил Рукавицын, – не полагается узникам владеть оружием, даже и таким невинным. А впрочем, когда эти перья затупятся, я вам новые предоставлю. И вот еще что, – спохватился майор, – ежели, не дай бог, какое начальство с проверкой нагрянет, вы всю эту канцелярию под матрац засуньте, под изголовье: воспрещено такое узникам по регламенту…[63]
Ракитин сердечно поблагодарил майора за доброту: теперь ему было чем заполнять долгие тюремные часы, которыми перемежались встречи с Алексеем.
Положив перед собой лист бумаги и вооружившись пером, Ракитин начал вспоминать законы Кеплера и Ньютона, Бойля – Мариотта и Паскаля… И он с радостью убедился, что все это еще свежо в его памяти, что тюремное заключение не лишило его знаний, которые он приобретал с таким упорством и любовью. Перо царапало по серой шероховатой бумаге, нанося на нее латинские и греческие буквы, алгебраические знаки… Радость узника была так велика, что он вскочил и стал ходить по камере.
– Эти скудные записи, конечно, не могут заменить утраченные мною книжные сокровища, – прошептал Дмитрий, – и все же я буду их вести: они помогут мне держать в голове все то, что великие ученые создали своим гением и трудом.
И он принялся работать ежедневно с той настойчивостью, которая всегда отличала молодого ученого. Пачка исписанных листов росла, рядом с законами физики и химии Ракитин вписывал свои соображения и комментарии, намечал новые проблемы, которыми стоило заняться. Как ему недоставало лаборатории, хотя бы самой маленькой, с простейшими приборами! Но мечтать об этом было все равно что пожелать достать луну с неба.
«Воображаю, какую мину скорчил бы Трофим Агеич, если бы я заговорил с ним об устройстве лаборатории в моей камере», – с улыбкой думал Дмитрий.
Занятия наукой даже в таких неблагоприятных условиях, в каких находился Ракитин, приносили свои плоды. Мысль Дмитрия не отвлекалась на разрешение житейских забот: худо ли, хорошо ли, от этих забот его освободила тюрьма. И эта пытливая мысль привела Ракитина к такому великому открытию, которого не смогли сделать ученые, работавшие на воле, в академиях и университетах.
…Однажды Дмитрий стоял у окна и смотрел на трубу караульного помещения. Как видно, солдаты готовили обед, потому что из трубы валил густой дым.
– Дым… Мельчайшие частички сажи… – задумчиво говорил Ракитин. – Почему они летят вверх?..
Дмитрий вспомнил ломоносовскую теорию теплоты.
«Как это утверждает Михайла Васильич? Корпускулы воздуха от нагревания начинают вращаться быстрее. Чаще соударяясь, они удаляются друг от друга, воздух расширяется. А если увеличивается объем определенного количества газа, уменьшается его плотность, и горячий воздух всплывает… Да, он всплывает, подобно куску дерева, погруженному в воду… – Ракитин чувствовал, что из этих рассуждений можно сделать какой-то очень важный вывод. Но какой? Мысль пока еще ускользала, не давалась. – Дерево всплывает… А, вот что! Ведь на него можно положить груз, и оно этот груз подымет… А воздух? Он может поднять груз? – И вдруг его мозг озарило. – Ну конечно, может! Разве сажа – это не груз? Сколько сажи вылетает из петербургских труб за год? Сотни… тысячи пудов! Экой же я олух, сразу не сообразил!»
Дмитрий в волнении прошелся по камере. Чего бы он ни отдал, чтобы хоть на час увидеть Ломоносова, обсудить с ним свои новые мысли. Но Михайла Васильич был в недосягаемой дали, и надо думать самому, надо показать, что ученик достоин учителя.
Снова мысли потекли в нужном направлении.
«Сажа… Это уголь, раздробленный на мельчайшие частички. А большие куски угля горячий воздух не подымет, вес куска слишком велик; кусок не найдет опоры в крохотных корпускулах воздуха, такой опоры, какую находит груз, поднимаемый деревом. А что, если бы нашел? Но тогда… тогда воздух мог бы поднять не только кусок угля, но и человека!..»
Дерзкое предположение ошеломило Дмитрия. Он невольно возвысил голос до крика. Кот Сенатор, отдыхавший в камере после ночных похождений, спрыгнул с койки и ткнулся Ракитину в ноги, ласково мурлыча и держа хвост трубой…
– Знаешь, котище, я, кажется, неожиданно набрел на очень-очень важную мысль…
Дмитрий ошибался, думая, что эта мысль пришла к нему неожиданно. Всей своей предыдущей жизнью, ученьем у Ломоносова, публичными лекциями Михайлы Васильича, его научными теориями, прочитанными физическими книгами, работой в академии и, наконец, раздумьями последних дней, он был подготовлен к ней, и она должна была явиться к молодому ученому так же неизбежно, как неизбежен восход солнца после ночной темноты.
Ракитин так взволновался, что сердце его, схватила жестокая спазма, и он чуть не крикнул от боли.
«Надо взять себя в руки… – Он, шатаясь, опустился на койку. – Обдумаю спокойно…»
Ракитин почти уверился в том, что для подъема надо воспользоваться горячим воздухом, но практических путей к осуществлению своей идеи он еще не видел.
Этой ночью узнику приснилось, что он улетает из крепости в дыму и пламени громадного костра, разведенного посреди тюремного двора комендантом и Семеном Кулибабой.
Снова потекли однообразные дни. Как и прежде, Ракитин проводил немало времени в общении с Алешкой, но ничего не говорил ему о своих мыслях и научных предположениях – он считал это преждевременным.
«Алеша от природы умен, но он не поймет, – думал Дмитрий. – Надо все додумать до конца и лишь тогда говорить с ним о моем замысле…»
Ракитин упорно искал способа воспользоваться подъемной силой нагретого воздуха. Были светлые майские сумерки. В такую пору Ракитину думалось лучше всего.
«Можно прицепиться к камню, к дереву… – рассуждал Дмитрий. – Но к жидкости уже не прицепишься. Ее частички слабо скреплены между собой, и она разливается, если не заключена в сосуд… оболочку…»
Узник вскочил и закружился по камере. Перепуганный кот бросился прочь и с диким мяуканьем налетел на стену.
– Оболочка! Оболочка! – кричал Дмитрий, не помня себя от радости. – Нашел!! Оболочка! Она даст мне точку опоры, удержит нагретый воздух! Ура, ура! Оболочка!!
Шум в камере обеспокоил часового, и он заколотил прикладом в дверь. Ракитин опомнился и сел на койку. Голова его пылала. Он подозвал кота.
– Какая мысль! Какая замечательная мысль! – спеша, захлебываясь словами, говорил Дмитрий. – Нет, ты подумай, котофей! Наполнить легкую оболочку горячим воздухом – и она полетит вверх!.. – Ракитин умолк, лоб его внезапно покрылся потом. После долгой паузы он тихо заговорил: – Но как подняться на снаряде, доселе невиданном? На снаряде, действие которого не поймут темные люди? Но будь что будет, а я от своей мысли не откажусь, если даже придется заплатить за нее жизнью… – Дмитрий начал успокаиваться. – Странно мне, котище, как это ученые еще не додумались до такой простой вещи? Ведь плавают же люди тысячи лет! А что такое судно? Та же оболочка, наполненная воздухом, который легче воды…
Ракитин решил поделиться своим открытием с Алексеем и посмотреть, как отнесется к нему брат. Горовой не получил образования, но он даровит, смекалист. И по его отклику можно будет судить, как примет народ удивительный снаряд, придуманный Ракитиным.
В эту же ночь, под монотонный крик какой-то бессонной птицы, слабо доносившийся с воли, узник рассказал Алексею о своем необычайном замысле. Первым впечатлением Горового был испуг.
– Господи, спаси нас от искушения! – вскричал солдат, осеняя себя крестным знамением. – Митя, да ведь это чародейство! Это только в сказках баба-яга на метле летает!
– Ну, у меня не метла будет, – улыбнулся Дмитрий, – а снаряд, основанный на законах науки.
Ракитин уже не раз беседовал с Алексеем о могуществе науки, и мушкатер притих. Дмитрий долго растолковывал ему свойства нагретого воздуха, приводил примеры с дымом, с водяным паром, поднимающимся летним утром с поверхности реки.
Природная сообразительность наконец помогла Горовому понять суть дела, и он сказал:
– Ты говоришь, Митя, что такая штука может поднять человека. Так, выходит, ты мог бы улететь на ней из крепости?
– Милый мой друг, это было бы очень здорово, но это даже не самое главное. Думается мне, что, если бы удалось осуществить мой замысел, жизнь людей очень переменилась бы. Я и сам еще не знаю, что и как, ведь дело-то совершенно необычное. Только чудится мне, что от него произойдут великие последствия. Но трудно, ох как трудно, Алешенька, сделать такой снаряд здесь, в тюрьме! Я не знаю, как мне убедить коменданта, чтобы он согласился помогать. А без его помощи моя затея совершенно безнадежна… – Дмитрий грустно помолчал. – И вот еще, Алеша, крепкая к тебе просьба: коли хочешь мне добра, будь тише воды, ниже травы. Если тебя уберут отсюда, мне конец. Ты ведь в этих стенах мой единственный друг и сочувствователь. Через тебя я и весточку могу подать на волю, коли понадобится… Понял?
– Будь спокоен! – ответил Алексей и зашагал по галерее: к одиночкам приближался Семен Кулибаба.
Светало.
Глава вторая Письмо к дяде
Ракитин занимался важным делом: он искал наилучшую форму оболочки задуманного им снаряда. Много предположений проносилось в его голове.
«Куб? Цилиндр? – размышлял он. – Нет, все это не годится… Надо найти самое простое решение. И конечно, это должен быть шар, только шар. Из всех тел с одинаковым объемом наименьшую поверхность имеет шар. Значит, и вес оболочки будет наименьший. И горячий воздух наполнит шар наилучшим образом, а у куба и цилиндра при ребрах обязательно получатся складки, морщины… Да, только шар! Но каков должен быть его размер?»
Ракитин пытался производить вычисления, благо у него были бумага и перо. Но дело подвигалось туго.
– Ах, если бы произвести опыт, – вздыхал узник. – Сделать бы пробный шар из бумаги, узнать, какой груз он поднимет, и тогда легко вычислить размеры большого шара…
В эти дни комендант не раз заходил к Ракитину, но Дмитрий не решился приступить к разговору об изобретении. Он изучил недоверчивый характер Трофима Агеича и боялся даже намеком напугать майора до полусмерти. Своими тревогами узник делился только с Алексеем да со старым черным котом.
– Хоть бы ты, Сенатор, научил меня уломать Рукавицына, – обращался Дмитрий к коту шутя.
Целыми днями узник думал о том, какие применения может иметь его изобретение.
«При попутном ветре на воздушных шарах можно быстро перелетать из одного города в другой, – думал Ракитин. – Ведь скорость ветра несравнима со скоростью лошади, а тем более пешехода. Воздушному шару не нужны дороги, ему не помешают ни леса, ни болота… А что, если… – У Дмитрия даже захватило дух при мысли, которая пришла ему в голову. – Что, если из действующей армии посылать донесения главнокомандующему или в столицу?! Ведь воздушного гонца не перехватят враги…»
Ракитин задумался над тем, что все новое, придуманное людьми, неизменно получает военные применения. Порох… Он нужен охотникам, но прежде всего им пользуются военные. Они придумывали смертоубийственные мушкеты, пушки, мортиры, они подкладывают пороховые мины под стены осажденной крепости…
Морские корабли… Они, правда, перевозят грузы из одной страны в другую, но каждое правительство больше всего заботится не о торговом, а о военном флоте…
«Мое изобретение признают полезным, – сказал себе Дмитрий, – если я докажу, что оно имеет важное военное значение. А оно его действительно имеет!»
Ракитину пришло в голову, что на высоко поднятых в воздух привязанных шарах могут находиться наблюдатели и даже воздушные стрелки, сверху поражающие неприятельских офицеров и солдат…
И когда он все это глубоко обдумал, то понял, что первоначальный его замысел построить воздушный шар для бегства из тюрьмы ничтожен и мелок в сравнении с тем, что сулит его идея родине.
«Если Россия первая обзаведется шарами в достаточном количестве, если будут обучены люди, умеющие в совершенстве ими пользоваться, то она станет непобедима, – шептал Дмитрий. – И в этом главная и великая сущность моей инвенции.[64] Это прозвучит достаточно убедительно для майора, как-никак он кое-что понимает в военном деле. Но этого мало, – размышлял Дмитрий. – Без приказа свыше Трофим Агеич не шевельнет и пальцем, чтобы мне помочь. У дяди много видных знакомых в столице, он должен пойти к большому военному деятелю. И если у того найдется хоть капля смысла, он прикажет Рукавицыну содействовать мне. А тогда майор примется со всем усердием исполнять приказ. Ведь главная черта в характере Трофима Агеича – это десятилетиями вбитое в него послушание».
В самом деле, перед высшими Рукавицын немел, и чем значительнее был чин начальника, тем более рабски исполнительным становился старый служака.
Письмо к дяде получилось пространным. После уверений в вечной любви и преданности Дмитрий рассказал о том, как он провел зиму в тюрьме и как в крепости оказался Алеша Горовой, который помогает ему переносить тоску тюремного заключения.
Занявшись наукой, он, Дмитрий, сделал очень важное изобретение. Далее Ракитин излагал суть его и давал Маркову подробный наказ, как провести опыт с маленькими воздушными шарами. Для ясности Ракитин сделал чертежи. Егор Константиныч должен был прислать племяннику точные расчеты, указав объем каждого шара и вес, который он поднимает.
«Имея точные расчеты, – писал дяде Ракитин, – я сумею построить задуманный мною снаряд, и если он позволит мне ускользнуть из неволи, это станет наилучшим доказательством огромного значения моего изобретения. Все познается на деле. Если вы придете с бумажными шариками в Военную коллегию и покажете их полет, это назовут детской забавой, над этим посмеются. Но побег „опасного“ преступника из крепко охраняемой твердыни – над этим, дядюшка, призадумаются, и еще как!»
Дмитрий выражал надежду, что дядя хорошо справится с этим важным поручением: ведь недаром он сам занимается науками.
И наконец, шла самая важная часть письма. Перечислив некоторые наиболее важные применения своего изобретения и описав характер Рукавицына, Дмитрий умолял дядю добиться от какого-нибудь знатного военного лица негласного приказа майору содействовать ему, Дмитрию, в выполнении некоего прожекта, не вдаваясь в его сущность, но подчеркнув, что оно будет иметь громадное значение для армии.
Ракитин снова и снова повторял эту просьбу, от выполнения которой зависело его счастье, его жизнь. Дмитрий просил дядю поскорее прислать ответ на его письмо (и, конечно, благоприятный!) с человеком, который доставит его послание, – ведь ожидание будет для узника мучительным.
В самом конце письма Дмитрий просил дядю прислать ему несколько научных трудов, заглавия которых он перечислил. Если, к великому несчастью Ракитина, комендант откажется помогать в осуществлении его инвенции, то узник найдет некоторое утешение, читая и перечитывая эти книги в тесных стенах камеры.
Ракитина смущала мысль, с кем отправить в Петербург письмо, но его успокоил Алексей. Оказывается, из Новой Ладоги в столицу каждый месяц посылался отчет о состоянии дел в тюрьме. Обычно такую рапортичку отвозил ефрейтор Милованов, а с ним Горовой был в дружбе.
Ждать было очень тоскливо. Дмитрий после каждого появления Горового на посту спрашивал, не отправил ли он письмо. Алексей всякий раз отвечал отрицательно, и всякий раз Ракитина точно по сердцу ножом резали. Письмо лежало у Горового за голенищем дней пять. Но раз Алексей явился на караул сияющий:
– Сделано, Митя! Уехал Милованов.
– А как он, не подведет?
– Что ты! Это Милованов-то? Свой парень, будь спокоен.
Дмитрий в ожидании ответа решил начать психологическую обработку майора. Он радушно встречал его, вел с ним длинные разговоры, наводил Рукавицына на воспоминания о его боевых подвигах и слушал с живейшим участием. Узник горячо возмущался начальниками, не оценившими боевой лихости Трофима Агеича.
– Да вы чудеса творили! – кричал Дмитрий. – Вас перед всей армией прославить надо было!
Майор краснел от удовольствия и тяжело вздыхал:
– Что ж, сударь! Родом я незнатен, беден, высоких покровителей не имел…
– И такого лихого рубаку посадили тюремным надзирателем! Да тут Семену нечего делать. Вам бы дивизией командовать!..
Лесть найдет дорогу к сердцу человека. Майор не сознался заключенному, что должность начальника тюрьмы была пределом его мечтаний и, получив ее, он считал себя баловнем судьбы. Нет, напротив, теперь ему показалось, что он действительно обижен, что он, Рукавицын, мог бы не хуже других командовать дивизией.
Майор сделал значительную мину и молвил:
– А что бы вы думали, сударь? И командовал бы, да еще как!
– Не сомневаюсь в этом, Трофим Агеич!
Яд честолюбия все больше отравлял сознание майора. Для него стало потребностью ежедневно выслушивать похвалы узника. Не раз за обедом он жаловался жене на злосчастную «планиду», сделавшую его, лихого рубаку и боевого офицера, тюремной крысой.
– Видно, и впрямь Ракитин – знатная политическая персона, коли умеет так распознавать людей, – говорил Трофим Агеич.
Егор Константиныч вытачивал ножку для кресла, заканчивая очередной заказ. Марья Семеновна сидела у окна с неизменным чулком в руках. Из-за двери выглянуло простоватое востроносое лицо Якима. Бледный от страха, он подошел к Маркову.
– Барин… – шепотом заговорил он. – Вас солдат на кухню требует, а зачем, не сказывает…
Токарь нерешительно шагнул к двери.
– Не ходи! – взмолилась Марья Семеновна. – Арестуют!
Старик ласково, но твердо отстранил руку жены. У порога кухни стоял мушкатер в почтительной позе.
– Чего тебе? – спросил старик.
– Так что секретное дело, ваше высокородие! – гаркнул солдат, вытягиваясь во фрунт. – Дозвольте наедине доложить.
Марков провел мушкатера в кабинет.
– Жены не опасайся, – кивнул он на Марью Семеновну.
– Вам писулька, ваше высокородие, – сказал ефрейтор и вытащил письмо из-за обшлага шинели.
– Откуда? – с трудом выдохнул старик.
– Из Ново-Ладожской крепости, ваше высокородие.
Егор Константиныч переменился в лице, а Марья Семеновна тихо ахнула.
– Так, понимаю… Спасибо! – сказал Марков. Дрожащей рукой он открыл ящик письменного стола, вытащил горсть серебряных рублевиков и высыпал в ладонь изумленного солдата.
– Покорнейше благодарим, ваше высокородие!
– Тише, тише!.. С ума спятил… Ты что, окарауливал его?
– Никак нет, мы в наружном карауле, а у ихней камеры другие.
– Батюшка мой! – вскинулась Марья Семеновна. – Расскажи ты мне всю правду, не тая, как там моему голубчику живется?
– Полно, старая, погоди, я сам расспрошу. Послушай, как тебя?
– Милованов! – отозвался солдат, как на перекличке.
– Что, порядки у вас в тюрьме очень строгие?
– Не извольте беспокоиться, порядки, как полагается. Только к вашему племяннику господин майор до ужасти приверженные.
– Вот как… Значит, комендант порядочный человек?
– Не могу знать, ваше высокородие! Их благородие уж оченно казенную копейку обожают и расстаться с ней не могут. Пищию что арестантам, что нам отпускают непотребную: солонина – тухлятина, хлебом гвозди забивай…
– Бедный Митенька! – вздохнула старушка.
– Насчет Митеньки не беспокойте ваше сердце: его с майорской кухни кормят.
Егор Константиныч надел очки и развернул письмо. Взор его затуманился, он снял очки и начал их протирать.
– Читай, отец, читай скорее!
Старик обратился к мушкатеру:
– Вот что, братец, выйди из кабинета, подожди там, на лестнице.
– Слушаюсь, ваше высокородие!
Марков взялся за письмо:
– «Дорогой дядюшка! Дорогая маменька! Я заключен в Ново-Ладожскую тюрьму. Мне здесь не так тяжело, как вы, наверно, думаете. Комендант и тюремщик добрые люди и делают послабление против правил, только уж очень скучно. Как хотел бы я повидать хоть на минуточку вас и милую маменьку… – Пробежав глазами полстраницы, Марков продолжал: – Дорогой дядюшка, я придумал удивительный снаряд – подниматься на воздух. Мне нужно проверить его на опыте. Сделайте…»
«Гм, гм… вот неуемное чадо, его и тюрьма не сломила… Ну ладно, потом разберусь».
Егор Константиныч вызвал мушкатера:
– Послушай, Милованов, ты когда в обратный путь направляешься?
– Как начальство прикажет. Дней на пять, на шесть всегда задерживают.
– Обязательно приходи за ответом. Буду ждать!
– Слушаю, ваше высокородие! – Солдат вышел, чеканя шаг.
Глава третья Опыты Егора Константиныча
Егору Константинычу Маркову были далеко не чужды научные интересы. Еще в те далекие годы, когда по воле царя Петра он занял высокий пост главного порохового механика империи, Марков засел за учебники, штудировал книги по физике, химии, механике.
Позднее, когда открылась Российская Академия наук, университетские профессора и адъюнкты, преподаватели гимназии оказались постоянными заказчиками Маркова. Кто, как не бывший царский токарь, мог выточить отлично пригнанные одно к другому магдебургские полушария,[65] сделать электрофорную машину, изготовить микроскоп…
Проникнутый глубоким уважением к науке, Егор Константиныч доискивался до сущности физических и химических явлений, беседовал с учеными, со студентами. Ему были знакомы многие новейшие научные теории.
И все-таки Марков пришел в тупик. Требовалось делать сложные математические расчеты, а у старого токаря все уменье было в руках, геометрия давно вылетела у него из головы. Впрочем, Марков раздумывал недолго.
– К Михайле Васильичу! – вскричал он. – Вот кто дело рассудит до самого корня. Уж ежели он скажет, что Митина затея не пустая выдумка, значит, так оно и есть.
Егор Константиныч давно не был у Ломоносовых, его встретили с радостью; Лизавета Андреевна побежала хлопотать насчет угощения; академик и токарь остались вдвоем.
– Вот, Михайла Васильич, – дрогнувшим голосом сказал Марков, – получил я от Мити весточку из тюрьмы.
– Да что вы! Неужели?! – Ломоносов изменился в лице. – Где он? Что с ним?
Егор Константиныч достал из кармана письмо.
– Читайте, – сказал он. – Послание сугубо личное, но от вас, нашего друга и благодетеля, тайн нет.
Ломоносов читал письмо долго, внимательно, к некоторым местам возвращался снова. В дверях показалась Лизавета Андреевна с подносом, уставленным посудой. Муж замахал на нее руками, приказывая удалиться. Удивленная хозяйка закрыла за собой дверь.
Михайла Васильич встал с торжественным лицом. Он заговорил медленно, разделяя слова:
– В письме вашего племянника Дмитрия Ракитина изложено великое научное открытие. Да-да, именно великое. Ракитин не обманул моих надежд. Из моей корпускулярной теории он вывел такое следствие, до которого я еще не додумался и сам…
– Да вы просто не успели, Михайла Васильич! – извиняющим тоном молвил токарь.
Ломоносов отмахнулся с улыбкой.
– Знаю, все знаю, что вы скажете, друг мой! Да, у меня на плечах гора забот: я должен двигать вперед физику и химию, астрономию и механику, на моих плечах мозаичная мастерская, мне срочно надо закончить портрет государя Петра Великого, к каждому придворному торжеству Михайла Ломоносов обязан представить оду и прочее, и прочее, и прочее… И все-таки… – Он вдруг беспечно рассмеялся. – И все-таки Митька, щучий сын, молодец, ей-богу, молодец! Он шагнул далеко вперед меня. Как вы думаете, Егор Константиныч, – лукаво улыбнулся академик, – может, попросить царицу посадить меня в каземат на годик-другой? То-то бы я там поработал!..
Марков понял шутку, оба посмеялись.
– Но, однако, хватит лясы точить, – серьезно сказал Ломоносов, – пора и о деле подумать. Вот что, Егор Константиныч, опыты с маленькими шарами, о коих пишет Митя, делать вам. Мне за сие взяться никак нельзя: за мной тысяча глаз следит. И ежели Митина инвенция не дай бог раскроется преждевременно, от этого большая беда произойдет, и в первую очередь беда для него. Посему: опыты производить дома и в великой тайне, все досконально записывать: вес шаров, их поперечник, вес грузиков, кои они смогут поднять… Все делать неукоснительно по наставлению Дмитрия, сделанному подлинно научно. А потом со всеми записями ко мне. Верится, что сим изобретением наш дорогой узник проложит себе путь к свободе!
Егор Константиныч уходил от Ломоносова окрыленный.
На следующий день кабинет Егора Константиныча напоминал переплетную мастерскую. На столе стоял горшок с клейстером, а пол был усеян обрезками бумаги. Марков клеил шар. Вооружившись большими ножницами, резал, примерял, подрезывал. Самой трудной работой оказалось склеить выкроенные части шара. Не раз старик намеревался позвать жену, но ему не хотелось открывать ей тайну раньше времени.
Первый шар, вышедший из рук Маркова, имел в диаметре больше полуаршина.[66] Пока высыхали швы, старик торопливо подмел комнату, разжег самовар, вместо трубы поставил колпак, суживающийся конец которого входил в отверстие шара. Все сделал по чертежу Дмитрия.
Осторожно выдавив воздух, Марков приспособил шар над самоваром на длинных лучинках. Трепет охватил старика, когда сморщенные бока шара начали распрямляться, надуваться… Токарь следил за шаром затаив дыхание. Еще несколько мгновений, и шар достиг полного объема, заколыхался, сделал движение, как бы собираясь подняться. Сердце старика буйно заколотилось. Он наклонился к самоварной решетке и раздул угли. Напрасно: шар сделал два-три прыжка, и вдруг воздух стал выходить в незаметную щель.
Марков даже плюнул с досады. Зажав голову руками, долго думал. Наконец поднял глаза.
– Все ясно. Я забыл Митино предупреждение, что маленький шар не полетит, он слишком тяжел для своего объема… Ну и лапоть же я! Завтра сделаю шар диаметром в полсажени![67]
Егор Константиныч встал на заре. Удивленной Марье Семеновне объяснил, что идет заниматься секретными научными опытами, и запретил приходить к нему, пока он сам не позовет.
Старик снова испытал ряд неудач. То выкройка оказывалась неправильной, и полосы, частично склеенные, приходилось выбрасывать. То плохо просушенные швы расходились, и работу приходилось начинать сызнова.
Но Марков был на редкость настойчив. К двум часам дня шар был кончен. Внизу, у отверстия, токарь приделал колечко из проволоки с крючками для грузиков. Мало того, он сам надумал вклеить в отверстие шара бумажную трубку, чтобы воздух из самовара направлялся прямо в шар.
Наконец все было готово. Угли в самоваре разгорелись, и Егор Константиныч впустил нагретый воздух. Прежде чем шар округлился, он уже начал рваться вверх, и старику пришлось подвесить гирьку. Марков в восторге потирал руки. Сгорбленная спина его выпрямилась, морщинистые щеки зарумянились.
– Так, сударики, так! Вон оно куда пошло!
Шар наполнился. Токарь снял гирьку, и шар прыгнул к потолку.
– Чудеса, да и только! Вот так Митя! Вот так затворник! В тюрьме такую штуку удумал!.. Кабы не потолок… А на улицу выйти – ведь это всей столице на удивление!
Но Марков тотчас вспомнил строжайший наказ Михайлы Васильича хранить дело в тайне. Прошло несколько минут. Шар стал медленно опускаться, съеживаясь: он остывал.
– Позову старуху, ей это будет в диковинку.
Торжественно и загадочно усадив жену в кресло, он заговорил:
– Смотри, старая, что будет.
Старуха ничего не понимала. Глаза ее округлились, когда шар снова начал надуваться. Она тревожно спросила:
– Чего это ты такое вытворяешь, отец?
– Отгадай загадку, – улыбнулся токарь. – Обрядили дым в кафтан, полетел дым по поднебесью!
– Отродясь такой загадки не слыхивала…
И вдруг шар взмыл к потолку.
Марья Семеновна перепугалась:
– С нами святые угодники!
– Да ведь это Митя выдумал! Понимаешь, Митя, – повторил Марков. – Что же, твой сын с нечистой силой спознался?..
Старушка неожиданно улыбнулась:
– Он, Митенька, сызмальства все про дым…
– Ну вот видишь, и додумался!
Успокоенная Марья Семеновна ушла хлопотать по хозяйству, а ее сменил возвратившийся из гимназии Андрюша. Отец и сын пришли в неистовое восхищение, когда уравновешенный шар тихо закачался в воздухе посреди комнаты.
– Смотри, Андрюшка, смотри! Прямо чудо, ей-богу! Ведь вот и понимаю, в чем дело, а все равно глазам не верю!..
Он замахал доской, производя ветер, и шар тихо поплыл в угол комнаты.
– На таких шарах, только больших, люди по воздуху плавать будут, да, батюшка?
– Да-да, сынок, да! Бери карандаш, записывай!
Отец и сын продолжали опыты вместе. Шары делались разного размера, тщательно записывался вес поднимаемых ими гирек.
Работа кончилась катастрофой. Андрюши не было дома, а Егор Константиныч, запалив самовар, отлучился по делу. Вернувшись, он ахнул. Комната была полна дымом, а очередной шар тлел, готовый вспыхнуть.
Опыты Марков возобновлять не стал. У него набралось достаточно данных для того, чтобы Ломоносов произвел все нужные расчеты. И они были сделаны в один вечер. Более того, Михайла Васильич написал Ракитину большое теплое письмо. Он поздравлял узника с замечательным научным достижением, предсказывал воздухоплаванию великую будущность, указывал на такие его применения, о которых мысль еще и не приходила Дмитрию так велика была сила предвидения у гениального помора.
Глава четвертая Бутурлин
Егору Константинычу предстояло еще одно очень важное дело: раздобыть для Мити приказ знатного лица майору Рукавицыну содействовать в осуществлении его необычайного прожекта. И тут Марков в первую очередь подумал о Бутурлине.
Генерал-аншеф[68] и сенатор Александр Борисович Бутурлин в молодости был денщиком царя Петра Алексеевича. Благоволение царя и удача сделали его одним из первых лиц в государстве.
С Егором Константинычем их связывала дружба с тех времен, когда Марков был царским токарем, а Бутурлин царским денщиком. Молодые, веселые, оба тайком от сурового царя устраивали немало проказ. Одна из таких проказ чуть не кончилась трагически. Сбежав из дворца, они провели ночь в кабаке. Первым заговорил о возвращении Марков. Бутурлин во хмелю был упрям и задорен.
– Иди, Егорша, иди… – сказал он, пьяно махая руками. – А я того… один…
Токарь дошел было до дворца, но беспокойство о товарище заставило его вернуться. Затащенный двумя грабителями в темный тупик, Бутурлин изнемогал в борьбе. Марков ворвался в тупик. Один из грабителей упал, оглушенный ударом, другой убежал. Рука Бутурлина была ранена ножом, из раны обильно текла кровь. Токарь перетянул рану платком.
– Пойдем, Саша! Петр Алексеич хватится…
– Не могу… Иди один… Иди, Егор…
Марков взвалил раненого на спину и поволок ко дворцу. Черным ходом, мимо часовых, посвященных в ночные развлечения царской челяди, он протащил ослабевшего от потери крови Бутурлина в денщицкую спальню и уложил в постель.
Смыв кровь и забинтовав рану, Егор Константиныч посоветовал денщикам:
– Скажите – лихорадка схватила.
Дело от царя удалось скрыть. Молодость и здоровый организм раненого помогли ему быстро поправиться.
– Ну, Егор, – торжественно заявил Бутурлин, – ты меня от смерти и от царского гнева спас. За эти две послуги на всю жизнь я у тебя в долгу!
Время шло. Интригами, угодничеством Бутурлин делал блестящую карьеру. Женившись на дочери фельдмаршала Голицына, княжне Анне Михайловне, за которой, кроме ее собственных имений, Екатерина I дала огромное приданое, Бутурлин стал одним из богатейших людей в государстве. Тем не менее даже среди закоренелых взяточников того времени Александр Борисыч считался первым.
– Бутурлин? Да приди к нему с просьбой отец родной, он и с того возьмет, – говорили о сенаторе сослуживцы, впрочем без всякого неодобрения и даже с уважением.
Марков долго раздумывал, идти ли к Бутурлину одному или попросить Михайлу Васильича сопровождать его. Ломоносов, конечно, не отказал бы в такой услуге: на хлопоты о Ракитине он не жалел ни сил, ни времени. Но, поразмыслив, Егор Константиныч решил, что в это щекотливое дело не следует впутывать третьего. Как-никак друзья молодости скорее договорятся между собой, а присутствие постороннего будет только их стеснять.
Егор Константиныч приехал к Бутурлину в одиннадцать утра и прошел в его кабинет без доклада – этой привилегией Марков пользовался по праву старой дружбы. Сенатор уже облачился в парадный мундир с орденами и звездами – он собирался во дворец, к императрице.
– А, Егор! – сказал он приветливо, пожимая старому токарю обе руки. – Рад, рад тебя видеть, садись! Ты что такой расстроенный?
Марков рассказал о племяннике, заключенном в тюрьму за то, что не донес начальству о случайном знакомстве с неким Зубаревым, оказавшимся государственным преступником.
– Ежели ты, Егор, пришел ко мне хлопотать за Ракитина, это гиблое дело, – перебил вельможа. – Ты знаешь, как строга государыня в подобных случаях.
– Да я не о том. Я ведь понимаю, что ты не всесилен, – подпустил Марков шпильку в адрес приятеля, – дело совсем в другом. Митя, большой знаток натурфилософии,[69] сидя в тюрьме, сделал весьма важную военную инвенцию. О сущности ее я не имею права распространяться, но она имеет первостепенное значение для военного дела…
– Продаешь кота в мешке? – усмехнулся Бутурлин.
Марков чертыхнулся про себя, а вслух сказал:
– Ведь это вполне понятно, что всякий инвентор боится за свои прожекты – а ну, как другой их перехватит? Но ты человек верный, и тебе я могу открыть самую сущность его замысла. Митя придумал способ быстрых сообщений по воздуху.
– По воздуху?! – Глаза Александра Борисыча полезли на лоб. – Да разве это мыслимо?
– Вот, вот, ты не веришь, и я тебя понимаю. Мне самому поначалу это какой-то небылицей показалось. А Михайла Васильич Ломоносов, лишь только про Митину инвенцию услыхал, так от восторга себя не вспомнил. А ведь Ломоносов по науке не нам с тобой чета!
– Ломоносов, говоришь? Ну, тогда дело стоящее.
– Еще бы не стоящее! Ты послушай, что Михайла Васильич об этом воздухолетании говорит! Это диво дивное будет, когда генерал, ведущий военные действия против неприятеля, получит возможность быстро – не так, как теперь! – сноситься с Главным штабом, передавать донесения, получать инструкции… А какие выгоды получит тот, кто поспособствует осуществлению этой инвенции!
Бутурлин начал соображать, почуяв в предложении приятеля выгоду.
– И чего бы ты от меня хотел? – спросил он.
– Слушай, Борисыч! Такую удивительную мысль надо доказать на опыте, а это не так-то просто, когда сидишь в тюремной камере. Вот если ты прикажешь коменданту – он мелкий чинуша, солдафон и трус – оказать Мите содействие, он не осмелится ослушаться, и у Мити дело пойдет. Твое слово…
– Видишь ли, Егор, – мягкое, пухлое лицо Бутурлина сморщилось, точно он глотнул кислого, – я бы всей душой, да ведь не получится, ей-богу, не получится…
Егор Константиныч слушал, и лицо его темнело. Вдруг, словно спохватясь, он перебил речь Бутурлина:
– Эк я, старый дурак! Совсем из ума выжил. Ведь я тебе одну штучку привез, да с горя и забыл…
Марков развернул принесенный с собой сверток. Из-под платка показалась шкатулка чудесной работы, а в ней была знаменитая нарта с оленями, когда-то привезенная Иваном Семенычем в подарок сыну.
– Давно я собирался презентовать тебе сию безделицу…
У Бутурлина даже руки задрожали от жадности, когда он принимал подарок, огромную стоимость которого сразу понял.
– Хороша, чудо как хороша! – рассматривал Бутурлин подарок загоревшимися глазами. – Истинно утешил ты меня. Я ее к себе на стол поставлю и буду тебя, старого друга, ежедневно вспоминать. Да, так вот, Егор Константиныч, ты меня перебил. Я тебе и говорю: ничего у нас с этим делом не получится, покуда я здесь, в Питере, сижу. Не стану же я сюда этого комендантишку вызывать – слишком много чести. А вот поеду я в свое имение, в Остафьево, оно как раз по соседству с Новой Ладогой, там я этому простофиле и сделаю внушение, ха-ха-ха!
Даже Егор Константиныч, хорошо знавший приятеля, изумился, услышав, как неожиданно и ловко изменил тон Александр Борисыч.
– И как ты славно, Егор, ко времени подладился, право! Ведь я завтра в Остафьево еду, ну, стало быть, и приструню бурбона по твоему желанию.
Марков ног под собой не чуял от радости и горячо благодарил сенатора.
– Не благодари, Егор! Сказал – сделаю. Да вот что! Приказ приказом, а коменданта и подмазать не мешает. Человек служивый, жалованьишко маленькое. Я бы и не говорил о таком пустяке, да сейчас с деньжонками туговато.
– За этим остановки не будет. У меня немного запасено… Конечно, у меня и расход не такой, как у тебя, – не удержался и съязвил Егор Константиныч.
– Конечно, конечно, – отвечал Бутурлин, притворившись, что принимает слова приятеля за чистую монету. – Действительно, у меня и ра-асход!
– А сколько, ты думаешь, Александр Борисыч, стоит коменданту дать?
– Лобанчиков[70] тридцать – сорок! Раскошеливайся, старина, не скупись. Знаешь сам: не подмажешь – не поедешь! – Он дружески толкнул Маркова в бок и расхохотался так, что с парика полетела пудра.
Провожая друга, Бутурлин подумал:
«Обязательно помогу выполнению ракитинского прожекта. Ведь если Егор прав и наша армия получит огромное преимущество перед врагом, то какую я заслужу славу…»
Глава пятая Вельможа и майор
Трофим Агеич писал докладную записку начальству. В кабинет ворвался запыхавшийся Семен:
– Так что вас немедленно требують, ваше благородие!
– Кто требует? Куда? – вскочил встревоженный Рукавицын.
– Генерал-сенахтура Бутурлина дворецкий.
Трофим Агеич поспешно натягивал мундир с помощью Семена.
«Ничего не понимаю. Зачем я понадобился самому Бутурлину? Уж не государственный ли переворот случился?..» – пронеслась мысль.
Майор поспешил к воротам. У караулки стоял лакей в нарядной ливрее.
– Их высокопревосходительство господин сенатор и кавалер Александр Борисович Бутурлин просят вас, сударь, пожаловать к ним в имение, – негромко сказал лакей.
– В Остафьево, что ли?
– Так точно-с!
– Но как же это? Зачем?
– Нам про то неизвестно.
– Удивительно!
Майору вдруг представилось, что его зачем-то хотят выманить из тюрьмы. Он подозрительно взглянул на лакея.
– Да у тебя есть предписание? – взмолился майор.
– Окромя изустного поручения, ничего барином не дано, – хладнокровно отвечал толстый дворецкий. – Да вы, может, считаете меня за самозванца? – ухмыльнулся лакей, разгадавший опасения коменданта. – Так ведь вот она, моя бумага! – И он указал на раззолоченную карету.
– Поразительно! Такого случая не бывало… Наконец, по уставу я не имею права покидать тюрьму без разрешения начальства, – растерянно бормотал Рукавицын.
– Как вам угодно-с! Знаю только, что их высокопревосходительство разгневаются ужасно.
Лакей повернулся и направился к карете. Майор в отчаянии схватил его за рукав:
– Постой, погоди! Экой ты, братец, нетерпеливый! Настоечки стаканчик не желаешь ли пропустить по случаю сырости?
– За настоечку покорно благодарим… Сырость, она действительно!..
– Так ты, братец, подожди минутку. Тебе поднесут. А я того… понимаешь…
Майор заторопился домой. Румяная кривая кухарка Матрена понесла к воротам бутылку ежевичной настойки, а Рукавицын заперся в кабинете с Семеном.
– Как же быть, Сэмэн? – спрашивал растерянный майор. – И ехать страшно, а отказаться того страшнее! Ведь вельможа-то какой? Генерал-аншеф, самый первый в армии!
– Треба поехать, ваше благородие! – решительно сказал Семен.
– А вдруг в Тайной узнают?
– Пытер далеко, а сенахтур Бутурлин блызко! А начальство – звестное дело! – чем оно блызче, тем бьет крепче!
– А вдруг ревизия наедет?
Семен подумал.
– А мы вот як зробым, ваше благородие: коли вас спросят, я кажу, шо вы больной, без памьяти лежите, а вас у ворот подожду и в шинели проведу, будто солдата на пост.
Рукавицын просиял:
– Ну, Сэмэн, тебе по уму кабинет-министром быть. Смотри же, чтобы все было в порядке.
– Усе будет гарно, ваше благородие!
Прицепив шпагу и закутавшись в шинель, майор отправился к воротам. Дворецкий успел выпить полбутылки настойки, и на толстых щеках его появились алые пятна. Завидев майора, он весело крикнул:
– Значит, надумали, сударь! Оченно великолепно! А то – доложу вам по секрету – чем нашего барина рассердить, лучше с чертом связаться!
– А что, гневен? – ослабевшим голосом спросил майор.
– У, не приведи господи! Да вам-то, сударь, опасаться нечего, – добавил дворецкий, заметив страх Рукавицына. – А бутылку я с собой возьму. Отменная настоечка! – неожиданно закончил лакей и сунул бутылку вместе с серебряным стаканчиком в карман.
Он услужливо подсадил коменданта в карету, сам сел на козлы.
Майор откинулся на бархатном сиденье. Замелькали покосившиеся домишки, обнесенные гнилыми заборами. Кривые улицы Новой Ладоги были пустынны. Редкие прохожие торопливо шарахались от кареты, чтобы не быть забрызганными грязью.
«В этаком экипаже да по Питеру бы… – размечтался Трофим Агеич. – По Невской бы першпективе, да чтобы в парадном мундире со всеми орденами, хе-хе-хе…»
Городок остался позади. Через полчаса карета подкатила к барскому дому в Остафьеве.
Дворецкий ввел майора в обширную переднюю, где несколько лакеев играли в карты.
Один из слуг бросился снимать с Трофима Агеича шинель; другой подлетел со щеткой и начал чистить его старенький, залоснившийся мундирчик, отчего побелевшие швы выступили явственнее; третий поспешил с докладом к барину.
Несмотря на все эти знаки почтения, Трофиму Агеичу было не по себе, его сердце тревожно билось, он часто и шумно вздыхал.
– Просят ваше благородие пожаловать!
Рукавицын боязливо зашагал по скользкому паркету.
Сенатор сидел у камина, в котором жарко горели дрова. Майор остановился у двери.
– Честь имею явиться по вашему приказанию, ваше высокопревосходительство! Комендант Ново-Ладожской крепости майор Рукавицын.
– Прошу садиться! – любезно пригласил Бутурлин. – Нет, поближе, поближе! – воскликнул он, когда Рукавицын примостился на кончике стула у самой двери.
Майор передвинулся на соседний стул. Александр Борисыч встал и, несмотря на робкие протесты гостя, усадил рядом с собой.
– Знаете ли вы, господин майор, зачем я вас пригласил?
– Не могу знать, ваше высокопревосходительство!
– К вам прошлой осенью нового арестанта привезли?
– Ваше высоко… – удивился майор. – Вам это известно?
– Мало ли что мне, сударь, известно. – И он добавил внушительно: – Помните, что у Тайной канцелярии от меня секретов нет!
Трофим Агеич затрепетал.
– Я слушаю, – настойчиво продолжал сенатор.
– Сентября двадцать седьмого прошлого года в тюрьму заключен по именному указу ее императорского величества государыни Елизаветы Петровны Дмитрий Иванов сын Ракитин, – сбиваясь на язык рапорта, доложил майор.
– Ну, эго для вас он Ракитин, – небрежно перебил Рукавицына сенатор. – По некоторым важным причинам от вас его подлинную фамилию и положение в свете скрыли. Но это – персона…
– А я, признаться, и сам так полагал, ваше высоко… – вымолвил майор и замолк, смущенный собственной смелостью.
– Да? Ну что же, хвалю за догадливость. И. следственно, эту персону надо беречь, не так ли, майор?
– Так точно, ваше высокопревосходительство: Уж я и то, ваше… Наливочки им из своего погреба, кота…
– За это хвалю. И вот еще что… – Бутурлин таинственно наклонился к уху коменданта. – Известно ли вам, что этот Ракитин весьма сведущ в науках?
– Еще как известно, – сознался Рукавицын. – У меня от ихних разговоров аж голова пухнет… Я-то сам, ваше высоко… из простых солдат, усердием и преданностью все превозмог…
– Вижу, – сказал Бутурлин, прикоснувшись пальцем к майорскому погону. – И, думается, шагнете много выше, ежели будете слушать мои советы.
– Ваше высоко… – со слезами радости вскричал майор. – Отец и благодетель, за вас в огонь и в воду!..
Разговор со знатнейшим вельможей начал нравиться Рукавицыну. Со свойственной ему хитростью он почувствовал, что зачем-то нужен Бутурлину, а значит, может получить от этого немалые выгоды.
– Мне стало ведомо, – продолжал сенатор, – что, сидя у вас в камере, узник, о коем мы говорим, сделал на досуге, – Бутурлин улыбнулся, а майор угодливо хихикнул, – весьма важную военную инвенцию…
– А как же вы узнали… – заикнулся было майор, но осекся, остановленный строгим взглядом Бутурлина.
– Как я узнал, дело мое, а вам скажу, что ракитинская инвенция может оказать нашей армии значительную преференцию[71] перед неприятелем, и, следственно, ваш долг всячески Ракитину в осуществлении оной инвенции содействовать.
– А как же регламент, уставы? – всполошился майор.
– Умные люди, – вельможа многозначительно подчеркнул эти слова, – умные люди всегда найдут выход из самого затруднительного положения. И ежели вам предприятие Ракитина покажется странным и даже в тюремных стенах небывалым, вы сим не смущайтесь. Уразумели?
– Так точно, ваше высок… дит… ство! – гаркнул комендант. Он-то считал себя умным человеком.
Бутурлин неожиданно вытащил из стола кошелек с золотом.
– А мундирчик-то у вас плоховат. Место ваше ненажиточное. Сшейте новый мундир и помните: кто мои приказания выполняет, тот от меня обижен не будет. Прощайте, господин полк… майор!
Рукавицын возвратился в крепость, когда уже стемнело. Шатаясь, как пьяный, он прошел через тюремный двор и ввалился в дом. Антонина Григорьевна смотрела своими выпуклыми, немигающими глазами, как муж вытащил полновесный кошелек и высыпал золото на стол.
– Вот, мать, видала поживу?! Каков майор Рукавицын? Сразу догадался, что этот Ракитин некая знатнеющая персона! Уж если сам Бутурлин так о нем печется и моего содействия ищет, то тут бо-ольшим производством пахнет! Ну и пусть узник делает свою инвенцию, какова бы она ни была, лишь бы крепость не вздумал взрывать, хе-хе-хе…
Покряхтев, майор скинул парадное одеяние и поплелся в столовую выпить и закусить.
Глава шестая Ответ из Петербурга
Милованов пришел в дом Марковых в воскресенье утром. Яким встретил его у ворот и провел в кабинет. Глаза ефрейтора были красны, лицо опухло. Егор Константиныч посмотрел на него:
– Хорош! Все пропил?
– Так точно, ваше высокородие! – радостно отрапортовал мушкатер. – Погуляли вволюшку! А то когда еще так удастся?
– Вот тебе на опохмелье! – Марков протянул солдату рубль.
– Покорнейше благодарим! – взревел Милованов.
Подавая ему письмо и пачку книг, плотно упакованных в бумагу, Марков тихо сказал:
– Ты того… Все, что надо, сделай. Ну, понимаешь?
– Так точно, ваше высокородие. Не беспокойтесь, все будет в аккурате. Для такого барина, господи!..
Ефрейтор спрятал письмо за обшлаг. Он собрался уходить, когда в дверь протиснулась Марья Семеновна с огромным узлом. Подтащив узел, старушка прошептала, задыхаясь:
– Митеньке…
Ефрейтор с изумлением посмотрел на тюк.
– Это что там у тебя? – спросил Егор Консгантиныч.
– Фуфаечка теплая. Два набрюшника гарусных. Полдюжины сорочек. Шарф теплый для зимы и еще один полегче. Чулок шерстяных дюжина. Перчаток три пары…
– Будет, будет! – перебил токарь. – С ума сошла, старая!
– Все своей работы, – с гордостью сказала старушка. – Да еще кой-чего настряпано: пряники сахарные, творожники, что Митя любит. Уж будь добр, голубчик, свези! – Марья Семеновна с мольбой уставилась в багровое лицо мушкатера.
Ефрейтор в недоумении почесал в затылке.
– Я бы всей душой рад, барыня, да ведь меня с этаким базаром в тюрьму не пропустят.
Старушка запечалилась и готова была запричитать над крушением своих надежд. Марков, тронутый горем жены, придумал:
– А ты вот что, друг Милованов! Уж ты для нас пострадай, сделай одолжение. Что можно, вздень на себя, а там как-нибудь передашь.
– Это можно, это мы с Алехой Горовым устроим, ваше высокородие. Алеха у камеры караул несет.
Старушка вышла, а солдат с помощью Егора Константиныча натянул фуфайку, обмотался шарфами, набрюшниками, на ноги надел две пары чулок. Но и после этого остался громоздкий сверток.
Фигура мушкатера потеряла статность, стала грузной, неуклюжей. Лицо Милованова покрылось крупными каплями пота.
– Тяжело? – участливо спросил Марков.
– Ничего… – прохрипел солдат. – Для таких господ… постараюсь, бог даст, вытерплю… Опять же на ветерке обдует…
Вошедшая Марья Семеновна разахалась:
– Как же это? Вон и чулки оставляешь И творожнички, Митины любимые… и ватрушечки! Для кого же я всю ночь стряпала? Возьми хоть себе на дорогу!
– Это дело! – одобрил Егор Константиныч.
Ефрейтор, забрав увесистый узелок с пирогами и кренделями, крикнул:
– Счастливо оставаться, ваши высокородия! – и хотел оставить кабинет.
Но Егор Константиныч сделал ему таинственный знак рукой, подошел вплотную и сунул мушкатеру в руку маленький тяжелый мешочек.
– Тоже для Мити. Передашь? – Старик испытующе посмотрел в глаза Милованову.
Ефрейтор густо побагровел.
– Ваше высокородие! Узника обидеть… Да это последний басурман постыдится…
– Ладно, верю. – Марков дал солдату еще один сверток с деньгами, намного полегче первого. – А это Алеше Горовому. Скажешь: дядя кланяется, обнимает, велит беречь себя…
Взглянув на растерянное лицо Милованова, старик повернул ефрейтора за плечи и легонько выпроводил из кабинета.
Дни, когда Дмитрий ожидал ответа от Егора Константиныча, казались ему месяцами. Узник оживлялся только ночами, во время свиданий с Горовым.
От Алексея Ракитин знал, что за комендантом была прислана карета, и он куда-то уезжал на несколько часов. Но куда? Имела ли эта поездка отношение к тому поручению, что дал он дяде? Неизвестность томила Дмитрия, одолевали мрачные мысли.
Наконец пришел долгожданный день. Дмитрий нетерпеливо вскрыл пакет. Там оказалось два письма, и одно из них написанное дорогим, знакомым почерком учителя! Значит, дядя ознакомил его с прожектом Ракитина. Ах, какой же молодец Егор Константиныч!..
Дмитрий взволнованно всматривался в ровные строчки ломоносовского письма. Михайла Васильич сердечно поздравлял его с великим открытием, говорил об огромной будущности воздухоплавания… И самое главное – велел не терять надежды!
«Время изменчиво, – писал учитель. – Сейчас ты в самом бедственном положении, а завтра все может измениться в твою пользу. Будь бодр, работай! Помни: только в работе смысл нашей жизни. От Егора Константиныча я узнал, что ему удалось склонить Б. содействовать твоему предприятию…
Я сделал для тебя все расчеты шара, можешь смело на них положиться…»
– А, вот они, расчеты. Все прекрасно: теперь я знаю, сколько надо материала. Размеры шара не так велики, как я опасался. Деньги дядя прислал. Осталось самое главное – уговорить Рукавицына.
Со смехом и слезами прочитал узник записку Марьи Семеновны со строгим наказом беречь себя, обязательно носить посланную ему теплую фуфайку и гарусные набрюшники, шерстяные чулки. Судьбу всех этих полезных вещей Ракитин угадал безошибочно. Но он не сердился на Милованова: тот выполнил самое главное – доставил ему деньги и письма, а письма имели для Дмитрия огромную важность.
Теперь, когда из письма Ломоносова Дмитрий убедился в осуществимости своей идеи, тем сильнее зрела в его уме решимость не откладывать разговора с майором. Ракитин давно уже догадался, что запуганный историей с Приклонским Трофим Агеич считает его, Ракитина, знатной персоной. Этим объяснялись и простодушные расспросы Рукавицына о прошлой жизни узника, и грубоватое подхалимство Семена.
Не в интересах узника было разоблачать заблуждение тюремщика. Дмитрий был правдив по природе. Но здесь дело шло о судьбе его великого изобретения, которое обещало выдвинуть Россию на первое место среди европейских держав. Дмитрий даже отказался бы от воли, будь он уверен, что другие осуществят его инвенцию и поставят ее на службу родине. А этой уверенности у него, как и у Михайлы Васильича, не было. Если его идеей завладеют стяжатели, стоящие у власти, они постараются держать ее в тайне, используют для своего обогащения.
Нет, он должен бежать из тюрьмы, и необыкновенный способ бегства покажет людям возможность воздушных сообщений.
Ракитин решил пустить в ход свой главный козырь – приказ сенатора Бутурлина о содействии ему, Ракитину, в выполнении его прожекта. В том, что комендант получил такой приказ, узник не сомневался. Бутурлин был по-своему честен и, получив крупную взятку, не мог обмануть старого приятеля. Да и зачем бы иначе он вызывал Рукавицына к себе в имение?..
И во всем помог Алешка Горовой! Как без него установил бы Дмитрий переписку с дядей, как рассказал бы о своем изобретении и заручился могущественной поддержкой Бутурлина?
Ракитин в последний раз продумывал план предстоящей «кампании».
– Невежество майора – раз! – считал он, загибая пальцы. – Его честолюбие, страх перед Бутурлиным. Это мои союзники. Суеверие майора, служебная дисциплина. Это враги. Ну ничего, Трофим Агеич, поборемся!..
Глава седьмая Кампания открыта
Трофим Агеич купил у рыбаков огромного сига и зашел с ним к Ракитину.
– Пирожище Антонина Григорьевна завернет! – похвалился майор. – В Амстердамске немцы такого и не видывали. И вам, сударь, пришлю.
Рукавицын был в прекрасном настроении. Дмитрию показалось, что момент для разговора удобен.
«Господи, благослови!» – мысленно перекрестился он и попросил Трофима Агеича присесть. Узник подвинул табуретку, и майор очутился в той позиции, которую давно обдумал Ракитин. Лицо Дмитрия было в тени, а одутловатая физиономия коменданта, с мутными глазами, с багровым носом, была освещена, и ни одно ее движение не могло укрыться от глаз Дмитрия, смотревшего на него в упор.
– Давно хочу я, Трофим Агеич, поговорить с вами об одном очень важном деле…
«Вот, вот оно, об инвенции будет говорить…» – с волнением подумал майор, и кожа его покрылась мелкими пупырышками.
– Я к вашим услугам, – сказал он вслух.
– Вам известно, что за границей я посещал лекции известнейших профессоров. По аналитической геометрии на плоскости и в пространстве слушал профессора Фохта, по дифференциальным и интегральным исчислениям – знаменитого Иоганна Бернулли, выдающегося математика, продолжателя дела сэра Исаака Ньютона и господина Лейбница…
Комендант смотрел на узника угасающим взором.
– К чему это, сударь, такие слова? Убей бог, не понимаю…
– Натурфилософию читал профессор Бергман, – неумолимо продолжал Дмитрий, – античную историю…
– Батюшка, увольте! – взмолился майор. – Верю, ей-богу, верю, что вы человек ученый, не нам, простакам, чета… Скажите, куда вы все это клоните?
– Сейчас узнаете, Трофим Агеич, о чем речь. Сидя в тюрьме, обсуждал я научные проблемы и пришел к замечательному замыслу, осуществление которого принесло бы нам с вами небывалую славу, почести…
«Она! Инвенция! Дошел-таки до инвенции, Бутурлин правду говорил…»
Рукавицын вскочил. Мутные глаза его загорелись алчностью.
– Славу! Почести! Не откажусь, сударь, нет, не откажусь! Чувствую, что достоин. Рассказывайте ваш замысел!
Дмитрий охладил пыл майора:
– Не могу изложить подробности. Скажу лишь, что он имеет неоценимую важность для армии. Это могучее средство к уничтожению врагов, какого и заграничные государства не имеют.
– Но чего же вы хотите от меня, сударь?
Обвислые щеки Трофима Агеича налились кровью. В волнении он начал набивать трубку, но табак сыпался мимо.
– Я прошу вашего содействия, помощи, господин майор, прошу, – твердо сказал Ракитин. – За это разделите со мной все выгоды…
– Изложите суть дела, сударь, – настаивал Рукавицын, все еще не справляясь с непослушными руками. – Без этого не смогу отправить донесение высшему начальству о вашем замысле.
Дмитрий содрогнулся. Опасные последствия такого донесения живо представились ему. Как видно, в душе майора страх перед Бутурлиным еще не перевесил страха перед прямым его начальством, и он, со свойственными ему подозрительностью и хитростью, хотел обеспечить себе тыл. Дмитрий ожесточился.
«Ну нет, Трофим Агеич, не выйдет это у вас. Мы тоже не лыком шиты». Вслух молвил:
– Вы собираетесь доносить высшему начальству? Нет, это должно остаться между нами. Я – узник. Если я прежде времени открою свою тайну, другие воспользуются ею, а мы с вами ничего не выиграем.
– Как же тогда быть? – нерешительно спросил комендант.
– Мы должны сделать опыт, пробу, – ответил Ракитин. – Если не удастся, об этом не узнают. Вы ничего не потеряете. Если опыт удастся, мы прославимся на всю империю, заслужим благоволение правительства!
«Генеральский чин получу!» – блеснула догадка в голове Рукавицына.
– Хорошо, я подумаю, – сухо сказал Рукавицын и ушел, позабыв захватить сига.
Майор зашел только через два дня.
– Никаких опытов без ведома начальства я, сударь, при всем желании разрешить не могу, – официальным тоном сказал он и вышел.
Дело пошло на выдержку: чья воля окажется сильнее, кто заставит уступить противника. Да, майор оказался значительно более серьезным противником, чем поначалу предполагал Ракитин, обманутый простоватыми повадками Трофима Агеича. Предстояла упорная, длительная борьба.
Глава восьмая Военные хитрости. Мины и контрмины
Рукавицын пришел через несколько дней, закурил трубку, потолковал о погоде, поговорил о тюремных новостях, а потом ударился в воспоминания.
«Хочет, чтобы я первый заговорил о моем прожекте, – догадался Ракитин. – Не дождетесь, Трофим Агеич!»
Узник принялся поддерживать разговор. Он смеялся в смешных местах, вздыхал в патетических, возмущался после каждой истории, обычно кончавшейся тем, что Трофима Агеича обходили наградами и слава за его подвиги выпадала другим.
Наконец майор замолк. Ракитин спокойно ждал.
– Вы, сударь, того… в прошлый раз… – Комендант смущенно покашлял. – Говорили о каком-то замысле…
– Говорил, – равнодушно отозвался Дмитрий, но покраснел и был рад, что майор не различает в сумраке его лица.
– Я много думал над вашими речами, растревожили они меня, не потаюсь. Ведь дело, сударь, небывалое! Опыт в тюрьме устраивать! С сотворения мира, полагаю, ни один узник не замышлял такого… – Майор в смущении сунул в рот потухшую трубку.
Ракитин хладнокровно возразил:
– Зато и ни один комендант с сотворения мира не имел такого случая отличиться, как вы, Трофим Агеич! Стоит только согласиться на мое предложение.
– Да ведь я не представляю себе, сударь, о чем речь! Какой замысел? Что за опыт? Может, мы все подорвемся на минах? Либо вы крепостную стену подкопаете?.. – И он с глубоким вздохом добавил: – Должен же я знать, за что рискую службой, а то и свободой?
– Не преувеличивайте! Риск ваш ничтожен. Вы только сделаете мне лишнее послабление, за которое известная вам знатная персона («Откуда он знает?» – со страхом подумал Рукавицын) наградит вас даже в случае моей неудачи. Но если я выдам мой секрет, найдутся люди – я говорю не о вас, Трофим Агеич, – которые присвоят заслугу себе. Я останусь узником, вы – комендантом. Согласитесь, что положение коменданта, хоть и непривлекательное, все же несравнимо с положением арестанта в этой камере.
– Я человек неученый, Дмитрий Иваныч, – сказал майор, – и вашей мыслью воспользоваться не сумею, если даже захочу. Но мне легче будет обдумывать дело, когда я хоть краешек узнаю…
Рукавицын говорил, казалось, чистосердечно и глядел Дмитрию в глаза, а в голове его бродила мысль:
«Там посмотрим… Он думает, я так уж прост. Ничего, и мы не лаптем щи хлебаем. Пусть только расскажет…»
В странном положении находились эти два собеседника. Каждый из них боялся другого, не доверял ему, опасался обмана. И все-таки положение Ракитина было несравненно сложнее: ведь он находился в полной власти своих тюремщиков.
Что там Бутурлин? Бутурлин далеко, а Рукавицын может в любой момент посадить узника в подвал, на хлеб и воду, стоит лишь ему освободиться от смешного страха перед мнимой знатностью Ракитина.
«Что ему сказать? – думал Дмитрий. – Нельзя еще открыть истину. Как бы не выдал… – Вдруг ему пришла в голову блестящая мысль: – Буду говорить о большом воздушном змее. Это – дело более привычное, новизны в нем нет…»
– Вы воздушные змеи видели? – спросил он Рукавицына.
– Смотрел, как бумагу да нитки мальчишки изводят. Пустая забава. Ребятишкам, конечно, интересно.
– Это не забава, Трофим Агеич, – возразил Дмитрий. – Я усовершенствовал змей, и он может поднять на воздух человека.
Майор в испуге подскочил.
– Поднять… на воздух… человека?.. Вы бредите, сударь!
Рукавицын испуганно поглядел на дверь.
– Не бойтесь, Трофим Агеич! Я в здравом рассудке и понимаю, что непривычное пугает людей.
– Поднять человека на воздух? – недоверчиво пробормотал майор. – Да как это мыслимо? Крылья, что ли, вы ему пришьете?
– Без крыльев обойдемся, Трофим Агеич! Мой снаряд подымет меня выше тюремных стен, выше колокольни…
Майор вместе с табуреткой поехал по полу от Ракитина. Дмитрий сидел не шевелясь: он понимал, что сейчас малейший неверный шаг спугнет Рукавицына и тогда его не увидишь долго. Так искусный рыболов выжидает из-за куста, когда схватит пеструю мушку осторожная форель, жительница быстрой, холодной струи.
– Я не колдун, – спокойно убеждал коменданта узник. – Бог создал человека побеждать стихии. Подумайте, Трофим Агеич, как смотрели древние люди на того, кто первым сделал лодку и поплыл по воде. Уверяю вас, что его считали колдуном…
– Ну, так то вода… – смутно возражал майор. – По воде плавать одно, а на воздух взлететь совсем другое. Ведь не Илья же вы пророк, в самом деле, чтобы живым на небо подняться?
– Зачем на небо? Хватит взлететь вровень с колокольней.
– Ну вот, видите – магия!
– Да змей-то поднимается? Хвост за собой тянет? Трещотку может поднять?
Майор зажал руками уши. Лишь только он представил узника парящим над колокольней, как поспешно выбежал из камеры, не попрощавшись с Ракитиным.
«Как же все-таки трудно убедить этого человека!» – с горечью подумал Дмитрий.
И снова, в который уж раз, усомнился, что ему удастся одержать верх в трудной борьбе с комендантом.
Рукавицын сделал совершенно неожиданный ход в игре: на следующий день он явился в камеру с отцом Иваном. Священник в правой руке держал узелок, а левая по привычке помахивала кадилом. Переступив порог, поп с любопытством уставился на узника.
Дмитрий встал, низко наклонил русую голову с длинными волосами, отросшими в тюрьме.
– Благословите, батюшка!
Отец Иван осенил крестом склоненную фигуру узника, привычным жестом ткнул руку. Узник почтительно облобызал ее.
«Вы этого не ожидали, Трофим Агеич? По вашим понятиям, нечистая сила боится креста?» Дмитрию хотелось рассмеяться при виде замешательства майора.
Поп служил молебен. Ракитин прислуживал за дьячка и хор с такой виртуозностью, что привел в восторг отца Ивана. Когда-то Дмитрий любил ходить в церковь и знал службы наизусть.
– О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих и пленных и о спасении их миром Господу помолимся! – возглашал священник.
– Господи помилуй! – подхватывал Дмитрий.
После службы Дмитрий причастился, и отец Иван благословил его. Майор не молился – он внимательно следил за Ракитиным.
– С принятием святых тайн поздравляю, сын мой, – обратился к Дмитрию поп Иван.
– Благодарю вас, батюшка, – отвечал узник. – Ваше посещение принесло мне такую радость! Мне тяжело здесь…
– А вот это уже и не годится, – наставительно сказал поп. – Наказания надо сносить в смирении и молчании.
– Я не знаю за собой грехов, за которые меня так жестоко нужно было карать.
– Самомнение, сын мой! Самомнение и гордость! Малое становится великим в глазах Господа… Враг рода человеческого внушает вам такие речи!.. – Тоненький носик попа покраснел, водянистые глаза замутились. Попав на любимую тему, отец Иван воодушевился, и голос его зазвучал страстно и восторженно: – Уже враг стоит у ворот… Близок, близок час, когда Господь призовет нас пред лице свое и потребует ответа на страшном судилище за все наши деяния и помыслы…
От майора Ракитин знал о мании попа Ивана и с любопытством вглядывался в его иссушенное, фанатическое лицо.
Но Трофим Агеич грубо дернул попа за рукав рясы:
– Кончай, отче! До вечера теперь проговоришь!
Прерванный на полуслове, поп собрал в узелок богослужебные принадлежности и покинул камеру. Майор ушел вслед за ним, не сказав узнику ни слова.
Ракитину подумалось, что на этот раз он одержал маленькую победу, доказал, что он – верующий христианин, такой же, как сам майор, как отец Иван.
Трофим Агеич робко вошел в камеру, опустив смущенные глаза.
– Дмитрий Иваныч, – начал он дрожащим голосом, – простите меня, дурака.
Ракитин вскинул на коменданта хмурые глаза.
– За что? – спросил он.
– Виноват, понимаю, что виноват, – бормотал Рукавицын тусклым голосом. – Не иначе, как черт попутал…
– Да в чем вы извиняетесь?
– Сударь, Дмитрий Иваныч! Ведь я, старый осел, нечистую силу из вас выгонял! – Ракитин невольно улыбнулся. – Что делать, ошибся, – тяжело вздохнул майор. – Где бы перстом, а я пестом…
– Я на вас не в обиде, Трофим Агеич, – мягко сказал узник. – Конечно, вам не удалось получить большого образования…
– В меня, сударь, образование палками вбивали, – заторопился Рукавицын, обрадованный тем, что узник сменил гнев на милость. – Что касается военных наук, я никому не уступлю. А гражданские не дались, не дались мне. Вы меня, сударь, так своими рассказами напугали, что, кажется, будь передо мной ваше изобретение, я бы его ногами растоптал. В Ладоге с камнем утопил бы…
– Обычная судьба крупных изобретений, – с горечью молвил Дмитрий. – Вы книги читаете?
– Как же, сударь! Иной раз приходится. Смолоду песенник читал, теперь нет-нет в уставы заглядываю.
– Скажите, человек, печатающий книги, колдун или нет?
– Я уж не до такой степени глуп, сударь!
– А знаете ли вы, что первого русского печатника Ивана Федорова чуть на костре не сожгли за волшебство: только тем и спасся, что в Литву убежал. Печатню разгромили дотла. Обвиняли же его в том, что он напечатал «Апостол» при помощи нечистой силы.
Майор остолбенел.
– «Апостол»? Священную книгу! Нечистой силой! Ну, сударь, и глупы же они были, курицыны дети!
– Лет через пятьдесят, – ядовито начал узник, – люди скажут: «Сидел в тюрьме человек… Дмитрий Ракитин… и сделал снаряд, чтобы подняться в воздух. И нашелся такой курицын сын, майор Рукавицын, снаряд изломал и в воду бросил, а самого инвентора за колдуна посчитал и попа привел от нечистой силы его отчитывать…»
Майор густо покраснел.
«Ага, проняло! – подумал Дмитрий. – У вас и самолюбие есть, Трофим Агеич».
– Да ведь не поломал же я вашего снаряда, – плачевным голосом сказал майор.
– Только потому, что его еще нет, – безжалостно возразил Дмитрий. – Сами же сознались.
– Ну, сударь, где уж мне с вами спорить.
Майору стало стыдно; он тихо поднялся и вышел из камеры. В душе его копошились непривычные мысли. Но он не сумел выразить их в словах, а дурное настроение духа излил на ни в чем не повинного Сенатора, возвращавшегося с прогулки. Встретив кота в галерее, он сердито ткнул его сапогом и закричал:
– Шляется тут! Нет, чтобы в камере сидеть, крыс ловить!
Глава девятая Победа
Три дня не являлся Рукавицын в камеру № 9. Дмитрий не знал, что и думать. Можно было предположить самое страшное: майор отогнал от себя мысль помочь Ракитину выполнить его прожект и, чтобы не поддаваться соблазну новых уговоров, не хочет видеть изобретателя.
Но это было не так.
В душе Рукавицына происходила серьезная борьба. Разговоры с узником о его инвенции не прошли для майора даром. Старый служака, истоптавший немало военных дорог, начал осознавать, что предлагаемый Ракитиным новый способ воздушных сообщений чрезвычайно привлекателен.
Майор совершенно не представлял себе сущность этого нового способа, зато прекрасно знал все неудобства езды по тряским дорогам в фельдъегерской тройке, а то и верхом на лошади с риском получить пулю от неприятельского авангарда.
«Ведь если лететь высоко над землей наподобие птицы – как это будет быстро и безопасно! – шептал Рукавицын пересохшими губами. – И какое преимущество получит армия, располагающая такими воздушными курьерами…»
Иногда ему приходило в голову, что Ракитин его обманывает, преследуя какие-то свои тайные цели. Но стоило себе представить умное лицо Дмитрия, его хмурые правдивые глаза, как эти страхи мгновенно рассеивались. За месяцы сидения в тюрьме узник успел внушить коменданту непреодолимое доверие.
«Согласиться? Не согласиться? Взяться за это предприятие или махнуть на него рукой?..»
Решения быстро сменялись в мозгу Рукавицына, и доходило даже до того, что он, зажмурив глаза, начинал гадать на пальцах. Но, как назло, указательные пальцы один раз сходились, а другой раз проскакивали один мимо другого.
– Тьфу, будьте вы прокляты! – гневно кричал майор. – Да что же это за наваждение!
А лукавая мысль подсказывала, какие громадные почести, какую славу заслужит он, Трофим Агеич, если поможет Ракитину осуществить его необычайную инвенцию.
«За такое дело, пожалуй, и генеральского чина мало, – мечтал Рукавицын. – А что деньжищ за это отвалят…»
И наконец он решился.
К вечеру, третьего дня в вычищенном мундире, в тщательно заплетенном парике, со всеми регалиями[72] на груди и со шпагой у пояса майор отправился к Ракитину.
Когда Трофим Агеич входил к нему в камеру, у него было такое чувство, будто он бросается в холодную воду.
«Господи благослови!» – прошептал он и шагнул с порога.
Дмитрий был чрезвычайно поражен торжественным видом майора, и в нем шевельнулось смутное предчувствие чего-то хорошего.
Майор сел, поправил шпагу и заговорил взволнованно:
– Вот, сударь Дмитрий Иваныч, все эти дни я обсуждал ваше предложение и наконец надумал согласиться.
Сердце Дмитрия буйно заколотилось в груди, он не верил своим ушам. Но у него хватило присутствия духа не проронить ни слова. Он выжидал.
– Да, сударь, я решился. Поверил вам до конца и решился. Вы, может, думаете про меня: «Солдафон, чинуша, мелкий службист», а ведь и мне слава России дорога…
Ракитин крепко пожал коменданту руку.
– Нет, Трофим Агеич, напрасно вы себя оговариваете. Я всегда был уверен, что вы, как знаток военного дела, в конце концов придете к правильному решению.
И Ракитин начал рисовать майору почести и богатства, которые ждут его после благополучного окончания опыта. Рукавицын слушал, и одутловатые щеки его покраснели, мутные глаза заблестели, он нервно потирал руки и привычным жестом искал у пояса трубку, а трубки-то и не было…
– Только не подумайте, сударь, что я вступаю с вами в сообщество… в союз, – поправился майор, – из-за страха перед сенатором Бутурлиным…
Дмитрий собрался протестовать.
– Нет, нет, не возражайте, хватит играть в прятки. Я знаю, что его высокопревосходительство Александр Борисович вам покровительствует, и, вероятно, меня уволили бы с должности, если бы я заупрямился. Но пенсию-то мне дали бы! Следующий чин при отставке присвоили бы! А что еще надо старику?
Трофим Агеич непривычно воодушевился, глаза его блестели, он весь как-то подтянулся. Много грехов было на совести Рукавицына, но это был единственный, неповторимый момент в его жизни, когда он сумел подняться над своей мелочной, завистливой натурой.
Дмитрий понимал, что много трудностей предстоит во взаимоотношениях с майором, что будут еще у Рукавицына колебания, но сегодняшний шаг обязывал его ко многому. И Ракитин постарался закрепить его благой порыв.
Сообщники условились окончательно договориться о деталях на следующий день.
…Дмитрий в страшном волнении ждал майора. «Вдруг снова струсит, не придет?» Но Рукавицын явился.
– Я все думал, – нерешительно начал Трофим Агеич, – может, мы с вами, сударь, Сэмэна на воздух подымем…
– Что?! – переспросил узник, не веря ушам.
– Я говорю, Сэмэна бы поднять, Кулибабу…
Ракитин вскочил, выпрямился во весь рост.
– Боюсь я, сударь, вдруг с вами что случится.
– Риск в этом деле есть, не хочу скрывать. Поднять на моем снаряде человека невежественного – это послать его на верную смерть. Но своей жизнью рисковать я имею право. Малейшая неточность в расчетах – и я разобьюсь, упав с многосаженной высоты.
– Но если вы разобьетесь, мне придется отвечать.
– А, какой за узника ответ! Донесете: «Арестант такой-то волей божьей помре…» Не так уж редко это у вас случается.
– Ну что же, бог с вами, поднимайтесь сами, если хотите.
«Что он еще придумает?» – с тревогой думал Ракитин.
При трусливом, нерешительном характере майора от него можно было ожидать всего.
– Последний вопрос, Трофим Агеич! – обратился узник к Рукавицыну. – Для проведения опыта нужны деньги.
– Денег у меня нет, – отрезал майор. – Копейки в доме не найдете. Жалованьишко сами знаете какое, вот нового мундира до сих пор справить не могу.
На многое мог решиться майор Рукавицын: на ложную клятву, на нарушение служебного долга и обман начальства, на любой подлог, но расстаться с деньгами, накопленными за счет плохого содержания заключенных, было свыше его сил.
Дмитрий благословил в душе дядю, приславшего денег.
– Ваши деньги мне не нужны. Вот триста рублей. – И он протянул Рукавицыну увесистый мешочек.
Комендант буквально оцепенел. В первый раз он понял, что в непроницаемой стене, отделяющей узников Новой Ладоги от внешнего мира, есть какая-то брешь.
– Все будет куплено, сударь, – забормотал он. – Давайте составлять реестр. Бумага у вас есть, пишите.
– Первым делом полотно. Его потребуется много…
– Аршин тридцать? – снисходительно спросил майор. – Купим!
– Нет, Трофим Агеич, не тридцать и даже не сотню. Мне нужно тысячу аршин.
– Что? – подскочил Рукавицын. – Тысячу? Да это роту солдат одеть можно. Может, меньше пойдет, ну, хоть пятьсот?
– Не торгуйтесь, Трофим Агеич, поскупимся – провалим опыт.
– Что ж, пишите, – со вздохом согласился Рукавицын.
– Еще веревок тонких аршин двести, толстых – пятьдесят. Лаку фунтов тридцать… Ниток крепких… И ради бога, не скупитесь на мелочах, полотна берите самого лучшего, тонкого.
– Ярославского возьмем.
– И вот еще что, Трофим Агеич, скажите вашему посланцу, что я досконально знаю цену полотна и прочих товаров, так что пусть он не вздумает наводить экономию на этой покупке.
Майор густо покраснел: он как раз собирался навести такую экономию и присвоить из суммы, переданной узником, 30–40 рублей.
На следующий день Кулибаба поехал в столицу за материалами. Это было в конце июня.
Глава десятая Труды и заботы
В тюремном цейхгаузе, приспособленном под мастерскую, кипела работа. На полу сидели бабы: старая Кузьминишна, жена младшего тюремщика Филимоши, и комендантская кухарка Матрена. Они сшивали длинные клинья полотна. Ракитин на большом столе занимался кройкой.
За право работать в цейхгаузе Дмитрию пришлось выдержать нелегкую борьбу с майором.
– Вы меня под виселицу подводите, сударь! – кричал комендант. – Помещение дать! Швейных мастериц выписать! Весь город вам в помощь согнать!..
Договорились на том, что работать будут свои, тюремные, бабы, надзирать за ними будет сам инвентор. Бабам за разглашение тайны Рукавицын пригрозил казематом. На случай приезда начальства был установлен караул: белобрысый Гараська, Матренин сын, целый день торчал за воротами. В случае появления у ворот экипажа Гараська тотчас должен был предупредить Кулибабу.
Дни и ночи майор проводил в страхе. Он терял голову при мысли, что кто-нибудь подсмотрит, что делается в цейхгаузе. По ночам он не спал, чутко прислушивался, и ему вдруг представлялось, что у ворот шумят: приехала комиссия.
Днем было немногим лучше: надо было следить за узником, за бабами-швеями, за часовыми у цейхгауза, за беспечным Гараськой. Трофим Агеич потерял аппетит, как после памятной истории с Приклонским. Он едва притрагивался к любимым кушаньям, не смотрел на настойки.
О замысле коменданта и узника по крепости ходили удивительные слухи. Самая секретность, которой Рукавицын обставил предприятие, возбуждала необычайный интерес. Когда рано утром и поздно вечером два конвоира проводили Ракитина по крепостному двору, немало любопытных глаз провожало узника.
Тюремный персонал был невелик: тюремщики, два-три пекаря, кузнец и столяр да при церкви поп, дьячок Сергей, пономарь и церковный сторож. Каждый даже мелкий случай в этом микроскопическом мирке вызывал бесконечные толки и сплетни. Когда бабы выходили из цейхгауза, им не давали проходу. Швеи молчали о работе, но отводили душу в рассказах о красоте узника, об его умильном обращении.
Антонина Григорьевна недолго находилась в неведении о смелом замысле Ракитина. Майор рассказал ей, что узник придумал удивительный снаряд для летания по воздуху. И когда этот снаряд будет построен, ему, коменданту, за содействие инвентору выйдут в награду большие почести и деньги.
Майорша не умела хранить секреты. Во время первого же чаепития с попадьей, когда та ядовито намекнула, что Трофим Агеич очень уж засиделся в теперешнем своем чине, Антонина Григорьевна выложила начистоту все его планы и надежды. Попадья не поверила.
– Выше колокольни, говоришь, поднимется? Ох, смотри, сударыня, не доигрался бы твой Трофим Агеич… На большой чин метит?
– Да уж будьте спокойны, – вспыхнула майорша. – В крепости не останемся. Довольно Троше здесь прозябать…
– Ах, сударыня! Не оставьте вашими милостями, когда будете превозвышены! – издеваясь, пропела матушка Стефанида и встала из-за стола, шумно отодвинув чашку.
Попадья чувствовала острую зависть к пронырливому майору. Зависть перешла в досаду на попа.
«Дурак! Только и знает Библию читать, нет, чтобы о семействе позаботиться… Майор знатную протекцию получит, а мой увалень все прозевает. Нет уж, заставлю! Коли те подыматься будут, пусть и поп полетит!»
На тюремном дворе Рукавицына встретил поп Иван. Он подошел к коменданту с нахмуренным лицом.
«Этому еще чего нужно?» – сердито подумал майор.
– Великое и страшное у меня к тебе дело, Трофим Агеич, – торжественно начал поп.
– Какое еще там дело? – строптиво спросил Рукавицын.
– Смирись духом, майор! – сурово молвил отец Иван. – Помни, я твой отец духовный. Хотя и велики грехи мои перед Господом, но дана мне власть вязать и разрешать…[73] И должны быть открыты передо мной все твои тайные помыслы и дела…
«Еще чего захотел!» – подумал майор.
– А что я совершил?
– Что вы замыслили с узником из девятой камеры? – ответил поп вопросом на вопрос.
Трофим Агеич покраснел.
– Ответствуй! – приказал поп.
– Я тебе отчетом не обязан! – обозлился майор. – Вольно тебе слушать бабьи сплетни.
– А Ракитин работает в цейхгаузе – это сплетня? – ядовито спросил поп. – Что он там, мешки под муку шьет?
– Послушай, отец Иван, поди прочь! Я тебе все равно отвечать не намерен.
– Скажи ты мне, Трофим Агеич, – неожиданно переменил разговор поп, – что, Ракитин не из ефиопских[74] ли стран в Российскую империю приехал?
– Не знаю, – отвечал Рукавицын, удивленный вопросом. – Рассказывал он много про неметчину, про Францию, про Недырланды… А про такую, что ты говоришь, ни разу не слыхал. Да мне-то до всего этого какое дело! – раздраженно закончил майор.
– А вот какое, – тоном проповеди заговорил поп. – «И вы, ефиопляне, будете избиты мечом моим», говорит Господь. Близок час пришествия антихристова, пред ним же появятся лжепророки и будут совершать мнимые чудеса. Не потворствовать надо Ракитину, а обличать сего предтечу антихристова в его дерзких замыслах.
– Да какой же он предтеча антихристов? – спросил пораженный майор. – Он такой же православный, как мы с тобой. Не ты ли сам после молебна говорил…
– Благочестие его мнимое, от диавола ниспосланное. Ей, Трофиме! – Поп осенил майора крестом, снятым с груди. – Опомнись! Я все знаю! Подняться на небо не дано сущим на земли! (Майор вздрогнул и отвернулся.) Богопротивное и неслыханное дело замыслили вы… Или ты хочешь, чтобы земля разверзлась под тобой? (Рукавицын со страхом посмотрел под ноги.) Молю тебя: закуй ефиопа Ракитина в железы, чтобы он не видел лица человеческого и не соблазнял людей ложными чудесами! Брось бесовскую затею, Трофиме, тебе говорю, брось!
Майор опомнился от смущения и с невозмутимым видом принялся раскуривать трубку.
– Ну, ты, отче, неподобное говоришь, – возразил он. – Начатое дело оставить никак невозможно. А ты в нем ничего не понимаешь, и разговаривать с тобой больше не о чем.
Рукавицын пошел домой. Отец Иван мрачно посмотрел ему вслед.
– Ну, погоди же, антихристов прислужник, попомнишь меня!
Глава одиннадцатая Донос
Отец Иван сидел за столом с гусиным пером в руке. Рядом лежала старинная Библия в кожаном переплете.
– Господи, благослови начатие дела!
Поп перекрестился и вывел заголовок:
«В Санкт-Питербурхскую Тайную ЕЯ ПРЕСВЕТЛЕЙШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярию
Смиренного иерея Иоанна
Крестовоздвиженского
Доношение
Имеющий уши слышати да слышит!»
Поп писал по-старинному, церковнославянскими литерами, с титлами и сокращениями.
«Аз, недостойный иерей Ново-Ладожской тюремной церкви, вышнему начальству о богохульных и отвратительных деяниях коменданта тюрьмы Трофима Агеева сына Рукавицына доложить осмеливаюсь.
Близок, близок час гнева Господня, и уже секира при корне древа лежит! Ибо сказано есть…»
Поп, слюнявя пальцы, долго листал Библию, пока не нашел нужное место.
«Придет Господь в огне, чтобы излить гнев свой с яростию» («Книга Исаии пророка», глава 66, стих 15).
«Сей же недостойный майор Рукавицын, нечестиво предавшись злокозненным обольщениям, вступил в сообщество с узником, Ракитиным себя именующим…»
Поп торжествующе помахал пером.
– Нет, древний зверь, исшедший из уст драконовых, ты меня не обманешь! Я тебя разгадал и уничтожу твои богомерзкие замыслы!
Отец Иван продолжал писать.
«Ефиоп Ракитин, сей предтеча антихристов, вознамерился совершить ложное чудо и подняться выше колокольни, дабы прельстить православных под власть своего господина – диавола. Но его богопротивные козни мною, смиренным служителем Господа, будут разрушены с помощью божией и Тайной ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА канцелярии, коя, надеюсь, не замедлит произвести расследование по сему делу.
К сему руку приложил
смиренный и верноподданный иерей Иоанн Крестовоздвиженский.Иулия 13 дня в лето Господне от сотворения мира 7265-ое[75]».
Поп с удовольствием перечитал написанное.
Потом он вложил донос в конверт, припечатал сургучной печатью и спрятал в шкапчик. Выглянув за дверь, он послал одну из дочерей за дьячком. Вскоре явился дьячок Сергей, седенький старичок в поношенном полукафтанье, с жиденькой косичкой.
– Поедешь в Питер за церковным вином, – сказал поп. – Сейчас напишу коменданту, чтобы выдал тебе пропуск. Но главное… Закрой дверь, подойди сюда. Читай адрес!
– Батюшка, увольте! Отродясь не бывал в таком месте…
– Молчи! Отвезешь и передашь. Да если что перепутаешь или кому слово скажешь – от церкви отлучу. Анафеме предам! Иди. Ныне отпущаеши раба твоего, владыко… – затянул поп.
Дьячок Сергей доставил донос по назначению. Он попал в руки к чиновнику Родионову, одиноко дежурившему в канцелярии. Прочитав адрес, регистратор посмотрел конверт на свет – через плотную бумагу не видно было ни одной буквы.
– Надо поглядеть, о каких делах нам пишут, – сказал он, достал из стола бритву, с большим искусством срезал с пакета сургучную печать, вытащил донос и углубился в чтение.
– Бред какой-то! – со смехом вскричал он. – «Придет Господь в огне… Ефиоп Ракитин… Предтеча антихристов… Колокольня!» Кому-то пришло же такое в голову!
Иван Фомич Родионов старался извлечь выгоду из всего, что попадало в руки. Доходы его далеко превышали скудное жалованье, но он пропивал их в кабаке обрусевшей француженки Лупинши и потому всегда нуждался.
– Донос – сплошной сумбур, но нашему Потапу все на лапу! Кого бы тут запутать? Коменданта? Далеко, не сорвешь… Отставить коменданта. Попа якобы за запоздалое донесение? И поп далеко… Отставить попа! Теперь Ракитин… Ну, уж тут… С голого, как со святого… Никудышное дело! Неужто так-таки и передать секретарю? – Родионов покачал головой. – Врешь, Иван! Думай, пропойца, думай! Эге-ге! – вдруг радостно заорал он. – Экий я осел! А Ксенофошку-то, писаря из Сыскного, забыл! Ведь это он осенью все про Ракитина допытывался. И помню, про своего крестного отца говорил, коллежского советника Маркова. А этот Марков хоть и не из больших тузов, а все же человек денежный… – Иван Фомич значительно поднял клочковатые брови. – Так вот, мы этого Маркова и поощиплем немножечко, ха-ха-ха! И для начала мы сей документик предложим Ксенофошке на обозрение. И перепадет тебе, Иван, от этого дела и на выпивку и на закуску! – Родионов завернул срезанную печать в бумажку и спрятал, а донос положил в карман. – Дежурство кончу и трахну к Лупинше. А уж Первушин там наверняка будет.
Глава двенадцатая Навстречу опасности
Марковы ужинали, когда явился Ксенофонт Первушин. Узенькие, припухшие глаза писаря беспокойно бегали. Почуяв неладное, Егор Константиныч поспешил в кабинет. Ксенофонт и Марья Семеновна последовали за ним.
– Худо дело, отец крестный! – без обиняков начал Первушин. – Выпивал я с приятелем из Тайной. Донос на Дмитрия Иваныча получен…
– На арестанта, на затворника донос? – вскричал Марков.
– Чего-то в тюрьме затевает. Комендант, слышно, ему во всем потворствует.
«Летучий шар!» – догадался Марков.
– Кто же доносит, Сенофошенька?
– Тюремный поп. Награду заработать хочет.
– Что делать, голубчик, посоветуй!
– Да что ж? Предупредить Дмитрия Иваныча, и все! Пусть концы в воду прячут. Конечно, трудно это, в тюрьму придется пробраться. Но другого выхода не вижу.
– Сенофоша, голубчик, возьми на себя! Награжу – не пожалею.
– Не могу, отец крестный, – с сожалением молвил Ксенофонт. – У нас работа строгая, ни на один день не отпустят.
Старик задумался. Вот бы когда пригодился неизменный друг Трифон Никитич. Уж он бы обязательно что-нибудь придумал. Но Бахурова не было на свете – он скончался от сердечного припадка.
– Эх, поеду сам! – Марков отчаянно махнул рукой. – Двум смертям не бывать… Раздобудешь пропуск, Сенофоша?
– За деньги в рай попасть можно. Идемте, отец крестный!
Марья Семеновна ни жива ни мертва услышала дерзкое решение мужа, но не осмелилась и слова сказать против.
– Придется израсходоваться, – сказал Ксенофонт.
– За деньгами не постою, – засуетился старик. – Иди, подожди меня в столовой. Я мигом!
Писарь вышел, Марков слазил в потайное место за деньгами.
– Дай, жена, платок! – Марков обвязал щеки, как при зубной боли, накинул старенькую шинель и спустился к Первушину.
…Сводчатый потолок трактира мадам Лупинши низко навис над головой. За беспорядочно расставленными столами сидели пьяные компании. В дальнем углу устроились приказные. С опухшими физиономиями, с подбитыми скулами, они кричали и шумели больше всех посетителей трактира. Ксенофонт заворчал:
– Вот, черти, уже успели надрызгаться!
Из угла донесся возглас:
– Давайте, братцы, нашу «Приказную»!
– Теперь ждите, – сказал Первушин. – Пока не споют, Родионов и разговаривать с вами не станет.
Приземистый приказный, с лицом, изрытым шрамами («Первый драчун и забияка», – пояснил Ксенофонт), встал и махнул рукой. В кабаке водворилась тишина. Приказный начал высоким, чистым тенором:
Дела наши паскудные. Доходы наши скудные, Мы пьем от огорчения До умопомрачения…Удивительно было слышать красивый печальный напев из уст обтрепанного и невзрачного человека. Но вот он кончил и по-регентски взмахнул руками. Хор подхватил:
Эй, наливай, Пей, выпивай! Все трын-трава, Пропадай, голова!Бесшабашная удаль, дикое раздолье звучали в припеве, захватившем слушателей. Ксенофонт петушиным голоском подтягивал хору.
– Наша любимая, – извиняющимся голосом сказал он.
– Стройно поют, – изумился Егор Константиныч.
– Спелись. Да ведь наших много из духовного звания. Который запевает, его из дьячков выгнали за пьянство.
Кончилась последняя нота припева, и запевала завел:
Живем мы выпиваючи И сдохнем припеваючи! К нам смерть придет шинкарочкой С наполненною чарочкой!И снова грянул припев:
Эй, наливай…– Ну и песня… – прошептал Марков.
– Теперь можно, – сказал Ксенофонт и отозвал в сторону Родионова. – Клюнуло, Фомич, – прошептал он в ухо регистратору. – Старик на все готов. Смотри, насчет моей доли по уговору.
– Не в первый раз, – ответил Иван Фомич.
Сообщники зашептались. Егор Константиныч у стены тоскливо ждал результатов совещания. Заставив Маркова достаточно поволноваться, Ксенофонт подошел к нему:
– Уломал!
– Устроим в аккурате, – подтвердил Родионов. – Дело стоит сотнягу.
– Нельзя ли подешевле? – заикнулся Марков.
– У нас не в церкви, – сурово отрезал приказный. – Опять же возьмите то во внимание: это на всех. Один секретарь полсотни отхватит. Деньги принесли?
– Как то есть, сударь? А если…
– Думаете, обманем? У нас так не водится: взяли – значит, сделаем. А обмани раз-другой – всех давальцев отвадим.
Старик отсчитал деньги.
– На чье имя пропуск писать?
– На мое! – удивленно ответил Егор Константиныч.
– Я вас не знаю! – многозначительно сказал чиновник.
– Мар… Морозов… Егор… Егор Иваныч… – пробормотал растерявшийся токарь.
«Умен старик», – одобрительно подумал Родионов.
– Мы вам, сударь, напишем пропуск от канцелярии строений. Якобы имеете осмотреть здания на предмет ремонта и так далее… Но должен вас предупредить: таковой канцелярии в действительности не существует.
– Однако как же… – растерялся Марков.
– Э, чепуха! У всех этих мелких чинуш столько грешков за душой, что комендант будет только стараться их скрыть, и где уж ему проверять ваши полномочия.
– Вам виднее, – согласился Егор Константиныч.
– Вы только, сударь, держитесь там повнушительнее, нагоните страху побольше. Я вас поименую действительным статским, в генеральском чине, стало быть, будете ревизовать…
Марков собрался уходить, как его остановила неожиданная мысль:
– А как же с доносом?
– С каким доносом? – невинно спросил приказный.
– Что сегодня получили?
– Донос, батюшка, пойдет своим чередом, – хладнокровно объяснил Родионов. – Завтра секретарю представлю, как положено.
– Но как же так? – раскипятился старик. – Тогда мне и пропуск ни к чему. Вы, может быть, и следователей завтра же пошлете?
– А очень может быть. Мы такие дела скоро разбираем, они для нас самые приятные…
Марков бессильно опустил голову. Глаза Ивана Фомича блеснули злорадным торжеством. Он подмигнул Ксенофонту и хлопнул себя по карману. Даже бывалый Первушин изумился искусству приятеля выжимать из «клиентов» все, что возможно.
– Как я понимаю, господин Морозов, вам хочется задержать расследование по делу?
– Так, точно так, сударь!
– С этого бы и начинали. Можно и это сделать.
– Можно? Спасибо вам.
– Мы за «спасибо» не работаем, – ухмыльнулся чиновник.
– Опять платить? – удивился старик.
– А как же? Ведь это дело совсем особь статья. Да мы за это много не возьмем.
– А сумеете задержать?
– Ну, батюшка, нас этим делам не учить. Донос писан тринадцатого числа. К единичке хвостик приспособим, в двоечку превратим. И вручим мы его не шестнадцатого, а двадцать шестого, вот вам и десять дней отсрочки!
Оба писаря захохотали. Регистратор свернул ладонь горсточкой и дружески подталкивал старика в бок. Егор Константиныч со вздохом выложил еще пять золотых.
…Дельцы из Тайной не обманули: в назначенный срок пропуск на имя канцелярии строений советника Морозова был доставлен. Старик, запершись в кабинете, долго рассматривал бумагу.
«На какие дела приходится пускаться в старости. Ах, Митя, Митя…»
Утром к крыльцу подкатила щегольская пароконная коляска, взятая напрокат из ближайшего извозчичьего двора. Вожжи держал толстый кучер Ермил, а рядом сидел улыбающийся Яким. Оба были в богатых ливреях, купленных для этой поездки. Взглянув на коляску, на дорогих лошадей, на сытых, довольных слуг, всякий сказал бы: «О, какой важный барин едет…»
Но смутно, тревожно было на душе у этого «барина». Егор Константиныч долго втолковывал жене, что если он не вернется из Новой Ладоги, то она должна идти к Бутурлину и умолять его спасти старого товарища. Михайлу Васильича Марков решил в дело больше не впутывать.
Коляска тронулась. Марья Семеновна стояла на крыльце и мелкими частыми крестами крестила отъезжающих.
– Митенька, Митя, бедный мой сыночек… – с плачем повторяла она. – Мне бы, глупой, старой старухе, в той постылой крепости побывать… – В уме складывалось причитание: – Я бы рыбкой поплыла по Неве-реке, приплыла бы я под стены тюремные… День и ночь я ждала бы и слушала, не услышу ли я милого голоса… Я бы пташкой обернулась залетною и летала бы над тюремными кельями… День и ночь я глядела б в окошечки, не увижу ли я милого личика… Я бы мышкой обернулась проворною, проскользнула бы я в малую щелочку…
Давно улеглась пыль, поднятая коляской, а Марья Семеновна все стояла на крылечке и смотрела вслед.
Глава тринадцатая Переполох в крепости
Рабочий день Ракитина начинался на рассвете. Двое часовых отводили узника из камеры в цейхгауз. Весь день часовые поочередно стояли у дверей, наблюдая, чтобы никто из посторонних не сообщался с арестантом. Часовыми были Горовой и Милованов. Попасть на этот ответственный пост друзьям удалось за щедрый подарок караульному начальнику из тех денег, что прислал Алексею дядя Егор. Поздним вечером часовые конвоировали узника обратно, и во время неторопливых переходов через обширный тюремный двор Дмитрий узнавал от мушкатеров все крепостные новости.
В десять часов утра на другой день после выезда из столицы Ермил домчал Маркова до Новой Ладоги. Коляска остановилась у крепостных ворот.
– Ну, Якимушка, дружок, пойдем, – шепнул старик. – Записку Мите сумеешь передать?
– Все, барин, наготове, не беспокойтесь!
Сопровождаемый Якимом, Марков вошел в крепость; часовой у ворот вытянулся и взял ружье на караул. Волнуясь, Егор Константиныч предъявил пропуск выбежавшему из будки караульному начальнику. Тот подержал бумагу в руке и удовлетворился видом печати с орлом.
– Пожалуйте, ваше высокоблагородие!
«Вернусь ли?» – подумал старый токарь, вступая на тюремный двор.
Появление Маркова застало Кулибабу врасплох. Утомленный многодневным дежурством, белобрысый Гараська давно потерял бдительность. Заигравшись с мальчишками в козны,[76] Гараська заметил двух незнакомцев, когда они уже вошли в ворота. «Караульщик» стремглав понесся по двору. Не переводя духу, Гараська добежал до цейхгауза и встретил у дверей Семена.
– Дедынька, пришли! Ой-ой-ой, пришли! – заголосил мальчик и втянул голову в плечи, ожидая заслуженного возмездия.
– Чего там брешешь! – сердито закричал Кулибаба. – Поди прочь да калавурь как следовает, а не то я тоби всыплю…
Но он вдруг смолк и уставился в сторону ворот. Оттуда показался кто-то высокий, важный, с медалями и орденами, а за ним шел слуга в богатой ливрее. А за воротами… За воротами виднелась роскошная коляска, запряженная парой лошадей, и на козлах важный ливрейный кучер.
Семен задохнулся и не сразу мог заговорить. Потом ткнул мальчугана:
– Голову сниму! Бежи предупреди его благородие! А я…
Семен ринулся ко входу. Егор Константиныч увидел, как к нему на рысях бежит высокий сутуловатый старик в порыжевшем мундире, без фуражки, в стоптанных опорках. С зоркостью, порождаемой страхом, Марков заметил, что руки тюремщика трясет крупная дрожь. Вид этих трясущихся рук сразу успокоил Егора Константиныча.
Тюремщик остановился и, вытянув руки по швам, гаркнул:
– Здравия желаю, ваше превосходительство!
– Здравствуй, братец, – ласково, но важно ответил Марков. – Ты кто будешь?
– Старший тюремщик, ваше превосходительство, – еще сильнее вытягиваясь и пуча глаза от усердия, ответил Кулибаба.
– А можно мне вашего коменданта увидеть?
– Так точно, ваше превосходительство! Я сей минут побежу, уведомлю их благородие. Как о вас прикажете доложить?
– Действительный статский советник М… Морозов.
– Слушаю, ваше превосходительство! – Семен кинулся стремглав.
Несмотря на тревогу, Марков не мог не улыбнуться усердию тюремщика. «Однако чересчур уж он старается. Ну, да и то сказать, рыльце у них в пушку. Только бы мне не провраться… Морозов, Морозов, Егор Иваныч…»
Антонина Григорьевна вбежала в столовую, где Рукавицын допивал чай, и дико взвизгнула:
– Троша! Ревизия!
От неожиданности майор поперхнулся, и чай фонтаном брызнул у него изо рта. Удушливый кашель овладел Трофимом Агеичем: майор содрогался, сипел, налившись кровью и стараясь набрать воздуху, а майорша, неистово колотя его по спине тяжелыми кулаками, вопила:
– Ревизоры! Да скорей же, Трошенька!
«Ракитин в цейхгаузе! Снаряд!» – была первая мысль майора, когда крошка выскочила из горла. Крикнув жене: «Мундир готовь!» – он выскочил через заднюю дверь и, теряя по дороге туфли, побежал в цейхгауз. Оттолкнув Милованова, комендант ворвался в помещение. Необычайное возбуждение майора встревожило Ракитина.
– Пр-р-ропадаем! – со свистом выкрикнул майор и, весь зеленый от страха, схватил огромные портновские ножницы и коршуном набросился на шар. – Р…режь! С-стриги!.. Топоры несите! Рубите! – бессмысленно орал он и выхватил ножницами огромный кусок из готовой половины шара.
Ракитин угрожающе выступил вперед:
– Пока жив, уродовать аппарат не позволю!
– Что делать? Погиб… Погиб, как швед под Полтавой… Суд… Каторга… – бормотал Рукавицын.
– Да в чем же наконец дело? – крикнул Дмитрий.
– Чиновники наехали! – истерически завизжал комендант.
У Дмитрия захолонуло сердце: «Ревизия!» Но он тотчас взял себя в руки.
– Довольно малодушничать! – строго сказал он. – Пойдите оденьтесь и встречайте начальство! Бабы, немедленно уйти! Цейхгауз запереть, часового не убирать. (Майор, оживая, с надеждой смотрел на Ракитина.) Если ревизоры начнут проверять заключенных по списку, доложите, что арестант из девятого номера заперт в цейхгаузе по случаю прилипчивой болезни. Будьте уверены, меня не пожелают видеть. Но главное, Трофим Агеич, уверенность и спокойствие! Ведь вы же боевой офицер! Помните – наше спасение у вас в руках!
Рукавицын креп на глазах; казалось, его спрыскивали живой водой. Толстенькая фигурка майора вытянулась, как на смотру.
– Слушаюсь! Будет сделано!
…Семен Кулибаба встретил Рукавицына в передней.
– Ну что, как там они? – спросил Трофим Агеич боязливо.
– Ждуть ваше благородие, я их на скамеечку усадил. Как бы не обиделись! Сурьезный генерал, орденов, медалей – невпроворот. Фамилию ихнюю я со страху запамятовал.
– Сколько их там?
– Одни. И с ими ихний лакей, ваше благородие, очень вредный и пронзительный – по двору шныряеть и усе выглядывает…
– Не было печали, – застонал комендант. – А чего Матренин мальчишка смотрел?
– Прозевал, ваше благородие. А вы пожалуйте мундирчик, а то их превосходительство осерчають…
Застегивая пуговицы, майор шептал:
– Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Серебряную ризу к образу справлю, коли пронесет.
Егор Константиныч уже устал ждать. В долгом отсутствии коменданта ему чудилось недоброе. Но вот показался офицер в полной форме. За ним спешил знакомый Маркову тюремщик.
Марков пошел навстречу коменданту:
– Матушка, царица небесная, выручай! Смелей, Егор!
Рукавицын растерялся, и слова рапорта вылетели у него из головы. Трофим Агеич беззвучно открывал рот.
– Ч…честь имеют доложить, ваше превосходительство, – собрался наконец с духом комендант: – Во вверенной мне Ново-Ладожской тюрьме все обстоит…
– Оставьте церемонии, – дружеским тоном произнес приезжий сановник.
– Как-с угодно, ваше превосходительство! Разрешите представиться: майор Рукавицын, Трофим Агеев сын.
– Очень приятно. Действительный статский советник Морозов. Командирован канцелярией строений для осмотра тюремных зданий.
Когда ревизор отрекомендовался строительным чиновником, на душе у Трофима Агеича отлегло и даже поза сделалась свободнее.
«Ф-фу… Кажись, пронесло, – подумал он. – С этим поладить можно, знаем мы их, строителей».
Но тут коменданту показалось, что советник неотступно смотрит на цейхгауз. Неловко забегая перед стариком, Трофим Агеич залебезил:
– Ваше превосходительство, покорнейше прошу ко мне… Закусить с дорожки чем бог послал!
Ревизор шагнул вправо и, как показалось майору, снова уставился на цейхгауз. Липкий пот покрыл тело Рукавицына, ему стало дурно. Чтобы отвлечь внимание приезжего от цейхгауза, Трофим Агеич говорил громко, точно в бреду:
– Ваше превосходительство, будьте отцом родным… Ни в чем, ей-богу, ни в чем… То есть что же это я говорю? – спохватился он. – Ни в чем не раскаетесь, если пожалуете… Моя супруга, урожденная Щербина-Щербинская, коли слыхали… превосходнейшие наливки…
Прыгающие губы, бессвязная речь выдали Егору Константинычу страх майора.
«Он, верно, думает, что я с ревизией приехал. Надо успокоить, а то со страху глупостей наделает».
Посмотрев на майора, Марков добродушно сказал:
– Что ж, пожалуй, пойдемте. Хотя следовало бы приступить к делу: осмотреть стены, тюремные помещения…
Рукавицын заспешил к своему домику, стараясь все же закрыть цейхгауз от глаз приезжего чиновника.
– Ваше превосходительство! Что осматривать в камерах? Уверяю вас, там такая чистота, порядок… (Семен стыдливо потупил голову.) Арестантам, – майор показал рукой на камеры, – лучше живется, чем мне, честное слово! Ни забот, ни хлопот. А тут вертишься как белка в колесе, даже отчетность запустил. Не успеваешь справиться! Вы не подумайте плохого, ваше превосходительство, у меня дела в порядке…
Глава четырнадцатая Дмитрий предупрежден
Комендант привел «ревизора» к крыльцу своего дома.
– Вот моя берлога, ваше превосходительство, прошу! – Рукавицын широко открыл перед гостем двери.
Егор Константиныч оглядывал обстановку столовой.
«Однако он неказисто живет…» – отметил старик.
Завтрак был не роскошен, зато батарея бутылей, бутылок, бутылочек, графинов и графинчиков всевозможных форм и размеров поражали. Комендант усердно подливал гостю.
– Прошу, ваше превосходительство! Вот этой, желтенькой, на калгане настоенная. А вот на имбире… Эта – на шафране… А уж этой обязательно, без того из-за стола не выпущу! Это у нас многолетняя вишневочка, ради вас на свет вытащенная!
– Ну однако, – качал головой Марков, – такого изобилия, ей-богу, не ожидал.
– Это все она, – указывал майор на жену. – Маг и кудесник по этой части!
Антонина Григорьевна не спускала с гостя своих немигающих глаз, так что тому стало неловко.
«Черт ее знает, чего она на меня так уставилась?»
Выпив для храбрости еще стаканчика два-три, майор положился «на авось» и почувствовал себя непринужденно.
– Угощайтесь, ваше превосходительство! Мать, проси дорогого гостя! За ваше здоровье!
Марков отпивал и ставил стакан на стол. Он подозревал, что хозяин хочет его напоить и выведать цель приезда. Но Антонина Григорьевна действительно была мастерица своего дела, и в голове у Егора Константиныча зашумело. Во хмелю старик был придирчив, и ему показалось, что хозяин недостаточно почтителен, а пристальный, немигающий взгляд майорши раздражал его. «Дай-ка я их подтяну», – сказал он себе и обратился к хозяину:
– А что, далеко от вас имение Бутурлина?
– Это про Остафьево изволите спрашивать? Полчаса езды.
– Придется заглянуть. Уж очень просил меня Борисыч побывать, старосту приструнить, ключника, – вдохновенно врал старик. – Самому-то недосуг выехать.
Рукавицын задрожал.
– Их высокопревосходительство Александр Борисыч самолично вас просили?
– Хе-хе-хе… Александр Борисыч! Было время, я его Санькой звал.
Трофим Агеич затрепетал.
– Так, стало быть, вы давно с их высокопревосходительством знакомы? – осмелился спросить он.
Вытащив табакерку, токарь взял здоровую понюшку и с обычным присловьем: «На вечную память государю Петру Алексеевичу и потомству его на доброе здра-вче!» – втянул табак в нос. Потом протянул табакерку Рукавицыну:
– Угощайтесь! Табакерочка работы самого покойного государя! – присочинил он для пущего эффекта.
Гость вырос в глазах Рукавицына до мифических размеров. Майор сжался, притих. Даже Антонина Григорьевна потупила глаза.
«Для такого гостя скатерть-то грязновата», – была единственная мысль, пришедшая в голову простоватой майорши.
А Егор Константиныч, подогреваемый и вином и страхом хозяина, окончательно разошелся:
– …Он мне и говорит: «Поедешь, говорит, Егор, в Новую Ладогу, наведи порядки. Коменданта, говорит, я знаю – проверь, как он со службой справляется?»
Майор слушал, потрясенный. Старик, довольный произведенным впечатлением, нанес последний удар.
– А вы что же, сударь, мундирчик новый не сшили, как Александр Борисыч приказывал? – строго спросил он, оглядывая ветхий мундир майора.
Слабая надежда Трофима Агеича, что подвыпивший сановник привирает для красного словца, разлетелась вдребезги. Разговор о мундире происходил с глазу на глаз, и гость мог знать о нем только от самого сенатора.
– Ваше высокопревосходительство, не погубите! – отчаянно вскрикнул майор. – Какой там мундир?! Нищета заела: жена, хозяйство.
– Но-но, майор, – фамильярно хлопнул развеселившийся старик по плечу Рукавицына. – А это что? – обвел он рукой стол, заставленный бутылками. (Трофим Агеич потупил голову.) Ладно, майор, успокойся, кто Богу не грешен, царю не виноват!
– Ваше высокопревосходительство, отец и благодетель! – умилился Рукавицын и припал губами к руке старика.
Егор Константиныч был доволен – дистанция между ним и комендантом была установлена.
Завтрак кончился. Трофим Агеич усиленно уговаривал знатного гостя вздремнуть часок-другой, надеясь навести в тюрьме порядок, но Марков отказался. С упорством подвыпившего человека он твердил:
– Нет, нет, голубчик! Надо осматривать строения, обязательно надо. Я ведь не забыл, майор, что я от канцелярии строений. Нет, спать не буду, пойду осматривать.
И он решительно вышел на тюремный двор. Пока майор задержался, отдавая распоряжения насчет обеда, к Маркову обратился Яким, основательно угостившийся на комендантской кухне.
– Барин, Митрий Иваныч заперт вон в том сарае. Там на часах Алеша Горовой стоит, он мне и сказал.
План действий мгновенно сложился в голове протрезвевшего Егора Константиныча. Вытащив из кармана тетрадь и походную чернильницу, он быстро зашагал к цейхгаузу.
Выскочивший из дома майор оторопел:
– Но послушайте, подождите, ваше превосходительство!
Егор Константиныч увидел Горового, когда завернул за угол цейхгауза. Тот стоял у двери в солдатском мундире, с кивером на голове, с мушкетом в руках. Вот куда привела его мятежная кровь, унаследованная от бунтаря Ильи.
«Алеша! – чуть не вырвалось из уст старика. – Алеша, милый!»
Но сзади рысцой подбежал комендант:
– Ваше превосходительство! Это здание предположено снести, и осматривать его бесполезно…
Как люто ненавидел в это время Егор Константиныч назойливого коменданта, который мешал ему отдаться своим чувствам! Как хотелось ему припасть к Алешиной груди, обнять, наговориться всласть… Алексей ласково смотрел на старика, улыбка смягчала его суровые черты. Но жизнь беспощадно поставила непреодолимую преграду перед двумя близкими людьми, и перешагнуть через эту преграду было невозможно.
Егор Константиныч решительно повернулся к коменданту:
– А все-таки я хочу заглянуть в это помещение.
У коменданта лицо перекосилось от испуга.
– Бога ради… Простите, ваше превосходительство, – залепетал он путающимся языком. – В цейхгауз входить нельзя.
– А почему-с? – сухо осведомился Егор Константиныч.
– Там… там заразный больной, – брякнул майор, вспомнив наставления Ракитина.
– Вот как? – удивился Марков. – И чем же он болен?
– У него горячка… и… и воспа, ваше превосходительство!
– Бедный арестант! – сочувственно вздохнул «ревизор». – Сразу две такие опасные болезни. Что же, он в камере простудился?
– Никак нет, ваше превосходительство! У нас в камерах сухо, тепло… Божья воля, ваше превосходительство!
– Лечить не пробовали?
– Никак нет, нам лекарь по штату не положен.
Глядя на улыбающееся лицо Алексея, Марков понял, что с Митей все обстоит благополучно. Он спокойно молвил:
– Ну что ж, предоставим болящего воле Господней. Может, тюремный батюшка молебен за его здравие отслужит? – издевательски спросил он.
У коменданта сразу отлегло от сердца.
– Отслужит, ваше превосходительство, отслужит, и не один, а два, три…
– И очень прекрасно! Ведите меня, куда считаете нужным.
Взглянув в последний раз на Алексея, Марков со вздохом пошел прочь. Комендант заторопился за ним, как побитая собачонка. Яким остался у цейхгауза. Он сунул Алексею записку.
– Митрию Иванычу передай! – шепнул он.
Майор долго и униженно извинялся перед Егором Константинычем. Старый токарь невнимательно слушал, рассеянно осматривал тюремные здания и для вида черкал у себя в тетради.
Дмитрий долго лежал в одиночестве, потом подошел к двери, сел на табуретку. Тишина и полутьма усыпили его, а разбудили голоса, доносившиеся из-за двери. И странно: узнику показалось, что после майора заговорил Егор Константиныч.
«Дядя? Невозможно…» Дмитрий приложил ухо к двери. Вот снова голос майора, потом другой, властный и громкий. «Да, это дядя! Неужели арестовали? По голосу не похоже…»
Узнику невыносимо захотелось хоть на мгновение увидеть дядю, хоть весточку подать о себе… И снова тишина.
Потом послышался легкий стук в окошко. Дмитрий бросился, чтобы подхватить записку, белой бабочкой порхнувшую в щель окна. Он вскрикнул от радости:
– От дяди! – Ракитин развернул бумажку и впился в нее взглядом. – Да что же это такое? – пробормотал он в ужасе.
Дмитрий еще раз пробежал записку, не веря глазам:
«Митя! Случилось большое несчастье! Тюремный священник послал на тебя донос. Ему все известно. Я задержал донос до 26-го, сиречь до следующей пятницы. Кончай скорее дело или все уничтожь. Крепко тебя обнимаем. Твой Е. М.».
Дмитрий стиснул руки так, что хрустнули пальцы.
«Восемь дней! Что делать? Предупредить майора о доносе? Просить, чтобы добавил швей? Нет, торопиться, торопиться…»
Яким, улучив момент, сказал Маркову, что записка передана Алексею. Он ушел и через несколько минут вернулся с ответом Ракитина. В записке, найденной под окном цейхгауза, была отчаянная просьба Дмитрия задержать донос еще дня на три, чтобы дать возможность закончить дело.
Теперь, когда Дмитрий был предупрежден, Марков мог уехать, но он побоялся вызвать подозрения неожиданным отъездом и покинул тюрьму только после обеда, прошедшего скучно и вяло.
Проводив столичного чиновника, комендант уныло побрел в цейхгауз. Дмитрий бросился к майору, лишь только открылась дверь.
– Уехала ревизия?
– Слава богу, – со вздохом отвечал Рукавицын. – И страху же я натерпелся… У меня вся голова, наверно, поседела. Ну, сударь, с этим делом кончено.
– С каким делом? – холодея, спросил Дмитрий.
– С вашим опытом, ну его к богу! Еще такой день, и кондрашка хватит… Не надо мне ни чинов, ни славы, – решительно заявил майор.
Дмитрий возмутился.
– Ах, вот вы как? Теперь поздно отступать, Трофим Агеич! Или мы дело доведем до конца или при первом посещении начальства я повинюсь во всем и укажу на вас, как главного подстрекателя.
– Да что же это? Как же это такое? Что я за несчастный человек! Со всех сторон меня жмут…
– Я не привык попусту пугать. Что сказал – сделаю! И не выпутаетесь: вся тюрьма покажет, что вы со мной в сговоре были. Вместе под пытки!
– Батюшки святители! – сдался слабодушный майор. – Тогда уж научите, что делать.
– Прежде всего скорее кончить опыт, – твердо ответил Дмитрий. – Помните, награду мы получим, когда на деле докажем, что замыслили дело огромной военной важности. Если нас до этого поймают, будут судить как тягчайших государственных преступников. Чтобы спасти себя и вас, я буду работать день и ночь. На ночлег уводить меня в камеру не будете. Давайте больше свеч. Ночью буду отдыхать часа два-три, чтобы только не свалиться с ног. Баб приводить раньше и отпускать позже. Для лакировки полотна дать в помощь солдата.
Всякий раз, когда Рукавицын слушал по-военному четкие приказы узника, он забывал о своих страхах. Привыкший подчиняться, неспособный к инициативе, он только искал случая сложить с себя ответственность. И когда находился человек, готовый взять эту ответственность на себя, майор всецело отдавался чужой крепкой воле.
Уверив Ракитина, что все будет сделано, комендант отправился хлопотать.
– Ну, майор, держись, ради бога, держись! – сказал сам себе Рукавицын, выходя из цейхгауза. – Или пан, или пропал!
Глава пятнадцатая Новые хлопоты
На шестой день после возвращения Егора Константиныча из Новой Ладоги Ксенофонт Первушин заявил крестному отцу:
– Срок кончается. Завтра бумага с доносом пойдет по начальству.
Марков взмолился:
– Сенофонтушка, еще бы хоть денька два! Сделай – век буду Бога молить…
Ксенофонт наморщил лоб, долго молчал.
– Только для вас, отец крестный. Идемте к Родионову.
Приказный долго не ломался. После попойки у него жестоко болела голова, и срочно требовалось опохмелиться.
– Но заметьте, почтеннейший, о большой отсрочке не может быть и речи. Что у нас сегодня – четверг? Ага, хорошо. Бумаге срок – пятница, значит, в субботу перед концом присутствия ее придется представить. Такие дела у нас решаются быстро – это наш хлеб, сами понимаете. Так вот, фискалы поедут в понедельник утром, потому воскресенье – день неприсутственный.
– Соглашайтесь, – шепнул Ксенофонт. – Как-никак три дня. А то нарочно завтра утром пошлют.
Старик полез в карман.
– Премного благодарен, – сказал приказный. – Сделаем…
В цейхгаузе шла напряженная работа. Трудились при свечах до полуночи. Дмитрий один, перед сном, долго еще разбирался в грудах полотна. Сон узника был недолог и тревожен, он то и дело просыпался и смотрел в окно.
На рассвете он стучал в дверь и посылал Горового за бабами. Бабы приходили сонные, злые. Дмитрий беспощадно подгонял их, но тщательно осматривал работу. Круглолицая Матрена попробовала сфальшивить и сшила один шов крупными стежками. Когда Дмитрий, проверяя, сложил сшитые полосы в складки, на шве обнаружилось множество дырочек. Ракитин схватил нож, распорол шов и, подавая Матрене полосы, сказал только одно слово:
– Перешить!
Но так вздулись каменные желваки его щек, такая ненависть сверкнула в красных, воспаленных от бессонницы глазах, что Матрена поспешно схватила полосы, нагнулась над ними в порыве виноватого усердия, и долго еще колени ее колотились мелкой дрожью.
Дмитрий чувствовал: такого напряжения долго не выдержать Целыми днями он работал, согнувшись, проверяя швы и лакируя с помощью солдата разложенные на полу полосы. Ломило спину – Дмитрий разгибался с трудом. От переворачивания тяжелых ворохов полотна болели руки. Только нервное напряжение поддерживало Дмитрия. Его дни и ночи мучила неотвязная мысль: «Успею ли?»
Слишком многое зависело от успеха его необычайного эксперимента. Не только свобода – о ней Дмитрий в спешке работы даже забывал в последние дни, – а возможность удивительного научного свершения, завоевание новой стихии, воздушной, которая до сих пор не подчинялась человеку… И все эти великие перспективы могли рухнуть из-за того, что человеконенавистник поп нацарапал на него донос!
Дмитрий твердо решил закончить шар в воскресенье, а полет назначил в понедельник.
Егор Константиныч с сильно бьющимся сердцем вторично входил в крепость. Беспокойство о Мите не позволило старику оставаться в Петербурге; несмотря на страх перед тюрьмой, он снова двинулся в утомительный путь.
Выехали в пятницу на рассвете; в субботу в восемь утра Яким остановил лошадей у крепостной стены.
Гараська, наученный горьким опытом, своевременно доложил о приезде начальства, и «ревизор», войдя во двор, был сразу встречен комендантом. Рукавицын радушно приветствовал гостя, но лукавая улыбка майора смутила Егора Константиныча: так встречают друг друга заговорщики.
– Вот вы и опять пожаловали, ваше превосходительство, – развязно заговорил Рукавицын. – Прошу ко мне, закусить с дорожки. А человека оставьте здесь, в караулке.
«Заберет или нет? Неспроста смотрит… И Якима задержал…»
Когда Антонина Григорьевна накрыла на стол и расставила ассортимент настоек, майор кивнул ей выйти.
«Начинается…» – подумал Марков.
Но Трофим Агеич тоже волновался и не решался приступить к щекотливому разговору. Выпив подряд три стакана имбирной, он вытер усы и смело сказал:
– А я знаю, ваше превосходительство, зачем вы приехали!
У Егора Константиныча запрыгали губы. Он остолбенело уставился на дверь, ожидая, что оттуда выйдет взвод солдат.
– Что… Что вы знаете? – пробормотал он.
– Да уж знаю, не беспокойтесь, хе-хе-хе…
Майор пришел в игривое настроение духа. Мысль, что он может безнаказанно пофамильярничать с грозным начальником, развеселила Трофима Агеича. После паузы он таинственно добавил вполголоса:
– Пало мне на ум, что вы от Александра Борисыча…
У старика сразу отлегло от сердца.
– Ну и что же, сударь? – более спокойным голосом спросил он.
– Так я вам доложу, ваше превосходительство, что их высокопревосходительство Александр Борисыч напрасно беспокоятся. Господин Ракитин производят свой опыт, и дело у них идет своим чередом.
Марков пристально посмотрел в глаза майору. «Не арестует», – решил он и рискнул на большее:
– Я хочу видеться с ним!
– Вы… с ним… – Мысль о новом неслыханном нарушении тюремных инструкций ошеломила коменданта. – Ваше превосходительство, рад бы всей душой, честное слово! Да нельзя… Ей-богу!..
– Тогда… Ну вот что, майор, передайте записку!
– Записку? – Майор колебался.
– Об этом никто не узнает. А Бутурлин вас наградит…
– Эх, уж ладно, давайте! Семь бед – один ответ.
Записка была приготовлена Марковым еще дома, но осталась у Якима. Пойти за ней? Неудобно. Написать новую? Но комендант не должен прочитать ее. Впрочем, Марков скоро нашел выход.
– Сейчас напишу записку.
– В кабинет пожалуйте, ваше превосходительство.
Токарь задумался над листком бумаги и написал две строки:
Рикя, ш нопецесьпит шыецук лыбити, Топгай, иси шле ночищсо.Вручая записку, Егор Константиныч проницательно посмотрел на коменданта.
– Прошу вас, сударь, принести ответ.
Молча поклонившись, Трофим Агеич отправился в цейхгауз. По дороге он развернул записку, прочитал несколько слов и вытаращил глаза.
– Что за чертовщина? «Рикя… Топгай, иси…» По-каковски же это? Видно, по-немецки?
Простодушный майор не имел понятия о шифрах.
Отозвав Дмитрия в сторонку, таинственно сунул бумажку:
– От того, что в прошлый раз приезжал.
Сердце Дмитрия сжалось в предчувствии недоброго. Он развернул бумажку и на мгновение приподнял брови, «Ага! Тарабарская грамота», – догадался он. Расшифровать записку в уме Дмитрию было нетрудно, с детства знакомому с этой несложной тайнописью.[77]
«Митя, в понедельник выедут сыщики. Кончай, или все погибло».
Смысл записки был грозен. Ракитин окинул взором цейхгауз. Работа подходила к концу.
«Не буду откладывать до понедельника, – решил Ракитин. – Наполню летучий шар завтра. Если не удастся, успеем уничтожить следы…»
– Ответ просили, – наклонился к нему майор.
Дмитрий написал на обороте записки:
«Ш шолтмелепье иси питочца».[78]
Трофим Агеич был у дверей, когда Дмитрий схватил его за плечо.
– Слушайте, – задыхаясь, сказал он. – Проведите моего… вашего посетителя мимо окна.
– Зачем это? – смущенно спросил Рукавицын.
– Проведите… проведите… – как в бреду, шептал Дмитрий.
– Слушаюсь, – ответил комендант.
Ракитин бросился к окну: обманет или нет?
Егор Константиныч сидел в кабинете майора в тревожном ожидании. Прочитав записку, он посветлел лицом и крепко пожал руку коменданту:
– Вечно ваш слуга! Прощайте!
– Как? Вы уезжаете?
– А что мне здесь делать? – с полуулыбкой спросил Марков.
– И то! Я вас провожу, ваше превосходительство!
Выйдя из домика, майор завернул к цейхгаузу. Марков удивленно следовал за ним. Когда они завернули за угол, Егор Константиныч понял и поднял глаза. Через решетчатое окно он слабо разглядел бледное лицо Дмитрия.
Слезы выступили на глазах старика, он стоял, потеряв представление о времени.
Дмитрий что-то говорил, губы его шевелились, он махал рукой… Егор Константиныч ничего не сознавал. Наконец майор тронул его за плечо:
– Пора, сударь…
В недогадливую голову Трофима Агеича наконец-то закралась мысль об особых связях узника и приезжего «ревизора».
С чувством бесконечной любви и скорби смотрел Дмитрий на растерянное лицо старика, на его высокую согбенную фигуру. Когда Егор Константиныч исчез, Дмитрий зарыдал.
Осмотрев в последний раз полотнище шара и корзину, проверив прочность узлов и скреп, Ракитин лег спать: надо было набраться сил перед решительным днем. На часах стоял Милованов. Он внимательно смотрел по сторонам, обходя вокруг цейхгауза. Но все было спокойно. Ни души не было на дворе, и старого солдата одолела дремота. За долгие годы службы он научился спать стоя, опершись на ружье и пробуждаясь при каждом подозрительном шуме.
Ефрейтор проспал около часа, как вдруг его разбудил тихий голос. Солдат проворчал:
– Что за притча? Али пригрезилось?
Но голос явственно долетел вновь. Кто-то разговаривал поблизости, за стеной. Высунув голову за угол, часовой чуть не вскрикнул от неожиданности. Поставленный на землю фонарь освещал копошившуюся на коленях темную фигуру. Ворох соломы был свален у стены. Фонарь отбрасывал от фигуры на стену угловатую тень. За последние дни душевная болезнь попа Ивана быстро развивалась. Он давно страдал умственным расстройством на религиозной почве, а последние недели его окончательно доконали. Разговоры тюремных обитателей о воздушном змее, который поднимет узника выше колокольни, чтение мрачных библейских предсказаний о неизбежном конце мира, страшные картины «Апокалипсиса»[79] – все это свело отца Ивана с ума.
Ему казалось, что только он один может спасти человечество от близкой гибели, а для этого надо уничтожить узника вместе с его сатанинской выдумкой.
Поп Иван тихо бормотал:
– Не совершатся ложные чудеса… нет, нет, не совершатся… В огне придет Господь, в огне…
В голосе поджигателя звучало безумие. Он подсовывал большие пуки соломы под деревянные балки, торчавшие из стены. Милованова охватил суеверный ужас, и он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.
«Ведь это батюшка… Отец Иван!..»
Тем временем поп выхваченной из фонаря свечой ткнул в пук соломы. Веселое пламя побежало по стеблям, озаряя стену. Опомнившийся Милованов в один прыжок был около попа и, вырвав клок горящей соломы, затоптал ногами. Отец Иван смотрел на солдата с тупым изумлением.
– Зачем мешаешь? Зачем? В огне придет Господь… – И он вновь попытался ткнуть свечой в пук соломы.
Рассерженный ефрейтор задул свечу и ухватил попа за ворот.
– Ты меня, батька, не зли! – гаркнул он. – Я во гневу сердитый!
Поп забился в руках Милованова, как перепелка в когтях ястреба.
– Отпусти, отпусти… – захныкал он. – Божье дело творю…
– Идем к его благородию!
– Не пойду к отступнику… христопродавцу… Не пойду…
Разбуженный голосами Ракитин появился у оконной решетки.
– Что здесь такое? Почему шум?
Милованов в немногих словах сообщил о происшествии. Дмитрий пришел в ужас при мысли об опасности, которая ему угрожала.
– Сведи его тихо домой, – приказал Ракитин. – Скажи попадье, чтоб не выпускала. Солому уберешь. И никому ни слова!
Рослый ефрейтор подхватил отца Ивана в охапку и понес. Постучав в дверь, он дождался, когда вышла матушка Стефанида.
– Получите их преподобие! Они чихаус[80] поджигали. За такие дела Сибирь и каторга полагается, коли их благородие узнают.
– Голубчик, не губи!
– Я докладывать не буду, а вы их священство заприте покрепче и не пущайте, а то как бы беды не вышло.
Милованов отправился убирать солому, а попадья потащила мужа в дом.
Родионов сдержал обещание и представил донос по начальству в субботу в три часа дня. Делу был дан немедленный ход, как и предсказывал регистратор Егору Константинычу. Судья вызвал дежурного сыщика. В кабинет, прихрамывая, вошел Ахлестов.
– Ты, кажется, арестовывал Ракитина?
– Так точно, ваше высокородие!
– Твой крестник, – сыщик почтительно осклабился, – за новые художества принялся. С комендантом спелся и на небо собирается подыматься. Поедешь расследовать.
Судья подал сыщику донос, и тот внимательно прочитал его. Лицо Ахлестова не выразило ни тени изумления, он только спросил:
– Когда прикажете выезжать, ваше высокородие?
– Завтра праздник. Арестант никуда не уйдет. В понедельник с утра выедешь. Захвати подручных.
Усердный Ахлестов не любил в делах промедлений. Собрав подручных, сыщик объявил, что они немедленно выезжают на следствие в Новую Ладогу. В пять часов вечера тройка ретивых лошадей уже вынесла фискалов за заставу.
– Всю ночь будем скакать, а в воскресенье утром нагрянем как снег на голову, – сказал Ахлестов подчиненным.
Марков, возвращавшийся из крепости, в сотый раз обдумывал необыкновенное предприятие племянника. Успех Ракитина казался ему несомненным – ведь объем шара рассчитывал сам Михайла Васильич.
«Но чем все это кончится? – думал старый токарь. – Славой, почетом или большой бедой?»
Опытный в житейских делах, Егор Константиныч понимал, что при разборе нового ракитинского «дела» власти обязательно станут на точку зрения попа и, чего доброго, посчитают инвентора колдуном.
«Если Мите удастся его предприятие, ему придется укрыться подальше от судейских крючков, – размышлял Марков. – Пока еще там, наверху, разберутся, какое это великое дело – воздушные сообщения, Митю могут и на тот свет отправить…»
Лошади плелись усталой рысцой. Время было позднее, но полная луна заливала окрестность холодным, безрадостным светом. Показалась деревушка. Яким спросил:
– Переночуем, барин? Лошади дюже заморились.
Марков утвердительно кивнул головой. Коляска въехала на улицу, остановилась у постоялого двора. Яким вошел в избу и вдруг опрометью вылетел назад.
– Барин! – Яким трясся от ужаса. – Там сыщики!
– Ты врешь! – в отчаянии закричал Марков. – Ты врешь, болван! Сыщики выедут в понедельник!
– Ей-богу, – чуть не плача говорил парень. – Мне ли их не знать? Ведь меня Ахлестов не один раз допрашивал… – И слуга одеревеневшими руками начал заворачивать лошадей.
– Подожди! – В душе Маркова страх боролся с желанием выведать намерения сыщиков. У старика была слабая надежда, что фискалы оказались здесь случайно. – Яким… сходить бы, разузнать…
– Барин, знают ведь они меня как облупленного. Как же я?.. – Яким задумался, потом радостно встрепенулся. – Пойду, барин! Parole d`honneur, иду на rendez-vous![81]
Он вытащил из дорожной торбы два сухаря и засунул за щеки. Щеки надулись, растянув рот до ушей. Вся скуластая физиономия с узкими щелками плутоватых глаз, подпертыми припухшими щеками, стала неузнаваемой. Марков с удивлением смотрел на чудесное превращение Якима.
– В Париже научили, – прошамкал парень, не разжимая губ. – Теперь я, барин, немтырь!
Он надвинул на лоб шапку, затянул потуже пояс и смело вошел в избу. Большая комната служила одновременно и «залой для проезжающих», и кабаком. На стойке стоял бочонок с сивухой, под краном на глубоком подносе лежали оловянные мерки: косушка, полукосушка, шкалик. За стойкой дремала баба.
Сыщики сидели у стола, на котором стоял полуштоф. В руках у них были стаканчики с сивухой. Закуска состояла из ломтей черного хлеба и больших луковиц. Ахлестов взглянул на Якима, но не узнал его. Слуга подошел к стойке, бросил пятак и, указывая на косушку, дико замычал, как глухонемой. Любопытный Пустозвон подскочил к окну и выглянул на улицу. Вид коляски с закутанным в шинель чиновником не вызвал у сыщика подозрений, и он вернулся к столу. Яким стоял у стойки, медленно пил водку, нацеженную хозяйкой из крана, и прислушивался к разговору сыщиков.
– Чудно, Ерофей Кузьмич, – говорил Огурцов. – Первый раз на тюремного затворника донос получаем.
– Ну, Ракитин! От такого всего ожидать можно! Зато уж пусть на меня не прогневается – в подземный каземат засажу!
Рука Якима задрожала, и водка расплескалась из стакана.
– Поп-то награду заработает? – спросил Жук.
– А как же? Доносчиков не награждать – никто доносить не станет.
Яким поставил стакан на стойку, снова промычал и вышел. Невольно ускоряя шаг, он подбежал к коляске, кое-как ввалился на козлы и начал стегать лошадей кнутом. Только отъехав с полверсты, он снова обрел дар голоса. Выбросив из-за щек сухари, он оборотился к Егору Константинычу:
– Беда, барин! В Ладогу едут. Митрия Иваныча… – Яким всхлипнул, – в подземный каземат…
Маркову стало дурно.
«Боже, боже, что я наделал… – подумал он, почти теряя сознание. – Ведь Митя будет ждать их во вторник…»
– Вертаться будем? – спросил Яким.
«Вернуться еще раз? Открыть все коменданту? Но ведь всякое снисхождение имеет границы. Да и не обогнать сыщиков… У них сменные лошади…»
Вдруг старик вспомнил Митину записку: «В воскресенье или никогда». Стало легче на душе.
– Задержать бы их хоть ненадолго, – сказал он сам себе.
– А что вы думаете? – подхватил Яким. – Мостик за деревней помните? Que voules-vous?[82] Вы, барин, посидите, а я духом!
Яким отстегнул пристяжную, засунул под армяк топор и в обход деревни поскакал к речке. Выдрать из ветхого мостика несколько плах и спустить их в воду для проворного парня было минутным делом. Через полчаса Яким уже впрягал пристяжную.
– Эх, кабы в речку ввалились, вот была бы кувыр-коллегия!
От постоялого послышался звон колокольчиков.
Глава шестнадцатая Решающий день
Еще в субботу горбатый тюремщик Филимоша с двумя помощниками сложил посреди тюремного двора каменный очаг и в его дымоходе устроил несколько боровов.[83]
Очаг был накрыт колпаком, от которого наклонно поднималась высокая железная труба. Прежде чем горячий воздух из печи попадет в шар, ему предстоял длинный путь: борова и железная труба будут задерживать искры, которые могли бы зажечь горючую материю аэростата. Из боковой стенки торчала вторая, широкая и короткая труба: она должна была создавать в печи усиленную тягу.
Все железные части конструкции были заранее изготовлены по указаниям Ракитина тюремным кузнецом. Кузнец оказался толковым работником, и коленья трубы вошли одно в другое с точностью.
Помощники Дмитрия действовали усердно. Горбатый Филимоша вскарабкался по лестнице к верхушке железной трубы. Ему подали на шесте длинную полотняную кишку, и он плотно натянул ее на раструб. Кишка не спадала: внутрь ее были вставлены тонкие ивовые обручи. Спускаясь на землю, она терялась в огромной бесформенной груде полотна. Корзина была привязана к толстому обручу, вделанному там, где шар, суживаясь, переходил в горловину.
Кулибаба натаскал к очагу поленницу мелко наколотых березовых дров: он был назначен «главным истопником» при шаре.
Население тюрьмы собралось смотреть, чем закончится таинственное предприятие Ракитина, волновавшее умы в течение нескольких недель.
Первым пришел Трофим Агеич. Он явился в форме, при орденах и медалях, но без шпаги. Хотя комендант считал ниже своего достоинства принимать непосредственное участие в работе, тем не менее суетился страшно. Ничего не понимая в конструкции, он бегал вокруг, приказывал, советовал, спорил.
Вскоре пришла и Антонина Григорьевна, а немного спустя выводок поповских дочек под крылышком дородной маменьки выпорхнул из церковного домика. Попа Ивана не было: его заперли в спальне, а ключ лежал в кармане у матушки Стефаниды.
В отдалении толпилась публика попроще: дьячок Сергей с дьячихой; бабы-швеи, с интересом ожидавшие, что получится из их многодневного труда; пекаря, оставившие пекарню; солдаты, свободные от караула.
Общее любопытство толкало зрителей вперед, и скоро все смешалось. Широкополая соломенная шляпа дьячка Сергея торчала перед носом Антонины Григорьевны, а поповские дочки оказались между пекарей и мушкатеров. Среди взрослых шныряли ребятишки, гоняясь друг за другом с веселым визгом.
Наконец последние приготовления были закончены. Дмитрий сам растопил печь и с волнением ждал, когда разгорятся дрова. Вся разношерстная толпа попятилась от печи и поглядывала на нее с опаской.
– А взрыва не будет? – боязливо спросил Трофим Агеич.
– Не бойтесь, опыт совершенно безопасен.
Майор сделал серьезное лицо и отошел к жене.
Пламя пылало в печи. Из коротенькой боковой трубы валил дым. Публика перешептывалась с недоумением.
Майора охватило глубокое разочарование. Этот день и для него, как для Ракитина, был решающим. Трофим Агеич ожидал, что после бесконечных тревог последних недель, после напугавших его наездов «ревизора» это июльское воскресенье принесет ему большой чин, богатство, освобождение от всех забот и волнений.
И вот узник неуверенно хлопочет около печи, поправляет полотняную кишку, спускающуюся к груде полотна, распутывает какие-то веревки, а к чему все это – понять невозможно. И кажется, что до обещанных Ракитиным воздушных сообщений так же далеко, как до луны. Сердце майора защемила тоска.
Ракитин чувствовал себя, как полководец перед решительной битвой. «Удастся ли? – думал он. – А вдруг поражение?..»
Пламя в печи разгорелось вовсю. Дмитрий захлопнул выходное отверстие боковой трубы железным колпаком. Огонь метнулся было из печи, но тотчас же устремился по большой трубе в пустоту аэростата. Все решалось в эти мгновения.
Не довольствуясь услугами Семена, Ракитин сам швырял дрова в печь, поправлял их, чтобы лучше горели. По временам он глядел на небо. По небу быстро бежали легкие облачка; внизу, за высокими стенами, было тихо.
«А вдруг расчеты ошибочны? Что, если лак, корзина, веревки слишком утяжелили шар?»
Мурашки пробегали по коже Дмитрия. Мысль о провале «опыта» ужасала изобретателя.
Но… толпа с испугом шарахнулась в стороны. Шляпа дьячка Сергея, назойливо маячившая перед Антониной Григорьевной, вдруг исчезла, и перед майоршей оказался простор. Трофим Агеич спрятался за Горового и осторожно выглядывал из-за его широкой спины. Неподвижная доселе груда полотна зашевелилась. Издали, робко наклонив головы, зрители смотрели, как в этой груде смутно поднимались и пропадали волнистые бугры и вся груда медленно-медленно вспухала. Зрелище становилось захватывающе интересным, но и неожиданно страшным.
Толпа отступала дальше и дальше.
Дмитрий с восторгом смотрел на колышущуюся громадину аэростата.
…Лошади бежали бойко. Сыщики молчали. Счастливей всех был Огурцов: он мог спать где угодно и когда угодно. Жук скучал. Он скреб косматую гриву волос, сопел, вздыхал. Внезапно его заросшая физиономия оживилась.
– Слышь, Пустозвон! – Он ткнул приятеля локтем. – Кабак!
– О-о, право! – Пустозвон облизал губы.
У дороги виднелся постоялый двор. Над воротами торчала елка – вывеска кабака в тогдашние времена.
– Ерофей Кузьмич! – просительно заговорил Пустозвон. – Перед начатием дела клюкнуть бы по маленькой. Как святые отцы выпивали и нам завещали…
– Чего еще, – отозвался фискал. – До Ладоги всего пять верст осталось. Кабы ночью с мостом битых три часа не провозились, давно бы Ракитин в колодках сидел.
– Да по единой, право, по единой, – упрашивал Жук.
Ямщик, прислушиваясь к разговору, остановил лошадей. Огурцов проснулся, молча спрыгнул с телеги и решительно зашагал к кабаку. Не последовать такому примеру было свыше сил его компаньонов. Пустозвон и Жук, нагнав Огурцова, ввалились вместе с ним в гостеприимную дверь кабака.
– Ну, давай, что ли, подворачивай уж, – со вздохом сказал Ахлестов.
Поп Иван проснулся; голова его была тяжела, в ушах стоял высокий нескончаемый гул. С кровати он встал с усилием. Одеваться попу не пришлось: жена уложила его в рясе и даже с крестом на груди. Привычным движением откинув лохматые волосы, он, шатаясь, подошел к двери и толкнул ее – дверь не поддавалась. Поп налегал крепче, но попытки были бесполезны.
– Анафемы! – забормотал он. – Что это? Дьявольское наваждение?.. Сегодня воскресенье, а меня не выпускают… А-а-а! – дико завизжал он. – Опять сатанинские козни! Чтоб я литургию не служил?! – И он с удесятеренной силой налетел на дверь.
Дверь затрещала, но выдержала. Поп бросился к окну и забарабанил кулаками по стеклам. Стекла падали со звоном. Отец Иван изрезал руки, но не чувствовал боли. Он затряс раму, и она с треском вылетела.
– Врете! Врете, ефиопы проклятые! – выкрикивал поп. – Не удержите меня! Не удержите!
Отец Иван вылез в окошко и побежал к церкви, но, взглянув на середину тюремного двора, остолбенел. Он увидел, как с земли встает, поднимается огромной тушей что-то белое, а кругом шумит и волнуется народ.
– Как?! Сатана не сгорел?! – растерянно выкрикнул поп.
В голове его все путалось: ему казалось, что ночью он сжег Ракитина с его дьявольской выдумкой. Поп в недоумении проводил рукой по лицу, оставляя на нем кровавые пятна. Потом сорвал нагрудный крест, высоко поднял над головой и ринулся к шару.
Вид отца Ивана был страшен. С окровавленным лицом, с пылающими глазами, выкрикивая заклинания, он приближался к аэростату. В первый момент на попа не обратили внимания: все боязливо созерцали чудесно поднимавшуюся груду полотна. Но скоро он был замечен. Продираясь сквозь толпу, отец Иван выкрикивал:
– Именем Бога! Заклинаю тебя, окаянный! Порождение ефиопово! Сгинь! Сгинь, конь антихристов!..
Исступленный вид попа, кровавые полосы на его лице, безумные заклинания подействовали на толпу как искра, брошенная в порох. Толпа взвыла и шарахнулась в стороны.
– Антихрист! Спасайтесь, православные! Пришел конец мира!
Попадья старалась схватить отца Ивана, причитая:
– Батюшка! Голубчик мой, да кто тебя так? Батюшка! Да помогите мне, помогите!..
Но поп с нечеловеческой силой отталкивал жену и пробивался вперед. Достигнув веревок, окружавших шар, он споткнулся и упал. Катаясь по земле и запутываясь все более, он пророчествовал неистовым голосом:
– Молитесь, православные! Приносите покаяние! Час Страшного суда настал!
В толпе раздавались плач и рев. Дьячок Сергей, став на колени и скинув широкополую шляпу, всенародно исповедовался в грехах. Поповны визжали. Антонина Григорьевна закутала голову платком и стояла, дрожа всем телом. Бабы-швеи пронзительно причитали, ожидая, что огонь небесный спалит их за помощь антихристу в его бесовском замысле.
Смятение и суматоха были необыкновенные. Свободные от караула мушкатеры, менее других потерявшие головы, угрожающе надвигались на аэростат. Дмитрий, побледнев, решительно стоял перед чудесным шаром, готовый скорее умереть, чем допустить его уничтожение. Горовой и Милованов стояли рядом с Ракитиным и направляли штыки против нападающих, к счастью безоружных.
Стиснув зубы, наклонив голову, как бык, Алексей Горовой сурово глядел на буйную толпу. И толпа топталась на месте, удержанная взглядом Алексея.
В этот решительный момент Трофим Агеич совершенно растерялся. Чувства его были непередаваемо сложны и запутанны. В нем смешались и суеверный ужас, заразительно охвативший его вместе с толпой, хотя он больше всех был подготовлен к тому, что здесь произойдет; и радость, что опасная затея увенчивается успехом, который принесет ему, Рукавицыну, награду от правительства; и смутная, подсознательная боязнь, что инвенция узника направлена совсем не в его пользу. Раздираемый противоречиями, майор то делал шаг вперед с намерением вмешаться и прекратить «опыт», то отступал, гонимый страхом.
Вдруг толпа ахнула, как один человек. Шар оторвался от земли и плавно закачался в воздухе. Он еще не наполнился целиком, и сморщенные бока его трепетали, раздуваемые потоками горячего дыма.
Все замерли, и даже поп Иван, которого солдаты выпутали из веревок, умолк. На тюремном дворе наступила полная тишина.
Корзина поднялась на аршин от земли. Дмитрий легко вскочил в нее, и корзина тотчас опустилась.
«Подъемная сила еще мала, – подумал Ракитин. – Шар не может поднять меня». Он сделал знак Семену, и тот подбросил в печь огромную охапку дров. «Сейчас все решится… Или шар начнет поднимать меня, или я погиб…» Сердце изобретателя билось часто и тревожно.
Прошла минута. И с чувством огромного облегчения Дмитрий заметил, что корзина уже не на земле. Правда, немного… пол-аршина… аршин… еще… еще… И нижний край корзины – на уровне голов изумленных зрителей, все еще цепенеющих в молчании. Первым опомнился комендант.
– Держите его, хватайте! – дико закричал он, бросившись к шару и пытаясь схватить корзину, но ее уже нельзя было достать. – Конвоиры! Чего смотрите?
– Трофим Агеич! – крикнул Ракитин. – Не опасайтесь – корзина привязана прочно!
Майор взглянул по направлению руки Дмитрия. В самом деле, четыре толстые веревки от верхнего края корзины были захвачены за железные костыли, глубоко вбитые в землю. Рукавицын немного успокоился, хотя сомнение продолжало глодать его. Если бы майор знал физические законы, он приказал бы немедленно затушить печь. Но он не мог осмыслить того, что происходило, а Кулибаба преспокойно подкидывал дрова. Из устья печи пылало жаром.
Две-три минуты – и шар уже натянул веревки. Корзина колыхалась на высоте пяти-шести аршин над землей, вровень с концом трубы, через которую шел горячий воздух.
Ракитин ликовал. Душа его наполнилась огромной радостью, какую человеку суждено испытать только раз в жизни.
«Сбылись мечты! – торжествующе думал Дмитрий. – Теперь ничто не удержит меня в стенах тюрьмы. Эх, Михайлу бы Васильича сюда – пускай бы посмотрел, как его наука впрок мне пошла…»
Подъемная сила аэростата увеличивалась с каждым мгновением. Ракитин чувствовал, как дрожат натянутые веревки. Всего несколько минут осталось до окончательного наполнения чудесного шара.
А что происходило в душе майора? Трофим Агеич только теперь вполне понял неслыханную важность ракитинской инвенции. Видя узника, свободно и смело парящего над головами толпы, комендант представил себя на его месте, и жгучая зависть охватила его.
«Он прав, – думал Рукавицын. – Это переворот в военном деле, но мне-то что? Всю славу, все получит Ракитин. Сколько раз незаслуженно обходили меня в жизни…»
Трофим Агеич дошел до такого возбуждения, что готов был перед целым светом обвинять Ракитина в присвоении его, майора, заслуг. Усы Рукавицына ощетинились, зубы свирепо оскалились, он крепко сжимал кулаки.
– Мне, все мне одному! – возбужденно шептал Трофим Агеич. – Немедленно отпишу о моей инвенции главному командованию… А чтобы Ракитин молчал – сегодня же, сейчас, в подземный каземат его спроважу на хлеб и воду. Кто мне помешает? Я здесь хозяин! Караульных солдат скоро сменят, поп совсем спятил с ума, Сэмэн под клятвой подтвердит все, что я прикажу…
Глаза Рукавицына горели алчностью, он совсем позабыл страх перед высокими покровителями узника. Выдвинувшись из толпы, он старательно разглядывал детали аппарата, пытаясь все понять и запомнить: ведь ему придется описывать это в донесении об «изобретенном им способе воздушных сообщений».
Сыщики ехали по пустынной улице Новой Ладоги. Они повеселели, просидев часик у Ивана Елкина. Ахлестов не спускал глаз с приближавшейся тюрьмы. Он недоумевал. Что-то белое, подобное огромной круглой палатке, поднималось за крепостной стеной.
– Быстрей! Гони! – заорал сыщик, тыча ямщика кулаком в спину.
Тот подстегнул лошадей. У ворот фискал спрыгнул с телеги, сунул часовому пропуск и стремительно ворвался во двор. Вбежавшие за ним подручные начали креститься. Посреди двора над головами толпы качался огромный белый шар. Под ним свешивалась корзина, а в ней стоял человек. Фискал вгляделся: Ракитин!
– Ребята, за мной! – взвизгнул Ахлестов и бросился вперед.
Дмитрий увидел сыщиков. Мороз пробежал у него по коже при мысли, что, если бы он по необъяснимому предчувствию не перенес день «опыта», все бы погибло.
«А теперь! Пусть попробуют взять!..»
Схватившись за горловину шара, Ракитин подтянулся к трубе и, слегка обжегши руку о горячий раструб, сдернул с него полотняную кишку. Теперь шар держался только на веревках, привязанных к костылям.
Фискал с подручными, растолкав толпу, очутился близ шара. Комендант, раздраженный неожиданным появлением незнакомцев, нарушившим его планы, поспешил к ним.
– Что за люди? – спросил он резко.
– Вы комендант? – крикнул сыщик в ответ. – Что смотрите? Арестант ускользает! Хватай, ребята!
И они бросились к веревкам.
Комендант, возмущенный помехой, забыл осторожность и схватил за плечо фискала:
– Не сметь мешать! Я здесь начальник!
Ахлестов грубо оттолкнул его.
– По приказу Тайной канцелярии! – крикнул он в лицо побледневшему майору.
Ахлестов выхватил из-за пазухи пистолет и нацелился в грудь Дмитрия.
– Немедля спускайтесь вниз, – приказал он, – иначе смерть вам!
Промахнуться на таком расстоянии было невозможно. Великие планы Ракитина, доказательство реальности воздушных сообщений и, наконец, близкая свобода – все рухнуло в один момент из-за внезапного появления маленького хромоногого человека с оружием в руке.
«Конец… – горько подумал Дмитрий. – Я не сдамся, и он меня убьет…»
Выручил узника Алексей Горовой, оказавшийся позади Ахлестова. Он стукнул сыщика кулаком по голове, стукнул вполсилы, но Ахлестов замертво свалился на землю. В момент падения он конвульсивно нажал курок, и пуля улетела неведомо куда.
На Алексея накинулись Жук, Огурцов, Пустозвон. Горовой не стал сопротивляться, бросил мушкет, покорно протянул руки. Огурцов и Жук быстро связали его.
Это неожиданное происшествие на минуту-другую отвлекло общее внимание от Дмитрия, и в это время в его руке появился топор. Как он попал в корзину, знали только Дмитрий и Алеша Горовой. Взмах, другой… Веревки отлетали с треском. Последняя лопнула сама. Аэростат, как орел, освобожденный от пут, стремительно взмыл над крепостной стеной.
Во дворе поднялась невообразимая суматоха. Комендант остолбенел. Окружающие солдаты были безоружны, кроме конвоиров Ракитина. Но лучший стрелок взвода, мушкатер Горовой, стоял со связанными руками и не спускал глаз с удивительного снаряда, уносившего Дмитрия на волю. Ефрейтор Милованов выстрелил не целясь, и пуля отбила щепку от церковного креста. Когда прибежали от ворот часовые с мушкетами, аэростат виднелся высоко в небе, как белое пятнышко.
Глава семнадцатая Полет
Ракитин судорожно уцепился за веревки. Шар, казалось, не двигался, но земля стремительно проваливалась под ногами Дмитрия: сердце его замерло, голова закружилась. На мгновение он даже закрыл глаза, но тотчас открыл их и взглянул вниз. Он увидел далеко внизу четкий план крепости, точно нарисованный желтой и серой тушью. И этот план уменьшался с каждой секундой. «Шар поднимается», – догадался Дмитрий.
Люди, только что копошившиеся на тюремном дворе, стали неразличимы. Но воздухоплаватель все еще не мог оторвать глаз от городка, выделявшегося бурым пятном на берегу широкой водной равнины.
Дмитрий был ошеломлен. Он не предвидел такой быстроты подъема. Еще две-три минуты назад он видел недоверчивое и озабоченное лицо Трофима Агеича, сумасшедшего попа, солдат, сыщиков… Что они теперь делают?
Когда Новая Ладога скрылась из виду, Дмитрий огляделся вокруг. Открывшаяся перед ним картина изумила его. Шар неподвижно висел над самым центром огромной голубовато-зеленой чаши озера.
Радость охватила его, ликующая, безграничная радость.
Солнце огромным пылающим костром сверкало на голубом небе, но его нестерпимо яркие лучи слепили, не грея. Дмитрий почувствовал дрожь и плотнее завернулся в кафтан. От неосторожного движения корзина заколыхалась, и воздухоплавателя закачало.
– Высоко же я залетел! – сказал Дмитрий. – Куда несет меня?
Дмитрий не мог определить этого. Чаша озера по-прежнему лежала под ним, величественная и угрюмая, и он все так же висел над ее центром. Было что-то угрожающее в этом одиночестве на шаре, неподвижно висящем между небом и озером, сливающимися на дальнем горизонте. Ракитину стало жутко.
– А вдруг шар упадет в озеро? А вдруг его принесет обратно в тюрьму?
Ракитин внимательно всмотрелся в горизонт. На северо-востоке копошились легкие беловатые облачка.
«Буду смотреть на облака, – решил Ракитин. – Если они станут ближе или дальше, значит, лечу. Да есть ли ветер?»
Он быстро нагнулся над краем корзины. Корзина качнулась и заставила его отпрянуть назад. Неподвижно замерев в центре корзины, он дал установиться равновесию и потом уже медленно опустил голову за борт. Но шар летел так высоко, что Дмитрий не мог разглядеть, есть ли волнение на озере. А в воздухе была полнейшая тишина.
«Лечу или нет? – Дмитрий взглянул на облака. – Ближе!..»
Теперь уже видно было, как облака увеличивались по мере приближения к ним шара. И вдруг вдали завиднелась неясная темная полоса. Шар приближался к северо-восточному берегу Ладожского озера.
– Земля! – радостно закричал Дмитрий.
Теперь он знал, что действительно летит, и летит быстро. На краю голубой чаши появилась выбоина, возраставшая с каждым мгновением. Скоро внизу забелела линия прибрежных бурунов, и под шаром побежала тайга, казавшаяся с высоты разостланной по земле мохнатой темно-зеленой шкурой с редкими ярко-зелеными лысинами лужаек. Под шаром, чуть отставая, летели облака, освещенные солнцем. Неожиданно одно облако поднялось по косой линии вверх и окутало шар густым туманом. Дмитрий оказался среди серой клубящейся мглы. На веревках, на борту корзины заблестели капли росы. Стало холодно, как на леднике.
Отяжелевший шар потянуло вниз, он вышел из облака. Солнце высушило росу, но воздух в шаре уже охладился, и шар продолжал медленно приближаться к земле. И только теперь, летя на высоте полуверсты, Дмитрий понял, насколько быстро мчался шар. Тайга стремительно неслась назад, пестрея разнообразными красками. Под аэростатом был первозданный, не тронутый человеком мир.
Нигде ни следа людей. Ни деревни, ни промысловой избушки не различал внизу воздухоплаватель, и даже озера, проносившиеся под ним, как зеркала в рамках из скал, были пустынны.
Шар все опускался. Дмитрий приложил руку к нависшему над ним полотну – оно уже не было таким упругим.
«На поляну бы упасть, – подумал Ракитин. – В лесу опасно».
Но выбора не было. Ветер увлекал шар к северо-востоку. Дмитрию казалось, что он слышит шум ветра в вершинах деревьев и гул озерных волн.
«Поближе бы к Архангельску… Нашел бы старых друзей отца. Там лоцманы, капитаны. Сумеют переправить через границу…»
Житейские заботы начали овладевать Ракиnиным по мере приближения шара к земле. Внизу было тепло. Дмитрий сорвал опостылевший, пропахший тюрьмой кафтан и швырнул вниз. Шар сделал резкий скачок вверх. Ракитин удивился, потом рассмеялся.
– Как же я мало знаю свойства снаряда, на котором лечу, – сказал он, отбросив волосы, упавшие на лоб. – Выкинув кафтан, я облегчил работу подъемной силы…
Шар опускался. Пролетая над озерами, разбросанными повсюду, Дмитрий явственно слышал шум волн. Но озера оставались позади, и снова внизу бежали леса. Теперь шар летел совсем низко. Всего несколько десятков сажен отделяло воздухоплавателя от вершин деревьев. Дмитрий почувствовал головокружение, видя, как быстро убегает под ним тайга.
Ракитин взглянул вперед. Новое озеро блеснуло там. А оболочка шара заметно сморщивалась, нависала над ним. Шар должен был скоро упасть. А он мчался над обширным водным пространством, мчался так низко, что, кажется, вот-вот врежется в волны. Дмитрий закрыл глаза. Стало еще хуже: ему чудилось, что шар неудержимо падает. А гул волн несется навстречу, врывается в уши…
Ракитин посмотрел по сторонам. Далеко впереди виднелась туманная полоса берега. «Неужели гибель в волнах?» В тюрьме Ракитин спокойно думал о смерти, но теперь, на свободе, ему страстно хотелось жить. А шар падал, падал… Первые брызги волн уже залетали в корзину.
«Облегчить снаряд!»
Дмитрий метнул в волны тяжелый топор. Шар снова рванулся вверх. Но воздух окончательно остыл, подъемная сила была ничтожна. И все же падение топора позволило шару пролететь лишние несколько сот сажен, и вдали завиднелась зеленая полоса берега.
Не позволяя полотняной лавине накрыть его, Ракитин резким прыжком в сторону выбросился в волны и могучими саженками поплыл к берегу.
Глава восемнадцатая Розыск
Серебряное пятнышко шара давно растаяло, слилось с лазурью неба, а обитатели тюрьмы все еще всматривались в горизонт слезящимися от напряжения глазами.
Первыми взялись за дело сыщики. Жук принял обязанности начальника тюрьмы. Он перенес бесчувственного Ахлестова в комендантский домик. Майору было объявлено, что до приезда из Питера следственной комиссии он под домашним арестом. Алексея Горового поместили в опустевшую камеру Ракитина. Семена и Филимошу отстранили от должности тюремщиков, и Жук отобрал у них ключи от камер. Почувствовав власть, угрюмый сыщик проявил удивительную расторопность, и все крепостные жители почувствовали его тяжелую руку. Огурцова он назначил окарауливать арестованного коменданта, а Пустозвону приказал скакать в Петербург с донесением.
Рукавицын медленно побрел домой под конвоем Огурцова. Голова его кружилась, он ничего не понимал, все чувства были в полном расстройстве.
– Проклятый… – шептал, спотыкаясь, майор.
Дома он бросился на диван и горестно прошептал:
– Вот тебе и генерал…
Попадья увела под руку присмиревшего попа. Отец Иван шел не сопротивляясь, бормоча бессвязные фразы. Ни искры разума не светилось в его потухших глазах. Понурив головы, молчаливо расходились обитатели крепости по своим конурам, со страхом ожидая неизбежного, которое должно было наступить.
Пустозвон проскакал расстояние от Новой Ладоги до Питера за десять часов, не заглянув по дороге ни в один кабак. Его доклад взбудоражил всю Тайную канцелярию. Главным следователем был назначен судья Стерлядкин, в прошлом проводивший дело Ракитина. В помощь Стерлядкину прикомандировали молодого судью Арефьева, секретаря и несколько писцов. На следующий день комиссия прискакала в Новую Ладогу и 30 июля, во вторник, в шесть часов вечера, начала действовать в помещении цейхгауза.
Трофим Агеич, введенный первым, побледнел, увидев орудия пытки, разложенные на большом столе, где еще так недавно Ракитин кроил шар. Пол цейхгауза был усыпан обрезками полотна, в углах валялись бутыли из-под лака, кисти, концы веревок. Все напоминало Рукавицыну о лихорадочной работе, которая здесь велась. И вот главный виновник исчез, оставив его, майора, ответчиком за все.
«Где правда? Как же служить? Как после этого служить?» – горько думал майор. Он весь съежился, стал маленьким и жалким. Допрос начался. На первые же вопросы судьи Рукавицын недоуменно развел руками:
– Как все это вышло, убей бог, не понимаю! Околдовал он меня…
Трофим Агеич развернул перед комиссией невообразимую путаницу, в которой фантастически перемешались: воздушный змей усовершенствованного образца, книжка «Сонник», князь Приклонский, молебен об изгнании дурных мыслей, сенатор Бутурлин, небесные стрелки, белая лошадь, канцелярии строений советник Морозов и прочее, и прочее. Следователи потеряли голову и только успевали записывать лиц, называемых майором, для привлечения к следствию.
Но не все записывалось. Наиболее связной частью показаний Рукавицына был рассказ о поездке к сенатору Бутурлину. Однако, услышав эту фамилию, Стерлядкин толкнул Арефьева и подмигнул секретарю. Замешивать в дело богатейшего вельможу и любимца императрицы было опасно. Очевидно, за дела и прихоти высоких особ придется расплачиваться майору Рукавицыну. Услышав признание Трофима Агеича, что к нему дважды приезжал эмиссар[84] Бутурлина советник Морозов, комиссия и это показание не занесла в протокол, тем более что и канцелярии строений, от которой якобы был командирован Морозов, в природе не существовало.
Допрос старшего тюремщика Семена Кулибабы внес существенные дополнения к показаниям майора. Выяснилось, что с самого прибытия арестанта Ракитина в тюрьму комендант свел с ним тесную дружбу, нарушая инструкции, поил-кормил со своего стола, снабдил постелью и теплой одеждой, сидел у него в камере по целым часам и вел не относящиеся к службе разговоры.
Младший тюремщик Филимон Животиков довел до сведения комиссии, что старший тюремщик Кулибаба имел удивительную приверженность к арестанту камеры № 9. Кулибаба ежедневно топил печь в камере Ракитина. Кулибаба же сплел корзину, в которой улетел арестант, и похвалялся, что за услуги арестанту получит сто рублей и уедет на Украину. Следователи радостно потирали руки.
Комендантская кухарка Матрена Рытова, утирая слезы передником, рассказала, что комендант замучил ее сына Гарасю на караульной службе у ворот крепости, пока шили шар; что комендантша похвалялась скорым отъездом в Питер, большими чинами и наградами, которые получит ее муж, майор; что старший тюремщик Кулибаба угрожал засадить ее в каземат за то, что она отказывалась шить дьявольскую узникову выдумку; что младший тюремщик Филимон Животиков сделал печку, из которой надувался шар, и похвалялся, что такой печной работы и у государыни во дворце не видано…
Жена старшего тюремщика Агафья Кузьминишна, злобно сверкая глазами и повышая голос до пронзительного крика, показала, что кухарка Матрена открыто хвалилась, будто за усердную караульную службу ее Гараську возьмут казачком в дом к барыне, как только господа переедут в Питер, а сама она, Матрена, будет при барах «иканомкой»…
И так проходили перед допросом обитатели крепости, оговаривая и запутывая друг друга. Для подтверждения и разъяснения допрашиваемые вызывались по нескольку раз. Кипа бумаг росла.
Самое тяжкое обвинение было предъявлено мушкатеру Горовому. Если Ракитину неведомыми путями удалось склонить коменданта на свою сторону и при его попустительстве построить летательный снаряд, то находчивость Ахлестова должна была привести к полному провалу ракитинского предприятия. И только преступное вмешательство Горового не позволило сыщикам задержать беглеца. А посему можно безошибочно заключить, что между арестантом Ракитиным и мушкатером Горовым существовал предварительный сговор. И это усугубляет вину солдата, состоящего на царской службе.
Горовой спокойно, но твердо отрицал наличие сговора между ним и узником. Почему он ударил сыщика? Да просто он не мог равнодушно смотреть, как хотят убить безоружного человека. И какая бы ему за это ни грозила кара, он примет ее с сознанием своей правоты.
Горового ждала смертная казнь, и он это знал, но ничуть не раскаивался. «Я отдам жизнь за Митю», – думал он, и эта мысль была для Алексея отрадной.
Милованов, вызванный вслед за Алексеем, клялся и божился, что никаких сношений между Горовым и арестантом не было, да и он, как старший по караулу, блюдя ефрейторскую должность, немедленно донес бы по начальству о нарушении устава. При этом старый солдат так чистосердечно смотрел в глаза судьям и так правдиво звучал его голос, когда он предлагал добровольно подвергнуться пытке, что его оставили вне подозрений. В его пользу говорило и то, что, по показаниям свидетелей, он один из всех солдат стрелял в улетавшего узника.
Караульный начальник заявил, что он поставил Милованова и Горового на пост у цейхгауза за прекрасное знание устава, и он не думает, что между Горовым и арестантом из девятой камеры могла существовать дружба: ведь они никогда в жизни не встречали один другого.
Комиссия заседала круглые сутки. Под конец руки писцов не двигались от усталости, но следователи не прекращали работы, пока не допросили всю тюрьму, исключая узников. К допросу был вызван даже отец Иван, но, убедившись в его невменяемости, попа отпустили.
Закончив следствие, комиссия выехала, захватив как главных обвиняемых майора Рукавицына, старшего тюремщика Семена Кулибабу и мушкатера Горового. Антонина Григорьевна и старая Кузьминишна простились с мужьями, как с обреченными на смерть, и долго стояли у крепостных ворот, провожая взглядом увозившие их повозки.
Алексей Горовой угрюмо сидел в телеге между двумя конвоирами. Мушкатер знал, какая страшная участь его ждет.
«Нет, врете, проклятые, – думал Алексей, – еще не пришел мой час!..»
Надвигались сумерки. Дорога была безлюдна.
«Сейчас самое удобное… – Алексей оглядел соседние телеги. – В Питер привезут – поздно будет. А ну, с богом!..»
Руки арестованного были связаны за спиной, но он толкнул конвоира плечом с такой силой, что тот слетел с телеги. Горовой спрыгнул вслед за ним и бросился в лес. Конвоиры быстро опомнились и выстрелили по беглецу. Они не целились, думая лишь о том, чтобы не быть обвиненными в пособничестве. Когда подбежали чиновники, встревоженные выстрелами, преследовать Горового было поздно: беглец скрылся в лесу.
В Петербург приехали поздно. Тройки подъехали к зданию Тайной канцелярии на Мойке. Арестованных развели по камерам. Трофим Агеич сидел в чулане на соломе, сжав голову руками.
Должность коменданта Ново-Ладожской тюрьмы опять казалась ему необычайно завидной: удобный халат, спокойное сидение с трубкой в кабинете или в садике среди клохчущих кур; неторопливый ежедневный доклад Семена, выпивки с попом…
«Рай, рай земной… Смутил же дьявол на старости лет…»
Прошло несколько дней. Майор вернулся с очередного допроса. Сняв и бережно разостлав мундир на соломе, он готовился пообедать хлебом с водой, как вошел тюремщик и объявил, что Рукавицына требует сам Шувалов.
Позеленев со страху, майор трясущимися руками натянул мундир и напрасно пытался застегнуть пуговицы. Тюремщик помог ему и стряхнул с мундира соломинки.
У крыльца стояла карета, сквозь стекла которой майор увидел Шувалова. Трофим Агеич подошел к карете, но, когда ему предложили войти, со страху заупрямился.
– Недостоин, ей-богу, недостоин, – бормотал он, пятясь.
Сердитый окрик из кареты привел его в себя. Пугливо озираясь, майор кое-как влез и встал в чрезвычайно неудобной позе. Но Шувалов сделал знак сесть, и он нерешительно опустился на сиденье против вельможи. Тот смотрел на Рукавицына с любопытством. Ему казалось странным, как такой робкий, забитый офицер решился на отчаянное дело, заинтересовавшее самое императрицу.
– Слушай меня, майор, – сказал Александр Иванович, кладя ему руку на колено. От прикосновения вельможи колено Рукавицына подпрыгнуло. – Ты сейчас поедешь к государыне. Она желает тебя видеть.
Непреодолимая тошнота поднялась к горлу Трофима Агеича.
– Твои преступления беспримерны, – продолжал Шувалов. – Но я знаю, что в этом деле принимал участие Александр Борисыч. Так вот, пойми меня, майор! Когда будешь докладывать о своем деле государыне – ни слова о Бутурлине! Ссылки на него только ухудшат твое положение. Если же выполнишь мой приказ, я сделаю все для смягчения твоей участи.
– Слушаюсь, ваше сиятельство, – дрожа, отвечал майор. – Вы мой отец и благодетель, и ваши приказания для меня священны…
«Однако Александр Борисыч ловок… – думал Шувалов. – Постарался для дружка Маркова, запугал дурака. Но дела против него затевать не буду – человек сильный…»
Карета остановилась у Летнего дворца. Потея от страха, Рукавицын шел за Шуваловым по длинной анфиладе зал. Перед массивной резной дверью кабинета императрицы он остановился и схватился за грудь.
– Не трусь, майор, входи, – подбодрил его Шувалов.
Рукавицын шагнул в кабинет и замер, не смея поднять глаза. Елизавета Петровна сидела за письменным столом, разбирая бумаги.
– Подойди ближе, майор, – послышался голос императрицы, прозвучавший в испуганном воображении Рукавицына как раскаты отдаленного грома. – Расскажи нам, как это ты столь важного арестанта упустил?
– Виноват, ваше величество! – вскричал майор, падая на колени. – Божеское попущение… Не иначе, околдовал он меня…
– Встань и изложи все по порядку.
Майор начал рассказ, который после многих допросов приобрел некоторую связность. Помня наставления Шувалова, он ни словом не упомянул ни о Бутурлине, ни о его посланце Морозове. Рукавицын повествовал о разговорах с узником, о том, как он испугался, услышав впервые о его прожекте, и как арестант ловко усыпил его страх и несбыточными обещаниями склонил к сообщничеству с собой.
Закончил майор описанием шара, рассказал, как наполняли его дымом и как шар поднялся и улетел, унося узника.
За время длинного рассказа Трофим Агеич освоился с обстановкой, и голос его зазвучал тверже. Елизавета внимательно слушала майора, лаская кудрявую белую болонку. Иногда она прерывала его вопросами. Рукавицын кончил.
– Как тебе все это кажется, Александр Иваныч? – обратилась императрица к Шувалову.
– Не знаю, что и сказать, ваше величество, – пожал плечами Шувалов. – Прямо какое-то небывалое дело.
– Вот-вот, именно небывалое, – обрадовалась Елизавета удачно найденному слову. – И я приказываю, именно приказываю, считать все это дьявольским наваждением и всякий розыск по этому делу прекратить! Ты согласен со мной, майор?
– Прошу покорно простить меня, ваше величество, но ведь мы все в крепости видели, как Ракитин полетел…
Вид майора выражал сомнение, и царица начала горячо убеждать его:
– Подумай, майор, какие ты несмысленные вещи говоришь! Ну, можно ли подняться на небо на пустом мешке да еще с дымом? Ты бы, например, поднялся?
– Упаси господи, ваше величество!
– Вот видишь, – довольным голосом произнесла Елизавета, гладя болонку. – Сознаешь теперь, что я правду говорю?
– Истинную правду, ваше величество! – гаркнул майор.
В голове его происходила страшная путаница. Ведь он собственными глазами видел, как улетел Ракитин. Мало того, мушкатер Горовой разбил при этом сыщику голову. Но с другой стороны, говорит императрица, первое лицо после Бога, и верить ей подобает, как Богу. Рукавицын начал склоняться к мысли, что никакого полета действительно не было.
– А ты как думаешь, Иваныч? – обратилась царица к Шувалову.
– Мудрость вашего величества превосходит человеческое разумение, – почтительно склонился Александр Иванович. – Я не нахожу слов…
«Ну вот и его сиятельство, – подумал майор. – Значит, правда… Эх я, дурак, а туда же – в генералы!..»
Императрица самодовольно улыбнулась.
– Бог человеку назначил ходить, и против его воли спорить никому не позволено. Понимаешь, майор?
– Так точно, ваше величество!
– Если бы Господь хотел, чтобы мы летали, он бы нам крылья дал на манер журавлиных, только побольше. Тебя не виню: трудно человеку бороться с бесовскими обольщениями. Но почему ты попа не слушал? Ведь он тебя предупреждал.
– Виноват, ваше величество! Я думал, он с ума спятил.
– Устами младенцев и безумных Господь глаголет истину. Жаль, что доношение запоздало. Кстати, Иваныч, что с попом?
– Окончательно свихнулся, ваше величество.
– Жаль, жаль! – Елизавета перекрестилась. – Это был достойный служитель Бога, одаренный даром пророчества. Я бы его в дворцовую церковь взяла. Назначить его жене приличный пенсион, а дочерям подыскать женихов из духовного звания. А вот насчет тебя, майор… (У Рукавицына потемнело в глазах, он затаил дыхание.) Преступление твое беспримерно: ты нарушил все гражданские и воинские установления и заслуживаешь смертной казни… (Рукавицын с трудом держался на ногах.) Но бесовские обольщения сильны, трудно с ними бороться человеку, а посему… – Императрица после долгой паузы повернулась к Шувалову. – Повелеваю: Рукавицына, разжаловав в капитаны, отправить помощником смотрителя Оренбургской… нет, дальше!.. Семипалатинской тюрьмы без права увольнения от должности даже до самой смерти…
– Матушка! Благодетельница!.. – Трофим Агеич хлопнулся об пол и с радостными слезами пополз к ногам царицы.
– Встань, капитан, – приказала Елизавета, – и помни: твоя судьба у тебя на языке. Станешь болтать, ну тогда… Иди, и чтоб я о тебе больше не слыхала!
Рукавицын, еще не веривший, что избавился от казни, шатаясь, вышел из кабинета.
– Весь прочий персонал из Новой Ладоги и караульный взвод, – продолжала Елизавета, – разослать по отдаленным тюрьмам со строгим наказом молчать о происшедшем дьявольском наваждении. И предписываю тебе, Александр Иваныч, чтобы ни в «Ведомостях», ни в книгах об этом деле ни слова и чтобы в народе разговоров не было. Надеюсь, ты так же хорошо, как я, понимаешь, что все толки об этом происшествии поведут к вредному смущению умов.
Шувалову все стало ясно, и он не мог не восхититься практическим умом Елизаветы. Да, это хитрое, неслыханное дело надо замолчать, так замолчать, чтобы о нем и следа не осталось в памяти народной. Ведь если воздушные сообщения получат широкое распространение, как это подорвет веру в Бога у русских людей. Они свято верят, что летать по небу могут только Бог и его ангелы. На небо вознесся Иисус Христос во всей славе своей после воскресения из мертвых. А подрыв веры в Бога неминуемо приведет к подрыву веры в незыблемость царской власти. Опасна, опасна затея непрошеного инвентора!
А что Ракитин болтал о громадном военном значении своей инвенции, так эго сущий вздор: российская армия, слава богу, привыкла бить врага без всяких инвенций.
– Будет исполнено, ваше величество, – сказал Шувалов. – И шара не было, и молвы о нем не будет. А только позвольте спросить, ваше величество: вы приказали прекратить розыск по сему делу. Означает ли это, что и поиски Ракитина и Горового следует прекратить?
– Ну, Иваныч, я от тебя такой глупости не ожидала, ведь ты – не Рукавицын. Ракитина и Горового, сих сущих злодеев, должно искать, поелику они повинны отбывать наказание за ранее содеянные ими преступления. Понятно?
По всей империи поскакали гонцы, разнося грозный приказ:
«…Ракитина, яко прикосновенного к неслыханным преступлениям Ивана Зубарева, поймать и, в железы заковав, немедленно в Санкт-Петербург под строжайшим конвоем препроводить…»
Но, несмотря на энергичные напоминания Шувалова, о бежавшем узнике долго не было никаких известий. Шувалов искал следов бежавшего арестанта на северо-востоке, так как из допросов Рукавицына и других причастных к делу знал о направлении, куда улетел аэростат.
Чиновники ничего не могли узнать, пока не попали в маленький рыбачий поселок Песчаное на Сямозере. От песчанских рыбаков они получили известия, которые заставили их насторожиться. Оказалось, что в день бегства Ракитина рыбак Косицын увидел белое пятно, спускавшееся сверху к Сямозеру. Рыбак заинтересовался странным явлением и, спустив лодку, побежал на парусе туда, где белое пятно исчезло в волнах. Он ничего не нашел и возвратился в поселок.
Подробное донесение пошло в столицу. Читая его, Шувалов удовлетворенно хмыкнул. При очередном докладе императрице он упомянул о Ракитине. Елизавета Петровна загорелась любопытством:
– Ну, что о нем слышно?
– Есть серьезные основания полагать, что он погиб во время бегства.
– А шар? Что с шаром? – лукаво прищурилась Елизавета.
– О шаре ни слуху ни духу, – на этот раз совершенно искренне ответил глава Тайной канцелярии.
– Поставьте на этом деле крест, – распорядилась Елизавета.
Розыски Ракитина были прекращены.
Эпилог
Семен Кириллович Нарышкин давал бал по случаю своего рождения. Кончился ужин. В зеленой зале на хорах играл оркестр. Гости танцевали. Сам хозяин с несколькими друзьями находился в гостиной, заново отделанной в стиле Людовика XIV. Приятель Нарышкина, молодой князь Куракин, восхищался мебелью:
– Ужасть, ужасть, как прелестно, Семен Кириллович! Воображаю, как дорого обошлась тебе обстановка сей залы!
К разговаривающим подошел Ломоносов.
– Узнаю работу Маркова, – сказал он. – Замечательный мастер! Глубоко сожалею о его горе. Потеря племянника, моего адъюнкта Ракитина, тяжела для стариков…
– Тсс… – Нарышкин поднес палец к губам. – Вы касаетесь запретного предмета. Приказ императрицы…
Михайла Васильич с упрямством человека, знающего себе цену, продолжал:
– Я чрезвычайно сожалею, что дан приказ замять это дело. Почему мы должны замалчивать славу русской науки? Неслыханное достижение Ракитина прогремело бы по всей Европе – я сам собирался писать об этом.
– Приказ исходит от самой государыни, – предостерегающе повторил Нарышкин.
– Знаю, все знаю и чувствую, что другие похитят наше первенство в завоевании воздушной стихии… – горестно сказал академик.
К собеседникам лисьей походкой подошел вельможа в раззолоченном мундире, с голубой лентой через плечо, увешанный орденами и звездами. Это был начальник Тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов.
По смущенному лицу Нарышкина опытный шеф российской инквизиции сразу догадался, что разговор шел на запретную тему.
Шувалов рассмеялся:
– Вчера заключены в Петропавловскую крепость два мещанина из Новой Ладоги за распространение ложных слухов. Но в доме нашего почтенного хозяина и в моем присутствии вы, господа, можете свободно разговаривать о чем угодно.
Куракин все же незаметно ускользнул. Ломоносов смело обратился к Шувалову:
– Скажите, Александр Иванович, неужели нигде не нашли следов Ракитина?
Шувалов развел руками:
– Как в воду канул. Да, да, именно в воду… Я не имею права сказать больше ни слова.
Вельможа поклонился Нарышкину и Ломоносову и отошел к другой группе гостей.
Михайла Васильич сказал:
– Наша косность, наш страх перед всем новым погубили гениального инвентора, имя которого следовало бы поставить рядом с именами величайших мужей науки.
И он грустно замолчал.
Марковы узнали о судьбе Дмитрия от писаря Сыскного приказа Ксенофонта Первушина. Егор Константиныч сразу одряхлел. Им овладела глухая старческая апатия. Он оживлялся лишь в тесном семейном кругу, рассказывая об опытах с летучими шарами.
Марья Семеновна горько плакала над судьбой приемного сына. Она без помехи слагала причитания и по целым вечерам говорила с Андрюшей о детстве Дмитрия. Она без конца рассказывала, какой Митя был сильный, смелый, великодушный.
Но однажды прислуга вызвала Маркова в кухню. У порога стоял странник, седой, но еще бодрый старик. Он сунул Егору Константинычу в руку записку со словами: «Тебе, барин!» – и исчез.
Марков, недоумевая, поднялся в кабинет, развернул записку. На ней четким Митиным почерком было написано несколько строк:
«Милые мои родные!
Когда получите эту весточку, я буду далеко на востоке. Свет не без добрых людей. Выбравшись из Сямозера (туда упал летучий шар) в одном белье, я попал к рыбакам. Они меня одели, снабдили всем необходимым и посоветовали держать путь за Урал. А мне дали крепкое слово, что начальство о моем появлении у них в деревне ничего не узнает.
Я решил пробираться в Сибирь, а там что бог даст…
Надеюсь на встречу с вами, хотя, быть может, и не скорую! А в ожидании, дорогой дядюшка, берегите чертежи летучего шара и расчеты Михайлы Васильича, вдруг все это когда-нибудь еще и пригодится.
Крепко вас целую. Навек ваш Митя.Август 1757 года».Напрасно старики всполошили весь дом, послали Якима и других слуг разыскивать загадочного посланца: он скрылся неведомо куда.
В доме Марковых поселилась надежда.
Судья Стерлядкин получил жестокий нагоняй за то, что упустил Горового. Алексей оказался в глазах Тайной едва ли не главным виновником событий, происшедших в Ново-Ладожской тюрьме.
Розыски Горового велись не менее тщательно, чем розыски непризнанного инвентора Ракитина. Ведь дело побега важного преступника закончилось совершенно необычайным для тогдашних времен образом: совершилось неслыханное нарушение государственных законов, а главные виновники ускользнули от наказания.
Суду требовалась искупительная жертва, и этой жертвой предназначено было стать беглому мушкатеру.
Но Алексей Горовой исчез так же бесследно, как Дмитрий Ракитин. Русский народ не любил выдавать своих отважных сынов.
Примечания
1
Шуцман (нем.) – полицейский.
(обратно)2
Пароль доннэр (фр.) – честное слово.
(обратно)3
Любисток – многолетнее травянистое растение из семейства зонтичных. Его корневища употребляются в медицине.
(обратно)4
В старину самоедами называли обитателей Севера ненцев.
(обратно)5
Горновщик – рабочий у металлоплавильной печи (горна).
(обратно)6
Негоциант – оптовый купец, ведущий крупные торговые дела с другими странами.
(обратно)7
Экзерциция (лат.) – упражнение.
(обратно)8
Адъюнкт (лат.) – помощник.
(обратно)9
Гроот (1716–1749) – придворный живописец Елизаветы.
(обратно)10
Петр I называл Северную войну «трехвременной школой», потому что время обучения в школе обыкновенно занимало семь лет, а война со шведами, великая школа для России, продолжалась втрое дольше – двадцать один год (1700–1721).
(обратно)11
Дени Папен (1647–1714) – французский физик, один из изобретателей парового двигателя.
(обратно)12
Гороскоп (греч.) – таблица расположения небесных светил в момент рождения человека. По ней будто бы можно было предсказать его судьбу.
(обратно)13
Написанная Ломоносовым в 1747 году «Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны» Невтон – так в старину писалась фамилия Исаака Ньютона.
(обратно)14
Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – выдающийся английский философ-материалист. Рене Декарт (1596–1650) – известный французский физик, математик, философ.
(обратно)15
Так Ломоносов называл молекулы.
(обратно)16
Червонец – золотая монета трехрублевого достоинства, которую начали чеканить при Петре I.
(обратно)17
Ефимок – старинная серебряная монета, обращавшаяся на Руси; выпускалась она в Германии, в городе Иоахимстале.
(обратно)18
Заемное письмо (стар.) – вексель.
(обратно)19
Посадские – ремесленники и мелкие торговцы в старинных русских городах.
(обратно)20
Пуд – старинная мера веса, 16 килограммов.
(обратно)21
Елизавета Петровна (1709–1761) – младшая дочь Петра I и Екатерины I.
(обратно)22
Государственные деятели в царствование Анны Иоанновны и Ивана Антоновича.
(обратно)23
Тайная канцелярия – учреждение, занимавшееся расследованием важных политических преступлений.
(обратно)24
Человек, сказавший «Слово и дело», обязывался открыть важную государственную тайну.
(обратно)25
Авантюрьер – так в старину называли авантюристов.
(обратно)26
Волюм (фр.) – толстая книга.
(обратно)27
Шлафрок (нем.) – утренний халат.
(обратно)28
Сумароков Александр Петрович (1717–1777) – русский писатель, автор многих стихов и драматических произведений.
(обратно)29
Xорев – герой одноименной трагедии Сумарокова.
(обратно)30
Оснельда – героиня трагедии Сумарокова.
(обратно)31
Пантомима (в XVIII веке говорили «пантомина») – театральное представление без слов, с одними жестами.
(обратно)32
Берг-коллегия – высшее государственное учреждение, ведавшее горной и смежными отраслями промышленности в России.
(обратно)33
Клеврет – приверженец, приспешник.
(обратно)34
Фузея – старинное огнестрельное оружие.
(обратно)35
Гашник (стар.) – шнурок или ремешок, которым подвязывались брюки.
(обратно)36
Погостами на Севере называют деревни.
(обратно)37
Рождество праздновалось зимой, за неделю до Нового года.
(обратно)38
Шихта – смесь материалов, закладываемых в доменную печь; состоит из руды и облегчающих плавку примесей, флюсов.
(обратно)39
Суем (северн.) – собрание, сходка.
(обратно)40
Отирать руки (стар.) – собирать подписи под заявлением.
(обратно)41
Шпиг (стар.) – шпион, сыщик.
(обратно)42
Ярыжка (стар.) – мелкий полицейский чиновник.
(обратно)43
Будочник (стар.) – нижний полицейский чин. Постом для него служила деревянная будка.
(обратно)44
Ровно в полдень на Петропавловской крепости раздавался сигнальный пушечный выстрел.
(обратно)45
Лонись (народн.) – в прошлом году.
(обратно)46
Бирюч (стар.) – вестник, глашатай.
(обратно)47
Электроскоп – прибор для обнаружения электрических зарядов.
(обратно)48
Впоследствии эти два рода электричества стали называться положительным и отрицательным.
(обратно)49
Je vous prie (фр.). – Я вас прошу.
(обратно)50
Граф К.Г. Разумовский (1728–1803) – президент Академии наук с 1746 до 1765 год.
(обратно)51
Генерал-фельдмаршал Христофор Миних (1683–1767) – на русской службе с 1721 г Командовал армией в русско-турецкой войне 1735–1739 гг. Играл большую роль в политике России.
(обратно)52
Остров Ветка на реке Сож в XVII–XVIII вв. служил центром средоточия русских старообрядцев. После разделов Польши Ветка вошла в русские пределы, и Екатерина II переселила ее обитателей на Алтай.
(обратно)53
Je vous aime…(фр.). – Я вас люблю… Bitte, trinken!Ле уоиз аше… (нем.). – Пожалуйте выпить.
(обратно)54
А. И. Шувалов – начальник Тайной канцелярии.
(обратно)55
Феория (стар.) – теория.
(обратно)56
Ивана Антоновича задушили тюремщики 5 июля 1764 года, когда его пытался освободить подпоручик В.Я. Мирович.
(обратно)57
Сентенция – вывод, в данном случае – приговор.
(обратно)58
Синодик (греч.) – книжка, куда записывались для поминовения имена умерших.
(обратно)59
Тайная канцелярия пробовала вести с Пруссией переписку от имени Зубарева, но это не принесло никаких результатов. Тем временем Зубарев умер в тюрьме в ноябре 1757 года.
(обратно)60
Карбованец (укр.) – рубль.
(обратно)61
Цейхгауз (нем.) – военный вещевой склад.
(обратно)62
Потентат (лат.) – царствующая особа.
(обратно)63
Регламент (фр.) – устав.
(обратно)64
Инвенция (лат.) – изобретение.
(обратно)65
Применяются в опыте, показывающем давление атмосферы.
(обратно)66
Аршин – старинная мера длины, около 71 сантиметра.
(обратно)67
Сажень – старинная мера длины, три аршина.
(обратно)68
Генерал-аншеф – высший генеральский чин в царской армии.
(обратно)69
Так в старину называли естественные науки – физику, химию, астрономию.
(обратно)70
Иностранная золотая монета с изображением головы.
(обратно)71
Преференция (лат.) – выигрыш, предпочтение.
(обратно)72
Регалии (стар.) – знаки отличия, медали, ордена.
(обратно)73
Вязать и разрешать – церковное выражение: не прощать грехи и прощать.
(обратно)74
Ефиопия (Эфиопия) – Абиссиния. Здесь: мифическая страна, где живут сказочные существа, ефиопы.
(обратно)75
Церковники считали, что Бог сотворил мир за 5508 лет до нашей эры (5508+1757=7265).
(обратно)76
Козны (народн.) – бабки.
(обратно)77
В тарабарской грамоте согласные буквы русского алфавита располагаются в два ряда и буква верхнего ряда заменяется буквой нижнего или наоборот:
(обратно)78
В воскресенье или никогда.
(обратно)79
Библейская книга, где в мистической форме рассказывается о втором пришествии Христа и Страшном суде над людьми.
(обратно)80
Цейхгауз.
(обратно)81
Рандэву (фр.) – свидание.
(обратно)82
Кэ вуле-ву? (фр.) – Что вы хотите?
(обратно)83
Борова – зигзагообразные каналы в трубе для прохода дыма.
(обратно)84
Эмиссар (фр.) – посланец.
(обратно)
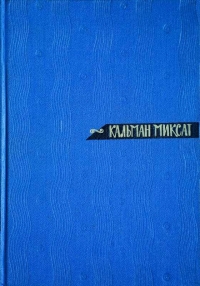





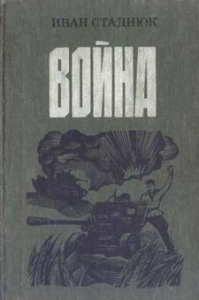
Комментарии к книге «Чудесный шар», Александр Мелентьевич Волков
Всего 0 комментариев