Анри Труайя Свет праведных. Том 1. Декабристы
«Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает…»
Притчи Соломона, 13, 9Из мысли возгорится пламя
Часть I
1
Дорога больше не была видна, ее захлестнул поток военных мундиров, знамен, орудий, который неспешно продвигался меж полей. В такт с этим нескончаемым строем ехал верхом и поручик лейб-гвардии Литовского полка Николай Михайлович Озарёв. Время от времени он приподнимался в седле, пытаясь рассмотреть, что происходит впереди. Впрочем, порядок был известен каждому, ошибиться невозможно: ярко-красное пятно в клубах пыли – лейб-казаки, за ними – кирасиры, гусары и эскадрон волонтеров Прусской королевской гвардии, драгуны и гусары русской царской гвардии. Затем – император Александр в сопровождении короля Пруссии и князя Шварценберга, представителя австрийского императора. Вчерашних триумфаторов – старого Блюхера и Барклая де Толли, получившего чин фельдмаршала прямо на поле боя, – окружали сотни офицеров разных армий европейских стран. За ними – колонна инфантерии войск коалиции, которую и возглавлял литовский полк, второй дивизион русской Императорской гвардии.
Во время последних сражений он находился в резерве. Теперь гвардейцы выглядели бравыми, подтянутыми, веселыми. Ружья радостно поблескивали, солнце играло на штыках, белая кожаная портупея оттеняла вылинявшие зеленые мундиры. Гремели барабаны, тысячи людей шагали в ногу.
Только молодые офицеры-пехотинцы, у которых были лошади, получили право ехать верхом, а не идти общим строем, как на обычных парадах. Николай радовался этому обстоятельству, так как мог наблюдать за происходившим вокруг. Его кобыла Китти была не слишком хороша собой – толстый, в яблоках, живот, короткая шея, худые ноги. Что ж, он никогда и не собирался соперничать в элегантности с кавалеристами. Обернувшись, юноша взглядом отыскал замыкавших марш кирасиров и конных гвардейцев. До самого горизонта все было в голубоватой дымке, сквозь которую вспыхивали вдруг кирасы. Несмотря на усталость и потери, армия казалась все столь же многочисленной и мощной. Вкус победы был еще так свеж этим теплым мартовским утром 1814 года! Тела убитых убрали подальше, чтобы расчистить дорогу. Озарев старался не думать о них, чтобы не испортить себе настроение, хотя уголком глаза не мог не замечать: безжизненные куклы с грязными лицами, распухшие лошади с одеревеневшими ногами, изуродованная пушка, увязнувшее в земле ядро, походный ранец, а под ним кто-то, лежащий, уткнувшись лицом в землю. Говорят, что с обеих сторон погибших – тысячи.
Тополя слева от дороги пострадали от перестрелки, справа пейзаж остался в неприкосновенности: склоны холмов, покрытые виноградниками, утопающие в нежной зелени домики, ветряные мельницы с застывшими крыльями. На вершине холма замерла сигнальная вышка, смолкли батареи, которые еще недавно грохотали, окутанные белыми облаками. Полки, словно гусеницы, тянулись по равнине в боевом порядке. Царь со своим штабом остановился на возвышенности, откуда хорошо просматривались окрестности…
Убаюканный мерным шагом Китти, всадник раз за разом воскрешал в памяти то странное мгновение сразу после захода солнца, когда внезапно на них обрушилась тишина. Офицеры беспокойно спрашивали друг друга о причине передышки. Во все стороны спешили гонцы – лица красные, взгляд исполнен важности. И вдруг земля взорвалась единым криком, который, будто волна, зародившаяся в предместьях города, несся, вздымаясь ввысь: «Париж!.. Париж сдался!.. Ура!..» Солдаты обнимались. Вскоре прибыл штабной курьер, подтвердивший известие: на постоялом дворе ля Шапель недалеко от заставы Сен-Дени маршал Мармон и представители русского царя заключили перемирие. Наполеону оставалось полагаться на восточные провинции страны, столица была занята неприятелем. Означало ли это конец войны? Вчера, сразу после того, как прозвучал сигнал прекратить огонь, Николай с несколькими товарищами отправился в Бельвилль разжиться вином. Солдаты – русские, французы, немцы, австрийцы, – выломав двери подвалов, утоляли жажду из одних бочек, поставив оружие у стен – чтобы не мешало. «Мне только двадцать, и в моей жизни уже был столь славный день!» – подумал Озарёв, горделиво глядя вокруг, как бы позируя незримому художнику. Он многого ожидал от Парижа – города искусств, философии и доступной любви. И еще никогда не был так признателен родителям, которые дали ему хорошее «западное» образование. Благодаря воспитателю-эмигранту мсье Лезюру, манерному, но бедному, с малых лет ему было столь же легко говорить по-французски, как и по-русски. Это пригодится, чтобы завоевать, утверждают его приятели, симпатии парижан и благосклонность парижанок. Всего одна верста до заставы Пантен! Полк остановился, чтобы привести себя в порядок, прежде чем войти в город. Согласно приказу, гвардейцы расчехлили и приготовили парадные кивера с черными султанами. Сменили походные штаны на белые, чистые, хранившиеся в ранцах. Поручик спешился, чтобы тоже переодеться. Так, смеясь, вся русская пехота стояла без штанов вдоль дороги. Две изумленные крестьянки убегали через поля, подгоняемые солдатскими шутками. Закончив со своим «туалетом», Николай осмотрел подчиненных: на месте ли все пуговицы, хорошо ли начищены. Полковник де Полиньяк, французский эмигрант, начальник батальона литовского полка, пройдя между рядами, остался доволен и приказал выступать.
Молодой человек, вновь сидя в седле, в душе готовился пережить еще более волнующие мгновения. Вот уже стоящие вдоль дороги сады становились меньше, дома – солиднее, но и грязнее – теснились друг к другу. Быть может, это предместья Парижа? Бедно одетые мужчины, женщины, дети показывались на пороге своих жилищ, на лицах был страх. Помпезность парадного марша со знаменами и оглушительным боем барабанов отчаянно контрастировала с мрачной апатией местных жителей. «Ясно, что они нас не любят, – с грустью подумал Озарев. – Боятся нас. Но когда-нибудь, даже те, кто сейчас относятся к нам враждебно, будут благодарны, что мы освободили их от кровавого тирана». Подобное убеждение разделяли многие его товарищи. Да и могло ли быть иначе, когда столько французов сражались в одном строю с русскими? Полиньяк, Рошешуар, Ламбер, Дама, Монпеза, Рапатель, Буте… В союзнической армии было столько представителей разных наций, столько разных мундиров и знаков отличия, что было решено, во избежание недоразумений, каждому носить на рукаве белую повязку. Солдаты довольствовались тряпками, более или менее чистыми, Николай воспользовался двумя батистовыми носовыми платками, которые связал уголками. Перед ним, насколько хватало взгляда, все были отмечены этим знаком мира. Звуки барабанов и труб все резче отзывались в узких улицах. Строй прошел под внушительной каменной аркой, повернул направо – впереди расстилалась улица со множеством деревьев и высокими домами: юноша, накануне внимательно изучивший план Парижа, знал, что, войдя в город через ворота Сен-Мартен, войска должны были теперь следовать вдоль бульваров.
Говорили, что государи будут принимать парад на Елисейских полях. По мере того как победители продвигались к центру города, росло число зевак. Согласно условиям заключенного перемирия, части французской регулярной армии ночью покинули город, остались только представители национальной гвардии, призванные поддерживать порядок. В голубых мундирах с эполетами и ярко-красными обшлагами, в белых штанах и высоких гетрах, они стояли живой изгородью вдоль улиц, пока мимо проходили те, с кем они еще вчера сражались. Озарёв украдкой посматривал на их лица и не отказывал себе в удовольствии пожалеть недавних противников, за спинами которых волновалась парижская толпа. Все окна были открыты настежь, в каждом – любопытные. Самые отчаянные забирались на деревья, крыши карет и домов. Внезапно раздались крики: «Да здравствуют союзники! Да здравствует император Александр! Да здравствует мир! Долой тирана!..»
Возгласы эти, столь не похожие на враждебное молчание окраин, удивили Николая: казалось, они не просто проходят квартал за кварталом, но попадают из одной страны в другую. Элегантно одетые женщины аплодировали, махали шарфами, шляпками, лентами, мужчины в ярких жилетах приветствовали победителей носовыми платками, шляпами, тростями. Некоторые прицепили белые банты. Стоявший в первом ряду господин с налитым кровью лицом прорычал:
– Трон – Бурбонам!
И в тот же миг что-то ударило всадника по щеке – букет. Прежде чем мелькнула мысль, что хорошо бы поймать цветы, те уже упали. Он галантно поднял их и приколол на мундир. Потом вдруг испугался – не слишком ли этот жест театрален? Но нет, раздались приветствия, и пронзительный женский голос воскликнул:
– Браво! Браво русским!
Озарёв просиял от счастья и огляделся. Впрочем, напрасны были его попытки различить тех, кто воздал ему должное, вокруг было слишком много людей, их лица мешались. Он погладил лошадь – Китти благодарно повела головой снизу вверх. И приободрился: «Должно быть, я хорош верхом. Как прекрасно быть русским в эту минуту! Благословен будь, наш дорогой император, за эту невероятную славу, которой мы обязаны ему». Грубый голос, раздавшийся с левого фланга, заставил его почти подпрыгнуть в седле – каптенармус Матвеич, не замедляя шага, орал:
– Ваша светлость, они отрежут нас от полка! Надо что-то делать!..
Толпа прорвала ограждение и высыпала между взводом пехотинцев, которым командовал Николай, и остальным батальоном, уходившим все дальше. В мгновение ока русские оказались окружены сотней радостных, возбужденных людей.
– Позвольте нам пройти, господа, – начал офицер. – Вы же видите, что задерживаете движение. Освободите улицу!..
– Да он говорит по-французски совсем как мы!.. А нас уверяли, что это – варвары!.. Откуда вы, милый молодой человек?..
Искренне тронутый, тот думал было ответить, но только напрасно потерял время: его лошадь, зажатая толпой, не могла сделать больше ни шага, не раздавив кого-нибудь. Хорошенькая блондинка, дерзко глядя на него, теребила уздечку.
– Оставьте, мадам, – выдохнул верховой. Потом поднялся в стременах и закричал: – Если вы не разойдетесь, я прикажу своим людям применить силу.
И повторил то же самое еще раз, по-русски. Нахмуренные брови, казалось, должны были придавать лицу воинственное выражение. Ответом ему был металлический звук за спиной – солдаты держали оружие наперевес, готовые к атаке. Толпа расступилась.
– Вперед! – скомандовал, покраснев, Озарёв.
Вскоре его взвод догнал полк: вновь весело и громко зазвучали трубы, пехотинцы зашагали в ногу с товарищами. Жители столицы все так же приветствовали их появление. На углу бульвара движение остановилось, командиры проверили строй. Николай был слишком взволнован при мысли, что пройдет парадным шагом мимо царя именно там, где был обезглавлен последний французский король.
Неожиданно фасады домов расступились, полк оказался на бывшей площади Людовика XV, заполненной разноцветной толпой, воздух дрожал от рева труб и гула барабанов. Государи-союзники, верхом, были в конце зеленого проспекта. Гвардейцы Литовского полка, строем по тридцать, шли, словно хорошо отлаженные автоматы. Вытянув саблю книзу, повернув голову направо, насколько хватало сил, Озарёв приближался к императору. Тот одет был в форму кавалергардов, на груди – голубая лента ордена Святого Андрея. Плечи казались шире под тяжелыми позолоченными эполетами, зеленая треуголка, украшенная перьями, сдвинутая немного набок, оттеняла лицо – поразительно молодое, серьезное. Прекрасная серая кобыла была когда-то подарена ему Наполеоном. Его окружали прославленные военные, но молодой человек видел только Александра – освободителя, обезглавившего гидру, Агамемнона нового времени. Доля секунды – и вот уже эта великолепная картина не более чем воспоминание.
* * *
Ближе к вечеру начал накрапывать дождь. Литовский полк, пройдя парадным шагом через весь Париж, остановился лагерем на полях близ деревни Нейи. Сложили оружие, разбили три палатки – для командира и офицеров из его окружения, предполагалось, что задержаться здесь долго не придется. Но часы шли, никакой команды не поступало.
Николай решил пройтись. Полковое знамя, которое воткнули прямо в землю, охраняли двое часовых, фонарь, стоявший рядом, освещал их, будто актеров на подмостках. Дождь прекратился. Солдаты, сняв мундиры, на корточках сидели вокруг костра, скорее дымившего, чем горевшего, разговаривали. Кто-то пришивал пуговицу, счищал грязь с подошв, кто-то обтачивал палочку, просто чтобы чем-то заняться, ординарец выбивал пыль из офицерской шинели. Ржали на привязи лошади. Старый усатый барабанщик учил своему искусству юношу шестнадцати лет, больше походившего на переодетую девушку. Возвратился наряд – дежурные принесли воду. У котелка раздавались взрывы смеха. Озарёв почуял запах щей и понял, что проголодался. Офицерский паек был скромным: селедка, каша, сыр. Его личные запасы остались в багаже, который исчез накануне вместе со всем обозом и людьми, к нему приставленными для охраны. Молодой человек беспокоился, удастся ли ему вновь свидеться со своим слугой Антипом – хитрым, ленивым, болтливым, но одним из самых умных крепостных его семьи, за что отец и доверил ему сопровождать сына. «Не отходи от него ни на шаг! Не спускай с него глаз! Ответишь мне за него собственной шкурой!» Бравый офицер до сих пор слышал это грозное напутствие и вновь видел родителя, стоящего перед испуганно собравшимися у крыльца крестьянами: стальной взгляд, ноздри раздуваются. За ним – Мари, младшая сестра Николая, бледная, беспомощная, сердце сжималось при вспоминании о ней. Их мать умерла шесть лет назад, эта потеря еще больше сблизила их. Как там она, в их Каштановке, рядом с подозрительным, обидчивым, страдающим всевозможными маниями батюшкой? Письма в Россию шли долго: «Завтра напишу ей и расскажу обо всем: сражение, Париж, как прекрасны были на параде мои солдаты…»
Брат был горд своей принадлежностью к Литовскому полку, а ведь он и пальцем не пошевелил, чтобы попасть в него: в 1812 году был еще мальчишкой, учился во втором кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, когда весть о взятии Москвы всколыхнула всю Россию. Вскоре возглавлявший школу полковник объявил, что ввиду огромных потерь лучшие ее воспитанники досрочно получат офицерское звание. Серым ноябрьским утром всех их собрали в актовом зале, построили вдоль стены. Прибыл Великий князь Константин в мундире конных гвардейцев – широкие плечи, приплюснутый нос, рыжие брови. Не став слушать директора, потребовал кусок мела. Потом прошел вдоль юношей, парализованных ужасом, и начертал у каждого на груди какие-то каббалистические знаки – кресты, треугольники, окружности, квадраты. Затем по приказу вызывавшего страх Великого князя учащихся разделили на группы: квадраты к квадратам, кресты к крестам. Озарёв, на котором красовался треугольник, узнал, что призван служить в ряды лейб-гвардии Литовского полка. Все это теперь казалось таким далеким и таким несерьезным! Как будто провел в армии по меньшей мере лет десять: Богемская кампания, сражения у Дрездена, Кульма, Лейпцига, переход через Рейн, битва при Эмсе, Париж… Столько раненых и убитых товарищей! Последний – малыш Фадеев, павший у Бельвилля. Пуля попала ему в лоб. Крови почти не было, только восковая бледность и желтые зубы за посиневшими губами. За день до этого он обсуждал, как закажет новый мундир и какую славную жизнь будет вести во французской столице. Погруженный в раздумья, командир взвода наткнулся на повозку с провизией, притулившуюся у дерева, ее вид вновь напомнил о голоде. Маркитант встретил его словами сожаления:
– Ваша светлость, могу предложить только пряники и табак.
Поручик Ипполит Розников, который восседал на барабане и что-то жевал, проворчал:
– Этими пряниками только улицы мостить!
Николай тем не менее купил несколько. Подошли другие офицеры – беззаботные, веселые, впрочем, не без недовольства сложившимся положением дел. Тон задавал Розников:
– Мы сражались, взяли Париж, теперь парижане едят от души, спят в своих постелях, а мы вынуждены стоять лагерем, голодные, в этой грязи! Где справедливость?..
– Французы не церемонились, когда вошли в Москву! – подлил масла в огонь толстый капитан Максимов.
– Да что они там нашли! – вступил Озарёв. – Руины и пламя. У нас по крайней мере никто не украл нашей победы.
– Думаешь? – возразил Ипполит. – Мой бедный друг, чтобы насладиться Парижем, нужны деньги, много денег. Когда ты последний раз получал жалованье?
– Больше месяца назад!
– Ну и на что ты собираешься вкусить столичной жизни? Пале-Рояль, театры, кафе, гостеприимные альковы…
Он перечислял эти соблазны с такой живой мимикой, что окружающие не могли удержаться от смеха. Медленно опустилась ночь, один за другим в лагере зажглись фонари. Главная палатка светилась, будто огромная лампа под абажуром из промасленной бумаги. Раздался сигнал, сзывавший командиров взводов. Зашлепали по грязи сапоги, позвякивали сабли. Полковник вышел навстречу собравшимся, в руках у него, подобно листу металла, сверкала бумага, которую он не без напыщенности зачитал: согласно приказу командира 2-й гвардейской дивизии генерала Ермолова, Литовский полк немедленно возвращался в Париж, где должен был расположиться в Вавилонских казармах. Молодые офицеры торжествующе перешептывались. Розников толкнул Николая локтем:
– Вавилон! Символ богатства, развращенности и роскоши! В нашей суровой России никому и в голову не пришло бы назвать так казарму. Что ж, друзья, скучать нам не придется! Вперед, на Вавилон!..
Едва новость разошлась по лагерю, как все пришло в движение, младшие офицеры носились туда-сюда, опрокидывая котелки, потрясая кулаками, ругаясь, проклиная подчиненных, обещая им наряды вне очереди. В конце концов удалось собрать людей на дороге. Озарёв верхом впереди вверенного ему взвода. Полк уходил в ночь. Дорогу ему освещали фонарщики, возглавлявшие и замыкавшие шествие.
Часов в десять вечера полк был у заставы Звезды. Крошечные строения с низкими колоннами и треугольными фронтонами в темноте казались греческими храмами. На ступеньках сидели французские гвардейцы, но контроль за въездом в Париж осуществляли казаки, чьи лошади были привязаны к ограде.
Пересекли какую-то площадь, загроможденную каменными плитами: в свете фонарей видно было основание триумфальной арки, которая, вероятно, никогда уже не будет возведена. Четыре огромные колонны нелепо устремлялись в пустоту, как бы символизируя поражение того, кто решил воздвигнуть этот монумент во славу своей так называемой непобедимой армии. Отсюда начинались Елисейские поля, просторные, уходившие в темноту. По обеим сторонам проспекта, между деревьев, горели костры бивуаков. Здесь расположились казаки, чьи песни и смех слышны были издалека.
В полку некоторые устали так, что едва волочили ноги. Дабы поднять боевой дух, полковник приказал играть марш. При первых его звуках все приободрились. По большому мосту перешли Сену. В темноте памятники и дворцы были едва различимы, казались призрачными, как декорации. Париж спал, в забытьи переживая свое поражение. И все же то тут то там открывались окна, загорались свечи, французы и француженки опасливо выглядывали на улицу. Николай хорошо представлял себе их ужас перед этим военным строем, пересекающим город. «Русские! Русские идут!» Одна за другой хлопали рамы, окна закрывались.
Неожиданно полк остановился перед темным зданием, фонарщики выступили вперед, в будке оказался русский часовой. Над входом значилось: «Вавилонская казарма».
– Выглядит невесело! – пробормотал кто-то.
2
На следующее утро после переклички капитан Максимов взял Николая под руку и с таинственным видом увлек в угол двора.
– Смотри, что я получил, – сказал он, вынув из кармана какую-то бумагу.
Это был ордер на расквартирование с печатями и подписями.
– Можешь расшифровать. Все по-французски, ни черта не понимаю.
– Особняк графа де Ламбрефу, улица Гренель, 81, – прочитал Озарёв.
Максимов покачал головой:
– Граф де Ламбрефу! Что за птица?
– Без сомнения, некто весьма любезный!
Капитан презрительно скривил толстые, сочные губы.
– Именно это ненавижу больше всего, – воскликнул он. – Можешь представить, живу у этого французского попугая, который болтает без умолку, а я ровным счетом ничего не разумею?
– Почему бы и нет? Увидите, вы поладите!
– Нет, дорогой мой. Я старый русский вояка, у меня свои привычки. Люблю, например, нашу еду. В какое время он будет кормить меня, этот француз, и что предложит, чем мне отвечать на его комплименты и улыбки? Я все продумал – остаюсь в казарме: матрас здесь не самый мягкий, зато хорошо кормят.
– Вы собираетесь вернуть ордер? – удрученно спросил Николай.
– Да. Если, конечно, ты не захочешь его взять, – сказал, подмигнув, Максимов.
Его собрату по оружию вдруг стало очень весело.
– Вы сделаете так?
– Чего бы это ни стоило! – ответил капитан, лихо сплюнув.
Озарёв порывисто сжал ему руки, сунул ордер в карман и бросился в комнату на втором этаже казармы, которую делил еще с тремя поручиками. К счастью, товарищей на месте не оказалось. Можно было сколь угодно долго располагать осколком зеркала, которое укрепил на стене некий офицер наполеоновской армии, наверняка франт.
Очень не хотелось выглядеть кое-как, впервые представ на пороге нового жилища. Бегло взглянув на себя в зеркало, молодой человек остался доволен: отменная выправка, рука небрежно лежит на эфесе шпаги, на лице – гордость победителя и благородство, как и положено офицеру русской армии, вошедшему в Париж. Загар оттенял светлые, шелковистые волосы, делая рельефнее высокие скулы, квадратный подбородок, тонкий, слегка вздернутый нос. Глаза, не слишком большие, радостно сияли. Темно-зеленый мундир с красным воротником и отворотами, золотыми пуговицами, белые штаны, заправленные в высокие черные сапоги, серебряный пояс, который перетягивал так, что трудно было дышать. Два аршина, десять вершков, железные мускулы, желудок, который переварит и камни, нежное, горячее, нетерпеливое сердце… Поправил манжеты, привел в порядок черный султан на кивере и вышел, готовый покорить мир.
Десять минут спустя Николай миновал караульных, которые отдали ему честь, и впервые зашагал по Парижу один. Улица была узкая, грязная. Прохожие с любопытством оглядывали его форму. Позади неизменно слышался шепот:
– Видели русского?.. Посмотрите, русский!..
Он спросил дорогу. Какой-то господин в ярко-синем костюме любезно объяснил:
– Поверните направо на бульвар Инвалидов и идите по нему до эспланады, улица Гренель в двух шагах оттуда, ошибиться невозможно…
Ошибся, и не раз. В конце концов двое мальчишек в лохмотьях предложили довести его до места за пару су. Пришлось согласиться. Ребятишки семенили рядом, задрав вверх носы и пристально рассматривая султан. У того, что поменьше, были глаза навыкате, огромный лягушачий рот. Второй – весь в веснушках. Поначалу оба хранили молчание. Потом младший заговорил:
– Вы здорово позавчера сражались?
– Я – нет, – ответил офицер, – оставался в резерве. Но мои товарищи…
– Вы выиграли только потому, что там не было Наполеона, – вставил старший.
– Может быть…
Тогда малыш повернулся задом наперед и, быстро-быстро перебирая ногами, засеменил перед незнакомцем, глядя ему в лицо:
– А знаете, все еще не кончено… Он вернется… Кажется, он уже в Фонтенбло!..
– Да, говорят.
– А если вернется, что будете делать?
– Снова сражаться.
– И не думаете, что на этот раз все закончится для вас не так хорошо?
– Нас очень много…
– Правда, – согласился старший. – Повсюду кишат русские, австрийцы!.. Отец говорит, что нас предали!.. А ему приходится видеть немало людей, он – точильщик в Гро-Кайу… Меня зовут Огюстен, а это мой брат, Эмиль… У отца отбоя нет от желающих воспользоваться его услугами… Не хотите поточить вашу саблю?..
Николай засмеялся. Вскоре к их группе стали присоединяться другие мальчишки, этот эскорт несколько смущал его: он боялся выглядеть смешным в глазах прохожих, приосанился, держался с преувеличенной важностью, но ситуация казалась ему все более комичной. Мальчишки тем временем жарко спорили у него за спиной:
– Говорю тебе, это не русский, ведь он говорит по-французски!
– Ну кто же он тогда?
– Эмигрант, наверное!
– Шутишь! А что же в таком разе спрашивает дорогу? Это – русский! Настоящий!
– Посмотри на его форму! Вот это да! А почему у него такие длинные волосы? Это пехотинец или артиллерист? А что у него на боку?
Их подопечный делал вид, что ничего не слышит. Наконец они остановились перед зеленой дверью, над которой висел фонарь. Эмиль и Огюстен протянули грязные руки. Озарёв заранее обменял деньги у полкового казначея. Он положил по су в каждую ладошку и спросил:
– Вы уверены, что это здесь?
– Так же, как и в том, что Наполеон вышвырнет вас вон! – прокричал Огюстен.
Мальчишки бросились наутек. Военный протянул руку к молотку на входной двери. Открыл недовольный швейцар в колпаке – время согнуло его пополам. Завидев мундир, отпрянул, дряблые щеки затряслись. Посетитель осторожно объяснил цель своего визита. Наконец, вздыхая и охая, швейцар провел его через мощеный двор к крыльцу красивого, просторного двухэтажного дома, окна которого были закрыты шторами.
– Я предупрежу графа, – сказал лакей. – Пожалуйте в гостиную.
Комната, в которую прошел Николай, была обшита деревянными панелями цвета морской волны с золотой сеткой, благодаря чему дневной свет приобретал зеленоватые оттенки. Здесь стояла очень красивая мебель с инкрустацией, кресла с выцветшей обивкой. С темных портретов смотрели лица с делаными улыбками и пустыми глазами. На рояле стояли лилии. «Как-то меня встретят? Несомненно, плохо. Я – русский, одно это вызывает неприязнь…» Озарёв все сильнее ощущал себя непрошеным гостем, самозванцем. И внезапно пожалел, что согласился взять ордер: прав был Максимов, место русского офицера – в казарме. «Может, вернуться? Бог с ними, с теплой постелью, хорошей едой, французским языком…» Дверь за его спиной открылась, вошел сухонький старичок, одетый по моде давно прошедших времен. Казалось, он сбежал с бала-маскарада, музыка которого до сих пор кружит ему голову. Над высоким лбом цвета слоновой кости вздымался напудренный парик, из-под выдающегося вперед и загнутого кверху подбородка ниспадало кружевное жабо. Фрак красновато-бурого цвета, кремовые чулки с серебряной отделкой и лорнет на шейной цепочке довершали его облик.
– Капитан Максимов, если не ошибаюсь? – сказал он, глядя через лорнет.
Николай извинился, представился и уверил хозяина, что капитан Максимов искренне огорчен, не имея возможности воспользоваться гостеприимством графа де Ламбрефу. Последний был очарован тем, с какой легкостью собеседник изъясняется по-французски, и пригласил его усаживаться поудобнее.
– Да, господин Озарёв! – воскликнул он. – Признаюсь, я бы предпочел принимать вас у себя в обстоятельствах не столь мучительных! Но кто знает, добрались бы вы до Франции, если бы вас не занес сюда ветер войны? Как вам наша бедная страна?
– Не столь изуродована, как наша, – сдержанно ответил собеседник.
– Я не имею в виду материальные потери! – возразил граф. – Но атмосферу… прием…
Будущий постоялец не хотел быть несправедливым:
– Отношение к нам населения очень разное. В целом я ожидал, что оно будет гораздо холоднее.
Господин де Ламбрефу опустил лорнет и возвел глаза к потолку:
– Нация слишком много страдала от бесконечных наполеоновских войн! Есть фанатичные сторонники императора, которые отказываются признать катастрофу, роялисты, требующие немедленного восстановления трона Святого Людовика, а между ними – множество французов, которые просто радуются тому, что смертоубийство закончилось. Для большинства возврат к мирной жизни компенсирует стыд за поражение. Они больше не рассуждают, а просто дышат. Что касается меня, не стану скрывать, всегда оставался приверженцем Бурбонов. Потому и я, и мои друзья были тронуты, когда увидели, что войска союзников входят в Париж с белыми повязками на рукавах – символом французской монархии!
Удивленный этой взволнованной речью, офицер не преминул все же заметить, что белые повязки, которым граф придавал столь большое значение, были лишь знаком, позволяющим отличить своих от чужих. Это огорчило хозяина, он уткнулся носом в жабо. Впрочем, почти сразу опять поднял голову и весело заключил:
– Ну и ладно! Намерения царя нам хорошо известны. Воззвание, которое по его повелению расклеено по городу, свидетельствует о желании вести переговоры лишь с несколькими представителями семейства Бонапарт, об уважении к династии, создавшей Францию. К тому же господин де Талейран уже созвал Сенат, чтобы сформировать временное правительство. Бонапарт выйдет через одну дверь, Людовик XVIII войдет через другую…
Николай мало что смыслил во французской политике и слушал графа со скукой. Подобное доктринерское возбуждение казалось ему в высшей степени ничтожным рядом с трагическим величием сражений. Единственное, что по-настоящему имеет значение, – изгнание наполеоновских войск из России и триумфальный вход Александра I в Париж. А французы пусть сами разбираются между собой. Будто угадав его мысли, де Ламбрефу неожиданно сменил тему разговора:
– Вы попали в дом, где царит запустение, дорогой господин Озарёв. Опасаясь боев на улицах Парижа, я отправил жену и дочь в Лимож. Если Бонапарт будет вести себя тихо, они скоро вернутся. Но я все болтаю, а вам наверняка не терпится устроиться. Не будет ли вам угодно последовать за мной?
Комната, предназначенная русскому офицеру, располагалась на первом этаже. Стены ее были обиты тканью серо-голубого цвета, над постелью возвышался желтый балдахин, который поддерживали две подпорки из красного дерева. Напротив входной двери была еще одна, выходившая в густой зеленый сад позади дома. Пока он восхищался своим новым местом обитания, прибежал запыхавшийся, обезумевший лакей и сообщил, что швейцар ведет дискуссию с невесть откуда взявшимся человеком, который говорит на тарабарском языке и угрожает переломать все вокруг, если его немедленно не проведут к поручику Озарёву. Взволнованный, тот последовал за слугой и обнаружил рядом со швейцаром, несколько театрально преграждавшим дорогу неизвестному, Антипа – зверский взгляд, прядь волос на лбу, сжатые кулаки.
– Ох! Ваша светлость! – завопил малый осипшим голосом, завидев своего барина. – Скажите этой французской собаке, пусть убирается в свою будку!
– Но когда ты успел прийти? Откуда у тебя мой адрес?
– Прошлую ночь мы оставались в полях, а сегодня на заре всех подняли и повели в казарму Вавилон. Там капитан Максимов сказал мне, где вы… – неистово жестикулируя, объяснял он.
Николай с грустью взирал на его плачевный вид: если военные в русской армии одеты были хорошо, ординарцы напяливали на себя что ни попадя. Наряд Антипа выделялся и на этом фоне: на рыжие волосы он нацепил вылинявшую желтую фуражку, тулья которой сжалась гармошкой, на худых плечах болтался чересчур просторный голубой мундир, снятый, конечно, с убитого французского гренадера, ноги утопали в огромных форейторских сапогах. Экстравагантность костюма искупало предписанное начальством дополнение – на рукаве красовался прекрасный белый шарф. Рядом на земле стояла клетка с двумя курицами, возле нее валялась связка из трех медных кастрюль, из кучи тряпья выглядывало горлышко бутылки. Несомненно, все это было прихвачено на одной из ферм по дороге. Гостю было стыдно перед графом, который наблюдал за происходившим, лукаво улыбаясь.
– А сколько пришлось оставить в казарме, – сказал, подмигнув, Антип. – Поймите, барин, все за раз невозможно…
– Вор, – процедил тот сквозь зубы.
– Не ворует только Христос, да и то потому, что руки у него прибиты!
– И ты смеешь богохульствовать?
– Да если бы я даже захотел расстаться с этими вещами, кто знает, кому их вернуть!
– Что ж, отнеси в казарму, отдай кому-нибудь. И постарайся одеться прилично!
– Сделаю все, что смогу, ваша светлость. Но поймите, дело не в желании, а в средствах. Мы будем жить здесь?
– Да.
– Дом красивый!
– Лишний повод жить в нем достойно. Если услышу малейшую жалобу на тебя, отошлю, отдам в солдаты, прикажу забить насмерть! Понял? А теперь иди, найди мои вещи!
Когда Антип ушел, Николаю пришлось извиниться перед господином де Ламбрефу за его скверные манеры, которые, казалось, не произвели на графа особого впечатления. Напротив, швейцару было приказано считать его неотъемлемой частью населения дома. Квартирант получил разрешение обедать у себя в комнате – еду ему будет приносить его ординарец. Впрочем, этим вечером хозяин рассчитывал видеть гостя за своим столом:
– Придут несколько друзей, вам будет интересно с ними познакомиться. Мы ужинаем в шесть. Жду вас.
Озарёв догадался, что граф хочет представить его приятелям в качестве диковинного зверя. Репутация французов не располагала к благодушию, он опасался показаться неотесанным профессиональным французским острословам и насмешникам – в Петербурге ему не удалось выйти в свет. Но, одолев застенчивость, принял приглашение.
После полудня офицер был в казарме, где полк приводил себя в порядок: чистили одежду, снаряжение, оружие, пересчитывали пуговицы и патроны – намечался смотр. Антип тем временем отнес в особняк на улицу Гренель вещи барина, который вернулся туда к половине шестого. Он успевал только поправить мундир, перед тем как выйти к столу.
При его появлении гости выказали вежливый интерес. В их числе были граф и графиня де Мальфер-Жуэ, оба лет шестидесяти, подагрик-банкир господин Нуай, его сын с вытянутым лицом, хорошенькая молодая женщина – блондинка с голубыми глазами и мушкой над верхней губой, ее муж (годящийся скорее в отцы) – пузатый барон де Шарлаз, двое подростков, чьи кукольные личики застряли в высоких белых воротничках. Николай вскоре чувствовал себя совершенно в своей тарелке, единственное, о чем сожалел, – не мог проникнуть во все тонкости разговора, во время которого то и дело произносились одни и те же имена: Талейран, Коленкур, граф д’Артуа, Нессельроде, Мармон, Бертье, Бонапарт, Мария-Луиза, Меттерних… Сидящих за столом интересовало, что будет делать укрывшийся в Фонтенбло Наполеон: отречется, что, говорят, советуют ему его маршалы, или, влекомый гордыней, через несколько дней объявит войну, – затея, заранее обреченная на провал. В том, что касается будущего Франции, мнения разделились: некоторые, господин де Ламбрефу, например, видели спасение исключительно в реставрации Бурбонов, другие, как господин Нуай, предпочитали регентство Марии-Луизы. Один из молодых людей осмелился произнести слова «республиканская конституция». Новичка в этом обществе удивила свобода, с которой каждый из приглашенных высказывал свою точку зрения на столь серьезную проблему. Было ли так и при Наполеоне? Или только падение Империи развязало им язык? Создавалось впечатление, что у каждого гражданина здесь есть все задатки министра, политика – дело каждого. Подобная дискуссия в России была бы невозможна: всемогущество царя исключало любую попытку критики его решений. Нельзя быть русским, не почитая своего государя, но быть французом и желать смены правительства и режима – можно. «По сути, революция, которую они совершили двадцать два года назад, отметила их всех словно первородным грехом, – думал Озарёв. – Теперь вся их жизнь отравлена стремлением вмешиваться в общественные дела. Они погрязли в разногласиях, цинизме, волнениях и болтовне, пролитой крови своего короля – этом страшном преступлении».
Господин де Ламбрефу сожалел, что из-за трудностей со снабжением продовольствием не мог дать более подходящего ужина, который на деле был и продолжительным, и обильным. Хозяин сам резал мясо, но разносили блюда и разливали вина двое слуг в коричневых ливреях. Озарёва поразило столь малое количество прислуги, в России у человека подобного ранга было бы раз в десять больше челяди. К тому же выяснилось, что слуга во Франции вовсе не раб и ему надо платить! Невероятно! Время от времени, отвлекаясь от общей беседы, кто-нибудь задавал иностранцу вполне невинный вопрос: было ли у него время, чтобы посмотреть Париж? С чего он начнет? Его соседка, хорошенькая баронесса де Шарлаз, в конце концов наклонилась к нему и тихо сказала:
– Странное сборище, не правда ли? Все эти люди пришли сюда, чтобы увидеть настоящего русского, но никто не осмеливается спросить то, что его действительно интересует. Хотя уверяю вас, есть множество важных тем, которые им любопытны!
– Какие же?
– Потом, скажите сначала, что вы о нас думаете!
– До сегодняшнего дня французы были для меня лишь достойными противниками, мне нужно время, чтобы оценить их с иной, чем на поле битвы, стороны.
– Вам действительно хочется лучше узнать их или это всего лишь учтивость победителя? – спросила баронесса с едва заметной улыбкой.
– Уверяю вас, мадам, с давних пор самым заветным моим желанием было попасть во Францию, но я бы предпочел оказаться обычным путешественником.
– И ошибаетесь – вам очень идет военная форма.
Николай покраснел – все гости слышали замечание госпожи де Шарлаз. Затем все поднялись, чтобы перейти в гостиную, где был подан кофе. Господин де Ламбрефу разлил в маленькие рюмки восхитительный ликер. Юноша, сам того не желая, оказался сидящим в тени рядом с баронессой.
– Итак, – вернулась она к их разговору, – вы намереваетесь изучать местные нравы, словно Реомюр – насекомых. Боюсь, вас ожидает много разочарований!
– Если судить по моей первой встрече с парижским обществом, это будет скорее очарование, чем разочарование.
Де Шарлаз легонько стукнула его веером по пальцам, словно предостерегая от поспешных суждений. Он решил, что совершил какую-то неловкость. Но собеседница одарила его ослепительным взглядом:
– Что ж, откровенность за откровенность, отныне я отказываюсь от предвзятых мнений. До знакомства с вами я воображала русских некультурными, дикими, развращенными, кровожадными, всю жизнь проводящими в седле, питающимися салом, своего рода гуннами, обрушившимися на нас из своих азиатских степей! Мне понадобилось всего два часа, чтобы понять, до какой степени я заблуждалась. Вы не откажете мне в удовольствии принять мое приглашение на чай? День я назначу позже…
Озарёв боялся одного – выглядеть чересчур счастливым. Ему пришлось взять себя в руки, иначе глаза его сияли бы слишком ярко: какой успех после первых шагов в свете! Баронесса де Шарлаз показалась гораздо умнее и желаннее, стоило ей обратить на него внимание.
– С радостью, – пробормотал он. – Когда вам будет угодно.
– Быть может, я дождусь возвращения в Париж госпожи де Ламбрефу и ее дочери. Не знаете, когда их ждать?
– Нет.
– Конечно. Вы только-только прибыли, а я уже говорю с вами, словно с членом семьи. Графиня де Ламбрефу – очаровательная женщина, увидите… Ее дочь тоже, хотя не в моем вкусе. К тому же я редко виделась с ней последнее время – она носит траур…
– Потеряла дорогого человека?
– Во всяком случае, близкого, – усмехнулась баронесса. – Мужа, господина де Шамплита.
– Давно он умер?
– Два года назад, полагаю…
– Во время какого сражения?
Собеседница подняла брови и рассмеялась:
– Ох уж эти военные! Они и представить себе не могут, что порядочный человек погибнет иначе, чем со штыком в груди или пулей в голове! Господин да Шамплит никогда не был на войне. Он угас в своей постели сорока двух лет от роду, поверженный горячкой. Говорят, это был исключительный математик и никуда не годный философ. Если хотите узнать о нем больше, поройтесь в библиотеке своего хозяина, там должно быть несколько трудов Шамплита…
Она спрятала лицо за веером и прошептала, уголком глаза следя за собеседником:
– По правде говоря, у меня никогда не хватало смелости прочитать их!
Произнося эти слова, баронесса наклонилась к молодому человеку, у которого голова пошла кругом от запаха ее духов. Туман развеял напудренный паричок господина де Ламбрефу и его вольтеровская ухмылка.
– Что ж, – произнес он, – вижу, русские не сложили оружие, французская кампания продолжается…
Николаю показалось, что это замечание отдает дурным вкусом. Вся прелесть и очарование беседы мгновенно растаяли. Подошли другие гости. Госпожа де Шарлаз величественно поднялась – красивая, белая, теплая, она словно светилась. Друзья называли ее Дельфиной. Юноша завидовал и думал, получит ли и он когда-нибудь такое право. Как эта восхитительная женщина могла выйти за барона де Шарлаза – толстого, бледного, лысого? Он вновь попытался уединиться с нею от других, но та не сделала ничего, чтобы помочь ему, до конца вечера разговор был общим.
К полуночи, отправляясь спать, Озарёв наткнулся на Антипа, который в полном соответствии со своими привычками устроился спать, завернувшись в одеяло, в коридоре под дверью хозяина. Храп его звучал угрожающе. Барин перешагнул через него, стараясь не разбудить, и, высоко держа свечу, вошел в комнату. Он настолько устал от походной жизни, что, казалось, только вытянется на хорошей постели с чистым бельем, сразу заснет. Ничуть не бывало, впечатлений оказалось слишком много. Лежа на спине, скрестив руки под головой, глядя в темноту, он думал о Дельфине с беспокойством, исключавшим саму мысль об отдыхе. «Возможно ли, что я действительно ей понравился? Она искренне хочет меня видеть? Обладание подобной женщиной, должно быть, не менее волнующе, чем въезд в Париж победителем». Эта дерзкая шутка его порадовала, следом навалился невинный сон.
3
Николай, выехав с первыми лучами солнца, к восьми часам пересек городскую черту, двигаясь в направлении Пре-Сен-Жервэ, где стоял отряд Литовского полка и куда он должен был доставить пакет. Хотя после завершающих сражений прошло три дня, множество тел, погибших в Бельвилле, так и не было предано земле, пока их просто убрали по сторонам дороги, чтобы освободить ее для движения. Возле домов, одеревеневшие, безразличные, лежали они под солнечными лучами. У французов на рубашках были голубые пятна от мундиров, промокших от дождей и пота. Лица осаждали стаи мух, липкий, удушающий запах мешался с ароматом лилий, которые только-только расцветали. Жители, укрывшиеся на время боев в Париже, возвратившись, находили на пороге своих домов и в огородах незнакомых мертвецов. Собравшись возле жилищ с разбитыми окнами и почерневшими от пороха ставнями, пытались вытащить оставшуюся целой мебель и утварь. Несколько казаков, сжимая пики, высокомерно гарцевали среди этого развала. Там, где прошли русские, все было тишина и ненависть, казалось, Франция не выносила их. Между тем накануне в Опере публика в исступлении прославляла государей стран-союзников, а тенор Лэ пропел на мотив «Да здравствует Генрих IV»:
«Да здравствует Александр, Да здравствует король из королей!..»Газеты, еще недавно возвеличивавшие Наполеона, теперь осыпали его обвинениями и сарказмами. Горстка роялистов пыталась сбросить статую императора с колонны на Вандомской площади. Детишки из бедных семей продавали на улицах карикатуры на тигра Бонапарта и льстивые портреты русского царя или, протягивая руку за милостыней, распевали куплеты, где восхвалялись победители.
Озарёв предпочитал этому подобострастию дерзкую реплику другого парижского мальчишки: «Так же, как и в том, что Наполеон вышвырнет вас вон!..» Хотя предсказание ребенка вряд ли могло сбыться: да, Наполеон все еще отказывался отречься, его армия располагалась всего в нескольких верстах от столицы, но Сенатом он был низвергнут, спешно сформированное временное правительство готовилось пригласить на трон Людовика XVIII, поговаривали даже, что многие маршалы во главе с Мармоном готовы перейти на службу к союзникам. Наполеону не оставалось ничего другого, как смириться, лишняя бойня у стен Парижа ни к чему.
Командир взвода пехотинцев узнал кабачок, где в ночь заключения перемирия русские и французы вместе ликовали у винных бочек. Теперь здесь было пусто – ни стола, ни скамьи, только осколки устилали пол. В полях жгли мусор, першило в горле от едкого дыма. Солдаты Литовского полка стояли лагерем на окраине разоренной деревни: здесь находился склад боеприпасов и парк повозок, который нельзя оставить без присмотра. Передав пакет начальнику отряда, офицер готовился пуститься в обратный путь. Неожиданно из палатки вышел поручик Ипполит Розников – высокого роста, нескладный, с черными как смоль волосами, крючковатым носом, темными, глубоко посаженными глазами. Он размахивал руками и кричал:
– Подожди! Я еду в Париж! У меня есть разрешение!
Ему повезло меньше, чем Николаю, – два дня провел здесь, вне стен столицы.
– Теперь все изменится, – сказал неожиданный попутчик, устраиваясь в седле. – Послезавтра меня заменит юный подпоручик, который непременно хочет выслужиться. А я в казарму больше не вернусь. Нет, дорогой мой! У меня тоже есть ордер на расквартирование!
– У кого ты будешь жить?
Ипполит скривился:
– Не слишком блестяще – у архитектора. Вдовец, у которого даже нет дочери, а его служанка – усатая матрона шестидесяти лет! Но это Париж, и недостатка в возможностях, думаю, не будет. У тебя в активе уже есть какое-то французское приключение?
– Пока нет, но надежды – большие.
Конечно, он сильно преувеличивал. Дельфина, это имя звучало в его мечтах, не подавала никаких признаков жизни. Разумеется, занимая определенное положение в обществе, ей надо тщательно продумывать все этапы интриги. Подобные женщины тем и отличаются, что будут выдумывать тысячи причин и препятствий, дабы отсрочить наслаждения, что принесет неминуемое поражение. Сорок восемь часов разлуки оказались для юноши мукой, для нее же, несомненно, обыкновенной прелюдией, позволяющей свыкнуться с мыслью о своей неверности. Он благородно выделил ей еще три дня, нет – два, чтобы закончить споры с совестью. После этого можно начать отчаиваться. И с опаской думал: «Неужели я так влюблен, что не могу без нее обойтись?»
– Хорошенькая? – спросил Ипполит.
– Более чем.
– Замужем?
– Увы!
– Это к лучшему. У тебя будет меньше проблем!
– Речь идет о женщине из хорошего общества.
Розников присвистнул от восхищения:
– Это означает, что как истинный человек чести ты мне больше ничего не расскажешь.
– Ничего.
Им встретилась группа русских солдат, несомненно, грабители или дезертиры, которые бросились наутек и скрылись в кустах. Неподалеку, по склону холма, медленно передвигались офицеры, французские и войск союзников. Время от времени они наклонялись, будто собирали что-то, – пересчитывали погибших.
Со стороны Венсенского замка раздавались пушечные залпы: хотя Париж капитулировал, генерал Домесниль, запершись в башне, отказывался сдаться. У заставы Менильмонтан стояли бородатые казаки. Служба взимания пошлины вновь приступила к работе, останавливали и обшаривали все повозки, въезжающие в город.
Смерть осталась за пределами столицы. Ужасающий контраст возник между опустошением и скорбью деревни, усеянной трупами, и парижским оживлением, где гуляющих было много как никогда. Перекусив на постоялом дворе, Николай и Розников вновь оседлали лошадей и направились к центру Парижа. Ипполит непременно хотел видеть, венчала ли все еще вандомскую колонну статуя Наполеона. Она была на месте, но укрыта в рогожу и опутана веревками, свисавшими до земли. У подножия какой-то мужчина продавал белые банты. Покупателей было немного.
Продолжая путь, всадники оказались на улице Сент-Оноре, узкой, с магазинами по обеим сторонам, кишевшей прохожими и повозками, мундирами всех союзных армий: здесь были казаки в красных и синих мундирах, широких штанах, с кнутами и лихо заломленными набок шапками, австрийские офицеры в белой парадной форме, уланы в квадратных головных уборах, гусары с мощными, словно цепи, шнурами. Штатские терялись в этом море эполет, медалей, нашивок, султанов. Женщины в растерянности не знали, куда смотреть.
На подходах к площади Людовика XV людей толпилось все больше – не так давно она стала центром политической жизни Парижа. Здесь, в особняке Талейрана на углу улицы Сен-Флорантен, жил русский царь. Его надежно охраняла рота Преображенского полка. Курьеры, бравые офицеры, дипломаты, полицейские, просители всех мастей входили, выходили, толкали или приветствовали друг друга, создавая впечатление гудящего улья. На стенах соседних домов были расклеены прокламации императора, но редкий прохожий останавливался, чтобы прочитать их, – французы знали все назубок. Наибольшее любопытство жителей столицы вызывали Елисейские поля, где стояли лагерем казаки. Картина, столь знакомая и близкая Озарёву, казалась парижанам чем-то сказочным. Они приходили сюда семьями, чтобы воочию увидеть «дикие степные племена». Зрелище было поучительным и ничего не стоило. То и дело раздавались возгласы:
– Неслыханно!.. В наше-то время!..
Жилища казаков представляли собой связки соломы, которые поддерживали воткнутые в землю пики. Низкорослые лошади на привязи объедали кору деревьев, ветви которых были усеяны выстиранными лохмотьями. Огонь весело плясал под походными котелками. Пахло мехом, салом, навозом. Собаки со всего квартала вертелись вокруг, стремясь прорваться к груде костей. Нисколько не смущаясь многочисленных зрителей, казаки вычесывали вшей, играли в карты, спали, положив голову на седло, жестами объяснялись с разносчиком, предлагавшим апельсины. Почти все были бородаты, лохматы, с раскосыми глазами и детскими улыбками. Проходя мимо, молоденькие барышни опускали глаза. Матери семейств крепче прижимали к себе своих малышей. Мужья расправляли плечи, пытаясь принять вид самый воинственный в своих пальто с бархатным воротничком и шляпах с высокой тульей. Время от времени кто-то из них, в стремлении блеснуть перед супругой, обращался к устрашающего вида казаку. Николай и Ипполит прислушались к одному из разговоров, которые нередко заканчивались обменом сувенирами: цепочка для часов против медали, пачка французского табака против русской чарки с эмалью. На другом конце проспекта, где расположились прусские военные, подобного оживления не наблюдалось.
Приятели пересекли Сену и направились к Марсову полю, там, в казармах Эколь милитэр, устроились гвардейские части. Перед въездом дежурили на посту два гиганта из Павловского полка в сверкающих золотом шлемах. На поле стояли французские орудия, русские офицеры проводили их инвентаризацию. Представители национальной гвардии преграждали путь к бочкам с порохом, куда так и норовили проникнуть зеваки. Далее ощетинились верхушками палатки, слышна была немецкая речь. Ощущение растерянности усиливалось по мере приближения к Инвалидам: казалось, это берега не Сены, а Рейна: вились на ветру знамена, раздавались звуки труб, выпятив грудь вперед, словно голуби, сновали туда-сюда прусские офицеры, где-то работала наковальня, мычали коровы, призванные кормить войска… За оградой меж двух старинных пушек сидели солдаты, получившие увечья во время наполеоновских походов, и с грустью взирали на происходящее. Озарёв признался, что ему жаль их, Ипполит возразил:
– Ты сентиментален и полон ложных идей – сочетание самое страшное! Они – прежде всего солдаты, и они умирали здесь от скуки, теперь же счастливы снова приобщиться к суматошной лагерной жизни, даже если это лагерь неприятеля! Сам поймешь, когда состаришься!..
Молодые люди оставили лошадей в Вавилонской казарме и решили прогуляться пешком до Пале-Рояль, провести там вечер. Проходя через сад Тюильри, обнаружили, как и на Елисейских полях, множество народу – будто все жители Парижа бросили работу ради национального праздника: женщины со счастливыми лицами смотрели на своих детишек, которые носились и дрались среди кустов и статуй, нежились на солнышке старики, прятались в тени влюбленные. У каждого выхода из сада стояли часовые – русский солдат и французский гвардеец.
– До чего беззаботны французы, – проворчал Розников. – Посмотри, кажется, будто это они выиграли войну!
– Одно из качеств цивилизованных народов – никогда не чувствовать себя побежденным!
– Так ты считаешь французов исключительно цивилизованными?! Цивилизованнее, например, нас?
Николай подумал, прежде чем ответить:
– Да, в них больше культуры и меньше души, больше ума и меньше чувств. У нас правят инстинкты, у них – разум.
Он вдруг заметил, что те же слова говорил его отец, поддразнивая воспитателя, мсье Лезюра. Тот краснел, цитировал Руссо и Расина, хозяин дома разражался смехом, Мари отводила полные слез глаза, а ее брат втайне жалел несчастного человека, изгнанного революцией из родной страны и вынужденного жить в доме, где эту родину критиковали. Что думал Лезюр теперь, после падения Наполеона, когда во Францию вошли русские и монархия должна быть вот-вот восстановлена? Его ученики выросли, но он остался при их отце своего рода козлом отпущения: старики не расставались, связанные веселой взаимной ненавистью, которая порой сильнее дружбы. Одному необходимо было подчиняться и бояться, другому – главенствовать, унижать, наказывать. Молодой человек живо воображал их дискуссии в гостиной дома в Каштановке: «Что же вы не едете во Францию? Благодаря нам ее границы теперь открыты для вас. – Я уехал бы немедленно, если бы был уверен, что мне вернут мое состояние. – Так у вас есть состояние? Не знал. Сколько деревень? Земли? Скота? – Сударь, ваша ирония неуместна и ранит меня!..» И так без конца! Озарев покачивал головой, словно в такт знакомой мелодии. Каштановка: старый розовый дом с треугольным фронтоном и четырьмя колоннами с облезшей штукатуркой, липы и рой пчел вокруг, платье Мари среди кустов, пустые качели, самовар на деревенском столе и запах варенья, которое кипит в тазах прямо во дворе… «Когда вновь увижу все это?» Голос Ипполита вывел его из задумчивости:
– Что ты думаешь о Париже?
– Потрясающий город!
– Да, конечно, если видеть только площади и проспекты, но здесь столько узких извилистых улочек, грязных, ветхих домов, темных закоулков! Мне больше нравится Петербург! Там, по крайней мере, порядок, основательность, геометрия. И памятники все новые. Проспекты идут под прямыми углами…
– В Москве нет прямых углов, но сколько очарования в этом хаосе! Что-то от нее теперь осталось?
– Наверное, придется заново строить.
– Но лучше, чем была, сделать вряд ли удастся!
Не сговариваясь, приятели разом обернулись на молодую женщину в муслиновом капоте, быстро шагавшую по улице.
– И все же в одном нельзя быть несправедливым по отношению к Франции – здесь самые красивые женщины!
Делясь своими личными наблюдениями, оба сошлись в том, что у француженок живые глаза, самая маленькая в мире ножка, божественная грация, великолепные округлости и что неслучайно они считаются лучшими любовницами. Разговор случился в высшей степени занимательный, они оказались в Пале-Рояль в самом лучшем расположении духа и с надеждой вкусить радостей любви. К несчастью, о том же мечтали и другие офицеры союзных войск: под аркадами и в садах прогуливались люди в военной форме. Женщины недолго оставались в одиночестве: каждой, моложе сорока, с приятным обхождением, немедленно назначалось свидание. Журчание разговоров время от времени прерывали резкие выкрики торговцев напитком из кокосового ореха и водкой. В лавочках, окружавших сад, можно было найти все, что душе угодно: чулки без шва, веера, парики, жемчужные ожерелья, индийские шали, картинки с изображением любовных свиданий.
Осмотрев витрины, Николай и Ипполит зашли в кафе, где были встречены радостными возгласами – четверо офицеров их полка приглашали выпить с ними пунш. После первых стаканов компания разгорячилась. За соседним столиком сидели французы, гражданские, с белыми бантами в петлицах. Они встали, чтобы произнести тост во славу доблестных союзников. Русским не оставалось ничего другого, как выпить за здоровье соседей. Этот обмен любезностями пришелся не по душе нескольким посетителям, устроившимся недалеко от входа: хмурые лица выдавали в них бонапартистов. Один из них, седой, с черной повязкой на глазу, вдруг встал и громко выкрикнул:
– Я поднимаю свой стакан за истинную Францию, которая еще не сказала свое последнее слово!
Русские офицеры переглянулись – заявление не показалось им оскорбительным, но смахивало на провокацию. Розников, плохо переносивший алкоголь, выпучил глаза и промямлил:
– Что? Что он тут говорит? Хочет замарать нашу честь?
– Нет, Ипполит, – сказал Николай, удерживая его за руку. – Уймись. Это их дело, французов.
Но Розников словно пьянел от собственных слов.
– Хочет замарать нашу славу? – повторял он и стучал кулаком по столу. – Не позволю! Не желаю терпеть!
Его успокоили, предложив выпить за Литовский полк. Почти не переводя дыхание, поручик осушил один за другим три стакана. Следом – Николай. Роялисты за соседним столиком восхищенно покачивали головами:
– Вот это да, ну и желудки у них!..
Все мешалось в голове у Озарёва, происходящее различалось с трудом. Внезапно человек с черной повязкой встал и громким голосом стал перечислять победы Наполеона:
– Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд…
Когда было произнесено «Москова», Розников вскочил и бросился на него со словами:
– Повторите, мсье!
– Москова! – прокричал тот, размахивая невесть откуда взявшейся дубинкой.
Ипполит от удара осел на пол: по правде говоря, он был так пьян, что свалить его ничего не стоило легким прикосновением. Николай загорелся жаждой мести, жестом приказал товарищам оставаться на местах:
– Оставьте! Этот господин должен получить по заслугам от меня. – И двинулся вперед между столиками с хорошо рассчитанной медлительностью. Сердце билось сильнее, обуреваемое самыми разными чувствами – дружбы, справедливости, патриотизма. Люди молча расступались, выстраиваясь вдоль стен. Наконец, он оказался перед обидчиком, смотревшим на него серым, холодным глазом.
– Я мог бы разрубить вас на куски своей саблей, – сказал Озарёв голосом, в котором слышны были все переполнявшие его чувства, – но для вас это слишком большая честь. Ваши деревенские манеры требуют соответствующего наказания. Бросайте свою дубинку, сразимся голыми руками!
Но мужчина не стал его слушать и вновь замахнулся палкой, Николай рукой успел отразить удар, который немедленно отозвался в лопатке. Сдержав крик боли, он выбросил левый кулак и нанес противнику удар в подбородок, потом еще по лицу, увидел, как повязка сползла, обнажив розовое отверстие, схватил палку и обрушил ее на недруга. Началась рукопашная. Молодой человек был сильнее, француз слабел, будто из него выкачали кровь. Наконец, сопернику удалось припереть его к стене: глаз господина затуманился, изо рта текла струйка крови, он задыхался. Озарёв не мог отказать себе в удовольствии просто стоять рядом, не пользуясь очевидным своим преимуществом. Пару мгновений спустя бонапартист подобрал дубинку, отряхнулся и вышел.
Роялисты ликовали, стакан холодной воды привел Ипполита в чувство. Его товарищ гордился своим подвигом, хотя старался этого не показывать, когда русские и французы подошли к нему, чтобы поздравить. Во рту чувствовался неприятный вкус крови, наверное, разбита губа, но он не помнил, чтобы его ударили по лицу. Господин с белым бантом заказал шампанское.
С этого мгновения Николай уже мало что помнил: обильные возлияния, человек двадцать незнакомцев смеялись и кричали у него в голове. Внезапно появились какие-то женщины: напудренное бело-розовое лицо, дерзкий взгляд, надушенные волосы. Парижская гризетка? Или, скорее, проститутка? Одна, Эльвира, страстно обнимала его и шептала: «Мой казак!» Это раздражало, ведь он гвардеец! Что пытался объяснить ей, оказавшись наедине в какой-то комнате. Но малышка настаивала: «Пусть будет казак!» Молодой человек совсем пал духом. Розников оказался в соседней комнате с подвыпившей брюнеткой с усиками. Он плохо говорил по-французски, через перегородку приятель служил ему переводчиком.
– Эй! Николай! Что она сказала? Ты слышал?
– Да. Ты кажешься ей красивым и таинственным.
– А-а! Спасибо! Знаешь, она мила. У тебя как дела?
– Все порядке! – выдохнул юноша, помогая Эльвире расстегнуть платье.
На самом деле все было ужасно: он изнемогал, губа припухла и кровоточила, голова раскалывалась, пылала, и мучила мысль, хватит ли денег, чтобы расплатиться.
4
Озарёв с жадностью перечитал записку и расцеловал подпись: Дельфина приглашала к себе вечером, ближе к полуночи, на «чай по-английски, совершенно импровизированный». Странный, необычный час встречи только укрепил Николая во мнении, что эта женщина – восхитительнейший враг всякой банальности. Аналогичное приглашение получил и господин де Ламбрефу. В салоне баронессы, несомненно, будет толпа, но тем легче двоим переговорить. Дельфина, конечно, предусмотрела это. Единственное, о чем сожалел молодой человек, – его внешний вид, не слишком подходящий для собраний после вчерашнего происшествия: нижняя губа за ночь распухла еще больше и приобрела синеватый оттенок, на щеке красовалась царапина. Пострадал и мундир – воротник был порван. Впрочем, Антип уверял, что быстро приведет одежду в порядок: усевшись на столе посреди комнаты, он широкими жестами орудовал иголкой и напевал душераздирающий мотив. Хозяин, устроившись перед зеркалом, прикладывал к губе компресс, в надежде, что она приобретет нормальные размеры. Время от времени он поворачивался к «портняжке» и взглядом вопрошал о результатах, тот отрицательно качал головой. Николай вздыхал и возвращался к своему занятию, но через два часа безуспешных стараний сдался.
– Барин, в таком виде вы еще привлекательнее для француженок, – посмеивался Антип. – Да разве они знают, что такое настоящий мужчина? Стоит вам только войти, все ахнут!
Озарёв отказывался поддаться этим увещеваниям:
– Как это глупо! Меня станут расспрашивать, что произошло, откуда эта рана…
– А вы поведаете, как поколотили друга Наполеона, и если они христиане, скажут вам спасибо. Глядите-ка, ваш мундир как новенький! Осталось почистить сапоги и погладить рубашку.
– Ты еще не сделал этого? Но чего же ты ждешь? Должно быть, уже десять!..
Вместе бросились к прачкам, которые убежали, испугавшись нашествия русских. Антип завладел утюгом и принялся за глажку, набирая в рот воды и щедро разбрызгивая ее на рубашку: его физиономия с надутыми щеками воплощала мифологическую аллегорию бури. Терпения приглашенного на свидание было на пределе – решительно, ему не удастся быть вовремя.
Успел. Когда натянул белые перчатки и посмотрелся в зеркало, в запасе оставался еще час. Вид портила только губа да не совсем здоровый цвет лица. Наконец, господин де Ламбрефу собрался тоже, они уселись в коляску. Особняк барона де Шарлаз находился на улице Севр. По дороге граф рассказал, что получил счастливые известия о своей семье – письмо привез из Лиможа их знакомый – дней через восемь его жена и дочь рассчитывали быть в Париже.
– Жаль, напрасно отправил их в провинцию, но все мы были в ужасе и разве могли представить, что столица чудесным образом окажется в целости и сохранности. Жена беспокоилась из-за дочери. Она – наш единственный ребенок, из-за грустных перипетий ее жизни она стала нам еще дороже.
Николаю так хотелось произнести вслух имя любимой женщины, что он с большим чувством сказал:
– Знаю, в тот вечер госпожа де Шарлаз рассказала мне о несчастье, которое постигло вашу дочь.
– А! – сухо рассмеялся Ламбрефу. – Вижу, меня обошли на пути признаний. Что ж, тем хуже для меня и лучше – для вас! Баронесса хорошо знает Софи, они вместе были в монастырском пансионе…
Озарёв удивился: исходя из возраста графа, он воображал его дочь сорокалетней, а она, оказывается, молода! Взволновало его и слово «монастырь» – Дельфину растили монашки. Невероятно! Да, эта женщина – кладезь противоречий.
Коляска подпрыгнула на сточной канавке. Двое слуг устремились навстречу гостям. Николай следовал за господином де Лабрефу, подтянутым и надушенным сильнее обычного. Они поднялись по широкой мраморной лестнице и остановились на пороге гостиной, освещенной огромной люстрой. Здесь стоял еще один слуга – в белых перчатках и напудренном парике, который возглашал имена гостей:
– Граф де Ламбрефу!.. Поручик Озарёв!..
Молодой человек вошел и увидел сияющую Дельфину, рядом ее мужа, жирного, бледного. Их окружало блестящее общество. Николай заметил военные формы: две русских, австрийскую и прусскую. На мгновение испугался – конкуренты. Но русские оказались пожилыми полковниками Семеновского полка – все в орденах, лысые и вовсе не элегантные. Поздоровавшись с ними, он почувствовал себя увереннее и в стремлении очаровать хозяйку, которая переходила от одной группы гостей к другой с видом собственницы, гордой своими приобретениями, старался быть как можно обходительнее и непринужденнее. Дельфина, подойдя ближе, вдруг обнаружила его раны.
Рассмеявшись, он забавно описал свою вылазку в Пале-Рояль. В ответ раздались возгласы одобрения:
– Прелестно! Он очень мил! Похоже, на берегах Невы так же весело, как и на берегах Сены!
Молодые женщины окружили офицера-ровесника, что, казалось, очень нравилось Дельфине, которая то и дело уходила, чтобы встретить новых гостей. Впрочем, ненадолго. Несколько дам – в высшей степени изящных – расспрашивали о нравах его страны: правда ли, что в России есть рабство? Женщины в Санкт-Петербурге одеты так же, как в Париже? Каковы там театры, поэзия, еда, танцы, религия? Он старался представить все в лучшем свете. Особый интерес вызывали традиции православной церкви. Близилась Пасха, Николай рассказал, как после всенощной верующие трижды целуют друг друга в щеку, произнося: «Христос воскресе!» Почему-то это позабавило присутствовавших, а Дельфина заметила:
– Но целуются все-таки близкие родственники?..
– Нет, никто не вправе отказать в пасхальном поцелуе.
– Даже едва знакомая женщина или молодая девушка?
– Они, как и все другие, должны подчиниться.
Дамы заговорили о варварских обычиях.
– Успокойтесь, – сказал завладевший их вниманием гость. – Только неверующий может позволить себе вложить в этот братский жест какие-то дурные намерения.
– Когда у вас Пасха? – спросила Дельфина.
– В ночь со следующей субботы на воскресенье. Удивительно, но этом году православная Пасха совпадает с католической!
– Что ж, жду вас в следующее воскресенье в три часа. И вас всех тоже!
Дамы смущенно заулыбались:
– Да, конечно…
– Рассчитываю на вас, – продолжала настаивать хозяйка. – Будет интересно. Посмотрим, осмелится ли господин Озарёв возвестить нам воскресение Христа… по-русски!
– Дельфина, вы неисправимы! – Лица дам оживились.
– А что вы скажете, господин Озарёв?
– Согласен. – Николай по-военному щелкнул каблуками. – Встречаемся здесь 29 марта!
– Как 29 марта?! – удивилась хозяйка. – Уже 5 апреля!
Молодой человек извинился. Как он мог забыть об этом абсурдном разночтении между западным и григорианским календарями!
– И для ваших соотечественников исторический день, когда они вошли в Париж, – это?..
– Девятнадцатое марта 1814 года, – с гордостью ответил офицер.
– Теперь я вижу, как далеки ваше 19 марта и наше. Для нас девятнадцатого марта вы потерпели поражение при Арси-сюр-Об, и только 31-го мы оказали вам честь, позволив освободить нас. С такими временными различиями русским и французам трудно будет договориться.
– Время – всего лишь условность, а никакая условность не устоит перед искренними чувствами!
Последнее соображение вырвалось у него так неожиданно и оказалось столь уместным, что он едва сдержался, чтобы не оказаться столь же взволнованным, как и окружавшие его женщины, разомлевшие от удовольствия. «Хорошо было бы продержаться в том же духе до конца вечера», – подумал Озарёв.
«Чай на английский манер» оказался сытным ужином с обильными возлияниями, включавший, впрочем, и британский напиток. Приглашенных рассадили в двух гостиных за шестью украшенными цветами столами. Эта часть программы понравилась Николаю гораздо меньше – он оказался разлучен с Дельфиной. Но продолжал блистать перед двумя соседками, которые были не молоды и не хороши собой. Особы эти оказались настолько очарованы собеседником, что позволили себе некоторую откровенность. Оказалось, что барон де Шарлаз, который провозглашал себя решительным противником Наполеона, именно императору обязан был свои титулом и богатством, так как служил по части снабжения армии. Что касается графа де Ламбрефу, Революция совершенно его разорила, удержаться на плаву он смог благодаря итальянским капиталам жены. «Франция разделилась! – говорила дама слева. – Старая и новая аристократия ревнуют и ненавидят друг друга!» «Редко встретишь их вместе, как в этом доме, – провозглашала дама справа. – Но баронесса де Шарлаз просто волшебница!» Молодой человек соглашался, отрываясь на мгновение от еды. Чего здесь только не было: бараньи ноги, телячьи отбивные, дичь под соусом. После сладкого заглотил еще и ванильное мороженое, увенчав этой полярной шапкой содержимое своего желудка. Не хватало только водки, чтобы подогреть французские съестные припасы, а от шампанского и ликеров он скоро отяжелел. И заскучал, когда за кофе разговор коснулся политики, он решил не вмешиваться. Обсуждали памфлет некоего французского писателя, господина де Шатобриана, «Бонапарт и Бурбоны», который появился в тот день. Успевшие прочитать его говорили о гениальности автора. Последние сторонники Наполеона после столь убийственной критики спешили отмежеваться от него. Укрывшись в Фонтенбло с оставшимися верными ему солдатами, он, впрочем, отказался от трона в пользу своего сына. Скорее всего, чтобы просто выиграть время. Но союзники не дадут себя провести. Решено, что на заседании 6 апреля Сенат официально призовет на трон Людовика XVIII. Графу д’Артуа Париж и вовсе готовил триумфальную встречу. Какая-то пожилая дама в связи с этим поделилась с русским гостем своими планами:
– Мои внучатые племянники будут участвовать в параде кавалерии, она пройдет перед графом. Экипируются полностью за свой счет, это обойдется им в тысячу двести ливров. Сумма не слишком большая. У них будет белый султан и белая повязка с тремя вышитыми золотом лилиями на рукаве. Когда я думаю о его приезде, боюсь, мое старое сердце не выдержит такой радости!
– Какое это имеет значение, вы же будете лично приветствовать нашего суверена! – заметила, подойдя с чашкой чая в руках, Дельфина.
– Когда, предполагается, граф д’Артуа будет в Париже? – спросил Озарёв.
Баронесса наклонила головку к плечу и кокетливо наморщила губы:
– По французскому календарю или русскому?
– Французскому, другого я теперь не знаю.
– Во вторник, 12 апреля, через два дня после обещанного вами визита по случаю православной Пасхи.
До конца вечера Николай не мог забыть об удовольствии, которое доставили ему эти слова. И даже был любезен с хозяином дома, который, вопреки ожиданиям, был вовсе не глуп и не ревнив. Казалось, забавлялся успехом, каким пользовалась жена у этого юного офицера.
– Приходите, – сказал барон, дружески взяв его под руку.
«Решительно, французы культурнее нас! Русский муж давно бы вызвал меня на дуэль!» – впрочем, эти представления не были подкреплены опытом: на родине Озарёв не успел еще вдоволь повращаться в свете. В три часа утра господин де Ламбрефу увозил в своей коляске счастливого человека.
* * *
В ночь на воскресенье русские солдаты присутствовали на торжественном богослужении по случаю Пасхи. Его проводили посреди полей, в казармах, импровизированных часовнях и даже католических церквях. На утро союзническая армия и национальная гвардия выстроились в каре на площади Людовика XV на праздничную службу. Алтарь возвышался на месте казни Людовика XVI. Войска прошагали парадом перед русским царем и королем Пруссии, затем государи взошли на помост. Едва началась служба, пехотинцы обнажили головы и встали на колени, национальная гвардия их примеру не последовала. Всадники оставались в седле, тоже обнажив головы и опустив сабли. Николай наслаждался необычностью этого зрелища: в самом центре Парижа, рядом с Сеной, напротив сада Тюильри, бородатые священники в золотых облачениях прославляли на церковнославянском Воскресение Господне, вокруг поблескивали хоругви и оклады икон. Солнце стояло высоко. Из кадил вырывались голубоватые облачка. Военный хор пел во всю мощь. Пушечные выстрелы возвестили конец церемонии. Только час спустя литовские гвардейцы смогли покинуть площадь и двинуться в казарму. Впереди шли музыканты.
Солдаты были недовольны, что не получили положенных, согласно обычаю, крашеных яиц, водка оказалась прусской, картофельной. Пилась она, как вода, внутри не согревала. С такой водкой и без яиц, что за праздник! Все мысли обращены были к России, где теперь радостно и обильно отмечали Пасху. Офицеры и те взгрустнули. Единственным, наверное, счастливым человеком в полку был Озарёв, который с нетерпением думал о грядущем свидании с Дельфиной. В каком-то она расположении духа? Помнит ли о своем предложении?
Антип привел в порядок форму барина, тот бросился на улицу Севр.
Баронесса приняла его в маленькой гостиной. Она сидела между двумя молодыми особами, уже знакомыми ему. Собравшись с духом, Николай произнес: «Христос воскрес!» – и в ожидании замер. Хозяйка с наивной грацией подняла к нему лицо, он уважительно трижды легко поцеловал ее в щеки. И покраснел как рак.
– Теперь вы, Мариетта! И вы, Зели! – сказала Дельфина. – Светлой Пасхи!..
Но подруги оказались не столь смелы и, не без жеманства, от поцелуев отказались. На смех пришел барон и, узнав в чем дело, пожелал, чтобы во славу Христа расцеловали и его. Раскрыв объятия, де Шарлаз балаганил, корчил гримасы, глазки его блестели. Гость подчинился, хотя и опасался выставить себя в смешном свете. Но благодарный взгляд Дельфины его успокоил. На этот раз обед был в узком кругу – всего двенадцать приглашенных. Когда все выходили из-за стола, она увлекла Озарёва к окну и сказала:
– Как жаль, что наше свидание вышло таким неудачным – едва перебросились парой слов. Я дам вам знать, когда мы можем увидеться в более спокойной обстановке.
Ее было не узнать – огромные, словно полные слез глаза, розовые пятна на щеках, дрожащая нижняя губа. Не дожидаясь ответа, баронесса уже отошла. Когда Николай присоединился к гостям, дама уже взяла себя в руки. И была столь естественна, что у него возникли сомнения, верно ли понял ее слова.
* * *
Наполеон отрекся от престола и согласился удалиться на остров Эльба, в Париж триумфально вошел граф д’Артуа, Людовик XVIII готовился покинуть Англию и вернуться во Францию, а Николай все ждал, когда Дельфина позовет его. В тот же день, когда в столицу прибыл брат короля, русский царь оставил особняк Талейрана и обосновался со своей штаб-квартирой во дворце Бурбонов. Охрану дворца по очереди несли разные полки. Скоро под командованием капитана Максимова на пост заступил и Озарёв со товарищи. После торжественной смены караула под музыку гвардейцы Литовского полка выстроились по правую сторону парадного двора, французские гвардейцы – группами стояли по левую. Неловкость этих солдат, волею случая, вызвала насмешки русских. Командиру взвода даже пришлось вмешаться и приказать подчиненным вести себя тише.
Когда часовые разошлись, на крыльце появился начальник Главного штаба князь Волконский и величественным жестом подозвал к себе Максимова. Вернувшись к своим, капитан был взволнован.
– Ну и дела! – проворчал он. – Царь ожидает польского генерала Костюшко и желает, чтобы по прибытии ему оказали фельдмаршальские почести. Горе нам, если не встретим его барабанным боем! Но как его узнаешь? Сам я никогда его не видел!
– Я тоже!
– Князь сказал мне только, что у генерала вздернутый нос! Вот вам и примета! Теперь смотри в оба! Ты ведь не хочешь за свою оплошность оказаться под строгим арестом?
Николай живо представил себе, как Дельфина зовет его на любовное свидание, а ему запрещено выходить в город, потому что не поприветствовал вовремя генерала Костюшко!
– Рассчитывайте на меня, – сказал он. – Ни один человек со вздернутым носом не проникнет сюда незамеченным!
Началась сущая пытка: согласно распорядку, только принцы крови имели право доехать в карете до ступеней дворца, все остальные оставляли экипажи у ворот и пересекали двор пешком, обнажив голову. Стоя на посту, офицер беспокойно вглядывался в лица прибывавших. Некоторых узнал: маршалы Ней, Мармон, Бертье, генерал Сакен, барон Штайн… Что до незнакомых ему людей, пришлось полагаться на интуицию, оценивая их значимость. Время текло медленно, но на горизонте не появилось ни одного вздернутого носа. Может, он вообще не придет, этот чертов поляк? Усталость брала свое, к полудню бдительность дежурившего стала ослабевать. Вдруг, при взгляде в направлении предместья Сент-Оноре, его внимание привлек желтый фиакр с написанным огромными цифрами номером, который остановился на улице в двух шагах от ворот. Оттуда не без усилий вылез старик в голубом мундире с шитым золотом воротничком. На боку у него висела крошечная, похожая на игрушку, сабля. На согнутой в локте руке он держал треуголку с черными перьями. Еще не взглянув ему в лицо, молодой человек сразу понял, что это Костюшко, и ринулся к Максимову, выкрикивая сдавленным голосом:
– Прибыл!
Капитан наскоро застегнулся и прорычал:
– Быстро, все во двор!
Когда минуту спустя генерал вошел в ворота, раздалась барабанная дробь, гвардейцы, вытянувшись во фронт, салютовали ему. Тот приветствовал их, вяло махнув рукой. «Только бы это был он! – с ужасом думал Озарёв. – Если это обычный посетитель, для меня все кончено! Строгий арест…» Привлеченный шумом, на крыльце появился Волконский. Удивится или рассердится? Но нет, суровое лицо расплылось в приветливой улыбке, князь протянул руки навстречу прибывшему. Не моргнув глазом, Максимов прошептал:
– Угадали!
Удача явно улыбалась Николаю, а потому он нимало не был удивлен, завидев часа в два Антипа, который прогуливался, заложив руки за спину, по противоположной стороне улицы. Наверное, Дельфина прислала записку на улицу Гренель, верный слуга решил передать ее по назначению. В нарушение всех инструкций хозяин направился к ординарцу.
– Что ты здесь делаешь?
– Пришел посмотреть, где живет царь, барин.
– И все?
– Для простого грешника, как я, это не так уж мало.
– Ты ничего не принес?
– А что? Разве вы голодны?
– Да нет, дурак… Я хочу сказать… нет ли там письма для меня?
– Из России? Все еще ничего.
– А еще откуда-нибудь?
– Тоже. А, слушайте, вот новость: приехали жена и дочь графа. Повсюду чемоданы, слуги бегают туда-сюда…
Озарёв пожал плечами, он был раздосадован. Сказал только:
– Здесь тебе нельзя оставаться. – И, понурив голову, вернулся во двор.
* * *
Когда Николай пришел в особняк господина де Ламбрефу, там было по-прежнему тихо, спокойно, граф в одиночестве сидел в гостиной и встретил постояльца не слишком радушно. Молодой человек поинтересовался, хорошо ли доехали его жена и дочь.
– Да, да, – пробормотал тот. – Путешествие вышло превосходным. Спасибо…
– Надеюсь, мне скоро представится возможность засвидетельствовать им свое почтение.
– Конечно! Но теперь они отдыхают, очень устали…
Озарёв понял, настаивать не стоит, и уже собирался уйти, как в комнату вошла пухленькая дама лет пятидесяти, седая, с черными глазами. Плохо скрыв удивление, граф устремился к супруге и представил ей их гостя.
– Муж много говорил мне о вас.
Графиня смотрела на русского дружелюбно, но с некоторой опаской. «Ее беспокоит мой мундир!» – подумал он и, чтобы снять напряжение, заговорил о том, как ему уютно, хорошо в их доме, но и о своих опасениях оказаться назойливым:
– Мне не хотелось бы причинить вам беспокойство.
– Вы не причиняете нам ни малейшего беспокойства! – воскликнула хозяйка, бросив на мужа взгляд, словно искала поддержки и одобрения. – Да и дом у нас большой, каждый может жить в нем по своему усмотрению…
Последнее замечание озадачило Николая: ему предложили сидеть в своем углу и не высовываться или, напротив, чувствовать себя как дома? Полный сомнений, он улыбнулся и поблагодарил графиню. Его волновало, как себя чувствует после поездки госпожа де Шамплит, но граф быстро сменил тему разговора. Казалось, ни он, ни жена не желают беседовать о дочери с иностранцем. Это выглядело несколько странно, но его, слишком занятого своей влюбленностью, чужие дела могли заинтересовать на несколько минут, не более того.
Простившись с супругами, он, как всегда, поужинал у себя в комнате, Антип прислуживал, принося с кухни еду. Коридор, по которому ему приходилось идти, был длинным, а потому горячим оказывался он, спешивший доставить очередное блюдо барину, но никак не еда. Закончив трапезу, Озарёв обратился к своей корреспонденции. Начал читать письмо отца, как вдруг этажом выше услышал легкие шаги:
– Что это?
– Графская дочка живет над вами, – ответил Антип.
– Ты видел ее?
– Нет. Она не показывается. Я вам еще нужен?
Барин отпустил его спать, как обычно, в коридоре, сам же ложиться не хотел. На столе горели две толстые свечи, тень гусиного пера замерла над листом бумаги: если бы пришлось писать Дельфине, он ни на миг не задумался, но о чем рассказать отцу, далекому, непостижимому? «Надеюсь, вы в добром здравии, дела имения не отнимают много времени. Удалось Федотенко устроить так, чтобы лен трепали теперь рядом с прудом?..»
Наверху ходила по своей комнате госпожа де Шамплит, останавливалась, вновь принималась ходить…
* * *
В последовавшие за этим дни Николаю так и не удалось увидеть дочь графа де Ламбрефу. Госпожа де Шамплит и ее мать занимали комнаты на втором этаже, господин де Ламбрефу, казалось, избегал квартиранта. «В чем я провинился?» – спрашивал он себя. Впрочем, находил утешение в мыслях о том, что Дельфина, напротив, уделяла ему все больше внимания: пригласила в свою ложу в Оперу, где давали «Эдипа в Колоне». Ее муж тоже должен был быть там, но это ничуть не беспокоило нового знакомого, создавалось даже впечатление, что этот приветливый мужчина расположен помочь в его предприятии. Быть может, он из тех стариков, что закрывают глаза на интрижки жен? Как бы то ни было, когда в семь часов молодой офицер при полном параде появился в их ложе, оба – и барон, и баронесса – посмотрели на него одинаково дружелюбно, почти с признательностью. В ложе сидели также граф и графиня де Мальфер-Жуэ. Чтобы никому не помешать, гость решил стоять в глубине, смотрел на белую шею и голые плечи Дельфины. Она показала ему бывшую ложу Наполеона, орел на которой был теперь задрапирован голубым бархатом с вышитыми на нем лилиями – два дня назад здесь принимали графа д’Артуа, и сказала, оборачиваясь к Озарёву, словно призывая его в свидетели своего несчастья:
– Никак не могу смириться с тем, что пропустила это событие! Моя жизнь – водоворот, в котором второстепенное зачастую выходит на первый план. Сама я просто не успеваю вмешаться в ход событий…
– Большинство скажут вам, в наше время – это редкое везение! – произнес барон.
Зал заполнялся: между рядами партера ходили продавцы газет, предлагали напрокат бинокли, горели свечи. Внезапно публика замерла, задрожали скрипки, загудели басы, одиноко запела флейта. Весь вечер Николай думал о своем чувстве и мучился от того, с каким пафосом оркестр и певцы рассказывали историю несчастного старика Эдипа. После оперы давали балет-пантомиму «Нина, или Безумства любви». Занавес опустился ровно в половине десятого под бурные овации зала.
На подъездах к театру теснились экипажи, огни на которых оттеняли ночной мрак. С крыльца выкрикивали кареты, фонарщики предлагали свои услуги тем, кто вынужден был возвращаться домой пешком. Мальфер-Жуэ забрались в свою канареечно-желтую внутри коляску и уехали, наговорив массу любезностей. Вскоре подали экипаж Шарлазов. Гость решил, что пора откланяться, но барон возмутился:
– Что за мысль! Вы едете с нами!
Полудовольный, полусмущенный Озарёв устроился на сиденье спиной по ходу движения. Перед ним расположились Дельфина в светлом платье и ее огромный, вялый, задумчивый муж в черном костюме и белой манишке. Коляска то и дело подпрыгивала, коленом Николай касался колена спутницы. Иногда внутрь проникал луч света, и на мгновение из темноты выступало ее лицо – улыбающееся, загадочное. Запах духов наполнял экипаж, одурманенный Николай едва прислушивался к тому, о чем говорили супруги, но внезапно насторожился. Барон властным голосом говорил:
– Уверяю вас, дорогая, что не могу поступить иначе. Я обещал господину Нуай, что буду у него сегодня около десяти, сразу после театра. Нам надо поговорить о делах.
– Но разве вы не можете увидеться завтра в банке?
– Нет, там нас будут постоянно отрывать посетители.
Жена вздохнула и отвернулась.
– Успокойтесь, – обратился к ней барон. – Я вовсе не настаиваю, чтобы вы меня сопровождали.
Он взял ее руку, поцеловал и сказал:
– Вы оставите меня у дверей господина Нуай и вернетесь домой, господина Озарёва отвезут на улицу Гренель, потом экипаж вернется за мной. Я уже обо всем договорился с кучером.
– Но я могу вернуться пешком! – тихо запротестовал Николай.
– И это будет ошибкой, когда в вашем распоряжении четыре прекрасных колеса, – возразил Шарлаз. – К тому же я не могу отпустить жену одну среди ночи. Ваше присутствие гарантирует ей безопасность.
Произнесено это было не без иронии, Озарёв подумал, что его разыгрывают. Эти слова лишали его всякого ощущения трудной победы. А может быть, все это сделано не без участия самой Дельфины? И она в сговоре с мужем, тем более что не выказала ни малейшего удивления. В любом случае, для честного человека ситуация затруднительная.
– Вот я и приехал. – Барон еще раз поцеловал жене руку, пожал, как бы заранее благодаря, руку ее попутчику, спустился, поддерживаемый кучером, и прихрамывая направился к дому. Когда кучер вернулся, хозяйка обратилась к нему:
– Домой, Жермен. Но не слишком быстро. От тряски у меня разболелась голова.
Потом обернулась к Николаю и сладким голосом прошептала:
– Садитесь рядом со мной. На своей скамейке вы выглядите настоящим мучеником.
Влюбленный был вне себя от счастья, но столь неожиданная удача буквально парализовала его, он только пожирал баронессу глазами. Коляска тихо тронулась, лошади шли шагом. Звон копыт и поскрипывание рессор мешались с мечтами о бесконечном путешествии с обожаемой женщиной. Наконец, у него хватило сил промолвить:
– Что за дивный вечер!
Вместо ответа что-то теплое прижалось к его плечу.
Юноша окончательно потерял голову:
– Я вас люблю!
Дельфина тихо вскрикнула, скорее удивленно, чем гневно, коляска подпрыгнула, трепещущая соседка прижалась к его груди. Ему даже показалось, что она плачет: что за нежное, деликатное создание!
– Я вас люблю, Дельфина, – повторил он, подбадривая себя на дальнейшие шаги.
Баронесса молчала, только, волнуясь, вздыхала. Заржала лошадь, это прозвучало радостным сигналом к действию – Николай поцеловал Дельфину в губы. Она почти не сопротивлялась и скоро сама целовала его, сжимая в руках его голову. Когда отпустила наконец, он почувствовал во рту привкус крови – ее укус показался ему таким многообещающим! Снова захотелось целовать ее, но его решительно оттолкнули:
– Нет!
– Но почему?
– Мы не имеем права!
Он ничего не понимал:
– Дельфина, смилостивитесь надо мной!
– Ах, как бы мне хотелось! Но я не свободна! Вы станете меня презирать, если я уступлю вам!
– Вовсе нет! Как вы можете так думать!
Она грустно покачала головой:
– Вы украли у меня поцелуй, воспользовавшись моей слабостью. Я хочу забыть об этом. Но при условии, что и вы обещаете то же. Останемся друзьями. Иначе я вынуждена буду отказаться от встреч с вами.
Переход от любовной горячки к холодному морализаторству оказался слишком неожиданным – Николай был вне себя, но с ним теперь говорил сам ангел мудрости. Невольно подумалось: «Она – верная жена! Это ужасно и заслуживает восхищения! От этого я люблю ее еще сильнее!»
– Оставьте хотя бы надежду! – прошептал он.
– Нет! Нет! – ответила баронесса, сжимая руки. – Не мучайте меня напрасно. Когда я успокоюсь и приду в себя, дам знать. Но теперь, умоляю, уходите!.. И да хранит вас Бог!
Последние слова только подстегнули его. Почти стоя на коленях, молодой человек осыпал жаркими поцелуями руки Дельфины. Та была словно не живая. Коляска остановилась.
– Уже! – выдохнул он.
– Да, пора, мой милый.
Проводив ее до порога, спросил:
– Когда я вас снова увижу?
Женщина приложила палец к губам, последний раз взглянула на него и исчезла. Тяжелая дверь захлопнулась у него перед носом. Поражение или победа? Поди знай, что думать. Кучер ждал его приказаний. Николай благородно решил, что не вправе воспользоваться экипажем того, чью жену только что пытался соблазнить.
– Я доберусь сам. – И исчез в ночи.
На небе ярко сияли звезды. Добравшись до особняка Ламбрефу, он все еще размышлял, как жить в неизвестности, в которую его повергла Дельфина. Ему открыл сонный швейцар. Два окна горели на первом этаже, три – на втором. Шаги постояльца гулко отдавались в пустом вестибюле с колоннами под мрамор. Свеча горела на столике у входной двери под портретом грустного человека с книгой в руке, одетого по моде времен Людовика XV. Неожиданно фигура в черном пересекла освещенное пятно и исчезла на лестнице. Хотя Озарёв ни разу не видел госпожу де Шамплит, не сомневался, что это она. Ему казалось, что женщина обернется и удастся увидеть, наконец, ее лицо. Но та, не останавливаясь, поднялась по ступенькам и скрылась в темноте. Бегство это казалось смешным и обидным. Заинтригованный больше, чем хотелось, он прошел через вестибюль, переступил через спящего в коридоре Антипа, открыл дверь своей комнаты и услышал над головой шаги, от которых поскрипывал пол.
5
– Барин! Барин, хотите поглядеть на нее? – прошептал Антип.
– На кого? – спросил Николай, отложив перо. Сидя за столом, он сочинял письмо Дельфине, которое не собирался отправлять, но поэтические строки которого так гармонировали с его печалью.
– Дочку графа! Она в библиотеке, с родителями. Из сада их очень хорошо видно. Идите скорее!
Озарёв колебался лишь мгновение – любопытство оказалось сильнее – и тихо вышел вслед за слугой. Голубые сумерки спускались на листву. Главная аллея вела к фонтану с фигуркой натягивающего лук купидона. Они свернули на узкую боковую тропинку, которая шла обратно к дому. За изгородью из густого кустарника можно было различить окно. Гравий трещал под сапогами Антипа. Он повернулся к хозяину и указал на каменную скамейку:
– Вставайте.
Пришлось подчиниться. Слуга взобрался рядом и протянул руку вперед:
– Ну, что я вам говорил? Вот папаша! Вот мамаша! А вот и дочка!
Юноша присмотрелся: склонившись над книгой, между господином и госпожой де Ламбрефу сидела молодая женщина. Действительно хороша или так кажется издали? Собранные кверху очень темные волосы, бледное лицо с выступающими скулами.
– По-моему, красивая, только немного худовата, правда, барин?
– Да, – согласился Николай.
Но мысли его были заняты другим: еще раз посмотрев в окно библиотеки, он спустился на тропинку и вернулся к себе, обошел комнату, скрестив руки на груди, и неожиданно решил, что непременно отправит письмо Дельфине. Конечно, не то пламенное послание, которое набросал, а вежливую записку, что напомнит о нем, но ее ничем не скомпрометирует. Написал с ходу:
«Дорогая госпожа де Шарлаз, позвольте еще раз поблагодарить вас за прекрасный вечер, воспоминания о котором не оставляют меня. Вам и господину де Шарлазу я обязан самыми прекрасными мгновениями, проведенными мною в Париже. Мое единственное опасение – не помешало ли мое присутствие в вашей ложе, моя единственная надежда – вы не сердитесь на меня. Позвольте быть отныне вашим смиренным и преданным слугой. Николай Озарёв».
Текст показался ему шедевром любовной дипломатии. Он положил письмо в конверт, запечатал красным воском с оттиском своего кольца и приказал Антипу немедленно доставить его по назначению.
– Да я никогда не найду их дом, – запротестовал тот. – Как я буду спрашивать дорогу, по-французски?
– Выкручивайся как знаешь, – сказал барин, подталкивая его к двери. – А там подожди сразу уходить. Может, будет ответ!
Оставшись один, он вышел в сад и снова взобрался на скамейку. Окно библиотеки было приоткрыто. Близился вечер, зажгли свечи. Госпожа де Шамплит все еще была там вместе с родителями, но теперь стояла спиной к окну. За порывами ветерка и шелестом листвы постоялец разобрал, что присутствующие спорят о чем-то. Ему показалось, он расслышал слово «русский», и он навострил уши.
– Уверена, вы могли отказаться разместить у себя русского, – говорила госпожа де Шамплит.
– Но я получил ордер на расквартирование, – отвечал отец.
– Хорошенькая отговорка! Разве у вас мало связей? Я могу назвать вам человек сто, которые сумели избежать этой обязанности! Признайтесь, вам не было неприятно приютить у себя представителя оккупационной армии!
Николай вздрогнул, кровь закипела от ярости. Сколько презрения в ее словах! Как смеет она говорить так о человеке, которого не знает, о самой прославленной стране в мире! Хорошо было бы ей ответить! Но раздался примирительный голос графа:
– Хотите вы того или нет, Софи, но мальчик прекрасно воспитан, приятен в обхождении. Ваша мать видела его и не станет отрицать этого.
– Правда, – сказала госпожа де Ламбрефу. – Он производит впечатление порядочного человека.
– Но он иностранец! – воскликнула дочь. – Иностранец, сражавшийся против нас!
– Вы придерживаетесь бонапартистских воззрений? – спросил граф. – Во времена Наполеона, помнится, вы не одобряли его политику!
– Я не одобряю ее и сегодня. Но радость ваших друзей, отец, больно ранит меня. Они прежде всего роялисты и только потом – французы. Как можно принимать с распростертыми объятьями тех, кто убивал наших соотечественников?
Не в силах сделать ни шага, Озарёв сжал кулаки так, что хрустнули пальцы. Никогда в России дочь не посмеет говорить подобным образом с отцом! Что знает она о политике в свои двадцать три года! Конечно, патриотизм французов подвергся серьезному испытанию, когда на их землю ступили войска союзников. Но исключительное благородство царя не могло не вызывать у побежденных благодарности, которая сильнее злобы. Вот что хотелось бы ему прокричать со своей скамейки.
– Вы вправе принимать у себя кого вам угодно, – продолжала госпожа де Шамплит. – Я же больше не чувствую себя здесь дома. Пока этот офицер останется здесь, избавьте меня от необходимости встречаться с ним…
«Вот чума! – подумал Николай. – Надеюсь, они не уступят ей!» В библиотеке перешли на шепот, несколько мгновений ничего не было слышно. Затем господин де Ламбрефу сказал:
– Поступайте как знаете, Софи. Я никогда ни в чем не мешал вам. Но не рассчитывайте, что я попрошу этого мальчика съехать от нас.
– Что ж, очень жаль, – откликнулась госпожа де Шамплит.
С этими словами она отошла от окна. Самолюбие Озарёва было больно задето, мелькнула мысль немедленно покинуть дом, где его присутствие кому-то кажется столь неуместным. Но рассудок подсказывал, что это было бы уступкой желаниям дочери графа. А стоит ли капитулировать перед этим заносчивым, властным созданием? Он обосновался здесь не по собственной воле, но как офицер русской армии. Его мундир не может не внушать уважения. Она еще увидит! И мысленно бросил ей вызов: «Остаюсь!»
Голоса смолкли, вокруг лампы скользили тени. Хлопнула дверь. Родители были одни. Наверное, обсуждали нелегкий характер Софи, как попытаться не раздражать ее. «Бедные!» – вздохнул Николай. Теперь, после разговора с дочерью, они казались ему еще милее.
Он медленно вернулся в комнату и закрыл выходящую в сад дверь. Над ним все было тихо. Но тишина эта была живой и враждебной. «Она думает обо мне и ненавидит, вовсе не зная меня!» Он попытался вспомнить, вызвал ли хоть раз в своей жизни чью-то ненависть. Нет, до сих пор все относились к нему только с симпатией. Его открытость, простота обезоруживали даже самых ярых недоброжелателей. Он снял сапоги, бросился на кровать. На потолке мерцало желтое пятно от свечи. Быстрые шаги вывели его из дремоты – Антип бегом ворвался в комнату. Он задыхался, но потное лицо сияло от радости:
– Получилось, барин! Я дошел туда, отдал письмо и принес ответ! Держите!
Дрожащими пальцами молодой человек разорвал конверт и почти в забытьи прочитал:
«Дорогой господин Озарёв,
Вы наверняка знаете, что наш обожаемый король приезжает в Париж 3 мая. Все истинные французы собираются приветствовать его. Мне повезло – моя портниха Адриенна Пуле живет на углу улицы Сен-Дени и бульвара, как раз по ходу кортежа. Она предлагает мне одно окно, чтобы насладиться этим зрелищем. Не хотите ли вы воспользоваться этим скромным предложением? В таком случае, перепишите внимательно адрес и отправляйтесь по нему 3 мая к одиннадцати часам утра. Не забудьте уничтожить записку сразу по прочтении.
Рассчитываю на вашу скромность и умение хранить тайну, а в равной степени и на ваше присутствие.
Дельфина де Шарлаз».Перечитав послание раз десять, чтобы запомнить каждое слово, влюбленный, вне себя от счастья, торжественно сжег его на пламени свечи на глазах у осенявшего себя крестом Антипа.
* * *
Озарёв плохо спал и проснулся с больной головой. Старался думать только о записочке Дельфины, но услышанное накануне в саду не отпускало и мешало в полной мере насладиться радостью. Этим утром он чувствовал себя униженным как никогда прежде, так, если бы из трусости отказался ответить вызовом на оскорбление. Знал, что должен молчать, иначе выяснится, что подслушал разговор людей, разместивших его у себя, но ложное положение, в котором оказался, никак не соответствовало его представлениям о порядочности. Настанет день, когда ему придется объясниться с господином и госпожой де Ламбрефу и, кто знает, быть может, их дочерью. Это решение несколько успокоило юношу, он встал, умылся, побрился, оделся и в мыслях вернулся к самой понимающей и блистательной парижанке, которая, рискуя потерять все, назначила ему свидание.
Николай продолжал мечтать о ней, следя за построениями подчиненных в казарме. С отречением Наполеона и его отъездом на остров Эльба опасность миновала окончательно, войска-победители вернулись к своим ежедневным занятиям. Будь то герои или нет, солдаты вновь маршировали, приводили в порядок оружие. Молодому поручику доставляло удовольствие думать, что он, командир этих суровых мужчин с крестьянскими лицами, сам рад подчиняться слабой блондинке, к тому же француженке. Радовало и то, что в порыве благородства военное начальство собиралось выделить живущим на квартирах офицерам денежное пособие – шесть франков в день капитанам, три франка – поручикам. Золотое дно! Теперь, не заботясь о деньгах, можно думать только о любви.
Возвратившись в особняк Лабмрефу, квартирант вдруг принял решение, которое удивило его самого. Он вспомнил, что Дельфина упоминала о философских трудах Шамплита. Тогда не обратил внимания на ее слова. Теперь его разбирало любопытство: что за теории проповедовал человек, чья жена столь сурова и непримирима? Быть может, на нее повлияли воззрения супруга?
Библиотека находилась на втором этаже за стеклянной дверью, отделявшей ее от лестничной площадки. Убедившись, что там никого нет, молодой человек украдкой вошел. Приятно пахло воском, окно было широко открыто, зелень сада наполняла комнату шелестом и свежестью. Он взглянул на полки. К счастью, тома располагались в алфавитном порядке. Между Шамфором и Шапеленом обнаружил Шамплита, три тоненьких книжки в новеньком сафьяне. Николай, словно воришка, схватил их и направился к себе в комнату. Закрыв дверь, устроился за столом и стал изучать добычу: «Письма о непрестанном развитии человеческого духа», «Природа, справедливость и совесть», «Счастливая республика, или Двенадцать поводов полагать, что свобода и равенство необходимы для всеобщего блага»…
С первых строчек он понял, о чем идет речь. Не будучи в полном смысле слова атеистом, автор отрицал образование, которое дает Церковь, говорил о Боге, называя его то «Великим двигателем», то «Начальной силой творения». Его убеждения, без устали повторяемые, состояли в том, что все люди рождаются свободными, равными и добродетельными, и только несправедливое социальное устройство мешает им достичь согласия ради всеобщего процветания. Словом, Жан-Жак Руссо и Дидро, приправленные Вольтером. Озарв вспомнил скучнейшие, на его взгляд, книги, что давал ему воспитатель: став жертвой Революции, мсье Лезюр не перестал восхищаться энциклопедистами. Увы! Шамплит их талантом не обладал. Мысли его были туманны, сумбурны, язык тяжел. На первой странице книги, озаглавленной «Природа, справедливость и совесть», оказался его портрет: некрасивый мужчина с выпуклым лбом, орлиным носом и крошечным ртом. Как могла красавица-дочь графа де Ламбрефу выйти замуж за подобного субъекта, старше нее к тому же лет на пятнадцать или двадцать? Неужели родители вынудили к этому? Но то, как она вчера говорила с ними, давало повод думать, что девушка никогда им не подчинялась. Неужели ум Шамплита произвел на нее такое впечатление, что ей дела не было до его внешности? Подобное уважение едва ли свойственно барышне, едва расставшейся с детством. Помещенная под портретом краткая биографическая справка сообщала: маркиз де Шамплит родился 3 февраля 1773 года, рано стал публиковать научные и политические труды, несмотря на благородное происхождение, выступал сторонником Законодательного собрания, а затем – Конвента. За сочувствие жирондистам в 1793 году ему был вынесен смертный приговор, попал в застенок в свой день рождения – ему исполнился двадцать один год. Термидор спас его от гильотины. Во времена Директории, Консульства и Империи продолжал пером и словом служить «тому же идеалу, ради которого с высоко поднятой головой взошел бы на эшафот». Это последнее соображение нисколько не убедило Николая: Шамплит показался ему человеком скучным, мало симпатичным. Он не захотел читать книги до конца, а, поскольку близилось время ужина, решил вернуть их на место.
И на этот раз, прежде чем войти, заглянул в библиотеку. Казалось, там по-прежнему никого не было. Гость с легкостью тени переступил порог и направился к полкам, чтобы поставить книги, как вдруг шелест платья заставил его обернуться: справа за креслом он различил женский силуэт. Застигнутый врасплох, юноша тихо произнес:
– Госпожа де Шамплит?
– Да.
– Поручик Озарёв, – представился Николай, щелкнув каблуками.
Это был разговор с пустотой: госпожа де Шамплит не слушала его, смотрела на книги у него в руках. Лицо ее было бледно и холодно.
– Извините, что побеспокоил вас. Я просто хотел вернуть книги…
– Кто разрешил вам взять их? – спросила она сухо.
– Никто, с вашим приездом все в этом доме меня избегают!
– Насколько я знаю, вас никто не приглашал, – возразила женщина, презрительно улыбаясь.
Постоялец согнулся в полупоклоне:
– Ваш отец был настолько добр, что я мог забыть об этом.
– И сколько вы рассчитываете пробыть здесь?
Вблизи она была еще лучше: стройная, с темными волосами, длинная гибкая шея, немного короткая верхняя губа, пылающие ненавистью черные глаза.
– Пока русская армия будет стоять в Париже, – гордо заявил Озарёв.
Госпожа де Шамплит слегка пожала плечами. Николай боялся, что не сумеет сохранить хладнокровие до конца разговора.
– Я – военный, – продолжал он. – Не я решил прийти во Францию, не мне решать, когда ее покинуть. К тому же, если бы Наполеон не напал на нашу страну, мы никогда не подняли бы оружие против вашей…
– Не стану спорить и понимаю, что мы вынуждены выносить вас, это результат нашего поражения, но не требуйте от нас быть любезными с вами!
– К счастью для Франции, здесь есть множество людей, которые думают иначе!
– Те, с кем вы знакомы, не относятся к числу тех, кто могут меня переубедить!
– Разве то же думает и ваш отец?
– Мой отец – человек пожилой и остался верен своим убеждениям. В этой проигранной войне для него главное, что вернется король. Ради этого он готов забыть об уважении и приличиях!
Маркиза замолчала на мгновение, потом процедила сквозь зубы:
– Мне стыдно за него!
Ему вдруг стало жаль ее, своих выпадов против нее, хотелось почти примирения. Казалось, словесное сражение не разделило их, напротив, сблизило, заставило уважать друг друга, несмотря на непонимание.
– Что ж, вы ненавидите меня из-за мундира, который я ношу, страны, откуда я, мертвых, которых вы оплакиваете. Да, на войне отдельная личность вынуждена раствориться в нации и слепо идти за своими командирами, но разве с миром каждый не обретает свой собственный смысл существования? Когда я сражался, почти неосознанно считал французов нацией врагов. Теперь вижу среди них мужчин, женщин, детей, похожих на тех, что остались в России, не лучше и не хуже русских…
Он остановился, пытаясь понять, какое впечатление произвели его слова на собеседницу. Выражение лица ее не изменилось, не дрогнула ни одна черточка: она стояла прямо с полуоткрытым ртом, глядя куда-то в даль.
– Надеюсь, это чувство и вы скоро узнаете, – сказал Николай. – К тому же, если не ошибаюсь, господин де Шамплит в своих книгах говорил о братстве между народами…
Госпожа де Шамплит нахмурила брови, покраснела и сдавленным голосом произнесла:
– Не будем об этом.
– Вы не можете запретить мне оценивать творчество вашего мужа!
– Умоляю не говорить мне об этом, вот и все!
– Сожалею. Что же, мне остается рассчитывать только на собственные силы, чтобы переубедить вас…
– В чем?
– В том, что я не людоед! Русскому офицеру, которого вы ненавидите, всего двадцать лет. У него есть отец и сестра, которые живут в старом деревенском доме в двух с половиной тысячах верст отсюда. Он любит их, у него давно нет от них никаких вестей. Но надеется, вернувшись, обрести свои мирные радости – чтение, охоту, рыбалку, прогулки по лесу…
Произнося это, он подошел к полкам, чтобы поставить три книги на место. Когда обернулся, собеседница уже ушла.
6
Придя в понедельник, второго марта, в казарму, Николай нашел своих товарищей удрученными: желая сделать приятное Людовику XVIII, въезд которого в Париж назначен был на следующий день, военный губернатор Парижа генерал Сакен распорядился, чтобы на улицах не было ни одной военной формы союзнических армий. Солдатам велено было оставаться в казармах, офицерам – на квартирах, командиры подразделений лично отвечали за исполнение приказа. И все же для большинства сослуживцев Озарёва меры эти оказались сопряжены не более чем с некоторыми неудобствами, но у него рушились все надежды и планы. С бьющимся от ярости сердцем он раз десять перечитал дурацкий листок, висевший на двери казармы: да это просто заговор какой-то против его любви. Как предупредить Дельфину? Как объяснить ей? Как добиться от нее другого свидания? От безысходности незаслуженно наказал нескольких солдат, что, впрочем, совсем не утешило самого – жертву чужой несправедливости. Заметив приятеля, Ипполит отвел его в сторону и спросил, в чем причина столь плачевного состояния духа. Когда тот выложил ему все, расхохотался:
– Всего-то? Но, дорогой мой, у тебя совершенно нет воображения! Запрещено разгуливать по улицам в военной форме, но если ты наденешь гражданское платье, никто тебе и слова не скажет!
– В гражданское? – Николай пылал от стыда, словно Розников предложил ему дезертировать.
– Черт побери! Ты будешь не первым и не последним. Это одно из преимуществ пребывания на квартире: никакого контроля! Туманский позавчера обзавелся гардеробом французского буржуа, чтобы спокойно ходить по городу. И Ушаков тоже. Они показали мне прекрасный магазин, где все это можно купить. Дать адресок?
– Нет, – поспешно ответил собеседник, боясь, что не устоит перед этим дьявольским искушением. Ипполит усмехнулся:
– Да чем ты рискуешь? Лишние сведения никогда не помешают: магазин находится в начале улицы Сен-Мерри и называется «На счастье тонким кошелькам». Помнишь его?
Озарёв опустил голову: выбор был сделан, но не хотелось сознаваться в этом, как, впрочем, и прекращать попытки бороться с собой.
В пять часов вечера, терзаемый угрызениями совести, он был уже в магазине. Прежде чем переступить его порог, беспокойно оглянулся, будто опасаясь быть застигнутым на месте преступления. Хозяин, толстенький, жизнерадостный, казалось, ничуть не был удивлен появлением русского офицера, который спрашивает у него гражданское платье. Словно был единственным поставщиком всей оккупационной армии. Лебезя и раскланиваясь, провел посетителя в глубь магазина, где висела сотня костюмов самых разных фасонов и расцветок. По его словам, все они были почти новыми и уж точно чистыми: их сбывали ему привередливые щеголи, разорившиеся аристократы и юноши, коим семья урезала средства на содержание.
– Я рекомендую их исключительно тем, кто знает толк в одежде. Вы, несомненно, будете удивлены, узнав, что ко мне приходят политики и финансисты, знаменитые иностранцы, актеры. Вам, мне кажется, подойдет костюм болотного или серого цвета, саржевый жилет в полоску, – сказал он.
И развернул ширму, оставив молодого человека одного раздеваться перед зеркалом. Через некоторое время вернулся с грудой вещей. Увидев себя в сером, «цвета лондонского тумана», костюме, с белым галстуком, в шелковой вышитой рубашке, покупатель был немало удивлен столь непривычным зрелищем. Да, узковато в плечах, не сходится на животе, но продавец ловко потянул в одном месте, распорол что-то в другом, разгладил складку, и вышло прекрасно. Горбатый портной унес все куда-то, после часа ожидания Озарёв смог в полной мере оценить результат. За это время он успел обзавестись шляпой, тростью, ботинками из тонкой кожи и двумя батистовыми носовыми платками. Хозяин не скрывал восхищения и хлопал в ладоши: как прекрасно удалось с ног до головы одеть очередного клиента. Несмотря на восторги, Николай вновь облачился в военную форму. Теперь он нес в руках огромный сверток, а потому избегал улиц, где можно было встретить товарищей по службе.
* * *
Самым мучительным оказалось то мгновение утра третьего марта, когда Озарёв в новом одеянии предстал перед критическим взором своего слуги.
– Настоящий француз! – выдохнул тот. – Куда же вы идете, барин?
– Тебя это не касается!
– Вы знаете, что русским запрещено выходить?
– Да.
– Если вас кто-нибудь узнает…
– Никто меня не узнает!
Антип прищурился:
– Да набросит Господь пелену на глазах честных людей!
Настало время идти. Ординарец последний раз смахнул пылинки с Николая, перекрестил его и проводил до дверей.
После разговора в библиотеке юноша ни разу не видел госпожу де Шамплит и, шествуя по коридору, мечтал встретить ее. У него не было ни малейшего шанса заслужить уважение этой женщины, чувство превосходства которой больно его задевало. К тому же, переодевшись в гражданское платье, он чувствовал себя словно обесчещенным. Как знать, не будет ли и Дельфина разочарована? Квартирант беспрепятственно пересек двор и смело шагнул в шумную и оживленную улицу.
Ступая бок о бок с людьми, которым он казался их соотечественником, офицер чувствовал себя буквально не в своей шкуре: мягкая ткань, невероятно легкая шляпа, на ногах словно выросли крылья, не было и привычной шпаги. Счастливые эти ощущения даже немного беспокоили: не предает ли он тем самым армию, царя, и все ради женщины? Не жертвует ли дисциплиной ради удовольствий, честью ради любви? Ну, или что-то в этом духе. Оценит ли Дельфина глубину его отречения?
Чтобы не опоздать, пришлось нанять фиакр. На набережной Орсэ ему попался ветхий экипаж, с заваливающимся назад верхом, исхудавшей лошадью и стариком-кучером, который клятвенно обещал доехать с быстротой молнии. Тронулись потихонечку. Возница обернулся и сказал:
– Какое счастье не видеть их больше на улицах!
– Кого?
– Да этих, кто теперь здесь и которых никто не звал. Любителей сала и воришек. Казаков, австрийцев, пруссаков, все они одним миром мазаны. Согласитесь?
Оскорбление оказалось тем сильнее, что было ненамеренным. Но наказание за отказ от мундира состояло в том, что Николай не мог ответить этому человеку. Неужели не было ничего в его поведении, манерах, речи, что отличало бы его от жителей столицы?
– Готов поспорить, что вы собираетесь посмотреть, как кортеж войдет в город! – продолжал кучер.
– Да.
– Это будет прекрасно. Повсюду флаги. Сам я только за мир и процветание торговли. Что с королем, что без короля. Французы, они всегда между собой договорятся!
Он все еще продолжал болтать, когда на улице Сен-Дени их остановили гвардейцы с белыми бантами: дальше только пешком, проезд запрещен. Озарёв расплатился и смешался с толпой.
Ровно в одиннадцать он постучал в дверь мадемуазель Адриенны Пуле, портнихи, которая жила на третьем этаже пропахшего капустой дома. Открывшая ему полная розовая женщина несомненно была предупреждена о визите – ни о чем не спросив, поклонилась и сказала:
– Госпожа еще не приехала. Не будет ли вам угодно пройти за мной…
Они оказались в пустой мастерской, где царил рабочий беспорядок – ткани, катушки, нитки, затем в узком коридоре, где пришлось пробираться боком, чтобы не задевать плечами стен, следом – в обтянутой розовой тканью комнате. Николай ожидал увидеть здесь других зрителей и был приятно удивлен, обнаружив, что он – один. В глаза бросилась широкая постель на возвышении под балдахином из вышитой кисеи. К ней вели две ступеньки. Рядом – светильник в египетском стиле и кресло. На письменном столике – чернильница в форме греческой вазы.
– Вот лучшее окно в доме, – заметила Адриенна Пуле. Оно оказалось как раз над местом пересечения улицы и бульвара.
Еще раз поклонившись, мадемуазель удалилась. Гость удивлялся, откуда у простой портнихи такая богатая, изысканная мебель. Да, парижанки тратят немало на свои причуды. Он положил на комод шляпу и трость, снял перчатки и поправил волосы перед зеркалом в раме, украшенной амурами. Длинные светлые волосы зачесаны были на уши – так стало модно у молодых офицеров еще в начале войны. Его любование собой еще продолжалось, когда вновь открылась дверь и появилась Дельфина.
– Ах! Это вы! – Радость его была беспредельна.
Кашемировая шаль на плечах, стыдливо склоненная головка в шляпке с лентами, словом, само искушение в ангельском обличье. Пока он целовал ей руки, женщина прищурилась и с нежной улыбкой прошептала:
– Какой вы теперь!
Поклонник объяснил причины своего переодевания, баронесса поблагодарила, что нарушил запреты ради встречи. К тому же в таком виде он ей очень нравился, вот только жилет чересчур яркий.
– Я скажу вам адрес поставщика моего мужа, – сказала Дельфина.
Юноша был немного раздосадован, что упомянут барон, но, наверное, это свидетельствовало о ее смущении.
– Чудная погода! – проворковала госпожа де Шарлаз.
– Да.
– Мы все прекрасно увидим из этого окна.
– Несомненно.
– Как жаль, что муж не смог меня сопровождать!
Новое замечание, касающееся супруга, показалось ему еще более мучительным.
– Действительно, очень жаль, – сказал он, скрывая радость.
И добавил как можно равнодушнее:
– Вы не знаете, мадемуазель Пуле пригласила кого-то еще?
– Меня это сильно удивило бы, по-моему, окно рассчитано только на двоих!
Это означало окончательное прощение за поцелуи вечером после Оперы.
– Как мне благодарить вас?!
– Вы должны благодарить не меня, а нашего доброго короля, чье счастливое возвращение соединило нас. Скорее идите сюда. Я не хочу ничего пропустить.
Они встали у окна, под которым шумела разноцветная толпа. Гвардейцы образовали коридор для проезда кортежа. На фасадах домов развевались белые флаги. Триумфальная арка предместья Сен-Дени почти исчезла за знаменами, гербами из крашеного картона, зелеными срезанными ветками. Под ее сводом на гирляндах из лент и лилий красовалась королевская корона. Гул толпы прорезали выкрики разносчиков напитков и сладостей.
– Ах! Скорее бы! Что же он заставляет нас ждать!.. – шептала Дельфина.
Внимательно присмотревшись, Николай заметил три лилии, вышитые на пышных рукавах ее платья, и еще одну, золотую, в виде броши. Лилии были и в каждом углу носового платка, которым она в волнении обмахивалась. Казалось, бедняжка вот-вот упадет в обморок от нетерпения, он взял ее руку и тихонько сжал. Но никакая ласка не могла отвлечь женщину от политической горячки. Время шло, кортеж все не показывался, толпа становилась беспокойнее: тут и там неустрашимые господа с белыми бантами, размахивая дубинками, обращались к народу с речами. Их возгласы мешались с жалобными звуками шарманки, игравшей «Да здравствует Генрих IV». Пробило полдень. Вдруг воздух задрожал, вдалеке раздались удары большого колокола, которым вторил перезвон колоколов поменьше.
– Едет! – пронзительно закричала Дельфина.
У нее на глазах показались слезы. Гвардейцы стояли плечом к плечу, сдерживая вал, который вот-вот, казалось, прорвет это ограждение. Озарёв вдруг вспомнил, как входили в Париж русские войска, и подумал, что тогда их приветствовало не меньше людей, чем сегодня – короля. Но не стал делиться этим соображением из боязни обидеть баронессу. Да она бы и не услышала его: повернувшись в сторону предместья, нестерпимо ждала божественного появления, почти чуда. Влюбленный воспользовался этим, чтобы обнять ее за талию. Сопротивления не последовало – не было времени, мысли были заняты другим. Раздался единый возглас:
– Вот он!.. Вот он!..
Склонившись над Дельфиной и вдохнув запах ее ванильных духов, Николай, словно опьяненный или во сне, увидел открытую карету, запряженную восьмеркой белых лошадей, которая въехала под Триумфальную арку. В ней восседал полный, толстощекий человек в голубом балахоне с золотыми эполетами. Он отвечал на восторг толпы, помахивая со скучающей миной своей огромной треуголкой. Госпожа де Шарлаз, ни жива ни мертва, бормотала:
– Это он! Это он! Боже, какой счастливый день! Рядом с королем его племянница, напротив – принц Конде и герцог Бурбонский!
– Да, да! – повторял за ней юноша. Кончиками губ коснулся ее щеки.
– Смотрите, смотрите скорее. Те два прекрасных всадника, что гарцуют рядом! Узнаете?
– Нет. – Последовал поцелуй в шейку.
– Это граф д’Артуа и его сын, герцог Беррийский, – прошептала женщина замирающим голосом.
– Что ж, они прекрасно держатся, – откликнулся собеседник, пытаясь поцеловать ее в губы.
Ответом ему был неистовый вопль:
– Да здравствует король!
Словно громом пораженный, отпрянул он от баронессы, неистовствующей и кричавшей от счастья:
– Да здравствует король! Да здравствуют принцы!..
Королевская карета следовала под окном, за ней – маршалы, спешно ставшие на сторону Империи, почти все – с лентой ордена Почетного легиона. Гвардейцы взяли на караул, откуда-то издалека звучала военная музыка, звонили колокола, взлетали в воздух шляпы, цветы. Обезумев, де Шарлаз бросила в окно украшенный лилиями носовой платок. Он упал на сиреневый капот толстой дамы, которая ничего не заметила. В суматохе Николай осмелился тихо произнести:
– Любимая!
И, вдохновленный примером, ослепленный страстью, тоже закричал:
– Да здравствует король! Да здравствуют принцы!
Благодарная Дельфина ответила ему поцелуем под шумную овацию толпы.
* * *
Часов около пяти вечера, когда Озарёв возвращался в дом господина де Ламбрефу, ему хотелось плясать от счастья: ах, эти француженки! Как Дельфина любила его! С какой страстью и каким умением! Он не был новичком в делах любви, но только сегодня понял, что такое женщина. Между объятиями баронесса предложила ему постричься: «К чему эта шевелюра, которая спускается на шею и закрывает уши? Быть может, это модно в России, но только не во Франции. Ты будешь еще красивее, если послушаешь меня!» Пришлось обещать, что на следующем свидании будет причесан «по-французски». Местом встречи снова должна была стать квартира мадемуазель Пуле, где, отметил про себя Николай, Дельфина чувствовала себя как дома. Ему показалось даже, что в ящиках лежит ее белье и предметы туалета. Не снята ли эта комната специально для подобных рандеву? И он лишь один из многих любовников? У него было предчувствие, что продолжать быть счастливым с госпожой де Шарлаз можно, лишь перестав задавать себе эти вопросы. Но хватит ли ему только плотских радостей? Не заденет ли эта история его душу – надежды, ревность, честь, возвышенные чувства? Внезапно ему захотелось поскорее надеть свой мундир.
* * *
Хлопнула дверца экипажа, Софи подняла голову.
– Ваш отец уже вернулся? – спросила госпожа де Ламбрефу.
– Пойду посмотрю, – тихо ответила молодая женщина, отложив книгу.
Она подошла к окну, матушка вернулась к вышиванию – графиня любила по вечерам сидеть за работой в своей комнате, слушая, как дочь читает ей вслух.
– Граф?
Софи отодвинула штору: какой-то человек шел через двор, направляясь к крыльцу. Это был русский офицер. Но почему не в военной форме? Этот вопрос еще не был мысленно произнесен, как сам собой возник волнующий ответ: ради нее, несомненно, Николай Озарёв сменил платье. Его не оставил безразличным их разговор в библиотеке, зная, что госпожа де Шамплит не в силах выносить присутствие в доме иностранного офицера, он решил надевать мундир, только отправляясь в казарму. Подобная предупредительность в столь молодом человеке – свидетельство благородной натуры. Тогда, в библиотеке, кажется, ей удалось угадать это. И вот – подтверждение.
– Почему вы молчите, Софи? – обратилась к ней мать, не отрываясь от вышивания.
– Поручик Озарёв, – равнодушно сказала та.
– А! – пробормотала госпожа де Ламбрефу, сгорбившись в кресле, выражение лица ее было бесстрастным, почти сонным. Она предпочитала не затрагивать тему, которую несколько дней назад семья так яростно обсуждала. Госпожа де Шамплит ожидала реакции графини, но молчание затягивалось, дочь вернулась на место, открыла книгу – «Коринну, или Италию» госпожи де Сталь. И хотя знала ее почти наизусть, любила перечитывать, в память о том времени, когда юной девушкой оплакивала несчастья пылкой поэтессы, брошенной жестоким лордом Нелвилем. На этот раз она скоро утратила всякий интерес к этой истории – слышала свой голос, но не понимала ни слова из тех, что произносила. Лорд Нелвил был теперь не англичанином, но русским, в сером костюме и зеленом жилете. Удивительно, как смогла запомнить столько деталей, ведь видела его всего миг. К счастью, постоялец не поднял головы и не посмотрел на окна второго этажа, иначе она умерла бы от стыда. Маркиза запнулась на очередной фразе.
– Вы не устали, Софи? – спросила мать.
– Думаю, этот роман утратил для меня прелесть новизны. Пойду, возьму в библиотеке другой.
– Не стоит, дитя мое, уже поздно…
– Пойду. Скоро вернусь.
Если бы кто-то осмелился сказать, что она воспользовалась этим предлогом, дабы увидеть Озарёва, ее бы это искренне возмутило: не было ничего необычного в том, чтобы пойти в библиотеку за книгой, как вчера или как завтра… И все-таки, когда женщина приблизилась к дверям, странная надежда вспыхнула в ней, душа замерла, как будто одна ее частичка обманывала другую. Софи открыла дверь, библиотека была пуста. Только часы нарушали тишину. Она положила книгу и подошла к окну, что выходило в сад. Тени деревьев на газонах, тихие аллеи. Должно быть, их квартирант уже в своей комнате. Где-то напевал его денщик. Забыв, зачем пришла, госпожа де Шамплит села в кресло. Ее охватила вдруг беспричинная грусть.
Спустя полчаса пришли родители. Господин де Ламбрефу вернулся из Тюильри, куда отправился с друзьями приветствовать возвращение короля и засвидетельствовать ему свое почтение. Он без умолку рассказывал трогательные истории о восторге, который вызвало появление Людовика XVIII. За ужином рассуждал о великом будущем, что ждет французский народ благодаря мудрости государя и благосклонности царя. Дочь слушала его снисходительно, хотя еще вчера подобные разговоры вызвали бы у нее исключительно раздражение.
– Даже те, кто поначалу не склонен был доверять русскому императору, сегодня были совершенно покорены его благодушием и мягкостью, – говорил граф, разделываясь с курицей. – Подумайте только, друг мой, чтобы не оскорбить нашего короля тем, что город наводнен иностранными солдатами, он решил, что в день возвращения государя в Париж все войска союзников останутся в казармах. Я не встретил ни одного русского, прусского и австрийского офицера…
Глаза Софи наполнились слезами, руки ослабели, пришлось положить их на стол: так это не ради нее Николай Озарёв расстался с мундиром. Какой же наивной дурочкой надо быть, чтобы приписать ему подобную душевную тонкость! «Итак, мое первое впечатление оказалось верным, – сказала она себе. – Это всего лишь русский!» И пока родители беседовали где-то за тысячи лье от нее, мечтала оказаться в полном одиночестве.
Муж ее умер два года назад, с тех пор вдова жила в каком-то умственном и физическом оцепенении, из которого, казалось, никто и ничто не в состоянии ее вывести. Хотя господин де Шамплит вызывал у нее лишь восхищение, граничившее с уважением. Он завоевал ее своими идеями, удержал – нежностью. Потеряв его, женщина лишилась друга, но не возлюбленного, и втайне была благодарна ему, что они так мало были близки: теперь никакие терзания плоти не нарушали чистоту ее воспоминаний. Софи считала себя рассудительной, спокойной, холодной даже, неспособной изведать радость и тяготы любовных мук, воспеваемых модными писателями. И это несколько примиряло ее с судьбой.
Слуга принес лимонный сорбет. Она погрузила ложечку в маслянистую холодную массу. Вдруг раздался выстрел. Госпожа де Ламбрефу прижала руки к груди. Граф отбросил салфетку и воскликнул:
– Королевский фейерверк! Скорее в сад, оттуда нам будет его прекрасно видно!
Софи поднялась из-за стола и последовала за родителями. Заметив в аллее Озарёва, вздрогнула и подумала: «Ну и что? Я к этому готова! В этом нет ничего необычного!» Он снова был в военной форме. В этом ей виделось подтверждение его искренности. Отец захотел представить дочери офицера, она честно сказала:
– Мы уже знакомы.
Это удивило родителей, которые теперь терялись в догадках. Фейерверк рассыпался в небе золотым дождем. Из дома вышли слуги. Господин де Ламбрефу по-отечески покровительственно приглашал их на главную аллею:
– Мариетта, Любен… Вы ничего не увидите из угла, где стоите… Французы не каждый день встречают своего короля!..
Слуги встали позади, на почтительном расстоянии от хозяина. Софи слышала, как они шептали:
– Как красиво! Как будто звезды!..
Ординарец Озарёва крестился после каждого залпа! Варвар! Говорят, спит на полу в коридоре под дверью своего господина, который, должно быть, тоже не слишком цивилизован, раз допускает подобное. Она украдкой взглянула на него: лицо молодого человека сочетало в себе детскость и дикость. Лицо ребенка, наблюдающего за пожаром. «Что ж, он совершенно иной породы, – заключила госпожа де Шамплит. – Говорит по-французски, но думает-то – по-русски!» Сильный залп заставил ее вздрогнуть. Одна из служанок закричала от страха, кто-то заметил:
– Самый красивый!
На небосводе рассыпались огни, отражаясь в окнах, превращая деревья в пышные черные кружева.
– Прекрасно, – удовлетворенно заметил граф. – Как жаль, господин Озарёв, что вам не удалось увидеть королевский кортеж…
Смущенный Николай не знал что ответить, и вдруг Софи обнаружила, как сладким голосом произносит:
– Почему вы думаете, отец, что лейтенант лишил себя этого удовольствия?
– Потому что я вам говорил уже, дитя мое, ни одна душа из армий союзников не имела сегодня права показаться на улицах.
– Но офицеру, пусть даже и русскому, не сложно нарушить приказ, – возразила дочь.
Постоялец с интересом взглянул на нее:
– У вас дар провидения, госпожа де Шамлит. Конечно, многие мои товарищи, да и я сам, так хотели присутствовать при этом знаменательном событии, что сменили мундир на гражданское платье, чтобы смешаться с толпой ваших соотечественников. Наше начальство вправе упрекнуть нас в этом, но только не французы и не француженки!
– Поздравляю вас, господин Озарёв, – сказал граф. – Надеюсь, у вас остались прекрасные воспоминания о въезде короля в Париж!
– Великолепные!
Его голос выражал подлинный восторг – поцелуи Дельфины и вправду были восхитительны!
– Позвольте мне на правах француза порадоваться за вас! – заметил граф, они церемонно раскланялись. Последние всплески фейерверка – гигантский белый букет с вкраплениями изумрудов и рубинов – осветили сад со стороны моста Людовика XVI. Когда небосвод погас, слуги вернулись в дом.
Вечер был свежим, Софи плотнее закуталась в шаль. Не придет ли отцу нелепая мысль пригласить Озарёва в гостиную на чашку чая? Но господин де Ламбрефу слишком боялся вызвать раздражение дочери, а потому довольствовался тем, что, опершись на руку русского офицера, решил прогуляться по аллее. Дочь и жена следовали за ними. Потрескивал гравий. Мужчины о чем-то тихо беседовали. О чем? Рядом с графом маленького роста Николай казался огромным: длинные ноги, широкие плечи, тонкая талия. У дома хозяева и гость расстались.
– Желаю вам доброй ночи, – произнес Николай, обращаясь к Софи.
Легкий акцент придавал его словам милое очарование. Она попыталась сказать в ответ что-нибудь приятное, вместо этого произнесла ничего не значащее:
– Завтра русским офицерам вновь будет разрешено ходить по улицам?
– Да, – не без иронии откликнулся Озарёв. – Париж ведь не ждет нового короля?
– Боже упаси! – вскрикнула госпожа де Шамплит.
Ей казалось, что все это происходит не с ней, и говорит не то, и играет плохо.
– Что ж, вы только сутки позволили Людовику чувствовать себя как дома, – продолжила она. – Не так много.
– Через месяц-два, надеюсь, все изменится.
– Почему?
– Мы уйдем отсюда.
– И многие об этом пожалеют! – вздохнул господин де Ламбрефу, похлопывая молодого человека по плечу.
Софи подобрала юбки и быстро вошла в гостиную. Вскоре к ней присоединились родители. Николай остался в саду, зажег сигару и с удовольствием выкурил ее, глядя на звезды.
7
Выйдя от парикмахера, Николай почувствовал, что кивер стал ему велик. С грустью думал он о своих длинных золотистых волосах: не будет ли смешон с этой французской стрижкой – голые виски, зачесанные на щеки пряди волос и короткие кудри на лбу? Дельфина разуверила его в этом, когда в восхищении упала ему в объятия: он стал еще соблазнительнее и заслуживал всяческих наслаждений.
Через некоторое время Озарёв обнаружил ту же прическу у некоторых своих товарищей, из чего заключил, что и они не остались глухи к настоятельным просьбам француженок. Словом, эта стрижка стала своеобразным знаком отличия русских офицеров, которым удалось обзавестись в Париже любовницей. Ипполит Розников, не устоявший перед кондитершей с улицы Клери, говорил, смеясь, что у большинства парижанок душа Далилы. Прислушиваясь к историям, которыми обменивались его сослуживцы, Николай хранил в тайне собственные приключения: разве может быть что-то общее между банальными интрижками, коими пробавлялись другие, и его исключительной страстью.
Служба в казарме стала вовсе не обременительной, а потому почти каждый день после полудня они с Дельфиной, очаровательной, не терявшей любовного аппетита, встречались в квартире ее портнихи. Их неизменно пылкие свидания длились два-три часа, но любовникам едва удавалось перемолвиться словечком – каждое новое объятие приводило баронессу в неистовство. Затем, розовая, свеженькая, невинная, отдохнувшая, она одевалась, целовала юношу в лоб и уносилась на какой-нибудь светский прием. Он же оставался, словно зачарованный выпавшей ему удачей, не в силах пошевелиться. Ему уже было известно, что подруга ведет двойную жизнь, что комната эта давно место тайных свиданий, а потому глупо ревновать к ее прошедшему или будущему. И сожалел о том времени их знакомства, когда Дельфина скрывала желание под завесой тайны и благородства. Отдавшись ему, она больше не считала нужным скрывать истинное положение дел. Возвращаясь вечером в особняк господина де Ламбрефу, Озарев был и доволен и разочарован одновременно: тело больше ничего не требовало, душе не хватало поэзии.
Как-то он взял в библиотеке труды Фонтана, прочитал их, пришел в восхищение, но госпожу де Шамплит встретить не удалось. После фейерверка ее вновь не было видно. Николай искренне сожалел об этом, хотелось попробовать еще разок сбить с нее спесь. Однажды случайно заговорил о ней с Дельфиной, та, расхохотавшись, сказала: «Неудивительно, что Софи столь неприветлива с тобой, любовь моя! Человеческие чувства ей совершенно не свойственны! Это машина, которая только рассуждает, фанатичка умствований! Став вдовой, она перепутала высокую философию с самой низкой скукой, всепобеждающую добродетель с неспособностью любить! Между нами говоря, подобное создание не имеет права носить платье! Не найдется никого, кто захотел бы снять его с этой женщины!» Озарёва поразила тогда проницательность любовницы, которая сформулировала его, мужчины, мнение. Он ответил: «Да, я не смог бы, если бы меня к тому не вынудили…» Дельфина бросилась осыпать его поцелуями, повторяя: «Замолчи! Нельзя так говорить о женщине!», и с этого дня частенько расспрашивала, как развиваются их с Софи взаимоотношения, с сожалением отмечая, что ему нечего рассказать.
Как-то в воскресенье молодой человек нашел ее взволнованной и оживленной более обычного. Решил, что это любовное нетерпение, но когда попытался поцеловать, Дельфина выскользнула из его объятий и загадочно произнесла:
– Послушай сначала, у меня новость!
– Что такое?
– Ты переезжаешь!
– Как это? – Он был ошеломлен.
– Очень просто, ты будешь жить у меня.
– Но… но это невозможно!..
– Почему?
– Твой муж!..
– Вчера я с ним поговорила, он будет счастлив принять тебя!
Поначалу Николай не знал, что сказать. Хотя Дельфина и приучила его к большой свободе нравов, цинизм этого предложения поверг его в шок. Какая-то рыцарственная часть его самого протестовала против столь легкой, доступной любви. Он не мог отвести взгляда от лица баронессы – что-то в нем было жадное, почти вульгарное, до сих пор им не замеченное.
– Даже если твой муж и согласен, не могу принять приглашение. Для меня это немыслимо…
– Но это ничего не изменит, мы просто будем продолжать делать то, что делаем теперь, – заметила Дельфина, и нельзя было не признать ее правоты.
– Но мы не делаем этого в твоем доме!
– Господи! Неужели ты думаешь, что мой муж ничего не знает?
– Ты рассказала ему?
– Он все прочитал в моих глазах!
– И что?
– В его глазах я прочитала, что он ничего не имеет против…
Что ж, и впрямь, не все ли равно, где они будут видеться – у нее ли или у портнихи, – раз барон согласен. Но продолжал упорствовать:
– Нет, Дельфина. Все это нелепо. Подумай о своей репутации! Что скажут ваши друзья, знакомые, когда я обоснуюсь у вас?
– Разве ты не живешь у Ламбрефу, у которых молодая дочь? – живо возразила она. – Никого ведь не приводит в ужас, что ты остановился у них в доме?!
– Ты не можешь сравнивать: там я расквартированный русский офицер!
– В том же качестве ты будешь жить и у нас! Просто переменишь адрес! Ордер прикроет все – военное начальство навязало тебя мне. Дальше все зависит только от нас, от нашего умения хранить тайну. Ах, как нам будет хорошо, нам будут принадлежать и ночь, и день!.. – Дельфина так уютно свернулась в его объятиях, что он почти лишился сил к сопротивлению. – Разве лучше жить у этих людей, для которых ты ничего не значишь, а не у меня, так сильно к тебе привязанной? – умоляюще спросила она.
Поразмыслив, Озарёв не мог не признать ее правоты: только дух противоречия способен заставить его оставаться в доме, где он столь нежелателен, а не переехать туда, где ему так рады. Приняв приглашение баронессы, можно было покинуть Ламбрефу с высоко поднятой головой. К тому же появлялась возможность дать хороший урок Софи. Он представил себе их решительное объяснение и больше не колебался:
– Хорошо. Переезжаю к тебе!..
Дельфина ответила нескончаемым поцелуем.
Когда они расстались, им вновь овладели сомнения: что-то было бесчестное в этом решении. Муки совести терзали его по пути на улицу Гренель. После ужина он все не мог решить, как увидеть Софи, и в порыве отваги написал ей записку, которую отнес Антип: «Госпожа де Шамплит, буду весьма вам обязан, если вы сумеете уделить мне несколько минут…» Слуга вернулся с ответом: «Жду вас в библиотеке».
Николай ринулся туда в радостном возбуждении, словно на дуэль, где надо будет ловко уворачиваться от выпадов противника, провоцируя его ложными выпадами, быстро и точно нанося ответные удары. Спокойное лицо Софи охладило его пыл.
– Что вы хотите сказать мне? – Женщина кивком головы показывала на кресло рядом с тем, в котором сидела сама.
Он остался стоять, подчеркивая тем самым воинственность своих намерений.
– Госпожа де Шамплит, я решил покинуть ваш дом!
Последовало молчание. Затем как выдох:
– Вы сообщили об этом моему отцу?
– Нет еще.
– Не понимаю, почему вы ставите в известность первой меня, ведь ваше решение в большей степени касается моих родителей?
Пропустив удар, он довольно нелепо ответил:
– Потому, что знаю, прежде всего вы в этом заинтересованы!
– Да, действительно, у вас могло сложиться такое впечатление, – с усилием произнесла собеседница. – Как скоро?
– Завтра.
Софи нахмурила брови, глаза вспыхнули и вновь погасли.
– Вы покидаете Париж? – тихо сказала она. – Куда уходит ваш полк?
– Да никуда. Мой полк остается здесь. Это я… – И замолк на полуслове.
В ее глазах был упрек:
– Вы хотите сказать, что решение исходит от вас, вы не подчиняетесь распоряжению начальства?..
Юноша вздрогнул, столько боли было в этом голосе. Ладно, стоит ли продолжать игру? Его угнетало сознание собственной неправоты:
– Будет лучше, если я уйду! Вы сами знаете это!
Она сжала руками юбку. Наклонила голову. Теперь ему был виден только белый лоб и четко прочерченные черные брови. Казалось, женщина молит его о чем-то.
– Это из-за меня, не так ли?
– Да!
Софи подняла к нему лицо и пылко воскликнула:
– Прошу вас, останьтесь!
Озарёв был изумлен, да и госпожа де Шамплит, казалось, сама удивилась тому, что осмелилась только что произнести. Она замерла на мгновение, потом продолжила:
– Я нехорошо вела себя по отношению к вам, была груба, ставила вас в неловкое положение… Но, поверьте, есть чувства, с которыми разуму трудно совладать… Я буду очень несчастна, если у вас останутся воспоминания только об оскорблениях, полученных в этом доме… Да и вину за ваш переезд родители возложат на меня…
Квартирант молчал, пораженный ее волнением, причин которого не понимал.
– Где вы думаете остановиться?
«У барона де Шарлаз!» – чуть было не вырвалось у него, но слова замерли на губах – ему было стыдно.
– Не знаю… В Париже достаточно комнат…
И вдруг осознал, что не верит больше в необходимость этого переезда. Раз уж ему не хватило смелости объявить о нем, хватит ли решимости совершить?
– Вы действительно не хотите сесть? – обратилась к нему Софи с грустной улыбкой.
– Пожалуй, сяду, – неуверенно промолвил он. А устроившись в кресле, понял, что не так уж и стремится собирать пожитки.
– У вас нет причин расставаться с нами. Мои родители привязались к вам. Да и я, как видите, сложила оружие. Мне и так не стоит слишком гордиться собой, не давайте и вы лишнего повода.
Глядя на Софи и слушая ее, Озарёв проникался мыслью, что только грубый, невоспитанный человек отказал бы этой красивой, благородной женщине в милости, о которой та просила. Но как объяснить эту перемену Дельфине? С веселым нахальством он выбросил из головы эту заботу: всему свое время, завтра решит, как поступить.
– Что же? Вы мне так и не ответили!
– После сказанного вами, – воскликнул Николай, – я не только не хочу переезжать, но даже сожалею о своем намерении!
Госпожа де Шамплит вновь наклонила голову. В течение последних десяти минут она сражалась со своим характером и впервые в жизни одержала победу, признав свои ошибки. Что до того, почему ей так важно присутствие в доме русского лейтенанта, объяснение здесь самое обыкновенное: просто счастлива поправить несправедливость и в согласии с совестью будет чувствовать себя несравнимо лучше. Озарёв смотрел на нее с юношеским восторгом. «На два года моложе меня, – подумала Софи. – Что за ребенок!» Спросила, по-прежнему ли ему нравится Париж и не скучает ли по России. Он с воодушевлением сказал, что Париж все больше привлекает его, но точно сформулировать для себя, что такое «французский менталитет», пока не может:
– У нас мало схожих на вид людей объединяют принципы, которые не обсуждаются. Когда я думаю о моей стране, вижу одну, четко нарисованную Россию, когда размышляю о вашей – мне представляются тридцать шесть Франций, которые бесконечно спорят между собой. Не знаю, какая из них истинная. Быть может, все. Но для русского трудно оказаться в них разом. Убежден, вы не разделяете взглядов большинства ваших соотечественников. Если же обратитесь ко мне и моим товарищам по полку и спросите, что мы думаем о вечных проблемах, все мы ответим вам одинаково!
– Но что вы называете вечными проблемами? – спросила Софи, улыбаясь его наивности.
– Религия, что такое «хорошо» и что – «плохо», отношение к жизни, вера в бессмертие души, лучший способ управления государством…
Произнося это, он смотрел на нее с таким вниманием, словно пытался разобраться, ясна ли ей, несмотря на французское воспитание, важность его слов. Женщина угадала, что ему хочется лучше понять ее:
– Главное свойство всех вечных проблем то, что они вызывают пламенные споры, не так ли? И когда все придут к согласию по какому-то вопросу, он утрачивает свою важность, просто исчезает.
– Да нет же. Возьмите религию! Не обязана ли она своей силой все растущему числу верующих?
– Истинные верующие не те, кто верит слепо, а те, кто задает вопросы. Христианство заглохло бы в скуке, если бы по соседству с покорной паствой не существовали беспокойные умы, преданные, но страдающие, которые молятся, но сомневаются…
– Вы – из их числа? – обратился он к ней с таким интересом, что Софи разволновалась.
– О нет!
– Вы не верите в Бога?
– Я верю в человека.
– Не понимаю. Достаточно на секунду задуматься, чтобы осознать – есть над нами некто, обладающий удивительным могуществом, кто направляет нас и судит…
– Направляет, да, может быть, но судит, мне это кажется маловероятным.
– В чем разница?
– Взгляните. Направлять – действие чисто механическое, судить – тут нужны ум и душа. Не странно ли полагать, будто, с одной стороны, миром правит некая небесная сила, недостижимая и непостижимая, с другой – пытаться дать ее проявлениям объяснение, которое могло бы удовлетворить человеческий ум? Не оскорбляете ли вы того, кого ставите превыше всего и вся, навязывая ему логику, столь схожую с нашей? Не кажется ли вам, что Церковь преуменьшает великую тайну, окружая ее театрализованными представлениями, не лучше ли, если каждый будет молиться Всевышнему по-своему?
Слова эти напомнили Николаю прочитанную им страницу из «Природы, справедливости и совести». Впрочем, скучнейшие теории Шамплита в изложении его вдовы приобретали удивительную привлекательность: щеки Софи порозовели от воодушевления, в уголках губ обозначились прелестные ямочки, желание убедить собеседника наполнило светом глаза, словом, пылкость явно шла ей. Озарёв смотрел на нее с любопытством, как на разгоравшийся огонь, и думал, как сделать так, чтобы он пылал еще ярче.
– Вы рассуждаете, как многие ваши сограждане в эпоху Революции!
– Не отрицаю этого.
– Но вы слишком молоды, чтобы хорошо знать это время убийственного безумия, направленного против религии! Должно быть, вам рассказывали об этом родители или знакомые…
– Их это нисколько не интересовало, – пожала она плечами.
– И несмотря на это…
– Да, несмотря на это, я считаю, что 1793 год дал человечеству немыслимую раньше надежду. И ошибки, трусость, преступления, все, о чем вы думаете, не в силах обесчестить идеалы, которыми они прикрывались. Я ненавижу палачей, жалею жертв, но разве не удивительно, что с того момента, как были совершены эти страшные преступления, мир уже не может жить по-старому? Одно только слово смогло перевернуть умы: свобода!
– Наполеон не слишком-то придавал ему значение!
– Это он все погубил, в наши дни уже нельзя быть деспотом. Народ должен составлять и принимать законы, выдвигая своих депутатов. Нельзя, чтобы огромное число людей приносило себя в жертву привилегированному меньшинству, чтобы сильные подавляли слабых, чтобы военачальники, не советуясь ни с кем, решали судьбу нации…
Эта бесстрашная революционерка уже внушала Николаю некоторое беспокойство – слишком далеко зашла в своем отрицании: зашатались престолы, опустели церкви, дороги заполнили страшные крестьяне с вилами и косами. Он попытался охладить ее пыл, объясняя, что жажда свободы – болезнь Запада, в России, например, люди счастливы жить под абсолютной властью царя.
– Даже крестьяне-рабы?!
– Да. Что делали бы они со своей независимостью? Привязанные к земле, они не знают никакой ответственности и, как следствие, никаких забот. С самого рождения понимают, что не могут рассчитывать ни на что другое. А потому не страдают. Помимо всего прочего, неравенство – это закон природы.
– Который люди должны исправить!
– Вы, во Франции, попробовали, и что из этого вышло?
Софи с сомнением покачала головой: этот человек отстал от нее века на два, хотя кажется умным, добрым, открытым.
– Мы так далеки друг от друга, – вздохнула она.
Слова эти потрясли его.
– Нет-нет, – быстро сказал Озарёв. – Вы видели моего ординарца, Антипа? Это мой крепостной. Что, он кажется несчастнее вашего швейцара и конюха, этих свободных граждан? Личное счастье – вопрос характера, удачи, здоровья, религии, но никак не политики!
Госпожа де Шамплит уже готова была возмутиться, но собеседник не дал ей времени, продолжая горячо и убедительно:
– Уверен, если бы вы лучше узнали нашу жизнь, вы бы убедились, что она устроена гармонично и мудро. Послушайте, у меня есть идея! Вам надо посмотреть, что такое православная служба. Самая волнующая бывает по воскресеньям в личной часовне царя во дворце Бурбонов. Иностранцы могут получить приглашение…
– Я буду чувствовать себя там не в своей тарелке!
– Не надо так думать. Там собираются все сколь-нибудь выдающиеся люди, наслаждаются церковными песнопениями. И потом, вы увидите нашего императора…
Софи энергично покачала головой.
– Не хотите? – грустно спросил Николай.
Она молчала.
– Что ж, не стану настаивать… Я понимаю…
В тишине раздавалось только тиканье часов. Маркиза неожиданно подумала, что провела почти час в компании мужчины, мысль эта привела ее в замешательство. Родители, должно быть, все еще сидят в маленькой гостиной, где она их оставила. Что думают они о ее долгом отсутствии? Придется избегать расспросов. Женщина встала.
– Уже? – воскликнул Озарёв.
Юноша выглядел таким расстроенным, что Софи чуть не засмеялась:
– Поздно!
– Но мне так много еще надо вам сказать! Мне совершенно необходимо снова видеть вас!..
– Поскольку вы остаетесь, у нас будет много времени, – сказала почти шепотом госпожа де Шамплит, протягивая ему руку.
8
Николай сколько угодно мог объяснять, что для господина де Ламбрефу дело чести оставить его у себя и что в подобной ситуации, найди он другое место жительства, прослывет неблагодарным, Дельфина отказывалась слушать любые доводы, обижалась, сердилась и в конце концов сказала, что сообщит, когда будет расположена увидеться вновь. Здесь он выказал раскаяние, гораздо более сильное, чем испытывал на самом деле, любовница смогла уйти с высоко поднятой головой. Когда баронесса была почти в дверях, молодой человек бросился за ней со словами «Дельфина! Это невозможно!..», догнал и попытался смягчить приговор, но услышал в ответ: «Нет! Вам придется подождать моего прощения!» Это «вы» ошеломило его, он замер, бессильно опустив руки. Вернулся в комнату, опустился на край постели, которая на этот раз осталась неразобранной, приготовился страдать и вдруг почувствовал странное облечение: во-первых, объяснение вышло гораздо более мирным, чем ему представлялось, а во-вторых, наверняка за два-три дня Дельфина успокоится и сменит гнев на милость. Озарев вернулся в особняк Ламбрефу с чистой совестью.
Впрочем, здесь тоже подстерегали волнения: в его отсутствие хозяин дома принес приглашение на ужин. Впервые после приезда Софи граф предлагал ему свой стол. Несомненно, она убедила в этом родителей, которых раньше призывала избегать постояльца. Мысль об этом льстила самолюбию русского, сердце которого жаждало доверия, тщеславие требовало успеха. Внимательно осмотрев себя перед зеркалом, он задумался о природе своих чувств и пришел к выводу, что госпожа де Шамплит не вызывала у него никакой нежности, но нравиться ей хотелось непременно. Вполне удовлетворенный этим выводом, молодой человек стал с нетерпением ожидать назначенного часа.
Николай рассчитывал застать в гостиной большое общество, а потому был немало удивлен, увидев только Софи и ее родителей. Итак, его пригласили на семейный ужин, это стало очередным потрясением: просто накрытый стол, четыре прибора, после месяцев войны все живо напомнило ему родной дом. Словно желая усилить смущение гостя, граф стал расспрашивать его о России. С комком в горле тот говорил об отце, сестре, мсье Лезюре, соседях, березовой роще, речушке, где было полно рыбы, которую мальчишкой с удовольствием удил. Он понимал, что подобная ностальгия не пристала военному, что из-за своей чувствительности рискует утратить уважение Софи, но одно воспоминание влекло за собой другое, остановиться было невозможно. И чем больше говорил, тем больше волновался, пытаясь убедить хозяев, что он не какой-то бродяга в военной форме, но у него есть корни, дом, семья, хотя и далекая теперь, но где его ждут, к которой он сильно привязан. Господин и госпожа де Ламбрефу слушали его с очевидной симпатией, их дочь с отсутствующим видом, выпрямив спину, восседала на стуле, ела и не произнесла за все время ни слова. Озарёв уже стал сомневаться, что это приглашение – ее рук дело, и вдруг понял, что не в силах продолжать, замолчал, сразу загрустив.
Граф перевел разговор на политические темы: подготовка Хартии, переговоры о заключении мирного договора, заслуживающие презрения маневры Меттерниха, великолепные ответные удары Александра, который решительно отказывался унижать и делить Францию на части. Эти новости, в чем-то соответствовавшие действительности, в чем-то – нет, нисколько не интересовали Николая, смотревшего на Софи, пытаясь поймать ее взгляд. Наконец, во время перемены блюд их глаза встретились. Она слегка покраснела. И тут тишину нарушил голос графини:
– У нас с мужем есть к вам просьба. Дочь сказала, что вы можете получить приглашение на православную службу во дворце Бурбонов. Мы были бы очень польщены, если бы по этому случаю нам разрешено было подойти к вашему царю!
Вот это да! Николай и думать не мог, что Софи передаст родителям их разговор! Но только они хотят попасть в православную церковь или можно надеяться, что госпожа де Шамплит переменит решение и будет сопровождать их?
– С радостью помогу вам, – сказал молодой человек. – Завтра же займусь этим. Сколько вам надо приглашений? Два?..
– Нет, три, – улыбнулась графиня. – Если это вас не обременит.
– Ничуть!.. Напротив!..
Он сиял, внутри все ликовало, вновь захотелось поймать взгляд Софи, чтобы выразить в нем всю свою благодарность. Но до конца ужина женщина, казалось, старалась не обращать на него внимания.
* * *
На следующее утро, сразу после переклички, Озарёв попытался раздобыть три приглашения на ближайшую воскресную службу. Их выдавал, по словам товарищей, начальник Главного штаба князь Волконский, он же составлял список званых иностранцев. Николай чувствовал некоторую неловкость от того, что ему придется побеспокоить столь важную персону, но мысль о данном обещании придавала сил, если бы потребовалось, обратился бы и выше. В вестибюле дворца его остановил секретарь – по какому вопросу он хочет говорить с Его сиятельством?
– Дело личное и чрезвычайно срочное.
– Его сиятельство очень занят.
– Я подожду.
– Ваше имя?
– Николай Михайлович Озарёв, поручик лейб-гвардии Литовского полка.
Секретарь провел молодого человека в гостиную, затянутую старыми обоями, где ожидали своей очереди другие просители. Все были в летах и в орденах, с кожаными портфелями под мышкой. Собственная юность показалась Николаю здесь неуместной. Каждый раз, как открывалась дверь, он замирал по стойке смирно, но порог переступали все какие-то генералы. Очередь двигалась быстро. Из кабинета князя то и дело раздавался перезвон серебряного колокольчика. Немедленно через прихожую пробегал секретарь с ворохом бумаг, показывались и исчезали курьеры. К полудню присутствующих стало вполовину меньше. Озарёв начал опасаться, что о нем забыли, и обратился к секретарю с просьбой напомнить о себе князю.
– Вы в самом деле уверены, что ваш вопрос не может решить кто-то из его адъютантов?
Думая, что секретарь просто хочет от него избавиться, Николай резко возразил:
– Если бы я нуждался в их помощи, не ждал бы здесь два часа, чтобы сообщить об этом!
Минут через десять его провели в огромную, светлую комнату, которая потрясла его воображение. Волконский восседал за массивным письменным столом, украшенным бронзой. Полное розовое лицо, густые черные брови, огромные зрачки, тяжелый подбородок, пышные бакенбарды. Перо дрожало у него в руке. Не переставая писать, он обратился к вошедшему:
– Что вам угодно?
Николай, окаменев, едва смог пошевелить губами.
– Что? – проворчал князь. – Говорите громче!
Поручик повторил просьбу, и вдруг перед его глазами замерцали звезды: Волконский поднялся во весь рост, грудь его была увешена орденами. Глаза метали молнии.
– Вы смеетесь надо мной? – загремел он.
– Нет, Ваша светлость. Мне сказали…
– Да вы знаете, к кому обращаетесь…
– Да, Светлость…
– Я занимаюсь государственными проблемами, в моем распоряжении армии, государь ждет меня с минуты на минуту с докладом, а вы досаждаете мне своими историями с приглашениями на службу! Обращайтесь к дежурному офицеру, секретарю, швейцару, к кому угодно, но только не ко мне! Это дерзость, молодой человек, и наглость! Я знаю, как дать вам понять это! Я посажу вас под арест! Немедленно! Дайте мне вашу шпагу!..
Озарёв не смел вздохнуть, похолодел, дрожащими руками снял шпагу и протянул князю. Он думал о Софи, графе, графине, как они будут разочарованы! Чем он отплатит им за гостеприимство? Но Волконский не спешил брать его шпагу и мерил шагами комнату.
– Положите ее на стол! – взревел он наконец, будто это было нечто, чего нельзя взять в руки.
В то же мгновение раздался стук в дверь. «Войдите!» – закричал Волконский. Адъютант объявил, что Его Величество желает видеть князя. Начальник Главного штаба немедля переменил выражение лица, поправил мундир, взял на столе какие-то бумаги. Николай неподвижно, безмолвно стоял со шпагой в руке посреди комнаты. Проходя мимо, Волконский прорычал:
– Уходите! Чтобы я больше никогда вас не видел!
Он вышел. Секретарь проводил в прихожую незадачливого посетителя, который медленно приходил в сознание – видение наказания все еще стояло у него перед глазами. Но как теперь получить приглашения? Невозможно вернуться с пустыми руками! Пришлось поступиться гордостью и обратиться за советом к секретарю.
– Почему же вы ничего мне не сказали? – воскликнул тот. – Я вас тотчас отведу к адъютанту, который занимается этим!
– Но князь Волконский…
– Да разве он может лично контролировать все!.. Его помощник составляет списки и выдает приглашения.
Озарёв был счастлив, что достиг цели, и испытывал невероятный стыд за свою наивность. Адъютант принял его в комнате с голыми стенами, где стоял самый обычный стол, и без церемоний вписал имена графа, графини и их дочери в кусок прекрасного белого картона с выгравированными императорскими гербами.
– За благонадежность этих людей отвечаете вы, – сказал он, протягивая просителю приглашение.
– Душой и жизнью!
Адъютант улыбнулся и вяло махнул рукой, словно говоря, что так много не требуется.
* * *
За час до начала службы Николай в парадной форме пожаловал во дворец Бурбонов, один из прекраснейших залов которого превращен был в православную часовню. Двери его пока оставались закрыты. В галерее, что вела к нему, толпились офицеры и придворные. На волнах зеленых, голубых, белых и красных мундиров плыли неспешно золотые эполеты. Каждый вышитый воротничок поддерживал славную голову, каждая увешенная орденами грудь была книгой славы. Вокруг нескольких элегантно одетых женщин стояли офицеры, тихо переговаривались дипломаты. В воздухе пахло помадой и ладаном. Затерявшись среди всех этих светлостей, Озарёв переходил от одной группы к другой, стараясь быть не слишком заметным, раскланивался со знакомыми и с нетерпением ожидал появления Софи и ее родителей, они обещали не опаздывать: прибывших после государя на службу не пускали. Он был ни жив ни мертв от волнения, как вдруг заметил, что граф с супругой и дочерью идут по галерее, высматривая своего постояльца. Госпожа де Шамплит была прекрасна в полутраурном платье из фиолетовой тафты с тончайшей черной вышивкой! Маленькая головка украшена цветами, лентами и легкой муслиновой накидкой серого цвета. Аметистовые серьги трепетали вдоль щек. У нее был глубокий, нежный взгляд византийской мадонны. Восторженный шепот сопровождал ее появление:
– Хороша!.. Очаровательна!.. Австриячка?.. Француженка?.. Кто она?.. Кто ее пригласил? – явственно расслышал Озарёв.
Преисполненный гордости, он вышел вперед и, к удивлению присутствующих, для которых молодой человек не значил ровным счетом ничего, почтительно поклонился самой красивой женщине этого собрания. «Все теперь завидуют мне и теряются в догадках, насколько далеко простирается моя власть над ней», – подумал Николай. Даже продвижение по службе не доставило бы ему такой радости. Когда юноша выпрямился, увидел по лицу Софи, что та смущена, оказавшись в столь многочисленном обществе. В отличие от Дельфины, у нее явно отсутствовала светская жилка, он был благодарен ей за это. Граф и графиня, напротив, чувствовали себя совершенно непринужденно. Они попросили назвать им самых известных людей. Не будучи особым знатоком, провожатый тем не менее показал им фельдмаршала Барклая де Толли, генерала Сакена, графа Платова, атамана донских казаков, адъютанта царя князя Лопухина… Вдруг у него перехватило дыхание – двери открылись, за ними сверкали золотом иконы, мерцали огоньки тысяч свечей. Разговоры смолкли, толпа пришла в движение.
– Кто это стоит на пороге? – шепотом спросил граф.
Николай проследил за его взглядом и вздрогнул – у входа в часовню возвышался князь Волконский собственной персоной, он лично встречал приглашенных. Его заботами мужчин и женщин выстроили по разные стороны прохода. Он был похож на любезного распорядителя бала, но у недавнего визитера все еще звучал в ушах его грозный окрик: «Чтобы я больше вас не видел!» «Если князь узнает меня, все потеряно!.. Скандал, арест, шпага, которую придется сдать при всех!» – подумал Озарёв и тихо сказал на ухо графу:
– Это начальник Главного штаба. Он покажет вам ваши места. Я же оставляю вас сейчас, присоединюсь позднее…
И с напускной скромностью встал позади группы генералов. Только когда все гости разместились, а Волконский покинул свой пост в дверях, вошел, смешавшись с толпой таких же, как он, офицеров, устроился в последнем ряду. Отсюда ему удалось различить вдалеке крошечное фиолетовое пятнышко – шляпку Софи.
* * *
Служба закончилась, приглашенные вновь наводнили галерею. Первым вышел царь, затем начальник штаба и несколько генералов. Не опасаясь более гнева князя Волконского, Николай присоединился к господину и госпоже де Ламбрефу и их дочери.
– Как он вам? – спросил ее шепотом.
– Кто? – откликнулась Софи.
Вопрос удивил Озарёва:
– Да царь!
Маркиза знала, что ему приятен будет восторженный отзыв, но никак не могла решиться доставить ему это удовольствие: когда царь проходил мимо, она не испытала ничего, кроме банального любопытства.
– Очень хорош.
Этого было явно недостаточно, собеседник нахмурил брови:
– Боюсь, вы видите его иными, чем мы, глазами!
– Но он никак не сверхчеловек!
– Для его подданных он – представитель Бога на земле.
– Неужели вы действительно в это верите?
– Да, – спокойно и просто ответил молодой человек. – И я не был бы русским, если бы думал иначе.
Услышь такое Софи от кого-то другого, сочла бы невероятной глупостью, но его наивность неожиданно вызвала у нее нежность: она благосклонно прощала ему то, что обычно вызывало у нее резкий протест, оправдывая это тем, что он иностранец, а то, что их мнения иногда совпадали, казалось ей просто случайностью.
– Что до меня, я покорен! – воскликнул господин де Ламбрефу. – Ваш император поистине величественен, его представительность и грацию вряд ли забудешь!
– Конечно, – вздохнула Софи, – если сравнивать его с Людовиком XVIII…
– Ну, ну! Государи – не актеры, которым важен каждый новый зритель…
Поток гостей вынес их во двор, где Николаю представилась возможность поприветствовать нескольких знакомых офицеров, что было весьма кстати – ведь рядом шла госпожа де Шамплит. Экипаж ожидал семейство Ламбрефу на улице. Граф предложил постояльцу ехать вместе с ними. По дороге беседовали о торжественной службе, которая привела в восторг его хозяев, даже Софи, которая восхищалась убранством церкви, великолепием одежд священнослужителей и пением, но комментировала увиденное, словно возвращаясь из театра. Столь пагубное неверие Озарёв списывал на детство, что пришлось на Революцию, замужество, стареющего либерала и атеиста мужа. Несомненно, эта женщина – жертва эпохи, воспитания, брака, но душа у нее чистая, необходимо ее спасти. Присутствие графа и графини не располагало к разговору по душам с их дочерью. По возвращении он расстался со всеми Ламбрефу с чувством, что чем-то им обязан, хотя они без устали благодарили за доставленное удовольствие.
Вторая половина дня выдалась грустной, скучной: Николай бродил по городу, зашел в Пале-Рояль, где они с Розниковым выпили кофе, а так как ему самому не хотелось ничего рассказывать приятелю, пришлось слушать откровения Ипполита. Манеры его до сих пор не отличались изысканностью, но Париж подействовал на него удивительно: единственной заботой этого вояки стала внешность – помадил свои короткие черные волосы, чтобы лучше блестели, душился, полировал ногти, женщин окидывал нежным, бархатным взором. Он не был хорош, но настолько уверен в себе, что товарищи прозвали его «Ипполитом Прекрасным». На вид беспечный, Розников заботился о карьере, мечтал об адъютантских эполетах и был готов на все, чтобы служить в Главном штабе у князя Волконского.
– Я добьюсь этого, вот увидишь. Благодаря связям или иным способом, какая разница! Надо знать, чего хочешь получить от жизни. Вот у тебя, например, есть цель?
– Нет, – горько отозвался сослуживец.
К восьми часам, так и не поужинав, он вернулся на улицу Гренель. Антип предложил ему кое-что из своих колбасных запасов, но барин гордо отказался: он не был голоден, да и на сердце чувствовал тяжесть. Комнату наполняли запахи погрузившегося во тьму сада, в глубине которого едва различимо притаился Купидон. Юноша улыбнулся этому давнему товарищу своего одиночества и решил навестить его, вышел из дома, стараясь, чтобы гравий не слишком хрустел под ногами.
Усевшись на каменную скамейку рядом со статуей, взглянул на дом – окна столовой все еще были освещены, затем свет показался в гостиной и библиотеке. Софи? Может, стоит к ней присоединиться? Но вот уже загорелось окно и в ее комнате, легкий силуэт мелькнул на мгновение, закрылись шторы. Николай осмотрелся, звездное небо навевало мысли благородные и печальные. Спать не хотелось, думалось, хорошо бы встретить здесь рассвет, услышать, как просыпаются птицы, занимается заря.
Звук шагов вывел его из задумчивости. Он поднял глаза и подумал, что видит сон: Софи ли, призрак ли ее шел к нему по аллее. Кажется, госпожа де Шамплит не подозревала, что не одна в саду! Озарёв осторожно вышел из тени, но женщина не удивилась и направилась к нему, словно они договорились о свидании. Неужели спустилась в сад ради того, чтобы увидеться с ним? Догадка потрясла Николая, который едва смог вымолвить:
– Дивный вечер, не правда ли?
– Да, – откликнулась она, – весной и летом я часто сижу здесь, прежде чем подняться к себе в комнату.
– О, я занял ваше место! Я вам мешаю!..
– Нет-нет. Оставайтесь.
Сели.
– Я все думаю о службе, на которой мы были утром. Все было так красиво, таинственно, пленительно. Не всегда необходима вера, чтобы увиденное взволновало. Мне интересно: когда вы приглашали в церковь меня и моих родителей, вы хотели, чтобы я поверила в Бога или в Россию?
Собеседница улыбалась полусерьезно, полуигриво.
– Я просто хотел, чтобы вы поняли – мы не такие уж варвары!
– Если бы я захотела поверить, обратилась бы вовсе не к вашим священникам с бородами, но некоторым верующим.
Смелость Софи смутила их обоих. Николай слышал, как бешено колотится его сердце. Внезапно она поднялась:
– Поздно. Я должна возвращаться…
Озарёв был до такой степени удручен этим, что нашел в себе силы только неловко протестовать, тогда как хотелось говорить стихами. Женщина с облегчением поняла, что он не станет ее удерживать, и удалилась, скрывая собственное, еще большее замешательство.
На лестнице дочь ждала госпожа де Ламбрефу. Со свечой в руке, в пеньюаре и кружевном чепце, с кремом на лице, она выглядела тем не менее весьма представительно.
– Дитя мое, хочу сказать вам пару слов, – твердо сказала мать.
Войдя в комнату Софи, графиня поставила свечу, отказалась сесть и, сжав свои маленькие ручки на животе, теплым родительским взором глядя на нее, тихо произнесла:
– Я случайно заметила, что вы встречались в саду с этим молодым человеком! Разве это так необходимо?
Поначалу встревоженная госпожа де Шамплит вспылила:
– Не понимаю вас, матушка. Всего несколько дней назад вы упрекали меня в том, что я не слишком любезна с господином Озарёвым, а теперь…
– Теперь, мне кажется, вас одолевает противоположная крайность. Представляю, что подумал этот мальчик, когда вы вышли к нему, едва…
– Я не знала, что он там! – закричала дочь.
Слова так неожиданно сорвались с ее губ, что на какое-то мгновение эта ложь показалась ей правдой. Потом она вспомнила, как смотрела в сад из окна, заметила тень у скамейки, сбежала вниз по лестнице, легкая, счастливая шла по аллее… И вдруг она разозлилась, не на себя, на мать, которая вынудила ее солгать.
– Конечно, заметив его, я могла бы уйти, но подобная мысль не пришла мне в голову. Я не ребенок и вправе поступать так, как считаю нужным!
– Женщина никогда не вправе поступать так, как считает нужным, – сказала госпожа де Ламбрефу со вздохом, который призван был подчеркнуть ее долгий жизненный опыт. – Возможность приобрести дурную репутацию должна удерживать нас от многих поступков. Я далека от того, чтобы серьезно осуждать ваше поведение, но хотела бы, чтобы оно было более взвешенным и ровным. Вы одинаково скоро поддаетесь и ненависти, и радушию, и заходите и в том и в другом слишком далеко. Будьте осторожнее и вы несомненно будете счастливее…
– О каком счастье вы говорите?
– О том, что дал мне ваш отец! – заявила графиня, вздернув подбородок.
– Извините, матушка, но наш разговор кажется мне бесполезным. Вы собираетесь отчитывать меня, словно пансионерку, за то, что я перебросилась парой слов с мужчиной в саду?
– Уже стемнело!
– Так что вас больше беспокоит – встреча или темнота?
– Встреча в темноте!
Софи нервно передернула плечами. Она привыкла всегда одерживать верх над родителями, ее естественной реакцией на критику было то, что она всегда раздувала недостатки, в которых ее упрекали. Достаточно было матери попросить ее держаться подальше от русского офицера, как ей немедленно захотелось быть еще внимательнее к нему.
– Жаль, придется вас огорчить, но я намереваюсь выйти завтра с господином Озарёвым, чтобы показать ему Париж…
Она только что выдумала это и наслаждалась удивлением, от которого разом округлились глаза, рот и подбородок графини, мать уже не в силах была совладать с собой и только еле слышно прошептала:
– Что за неосторожность!.. Ах, Софи, неужели вам нравится мучить меня? Не лучше ли серьезно подумать о будущем? Поверьте, настало время заняться…
– Чем вы хотите, чтобы я занялась?
– Созданием семейного очага, – умоляюще сложила руки госпожа де Ламбрефу. – Ваш дорогой супруг скончался два года назад, я понимаю вашу грусть. У вас нет ребенка, в случившихся обстоятельствах – это счастье. Вы хороши, но это качество с годами лучше не становится…
– Но я не собираюсь вновь выходить замуж! – рассмеялась дочь. – Разве это непонятно? Неужели удел женщины только в том, чтобы быть женой и матерью?
Эти слова, а может, сама мысль, заставили отпрянуть графиню:
– Софи, от чтения у вас помутилось в голове. Вы противитесь природе!
– Потому, что меня волнует мое освобождение, эмансипация? Но не меня одну!
Женщина в летах пришла в замешательство: она читала что-то революционное по этому поводу в трудах своего зятя. Но в таком случае все ее слова – впустую. Жена должна разделять суждения, пусть даже самые ошибочные и нелепые, своего мужа. Когда-то она сама с таким удовольствием и знанием дела повторяла в гостиных политические соображения господина де Ламбрефу, что люди видели убеждения там, где не было ничего, кроме супружеской покорности. Софи нежно взяла ее за руку:
– Не беспокойтесь, матушка, я слишком довольна своей участью, и потому ваши надежды напрасны, я слишком уверена в своей правоте, чтобы вы беспокоились. Пусть мысли о господине Озарёве не нарушают ваш сон, как они не нарушают мой. Какое счастье для родителей иметь такую дочь, как я…
Госпожа де Ламбрефу уходила обласканная и успокоенная – страхи ее вообще никогда не длились долго.
9
От него ждали ответа. Николай в который раз перечитал письмо, расхаживая вдоль и поперек по своей комнате. В дверях, словно вестник беды, угрожающе глядя на хозяина, стоял Антип. Бисерный почерк плясал перед глазами молодого человека:
«Не знаю, права ли, снимая с Вас столь рано заслуженное наказание. Но завтра я жду Вас к трем часам по известному адресу. Тот, кто принесет Вам это письмо, – человек надежный. Вручите ему записку с единственным словом „Да“ и не сердитесь, что здесь нет моей подписи. Порой запах духов значит больше имени, начертанного под письмом…»
Озарёв вдохнул знакомый запах ванили, и перед ним возникла Дельфина. Однако это ничуть его не взволновало, настойчивость женщины, напротив, раздражала: у него было чувство, будто забрался куда-то высоко, а его просят спуститься. Раз десять обойдя стол, он, наконец, сел, наморщил лоб и написал ответ, тщательно выверяя каждое слово, прежде чем вывести его на бумаге:
«Дорогая госпожа де Шарлаз,
Ваша доброта глубоко меня тронула, но она лишь усиливает мое смущение – я не смогу быть на свидании, которое вы мне назначили».
Вышло слишком сухо. «Баронесса все поймет!» – с неожиданной жестокостью подумал Николай и вложил записку в конверт. Антип открыл дверь – в коридоре стоял слуга Дельфины, старый, худой, бледный, в голубой ливрее с серебряными пуговицами.
– Вот! – Озарёв протянул ему письмо.
Человек, ревностный наперсник, по всей видимости, поклонился и исчез. Успокоившись и расслабившись, юноша взялся за книгу, намереваясь забыться в поэтических строках, но через полчаса обнаружил, что радоваться пока рано – слуга госпожи де Шарлаз вернулся с новым от нее посланием, не менее надушенным, чем первое: «Быть может, Вам удобнее другой день? Я могу найти время в среду и в пятницу». Николай без колебаний ответил: «Нам решительно не везет – я буду занят и в среду, и в пятницу». Старик в ливрее исчез, унося второй отказ. Через час явился вновь – запыхавшийся, с грустными глазами, письмо дрожало у него в руке. «Но когда же?» – вопрошала Дельфина, это был крик отвергнутой возлюбленной, который ничем не отозвался в душе адресата, хотя и польстил его самолюбию. Тем не менее сказать «Никогда» он не осмелился. Вежливость и жалость вынудили его на эвфемизм: «Дорогая баронесса, пока я ничего не могу сказать Вам. Служба отнимает у меня много времени. Как только у меня появится возможность встретиться с Вами, я немедленно сообщу об этом. Простите меня…» За дверью тяжело дышал измученный посланец. В надежде, что этот его визит будет последним, Озарёв дал ему на чай. Но скоро тот вновь был на пороге, прижав к животу шляпу: он взмок, едва держался на ногах, вне всяких сомнений, ему приказано было бежать. Не в силах вымолвить ни слова, старик протянул Николаю очередное послание, запечатанное сиреневой печатью: «Жестокий, что Вы выдумываете? Неужели пытаетесь задеть мою гордость и упрочить собственную победу? Или Ваше сердце, столь благородное на первый взгляд, совершенно ледяное, словно ваши северные снега?» Озарёв поднял глаза на слугу, тот на свой манер пытался выразить взглядом все то, о чем говорилось в письме: если эти перебежки не закончатся в ближайшее время, он просто упадет от усталости где-то на полпути между двумя домами. Как ни странно, в этом деле молодому человеку жалко было письмоносца, а не его госпожу: Дельфина перестала его интересовать.
– Ответа не будет, – сказал он.
Слуга благодарно взглянул на него, повернулся и вышел. В тот день Николая больше не беспокоили.
Следующий день он решил посвятить образованию – пойти в Лувр. Бродя по залам, с гордостью думал, что мог бы в эти мгновения находиться в объятиях любовницы, но властвует над желаниями собственной плоти, а потому ходит здесь и смотрит картины. Вот это характер! Поговаривали, что русский император личным вмешательством не позволил союзникам взять в галереях Лувра произведения, которые Наполеон вывез из их стран в качестве трофеев. Это обстоятельство заставляло молодого человека одинаково восхищаться и государем, и картинами, и статуями, что тот защитил. Народу было много, что, впрочем, не мешало наслаждаться видами сражений, мифологическими героями, пейзажами, портретами, которые призывали любить только великое, чистое, прекрасное. Когда Озарёву что-то особенно нравилось, он немедленно думал о Софи – непременно найдет возможность поговорить с ней о Лувре!
Но, выйдя из музея, почувствовал даже некоторое отвращение к этому великолепию и решил пройтись по саду Тюильри, немного развеяться. Здесь ему встретились Ипполит и несколько знакомых офицеров: они сидели кружком, обсуждая, не нанять ли завтра два фиакра и отправиться в Мальмезон, где обосновалась бывшая императрица Жозефина. Розников осудил Николая, что в последнее время тот ведет себя словно «одинокий гордец», пришлось согласиться на предложенную сослуживцами эскападу. Фиакр стоил два франка в час, вшестером или восьмером они вполне осилят финансовую сторону предприятия, повод к которому дал сам государь, нередко навещавший и Жозефину, и ее дочь, королеву Гортензию. К тому же среди русских считалось хорошим тоном поносить Наполеона и выказывать всяческое уважение его семейству. Встречу назначили на восемь утра неподалеку от Инвалидов. Ипполит Прекрасный взял на себя заботы о транспорте и провизии.
Прибыв в назначенный час к месту встречи, Озарёв обнаружил там два разваливающихся фиакра и дюжину офицеров. Ординарец Розникова притащил огромную корзину с продовольствием, откуда торчало множество бутылок. Было солнечно и очень тепло, всем хотелось веселиться, смеяться. Расселись. Поскрипывая рессорами, экипажи тронулись в путь: чахлые лошади, тихо дремавшие и неожиданно разбуженные, навострили уши, задрожали и смиренно начали движение, не дожидаясь оклика кучера.
На Елисейских полях больше не было бивуаков: казаки оставались здесь лишь несколько дней, пока не исключалась контратака со стороны Наполеона. Теперь они ютились в казармах, оставаясь невидимыми, – показываться на улицах столицы разрешалось только офицерам. Решение тем более мудрое, что с окончанием войны все больше французских солдат потянулось в Париж. Им неизвестны были перипетии французской кампании, они не сражались у стен столицы и не понимали, почему император уступил трон этому «проклятому Бурбону». Не проходило дня, чтобы где-нибудь не разгорелась драка, причины которой лежали исключительно в области политики. Все пассажиры экипажа сходились во мнении, что положение усугубится после подписания мирного договора и возвращения на родину военнопленных. Максимов сформулировал четко и ясно:
– Наблюдая за тем, что происходит в Париже, я ни за что не хотел бы оказаться в шкуре какого-нибудь француза. Когда мы уйдем отсюда, здесь снова будет революция. Они отрубят голову номеру восемнадцатому точно так, как сделали это раньше с номером шестнадцатым. И на них невозможно за это сердиться, это просто какая-то мания!
– Не надо говорить об отъезде, – вздохнул Розников, который был влюблен или хотел казаться таковым. – Мне кажется, что, простившись с Францией, я распрощаюсь и со своей молодостью.
У Николая сжалось сердце.
– А ведь ему еще нет двадцати двух! – откликнулся Максимов. – Послушай, молокосос, уж не воображаешь ли ты, будто хорошеньких девочек выращивают только в Париже? Хорошенькие глазки, хорошенькие грудки, хорошенькие бедра встречаются повсюду! И в России ты найдешь любезных кондитерш! Уж поверь мне, сложенных и одетых не хуже твоей!
Ипполит Прекрасный покраснел и резко засмеялся:
– Так вы в курсе?
– Все в казарме только об этом и говорят! Да, поздравляю! Настоящий военный должен непременно волочиться за женами побежденных. Но при одном условии – не сожалеть ни о чем, когда полк снова выйдет в поход!
Сидевший рядом с Максимовым капитан Дубакин молча одобрял его слова, кивая головой. Это был суховатый, бледный, близорукий мужчина, о котором ходили слухи, что он франкмасон.
– Да, надев мундир, ты обрекаешь себя на жизнь только одним днем, – вступил он. – Нельзя привязываться ни к кому и ни к чему, остается только жить надеждой, что в старости нас будут утешать воспоминания о славных делах, о том, что довелось побывать повсюду, хотя и оставаясь только прохожими.
– Ты что-то не весел! – отозвался Максимов. – У тебя что, душа постарела? Если так, я пересаживаюсь в другой экипаж!
Николай незаметно окинул взглядом сидящего напротив Дубакина, который, сам того не желая, выразил и его ощущения, чувство, что пейзаж, люди, голубое небо, все, что он видел вокруг, и все, что так нравилось, дано ему лишь на очень короткий срок, что счастье, которое он испытывал с того дня, как попал во Францию, не имеет под собой никакой прочной основы, что он живет во сне, который очень скоро развеется.
– Расскажи нам о своей кондитерше! Какая она? – обратился Максимов к Розникову.
– Такая же беленькая, как ее булочки!
– И такая же горячая?
– В постели это настоящая дьяволица.
– Как ее зовут?
– Не поверите – Жозефина!
Оба капитана расхохотались, Озарёв из вежливости присоединился к ним, хотя подобное веселье ему претило: в глубине души ему не понравилось, что о женщине отзывались пренебрежительно. Ощущение это было новым и несколько обременительным.
Экипажи выехали за пределы города и катили по направлению к Сене по дороге меж больших деревьев. Вот показалась и река с зелеными полями и ивами по берегам. Среди рощ виднелись домики с розовыми крышами, окруженные цветущими садиками. По воде скользили тяжело нагруженные лодки. В Нейи пересекли реку по мосту, стали взбираться на противоположный берег. Путешественники продолжали шутить. Максимов спросил Озарёва, нет ли у него интрижки, перипетии которой могли бы их развлечь. Тот грустно и твердо ответил: «Нет».
Кучер остановил лошадей, чтобы дать им отдышаться, затем – снова в путь, и вот уже задворки замка Мальмезон. Ипполит, хорошо осведомленный о возможностях осмотреть местность, увлек товарищей к заднему входу, который караулил преклонных лет садовник, снисходительный к мундирам и падкий на чаевые. Он объяснил, что множество офицеров армий союзников уже осматривают парк и что главный вход охраняют русские солдаты.
– Мы частенько видим вашего царя, – сказал старик. – Он так добр к нам. Советую не подходить слишком близко к замку и не шуметь…
Офицеры обещали, что будут вести себя скромно, не нарушат тишины, и, словно разведотряд, скрылись за поворотом дороги, которая, по всей видимости, шла вокруг замка. На самом деле, ничего не подозревая, они направились в самый центр парка. Внезапно звук барабанной дроби буквально пригвоздил их к месту. Впереди, у парадных ворот, выстраивались военные. Николай различил небесно-голубые воротнички формы Семеновского полка. В облаке пыли показалась карета, запряженная великолепными, серыми в яблоках, лошадьми. Охрана замерла, взяв на караул.
– Что это? – спросил Ипполит.
– Ты не узнал экипаж? – проворчал Максимов. – Это царь!
– Друзья, придется отступать, – заключил Дубакин.
Они бросились назад, как люди, застигнутые грозой. Когда император входит через парадные двери, его подданным надо выходит через черный ход. Садовник проводил их до фиакров, при этом он здорово походил на коммерсанта, которому не удалось удовлетворить требования покупателей:
– Как я расстроен этим обстоятельством… Возвращайтесь, господа…
Забравшись в экипажи, все весело обсуждали опасность, которой так своевременно удалось избежать. Всем вдруг захотелось есть и пить. Розников велел кучеру двигаться в парк Сен-Клу, где и был устроен пикник. На обед была холодная курица, ветчина, колбаса. Ввиду отсутствия хорошей водки Ипполит купил вино, приверженцами которого здесь стали почти все офицеры. Но двенадцати бутылок на восьмерых оказалось явно недостаточно, организатора пикника обвинили в том, что недооценивает возможности товарищей. Развалившись на траве, расстегнув мундиры и ослабив ремни, они с наслаждением отрезали лакомые куски, ели руками, пили из горлышка, болтали, шутили. Николай вспомнил походную жизнь, показалось, что они отдыхают между двумя сражениями. Капитан Дубакин прав: в этой грубой, бродячей, мужской жизни есть свое очарование. На десерт Розников затянул бодрую военную песню, которую все немедленно подхватили. Максимов попросил возниц, чтобы и они пели с ними, те согласились, так как предварительно немало выпили и закусили. Озарёв научил их русским словам, которые те, повторяя, коверкали самым немыслимым образом, вызывая взрывы хохота у слушателей.
– Уф! Прекрасно! Нам бы еще нескольких хорошеньких француженок! – воскликнул Ипполит.
– Что за мысль! Мы бы ломались перед ними, и это было бы вовсе не смешно, – заметил в ответ Максимов.
В три часа капитан Дубакин объявил сбор, чтобы посмотреть замок Сен-Клу. Слуга в ливрее встретил их в вестибюле. Лишившись хозяина, он зарабатывал на жизнь, выступая в роли экскурсовода. Не так давно из этого дома Наполеон навязывал миру свою волю, теперь это был музей – холодный, молчаливый. В кабинете императора все осталось на своих местах – и мебель, и безделушки. Уступив настояниям слуги, Николай уселся в кресло Наполеона, дотронулся до его пера и чернильницы, потом подошел к окну, из которого открывался вид на Сену, вдали – каменная громада, дым, отблески Парижа…
– Что за вид! – выдохнул Максимов. – И зачем его понесло в Россию, когда у него перед глазами была такая красота!
На этом их эскапада завершилась, хотя Розников мечтал доехать еще и до Версаля. Но было уже поздно, лошади устали, возницы нервничали. На обратном пути веселились гораздо меньше. Все размышляли о поразительной судьбе Наполеона, властелина половины Европы, теперь узника крошечного острова. Толпы любопытных тем временем с почтением обозревают места, где ступала его нога, а вчерашние враги сочиняют легенды о нем. «Я пережил самую волнующую эпоху в истории человечества! – подумал Николай. – Никогда больше не будет такой затяжной, жестокой, кровавой войны. И, кто знает, быть может, для наших детей и внуков мы будем последними воинами на свете!» Но, как и каждый раз, когда он уносился мыслями в слишком далекое будущее, оно вдруг скрывалось в тумане: как ни старался, вообразить себя стариком не мог никак.
* * *
По возвращении с прогулки Озарёв обнаружил у себя на столе очередную записку от Дельфины – на этот раз его церемонно приглашали на ужин в последнее воскресенье месяца. В крайнем раздражении он набросал отказ: войска союзников вот-вот могут покинуть Париж, ему хотелось по своему усмотрению распоряжаться и собственным временем, и собственными чувствами, не тратить их попусту. Поужинав в одиночестве на краешке стола, отправил Антипа к баронессе, а сам вышел размять ноги. Через полуоткрытую дверь гостиной раздавались голоса Софи и ее родителей – они пили вечерний кофе. Николая пригласили, он с радостью присоединился к ним. Семейство пребывало в большом волнении: от одного из друзей, который, в свою очередь, знаком был с каким-то дипломатом, господину де Ламбрефу стали известны положения мирного договора, что вот-вот должны были подписать бывшие противники. Франция лишалась всех своих завоеваний, приобретая границы бывшей на 1792 год монархии, но лишаясь необходимости выплачивать денежную компенсацию. Граф считал подобное решение успехом Талейрана, Софи была возмущена – хотя она и ненавидела Наполеона, территориальные завоевания его отстаивала, полагая, что князь Беневентский не имел права отдать просто так укрепления в Германии и Бельгии, где к тому же стояли до сих пор французские войска. Женщина буквально вышла из себя, Озарёв счел нужным вмешаться:
– Вы думаете, счастье Франции – это вопрос территории, которую она занимает?
Замечание заметно удивило собеседников, даже господин де Ламбрефу казался задетым в своих патриотических чувствах. Николай понял, что слова его истолкованы превратно:
– Я хочу сказать, что, по-моему, всеобщее уважение Франция может завоевать, не простираясь на всю Европу и не бряцая оружием, а силой мысли. Посмотрите на карту, на то, какой ваша страна была еще не так давно, – да, мала, но разве можно было представить себе Европу без нее, без ее ума, культуры, традиций, фантазии, очарования!..
Граф смущенно улыбнулся:
– Это слова поэта, и все же я вам благодарен.
Софи не сказала ничего, лишь посмотрела на русского гостя сияющими глазами. Едва сдерживая волнение, тот продолжал:
– Наконец, плох ли, хорош ли этот договор, прежде всего, он избавляет Францию от присутствия оккупационных войск!
– Насколько мне известно, на этот счет пока еще ничего не решено, – возразил граф.
– Да, мы пребываем в неизвестности и можем получить приказ выступать и завтра, и через месяц…
Ему показалось, что Софи побледнела. Ничего не сказав, она вышла. Молодой человек посидел еще немного с хозяевами, потом вернулся к себе – несчастный, но полный смутных надежд. Едва зажег свечи, как чей-то голос позвал его из сада. Это была госпожа де Шамплит. Николай открыл дверь.
– Вы действительно так думаете? И ваши слова сегодня вечером были искренними? – спросила она.
– О чем?
– О Франции, ее предназначении…
– Конечно.
Женщина опустила глаза, словно не хотела видеть его несколько мгновений, вновь взглянула и прошептала:
– Я хотела бы представить вас своим друзьям.
– Буду польщен.
– Это небольшой кружок, который посещал мой муж и куда я сама с удовольствием хожу, там можно встретить самых умных, образованных и благородных людей нашего времени. К тому же каждый говорит там от чистого сердца. Всех их, столь разных по происхождению, воспитанию и достатку, объединяет любовь к свободе!
Постоялец насторожился – ему предлагали ступить на достаточно скользкую почву. Да и на что ему эта французская свобода?
– Очень хорошо, – вежливо ответил он.
– Конечно, родители не одобряют этих моих знакомств. Но они – люди другого века и мало что понимают в них. Для вас же беседа с такими людьми окажется, я уверена, очень увлекательной.
Не получив ответа, добавила достаточно резко:
– Думаю, вы не можете покинуть Францию, не встретившись с ними!
– Я полностью вам доверяю, – сказал Озарёв, удивленный ее волнением.
– Итак, послезавтра.
– Хорошо.
– В пять часов, у господина Пуатевена, улица Жакоб, над книжным магазином «Верный пастух». Я буду там раньше, госпожа Пуатевен просила меня помочь ей. О, не беспокойтесь, там все очень просто…
– Но как мне представиться? Вы не боитесь, что мой мундир…
– Мои друзья отнесутся к нему так же хорошо, как и остальные сограждане.
Последнее замечание немного успокоило Николая – стоит ли опасаться людей, которые будут принимать его в качестве русского офицера?
* * *
Пуатевены жили на втором этаже старого дома с почерневшим фасадом. При входе в их квартиру поражало отсутствие коридора или галереи – комнаты, маленькие, с низким потолком, расположены были анфиладой. Но в них толпилась столь многочисленная компания, что Николай вдруг оробел. Не обнаружил он ни единого эполета, аксельбанта или шпаги. Все мужчины были в гражданском платье, с бархатными воротничками. Двое слуг, окончательно ошалевших, разносили на подносах напитки. Несмотря на распахнутые настежь окна, жара стояла нестерпимая. У женщин порозовели щеки, они говорили пронзительными голосами, непрерывно обмахиваясь веерами.
О приходе Озарёва никто не доложил, ему пришлось продвигаться в толпе наугад, пытаясь разыскать Софи, отсутствие которой начинало его беспокоить. Скромная обстановка и поношенные ливреи свидетельствовали, что Пуатевены стоят ниже по социальной лестнице, чем Ламбрефу или Шарлаз. Повсюду – на полках, на полу, на стульях, стоящих по углам столиках – были книги. Очевидно, хозяин не имел обыкновения принимать у себя иностранных военных – приглашенные смотрели на офицера удивленно и не слишком любезно, разговоры смолкали, лица хмурились. Казалось, что ему устроили западню, вот-вот разразится скандал. Мысленно он ругал за это госпожу де Шамплит, которая неожиданно возникла перед ним и, улыбаясь, сказала:
– Пошли!
Через несколько мгновений они предстали перед стариком с белым, словно пергаментным лицом. Это был господин Пуатевен. Длинные седые пряди спадали ему на плечи, голубые глаза смотрели совсем по-детски. Вокруг почтительно стояло около дюжины гостей. Озарёва представили, разговор продолжался, словно русского военного и не было рядом: газеты молчали пока о будущей конституции Франции, Пуатевен верил, что ее создатели вдохновляются благородными принципами Монтескье, гражданам будет гарантирована личная свобода, свобода печати и вероисповедания. Столь оптимистичный взгляд выводил из терпения худосочного юношу с нервным тиком, метавшего громы и молнии:
– Слишком рано радуетесь! – воскликнул он. – Тот, кто хочет править Францией, должен, по меньшей мере, знать ее историю. Людовик XVIII – привидение, осколок прежнего режима, изгнание ничему его не научило. Что бы он ни говорил и ни провозглашал, он видит спасение только в возврате к прошлому!
– Кто это? – спросил Николай у Софи.
– Замечательный молодой человек, хотя и немного сумасшедший. Его зовут Огюстен Вавассер, хозяин книжного магазина, что расположен этажом ниже.
– Мне не нравится его резкость, кажется, он готов все сломать, не зная, как потом поправить!
Госпожа де Шамплит наклонила голову в знак согласия:
– В трех словах вы как нельзя лучше описали его!
После такого одобрения Озарёв почувствовал себя гораздо увереннее, ему захотелось вмешаться в спор. Он смерил Огюстена Вавассера ироничным взглядом и сказал:
– Иначе говоря, если конституция окажется именно такой, как вы желаете, вы сочтете ее неважной только потому, что это дело рук короля?
Тот скривил физиономию и ответил:
– Безусловно! Даже самые прекрасные положения подобного документа останутся лишь словами, если правительство искажает его смысл практическим применением. К чему Декларация прав и свобод человека, если Конвент в своих решениях полностью игнорирует ее положения? К чему Конституция Восьмого года, если Наполеон совершенно с ней не считался? Стоит ли радоваться обещанному закону, если мы не знаем, под каким соусом нам его преподнесут? Когда мы имеем дело с литературой, дабы оценить произведение по достоинству, необходимо абстрагироваться от личности автора, в политике значимость заявления зависит от того, заслуживает ли доверия его автор!
– А вы решительно не доверяете Людовику?
– И не я один, – неприятно засмеялся Огюстен. – Ваш царь, например, являет собой образец сдержанности: и он, и его союзники настолько сомневаются в добрых намерениях нашего монарха, что отказываются уйти, не узнав, какую судьбу он нам уготовил.
– Чего же, вам кажется, они опасаются?
– Да, черт побери, что наш старина Бурбон потеряет голову и своим консерватизмом спровоцирует новую революцию! Они склоняют его к либерализму. Согласитесь, ситуация весьма пикантная!
– Не вижу, почему, – возразил Николай.
– Что же, тем хуже для вас. Лично я не могу не восхищаться всеми этими великими князьями, которые, опасаясь за свое самодержавие – будь то в России, Австрии или Пруссии, – пытаются заставить Людовика XVIII одарить Францию серьезными парламентскими институтами. Свобода, равенство, всеобщее представительство, за которые они так ратуют здесь, в их собственных государствах расцениваются как преступления, разве не так?
– Нет ничего удивительного в том, что политическое устройство каждой страны исходит из ее истории, географического положения, климатических условий, особенностей населяющих ее людей…
– Вы никогда не убедите меня в том, что особенности отдельного народа могут оправдать рабство, в котором пребывают многие ваши соотечественники…
Оглушенный этим обвинением, Озарёв думал, должен ли немедленно дать пощечину собеседнику или существует возможность иного ответа. Он сжимал кулаки, подыскивая слова, ярость переполняла его. Окружающие с интересом смотрели на него. Молодой человек готов был вспылить, как вдруг слева от него раздался спокойный голос:
– Господин Вавассер, мне кажется, вы забыли, когда такие же рабы были освобождены у нас!
Николай радостно встрепенулся – на его защиту встала Софи. Невозмутимо улыбаясь, она продолжала:
– Четвертого августа 1789 года! Всего двадцать пять лет назад! Просвещенной нации здесь нечем гордиться! А скрытое рабство существует у нас и до сих пор, несмотря на всех наших философов! Вам это не мешает давать уроки либерализма родине Петра Первого, которая лишь столетие назад рассталась со средневековьем? Дайте России время пройти по пути прогресса, я уверена, наши идеи пересекут северные границы. Там, как и у нас, есть люди, задумывающиеся о справедливости, равенстве, независимости, они встанут на защиту личности перед лицом государства!
Она взглянула на Николая в поисках согласия. И хотя он был далек от того, чтобы разделить подобные революционные воззрения, откликнулся:
– Конечно!.. Неверно думать, что Россия останется в стороне от… от великого движения человечества, о котором вы говорите.
Заявление это, несколько неожиданное для самого Озарёва, вызвало одобрение присутствующих. Огюстен в смущении кусал губы, господин Пуатевен спросил:
– Эти слова делают вам честь. Вы – профессиональный военный?
– Нет, я пошел добровольцем.
У него создалось впечатление, что по странному стечению обстоятельств он становился первым революционером в русской армии. Теперь его окружали улыбки и внимание. Господин Пуатевен грустно поинтересовался нынешним положением русских крестьян. Перед аудиторией, жаждущей исключительно всеобщего равенства, Николаю оставалось только жалеть мужиков. Что он и сделал, хотя понимал, что совесть его не вполне чиста. Софи придавала ему уверенности, с необычным вниманием прислушиваясь к речам Озарёва. Глядя на нее, он со стыдом вынужден был признать:
– Большинство из них очень несчастны… Хозяева имеют право применять телесные наказания, сдавать на двадцать пять лет в армию… В России можно купить раба с землей или без земли… Цены?.. Не знаю точно, полагаю, в Петербурге человек стоит триста-четыреста рублей… В деревне – дешевле…
Раздались взволнованные, возмущенные восклицания:
– Вы только послушайте!.. Ужас!.. Бедные люди!..
– А у вас лично тоже есть рабы? – спросил кто-то.
– У меня – нет, но у отца…
– Сколько?
– Почти две тысячи душ.
Слово «душ» необъяснимо потрясло слушателей. Николай разрывался между удовольствием производить впечатление своими откровениями и угрызениями совести, что эти откровения умаляют достоинства его родины в глазах французов.
– Все это достойно сожаления. Но таковы обычаи, обычаи, укоренившиеся достаточно глубоко, – продолжал он.
– И никто не восстает? – спросил господин Пуатевен.
– Почему, время от времени вспыхивают крестьянские бунты. Но их быстро подавляют!
– Я знаю, в чем дело, – вмешался Огюстен. – Им не хватает образования, тех, кто направлял бы их…
Озарёв покачал головой:
– Да будь они даже образованны, и будь у нас люди, которые вели бы их за собой, они никогда не захотят свергнуть режим, который направлен на их угнетение. Конечно, самые дерзкие могут восстать против плохого хозяина. Но никогда они не замахнутся выше…
– До такой степени боятся царя?
– Нет, они любят и уважают его. И не упрекают его в своей нищете, как не упрекают Бога в том, что он их создал. Для них это вопрос веры.
Господин Пуатевен нахмурился и проворчал:
– Будем надеяться, что мало-помалу они осознают свои права, а власти, со своей стороны…
– Да, – поспешил согласиться Николай, – будем надеяться…
Разговор прервала госпожа Пуатевен, кругленькая и свеженькая, словно наливное яблочко. Она села за клавесин, все столпились вокруг. Должно быть, такова была традиция. Какая-то девушка стала рядом с растением в кадке и томно запела:
«Прекрасная птица, не из тех ли ты краев, Где любят…»Стоя позади кресла, в котором сидела Софи, русский гость приходил в себя после изнурительной битвы. Время от времени она поворачивала голову и смотрела на него, взгляд ее и благодарил его, и требовал чего-то. До конца вечера больше никто не говорил о политике. Когда молодые люди уже собирались откланяться, Пуатевены пригласили их зайти в воскресенье после ужина:
– К нам обещали заглянуть Бенжамен Констан и госпожа де Сталь…
Госпожа де Шамплит вынуждена была ответить отказом на столь заманчивое предложение, она обещала быть в другом месте. Озарёв не имел ни малейшего желания появиться здесь вновь без нее, только она его и привлекала. В экипаже, который вез их в особняк Ламбрефу, Софи упрекнула его в необщительности:
– Зря вы отказались. Подумайте, госпожа де Сталь, Бенжамен Констан!.. У вас не будет другой возможности увидеть их…
– Мне неинтересно видеть их, когда рядом нет вас.
Ответ это вырвался у него помимо воли, он удивился, как если бы в их разговор вмешался третий. Но его переполняла нежность, в которую быстро погружались последние островки здравого смысла. Ему казалось, что все происходящее с ним сильно смахивает на глупость.
– Вы действительно не можете отказаться от другого предложения? – спросил Николай.
– Нет, я уже давно обещала моей приятельнице госпоже де Шарлаз присутствовать у нее на воскресном ужине вместе с родителями…
У него перехватило дыхание. Софи у Дельфины! А он отказался быть там! Впрочем, так даже лучше. Но какое-то очарование было разрушено. Юноша замкнулся и старался не смотреть на спутницу.
– Думаю, вы их знаете, – сказала она.
– Кого?
– Барона и баронессу де Шарлаз. Отец рассказывал, что вы вместе были у них, пока мы с матерью не вернулись из Лиможа.
– Да…
– Раньше мы часто виделись с Дельфиной. Но после ее замужества наши судьбы оказались столь разными…
Фраза повисла неоконченной, Озарёв в душе молил лошадей довезти их быстрее до дома. Казалось, они послушались – показался особняк, перед дверьми которого экипаж с грохотом остановился.
* * *
Поужинав с родителями, Софи поднялась к себе: мечтала побыть в одиночестве, чтобы восстановить в мельчайших подробностях визит к Пуатевенам. Впрочем, единственным, на кого она обращала там внимание, был Николай Озарёв, его лицо, жесты, слова, его наивность и решительность, голубые глаза, низкий голос, каждое новое воспоминание лишь усиливало в ней внутреннее смятение, никогда в жизни не испытывала она ничего подобного – это было счастье, от него теснило в груди. «Я люблю его!» – призналась она себе с таким ужасом, словно узнала о неизлечимой болезни. Да и в самом деле, что худшее могло с ней приключиться: Озарёв – иностранец, офицер одной из союзных армий, вошедших в Париж, рано или поздно ему придется уехать. Самое мудрое – противиться изо всех сил этому влечению, чем ближе они станут друг другу, тем мучительнее будет расставание. Тут ее осенило, что рассуждает так, будто чувства Николая известны ей так же хорошо, как свои собственные. Он никогда не признавался, что влюблен, но при каждой встрече Софи читала это в его глазах. Сколько раз Озарёв, должно быть, мысленно сжимал ее в объятиях! Хлопнула дверь. Она вздрогнула, представив себе молодого, гордого мужчину во вражеском мундире. Вошла горничная.
– Нет, я переоденусь сама…
Шаги удалились. Молодая вдова осталась наедине со своим отражением в зеркале, взглянуть на которое опасалась: страшно было обнаружить, что она слишком хороша для одиночества. Но ни в коем случае не стоит думать о возможных отношениях с Николаем. Как хорошо, что она согласилась принять приглашение Дельфины и так достойно держалась, сообщая ему об этом. «Да, так будет лучше! Несомненно лучше!» Она машинально подошла к окну – сад уже погрузился в темноту. Вдруг Софи различила черный силуэт у каменной скамьи, там, в темноте, неподвижно стоял Озарев и ждал ее. Охваченная радостью, она чуть было не бросилась вниз, в сад, не побежала к нему, но вовремя остановила себя. Решительно захлопнула окно, звук этот болью отозвался в ее душе.
10
В одиннадцать гости начали расходиться. Дельфина очень хотела, чтобы Софи и ее родители немного задержались, но если господин де Ламбрефу с удовольствием провел бы здесь еще некоторое время, его жена и дочь спешили вернуться домой – долгий ужин и скучные разговоры утомили их. Софи казалась даже более измученной, чем госпожа де Ламбрефу.
– Дитя мое, вы принадлежите к грустному поколению, – сказал ей граф, когда они сели в экипаж. – Раньше у людей вашего возраста кровь была горячее, ночь без сна их не пугала!
– Друг мой, в своих воспоминаниях вы склонны все приукрашивать, – вздохнула графиня.
– В любом случае, – продолжал ее супруг, – Дельфина показалась мне привлекательной, как никогда. Должно быть, благодаря этому молодому полковнику, что сидел напротив нее за столом. В тот день, когда ее сердце окажется незанятым, она постареет сразу лет на десять! К счастью, барон любит ее так, что не пожелает ей подобной участи!..
– Не говорите вздор! – остановила его жена. Она не выносила, когда муж после сытного ужина переходил к столь вольным темам, которые выглядели пикантными натощак, но после еды приобретали грубоватый оттенок. Господин де Ламбрефу знал об этой слабости своей половины:
– Дорогая, я серьезен, как никогда! Снисходительность нашего доброго хозяина ему только на пользу…
Их беседа не слишком занимала дочь, по мере приближения к дому ее все неотвязнее одолевали мысли о Николае, встреч с которым она избегала уже два дня. И сегодня они уехали к Шарлазам еще до его возвращения из казармы. Увидит ли его – стоящим в конце галереи, у библиотеки, в саду или у окна? Сердце ее билось в такт колесам.
Проснулся, открыл двери господам слуга. Софи заметила, что в конце коридора, у комнаты Озарёва, горит свет. Раздались шаги. Она замерла – предчувствие не обмануло, в полумраке различила силуэт молодого человека.
– Да вы не спите! – воскликнул граф.
– Нет, – ответил Николай. – Вы хорошо провели вечер?
– Восхитительно! Есть, не будучи голодным, пить, когда не хочется, болтать ни о чем и ухаживать за женщинами, которых не любишь, – вот что в наше время признается удовольствиями самыми рафинированными! Но и вы, мой милый, на кого вы становитесь похожи? Мне кажется, что армия полностью завладела вами!..
Квартирант улыбнулся, но, когда взглянул на Софи, глаза его были грустны: он силился молча сказать ей что-то, она не понимала. Никогда раньше ей не приходилось видеть его таким растерянным. Не выдаст ли свою тайну в присутствии графа и графини?
– Я недавно узнал очень важную для меня новость, – сказал Николай.
– Что ж, не будем стоять здесь и пройдем в гостиную, – предложил господин де Ламбрефу.
Слуга зажег свечи, огромные тени устремились к потолку. Госпожа де Ламбрефу усадила дочь подле себя на канапе.
– Сегодня после полудня, – еле слышно продолжал Озарёв, – мой полк получил приказ выступать. Через четыре дня, на рассвете третьего июня, мы покидаем Париж…
У Софи закружилась голова, перехватило дыхание. Она мечтала только об одном – ничем не выдать себя.
– Что ж, это можно было предвидеть, – проворчал граф. – Я слышал, что сам император Александр готовится к отъезду…
– Да, завтра все полки последний раз пройдут здесь парадом перед Его Высочеством. А затем мы начнем двигаться короткими переходами к Шербуру, где нас будут ждать русские корабли. Оттуда – в Кронштадт…
Он не сводил глаз с Софи в надежде обнаружить, что она огорчена. Нет, женщина оставалась невозмутима, холодна, словно ее совершенно не интересовали его слова. Это безразличие задело Николая: «Да, я ошибся. Нет у нее ко мне никакого глубокого чувства. Мое присутствие забавляло ее, теперь, узнав, что я ухожу, отвернулась от меня, не обращает внимания…» Госпожа де Шамплит была прекрасна в платье цвета слоновой кости с бархатными лиловыми бантами. Неужели под этой красотой и грацией скрывается жестокая душа? Господин де Ламбрефу казался гораздо человечнее своей дочери:
– Быть может, я эгоист, но мне жаль, что вы нас покидаете! Но представляю, как вы будете рады после долгих месяцев разлуки встретить своих родных!
– Ваши отец и сестра ждут вас, должно быть, с таким нетерпением! – вступила графиня.
– Конечно, – ответил Озарёв, – мысль о них будет поддерживать меня при расставании с вашим домом…
Голос его дрожал.
– Вы сказали, что это случится третьего июня? – обратился к нему граф.
– Да.
– Так доставьте нам удовольствие, поужинав с нами второго июня.
Николай был слишком взволнован, чтобы произнести что-либо. Он согласно кивнул, потом собрался с мыслями, пожелал спокойной ночи графу и графине, бросил трагический взгляд на Софи и поспешно вышел. Некоторое время спустя оставила родителей и дочь. Она поднялась к себе в комнату. Госпожа де Ламбрефу тихонько сказала мужу:
– Вы заметили?
– Что?
– Софи…
– Да, могла бы быть любезнее с этим бедным мальчиком…
– Вы и вправду так думаете? Мне так вовсе не кажется! Или я ошибаюсь, или самое время вашему русскому удалиться отсюда!
* * *
Войска собрались на дороге в Нейи еще в девять утра, но парад начался ровно в полдень. Царь, Великий князь Константин, император Австрии и король Пруссии заняли свои мести на площади Звезды. Сорок тысяч человек пришли в движение. Когда Литовский полк поравнялся с государем, солдаты и офицеры приветствовали его возгласами:
– Здравия желаем, Ваше Императорское Величество! Ура! Ура! Ура!
Казалось, от этого громоподобного пожелания задрожали камни. Вновь раздалась барабанная дробь, задавая темп и ритм движению.
Вернувшись в казарму, уставший до изнеможения, Озарёв узнал от Дубакина, что умерла императрица Жозефина – сказались последствия переохлаждения. Об этом сообщала газета «Journal des débats». Дабы избежать упоминания Наполеона, ее именовали «матерью принца Евгения». Николай с грустью прочитал эти строки, вспомнил эскападу в парк Мальмезон. Как он был счастлив и беззаботен, сколько смеялся с товарищами! А через несколько дней мир утратил свой блеск: появились сообщения об окончании дипломатических переговоров, о предстоящем путешествии русского государя в Англию, о прощании генерала Сакена с Парижем, за всем этим угадывалась радость, что испытывала Франция, расставаясь с войсками союзников.
На другой день, тридцать первого мая, артиллерийский салют возвестил подписание мирного договора. Озарёв и два его сослуживца бросились к дворцу Бурбонов, где, как говорили, должно быть зачитано обращение к жителям столицы. Они успели вовремя, хотя сквозь толпу, украшенную треуголками, султанами и флагами с лилиями, пробиться было невозможно. Впрочем, голос читавшего слышен был прекрасно:
– Жители Парижа! Франция, Австрия, Россия, Англия и Пруссия заключили мир. Закрепляющий его договор был подписан тридцатого мая. Так встретьте же ликованием новость об этом благодеянии и думайте о счастье, что ждет вас при отеческом правлении принца, которого провидение вернуло нам!
Получив необходимую дозу радостно-исступленных восклицаний и брошенных в воздух шляп, официальный кортеж двинулся по направлению к бульвару Сен-Жермен. Никто в толпе не обращал внимания на русских офицеров. Как будто они уже покинули столицу!
Николай с товарищами вернулись в казарму, двор был заставлен сундуками, корзинами, дорожными сумками. Часовые охраняли обоз с багажом. Распахнув окна, солдаты убирались, выбивали одежду, чистили оружие. Они-то, по крайней мере, счастливы были вернуться домой: в Париже им довелось увидеть только стены казармы и несколько широких улиц, по которым прошли парадным шагом, не обращая внимания ни на что вокруг. Озарёв даже завидовал этому, если бы и ему удалось забыть Софи! Госпожа де Шамплит старательно избегала его, он же все настойчивее уверял себя, что до конца дней будет любить только ее одну.
Собираясь на прощальный ужин второго июня, постоялец облачился в военную форму и намеревался вести себя как можно естественнее. Но когда сели за стол, она – напротив, лишился сил, что копил для этой минуты, и буквально вынуждал себя нахваливать еду и поддерживать разговор. Каждый взгляд этой женщины причинял боль: если несколько дней назад она с полным безразличием отнеслась к известию о его отъезде, теперь, похоже, настроение откровенно враждебное. Вспомнилась их первая встреча. Но если тогда она упрекала его за то, что поселился в их доме, теперь, кажется, за то, что покидает его. Самым мучительным оказался десерт. Подняв бокал с шампанским, господин де Ламбрефу счел необходимым произнести несколько слов о том, что люди могут найти общий язык, несмотря на границы, и что какой бы кровопролитной ни была эта война, тем не менее способствовала сближению народов. Граф закончил свою речь, воздав должное русской армии, и особенно ее офицеру, которого имел честь приютить под своей крышей. Николай поблагодарил за все, что он для него сделал.
– Благодаря вам все время, что был в Париже, я чувствовал себя словно дома. Я восхищался Францией до знакомства с вами, теперь полюбил ее…
Озарёв покраснел до корней волос, ведь Франция и Софи были теперь для него – одно. Но дочь графа осталась равнодушна и к этому его заявлению, смысл которого, должно быть, ускользнул от нее. Красивая и безучастная, она ожидала окончания ужина с очевидной скукой. Ее мать, напротив, была непривычно взволнована. Будучи противником долгих излияний, граф попытался внести нотку веселья в их прощание:
– Но, черт побери! Не на Луну же вы отправляетесь! Рано или поздно у вас будет возможность вернуться во Францию!
– Нет, – промолвил юноша. – Я больше не вернусь… никогда!..
Спазм перехватил ему горло, на глаза навернулись слезы. Он схватил бокал, выпил его залпом и пожалел, что не может разбить о стену, как это было принято на пирушках среди военных.
* * *
Париж еще дремал в утреннем тумане, пустынные улицы казались странно просторными. Гвардейцы шли строем по пять человек, Озарёв и Розников ехали верхом впереди отряда гренадеров. Далеко впереди виднелось зачехленное знамя полка. Весело гудели трубы, гремели барабаны. Порой, как это было тогда, когда войска входили в Париж, открывалось окно, показывалось заспанное лицо. Но теперь все было по-другому – страх сменила надежда, разбуженные жители облегченно вздыхали: «Все!.. Русские уходят!.. Скатертью дорога!..» Николаю казалось, он явственно слышит этот шепот. Софи не сказала ему на прощанье ни одного теплого слова, он был убежден, что все в Париже ненавидели его и гнали прочь.
Полк пересек Сену, повернул к площади Людовика XV, поднялся по Елисейским полям к площади Звезды. В предместье Сен-Жермен запланирована была первая остановка. Небо прояснилось, над колоннами Триумфальной арки длинное, похожее на крыло белое облако осыпало свои перья под лучами восходящего солнца. Ипполит Прекрасный с наслаждением вдыхал свежий воздух и, когда музыка смолкла на мгновение, запел с ужасающим акцентом столь милую сердцу французских роялистов песенку Генриха IV.
Как мог он быть таким счастливым, если, по его собственному признанию, оставлял в Париже любовницу? Или не любил ее, или просто умеет держать себя в руках? Николаю необходимо было выяснить это:
– Ты виделся с ней вчера?
– С кем?
– Да с твоей молоденькой кондитершей… Жозефиной…
Ипполит перестал петь и сказал:
– О нет! Бедняжка! Три дня назад я сказал ей о своем отъезде, последовали слезы, клятвы. А ты знаешь, что, как только женщина начинает вздыхать, меня и след простыл… Угадай, как я провел эти последние дни в Париже?
– Ухаживая за кем-то другим!
– Вовсе нет! Ладно уж, посвящу тебя в свою тайну, только держи язык за зубами!
– Клянусь!
Розников заговорщицки прищурился и прошептал:
– Вчера я был на заседании масонской ложи!
– Ты – франкмасон?
– Никогда не был, но капитан Дубакин взял меня с собой. Это может пригодиться…
– В чем?
– В продвижении по службе. Говорят, Великий князь Константин – франкмасон, и многие генералы, и адъютанты царя. А так как я намереваюсь сделать карьеру в армии… Ох, слышал бы ты, как восторженно отзывались французские братья о нашем государе!..
Дальше Николай слушал вполуха, заботы Ипполита казались ему такими ничтожными.
– Прощай, Париж, – произнес Розников, когда они пересекли заставу, замечание это окончательно повергло Озарёва в уныние.
Он стиснул зубы, словно от физической боли. При мысли, что не увидит больше Софи, его охватила глубокая безнадежность: зачем он на этой дороге, среди этих людей в военной форме, когда с каждым шагом все дальше от смысла своего существования? Офицер оглянулся – людской поток размеренно тянулся, заполнив до краев улицы. Сверкали штыки, дымились трубы над крышами, день обещал быть солнечным. Софи!.. Все еще спит? Слышала ли, как уходил? Думает ли о нем? Хотя накануне она и была холодна, Озарёв отказывался верить, что безразличен ей. «Я не мог ошибиться! Произошло какое-то страшное недоразумение! Я ушел, не объяснившись, не узнав, любит ли она все еще меня или не любит больше!..»
Полк поравнялся с деревенькой Нейи, по приказу командира хор затянул походную песню, сочиненную еще в начале войны.
Какой-то солдат передал ружье соседу и, не выходя из строя, пустился в пляс. Товарищи подбадривали его свистом, смехом, криками. Привлеченные шумом, выходили из домов французы и боязливо застывали на пороге. Ипполит то и дело замечал в окнах хорошеньких девушек:
– Ты видел эту блондинку? Взгляни! Да взгляни же!
Жизнерадостные наблюдения товарища выводили Озарёва из себя, и он попросил его замолчать. Розников удивился сначала, потом обиделся. Остаток пути они не обменялись ни единым словом.
В два часа полк с музыкой вошел в Сен-Жермен, где уже полным-полно было русских, стекавшихся сюда из Парижа и окрестностей. На первом же перекрестке пришлось остановиться – там образовалась пробка. Через двадцать минут они получили приказ продолжать марш и расположиться в деревне, где в их распоряжение отданы были сараи, амбары, стойла. Солдаты, бранясь, устраивались на сеновалах: где обещанные прекрасные казармы? А эти, семеновские и преображенские, наверняка устроены получше! У Озарёва и Розникова был ордер на расквартирование, в котором ничего нельзя было разобрать. Они обошли три фермы, прежде чем обнаружили на одной из них предназначенный им сарай для инструментов. Выбросив на улицу лопаты и мотыги, Антип соорудил две кровати из досок, прикрытых мешковиной.
– Вам, барин, будет здесь спаться не хуже, чем на улице Гренель! – заметил он, довольный своей работой.
Сердце Николая сжалось от тоски – первая ночь вдали от Софи! Чтобы отвлечься от этих мыслей, присоединился к офицерам, собравшимся у полковой палатки, установленной возле дороги. Здесь узнал, что поступил новый приказ: только первый гвардейский дивизион отправляется в Шербур, второй, в состав которого входит и Литовский полк, возвращается в Россию пешком, через всю Европу. Новость эта несказанно обрадовала офицеров – король Пруссии собрался устроить в Берлине торжества в честь окончания войны, войска могли принять в них участие.
– Что же, буду счастлив сравнить парижанок и жительниц Берлина! – говорил Ипполит Прекрасный.
Николай развернулся и отошел, не в силах теперь выносить подобные шуточки. Антип нагнал его, чтобы сообщить: во дворе фермы для офицеров накрыт будет обед. Озарёв отказался идти туда, он не был голоден. Дотемна бродил по полям, усыпанным огоньками бивуаков: дремали часовые, скакала эстафета, кто-то играл в карты, кого-то брили наголо… Молодой человек сотни раз уже видел это, но сегодня казалось, происходившее вокруг не имело к нему никакого отношения. После переклички осмотрел амбар, где разместились на ночлег его подчиненные, потом, словно в горячке, бросился в их с Розниковым сарай. Стоявший у дверей с сигарой в руках приятель встретил его насмешливо:
– Собираешься ложиться?
– Нет, я уезжаю.
Ипполит вытянулся и вытаращил глаза:
– Как это уезжаешь?
– Мне необходимо вернуться в Париж, – пылко воскликнул Николай.
– У тебя есть разрешение?
– Нет.
– Рассчитываешь получить?
– Конечно же, нет, сам знаешь, что мне откажут. Я не собираюсь никого ставить в известность.
– Что за безумие!
– Успокойся. Завтра на заре, еще до побудки, вернусь.
– А если тебя схватят?
– Ну и пусть!
– Да ты понимаешь, чем рискуешь: подобную выходку могут трактовать как дезертирство!
– Не надо высоких слов! Все обойдется!
Розников бросил сигару и спросил:
– Ты хотя бы посчитал, сколько времени займет дорога туда и обратно?
– Семь часов.
– Но только если лошадь не устала. Чего не скажешь о твоей!
– Китти хорошо отдохнула. Я знаю, на что она способна.
– Черт с тобой! – проворчал Ипполит. – Уверен, что все это из-за женщины!
– Да.
– Не думал, что ты так влюблен.
– Я и сам не думал.
Все в нем ликовало, принятое решение требовало немедленного исполнения. Не дав приятелю сказать больше ни слова, зашел в сарай, взял свои дорожные сумки и побежал к загону, где стояли на привязи лошади. Охранявшие их конюхи мирно спали на земле.
* * *
Софи распускала волосы, перед тем как лечь, вдруг в дверь тихонько постучала ее горничная Эмильена, просунула в щель свою лисью мордашку, проскользнула в комнату:
– Госпожа! Вас спрашивают!
– Кто?
– Этот русский господин… офицер…
Софи прижала руки к сердцу:
– Ты уверена, что не ошиблась?
– Конечно. Я видела, как он приехал. Предупредить ваших родителей?
– Ни в коем случае! Где они?
– У себя в спальне.
– А он?
– Внизу. Ждет вас. Я проведу его в гостиную?
– Да… или нет… В библиотеку… Скорее!
Эмильена убежала, Софи наскоро привела себя в порядок. Причесываясь перед зеркалом, увидела, что бледна, но глаза сияют счастьем: «Откуда он вернулся? Как? Надолго ли? Можно ли теперь сомневаться в его любви?» Своим внезапным появлением он путал все ее планы, усложнял все, и все же она была благодарна ему за это безумство. Не раздумывая больше, поспешила в библиотеку. Он уже был там – с горящим лицом, весь в дорожной пыли. Не осмеливаясь начать говорить, умоляюще смотрел на Софи. Она почти прошептала:
– Что происходит? Я думала, вы в Сен-Жермен…
– Я и был там еще четыре часа назад.
У нее забрезжила надежда:
– Вас послали сюда с поручением?
Он покачал головой:
– Нет, я должен немедленно ехать обратно. Моя лошадь захромала, а путь не близкий…
Сердце ее сжалось – от радости ли, от тоски:
– Тогда… почему…
Этого она не должна была говорить, ответа Софи боялась больше всего.
– Мне надо было увидеться с вами!
Признание взволновало ее, хотя она сама его вызвала.
– Да, – продолжал он, – мы расстались так странно, так холодно…
– Вовсе нет!
– О да! Несколько дней назад вы переменили свое отношение ко мне, не отрицайте этого. Я вас чем-то рассердил, сам того не желая?
Софи не успела ответить, дверь библиотеки открылась. Женщина в ярости обернулась – родители! Кто их предупредил? Они выглядели сконфуженными, встревоженными.
– Вот это сюрприз! – воскликнул господин де Ламбрефу. – Могу я узнать, чему мы обязаны счастьем так скоро видеть вас вновь?
В мгновение ока Софи оказалась перед отцом.
– Я объясню вам это позже, – сказала она прерывающимся голосом. – Теперь умоляю оставить нас с господином Озарёвым одних…
– Но, Софи, дитя мое, это невозможно! – вмешалась госпожа де Ламбрефу. – То, о чем вы просите…
– Оставьте меня одну!
В ее глазах появилась такая властность, что графиня застыла на месте.
Осознав всю серьезность происходящего, граф счел, что разумнее удалиться, а не пререкаться перед иностранцем. Дочь вынуждала его к этому. Он не находил в ней ни снисхождения, ни стремления соблюдать приличия, качеств, присущих ему, которыми он так гордился, нет, была в ней какая-то душевная стойкость, к числу достоинств им не относимая.
– Что ж, хорошо, – сказал он с напускной вежливостью. – Мы будем ждать вас в гостиной…
Граф вышел, подав руку жене, которая еле стояла на ногах и печально качала головой. Софи прислушалась к удалявшимся шагам. Потом взглянула Николаю в глаза и пылко сказала:
– Теперь говорите! Вы упрекали меня в безразличии…
– Да, мне показалось…
– И потому что вам «показалось», вы вернулись сюда посреди ночи за объяснением? Кто дал вам право беспокоить меня? Что, по-вашему, я должна сказать вам?
Голос ее дрожал от гнева. Чем сильнее желала она оказаться в объятиях этого человека, тем яростнее возражала ему. Его упреки были защитой от ее собственной слабости. Сколько еще надо причинить ему, да и самой себе, боли, чтобы, побежденный, он согласился уйти? Когда он будет далеко, она вновь обретет покой, в этом Софи была уверена. Теперь же ей оставалось только наносить удар за ударом и страдать.
– Вы сердитесь, и я прошу у вас прощения, – сказал молодой человек, так преданно и нежно взглянув на нее, что у Софи все перевернулось внутри. – Когда сегодня утром я увидел себя со стороны, идущим по дороге, то понял, что не могу уехать отсюда навсегда, не будучи уверен в тех чувствах, что вы испытываете ко мне…
– Правда? – воскликнула Софи.
Мысли ее рвались, на мгновение она замерла с раскрытым ртом, произнося про себя: «Пусть трусливо отступит, откажется, исчезнет, иначе я сдамся! Не хочу больше! Скорее! Скорее!»
– И вы пустились в обратный путь в надежде застать меня в слезах? – сказала, наконец. – Наверное, это было бы прекрасное воспоминание о последних днях, проведенных в Париже. Сожалею, что не могу помочь вам…
– Я вернулся не затем, чтобы спросить, любите ли вы меня, но чтобы сказать, что я вас люблю!
Невыносимая сладость была в этих словах, которые, Софи знала, месяцы и годы будут отравлять ее одиночество, но с недоброй улыбкой спросила:
– Вам придает смелости, что мы с вами больше не увидимся? Вам кажется благородным или забавным посеять смущение и исчезнуть? И что вы ответите, как поведете себя, если вдруг вам покажется, что меня тронули ваши слова?
– Но…
– Останетесь во Франции? Ведь нет, не так ли? Ваша жизнь – армия, ваш дом – Россия. И вы не можете не вернуться туда. Тогда что все это значит? Скажу вам откровенно: я испытываю к вам определенную симпатию, сохраню о вас хорошие воспоминания, но не настаивайте, чтобы я переменила свое мнение…
Николай опустил голову. Как хотелось бы ей прийти ему на помощь, но она оставалась на месте заложницей выбранной роли. Страдала не меньше, чем он, но выдать себя не могла. Внезапно твердо произнесла:
– Уже поздно… Вам надо ехать…
Юноша вздрогнул, будто до сих пор еще надеялся убедить ее в чем-то. Теперь осознал свою ошибку! Весь риск этого ночного путешествия! Одернув его, Софи оказала ему услугу. Честь его была задета, теперь он знал, что делать. Вышел из библиотеки, закрыл за собой дверь, спустился.
Внизу заметил, что кто-то есть. Родители Софи в молчаливом страхе ожидали его. Николай смерил их невидящим взглядом. Он сожалел уже, что ушел, не сказав Софи того, что следовало: «Вы всегда ломали передо мной комедию, ломаете ее и теперь! И это не благородно!» Вот что он должен был бросить ей в лицо.
– Господин Озарёв, – смущенно обратился к нему граф. – Не могли бы вы уделить нам несколько минут?
Не обращая на него внимания, Николай повернулся и бегом поднялся по лестнице. Какая-то сила подталкивала его в спину. Она получит свое! Каждому свой черед! Он резко распахнул дверь библиотеки и в изумлении замер на пороге: сидя в кресле, Софи плакала. Она подняла лицо. Увидев мокрые щеки, глаза, пылающие страхом и ненавистью, он почувствовал себя непростительно счастливым:
– Вы плачете…
Софи резко поднялась. Как она ненавидела его за то, что застал ее врасплох! Он понял – к нему приближается враг, и пусть в руках у него ничего нет, зато взгляд убивает наповал. Впервые юноша с нежностью произнес ее имя:
– Софи! Софи!..
Она покачала головой и прохрипела:
– Убирайтесь!
Николай не тронулся с места.
– Убирайтесь! – закричала она. – Или мне позвать слуг, чтобы вас вышвырнули за дверь?!
– Софи, я уйду… Уйду немедленно, клянусь вам… Но я хочу, чтобы вы знали…
Что-то ударило ему в глаза – Софи вырвалась из библиотеки. Собравшись с силами, он бросился за ней. Хлопнула дверь, повернулся ключ. Она заперлась в своей комнате.
Остановившись у дверей, Николай еще раз произнес:
– Софи! Я люблю вас! Я никогда вас не забуду!
Он говорил с пустотой. Наконец, отступил перед этим молчанием.
Спускаясь по лестнице, удивлялся, что, хотя между ним и Софи все кончено, ощущает невероятную легкость. Неужели, чтобы быть счастливым, ему даже не нужно ее присутствие? Озарёв почти уверовал в это. И мысленно поверял ей все свои будущие радости и горести, о которых Софи никогда не узнает. Словно в тумане, вновь различил он два силуэта, вновь господин и госпожа де Ламбрефу попытались его остановить. Это движение слегка привело его в чувство. Замедлив шаги, поклонился:
– Прощайте, графиня, прощайте, граф…
Они не решились удерживать его. Во дворе Николай нашел свою лошадь, которая казалась очень бодрой, сел в седло и попросил слугу открыть ворота.
Париж спал. Ночной мрак и глубокая тишина, в которой эхом отзывался звук копыт, придавали мыслям Озарёва несколько торжественный оттенок. Вскоре физическая усталость погасила его исступление, теперь он был почти спокоен, лишь на глазах дрожали слезы. После заставы пустил лошадь рысью. Над головой сияли звезды. Серая дорога тянулась среди полей.
Покачиваясь в седле, полузакрыв глаза, Николай едва замечал окружавший его мир. И чтобы не заснуть, стал потихоньку разговаривать с Софи.
Часть II
1
Николай в нетерпении мерил шагами комнату, с ненавистью глядя на желтые обои, навощенную прочную деревянную мебель, постель с красной периной, католическое распятие из слоновой кости и масляную лампу под картонным абажуром. На этот раз он разместился у нотариуса и, хотя ничего подобного не видел с тех пор, как в мае 1815 года возобновились военные действия, был слишком взволнован, чтобы обращать внимание на комфорт и уют. Каждые пять минут молодой человек подходил к окну и выглядывал на улицу: пробило девять, Розникова все не было! Что задержало его в штабе? «Если бы все прошло удачно, уже вернулся бы. Ипполит чересчур оптимист. Наверняка его настойчивость вывела из себя князя Волконского, – решил Озарёв. – Я должен был помешать ему идти туда!» Но как ни убеждал себя, что все потеряно, надежда все-таки не оставляла его. Свесившись из окна, он с наслаждением вдыхал запахи ночи, вслушивался в ее звуки, молил ее о чем-то.
Городок Сен-Дизье был погружен в темноту и тишину. Боязливым жителям пришлось потесниться и приютить в своих домах русских военных. С какой невероятной скоростью проделали французы путь от безумного воодушевления до полного уныния! Высадка Наполеона, неожиданно покинувшего остров Эльба, удивила и настроенные на отдых войска союзников, и дипломатов, собравшихся в Вене для обсуждения послевоенного устройства Европы. Толком даже не разобравшись в том, что происходит, тучный Людовик предал свой ветреный народ, бежал из Тюильри, где вновь высокомерно воцарился вчерашний тиран. Правители государств-союзников немедленно объявили Бонапарта вне закона и приказали вновь развязать войну. Покинувшие Францию русские войска развернулись и спешно двинулись к Рейну, но идти им было слишком далеко, а потому в схватку с врагом первыми вступили англичане, австрийцы и немцы. После нескольких второстепенных сражений была одержана сокрушительная победа при Ватерлоо, решившая исход противостояния. Тщеславие Николая никак не могло примириться с тем, что его соотечественникам по этому случаю не досталось ни крупицы славы.
Лишенный возможности участвовать в боевых действиях, четвертый армейский корпус генерала Раевского перешел Рейн и через Хагенау, Фальсбург и Нанси двинулся в самое сердце Франции. Вместе с элитными полками, разодетыми словно на парад, путешествовали русский царь, император Австрии, король Пруссии, их штабы, министры, офицеры свиты, сонм секретарей и придворных. С некоторых пор Ипполит Розников тоже присоединился к этому блестящему обществу. Что именно стало причиной его стремительного восхождения: способности, легкий характер или связи в кругах франкмасонов? Как бы то ни было, ему понадобилось всего несколько месяцев интриг, чтобы получить место адъютанта князя Волконского. Впрочем, успех не вскружил ему голову. Вскоре и Николай, остановившийся со своим полком в Варшаве, тоже получил назначение в Главный штаб государя. Обязанности новичка, состоявшего под началом пожилого полковника, начальника топографического отдела, пока были определены весьма нечетко, казалось, в нем никто не нуждался, и если бы он исчез, никто бы этого не заметил. Сложись обстоятельства иначе, его бы наверняка угнетала собственная никчемность, теперь же это было как нельзя более кстати. Еще до того, как русские вошли в Сен-Дизье, императору стало известно, что прусские войска заняли Париж. По словам генерала Чернышева, который встречался с Блюхером и Веллингтоном, французы не слишком приветствовали возвращение Людовика, только присутствие Александра могло успокоить политические волнения. Но Сен-Дизье отделяли от Парижа двести верст, на этот переход армии требовалось не менее недели, дорога же была каждая минута, и царь собирался поручить нескольким штабным офицерам отправиться в столицу следить за настроениями парижан. Озарев рассчитывал попасть в их число благодаря Ипполиту Прекрасному, который умел убеждать, в том числе начальство. С тех пор как они покинули Париж, прошел год. Но Николай ни на мгновение не переставал мечтать о том, как вновь окажется там. Три письма, адресованные им Софи, остались без ответа, тем не менее он отказывался верить, что забыт. Была какая-то предопределенность даже в этой новой войне, которая давала ему шанс еще раз увидеть любимую, вопреки всем сражениям и потерям. Будучи суеверным, юноша склонен был считать, что Господь на его стороне, и заклинал Бога, чтобы Розникову удалось добиться желаемого. Но семейная иконка осталась в багаже, может ли ее заменить католический крест? Николай предавался этим размышлениям, когда на улице раздались шаги приятеля, и, не дожидаясь, пока тот поднимется наверх, крикнул:
– Ну, что?
Ипполит поднял голову, но ничего не ответил. Озарёв усмотрел в этом дурной знак и поспешил открыть дверь, повторяя:
– Ну, что?
– Что? Безумие! Знаешь, что решил государь? Он оставляет армию и едет в своей карете в Париж вместе с австрийским императором и прусским королем через Шалон, Эперне, Шато-Тьери и Мо. Наш штаб и четвертый корпус идут следом по заранее намеченному маршруту, то есть через Сезанн и Куломье.
– Кто же будет охранять их?
– Пятьдесят казаков! И все! Они не хотят обременять себя лишними людьми, это будет задерживать их!
– А если на них нападут? Здесь все так неспокойно…
– Князь Волконский изложил государю свои возражения, но Его Величество не счел нужным принять их к сведению… Это уже не храбрость, а безрассудство!
Значит, надеждам Николая не суждено сбыться. Он сел на край кровати и удрученно взглянул на товарища.
– Почему ты не спрашиваешь, говорил ли я о тебе с князем?
– К чему это теперь?
Все и так ясно: придется потихоньку следовать вместе с армией и, быть может, вовсе не попасть в Париж.
– Государя будут сопровождать Волконский, Нессельроде и Каподистрия, – зевнув, продолжал Розников. – Ну и, конечно, адъютанты, секретари, а также… шесть офицеров штаба, те, что лучше других говорят по-французски. Тут тебе следовало бы навострить уши!
– Почему?
– Еще не понял?
– Хочешь сказать, что…?
– Да, да, дорогой мой. Среди нас ты лучше всех изъясняешься на языке Вольтера, и потому я должен был поддержать твою кандидатуру.
– И Волконский согласился?
– Да.
Озарёв бросился к приятелю, тряс его за плечи, мутузил и хохотал:
– Ты великолепен, Ипполит!.. Боже, как я счастлив!.. Как благодарен тебе!.. Мой дорогой, замечательный друг!.. Если бы только Волконский знал, что я тот самый поручик, которого ему хотелось арестовать за дерзость…
– Князь, конечно, это знает. И не в последнюю очередь поэтому выбрал тебя!
– Как так?
– «Мы с вашим Озарёвым – давние знакомцы, – сказал он мне. – Юноша, посмевший обратиться за приглашениями к начальнику Главного штаба, наверняка проявит инициативу и в более серьезной ситуации!» Короче, приказ подписали, завтра в восемь утра мы выезжаем.
Николай уже не слышал его.
– Антип! Скорее! – кричал он.
Слуга возник на пороге соседней комнаты в грязном фартуке, с сапожной щеткой в руках.
– Немедленно дай нам чаю и рома.
Розников протестовал, уверяя, что не хочет пить, мечтает только лечь пораньше, – благо жил в доме напротив. Но протеже рассердился:
– Нет, ты должен остаться, иначе обидишь меня. После того, что ты для меня сделал, мы должны выпить!
Антип принес бутылку и с помощью сапога стал возвращать к жизни угли небольшого походного самовара. Скоро вода закипела и весело забулькала в стаканах, наполовину наполненных ромом. Чуть-чуть заварки, кусочек сахара, и напиток готов. Еще в Варшаве, томимый скукой, Озарёв рассказал Ипполиту о своей любви к Софи, о расставании с ней, теперь ему не надо было объяснять причины своего воодушевления. А тот пил, смеялся, подмигивал ему и говорил:
– Поросенок! Жаль, что ты не видишь себя! Можно подумать, что вот-вот получишь генеральский чин! И все только потому, что надеешься увидеть женщину, которая, быть может, и думать о тебе забыла!
– А ты не пойдешь к своей кондитерше?
– К Жозефине? Признаюсь, совершенно вылетело из головы.
– Понимаю, адъютант князя Волконского должен метить выше.
– Да, да. Как говорят французы, положение обязывает… Ну, еще по стаканчику, и я пошел!
Он остался до полуночи. Приказано было взять только самое необходимое, Антип приготовил для приятелей один сундук на двоих – длиной чуть больше метра, обитый оленьей шкурой, железными уголками, замком. Туда по настоянию Николая уложены были кастрюля, четыре чашки, четыре стакана, четыре тарелки, салфетки, гусиные перья, бумага, бритва, мыло, щетки, три бутылки вина, бутылка рома и холодная курица. Слуга не скрывал огорчения: да, и речи не могло быть о том, чтобы его взяли с собой, но как ему найти Озарёва в Париже? Чтобы успокоить его, офицер подписал бумагу, свидетельствующую, что ординарец состоит у него на службе. Антип не умел читать, а потому прижал бумагу к губам, потом свернул трубочкой и прикрепил к ладанке.
На улице раздался смех – несколько офицеров бродили по городку в поисках предназначенных им квартир. В порыве товарищества Николай пригласил их к себе – все были ему одинаково незнакомы и симпатичны. Одному из них удалось разжиться несколькими бутылками тминной водки, было что выпить за здоровье царя, армии и хорошеньких женщин. В два часа они все еще пели, время от времени Озарёв слышал, как скрипит дверь: нотариус с супругой несмело выходили в коридор, прислушивались к шуму и в ужасе спешили обратно к себе.
* * *
На первой же после Сен-Дизье остановке, оставив попутчиков, молодой человек сел рядом с возницей – так хотелось подышать свежим воздухом, посмотреть по сторонам. Процессию возглавлял царский выезд шестеркой лошадей. За ним тянулись экипажи генералов, адъютантов, штабных офицеров, запряженные четверками лошадей, в хвосте тащилась повозка архивной службы. Запыленные и перегруженные, они создавали страшный шум. По обеим сторонам от кареты Его Величества ехали верхом казаки в красных мундирах, отрядом командовал лично граф Орлов-Денисов. Прусский и австрийский государи посчитали нужным дистанцироваться от русских и плелись где-то вдалеке, затерявшись в неспешно двигавшемся караване, который после полудня и вовсе скрылся из виду. Впрочем, это никого не беспокоило, ведь приказано было идти быстро. По счастью, мощеная дорога к этому располагала.
Левой рукой ухватившись за поручень, в правой Озарёв сжимал пистолет. Впервые безумие этого предприятия он осознал только поздним утром, когда подъезжали к Витри-ле-Франсуа, где стоял французский гарнизон. Три эскадрона, казалось, решили преградить им путь. Казаков было слишком мало, чтобы оказать должное сопротивление. Вот так подарок был бы Наполеону, если бы царь, начальник его штаба и главные министры оказались в плену еще до начала мирных переговоров! Но французы остановились в пределах видимости, потом развернулись, отказавшись от сражения, исход которого был бы столь важен для их страны. Николай усмотрел в этом Божью волю – Господь покровительствовал их отважному государю. Но повторится ли чудо в следующий раз? Казаки, посланные вперед, доложили о скоплении подозрительных людей в некоторых деревнях. Кто это – дезертиры, партизаны, разбойники с большой дороги? Озарёв огляделся, вокруг тишина. Дорога шла по зеленому берегу Марны, в воде отражалось то солнце, то тени деревьев, так хотелось поплавать, остыть – было нестерпимо жарко в застегнутом на все пуговицы мундире. Рядом пыхтел, высунув язык, бородатый, толстый кучер. Иногда щелкал длинным кнутом, чтобы взбодрить не столько лошадей, сколько себя самого. Первые две лошади бежали, не отвлекаясь, опустив головы (форейтор восседал на левой), две коренные, напротив, тянули шеи, трясли гривой и весело ржали. Восседавший на облучке поручик не мог нарадоваться на их спорую работу. Едкий запах щекотал нос, грохот копыт и железных колес отдавался в голове.
Дорога стала хуже, движение замедлилось. Впереди тряслась царская карета, за ней, повторяя малейшие ее движения, экипажи свиты. Показались белые домики какой-то деревни. Казаки пустили лошадей рысью, держа пики наперевес. Кудахтали вокруг свежей навозной кучи куры, стая возмущенных гусей вжалась в стену, среди них затерялась девчушка в серых лохмотьях. Повозка с сеном, которая не вовремя задержалась на дороге, столкнулась с одним из экипажей. Два обезумевших от ужаса крестьянина выбежали из кузницы, где мастер продолжал свое дело: гудел огонь, молот стучал по наковальне. Мать закрыла фартуком головку сынишки, мешая тому посмотреть на варваров. Кучер подстегнул лошадей, вскоре деревенька исчезла из глаз, со всех сторон расстилалась зелено-желтая равнина.
Еще верста и вновь остановка. На постоялом дворе путников в полной готовности ждали свежие лошади, которых охраняли специально отряженные для этого казаки. Николай соскочил на землю, когда царь и четверо генералов заходили в дом. Офицеры не осмелились последовать за ними и собрались во дворе в тени беседки – разминали затекшие руки и ноги. Розников заказал белого вина на всех. Хватит ли на это времени? Хозяйская дочка, красная, словно вишенка, принесла два кувшина и стаканы.
– Вы очень хороши! – сказал Ипполит Прекрасный, теребя ус. – Как вас зовут?
Девушка смутилась – почему русский военный вдруг говорит по-французски? Только когда он обнял ее за талию, произнесла:
– Меня зовут Жермена.
И тотчас убежала.
– Прекрасная Жермена… – замурлыкал офицер.
Вдруг форейторы засуетились, начали запрягать лошадей. Вихрем ворвался во двор верховой, спрыгнул на землю, бросил поводья конюху и побежал в дом – наверное, прибыл к царю из Парижа с последними известиями. Уж не начались ли там уличные столкновения между бонапартистами и роялистами? Немцы, чья ненависть к французам была всем хорошо известна, могли воспользоваться любым предлогом, лишь бы предать город крови и огню. Опасения Николая на этот счет были столь сильны, что он решился поделиться ими с товарищами. Каждый из них полагал необходимым высказать собственное мнение, но тут на пороге показался Волконский – он подозвал к себе адъютанта и вручил ему пачку газет:
– Только из Парижа. Прочитайте по пути. К вечеру мне необходим доклад. И перевод на русский самых важных положений.
Шестеро адъютантов стояли навытяжку, ожидая приказаний князя. Когда тот ушел, Розников разложил газеты на столе, и все склонились над ними. Ближе всех по времени был «Le Moniteur» от восьмого июля, отпечатанный непривычно крупным шрифтом: «Правительственная комиссия известила короля о самороспуске… Король будет в Париже в три часа пополудни». В другом номере сообщалось, что «любое правительство, навязанное силой, не признающее и не гарантирующее завоеванных свобод, обречено», что Наполеон отрекся в пользу сына, были опубликованы расплывчатые заявления Фуше и Лафайета, невнятные политические дискуссии, противоречивые заявления, за которыми угадывалось смятение народа, вторично потерпевшего поражение. Ипполит внушительно произнес:
– Воистину, Франция – страна вертопрахов. Тщеславие французов сродни их коварству. Но предают ли они Наполеона, чтобы стать на сторону Людовика, или Людовика ради Наполеона, никогда не забывают прикрыть это заботой о достоинстве нации!
Озарёв хотел было выступить в защиту соотечественников Софи, но не мог не признать, что они поставили себя в неловкую ситуацию, и если год назад им можно было найти извинения – все-таки тиран довел их до гибели, то как теперь могли вновь встать под его знамена и возобновить войну? Союзники вправе сожалеть, что обошлись с побежденными столь великодушно. Император Александр не может больше говорить, что у него во Франции только один враг – Бонапарт.
– Мы, как всегда, проявили излишнее благородство, – недовольно заметил Розников, опустошая свой стакан. – Нам, русским, это свойственно. У нас широкая душа, мы готовы дружить с первым встречным…
Хозяин постоялого двора тем временем ходил вокруг и с жадностью смотрел на газеты. Наконец, не выдержав, подошел и спросил, есть ли новости «в политике». Его уверили, что в Париже дела плохи, но царь, в который раз, сумеет навести во Франции порядок.
– Пусть бы он поторопился, – вздохнул бедолага. – Иначе как нам жить здесь: роялисты грозят перерезать бонапартистов, бонапартисты – роялистов, а якобинцы готовят новую революцию… Позавчера здесь побывали французские солдаты, они кричали «Да здравствует Император!», опустошили мой винный погреб и перебили почти всех кур… Вчера объявились роялисты и стали обвинять меня, что накануне накормил шайку дезертиров. А эти дезертиры сегодня утром подожгли замок в двух лье отсюда – его владелец неосторожно повесил на башне флаг с лилиями…
Между тем рассказчика невозможно было заподозрить в трусости – слишком уж решительный был у него взгляд, чересчур красные щеки и совсем не маленькие кулаки. Слушая его горестную историю, Озарёв размышлял, что хорошо бы поскорее оказаться в Париже и взять Софи под свою защиту. Согласно плану, царь и его свита должны заночевать в Шалоне, выехать оттуда на рассвете десятого июля и к вечеру прибыть в столицу. Если только не придется попусту тратить время на остановках. Что, например, они делают здесь, когда лошади уже четверть часа как запряжены? Снедаемый нетерпением, Николай перестал прислушиваться к разговорам попутчиков. Впрочем, здесь оказались не только русские офицеры: хотя постоялый двор и располагался довольно далеко от деревни, невесть откуда взявшиеся крестьяне с огрубевшими, невыразительными лицами толпились у входа. Они глазели на казаков, обсуждая их на местном наречии.
Но вот появился государь – озабоченный, немного сгорбившись, быстро шел он к своему экипажу. Каждый раз, когда Озарёв видел его, грудь теснило от уважения. Взойдя на подножку, царь обернулся к хозяину и, улыбаясь, что-то сказал ему. Что именно, стоявшим поодаль было не расслышать, но по всему угадывалось, что фраза эта, верно, станет исторической – Александр старательно поддерживал репутацию человека обворожительного, в высшей степени любезного. Адъютант немедленно вынул из кармана блокнотик, чтобы записать произнесенное, хозяин склонился почти до земли под грузом признательности. Назавтра он непременно украсит свой дом памятной доской. В мгновение ока все оказались по местам, Николай с удовольствием снова уселся рядом с кучером. Дверцы захлопнулись, форейтор протрубил в рожок, кортеж тронулся.
В Поньи вновь сменили лошадей, когда выехали, Николай не без волнения заметил вдалеке, у дороги, голубые пятна военных мундиров. Оказалось, дюжина французских солдат, запыленных, исхудавших, заросших, растерянных. На голове одного из них была окровавленная повязка, другой шел босиком, прихрамывая. Почти у каждого на плече – ружье, которым, впрочем, никто не пытался воспользоваться. Не они ли сожгли замок? Взгляд их царапал, словно ветки колючего кустарника, лица исполнены ненависти. Возможно, сражались под Москвой. Мечты о славе, которыми питал их Наполеон, развеялись в прах, и кто теперь в состоянии обеспечить им жизнь, на которую эти люди рассчитывали?
Обернувшись, Озарёв видел, как они исчезли в пыли. Лошади шли резво, ему же казалось, что стоят на месте, юноша размышлял про себя, предчувствует ли Софи его возвращение: узнав, что русские войска вошли во Францию, могла предположить, что Николай направляется в Париж со своим полком. Да, она наверняка надеется на его приезд!.. Если только вновь не скрылась в провинции!.. Но как смеет он рассчитывать на радостную встречу, когда уже год от нее нет никаких известий? Николай обозвал себя дураком и впал в глубочайшее отчаяние.
Дорога вдруг стала ощутимо хуже, экипажи подпрыгивали на ухабах, что и вывело его из задумчивости. Это был Шалон, занятый кавалерией генерала Чернышева. На улицах полно народу, яркие вывески магазинов, последние лучи заходящего солнца отражались в окнах домов. Тут и там мелькали лилии и белые кокарды. Люди толпились под ногами идущих шагом лошадей, казакам с трудом удавалось защитить от любопытных взглядов того, кто ехал в карете. Узнав царя, некоторые снимали шляпы, но никто не кричал, как раньше: «Да здравствуют союзники! Да здравствует император Александр!»
2
«Что, если Софи вышла замуж?» Неожиданное предположение заставило остановиться шагавшего по улице Гренель Озарёва: он предусмотрел все, кроме самого простого и самого трагического для него исхода. Мгновенно лишившись сил, не смел больше сделать ни шагу, прохожие вынуждены были обходить его, как вода огибает риф. Некоторые с любопытством оборачивались – вид у этого человека был явно потерянный. Господи, сколько времени ушло понапрасну! Прибыл в Париж накануне вечером и рассчитывал немедленно отправиться к любимой, но дела службы допоздна задержали его во дворце Бурбонов, где вновь, как и год назад, обосновался русский император. Александр немедленно пригласил Людовика, тот в знак благодарности наградил царя орденом Святого Духа. После этого Николай смог возвратиться в выделенную ему комнату в предместье Сент-Оноре и предаться мечтам о грядущем свидании. И вот теперь, когда цель так близка, его одолели сомнения.
Но нет, Софи не могла выйти замуж, раз он в нее влюблен. Если бы и случилось подобное несчастье, от него бы это не скрылось – некие высшие силы позаботились бы о том, чтобы известить его. Утро выдалось прекрасным, вокруг кипела жизнь, все вместе не давало угаснуть его надеждам. Мимо прошел стекольщик со своей ношей, отблески солнца ослепили на мгновение Озарёва, который вдруг понял, что все будет хорошо. «Смелее», – подбадривал он себя, вновь пустившись в путь. Впрочем, волнение не мешало ему трезво размышлять о том, как лучше появиться в доме графа де Ламбрефу. Главное, не повторить прошлогодней ошибки: этот ночной приезд верхом, сцена в библиотеке, смущенные родители… «Боже, каким я был ребенком!..»
Николай старался взять себя в руки, но все-таки затрепетал, заметив знакомый фонарь над подъездом: слишком много воспоминаний нахлынуло одновременно. Ноги стали ватными. «Если дойду до подъезда за восемь шагов, Софи любит меня и свободна!» – загадал молодой человек, сделав невероятно большой последний шаг, чтобы предсказание сбылось.
Все тот же швейцар был несказанно удивлен, на минуту поверил в существование привидений, когда завидел незнакомца, сунувшего ему в руку три франка, и не мог отказать в помощи. Он сообщил, что госпожа де Шамплит две недели назад покинула столицу, где ей досаждали жара и суета, и теперь у подруги в деревне. Новость эта повергла визитера в уныние, будто Софи не пришла на давно назначенное свидание. Он проклинал досадную помеху, но не мог нарадоваться тому, что ни о каком замужестве, по всей видимости, речи не было.
– Как далеко от Парижа уехала госпожа де Шамплит?
– Не знаю, – ответил швейцар, сощурив глазки-пуговки.
Слуга, очевидно, лукавил. Гость велел доложить о себе графу. Какой-то лакей проводил его в гостиную и попросил подождать. «Так будет правильнее, – рассуждал молодой человек. – Увижусь сначала с родителями, потом с ней. Не стоит спешить…» И все же пылал нетерпением. Предки Софи с неодобрением взирали на него с семейных портретов.
Отворилась дверь, появился господин де Ламбрефу, устремился ему навстречу, пожал руку, но сесть не предложил. Обменялись ни к чему не обязывающими словами о политике и ужасах войны, русский выразил желание засвидетельствовать свое почтение графине и ее дочери. Граф сухо отвечал, что жена занята, а Софи нет в Париже.
– Скоро ли вернется? – спросил Озарёв, покраснев от собственной дерзости.
– Не знаю.
Последовало молчание. Бывший постоялец хотел прервать его, но не знал как, к тому же чувствовал, что визит этот раздражает графа, и не умел справиться с разочарованием.
– Не могли бы вы дать мне ее адрес, – решился он вновь обратиться к господину де Ламбрефу.
– Нет.
Хозяин приосанился и теперь походил на змею, обернувшуюся на врага. Видеть главу семейства столь нелюбезным его собеседнику не приходилось ни разу. «Мне не в чем себя упрекнуть», – мысленно вздохнул Николай. И тихо сказал:
– Не знаю, чем заслужил этот резкий отказ. Но каковы бы ни были ваши опасения, смею уверить вас, что они напрасны. Если же вам показались нескромными мои вопросы, виновато в этом то теплое чувство, которое я сохранил о вашем доме.
Граф заметно смягчился – его никогда не оставляла равнодушным музыка слов.
– У меня тоже остались только хорошие воспоминания о вашем пребывании у нас. Будь я один, несомненно предложил бы вам вновь обосноваться здесь. Но я – отец, и вы понимаете, что в сложившейся ситуации должен просить вас больше здесь не показываться.
– Нет… Нет, не понимаю! – произнес молодой человек, поводя плечами, словно готовясь расправить крылья.
Подобная непроницательность вновь привела господина де Ламбрефу в раздражение – умение выражаться обиняками всегда казалось ему высшей формой учтивости. Не без сожаления высказался он более откровенно:
– В прошлом году мы с женой не могли не заметить вашего внимания к нашей дочери. Знаю, что и она испытывала к вам определенную симпатию. К счастью, русские войска ушли, отношения ваши прервались. В противном случае это выглядело бы весьма двусмысленно. И вы не имеете права вновь нарушить покой нашей семьи…
– Но я люблю ее! – воскликнул вдруг Николай.
Это показалось графу совершенно лишним, он недовольно скривился:
– Да, конечно!.. В ваши годы так легко полюбить… Молодость, слава, новые страны… Но я никогда не поверю…
– Да, да, – прервал его Озарёв, сердце которого рвалось из груди. – Я люблю ее и не могу жить без нее. Год разлуки я так страдал, что потерял ее, мое единственное желание – вновь встретить…
Он сам удивлялся своим словам: как можно говорить о своей страсти чужеземцу, поверять самое дорогое человеку, который не в состоянии понять его? И если бы граф посмел улыбнуться в ответ на эти признания, убил бы его, убил себя. Но господин де Ламбрефу не улыбнулся, а лишь спросил:
– Вы писали об этом моей дочери?
– Да, трижды.
– Она ответила?
– Нет.
– Так что ж? – ядовито усмехнулся ее отец, стряхивая крошки табака, застрявшие в жабо.
– Не знаю даже, получила ли она мои письма.
– Получила. Я сам передал их ей. – И, воспользовавшись смятением незваного гостя, продолжал: – Дело в том, господин Озарёв, что у моей дочери редкая воля и мало кому свойственная прямота. Мы долго говорили с ней после вашего экстравагантного ночного визита в прошлом году. Она скоро поняла, что ее чувства к вам не могут привести к длительным, прочным отношениям. Время иллюзий для нее прошло, ей не хотелось бы портить свою репутацию, предаваясь забавам, у которых нет будущего…
– Но это не забавы, у которых нет будущего! – потерянно произнес Николай.
– Послушайте. Вы – иностранец. Вы пришли сюда и уйдете отсюда, следуя приказу. Как могу я верить вашим словам?
То же сказала Софи во время их последней встречи, это осталось в памяти. У него похолодело внутри. Неожиданно он высказал то, о чем уже не раз думал:
– Господин де Ламбрефу, я хотел бы просить у вас руки вашей дочери.
Граф подскочил, покраснел, от бешенства не мог произнести ни звука. Затем прошипел:
– Не смейте даже думать об этом!
– Не могу! – торжествующе возвестил претендент на роль зятя, сам испугавшийся, впрочем, внезапности столь важного решения.
– Посмотрим! – усмехнулся старик. – Что за ребячество! Моя дочь никогда не согласится… Да если даже и пойдет на это, вам придется расстаться с Россией, обосноваться во Франции…
– Но я не собираюсь этого делать. Если мне выпадет счастье и ваша дочь изъявит готовность выйти за меня, я увезу ее в Россию, мы будем жить там…
Это окончательно вывело графа из себя – перед ним был опасный безумец.
– Но… но это невозможно!
– Почему?
– Да Россия – это край света! Мы больше никогда не увидим нашу дочь! Ничего не будем знать о ней! Будьте благоразумны! Я своего решения не переменю!
– Я хотел бы знать мнение вашей дочери, – упорствовал Николай.
– Оно не будет отличаться от моего!
– В таком случае мне останется только смириться. Но каково бы ни было ваше мнение, вы не имеете права не поставить в известность о моем предложении госпожу де Шамплит!
– И вы верите, что я исполню вашу просьбу? – спросил господин де Ламбрефу, презрительно усмехнувшись.
– Да, и прошу вас об этом. Я полностью вверяю себя вам. Знаю, вы не обманете меня, хотя это и в вашей власти.
Граф не остался равнодушным к этим словам, одобрив их кивком головы: противник задел чувствительную струнку.
– Хорошо, – сказал он. – Я передам ей. Как я могу известить вас о ее решении?
– Вот адрес.
Они холодно посмотрели друг другу в глаза. Хозяин, совершенно успокоившись, направился к двери и произнес на пороге:
– Прощайте. Я предупредил вас, вам остается только ждать ответа.
– Каким бы он ни был, станет для меня священным. Я люблю эту женщину и почитаю ее больше всего не свете!
Это прозвучало чересчур патетично. Озарёв поклонился, надел кивер и вышел.
* * *
Только оказавшись у себя в комнате, он в полной мере осознал возможные последствия своего неожиданного решения. Немыслимо жениться без родительского благословения и разрешения военного начальства. Последнее вряд ли станет препятствовать, но отец… В его глазах у Софи сразу три весьма существенных недостатка: вдова, француженка, католичка. Михаил Борисович Озарев, вне всяких сомнений, планы сына не одобрит. Если бы еще Николай рассказал ему о своей любви, когда в феврале побывал в Каштановке, подготовив тем самым к возможному сватовству! Но он открылся только сестре, которая умела хранить тайну. Как поступить, если Софи согласится выйти за него? Как объяснить этой придерживающейся республиканских воззрений женщине, что в свои двадцать с небольшим лет он все еще не имеет права самостоятельно выбирать свой путь? Что делать с отцовским благословением?
Надо было писать Озарёву-старшему, но страх лишал сына способности действовать: для своих солдат он был командиром, для него – мальчишкой. Ему не хватало решимости прикоснуться к лежавшему перед ним листу бумаги, но медлить было невозможно. С чего начать? Как лучше изложить свою просьбу? На каком языке? По-французски, как принято для важных посланий, или по-русски, что более подходит для семейной переписки? Молодой человек рассуждал, что в данном случае французский предпочтительнее. Потом передумал: лучше показать родителю, что, увлекшись француженкой, он не забыл о родной стороне. Итак, русский.
Николай чувствовал себя вконец измученным и решил подкрепить силы чаем с ромом. В отсутствие Антипа пришлось самому заняться самоваром. Затем вновь сел за письмо: вообразил себе отца, но мысли путались. Вновь пришлось обратиться к спасительному чаю с ромом, но второй стакан лишь согрел его. После третьего Озарёв, наконец, собрался с духом:
«Горячо любимый, многоуважаемый батюшка!
Прошу Вас одобрить и благословить план, который будет изложен ниже. От этого зависит все мое счастье. В прошлом году, во время пребывания в Париже, я познакомился с молодой француженкой…»
Немного помедлив и поразмыслив, решил не впадать в многословие и велеречивость, а рассказать обо всем просто: что Софи из достойной семьи, не только хороша, но и умна, что потеряла мужа – знаменитого философа, который был значительно старше нее, что в трауре вела жизнь уединенную и он рассчитывает нарушить это уединение, попросив ее руки. Отец будет только гордиться, что столь добродетельная женщина носит его имя.
«Отец! Скажите мне „да“, и я буду счастливейшим из смертных!»
Сын перешел к выражению принятого в подобных случаях почтения, когда в дверь постучал Ипполит, расположившийся в соседней комнате. Их хозяин – краснодеревщик в годах, жил в одиночестве в чересчур большой для него квартире, заставленной поломанными креслами, разобранными на части шкафами, кривоногими комодами, чинить которые у него не было ни сил, ни желания. Не успел Николай крикнуть: «Войдите», как друг уже оказался рядом – напомаженный, надушенный, веселый – и склонился над письмом:
– Пишешь домой?
– Да.
– Рассказываешь о подвигах нашей непобедимой армии? Или о том, что путешествуешь со штабом Волконского? А может, просишь денег?
– Ни то, ни другое, ни третье. Пишу, что хочу жениться.
Розников перестал улыбаться, глаза его округлились, на какое-то мгновение он стал похож на изумленного господина де Ламбрефу и прошептал:
– Ты серьезно?
– Да.
Сослуживец опустился в кресло, потом вскочил, словно ужаленный, хлопнул себя рукой по лбу:
– Ты – сумасшедший! Тебя надо изолировать! В твои годы, когда перед тобой открывается прекрасное будущее, ты решаешь связать себя женщиной!
Град обвинений заставил Озарёва сгорбиться, но не страдать.
– Когда ты решился на это?
– Сегодня утром.
– Ты не мог обсудить это со мной?
– Твои советы ничего не изменили бы.
– Не спрашиваю даже, о ком идет речь. Ведь это Софи? Прекрасная, жестокая Софи?
– Да, она.
– Что ж, ты последователен в своих действиях!
– В этом нет моей заслуги. Она… она…
– Одна такая! Ты мне тысячу раз говорил об этом! Но подожди, не пиши пока отцу!
– Нет, я не могу терять время. Даже если отправлю письмо с курьером, оно будет в Каштановке только через три недели. Еще три недели придется ждать ответа. Это полтора месяца, целых полтора месяца неизвестности!
– А если откажет?
– Тогда, наверное, я его ослушаюсь. – Николай опустил голову.
Ипполит искоса взглянул на него и проворчал:
– Не говори глупостей. Ты отдаешь себе отчет, какие могут быть последствия…
– Я откажусь ото всего, уйду в отставку, останусь с ней во Франции…
– И будешь несчастен сам, и ее сделаешь несчастной! Любой ценой я должен помешать этому безумию! Может, покажешь, что написал?
Он взял протянутый ему листок.
– А, по-русски… – сказал Розников и, внимательно прочитав письмо, нашел его почтительным и убедительным. – Когда представишь мне свою невесту?
– Позже. Сейчас ее нет в Париже.
– Ты не виделся с ней?
– Нет.
– Но как ты сказал ей о своем намерении?
– Я говорил с ее отцом.
– Он согласен?
– Не совсем. Но обещал известить дочь о моем предложении.
– Так она ни о чем не догадывается?
– Нет.
Приятель от удивления раскрыл рот:
– Подожди! Подожди! Если я правильно понял, на данный момент только ты хочешь этой женитьбы: отцы, скорее всего, настроены будут враждебно, невеста вообще ни о чем не подозревает! Ты бьешь в колокола, не зная даже, разделяет ли она твои чувства! Не боишься, что окажешься один-одинешенек под перекрестным огнем?
– Я не могу не рисковать. Если бы ты любил, ты бы понял меня…
Ипполит расхохотался:
– Боже, как ты глуп! Невероятно глуп! Порви свое письмо или отложи в сторону, пока не узнаешь, что думает Софи!
– Это письмо уйдет завтра утром. – Николай был в ярости.
Он понимал, что Розников прав, но тем скорее спешил совершить шаг, который не позволит ему отступить – послание было запечатано, адрес написан. На вопрос товарища, изменится ли, несмотря на любовь, его отношение к их традиционным вылазкам, ответил:
– Конечно, нет! Все остается, как прежде!
На самом деле, единственным, что доставляло ему удовольствие, были воспоминания о Софи.
3
Каждое утро Николай просыпался с надеждой, что придет ответ от Софи, но день за днем заканчивались разочарованием. Молодой человек начинал подозревать графа, что тот не передал его просьбу дочери. Быть может, она уже вернулась. При мысли об этом Озарёв приходил в неистовство и хотел немедленно бежать к господину де Ламбрефу, уличить его в предательстве, криками взбудоражить весь дом. Впрочем, воспитание не позволяло оскорблять пожилого человека, который к тому же мог однажды стать его тестем.
Едва Антип объявился в Париже, хозяин приказал ему бдительно следить за происходящим на улице Гренель и при появлении госпожи де Шамплит немедленно известить его об этом. Но слуга снова и снова возвращался с одним и тем же: он, кажется, видел весь Париж, за исключением той особы, что интересовала барина.
После недели ожидания влюбленный потерял аппетит. Служба его была весьма необременительной: он прочитывал французские газеты, составлял доклад, после чего погружался в свои тревоги. Розников со товарищи делали все, чтобы развлечь приятеля, водили в кафе и театры, но с тех пор, как тот решил жениться, все эти пустые забавы не производили на него впечатления.
К тому же Париж образца 1815 года располагал к себе еще меньше, чем Париж 1814-го. Большая часть русской армии расположилась в Иль-де-Франс, Шампани и Лотарингии, столицу наводнили войска Блюхера и Веллингтона. Высокомерные, грубые немцы стояли лагерем в Тюильри и Люксембургском саду, перед собором Парижской Богоматери. По ночам совершали набеги на пункты сбора пошлины, в пригородах грабили оставленные дома. Английская кавалерия стояла лагерем в полях, где уже созрела пшеница. Пылая ненавистью к Франции и французам, Блюхер приказал взорвать мосты в столице, названия которых напоминали о победах Наполеона. Лишь совместными усилиями Талейрану, Людовику, Веллингтону, русскому царю и королю Пруссии удалось отговорить старого маршала от этого чудовищного замысла. Помимо беспорядков, которые провоцировали военные, немало беспокойства доставляли и крайние роялисты. Непримиримые враги бонапартистов, они жаждали мщения, нападая на либералов, сторонников конституции, да и просто колеблющихся, короче, на всех, кто не разделял их воззрения. Рассказывали об актерах, которых освистали за приверженность павшему режиму, о прохожих, потрепанных королевскими гвардейцами за то, что носили в петлице гвоздику – символ бунтовщиков, о драках в кабаках между представителями национальной гвардии и мушкетерами Людовика XVIII.
Николай читал газеты, присматривался к жизни столицы и все больше проникался состраданием к несчастной Франции, которую рвали на части, сдирая с нее последнюю шкуру, в то время как во главе государства стоит утративший всеобщее уважение монарх. Порой думал о господине Пуатевене – хорошо было бы послушать, что думает он о сложившейся ситуации. Воспоминание об этом человеке было неразрывно связано с мыслями о Софи: ведь именно там, в гостиной на улице Жакоб, она впервые дала понять, что уважает и поддерживает его. Как-то воскресным утром, уступив своей тоске по любимой, Озарёв отправился в Сен-Жермен-де-Пре, где вскоре оказался перед маленьким книжным магазином «Верный пастух».
Стеклянная дверь была открыта – Огюстен Вавассер, всклокоченный, худой, угрюмый, одетый почти в лохмотья, расставлял книги. После предыдущей встречи русский офицер не испытывал к нему ничего, кроме неприязни, теперь же странным образом почувствовал себя так, будто встретил друга – очарование Софи осеняло и его. Николай видел свое отражение в стекле и не решался войти – на нем была военная форма. Да и Вавассер вряд ли вспомнит его. К тому же им не о чем говорить… Но как раз при этой мысли он неожиданно для себя переступил порог магазинчика. Несколько секунд хозяин холодно взирал на него, потом узнал и произнес не без сарказма:
– Вновь в наших стенах? Каким ветром вас занесло?
– Проходил мимо, – смущенно отозвался посетитель.
– Так говорят все оккупанты! – ухмыльнулся Огюстен.
Но собеседник не заметил в его словах никакой иронии, и Вавассер равнодушно продолжил:
– Довольны, что снова в Париже?
– Меньше, чем ожидал.
– Почему? Все веселятся, наш добрый король вновь восседает на троне, союзники заняли Францию от Лотарингии до Кальвадоса, вся Европа кормится за наш счет! Русскому, должно быть, занятно наблюдать, как французы копошатся среди обломков былого величия!
– Немцу – может быть, но русскому – нет!
– Вы судите по себе, а я подозреваю, что вы сильно отравлены французскими идеями.
– Нет, я лишь следую примеру моего государя. И на этот раз, убежден, он поумерит аппетиты своих друзей!
– Лучше бы оставил их в покое, – раздраженно произнес Огюстен.
Вавассер полагал, что бесчинства союзников только на пользу стране, только так угнетенный, униженный, ограбленный народ сможет найти в себе силы объединиться в своей ненависти к захватчикам и существующей власти. Для революции необходима несправедливость, а только революция даст всем счастье. И возвращение Наполеона, и повторное воцарение Людовика – лишь остановки на пути к республиканской независимости. В подтверждение своих слов он показал гостю хранившиеся у него в ящике стола брошюры, в которых осуждался деспотизм.
– Хотите, можете взять их.
– Нет! Нет! – поспешно пробормотал Николай. – Спасибо…
Ему страшно было даже дотронуться до этих книжечек. Впрочем, из любопытства он все же перелистал одну. Взгляд его задержался на чудовищных словах: «Пока на Земле останется хоть один человек, которого преследуют за его происхождение, национальность или взгляды, человечество будет заслуживать осуждения…», «Если монарх утверждает, что правит страной от имени Бога, он совершает преступление против христианской религии, так как не может быть второго мессии, если же утверждает, что правит от имени народа, это ложь, так как народ не избирал его…», «Нельзя одновременно быть монархистом и любить ближнего…». Теперь политические откровения Шамплита показались ему сладкими речами. Озарёв посмотрел на титульный лист: «Предложения свободного гражданина, друга добродетели», имени автора не оказалось, отпечатано в Гааге.
– Вы имеете право продавать эти пасквили? – спросил он.
– Нет, конечно, – ответил Вавассер с презрительной улыбкой.
– А если их у вас обнаружат?
– Скажу, что они из моей личной библиотеки.
– И вам поверят?
– Быть может.
– Но вы ведь рискуете, показывая их мне!
– Это лишь доказывает, что я доверяю вам, несмотря на ваш мундир!
Услышать это было приятно, но Николай сразу одернул себя: неужели ему доставляет удовольствие числиться либералом?
– Но вы же едва знаете меня?
– Не вспомните ли вы, кто привел вас к Пуатевену? Софи де Шамплит. А для меня не может быть лучшей рекомендации. К тому же должен признаться, я не боюсь ни ареста, ни тюрьмы… В этом отвратительном мире даже счел бы это за счастье… Убеждения стоят того, чтобы за них страдать…
Гость смотрел на человека, который поначалу казался ему нормальным, но, по всей видимости, терял рассудок. От нервного тика у него дергались щеки, веки, ноздри…
– Я живу один, – продолжал, задыхаясь, Огюстен. – У меня нет ни жены, ни детей. Моя страсть – счастье других…
Он волновался все сильнее, но тут Николай, для которого вдруг забрезжила надежда, прервал его:
– Вы говорили о госпоже де Шамплит. Быть может, знаете, где ее найти?
Лицо Вавассера окаменело:
– Нет.
– По крайней мере, она уехала из Парижа?
– Полагаю, что да.
– И пока не вернулась?
– Мне ничего об этом неизвестно, – с видимым смущением произнес владелец магазина, что немедленно вызвало подозрения у его собеседника: наверняка Огюстен знал что-то, но не хотел говорить. Озарёв приблизился к нему и прошептал:
– Но ведь с ней не случилось ничего дурного?
Будучи высказанным, это предположение привело его самого в ужас. Но ответ прозвучал обнадеживающе:
– Не беспокойтесь, у госпожи де Шамплит все прекрасно!
Итак, Вавассер выдал себя – он был прекрасно осведомлен о том, где находится Софи.
– Умоляю вас! – воскликнул молодой человек. – Помогите мне встретиться с ней!
– Но повторяю вам…
– Нет нужды повторять мне сотню раз то, во что я не могу поверить!
Огюстен почесал в затылке, глаза его оживились – несомненно, эта ситуация забавляла хозяина. Он закрыл дверь и произнес:
– Скажу вам откровенно: после того как Людовик покинул нас, госпожа де Шамплит несколько скомпрометировала себя!
– Боже! – промолвил Николай, который думал о чем угодно, но только не о политике. – Как это произошло?
– Вас это удивляет? Да, она была настроена враждебно по отношению к Наполеону все время его правления, но, когда он сбежал с острова Эльба, забрезжила надежда на возрождение страны. Как Бенжамен Констан и многие другие, Софи полагала, что не следует сражаться с бывшим императором, лучше склонить его к реформам. И действительно, Наполеон выказал желание пойти на уступки либералам, впрочем, как оказалось, лишь для того, чтобы заставить принять войну, которую стремился во что бы то ни стало продолжать. Тем не менее Констан наспех составил конституцию, в которой были и плюсы, и минусы…
– Хорошо, хорошо! – теряя терпение, вскричал Озарёв. – Но при чем здесь госпожа де Шамплит?
– Я уже говорил вам, что она поддерживала действия либералов, ставших на сторону Бонапарта, резко выступала против Бурбонов, обвиняя их во всех бедах, обрушившихся на Францию, уверяла, что только Наполеон спасет демократию… Ее позиция вызывала недоверие даже у тех, кто разделял ее взгляды. И как только войска союзников приблизились к Парижу, родители умолили ее уехать.
– Вы полагаете, есть основания тревожиться?
– Боюсь, да.
И роялисты, и революционеры были одинаково ненавистны Николаю – надо быть совершенно бессердечным, чтобы преследовать Софи.
– Где она теперь?
– В доме Пуатевенов в Версале. Думаю, к концу месяца сможет вернуться. Волна доносов, обысков, арестов сходит на нет…
– Но было бы неосмотрительно с ее стороны слишком рано покинуть свое убежище, – пробормотал молодой человек, чувствуя, как, несмотря ни на что, радость переполняет его. Теперь стало понятно, отчего его так холодно принял господин де Ламбрефу и почему Софи никак пока не ответила на его предложение.
– Поеду туда и увижусь с ней, – произнес он, как будто про себя.
– Надеюсь, она не рассердится, что я раскрыл вам ее тайну!
– Конечно! Завтра мы оба будем с благодарностью вспоминать вас!
– Думаю, вы потратите на мою особу не слишком много времени, – подмигнул ему Огюстен. – И раз уж вы собираетесь завтра в Версаль, возьмите, пожалуйста, письмо для госпожи де Шамплит.
– После того что вы для меня сделали, я ни в чем не могу отказать вам, – пылко сказал Николай.
Вавассер попросил его присесть, сам же устроился за конторкой. Он писал, время от времени заглядывая в толстую записную книжку, покончив с одним листом, приступил к следующему, казалось, ему надо составить список каких-то имен. Иногда на полях появлялся таинственный знак. Что, если это секретное да еще и политическое послание? И русский офицер окажется в центре заговора? Но чувства к Софи оказались сильнее сомнений. Тем не менее, взяв у Огюстена запечатанное письмо, Озарёв несколько натянуто произнес:
– Готов поспорить, госпожа де Шамплит получит исчерпывающую информацию о всех государственных делах!
– Вовсе нет. Уезжая, она просила меня найти несколько книг. Я сообщаю, что смог отыскать и по какой цене. Ее адрес – на конверте…
Ответ этот даже разочаровал юношу – словно его лишили обещанного риска. Потом подумал, что Вавассер лжет, чтобы успокоить его. Неужели он выглядит таким недотепой? И с улыбкой превосходства произнес:
– Что же, каково бы ни было его содержание, я доставлю письмо адресату.
4
Дорожная карета остановилась на площади перед Версальским дворцом. Измученная лошадь вздохнула так, что, казалось, бока ее лопнут, сделала шаг назад, повозка накренилась. Николай легко спрыгнул на землю – он ехал «зайцем», устроившись на скамейке рядом с кучером, другие путешественники изрядно попотели, прежде чем им удалось выбраться из колымаги. Озарёв получил двухдневный отпуск, но чувствовал себя так, будто навеки освободился от всех своих обязательств.
На площади толпились дилижансы, шарабаны, экипажи на любой вкус. Возницы громкими криками старались привлечь внимание потенциальных пассажиров: «В Париж! В Париж! Отправление – немедленно! Осталось два места!» У одного из них, взиравшего на гору багажа, молодой человек спросил дорогу. «Да это в двух шагах!» – воскликнул тот, в результате пришлось добрых полчаса брести под палящим солнцем до дома Пуатевенов – белоснежного, с красной крышей, за оградой. На калитке висел заржавевший колокольчик. Позвонив, гость утратил чувство реальности. Залаяла собака, захлопали двери, и на аллее этого рая, украшенной помидорными кустами и фасолью, показался старый садовник в сабо и фартуке. Это был не кто иной, как господин Пуатевен. Он был потрясен, увидя военную форму у своего дома, приблизился к ее обладателю и, наморщив брови, пристально вгляделся в его лицо. Потом затрясся от смеха, повернул голову и закричал:
– Софи!
Никто не ответил. Хозяин взял Озарёва за руку и направился к дому. Юноша пребывал в состоянии абсолютного блаженства, пока вдруг не увидел ту, к которой мчался. Он едва узнал ее в одежде крестьянки – широкая перкалевая юбка в бело-голубую полоску, голубой корсаж, соломенная шляпка, украшенная разноцветными лентами. Любимая показалась ему еще более хрупкой и желанной, чем виделась в воспоминаниях. Лицо ее выражало крайнее удивление, но понять, рада она его приходу или нет, было трудно.
– Я не ожидала вашего визита. – В тоне сквозило равнодушие. – Откуда вы узнали, что я здесь?
Николай в двух словах рассказал о встрече с Вавассером и вручил ей письмо.
– Ну вот, дорогая Софи, а я-то надеялся, что предоставил вам надежное убежище, – вмешался господин Пуатевен, и разговор принял вполне безобидное направление: что происходит в Париже? Правда ли, что Фуше составляет списки подозреваемых? Есть ли новости с юга, где, как говорят, роялисты развязали настоящий террор? Слушая, госпожа де Шамплит с болезненным вниманием не сводила с него глаз. Она помнила каждое слово из письма своего отца: «Мы ничего не знаем ни о семье этого человека, ни о его состоянии и социальном положении, он не может быть подходящей для вас партией… Замужество требует слишком тесной общности мыслей и традиций, а потому брак с иностранцем не приносит ничего, кроме несчастий… Представьте, что вы лишитесь родителей, друзей, отчизны, состояния, нежной и блестящей французской жизни и окажетесь посреди степей, окруженной лишенным культуры народом, один на один с соблазнившим вас офицером… Я обещал господину Озареву передать его немыслимую просьбу и сделал это тем более охотно, что ни на мгновение не сомневаюсь в вашем отказе…»
В отсутствие Николая почти все эти доводы казались Софи убедительными, теперь, когда он стоял перед ней, выглядели нелепыми. Лучшим ответом на любую отцовскую критику было это странное загорелое лицо и широкие плечи. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы оправдать ее самые безумные мечты. Как могла она прогнать его, когда он признался ей в любви? Как прожила без него год, отказываясь даже отвечать на его письма? Как могла поверить, что он забудет ее? «Он любит меня. И будет клясться в этом, едва мы останемся одни. И спросит, согласна ли я стать его женой…» При мысли об этом силы покинули ее, она вся превратилась в ожидание. И почему Пуатевены так болтливы? Да, они ничего не знают о намерениях Николая. Но должны же понять, что его привело из Парижа серьезное дело и что ему хочется видеть не их, ее. Возглавляемая хозяином компания, беседуя, прогуливалась по аллеям. Русский офицер рассказывал о службе при штабе, о путешествии царя по Франции, которая еще не успокоилась после последних потрясений, о дворце Бурбонов и оккупированном прусскими войсками Париже. Подошли к беседке, под сенью которой стоял простой деревенский стол и стулья. Софи испугалась, что господин Пуатевен предложит гостю присесть и это еще отсрочит долгожданное объяснение. К счастью, его супруга сжалилась над молодыми людьми и увлекла мужа в дом.
Когда нежелательные свидетели, наконец, удалились, госпожа де Шамплит неожиданно для себя пришла в ужас от того, что осталась наедине с Озарёвым.
И он, и она понимали важность того, что должны сказать друг другу, а потому не смели произнести ни слова. Прошла служанка с корзиной белья, надсадно прокукарекал петух, часы на церкви пробили четыре. Николай собрался с силами и сдавленным голосом спросил:
– Отец передал вам мою просьбу?
У нее перехватило дыхание, но она смогла почти непринужденно ответить:
– Да. Два дня назад я получила от него письмо.
– Только два дня?
– Да, он должен был подумать.
– И вы тоже?
В его золотисто-зеленых глазах отражалась листва, и оттого они казались еще зеленее. На подбородке была царапина – след от бритья, все эти подробности казались ей необычайно важными. Счастье постепенно заполняло ее всю. Слова были едва различимы, так сильно стучала в висках кровь:
– Я люблю вас!.. Жизнь без вас лишена смысла!.. Обещаю, вы будете счастливой!.. Неужели вы меня не любите?.. Вы будете моей женой!.. Я буду гордиться вами!.. Мы уедем в Россию!..
Он поднял голову, словно пытаясь убедиться, что последние его слова не вызывают у нее протеста. Софи улыбалась и ничего не говорила в ответ.
– Вы увидите, Россия – чудесная страна. Там все безбрежно – и горизонт, и души…
– Вы предупредили своего отца? – неожиданно спросила она.
– Конечно. Я отправил ему письмо с курьером. Думаю, самое позднее через три недели получу ответ.
– И каким он будет?
– Вы сомневаетесь? Конечно – «да»!
Он заражал ее своей веселостью, доверием, юностью. В этой чрезмерности и проявлялась, наверное, его душа. Софи засмеялась – и ведь будто совсем мальчишка в своем темно-зеленом мундире с золотыми пуговицами. Потом подумала: «Этот человек будет моим мужем», и сразу посерьезнела.
– Положитесь на меня, я улажу все формальности. И очень быстро. Надеюсь, ваши родители сменят гнев на милость – мне было бы мучительно идти против их воли…
– Их неодобрение ничего не значит для меня. Но не волнуйтесь, я сумею их переубедить. Вы уезжаете в Париж сегодня вечером?
– Нет, завтра, после полудня.
– Я поеду с вами.
– Но это невозможно.
– Почему?
– Господин Вавассер дал понять, что вас могут арестовать за ваши воззрения.
Софи тронуло беспокойство Озарёва. Перед этим влюбленным мужчиной она впервые чувствовала себя по-настоящему женственной, хрупкой, нуждающейся в защите. И враз перестала думать о политике. Не пора ли ей обратиться к будущему мужу по имени? Как хотелось произнести вслух это слово, как трудно было осмелиться! И, собрав волю в кулак, едва слышно промолвила:
– Спасибо за заботу, Николай.
Глаза его засветились благодарностью.
– Не бойтесь за меня, – продолжала избранница, стараясь не замечать его волнения. – Даже если я останусь в Версале, мне не избежать неприятностей, коль меня решат арестовать. И подумайте, как я могу оставаться здесь, вдали от вас, после вашего признания?
– Да, – тихо сказал он. – Это было бы жестоко и несправедливо! С сегодняшнего дня вы под моей защитой! Я стану на пути у любого, кто посмеет надоедать вам! И если понадобится, буду апеллировать к царю…
Озарёв все еще не смел назвать ее по имени.
– Дорогой Николай! – воскликнула она.
От нежности силы, кажется, совсем оставили его. Последовало молчание. Молодой человек смотрел ей в глаза. Потом взгляд упал на плечи, на вырез платья, он впервые представил себе ее тело, непристойность мыслей окончательно смутила его, теперь ему уже не посметь вымолвить ни слова. Но произошло обратное – Озарёв вновь заговорил о своей любви, застенчиво называя ее «Софи». Она не протестовала, а только ласково оттолкнула, когда он склонился к ней, – по аллее неспешно шли Пуатевены. Успели заметить что-то? Угадать? Гость был раздосадован и смущен одновременно, та, которую они приютили, напротив, казалась довольной и счастливой. Она схватила его за руку, подвела к друзьям и радостно заявила:
– Вы первыми узнаете великую новость – мы собираемся пожениться!
Госпожа Пуатевен жалобно вскрикнула, ее супруг по отечески раскрыл объятия, покачал головой и сказал:
– Ничто не могло бы доставить мне большей радости!
Искренние или не вполне, но слова эти потрясли юношу – он вдруг поверил, что миром и впрямь правит добро. Когда хозяева узнали, что у него отпуск на двое суток, предложили поужинать с ними и остаться ночевать – на втором этаже была прекрасная комната для гостей. Ободряемый взглядами Софи, Николай согласился.
Ужинали в беседке. За столом говорили об отъезде госпожи де Шамплит – Пуатевены считали это в высшей степени неосторожным. За десертом она прочитала им отрывок из таинственного письма Вавассера: тот перечислял гражданских и военных чиновников, которым грозил арест, уверяя, что, по его сведениям, ни одно частное лицо не будет подвергаться преследованиям за свои убеждения.
– Есть преследования по приказу, но есть и те, на которые просто закрывают глаза, – вздохнул господин Пуатевен. – Смутные времена открывают широкие возможности для полицейских «по случаю», доносчиков, ненавистников всех мастей…
– Еще вчера я, быть может, и прислушалась бы к вам. Но теперь не боюсь ничего, потому что я – не одна! – В этих словах очаровательной женщины было столько восхищения любимым, который чувствовал себя так, будто не случилось этого перерыва между двумя войнами и они расставались только в воображении. Две служанки неспешно ходили вокруг стола. Медленно угасал день. В бокалах радостно играло вино. Господин Пуатевен предложил выпить за здоровье будущих молодоженов. Снова заговорили о политике. Когда окончательно стемнело, госпожа Пуатевен сказала, что очень утомлена, ее муж признался, что тоже не откажется лечь. Николай опасался, что и Софи последует за ними. Но, пожелав пожилой чете спокойной ночи, она осталась в саду.
Тишина и покой этого благоуханного дивного вечера наполняли Озарёва уверенностью, что Господь одобряет его выбор. Казалось – они в родной Каштановке, напоенной запахами листвы и цветов.
– Расскажите, как вы провели этот год? – Ему хотелось знать о ней все.
По ее признанию, после его отъезда в июне 1814 года всякий вкус к жизни был утрачен, даже политика больше не привлекала.
– Но возвращение Наполеона вывело меня из оцепенения. Восторг народа, встречающего своего императора, вернул меня к жизни. Как и многим, мне подумалось, что он сможет соединить величие Франции с республиканскими свободами. Эта иллюзия длилась три месяца. Я и мои друзья, мы были словно в горячке. Потом узнали о поражении при Ватерлоо… Все наши мечты показались мне такими ребяческими, такими нелепыми…
Слушая ее, русский офицер поймал себя на мысли, что почти сожалеет о победе союзных войск, раз она причинила столько горя его любимой.
– Мною вдруг овладело отвращение ко всякой общественной деятельности, – продолжала она. – В смятении я уехала к Пуатевенам…
– Вы ни разу не подумали, что я могу вернуться?
– О, сколько думала, и каждый раз запрещала себе это из боязни поверить. Ведь ваше появление здесь означало бы поражение Франции. А разве могла я поставить мое личное счастье выше того, что желала для своей страны? Признаюсь, и сейчас страдаю, что своим счастьем обязана обстоятельствам, которые так огорчают моих соотечественников. Чувствую себя виноватой от того, что люблю вас, когда моя родина надела траур. Понимаете?
– Да, но все это временно. Наступит мир, все станет на свои места. И то, что я русский, уже не будет так пугать вас!
– Меня это никогда и не пугало. – Улыбка подтвердила ее искренность. – Но смущает и заставляет волноваться.
В молчании шли молодые люди по аллее. Он застенчиво касался то ее руки, то плеча, думая про себя, заметила ли, не неприятно ли ей это. Потом он остановился, посмотрел на нее, вдруг снова подумал о ее теле, его опять бросило в жар. Николай готов был сказать себе, что слишком уважает эту женщину, чтобы на что-то решиться, как она сама потянулась к нему для поцелуя.
5
Заслышав в вестибюле шаги мужа, госпожа де Ламбрефу вздрогнула – что-то еще удалось ему узнать? Накануне она чуть было не лишилась чувств, когда дочь неожиданно вернулась из Версаля вместе с этим русским офицером. Впрочем, Озарёв довольно скоро скрылся из виду, предоставив Софи самой объясниться с родителями. С каким торжеством она сказала им, что через месяц выйдет замуж, даже если не получит на то родительского благословения. И вот теперь граф без устали носился по Парижу, пытаясь выяснить хоть что-то об иностранце, который вот-вот станет его зятем.
– Вы, наконец-то! – воскликнула графиня при виде входившего в гостиную супруга.
Судя по выражению лица господина де Ламбрефу, его усилия оказались не напрасны. Должно быть, высокопоставленные друзья сумели помочь. Он опустился в кресло, провел по лбу дрожащей рукой и сказал:
– Мне оказали превосходный прием.
– Кто же? Могу я узнать?
– Господин де Талейран, затем – господин Фуше, к которому тот меня направил, от него я попал к господину Каподистрия…
– Вы удовлетворены, по крайней мере?
– Более чем. Личный секретарь господина Каподистрия оказал мне неоценимую услугу.
– Так что же?
Граф взял щепотку табаку, вдохнул, зажмурился, потому поднес к носу платок.
– Все не так плохо. По общему мнению, Озарёвы – хорошая семья из числа нетитулованного дворянства…
– Что значит – нетитулованного? – воскликнула госпожа де Ламбрефу, в голосе ее послышалась нотка негодования.
– Просто в России есть люди, пожалованные дворянством недавно, это графы, князья, а есть те, чье дворянство восходит к первым царям. Они не носят титулов, но люди – знатные и всеми уважаемые. Озарёв – из них. У отца этого молодого человека дом в Москве, пострадавший от пожара 1812 года, еще один – в Санкт-Петербурге, имение недалеко от Пскова, где семья живет практически весь год. Он владеет значительным состоянием, несколькими деревнями…
Графиня была явно заинтригована: рассказ мужа напомнил ей о счастливых временах. Вопреки всем модным воззрениям, она продолжала придерживаться той точки зрения, что следует уважать волю Господа, а следовательно, рожденные в нищете не должны стремиться расстаться с нею.
– Несколько деревень? – переспросила она. – Сколько же именно?
– Пять или шесть. И еще, по меньшей мере, две тысячи крестьян-рабов.
– Рабов? Настоящих?
– Да, которые остались только в России, – тихо рассмеялся господин де Ламбрефу.
Его супруга уже воображала их дочь властительницей и бескрайних полей, и простершихся ниц мужиков, ее материнский взор затуманился, и, не расставшись еще с волшебными видениями, она прошептала:
– Вы считаете, все не так уж плохо?
– Вне всяких сомнений! Конечно, я предпочел бы для нее известную французскую фамилию, более определенное положение в свете и состояние, которое можно объять… Но не следует забывать, что в глазах всех потенциальных претендентов на ее руку Софи обладает существенным недостатком – она была замужем. А мужчины предпочитают брать в жены девушек. Вы, знаю, возразите, что Шамплита в этом смысле не стоит принимать всерьез…
– Ах, избавьте меня от этих шуточек! – воскликнула графиня. – Я менее чем когда-либо расположена их слушать. Вдова заслуживает уважения, тем более что после наполеоновских походов во Франции их полным-полно и они весьма успешно находят себе новых мужей!
– Но только не в нашем кругу, – вздохнул господин де Ламбрефу. – И не с характером Софи! Вы не хуже меня знаете, что она всегда поступает вопреки здравому смыслу. Кажется, ей доставляет удовольствие не поддерживать наши столь естественные честолюбивые стремления. Покажите ей прекрасную дорогу, идущую направо, она непременно пойдет налево, пусть там даже будет каменистая тропа. И это не я сказал!
– А кто же?
– Сам господин Фуше! Провожая меня, он произнес несколько слов о нашей дочери. Ее поведение во время Ста дней не осталось незамеченным наверху. Ее не тронули только потому, что Его Величество превосходно осведомлен о моих легитимистских взглядах. В ответ на эту милость она должна забыть о всякой политической деятельности. А возможно ли такое, если она останется во Франции? Еще один год вдовства будет стоить нам заговора!
Графиня вздрогнула – она не сразу поняла, что муж шутит.
– Ужас! И потому вы хотите, чтобы она уехала?
– Господи, да я ничего больше не хочу! К тому же вопрос еще не решен окончательно. Возможно, против будет начальство Озарёва.
– Почему?
– Из-за либеральных взглядов Софи. Русские тоже в курсе, господин Каподистрия не стал скрывать этого. Я прекрасно понимаю, что им не хотелось бы видеть у себя в стране женщину, известную своей ненавистью к монархическому правлению.
Смятение охватило госпожу де Ламбрефу: она представила себе дочь-преступницу, которую отталкивает Франция и отказывается принять Россия. Как мать, графиня не потерпит подобного унижения:
– Нет, нет и нет! Ее нельзя упрекнуть в чем-либо серьезном! Эти русские вечно все осложняют! Если предстоящее замужество и может принести кому-то огорчения, то только нам, нам одним!..
И, подумав, добавила:
– Быть может, за то время, что понадобится на разные формальности, она к нему охладеет?
– Сомневаюсь, – ответил супруг. – Для этого у вашей дочери должна быть хотя бы крупица здравого смысла, а у нее – ветер в голове. Смотрю я на этих молодых людей и не понимаю их. Мне кажется, мы любили глубже, подобное безумие было нам вовсе не свойственно. Сознательно или нет, но мы искали в союзе двух сердец равновесие. Новое поколение все – беспорядок, нелепость, все у них через край. Почему они отвергают радость и счастье жизни, считают это вульгарным, пошлым? Наверное, на их век пришлось слишком много всяких Руссо, Шатобрианов и мадам де Сталь!
– Думаю, мы были недостаточно тверды с Софи, – вздохнула графиня. – Ее первое замужество было ошибкой. С тех пор она совершенно отбилась от рук. И этот мальчик сегодня вновь придет, чтобы увидеться с ней… Как мы встретим его?
– Вежливо, но соблюдая дистанцию. Не забывайте, наша дочь сама нам его навязала, не спросив нашего согласия…
– И все же теперь мы знаем, что он из хорошей семьи. Думаю, надо держаться с ним несколько иначе.
– Извольте. И все же не будем чересчур обходительны.
Согласовав линию поведения, родители терпеливо стали ожидать появления Озарёва, который, по словам их дочери, должен был прибыть к пяти. Впрочем, сама она не стала готовиться к встрече, как поступила бы на ее месте любая другая женщина: сразу после завтрака ушла, будто бы купить что-то, но обещала скоро вернуться. Николай появился десять минут шестого, а ее все не было. Смущенные граф и графиня вынуждены были сами принять гостя.
Он чувствовал себя весьма неуютно: что Софи сказала своим близким? Как супруги теперь настроены по отношению к нему? Не лучше чувствовали себя и хозяева: сокрушаться о таком замужестве или поздравлять себя с этим женихом? Госпожа де Ламбрефу предложила ему присесть – это ведь простая вежливость, которая ни к чему не обязывает. Господин де Ламбрефу завел разговор о непонятной ему щепетильности, с которой союзники отнеслись к поверженному императору: поговаривали, что англичане собирались отправить Наполеона на остров Святой Елены. Что слышал об этом Николай? И правда ли, что в Париж прибыла восторженная, склонная к мистицизму баронесса Крюденер, к советам которой царь с недавнего времени стал прислушиваться? В каком настроении теперь государь? Говорят, ему не дают покоя лавры Веллингтона, снискавшего чересчур много славы при Ватерлоо? И раздражает старинный, еще со времен Венского конгресса, противник – Талейран? Что он сердит на Пруссию, чья грубость и денежные требования кажутся чрезмерными? Презирает Людовика?..
– Я ничего не знаю, – вздохнул Озарёв. – Моя скромная должность не предполагает общения в высших сферах…
– Конечно, но эхо должно доходить и до вас! Мне было бы интересно знать, как отреагировали русские на последнее распоряжение нашего короля.
– Какое распоряжение?
– Исключить из состава Палаты пэров тех, кто заседал там во время Ста дней, обвинив в предательстве девятнадцать генералов и офицеров. Вы внимательно прочитали статью в «Le Moniteur»?
– Да, да…
– И что скажете?
– Пока не знаю…
Разговор этот измучил Николая, он не понимал, почему графа так интересуют политические новости, тогда как превыше всего должна была волновать судьба дочери? Не отдает себе отчета в том, что происходит, или просто дьявольски хитер? И почему Софи нет рядом с родителями в такую минуту? Уловка, ловушка? Рассудок отказывал ему, он воображал ее запертой в монастырь по приказу отца и все же нашел силы спокойно спросить:
– Смогу я сегодня увидеть вашу дочь?
– Мы ожидаем ее так же, как вы, – ответила госпожа де Ламбрефу.
– Да, – вмешался супруг, – я удивлен, что ее до сих пор нет дома.
Вздохнув с облегчением, Озарёв устремил к дверям влюбленный взгляд, набрался храбрости и сказал:
– Не знаю, уведомила ли ваша дочь…
Продолжение замерло у него на губах. Хозяйка умоляюще взглянула на мужа. Последовало молчание. Затем граф нахмурил брови и проворчал:
– Уведомила! Именно так! Она не доверилась нам, не спросила нашего совета, просто уведомила нас о своем решении!..
Язвительность этого ответа не могла остаться незамеченной.
– Мне жаль, господин де Ламбрефу, что вы продолжаете упорствовать в своем ко мне недоверии, – сказал Николай. – Надеюсь, со временем вы поймете, что заблуждались. И станете судить обо мне по моим поступкам…
– Это будет не так просто, нас будут разделять огромные расстояния, – усмехнувшись, возразил граф.
– Вы приедете в Россию повидать нас, мой отец будет счастлив встречаться с вами. Я с нетерпением ожидаю его письма, в котором, уверен, он благословит мою грядущую женитьбу и пригласит вас к себе сразу после брачной церемонии…
– В мои годы отправляться в подобное путешествие!
– Мы поговорим об этом позже, – вмешалась графиня, стараясь выказать как можно большую симпатию – она не могла отказать себе в удовольствии увидеть дочь настоящей восточной владычицей.
– Вы говорите о брачной церемонии, – продолжал граф. – Как вы себе ее представляете?
– Ваша дочь – сама доброта, и она согласилась венчаться по православному обряду. Но если вы хотите, чтобы прежде нас благословил католический священник…
– Конечно! – вновь вмешалась госпожа де Ламбрефу. – Наши друзья не поймут нас, если будет иначе! Это должна быть настоящая свадьба!
– Не уверен, что вы правы, моя дорогая, – сказал хозяин. – В нашем случае я предпочел бы сдержанность…
Это замечание озадачило его супругу, которой грезились облака тафты и звуки органа. Но, вспомнив, что Софи – вдова, придерживающаяся республиканских и антиклерикальных взглядов, вздохнула, признав свое поражение:
– Пусть молодые люди сами решают, как им поступать. Главное, господин Озарёв, чтобы моя дочь была счастлива с вами…
Первые человеческие слова, услышанные им за время разговора, тронули его. Казалось, графиня и сама была взволнована собственной добротой, а потому с опаской взглянула на мужа: не зашла ли слишком далеко? Но тот одобрил кивком головы.
– Вы сняли камень с моей души! – воскликнул гость и замолк: в гостиную вошла Софи, бледная, возбужденная, с извиняющейся улыбкой. Она даже не сняла шляпу. Подол ее платья был в пыли.
– Боже, творится что-то невероятное, будто все экипажи Парижа договорились собраться в одном месте!
Родители смотрели на нее с упреком, Николай – с обожанием. Она протянула ему руки для поцелуя и продолжила:
– Думаю, вы уже обо всем поговорили, всем известны наши намерения. Я же не стану повторять то, что сказала вчера: «Вот человек, которого я люблю и за которого хочу выйти замуж. Ваше согласие только умножит мое счастье».
Заявление это показалось госпоже де Ламбрефу в высшей степени непристойным: она покраснела за дочь, которая пренебрегала всеми приличиями и открыто говорила о своих самых сокровенных чувствах. И куда только мчится это нынешнее поколение, закусив удила? Впрочем, и будущий родственник не мог скрыть некоторого смущения – уж очень решительно настроена его избранница.
– Я был счастлив выразить свое почтение вашим родителям, – сказал он. – Или я ошибаюсь, или между нами не осталось недоговоренностей и непонимания…
– Что ж, тогда пошли! – воскликнула невеста.
– Как это пошли? – возмутился граф. – Куда?
– Я забираю его у вас. – Взяв Озарёва под руку, оставив ошеломленных родителей, она увлекла за собой и тихо проговорила: – Меня задержали весьма серьезные обстоятельства – арестован Вавассер!
– Арестован? Почему?
– Пойдем в библиотеку, там нам будет спокойнее.
Они поднялись, Софи плотно прикрыла двери.
– Это должно было случиться. У него маленькая нелегальная типография в подвале. Кто-то донес. Сегодня утром провели обыск. Потом его забрали в префектуру полиции.
– Откуда вам это известно?
– Сразу после завтрака мне сообщил об этом наш общий друг. Не надо объяснять вам, что я немедленно отправилась на улицу Жакоб.
– Что? – Николай с ужасом смотрел на нее.
– Ну да, я только оттуда.
– Но что вы делали у Вавассера, которого арестовали?
– Я была не у Вавассера, а у Пуатевенов.
– Они вернулись из Версаля?
– Нет, и в этом весь ужас! Запрещенные брошюры, которые печатал Вавассер, спрятаны у них. Если полиция обнаружит тайник, они пропали. К счастью, супруги на всякий случай дали мне второй ключ от своей квартиры. Я уже увезла часть книг. Но теперь должна вернуться, чтобы избавиться от остальных…
– Нет! – воскликнул Озарёв. – Вы не можете подвергать себя такой опасности ради людей, которые…
– …которые лучшие мои друзья, не забывайте об этом.
– Тогда я иду с вами!
Лишь увидев ее восхищенную улыбку, он осознал всю серьезность происходящего и степень риска, которому себя подвергал. Ему отчаянно захотелось действовать. Она все еще колебалась:
– Это невозможно!.. Я не имею права вовлекать вас в эту авантюру!.. Нет, только не вас!..
– Разве мы не собираемся соединить наши жизни, чтобы быть поддержкой друг другу и в несчастье тоже? Что бы ни случилось, я должен быть рядом с вами! Поторопимся! И да хранит нас Господь!
Софи бросилась к нему, пылко поцеловала. Потом строго посмотрела и, не оглядываясь, пошла к дверям. Николай последовал за ней, но в вестибюле остановился:
– Я не могу уйти, не простившись с вашими родителями.
– Вы правы, думаю, они все еще в гостиной.
Граф и графиня действительно были там, оскорбленные и огорченные. Гость невнятно извинился, обещал вернуться, хотя никто и не просил его об этом, но был прерван подругой на полуслове – следовало скорее идти.
К счастью, им почти сразу удалось найти фиакр. Все время пути они молча держались за руки. Сошли на углу улицы Жакоб. Вокруг все было спокойно. Николай вел Софи под руку, изо всех сил стараясь выглядеть как можно естественнее. Вот и книжный магазин. Ставни закрыты и запечатаны, перед входом в дом – жандарм.
– Нас не пропустят, – прошептал молодой человек.
– Не думаю, – возразила спутница. – Пока полицию интересует только сам Вавассер. Копать глубже станут, только если он выдаст своих друзей.
– Но может статься, это уже произошло!
– Конечно.
– Но тогда…
– Ну да, мы рискуем…
Холодок пробежал у него по спине. Медлить было нельзя: их колебания немедленно вызовут подозрения жандарма.
– Пошли! – скомандовала женщина.
Оба решительно двинулись вперед. Офицер приосанился, но во рту у него пересохло от волнения. Завидев русскую военную форму, жандарм поприветствовал входящих. Рука Софи ни на минуту не задрожала. «Какая храбрая», – подумал Николай, надеясь, что его эполеты служат для них двоих надежной защитой. Привратник заметил пару, но ничего не сказал.
– Он – на нашей стороне, – будто выдохнула постоянная посетительница этого дома.
Замечание не сильно успокоило Озарёва – лучше бы тот человек не был ни на чьей стороне! Квартира Пуатевенов находилась на третьем этаже. Открыв дверь, проскользнули внутрь. Все ставни были притворены, комнаты погружены в полумрак, пахло плесенью, паркет скрипел при каждом шаге. Шедшая впереди госпожа де Шамплит легко ориентировалась в них, несмотря на отсутствие света. Ее сопровождающий придерживал шпагу, чтобы не задевать мебель.
Так добрались до спальни, где было не так темно, как в других комнатах: сквозь решетчатые ставни пробивалось солнце, оставляя золотой след на стенах, креслах в чехлах, туалетном столике с хрустальными флакончиками. Здесь пахло духами хозяйки. Юноша испытывал неловкость от того, что они с Софи оказались наедине перед супружеским ложем весьма внушительных размеров. Но та не обращала на это внимания: открыла высоченный шкаф и, взгромоздившись на стул, пыталась дотянуться до верхней полки.
– Вы сломаете себе шею! – воскликнул Озарёв. – Что вы хотите делать?
– Вытащить все, что там лежит, – ответила она, уступая ему свое место.
Сначала были вынуты стопки простынь и осторожно сложены на полу. Затем настал черед наволочек. Отодвинув первый ряд, он обнаружил у стенки какие-то бумаги, придвинул к себе – пачки газетных листов небольшого формата, «Les Compagnons du Coquelicot».[1] Под заголовком – фригийский колпак. Николай вгляделся в напечатанные крупным шрифтом строки: «Ни Наполеон, ни Бурбон, только Республика!..», «Людовик отдал Францию России в обмен на свой трон…», «Правитель не может удержаться у власти против воли народа. Жители провинций, прислушайтесь к нам! Присоединяйтесь! Вооружайтесь и готовьтесь к действию!».
– Что это? – в голосе его прозвучала тревога.
– Газета, которую издает Вавассер, не слишком, впрочем, регулярно. И рассылает понемногу по всей Франции.
– Зачем?
– Чтобы привлечь на нашу сторону как можно больше людей. Революции ведь не происходят случайно, надо готовить к ним умы. В каждом крупном городе у нас есть друзья, которые сообщают нам имена тех, кто готов, выражаясь языком Жозефа де Местра, поддаться на нашу пропаганду. Мы действуем, опираясь на эти списки…
– Вы… Вы распространяете эти гнусные пасквили, вы, Софи?
– Да, – просто сказала она.
– Но, надеюсь, вы ничего не пишете?
– Вавассер опубликовал две мои статьи, которые всем понравились.
– Но они не были подписаны?
Она улыбнулась его наивности:
– Николай! Какой же вы ребенок!
Но его уже волновало совсем другое:
– Короче говоря, вы участвуете в масштабном заговоре против существующего режима!
– Точнее, в деятельности крошечного союза сторонников свободы.
– Маковые зернышки?
– Да, своего рода.
Стоя на стуле, Озарёв смотрел на нее с восхищением и страхом. Но с мыслью, что женится на «маковом зернышке», примириться не мог.
– Не останавливайтесь, передавайте мне бумаги, мы сожжем их в камине, – поторопила она.
Было перерыто все лежавшее в шкафу белье, вынуты газеты, брошюры, патриотические картинки, карикатуры на Людовика и Бонапарта и отнесены к камину. Опустошив шкаф, мужчина занялся огнем, уж с этим за время войны он научился справляться превосходно. Языки пламени весело проглотили первые листы.
– Не боитесь, что дым виден с улицы?
Это не пришло ей в голову:
– Что ж, тем хуже для нас. Но уже слишком поздно!
Для опытной конспираторши она была чересчур легкомысленна, но спорить с ней не хватило решимости. Огонь теперь горел ровно, в нем друг за другом исчезали «свобода», «конституция», «братство», «республика». Рассыпались на части Людовики и Бонапарты. Вооружившись щипцами, Софи руководила этим аутодафе. Николай, словно зачарованный, смотрел на ее освещенное пламенем лицо, на пляшущие по потолку тени. И вспоминал слова Вавассера: «Пусть меня арестуют, бросят в тюрьму, мне это безразлично! За убеждения надо страдать!..» Да эти люди – безумцы! Начиная с его избранницы! Да и сам станет таким же, если не поостережется! Он взял несколько листков и бросил их в камин. В то же мгновение за стеной раздались шаги. Молодые люди встревоженно переглянулись – неужели кто-то проник в квартиру? Озарёв встал, огляделся и жестом приказал любимой спрятаться за шторами. Та отрицательно покачала головой:
– Ходят не здесь.
– Где же?
– Рядом.
– На этом этаже есть еще одна квартира?
– Да.
– Хозяева – надежные люди?
– Не знаю. Но когда я с вами, я ничего не боюсь!
И в подтверждение своих слов бросилась ему в объятия. Он целовал ее, но глаз не мог отвести от пылающего камина и все время прислушивался к подозрительным звукам. Огонь почти погас, тлела последняя пачка.
– Пора уходить, – умоляюще прошептал Николай. Он боялся и быть обнаруженным, и дольше оставаться наедине с Софи.
– Да, – согласилась она. – Надо быть осторожными! Это было бы слишком глупо!..
Что именно было бы глупо, Озарёв разбираться не стал и начал приводить комнату в порядок: сложил обратно белье, проследил, чтобы нигде не осталось ни кусочка бумаги.
Взявшись за руки, они пошли к выходу, встречая то тут то там свое отражение в зеркале – два заблудившихся в лесу, дрожащих от страха ребенка. Прошмыгнула мышь, недавняя героиня едва не закричала и так впилась ногтями в ладонь спутника, что ему впору было взвыть от боли. Высвободив руку, он первым подошел к входной двери, прислушался. На лестнице было тихо. Если кто-то и поджидал их, наверняка превратился в статую. Софи протянула ключ. Николай открыл дверь и вышел. На площадке никого. Он оглянулся, Софи смотрела на него с восхищением, будто ему удалось одолеть по меньшей мере человек десять:
– Путь свободен, пошли!
Они закрыли дверь и весело спустились вниз – словно воришки, провернувшие удачное дельце.
– То, что вы сделали, заслуживает одобрения, – сказала спутница, опираясь на его руку. – Благодаря вам Пуатевены спасены!
– Я последовал за вами не для того, чтобы спасти Пуатевенов, я думал о вас. Вы никогда не поймете, как дороги мне!..
Услышав эти слова, жандарм улыбнулся влюбленным.
6
Огюстен Вавассер оставался в тюрьме, расследование по его делу продолжалось и грозило затянуться надолго – никогда еще во Франции не было столько подозреваемых, полиция и суды завалены работой. В моду вошли доносы: под наблюдением оказались и бывшие якобинцы, и отставные военные, и землевладельцы, скомпрометировавшие себя во время Ста дней, и недовольные жизнью рабочие, и вовсе не придерживавшиеся никаких взглядов буржуа, и ремесленники с чересчур активной жизненной позицией. На севере и на юге добровольцы, пошедшие на службу к королю, преследовали и уничтожали бонапартистов. Протестовать мало кто отваживался – за это грозило соседство со знаменитыми заключенными Лавалеттом, генералами Друо и Лабедуайером, маршалом Неем… Наполеон плыл к Святой Елене. Король доукпомлектовывал палату пэров и назначал довыборы в палату депутатов, где Талейран, Фуше и Паскье рассчитывали на большинство в лице либерально настроенных монархистов. Впрочем, с первых дней стало очевидно, что преимущество останется за ультракрайними.
Не умевший справиться с потоком требований своих соратников, Людовик XVIII вынужден был одновременно противостоять союзникам, которые с каким-то злобным наслаждением затягивали подготовку мирного договора. Война, казалось бы, закончилась, Луарская армия распущена, а все новые и новые английские, прусские, австрийские, русские, ганноверские, баденские, баварские, вюртембергские, голландские, пьемонтские военные части пересекали границы Франции. Аппетиты союзников росли, о чем Озарёв с грустью узнавал из официальных докладов, поступавших в Главный штаб. Его удивляло, что товарищей по службе не возмущает подобное отношение к поверженному противнику. Их непонимание он объяснял себе тем, что ни одному из них не выпало счастье полюбить столь исключительную женщину, как Софи. И правда, все встреченные им иностранки с легкостью могли сойти за русских. Только не она. Даже став госпожой Озарёвой, она по-прежнему будет настоящей парижанкой! Впрочем, мысли о грядущей женитьбе не были столь безоблачны: Николай ждал ответа отца и все не назначал даты венчания, а расстояния такие огромные, и почта работает из рук вон плохо! Даже по самым оптимистичным расчетам выходило, что раньше начала сентября письмо не придет, необходимо запастись терпением.
Каждый день, освободившись от дел, он навещал Софи и раз за разом находил в ней новые достоинства. Она принимала его в гостиной, одна или в присутствии родителей. Но и оставаясь наедине, они теперь редко говорили о политике, словно арест Вавассера сделал их более благоразумными. Несколько раз невеста заговаривала о том, что надо бы навестить все еще не вернувшихся из Версаля Пуатевенов, но Николаю не стоило большого труда отговорить ее от этой затеи: она прислушивалась к его словам, и Озарёв ощущал себя главою семьи. Расставшись с любимой, продолжал думать только о ней и всякое событие переживал с мыслью, как-то он расскажет ей об этом.
Двадцатого августа в «Journal de débats» ему попалось сообщение, что накануне был расстрелян генерад Лабедуайер, сдавший Наполеону Гренобль. Молодой человек живо представил негодование Софи, сожалел, что не может немедленно броситься к ней. В пять он был у Ламбрефу, но едва успел привести себя в порядок перед зеркалом, как резко отворилась дверь и, шурша юбками, ему навстречу вышла не дочь, как он ожидал, но вся в слезах – мать. Озарёв подумал, не питает ли она, несмотря на свои легитимистские убеждения, тайной симпатии к подвергшемуся тяжкой участи генералу. Женщина протянула ему руку и простонала:
– Это ужасно!
– Да, – согласился гость, – приговор чересчур жесток и слишком скоро приведен в исполнение.
– Когда ее уводили, я думала, что сойду с ума! – вздохнула графиня, поднося к глазам платок.
– О ком вы говорите?
– О Софи! О Софи, конечно! Двое полицейских пришли за ней в полдень!
Озарёв застыл, словно громом пораженный:
– Но… но это невозможно!
– Они повели ее в префектуру, как воровку! Будут допрашивать!
– Но почему?
– И вы еще спрашиваете? За ее политические взгляды и связи! Ее бедный отец в отчаянии! Он уехал, чтобы попытаться через знакомых вызволить ее оттуда! Но увидите, ничего не выйдет! Они бросят ее в тюрьму! В тюрьму!..
Рыдания душили графиню.
– Где находится префектура?
– На улице Жерузалем, – сквозь слезы произнесла она.
– Вам известны имена тех, кто арестовал ее?
– Нет!
Николай тряхнул головой:
– Что же, тем хуже! Я пойду туда и выясню все на месте! Клянусь, ваша дочь вернется к вам!
Николай сознавал всю неосторожность подобного обещания, но не мог контролировать себя, столь велико было негодование.
Фиакр доставил его к дверям префектуры, украшенной аллегорическими барельефами. Рядом в будке стоял вооруженный часовой, он грозно взирал на прохожих, но не препятствовал тем, кто хотел подойти ближе. Озарёв вошел во двор, за ним проследовала мрачная тюремная повозка на высоких колесах, влекомая одинокой лошадью. На землю спустился мужчина в наручниках. Двое жандармов подтолкнули его к дверям. Боже, неужели и Софи увезли так же? Вокруг сновали бедно одетые посетители с виноватыми лицами, выглядевшие весьма подозрительно, и высокомерные чиновники. Николай остановил одного из них – очень молодого, весьма делового вида, с папками под мышкой:
– Я ищу госпожу де Шамплит, женщину, занимающую видное положение в обществе, доставленную сюда по ошибке. Подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться.
Чиновник, одетый в гражданское платье, с уважением взглянул на его военную форму и спросил:
– За что она арестована?
– Политика, полагаю, – покраснев, ответил собеседник.
– Тогда вам в то здание, первый этаж, в глубине. Вы увидите охранника.
На первом этаже охранника не оказалось. Коридор был пронизан одинаковыми дверьми с номерами и грязными пятнами вокруг ручек, на полу – ворохи бумаг, табачная пыль. На скамейках вдоль стен – неизвестно чего ожидающие в нищенском платье мужчины и женщины. Воздух пропитан запахом плохо вымытых тел. Озарёв думал только о Софи, а потому сострадание к этим несчастным скоро сменилось тревогой. Он стал по очереди открывать все двери, намереваясь таким способом обнаружить, в конце концов, любимую.
За первой дверью оказалось множество писцов, устроившихся на высоких табуретах перед конторками. В мгновение все перья замерли, все головы повернулись к вошедшему. Ее здесь не было. За следующей восседал карлик, положив ноги на стол, и читал газету. Сказал, что никогда не слышал о госпоже де Шамплит, быть может, знает коллега из соседней комнаты… Коренастый, жизнерадостный коллега был занят делом: засунув руки в карманы, мерил шагами комнату, бессмысленный взгляд его блуждал по стенам. На стуле перед ним съежился под градом вопросов седой старичок.
– Ты скажешь нам, кто заказал тебе эти медали с орлами и пчелами? Тебе известно, что твоя жена тоже арестована? Чем раньше ты заговоришь, тем быстрее вы оба окажетесь на свободе! Жаль, если твоя чудная лавка больше никогда не откроется!
Секретарь, смахивавший на паука, сидел в углу, готовясь записывать показания. Вошедший на цыпочках юноша уже было выскользнул из помещения, как вдруг инспектор рявкнул:
– Эй! Кого ищете?
– Госпожу де Шамплит.
– Шамплит? Не знаю!
И продолжал, обращаясь к жертве:
– Ты будешь говорить? Ты будешь говорить, каналья?!
Несчастный задрожал, открыл рот, готовый к признанию, но промолчал. У Николая чесались кулаки, он терзался, что не может освободить старичка и дать пощечину его мучителю. Но он пришел сюда ради Софи и не должен отвлекаться от цели. После увиденного ему представлялось, что над ней насмехаются, грубо обращаются, быть может, бросили в камеру на грязный тюфяк! И она потеряна на долгие месяцы, годы, на всю жизнь!.. Решение пришло внезапно: «Обращусь к министру!», и вдруг в конце коридора заметил ее, излучавшую уверенность, совсем не похожую на ту, что виделось в воображении! Платье ее так контрастировало с этим жалким окружением! Рядом не было ни полицейского, ни жандарма! Озарёв радостно бросился ей навстречу. Заметив его, она отпрянула, потом улыбнулась:
– Зачем вы пришли?
– Но, Софи, разве вы не понимаете, как мы волновались, ваши родители и я?! Я должен был во что бы то ни стало найти вас! Вы свободны?
– Совершенно! Полагаю, этой милости я обязана вмешательству моего отца…
– Не сомневайтесь…
– В любом случае, меня не смогли бы задержать надолго, им нечего мне предъявить!
Он схватил ее за руку и увлек к выходу, боялся, как бы полицейский не передумал. На лестнице едва слышно произнес:
– Как вы должно быть испугались, любимая!
– Вовсе нет!
– Вы, такая тонкая, нежная, лицом к лицу с палачами!..
– Они были вполне корректны.
– Что им известно?
– Немногое. Мое имя было в записной книжке Вавассера. Я сказала, что знаю его книжный магазин, пользовалась его услугами, но о его политической деятельности ничего не ведаю. То же сказали и Пуатевены.
– Они тоже арестованы?
– Да, позавчера, но сегодня утром отпущены за отсутствием улик.
– Так вы знали, что может произойти?
– Конечно!
– И ничего мне не сказали!
– Вы бы только напрасно тревожились!
Они сели в фиакр, всю дорогу Софи говорила о несчастном Вавассере, который так просто не отделается: два года тюрьмы при наличии умелого адвоката, но пока неизвестно, кто будет защищать его. Николай умолял, во имя их любви, забыть о Вавассере, пусть сам выпутывается!..
– Милая, сейчас только одно имеет значение – наше будущее, наше счастье! Будьте эгоисткой, не думайте ни о чем другом!..
Ее забавляло его беспокойство, она целовала его и смеялась, словно только что избежала несчастного случая. Только когда фиакр остановился у дома, посерьезнела. В окошке второго этажа показался господин де Ламбрефу, через две минуты он уже был у большого окна гостиной, куда позже вошли молодые люди. В одиночестве стоял граф за одним из кресел, высоко подняв голову. Когда дочь направилась с нему, сухо произнес:
– Прошу вас, сию минуту пройдите к вашей матушке, которая слегла от горя. Она ждет вас.
Софи собиралась поблагодарить отца за предпринятые им шаги, но после его слов покраснела, остановилась и с досадой обратилась к Николаю:
– Не уходите, не повидавшись со мной.
Озарёв поклонился. Едва она вышла, граф покинул свое кресло, встал, сложив за спиной руки, перед ним и сказал:
– Нам больше никто и ничто не поможет!
– Но, слава Богу, нам больше нечего бояться!
– Вы находите? А бесчестье, бесчестье из-за того, что дочь побывала на улице Жерузалем?
– Со времен Революции во Франции не стыдно быть арестованным по политическим мотивам.
– Не сравнивайте святых мучеников 1793 года и теперешних презренных либералов! Я знал, что это случится! Я говорил жене!
– Позвольте заметить, за вашей дочерью не признали никакой вины!
– Просто закрыли глаза на ее неблаговидные поступки!.. Если бы я не вмешался!.. И она – Ламбрефу!.. Ламбрефу!..
Он не закончил, подозрительно взглянул на собеседника и неожиданно спросил:
– Вы все еще не получили письмо от отца?
– Нет. Жду со дня на день.
Граф грустно покачал головой:
– Эта свадьба сейчас была бы как нельзя более кстати.
7
«Дорогой сын,
ты обращаешься ко мне по-русски, по-русски я и отвечаю тебе: так мы только лучше поймем друг друга. Я изменил бы родительскому долгу, позволив совершить глупость, в которой ты станешь раскаиваться всю последующую жизнь. А потому не стану поощрять твои намерения, дабы избавить тебя от страданий, которые, поверь мне, пройдут. Эти твои намерения служат доказательством того, что в армии ты ума не набрался. Готов признать, что ты остановил свой выбор на создании в высшей степени добродетельном, наделенном необыкновенной красотой. И все же твои восторги кажутся мне чрезмерными! Она – француженка и на два года старше тебя, исповедует другую религию, к тому же еще и вдова! В твои годы не следует сочетаться браком с женщиной, чьи вкусы и характер сформировались под влиянием первого мужа. С твоим именем, прекрасным состоянием и физическими данными, коими тебя щедро одарила природа, ты заслуживаешь лучшей участи. Не гневи Бога, не отказывайся от уготованного им, вступая в столь невыгодный союз. Твое глупое вмешательство в собственную судьбу кажется мне высшей неблагодарностью по отношению к Всевышнему. В таком случае не рассчитывай на мое благословение. Я решительно отказываю тебе в нем. И умоляю порвать все отношения с этой случайно встреченной француженкой. Да, жертва эта может показаться тебе нестерпимой, но со временем ты поймешь, что поступил правильно. Когда вернешься в Каштановку, я посвящу тебя в иные матримониальные планы, разумные, прекрасные, коими я занимался в твое отсутствие. Но если та, что я выбрал для тебя, тебе не понравится, найдем другую. Видишь, я не упрям и не собираюсь стоять на своем. Черт побери, в России хватает девиц, зачем нам француженка-вдова?! Когда я вспоминаю о ней, меня охватывает ярость. Не желаю ничего больше слышать об этом деле, разве только знать, что с ним покончено. Дома все здоровы и помнят о тебе. Мари просит написать, что по-прежнему нежно к тебе привязана. Что до меня, то суровость принятого мною решения – лишнее свидетельство моей отеческой заботы. Любящий и готовый защитить тебя отец.
М. Озарёв»Николай положил письмо на стол и разгладил руками, словно пытаясь смягчить его резкость. Бедствие разразилось над миром, но никто из сидящих рядом с ним о нем не подозревал: всегда элегантный Розников полировал ногти, просматривал газеты Сусанин, прочищал ухо Бакланов. За перегородкой нервно ходил Волконский и что-то громко говорил. Вошел нагруженный папками секретарь.
– Эй! – закричал Ипполит. – Ты принес вдвое больше обычного! Что случилось?
– Его Величество много работал вчера вечером! – ответил тот и принялся раздавать пачки писем, снабженных пометками императора, на которые следовало дать ответ по-французски. Собственно, в этом и состояла главная забота молодых людей помимо чтения газет. Озарёв получил предназначенный ему пакет, пробормотал «Спасибо» и сжал кулаки. Отказаться от Софи? Никогда! Решение было мгновенным и отдалось у него в голове, словно пушечный выстрел. Любовь даст ему сил пренебречь всеми внешними обстоятельствами, в конце концов, он не первый и не последний, кто поступает вопреки родительской воле. Великая любовь преодолеет все препятствия. «Когда женюсь на ней, мы поедем в Россию, бросимся в ноги отцу, будем просить его благословения, он не сможет отказать нам. Именно так всегда и бывает!» – снова и снова звучало у него в душе. Но решимости поубавило рассуждения о том, что скажет Софи, узнав об отцовском отказе благословить их союз. Но нет, она мыслит свободно, подобными предрассудками ее не запугать. У нее бойцовский характер, ей, быть может, доставит удовольствие войти и покорить семью, которая не желает ее знать. «Что ж, я, как обычно, преувеличиваю!» – вздохнул Николай и решил взвесить все, не спеша.
Он еще предавался размышлениям, когда в комнату вошел Волконский. Князь подошел к столу Розникова и о чем-то тихо заговорил с ним, остальные сгорбились над бумагами, словно школьники в присутствии инспектора. Озарёв сунул в карман отцовское письмо и придвинул к себе папку с корреспонденцией, которую принес секретарь. Как обычно, большая часть посланий исходила от французов, добивавшихся денежного вспомоществования, награды, аудиенции, автографа, места слуги в Елисейском дворце или назначения на службу в русскую армию. Взбалмошные великосветские дамы приглашали государя к себе в замки провести там столько времени, сколько ему будет угодно, анонимные политики предлагали планы реорганизации Франции, невежественные писатели адресовали свои рукописи, умоляя разрешить посвятить свое произведение царю. В последнем случае следовало передать эти творения бывшему воспитателю государя Лагарпу, тщательно отбиравшему тех, чьи знаки поклонения можно принять безбоязненно. Сначала Николай взял письмо женщины, которая искала пропавшего в 1812 году сына и спрашивала, не в плену ли он в России. На полях пометка рукой царя: «Все пленные были возвращены на родину». Обмакнув перо в чернила, начал писать: «Ознакомившись с вашим письмом, Его Величество соблаговолил ответить…»
– Лейтенант Озарёв, – обратился к нему Волконский.
Тот вскочил, чтобы выслушать продолжение.
– Будьте готовы отправиться к художнику Жерару – ему необходима военная форма императора, чтобы завершить полотно…
Николай подумал было, что воспользуется этой возможностью и повидается с Софи, но не обрадовался, а пришел в замешательство: несмотря ни на что, не был уверен, что его признание обрадует невесту. В столь деликатном деле неверно сказанная фраза, да что там фраза, слово могут помешать счастью. Инстинктивно он понимал, что необходимо выждать. Этим вечером они увидятся в театре, где у ее родителей ложа, и поговорят в антракте. Так будет лучше!
Князь ушел к себе, а его подчиненный все еще стоял в задумчивости. Ему необходимо было с кем-нибудь посоветоваться. Внезапно он вынул из кармана отцовское письмо, подошел к Ипполиту и сказал:
– Хочу, чтобы ты прочитал!
Склонившись над бумагой, Розников скорчил мину давно практикующего доктора, от которого зависит жизнь или смерть больного. По мере чтения лицо его становилось все мрачнее:
– Что ж! Ведь ты ждал этого?
– Да, и все-таки мне это неприятно.
– Когда ты получил его?
– Сегодня утром. Мне надо поговорить с тобой. Я еду к Жерару. Не хочешь составить мне компанию?
Оказалось, что сослуживец направляется с поручением в Тюильри, они вместе вышли и сели в экипаж. Камердинер князя выдал Озарёву пакет для художника.
Военный мундир царя был упакован в зеленую ткань. С этим грузом на коленях Николай казался себе портным, везущим товар в город на продажу. Но мысль о том, что эта одежда хранит тепло тела государя, помнит его движения, все же волновала. Розников предложил обсудить проблему со всей откровенностью. Попытались взглянуть на нее со всех сторон. Единственное разумное решение состояло в том, чтобы официально уведомить о женитьбе князя Волконского, обратиться к царю с прошением об отставке по личным обстоятельствам, найти в армии священника, который согласится совершить обряд венчания. И все это сделать как можно быстрее. Что до последствий, то оба были согласны: враждебный настрой отца растает, словно снег под солнцем, при виде счастливой четы, примчавшейся из Франции просить у него прощения.
– Жаль только, что ты так стремительно отказываешься от своей карьеры! Оставшись в армии, ты многого сумел бы достичь! На твоем месте я бы женился, но в отставку не ушел…
Подобного рода замечания нисколько не трогали Николая – он потерял всякий интерес к военной службе, приняв решение жениться на Софи.
– Чего ради вступать в брак, – возразил он, – если будешь зависеть от своих служебных обязанностей? Я не хочу больше жить в казарме, хочется вести жизнь, которая мне по душе – в деревне, вдали от какого бы то ни было начальства…
– Смотрю я на твои ноги и уже вижу их в теплых тапочках… Что ж, жаль…
– Посмотрим, что ты скажешь, когда полковником или генералом приедешь ко мне в Каштановку. Не знаю, кто будет больше завидовать: я – твоим эполетам, или ты – мои седым волосам и семейному счастью.
Розников рассмеялся:
– Сгинь, поэт! Проснись, проснись пока не поздно!
Они замолчали лишь при входе в мастерскую Жерара, где в беспорядке стояли античные статуи и повернутые задником картины, громоздились сверкающие кирасы, извивалась парча, стальным блеском мерцало оружие, а из пиратских сундуков вываливались жемчуга и старинные монеты. Художник пользовался большой известностью, а потому приятели ожидали увидеть почтенного старца, но навстречу им вышел румяный, жизнерадостный мужчина лет сорока пяти, с веселым взглядом, лысоватый, в рабочей блузе. Он провел посетителей к незаконченной работе: император Александр спокойно стоял посреди грозовых туч, освещенный молнией; у ног его лежала треуголка с белым султаном, левая рука покоилась на эфесе шпаги. Озарёв не смог сдержать крика восхищения, но никогда не осмелился бы сказать, что, несмотря на все великолепие, картина имела весьма приблизительное сходство с оригиналом. Ипполит уверял, что видел это выражение благородной решимости на лице государя в 1814 году, когда шло сражение за Париж.
– Я очень рад этому, – сказал Жерар. – Моя прославленная модель смогла позировать крайне редко, мне пришлось полагаться не только на память, но и на фантазию! Конечно, я мог бы, как некоторые другие, показать его улыбающимся, приветливым, но предпочел оставить грядущим поколениям истинного героя. Господа, вы должны гордиться тем, что служите монарху, достойному великих имен античности!
Офицер вспомнил о своей грядущей отставке и вздрогнул. Разговаривая, художник распаковал мундир императора и аккуратно разложил на кушетке.
– Каждая деталь имеет значение, – сказал он. – Я верну его завтра…
«Этот человек так счастливо воспел наполеоновскую эпопею, как мог он теперь согласиться писать портреты Александра, короля Пруссии, Веллингтона, Шварценберга?» – размышлял Николай. Ему казалось, что в мастерской Жерара пишется обычная школьная история, какой ее будут изучать дети лет через сто. Он испытывал неловкость под несколько театральным взглядом государя, казалось, со всех сторон его окружает ложь. По просьбе Розникова хозяин показал им несколько ранее написанных полотен: батальные сцены, этюды лошадей, эскиз к портрету мадам Рекамье. Проводив посетителей до дверей, попросил передать Его Императорскому Величеству уверения в его «абсолютной преданности».
Затем друзья направились в Тюильри. Стоявший на посту гвардеец вызвался провести их в секретариат короля. Но ошибся дорогой, заблудился, они плутали по длинным пустынным коридорам, пересекали огромные, почти без мебели, залы. Кое-где сохранилась еще монограмма Наполеона, развешенные по стенам запыленные картины напоминали о его победах. Кто знает, не было ли среди них творений Жерара? Спустя некоторое время «путешественники» прибились, наконец, к обитаемой части дворца. Отворив одну из дверей, увидели лакеев, которые накрывали на стол. Королевский стол!
– Сюда нельзя! – крикнул мажордом.
Здесь витал запах жареной курицы, в графине блестело вино. У Озарёва разыгрался аппетит. К счастью, приятель обнаружил в соседней комнате секретаря, которому и передал пакет.
С чистой совестью можно было пообедать в «Rocher de Cancale». Здесь было много английских офицеров, чьим мундирам не хватало элегантности, а физиономиям – любезности. И все же они вызывали всеобщий интерес – впервые за сто лет британские войска показались на континенте. Русских же парижане считали старинными знакомыми, хозяин заведения вышел поболтать с Николаем и Ипполитом. Как истинный француз, он жаловался на все: дела идут неважно, в политике ужас что творится… Заскучавшие молодые люди постарались поскорее покончить с обедом и вернулись в Елисейский дворец.
Здесь царило небывалое возбуждение – в вестибюле собрались военные, которых государь пригласил обсудить грядущий смотр армии, планировавшийся в окрестностях Шалона. Показался Волконский и увел всех за собой, двери закрылись, заседание началось. После полудня стало очевидно, что оно затягивается, Николай воспользовался передышкой, чтобы написать обращенные к высшим властям прошения об отставке и разрешении на женитьбу. Ставя под ними свою подпись, осознал, что порывает с юностью, армией, товарищами, мечтами, что были у него когда-то. И уже не был полностью уверен, что поступает правильно. Розников прочитал оба письма, одобрил и, положа руку на сердце, обещал никому ничего не говорить, пока не будет получен официальный ответ.
В пять часов генералы все еще совещались, хотя царь уехал: из окна Озарёв видел, как тот в одиночестве шел по саду в темно-зеленом мундире, таком же, который утром получил Жерар. Но между этим усталым человеком и полубогом среди молний, образ которого оставлял для потомков художник, не было ничего общего. Император исчез в своих покоях, а через некоторое время вновь появился, теперь во фраке. Ему подали лошадь, верхом, в сопровождении шталмейстера, он отправился на прогулку по Елисейским полям, которую совершал почти каждый день. По возвращении провел вечер у баронессы Крюденер, беседуя о политике и мистике. Офицеры никогда не обсуждали эту привязанность государя, из боязни быть услышанными, но Николай и так знал, что его товарищам, как и ему самому, не нравится, что русский император попал под влияние какой-то пророчицы с ливонскими корнями, которая пишет сомнительные романы и уверяет, что общается с потусторонними силами. Ее часто можно было видеть во дворце: лет пятидесяти, лицо с красными пятнами, острый нос, светлый парик… Но если столь уродливое создание сумело очаровать царя своими душевными качествами, что говорить о простом смертном, который встретил Софи – прекрасную и душой, и телом!.. Таким размышлениям он и предавался, и воздух, свет, все вокруг, было полно его любимой…
* * *
В антракте Софи и Николай вышли в фойе, за ними следовали госпожа и господин де Ламбрефу. Вокруг шумела нарядная толпа: драгоценности, султаны, голые плечи, напудренные щеки. Граф пока не решался представлять молодого человека в качестве жениха своей дочери. Обращаясь к друзьям, он говорил:
– Как, вы не помните лейтенанта Озарёва? В прошлом году нам выпала честь приютить его у себя. Теперь он вернулся!..
Все это было мукой для графини, ей казалось, все знают о ее позоре. Потеряв голову от жары, шума и беспокойства, она улыбалась мраморным бюстам и приветствовала незнакомые отражения в зеркалах. Водоворот толпы отнес их в разные стороны, Николай шепотом сказал:
– У меня новость – сегодня после полудня я подписал все бумаги, необходимые для женитьбы и отставки. Завтра утром они попадут на стол к Волконскому.
Взглядом она поблагодарила его и спросила:
– Не надо ли было прежде дождаться письма вашего отца?
– Зачем? – проговорил он, скрывая беспокойство. – Рано или поздно, письмо придет!.. Мой отец – человек странный, порой небрежный!.. Представляю, как он со дня на день откладывает это дело, не понимая, что мы здесь сгораем от нетерпения!..
Озарёв врал старательно, избранница в задумчивости молчала.
– К тому же мы ведь все равно поженимся, каким бы ни был его ответ?
– Нет.
Он был поражен спокойствием и с отчаянием взглянул на любимую:
– Я не понимаю вас, Софи. Вы готовы были выйти за меня вопреки родительской воле, почему же теперь вам необходимо согласие моего отца?
– Но это так очевидно. Я могу противостоять родителям именно потому, во-первых, что они мои родители, а мое первое замужество позволило мне более или менее вырваться из-под их власти. Но я никогда не соглашусь войти в семью, где меня встретят, скрепя сердце. По вашим рассказам я слишком хорошо представляю себе вашего отца, и мне ненавистна мысль, что он станет плохо судить обо мне. Если он не отнесется ко мне, как к дочери, ни я, ни вы не будем счастливы!..
Силы покинули Николая, впору было звать на помощь. Нет, он никогда не осмелится сказать ей правду!
– Мой отец вовсе не так жесток, как вам представляется. Даже если и станет поначалу сопротивляться, вы сумеете быстро его переубедить.
– Конечно, я не стану этого делать!
– Но женщины созданы, чтобы очаровывать… – не к месту заметил молодой человек.
Она покачала головой:
– Нет.
– Я пошутил.
Но вид у него был грустный. Софи спросила:
– Что происходит? Я чем-то обидела вас?
– Нет!
– Вас ничто не беспокоит?
– Нет.
– Ваш отец…
– Мой отец?.. Думаю, завтра или послезавтра я получу от него письмо… Во всяком случае, надеюсь, что получу… Если нет, напишу еще раз… И все решится… Верьте мне… И думайте о нашей любви… Она должна быть сильнее всего и всех…
За скороговоркой ему хотелось скрыть смущение. Вдруг поверх голов его взгляд выхватил Дельфину. Господи, неужели эта женщина когда-то действительно казалась ему красивой! Вульгарная, с нарумяненными щеками, с маленькими глазками, двойным подбородком… Но тогда не возникало никаких осложнений!.. Упрекнув себя в глупости, Николай взглянул на Софи – с ее глубокими глазами, длинной шеей, темными шелковистыми волосами, созданную словно для драмы. Течением толпы их прибило к Дельфине, которая воскликнула:
– Да это господин Озарёв! Вот уж не знала, что вы вновь в Париже!..
– Вы знакомы?! – сказала госпожа де Шамплит.
– Да, дорогая, он был первым русским, осмелившимся обратиться ко мне! Теперь их редко встретишь! А жаль! Пошли, Эдди!
За ней шел английский офицер – светлый, розовый, негнущийся. Шотландская юбка открывала его толстые коленки. Де Шарлаз представила его как соратника Веллингтона, он ни слова не знал по-французски. Носки его украшали ленточки. Опираясь на руку этого странного героя в юбке, баронесса ничуть не смущалась, болтала об актерах, заливисто смеялась и время от времени останавливала на встреченном полный воспоминаний взгляд, очевидно, забавляясь тем, что близко узнала его еще до Софи, которая теперь так гордилась, что может показаться с ним на людях. Николай чувствовал себя так, словно его прилюдно раздели, и мечтал лишь о том, чтобы невеста ничего не заметила – малейшее подозрение, и все потеряно! Отцовский отказ, нескромность бывшей любовницы – не слишком ли для одного дня! Окончания антракта он ждал, словно чуда, спасения, освобождения! Дельфина второй раз повторила: «Нам обязательно надо увидеться!», улыбнулась бывшей подруге и в шорохе платья удалилась, за ней уточкой устремился офицер.
– Не люблю эту женщину! – проговорила Софи.
– Я тоже, – поспешил согласиться Николай.
Оказавшись в ложе, он немного успокоился, да, еще ничего не решено, но по крайней мере в полумраке ничто не мешает ему любоваться той, с кем он решил связать свою судьбу. «Тартюф» не оставил у него никаких воспоминаний.
8
Приглашая союзников на смотр русской армии, царь рассчитывал поразить их ее военной мощью, заставив таким образом считаться с требованиями России на грядущих переговорах. Генеральную репетицию назначили на 7 сентября – день Бородинского сражения, парад – на 10-е, торжественное богослужение – на 11-е. По мере приближения праздника волнение в Елисейском дворце нарастало: ежедневно все больше генералов, нервы которых были на пределе, собирались у императора, чтобы согласовать план марша, уточнить планы, обсудить средства сигнализации. Строгость, суровость даже, монарха в вопросах дисциплины была известна всем, высшие чины трепетали, опасаясь совершить малейшую оплошность. В прошлом месяце государь приказал взять под арест прямо во дворце двух полковых командиров, которые сбились с шага, проходя по улицам Парижа. В тот день дворец охраняли англичане, но генерал Ермолов напрасно говорил государю, что русским офицерам неприятно будет находиться под их присмотром. «Тем хуже для них! – воскликнул царь. – Пусть им будет вдвойне стыдно!» Об этом ответе помнил теперь каждый, кто готовился «к самому грандиозному параду всех времен и народов», как назвал его один французский журналист.
Князь Волконский с ног сбился от забот, работал ночами, требуя того же от подчиненных. У Николая почти не было времени встречаться с Софи – он погряз в бумагах, которые без конца составлял, исправлял, переписывал. Еще вчера поручик проклял бы любое занятие, отрывавшее его от любимой, теперь же ему было чем оправдать свое нежелание открыть ей правду. «Пусть пройдет смотр, – говорил он себе. – Я успокоюсь и смогу все объяснить. Если она меня действительно любит, смирится». Пока же делал вид, что отцовское письмо не пришло, хотя эта ложь стоила ему немалых мучений. Волновало и то, что князь Волконский, получив его бумаги, не предпринял никаких шагов. Хотя, надо признать, сейчас у него были заботы поважнее и вряд ли интересовали мучения какого-то штабиста, когда на карту поставлен престиж русской армии. И тут обстоятельства складывались не в его пользу, следовало запастись терпением…
И вот войска потянулись в Шампань: сто пятьдесят тысяч человек, пятьсот пушек. Шестого сентября выехал император в сопровождении Волконского. В качестве офицеров свиты с ними направлялись Розников, Сусанин и Озарёв. В столицу они должны были вернуться только тринадцатого. Неделя разлуки! Расставаясь с Софи, Николай испытывал и чувство вины, и некоторое облегчение – оживленная походная жизнь позволяла на время забыть о нравственных пытках. Впрочем, очень скоро он обнаружил, что заблуждается – угрызения совести ни на секунду не оставляли его.
На генеральной репетиции присутствовал царь и Великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович. Все прошло успешно. На другой день начали прибывать иностранные гости: император Австрии, король Пруссии, Веллингтон, Шварценберг, князья, генералы, дипломаты, неизбежная баронесса Крюденер. Воодушевленная как никогда, она привезла с собой дочь, зятя и пастора-протестанта, который направлял ее мистический экстаз. В окрестностях Вертю не осталось ни одного свободного от постоя дома, любимый архитектор Наполеона – Фонтен обустроил палатки, предназначенные для застолий, совещаний, приемов.
Огромный лагерь украшен был флагами, пылал огнями. На перекрестках побеленными камешками выложили цифры и приветствия. Походные кухни блестели свежей краской. Местные жители, привлеченные возможностью заработать, тоже не остались в стороне, их живописные повозки с товарами придавали лагерю несколько ярмарочный вид. Белоснежные конусы палаток оживляли разноцветные мундиры, в лесочке репетировали трубачи и барабанщики. Все – от рядового пехотинца, приводившего в порядок свою форму, до генерала, державшего в уме мельчайшие детали грядущего действа, – боялись лишь одного: прогневать императора неверным ли шагом, фальшивой нотой, нарушением построения или не начищенной до блеска пуговицей. Николаю вдруг показалось, что есть нечто странное в этом слепом повиновении целого народа воле одного человека. Никогда раньше подобные мысли не приходили ему в голову. Дерзкие, но отделаться от них было невозможно. Быть может, общение с Софи научило его подвергать сомнению то, что еще недавно считал он священным и обсуждению не подлежащим? Как будто до сих пор шел по прямой дороге, вдоль которой стояли настоящие, прочные ценности, на них можно было в любой момент опереться, чтобы передохнуть, теперь же они таяли в тумане. Куда идет? Во что верит? Разве нет у него больше собственного мнения, не мыслит себя самим собой и своей жизни без Софи? Уже не раз чувствовал себя чужим среди товарищей, их шутки, смех не радовали его. Девятого сентября Озарёв написал невесте о своей любви, одиночестве, надеждах.
На утро десятого состоялся парад. Приглашенные государя устроились на вершине Монт-Эме. Впервые бригадой гренадеров командовал Великий князь Николай Павлович, артиллерийской частью – Великий князь Михаил Павлович. Возглавил войска фельдмаршал Барклай де Толли. В прозрачном теплом воздухе под лучами утреннего солнца были видны мельчайшие детали: равнина, усыпанная красными, зелеными, голубыми, белыми, черными прямоугольниками – готовыми к параду полками, которые по сигналу взяли на караул, ощетинившись тысячами железных зубов, раздалась барабанная дробь, к ногам царя понеслось нескончаемое «ура», войска перестроились и потянулись по полям, сходясь и расходясь, выстраиваясь в огромное каре, которое объехал император со свитой, получив в награду тысячегласное «Виват». Он возвратился на Монт-Эме, и парад начался: гренадеры, за ними пехота, кавалерия, артиллерия…
Штабные офицеры, верхом, располагались неподалеку от приглашенных монархов, принцев, генералов. Николай принимал участие во многих парадах, теперь впервые оказался зрителем. Издалека незаметны были усилия тысяч людей, державших шаг, строй и оружие. За геометрической красотой перестроений скрывались мучения тех, кто в жару и пыли выполнял их. Разве возможно, чтобы эти широкие ленты, украшенные султанами и флагами, состояли из живых людей, у каждого из которых – душа, свое прошлое, свои радости и горести, надежды. Возвышаясь над равниной наряду с сильными мира сего, Озарёв вдруг осознал их безразличие к человечкам, которые копошились внизу. «Можно ли быть государем и любить народ?» – испуганно спрашивал он себя. Полки сменяли друг друга, отличные только цветом мундиров, когда вдруг замолкали барабаны и флейты, слышен становился звук их движения, похожий на шум реки среди камней.
Николай приблизился к группе гостей в надежде услышать обрывки их комментариев. Большинство восхищалось отменной дисциплиной. Александр светился от счастья: сто пятьдесят тысяч человек прошли перед ним, не сбившись с шага, не нарушив предписанной дистанции. Этот триумф он посвятит госпоже Крюденер, которая стояла неподалеку – высокая, в темном платье и соломенной шляпке на крашеных волосах. Немного поодаль раскрасневшийся от удовольствия князь Волконский беседовал с Веллингтоном.
Когда войска вновь выстроились в каре, со всех сторон равнины раздались пушечные выстрелы, скоро все потонуло в дыму. После двенадцати минут интенсивной стрельбы наступила тишина, равнина оказалась пустынной, что немало удивило присутствующих. Озарёв, несмотря на свои горькие мысли, испытал гордость от того, что он – русский.
Вечером самые именитые приглашенные были на ужине на триста персон, во время которого царь провозгласил тост за мир в Европе. На другой день – праздник Святого Александра Невского, покровителя русского императора – войска построились вокруг семи возвышений с алтарями, на которых одновременно служили семеро священников. Согласованность их движений не уступала той, что солдаты накануне продемонстрировали на параде. Царь стоял в окружении гренадеров.
После этой церемонии иностранные гости отправились в Париж, русские генералы, вздохнув с облегчением, собрались на банкет. В приказе по армии государь выразил удовлетворение тем, как прошел парад, одновременно стало известно о присвоении фельдмаршалу Барклаю де Толли княжеского титула и о том, что царь обещает скорое возвращение на родину. Солдаты получили в награду водку и мясной суп, в лагере слышны были песни, веселье.
Несколько молодых офицеров из числа приписанных к Главному штабу собрались в палатке у Николая, чтобы выпить пуншу и вспомнить славные деньки. Когда Розников наполнял стаканы, раздался приказ:
– Стройся! Смирно!
Вошел император, с ним Великий князь Николай Павлович и Волконский. Князь, конечно, прогуливался по лагерю из желания показать, что он – отец родной всем и каждому. Государь поблагодарил офицеров за службу, за то, что парад прошел столь успешно, но тут заметил, что верхняя пуговица на мундире у Сусанина не застегнута. Гнев закипел в нем. Впрочем, Александр вовремя спохватился, вспомнив, какой день, и, покачав головой, пробурчал:
– Желаю вам удачного вечера, господа. Продолжайте…
Он повернулся, чтобы уйти, но Волконский что-то тихо сказал ему. Туговатому на ухо царю пришлось наклониться, чтобы расслышать. Александр недовольно поморщился, распрямился и произнес:
– Поручик Озарёв!
Похолодев, Николай сделал шаг вперед и вытянулся перед императором. Тот осмотрел его с ног до головы и продолжал:
– Вы выразили желание жениться и покинуть армию.
– Если на то будет позволение Вашего Величества, – ответил молодой человек.
– Я никогда не препятствовал тем, кто собирался уйти в отставку, еще меньше тем, кто решил жениться! Я слышал, ваша невеста – француженка?
– Да, Ваше Величество.
– Напомните мне ее имя.
– Госпожа де Шамплит.
– Госпожа?.. Госпожа?.. – Глаза Александра округлились.
– Да, – прошептал Николай, – она уже была… Она – вдова…
– Что?
На помощь Озарёву пришел Волконский:
– Это дочь графа де Ламбрефу, Ваше Величество.
– Ну да! – воскликнул государь. – Где была моя голова! Помню, мне говорили, что она не слишком расположена к Бурбонам!
– Да, Ваше Величество, – едва слышно выдохнул офицер.
Все уставились на него, он же не мог пошевелиться. Справа от царя беспечно улыбался Великий князь, которому, должно быть, исполнилось лет девятнадцать: вытянутое лицо, прямой нос, маленький рот, круглые лучистые глаза.
– Полагаю, вы выбрали госпожу де Шамплит не за ее политические убеждения, – продолжил царь.
Раздалось несколько угодливых смешков.
– Конечно, нет, Ваше Величество.
– Что ж, в добрый час! Надеюсь, вы заставите это очаровательное создание забыть о политике.
– Рад служить Вашему Императорскому Величеству, – произнес сконфуженный Озарёв.
Кто-то вновь засмеялся. Он стоял навытяжку, пот выступил у него на лбу.
– Ну да! Только радости русской семейной жизни смогут успокоить французское интеллектуальное брожение, – вступил Николай Павлович.
Гримаса неудовольствия на лице государя свидетельствовала, что младшему брату следовало молчать. Но туча лишь на мгновение омрачила чело этого полубога, он вновь улыбнулся, взял под руку Волконского и вздохнул:
– Решено, дорогой мой, ты все уладишь, пусть он женится и уезжает.
Едва гости удалились, товарищи обрушились на сослуживца: как мог он скрывать от них столь важное решение? не боится ли жениться на француженке? хороша она? блондинка или брюнетка? когда они увидят ее? когда свадьба? кто будет венчать? Розников советовал обратиться к отцу Матвею, который служил в обрамлении гренадеров, святой человек и бонвиван при этом, его благословение – залог долгого союза. Оглушенный Николай был счастлив, но не мог не испытывать смущения: до сих пор грядущая женитьба была их с Софи тайной, теперь о ней знают все, она стала реальностью, каждый может обсуждать ее, рассматривать со всех сторон… Вокруг раздавались крики:
– Вот это да!.. Надо срочно выпить!.. Чего мы ждем?.. Позовите музыкантов!.. Выпьем за здоровье очаровательной Софи!..
Откуда они знают, что ее зовут Софи? Наверное, дело рук Ипполита, который возбужден был более других:
– На стол, неверный!
Озарёв пытался отвертеться, но его подняли силой. Вокруг радостные лица, сверкали глаза и зубы, пенились стаканы. Вряд ли он заслужил этот праздник. Присутствующие требовали речи.
– Ничего не могу сказать, – промямлил он. – Только то, что счастлив и что… что никогда не забуду вас… и… даже вдали от армии… останусь верным ее духу. За царя, отечество и веру!..
– Ура! – кричали его товарищи.
Розников протянул ему бутылку рома и потребовал, чтобы Николай выпил ее до дна:
– Мы не позволим тебе спуститься! Это наказание за то, что ты предпочел нам женщину! Покажи, на что способен! Итак…
Озарёв щелкнул каблуками и приставил бутылку к губам.
– Вперед! – скомандовал Ипполит.
Остальные запели.
Запрокинув голову, виновник пиршества смотрел на верх палатки, туда, где сходился на конус ее круг, и круговое движение это навевало на него тоску. Огненным ручейком проникал в него ром. Щеки горели. Он чувствовал себя все более одиноким и грустным. Проглотив последнюю каплю, бросил бутылку на землю, она упала с глухим звуком, вероятно, в траву. Ему рукоплескали. На ватных ногах спустился со стола. Голова раскалывалась, перед глазами маячили серебристые мушки. Розников дружески обнял его за плечи и спросил:
– Как ты себя чувствуешь?
– Прекрасно! – ответил товарищ, едва ворочая языком.
– Продолжим?
– Да!
– Вот это человек! Береги силы – они понадобятся тебе для объяснения с Софи!
– Софи! – прошептал Николай. – Софи!..
Голова пошла кругом, он рухнул на землю.
9
– Теперь, Николай, расскажите мне все, – сказала Софи. Молодые люди устроились на диванчике в гостиной дома Ламбрефу. – Как прошел парад?
– Превосходно! Но поговорим об этом позже, когда придут ваши родители. У меня есть более интересные новости.
Он взял ее руку, поцеловал.
– Вы меня интригуете.
– Хорошо. Не стану терзать вас. Все устроилось! Царь лично известил меня, что не станет препятствовать ни моей отставке, ни моей женитьбе!
Жених был горд собой, счастливо смотрел на невесту, которая, впрочем, казалась скорее не слишком заинтересованной этим сообщением. Неужели не понимает всей его важности? Разочарованно, он пробормотал:
– Его Величество был так добр ко мне… к нам!
– Я понимаю ваши чувства, но благословение государя мало для меня значит рядом с благословением вашего отца.
Озарёв пал духом – Софи не отступала в своем упорстве, и никогда не сможет он ничего с этим поделать.
– Вы все еще не получили ответ?
Молодой человек был готов произнести привычное «нет», но ответ замер у него на губах. Он точно перестал быть самим собой, словно со стороны услышал своей беспечный голос:
– Получил.
Она вздрогнула и наклонилась к нему.
– Ваш отец написал вам?
– Да.
– Когда вы получили письмо?
– Два… да, два дня назад, в Вертю…
– И вы только теперь говорите мне об этом?!
Озарёв старался вести себя как можно естественнее, но улыбка вышла у него напряженной.
– Я хотел сделать вам сюрприз по возвращении.
– Какой сюрприз! Вы сошли с ума! Скажите, наконец, он – согласен?
Николай глубоко вдохнул, щеки его раскраснелись, кровь застучала в висках:
– Да, Софи, согласен.
Впервые она показалась обрадованной, но тут же взяла себя в руки, словно не веря в удачу:
– Вы убеждены?
– Конечно!
Прощайте, двадцать лет честной жизни! А вдруг Софи по глазам его поймет, что он ее обманывает?
– А письмо, оно с вами? – не унималась она.
Дрожащими пальцами Николай вынул его из кармана, протянул невесте.
– Но как я смогу прочитать его? Оно же по-русски!
– Да, мы с отцом всегда пишем друг другу по-русски.
Озарёв все острее ощущал свою вину, но, странное дело, тем больше любил Софи, ее доверчивость, прямоту.
– Что говорит ваш отец?
– Что?.. Что он очень рад и… благословляет нас…
– Именно в таких словах?
– Несомненно!
– Переведите мне место, где он говорит о нас.
Кровь бросилась ему в лицо, он не мог поднять глаза и все же согласился:
– Хорошо.
Софи протянула письмо. Склонившись над ним, Николай взывал к Богу. Отступать было поздно. Он читал по-русски: «В твои годы не следует сочетаться браком с женщиной, чьи вкусы и характер сформировались под влиянием первого мужа… Не гневи Бога, не отказывайся от уготованного им, вступая в столь невыгодный союз…» И переводил на французский: «Дорогой мой сын! В твои годы пора думать о женитьбе, я счастлив, что ты нашел ту, чьи вкусы, интересы, надежды, устремления совпадают с твоими, чья красота пленяет тебя. Не гневи Бога, не отказывайся от уготованного Им союза. Прошу тебя сказать ей, что…»
Озарёв растерялся и пробурчал:
– Понимаете, так непросто найти подходящее слово!.. Простите…
– О, Николай!
Глаза ее наполнились благодарными слезами, он же винил себя в этом призрачном счастье, а потому счел за лучшее продолжать: «Прошу тебя сказать ей, что… я приму ее как родную дочь…»
Стыд и горечь мешали ему читать дальше. Почему отец не написал так? Почему лишил сына былой любви и уважения к себе? Все было бы так просто! Как все это ужасно! Он не справится с выбранной ролью, еще несколько секунд, и страшная правда вырвется у него вместе с рыданиями! Это будет конец их любви, конец всему в этом мире! Собрав последние силы, Озарёв произнес: «И что я благословляю вас…»
Последовавшее молчание показалось Николаю громом небесным. Из оцепенения его вывела Софи. Приблизившись к нему, лаская его своим дыханием, она прошептала:
– Спасибо! Теперь я спокойна. Мы поженимся, когда вы захотите. Мне не терпится познакомиться с вашим отцом и вашей сестрой… Я их уже полюбила!
Он обнял ее, коря себя за обман. «В какую бездну я шагнул! Чем искуплю свою вину перед Софи, перед родными? Как только мы поженимся, клянусь, открою ей все!» Но обещание это лишь отчасти успокоило Озарёва.
Часть III
1
Софи вглядывалась в даль, туда, где сливались жемчужно-серое небо и сине-зеленое море, где холодный свет убивал всякий цвет, стирал какой бы то ни было рельеф, навевая печаль. То тут то там в густом тумане возникали силуэты кораблей-призраков с перламутровыми парусами и черными снастями – рыбацкие барки. Берега Финского залива скрывались за пеленой облаков, невероятно спокойное море казалось удивительно плотным, похожим на отливающую серебром непрозрачную ткань. В этом сонном царстве неспешно и почти бесшумно скользил их корабль – трехмачтовое русское торговое судно, двенадцать дней назад, двадцать пятого октября, отбывшее из Шербура. Несмотря на размеренность этого плавания, Софи так и не смогла привыкнуть к ощущению слегка покачивающейся под ногами палубы.
Человек двадцать пассажиров собрались наверху, чтобы не пропустить мгновение, когда впереди покажется Россия. Николай все не появлялся – вместе с Антипом занимался багажом. Поднимется он наконец или нет, женщина начинала сердиться: ей хотелось, чтобы муж непременно был рядом с ней, когда корабль войдет в порт. Думая о том, что уже совсем скоро ступит на русскую землю, она и радовалась, и ужасалась, вспоминала грустные перешептывания родителей накануне ее свадьбы, напутствие католического священника, на чем настаивали мать и отец, церемонию в православной церкви в Елисейском дворце, где были лишь близкие друзья семьи, Пуатевены и несколько приятелей Озарёва, которые, сменяя друг друга, держали тяжелые короны над головами новобрачных. Хор, состоявший из солдат, исполнял нежнейшие гимны, голос бородатого священника, утопавшего в золотых одеяниях, напротив, казалось, доносился из земных глубин. Когда молодые обменялись кольцами, он поднес к их губам кубок с вином, перевязал им руки шелковым платком и трижды обвел вокруг аналоя, чтобы приучались идти в ногу. Странный этот ритуал не вызвал бы у Софи ничего, кроме улыбки, если бы не выражение лица Николая: воистину, в эти мгновения Озарёву казалось, что сам Господь спустился с Небес и благословляет их. Во время торжественного обеда, который давали Ламбрефу, молодой человек не сводил с жены тревожного, почти виноватого взгляда, будто считал себя недостойным ее, и не мог вообразить иного наслаждения, кроме как созерцать ее. Впрочем, в ту же ночь доказал обратное.
Она вспоминала и первые его ласки, и формальности, связанные с его отставкой и оформлением паспортов, их сборы, на которые ушло еще две недели. Софи неловко было жить с мужем в родительском доме: порой стыдно было за свое счастье, порой хотелось показать, что рада своему выбору, хотя ни мать, ни отец ни разу не упрекнули ее за это легкомысленное, с их точки зрения, решение. Николай своей предупредительностью покорил их, они почти не плакали, провожая молодоженов в Шербур. Так и запомнились два стоящих рука об руку старичка, чьи голоса терялись среди криков грузчиков и форейторов, грохота копыт: «Будь счастлива! Прощай! Прощай! Когда-то увидимся вновь?»
Слова эти тогда почти не тронули дочь, теперь она думала о них с грустью. И все же нисколько не сожалела, что рассталась с родными, чьи взгляды и образ жизни так отличались от ее собственных. Мать, женщина большой души, была довольно суетной и простоватой, отец, пропитанный идеями ушедшего века, – одним из самых светских, обаятельных и поверхностных парижан. Овдовев, госпожа де Шамплит немедленно дала понять им, что желает быть независимой, занялась политикой – это развлекало ее, одновременно продолжала дело мужа, бывшего для нее существом высшим. Она стала увереннее держаться, в ее повадке появилось что-то мужское. Появление Николая изменило ее до такой степени, что та, заинтересовавшаяся политикой женщина, казалась ей теперь чуждой. Влюбившись в своего будущего мужа, Софи обнаружила в себе душу юной девушки, и казалось невероятным, что когда-то она принадлежала другому мужчине. Госпожа Озарёва! Француженка кокетливо склонила головку, словно примеряя новую шляпку. Впрочем, и сомнения не покидали ее: не слишком ли она воодушевлена? что найдет в России? И в который раз успокоила себя, вспоминая рассказы мужа о его отце и сестре, с нетерпением их ожидавших, заранее испытывая привязанность к ним, будучи уверенной в теплом приеме, и даже начав учить русский, чтобы понравиться им.
Налетел ветерок, путешественница подняла воротник. Она наслаждалась пахнувшим солью и смолой воздухом. Вдалеке звонили колокола. Жизнь вокруг заметно оживилась: сквозь туман прорезались десятки мачт, показались военные корабли под белоснежными парусами, сотни лодочек покачивались на волнах. Уже виднелся берег – плоский, болотистый, чахлые, а то и засохшие березки. Казалось, местами земля лежит ниже уровня воды. Вот и каменная громада Кронштадской крепости. Пассажиры собрались по левому борту, корабль бросил якорь.
Подошел Николай, обнял жену за плечи. Она взглянула на него – супруг был чудо как хорош: гражданское платье – стального цвета редингот и шляпа – шло ему больше военного мундира. Софи сама выбирала ткань для редингота, это была первая их совместная покупка.
– Друг мой, вас не было так долго! Еще немного, и мне пришлось бы сойти на берег одной! Но почему корабль остановился?
Они все еще были на «вы», хотя давно обещали друг другу перейти на «ты».
– Наверняка, какие-то формальности, – ответил Озарёв.
И показал на суденышки, которые отошли от острова и направились к ним. Полицейские и таможенники поднялись на борт, капитан приветствовал их. Некоторое время спустя пассажирам предложили пройти в большую залу, где за длинным столом обосновался настоящий трибунал. Посыпались вопросы:
– Фамилия? Имя? Дата рождения? Рекомендации? Зачем приехали в Россию? Надолго? Не связан ли визит с выполнением тайной миссии? Нет ли чего противозаконного в ваших планах?
У отвечающих, даже самых достойных, вид был виноватый. К русским недоверия было не меньше, чем к иностранцам. Чиновники открывали паспорта и буквально через лупу рассматривали визы, другие перелистывали какие-то списки, сверяли что-то, заносили фамилии. Софи никак не могла понять, что происходит, и, поднявшись на цыпочки и вытянув шею, шепотом спросила:
– Что они ищут? У нас на борту злоумышленник?
– Да нет. Обычная процедура. Все наши перемещения – под контролем.
– Почему?
– Потому что в такой огромной, разнообразной, малообразованной стране, как Россия, только сильная власть в состоянии держать народ в руках.
Николай говорил тихо, уголком глаза наблюдая за женой. Как жаль, что они прибыли в такой серый день! Ему хотелось, чтобы сияло солнце, все вокруг сверкало чистотой, улыбками, но первое впечатление от Петербурга – бледные, подозрительные лица полицейских и таможенников. Несомненно, ее не могут не возмущать все эти обязательные для России меры предосторожности – в Европе люди перемещаются свободно. Вдруг она решит, что променяла независимость на атмосферу подозрительности и страха? Озарёв неожиданно почувствовал себя виноватым перед ней, мысль эта привела его в ужас. Со дня на день он все откладывал объяснение, Софи до сих пор не подозревала, на какой лжи покоится их счастье. Поначалу поклялся рассказать ей правду на другой день после венчания, потом решил дождаться отъезда, теперь думал заявиться в Каштановку и лишь после этого поговорить с женой – личная встреча лучше любых писем, отец, конечно, сдастся. Эта грядущая победа несколько смягчала чувство стыда, с которым молодой человек жил, ожидая решительного штурма, дни и часы до которого с замиранием сердца отсчитывал: «Если все будет хорошо, через неделю мы будем дома!»
– Проходите, прошу вас! – раздался чей-то сухой голос.
Направляясь в каюту, Озарёв мечтал, чтобы полицейские были любезны. Они оказались почтительны сверх меры: жандармский офицер с напомаженными усами взял документы, по-русски поздравил Николая с женитьбой, по-французски приветствовал его супругу. Впрочем, паспорта все равно забрали до следующего дня, когда их можно будет получить уже в Петербурге. К Антипу отнеслись с не меньшим вниманием, по счастью, его бумаги были в полном порядке. К тому же он не имел права дольше оставаться в армии, так как ушел на войну в качестве крепостного слуги.
На палубе чиновники набросились на багаж. Несколько пассажиров исчезли в каюте, где их собирались подвергнуть обыску. Вернулись они похожими на провинившихся школьников: раскрасневшиеся лица, одежда в беспорядке. Полная дама, которую обыскивали с особой тщательностью, кричала, что будет жаловаться в английское посольство. Николай негодовал при мысли, что подобную процедуру придется пережить и Софи, но ее беспокоить не стали, таможенник только перевернул вверх дном всю их поклажу.
Наконец, и пассажиры, и багаж оказались на корабле поменьше, который направился к столице. Через три часа он вошел в Петербург и причалил у гранитной набережной. Снова полицейские, таможенники, допросы, обыски, словом, окончательный контроль.
Оказавшись на твердой земле, Софи никак не могла избавиться от ощущения шаткой палубы под ногами. И хотя за двенадцать дней путешествия ей ни разу не было дурно, здесь вдруг почувствовала тошноту, все вокруг было словно в тумане. Заметив что-то неладное, муж поспешил поддержать ее. Антип занялся багажом. Пронзительно кричали чайки, горланили кучера, зазывая пассажиров. Между молочной водой и свинцовым небом зеленели крыши, над ними возвышались луковки церквей, прорезала небо золотая игла Адмиралтейства.
И вот уже подбежали мужики, длинноволосые и бородатые, в меховых армяках, с какими-то лохмотьями на ногах. Подхватили чемоданы и сундуки, потащили к повозке. Николай бросил им несколько монет, в знак благодарности те низко кланялись, видеть это раболепие было мучительно.
Воздух казался недвижим, но тем не менее заметно посвежел. Дождя не было, надвигался туман, водяная пыль пронизывала все вокруг.
Озарёв помог супруге взобраться в экипаж, запряженный исхудавшей лошадью. Кругленький, заросший волосами кучер в облезшей меховой шапке щелкнул кнутом. Тронулись. Повозка с багажом, на которой восседал Антип, плелась позади. Николай взял Софи за руку:
– Вот мы и дома! Это – твоя новая страна!
Она почти ничего не видела за пеленой разошедшегося дождя. Ехали по набережной, обрамленной дворцами, на штукатурке фасадов которых явственно проступали следы воды. Некоторые окна были уже освещены, в них виднелись хрустальные люстры, зелень растений. Вдруг перед ними возникла площадь, на которой застыл, словно возмущенный нарушенным покоем, всадник – Петр Великий работы Фальконе. Рядом возвышалось Адмиралтейство – мощные стены, башня с колоннадой, золотой шпиль, устремленный в небо. Дальше – серая громада Зимнего дворца, резиденции русских царей. Впрочем, Александр еще не вернулся в столицу: уладив дела с союзниками, он отправился в Варшаву создавать новое Королевство Польское, присоединив к нему территории, которые удалось урвать у Пруссии и Австрии. Повернули направо и выехали на прямую, широкую, торжественную улицу, где ветер и дождь развернулись во всю мощь, нападая на сгорбившихся прохожих:
– Невский проспект.
Софи успела заметить дворцы, магазины, церкви. Вывески с непривычными русскими словами. Экипажи мчались во весь опор, при встрече обдавая друг друга грязью, ржали кони, скрипела сбруя. Николай сказал жене, что неподалеку дом его отца, который теперь в запустении, и лучше им остановиться в гостинице.
Ей же хотелось одного – поскорее добраться куда-то, от влажного холода не было никакого спасения, он проникал сквозь самую теплую одежду. Наконец, экипаж остановились у подъезда, освещенного двумя фонарями. Засуетились слуги. Пропахший супом вестибюль украшали тропические растения, но на вешалке – сплошь пальто, шарфы, меховые шапки, внизу рядком – множество галош. Хозяин лично вызвался провести вновь прибывших в их номер.
Комната оказалась просторной, с высоким потолком. Две кровати, шкаф, диван с кожаными подушками. От облицованной плиткой печи шло восхитительное тепло. Между двойными рамами был насыпан песок. Через окно виднелся двор, заваленный дровами. Едва за хозяином закрылась дверь, женщина прижалась к супругу, но покой их немедленно нарушили грузчики, позади которых шел «порожняком» Антип.
Софи с удовольствием поужинала бы за общим столом, но муж предпочел, чтобы еду, пусть и холодную, подали в номер: «Нам будет лучше вдвоем!» На самом деле, он опасался встретить знакомых, ни одна живая душа в России не подозревала о его женитьбе, и, не получив отцовского благословения, ему приходилось жену скрывать. Озарёв решил на следующий день нанять более удобный экипаж и выехать в Каштановку. Дорога не близкая – пять дней. Его любимой, напротив, хотелось задержаться и лучше рассмотреть Петербург, отдохнуть. Но Николай был неумолим: «Если мы не поторопимся, дороги развезет!» Пришлось подчиниться.
На другой день он посоветовал ей не выходить из номера, пока сам пойдет за паспортами и займется подготовкой к отъезду. Софи отнеслась к этому с удивлением, если не с недоверием:
– Почему вы не хотите, чтобы я вас сопровождала?
– Просто… думал, вы устанете…
Вышли вместе. Низкое серое небо, многолюдные улицы. Молодой человек боялся смотреть по сторонам, не дай бог, заметишь известное по прежним временам лицо! Чем ближе к центру города, тем больше ему было не по себе. Конечно, он прожил здесь слишком недолго, чтобы завязать многочисленные связи, но достаточно какого-нибудь отправившеося на прогулку дядюшки или кузины с острым взглядом, выходящей из экипажа. Как представить им Софи? Та же, не подозревая о терзавших его муках, наслаждалась прогулкой. Она выспалась и ощущала прилив сил. С любопытством смотрела вокруг, забавлялась красочными вывесками магазинов, просила перевести.
– Гуляя по Невскому, словно перелистываешь книгу с картинками! Что это за церковь? Чей это дворец?
Он отвечал, не без стеснения. Едва заканчивал объяснять, как раздавался новый вопрос. Большинство встречных одеты были в военную форму. Мужики в тулупах соседствовали с хорошо одетыми господами и дамами, чьи туалеты не затерялись бы и в Париже. За элегантными колясками тащились крестьянские повозки с душераздирающе скрипучими колесами.
– Сколько контрастов! Одна нога – в средних веках, другая – в современности. Даже небо отлично от парижского. Мне нравится этот северный свет…
– Да, да, – бормотал Озарёв. – Скорее…
– Что-то вы мрачны, друг мой. Как будто возвращение в Россию радует вас гораздо меньше, чем меня мой приезд сюда!
Он засмеялся, потом посерьезнел – впереди показался некто, очень похожий на приятеля отца. Николай увлек жену в боковую улочку.
– Куда мы идем?
– На почтовую станцию. Здесь недалеко…
Минут через десять они оказались на берегу узкого канала.
– Но это же Венеция! – удивилась Софи.
– Я рад, что вам нравится Петербург!
2
Дождь лениво стучал по крыше коляски, кучер, в облаке пара, покачивался в такт ухабам, тулуп его ощетинился каплями воды. Время от времени он о чем-то громко беседовал с лошадьми. Прижавшись к Николаю, Софи дремала под стук копыт, скрип коляски, перезвон колокольчиков, монотонно мелькали верстовые столбы. Промозглый ветер бил в лицо, забирался под полог. Дрожа всем телом, она думала о несчастном Антипе, который путешествовал вместе с багажом сзади, между двух колес, открытый всем стихиям. Завернувшись в какую-то шкуру, он почти не отличался от окружавших его тюков. Тем не менее вовсе не жаловался, напротив, спрыгивал на каждой остановке с веселой гримасой на физиономии.
Путешествие продолжалось уже два дня, а пейзаж ничуть не изменился: перед ними расстилалась серая, усеянная лужами, равнина. При звуке колокольчиков в небо поднимались стаи ворон. Иногда на горизонте возникали несколько голых, зябких березок или темный ельник. Вдруг среди этой казавшейся безжизненной пустыни вырастала деревня – жалкие домишки теснились вокруг церкви, остолбеневшие от шума, замирали девчушки в саду, мужик на телеге, груженной дровами. И вновь бесконечное, безмолвное, бесцветное, легкое пространство, в котором терялись и взгляд, и мысль.
Каждые двадцать верст останавливались на почтовых станциях, как две капли воды похожих одна на другую. До сих пор им хватало и лошадей, и ямщиков. Озарёв рассчитывал добраться до Пскова за три дня при хороших лошадях и погоде. Но дождь усиливался, вся в колдобинах и камнях дорога на глазах превращалась в грязное месиво. Внезапно путь преградило болото, колеса увязли. Кучер возвел руки к небу, возвещая о невозможности одолеть это препятствие. Николай наклонился вперед, схватил его за шиворот и встряхнул с такой злобой, что Софи испугалась: муж никогда не позволил бы себе обойтись подобным образом со слугой-французом.
– Отпустите его. Он ничего не может сделать!
– Мог! – возразил ей супруг, продолжая колотить несчастного по спине. – Дурак, он должен был ехать через поля!
Кучер вяло протестовал, раскачиваясь на козлах, словно ванька-встанька, и приговаривая:
– Ах, барин, барин…
Это единственное, что могла понять парижанка. В конце концов мужик соскочил вниз, к нему присоединился Антип. Вдвоем, утопая в грязи, возились с упряжью, барин сверху давал советы. Оттого ли, что сильно гневался или говорил по-русски, но жена не узнавала его. Едва вернувшись в Россию, он стал похож на своих соотечественников, презирающих тех, кто стоит ниже. Да, трудно не изображать хозяина, когда вокруг столько выросших в страхе рабов! Впрочем, спуститься пришлось и ему: Антип и кучер толкали колеса, Озарёв вел лошадей. Экипаж вздрогнул, покачнулся и выкарабкался на твердую землю.
Снова тронулись. Ударами кнута по лошадям кучер возмещал нанесенные ему побои. Через десять минут сломалась ось, коляска накренилась вправо. Софи спрыгнула на землю, ноги немедленно увязли в грязной жиже. Дождь перестал, легкий ветерок взъерошивал равнину.
С помощью Антипа кучер заменил сломавшуюся ось простой деревяшкой, которая была у него в запасе: до остановки должна была продержаться!
К вечеру добрались до почтовой станции, где царило небывалое оживление: конюхи запрягали две повозки, за их работой наблюдали жандармы, один из них держал саблю наголо, словно часовой. За ним путешественница заметила человек десять мужчин, стоящих спиной к стене. Исхудавшие, бледные, измученные, с ничего не выражающим взглядом, в лохмотьях, казалось, они принадлежат какому-то иному миру. У ног их покоились большие чугунные шары, лодыжки связаны были цепями.
– Кто это? – спросила Софи.
– Приговоренные к каторжным работам, – сказал Николай. – Их перевозят по этапу в Сибирь.
– Что они сделали?
– Откуда я знаю…
– А если спросить у жандармов?
– Ничего не скажут. Скорее всего, это убийцы, воры или крепостные, восставшие против своих хозяев…
– Неужели непослушание – такое страшное преступление?
– Конечно.
Какие-то люди вышли на улицу: тепло одетые мужчины и женщины, оживленные после хорошего обеда, готовились продолжить путь. Проходя мимо заключенных, дали им милостыню: монетки опускались в скованные морозом, черные от грязи ладони. Несчастные крестились в ответ, бормотали что-то и низко кланялись.
Жандармы безразлично наблюдали за происходящим.
– Это отвратительно, – сказала Софи.
Озарёв объяснил, что нет ничего необычного в такого рода попрошайничестве:
– Каковы бы ни были их грехи, несчастные, которых ссылают на каторгу, имеют право на христианское милосердие.
Она приблизилась к заключенным и, схватив горсть мелочи, которую муж извлек из карманов, не раздумывая, высыпала все в первую протянутую к ней руку. Взглянула на заросшее, грязное лицо с вырванными ноздрями и налитыми кровью глазами. Человек смотрел на нее с собачьей покорностью. Потом повалился ей в ноги, стал целовать платье. Женщина отступила – кто он? в чем его вина? сколько лет придется провести ему в Сибири? – переполненная стыда, жалости, отвращения, смотрела на его сгорбившуюся спину, слышала сиплый голос, мямливший слова благодарности. Николай увел ее в дом, но, едва отогревшись у печи, та подошла к окну.
Каторжники садились в телеги, предназначенные для транспортировки скота на небольшие расстояния. По шестеро в каждую. Заскрипели оси, обоз тронулся в сопровождении жандармов: один впереди верхом, остальные – позади, в колясках.
Двор опустел. Софи обернулась к супругу, мрачно глядевшему на нее:
– Мне очень горько, я не хотел, чтобы вы встречались с чем-то подобным…
– Но я должна привыкать, – улыбнулась она сквозь отчаяние. – И я не хочу судить об этой стране по первому впечатлению.
– Да, вы правы. Сейчас вы смотрите на нас взглядом постороннего и судите так же. Все, что вам непривычно, вызывает раздражение и возмущение. Но когда вы поживете здесь, вглядитесь в плохое и хорошее, поймете, что жить здесь можно, и люди здесь счастливы не меньше, чем во Франции. Просто по-другому…
Коляска требовала серьезного ремонта, а потому решено было провести ночь на почтовой станции. Здесь, посреди большой комнаты, на столе непрестанно дымил самовар, у печки вытянулись на кожаных диванах двое путешественников, крупная светловолосая девушка, позевывая, возилась возле буфета с гирляндами колбас, там же стояли бочки с селедкой. Николай с презрением отверг эти гастрономические изыски и отправил Антипа за холодной курицей из их дорожных запасов. Хозяин предложил им комнату с двумя кроватями для особо важных гостей. Перед тем как лечь, молодожены внимательно обследовали матрасы, в которых, к великому удивлению, не оказалось клопов, и тут же счастливо заснули.
Только к утру страшный зуд заставил их немедленно покинуть постели. Занимался голубоватый день. Софи выглянула в окно и ахнула – все вокруг побелело от снега, который продолжал неспешно падать. Она была счастлива, словно за ночь кто-то приготовил для нее волшебный подарок. Бросилась целовать Николая, спрашивая, смогут ли они немедленно продолжить путь, несмотря на ужасную погоду. Но, оказалось, что погода ему плохой не кажется и снег в России никого не пугает.
Быстро одевшись, они позавтракали ситным хлебом с медом и чаем. Антип всю ночь провел подле багажа, но тем не менее выглядел вполне отдохнувшим. Хозяин почтовой станции был в отчаянии: на заре ему пришлось выдать сначала четверку государственных лошадей какому-то генералу, потом еще три предводителю псковского дворянства, теперь у него остались только две собственные лошади, у одной из которых повреждено колено, а перед домом расхаживал, потрясая официальным разрешением, правительственный курьер и требовал немедленно обеспечить ему тройку.
– Да, не успели мы вовремя уехать, – вздохнул Озарёв и объяснил жене, что гражданские и военные чиновники имеют право на определенное количество лошадей, в зависимости от занимаемой ими должности. Он, как поручик в отставке, имеет право лишь на самых скромных тварей и столь же незамысловатый экипаж, за тройку и карету, положенные восьмому разряду, то есть коллежскому асессору или майору, должен доплатить немалую сумму. Подобное деление людей на категории в соответствии с пользой, которую они могут принести отечеству, показалось Софи в высшей степени несерьезным, но сказать об этом мужу она не решилась, так как он, очевидно, придерживался противоположного мнения. Хотя, должно быть, титул, эполеты, официальное письмо, грозный взгляд и крик действительно обладали магической силой – через десять минут после того, как курьер выругал на чем свет стоит хозяина станции, тот, кланяясь до земли, объявил, что тройка ждет во дворе.
Когда этот важный субъект исчез под перезвон колокольчиков в снежной дали, Николай пообещал хозяину накатать жалобу на страницу в книге отзывов, если немедленно не получит свежих лошадей. Тот стал рвать на себе волосы, пробовал плакать, клялся, что сделать ничего не может, а затем послал мальчишку в деревню попробовать раздобыть лошадей.
– Что делать с Антипом? – спросила Софи. – Ведь не может он ехать снаружи в такой холод!
– Еще как может! Он хорошо закутан.
Сообразив, что говорят о нем, слуга пристально посмотрел на господ, теребя в руках шапку. Озарёв перевел ему опасения супруги. Тот улыбнулся щербатым ртом с желтыми зубами и радостно проговорил:
– Да как я могу замерзнуть, когда дом рядом!
– Ты рад вернуться? – обратился к нему молодой человек.
– Конечно, барин. Что такое Франция? Чужая сторона. Люди там и говорят, и живут по-другому. Россия – вот истинно христианская страна. И барыня, даром что француженка, а, кажется, рада тому, что видит здесь!
– Да, надеюсь, она не будет разочарована.
– Конечно. Ведь никто ей плохого не сделает. Хорошую жену вы себе выбрали, барин! Добрая, мягкая, личико светлое! А когда говорит, будто ручеек журчит! Я ни слова не понимаю, а все равно нравится, словно жажду утолил! Батюшка ваш почтенный счастлив будет ее увидеть! И сестрица тоже! Уверен, все с нетерпением ожидают вашего приезда, пироги пекут!..
Потом задумался и добавил:
– Наверное, и мне надо жениться! Вот вернусь в деревню, там девок хватает! – подмигнул Антип. – Да, так и поступлю, если ваш батюшка, Михаил Борисович, разрешат…
Эти слова заставили Николая вздрогнуть – за последние дни он не вспоминал о грозном нраве хозяина Каштановки, а час расплаты неумолимо приближался, встреча была не за горами. Озарёв, видимо, приуныл и прервал слугу:
– Хватит болтать, узнай, что там с лошадьми!
– О чем вы говорили? – спросила Софи.
– Так, ничего интересного… Ему хочется скорее добраться до дома!
– И мне тоже! Ведь настоящая наша жизнь начнется только по окончании этого путешествия. Расскажите еще о вашем отце и сестре…
Он больше всего боялся таких разговоров: чем увлеченнее расспрашивала его супруга, тем сильнее были угрызения совести. Уж лучше бы была равнодушна к будущим родственникам! От затруднительного положения спас Антип:
– Лошади уже здесь, барин!
Кучером оказался мальчишка лет пятнадцати, что удивило парижанку, но муж успокоил ее, объяснив, что ребята в этом возрасте ничем не уступают взрослым мужчинам. Они и впрямь мчались во весь опор, только свежевыпавший снег сдерживал бешеное движение колес, иначе на первом же повороте коляска опрокинулась. До самого горизонта все было белым-бело, тишину нарушал лишь перезвон колокольчиков. Неторопливо падали снежинки, превращаясь в капельки воды у Софи на губах. Вдруг они стали гуще, злее, поднялся ветер, в мгновение ока замело дорогу и все исчезло в белой мгле. Женщина с испугом посмотрела на супруга, занесенного снегом, с бровями старика и щеками ребенка. Тот радостно смеялся:
– Не бойся! Это – метель!
Она вспомнила каторжных, которые ехали где-то в открытых повозках, закованные в железо. Сердце кольнула жалость, похожая на раскаяние. А Антип? Ему тоже, наверное, холодно среди багажа, позади коляски? Если вообще они не потеряли его по дороге. Мысль эта не покидала ее до следующей остановки. Но вот на краю дороги показалась почтовая станция с привычно побеленными фронтоном и колоннами. Лошади, фырча, въехали во двор. Софи не успела еще скинуть полог, который защищал ее от холода и снега, как снежный призрак устремился ей на помощь – Антип, целый и невредимый, с посиневшими щеками, ледышками на носу и неизменной шапкой в руках.
3
В Псков прибыли поздно вечером и решили по обыкновению заночевать на почтовой станции, которая оказалась большой и опрятной, здесь путешественникам досталась не только комната, но и чистое постельное белье. На другое утро Николай, смущаясь, объявил жене, что предпочитает отправиться в Каштановку один, на разведку – отец не любит неожиданных визитов, а потому лучше заранее предупредить его, чтобы подготовился к встрече с невесткой. Софи этот план вполне одобрила: ей самой надо было собраться с силами перед столь ответственным свиданием. Имение Озаревых находилось всего в пяти верстах от города, молодой человек рассчитывал к полудню вернуться. Обнимая любимую на пороге комнаты, нежно прошептал:
– До скорой встречи! Приходите в себя! Будьте красавицей!
Он смотрел на нее с обожанием и доверием, улыбался, но волновался так, будто отправлялся на дуэль с соперником, которому незнакома жалость. Мысли путались, не представляя, что скажет отцу, сын положился на волю Божью и был уверен в своей победе: Господь не допустит, чтобы с его избранницей, приехавшей сюда так издалека, обошлись несправедливо.
Стоя у окна, Софи видела, как супруг осенил себя крестом, прежде чем сесть в карету, ее в который раз позабавило, что русские во все свои дела впутывают религию. На этот раз Антип не должен был сопровождать хозяина. Низко склонившись, он стоял у ворот, пока коляска не отъехала. Потом выпрямился, поднял глаза к окну, увидел барыню и рассмеялся. Та тоже не могла сдержать смеха – успела привязаться к этому вечно паясничавшему человеку с всклокоченной шевелюрой и дубленой кожей, который одинаково хорошо переносил жару и холод, мог спать на чем угодно, есть неизвестно что, немного подворовывал, много молился, никогда не мылся и весь светился радостью жизни. «Этот человек – раб. И почему так счастлив своей судьбой? Что это? Беспечность, мудрость, лень, смирение?» Подняв руку над открытым ртом, слуга изобразил, как с упоением заглатывает селедку, ласково похлопал по животу и, смешно переваливаясь, направился к кухне.
Двор пустовал всего мгновение. Появились мужики с метлами и лопатами, принялись разбрасывать снег, и вскоре коляски, повозки, тарантасы оказались скрыты за снежной горой. Из конюшни шел пар, навоз сверкал, словно золотые слитки.
Путница долго наблюдала за происходившим во дворе. С каждым днем ее новая жизнь нравилась ей все больше. Франция казалась теперь такой крошечной и такой далекой!.. Она вышла в коридор и похлопала в ладоши. Николай приказал, чтобы его жене принесли горячую воду, как только попросит. В конце коридора появились две служанки с ведрами и деревянной лоханкой. Молодые, розовые, с платками на головах, в платьях из грубой материи на бретельках, вышитых блузках. Одна была босиком, несмотря на мороз, другая – в мужских сапогах, которые у нее на ногах собирались гармошкой. Они вылили воду в лохань и знаками спросили, не надо ли помочь. В ответ – отрицательное покачивание головой. Девушки сумели лишь насладиться запахом миндального мыла и видом прекрасного белья постоялицы, выпроводившей их за дверь, которую закрыла на засов.
Мытье заняло у Софи больше часа. Намывшись и надушившись, с наслаждением вытянулась на кровати и предалась мечтам. В углу, где висела черно-золотая икона, светилась лампадка, в печи уютно потрескивали дрова, тонкий ледяной узор украшал окна, в коридоре слышны были голоса. Несмотря на кажущуюся растерянность, женщина не боялась больше разочаровать близких Николая и самой оказаться разочарованной. Напротив, за несколько часов до встречи с ними вдруг испытала восхитительную уверенность привыкшей нравиться кокетки. На кресле разложена была тщательно подобранная одежда: бархатное золотистое, цвета пунша, платье с атласными бантами в тон, отложным воротником, пояс с пряжкой. Она наденет красивый капот с черными перьями, накидку на беличьем меху.
Ей не терпелось посмотреть, как будет выглядеть, а потому встала и стала одеваться перед висевшим над комодом зеркалом в овальной раме. Когда была готова, позвала служанок, чтобы те унесли ведра и лохань. Увидев ее, девушки сложили руки и закричали от восхищения. Барыня дала им денег и, не зная чем еще занять себя, стала воображать встречу мужа с родными.
* * *
Рано выпавший снег лежал по сторонам от дороги, превратившейся в мутный поток. Грязь летела из-под колес и из-под копыт. В конце черной еловой аллеи заметен стал просвет. Наклонившись вперед, волнуясь, ожидал Николай встречи с домом своего детства – огромным, квадратным, спокойным: розовая штукатурка, зеленая крыша, четыре колонны, поддерживающие фронтон. В окнах отражалось солнце. Перед крыльцом расплылась огромная лужа. Черный пес с отвислыми ушами набросился на коляску.
– Жучок! – закричал Озарёв.
Яростный лай немедленно сменился нежным потявкиваньем. Погруженный в воспоминания, молодой человек заметил вдруг, что исчезла со своего поста на повороте дороги старая ель, а на бане, полускрытой кустарником, новая крыша. Когда-то они с сестрой прятались в этом домишке от мсье Лезюра и нянюшки Василисы. Но сегодня он должен гнать от себя все эти милые приметы прошлого, иначе не сможет быть достаточно сильным, и перед отцом предстанет не зрелый, решительный мужчина, а боязливый подросток.
На дорогу вышли мужики с охапками хвороста. Они низко кланялись, не решаясь признать молодого барина, о приезде которого никто ничего не знал. Николай же глаз не мог оторвать от родных колонн, напряжение чувств было столь велико, что почти исчезло ощущение реальности происходящего. Озарёв спрыгнул на землю. Со всех сторон к нему бежали изумленно-радостные слуги:
– Господи! Это он! Он!
Появилась Василиса с лицом, словно составленным из четырех перезревших яблок: два – щеки, еще два – лоб и подбородок. Задыхаясь, бросилась обнимать своего воспитанника, целовала ему руки, приговаривая:
– Сокол ты мой! Вот и солнышко красное взошло! Благословенна будь, Матерь Божья, что позволила мне вновь увидеть тебя!
Слова эти не вызвали у прибывшего ничего, кроме раздражения, грубо высвободившись из объятий нянюшки, он взбежал на крыльцо, ворвался в прихожую, услышал слабый вскрик, и вот уже рядом была Мария.
– Николай, возможно ли это? Почему не предупредил нас? Боже, как я счастлива! Ты ведь не уедешь больше?
– Нет, – ответил брат, нежно ее целуя.
Сестра сделала шаг назад и с беспокойством взглянула на него:
– Но ты не в военной форме!
– Да, я вышел в отставку.
– То есть больше не служишь в армии?
– Да.
– Но это очень серьезный шаг.
– Вовсе нет.
– Почему ты решился на это?
– Позже объясню! Как отец?
Лицо Марии погрустнело, уголки губ опустились, порозовели щеки.
– Разве не знаешь? Он тяжко болел. Думали даже, что умрет…
Николай был поражен, мысли разбегались, он испытывал какой-то священный ужас. Бросив на сестру растерянный взгляд, пробормотал:
– Умрет?.. Как умрет?.. Что с ним случилось?..
– Воспаление легких. Если бы ты его видел!.. Когда случался новый приступ кашля, казалось, он отдаст Богу душу… Задыхался, бредил… Ему несколько раз делали кровопускания… Потом жар спал… Я сразу написала тебе. Должно быть, ты не получал письма…
– Нет. Но теперь, как он?
– Выздоровел, но очень слаб. Его надо оберегать. Любая усталость, любое раздражение…
– Когда он заболел?
– Полтора месяца назад.
Озарёв вздрогнул, пораженный совпадением: болезнь отца совпала с его сыновним неповиновением. Вот оно, наказание. И не смел больше взглянуть в глаза сестре, уверенный в том, что несет ответственность за произошедшее, пусть даже это не поддается никаким разумным объяснениям.
– Он вспоминает, говорит обо мне?
– Конечно! Вчера утром волновался, что от тебя долго нет вестей, хотел даже писать князю Волконскому!
– Надеюсь, не сделал этого?
– Нет! Я отговорила! Сказала, что ты не подаешь признаков жизни, потому что скоро появишься… Правда, у меня дар предвидения?
Она засмеялась. Ее свежее лицо с голубыми глазами и сочными губами в обрамлении золотых кудрей показалось ему не лицом шестнадцатилетней девушки, но взрослой женщины. «Как изменилась за эти несколько месяцев! Совсем другая фигура, черты прояснились, движения стали грациознее…»
– Впрочем, так ты мне нравишься даже больше, чем в военной форме! Все окрестные барышни придут в волнение!
Брат пожал плечами.
– Да, да. Знаю по меньшей мере двух, у которых забьется сердечко. Хочешь, скажу?
– Нет, прошу тебя.
Николай страдал от этого милого поддразнивания молодого человека, которым он больше не был и в само существование которого верил уже с трудом.
– Ты прав! Они не слишком хороши для тебя! Идем скорее! Отец у себя в кабинете. Как будет рад видеть тебя!
Мария взяла брата за руку, но тот не торопился, разглядывая висевшую над дверью голову волка с приоткрытой пастью, обнажавшей острые клыки, по обе стороны от нее – ружья, кинжалы. Все тот же запах зимнего дома: горящих поленьев, воска, солений. Воля его рассыпалась в прах.
– Я вернулся не один.
– С другом? – В голосе ее звучало любопытство.
– Нет, с женщиной. С женой. Я женился во Франции.
Открыв рот и крепко ухватившись за спинку кресла, она во все глаза смотрела на Николая. Лицо ее вновь погрустнело, подбородок дрожал.
– Отец знает?
– Нет. Я писал ему, просил, чтобы благословил этот брак. Он отказался. Я женился против его воли…
Сестра сжала пальцами виски, глаза ее наполнились слезами.
– О, как ты мог? – простонала она. – Как ты мог ослушаться отца?
– У меня не было выбора. Я был влюблен. Он не хотел этого понять. Уверен, он ничего тебе не рассказывал!
– Нет… Для него я все еще ребенок… Он ничего мне не рассказывает… А твоя жена, не та ли это прекрасная благородная француженка, о которой ты мне рассказывал, когда приезжал в отпуск?
– Да. Когда ты увидишь ее, не сможешь не полюбить.
Мария вытерла глаза ладонью.
– Это не имеет значения! Ты не должен был поступать так! Не имел права! Бог все видит, пусть он будет тебе судьей! Что ты собираешься делать?
– Сказать правду отцу.
– Ты сошел с ума! Он слаб еще, не полностью поправился, это убьет его!
Озарёв в замешательстве опустил голову: Мари права, болезнь все осложнила.
– Я пропал, – прошептал он. – Я не могу вернуться, не повидавшись с отцом. А если увижусь, разве смогу скрыть то, что у меня на сердце? Если же уеду, не повидав отца, что скажу Софи, как объясню, что не должен больше появляться в Каштановке?
– Где сейчас твоя жена?
– На почтовой станции в Пскове. Ждет меня. Готовится. Уверена, что приеду за ней и мы отправимся сюда вместе…
– Как все это ужасно! Я всем сердцем жалею ее. Но тем хуже…
Глаза ее грозно блеснули, голос стал хриплым:
– Тем хуже для нее! Тем хуже для вас обоих! Ты не должен ничего говорить отцу! Он стар, болен! А вы молоды! Полны сил! Устроитесь где-нибудь! Придумай что угодно, но только пощади его! Умоляю! Пусть останется в неведении!
– Опять ложь!
– Эту, по крайней мере, Бог тебе простит! Быть может, простит за нее и другие!..
Раздались шаги. Мари судорожно схватила брата за руку:
– Это он! Обещай, обещай мне, Николай!
Медленно отворилась дверь, и на пороге возник Михаил Борисович Озарёв в просторном халате, подпоясанном шнуром. Немного сгорбился, побледнел, постарел, но глаза все такие же живые. Молча ждал, пока сын покорно приблизится к нему. Тот почтительно поцеловал ему руку.
– Я знал, что ты появишься сегодня утром, – произнес отец.
Молодой человек был до такой степени поражен этими словами, что испугался, не лишился ли его батюшка рассудка. Они с сестрой жалобно переглянулись. Мари с натужным оживлением сиделки произнесла:
– Вы прозорливее меня! Признаюсь, только что, увидев Николая, подумала, что с неба свалился! Не правда ли, прекрасно выглядит?
– Да уж получше, чем я, – сказал Михаил Борисович. – Ты уже все знаешь?
– Да, Мари рассказала. Но теперь вы здоровы! Прочь все страхи!
Озарёв-старший расправил свои широченные плечи:
– Я не боялся! Столь многие ждут меня, что порой хочется присоединиться к ним! С другой стороны, так нехороши дела земные, так нехороши! Пойдем, поговорим по-мужски.
Николай последовал за отцом в его кабинет, где царил все тот же беспорядок, витал запах трубки, те же голубоватые блики лежали на черных кожаных креслах. Тяжелые зеленые шторы обрамляли окна, повсюду расставлены были малахитовые безделушки, пресс-папье и канделябры тоже были из малахита. Михаил Борисович открыл малахитовую коробочку, взял кусочек лакрицы, сунул в рот, уселся в кресло, указал на стул сыну. Молчание затягивалось. Хозяин Каштановки отдышался, пристально взглянул на него и неожиданно спросил:
– Кто эта женщина, с которой ты остановился на почтовой станции?
Сердце Озарёва-младшего бешено забилось.
– Да, – продолжал отец. – Я не просто так сказал, что ждал тебя сегодня утром, еще с вечера меня известили о твоем приезде в Псков. Тебя это удивляет? Ты должен был бы знать, что в деревне все становится известно быстро. Кто-то видел тебя на станции! В гражданском платье! Вышел в отставку по личным обстоятельствам!
Оглушенный, Николай подумал, что сцена эта выходит за рамки всего, что он мог предвидеть, ощущение собственного бессилия сковало его. Потом осознал, что не надо больше притворяться, и с облегчением вздохнул. Кто-то другой сообщил новость отцу, Мари не сможет упрекнуть его, что не пощадил батюшку.
– Говорят, она француженка, – не повышая голоса, сказал Михаил Борисович. – Думаю, это та женщина, о которой ты писал мне.
– Да, отец.
– Как согласилась она отправиться с тобой сюда?
– Потому что она – моя жена, – выдохнул сын.
Он напрягся, ожидая ответного удара, но гром не грянул, только Озарёв-старший будто вздрогнул. Глаза его блуждали, потом остановились на нем. Родитель плотно сжал губы, поднялся, сделал несколько шагов. Озарёв-младший сидел, не осмеливаясь нарушить молчание из боязни усложнить положение. Через несколько мгновений отец сел, сложив руки на коленях, во взгляде его была печаль, взглянул на сына и глухо произнес:
– Итак, ты женился без моего благословения.
– Простите, отец, но впервые нельзя было вам подчиниться!
– Нельзя? – подняв брови, спросил Михаил Борисович. – Почему, скажи, пожалуйста!
– Если бы я подчинился вашей воле, отказался бы от любви к женщине, которая заслуживает только восхищения!
– Да, конечно, – рассмеялся отец. – Любовь! Я забыл о любви! Что ж! Только о ней и надо думать в твои годы!
Улыбка странно смотрелась на его утомленном, мрачном лице. Неужели не сердится? И готов признать свое поражение? Эта утешительная перспектива укрепила Николая в мысли, что болезнь не прошла для отца бесследно.
– Да, – продолжал тот. – Война сделала тебя мужчиной. Ты получил право убивать, завоевал право жениться по своему усмотрению. Что воля отца против катастрофы, которая перевернула мир! Я больше ничего не значу для тебя!
– Нет, батюшка…
– Ладно, прочь любезности, теперь решаю не я, ты. Я должен привыкать к этому. В мой дом вваливаются, будто в трактир! Я последний обо всем узнаю!..
Он подавил гнев, успокоился, взгляд его смягчился.
– Моя жена достойна вашей любви и привязанности…
– Конечно! Конечно! Я верю тебе! Но, должно быть, она изнывает от ожидания в Пскове. Почему она не приехала с тобой?
– Я хотел прежде поговорить с вами, выразить вам свое почтение…
– Почтение? – отозвалось насмешливое эхо.
Возвышаясь над сыном, Михаил Борисович покачивал головой и бурчал:
– Почтение? Да? Тронут. Но это все лишние церемонии. В конце концов, раз эта женщина твоя жена, мы должны смириться с тем, что ее место в этом доме…
Николай ушам своим не верил, все препоны рассыпались сами собой, он шел на врага и обрел союзника. Да, тон, которым говорит отец, странен, но нельзя требовать от него слишком многого, его честолюбие задето, а ирония дает ему определенное утешение.
– Вы действительно хотите этого, батюшка? – поднимаясь, спросил Озарёв-младший.
Озарёв-старший развел руками:
– Твое счастье прежде всего, дитя мое!.. Старики на то и существуют, чтобы быть разгромленными!.. Шучу, шучу!.. Ты вовсе не сокрушил меня, просто отодвинул в сторону, вот и все!.. Как зовут мою невестку?
– Софи, отец, я писал вам.
– Прости, успел забыть! Софи! Софи! Софи Озарёва! Почему бы и нет? Конечно, она не знает ни слова по-русски!.. Но это не имеет значения, мы все говорим по-французски… Мне не терпится познакомиться с моей невесткой-парижанкой…
– Возможно ли это, отец?
– Конечно! Что в этом удивительного? Сегодня я немного устал… Но завтра… Приезжай завтра с ней… На обед… И на всю жизнь…
Сын потерял голову от радости, никогда, даже в самых безумных мечтах, не рассчитывал он на столь счастливый исход.
– Как мне благодарить вас? Вы – лучший из людей! Если бы вы знали, как я сожалею, что мучаю вас тогда, когда вы больше всего нуждаетесь в заботе и утешении!..
Михаил Борисович выпрямился, лицо его порозовело:
– Ошибаешься, Николай, никогда я не чувствовал себя лучше. До завтра. – Движением подбородка указал ему на дверь.
* * *
Каждый раз, заслышав шум экипажа, Софи с бьющимся сердцем бежала к окну. Все напрасно. Время шло, она нервничала, ощущая одновременно непонятное ликование. Наконец, во двор въехала коляска Николая. Пока муж шел к дому, супруга еще раз поправила прическу, разгладила манжеты и, светясь счастьем, распахнула дверь.
Ей так хотелось увидеть Озарёва веселым, но лицо его оказалось задумчиво. Не сказав ни слова, он бросил шляпу на сундук и обнял жену. Неужели даже не заметил нового платья? Щеки у него были холодные, поцелуй – снежным. Софи отстранилась, пристальнее взглянула на него и испуганно спросила:
– Как вы нашли отца?
– Не слишком хорош.
– Болен?
– Болел. И серьезно! Воспаление легких.
– Это ужасно. Немедленно едем к нему!
– Нет, он нуждается в отдыхе. Хочет видеть нас завтра.
Опасаясь, что слишком горько разочаровал ее, о чем свидетельствовали погрустневшие глаза, Николай продолжал с улыбкой:
– Как бы то ни было, он рад будет познакомиться с вами. Просил передать вам тысячу любезностей…
Ему было трудно говорить. Поздравив себя с победой, теперь был скорее обескуражен легкостью, с которой она досталась, испытывая угрызения совести при мысли, что успехом этим обязан отцовской усталости. Уж лучше бы тот метал громы и молнии и только потом уступил доводам рассудка.
– Итак, мы отправимся к нему завтра, – произнесла Софи. – Для меня это будет великий день.
Муж отошел на пару шагов, восхищенно оглядел ее с ног до головы и прошептал:
– Вы ведь наденете это платье? Оно так идет вам!
4
Сидя между Николаем и Мари в большой гостиной дома в Каштановке, Софи оживленно рассказывала о Париже, о путешествии, первых своих впечатлениях о России, но оживление это скрывало смущение, которое не покидало ее с первых мгновений их приезда сюда. Тесть не вышел им навстречу. Она объясняла это его болезнью, но огорчение не становилось от этого меньше. Появится ли к обеду, как уверяет Мари? Девушка показала молодоженам их комнату на втором этаже. Сестру мужа невестка нашла очень красивой, но чересчур застенчивой, дикаркой, с грустной враждебностью во взгляде. Мсье Лезюр, напротив, лебезил перед гостьей, пытаясь продемонстрировать жалкое легкомыслие. Он, например, собрал все французские книги, которые обнаружил в Каштановке, чтобы отнести их «в гнездышко молодой пары», и теперь ходил туда-сюда по коридору, клацая башмаками. Раздался грохот – на пол посыпались книги, Мари нервно рассмеялась.
– Господин Лезюр зря это затеял, – сказала Софи. – Я вовсе не спешу погрузиться в чтение!
– Пусть делает! – возразила девушка. – Ему так хочется вам понравиться! И не только ему! Все мы надеемся, что Каштановка придется вам по душе!..
В ее словах чувствовалась некоторая неестественность, гостья испытывала все большую неловкость. Растерянно взглянула на мужа, тот был сам не свой – скованный, настороженный.
– Может быть, ты сходишь к отцу, узнаешь, как он, – обратился Озарёв к сестре.
– Ему известно, что обед через полчаса, я не стану беспокоить его, когда он готовится к выходу.
Софи обернулась и увидела за окном двух крестьянок, прилипших носами к стеклу – они пробрались вдоль стены, чтобы полюбоваться женой молодого барина, которую тот привез из Франции. Обнаружив, что их заметили, девушки исчезли в мгновение ока в ужасе от собственной смелости. На смену им пришел рыжий мальчуган, которому, должно быть, пришлось встать на что-то, иначе не дотянулся бы до окна. Незнакомка улыбнулась ему, малыш испугался и немедленно испарился. Раздался звук оплеухи.
Сколько слуг в Каштановке? Двадцать? Тридцать? Сорок?.. – думала она, вспоминая, что уже видела няню Василису, ливрейного лакея с выбритым черепом, кучера в длинном голубом одеянии с малиновым поясом, пухленьких горничных с косами, в которые вплетены красные ленты, мальчишку в ситцевой рубахе, в обязанности которого входило бегать по коридорам и службам, передавая приказания, прачек, прислугу, повара-татарина, истопника с черными руками и опаленными ресницами, экономку с огромной связкой ключей на животе… И это только малая часть! К тому же Николай объяснил, что все это крепостные, занимающиеся работой по дому, но есть еще те, кто живет в деревнях и занимается землей.
– Извините, – прервала молчание Мари, – пойду взгляну, не надо ли помочь отцу.
И вышла, неловко ступая. Платье ее давно вышло из моды, как и все эти ленточки на корсаже и рукавах. Светлые волосы, заплетенные в косы и подобранные кверху, казались слишком тяжелыми для ее тонкой шейки. Руки опущены вниз, словно у пансионерки на прогулке.
– Ваша сестра очаровательна, – сказала Софи.
– Правда?
– Конечно! Сейчас для нее наступил переходный период, но через несколько лет вы увидите…
– Я рад, что она вам нравится! Вы ведь не знаете, что произвели на нее чрезвычайно сильное впечатление? Вы кажетесь ей восхитительной, изящной, загадочной…
– Как мило, что вы сказали мне об этом, – тихо ответила жена.
Озарёв взял ее руку и поднес к губам:
– Софи! Я так взволнован тем, что вижу вас в этом доме, где я родился, вырос…
Поверить в это было трудно – он не сводил с двери испуганного взгляда.
– Почему вы не надели вчерашнее платье? – вопрос прозвучал неожиданно.
– Мне показалось, что это будет лучше, – уклончиво ответила она.
На самом деле, сочла, что лучше одеться поскромнее, поскольку тесть едва выздоровел и еще очень слаб.
– Вы огорчены?
– Нет! Это тоже прекрасно! Прекрасно!..
Николай смотрел на нее и думал, что то, вчерашнее, золотистое, нравится ему больше этого, очень простого, бежевого с коричневыми полосками, годного, с его точки зрения, скорее для верховой езды. Но сказать об этом не решался, считая себя абсолютным профаном по части женской элегантности, а у Софи, как у всякой парижанки, врожденное чувство прекрасного. Вспоминая восхитительную мебель, украшавшую особняк Ламбрефу, он опасался, что крепкий, надежный, но лишенный какого бы то ни было стиля дом в Каштановке и его обстановка не оправдают ее надежд: массивные темные кресла, похожие на сундуки комоды, прочные столы. Над клавесином висел портрет одного из предков рода, генерала с орлиным взором, в орденах, служившего при Екатерине. Ему эта картина казалось смешной, но жена заметила:
– Я не обратила внимания на нее, а она очень хороша.
Генерал немедленно вошел в милость. Как хотелось новобрачному, чтобы все в этом доме – и вещи, и люди – восхитило Софи и все оказалось восхищенным ею! Но мечты мечтами, а капризный нрав хозяина Каштановки известен всем! Что означают его последние маневры? Скрипнула дверь, молодой барин вздрогнул, но это оказался всего лишь мсье Лезюр, маленький, лысый, розовый человечек. Он потирал ручки, чтобы стряхнуть с них пыль:
– Уф! Приготовил вам уголок для чтения! Увы, новинок почти нет, французские книги проникают сюда не так быстро!.. Но есть Вольтер, Руссо, Дидро, Даламбер… Мне всегда кажется странным читать наших энциклопедистов в этой заброшенной, дикой, укрытой снегами деревне…
Последние слова замерли у него на губах, он обернулся к дверям и замер. Застыл и Николай. Несомненно, оба расслышали звук, почувствовали присутствие, различить которые она пока не умела. Немного погодя в коридоре скрипнула половица.
Вошедший затем в гостиную мужчина лет пятидесяти пяти поразил Софи высоким ростом, массивной, корявой фигурой. Черный сюртук в плечах был узок ему, бледное лицо сливалось с кружевным жабо, глаза полузакрыты, пушистые бакенбарды. Одной рукой он опирался на руку дочери, другой – на мебель, которая попадалась на пути.
– Отец, позвольте представить вам мою жену.
Михаил Борисович продолжал идти навстречу Софи, будто не слышал этих слов. Невестка поднялась ему навстречу. Приблизившись, он бросил на нее пронзительный взгляд, растянул губы в подобии улыбки и проговорил по-французски:
– Очарован! Очарован!
Французское «r» рокотало, словно гром. Николай, ожидавший более сердечного приема, утешал себя тем, что родитель поначалу всегда не слишком любезен.
– Итак, мсье Лезюр, – продолжил хозяин, – вы должны быть довольны! Чего ради ехать во Францию, если Франция сама приехала к нам! И в таком грациозном обличье! Благодарите за это моего сына!
– Полагаю, ему ни к чему мои благодарности, он должен быть счастлив своим выбором! – с поклоном ответил мсье Лезюр.
– Вот и заработала машина комплиментов! – не унимался Озарёв-старший. – Мне нравится в мсье Лезюре, что в ответ на пару все равно каких слов он умеет сплести целый букет и порадовать дам! Галантность – истинно французское искусство, как, впрочем, и война!
– Русские тоже доказали, что они – славные солдаты! – воскликнул француз.
– Да, потому что враг пришел на их землю. В иных случаях они проявляют благоразумие. Настоящие агнцы! Взгляните на моего отпрыска: едва подписан мир, и он уже расстался с мундиром!
Николай вспыхнул:
– Вы прекрасно знаете, почему я вышел в отставку!
– Увидев твою жену, я еще лучше понял это. Нельзя служить двум отечествам одновременно!
– Что вы хотите сказать? – дрожащим голосом спросил Озарёв-младший.
– Что, женившись на столь обворожительном создании, ты должен посвящать ему все свое время, – расплылся в широкой улыбке Михаил Борисович.
Сын облегченно вздохнул. Гроза, кажется, миновала. Уголком глаза взглянул на Софи. Та молчала, твердо глядя на тестя.
Дворецкий открыл двери, пригласил к столу. Озарёв-старший церемонно предложил руку невестке. За ними последовали Николай и Мари. Мсье Лезюр замыкал шествие.
Столовая была темной, холодной. За креслом Михаила Борисовича возвышался лакей, остальные домочадцы имели право только на стулья. Когда все расселись, хозяин перекрестился, тихо произнес несколько слов по-русски, заправил за воротник салфетку. Софи с изумлением взирала на стол, чего там только не было: соленья, маринады, мясо, рыба, грибы, огурчики, фаршированные яйца, паштеты из дичи… Все выглядело очень соблазнительно, но есть не хотелось. Познакомившись с тестем, она не переставала чувствовать себя в этом доме самозванкой, незваной гостьей. За трапезой глава семьи продолжил выпады против мсье Лезюра:
– Наш дорогой господин Лезюр прожил в России пятнадцать лет, но так и не привык к нашей кухне, уверяя, что у него слишком тонкий вкус!
– Никогда я этого не говорил! – простонал тот, с наслаждением подцепив вилкой клок квашеной капусты.
– Говорили, говорили! Я даже думал, не нанять ли мне повара-француза. Потом решил, в доме будет слишком много французов! Не то чтобы я имел что-то против ваших соотечественников, мсье Лезюр. Они прекрасные люди, до тех пор, пока какой-нибудь Наполеон не вскружит им головы. Но что бы я ни думал, признаю, если дать им право делать то, что они хотят, кончится тем, что они станут распоряжаться у вас дома!
– Право, господин Озарёв, если чем мы и рапоряжаемся, так это вашими детьми, – робко возразил собеседник. – И, полагаю, у вас не должно быть претензий к образованию, которое мы им даем!
– Конечно, нет! Быть может, Николай взял в жены француженку именно потому, что у него был воспитатель-француз. Не будь вас, он даже не смог бы заговорить с ней. Что ж, мы все благодарны вам, мсье Лезюр, и я, и моя невестка, и мой сын! Выпьем за ваше здоровье!
Он поднял бокал и выпил до дна. Никто не последовал его примеру. Софи едва сдерживалась, чтобы не выразить вслух свое негодование. Николай растерянно посмотрел на нее, потом на отца. В глазах Михаила Борисовича светилась злая радость, казалось, он ведет игру, доставляющую ему огромное наслаждение. Необходимость принять невестку вынудила его ко мщению на свой лад. «Как мог я быть до такой степени наивным, поверить, что он согласится с моей женитьбой! – укорял себя Озарёв-младший. – Он ласково принял меня вчера лишь для того, чтобы сильнее унизить сегодня. Но я виноват перед ним, и все мои возражения обратятся против меня же! Боже, сделай что-нибудь, пусть он замолчит, пусть все это немедленно закончится!»
Напряжение нарастало, в воздухе носились молнии. Щеки мьсе Лезюра пылали, Мари побледнела. На смену закускам прибыли молочный поросенок с хреном, гусиное заливное и жаркое. Хозяин не отказывал себе в еде, первым наполняя свою тарелку. Впрочем, ел он один. Дети, Софи, воспитатель, лишившиеся всякого аппетита, сосредоточенно взирали на его пиршество.
– Отец, – обратилась с нему Мари. – Вы должны быть благоразумнее. Доктор рекомендовал вам диету.
– Но могу я сделать исключение в тот день, когда принимаю свою невестку. Я так давно ожидал этой встречи!
Он покосился на Николая, который опустил голову, сжимая пальцами край стола.
– Моя невестка! Моя прекрасная невестка! Знаешь, сын, она именно такая, какой ты описывал мне ее! Цветок Франции! Как вам этот комплимент, мсье Лезюр? Вы ведь знаете в них толк!
– Прекрасно, одобряю, – пробормотал воспитатель.
– А выглядите, будто на похоронах! Странные вы, французы! У нас все просто, у каждого все на лице написано! У вас надо сорвать с десяток масок, прежде чем доберешься до истинного!..
Он замолчал на мгновение, чтобы завладеть десертом, который проглотил в два счета, затем возобновил свою речь:
– Все то же в политике! Взгляните на Россию: у нас обожаемый всеми царь, христианская вера, которой мы руководствуемся каждое мгновение своей жизни, любовь к родине, которая поднимает народ на борьбу с захватчиком… Во Франции, чтобы прослыть умным, надо говорить противное тому, что говорит сосед, и, по возможности, принять его точку зрения, едва он согласится с вашей. Сначала все горой за Наполеона, потом – за Людовика, снова за Наполеона, надеясь втайне на возвращение Людовика, и, наконец, опять за Людовика, оплакивая ссылку Наполеона на Святую Елену! Генералы спешат предать, министры вертятся, будто флюгеры. При таком положении дел есть ли хоть один француз, который действительно знает, чего хочет?!
– Будьте уверены, есть, – сухо ответила Софи.
Николай вздрогнул: надменное выражение ее лица не оставляло сомнений в твердой ее убежденности. Цветок мака гордо поднял головку.
– Боже, я слышу голос моей невестки! – воскликнул Озарёв-старший. – Так что же насчет французов, которые знают, чего хотят?
– Все очень просто. Мы хотим избавиться от издержек абсолютной власти, несправедливости, дать одинаковое право на счастье каждому…
– И ваш король согласен одобрить эту программу?
– Согласен был бы, если бы у него было другое окружение. Как и ваш царь…
– Вы не можете сравнивать! Россия не нуждается в реформах!
– Вы уверены? Военная победа, которую одержал над Наполеоном император Александр, ни в коей мере не доказывает, что надо все порицать в нашей стране и восхвалять – в вашей!
– Вы всего неделю в России и уже составили себе мнение о наших достоинствах и недостатках? Что ж, браво!
– Не судите ли вы о достоинствах и недостатках французов, не будучи никогда во Франции?
– Вы забываете, что у меня перед глазами есть объект изучения – мсье Лезюр! – ухмыльнулся хозяин.
Француз уткнулся носом в тарелку, на глазах его заблестели слезы. Софи нервно сжала салфетку, бросила ее на стол.
– Отец, прошу вас, – вмешался Николай.
– Замолчи! – оборвал его Михаил Борисович. – Я говорю не с тобой, а с твоей женой! Вдруг она ответит мне, что и у нее был экземпляр для изучения России – мой сын!
Он поднялся и, тяжело ступая, направился к двери. Софи обвела глазами присутствующих – в голове у нее шумело, она задыхалась. Неужели это не сон и они – Николай, Мари, мсье Лезюр – тоже слышали все это? Но эти трое сидели чуть живы, не проронив ни звука. Словно дом поразила молния. Почему они боятся этого деревенского тирана? Она бросилась в гостиную вслед за хозяином, заслышав ее шаги, тот обернулся. Морщинистое лицо, пронзительные серые глаза.
– Я волновалась за ваше здоровье, – проговорила запыхавшаяся Софи. – Но вы, должно быть, прекрасно себя чувствуете, раз находите столько удовольствия мучить своих близких! Вас возмущает Франция или я?
Михаил Борисович не отвечал. Прибежали Николай и Мари, замерли на пороге из боязни ускорить развязку.
– Теперь вы молчите, и это лучшее, что можете сделать! Ваше поведение недостойно человека, у которого есть сердце! Мне остается надеяться, что это не в обычае у всех русских! Прощайте!
В бешенстве она вышла из гостиной. Муж бросился за ней, догнал у лестницы, схватил за руку:
– Софи! Это ужасно!..
Она открыла дверь, полагая, ту, что ведет в их комнату, но, оказалось, ошиблась, вздохнула. Решительно, даже вещи враждебны к ней в этом доме!
– Где наша комната?
– Немного дальше!
Толкнула следующую дверь и вошла в комнату, где еще не разобрали вещи. Полуоткрытые чемоданы, платья, пальто, белье на стульях и постели. При виде этого беспорядка ее охватила безысходность. Прижавшись к мужу, Софи прошептала:
– Простите меня, друг мой, но я не могла ответить иначе. Этот обед был для меня страшным испытанием! С какой радостью ожидала я встречи с вашей семьей!.. Но никто никогда не оскорбил меня так, как ваш отец!.. Что за отвратительный, полный ненависти, высокомерный человек!.. Отчего он так меня ненавидит?
– Клянусь, он вовсе не ненавидит вас, – сказал Николай, целуя жену.
– Нет, ненавидит! Вас ослепляет сыновняя любовь! Он ненавидит меня, я знаю, я чувствую это! И не вижу этому объяснения. Как мог он столь дурно встретить меня после всего того, что написал вам?
– Не будем говорить об этом, Софи.
– Если ему так не нравилось, что вы женитесь на француженке, он не имел права давать вам свое благословение!
– Конечно, – пробормотал супруг.
Он понял, что не может продолжать лгать, выстроенное на лжи здание трещало по всем швам, земля уплывала у него из-под ног, и, словно бросаясь в бездну, тихо сказал:
– Я хочу признаться вам, Софи. Все это из-за меня. Мой отец не давал согласия…
– Не давал согласия? На что?
– На наш брак.
Она отошла.
– Не понимаю. Вы хотите сказать…
– Да, дорогая!
– А письмо! Письмо, которое вы переводили?..
– Это было письмо с отказом.
Софи замерла, все вокруг померкло, словно нашла черная туча. В голове было пусто, она утратила способность мыслить. И тут ею овладела ярость, от которой тело ее задрожало.
– Когда ваш отец узнал о вашей женитьбе?
– Вчера утром. Он рассердился. Потом согласился со мной и обещал, что примет вас, будто ничего не произошло!
– Вы слишком многого от него требовали! Теперь меня не удивляет ни его грубость, ни его насмешки. Боже, но что за роль играли вы! Лжец, низкий лжец!
– У меня не было выбора, вы поставили условия, я должен был во что бы то ни стало выиграть время!
– И все это время вы знали, какой стыд ожидает меня здесь, и это не мешало вам видеть меня счастливой, гордой, полагаться на мою доверчивость! Не знаю, чем больше восхищаться: вашим умением ломать комедию или моей доверчивостью!
Она задыхалась. В зеркале заметила отражение бежевого платья в коричневую полоску. Вид женщины, разумно подобравшей наряд для первой встречи с тестем, окончательно вывел ее из себя. Как могла она позволить одурачить себя, как с закрытыми глазами отправилась на край света с почти незнакомым мужчиной? За тысячи лье от Франции! И вот теперь, преданная им, униженная, может только ненавидеть его. Прекрасное лицо Николая внушало ей ужас.
– Вы чудовище! Никогда ни один француз не поступил бы подобным образом!
Он побледнел от нанесенного оскорбления:
– Софи, я виноват перед вами, но прошу вас, выслушайте меня! Я лгал вам, чтобы спасти нашу любовь, я вел себя как игрок, глупый игрок, потерявший первую ставку, но решивший рискнуть, чтобы все вернуть. Я повез вас сюда, потому что был уверен, отец отреагирует по-человечески! Не понимаю, что на него нашло!..
– Полагаю, он не привык скрывать свои чувства!
Супруг хотел взять ее руку, она с отвращением отдернула ее:
– Не смейте прикасаться ко мне! Приближаться!
Он понурил голову:
– Софи! Это невозможно! Что с нами будет?
– Вовремя вы задумались об этом, мсье!
Это «мсье» ударило его, словно хлыстом. Он сел на постель между шляпой и голубым бархатным платьем, обхватил руками голову. Возлюбленная стояла перед ним, пытаясь подобрать слова достаточно сильные, чтобы месть оказалась полнее, и не находила. «Унизить его, разорвать на части, заклеймить каленым железом!» – говорила она про себя, но видела, что муж по-настоящему несчастлив. Поступил как безответственный мальчишка, легкость, с которой он все проделал, свидетельствовала лишь о полном незнании жизни и людей. «Я вышла замуж за ребенка!» – после этого вывода ярость сменилась материнским снисхождением. Николай поднял голову, взгляд его глубоко тронул Софи. Как он хорош! И при этом самый виноватый из мужчин!
– Мы не можем оставаться в этом доме! – Ее голос был полон решимости.
– Вы правы! Едем!
Она едва слышала его, полная сладкой благодарности, никак не связанной с его словами. И все же нашла силы произнести:
– Я еду одна!
– Одна? Но, Софи, подумайте, вы – моя жена, я люблю вас.
– Замолчите. Что бы вы ни сказали, я больше никогда не поверю вам. Наши дороги разошлись.
Да, она перегибала палку, но иначе не устоять против соблазна простить, и тогда станет одной из этих жен, которыми вечно помыкают мужья, которые всегда с ними согласны, любят их, несмотря ни на что, покорно сносят бесчестье. Николай вновь попытался подойти к ней и снова был пригвожден к месту грозным взглядом:
– Нет, если вы сохранили хотя бы каплю уважения ко мне, умоляю, уйдите. Я не хочу видеть вас.
– Но, Софи…
– Мне надо остаться одной. Можете вы это понять?
– Да, Софи.
Он не осмелился спросить, когда ему позволено будет вернуться, чем супруга намерена заняться. Тихо прикрыл за собой дверь и спустился вниз, где его подстерегала сестра.
– Что? – Шепот был еле слышен.
– Все пропало, Мари.
– Расскажи! Что говорила?
– Мы почти не говорили. Она больше не желает знать меня.
– Как же так? Ведь вы – муж и жена.
– Где отец?
– В своей комнате. Отдыхает.
– Отдыхает! – вскричал Николай. – Да как он может отдыхать после того, что произошло?! Пойду и выскажу ему все, что о нем думаю!..
– Нет! – простонала Мари, вставая у него на пути. – Дай ему поспать! Это ему необходимо! Ты и так проявил к нему немало неуважения!
Брат задумался на мгновение, ударил ладонью по стене:
– Что ж! Увижусь с ним позже! Он, должно быть, горд собой!
И вышел в прихожую, взял пальто, набросил на плечи.
– Куда ты?
– Подышать.
Холодный ветер ударил ему в лицо, хлопья снега падали на лишенную красок землю. Озарёв отошел от дома и взглянул на окно их с Софи комнаты. Чего бы он ни отдал, лишь бы там появилась его жена и сделала знак, что можно вернуться! Но, хорошо зная ее, трудно рассчитывать на милость. Любимая никогда не простит его! Чем все закончится? Как можно будет ему смириться с этим горем, с ее презрением? Заживо погребен под руинами своей любви. Николай ненавидел себя, жалел Софи и не ждал спасения.
Приблизившись к конюшне, расслышал голос Антипа, который что-то рассказывал слугам, – по возращении в Каштановку его слуга стал настоящим героем, который сражался с Наполеоном, побывал во Франции, в Париже вел жизнь, полную наслаждений и, возможно, распутную.
– Париж! Каждый день там – праздник! – говорил он. – В любое время на столе шампанское и жареная курица. А что вы хотите? Мы же – победители! Стоило одному из наших господ пальцем пошевелить – столица трепетала! Даже нам, ординарцам, отдавали честь французские солдаты! Заскучаешь, сделаешь знак рукой, скажешь: «Мадемуазель!..» – и вот уже у тебя в объятиях хорошенькая барышня!..
– А как молодой барин познакомился со своей? – спросил конюх.
Озарёв боялся услышать ответ – а потому покашлял, извещая о своем появлении. Беседа немедленно прервалась. «Я не могу упрекнуть Антипа во лжи, когда лгал гораздо больше, да и причина несравнимо серьезнее! Любой теперь заслуживает большего уважения, чем я! Перед Богом грехи последнего из мужиков ничто в сравнении с моими!»
Он вошел. Слуги низко склонились перед ним, ему стало стыдно. Их было четверо: каретник, конюх, кучер и Антип. Конюх немедленно стал с остервенением ковырять вилами сено в кормушках. Лошади на привязи оглянулись на нового человека. Тот приказал оседлать ему Водяного – красивого коня рыжей масти с тонкой шеей, но широким крупом.
– У вас что, нет лошади получше для барина? – проворчал Антип. – В Париже он садился только на чистокровных английских скакунов!
Его фанфаронство раздражало Николая, ему захотелось дать по шее, чтобы замолчал, но, вспомнив Софи и обращение французов со слугами, сдержал себя.
Водяного оседлали, вывели на улицу. Всадник вскочил в седло и с наслаждением ощутил под собой крепкое, горячее животное, послушное его воле. Копыта увязали в коричневатой жиже, смеси грязи и тающего снега. Но вокруг все было белым-бело. Глядя перед собой, Озарёв почти незаметными постороннему взгляду движениями направлял лошадь. Свежий воздух отрезвил его, одиночество успокоило. «Мы не можем оставаться в этом доме!» – сказала Софи. У него это не вызывало возражений. Но изъявит ли она готовность жить с ним в Санкт-Петербурге? Он найдет себе место в министерстве. Или снова поступит на службу в армию…
Лошадь пошла рысью. Теперь мозг его работал в ритме ее бега. Водяной отряхивался, отфыркивался от снега. Вдалеке показалась деревня. Сколько раз в детстве ездил туда брат с сестрой и мсье Лезюром посмотреть на умельцев, которые делают деревянные ложки или плетут лапти! Как он был счастлив тогда! Как верил в свое будущее! Стремясь забыть, что все потеряно, Николай пустил лошадь галопом.
* * *
Софи услышала стук в дверь и приготовилась защищаться. Это не мог быть муж, она видела, как тот уехал верхом минут десять назад.
– Кто там?
– Я не помешаю вам? – прозвучал робкий голосок.
Сама себе удивляясь, Софи тихо сказала:
– Входите, Мари.
Девушка проскользнула в комнату и прислонилась к стене, грустная, глаза полны слез. Помолчав немного, спросила:
– Не нужно ли вам чего?
Простой вопрос странно контрастировал с настойчивостью, с которой был произнесен.
– Нет, спасибо, – улыбнулась невестка.
Словно разочарованная ее ответом, Мари помешкала мгновение, потом, по-мальчишески передернув плечами, предложила:
– Не хотите пройтись со мной? Вокруг дома? Там красиво.
– Я устала.
– Недолго! – В глазах нежданной гости была мольба. – Там действительно очень красиво! Я не могу вынести, что вы сидите одна в комнате.
Софи смутилась. Неужели она до такой степени нуждается в симпатии, раз ее трогает это простое приглашение?
– Я не хочу никого видеть! – сказала она.
– Знаю! Знаю! – воскликнула Мари. – Николай сказал, что вы поссорились. Уверена, во всем виноват мой брат. Но не сомневайтесь, он не злой, напротив, добрый, очень добрый… И отец тоже очень добрый… Но… любит насмешничать… И выводит из себя бедного мсье Лезюра… И с вами повел себя неловко!.. Как мне было мучительно!.. Болезнь испортила ему характер… Иногда на него находит, словно припадок… А на другой день добр и радушен… Ни облачка… В доме все смеются… Вы поладите с ним, полюбите его!..
Софи не отвечала.
– Вы сомневаетесь? – вздохнула Мари. – Но это необходимо. Вы – его невестка. Он имеет право говорить все, что думает, даже если это вам не нравится.
И, заговорщицки взглянув, добавила:
– Таков удел всех жен!
Подобная покорность позабавила француженку, которая спрашивала себя, свойственно ли это всем русским женщинам или есть среди них независимые умы.
– Вы живете здесь круглый год? – обратилась она к девушке.
– Да, и вы увидите, вовсе не скучаем. Каждое время года приносит свои радости…
– У меня не будет возможности узнать это.
– Почему? Вы не хотите остаться с нами?
Кончиками пальцев Софи взяла Мари за подбородок и произнесла тоном взрослого, пытающего уклониться от ответа на вопрос ребенка:
– Я хотела бы увидеть вашу комнату.
– Правда? – Лицо ее засветилось радостью. – Но в ней нет ничего особенного! Вы будете разочарованы!
Расположенная в конце коридора комната и впрямь поражала простотой. Софи выразила восхищение шторами, тканью в желтые и розовые цветочки на стенах, но нашла, что секретер красного дерева стоит не на месте. Вдвоем передвинули его к окну. Комната чудесно преобразилась.
– Вы – волшебница! – воскликнула Мари.
Потом показала ей миниатюру на слоновой кости – молодая женщина с печальными глазами.
– Это моя мать. Мне было девять, когда она умерла. Правда, Николай похож на нее?
– Да. – Почувствовав вдруг щемящую нежность, чтобы скрыть смущение, сказала: – Теперь пойдемте гулять.
Они надели валенки, закутались и вышли на белый, чистый воздух, который плясал вокруг, покалывая щеки. Мари взяла родственницу под руку, пошли вокруг дома. Софи вглядывалась в даль, пытаясь высмотреть за хлопьями снега силуэт всадника. Но повсюду был только снег. В какую сторону поехал муж? Какое ей дело! И все же продолжала с нетерпением ждать его появления. Скоро приблизились к берегу узкой речки.
– Летом мы здесь ловим рыбу, купаемся… Приезжают в гости соседи… Устраиваем пикники, играем, веселимся… – говорила Мари, словно рассчитывая перечнем этих нехитрых забав удержать жену брата. Та оставалась безучастна. – Вижу, мои истории наскучили вам. Но хочу, чтобы вы знали одно: когда вы уедете, мне будет очень тоскливо!
– Идем! Хватит!
– Очень горестно, – повторяла девушка. Она была похожа на зверька – хрупкого, потерянного, робкого, мечтающего о хозяине, который будет любить его и которого он полюбит. – Но никто об этом не узнает.
Мари взяла в руку горсть снега:
– Пахнет смертью.
Глаза ее наполнились слезами. Вода шумно неслась меж узких берегов.
– В Париже бывает снег?
– Да. Но не так много и не такой чистый.
– Как мне хотелось бы побывать в Париже!
– Однажды вы побываете там…
– О нет! Вряд ли!
– Почему? В ваши годы я ничуть не сомневалась, что окажусь в России. И вы…
– Нет, вы – другое дело! Вы – красивая, свободная! И были такой всегда, это видно! Как живут в Париже? Что носят женщины?
– Почти то же, что и в России.
– Уверена, что нет! Если бы я набралась смелости, я попросила бы вас показать мне свои платья!
Софи засмеялась и пожала Мари руку:
– Вы действительно хотите?
– Все! Прошу вас! – закивала головой девушка.
* * *
Близился вечер, Николай решил повернуть к дому. Дорога терялась во мраке, лишь вдалеке слабые пятна света говорили, что впереди дом, гостиная, кабинет отца, комната Софи, напоминали о разыгравшейся там драме. Пока он скакал через поля, другие продолжали страдать, отчаиваться, сердиться. Появился конюх с фонарем в руке:
– Ох, барин, мы уж думали, вы заблудились!
Озарёв спрыгнул, потрепал по шее усталого коня, от которого шел пар, передал конюху поводья. Сам он тоже устал, руки-ноги окоченели, лицо горело от мороза. Но духом несколько воспрял. Физическая сила, которую ощущал, давала основания верить и в силу собственного характера: не может отчаяние длиться долго, когда так играет кровь. В доме царило молчание – ни шороха, ни звука. Молодой человек решительно направился к отцовскому кабинету.
Михаил Борисович в халате сидел перед письменным столом, масляная лампа едва освещала комнату невеселым светом, в полумраке выделялся малахит и золотые корешки старинных книг на полках. Остановив на сыне взгляд, лишенный всякого выражения, хозяин спросил:
– Откуда ты?
– Проехался верхом, – ответил Николай, словно ребенок, сбитый с толку этим вопросом.
– А твоя жена чем занималась все это время?
– Я оставил ее одну.
– Почему?
Озарёв-младший чувствовал, что становится фигурой обвинения, тогда как пришел сюда с намерением самому произнести обвинительную речь. Ярость взвилась в нем, словно пламя, и заставила кричать:
– Вы спрашиваете почему? После вашего с ней обращения она больше не желает выносить мое присутствие!
– Что за странная идея? В отношении меня я еще могу ее понять! Но при чем здесь ты! К тому же я ничего не сказал плохого о ней самой!
– Вы оскорбляли Францию в ее присутствии! Поверьте, это очень серьезно! Ах, батюшка, вы не причинили бы мне такой обиды, если бы просто отказались принять мою жену! Вы же заставили меня выслушать…
Озарёв-старший прервал его движением руки, прищурился, лицо его выражало теперь какую-то животную хитрость. Он задумчиво почесал бакенбарды кончиками пальцев:
– Да, я хотел бы быть любезным, любезным по отношению к вам обоим, но это сильнее меня – когда я вижу француза или француженку, во мне закипает желчь, я нервничаю, мне хочется уколоть, ударить… Эти люди принесли на нашу землю огонь и кровь!
– Война закончилась, отец, – сурово произнес Николай.
Тот глубоко вздохнул:
– Для тебя, быть может, раз ты увлекся француженкой. Но не для миллионов истинных русских, которых заботят беды родной страны. Посмотри вокруг, на наших соседей: у Брюсовых единственный сын погиб под Смоленском, двое сыновей Татариновых – на Бородинском поле, сын Сухиных умер от ран два месяца назад в госпитале в Нанси… Нет, нет и нет, мы не наказали французов по заслугам! Даже побежденные, они уже подняли головы!
– Вы совсем не знаете их, отец! Отсюда они видятся вам заносчивыми, жестокими, но если вы узнаете их ближе, вынуждены будете признать, что у них есть здравый смысл, благородство, умение мыслить, интерес к мировым проблемам…
Говоря об этой идеальной Франции, он вспоминал Пуатевенов, Вавассера, их сподвижников, мечтающих о счастье на земле.
– Не надо восхвалять эту знаменитую цивилизацию! Философы воспитывают палачей. Вольтер и Робеспьер могут пожать друг другу руки. Сначала мудрствуют, потом рубят головы. Я человек порядка. И не проси меня любить этих людишек!
– Вы могли бы сделать исключение для своей невестки!
Хозяин Каштановки склонил голову набок, словно услышал сладкую музыку.
– Моя невестка, – произнес он с улыбкой. – Да, мне хочется верить, что она из благородной семьи, как ты меня уверял…
Надежда коснулась Николая, почти незаметная, словно рябь на воде.
– Я наблюдал за ней за столом, – продолжал отец. – В ней есть благородство. И когда она рассердилась, я с удовольствием слушал ее – у нее чудесный голос.
– Софи – необыкновенная, единственная! Но если она вам понравилась, почему вы не сказали ей ни одного любезного слова?
Озарёв-старший нахмурился, лицо его вдруг стало жестким, каким-то отяжелевшим.
– Хочешь знать? – прорычал он. – Глупец несчастный! Да, она умна, твоя Софи! И за это мне не нравится…
– Не понимаю?
– Она слишком умна для тебя! Она тебя окрутила! Коварная, как все француженки, она сумела убедить тебя, что можно обойтись без моего благословения!
Хозяин встал во весь рост и, обогнув стол, наступал на сына.
– Отец, уверяю вас…
– Замолчи, дурак! – Глава семейства покрылся красными пятнами. – Я знаю, что говорю!
Сквозь маску добряка проявилось его истинное лицо, искаженное злобой:
– Эта дрянь ловко обтяпала свои делишки! Вышла за тебя и потащилась за тобой в Россию, чтобы вслед за сыном облапошить и отца! Но я не так прост! Она узнает, что значит пойти против моей воли! Пока жив, я буду здесь хозяином, а с ней буду обращаться, как с прислугой! Она не дороже мне, чем мсье Лезюр! Французы! Грязные французишки!..
Приступ кашля прервал его речь. На висках вздулись вены. Он откашлялся в платок и с ненавистью взглянул на сына:
– Тебя это удивляет? Ты, наверное, думал, что от болезни у меня размягчился мозг, что я стал ягненком, согласным на заклание!.. Так ведь?.. А ягненок-то рассердился! И показал зубы! И еще укусит тебя! Признай, что вы заслужили этот урок, и она, и ты! Признай, клятвопреступник, антихрист!..
Он поднял руку, чтобы ударить сына, но рука замерла в воздухе. Глаза налились кровью, лицо исказила гримаса безумного исступления. Николай не шелохнулся, был спокоен и очень несчастен.
– Отец, если кто и заслуживает урока, то это я, а не моя жена. Чтобы она согласилась выйти за меня, я уверил ее, что вы в письме благословили нас.
Родитель опустил руку, черты его лица смягчились:
– Что?.. Что ты сказал?..
– Поймите меня, отец…
Повисло молчание. Затем Озарёв-старший медленно сказал:
– Итак, ты солгал жене, как солгал мне?
– Так надо было, иначе она не поехала бы со мной…
– И она все еще думает?..
– Теперь уже нет!
– Когда ты сказал ей правду?
– Когда мы вышли из-за стола.
– А до тех пор…
– До тех пор она была уверена, что вы одобрите наш союз!
Отец опустил голову, видно было, отказывается поверить в это признание, столь ранящее его самолюбие.
– Ты опять лжешь! – процедил он сквозь зубы.
– Нет, отец.
– Клянись!
– Если вам угодно.
Николай подошел к молельне, устроенной в углу комнаты, встал на колени. Множество икон окружало прекрасную копию иконы Казанской Божьей Матери, что спасла Россию от нашествия французов.
– Клянусь, – прошептал он, – клянусь, все, рассказанное мною отцу, истина.
Потом перекрестился, встал, поцеловал икону и повернулся к Озарёву-старшему, который пристально смотрел на него.
– Теперь вы верите мне?
Старик тяжело опустился в кресло. Он был подавлен и растерян, не отрывал глаз от капелек масла, одна за одной падавших в стеклянный колпачок лампы.
– Итак, ты все придумал один и явился ко мне с этим подарком! Мой сын! Которым я так хотел гордиться!
Николай молчал. Слова отца выводили его из себя, но противоречить не смел. Тот вдруг снова покраснел и выкрикнул:
– Несчастный!
В наступившем молчании слышны были шаги слуги, в соседней комнате с грохотом закрывались ставни, запирались задвижки. Ночной сторож прогремел своей колотушкой.
– Что думает теперь обо мне эта женщина? – проговорил он, словно спрашивая самого себя. – Все испорчено.
Вновь молчание. Мрак и снег окружали дом. Вдалеке залаяла собака. Сквозь дверь просочился запах капусты – на ужин готовили борщ. Нахлынули воспоминания детства. Но сын был непреклонен и твердо произнес:
– Я принял важное решение. Мы с Софи не останемся в Каштановке.
Отец взглянул на него – такого удара он не ожидал. Подумал и спросил:
– Ты хочешь уехать или она?
– Это не имеет значения.
– Отвечай: ты решил уехать отсюда?
– Софи не может жить под одной крышей с тобой…
– Так! Решение исходит от твоей жены. В конце концов, и для нее, и для меня этот отъезд – лучшее решение…
Он положил руки на стол и потирал их, пытаясь унять гнев, тяжело дышал, закашлялся.
– Куда вы поедете? – спросил наконец.
– Пока не знаю. Думаю, в Петербург.
– Да? – Глаза его удовлетворенно блеснули, что не ускользнуло от Николая. Несомненно, он опасался, что молодые уедут во Францию. – Петербург – это хорошо. Я дам тебе рекомендательные письма к моим друзьям. Они найдут тебе место при каком-нибудь начальстве.
– Я не могу принять этого, – гордо заявил Озарёв-младший.
Старший стукнул кулаками по столу: подпрыгнули безделушки, упало гусиное перо.
– Ты сделаешь все, что я скажу! Как смеешь ты спорить! Ты повел себя со своей женой как последний мошенник, ничтожество! И хочешь вовлечь ее в дальнейшие авантюры?!
Успокоился немного, справился с дыханием и глухо произнес:
– На какие средства вы собираетесь жить в Петербурге, если я не помогу вам? Эта женщина носит твою фамилию, мою фамилию. Она имеет право на достойное существование. Вы будете жить в нашем доме. Конечно, теперь он мало пригоден для того, чтобы в нем поселиться, но, полагаю, его не трудно привести в порядок. Для начала вам хватит шести слуг. Возьмешь их здесь. Гришку – поваром, Савелия – кучером. Они опрятны и не пьют. Возьмешь лошадей. Хватит тебе четырех.
Посмотрел на сына, требуя одобрения, но увидел неподвижное лицо и прокричал:
– Четыре! Ты слышал!
– Да, отец.
– Они обойдутся в сорок-пятьдесят рублей в месяц за овес и сено! Да, не забыть посуду, белье, зимние запасы…
Михаил Борисович взял перо, обмакнул его в чернильницу и начал выводить что-то на бумаге. Забота не слишком смягчила Николая, самолюбие его был задето: пришел сюда заявить о своей независимости, оказался обязанным отцу. Боже, когда же он начнет жить самостоятельно!
– Думаю, тебе понадобится несколько дней на сборы…
Сын покачал головой и, глядя ему в глаза, с жестокой уверенностью медленно произнес:
– Нет. Не понадобится. Мы уедем как можно скорее. Завтра, самое позднее послезавтра.
* * *
Николай вышел от отца успокоенный лишь наполовину – его ожидало еще более суровое испытание. Захочет ли Софи хотя бы выслушать его? От неопределенности у него холодело внутри. Он решительно поднялся на второй этаж, постучал и, получив разрешение войти, замер на пороге, лишился дара речи. Посреди комнаты, глядя в зеркало, стояла Мари, обеими руками прижимая к себе то самое золотистое платье его жены, Софи же протягивала ей черный бархатный капор. Лицо сестры сияло счастьем:
– Взгляни, Николя, правда, я совсем парижанка!
Не в силах вымолвить ни слова, он лишь согласно закивал. Неужели Мари в его отсутствие сумела все уладить?
– Ты прелестна, – проговорил наконец. – Но я хотел бы, чтобы ты нас оставила.
– Хорошо. Но поторопитесь. Через полчаса мы садимся за стол…
Она бросила на невестку восхищенный взгляд и спросила:
– Вы спуститесь к ужину, да?
– Я просил тебя оставить нас! – вмешался брат, забирая у нее из рук платье, чудесно преобразившее бледные щеки сестры, которая не сводила с него умоляющих глаз.
– Нет, Мари, это невозможно! – раздался мягкий голос Софи.
– Но почему? Я поговорю с отцом! Он все поймет! Вы увидите, он будет любезен с вами!..
Николай испугался, что своей настойчивостью она выведет из терпения его супругу – одно неверное слово, и все пропало.
– Перестань, пожалуйста!
Мари опустила голову:
– Без вас двоих будет так грустно!
– Николай будет ужинать с вами! – возразила Софи.
Муж удивленно посмотрел на нее, не зная, как отнестись к этому ее решению: знак благосклонности или, напротив, немилости?
– А вы? – продолжала Мари. – Вы останетесь у себя?
– Да.
– Не поев?
– Я не голодна.
– Но так нельзя! – воскликнул Озарёв. – Вы заболеете!
– Прикажу, чтобы вам принесли поднос со всякими вкусными вещами! – нашла выход Мари. – А потом мы вновь поднимемся к вам!..
Окрыленная этой мыслью, она исчезла. Николай закрыл дверь.
– Вы действительно собираетесь ужинать в одиночестве?
– Да, друг мой.
Софи повернулась к нему спиной. Голос был холодный, чужой, последние надежды растаяли без следа.
– Могу я узнать, чем вы занимались после обеда? – обратилась она к мужу.
– Подготовкой нашего отъезда в Петербург, – не без гордости отозвался он.
Жена повернулась к нему и безучастно спросила:
– Когда мы едем?
Вопрос этот показался ему добрым знаком – она согласна следовать за ним!
– Послезавтра.
– Почему так не скоро?
– Чтобы все приготовить, необходимо время, я намереваюсь взять лошадей, слуг…
Николай удивлялся собственной лжи. Но разве мог он признаться Софи, что переезд организует им его отец?
– Кого из слуг вы берете?
– Пока не знаю… Гришку, Савелия…
– А Антипа?
– Вы хотите, чтобы с нами ехал Антип? – удивленно спросил муж.
– Да, мне это кажется в порядке вещей! – возмутилась она. – Это человек искренне предан вам, последовал за вами во Францию…
– Что ж, он последует за нами и в Петербург. – Как приятно было хоть чем-то доставить жене удовольствие.
Софи видела перед глазами Антипа, думала о нем, как о преданной собаке. Быть может, это ее единственный друг в этом доме.
– Уверен, столичная жизнь понравится вам.
Николай взял ее за руку, совершенно безжизненную, поднес к губам, но она вырвала ее и, ни разу больше не взглянув на него, вернулась к своим платьям.
* * *
Ужин был мучительным – никто не говорил о Софи, но дух ее, несомненно, над столом витал. Михаил Борисович, мрачный, с осунувшимся лицом и потухшим взглядом, не в силах был даже насмехаться над мсье Лезюром, который, воспользовавшись этой передышкой, ел за четверых. Мари невесело мечтала о красивых платьях, большой дружбе и счастье, которое ей довелось бы узнать, останься их новая родственница в Каштановке. Заслышав шум над головой, Николай с беспокойством начинал разглядывать потолок: он был убежден, отныне они с Софи чужие друг другу люди, вынужденные скрывать это от окружающих видимостью счастливого брака. После десерта извинился и попросил у отца разрешения уйти. Мари хотела идти за братом, тот решительно заметил, что не нуждается в ней.
Она поцеловала его. Несчастный взбежал по лестнице, чувствуя себя подсудимым, возвращающимся в зал заседаний суда после перерыва. В коридоре споткнулся о поднос, который Софи выставила за дверь. Наклонившись, обнаружил, что жена едва прикоснулась к еде. В этом ему увиделось дурное предзнаменование.
Когда он вошел, Софи сидела перед секретером с пером в руке. Лицо ее золотилось в свете лампы. Заслышав шаги, жена не обернулась. Задумавшись, продолжала писать. «Рассказывает обо всем родителям!» – подумал молодой человек, и новая волна стыда залила его. Нет никакой надежды снова завоевать эту женщину, занятую перечислением его грехов. Он долго молчал, уверенный в окончательном своем поражении, потом прошептал:
– Софи!
– Да? – отозвалась та, не поднимая головы.
– Я пришел пожелать вам спокойной ночи…
Жена взглянула на него. Лицо ее выражало удивление, но никак не любовь. Ни одного нежного слова не сорвалось с ее губ.
– Куда вы пойдете теперь? – неожиданно спросила она.
– Не хочу мешать вам, – покраснев, сказал супруг. – Рядом есть свободная комната…
– И что же?
– Переночую там.
Его половина озадаченно посмотрела на него, затем зло произнесла:
– Вы – сумасшедший. – И добавила, не дав ему времени неверно истолковать ее замечание: – Ваш отец будет вне себя от радости, узнав, что мы разошлись по разным комнатам!
– Вы предпочитаете, чтобы я остался? – смиренно спросил он.
– Конечно, друг мой. Будьте проще, прошу вас…
Несмотря на этот призыв, ему не удавалось справиться со смущением, оно росло с осознанием того, что жена не испытывает к нему ничего, кроме отвращения. Но как тогда она станет при нем раздеваться, ляжет? Позволит ли хотя бы поцеловать перед сном? Софи была спокойна, уверена в себе, решительна, и это так не вязалось с ее хрупким, каким-то нереальным силуэтом.
– Спасибо, – ответил он.
– За что?
– Вы не поймете…
– Почему? Скажите!..
– Нет, Софи…
Оба, казалось, боялись замолчать, а потому продолжали перебрасываться ничего не значащими словами. Николай подошел к жене, взгляд его упал на письмо:
«Дорогие родители,
не волнуйтесь, я совершенно счастлива…»
Сердце его бешено забилось от радости, он почти задыхался. Встал на колени, спрятав лицо в платье Софи, простонал:
– Боже! Неужели это правда? Вы хотя бы капельку любите меня? И мы можем все начать сначала?..
И ощутил прикосновение ее прохладной руки.
5
Озарёв, Софи и Мари вышли на крыльцо, чтобы посмотреть на приготовления к отъезду. В огромную открытую повозку загружали сундуки, тюки, мебель, кухонную утварь. Другая предназначалась для слуг, которые ехали с молодым барином в Петербург. Хозяева должны были устроиться в закрытом экипаже поменьше, который напоминал короб, установленный на коньки. Слуги – и те, что отправлялись в столицу, и те, что оставались в Каштановке, – плакали, вздыхали, крестились. Только Антип-парижанин важничал – кричал, отдавал приказания, не давал проститься. Когда багаж был окончательно уложен, пришлось все начинать сначала – забыли тридцать два горшка с вареньем, которые вынесли вдруг с кухни. А холодные куры? Где они? Кто ими занимался? Софи пыталась протестовать против такого количества съестного, но Мари уверяла, что на почтовых станциях не поешь как следует, а то и отравишься, поэтому лучше поостеречься и взять все с собой. В это время появился человек с корзиной на голове, девушка решила, что это, наконец, куры, но это были французские книги, позади мужика гордо вышагивал мсье Лезюр.
– Я подобрал для вас кое-что, – обратился он к Софи, которая едва нашла в себе силы поблагодарить его – назойливая любезность этого француза была ей неприятна. Любому своему соотечественнику, окажись он в Каштановке, она пожелала бы характер потверже. Отведя ее в сторону, мсье Лезюр прошептал:
– Как мне хочется уехать!
– Кто вам мешает сделать это? – резко спросила она.
– Не понимаете? – забеспокоился воспитатель. – С моей стороны это было бы в высшей степени неблагодарно!..
Кругленькая его физиономия сморщилась, из каждой морщинки брызнула любезность, сверху все это осеняла блестящая лысина. Ей показалось, что он упивается собственной приниженностью, благодарит судьбу за славную жизнь в этом доме.
Наконец, объявились и холодные куры. Оказывается, заботу о них взяла на себя няня Василиса. Она собственноручно уложила их в повозку, потом подошла к Николаю, щеки затряслись, зарыдала, поцеловала своего любимчика в плечо. Мари растроганно вытирала слезы.
Софи с любопытством наблюдала за всеобщей печалью и думала о том, что русским не хватает сдержанности в выражении чувств. Все у них чрезмерно! Все, молодые и старые, бедные и богатые, все ведут себя, как дети! Взять хотя бы ее мужа! Сейчас, например, он изображает начальника обоза. Отстранив плачущую, шмыгавшую носом Василису, сам пошел к повозкам и экипажу, нахмурив брови, с руками за спиной осматривает их. В широкой шубе плечи его кажутся еще шире, на голове меховая шапка-ушанка, но уши собраны на макушке, он выглядит еще более русским, чем всегда, этакий боярин, охотник на волков, ходит, разговаривает с мужиками, проверяет, хорошо ли все перевязано. Ей казалось почему-то, что это какая-то особая милость, что он есть в ее жизни. А между тем все еще не до конца ему доверяла. И после содеянного им считала его способным на все. Не предаст ли, не огорчит ли вновь в будущем? Иногда ей хотелось мучить его, но чаще она смягчалась, видя его благодарность и раскаяние, чрезмерное усердие, неизменный спутник нечистой совести. Накануне он целый день не расставался с ней, и ели они вместе в комнате, потом собрались. Ни разу не предложил ей увидеться с Озарёвым-старшим. Тот, по всей видимости, тоже считал эту встречу бессмысленной. Запершись в своем кабинете, с нетерпением ждал отъезда невестки. Она рассчитывала покинуть Каштановку, не простившись с ним.
Когда же в путь? Как медлительны эти русские крестьяне! У крыльца их становилось все больше, будто все крепостные собрались, чтобы посмотреть на отъезд. Наконец, конюхи привели лошадей. Мужики начали спорить: Антип отказывался путешествовать вместе с остальными слугами, предпочитая устроиться среди багажа, привязанного сзади к хозяйскому экипажу. Но кучер Савелий, рыжий великан, неизвестно из каких соображений, запрещал ему занять это место и угрожал кнутом. Озарёв вынужден был вмешаться, успокоить обоих, Антип добился желаемого, радостно угнездился, свернулся клубочком, завернувшись в овечью шкуру. Словом, как появился, так и уезжал! Мари сжала руку Софи и вздохнула:
– Вот и все!
С деловым видом мимо них прошел Николай, исчез в доме и скоро появился – бледный, торжественный, с шапкой в руке:
– Отец ждет нас.
– Зачем? – подозрительно воскликнула Софи. Ей везде чудились ловушки. Муж вновь стал ей врагом.
– Помолиться перед отъездом, – примирительно сказала Мари. – Таков обычай, его нельзя нарушать. Вы не можете отказать!
Она с мольбой смотрела на нее, в глазах у Николая была такая тревога, что женщина сдалась, согласилась. Но это последняя уступка, подумала про себя.
Михаил Борисович встретил их в гостиной. За ним стояли Василиса, мсье Лезюр и несколько старых слуг. Софи надеялась, что тесть поздоровается с ней, но он не удостоил ее и взгляда. На нем был парадный сюртук, но вид усталый, поникший, вокруг глаз серые круги. Жестом предложил всем сесть. Мест не хватило, мсье Лезюр принес два стула из столовой. Николай устроился рядом с Софи. Все опустили головы, молитвенно сложили руки. Ничто, кроме дыхания, не нарушало тишины.
Минуту спустя хозяин встал, за ним остальные. Поклонившись иконе в углу комнаты, Озарёв-старший подошел к сыну, поцеловал его, перекрестил и что-то сказал по-русски. Повернулся к невестке и тоже осенил ее крестом. Она хотела поцеловать его в лоб, потом передумала и твердо взглянула ему в глаза. Казалось, он борется с собой, со своей нечеловеческой гордыней, сожалеет о горьком решении:
– Желаю вам счастливой жизни в Петербурге, – произнес тихо. И, словно рассердившись на свою слабость, немедленно отошел. Продолжились объятия, поцелуи, все крестились. Мари искренне обняла Софи и прошептала:
– Каждый день буду молиться о вашем скором возвращении! Не говорите «нет»! Умоляю! Не говорите «нет»! В вас я нашла не просто друга, сестру!
Она плакала.
– Поспешим, – сказал Николай прерывающимся от волнения голосом. – Мари, позаботься об отце. Я на тебя надеюсь. Пиши чаще!..
И первым направился к двери. За ним последовали Софи, Мари, мсье Лезюр, слуги. Глава семьи остался в гостиной. На душе у него было тяжело, словно не хотел этого отъезда и ничего не подозревал о нем. «Я даже не могу попросить их остаться!» – подумал он и подошел к окну. Толпа мужиков окружила повозки, возбужденные лошади мотали головами. Позвякивали колокольчики. «Прощайте! Счастливого пути!»
Озарёв-старший почувствовал, что, если прощание еще затянется, ему не совладать с нервами. Упершись лбом в стекло, сжав руки в кулаки, он не сводил глаз с закрытой повозки, в которой сидели сын и невестка. Тронулись. Три черных пятна одно за другим скользили по снегу среди елей. Взор Михаила Борисовича затуманился, он перекрестил окно и тихо произнес:
– Да хранит вас Бог!
Колокольчики замерли вдали, исчезла из виду последняя повозка.
Ужасающая пустота окружила его. Что делают все эти люди там, во дворе? Почему он один? Хозяин отворил дверь и закричал:
– Итак, мсье Лезюр, вас не смущает, что мы так и не доиграли нашу партию в шахматы?
– Что вы, что вы! – откуда-то издали ответил ему голос.
Француз прибежал, уселся перед доской, поднял глаза на противника, покорно ожидая насмешек.
Барыня
Часть I
1
Кучер натянул вожжи, лошади увязли в грязи, и экипаж остановился перед шлагбаумом. Поскольку ожидание затягивалось, путешественник высунул голову из-за дверцы. Прохладная сырая ночь была пропитана пресным болотным запахом. Фонарь, прикрепленный к верхушке столба, раскачивался на ветру, и отблески света плясали в лужах. По обеим сторонам дороги возвышались постовые будки в белую, черную и желтую полоски. Чуть подальше, перед караульным помещением, вытянулась вереница повозок. Сборщики пошлины проверяли грузы. Пассажир сложил ладони рупором у рта и крикнул:
– Эй! Кто-нибудь! Я тороплюсь!
Инвалид в мундире вышел из тумана. Вместо одной ноги у него был деревянный протез, а в руках – фонарь. Торс его склонялся на каждом шагу к истерзанному бедру. На груди сверкали медали. Не выходя из кареты, путешественник протянул ему свои бумаги и пробурчал:
– Михаил Борисович Озарёв. Еду в Санкт-Петербург по семейным делам.
– Все будет сделано немедленно, Ваше Благородие, – отозвался инвалид.
Он просунул бумаги меж двух пуговиц своего мундира и, прихрамывая, отправился назад к караульному помещению. Михаил Борисович Озарёв откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги и закрыл глаза. Он потратил почти четыре дня на то, чтобы из своего имения Каштановка добраться до Санкт-Петербурга, но, несмотря на тяготы поездки, не ощущал усталости. Наверное, счастье дарило ему вторую молодость! Получив от сына письмо, в котором сообщалось о рождении маленького Сергея, он тут же решил отправиться в путь. Мог ли он и теперь проявлять неприязненное отношение к снохе, по той причине, что она была француженкой, католичкой, из-за чего он когда-то не дал согласия на этот брак? Произведя на свет ребенка мужеского пола, наследника фамилии Озарёвых, она оказалась выше порицаний свекра. После четырехлетнего разрыва отношений он был рад представившейся им обоим возможности помириться, да так, что самолюбие обоих при этом не пострадает. В глубине души Михаил Борисович никогда не переставал высоко ценить эту женщину. Он вдруг осознал, что о сыне думает меньше, чем о снохе, в связи с произошедшим событием. Как это ни парадоксально, но ему не терпелось поскорее увидеть Софи, а не Николая. Он достал часы из кармана: десять вечера. Не слишком ли поздно для того, чтобы ввалиться в дом молодой роженицы? Он не счел необходимым сообщать о своем приезде: письмо пришло бы одновременно с его появлением. Беззвучный смех заиграл у него на губах. «А какой он, малыш? Брюнет, как его мать, или блондин, как отец? Этот недалекий Николай даже не описал его в своем письме!» Михаил Борисович представил себе крепкого и веселого ребенка, похожего на малыша-Геркулеса, душившего змей в своей колыбели. Инвалид принес бумаги:
– Все в порядке, Ваше Благородие.
Шлагбаум со скрипом приподнялся. Обе лошади тронулись с места. Экипаж пересек освещенное фонарем туманное пространство и медленно въехал в город. С обеих сторон дороги выстроились дощатые заборы, редкие сады, низкие черные домишки с закрытыми ставнями. Затем показались первые каменные дома. Деревня становилась столицей. «Что за фантазия – жить в Санкт-Петербурге! – подумал Михаил Борисович. – Воздух здесь нездоровый, общество развратно, да и жизнь слишком дорога. В Министерстве иностранных дел Николай получает смехотворное жалованье, к тому же у него нет определенной должности и его начальники держат его при себе лишь из уважения ко мне. Я вынужден посылать Николаю деньги ежемесячно, чтобы помочь ему свести концы с концами. А в деревне он мог бы быть очень полезен мне в управлении имением. Да, воистину настало время по-новому организовать наше существование. Как только Софи сможет выехать, я перевезу их в мой дом». В семье Озарёвых было принято отмечать рождение детей высаживанием маленькой елочки в уголке парка. В честь Марии и Николая уже росло по дереву на каждого, и эти елочки стали теперь стройными и крепкими. Дерево Михаила Борисовича возвышалось над ними своими темными густыми ветвями, а верхушка его склонялась, будто прислушивалась к шуму ветра. Ель Борисовича Федоровича, отца Михаила Борисовича, три года назад раскололась от удара молнии. «Я сам посажу дерево Сергея, – решил Михаил Борисович. – И прикреплю к нему маленькую дощечку: „12 мая 1819 года“».
Церковные купола промелькнули в густом тумане. Карета выехала на улицу с изысканными фасадами домов и звучной мостовой: Большая Морская. Затем пошли Невский проспект, Литейный проспект… Путешествие приближалось к концу. Михаил Борисович достал из кармана гребенку и провел по волосам, усам, бакенбардам, чтобы обрести более презентабельный вид. Это было самое малое из того, что он мог сделать, дабы не испугать сноху!
– Помедленнее! – крикнул он кучеру. – Давай направо. Третий подъезд…
Соломенная подстилка была разложена по всей ширине дороги, чтобы приглушить грохот колес. Вероятно, Софи пока еще чувствовала себя плохо. Дом, построенный при Екатерине II, принадлежал Ольге Ивановне, жене Михаила Борисовича. Она передала его по завещанию мужу и обоим детям. С тех пор как она умерла, дом оставался общей собственностью, но в соответствии с распоряжениями покойной Михаил Борисович единолично получал арендную, хотя и очень скромную, плату за квартиры. Все помещения были сданы, за исключением второго этажа. Николай и Софи обрели здесь пристанище после размолвки, вынудившей их покинуть Каштановку.
– Разгрузить тебе помогут, – распорядился Михаил Борисович, ступив на землю.
Масляная лампа с угасающим пламенем освещала вход на широкую мраморную лестницу. Михаил Борисович, тяжело дыша, поднялся по ступенькам на первую лестничную клетку. Здесь он стукнул кулаком по створке двери. Грохот прокатился по всему дому. «Безумец! – тут же подумал он. – Я разбужу ребенка, мать!..» Но такая перспектива больше забавляла его, нежели удручала. Не дождавшись ответа, он снова забарабанил. Шаркающие шаги приближались. Дверь приоткрылась. Медленно поднялась рука, державшая зажженную свечу. При этом свете появилось лицо рыжеволосого и губастого слуги. Михаил Борисович узнал крепостного Антипа, которого отдал Николаю. Зрачки Антипа округлились, челюсть отвисла, и он осенил свою грудь крестным знамением. Окажись Антип нос к носу с призраком, он не отступил бы с таким проворством в прихожую.
– Ну, давай! – проворчал Михаил Борисович, сбрасывая накидку. – Да что с тобой? Иди предупреди твоего хозяина!
– Моего хозяина! Моего хозяина! – с фырканьем бормотал Антип.
– Что? Он уже лег? Уже спит?
– О! Нет, барин!
Михаил Борисович оттолкнул Антипа тыльной частью руки, пересек вестибюль и вошел в гостиную, где горела стоящая на бюро лампа под зеленым абажуром. В то время как он окидывал взглядом эту большую, плохо меблированную, обветшавшую комнату, прямо перед ним открылась дверь и вошел его сын.
Николай был бледен, выражение лица усталое и растерянное. Появление отца, казалось, почти не удивило его. Мишель Борисович слегка испугался.
– Что происходит? – прошептал он.
Николай опустил голову и произнес:
– Ребенок умер.
Михаил Борисович с минуту стоял неподвижно, словно утратил способность думать и держаться на ногах. Затем машинально оперся рукой о спинку кресла. В воцарившейся тишине он ощущал лишь биение своего пульса.
– Этого не может быть! – выкрикнул Михаил Борисович.
– Увы, отец! – произнес Николай.
– Почему ты не написал мне об этом?
– Я послал письмо по почте три дня назад. Должно быть, оно пришло в Каштановку после вашего отъезда.
Михаил Борисович глубоко вздохнул, и в груди у него усилилась боль. К его горю примешивался гнев. Вопреки здравому смыслу, он отказывался признать, что несчастье непоправимо.
– Я хочу видеть его, – произнес он сдавленным голосом.
У Николая задрожала нижняя губа.
– Но это невозможно, отец, – сказал он. – Ребенка… Мы его похоронили…
Михаила Борисовича охватило негодование, как будто сын признался ему в преступлении.
– Когда? Когда вы его похоронили? – спросил он.
– Позавчера.
– Почему вы не дождались меня?
– Понимаете, батюшка…
– Почему? – повторил Михаил Борисович, ударив кулаком правой руки по ладони левой.
Разве справедливо, что деду помешали увидеть лицо внука? И вдруг у него возникло ощущение, будто ему лгали, ребенок, даже бренные останки которого старику не дано было увидеть, никогда не существовал, и все это был обман, выдумка Николая. Затем, безо всякого перехода, он обрушился на сына и сноху, которые не сумели уберечь от болезни ангелочка, посланного им Господом.
– Отчего он умер? – спросил Михаил Борисович.
– Доктор в точности не знает… Наверное, от врожденного сердечного заболевания… Утром, в колыбельке, его нашли бездыханным…
– А врач у вас кто?
– Голубятников.
– Набитый дурак! Ручаюсь, что он растерялся! Вероятно, можно было что-то сделать! Если бы я был здесь…
– Не надо так думать, батюшка. Доктор Голубятников очень преданно помогал нам. Но все его усилия оказались напрасны. Никто не виноват.
– Никто не виноват! – повторил Михаил Борисович. – Ты так считаешь!.. И только потому, что это тебя устраивает!..
Он задыхался от ярости. В голове у него созрела одна мысль. Смерть маленького Сергея явилась наказанием свыше. Господь покарал Николая за то, что он женился вопреки воле отца на этой иностранке, католичке. Никогда, – он был в этом убежден, – подобное несчастье не случилось бы, если б мать ребенка была православной. Скончавшийся на четвертый день Сергей наверняка не был даже крещен. Состоялось ли отпевание? Бесполезно спрашивать об этом. «В любом случае он теперь среди ангелов, – подумал Михаил Борисович. – А я так хотел посадить елочку в честь его рождения!» Пелена слез окутала его глаза.
– Покойся с миром в лоне Авраамовом, дитя мое! – пробормотал он. – И прости твоим родителям, что они не заслужили, чтобы ты жил!
Он поискал взглядом икону в гостиной, не обнаружил ее и перекрестился на окно, сильно прижимая сложенные пальцы ко лбу, к животу и к обеим сторонам груди.
– Что вы хотите этим сказать, отец? – пробурчал Николай, с трудом сдерживаясь.
Михаил Борисович презрительно оглядел его. Ему хотелось выкрикнуть то, что он думал, в лицо сыну, но старик опомнился из уважения к печали, которую, должно быть, испытывал и его сын.
– Ничего, – пробормотал он, – ничего такого, что ты мог бы понять. Ты просто мальчишка… Как чувствует себя твоя жена?
Этот вопрос прозвучал слишком поздно. Николай был возмущен, что его отец так долго ждал, прежде чем задать его. Такой эгоизм, такая суровость превосходили все дурное, что можно было ожидать от этого человека!
– Софи чуть не умерла во время родов! – ответил Николай.
Густые брови Михаила Борисовича дрогнули. Он бросил на сына холодный взгляд.
– Что? – произнес он. – А теперь?
– Она еще очень слаба. Кончина малыша была для нее ужасным ударом. Не знаю, как она от него оправится…
– Да, да, – вздохнул Михаил Борисович.
Он явно не хотел поддаваться волнению. Николай презирал отца за его тупую враждебность. С того момента, как Михаил Борисович вошел в этот дом, к трауру примешалось разногласие.
– Должен ли я распорядиться, чтобы приготовили для вас комнату? – коротко спросил Николай.
– Да. И скажи Антипу, чтобы разгружал коляску.
В этот момент за дверью раздался робкий стук. В гостиную вошла босоногая служанка и сказала Николаю, что барыня желает видеть его немедленно. Николай бросил на отца испуганный взгляд и быстро вышел. Когда жена призывала его таким образом, он всегда опасался недомогания, приступа рыданий. Но Софи, спокойная и измученная, лежала в своей кровати при свете ночника. Она услышала, как подъехал экипаж, и хотела узнать, кто был ночной посетитель.
– Это мой отец, – неохотно ответил Николай.
Софи чуть приподнялась с подушек, щеки у нее покраснели.
– Он приехал из Каштановки? – прошептала она.
– Да, Софи.
– Он знал?..
– Нет.
– Бедняга! Попроси его прийти сюда.
Заметив недоброе расположение Михаила Борисовича к Софи, Николай опасался, как бы, оказавшись лицом к лицу, они снова не начали ссориться.
– Нужно ли это, дорогая? Отец устал с дороги. Да и ты…
Она медленно покачала головой справа налево и слегка покривилась, отчего обнажились ее зубы.
– Сходи за ним, Николай.
Несомненно, смерть ребенка потрясла ее настолько, что все прежние ссоры казались ей теперь ничтожными и смехотворными. Она едва помнила о том, как отвратительно встретил ее в Каштановке Михаил Борисович. Обратив на мужа преисполненный невероятной нежности взгляд, она снова сказала:
– Иди, и поскорее.
Не в силах противиться ей, он вернулся в гостиную. Услыхав, что Софи позвала его к себе, Михаил Борисович не смог скрыть своей досады. Он опасался такого рода встреч, когда христианское милосердие вынуждает вас лгать, чтобы соблюсти приличия. На лице Николая застыло умоляющее выражение. «Он боится, что я устрою скандал», – подумал Михаил Борисович.
– Ну что ж! Пошли, – сказал он, пожимая плечами.
И с раздражением последовал за сыном. В конце длинного коридора Николай распахнул дверь. Михаил Борисович переступил порог и застыл от удивления. В полумраке он разглядел знакомую кровать с желтым балдахином, два цилиндрических ночных столика, шкаф с резной дверцей, икону Иверской Божьей Матери в красном углу. Это была спальня, в которой он поселился со своей женой Ольгой Ивановной вскоре после женитьбы. Николай родился именно здесь двадцать пять лет назад. У Михаила Борисовича закружилась голова, и он почувствовал, как внутри у него оживают тревога, радость, гордость, источник которых уже давно иссяк. Воспоминание о прошлом было таким четким, что он забыл, зачем пришел сюда. Думал о своей молодости, о минутах счастья, о словах любви, смехе, поцелуях и не видел Софи. И вдруг сквозь завесу тумана разглядел ее. Она лежала на месте его жены, в кровати жены, и на ее лице было то же выражение усталости и мужества, которое появилось у его жены после родов. Но около Ольги стояла тогда колыбель с ребенком внутри. А рядом с Софи ничего не было. Как, должно быть, она страдает из-за этой пустоты!
Михаил Борисович надел очки и посмотрел на сноху повнимательнее. Ночник освещал контуры ее узкого личика с красиво изогнутыми черными бровями, коротковатой верхней губой, темными, лихорадочно блестевшими глазами и тонким очаровательным носиком. Ее поднятые к затылку черные волосы были прикрыты кружевной косынкой. Длинная гибкая шея слегка распухла у основания. Розовая вязаная накидка была наброшена на плечи. Михаила Борисовича охватило волнение. Сердце его билось быстро и сильно, и при этом он никак не мог совладать со своим замешательством или объяснить его. И прежде чем он успел открыть рот, она прошептала:
– То, что случилось с нами, – ужасно! Простите меня за то, что я причинила вам обманчивую радость.
Он вздрогнул: она сказала это по-русски. Когда Софи выучила язык своего мужа? Почему Николай не рассказал об этом в своих письмах?
– Вся эта поездка, такое дальнее путешествие, и понапрасну! – со вздохом продолжила она.
У Софи был очень милый французский акцент. Михаил Борисович боролся с желанием сложить оружие. И вдруг перед этой молодой женщиной, преисполненной достоинством в горе, он ощутил, насколько смешна его претенциозная озлобленность. Николай присел у изголовья Софи и не сводил с нее влюбленного взгляда. После продолжительного молчания Михаил Борисович услышал вдруг собственный голос, произносивший:
– Мы должны смириться пред волей Господа и принять ее, чего бы нам это ни стоило. Вы молоды, и у вас будут другие дети…
– Отец, не говорите так! – попросил Николай.
Он боялся, что Софи это шокирует. Но она грустно улыбалась, уставившись в стену перед собой. Внезапно приняв решение, Михаил Борисович взял руку Софи и поднес ее к губам: ладонь была легкой и теплой, совсем как у ребенка. Михаил Борисович деликатно опустил ручку Софи на край кровати. Запах миндаля витал вокруг его лица.
– Я хотел бы, – пробормотал он. – Надо бы… Абсолютно необходимо, чтобы вы приехали жить в Каштановку!..
2
На улице Николай с жадностью вдыхал ночной воздух. Впервые после трех недель он вышел наружу. Софи сама настояла, чтобы он пошел на эту дружескую встречу к Косте Ладомирову. Ну разве свекор не составит ей компанию после ужина? Они сыграют в шахматы. Николай был счастлив и вместе с тем встревожен их добрым согласием. Прекрасно зная характер своей жены и Михаила Борисовича, он сомневался, что затишье продлится долго. В любом случае, результатом этого примирения явилось то, что Софи согласилась теперь переехать и жить в Каштановке. Казалось, ей даже не терпелось покинуть Санкт-Петербург. Николай вполне допускал, что ей хотелось уехать из тех мест, которые напоминали о ее трауре. Но он был уверен, что, проведя несколько месяцев в деревне, Софи пожалеет о своем решении. Но тогда будет слишком поздно возвращаться назад. Завязнув в Каштановке, они останутся там до конца своих дней.
Николай, однако, уже не мог обойтись без блестящей и непоследовательной жизни в столице. Он приобрел здесь друзей среди самых видных молодых людей, служивших в гражданском и военном ведомствах. Многие из них, подобно ему, принимали участие в кампаниях 1814 и 1815 годов против Наполеона и оказались в Париже после того, как он был взят. Оттуда они вывезли общие идеи и склонность к дискуссиям. Их еженедельные встречи у Кости всегда заканчивались политическими разговорами. Каждый излагал то, что услышал в городе, в казарме, в министерстве, при дворе, и высказывал свое мнение по поводу таких серьезных предметов, как законность власти, отмена крепостного права и способ приобщения просвещенных слоев нации к делам государства. Разумеется, при каждой встрече обменивались примерно одними и теми же суждениями, но само повторение этих мыслей было захватывающим. Николай размышлял обо всех тех радостях, которыми ему предстояло пожертвовать ради удовлетворения нужд Софи. Кто же из них был большим эгоистом, она или он? Нынешним утром он опять попытался разубедить ее. Она ничего не захотела слушать: «Врач сказал, что через три недели я смогу путешествовать в покойной коляске. Разве ты не горишь желанием вновь оказаться в краю твоего детства? Мы будем так счастливы там!» Ну как она могла говорить подобным образом, в то время как здесь, на берегах Невы, начинался самый мягкий и самый лучший сезон? Город был окутан светом полярной весны, не свойственным ни дню, ни ночи. При столь призрачном рассвете дома утрачивали свою громоздкость, тени никому не принадлежали, повседневная жизнь протекала совсем по-иному. Три недели назад прошел второй ледоход. Иноземные суда уже прибывали из Финского залива и причаливали к набережной у Биржи. С их появлением в город проникали запахи дегтя и смолы, голоса лоцманов, скрежет тяжелых работ по возведению рангоутов.
Широко шагая по улице, Николай вдыхал запах так близко расположенного моря. Налетевший с морских просторов резкий ветер продувал Невский проспект по всей его длине. Редкие прохожие, случайно попадавшиеся в столь поздний час, казались призраками, непонятными видениями, прогуливающимися мыслями, порождениями существ из плоти и костей, которые спали в своих кроватях. Это сны жителей Санкт-Петербурга дышали свежим воздухом без ведома их хозяев. И не был ли сам Николай призраком, прогуливающимся по городу, тогда как его подлинное тело осталось там, между его отцом и Софи? Одного того факта, что он мог задать себе такой вопрос, было Николаю достаточно, чтобы осознать, в каком неестественном состоянии он находился.
Костя Ладомиров жил в огромной квартире неподалеку от Исаакиевской площади. Он принял Николая в гостиной, обставленной на восточный манер, с очень низенькими кушетками, разбросанными по полу разноцветными кожаными подушками, настенными коврами, инкрустированными перламутром низенькими столиками, стоящими по всем углам и наргиле для курения в центре комнаты. Ароматические свечки дымились в плошке для благовоний. Хозяин дома был облачен в халат из кашемира, на ногах – желтые туфли без задника и каблука, на голове – феска. Этот наряд он надевал обычно по понедельникам, принимая гостей. Разодевшись таким образом, Костя с его резкими чертами, вихром на лбу и длинными ногами напоминал голенастую птицу, украшенную пышным оперением.
– Я рад, что пришел первым, – сказал Николай, усаживаясь на кушетку по-турецки. – Мне нужно с тобой поговорить… Дома у меня совсем нехорошо!..
– Ну как, по-твоему, может быть хорошо? – ответил Костя, который пока еще не задумывался ни о чем, помимо кончины ребенка. – Потерпи, и время залечит раны!
– Речь о другом!
– О чем? Тебя беспокоит Софи?
– Да, – признался Николай.
Но чуть не проговорившись, что ему придется уехать из Санкт-Петербурга, подчиняясь настояниям жены, он спохватился. Костя, будучи холостяком, не мог понять, что иногда в супружеской жизни именно жена, а не муж принимает важные решения. Опасаясь показаться смешным в глазах приятеля, Николай, уклоняясь от ответа, прошептал:
– Я вижу, что она очень устала, сильно издергана… Деревенский воздух пойдет ей на пользу… Как только она поправится, я увезу ее в Каштановку, и мы поселимся там…
– Надолго?
– Думаю, да. Во всяком случае, я подам в отставку в министерстве.
– Ты с ума сошел! – воскликнул Костя.
Николай надеялся, что друг подбодрит его. Но Костя отреагировал в точности так же, как он сам, услышав об этом нелепом намерении:
– Ты же не можешь взять и просто уехать! Ты просто отупеешь в провинции!
Задетый за живое, Николай сумел все же скрыть свою досаду.
– Не надо так думать! – сказал он. – Я обожаю уединение. И воспользуюсь им для чтения, размышлений, займусь земледелием, животноводством, чтобы поближе познакомиться с крестьянами, которых мы так плохо знаем!..
– Ты странный человек! – заметил Костя, покачав головой, отчего элегантно дернулась кисточка фески, висевшая у его щеки. – Я и представить себе не мог, что тебя может привлечь деревня!
– Неужели я выгляжу таким легкомысленным? – сказал Николай с кислой улыбкой. – Кстати, приезжай навестить меня…
– В это захолустье? Не очень-то рассчитывай на меня!..
– Тогда я сам позабочусь о том, чтобы время от времени приезжать в Петербург!
Он продолжал делать вид, что в добром расположении духа, хотя холод уже врывался в его жизнь. Все превратилось в серость, тоску и ненужность. Костя предложил ему трубку с фарфоровой головкой и янтарным желтым мундштуком. Друзья молча покурили. Затем Костя спросил:
– А что думает о твоем решении Софи? Я уверен, что она не в восторге по поводу отъезда!
– О да! – ответил Николай… – Впрочем, мне было не слишком трудно уговорить ее…
Зазвонил колокольчик. Четыре гостя явились одновременно. Все военные. Они отстегнули пояса и оставили свои шпаги в прихожей. Самым импозантным из этих офицеров был Ипполит Розников, который стал близким другом Николая в Париже. Назначенный адъютантом генерала Милорадовича, губернатора Санкт-Петербурга, «красавец Ипполит» пополнел и приобрел уверенность в себе. Высокий и сильный, курчавый, усатый, он хохотал по любому ничтожному поводу и утверждал, что температура поднимается на три градуса, стоит ему войти в комнату. Вместе с ним пришли невысокий Юрий Алмазов, поручик, служивший в полку в Москве, Володя Козловский, корнет-кавалергард, и огромный Дмитрий Никитенко, драгун. Чуть позже появились также капитан Щедрин из Измайловского полка, и мужчина лет тридцати с подстриженными бобриком белокурыми волосами, взглядом, искаженным толстыми очками, и полным подбородком. Его звали Степан Покровский, он представлялся поэтом, но служил в таможенном управлении. Слуги Кости засуетились. На столе появился кипящий самовар, но его наличие было лишь символическим. Настоящий запас напитков состоял из батареи бутылок: все виды спиртного, известные в мире, были под рукой! Старый лакей Кости по имени Платон наполнял бокалы. Каждый раз, когда один из господ отпускал беззлобное ругательство, Платон должен был воскликнуть «Салям алейкум, да пребудет с вами покой!» и предложить бокал искупления виновному. В бокале обязательно содержалась смесь шампанского и коньяка. Первому пришлось проглотить ее Косте за то, что он описал в циничных выражениях прелести знакомой актрисы. Затем пришла очередь Юрия Алмазова, который рассказал скабрезный анекдот об архимандрите Фотии, любимце экзальтированных дам Санкт-Петербурга.
Николаю было неловко смеяться с остальными, вопреки своему трауру. Все друзья, разумеется, выразили ему соболезнования на дому. Но, исполнив формальный долг, они говорили при нем так же свободно, как прежде. Предпочел бы он остаться дома, чтобы не слышать их шуток? Ему было так хорошо среди этих молодых людей, так ясно мыслящих и словоохотливых! Рассевшись на подушках, развалившись на кушетках в расстегнутых мундирах, раскрасневшись, с трубками во рту, они теперь оценивали сравнительные достоинства двух известнейших балерин – Колосовой и Истоминой. У каждой были свои страстные поклонники. То же самое происходило при обсуждении певиц. Когда Козловский заявил, что он бесконечно восхищается французской певицей Данжевиль-Вандерберг, Костя, обожавший итальянку Каталани, рассердился и, после того как обозвал всех французских сопрано музыкальными отбросами, был вынужден проглотить второй бокал искупительного напитка. Страсти накалились, и, естественно, разговор коснулся политики. В этом все присутствующие пришли к согласию, осудив уловки царя Александра. В прошлом году он пожаловал Польше некое подобие конституции. Чего же он ждал, не распространив эти либеральные меры на Россию? Может быть, считал, что его народ недостаточно зрел, чтобы воспользоваться теми же правами, что его соседи? Полицейская слежка не ослабла, а, напротив, усилилась.
– Нас, господа, в очередной раз одурачили, – сказал Козловский. – Единственное, что меняется в России, это мундиры. Говорят, что во Франции все кончается песнями; у нас же все заканчивается солдатами!
Николай понял, что Козловский намекал на военные поселения, введенные генералом Аракчеевым, ближайшим советником царя. По замыслу этого ужасного человека целые провинции превращались в места расположения войск. Полк прибывал в уезд, и все мужики этого уезда автоматически становились солдатами. Распределенные по ротам, батальонам, эскадронам, они составляли резерв регулярных частей, размещенных на их территории. Мужицкие избы были снесены и заменены симметричными домиками. Одетые в мундир крестьяне обучались военной службе, а в часы отдыха работали, чтобы обеспечивать армию всем необходимым. По уставу они были обязаны стричь бороды, выходить на свои поля в солдатской форме, под звук барабана, записывать своих сыновей в рекруты с семилетнего возраста и получать у полковника разрешение на вступление в брак своих детей обоего пола.
– Мне рассказывали, – сказал Николай, – что в одной из провинций население было переброшено в другие места в течение двадцати четырех часов. Беременных женщин, стариков, больных увезли более чем за тысячу верст от родного дома по распоряжению властей.
– Любопытно то, – заметил Костя, – что Закона у нас как бы не существует, а есть лишь распоряжения властей!
– Как это нет Закона? – воскликнул Ипполит Розников. – А мне кажется, напротив, малейшие наши действия предусмотрены законодателями!
– Да, но предписания законодателей остаются мертвой буквой для центральной власти, – заявил Степан Покровский. – В России, например, нет определенного закона, устанавливающего крепостную зависимость мужиков. Если бы они обратились в суд, требуя свободы, а этот суд оказался справедлив, мужики должны бы были выиграть дело. И что! Только представьте себе судебное разбирательство такого рода! Крепостные, осмелившиеся затеять его, были бы избиты до смерти… по распоряжению властей! У цивилизованных наций Закон выше главы Государства, у нас же глава Государства выше Закона!
– В этом отношении ты прав, – поддакнул Николай. – А Козловский не прав, если утверждает, что в России ничего не изменилось. Несколько лет назад никто не осмелился бы говорить об этих вещах, никто даже и в мыслях такого не держал!
– Разумеется! – хихикнул Юрий Алмазов. – Мы еще не покидали своих домов, и у нас не было никакой возможности сравнивать. Но стоило по неосторожности выпустить нас в широкий мир, как мы разобрались. Мы отправились во Францию сражаться с тираном Бонапартом и вернулись оттуда, заразившись свободой!
– Именно так! – поддержал его Щедрин. – Что касается меня, то я страдал, обнаружив в моем отечестве страдания народа, раболепство должностных лиц, зверство командующих, злоупотребления властей! Я отказываюсь верить, что мы раскрепостили Европу, чтобы самим оставаться в рабстве!
– Вы смешите меня этим вашим раскрепощением Европы! – заметил Ипполит Розников. – Когда я оказался в Париже после того, как мы вошли туда, мне показалось, что французскую свободу очень четко контролирует полиция Людовика XVIII.
– И все же не стоит сравнивать их свободу с нашей! – возразил Щедрин. – Или же – позволь тебе это заметить – ты никогда не соприкасался с нею! Нет, господа, дело ясное. Прожив несколько месяцев во Франции, в Германии, прочитав Монтескье, Бенжамена Констана и многих других авторов, невозможно взирать на наш мир прежними глазами!
– Я не стану возражать! – пробурчал Николай.
– Тем более, – воскликнул Костя, – что ты не ограничился тем, что почерпнул в Париже расплывчатые мечты о конституции, ты привез оттуда супругу! И какую супругу! Воплощение прелести, ума и изысканности!
– Это правда, что она была очень близка к протестующим кругам? – спросил Степан Покровский.
– Да, – ответил Николай, испытав смешанное ощущение гордости и неловкости.
Он не был уверен, что политическое прошлое Софи одобряли все гости, явившиеся на эту встречу. Даже те, кто с виду особенно благосклонно воспринимал демократические идеи, всерьез не предполагали, что следует разрушить установленный порядок.
– Она, должно быть, ужаснулась, высадившись в нашем бедном отечестве, над которым еще витает тень Петра Великого! – продолжил Степан Покровский.
– Я предупредил ее, чтобы она не слишком удивлялась! – сказал Николай.
– И что она думает о России теперь, когда привыкла к нашему образу жизни?
– Ей здесь очень нравится.
– Вот что определенно делает тебе честь! – со смехом заметил Костя.
– Конечно, – продолжал Николай, – некоторые наши порядки шокируют ее. Как и все мы, она желала бы, чтобы крепостное право было отменено и гарантированы основные свободы…
Ипполит Розников перебил Николая, ударив рукой по его бедру:
– Так подожди! Разве ты не рассказывал мне когда-то, что Софи состояла в подпольном сообществе? Друзей розы, гвоздики или какого-то друга цветка…
– «Друзей мака», – уточнил Николай. – По правде говоря, это было очень безобидное сообщество, члены которого ограничивались тем, что печатали и распространяли брошюры республиканского толка…
– Вот что нам надо бы в России! – сказал Костя.
Все с удивлением взглянули на него. Рухнув на софу, Костя уронил туфли и задумчиво разглядывал пальцы своих ног, обтянутые зелеными носками.
– Мы служили нашему отечеству во время войны, – снова заговорил он. – И должны доказать, что столь же полезны в мирное время!
– Устроив заговор против существующей власти? – спросил Ипполит Розников.
– А ты сам не замышляешь чего-нибудь против власти, коль скоро примкнул к масонской ложе? – заметил Степан Покровский.
Красавец Ипполит приосанился и сухо ответил:
– Конечно, нет!
– Ну хорошо! – успокоился Степан Покровский. – Нам не пристало быть бóльшими заговорщиками, нежели ты. Я не вижу ничего предосудительного в том, что друзья, исповедующие одинаковые идеи относительно будущего их страны, соберутся и опубликуют небольшую записку…
Ипполит Розников перебил его:
– И ты представишь эту твою записку цензуре?
– Не обязательно.
– Тогда твои действия окажутся незаконными!
– Если нет способа действовать иначе!..
– Вполне можно создать тайное сообщество, не публикуя записки, – предложил Юрий Алмазов.
– Ну конечно, оно будет тайным, ваше сообщество! – воскликнул Розников. – Настолько тайным, что из-за этого скоро окажется бесполезным!
Бросив взгляд на окружающих, Розников заметил, что такого мнения придерживается он один, и закрутил ус.
– А я полагаю, – мягко произнес Степан Покровский, – что чем больше будет людей, которые, подобно нам, станут обсуждать государственные дела, тем глубже правительство ощутит моральную обязанность перейти к действиям. Не говорят ли по-французски, что идея витает в воздухе? Это выражение чрезвычайно верно. Нужно, чтобы воздух пропитался нашими идеями, чтобы люди вдыхали наши идеи с утра до вечера, не обращая на это внимания…
Его голубые глаза сияли за стеклами очков. Он чем-то напоминал немецкого философа. Николай испытал порыв симпатии к этому человеку, чья особая убежденность объяснялась, вероятно, его искренностью. Костя вдруг вскочил на ноги, откинул феску на затылок, раскинул, как турецкий чародей, руки, призывая к тишине, и произнес:
– Друзья мои, у меня есть для вас предложение. Мы создадим тайное общество. И это тайное общество будет размещено у меня. Его цель – изучение наилучших способов обеспечения благополучия России. Члены организации принесут клятву, обязуясь помогать друг другу, клятву верности до смерти. Возможно, мы опубликуем соответствующий документ… Об этом надо подумать! В любом случае, если понадобятся для чего-то деньги, я готов выдать их! Что вы об этом думаете?
Помешкав секунду, присутствующие ответили ликующими возгласами:
– Ура, Костя! Ты гений!
Николай был в восторге. Ощущение принадлежности к охваченной пылом группе людей, к тому, что он слышит отовсюду отклик на свой голос, – все это выдавало желание посвятить себя чему-то безоглядно. Он был вне себя от того, что должен покинуть Санкт-Петербург в тот момент, когда его жизнь обретала новый смысл. С одной стороны – будущее России, с другой – прихоти женщины, выстрадавшей большое горе и привыкшей всегда добиваться того, чего она желала! Но стоило ему сформулировать эту мысль, как он осудил ее. Ему часто доводилось быть несправедливым к Софи. Пострадав от какой-либо неприятности, он тут же был готов свалить на нее вину. Однако сегодня, как никогда, она имела право на его участие. Николай представил ее себе, держащей мертвого ребенка на руках. Она пожелала сама одеть его и положить в гроб. Лицо ребенка было сверхъестественным. «Он был слишком красив, чтобы жить, – подумал Николай. – У меня больше нет сына. И, быть может, никогда не будет!» Он уже готов был разрыдаться, но вздрогнул от неожиданности, почувствовав дружеское похлопывание.
– А ты будешь с нами, Николай? – спросил Костя.
– Конечно, – пробормотал Николай. – Но ты же прекрасно знаешь, что я должен уехать…
– Это ничего. Ты ведь не Россию покидаешь. Мы будем держать связь!
Николай пожал другу руку.
– Тогда, – сказал он, – я с радостью… и… и очень признателен!
Костя задавал тот же вопрос всем своим гостям. Все ответили утвердительно, за исключением Ипполита Розникова, попросившего времени на размышление. Он, разумеется, не хотел рисковать своей карьерой, связавшись с движением, которое не могло быть одобрено властями.
– Я буду наблюдать за вашими усилиями с сочувствием, – сказал он. – И все…
Его слова потонули в радостном гаме. Заговорщики придумывали название для своего сообщества. Степан Покровский предложил позаимствовать название и устав «Тугенбунда», организации, распущенной в Германии четыре года назад. Но Юрий Алмазов заметил, что недопустимо давать название, звучащее на немецкий лад, русскому по определению начинанию. Дмитрий Никитенко был сторонником серьезного определения, такого, например, как «Лига добрых намерений» или «Союз во имя Добродетели и Истины», но Костя полагал, что этому названию недостает поэзии.
– Почему бы и нам, в свою очередь, не назвать себя «Друзьями мака»? – заявил он.
Николай покраснел от радости.
– По-русски это звучит не так хорошо, как по-французски! – сказал Степан Покровский.
– А нам не обязательно переводить это название на русский язык! – возразил Никитенко.
– Но как же иначе! Помилуйте, господа, будем все же логичными! Вы отказались от «Тугенбунда», а теперь…
Разгорелся спор. Несмотря на тайный характер собрания, никто не остерегался старого лакея, подносившего питье. Костя ухватил его за ухо и сказал:
– А ты, Платон, что ты об этом думаешь?
– Не знаю, барин! Я недостаточно образован! – пробормотал тот, вытянув шею.
– Но мозги-то у тебя как-никак есть! Пошевели ими, черт возьми!
– Маки – это красиво в поле, где растет зерно, – ответил Платон.
Костя отпустил ухо слуги и дал ему щелчок по носу.
– Салям алейкум! – выкрикнул Платон.
И отскочил к стене.
– Браво, Платон! – сказал Николай. – Мы станем маками на ржаных полях России!
– Я требую голосования за это предложение, – вмешался Щедрин.
– Хорошо! Платон! Заснул, что ли, старый осел? – зарычал Костя. – Принеси, чем писать! И побыстрее!
Голосовали, бросая маленькие бумажки в фуражку конногвардейца Козловского. Николай подсчитывал голоса. Из восьми записок три оказались за «Друзей мака» и пять за «Союз во имя Добродетели и Истины».
– Господа, – провозгласил Костя, – позвольте мне заметить вам, что согласно тому, как это происходит в подлинно демократических условиях, наши решения принимаются большинством голосов. Я лично предпочел бы «Маки», но охотно склоняюсь перед «Добродетелью и Истиной», поскольку это название одобрено наибольшим числом присутствующих. Мое самое горячее желание сводится к тому, чтобы каждый из вас привлек к нашему делу как можно больше сторонников!
Николай огорчился, что маки Франции не прижились в России. Но разочарование рассеялось после новых заявлений Кости.
– Нам надо договориться, – сказал он, – об опознавательном знаке. Что вы скажете по поводу кольца с какой-то гравировкой поверху? Опрокинутым факелом, маской, кинжалом… Я мог бы отдать рисунок ювелиру, чтобы он оценил его. Он и изготовит для нас необходимое количество колец. Мы использовали бы эти кольца в качестве печати при переписке.
– Принято! – воскликнул Николай.
– Принято! Принято! – закричали остальные.
Юрий Алмазов вскочил на маленький столик, чуть было не потеряв равновесия, уцепился за плечо Никитенко и звонким голосом продекламировал:
Владыки! вам венец и трон Дает Закон – а не природа; Стоите выше вы народа, Но вечный выше вас Закон!Уже более года эта ода молодого Пушкина ходила по городу в рукописной копии. Все знали ее наизусть. Но Юрий Алмазов так хорошо ее читал, что в конце раздались аплодисменты.
– Если Пушкин будет продолжать, он не задержится надолго в Санкт-Петербурге, – сказал Ипполит Розников. – Терпение властей имеет пределы!
– Царь ценит талант! – заметил Степан Покровский.
– При условии, что талант ценит царя!
– Господа, господа, не будем отвлекаться! – сказал Костя, постучав ложкой в стакане, чтобы призвать к тишине. – Вы не выбрали рисунка для кольца.
– Выбери его сам! – бросил Николай. – Факел, кинжал, маска, змея, – что это меняет: главное, чтобы символ был священен для всех! О, друзья мои, какой памятный вечер!
– Я хочу жить! – прорычал Костя. – Повторяйте за мной: этот дом – бордель без очарования блудниц…
Гости хором повторили фразу. Платон смеялся, растянув рот до ушей и сложив толстые пальцы на животе.
– Чего ты ждешь? – спросил Костя.
– Салям алейкум всем! – с поклоном произнес Платон.
Каждый получил по кубку искупления. Сладковатые испарения от душистых благовоний вызвали отвращение у Николая. Смесь шампанского и коньяка затуманивала мысли. В зависимости от того, что он думал о той или другой стороне своего существования, возникала либо вера в будущее, либо желание покончить с собой. Юрий Алмазов прочитал еще одно стихотворение Пушкина, в котором автор спрашивал себя, увидит ли он однажды «рабство, падшее по манию царя». Затем Степан Покровский, надев очки и вытерев нос, прочел басню собственного сочинения: речь шла о булыжнике, который жаловался на свою судьбу и просил Бога превратить его в человека. Став мужиком, булыжник так страдал, что взмолился, умоляя Всевышнего обратить его снова в камень… Тема была совсем не оригинальна, но стихи мелодичны. Николай с трудом приподнялся с кушетки и, поцеловав Степана Покровского в лоб, сказал:
– У тебя такая страсть в стихах!
Это замечание рассмешило офицеров. Николай, который был искренним, чуть не вскипел. Его успокоили, убеждая, что в кругу членов тайного общества не бывает непростительных обид. Николай охотно остался бы у Кости на всю ночь, но он обещал Софи вернуться к одиннадцати часам. Никто еще и не думал об уходе, но Николай распрощался с друзьями, хотя ему явно было грустно из-за того, что приходится подчиниться долгу.
Дома он нашел свою жену лежащей на диване в гостиной, голову ее поддерживали подушки, ноги были укрыты медвежьим мехом. Михаил Борисович сидел около нее в освещенном лампой кругу. Они только что завершили шахматную партию. Выиграла Софи. Вопреки обыкновению, Михаил Борисович как будто радовался тому, что его обыграли. Ни он, ни она не настаивали на рассказе Николая о проведенном им вечере. Впрочем, он и сам предпочитал, чтоб было так, поскольку намеревался поговорить об этом подольше наедине с женой.
Поцеловав руку снохи и благословив сына крестным знамением, Михаил Борисович наконец ушел к себе. Николай помог Софи подняться и поддерживал ее под руку, когда вел в общую спальню. Недавно врач разрешил Софи ходить по дому. Она продвигалась мелким шагом, наклонив корпус вперед, ноги у нее были слабы.
Когда Софи легла, Николай сел напротив нее и молча стал смотреть на нее.
– Ты еще не ложишься? – спросила она.
– Нет! Мне слишком много надо тебе рассказать! Угадай, о чем шла речь у Кости?
– О политике, как обычно!
Она знала друзей Николая и разделяла их желание увидеть, как в России устанавливается либеральный режим. Частенько во время обеда, на балу в перерыве между танцами, в театре во время антракта она перебрасывалась с ними несколькими словами по поводу их общих чаяний. Но кто же в Санкт-Петербурге не желал реформы существующего устройства? Говорят, и сам царь был преисполнен добрых намерений.
– На этот раз, – решительно произнес Николай, – наши дискуссии пошли дальше!
И он сообщил ей о создании «Союза во имя Добродетели и Истины».
– Представь себе, что Костя хотел даже назвать наше сообщество «Друзья мака!» – сказал он.
Софи была неприятно удивлена. Она сама не знала почему, но ей не нравилось, что Николай напомнил в присутствии друзей о политической деятельности, которой она занималась в Париже. Быть может, она не считала их достаточно развитыми, чтобы посвящать в подобные секреты? Во всяком случае, она была бы огорчена, если бы они, играя в заговорщиков, приняли название «Друзей мака», которое вызывало у нее воспоминание о нескольких замечательных людях.
– Я рада, что вы выбрали другое название, – мягко сказала Софи.
Он растерянно посмотрел на нее и продолжил:
– Костя прикажет изготовить особые кольца, которые будут служить для нас опознавательным знаком. Надо будет разработать церемониал приема новых членов…
Вдруг он подумал, что, если ему удастся заинтересовать ее своими планами, она не так будет стремиться покинуть Санкт-Петербург. Софи слишком часто доказывала ему в Париже, на какое мужество способна из преданности делу, так что у него не возникло намерения переубеждать жену, взывая к ее республиканским взглядам.
– Я никогда не предполагал, что сближение людей вокруг одной идеи может быть таким сильным! – продолжил Николай. – Сегодня вечером мы были как братья, все счастливы и взволнованы нашим решением! Ты ведь пережила нечто подобное и должна меня понять…
Софи внимательно слушала его и удивлялась его восторженности по поводу такого малозначительного дела. Подавленная смертью ребенка, она утратила вкус к дискуссиям. Вероятно, мужчина был не способен глубоко переживать траур такого рода. В то время как она не находила опоры ни в чем, помимо уединения и размышления, он искал забвения в мирской жизни. Изобретал для себя замещающие горе заботы, отвлекающие страсти. «Союз во имя Добродетели и Истины» – какая находка!
– Это может стать всепоглощающим начинанием, – сказал он. – Вся Россия, если мы добьемся успеха, будет благодарить нас!
– Да, да, Николай, – прошептала она примирительным тоном.
– У меня создается впечатление, что ты в это не веришь. Тебе надо побывать на одном из наших собраний.
– Я бы предпочла, чтобы ты рассказывал мне о них.
– Как я смогу рассказывать, если мы уезжаем? Признайся, что это очень жаль! Именно в тот момент, когда великая идея обретает силу…
Софи возразила ему улыбкой, и как всегда, когда она смотрела на него так по-матерински, так трезво и властно, он, – это ему стало ясно, – не мог противиться ей.
– Ты не права, – пробормотал он. – Как глупо! А если мы отложим наш отъезд на два или три месяца…
От долгого разговора его голос охрип. Не ответив ему, Софи взяла его руку и прижала к своей щеке. Николаю было жарко. От него пахло табаком, спиртным. Должно быть, он развлекался там. Быть может, смеялся. Преисполненная раздражения и снисходительности, Софи знаком пригласила его сесть рядышком на край постели. Николай молча подчинился. Но он боялся прикоснуться к ней. После родов она казалась ему необыкновенно уязвимой. Софи привлекла его к груди. И в то время, как она целовала мужа, он удивлялся тому, что чувствует себя таким несчастным и счастливым одновременно.
3
В столовой было темно и свежо, но два открытых окна, выходящих в сад Каштановки, обрамляло переплетение залитой солнцем листвы. В столбе света плясали мошки. Время от времени служанка бросала щепотку порошка в печку. Облако дыма, поднимавшееся с углей, отгоняло мошкару от стола. Для Михаила Борисовича обед был приятнейшим временем дня. Видя перед собой семью в полном составе, он проживал четыре жизни вместо одной. Из всех сотрапезников именно Софи чаще всего привлекала его внимание. За две недели, проведенные в деревне, она заметно похорошела. Ее белое платье из перкали, украшенное воланами, было простым, и тем не менее сноха выглядела чрезвычайно элегантно. Приглушенный тембр голоса окрашивал тайной самое незначительное ее высказывание. Рядом с ней пухленькая, белокурая и бесцветная малышка Мария с ее влажными голубыми глазами и веснушками казалась дурнушкой. Михаил Борисович сожалел, что его дочь родилась не такой красивой и пикантной. «Николай все-таки лучше удался, – подумал он. – Жаль, что он не блещет умом». На краю стола месье Лезюр один и уже в третий раз потянулся за куском пирога с клубникой, помазанного медом и сверху украшенного кремом. Михаилу Борисовичу достаточно было бросить взгляд на бывшего наставника его детей, чтобы возникло желание унизить этого человека. Не оставив французу времени для того, чтобы проглотить лакомство, он встал, давая понять, что трапеза закончена. Месье Лезюр поспешно вернул на свою тарелку кусок пирога, который зажимал между большим и указательным пальцами.
– Прошу вас, – сказал Михаил Борисович, – не стесняйтесь, месье Лезюр!..
– Нет, нет, я уже сыт, – пробормотал тот, вытирая пальцы салфеткой.
– Мы прекрасно можем подождать еще пять минут!
– О, месье!.. Вы смеетесь!..
Когда Михаил Борисович подтрунивал над кем-то, он ощущал, как внутри у него образуется нечто вроде пузыря, который увеличивался в объеме, отливая всеми цветами радуги, перед тем как пролиться благотворным дождем. Получив удовольствие, Михаил Борисович бросил взгляд на Софи. На ее лице застыло выражение сдержанного гнева, которое восхитительно шло к ней. «Ей не нравится, что я насмехаюсь над ее соотечественником, – подумал Михаил Борисович. – Мне следует следить за тем, чтобы не перегнуть палку! Смеяться, но чуть-чуть, просто так, для развлечения!..»
– Пирог великолепен, – сказала Софи. – Я охотно возьму себе еще кусочек, отец, с вашего разрешения.
Всякий раз, когда она называла его «отец», Михаил Борисович умилялся.
– Берите же, Софи, – ответил он, снова усаживаясь с торжествующей медлительностью.
Затем закричал:
– Эй, болван, ты что, не понял? Барыня желает еще кусок пирога!
Ливрейный лакей в слишком широкой одежде подскочил. Девушки засновали туда-сюда. И огромный кусок пирога, украшенного клубникой, залитого медом и кремом, скользнул на тарелку Софи. Ей пришлось постараться, чтобы доесть его до конца, а в это время месье Лезюр заглотнул свою порцию, четырежды зацепив пирог вилкой.
– Определенно, – произнес Михаил Борисович, – в наши дни только французы умеют ценить русскую кухню.
И снова обратил взгляд на Софи, проверяя, не рассердило ли ее по крайней мере это замечание. Так или иначе, но ему показалось, что Софи сдерживала смех. Он так порадовался этому, что наполнил свою рюмку вишневой наливкой и залпом осушил ее.
– А теперь, дети мои, – сказал он, – я пойду посплю.
У него был обычай отдыхать час или два после обеда. Проходя мимо месье Лезюра, Николая, Марии и Софи, стоявших рядом у стены, он каждого одарил улыбкой; затем поднялся в свою спальню, разулся и улегся на диван черной кожи. Старая няня Василиса пришла к нему и села на табурет. Она ждала приказаний.
– Ну! Давай, – бросил он.
Она начала чесать ему ступни, и ее проворные пальцы скользили над пяткой, поглаживали лодыжку, плясали вокруг пальцев ног, возвращались к изгибу подошвы, где кожа необыкновенно чувствительна. Эта щекочущая ласка подготавливала Михаила Борисовича к дремоте лучше, чем все настойки из целебных трав. Многие помещики в округе держали своих чесальщиц ног, для себя и их жен. Конечно, Михаил Борисович мог доверить такую работу молодой и расторопной крестьянке, но Василиса исполняла эту обязанность так давно, что у него и в мыслях не было отстранить ее ради другой. «Я слишком добр!» – подумал он, расслабляясь и рассматривая две костлявые с набухшими венами руки, копошившиеся у его нижних конечностей.
– Так хорошо, барин? – пробормотала Василиса.
– Да, – вздохнул он. – Чуть повыше… правее… Вот здесь… Продолжай.
Он уже парил в облаках. Когда его храп стал размеренным, Василиса поцеловала барину руку и вышла из комнаты, отчего заскрипел пол под ее босыми ногами.
* * *
Сидя в беседке, Николай читал первый том сочинения «О духе законов» и делал пометки. Пришла Софи и предложила отправиться с нею и Марией в деревню Шатково. Оживленный вид супруги порадовал его. Сельская местность оказывала на нее благотворное действие. Мало-помалу Софи пробуждалась от траура и смотрела на мир с удивлением и чуть ли не с благодарностью. Она открыла для себя мужиков и горела желанием лучше узнать их получше, чтобы облегчить страдания. Каждый раз, когда Николай сопровождал ее в поездках по имению, он неизменно замечал, что ее возмущал уклад жизни, к которому он сам слишком привык, чтобы ощущать его несправедливость. И как она ни настаивала, он с улыбкой отказался ехать с нею в Шатково.
– Я не понимаю тебя, – возмутилась она. – Ты утверждаешь, что желаешь счастья народу, и предпочитаешь оставаться со своими книгами вместо того, чтобы поехать и встретиться с крестьянами!
– Да знаю я их, твоих крестьян, – ответил он. – И мне не нужно навещать их, чтобы понять, чего им не хватает. К тому же, будучи их хозяином, я окажусь в ложном положении, если начну жалеть их. Ты родилась не в России, приехала с чужбины, тебе неизвестны наши традиции, поэтому ты спокойно можешь критиковать, помогать…
– Не хочешь ли ты сказать, что я к мужикам ближе, чем ты?
– Ты не ближе к ним, но можешь сделать больше для них! Тебе это кажется парадоксальным?
– Немного, признаю́сь в этом.
Она надела свою соломенную шляпку и закрепила ее шпилькой. Упрямство Николая раздражало Софи. Внезапно преисполнившись мстительного чувства, она заподозрила его в том, что он любит простых людей отвлеченной любовью. Николай желал отмены крепостного права, но был равнодушен к крепостным. Рассуждая о свободе и равенстве, как и большинство его приятелей, он испытывал отвращение, заходя в избу. По существу, бедность была неприятна ему. Он предпочитал читать то, что о ней говорили другие. Софи наклонилась над томом, который размечал Николай, и заметила фразы, подчеркнутые карандашом.
– «Политическая свобода заключается не в том, чтобы делать то, что хочешь… Конституция может быть такой, что никому не придется делать вещи, не предусмотренные Законом, и незачем будет совершать поступки, которые Закон позволяет…»
– Это невероятно по трезвости взгляда и остроте ума! – сказал он. – Ты не находишь?
– О да, Николай!
– Когда я читаю подобные строки, в моей голове все проясняется. Создается впечатление, что с помощью разума можно решить проблему человечества, проблему счастья, действовать наверняка!..
Софи оценила дистанцию, разделяющую Монтескье и русских мужиков.
– Ну что же! Я оставляю тебя с твоими книгами, – сказала она. – Но я сомневаюсь, что, изучая философов, ты станешь полезным своей стране.
– А ты, – весело возразил он, – ты думаешь, что, раздав несколько одеял мужикам, ты изменишь судьбу России?
Она взглянула на него. Его вытянувшееся лицо, глаза, поблескивающие золотым и зеленым цветом, обладали даром волновать ее тогда, когда она меньше всего ожидала этого. Поразившись силе своей любви, Софи едва расслышала голос своей золовки, которая звала ее:
– Коляска готова! Поторопитесь!
– Приятной прогулки! – напутствовал Николай.
Софи оторвалась от созерцания супруга и пошла садиться рядом с Марией в коляску. Огромного роста возница вскарабкался на свое место и спросил:
– Куда прикажете ехать, барыня?
– В Шатково, – ответила Софи.
В имении было с десяток деревень, но Шатково находилось ближе всего к дому. Лошади тронулись. Аллея пролегала между двумя рядами черных елок. Запах сухой травы, теплой смолы витал в воздухе. Мария сжала руку невестки и прошептала:
– Вы расстроены, потому что Николай не поехал с нами?
– Нисколько! – ответила Софи. – Ему было бы скучно. У него период чтения.
– Да, – сказала Мария, – а мне всегда лучше быть одной с вами. При нем некоторые вещи я не могу сказать, вы понимаете?
– Не очень хорошо.
– О мужчине!
– А! Теперь понимаю, – заметила Софи с улыбкой.
И приготовилась выслушивать душещипательные признания. Но Мария, видимо, не спешила исповедоваться. Чтобы подбодрить ее, Софи спросила:
– Разве ваша жизнь не изменилась с того дня, как я впервые вас увидела? Вам теперь двадцать лет…
– А все выглядит так, будто мне еще шестнадцать! – ответила Мария.
– Вы теперь не чаще выезжаете? Не принимаете соседей?
Мария покачала головой.
– В местных семьях наверняка есть молодые люди, девушки, – продолжала Софи.
– Мой отец говорит, что нет.
– Вольно ему презирать общество, но он не имеет права запирать вас в вашем возрасте! Пряча вас, он лишит вас возможности выйти замуж!
– Он не горит желанием выдать меня замуж! – ответила девушка, опустив глаза.
И, оживившись, добавила:
– Впрочем, я тоже не слишком стремлюсь к этому!
– Почему?
– По многим причинам. Прежде всего потому, что я некрасива.
Софи отпрянула:
– Некрасива?
– Да, уродина, – сказала Мария. – Безобразна, с этим дурацким носом, маленькими глазками! Мне неловко из-за такой внешности…
– Какая глупость! – воскликнула Софи. – Вы очаровательны!
Она действительно так думала: несмотря на грубоватые черты, лицо Марии было выразительным и слегка задумчивым, ее осанка отличалась грацией, что не могло остаться незамеченным.
– Когда вы смотритесь в зеркало, для вас это удовольствие, – продолжила Мария, – а для меня – наказание. Мне хочется бежать от самой себя. И кроме того, мужчины внушают мне страх. Все мужчины. Мне трудно объяснить вам это!..
Софи догадалась, что, ради сохранения доверия, ей не следует противоречить золовке в этом вопросе.
Коляска проехала аллею и покатила по открытой дороге. В полях маячили разноцветные точки. То там, то сям сверкал блестящий серп косы. Крестьяне косили рожь. Облако пыли окутывало лошадей. Колеса подскакивали на сухих ухабах.
– Даже если вы не хотите выходить замуж, – сказала Софи, – вы могли бы принимать друзей, вести более оживленное, более свободное существование…
– Мне бы это не понравилось.
– Тогда на что же вам жаловаться?
– Я не жалуюсь. Вы задали мне вопрос, как я живу в Каштановке, и я вам ответила.
Повисло долгое молчание.
– Я поговорю с вашим отцом, – заметила Софи.
– Ни в коем случае не делайте этого! – взмолилась Мария, впившись ногтями в ладонь. – Он решит, что я такая же безнравственная девушка, как некоторые, просто вертихвостка, не думающая ни о чем, кроме развлечений!
Девушка состроила гримаску и сквозь зубы изрекла:
– Я ненавижу вертихвосток!
Софи сдержала улыбку. В этом утверждении прозвучало нечто похожее на агрессивную наивность, напомнившую ей собственную непримиримость в прошлом. Коляска проехала мимо ряда стройных берез с черными и серебряными кольцами на коре, и показались первые дома. На вбитом в откос столбе держалась дощечка с надписью: «Деревня Шатково, собственность Михаила Борисовича Озарёва. Дворов 57; учтенных мужиков: 122; баб: 141». По краям дороги выстроились бревенчатые домишки. На огороженном кольями участке росли три липы с нездоровой листвой. А вокруг красовались подсолнухи, вытянувшие вверх свои огромные желтые головки с сердцевиной черного бархата. На улице – никого. Все трудоспособное население находилось в полях. Софи и Мария вышли из коляски. За деревушкой тянулся к реке мягкий изгиб холма. У воды топталась стайка уток. На противоположном берегу под присмотром девчушки в красном платье паслись коровы. Двери изб были открыты. Переходя из одной избы в другую, Софи заглядывала внутрь и неизменно обнаруживала почерневшую от дыма и грязи обстановку, одинаковый запах прогнивших сапог, прогорклого масла и кислой капусты, все те же образа святых в углу, а на завалинке печи, как правило, дремавшего старика с мухами на лице. В четвертом доме старуха, сидевшая на табурете, вырезала ножиком деревянную ложку. Заметив двух молодых женщин, она с трудом встала, уронила нож, ложку, поцеловала руку у Марии, затем у Софи, приговаривая:
– Господь посылает нам своих ангелов, а у нас нет ни хлеба, ни соли, чтобы принять их!
Софи уже не в первый раз навещала старуху. Та была горбата, беззуба, на одном глазу – белесое бельмо, другой глаз наполовину закрыт. Ее звали Пелагея и считали не совсем нормальной. Мария спросила, как она себя чувствует.
– Все путем! Все путем! – промямлила Пелагея.
– Не слушайте ее, высокородные барыни, она блаженная! – раздался мужской голос.
И из тени шагнул мужик. Он тоже был стар и очень худ, с седой бородой, росшей вкось.
– Как может быть «путем», если нищета сидит за нашим столом? – опять заговорил он. – Конечно, нас целая дюжина в доме! Но от большого числа проку нет, если все сыновья – пьяницы и ни к чему не годны! Я уже не могу работать из-за трясучки! Старуха – тоже! А наши дети упрекают нас за хлеб, который мы едим! Черный хлеб, политый слезами!
– Если вы нуждаетесь в чем-то, скажите мне об этом, – пробормотала Софи, стараясь правильно произносить русские слова.
– Мы нуждаемся в Божьей доброте, барыня. Но Господь милостив только к тем, кто зажигает свечи перед иконами. А свечи стоят дорого…
– Дешевле, чем водка, – заметила Мария по-французски. – Ни за что не давайте ему ничего! Он это пропьет!
– Если бы я смог в воскресенье поставить свечу перед образом, Царица Небесная яснее увидела бы мою жизнь, – продолжал мужик, дрожа всем телом. – А сейчас она, бедняжка, закрывает глаза. И говорит: «Что там происходит у Порфирия и Пелагеи? Я ничего не вижу! Все черно! О! Страсти Христовы! Господи! Господи! Господи! Все наши грехи – от бедности!»
Софи положила монету на край стола и вышла. Старики провожали ее, осыпая вслед словами благодарности.
– Вам не надо было этого делать! – сказала Мария.
Они навестили также мальчика, который обжег себе руку, помогая кузнецу, деревенского дурачка, постоянно брызгающего слюной на пороге своего дома, и мать с ребенком, чуть не умершим от «малярии». Всякий раз, когда Софи видела дитя, она переживала глубокую скорбь, душевное потрясение, оглушавшее ее.
– Если недомогания возобновятся, сообщи мне, – предупредила она крестьянку. – В случае необходимости мы пошлем за доктором в Псков.
При слове «доктор» мать с ужасом перекрестилась:
– Пощадите меня, барыня! Пусть ребенок лучше умрет от десницы Божией, но не от руки немца!
В ее представлении все врачи были чужеземцами, стало быть, немцами.
– Кто лечил малыша в последнее время? – спросила Софи.
– Пелагея.
– Блаженная?
– Да. Она разбирается в травах.
– Оставьте их, пусть живут, как умеют, – заметила Мария. – У них свои обычаи…
Софи снова почувствовала себя виноватой в том, что богата, образованна и находится в добром здравии. Мать взяла малыша из сундучка, который служил ему колыбелью, и прижала этот грязный тряпичный кулек к груди. Лицо младенца распухло и покраснело. На подбородке засохли следы молока. Он заплакал. Мария увела Софи из этого дома.
В двух шагах от него на зеленой полянке возвышалась белостенная церковь с зелеными куполами. У дома священника копошились куры. При виде Марии они разбежались, возмущенно кудахтая. Приезжая в Шатково, девушка неизменно навещала отца Иосифа, крестившего ее. Софи, вслед за золовкой, вошла в комнату, в глубине которой находилась керамическая печка. Дневной свет, проникавший сквозь узенькое окошко, освещал стол, покрытый вязаной скатертью, две деревянные скамьи и несколько икон с лампадой красного стекла. Воздух был насыщен запахом, который Софи тут же распознала: пахло ладаном и только что подошедшим тестом. Супруга попа сама пекла хлебцы для отправления службы.
– Лукерья Семеновна! – крикнула Мария.
Дверь открылась, и Лукерья Семеновна, попадья, ввалилась в комнату с грохотом бурного потока. Высокая, лоснящаяся, багровая, она была на восьмом месяце великолепной беременности. Ждала уже девятого ребеночка за шестнадцать лет брака. Отец Иосиф скромно говорил, что Бог благословлял их союз неутомимой десницей. Детские головки, белокурые, рыжие, показались из-за спины Лукерьи Семеновны в проеме двери. Дети толкали друг друга, чтобы лучше видеть.
– Пошли вон, нечестивцы! – бросила Лукерья Семеновна через плечо.
Ребятишки с воплями разбежались.
И тут же сменив гневную мину на улыбку гостеприимства, Лукерья Семеновна заговорила:
– Какое счастье! Присаживайтесь, пожалуйста! И простите за убогое жилище! Сиденья здесь жестки, но сердца нежны! Отец Иосиф скоро придет. Он молится… Или слегка задремал… И то и другое необходимо христианину!
Софи и Мария сели к столу. Дьячок принес дымящийся самовар и попросил ключ от кладовки, чтобы достать варенье. Лукерья Семеновна неохотно вручила его ему и выглядела озабоченной, пока тот не вернулся. Наконец, дьячок появился с банкой, которую прижимал к своей худосочной груди. За ним вышагивал сам отец Иосиф. Он был еще выше ростом, нежели его жена, и тоже казался беременным на последнем сроке из-за живота, сильно выступающего из-под черной рясы. Борода серо-стального цвета лопатой торчала на его лице. Благословив обеих посетительниц, он уселся между ними, чтобы напиться чаю. С первых же глотков лоб его покрылся капельками пота.
– Да вознаградит Бог вас обеих за ваши добрые дела в этой бедной деревне, – со вздохом сказал он. – Я уверен, что в Шатково каждый день кто-то поминает вас в своих молитвах. В общем, все они здесь бездельники: воры, пьяницы, лжецы, забияки и блудодеи! Но что поделаешь, Господь пожелал сделать их такими!
– Я хотела бы помочь им, – перебила его Софи.
– Зачем? – спросил отец Иосиф. – Горе тому, кто хочет изменить ход вещей, не имея возможности пойти до конца! Доброту, которой ты одариваешь бедняка сегодня, он потребует от тебя завтра, как должное, а послезавтра, если ты не дашь ему больше, он обвинит тебя в злобе! Не толкай к свету того, кто освоился с тьмой! Не исправляй Божьего деяния, коли Господь не требует от тебя этого!
– Так, значит, по-вашему, – сказала Софи, – нужно оставить больных с их болезнями, невежд с их невежеством, бедняков с их нищетой, пьяниц с их пьянством?..
– …Богатых с их богатством, – подхватил отец Иосиф, – а святых с их святостью. Подлинное счастье обретается не тогда, когда кто-то другой нам его дарует, подлинное счастье мы находим в своей душе. Достойный дар, учит Господь, лишь тот, что не может быть измерен в аршинах, взвешен в золотниках или оценен в рублях. Отдавай твое сердечное тепло, дари свои молитвы, но не занимайся неосмотрительно благотворительными делами, которые не имеют ничего общего с верой…
Он закашлялся, видимо, припомнив, что Софи – католичка, засунул ложку варенья в дыру бороды и в заключение промолвил:
– Быть православным христианином – само по себе большое утешение! Самый убогий мужик в Шатково должен радоваться, осознав, что, если бы ему чуточку не повезло, он мог бы родиться язычником!
– Вы им такое говорили? – спросила Софи.
– Я повторяю им это каждое воскресенье, после службы.
– И они вам верят?
Лукерья Семеновна, не сводившая с мужа любящего взгляда, прошептала:
– Как же не верить ему? У него такой красивый голос!
В этот момент Софи заметила юного крестьянина пятнадцати или шестнадцати лет, проскользнувшего в комнату и прижавшегося к стене. У него были соломенного цвета волосы, подстриженные кружком, низкий упрямый лоб, маленький нос, могучая челюсть и синие, почти фиолетовые глаза. Рваная рубаха прикрывала его худые плечи. Отец Иосиф нахмурил брови и проворчал:
– Опять? Чего ты хочешь от меня, Никита? Я уже сказал тебе, что у меня нет времени.
– А может быть, завтра? – пролепетал мальчик.
– Ни завтра, ни послезавтра. У меня слишком много дел в пяти деревнях, где надо служить. Разве я учу читать моих детей? Нет, не так ли? Тогда почему я должен учить тебя?
– Он хочет научиться читать? – спросила Софи.
Отец Иосиф пожал широкими плечами, и нагрудный крест попа заблестел в свете коснувшегося его солнечного луча.
– Да, – сказал он, – идея овладела им и не отпускает! Но зачем ему это надо, в его-то положении? Мужик и алфавит не созданы для того, чтобы жить вместе!
– Вы не могли бы по крайней мере одолжить мне книгу, отец Иосиф? – сказал мальчик. – Я перепишу буквы на бумагу. И попрошу разъяснить мне их…
– Кого?..
– Пелагею.
– Она разбирается в этом не больше тебя!
– Нет, она знает все прописные буквы!
– Ну хорошо, – вмешалась Софи, – отец Иосиф даст тебе книгу. А когда выучишь алфавит, ты придешь повидать меня. Я дам тебе работу…
Лицо мальчика покраснело. Он бросился к ногам Софи, поцеловал край ее платья, затем прополз на коленях и прижался губами к могучей руке отца Иосифа:
– Спасибо, благодетельнице, спасибо, батюшка!
Поп не ожидал такого оборота ситуации. Он надул щеки, словно задыхался от переедания.
– Дай ему Четьи Минеи, Лукерья, – наконец распорядился он. – С помощью наших православных святых ему, быть может, удастся избежать козней дьявола!
В то время как он говорил, его взгляд на долю секунды уперся в лицо Софи, загорелся жгучим, враждебным огнем и потух.
– Еще чашку чая, барыни? – с улыбкой спросила Лукерья Семеновна.
* * *
Освеженный послеобеденным отдыхом, Михаил Борисович вышел из кабинета в благодушном расположении духа. Проходя по гостиной, он заметил огромную охапку полевых цветов в вазе. Незачем было спрашивать, кто собрал букет с таким вкусом! С тех пор как Софи поселилась в Каштановке, дом всегда был полон цветов. На улице земля и небо были охвачены единым сиянием. Михаил Борисович подошел к сыну, сидевшему в беседке, бросил взгляд на книгу, которую тот читал, и проворчал:
– О духе законов! Странная мысль! Говорить о духе законов – значит искать повода, чтобы им не подчиняться. Французы погубили величие своей страны, упорно пытаясь проанализировать это. Надеюсь, что ты не слишком увлекся либеральными бреднями, о которых начинают болтать и у нас!
– Я считаю, что назрели перемены, – осторожно заметил Николай.
– Какие перемены? Свобода, равенство на французский манер?
– Не совсем так, но…
– Никаких но! Россия стоит на вековых устоях. Она – пример силы, порядка, религиозности для других стран. Если что-то и должно измениться, пусть это решает царь!
– Ему могли бы посоветовать это.
– Кто? – рассмеявшись, спросил Михаил Борисович. – Ты? Или твои друзья?
– Может быть, – ответил Николай.
– О! Мальчишка! Где Софи?
– Она уехала с Марией в Шатково.
– И ты не счел необходимым сопровождать их?
Николай подавил зевоту, прикрывшись рукой.
– Слишком жарко! А Шатково – мрачное место…
Михаил Борисович подумал, что молодому поколению недостает пыла. На месте сына он часами следовал бы за Софи, чтобы наслаждаться ее удивлением, улыбками, вопросами, заданными по-русски с французским акцентом! И вдруг он застегнул жилет, развернулся и направился к службам.
Дожидаясь, когда хозяин прикажет ему оседлать Пушка, мальчишка-конюший забеспокоился. Михаил Борисович добрых восемь лет не садился в седло! Не измотает ли его первая прогулка?
– Не надо бы скакать слишком далеко, барин, – пробормотал мужик, подводя коня на поводу.
– В Шатково и обратно, это пустяк! – ответил Михаил Борисович.
Он грузно забрался в седло и затрусил вдоль аллеи.
Проезжая мимо крыльца, он заметил месье Лезюра, протягивающего руки. Приятно было видеть, как растерялся француз. Михаил Борисович пустил Пушка рысью. Он не очень уверенно сидел в седле и напрягал все мускулы, чтобы держаться прямо.
Когда Михаил Борисович выехал на дорогу, ему был приятен простор, протянувшийся до горизонта. Солнце обжигало ему лицо, и он вновь ощутил восхитительный восторг двадцатилетнего возраста. Ни одна жилка не болела во всем его теле. Сила и аппетит остались неизменными. В полях крестьяне узнавали хозяина и низко кланялись ему. Вдали замерцало сияние и погасло. Голубое небо потемнело, словно запачкалось дымом. Где-то на краю света прогремел гром. Подул ветер, поднимая клубы пыли, травинки, крупинки угля. Затем шквал утих, гром отгремел. Луч солнца резко пронзил тучи. Михаил Борисович, прищурившись, разглядел коляску, ехавшую ему навстречу.
– Отец! О Господи, вы приехали прямо сюда?
Взволнованное лицо дочери, тревога, прозвучавшая в ее вопросе, доставили ему удовольствие. Софи, напротив, выглядела не настолько удивленной, как ему хотелось бы. Разумеется, она и не предполагала, что свекор уже давно не садился на коня. Кучер натягивал поводья и бормотал «Тпру… тпру!..», широко раскрывая рот. Михаил Борисович повернул Пушка и пристроился сбоку от Софи с изяществом молодого человека, встретившего дам на прогулке.
– Ну как? – спросил он, сдерживая одышку. – Поездка в Шатково прошла успешно?
– Великолепно! – ответила Мария. – Софи в очередной раз покорила все сердца!
– Что такое вы там обнаружили? – продолжил он.
И опять отвечала Мария. Софи слишком погрузилась в свои размышления и не испытывала желания говорить.
Вид свекра на коне, его загар, растрепанные бакенбарды, раздувшиеся ноздри были ей неприятны. Она смотрела на сапоги Михаила Борисовича, его перчатки, тросточку, золотую цепь, свисающую до живота, и с ужасом думала обо всех крепостных, населявших его имение. Говорят, их было две тысячи. Две тысячи человек, души и тела которых подчинены воле одного. Нечто подобное скоту с человеческими головами, сборищу чудовищ, представляющему собой одновременно и животных и орудия труда. Хозяин мог наказывать их или женить по своему усмотрению, по его приказу их можно было избить, продать, выслать в Сибирь. И несчастный староста, избранный мужиками, чтобы представлять их перед господином, ни за что не осмелился бы защищать их интересы! Софи очень хотелось верить, что Михаил Борисович не злоупотребляет своей беспредельной властью, но мысль о том, что он распоряжался жизнью и смертью такого большого числа себе подобных, вызывала возмущение в ее душе. Он вдруг показался ей виновником такого положения вещей, как будто отмена крепостного права в России зависела от него. Коляска медленно продвигалась вперед. Михаил Борисович ехал верхом, сбоку от снохи.
– Шатково – не самая живописная из моих деревень, – сказал он. – Когда-нибудь я отвезу вас в Черняково. Там вы увидите поистине восхитительные места…
– И крепостных, как повсюду! – заметила Софи.
Михаил Борисович удивленно посмотрел на сноху и произнес:
– Как и везде, да!
– Сколько душ?
Она задала вопрос с холодной иронией. Он засмеялся, ничуть не рассердившись.
– Триста пятьдесят или около того.
– Они так же счастливы, как крепостные в Шатково?
– Думаю, да, – ответил Михаил Борисович. – Но ни вы, ни я не сможем этого понять, даже наблюдая их жизнь вблизи, потому что их представление о счастье отличается от нашего.
Он говорил по-русски. Софи смущало это из-за возницы, который слышал их. Она указала на него пальцем своему свекру. Михаил Борисович хитро подмигнул и продолжил по-французски:
– Не волнуйтесь из-за него! Он глупее своей лошади! Нам и жить было бы невозможно, если б мы беспокоились о том, что думают эти люди! Впрочем, их особенно не за что жалеть! Взамен свободы, которой они лишены, крепостные освобождены от материальных забот. Если урожай не удался и надвигается голод, им это безразлично: они знают, что хозяин не оставит их в беде. Он предоставит им пищу, кров, защиту…
– А если он не захочет поддержать их?
– Он будет действовать против собственных интересов: земля нуждается в здоровых и сильных людях, чтобы ее возделывать.
– А если он разорится?
– Он продаст крепостных другому владельцу, который позаботится о них.
– Вы описываете мне рай!
– Я описываю вам Россию. Это великая страна, где есть место для богатого и бедного, больного и здорового, простака и философа. Частенько вольноотпущенник не знает, что делать со своей свободой. Она пугает его. И человек этот предпочитает вернуться под защищающее его крыло господина…
Это «защитное крыло» показалось Софи столь удивительным, что она рассмеялась. Мария бросила на нее исполненный мольбы взгляд. Михаил Борисович помрачнел и натянул поводья, отчего его лошадь отпрянула в сторону и споткнулась. Наездник еле удержался, ухватившись за головку седла.
Небо потемнело, окутавшись грозовой дымкой. Огромная туча плыла чуть ли не по земле. Ее медленное движение было угрожающим. Черноватые лохмотья повисли по краям. Снова загрохотал гром. Ослепительно белые вспышки засверкали на горизонте. Запах разогретой пыли закружился на ветру. Лошади прядали ушами. На руки Софи обрушились теплые капли. Кучер, придерживая коней, соскочил с облучка и поднял верх экипажа.
– Вам лучше сесть рядом с нами, батюшка, – сказала Мария.
– Нет! Нет! – ответил он. – Мы почти приехали!
Ему, наверное, казалось унизительным после езды в седле закончить прогулку в экипаже, с дамами. Снова тронулись в путь. Моросил легкий, густой дождь. Мария прижалась к плечу невестки. Тысяча пальцев барабанила по навесу над их головами. Дождевая завеса отделяла их от мира. Съежившийся в комок кучер казался теперь не более чем тряпичной куклой, болтавшейся на ветру.
Михаил Борисович, напротив, не сгибался. Сидя прямо в седле, он стоически вымокал. Его руки, подобно водорослям, оплетали блестящие поводья. Промокшая куртка прилипла к лопаткам. Брюки плотно облегали худые бедра, костлявые колени. С круглой шапки, надвинутой до ушей, вода текла, как из миски, прямо на большой нос, на обвисшие бакенбарды. Когда он вздыхал, капли воды отлетали от его намокших усов. Софи отметила, что он выглядит старым и усталым. Ей стало жалко его. Мария опять попросила:
– Отец, умоляю вас!.. Это же нелепо!..
Он ответил отрицательно, сильно тряхнув головой.
Дорога превратилась в трясину. По колеям струились ручьи со скачущими пузырями. Наконец, перед коляской показалась аллея черных елей. На крыльце стояли Николай, месье Лезюр, слуги…
Слезая с коня, Михаил Борисович согнул колени, чуть не упал и ухватился за плечо Василисы. Он смеялся и стучал зубами. Вокруг него все захлопотали. Софи и Мария уговаривали поскорее обсушиться, переодеться. Василиса тащила его за руку в спальню. А он подчинился, измученный, хмурый, но довольный, сопел во все ноздри, покрывая влагой пол на ходу.
Сидя в гостиной между Николаем и Софи, Мария с нетерпением дожидалась, когда снова появится отец.
– После воспаления легких его бронхи стали очень слабыми, – сказала она. – Поэтому я и волнуюсь!
– Обычно он объезжает имение верхом? – спросила Софи.
– Вовсе нет! – ответил Николай. – Он уже несколько лет не ездил верхом! Не понимаю, что его разобрало! Безумный поступок!
Софи удивилась. Сумасбродство Михаила Борисовича можно было объяснить лишь его желанием произвести впечатление на окружающих! Капризный и хвастливый старый мальчишка! Критиковавший отца Николай с этой точки зрения был похож на него. Она объединила их, испытав к обоим одинаково нежное, но ироничное чувство. Однако, строго осудив свекра, она с удивлением обнаружила, что опасается за его здоровье. В сущности, он мог влиять на нее двояко: то раздражал, то казался привлекательным. И чем больше она осуждала этого человека, тем сильнее привязывалась к нему. Софи взяла со столика модные журналы, присланные ее матерью из Парижа, и машинально перелистала их. Перед ее глазами промелькнули прелестные картинки: «Шотландский головной убор из серебристого газа с гирляндой роз. Платье из тюля с корсажем, украшенным оборкой…» Софи печально улыбнулась. «У нас и вправду изысканный вкус в подобных вещах!» – подумала она. Довольно заурядная особенность французского духа, которую она припомнила в этот момент, но все, что было связано с родиной, неизменно волновало ее. Какой далекой, хрупкой, драгоценной казалась ей Франция по возвращении из поездки в Шатково! Она пожалела, что не смогла ощутить тепла родной страны по письмам, которые присылали ей родители. Они рассказывали ей о поверхностном обществе, в котором вращались и где она никогда не чувствовала себя хорошо. Страдая оттого, что находится далеко от родных, Софи отвечала на их послания скорее по привычке, нежели из потребности довериться близким людям. Их черты затуманивались в ее сознании. Она любила их так, будто они были уже мертвы, с печалью, нежностью, смирением.
Софи решила подняться в свою комнату, чтобы заняться корреспонденцией. Но уже приближались чьи-то шаги. Появился Михаил Борисович, за ним Василиса. Он переоделся в сюртук цвета зеленого гороха и повязал на шею белый галстук. Лицо у него осунулось. Тем не менее он не желал признавать, что устал.
– Прогулка пробудила у меня аппетит! – заявил он. – Я голоден, как волк!
Софи решила, что напишет родителям позже.
4
Николай услышал стук копыт и вышел на крыльцо. Слуга, обязанный дважды в неделю забирать корреспонденцию на почте, возвращался из Пскова в забрызганных грязью сапогах, с важным видом и дорожной сумкой за спиной.
– Ничего нет для меня? – спросил Николай.
– Есть, барин! – ответил мужик, соскочив на землю.
Он открыл кожаную сумку, достал оттуда письмо и маленький пакет. Почерк, которым были написаны оба адреса, принадлежал Косте Ладомирову. Николай поднялся в свою комнату, чтобы его не беспокоили. В маленьком пакетике лежали три серебряных перстня с печатками, представляющими собой выгравированный в оправе факел. В письме говорилось:
«Мой дорогой мак (это тайное имя мы здесь тебе присвоили), посылаю тебе три кольца, одно из них – твое, а другие – для друзей, которые могут появиться у тебя в деревне. Эти предметы освящены иеромонахом, которого я хорошо знаю, и поистине являются святынями. Поэтому не отдавай их никому, кроме очень верующих людей».
Николай улыбнулся: поскольку на почте открывали все письма, эти мистические замечания были предназначены для того, чтобы снять подозрения надзирателей.
«Если хочешь получить еще несколько колец, освященных им, – писал далее Костя, – дай мне знать. Мы, в Санкт-Петербурге, очень сожалеем о твоем отсутствии. Круг наших друзей расширяется. Скоро моя квартира не сможет вместить всех гостей. Тогда мы будем собираться на улице…»
От одной фразы к другой Николай все лучше понимал скрытый смысл послания. Друзья не только не забыли о нем, но даже рассчитывали на то, что он будет распространять либеральные идеи в провинции. Какое прекрасное свидетельство доверия он сейчас получил и как жаждал поскорее доказать, что он его достоин! Отец возложил на него управление имением. Поездки по деревням, разговоры со старостами, учет в книгах записей, переписка – эта рутина отнимала у него четыре часа ежедневно. Остальное время было посвящено поездкам по окрестностям для завязывания новых знакомств и поддерживания старых. Поначалу он не обнаружил поблизости много людей, способных понять его. Но он не терял надежды вызвать кое у кого интерес к политике. Николай надел кольцо на палец и долго смотрел на него. Сознавая, что в такого рода знаках было нечто ребяческое, он усматривал все же в этом символе такой благородный смысл, что его охватило волнение. Он позвал Софи. Каждый раз, когда Николай испытывал удовольствие, ему необходимо было разделить его. Софи с веселым видом полюбовалась кольцом и воскликнула:
– Очаровательно!
Его слегка раздосадовала такая снисходительность. Письмо Кости, напротив, неожиданно заинтересовало ее. Прочитав его, она повернулась к мужу с сияющим лицом:
– Вот видишь, как много у тебя дел даже вдали от Санкт-Петербурга!
Николай вдруг задумался: уж не боится ли она, что он заскучает в деревне? Но Софи уже продолжала с увлечением:
– Ты поразмыслил о людях, которые в Пскове могли бы разделить твои взгляды?
– Нет, – ответил он. – Сегодня после обеда поеду в клуб, прощупаю почву. Может быть, Башмаков?
– Кто это?
– Капитан в отставке, известный дуэлянт, неудачливый игрок и волокита. Все опасное в принципе привлекает его.
– Он не слишком сумасброд? – спросила она.
– Ровно настолько, чтобы прислушаться ко мне!
– Ты пугаешь меня! Будь очень осторожен, умоляю тебя!
– Была ли ты сама такой, когда участвовала в заговоре в Париже?
– Запрещаю тебе брать с меня пример!
Он расхохотался:
– Значит, ты, республиканка, предпочла бы, чтобы я был монархистом! Так ты меньше тревожилась бы обо мне!
Рассердившись, она покраснела, потом смягчилась и позволила поцеловать себя. Он вручил ей кольцо.
– За что? – спросила она.
– Разве ты не с нами?
– Мысленно, – призналась Софи.
– Ты будешь с нами и в действии, когда придет время!
Она вздохнула:
– Мы еще далеки от этого! Мне кажется, очень трудно что-либо изменить в России!
– Надеюсь доказать тебе, что это не так! Разумеется, не нужно, чтобы отец видел эти кольца! Он потребует от нас объяснений!
– О! Николай! Сколько тебе лет? – заметила она, с любовью потрепав его по волосам.
И Софи спрятала три кольца в ящик своего секретера.
* * *
Город, раскинувшийся по берегам рек Великой и Псковы, обладал очарованием старины с разноцветными куполами церквей и Кремлем, огороженным крепостными стенами и возвышавшимся над местностью. Поскольку после полудня прошел дождь, дорога покрылась вязкой грязью. По обеим сторонам улицы, вдоль которой шел Николай, стояли одноэтажные дома с покрытыми дранкой крышами и деревянными резными навесами. Прохожие, даже в самой лучшей одежде, выглядели провинциалами. Прожив какое-то время в Санкт-Петербурге, невозможно было выносить тоску, которую излучал этот старый дремучий город.
Вопреки высокопарному названию, клуб представлял собой мрачное и грязное помещение с драными обоями, покосившимися кожаными креслами и буфетом, обуреваемым мухами. Рассевшись группами вокруг столов, завсегдатаи играли в вист, в шахматы, курили, читали газеты. Поздоровавшись с несколькими знакомыми, Николай стал искать Башмакова и обнаружил его в дальней зале. С бильярдным кием в руке, сощурившись, он «загонял» в лузу один шар за другим с дьявольской ловкостью. Его противником был жгучий и очень курчавый брюнет с красивыми по-итальянски глазами, слишком тонкими ноздрями и женоподобными губами. Николаю показалось, что он встречал его когда-то прежде, но ему не удалось соединить хоть какое-то имя с этим лицом.
– Николай, солнце мое! – заорал Башмаков. – Ты пришел, чтобы выпить за мою победу! Я выиграл шесть партий подряд у этого почтенного дворянина! По пятьдесят рублей за каждую, подсчитай-ка выигрыш!
– Вы получите деньги завтра утром, даю вам слово! – сказал молодой человек.
– Я верю тебе, мой петушок, – отозвался Башмаков, загоняя последний шар в лузу.
Он смеялся, кожа лица у него была кирпичного цвета, зубы белы, а под ноздрями жесткие и черные, как щетка для наведения глянца, усы.
– Не хочешь ли представить нас друг другу? – сказал Николай.
– Зачем? Ты же его знаешь! – воскликнул Башмаков. – Это Вася, Вася Волков, из Славянки!
– О Господи! – вздохнул Николай и прикрыл рукой глаза, якобы защищаясь от яркого света.
Имение Волковых находилось рядом с поместьем Озарёвых. В последний раз Николай навещал соседей в Славянке в 1812 году, до объявления войны. В те времена Васе было, наверное, лет двенадцать. Значит, теперь ему девятнадцать или двадцать.
– О да, дорогуша, – сказал Башмаков, – время идет! Мы даже не заметили бы, что стареем, если бы не было здесь молодых людей, которые нам об этом напоминают!
– Я прекрасно помню вас! – с жаром подхватил Вася. – На вас был кадетский мундир, когда вы приезжали к нам!
Стоя напротив Николая и глядя на него блестящими глазами, он выражал ему свое восхищение прямо в лицо. Николай испытал от этого удовольствие, льстившее его тщеславию.
– Ну вот, видите, – сказал он, – я сбросил мундир и поселился в деревне, как многие другие. А вы чем занимаетесь?
– Я только что закончил учебу в Геттингенском университете, – ответил Вася. – И в настоящее время думаю лишь о том, как отдохнуть в кругу семьи. Позднее посмотрим… Быть может, поступлю на службу в Министерство юстиции, где у моей матери есть связи…
– Почему бы и нет? – заметил Башмаков. – Юстиция – забавная вещь: невиновность людей разыгрывают в орлянку!
Громко посмеявшись над своей остротой, он позвал полового, заказал вторую бутылку Рейнского вина и записал его на счет Васи.
– Итак, совсем недавно вы еще были в Пруссии, – задумчиво произнес Николай. – Вы, верно, наблюдали великое волнение в марте прошлого года…
– В марте?
– Да, вы же понимаете, о чем я говорю: о событиях в Манхейме.
Он намекал на убийство студентом Сандом немецкого писателя Коцебу, который был агентом царя. Это политическое убийство вызвало во всей Европе возмущение по адресу сторонников абсолютизма и воодушевление либералов.
– Действительно, – отозвался Вася. – Я, как говорится, находился в первых рядах.
– И какова была реакция университетских кругов по этому поводу?
Вася, не колеблясь, ответил:
– Величайшая гордость и радость! Среди нас всем было известно, что Коцебу был негодяем. Он не упускал случая для нападок на молодежь и ее самые дорогие и святые ценности: национальное единство, конституцию, независимость прессы…
– Короче, он выступал за поддержание порядка! – сказал Башмаков.
– Да, если поддержание порядка подразумевает подавление личности государством! – возразил Вася, вздернув подбородок.
Волна счастья поднялась в душе Николая. Ему показалось, что он сейчас в Санкт-Петербурге, в квартире Кости Ладомирова.
– Какой восторг! – воскликнул Башмаков. – Я и не подозревал, что в университете Геттингена воспитывают революционеров!
– Я далеко не революционер, – поправил его Вася, понизив голос. – Я ненавижу кровь, смуту, всякую грязную тварь. Но исповедую культ чести. А Коцебу запятнал свою честь, продавав перо.
– Он продавал его не кому-то, – сказал Башмаков, – а царю.
Вася взглянул в сторону и пробормотал:
– Это не оправдывает его!
Николай готов был расцеловать Васю.
– Кто решил совершить это убийство? – спросил Башмаков.
– Группа заговорщиков, – ответил Вася. – Кинжал Санда довершил остальное.
Башмаков нахмурил брови:
– И ты восхищаешься им?
– Да.
– А ты сам-то осмелился бы?..
– Конечно, нет! – ответил Вася.
– Ты много думаешь перед тем, как действовать?
– Конечно!
– Я такой же, как вы, – заметил Николай.
– А я – нет! – заявил Башмаков. – Я сначала действую, а потом думаю. Вот почему не хочу вмешиваться в политику! Я совершал бы одни глупости!
Он засмеялся и осушил бокал. Николай одним взглядом оценил его: «Использовать только в случае крайней необходимости». Вася, напротив, казался возможным пополнением. Но он был так молод, так импульсивен! Надо понаблюдать за ним вблизи перед тем, как довериться ему. Их разделяло не более пяти лет, и все же Николай ощущал себя чрезвычайно опытным в сравнении с этим мальчиком, только что закончившим университет. Поскольку они еще обращались друг к другу на «вы», Башмаков предложил им выпить на брудершафт, пожав друг другу руки и глядя глаза в глаза. Опустошив бокалы, они обменяются ругательствами. А после этого станут братьями и будут обращаться друг к другу на «ты». Церемониал был выполнен в точности.
– Чертов кретин! – громко выругался Николай.
– Старый боров! – пролепетал Вася, краснея от своей дерзости.
Затем они расцеловались, и Вася сказал:
– Я счастлив, что встретил тебя, Николай.
Когда бутылка опустела, Башмаков вспомнил, что должен уйти. У него было назначено свидание с красивой еврейкой, которую он одаривал своим вниманием два раза в неделю. Оставшись один на один с Николаем, Вася заговорил о своей жизни в деревне. Он любил виды природы и размышление. Его мать, очень рано оставшаяся вдовой, управляла имением. Николай смутно припоминал, что в доме было много девочек.
– Сколько у тебя сестер? – спросил он.
– Трое, – ответил Вася. – Старшей, Елене, шестнадцать лет, средней, Наталье, четырнадцать, а младшей, Евфросинье, двенадцать.
– А братьев нет?
– Нет.
– Значит, ты единственный мужчина в роду!
– Да! – кивнул Вася, обнажив в улыбке все свои маленькие белые зубы.
Тень длинных ресниц заиграла на его щеках.
– Чем ты сейчас занят? – спросил он.
– Ничем, – ответил Николай.
– Тогда я увезу тебя с собой!
– Куда?
– В Славянку. Матушка будет очень рада повидаться с тобой. Она сетует, что соседи из Каштановки пренебрегают ею. Впрочем, это не мешает ей быть в курсе всего, что у вас происходит. Никогда не видел твоей жены, мы знаем, что она редкая красавица, что у вас очень дружная семья и что вы пережили великое горе…
– Не говори об этом! – вздохнул Николай.
Ему вдруг расхотелось ехать в Славянку. Он опасался, что там его станут величать и выражать сочувствие, что было бы одинаково неуместно. Наверняка любезнейшая Дарья Филипповна Волкова сочтет необходимым обсудить в разговоре все то, о чем он желал забыть. Вася не отводил от него взгляда. И Николай уступил, проявив слабость, однако принял твердое решение, что его визит продлится не более часа.
Они, не торопясь, проделали путь верхом. Увидев хозяйский дом в Славянке, Николай отметил, что строение выглядит более обветшалым, нежели он представлял себе по воспоминаниям. Это было длинное сооружение из почерневших от времени бревен. Дощатая веранда тянулась вплоть до крыльца в три ступеньки. Окна были крохотные, с выкрашенными в красный, зеленый и ярко-оранжевый цвета ставнями. Из этого кукольного домика выбежали три девчонки с распущенными косами и разом закричали:
– Вася! Вася!
Заметив рядом с братом Николая, они застыли как вкопанные. Ни одна из трех не отличалась красотой. Худые и темноволосые, одетые в платья из ситца в цветочек, они вели себя как дикарки. Вася представил их. Николай удостоился трех неглубоких реверансов со слегка согнутыми коленями. И девочки убежали. Вскоре они вернулись, приведя с собой мать. Дарья Филипповна, тридцати восьмилетняя женщина, была высока ростом, красива и величественна, с правильными чертами лица, мягкой улыбкой и большими глазами фаянсовой голубизны. Она приняла Николая с такой радостью, словно он был одним из ее близких родственников, возратившимся из путешествия.
– Я прекрасно понимаю, что вы и ваша жена хотите оставаться вдали от общества до поры до времени! – сказала она. – Но не забывайте, что здесь у вас есть искренние и ненавязчивые друзья, которые будут счастливы принять вас, как только у вас возникнет такое желание.
Ее сын и дочери смотрели на мать с глубоким почтением. Для них она без сомнения была образцом красоты и мудрости. Даже Николай был очарован. Дарья Филипповна настояла на том, чтобы он выпил чаю с ними. Стол был сервирован под двумя липами, ветви которых тесно переплетались. Дымился самовар. С десяток сортов ароматного варенья привлекали пчел. Девочки смущенно молчали, предоставляя взрослым возможность поговорить. Дарья Филипповна поинтересовалась новостями из Санкт-Петербурга, Николай рассказал о пьесах, которым рукоплескал, процитировал несколько острот, подхваченных в городе, и изложил свое достаточно нелицеприятное мнение об известных людях. Он удивлялся легкости, с которой выстраивались его фразы. Атмосфера этого дома действовала очень благотворно. Время от времени Дарья Филипповна добродушно и весело смеялась, и ее голубые глаза затягивались поволокой. Николай не помнил, чтобы она была так красива! Но можно ли полагаться на мальчишеские воспоминания? В последний раз, когда он видел ее, она была в его глазах лишь матерью четверых детей, то есть существом с совершенно определенными обязанностями, и ее физический облик не имел для него особого значения. Теперь он обнаружил, что она еще и женщина. Темные круги вокруг век придавали выразительность ее взгляду. В ней угадывались бесконечная материнская снисходительность, безответная нежность, запоздалая наивность. «Душа юной девушки в теле тридцативосьмилетней женщины», – решил Николай. Затем он сравнил ее со слишком пышно распустившейся розой, метнувшей свой последний аромат вечеру, и этот банальный образ вконец расстроил его. Окружающие смеялись. Что сказал он такого смешного? Вдруг Дарья Филипповна прошептала с серьезным видом:
– Дорогой Николай Михайлович, у меня есть план, о котором я хотела поговорить с вашим отцом уже давно, но не осмелилась побеспокоить его. Могу ли я, воспользовавшись вашим приездом, рассказать, о чем идет речь?
– Ну конечно! – воскликнул он. – Я весь к вашим услугам…
– Я говорю о Шатково, – продолжила она. – Эта деревня лежит среди моих земель, как бы вклинивается в них. Не согласитесь ли вы продать мне ее?
Озабоченный Николай помолчал с секунду. Он был очень далек от подобных имущественных расчетов.
– Мы очень дорожим деревней Шатково, – наконец ответил он, – отличное место для выращивания ржи.
– Разумеется, – сказала Дарья Филипповна. – Но в виде компенсации я могла бы уступить вам нашу деревушку Благое, которая и так примыкает к вашим владениям, с другой стороны реки…
– Это и впрямь явилось бы полезным уточнением границ! – с улыбкой заметил Николай.
– Если бы вы знали, – вздохнула хозяйка, – как мне неловко говорить с вами об этом! Женщина всегда не на месте, если сама занимается делами. Но я вынуждена делать это, ведь я одна…
– Не говорите так, маменька! – воскликнул Вася.
Слово «маменька» неприятно задело слух Николая. Ему трудно было поверить, что этот взрослый юноша с посиневшим подбородком и баритоном был рожден нежным созданием, сидевшим во главе стола.
– Я прекрасно понимаю, что говорю, дорогой! – сказала Дарья Филипповна. – И Николай Михайлович меня тоже понимает, я в этом уверена!
– Нет, Дарья Филипповна, я вас не понимаю! – возразил Николай. – Вы нисколько не на своем месте, как вы говорите!..
И вдруг ему захотелось оказать услугу этой достойной женщине.
– Сколько у вас душ в Шатково? – спросила она.
– Двести шестьдесят три, – ответил он, взглянув на нее с преисполненной почтения нежностью.
– Не много.
– Я назвал цифру по последней переписи. С тех пор родилось несколько детей. А в деревне Благое сколько крепостных?
– Всего семьдесят семь, – сказала она. – Но из этого числа по меньшей мере пятнадцать мужиков моложе тридцати лет и отличаются великолепным здоровьем!
– Я попытаюсь уговорить отца.
– Во всяком случае, приезжайте навестить нас как можно скорее, любезный Николай Михайлович. Дела – пустяк, а добрососедские отношения важнее всего!
Небо угасало. Николаю пора было подумать о возвращении домой. Вся семья, собравшись перед домом, смотрела, как он сел на коня и поскакал великолепным галопом.
* * *
Месье Лезюр семенил по аллее с открытой книгой в руке. Подъехав к нему, Николай придержал коня и сказал:
– Вы гуляете довольно поздно!
– У меня уже ни на что не хватает времени, дорогой Николай, – ответил месье Лезюр с дрожью в голосе.
Заметив, как он раздосадован, Николай понял, что француза в очередной раз отчитал Михаил Борисович.
– Мой отец дома? – спросил он.
– Ну как же иначе! – воскликнул месье Лезюр. – Он играет в шахматы с мадам Софи!
Говоря это, француз бросил на Николая взгляд, взывающий к справедливости. Ведь теперь он изгнанный «придворный». Не в силах пожалеть его, Николай пустил коня рысью.
Войдя в гостиную, он почувствовал, что нарушил приятное времяпрепровождение вдвоем. Оторвав взгляд от шахматной доски, его отец и жена улыбнулись ему одинаковой рассеянной улыбкой.
– Я приехал из Славянки, – сказал Николай.
И поведал им о своем разговоре с Дарьей Филипповной. И чем больше супруг говорил, тем тревожнее становилось выражение лица у Софи. Когда он упомянул о продаже Шатково, она взорвалась:
– Надеюсь, что ты отказал!
– Я сказал ей, что решение зависит от отца!
Софи так резко повернулась, что одна из фигур упала с доски.
– Просто неслыханно! Эта женщина безумна!
– Не надо так думать, – вмешался Михаил Борисович. – Ее идея кажется мне логичной. Ты уверен, что она согласится уступить нам Благое?
– Да, отец, – ответил Николай.
Михаил Борисович задумчиво потеребил бакенбарды.
– Надо все взвесить, – пробурчал он.
– Но, отец, все абсолютно ясно! – воскликнула Софи. – Вы не имеете права продавать Шатково! Это было бы… было бы чудовищно!
Брови Михаила Борисовича взметнулись дугой над его круглыми глазками.
– Вот это да, крепко сказано! – заметил он. – И почему, скажите, пожалуйста, это было бы чудовищно?
С быстротой молнии Софи припомнила покосившиеся избы, мужиков в полях, старуху Пелагею на пороге дома, маленького Никиту, желавшего научиться читать, и волна возмущения поднялась в ней.
– Сколько времени Шатково ваша вотчина? – спросила она.
– Лет сто, я полагаю, – ответил Михаил Борисович.
– Так вот! Жители этой деревни ближе к вам, чем некоторые члены вашей семьи. Из рода в род они привыкли, что Озарёв управляет их судьбой. Они считают вас своим господином и, я надеюсь, своим благодетелем. А вы готовы так резко оторвать их от себя?
– Вы питаете иллюзии по поводу чувств мужиков ко мне? – сказал Михаил Борисович.
– Нет, отец, я говорила с ними. Видите ли, я даже не пытаюсь критиковать основы крепостного права. Допускаю, что, если бы вы нуждались в деньгах, если бы были доведены до разорения, пришлось бы продать Шатково или какую-то другую деревню из вашего поместья. Но не разрушайте жизнь сотен людей ради простого удовольствия заключить сделку!
Она перевела дыхание и, обернувшись к мужу, продолжила бесцветным голосом:
– Я удивлена, Николай, что ты не подумал об этом, когда упомянутая Дарья Филипповна сделала тебе такое предложение!
– Ты сама не подумала бы об этом, если б знала ее! – возразил он. – Я никогда не согласился бы продать наших мужиков нерадивому или жестокому хозяину. Но Дарья Филипповна сама кротость, предупредительность и справедливость. С нею наши крепостные будут так же, если не больше, счастливы, как с нами.
– Он прав! – сказал Михаил Борисович.
У Софи возникло ощущение, что она говорит с глухими.
– Но принцип, Николай, принцип, как ты его воспринимаешь? – воскликнула она. – Ты, столь увлеченный благородными теориями, как ты можешь примирить твое так называемое уважение к человеку с намерением продать триста человеческих существ, предварительно обсудив цену мужских особей, женских и малюток-детей?
Николая задел этот аргумент, и он хранил молчание. Как всегда, она оказалась ближе к действительности, нежели он. Николай погружался в мир идей, мечтал осчастливить Россию и забывал ответить мужику, который кланялся ему, сбросив шапку. Таков был его недостаток. Но намерения были добрыми. Софи не имела права сомневаться в этом.
– Итак! Что вы ответите госпоже Волковой, отец? – спросила она.
Слегка прикрыв глаза, Михаил Борисович продлевал удовольствие, вызванное сомнениями. Сознание того, что он может по своему усмотрению привести в отчаяние сноху или порадовать ее, чрезвычайно забавляло его, тем более что он находил ее очень красивой в момент волнения. Защищая интересы этих тупых мужиков, она воспламенилась как влюбленная!
– Вы убедили меня, Софи, – объявил он наконец. – Мы не станем продавать Шатково, поскольку вам дорога эта деревня…
Она соскочила со стула и, пожав ему обе руки, прошептала: «Спасибо, отец!» Впервые сноха была так ласкова с ним. Удивившись, он не знал, что сказать. Как это ей удавалось в один миг перейти от резкости к нежности? Со своей стороны, Николай не испытывал недовольства по поводу того, что Софи добилась своего. В глубине души он не больше, чем она, стремился продать Шатково. Просто ему хотелось доставить удовольствие Дарье Филипповне. Он задумался, как преподнести ей столь неприятное для нее решение.
– А теперь вернемся к нашей шахматной партии! – обратился Михаил Борисович к Софи.
Именно при этих словах вошел бледный от негодования месье Лезюр, Мария тащила его за руку. Она повстречала его в саду, с наступлением ночи.
– Месье Лезюр болен! – сказала она.
– Нисколько! – запротестовал тот. – У меня дрожь, как обычно бывает, когда я огорчен! Мне придется привыкать к этому!
– Очень вам советую, месье Лезюр, – сказал Михаил Борисович, хлестнув по нему жестким, как палочный удар, взглядом.
5
Третье кольцо оказалось для Васи. После десятка встреч в клубе и в Славянке Николай убедился, что совершенно спокойно мог вручить своему новому другу этот символ доверия. В самых важных вопросах молодой человек разделял его мнение. Дарья Филипповна была чрезвычайно раздосадована, узнав, что из привязанности к мужикам Шатково Михаил Борисович отказался продать деревню. Однако у нее хватило такта сказать Николаю: «Коль скоро вы рассматриваете это дело, как нечто душевное, я смиряюсь. Сердце мое одобряет вас, даже если разум восстает!» Эта фраза поразила его, как высказывание, достойное античного театра. Разочаровав мать Васи, питавшую надежды, он стал считать себя ее должником. Он хотел бы познакомить Дарью Филипповну со своей женой, чтобы они прониклись взаимным уважением. Но Софи отказывалась выезжать. Семейная жизнь в Каштановке сделала ее нелюдимой. Николаю пришлось настоять, чтобы она по меньшей мере приняла Васю в доме. Софи сочла его очаровательным, несмотря на девический облик. Что же касается Марии, которая знала Васю с детства, то она была любезна с ним и не более того. «Я всегда считала его скучным и самодовольным», – сказала она после его отъезда. Возмущенные возгласы брата оставили ее равнодушной. Он кричал сестре, что она ошибается, что Вася – юноша утонченного ума, чрезвычайно тонкой души, а она улыбалась с невинным упрямством, глядя в даль. Обескураженный, Николай попросил Софи переубедить ее, он хотел, чтобы Вася, новый член «Союза благоденствия», чувствовал себя как дома, когда снова приедет в Каштановку. Софи успокоила его, заверив, что настроение девушек изменчиво.
Чтобы работать спокойно, Николай оборудовал для себя кабинет в одной из комнат нижнего этажа, перенес туда все книги, касающиеся политики, которые сумел найти в доме. По его настоянию Софи написала своим друзьям Пуатевенам в Париж и попросила их прислать ей несколько новомодных книг, не уточнив, каких именно. На самом деле, она сомневалась, что прозе Кондорсе или Бенжамена Констана будет позволено пересечь границу. Но Николай так изголодался по чтению, что для него все было хорошо! Дожидаясь крамольных брошюр, он вперемежку поглощал Бональда, Шатобриана и Жан-Жака Руссо.
Предоставив мужу возможность упиваться в тиши своими восторгами, Софи почти ежедневно посещала деревни. В начале августа она вызвала из Пскова врача, чтобы лечить детей, заболевших крупом в Черняково. Это начинание вызвало большой шум в округе. Некоторые помещики упрекали «француженку» в том, что она приучает мужиков к праздности, внушая, что им все причитается. Николай, услышавший подобную точку зрения в клубе, с улыбкой рассказал об этом Софи. В результате она с двойным усердием стала помогать бедным.
Однако благотворительность Софи по отношению к крестьянам не ограничивалась материальной помощью. Они рассказывали ей о семейных заботах и учитывали ее мнение в своих разногласиях. Во время разговоров с ними она пыталась также просветить их, сообщая о том, что происходит в окружающем мире. Но они как будто предпочитали оставаться в неведении из страха, что их потревожат. Стоило барыне заговорить о какой-то далекой стране или историческом событии, как они замыкались в своей скорлупе. Для них Россия была их деревней, плюс соседние деревни, Каштановка, Псков и дальше, за темными лесами и зелеными полями – Москва с тысячью церквей, Санкт-Петербург, где генералы окружают сияющего как солнце царя, и степи Сибири, где работают каторжники в кандалах. Вокруг этой христианской империи копошились странные народы, не угодные Богу, такие как французы, англичане, немцы, китайцы, турки… Как образовалась Россия, какие государи сменяли друг друга на российском престоле, как было введено крепостное право? Мужики не желали этого знать. Софи понимала, какой огромный пласт глупости, лени, недоверия, суеверия пришлось бы преодолеть, чтобы они услышали ее, но трудность задачи лишь усиливала возникшее у нее желание посвятить себя этому.
Однажды вечером, когда она возвращалась из Каштановки, в коляске, по лесу, чья-то фигура будто тень вынырнула из зарослей и встала посреди дороги. Кучер натянул поводья, чтобы избежать наезда.
– Вот дурак! – заорал он. – Не можешь ходить поосторожнее?
Софи наклонилась к дверце и узнала Никиту; волосы у него были всклокочены, ноги босы, рубашка разорвана. Он протянул ей свернутую трубкой бумагу, завязанную грязной розовой лентой:
– Возьмите, барыня!
– Что это такое?
– Я не могу вам этого сказать!
Заходящее солнце мерцало красным светом меж ветвей деревьев. Софи развязала ленту и обнаружила исписанную страницу. Неумело выведенные буквы кое-как следовали одна за другой по линейкам, вычерченным карандашом:
«Барыня, теперь я знаю буквы. Понимаете ли вы, что я написал? Если да, то сегодня я буду счастливее, чем за всю оставшуюся жизнь. Кланяюсь вам до земли и буду вечно молиться Богу за вас. Ваш преданный раб. – Никита».
Она была взволнована этим посланием. Никите было, наверное, очень трудно его составить, ведь он придавал ему такое значение!
– Это очень хорошо! – сказала Софи. – Нужно продолжать, Никита!
– Мне можно написать вам еще, барыня? – спросил он.
Она засомневалась. Как бы ни велика была ее симпатия к мужикам в поместье, она считала недопустимым, чтобы шестнадцатилетний мужик посылал ей письма.
– Нет, – ответила она. – Ну, если только… разочек, время от времени… Лучше пиши кому-нибудь другому…
– Кому, барыня? У меня никого нет!
– Пиши самому себе.
– Как можно писать к самому себе?
– Это очень забавно! Ты записываешь свои впечатления, рассказываешь о событиях своей жизни…
– А потом?
– И все…
Он был разочарован, опустил голову, затем приподнял ее и сказал:
– А когда я напишу об этом достаточно, вы прочтете написанное, барыня?
– Обещаю тебе это, – ответила она.
Софи свернула бумагу и снова завязала ее лентой, а он в это время внимательно следил за каждым ее жестом. Не боялся ли он, что в последний момент она вернет ему письмо? Никита отскочил в сторону и скрылся в лесной чаще.
Она не слышала о нем ничего в течение трех недель. Затем, как-то после полудня, когда Софи гуляла в саду с Марией, прибежал Антип, в глазах – испуг, на губах – улыбка:
– Ай-ай! Ай! Ну и дела творятся в доме! Игорь Матвеевич, староста в Шатково, пришел с Никитой. Кажется, мальчишка совершил какое-то преступление, придется высечь его розгами!..
– Что? – воскликнула Софи. – Что ты тут плетешь?..
– Со дня моего рождения я не врал! Михаил Борисович и Николай Михайлович беседуют сейчас с ними…
– Где?
– В кабинете, барыня. Но все закончится во дворе. О! Не хотел бы я оказаться в шкуре Никиты! Йе-йе, будет такой свист! Йе-йе, а потом кровь польется!..
Покинув невестку, Софи бросилась к дому, постучала в дверь кабинета и вошла без приглашения. Михаил Борисович сидел у рабочего стола, Николай – на диване. Перед ними стояли, опустив голову, староста Игорь Матвеич, сухопарый, морщинистый, с бородкой, как мочало, и Никита. Мальчик был вне себя от страха. Полоски от слез излиновали его грязные щеки. Он метнул на Софи глуповатый взгляд.
Увидев сноху, Михаил Борисович в нетерпении взмахнул рукой и спросил:
– Чего вы хотите?
– Вступиться за этого мальчика, – ответила она. – Я хорошо знаю его. Он не способен на дурной поступок.
– Кажется, способен! – возразил Михаил Борисович.
Он не решался предложить Софи уйти, но ее присутствие его явно смущало. Повернувшись к старосте, он проворчал:
– Ну же! Объяснись!
Игорь Матвеич шагнул вперед и произнес дрожащим голосом:
– Вы знаете, барин, что я зачастую вынужден покидать деревню, уезжать, чтобы продавать товары на ярмарках. Вы знаете так же, что женщины – дьявольские творения.
– Нет, – сказал Михаил Борисович.
– А моя – да! Дьявольское создание, которое самому Черту даст фору! Она спуталась с ломовым извозчиком из Пскова, этим верзилой Китаевым! Еще один нечестивец, которого крещение не сделало христианином!..
– Но при чем здесь Никита?
– Сейчас скажу, барин! Сейчас скажу! К несчастью, так случилось, что за последнее время Никита научился читать и писать.
Произнося эти слова, он искоса посмотрел на Софи.
– Да, это я посоветовала ему учиться, – сказала она.
– Иногда доброе зерно падает на плохую почву! – вздохнул староста. – На что же этот негодяй употребил знание прекрасных букв русского алфавита? На вонючее дело, и пусть ваша милость простит мне такое выражение! В деревне многие девицы просят его теперь нацарапать им несколько слов, для смеха. А моя жена, колдунья Евдокия, пришла к нему запросто и попросила тайком написать извозчику Китаеву и сообщить ему день, когда я уезжаю, и день, когда возвращаюсь, а также объяснить, каким образом они могут встретиться для любовных шашней!.. И он это сделал!.. Он написал то, чего хотела эта похотливая лиса!
– Я не мог отказать жене старосты, – пробормотал Никита, фыркая соплями.
– А должен был, мерзкая свинья! Голова-то ведь знает, что делает рука. Если ты пером служишь прелюбодеянию, значит, ты одобряешь супружескую измену. И о какой измене идет речь? Об измене, которая покрывает стыдом почтенного человека, а именно старосту твоей деревни!
Плечи Никиты содрогнулись от рыданий, и он упал на колени:
– Пощади, будь милосердным, Игорь Матвеич!
Софи взглянула на Михаила Борисовича и поняла, что он вот-вот утратит силы и не сможет больше сохранять серьезный вид. По щекам его пробегала дрожь, губы растянулись, волоски на лице топорщились. Она успокоилась: ее подопечному не причинят вреда. Николая, кажется, тоже очень развеселила эта сцена.
– Но как ты узнал, что тебе изменила жена? – спросил он у старосты.
Игорь Матвеич прижал руку к сердцу.
– Мне помог Бог, – сказал он. – Помните, какая ужасная гроза разразилась прошлой ночью? В деревне все думали, что пришел конец света. Я сам готовился предстать перед Судией Небесным и вспоминал свои грехи. И вдруг, когда засверкали молнии, моя Евдокия в ужасе вскакивает с постели, падает на колени перед иконами и говорит: «Прости меня, Игорь, я и в самом деле изменила тебе с Китаевым!..»
Михаил Борисович и Николай прыснули со смеху. Софи также. Никита, стоявший перед ними на коленях, поднял голову.
Староста по очереди смотрел то на старого, то на молодого барина совершенно растерянным взглядом.
– Ну и что ты после этого сделал? – спросил Михаил Борисович.
– Я избил Евдокию, заставил ее все рассказать мне и привел этого сопляка к вашим милостям, чтобы его публично наказали, отхлестав розгами!
– Ты действительно этого хочешь? – задал очередной вопрос Михаил Борисович.
– Я желаю справедливости! – ответил Игорь Матвеич с тупым упрямством.
Софи почувствовала, что время пришло и ей пора вмешаться.
– А много ли людей знают, что твоя жена изменяет тебе с Китаевым? – сказала она.
– Не думаю, что много, барыня.
– Но если ты заставишь высечь Никиту розгами, вся деревня узнает о причине наказания. Ты разве этого хочешь?
Игорь Матвеич задумался, потом, покраснев от смущения, заявил:
– Нет, барыня.
– Тогда возвращайся к себе домой и, главное, никому не рассказывай об этом деле. Тогда у твоих соседей по крайней мере не будет повода насмехаться над тобой!
– Но письмо… письмо, которое он написал для моей жены! – пробормотал староста.
– Он больше не будет их писать, – сказала Софи. – Ты обещаешь это, Никита?
– Клянусь вам, барыня, наша благодетельница! – промямлил парень. – Да дарует Господь царство небесное всем, кто вам дорог!
– Значит, на этом все кончено? – спросил разочарованный староста.
– Кончено! – сказал Михаил Борисович. – Пошли вон! И чтоб я больше не видел вас, ни того, ни другого!
Оба мужика задом попятились к двери. Переступая порог, староста спохватился и сказал:
– Есть еще кое-что, барин. Когда я пришел за парнем, то обнаружил в его вещах записи. Вы, быть может, захотите посмотреть, что это такое…
Крик вырвался изо рта Никиты:
– Нет, Игорь Матвеич!.. Прошу тебя!..
Но староста уже доставал тетрадь из своего сапога. Никита попытался вырвать ее из его рук. Однако Игорь Матвеич, посмеиваясь и пыхтя, вытянул вперед руку со связкой листков, чтобы мальчишка не смог схватить ее.
– Что означает эта комедия? – закричал Михаил Борисович, ударив кулаком по столу.
Софи бросилась к старосте и сказала:
– Отдай мне это!
Никита тут же успокоился, а Игорь Матвеич, очень недовольный, отдал тетрадку молодой женщине.
Когда они ушли, Михаил Борисович, растопырив пальцы, вытянул обе руки на столе, откинулся назад и поглядел на сноху с явным неодобрением. Несмотря на высокое мнение о ней, которое сложилось у него, Михаил Борисович был рассержен тем, что сноха вмешалась в эту историю с мужиками, а он хотел быть их единоличным судьей. Ни его сын, ни дочь не смели посягать на его власть помещика. И откуда столько дерзости у этой чужестранки?
– Мне не нравится, что мои крепостные занимаются этой пачкотней! – заявил он, нацепив очки. – У нас, в России, писать, – значит жаловаться! Ну что там, в этой мазне?
Он протянул руку. Софи прижала тетрадь к груди и ответила:
– Нет, отец.
Глаза Михаила Борисовича сверкнули:
– Что это значит?..
– Тетрадь предназначена мне, – сказала Софи. – Я сама попросила Никиту делать записи. Позвольте мне первой прочитать их. Если я найду там что-то интересное, я сообщу вам.
Столь разумная речь успокоила разъяренного Михаила Борисовича. Ему показалось, будто он окунулся в чан со свежей водой. Его разгоряченный разум утихомирился, нервное напряжение спало, дыхание стало ровным.
Оставив свекра с Николаем, Софи поспешила подняться в свою комнату. Там она присела к окну и открыла на коленях тетрадку, которая представляла собой двенадцать сшитых вместе страниц. Она с трудом разобрала начало, потому что Никита писал слова так, как слышал их:
«Моя благодетельница красива. Красивее самого прекрасного облака. Она восхищает меня и проходит мимо…»
Софи перечитала эти строки, желая удостовериться, что она правильно поняла их. Возможно ли, что столь поэтичная преамбула была написана невежественным мальчишкой, деревенщиной?
Воодушевленная своим открытием, Софи продолжила чтение:
«Она сказала мне, чтобы я описывал подлинные истории моей жизни, но моя жизнь – серая, как пыль. Матушка моя умерла уже давно, и другая женщина спит на печи с моим отцом Христофором Ивановичем. Несмотря на это, он не слишком сильно бьет меня. Только когда пьян и всегда в одно и то же ухо, левое. Я часто просил его поменять удар, но он не хочет. У него свои привычки. В Шатково нам очень хорошо. Я принимаю участие во всех работах общины: очистке прудов, ремонте дорог, сенокосе… Я очень люблю косить и убирать сено. Но жатва ржи – дело потруднее. В прошлом году я поранился серпом. И старая Пелагея лечила меня травами и слюной. В нынешнем году я в основном вязал снопы. Обо всем, что происходит в мире, мы узнаем от нашего соседа Тимофея, торгующего котелками и ведрами и приезжающего по пятницам. Стоит ему появиться, как жители деревни окружают его. Он рассказывает о домах, которые строятся в городе, о новых указах, о наборе рекрутов, кражах, убийствах и предзнаменованиях. Он подарил мне старую балалайку. Я часто играю на ней по вечерам. Музыка звучит красивее, когда становится темно. По воскресеньям мы, несколько мальчишек и девчонок, собираемся, чтобы попеть, потанцевать…
Все здесь боятся пожаров. Когда снег начинает сползать с крыш, перед Страстной неделей, староста запрещает сидеть по вечерам у огня и даже перед смоляным светильником. Летом, каждый понедельник, он проверяет печки. В прошлом году ему удалось отправить двух мужиков в полк, на двадцать пять лет. Они ведь ослушались его. Может быть, однажды и мне подстригут волосы и заставят служить отчизне до старости. Говорят, что управляющий какого-то имения посылает рекрутами в армию мужиков, чьи жены нравятся ему. И кажется, есть такой староста – не наш, – который назначает выкуп за девушек, не желающих выходить замуж. Оказывается, все отпечатанные книги написаны сенаторами Санкт-Петербурга. Вот уже десять дней в лесу снова слышен волчий вой. Значит, лето скоро кончится. Я не боюсь волков. Но есть места, где прячутся злые духи. Неподалеку от деревенской бани повесилась жена солдата. И едва стемнеет, все женщины, повесившиеся где-то поблизости, присоединяются к ней. Они поют, танцуют, обливают себя водой из ведер. Отец Иосиф советует нам креститься, проходя мимо бани. Я уже написал много строк. Это легко и забавно. Каждую ночь, засыпая, я думаю о моей благодетельнице. Отец Иосиф говорит, что она француженка и что все французы – еретики. Он говорит также, что Наполеон выпил кровь России…»
Дальнейшее оказалось так плохо записано, что Софи вынуждена была прекратить чтение. Теперь она знала, что не ошиблась насчет Никиты. Ребенок, способный через несколько недель обучения написать такую исповедь, заслуживал, чтобы его избавили от невежества. Тем не менее, когда Николай задал ей вечером вопрос о содержании тетради, она уклончиво ответила:
– Много ошибок… Но и множество добрых побуждений… Тебе незачем тратить время на чтение этих каракулей…
На следующий день она вернула тетрадь Никите, похвалила его за проделанную работу и подарила белую бумагу, книги. Он стоял в избе между отцом, здоровенным рыжебородым мужиком, и мачехой, сухой, как кузнечик, бабой, которая сказала:
– Окажите нам честь, присядьте, пожалуйста… Осветите своим присутствием наше убогое жилище…
Никита же молчал, очарованный увиденным. Он проводил Софи до середины деревни. Грязные ребятишки окружали коляску. Софи раздала им конфет. В тот момент, когда она снова садилась в коляску, Никита прошептал:
– Вы разрешаете мне продолжать!
– Я хочу, чтобы ты писал и дальше! – ответила она.
Вернувшись в усадьбу, Софи узнала от Марии, что старосты Шатково, Черняково, Крапиново и двух других деревень явились все вместе к Михаилу Борисовичу. Встревожившись, Софи поначалу решила, что этот демарш имеет отношение к злоключению Никиты, но золовка успокоила ее: крестьяне пришли к хозяину с жалобой на волков, которые для нынешней поры ведут себя слишком смело, и просили назначить облаву.
Вечером, за ужином, Михаил Борисович изложил дело. Ему казалось, что трудно организовать такую важную охоту, не пригласив к участию в ней соседей.
– Это было бы нарушением всех устоявшихся обычаев! – сказал он. – Но, с другой стороны, мне не хочется будоражить всех этих людей, ведь я потерял их из виду…
– Я и вправду не понимаю, отец, что вас останавливает! – заметил Николай.
Не ответив своему безрассудному сыну, Михаил Борисович бросил искоса взгляд на Софи, как бы прося совета. Зная, что она терпеть не могла знакомиться с новыми лицами, он не хотел принимать никакого заведомо неприятного ей решения. Софи оценила его щепетильность и была ею тронута.
– Николай прав, – сказала она. – Мы не можем дальше держаться в стороне. Ваши прежние друзья упрекнут вас в невежливости.
– Мне наплевать на их мнение, – заявил Михаил Борисович. – Для меня важно то, что думаете об этом вы!
Странный огонек блеснул в глазах Марии. Очевидно, она всей душой надеялась, что невестка не воспротивится плану. Софи сочла Марию слишком возбужденной для девушки, утверждающей, будто она питает отвращение к светской жизни. Нет ли за этим какой-то тайны?
– Пригласите, кого пожелаете, – сказала Софи. – Я буду рада познакомиться с местными помещиками.
Мария опустила глаза. Николай улыбнулся жене, словно поблагодарил за поддержку. А Михаил Борисович с радостью произнес:
– Если вы согласны, то, по-моему, 23 сентября – подходящее число.
После десерта он велел принести ему бумагу, чернила, перо и тут же, за обеденным столом, составил список приглашенных на облаву волков.
6
Прискакав первым на поляну, Николай слез с коня и бросил клич, означающий сбор. Вокруг него, насколько хватало глаз, шелестели ветки рыжей, желто-зеленой и золотистой листвы. После дождя стволы деревьев блестели будто покрытые лаком. Ковер опавших листьев покрывал землю. Было условлено, что приглашенные соберутся в этом месте, оставят здесь своих лошадей и пешком доберутся до места охоты на опушке леса. Цокот быстрой скачки был уже слышен. Николай видел, как один за одним на тропинке появились: его отец, сидевший на энергичном Пушке, покрасневший, запыхавшийся Вася в шапке, сдвинувшейся на ухо, огромный Башмаков, ехавший верхом по-английски, Владимир Карпович Седов, морской офицер в отставке, живший в восьми верстах отсюда, Мария в черной амазонке и шапочке с павлиньим пером, Елена, старшая дочь госпожи Волковой, опасно сидевшая в седле, маленький, щупленький и сморщенный граф Туманов, а также другие всадники, все – соседи… Дамы и дети ехали в экипажах. Когда Николай увидел в одной из открытых колясок свою жену и Дарью Филипповну, он почувствовал, как сердце его сжалось слегка. Сидя рядом, женщины мило беседовали. Софи была в накидке жемчужно-серого цвета из гроденатля, отделанной двойной темно-серой атласной шнуровкой. Очень изящный сиреневого цвета капор прикрывал ей лицо. Дарья Филипповна набросила на плечи кашемировую шаль, а на голове у нее красовалась странная шляпка с зеленым султаном, надвинутая на лоб до самых глаз. Николаю не понравился столь импозантный головной убор, но он утешил себя, вспомнив, что не был знатоком моды. У него еще не было возможности спросить Софи, каково ее мнение о госпоже Волковой. Однако, глядя на них, сидящих рядом, одну, зрелую и сильную, внешне спокойную, и другую, молодую, хрупкую, с пылким взглядом, он находил, что они слишком удачно дополняют друг дружку, чтобы не стать подругами. Свежесть утра придавала ему веселое настроение. Он подошел к дамам, чтобы помочь им выйти из коляски.
– Какая чудесная прогулка! – неуверенным голосом по-французски произнесла Дарья Филипповна.
– Да, – по-русски подхватила Софи. – Даже если мы не увидим ни одного волка, останется приятное воспоминание.
– Вы их увидите! – ответил Николай. – Я вам это обещаю! Наши крестьяне их обнаружили, окружили и ждут лишь сигнала, чтобы начать облаву.
Конюхи подтянули лошадей. На поляну высыпало много народу. В гуле болтовни возвышался голос Михаила Борисовича, отдававшего приказы. Крепостные девушки переходили от одной группы к другой, предлагая дамам шкатулку с расческами, щетками, булавками и ароматной водой для тех, кто пожелал бы поправить туалет. Софи спросила у Николая, кем был гость лет тридцати с тонкими губами и длинным носом, который подошел к Марии, обменялся с нею парой слов и удалился твердой походкой.
– Это Владимир Карпович Седов, – ответил Николай. – Странный человек, одинокий, заносчивый, необщительный. Он мог бы сделать блестящую карьеру в морском флоте, но из-за какой-то, я не знаю какой, скверной истории ему пришлось подать в отставку и удалиться в свое имение.
– В свое крохотное имение! – подхватила Дарья Филипповна. – У него всего двести душ. И я бы не удивилась, если б оказалось, что по меньшей мере половина из них заложена.
– Интересно, на что же он живет! – заметил Николай.
– На долги! – пояснила Дарья Филипповна. – И кроме того, говорят, что он торгует хорошенькими девушками из крепостных. Он обучает их манерам, французскому языку, пению, живописи, всякого рода занятиям, которые нравятся мужчинам…
Николай расхохотался, да так по-мужски громко, что это рассердило Софи.
– И как только хорошо подготовит девушек, – продолжила Дарья Филипповна, – он продает их очень дорого. Мне рассказывали о некоей Дуняше, за которую он получил пятьсот рублей.
– Может быть, это сплетни! – усомнилась Софи.
– Нет дыма без огня!
– В деревне самые слабые огоньки чреваты густым дымом!
– Господи, какая вы странная! – воскликнула Дарья Филипповна. – Возражение – чисто парижское!
И, наклонившись к Софи, она очень быстро добавила:
– Посмотрите… видите, как мой Вася ухаживает за вашей Марией!.. Знайте, он без ума от нее с самого детства!.. Вася, конечно, ни за что на свете не признается в этом, но я, его мать, читаю в душе сына, как в открытой книге!.. Ну разве они не прелестны вдвоем!.. Но не будем громко озвучивать то, чего желает наше сердце, лукавый может услышать это и помешать нам!.. А вот и наш дорогой граф Туманов с женой!.. Мне кажется, вы с ними знакомы!.. Необыкновенно милые люди!..
Софи отметила, что Вася разговаривал с Марией очень почтительно, а девушка слушала его плохо, с недовольным видом и нервно теребила свою юбку хлыстиком. Совершенно очевидно, ухаживания юноши были ей неприятны. Вдалеке раздались крики загонщиков и яростный лай. В своре гончих было несколько легавых собак, принадлежавших соседним помещикам, а также несколько паршивых и злобных деревенских псов.
– Господа! – крикнул Михаил Борисович. – Пора! Давайте займем наши места!
Мужчины откланялись и отошли от дам. У всех были ружья через плечо и ножи на поясах. Даже у прихрамывающего и нескладного графа Туманова болтался длинный кинжал у ноги.
– Нам нечего опасаться, если мы останемся здесь? – вдруг встревожившись, спросила Дарья Филипповна.
– Абсолютно нечего! – ответил Николай. – Загонщики гонят волков на противоположную сторону леса. К тому же мы оставим с вами несколько мужиков и одного стрелка для вашей защиты.
– Я бы очень хотел стоять на страже, – сказал Башмаков.
Дарья Филипповна лично поблагодарила его. Все остальные охотники удалились. Дамы присели на стволе срубленного дерева, чтобы поговорить о недомоганиях, моде и случаях. Дети затеяли игру в жмурки на поляне. Иногда чья-нибудь мать поднимала голову и говорила:
– Остерегайтесь волков! Не потеряйтесь среди тропинок!
Хор послушных голосов отвечал:
– Хорошо, матушка… да, да, тетенька…
Всерьез играя роль защитника, Башмаков обнюхивал воздух, вращал глазами и подбрасывал то и дело ружье в руках. Вдруг разговоры смолкли, игры прекратились, привязанные лошади навострили уши. Голоса крестьян и лай собак, усиленные лесным эхо, казалось, доносились со всех сторон одновременно. Слышны были даже удары дубин загонщиков, бивших по стволам деревьев, чтобы испугать волков. Прозвучало несколько отдельных выстрелов.
– Сохраняйте хладнокровие, дамы, – сказал Башмаков. – Эхо обманчиво.
Его черные усы большинству внушали доверие. Софи огляделась, взглядом ища Марию, но не увидела ее. Встревожившись, она вернулась к коляске и спросила кучера, не видел ли он молодую барыню.
– Они пошли туда, – ответил он, рукой указав на просеку, утопающую в зарослях папоротника.
– Совсем одна?
– Да, барыня. Это неосторожно!
Сделав несколько шагов в упомянутом направлении, Софи позвала: «Мария! Мария!», не дождалась ответа и продолжала идти молча, сдерживая дыхание. Она не смогла бы объяснить, почему замолчала. Ею руководила интуиция. Вскоре до нее донесся шепот. Она остановилась.
– Оставьте меня! Оставьте! – прозвучал голос Марии.
Интонация была умоляющей. Захрустели ветки. В зарослях послышался шум борьбы. Софи бросилась вперед, пробилась сквозь стену папоротника и увидела стоявших лицом к лицу Владимира Карповича Седова и Марию. Он держал ее за запястья и пытался прижать к груди. Отбиваясь от него, девушка уронила шляпку. Лицо ее побледнело, исказилось. Прядь волос упала на щеку. Движимая возмущением, Софи подняла хлыстик, который уронила девушка, и ударила им по руке Седова.
– Отпустите ее! – закричала она. – Подите прочь!
Он разжал пальцы, отступил на шаг назад, и на его лице появилось саркастическое выражение. Вмешательство молодой женщины, видимо, позабавило его больше, нежели смутило. Мария закрыла лицо руками.
– Ну же! Чего вы ждете, сударь? – снова заговорила Софи. – Уходите! Уходите!
Последнее слово замерло у нее на губах. Она вытаращила глаза, и сердце у нее упало. Прямо перед нею, вдоль тропинки бежал заросший серой шерстью волк с хитрой мордой. Вытянув шею, открыв пасть, он не торопясь семенил, будто пританцовывал слегка, и ничуть не опасаясь, что его настигнут охотники. Ружье Седова стояло у пня. Вытянув руку, он схватил оружие за дуло, очень неловко. Но не успел приложить его к плечу, как слева раздался выстрел. Волк отскочил в заросли. Сухо грянул другой выстрел. Раздался крик Башмакова:
– Я попал в него!
Справившись с волнением, Софи взглянула на золовку. Девушка как будто не сознавала, какой подвергалась опасности. Взгляд ее блуждал. Щеки порозовели вновь. Неподалеку от нее стоял, улыбаясь, Седов, он был хладнокровен, равнодушен, заносчив. Кусты раздвинулись, и появился Башмаков, громогласный и жизнерадостный спаситель.
– Так что? Вы заснули, Владимир Карпович? – сказал он. – К счастью, я совершал обход!.. А если б я тут не оказался!.. Роскошный зверь!.. Пошли посмотрим на него!..
Софи и Мария последовали за ним. Седов воспользовался случаем, чтобы исчезнуть. На поляне потрясенные дамы окружили двух неосторожных женщин:
– Какое безрассудство так далеко уходить! Когда мы услышали крики, выстрелы, то боялись самого худшего!
При этих людях, окруживших их, Софи не смогла расспросить золовку, как того хотела. Дарья Филипповна протянула девушке флакон с солью.
– Вдохните, вам станет лучше после страха, которого вы натерпелись!
– Я не испугалась, – ответила Мария.
Вернулась группа крестьян, они за лапы тащили туши волков. Зверей уложили в ряд на землю. Некоторых добивали ножом. Их шерсть была залита алой кровью. Собаки, виляя хвостом, тыча мордой в землю, бегали вокруг. Возбужденные запахом лошади ржали и тянули повода. Чуть позже прозвучал рог, и охотники вернулись к месту сбора.
– На моем счету два зверя! – сообщил Николай, подходя к Софи.
Он светился детской радостью. Когда Дарья Филипповна рассказала ему об опасности, которой избежали его жена и сестра, Николай испугался, стукнул кулаком по лбу и сказал:
– Боже мой! Подумать только, что могло случиться! Молодец Башмаков! Я должен отблагодарить его!..
Сам Михаил Борисович похвалил Башмакова за быстроту его вмешательства и удивился, что Седов до такой степени утратил осторожность.
– Я собирался выстрелить, когда месье решил, что ловко опередит меня, – заявил Седов. – Впрочем, охотно признаю, что у меня получилось бы не лучше, чем у него.
Это замечание, произнесенное резким тоном, вызвало неловкость у присутствующих. Непорядочность Седова пробудила сильное раздражение у Софи. Ей пришлось сдержаться, чтобы не разоблачить его при всех. Но Михаил Борисович уже приглашал своих гостей полюбоваться картиной охоты: семнадцать волков! Ничего особенного в этом не было. Вороны смело расселись на самых высоких ветвях. Другие с карканьем кружились в небе.
– А теперь, – сказал Михаил Борисович, – мы возвращаемся домой. Надеюсь, эта облава разожгла вам аппетит!
Гости отдали честь обильному обеду, который начался с обильных закусок и продолжился раковым супом, дичью с приправой из зелени и огромными фаршированными гусями. Возбужденные водкой, сотрапезники болтали по-французски и по-русски. Сидевший у дальнего края стола месье Лезюр время от времени отпускал какую-нибудь шутку, над которой сам первым и смеялся. Николай одновременно уделял внимание двум своим соседкам: справа – графине Тумановой, слева – Дарье Филипповне, с очевидным предпочтением последней. Вася тщетно пытался заинтересовать Марию своими воспоминаниями о Геттингене. Седов ни с кем не разговаривал, ел нехотя и на все взирал критическим взглядом. Побагровевший и довольный, Михаил Борисович вынужден был кричать, чтобы его услышали Туманов и Башмаков, обсуждавшие и сравнивавшие достоинства своих собак. Дети, сидевшие за другим столом в гостиной, болтали как сороки. Двадцать слуг бегали по всем направлениям, сталкивались, обгоняли друг друга с обезумевшим видом, словно им было велено затушить пожар, а у них не хватало ведер. Софи с нетерпением ждала, когда обед закончится.
В половине четвертого встали из-за стола. Свободные комнаты в усадьбе были обставлены как спальни, чтобы гости могли отдохнуть после обеда. Как обычно, неутомимые господа задержались в гостиной, чтобы покурить. Дамы, более хрупкого здоровья, удалились. Им не терпелось сбросить обувь и расшнуровать корсеты. Поскольку кроватей оказалось недостаточно, дети легли на матрацы, разложенные на полу.
Разместив всех гостей, Софи постучала в дверь золовки. Девушка открыла ей, но с недовольным выражением лица. Тяжелая белокурая коса свисала с ее плеча. Она уже сняла свою элегантную амазонку и осталась в белой кофте и белой юбке.
– Чего вы хотите? – спросила она.
– Поговорить с вами, – ответила Софи, входя.
Мария снова легла в кровать, закинув руки за голову, сложив ноги. Софи села у ее изголовья и прошептала:
– Этот человек, Мари, я не понимаю его дерзости! Как он осмелился?..
– А вы, как вы осмелились? – воскликнула девушка, задрожав от негодования. – Зачем вы вмешались?
На секунду удивившись, Софи мягко произнесла:
– Но, Мари, он пытался поцеловать вас, а вы его отталкивали, отбивались…
– Вам надо было лишь представить мне возможность вырваться… и не… и не появляться перед нами с видом гувернантки, словно я – маленькая девочка, за которой вы обязаны присматривать!..
Этот буйный протест заставил Софи изменить тактику.
– Я не знала, – сказала она, – что этот человек так дорог вашему сердцу!
Мария вскинула голову с вызывающим видом:
– Он вовсе не дорог моему сердцу, как вы говорите!
– Проще говоря, вы любите его!..
– Нет.
– Тогда почему вы сожалеете, что я помешала ему обнять вас?
Мария умолкла, замкнувшись в себе.
– Не думайте, главное, что я осудила бы вас, если бы вы питали какие-то чувства к месье Седову, – дипломатично продолжила Софи. – У него прекрасная осанка, опыт, обаяние…
– Это ужасный человек! – пробормотала Мария.
– Вы достаточно хорошо его знаете?
Девушка не ответила. Наверняка после взрыва недоверия она боролась с желанием излить кому-нибудь душу. Ее тайна так угнетала ее, что на лице девушки запечатлелось физическое страдание. Наконец, она прошептала:
– Нет. Я его едва знаю. Он приходил к нам в дом всего пять или шесть раз. Но при каждой встрече ухитрялся провести несколько минут наедине со мной. И я ничего не делала, чтобы избежать этого.
– Сколько вам было лет, когда он обратил на вас внимание?
– Пятнадцать. Это было в день моего рождения. Он увел меня в сад и поцеловал. Я как обезумела. И никому об этом не рассказала. Затем я не видела его в течение двух лет.
– А теперь?
– Сегодня он впервые приехал… с Рождества! Прошло девять месяцев! Он, конечно, исчезнет опять и надолго. Может быть, навсегда. Он не любезничает со мной. Просто развлекается. Я ненавижу его. Но если он когда-нибудь вернется, я не смогу перед ним устоять… Как вы это объясните?
Она опустила голову и заплакала. Софи погладила затылок девушки:
– Ну! Ну! Ничего тут нет страшного!
– Есть. К тому же я была злой с вами! Он делает меня злой!.. Что со мной будет?
– Вы его забудете, – сказала Софи. – Я помогу вам в этом.
Мария бросилась в ее объятия. Ощутив тяжесть этой разгоряченной головы у себя на плече, Софи подумала о сокровенной жизни золовки, которую она считала такой простенькой девушкой, а теперь вдруг узнала, что ее жизнь полна наваждений, страхов, угрызений совести, желаний, мечтаний. Они долго простояли, прижавшись друг к другу, и обменивались мыслями, не произнося ни слова.
Шумы в доме, стихнувшие во время отдыха, постепенно возобновлялись. Хлопали двери, в коридоре, в саду, во дворе перекликались веселые голоса.
Николай пришел за Софи и Марией от имени двоих гостей, собиравшихся откланяться.
Софи бросила взгляд на девушку и спокойно сказала:
– Мария устала. Я одна пойду.
Когда она вышла на крыльцо, слуги привели коней. Башмаков поцеловал руку Софи и произнес несколько комплиментов на таком странном французском, что она не разобрала ни слова. Седов ей ничего не сказал, склонился перед Софи и, выпрямившись, долго смотрел на нее, как будто призывая ее исправить зло, которое совершил. После их отъезда Софи спустилась по ступенькам и обернулась. Мария у окна своей комнаты взглядом провожала двух всадников, углубившихся в аллею.
В столовой слуги уже готовили к чаю стол, с разнообразными ликерами, засахаренными фруктами и пирожками, обсыпанными тмином и маковыми зернами. Дамы уверяли, что они не проголодались, но вынуждены были смириться, уступив настойчивым уговорам Софи. Мужчины, поощряемые Михаилом Борисовичем, выпили еще, хозяин сопровождал каждый бокал особым тостом. Разливая вино по второму разу, он говорил: «Муж и жена – два сапога пара»; в третий раз наполняя бокалы: «Бог любит троицу»; в четвертый: «У дома четыре угла»; в пятый: «На руке пять пальцев», и так далее. Николай рассмешил Дарью Филипповну, рассказав ей тихим голосом, как во время облавы чуть не застрелил графа Туманова, который на четвереньках что-то искал в зарослях. Его замечания доставили ей с виду такое удовольствие, что он готов был весь вечер беседовать с нею! Когда угощение закончилось, все вернулись в гостиную. Именно в этот момент опять появилась Мария, она была бледна, но улыбалась. Дарья Филипповна бросилась к ней. Как она чувствует себя после таких волнений? Удалось ли ей немного отдохнуть? Вася стоял за спиной матери и с явным интересом слушал то, что она говорила, словно, не осмеливаясь высказываться сам, поручил ей выразить его мнение. Николай отвел Софи в сторону и признался, как был тронут добрым отношением госпожи Волковой к его сестре. Волновавший его вопрос сорвался с губ:
– Как ты ее находишь?
– Кого?
– Дарью Филипповну! Она замечательная женщина, не правда ли?
– С какой точки зрения?
Обезоруженный, он пробормотал:
– Ну, не знаю… Она изысканна, обаятельна, добра, по-матерински заботлива…
– Изысканна – нет, – сказала Софи, – обаятельна – это зависит от вкуса; добра – мне трудно в это поверить; по-матерински заботлива – бесспорно!
Не в силах разобраться, какая доля насмешки, а какая искренности заключалась в таком ответе, он прошептал:
– Я думал, что ты могла бы подружиться с нею.
Удивление, сверкнувшее в глазах Софи, окончательно обескуражило его.
– Зачем тебе понадобилось, чтобы я сделала эту женщину моей подругой? – сказала она. – У нас нет ничего общего. Меня она не интересует, и сомневаюсь, что я интересна ей.
Николай понял, что настаивать было бы неосторожно. Но он удивился, что такой близкий ему человек, как Софи, придерживается столь отличного от его собственного мнения относительно достоинств Дарьи Филипповны. Ливрейный лакей прервал их разговор, объявив, что ужин подан.
Михаил Борисович предложил руку госпоже Тумановой и повел ее к столу. Он был раздражен, потому что из всех присутствующих только граф и графиня не сделали ему комплимента по поводу его снохи. Не собираются ли они уехать, так и не сказав ему, подобно другим, что она ослепительно изящна, что ее французский акцент, когда она говорит по-русски, очарователен, что она восхитительно одевается, и еще тысячу приятных слов в том же духе? Если они поступят так с нею, он больше никогда не пригласит их к себе. С его точки зрения, достоинства Софи бросались в глаза. Он оглядывал всех своих гостей, но видел только ее. Ужин, полугорячий, полухолодный, был спрыснут изобилием вин. Когда подали мелкую дичь, графиня Туманова, наклонившись к Михаилу Борисовичу, прошептала:
– Истинное чудо!
Поначалу он решил, что графиня говорит о перепелке, чьи лапки она только что с таким упоением грызла, обсосав их до костей, но гостья уточнила:
– Ваша сноха – истинное парижское чудо!
Он напыжился от удовольствия. Позже, выходя из-за стола, граф Туманов, в свою очередь, сказал ему: «Ваша сноха – настоящее чудо Парижа!» Вероятно, супруги сговорились, выбрав это выражение.
Ночь приближалась, и Михаил Борисович предложил гостям остаться до утра под его кровом. Но они заявили, что ночь хороша и лучше уехать. Софи в душе испытала облегчение. Этот длинный день в обществе измотал ее. Все вышли на крыльцо.
Коляски были заложены. Шестеро крестьян, которых Михаил Борисович высокопарно называл лакеями, сидели на упряжных лошадях. Со смоляным факелом в руке они должны были сопровождать путешественников до дороги. В пучках танцующих лучей мелькали тени гостей и слуг. Женщины целовались на прощание. Дети дремали стоя, их карманы были набиты конфетами и фруктами. Собаки, прибежавшие из служебных строений, боязливо приближались к хозяевам и, помахивая хвостами, выпрашивали ласку. Закончив с обменом любезностями, каждая семья садилась в свой экипаж.
– Да хранит вас Господь! – крикнул Михаил Борисович.
Весь обоз пришел в движение. Когда коляска Волковых проезжала мимо Николая, в свете факела он увидел, как Дарья Филипповна улыбнулась ему, глядя своими алмазно-чистыми глазами, и помахала бледной ручкой, перед тем как исчезнуть в ночи.
7
Наступила зима с ее снежными вихрями, занесенными дорогами, заунывной тишиной и сверкающим морозом. Жизнь семьи сосредоточилась в старом доме с двойными законопаченными окнами и потрескивающими от жара изразцовыми печками. И Софи казалось, что она отправилась в долгое путешествие на корабле, загруженном припасами на долгое плавание. Отрезанные от окружающего мира, уединившиеся в снежной пустыне, обитатели Каштановки продолжали существовать, полагаясь на запасы продовольствия и свои чувства. В усадьбе регулярно, в монотонные дни, чистили дорогу. Прибыл пакет из Франции. В нем, в качестве литературного дара, находились лишь «Жан Сбогар» Шарля Нодье, «Опыт о безразличии в вопросах религии» Ламенне и несколько старых журналов, из которых следовало, что либералы добились успеха на сентябрьских выборах, что Людовик XVIII очень устал, что женские шляпки увеличились в размерах и их украшали перьями марабу, лентами, бантами из крепа, а мужчины носили сюртуки орехового цвета и жилеты из собачьей шерсти.
Когда позволяла погода, Николай ездил в клуб или к Волковым, чтобы увидеться с Васей. Нередко и Вася наносил ему визит. Их дружба крепла на фоне праздности. Их взгляды совпадали в том, что касается преклонения перед французскими конституционными теориями и немецкой романтической поэзией. Всякий раз, услышав, как они спорят, Софи поражалась их настойчивому желанию переживать идеи, относительно которых и тот и другой давно пришли к согласию. Лучше узнав Васю, она не стала ценить его больше. Признавая, что он образован, честен и хорошо воспитан, Софи находила какую-то слащавость в его лице и голосе и становилась несправедливой по отношению к нему. Как женщина, она понимала Марию, которая убегала, как только он появлялся.
В последнее время девушка заметно сблизилась со своей золовкой. И хотя между ними больше никогда не заходила речь о Седове, Мария была явно довольна тем, что теперь не одна хранит свой секрет. Она любила ездить в санях и Софи по деревням поместья: в Крапиново, Черняково, Шатково, Дубиновку – все они были одинаковы. Скрючившись в своих избах, словно в берлогах, мужики жили как звери во время зимовки. Оберегая тепло и скупясь на жесты, они редко выходили, не проветривали избы и работали на дому – вырезали миски из дерева, плели лапти или корзины, готовили снасти для рыбной ловли. В Шатково юный Никита добился успехов в правописании. Софи больно было смотреть, как он плохо живет, как скудно питается, как бедно одет, да еще у него отец – грубое животное, и мачеха, лицо которой светилось глупостью. У подростка на лбу остался шрам.
– Это староста ударил его, – сказал отец. – И хорошо сделал! Таких мальчишек, как он, научить можно только палкой! Разве следовало писать это письмо? Никто о нем не рассказывал, но все и всё знают в деревне! Старик в ярости. И это понятно. Как только представится случай, он опять побьет Никиту. И я, отец, скажу, что он прав. Если понадобится, когда рука его ослабеет, я предложу ему свою! Потому что, видите ли, барыня, хоть мы и бедны, но нам дороги отечество, порядок и добродетель…
Он выпил. Язык у него заплетался. По краям его рыжей бороды текли слюни. Он споткнулся и, преисполненный достоинства, удержался за край стола. Никита смотрел на него со страхом и отвращением. В соседних избах Софи обнаружила такую же нищету в других обличьях. Большинство крестьян жаловались, что у них не хватит запасов на зиму. Год был неблагоприятный. Бури и ранние морозы помешали собрать урожай. Капусты и гречихи нужно было вдвое больше, чтобы деревня могла выжить. Софи пообещала: хозяин не допустит, чтобы они страдали от голода.
На следующий день, в то время как Михаил Борисович и Николай сидели в кабинете напротив друг друга и обсуждали дела имения, послышался звон приближающегося колокольчика. Мужчины подошли к окну: это Мария и Софи возвращались с прогулки в санях. Они были укутаны в меха, запорошены снегом. Кто-то сопровождал их, но ни Николай, ни его отец не смогли узнать этого человека. Разговор отца с сыном возобновился, но Михаил Борисович был рассеян. Каждую секунду он поглядывал на дверь. Наконец, раздались легкие шаги и появилась Софи. Скачка на морозе разрумянила ей щеки, оживила блеск глаз. Направившись прямо к отцу, она сказала:
– Я была вынуждена принять решение, которое, я надеюсь, вы одобрите…
– Разумеется, – ответил он, окинув ее ласковым взглядом. – Но откуда вы едете?
– Из Шатково. И я привезла оттуда мальчика, Никиту…
Черты лица у Михаила Борисовича заострились. Зрачки стали крохотными под седыми зарослями бровей.
– Он больше не может оставаться в деревне, – продолжала Софи. – Староста сердит на него и не упускает случая, чтобы не поиздеваться над мальчиком, не побить его. Я подумала, что мы легко можем использовать Никиту в усадьбе, как слугу.
Михаил Борисович, сбитый с толку таким предложением, почувствовал, что сноха в очередной раз вынуждает его поступить, как она хочет. Решение было принято ею в полной уверенности, что свекор не осмелится противоречить ей. Поскольку ему самому возмущаться было уже поздно, запротестовал Николай:
– Это невозможно, Софи! Если какой-то мальчишка жалуется на плохое обращение с ним в деревне и этого уже достаточно, чтобы ты поселила его в доме, то скоро на нашу голову свалятся все молодые бездельники имения! В любом случае, ты могла бы посоветоваться с нами, с отцом и мною…
Михаила Борисовича покоробил повелительный тон, с которым Николай обратился к Софи. Если кто-то здесь и мог повышать голос, то только он один, как глава семьи и владелец Каштановки. Но он из учтивости держал себя в руках, в то время как его сын, двадцатипятилетний франт, изображал из себя супруга – властелина. Все, что напоминало Михаилу Борисовичу о правах Николая в отношении молодой женщины, выводило его из себя.
– Я отвезу Никиту к родителям сегодня же! – подытожил Николай.
Гнев, кипевший в душе Михаила Борисовича, нашел выход и обрушился на его сына.
– Что ты вмешиваешься? – заорал он.
– Но, отец, зачем нам этот мальчишка, он здесь не нужен! – сказал Николай.
– Одним больше, одним меньше, что это меняет? Ты ведь не откажешь в таком удовольствии своей жене?
Подобный итог ошарашил Николая. Михаил Борисович воспринял его удивление как дерзость. Что за нелепость сморозил он, чтобы его сын смотрел на него такими глазами?
– У тебя великий дар безмерно раздувать никчемные истории! – с раздражением продолжил он. – В важных делах на тебя нельзя рассчитывать, но когда речь идет о пустяках, ты тут как тут и блистаешь, изображая из себя сильного мужчину!..
Желание задеть противника увлекло его дальше, нежели он того хотел. Софи задумалась о причине этой ссоры: «Все, что говорит и делает сын, выводит отца из себя! Неужели потому, что Николай молод, а он уже нет?»
– Возьмите себя в руки, отец, прошу вас! – воскликнула она. – Николай не заслуживает упреков, которые вы ему адресуете!
– Я рад, что вы так снисходительны, – саркастическим тоном возразил Михаил Борисович. – Но если вы допускаете, что ваш муж не оказывает вам должного почтения вашей личной жизни, то не можете помешать мне, если я хочу запретить ему вести себя таким образом в моем присутствии.
– Он не был непочтителен ко мне!
– О! Вы так полагаете? Очаровательная беспечность! А мы, русские, так уважаем женщину, что считаем делом своей чести защищать ее во всех жизненных обстоятельствах! Разве во Франции ведут себя иначе?
– Оставьте ваши сравнения Франции и России! Я не нуждаюсь в вашей поддержке! Если Николай поведет себя неправильно со мной, об этом должна сказать ему я сама!
Михаил Борисович пришел в великое возбуждение. Этот женский гнев взволновал его, потому что относился к нему одному. Поддавшись вспышке ярости, Софи вручила ему частичку самой себя, как сделала бы это под влиянием любовного смятения. Он раздул огонь и грелся у этого пламени.
– Неужели я обидел вас, пытаясь защитить? – сказал он с притворным простодушием.
Она пожала плечами. Забыв о сути разговора, Михаил Борисович стал внимательно приглядываться к тысяче мелочей, блеску волос Софи, вышивке на ее корсаже, изысканной форме ее ногтей. Мужской голос заставил его подскочить. То был голос сына. Надо же, он проснулся!
– Спор этот смешон! – кричал Николай. – Как я выгляжу на фоне вас двоих? Да пусть этот мальчишка остается или уходит, мне наплевать! Делайте что хотите!..
Он вышел, хлопнув дверью.
– Разъяренный баран! – бросил ему вслед Михаил Борисович.
Глаза его заблестели от удовольствия. Софи побежала за Николаем и догнала его в спальне. Он сидел на краю постели, упершись локтями в колени и свесив голову.
– Мой отец терпеть меня не может, – сказал он.
– Да нет! – возразила Софи. – У него отвратительный характер. Он раздражается из-за пустяка. А поскольку ты самый близкий ему человек в доме и тебя в глубине души он любит больше всех, то именно на тебя он и набрасывается, когда что-нибудь досаждает ему.
Она не была убеждена в том, что говорила, но Николай выглядел таким удрученным, что она старалась прежде всего не допустить, чтобы пострадало его самолюбие.
– Если бы я знала, что произойдет, – продолжила она, – я бы оставила Никиту там, где он находился! Давай отвезем его вместе в деревню?
Он рассмеялся:
– О нет! Отец расстроится! С его точки зрения, этот мальчишка обладает всеми достоинствами, поскольку ты им интересуешься.
– Ты смешон!
– Я не дал тебе оснований так говорить! Ты полностью изменила моего отца! Тебе достаточно поднять мизинец, и он уже приходит в восторг, стоит открыть рот, он тут же одобрит тебя, а когда ты уезжаешь на прогулку, он скучает, дожидаясь твоего возвращения!..
– Ты забываешь, что и двух дней не проходит без ссоры между нами!
– Такого рода ссоры он сам затевает для своего удовольствия!
– Короче, сегодня ты упрекаешь его в том, что он симпатизирует мне, как прежде упрекал за то, что он был враждебен со мной? – весело заметила она. – О! Какие же вы сложные, господа русские!
– Не смейся, Софи, заверяю тебя, иногда я задаю себе вопрос, что здесь делаю. Мы женаты, но у нас нет личной жизни. Этот дом не наш. По каждому поводу мы должны советоваться с отцом. В итоге все решается не между нами с тобой, а между ним и тобой! Я частенько тоскую по Санкт-Петербургу. Если бы я мог вернуть должность в министерстве…
– Но и там ты не был счастлив, Николай!
– Потому что у нас не хватало денег, чтобы жить так, как мне бы хотелось! Но со временем мое положение улучшилось бы. Там я мог питать любые надежды!
– Здесь так же!
Он вздохнул, почувствовал, что внутренне опустошен.
– Я чувствую себя ненужным… Как будто снова стал ребенком…
– А ты когда-нибудь переставал быть им? – сказала она, присев рядом с Николаем и погладив его рукой по волосам.
Она уже замечала, что чрезмерная печаль, так же как чрезмерная радость, омолаживала его. «Пока я не подарю ему сына, он будет таким», – подумала она. Всякий раз, когда эта мысль посещала ее, она причиняла ей боль. Хотя время прошло, Софи не могла смириться с тем, что потеряла ребенка, которого ждала, носила, родила. Если предположить, что у нее появится другое дитя, не настигнет ли и его смерть через несколько дней? Врач успокоил ее на этот счет, но она боялась верить ему. И чем больше Софи присматривалась к Николаю, тем отчетливее сознавала, что его мужские заботы намного легче тех, что мучили ее.
– Ты унываешь, – сказала она, – а ведь в этой нищей деревенской глуши, что окружает нас, так много можно сделать! Мне нужна твоя помощь! Я ничего не могу без тебя!
Софи намеренно расхваливала его. Он поднял голову. В его глазах мелькнул огонек заинтересованности. Она заговорила с ним о крестьянах, опасавшихся голода:
– Я обещала в случае необходимости обеспечить их продовольствием.
– Если ты ласково попросишь об этом отца, он не сможет тебе отказать! – заметил Николай с горькой улыбкой.
Она притворилась, что не заметила этого.
– В целом, – сказала она, – поля под зерновые распределены плохо. Разве нет бóльших площадей под паром к северу от Шатково, на холме?
– Есть.
– Почему бы не посадить там весной картофель? Он очень сытен. Мужики могли бы сделать запасы на зиму.
Николай поморщился: у его жены воистину странные идеи по любому вопросу. Он объяснил ей, что картофель плохо приживается в России. Правительство убеждает помещиков пойти на этот риск. Но большинство пока что остерегается. В Пскове из всех членов клуба, который посещал Николай, только двое написали в Санкт-Петербург, запросив клубни картофеля.
– Ну так что же! Давайте сделаем, как они, – сказала Софи. – Эксперимент стоит того, чтобы попробовать его. Для начала мы засадим картофелем небольшой участок!
– Надо еще испросить разрешения у отца! – добавил Николай.
– Конечно!
– Это невыносимо!
Софи рассердилась:
– Тебе все кажется невыносимым, Николай! Твой отец, деревня, крестьяне, даже я, может быть!..
Он собирался ответить шуткой, но вдруг в его мозгу все совместилось и прояснилось: не был ли этот корнеплод иностранного происхождения символом либеральных идей, которые, зародившись в самых цивилизованных странах Европы, расцветут однажды на русской земле? Любовь к демократии неразрывно связана с материальным прогрессом, нельзя было отстаивать права человека и выступать против картофеля. И на этот раз откровение посетило его благодаря Софи. О! Какое упорство у этой женщины! Какая жажда обновления, борьбы, изнуряющего совершенствования во всяком деле! Когда Вася узнает, что они решили выращивать картофель, он будет в восторге! Николай обнял Софи и расцеловал ее, громко провозглашая:
– Ты необыкновенная женщина! Единственная в своем роде! Я обожаю тебя!
Они весело подготовились к ужину.
В начале трапезы обстановка была мрачной, потому что и Николай, и его отец, оба считали себя оскорбленными и не разговаривали друг с другом. Лишь во время чая атмосфера потеплела благодаря усилиям Софи и месье Лезюра. Софи воспользовалась смягчившейся обстановкой и перевела разговор на картофель. Михаил Борисович, слегка сожалевший о своем выпаде, без труда одобрил план.
Выйдя из-за стола, Софи зашла в девичью, чтобы справиться о своем подопечном. Василиса, в каком-то смысле исполнявшая обязанности экономки в усадьбе, сумела найти для мальчишки чистую одежду. Ливрейный лакей уже подстриг ему волосы под горшок. А Антип научил приветствовать гостей, когда они выходят из экипажей. Было решено, что поначалу Никита станет приносить воду, подавать стружку для разжигания печей, начищать кухонные ножи и мыть котлы. Он выглядел взволнованным и счастливым.
Затерявшись в толпе слуг, Никита исчез с глаз Софи, и она забыла о нем на несколько дней.
Затем, однажды утром, вернувшись в свою комнату после завтрака, она обнаружила на туалетном столике тетрадь. Поначалу Софи сильно разгневалась. Вот к чему приводит излишняя доброта к низшему сословию! Затем она убедила себя, что мальчишка не знает правил поведения, что к такому поступку его подтолкнуло благородное чувство, и она велела позвать его.
– Кто позволил тебе входить сюда в мое отсутствие? – спросила она Никиту с материнской строгостью.
– Никто, барыня.
– Знаешь ли ты, что это очень плохо и запрещено?
– Нет, барыня.
– Если бы кто-нибудь застал тебя здесь, тебя бы высекли, и что бы я могла сказать на этот раз в твою защиту?
Ей доставляло удовольствие ругать его, пугать.
– Мне это было бы безразлично, – тихо ответил он. – Я должен был принести вам мою тетрадь. Любой ценой…
– Неужели так важно, чтобы я прочитала написанное тобою?
Он опустил голову, так что перед глазами Софи осталась лишь шапка коротко подстриженных волос. Она слышала его прерывистое дыхание. «Как, должно быть, бьется его сердце!» Софи открыла тетрадь и разобрала первые строчки:
«Я живу в большом доме, но теперь почти не вижу мою благодетельницу. Слуги очень добры со мной. За их столом я могу попросить еще хлеба и горохового отвара, сколько захочу. Я сплю с другими мужиками в общей комнате, на соломенных подстилках. Кучера и привратники храпят сильнее всех. Я не понимаю, зачем нужно столько людей, чтобы обслуживать пять или шесть человек. Большинство слуг ничего не делают. В деревне такие бездельники уже получили бы свою порцию розог. Мне нравится зима. Когда я смотрю на снег, в моей голове все становится чистым. Если бы я был богат и свободен, я бы поехал на тройке по белым полям и привез оттуда песню ветра. И записал бы ее на бумаге. Мне дорого за это заплатили бы. И я стал бы еще богаче и свободнее…»
Софи улыбнулась, закрыла тетрадь и подумала: «Его надо бы послать в школу. Если бы он серьезно учился, в дальнейшем его можно было бы освободить. Я прекрасно могу представить себе, как он делает карьеру…»
Но вновь обратив глаза на Никиту, который стоял перед нею босиком, потупив взгляд, она поняла, насколько далека ее французская мечта от русской действительности. Уныние охватило Софи. Она ведь пыталась сдвинуть тяжелейший камень, скалу, вросшую в землю тысячу лет назад. Единственное, что она могла сделать для этого ребенка, это подарить ему свое расположение, защиту, советы. Он поднял голову и смотрел на нее, как на икону. Она осознала, какую странную картину представляли они собою вместе.
– Возьми свою тетрадь, – резко сказала она.
– Я больше не должен писать? – спросил он.
И его сине-фиолетовые глаза широко раскрылись. Ей показалось, что он вот-вот расплачется. Покачать ребенка, большого мальчика в слезах! Эта мысль промелькнула у нее в голове со скоростью стрелы. Софи смутилась.
– Нет-нет, – сказала она. – Ты пишешь очень хорошо. Только не надо больше приносить мне твои бумаги, следует ждать, пока я сама об этом попрошу. Теперь быстренько уходи. Ступай…
Как ни странно, но ей было больно до тех пор, пока он, попятившись, не переступил порог.
* * *
В конце февраля месяца Николай получил письмо от Кости Ладомирова, который в притворно взволнованных выражениях сообщал ему, что вся Франция носит траур, потому что герцог де Берри, покидавший оперный театр, был убит рабочим-шорником по имени Лувель. Софи немедленно написала в Париж своим друзьям Пуатевенам, попросив их прислать дополнительные сведения. Они ответили ей уклончиво, несомненно, из осторожности. Ее родственники, напротив, прислали экземпляр журнала «Деба», в котором событие было изложено приподнятым слогом. Николай пригласил Васю, чтобы обсудить новость. Они пришли к заключению, что это политическое убийство, последовавшее за убийством Коцебу Сандом, в скором времени заставит всех властителей мира считаться с волей народа. И действительно, чуть позже до Пскова долетели слухи, осуждающие волнение немецкой, итальянской и испанской молодежи. Казалось, Европу охватила лихорадка. Но в России ничего не менялось.
Как это было каждый год, возвращение жаворонков ознаменовалось приходом весны. Воздух прогревался, первые почки набухали на черных ветках, снежные корки соскальзывали с крыш, сани вязли в грязи, Михаил Борисович приказал снять двойные рамы с окон, и с конца Великого поста повар в окружении помощников суетился перед своими печками, крася яйца, готовя пасхи и куличи для светлого праздника.
По случаю Светлого Христова Воскресения вся семья отправилась в Шатково на торжественную ночную службу. На следующий день Михаил Борисович вместе с сыном, дочерью и снохой принимал поздравления от слуг и подарил каждому из них по куску материи. Затем, по установленному обычаю, Николай уехал в коляске наносить визиты вежливости, а Софи с Марией, стоя у стола с угощением и ликерами, принимали ближайших соседей. Софи размышляла, осмелится ли явиться к ним Седов. Он пришел около пяти часов вечера, в то время, когда в гостиной было полно народу. В соответствии с традицией, ни Софи, ни Мария не могли отказать ему в тройном безмятежном поцелуе. Он подошел к девушке и произнес формулу пасхального приветствия:
– Христос воскрес!
– Воистину воскрес! – прошептала Мария.
И, бледная как смерть, позволила ему трижды поцеловать себя. Седов едва прикоснулся губами к ее щекам. Но когда он отошел, девушка чуть не потеряла равновесие. Софи, в свою очередь, пришлось выдержать комплимент и объятие под взглядами присутствующих. Когда Седов покинул гостиную, она обнаружила, что и ее сноха исчезла. Десятью минутами позже стук удаляющихся копыт раздался в аллее. Вернулась Мария. Выглядела она как привидение.
– Вы провели какое-то время наедине с ним? – спросила Софи.
– Нет, – ответила Мария. – Я поднялась в свою комнату. И даже не видела, как он уехал…
Софи поняла, что девушка лжет, и ей стало грустно.
Николай вернулся поздно вечером, довольный своими многочисленными визитами. Он расцеловал всех знакомых господ и дам, перепробовал массу лакомств и водок во всех домах и был преисполнен христианского благорасположения ко всему роду человеческому. Он был так возбужден, что и в одиннадцать ночи не желал ложиться спать. Софи пришлось буквально тащить его в их комнату. В кровати Николай продолжал рассказывать ей о событиях дня. Из осторожности он говорил обо всех, кроме Дарьи Филипповны. Хотя именно рядом с ней провел лучшие часы. Он представлял себе ее сидящей у самовара, с улыбающимися глазами, белым лбом, розовыми щеками, и говорил:
– У Садовниковых была такая толпа людей, что мы ходили чуть ли не по ногам!
Софи приблизилась к нему, прижалась, ощутив его тепло, его дыхание. Он протянул руку, чтобы повернуть язычок масляной лампы.
– Я люблю тебя! – произнес Николай радостным тоном, словно сделал открытие.
Софи протянула к нему губы и сосредоточилась только на счастье, которое ее ожидало.
* * *
На следующий день Софи обнаружила, что простудилась, – наверняка, когда провожала гостей на крыльце. Двое суток она старалась не обращать внимания на недомогание, затем, поскольку жар давал о себе знать, по совету золовки согласилась лечь в постель. Именно в этот день крестьяне Шатково должны были в первый раз сажать картофель. Клубни, привезенные из Санкт-Петербурга, были сложены у старосты, участки земли перепаханы вовремя, и небо, очищенное ветром, обещало ясный день до заката солнца. Михаил Борисович и Николай уехали на рассвете, чтобы наблюдать за работами. Софи страдала от того, что не может вместе с ними наблюдать за осуществлением предприятия, которому положила начало. Откинув голову на подушку, она рассеянно слушала Марию, громко читающую ей «Прокаженного из города Аоста» Ксавье де Местра. Вдруг в коридоре раздались торопливые шаги. Кто-то постучал с дверь:
– Барыня, барыня!
Это был голос Никиты. Не открывая, она спросила, что ему нужно.
– Барыня, – вновь заговорил он, – в Шатково все идет плохо! Пелагея приехала оттуда на телеге. Крестьяне отказываются сажать. Они говорят, что это бесовское растение. Наш батюшка Михаил Борисович хочет высечь всех их розгами!
Софи на секунду растерялась, оценивая глубину опасности и слабость собственных возможностей. Она и впрямь слышала от Николая, что крестьяне проявляли определенную настороженность в отношении выращивания картофеля, но ей и в голову не приходило, что они дойдут до бунта.
– Запрягай! – крикнула она Никите. – Мы едем туда!
Мария безуспешно пыталась удержать ее:
– В вашем-то состоянии?.. Вы же вся горите!.. И лихорадка!..
Десятью минутами позже они обе катили в коляске к Шатково.
Когда Софи и Мария добрались до деревни, она оказалась пуста, как во время эпидемии. Коляска проехала между двумя рядами изб с закрытыми дверями, глухими окнами, обогнула церковь, которую тоже все будто покинули, и свернула на ухабистую дорогу в поля. Софи казалось, что лошади еле тащатся, лениво покачивая задом и тяжело ступая копытами, увязающими в грязи. Она попросила кучера ехать побыстрее. Тот ответил:
– Никогда не надо спешить навстречу несчастью, барыня!
За углом березовой рощи показалась наконец большая площадка распаханной земли. Примерно шестьдесят мужиков, старых и молодых, собрались в этом месте, обнажив головы, а ногами увязнув в земле. Напротив них стояли Михаил Борисович и Николай; чуть подальше – отец Иосиф, который по своему положению обязан был выступить на стороне помещика, но и он, без сомнения, не одобрял разведения картофеля. Заметив жену и сестру, Николай поспешил к ним и стал умолять их уехать домой. Напрасно Софи уверяла его, что чувствует себя лучше, он не желал слушать ее:
– Тебе здесь не место! Через минуту-другую может что-то произойти! Они же звери, невежественные скоты!..
– Что они говорят? – спросила Софи.
– Все время одно и то же! Это растение привезли не из православной страны. В государственных погребах, куда сваливают картошку, слышны таинственные звуки, топот, смех, песни…
– А отец Иосиф говорил с ними?
– Говорил, конечно! Поднимал крест, цитировал Священное писание… Напрасный труд! Мужики выслушали его, перекрестились, но и шагу не сделали в сторону поля! Тогда, потеряв терпение, отец послал в Псков Антипа за войсковой частью.
– Солдаты? – воскликнула Софи.
– Да, – ответил Николай, – пятерых-шестерых из этих молодцов проведут сквозь строй, высекут. Другие тогда поймут.
– Это отвратительно!
– Другого выхода нет.
– Нам придется уехать! – пробормотала Мария, уцепившись за руку невестки.
– Не раньше чем дело решится! – сказала Софи. – Я поверить не могу… Просто не верю…
Она повторяла эти слова и таращила глаза на толпу мужиков, ожидавших наказания. Все они были ей знакомы, но она, однако, не узнавала их лица. Тупое упрямство исказило застывшие теперь черты, зрачки застекленели, тела оцепенели. Чуть подальше, за рядами кустарника, притаились их жены, дочери, рыдавшие как плакальщицы. Михаила Борисовича своими воплями они вывели из себя, и он заорал:
– Замолчите вы или нет? Или я велю высечь вас вместе с мужиками!..
Испуганные женщины тут же смолкли.
– Что касается вас, – продолжил Михаил Борисович, подходя к крестьянам, – то советую вам подумать. Я имею обыкновение держать обещания. Солдаты прибудут сюда очень скоро. Или вы посадите картошку, или, клянусь вам, на ваших спинах не останется и мизинца нетронутой кожи!
Эту угрозу он произносил по меньшей мере в десятый раз. Мужики пошептались между собой, подтолкнули старосту в плечи, и тот упал на колени. Его выцветшая бороденка растрепалась на ветру. Глаза помутились от влаги. Он раскинул руки и замычал с дрожью в голосе:
– Батюшка наш, благодетель, делай с нами что хочешь на этой земле, бей нас, убивай!.. Только не заставляй сажать эту мерзость, из-за которой нам гореть в аду!..
– Но, несчастные вы идиоты, – взревел Михаил Борисович, – разве вы не слышали, что сказал отец Иосиф! Он же божий человек! И знает, о чем говорит!..
– Отец Иосиф знает, что такое Божественный свет, – возразил староста, – но ему неизвестно, что такое адская темнота!
– Нет, – вмешался отец Иосиф громовым голосом, – я знаю все: и добро, и зло, и высокое, и низкое. И я говорю вам: ничего не бойтесь, поскольку я освящу землю там, где вы будете сажать.
Смуглый, бородатый, пузатый, он размахивал серебряным крестом, чтобы призвать к смирению свою паству. Широкий рукав рясы соскользнул, обнажив волосатую кисть.
– Давайте! Все вместе! За работу! – прикрикнул он.
Староста погрузился в молчание, но мужчина не сдвинулся с места.
– Никто не имеет права строить счастье людей вопреки их воле! – прошептала Софи. – Если эти крестьяне не хотят сажать картофель, надо позволить им делать то, к чему они привыкли! Что угодно лучше насилия… жестокости в отношении безоружных, невежественных людей!..
Она устала, чувствовала себя разбитой, дрожала от жара.
– Но как же, Софи, это ведь недопустимо! – сказал Николай. – Если мы уступим им сегодня, то потеряем всякую власть над ними в будущем. После мужиков Шатково настанет очередь мужиков другой деревни, затем еще одной обсуждать наши приказы. В конце концов они решат, что им все позволено…
– Как же ты можешь опасаться, что они не станут повиноваться тебе, если выступаешь за отмену крепостного права?
– Я – за отмену крепостного права, но против беспорядка. Даже в демократическом государстве необходимо определенное управление. Иначе будет анархия, замешательство в умах, разрушение…
Софи с трудом переносила эту полемику на глазах толпы мужиков, ожидавших пытки. Она не знала, как опровергнуть доводы Николая, и тем не менее ощущала, сколь бесчеловечным было это право наказывать рабов, предоставленное хозяину; даже когда хозяин прав, а рабы ошибаются. Михаил Борисович подошел к ней и пробурчал по-французски:
– Ну, что вы на это скажете? А? Хороши же они, ваши мужики! Вот, дорогуша, какому сброду вы посвятили себя!
– Они таковы, какими вы их сделали! – заметила Софи. – Я хочу поговорить с ними.
– Они послушают вас не больше чем меня!
– И все же позвольте мне, я попытаюсь!
– Нет! Напрасно вы встали с постели и напрасно приехали сюда. Я частенько уступал вашим милым уговорам. Но на этот раз дело слишком серьезно. Я до конца буду придерживаться принятого мною решения. Вы не будете говорить с ними, и они получат взбучку.
Он поклонился Софи и вернулся к крестьянам, которых священник продолжал вяло уговаривать.
– У моего отца поистине несгибаемое здоровье! – с восхищением произнес Николай. – Мы здесь находимся уже пять часов, а у него ни малейших признаков усталости!
– Значит, ты одобряешь его, Николай? – спросила Софи.
– Безусловно! – ответил он.
– Я тоже, – подхватила Мария.
У Софи подкосились ноги, и она присела на пенек. Молодая женщина была растеряна в большей степени, нежели в день своего приезда в Россию. «Все это – моя вина! – с ужасом подумала она. – Мои добрые намерения оборачиваются против меня. Если бы я не навязывала идею с картошкой, мужики продолжали бы жить спокойно. Неужели перемена – враг счастья в любой стране, кроме Франции?» Во время этих размышлений она заметила всадника, скачущего вдоль опушки леса. Он тяжело подпрыгивал в седле, расставив ноги и оттопырив локти. Софи узнала Антипа. Он возвращался из Пскова.
– Солдаты близко! – выкрикнул он.
В его голосе прозвучала удивительная радость. Соскочив с лошади, он тут же подбежал к Михаилу Борисовичу, чтобы отчитаться за выполненное поручение. Затем подошел к Софи и Николаю, сообщая снова якобы приятную новость:
– Солдаты подходят! Солдаты подходят!
– Разве ты не знаешь, что они прибывают для того, чтобы избивать твоих ближних? – резким тоном сказала Софи.
– Знаю, барыня.
– Тогда чему же ты радуешься?
Антип тяжело дышал и посмеивался, по лицу его катился пот.
– Всегда приятно видеть, как бьют других, понимая, что мог бы оказаться на их месте!.. Это не я радуюсь, а моя спина!..
Его маленькие глазки лукаво поблескивали. Он поспешно пристроился рядом с отцом Иосифом, чтобы во время экзекуции быть окутанным Божественным благоуханием.
– Эй! Все вы там! – воскликнул Михаил Борисович. – Слышали, что он сказал: солдаты подходят! Не заставляйте их ждать! Отправляйтесь в лес нарезать прутья!
Софи уже не реагировала на дикость ситуации. Все, что делалось, что произносилось здесь, не вязалось со здравым смыслом. Посоветовавшись между собой, мужики послушно направились в лес. Не разбегутся ли они в зарослях? Нет, они, один за другим, вернулись, каждый принес по веточке, очищенной от листьев, и положил ее к ногам Михаила Борисовича, как дар. На лицах крестьян застыло выражение угрюмой покорности. Поскольку некоторые срезали слишком тонкие палочки, Михаил Борисович послал их за другими, покрепче. Они безропотно повиновались. Кучка быстро росла.
Когда розги были готовы, крестьяне собрались в прежнем месте и Михаил Борисович велел Антипу открыть корзину с провизией. Николай, Софи и Мария отказались разделить его трапезу. А он сел на камень и на глазах ошеломленных мужиков принялся уписывать за обе щеки колбасу и пить водку прямо из горлышка бутылки. Лицо его светилось жестокой решимостью. Засаленные губы блестели меж растрепанных бакенбардов. Он вытер ладони о брюки, хотел откусить Вестфальского окорока, но отложил его в корзину, услышав топот копыт.
– Вот и они! – заорал Антип.
Николай узнал мундиры кавалерийского полка, расквартированного в Пскове. Численность прибывших равнялась половине эскадрона. Во главе отряда ехал верхом командир подразделения Шаманский, невысокий черноволосый мужчина, которого Николай частенько встречал в клубе. Приказав солдатам спешиться, Шаманский приблизился к Михаилу Борисовичу, по-военному поприветствовал его и сказал:
– По вашему приказанию прибыл! Где виновные?
– Они все виновные! – ответил Михаил Борисович.
– С кого начнем?
– Со старосты.
– Сколько ударов?
– Начинайте! Я остановлю вас!
По приказу капитана Шаманского всадники взяли в руку по пруту и опробовали орудие наказания, слегка похлестав им по сапогам. Затем выстроились в два ряда и приготовились сечь первую жертву, которая пройдет между ними. Под их киверами с султанами вырисовывались такие же крестьянские лица. Четыре человека схватили старосту, сорвали с него рубаху и связали ему руки за спиной.
– Это невозможно! Остановитесь! Прекратите! – выкрикнула Софи.
Николай крепко обхватил ее руками, стараясь удержать.
У старосты была хилая грудь, заросшая посередине седыми волосами. Голова его тряслась. Колени подкашивались. Солдатам пришлось удерживать его под руки, чтобы он не упал лицом в землю.
– Вперед! – крикнул капитан Шаманский.
Старосту поволокли к двойному строю палачей, и он уже видел, как поднялись палки. Вдруг он застонал:
– Отец Иосиф! Отец Иосиф, ты же сказал, что освятишь землю перед посадкой?
– Я говорил это и повторяю, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! – ответил священник.
– В таком случае… Я думаю… Позвольте мне еще раз поговорить с остальными… Братья православные!.. Ваше Высокоблагородие!.. Только два слова!..
Его отвели к мужикам. Они окружили старосту. Началась долгая дискуссия. Толпа топталась на месте, как стадо овец. Потеряв терпение, Михаил Борисович заорал:
– Достаточно!
Староста появился вновь, четверо солдат загорелыми запястьями впились в бледную плоть его рук и плеч. Слишком широкие штаны старосты соскальзывали все ниже на каждом шагу. Чтобы не потерять брюки, он раздвигал ноги.
– Что ты хочешь теперь сказать? – спросил священник.
– Мы подумали, – пробормотал староста. – Хотелось бы знать наверняка. Вот что: если земля будет освящена, то, что мы посадим в нее, не будет связано с нечистой силой?
– Это так! – подтвердил отец Иосиф.
– А растение, которое мы соберем и станем есть, будет освященным?
И тут отец Иосиф слегка замешкался. Очевидно, ему не хотелось давать церковное благословение корнеплоду сомнительного происхождения.
– Ну же! Ответьте ему! – с раздражением сказал Михаил Борисович.
– Это станет воистину православное растение, – вздохнул священник.
– Тогда, – ответил староста, – мы согласны, мы подчиняемся и просим прощения у нашего хозяина. Явите Божескую милость! Простите нашу дерзость!
Все мужики упали на колени. Женщины вышли из зарослей, плача от радости. На фоне всеобщего ликования солдаты ожидали приказа отбросить прутья.
– Слава Тебе, Господи! – сказал Николай.
Он разжал кольцо рук, сжимавших Софи. Она будто пробудилась от страшного сна. Кровь стучала у нее в висках. Сквозь мутную дымку Софи увидела офицера, отводившего своих людей к лошадям, и отца Иосифа, который, подобрав одной рукой рясу, подняв другой чашу со святой водой, устремился к полю, чтобы освятить его.
– Ну, разве я был не прав? – раздался голос Михаила Борисовича.
Софи искала его глазами, но различала лишь непроницаемый туман и без страха спрашивала себя, что с ним случилось. Ее тело медленно опускалось в дыру, коснулось покрова из листьев. Над нею послышались приглушенные возгласы:
– О Господи!
– Ничего, ничего! Ей не следовало приезжать с таким жаром!..
– Скорее, домой!.. Домой!..
Последние слова показались ей такими милыми. «Домой!.. Домой!..» Так говорил Николай. Она почувствовала себя приятно больной и счастливой оттого, что ее любят, и вместе с тем ей так хотелось поскорее оказаться в теплой постели.
8
Пакет был вскрыт на почте и так неумело заклеен вновь, что трещина на печати была еще видна. Софи нисколько не возмутилась этим, поскольку знала, что переписка с чужеземцами находилась под пристальным наблюдением. К счастью, ее мать не писала ей ничего такого, что могло не понравиться русским властям. В письме содержалась даже фраза о преступном волнении республиканских умов в мире, которая должна была порадовать цензоров. Что касается остального, то графиня де Ламбрефу пересказывала дочери несколько незначащих историй, произошедших с парижскими особами, и ограничивалась вопросами относительно ее выздоровления после простуды, спрашивала, не появилось ли у нее «новой надежды» и не собирается ли она в ближайшее время совершить с мужем путешествие во Францию. Вернуться во Францию! Хотя бы на несколько дней! Софи иногда думала об этом, но предприятие казалось ей слишком сложным и слишком дорогостоящим, чтобы осуществиться. Семья, родина с каждым годом отдалялись от нее все больше. Конечно, природа в окрестностях Парижа была прелестнее, зелень пышнее и разнообразнее, нежели под Псковом, а небо над Сеной и Луарой таким прозрачным, каким не бывает нигде, блестящие французские умы не имели себе равных в России, и тем не менее именно на этой чужой земле она обрела смысл своего существования. Во Франции она была не нужна никому. Здесь же сознание собственной полезности опьяняло ее. Софи казалось, что она окружена множеством несносных детей, которые, все до единого, нуждались в ней: Николай, ее свекор, Мария, Никита, крестьяне в имении… В глубине ее сознания вырисовывались образы волосатых, бородатых мужиков, одетых в рваные рубахи, обутых в лапти, с мигающими глазами и обращенными к солнцу, грубыми, как кора деревьев, лицами. Они притягивали ее своей простотой, смирением, нищетой. Ей хотелось помочь им, и в то же время она ждала от них какого-то непонятного ей откровения.
Хотя у нее и не было настроения писать родителям, Софи присела у своего секретера и обмакнула перо в чернильницу. Сможет ли она рассказать о своей безмятежной жизни в Каштановке так, чтобы не вызвать у матери, и особенно у отца, подозрения, что ей здесь скучно? Надо было находиться в этих местах, чтобы ощутить прелесть первых летних дней, таких теплых, сухих, пропитанных запахом сена. Крестьяне Шатково опомнились и стали доверчиво выращивать картофель. В усадьбе царило доброе настроение. Николай, однако, был очень взволнован политическими событиями, потрясавшими Европу. В июле месяце по примеру испанцев, взбунтовавшихся против Фердинанда VII, итальянцы выступили против Фердинанда IV. Ходили слухи по поводу предстоящего восстания греков против турок. Николай и Вася частенько шушукались и показывали друг другу полные намеков письма, которые получали из столицы. Несмотря на все усилия, им удалось привлечь к общему делу лишь троих молодых людей из большого числа тех, кого они прощупывали. К тому же эти новобранцы были недостаточно надежны, чтобы заслужить серебряный перстень с печаткой. Софи думала, что на месте мужа она бы пришла в уныние. Но он черпал в книгах поводы для восторга, которых она сама ожидала от жизни. Николай перестраивал мир по-своему, в соответствии с высказываниями некоторых писателей. Тетрадь, куда он переписывал любимые изречения, лежала здесь, на столике. Она перелистала ее: «Если не обеспечена невиновность граждан, свобода также не обеспечена» (Монтескье). «Чтобы защищать свободу, надо уметь жертвовать жизнью» (Бенжамен Констан). «Человек рожден свободным!» (Шатобриан). Она улыбнулась. Как он старается! Мысленно вновь обратившись к родителям, Софи склонилась над белой страницей и начертала слова, которых они ждали от нее: «Я окружена такой заботой, что, если бы не сожаления по поводу того, что вас покинула, я была бы абсолютно счастлива!»
Две страницы размашистого письма избавили ее от угрызений совести. Софи запечатала конверт в тот момент, когда услышала, как у крыльца остановилась лошадь: Николай вернулся из Пскова. Она вышла ему навстречу и удивилась, не увидев его в передней. Пройдя в гостиную, Софи несколько раз позвала его. Дверь кабинета открылась. Николай стоял рядом с отцом.
– Иди сюда скорее! – сказал он. – Нам как раз нужно поговорить с тобой!
Вид у него был таинственный и торжествующий; Николай осторожно прикрыл за Софи створку двери, словно малейший шум мог погубить всех их. Михаил Борисович тоже выглядел удивительно довольным. Он знаком пригласил сноху сесть рядом с ним на диван и сказал:
– Я хочу сообщить вам важную новость: я собираюсь выдать замуж мою дочь.
– Что? – прошептала озадаченная Софи. – Она мне об этом ничего не говорила!
– Все потому, что Мария сама еще не знает об этом!
Беспокойство охватило Софи. Она спросила:
– О ком идет речь?
– Ты не догадываешься? – весело спросил Николай.
Опасения Софи оправдались: циничный, наглый Седов наконец решился! Она пожалела Марию и вздохнула:
– Нет… представления не имею…
– Вася! Вася Волков! – объявил Николай.
Софи была так далека от того, чтобы подумать о нем, что не могла и слова произнести.
– Я его только что видел, – продолжал Николай. – Бедный юноша очень влюблен. Он открыл мне свои намерения и попросил быть его ходатаем. Он ждет лишь знака, чтобы обратиться к отцу с официальной просьбой…
Софи представила себе отчаяние золовки и возмутилась:
– Это невозможно!
– Почему? – спросил Николай.
– Твой Вася совсем не интересен!
– Я с тобой не согласен.
– Да нет же, Николай!.. Он вялый, хитроватый, слабовольный!.. Он никому не может понравиться!..
Николай рассердился:
– Ты забываешь, что он мой лучший друг!
– Потому что он единственный образованный юноша в этих местах. В Санкт-Петербурге ты бы его даже не заметил!
– А он в Санкт-Петербурге обратил бы внимание на Марию? – жестко переспросил Михаил Борисович.
– Я в этом уверен, батюшка!
– Полноте! Она очень мила, но не слишком привлекательна для мужчины! Ни телесной грацией, ни живостью ума не наделена.
– Неужели вы серьезно говорите такое? – воскликнула Софи.
Михаил Борисович покачал головой:
– Конечно, да! Да!.. На нее скучно смотреть, да и слушать скучно…
Он понял, что перегнул палку, высказывая свои критические замечания, но ему не удалось овладеть собой. С тех пор как Софи вошла в их дом, он не мог простить Марии, что она не так великолепна. Своим угрюмым видом и угловатыми движениями Мария лишала очарования пол, чьим чудесным украшением была ее невестка. Даже тот факт, что они были устроены одинаково и обе носили платья, был невыносим. Это была какая-то ошибка природы.
– Вася Волков – партия, на которую мы и надеяться не могли, – продолжил он. – С ним она будет очень счастлива…
– Откуда вам знать?
– Отец угадывает подобные вещи. Она не покинет эти края. И, конечно же, поселится с мужем в Славянке…
– …Около Дарьи Филипповны! – подхватила с горечью Софи. – Я бы не хотела, чтобы эта женщина стала моей свекровью!
– Согласен с вами, – громко рассмеявшись, сказал Михаил Борисович. – Она – скорее стеснительный довесок.
Уязвленный в своих симпатиях, Николай резким тоном произнес:
– Речь идет, насколько я понимаю, не о Дарье Филипповне, а о моей сестре! Как и отец, я полагаю, что этот брак должен состояться. И как можно скорее! В интересах самой Марии!..
Михаил Борисович чуть не ляпнул: «Она подарит мне внука», но удержал эту фразу на краешке языка. Еще секунда, и он нанес бы непоправимую обиду Софи. Впрочем, теперь, когда она жила рядом с ним в Каштановке, он уже не хотел, чтобы у нее родился ребенок. Мысль о том, что сноха может забеременеть, внушала ему ужас. Дай Бог, чтобы ему не пришлось увидеть, как обезобразит ее беременность, как она будет выставлять напоказ тяжелый плод ее любовных ласк с Николаем! Когда он представлял себе молодую женщину в кровати сына, его охватывал гнев против мальчишки, завладевшего всеми правами на нее.
– Я уверена, что Мари откажет ему, – сказала Софи.
– Только этого недоставало! – заметил Николай. – Разве она сможет противиться воле отца?
– Отец не будет заставлять ее, если убедится, что этот план сделает ее несчастной.
Михаил Борисович вздрогнул, взглянул на Софи, удивился, что она стоит здесь и опрятно одета, хорошо причесана, корсаж застегнут, затем произнес:
– Пусть Софи пойдет к Марии и поговорит с ней.
– Вы возлагаете на меня обязанность уговорить ее? – спросила Софи.
– Да. Вы сделаете это лучше, чем мы. Я вам доверяю.
– Но я вовсе не одобряю этого брака!
– Сделайте вид! – посоветовал Михаил Борисович.
Его глаза выражали другую просьбу. Софи не удалось понять значение этого взгляда, она лишь почувствовала смутный страх и вышла из комнаты с ощущением, что обладает большей властью над свекром, нежели над мужем.
Девушка вышивала в садовой беседке. С первых слов, произнесенных Софи, она побледнела, двумя руками закрыла рот и издала сдавленный крик:
– Я не хочу!.. Ни за что на свете!.. Лучше умереть!..
– Успокойтесь! – сказала Софи. – Отец не выдаст вас замуж против вашей воли. Но подумайте хорошенько: может быть, воспоминание о месье Седове заставляет вас противиться мысли о браке с Васей? В таком случае вы были бы не правы.
– Я больше никогда не думаю о Седове! – ответила Мария резким голосом. – А вы довольно бестактно напоминаете мне о его существовании! Вася не нравится мне, вы это знаете! Вы даже поддерживали меня в этом отношении! Зачем же искать другую причину?
Она выглядела такой же враждебной, затравленной, как в тот момент, когда золовка застала ее в объятиях Седова во время охоты на волков. Затем Мария вдруг разрыдалась:
– Ради Бога, Софи, защитите меня!.. Спасите!.. Вы одна понимаете меня в этом доме!.. Мой отец и Николай – эгоисты!.. Они растопчут меня!.. Но вы… вы!
Софи вернулась в кабинет, где ее свекор и муж ожидали результата хлопот. Услышав, что Мария ответила отказом на предложение Васи, Николай ужасно рассердился:
– Она дуреха!.. Дуреха и плутовка!.. Не знает, как нам всем насолить!..
Эта вспышка была так смехотворна, что Софи сказала ему:
– Успокойся, Николай! Не тебе ведь отказали!
– Но это мой лучший друг, мой брат! – с пафосом воскликнул Николай. – Я не могу смириться с отказом! Я сам поговорю с Марией! Посмотрим, станет ли она сопротивляться!
– Мы вовсе ничего не увидим! – сказал Михаил Борисович, стукнув кулаком по столу. – Я запрещаю тебе вмешиваться в эту историю! Софи сделала то, что было нужно! Этого достаточно!
– Но, батюшка, – пробормотал Николай, – я вас не понимаю. Только что вы говорили…
– Только глупцы не меняют своего мнения. Если твоя сестра хочет остаться старой девой, это ее дело!
– Мари не останется старой девой, – вмешалась Софи. – Но она выйдет замуж позже, за человека по своему выбору!
– По нашему выбору! – поправил Михаил Борисович. – Поразмыслив, я тоже решил, что Вася мне не нравится. Элегантная кукла. То, что ты в прекрасных отношениях с ним, меня не удивляет! Но для девушки с хорошими зубками этот орешек слишком легко раскусить!
Он упивался каждым словом, которое произносил. О! Как ему было приятно выступать на стороне снохи против собственного сына! На пределе возбуждения он готов был изобрести новые предлоги, чтобы смутить и унизить Николая. Но Михаил Борисович инстинктивно понимал, как надо быть осторожным, оказывая поддержку молодой женщине, не согласной с супругом. Стоит по той или иной причине измениться ее настроению, и ваша преданность ей будет рассматриваться как знак неуважения.
– Послушай же, что говорит тебе Софи, – спокойно продолжал он. – Она сто раз права. Ты найдешь способ передать этот отказ Волковым, не обидев их…
– Прекрасная миссия! – пробурчал Николай. – Я потеряю друга!
– Ты предпочел бы потерять сестру? – сказал Михаил Борисович, выпрямившись во весь рост за письменным столом.
И краем глаза проследил за эффектом, который произвел на Софи.
* * *
Несмотря на указания отца, Николай в тот же вечер долго разговаривал с сестрой, пытаясь переубедить ее. Она осталась безучастной ко всем уговорам, ко всем угрозам и просьбам, и Николай отступил, убежденный, что Мария не в себе. В течение следующих трех дней он все время откладывал поездку в Славянку. Наконец, под давлением Софи, он отправился туда верхом с ощущением, что ему поручено прикончить умирающего. Девушки Волковы встретили его в парке и отвели в комнату брата. Вася, лежа на диване, читал. Бросив взгляд на Николая, он увидел, какое мрачное у того лицо, понял все и прошептал:
– Я был в том уверен!
Страдая от жалости, Николай запутался в извинениях:
– Она была очень тронута… Просила меня передать, что любит тебя как брата… И очень надеется, что ты не будешь сердиться на нее за… за это недоразумение…
Он услышал вздох за дверью и легкие шаги, удалявшиеся по коридору. Наверное, Васина сестра или прислуга.
Вася, скрестив руки на затылке, с безучастным лицом смотрел в потолок и не мешал глазам наполняться слезами. Созерцая его молчаливое страдание, Николай проклинал сестру за ее жестокость. Он хотел бы, чтобы Мария была рядом с ним в этой комнате и своими глазами увидела содеянное ею зло. Ведь слишком легко ранить издалека, не видя жертвы!
– Вася! – воскликнул он. – Я очень сожалею!..
Он присел на краешек дивана довольно неловко и положил руку на плечо молодого человека. Они сидели молча. Окно выходило на заросли кустарника. На стенах и на полу было множество книг. Между двумя отсеками библиотеки висели охотничьи ружья, удочки, ятаган.
– Послушай, – опять заговорил Николай, – я понимаю, что ты сердит на мою сестру, но наша с тобой дружба выше всех этих историй. Мы по-прежнему будем видеться…
– Нет, – мягко ответил Вася.
– Почему?
– Я уеду.
– Из-за… из-за нее? – спросил Николай.
Его удивляло, что сестра, чьи капризы, куклы и детские болезни были ему известны, могла перевернуть жизнь мужчины.
– Да, – ответил Вася. – Оставшись здесь, я слишком сильно страдал бы…
– Я постоянно буду рядом с тобой! – пробормотал Николай. – И в конце концов ты забудешь!
– Я не хочу забывать, – ответил Вася.
Его трагический вид понравился Николаю. «Какое благородство! – подумал он. – И моя сестра пренебрегает таким человеком!»
– Уже давно моя мать предприняла некоторые шаги, чтобы устроить меня в министерство юстиции, – продолжал Вася. – Теперь я уже не вижу препятствий для этой карьеры. Путь проложен!..
Он сделал жест рукой, означающий, что готов плыть по воле волн. На пальце блестел серебряный перстень друзей свободы. Николай почувствовал приступ боли.
– Это безумие! – застонал он. – Никакая женщина не заслуживает, чтобы из-за нее жертвовали великой дружбой! Ты не уедешь!
– Уеду.
Надежда посетила вдруг Николая: может быть, Дарья Филипповна поможет убедить Васю остаться?
– В любом случае, ты не можешь принять подобное решение, не посоветовавшись с матерью! – сказал он.
– Одобрит она меня или нет, я уеду.
– Не могли ли мы поговорить с нею сейчас?
– Она в Пскове, на весь день.
– Тогда я приеду завтра снова.
– Прошу тебя, не приезжай, – взмолился Вася, с грустью глядя ему в глаза. – Твое присутствие пробуждает во мне слишком много воспоминаний. Прощай! Прощай навсегда!
Он встал и протянул обе руки. Николай сильно сжал их, прошептал: «Прощай, друг мой!» – и вышел из комнаты.
На обратном пути он предавался самым грустным размышлениям. Дарья Филипповна так любила сына, что без сомнения воспримет отказ Марии как жестокое оскорбление. После от отъезда Васи у Николая уже не будет предлога для посещения Славянки. А если он позволит себе дерзость явиться туда, его не примут! О! Его сестра заварила ужасную кашу! По ее вине он лишился мужской дружбы и расположения женщины, которую к тому же уважал. По совести, Николай даже вынужден был признать, что именно невозможность видеться с Дарьей Филипповной больше всего огорчала его. Но сам избыток этого огорчения почему-то оказался целительным. Чтобы утешить себя, Николай отказывался верить в разрыв. Вася изменит мнение, поразмыслив ночью: через несколько дней они встретятся в Пскове или в Славянке, и все пойдет, как было прежде…
Он скакал по перелеску. При его приближении птицы умолкали. Затем, будто не в силах сдерживаться, засвистела вдруг иволга, дрозд издал резкий звук… Прибыв в Каштановку, Николай почти успокоился.
Тремя днями позднее слуга Волковых принес ему письмо от Васи. Уверенный, что речь идет о приглашении, Николай с радостью распечатал пакет. Друг сообщал ему, что в то же утро уезжает в Санкт-Петербург. Николай опустил голову. Его надежда рухнула так же медленно и тихо, как рушатся здания во сне. Убежденность в том, что ни Софи, ни Мария, да и никто другой в доме не мог понять его, усиливала печаль Николая.
9
Часто, чтобы воскресить воспоминание о счастливых временах, Николай скакал верхом до самых подъездов к Славянке. С вершины холма он рассматривал оранжевые, зеленые, красные ставни, изгородь, старый заросший сад, легкий дымок, поднимающийся над крышей, как плюмаж. В удачные дни ему случалось заметить светлое пятно платья в аллее. Расстояние было слишком велико, чтобы он мог различить, кто гуляет в саду – мать или одна из дочерей. Но он не хотел приближаться из страха быть обнаруженным. Судя по тому, что ему сообщили в клубе, Дарья Филипповна считала, что находится в ссоре с семейством Озаровых. Было удивительно, что вся округа оказалась в курсе того, что Васины чувства были отвергнуты, хотя ни заинтересованные лица, ни их близкие не рассказывали об этом никому. Определенно, в провинции невозможно сохранить тайну!
Понаблюдав за кружением силуэтов вокруг усадьбы, Николай возвращался домой, приняв твердое решение не возобновлять этих печальных поездок. Однако, продержавшись два-три дня, он возвращался туда, как на свидание. Первые снегопады обрекли его на одиночество. Несмотря на книги, он скучал в Каштановке. Софи, догадавшись, что ему не по себе, окружила его лаской и попыталась поговорить по душам. Но после непостижимой истории с Васей и Марией он утратил прежнее ощущение, что они с женой понимают друг друга. К тому же его очень задело то, как она говорила тогда о Васе, и особенно о Дарье Филипповне.
Однажды декабрьским вечером, едва семейство приступило к ужину, как вдали послышался звон колокольчиков. Гости? Сотрапезники удивленно переглянулись и в едином порыве бросились к окну. Хлопья снега падали такой густой стеной, что невозможно было хоть что-то разглядеть сквозь белую сетку. Однако за белой пеленой показалась вдруг тень с тремя всклоченными гривами.
– Тройка? – воскликнула Мария. – Кто это?
– Кто? – повторила Софи.
Николай бросился в переднюю, за ним сестра и жена, месье Лезюр и Михаил Борисович, который был не так заинтересован, как другие, передвигался медленнее и говорил:
– Ну что? Что такого? Как будто в этот дом никто никогда не приезжал!
На крыльце ледяной холод сковал лицо Николая. Снег засыпал глаза, но он все же разглядел, как к крыльцу подкатили сани и со скрежетом остановились у ступенек лестницы. Лошади тряхнули головой, и во все стороны полился многоголосый трезвон колокольчиков. Из выкрашенной в синий цвет повозки вылез гигант в меховой шапке, укутанный в широкий плащ. Он весь был покрыт инеем с той стороны, откуда дул ветер. Его замерзшее лицо расплылось от смеха:
– Николай! Николенька! Мой маковый цветочек!..
Это был Костя Ладомиров. Обезумев от радости, Николай повлек его в дом, помог снять шубу, жилет, валенки, расталкивал его и засыпал вопросами. Смеясь и отбиваясь, Костя сообщил ему, что едет в Боровичи по поводу раздела земли и сделал большой круг, чтобы повидать друга в его уединении. После того как Костю освободили от верхней одежды, он стал выглядеть худощавым, длинноногим, с птичьей головкой. Снег растаял у его ног. Софи и Николай уговаривали его провести несколько дней в их усадьбе, но он уже задержался в дороге. И собирался уехать на следующий день. Его представили Михаилу Борисовичу, Марии и месье Лезюру, для каждого он нашел любезные слова и без ложного стыда признался, что поездка в санях пробудила у него аппетит. Михаил Борисович тут же распорядился подать разнообразные соленья и маринады. Путешественнику, к его удивлению, пришлось также попробовать картофель, выращенный в имении. Костя сказал, что оно очень вкусно. Его вилка совершала точный пируэт между тарелкой и ртом, при этом ни на секунду он не переставал болтать. То, что Костя рассказал о светской жизни в Санкт-Петербурге, позабавило Николая. Но он не упускал из виду политику. Позже, оставшись с Костей наедине, он затронул серьезные проблемы. Правду ли говорят, что недавно в Семеновском полку, любимом военном подразделении императора, произошел бунт?
Посреди трапезы на Михаила Борисовича снизошло вдохновение, и он сказал:
– А если мы закончим музыкой?
Ливрейный лакей бросился вон и вернулся с тремя слугами: конюхом, лакеем и Никитой. Поклонившись хозяину, они прислонились к стене и ударили по струнам своих простеньких балалаек. В столовой зазвучала прерывистая веселая музыка. Конюх затянул песенку. Рот его открывался, кривился, и из него вырывался глухой голос. Когда он умолк, Никита положил свою балалайку в угол, выскочил на середину комнаты и начал танцевать. Упершись рукой в бедро, почти что опускаясь на корточки, он выбрасывал вперед то одну, то другую ногу с ловкостью акробата. На губах его играла улыбка, глаза сияли, прядь золотистых волос развевалась на лбу. Глядя, как он прыгает перед обедающими, Софи подумала о средневековых фиглярах, которые приходили развлекать господ в их замках. И вдруг Михаил Борисович встал, обошел стол, оттолкнул Никиту и начал прохаживаться в такт музыке. Слегка согнув колени, но отбивая такт резкими ударами каблуков, он раскачивался, прищелкивал пальцами и выкрикивал: «Оп-ля! Оп-ля! Оп-ля!..» Николай и Костя под стать танцующему хлопали в ладоши, чтобы приободрить его. Приблизившись к дочери, Михаил Борисович бросил на нее взгляд, как бы приглашая присоединиться к нему. Она растерялась, покраснела, затем, словно не в силах противиться зову музыки, вытащила платочек из-за пояса и, держа его двумя руками над головой, плавной походкой направилась к отцу.
– Мария Михайловна, я пью за ваше здоровье! – выкрикнул Костя и залпом осушил большой бокал водки.
Михаил Борисович пропустил Марию вперед и бросился ей вдогонку. Он подбегал к ней то справа, то слева, выкручивал руки, чтобы обратить на себя внимание, подмигивал глазами, обольщая ее. Однако она, вполоборота повернувшись к партнеру, неспешно отбегала от него, словно хотела завлечь и вместе с тем помешать его ухаживаниям. Зрелище было столь непредвиденным, что Софи задумалась, в самом ли деле перед ней движутся деспотичный Михаил Борисович и застенчивая Мария. У русских определенно бывают такие перепады настроения, такая непоследовательность в мыслях, что это противоречит всем ожиданиям. Даже слуги, которых хозяева почти не считали людьми, в этот вечер казались членами семьи Озарёвых. Выстроившись вдоль стены, они смеялись и хлопали, глядя, как усердствует тот, кто, лишь нахмурив брови, мог отправить их в Сибирь. Николай наклонился к Софи и прошептал:
– Тебе это не кажется немного странным?
– Да нет, – ответила она, – это прелестно!
Николай улыбнулся, будто извиняясь. Правой рукой он постукивал по краю стола. Его зеленые, глубокомысленные глаза как бы говорили: «Мы такие, попытайся понять нас».
Между тем Никита вновь взял в руки балалайку. Музыканты заиграли громче и быстрее. Михаил Борисович, покрасневший, с растрепанными бакенбардами, в расстегнутом пиджаке, задыхался. Николай сорвался со стула и, в свою очередь, присоединился к танцующим. Костя последовал за ним. За столом остались лишь два представителя Франции: Софи и месье Лезюр.
– Ты не станцуешь, Софи? – спросил Николай.
Она с улыбкой отказалась. Теперь трое мужчин кружились вокруг Марии, которая раззадоривала их, одного за другим, делая вид, что бросает им платок. Софи наблюдала за мужем с тревожным восхищением. Танец омолаживал его. Как она любила Николая, когда он так веселился! Он исполнял такие сложные па, что Мария и Костя в конце концов расхохотались и решили присесть. А Михаил Борисович продолжал раскачиваться, крутить ногами и щелкать пальцами. Прерывисто дыша, он спросил:
– Устали уже?.. Жаль!.. Я же только начинаю… только начинаю… веселиться!.. Оп-ля!.. Оп-ля!..
Опасаясь, как бы отец не упал из-за одышки, Николай силой отвел его на место. Музыканты ушли. Михаил Борисович вытер лицо платком, потом приказал ливрейному лакею обмахивать его. Слуга развернул салфетку и стал трясти ею над головой хозяина. Волосы Михаила Борисовича зашевелились, как трава от дуновения яростного ветра. Он смотрел на окружающих с горделивым удовлетворением.
– О! Как приятно посмеяться и подвигаться! – сказал Костя. – Вот она, здоровая русская удаль! В столице такого уже не бывает!
В одиннадцать часов Михаил Борисович пожелал всем доброй ночи и отправился спать. Мария и месье Лезюр вскоре ушли в свои комнаты. Николай приказал подать ликеры в гостиную и присел с женою и другом к высокой изразцовой печке, которая уже остывала. Двое мужчин вновь стали очень спокойными. Политика опять отвоевывала свои права. Софи удивлялась, что Николай мог обсуждать проблемы как взрослый человек, хотя совсем недавно развлекался как ребенок. В его голове ничего уже не осталось, помимо истории с Семеновским полком. Костя признал, что это было важное событие. По его сведениям, солдаты Семеновского полка, возмущенные зверством их нового командира, полковника Шварца, взбунтовались 16 октября, но не совершили никакого акта насилия. Затем, испугавшись собственной дерзости, послушно позволили запереть себя в крепости. В этом бунте не было и намека на заговор. Ни один из офицеров не присоединился к выступлению. Но царь, находившийся в этот момент на конгрессе Священного союза в Троппау, воспринял эти беспорядки как оскорбление монархии. Чтобы его любимый полк, которым командовали офицеры из самых знатных семей, осмелился ослушаться полковника Шварца, для этого нужно было, чтобы гниль республиканских идей глубоко проникла в казармы. Требовалось преподать урок. Поразмыслив с неделю, Александр I приказал распределить весь личный состав Семеновского полка, и офицеров, и солдат, по другим армейским частям, и только несколько подходящих человек можно было забрать оттуда, чтобы они занялись восстановлением полка. Чтобы усилить эту суровую меру наказания, было указано, что бунтовщики, скомпрометировавшие себя в наибольшей степени, числом до ста из каждого подразделения, предстанут перед военным трибуналом, что подразумевало осуждение на разные виды наказания: пятьдесят ударов кнутом или шесть тысяч ударов шпицрутенами, и эта последняя пытка была равносильна смерти в ужасных мучениях. Николай и Софи были ошеломлены.
– Вы полагаете, что эти приговоры будут приведены в исполнение? – спросила она.
– По последним известиям, император позволил себе роскошь слегка смягчить их, – ответил Костя. – Используют только кнут.
– Я не понимаю, почему такой жесткой была реакция государя, – сказал Николай.
– Пойми, это лишь доказывает, как он встревожен! – заметил Костя. – Бывший воспитанник Лагарпа живет, страшась идей, которые проповедовали энциклопедисты. Стоит группе людей поднять голову, как Александр усматривает в этом акте независимость проявления духа зла. Ему кажется, что задача христианского монарха состоит в том, чтобы следить, как бы абсолютная власть, проявление божественной воли, не оказалась где-нибудь под угрозой. Революции в Италии и Испании выводят его из себя. Аракчеев во внутренней, Меттерних во внешней политике подталкивают его в нужных им направлениях. Он мечтает стать полицмейстером всей Европы. Отсюда до того, что наши полки будут вынуждены наводить порядок повсюду, где народ восстает против своего правительства, совсем недалеко! Незачем говорить тебе, что эта глупая политика привлекает многих сторонников нашего дела!
– Да! Да! – вздохнул Николай. – Мне кажется, я уже не узнáю нашего маленького «Союза во имя Добродетели и Истины», если окажусь на одном из ваших собраний.
– Ты не узнáешь его прежде всего потому, что этот союз практически прекратил свое существование! – сказал Костя.
Николай вскочил на ноги:
– Что ты хочешь сказать? Вы же не распустили его?
– Именно так, – ответил Костя. – Точнее, нас поглотила ассоциация поважнее: «Союз благоденствия».
– О! Я могу дышать! – сказал Николай.
Он снова сел у печки и добавил:
– Надеюсь, я еще – один из ваших!
– Успокойся, – продолжил Костя. – В «Союзе благоденствия» все тебя знают. Даже те, кто никогда не встречался с тобой.
– И каковы направления деятельности этой новой ассоциации? – спросила Софи.
– Там представлены все направления, – ответил Костя, – я хочу сказать: все либеральные направления. Николай Тургенев и Никита Муравьев, которые играют решающую роль в Северном обществе, – умеренные республиканцы. Пестель, практически возглавляющий Южное общество, – сторонник жестких мер. Если это разногласие сохранится, мы отделимся от него и продолжим наше дело, не прислушиваясь к нему.
Софи мягко перебила его:
– У вас есть представление о характере вашей деятельности?
– Не совсем! – признался Костя. – Мы решили, что надо делать, когда представится случай.
– Боюсь, как бы вам не пришлось долго ждать, – сказала Софи. – Я начинаю узнавать русский народ. Быть может, он поднимется против господина, который пожелает навязать ему выращивание картофеля, но никогда – против царя, помазанника Божия. Вы не заставите массу ваших сограждан взяться за оружие из-за проблем управления!
– Мы об этом даже не думаем! – парировал Костя. – Революция будет делом элиты. Народ воспользуется ее завоеваниями, не принимая участия в борьбе за них и даже, по сути, не желая их?
– Разве не опасно строить счастье людей таким образом – с позиций властолюбия и отстраненности? Во Франции те, кто борется против монархии, понимают, что их поддерживает значительная часть общественного мнения. У вас образованные умы увлекаются идеями свободы, национальной независимости и независимого правосудия, но при столь быстром движении к прогрессу за ними не идет основная часть нации, которая плохо разбирается в этих проблемах. Спросите же у Николая, кто во Пскове интересуется подобными вопросами? Самое большее три или четыре человека! Отсюда проистекает очень важная данность. В России существуют два народа, один вознесен на вершину цивилизации, другой – едва вырвался из дикости. И чаяния этих двух народов несовместимы. Что кажется необходимым одному, было бы вредно для другого, то, чего страстно желает один, второй отвергает, как нечто чуждое его вере и традициям! Главное, не следует предлагать России французское, английское или американское лекарство! Страна погибнет от подобного насильственного лечения!
Замечания жены чрезвычайно сердили Николая, особенно потому, что он чувствовал, насколько она права. Со своим по-французски язвительным умом она мешала пылкой и сбивчивой беседе, которая могла состояться у него с другом, как у мужчины с мужчиной.
– Оставь же! – сказал он. – Нам все это известно! Несмотря на европейские прецеденты, наша революция будет оригинальной, уникальной в мировой истории, клянусь тебе!
– Я тоже в этом убежден! – подхватил Костя. – Впрочем, момент истины приближается. Он ощущается по многим признакам. В Санкт-Петербурге самые спокойные люди начинают волноваться! Молодые голодные чиновники тайком сочиняют проекты конституции! Подрывные стихи передают из рук в руки! Бедняга Пушкин в настоящее время расплачивается ссылкой на Юг за преступление, состоящее в написании замечательной оды «Вольность» и нескольких других маленьких, довольно забавных вещиц. Нашего друга Степана Покровского заподозрили в авторстве эпиграммы на Аракчеева. Полицейские отпустили его после допроса за неимением доказательств. Даже при нас он отрицает, что стихи написаны им, но я уверен, Степан лжет! Розников же, напротив, не очень скомпрометировал себя: он по-прежнему адъютант генерала Милорадовича. И этот красавец Ипполит хвастлив, честолюбив и глуп, как никогда!..
Николай жадно слушал его речь. Глядя на Костю, он представлял себе весь Санкт-Петербург, шумящий тысячью голосов, сверкающий тысячью огней. Возможно ли, что и он тоже жил прежде в столице, а теперь вынужден довольствоваться скучным провинциальным обществом?
– Кстати, – сказал Костя, – мы недавно принимали юношу, который утверждает, что знаком с тобой: Васю Волкова.
У Николая сильно забилось сердце, и он пробормотал:
– Так оно и есть… Я с ним часто встречался.
– Он мил, но неинтересен, – заметил Костя.
Николай бросил взгляд на Софи. У нее хватило хорошего вкуса, чтобы не обнаружить удовольствия, которое без сомнения доставило ей эта нелестная оценка.
– Не думай так, – подчеркнуто серьезно произнес Николай. – Вася – пылкая натура. Вы можете использовать его для самых опасных поручений.
– Тем лучше! Тем лучше! – пробурчал Костя, проглатывая бокал сливовой водки. – Замечательный напиток! Как здесь спокойно, тихо! Подумать только, ведь я мог когда-то отсоветовать тебе уезжать! Теперь я понимаю, что вы укрылись в деревне! Санкт-Петербург отвратителен! Туман, дождь, снег, мундиры, страх… Ух!.. В Каштановке вы – хозяева своей судьбы. Живете, как вам вздумается! Как в раю!
Николай из гордости не осмелился возразить, а Софи стала рассказывать, как проходят их дни: обеды в семейном кругу, шахматные партии, прогулки по лесу, чтение, поучительные беседы с крестьянами, заботы об имении… Это была идиллическая картина. Может быть, она и вправду такой видела жизнь, которую вела с мужем в Каштановке. Он позавидовал ее способности приукрашать повседневную реальность.
– Даже если бы у нас и были средства для того, чтобы вернуться в Санкт-Петербург, – сказала она, – я предпочла бы по-прежнему жить здесь просто и с пользой вместо того, чтобы снова развлекаться в гостиных!
Николаю показалось, что он слышит, как в замке зазвенел ключ: заперто, закрыто! Да еще этот дурачок Костя одобряет Софи, задирая свой длинный нос:
– Браво! Хорошо сказано, мадам!
К счастью, в дальнейшем он вернулся к более увлекательным темам:
– Я – живая газета. Назовите мне любого известного в Санкт-Петербурге человека, и я расскажу вам о нем нечто забавное. Но сначала найдите мне выпить!
– Салям алейкум! – произнес Николай.
При этом воспоминании он ощутил, как горечь подступила к его горлу.
– Расскажите нам, что играют в театре! – попросила Софи.
– Кто новая любимица поклонников балета? – спросил Николай.
И подумал: «Мы задаем ему вопросы провинциалов». Но ни за что на свете он не отказался бы от этих расспросов. Надо было воспользоваться горожанином, вытрясти его, выжать весь возможный сок, прежде чем отпустить в дорогу. Минуты текли, а Костя все говорил, сидя в желтом свете лампы с бокалом в руке. Софи слушала его с очаровательным вниманием. Изразцовая печка погасла. Ночная свежесть проникла в комнату. Снежная буря утихла. Собака выла на луну. Ночной сторож обошел дом, жужжа трещоткой. В два часа утра Костя сказал:
– Мне все-таки надо бы прилечь!
Николай и Софи проводили гостя в приготовленную для него комнату.
На следующий день все семейство усаживало его в сани. Николай расцеловал друга напоследок. Лошади рванули по снегу и помчались, гривы их развевались на ветру, и звенели колокольчики. Рука Кости долго летала над синей повозкой. Затем упряжка исчезла, скрывшись за поворотом. Николай оперся плечом о колонну у входа.
– Когда я увижу его опять! – тихо произнес он.
Софи взяла его за руку, и они вернулись в дом.
10
6 января 1821 года вся семья отправилась на берег реки, чтобы присутствовать на обряде освящения воды. Жители трех деревень собрались на заснеженном откосе. Плотно укутанные мужчины и женщины были похожи на ворон, распушивших свое оперение. Колокола маленькой церкви в Шатково звонили под пепельно-серым небом. Между берегами, на расчищенном льду, стояло что-то вроде беседки, укрепленной на четырех кольях, поддерживающих кровлю из еловых веток. Под нею в ледяной корке крестьяне прорубили большое отверстие. Отец Иосиф в серебристой ризе возвышался над черным потоком и совершал водосвятный молебен. Пар, валивший от его бороды при каждом слове, был ненамного слабее дымка, распространявшегося от кадила, которым размахивал дьякон. Хор крестьян исполнял очень красивые церковные песнопения, слова которых Софи не очень хорошо понимала. Наконец наступил момент погружения креста. Когда он ушел под воду, все перекрестились. Крестный ход, высоко поднимая хоругви и иконы, вернулся в церковь по снежной тропе. Теперь, согласно обычаю, самые отважные мужики должны были окунуться в воду. Считалось, что купание такого рода не могло повредить православному. Несмотря на такую убежденность, желающих искупаться было немного. Мария предложила вернуться домой. Но Михаил Борисович не хотел пропустить зрелище. Подняв обе руки, он крикнул:
– Пять рублей тому, кто дольше всех продержится в воде!
Радостные возгласы были ему ответом.
– Как же вы можете поощрять такое, отец? – строго спросила Софи.
– А разве я не хранитель традиций? – со смехом ответил он. – Мои крепостные не одобрили бы моего безразличия к православным подвигам!
Николай поддержал доводы отца и предложил Марии и Софи сесть вместе с ним в сани, где им было бы теплее и лучше видно. Михаил Борисович забрался на облучок кучера, чтобы сверху наблюдать за всем семейством, и сказал:
– Закутайтесь хорошенько! Такой холод, что просто дух захватывает!
Несколько мужиков уже раздевались. Софи разглядывала троих из них: двух молодых, кряжистых и коротконогих, похожих друг на друга, как братья, и бородатого, тощего старика, который весь напрягся от нетерпения. Другой старик с большим животом подошел к ним. Поскольку присутствовали хозяева, все мужики замотали бедра материей.
– Готовься, Николай, – обратился к сыну Михаил Борисович, – ты будешь считать секунды!
Софи вытаращила глаза и невольно сжала руку Марии под пологом. Пятая обнаженная фигура протиснулась сквозь группу тепло одетых крестьян. Это был Никита, высокий и худощавый, с плоскими бедрами и недостаточно еще развитыми плечами, повязка из мешковины хлопала ему по заду и ляжкам. Он подскакивал на снегу и пригоршнями снега растирал себе грудь, чтобы усилить кровообращение. Кожа на его теле порозовела. Испугавшись такой неосторожности, Софи хотела крикнуть ему, чтоб он оделся и вернулся в дом, но сдержалась из страха, что ее рекомендацию плохо истолкуют.
Кто из присутствующих здесь лиц сможет понять материнскую заботу, которую оказывала она этому восемнадцатилетнему парню? Софи отвернулась от взгляда золовки, которая, как ей показалось, с иронией посматривала на нее.
– Начинайте! – выкрикнул Михаил Борисович.
Пятеро мужиков, ступая будто по кончикам иголок, приблизились к беседке, присели у края проруби и все вместе скользнули в воду. Николай начал громко считать:
– Один, два, три, четыре…
Посреди ледяного поля, как фрукты на скатерти, торчали теперь пять голов от уровня шеи. Эти головы кружились во все стороны, пыхтели, фыркали и ныли. Только у одного бородатого старика хватило сил пошутить:
– Вода как кипяток! Нельзя ли остудить ее немного?
Крестьяне из его деревни бурно подбадривали старика:
– Держись крепче, Максимыч! Дубленая кожа – самая крепкая!
Люди, болевшие за других купальщиков, в свою очередь драли глотки:
– Шевелись, Никита!.. Эй, Степан, представь, что ты в кровати с Дуняшей. Это согреет тебя! Вы хоть до дна-то достаете?
– Да… Достаем! – ответил Максимыч. – Оно мягкое, как перина!.. Я часами стоял бы на нем… Брр!
– В этом году Максимыч опять выиграет! Посмотри, какой у него быстрый взгляд для такого возраста!
– Нет, победит Степан! Смелей, Степан! Стисни зубы, Степан!
– Агафон! Агафон! Он свеж и здоров, как огурец!
Николай невозмутимо продолжал считать:
– Шестьдесят два, шестьдесят три…
Признаки недомогания первыми обнаружили два брата, которые казались Софи такими выносливыми. Их отец, наклонившись к краю проруби, сказал тягучим голосом:
– Вылезайте же из воды, болваны! У вас губы дрожат на зубах!
Мужики вытащили их руками из воды, укутали в одеяло и протянули им стакан водки. Сразу после того толстый Агафон попросил пощады. Понадобилось шесть человек, чтобы довести его до берега. Надутое бледное тело Агафона было разукрашено фиолетовыми пятнами. Он шевелил языком, но не мог произнести и слова.
– Христос помилуй тебя! – простонала его жена. – В каком же виде ты возвращаешься ко мне? Что я буду делать с трупом? Прости меня, Господи, воистину воскресивший Лазаря, но я должна побить его!
И она стала отвешивать ему пощечины под одобрительный гомон окружающих женщин. Придя в себя, Агафон, в свою очередь, ударил жену по щеке. Этот обмен ударами сопровождался всеобщим громким смехом. Между тем в воде остались лишь старый Максимыч и Никита. Они смотрели друг на друга с вызовом и стучали зубами. Не выдерживая больше, Софи крикнула по-французски:
– Остановите это смехотворное состязание! Они умрут от него!
– Никто и никогда еще не умирал от купания в день освящения воды, – заметил Михаил Борисович.
И прокричал:
– Я удваиваю ставку: десять рублей!
– Спасибо, барин! – пробормотал Максимыч, слегка наклонив голову. – Доброе слово согревает сердце верующего!
Его борода обросла сосульками. Верхняя губа задралась вверх, сильно перекосившись.
– Ну что, сдаешься, сопляк? – сказал он Никите.
Мальчишка молча покачал головой. Он, казалось, был еле жив, – лицо напряженное, глаза навыкате.
– Ты не прав, – продолжал Максимыч. – Если бы ты себя видел!..
– Двести девяносто два, двести девяносто три! – считал Николай.
– Двести девяносто четыре! – подхватил Максимыч.
Вдруг лицо его вытянулось, глаза округлились от ужаса. Он захрипел:
– Боже всемогущий! На помощь!
Никита помог спасателям вытащить Максимыча из воды. Затем, пока они уносили старика, чтобы растереть и одеть его, он сам вылез на лед. Тело Никиты было красным, словно сварилось до основания шеи. Он с трудом держался на ногах.
– Чертов Никита! – закричали мужики. – Он выиграл! Когда молодость вещает, старость голову склоняет!..
Один набросил ему покрывало на спину, другой растирал затылок льняной тряпкой, остальные тоже поддерживали его, поили водкой, подталкивали к саням барина.
– Оставьте меня! Я могу идти сам! – сказал Никита.
Софи увидела, как он пошел, спотыкаясь, с бессмысленной улыбкой на губах. Облегчение, которое она испытала, напоминало слабость. Михаил Борисович достал деньги из кармана и стал подбрасывать монеты на ладони руки, затянутой в перчатку. Но Никита не смотрел на деньги. С гордостью уставившись на Софи, он обращался к ней одной, посвящал ей свою победу. Вскоре он подошел так близко, что она могла рассмотреть капли замерзшей воды на кончиках его ресниц. Накидка плохо прикрывала голую грудь юноши. Посреди нее сверкал маленький нательный крестик. Голые ноги были засунуты в валяные сапоги. Он пыхтел, смеялся, при этом нижняя губа у него дрожала.
– Ты молодец! – сказал Михаил Борисович, вручая ему деньги. – Что ты будешь делать с этими десятью рублями?
– Куплю книги, бумагу! – не раздумывая, ответил Никита.
– Черт! Да ты хочешь стать ученым?
– Да, барин, – ответил он, – с вашего разрешения…
И он бросил взгляд на Софи, проверяя, хорошо ли ответил.
* * *
Целую неделю Софи не встречала Никиту в коридорах дома. Забеспокоившись, она спросила о нем Василису и узнала, что мальчишка заболел после своего подвига. Софи пошла навестить его в общую комнату. Тюфяки слуг мужского пола, числом штук двадцать, были свалены на день в углу. Две печки, высотой до потолка, обогревали помещение и усиливали запах людского дыхания и сапог. Никита лежал один, скрючившись, как охотничий пес, на убогой лежанке. Рядом с ним стояла кружка с водой, покрытая краюхой черного хлеба, и его старая балалайка. Софи склонилась над парнишкой и потрогала его лоб, который горел. Никита даже глаз не открыл.
– О! Ему уже лучше, – сказала Василиса, вошедшая следом за Софи. – Я даю ему отвары, сама их делаю. И каждый вечер Антип натирает ему спину щеткой. Через недельку он встанет.
Веки Никиты дрогнули. Сине-фиолетовый свет стал лучиться сквозь ресницы. Он улыбнулся небесному явлению.
– Барыня! Барыня! – прошептал он. – Вы пришли!..
– Да-да! – сказала Василиса. – Видишь, какое беспокойство ты причиняешь хозяевам! Разве это хорошо?
Поругивая Никиту, она укрывала его жалким покрывалом из серой шерсти. Софи хотелось поухаживать за ним самой. Движения этой женщины были такими резкими! Когда Василиса укладывала голову Никиты на кипу тряпок, из тюфяка выскользнула тетрадь. Софи быстренько подняла ее. Василиса заметила этот жест.
– Скажешь ему, что я взяла ее! – прошептала Софи.
И вышла из комнаты. У самой двери она столкнулась с месье Лезюром, который будто бы следил за ней с двусмысленной улыбкой на губах.
– Ваш свекор ищет вас, – сказал он.
– Зачем?
– Он хочет сыграть партию в шахматы, а вам ведь прекрасно известно, что теперь он не желает иметь никакого иного противника, помимо вас!
Софи совсем не хотелось играть в шахматы. Тетрадь Никиты слишком заинтересовала ее!
– Скажите ему, что я сейчас занята, – ответила она.
– Не могли бы вы сказать ему это сами? Он плохо примет меня, если я передам ему такое!
– Ваши опасения смехотворны! – сказала Софи, пожав плечами.
Каждый раз, когда месье Лезюр обращался к ней, она испытывала отвращение, доходившее до дурноты. Тот факт, что он ее соотечественник, заставлял ее быть вдвое строже по отношению к этому лысому и раболепному человеку. Длинный коридор, выложенный бревнами, соединял служебную постройку с хозяйскими покоями. Семеня по проходу рядом с Софи, месье Лезюр продолжал стенать:
– Да вы не представляете себе, какой он на самом деле, дорогая мадам! Он так изменился ко мне! Прежде я пользовался его доверием, был почти другом! Теперь же он не знает, что сделать, лишь бы удалить меня от себя и убедить, что я бесполезен в доме.
Он поднял на Софи взгляд, повлажневший от мольбы, и опять сказал:
– Вы приобрели большую власть над ним! Он так внимательно, и это справедливо, прислушивается к вашим аргументам! Не могли бы вы повлиять на него с тем, чтобы он изменил свое отношение ко мне?
– Я не имею на свекра того влияния, какое вы предполагаете! – ответила Софи.
– О! Напротив! – воскликнул месье Лезюр. – Я могу рассчитывать на вас, не так ли? И заранее благодарю!
Они вышли в прихожую. Софи поднялась в свою комнату. Месье Лезюр, стоя у лестницы, смотрел, как она исчезает, и испытывал ненависть. Подумать только, ведь он тогда радовался, думая, что она освежит парижским воздухом удушающую атмосферу в этом жилище! Что он обретет в ее лице союзницу против того, что задевало его в русских манерах! Что он мечтал о сговоре между ним и ею с целью офранцузить и подчинить себе семейство Озарёвых! Немного времени понадобилось ему, чтобы осознать свою ошибку. Софи так разочаровала его своими повадками, что теперь он отказывал ей в достоинствах француженки. С его точки зрения, она не была воплощением родины, которую он покинул тридцать лет назад, а представляла собой странную, изуродованную приходом санкюлотов и Бонапарта страну. Либеральные взгляды молодой женщины оскорбляли его. Он возмущался тем, что она заинтересовалась жизнью мужиков. И наконец, он не мог простить ей, что она завладела вниманием Михаила Борисовича. Для тех, кто помнил его непримиримым, грубым, несправедливым, восхищение, которым этот человек одаривал свою сноху, было печальным фактом, свидетельствующим о вырождении. «Пусть бы она уехала! Пусть уезжает со своим мужем!» – про себя повторял месье Лезюр. Успокоившись наконец, он вернулся в гостиную, где Михаил Борисович дремал, сидя в кресле у окна, затянутого инеем. Услышав шаги, он приоткрыл глаза и спросил:
– Ну?
– Я нашел мадам Софи у изголовья бедного Никиты! – сказал месье Лезюр. – В отношении этого юноши она обнаружила редкую преданность. Как только освободится, она придет к вам. А пока не хотите ли сыграть в шахматы?..
Михаил Борисович не снизошел до ответа. Взгляд его вновь обратился к виду за окном! О! Насколько месье Лезюр предпочитал этому безразличию прежние оскорбления, приступы гнева! Когда его высмеивали, третировали, он по крайней мере чувствовал, что живет. Нередко он испытывал даже смутное удовольствие, страдая от тысячи унижений и не имея права ответить ударом на удар. Со всем этим было покончено по вине молодой женщины!
– Не желаете, чтоб я прочел вам несколько страниц вслух? – вновь спросил он.
– Я хочу, чтобы вы оставили меня, – с досадой ответил Михаил Борисович.
Месье Лезюр поспешил удалиться.
После чего несколько дней продолжал следить за Софи и докладывать Михаилу Борисовичу о своих наблюдениях. Тот, делая вид, что не обращает никакого внимания на эти услужливые сплетни, каждый раз выслушивал их до конца. Таким образом он узнал, что Софи велела перевести Никиту в маленькую комнатку рядом с девичьей, что Василиса получила приказ застелить простынями постель больного и что к нему был приглашен доктор Прикусов. Впрочем, последнее сообщение подтвердила сама Софи. Тем не менее Михаил Борисович поморщился. Поступки снохи ставили его в неловкое положение. Когда доктор Прикусов доложил ему, что парень вне опасности, он показался себе смешным, поскольку вынужден был благодарить врача за заботы, оказанные крепостному. Что могло вызвать неблагоприятные толки в округе. Он сказал об этом Софи. Она согласилась с ним, да так изящно, что он был обезоружен. Чтобы объяснить свое поведение, Софи показала Михаилу Борисовичу тетради Никиты. Месье Лезюр встал за дверью кабинета, хотел услышать, что происходит. Он ожидал взрыва. Но разговор велся спокойно. Михаил Борисович заявил, что способности мальчишки поразили его. Вечером, за ужином, молодая женщина выглядела сияющей. Ее непринужденный, чуть ли не величественный вид привел в отчаяние месье Лезюра. У него оставалась одна надежда: что успех одурманит ее, она перейдет границу и потеряет все, желая все завоевать. Незадолго до Пасхи он попросил ее уделить ему время для беседы. И сделал вид, что тоже поражен успехами Никиты. Почему она не попросит Михаила Борисовича дать вольную этому интересному юноше и не отослать его в Санкт-Петербург, чтобы продолжить учение? Совет удивил Софи. Она и не думала, что такое возможно.
– Почему же нет! – сказал месье Лезюр. – Я даже убежден, что свекор будет рад удовлетворить вашу просьбу!
– Благодарю вас, – ответила Софи. – Это действительно замечательная идея!
Месье Лезюр с трудом скрыл свое торжество: Софи не заметила ловушки. Отстаивая столь неприемлемый план, она рассердит Михаила Борисовича и откроет ему глаза на то, чем в действительности является: интриганкой, смутьянкой, республиканкой! И как бы не пропустить ссоры, которая неизбежно столкнет друг с другом эти две сильные личности!
Пасхальные торжества с их полуночной службой, традиционными лакомствами и визитами к соседям миновали. На этот раз Владимир Карпович Седов не приехал в Каштановку, и Мария, прождав его целый день, поднялась в свою комнату, чтобы поплакать. На следующий день, когда Михаил Борисович проснулся, отдохнув после обеда, Софи зашла к нему в кабинет. Выспавшийся, расслабленный, он принял ее с должной любезностью. Но стоило ей заговорить об освобождении Никиты, как он похолодел.
– Гоните эту мечту из вашей головки, дорогая Софи, – сказал он, устраиваясь в кресле.
– Почему, отец? – спросила она. – У вас столько крестьян! Что изменится, если этот покинет имение?
– Это вопрос принципа.
– Интересно послушать, что такое принцип в сфере крепостного права?
Взгляд Михаила Борисовича ожесточился. Стоило снохе проявить пристальный интерес к какому-нибудь существу, как его, свекра, начинала разъедать ревность. Все, что она отдавала другому, было отнято у него. Не отрывая глаз от молодой женщины, он сдержанным тоном сказал:
– Одобряете вы или нет институт крепостного права, оно существует. Если император, человек великой мудрости, решит освободить мужиков, я первым повинуюсь ему. Но я не дерзну подавать личный пример великодушия, пока правительство желает оставить все в прежнем положении.
– Однако некоторые помещики думают не так, как вы! – возразила Софи.
– Да, – продолжил Михаил Борисович, – насколько мне известно, кое-кто из них жалует паспорт одному из своих крестьян с разрешением работать в городе. Три четверти того, что зарабатывает этот малый, причитается барину. Если же, несмотря на все, крепостной, ставший горожанином, богатеет немного, хозяин назначает ему очень высокую цену за полную свободу. Не к этому ли странному торгу вы меня призываете?
– Вы прекрасно знаете, что нет. Я прошу вас отпустить Никиту на волю безо всяких условий.
Михаил Борисович вспомнил белокурого и стройного подростка, выходившего из воды в день Богоявления. Наверняка тяга, которую испытывала Софи к этому мужичонке, имела какую-то тайную причину.
– Никита родился крепостным и останется таковым столько времени, сколько я проживу! – заявил он.
Оскорбленный вид Софи доставил ему чрезвычайное удовольствие. Нанеся первый удар, он собирался усовершенствовать пытку. Его сноха, ставшая жертвой выбора, была суровой и вместе с тем мягкосердечной. Он слишком любил ее, чтобы отказаться от желания причинить ей боль.
– Ах да, – продолжил он вкрадчивым голосом, – я уже говорил вам, моя дорогая, что не принадлежу к сторонникам обновлений! Пусть другие ломают двери, разжигают пожары! Я же иду в ногу с веком! Подчиняюсь обычаям, которым следуют мои современники! В связи с этим я сделаю вам признание, и оно удивит вас: мне необыкновенно приятно сознавать, как высоко вы оценили Никиту, настолько, что предоставили ему хорошее место в доме.
Софи угадала уловку и насторожилась. Поскольку она молчала, Михаил Борисович тихо продолжил:
– Вы понимаете меня, не так ли?
– Нет.
– Я хочу сказать, что милостивое обращение, поблажки всякого рода – естественные следствия крепостного права. Удовлетворение, которое испытывает помещик, владеющий тысячами людей, наполовину достигается данной ему властью выбрать из них одного и щедро одарить его из прихоти. Осыпая благодеяниями этого милого Никиту, в то время как ему подобные все еще прозябают в нищете, вы следуете великой традиции рабовладельцев. К неравенству, продиктованному нашими законами, вы присовокупляете неравенство, созданное вами самими. И не мне осуждать вас за это!
Он улыбался с такой вызывающей иронией, что у нее возникло ощущение, будто перед ней находится враг. Но враг, который не может обойтись без нее, как и она без него. Отрицать значение, какое он приобрел в ее жизни, было так же бессмысленно, как стремиться убрать гору на горизонте. Эта глыба, эта тень, этот голос оказывали на нее сильное воздействие каждый день. Он ждал, что она ответит, прежде чем продолжить дискуссию. Но она не спешила доставить ему это удовольствие. Софи медленно встала, повернулась спиной к свекру и вышла.
В коридоре она столкнулась с месье Лезюром, проходившим мимо с книгой под мышкой. Его озабоченный вид не обманул ее. Он, конечно, подслушивал у двери по привычке. Софи смерила его презрительным взглядом и прошла дальше. Охваченный безудержной радостью, месье Лезюр прижал руку к сердцу и поблагодарил Бога за тот оборот, который принимали события.
В течение следующих недель месье Лезюр усилил бдительность. После беседы, настроившей Михаила Борисовича против снохи, оба противника заняли выжидательную позицию. Внешне между ними ничего не изменилось, но в такой натянутой обстановке любая искра могла вызвать бурю. Решив не упускать шансов, месье Лезюр каждое утро просыпался с надеждой, что какое-нибудь новое обстоятельство позволит ему опорочить Софи в глазах ее свекра, и каждый вечер засыпал с сожалением, что ситуация не изменилась ни к лучшему, ни к худшему.
К концу июня месяца нетерпение его достигло предела, и у него началась нервная лихорадка. Никто в доме не жалел его. Только Василиса лечила его горькими отварами. Едва оправившись, он пожелал занять свое прежнее место в семье. 15 июля, в день святого равноапостольного Владимира, он вышел из своей комнаты к ужину. Сидя в гостиной напротив Михаила Борисовича, он почувствовал звон в ушах, а его глаза стали закрываться от усталости. Мария напевала грустную песенку, глядя в сад через открытое окно. Уже совсем засыпая, месье Лезюр увидел входящих в гостиную Николая с Софи и оживился. Молодая женщина выглядела взволнованной. И поскольку она недавно получила письмо от матери, Михаил Борисович спросил:
– У вас хорошие новости от родителей?
– Очень хорошие, – уклончиво ответила Софи.
– Слава Богу! Я заметил, что вы очень озабочены, и вдруг испугался!..
– Дело в том, – сказал Николай, – что мы только что узнали о чрезвычайном событии, событии, которое, каковы бы ни были ваши взгляды, не может оставить вас равнодушными.
Он сделал паузу и сообщил:
– Наполеон скончался.
В гостиной воцарилось тяжелое молчание. Софи показалось, что дыхание Истории коснулось лиц всех ее близких. Перед лицом столь грандиозного события никто из присутствующих не мог избавиться от ощущения собственной незначительности. Даже месье Лезюр выглядел подавленным. Михаил Борисович наконец спросил:
– Вы получили это известие от вашей матери?
– Да, – ответила Софи.
– Когда он умер?
– 5 мая, на Святой Елене.
– Но это же более двух месяцев назад!
– Событие держали в тайне как можно дольше. Кажется, английские газеты первыми обнародовали новость…
– И каково состояние умов во Франции?
– От родителей я вряд ли узнаю об этом! – с улыбкой сказала Софи. – С их точки зрения, мир наконец-то избавился от кровавой гидры!
– Многие люди думают, как они! – вмешался месье Лезюр.
– Совершенно очевидно, – продолжил Михаил Борисович, – что никто, на протяжении веков, не нес ответственности за гибель такого большого числа людей, как этот низложенный тиран! Должно быть, на Святой Елене его больше всего терзала мысль, что он уже не сможет послать на заклание тысячи молодых людей ради удовлетворения своей тяги к славе!
Месье Лезюр задрожал от радости. Случай, которого он жаждал, наконец представился. Впервые Михаил Борисович был на его стороне против Софи.
– Вы очень плохо представляете себе Наполеона, если считаете, что он вел Францию в бой лишь ради удовлетворения своих личных амбиций! – сказала молодая женщина.
– Я, как и Софи, – вмешался Николай, – верю, что он искренне стремился добиться превосходства и процветания своей страны.
Михаил Борисович резко скрестил руки на груди:
– И это мой сын, бывший офицер царской гвардии, герой Отечественной войны, осмеливается так говорить? Слишком много друзей пали вокруг тебя, чтобы ты имел право оправдывать человека, без которого большинство из них были бы еще живы!
– Я стараюсь быть справедливым, – возразил Николай. – Какими бы пороками ни обладал Наполеон, это был великий полководец.
– Великий полководец, закончивший жизнь пленником на острове! – со смешком добавил месье Лезюр.
Никогда еще он не присутствовал на таком торжестве. Вновь оказавшись в милости у Михаила Борисовича, он наслаждался тем, что наносил все больше ударов Софи и Николаю, будучи уверенным в своей абсолютной безнаказанности.
– Важно не то, каким образом заканчивает свою жизнь государственный деятель, а то, что он оставил после себя, – его деяния, легенду, – сказал Николай.
– Прекрасно! – воскликнул месье Лезюр. – Вы придерживаетесь того же мнения, что и я, благодарю вас за это! Что же остается от вашего Бонапарта? В смысле карьеры мясника, ему удалось лишь одно: пробудить ненависть всей Европы к Франции!
– Пробудить ненависть или заставить бояться? – спросила Софи.
– Одно не лучше другого, – с живостью ответил месье Лезюр. – Прежде Франция славилась просвещенностью ее великих умов; после революции она приобрела известность в силу жестокости своих палачей и солдат! Жажда крови, которую санкюлоты утоляли с помощью гильотины, их последователи времен Консульства и Империи удовлетворяли, набрасываясь на соседние народы, чтобы уничтожить их!
– Вот он какой, по меньшей мере, странный способ толкования Истории! – заметила Софи.
Месье Лезюр тут же обернулся к Михаилу Борисовичу, будто выпрашивая одобрения вышестоящего лица.
– Разве император Александр спровоцировал Наполеона в 1805, в 1812 и в 1815 годах? – спросил он.
Поскольку вопрос был адресован непосредственно ему, Михаил Борисович был вынужден ответить:
– Нет, конечно!
– О! – воскликнул месье Лезюр. – Вот видите! Никогда Россия не напала бы на Францию, если бы Франция не стремилась захватить Россию! Кстати, вы сами, месье, неоднократно говорили мне об этом!
– Да, да, – неохотно подтвердил Михаил Борисович.
– Скажу больше, – продолжил месье Лезюр, – солдаты Бонапарта действовали в России как дикари, тогда как солдаты императора Александра вели себя во Франции как освободители!
Этого Михаил Борисович также не мог отрицать.
– Вы говорите о вещах, которых не знаете! – вмешался Николай.
Месье Лезюр расхорохорился и изрек петушиным голоском:
– Ах, неужели? Разве Париж был подожжен и ограблен, как Москва?
Не получив ответа, он наслаждался своим превосходством долго и молчаливо. Михаил Борисович украдкой наблюдал за ним и был сильно раздосадован тем, что разделил точку зрения столь ничтожного человека. Совпасть во мнении с месье Лезюром казалось ему верхом чудачества.
– К тому же, – продолжал месье Лезюр, – я удивлен, дорогая сударыня, что вы можете примирить ваши республиканские взгляды с уважением к человеку, который всю свою жизнь вел себя как настоящий деспот! Разве можно одновременно выступать за свободу и за принуждение, за равенство и за иерархию, за мир и за войну, за Революцию и за Империю? Признаться, мне хотелось бы понять вас…
Кровь бросилась Михаилу Борисовичу в голову. По какому праву этот учителишка, этот лакей, набрасывается на Софи?
– Вы поняли бы меня, если бы жили во Франции в ту эпоху, когда Наполеон был ее повелителем, – гордо ответила она. – Даже те, кто ненавидел его, как я, признавали за ним некую гениальность. Его можно было обвинить в чем угодно, кроме предательства в отношении страны. Я убеждена, что многие из числа его врагов, узнав о смерти этого человека, подумают, что ушел из жизни один из благороднейших мужей этого мира. Но чтобы ощутить такое, надо обладать пониманием сути величия…
Она пригвоздила месье Лезюра взглядом и закончила:
– Я не уверена, что это качество является одним из ваших основных достоинств!
Месье Лезюр побледнел, прижав ноздри. Михаилу Борисовичу хотелось зааплодировать. Не дав наставнику времени собраться с мыслями, он пробурчал:
– И хватит этого! Наполеон вызывал слишком много разногласий при жизни, чтобы я позволил ему делать то же после смерти!
Не успел он закончить свою речь, как в его голове зародилась мысль о злой потехе. Сдерживая улыбку, которая уже щекотала ему губы изнутри, он серьезно продолжил:
– Я полагаю, вы правы, месье Лезюр: предназначение Франции – не война, а распространение культуры, будь то литература, наука или искусства. Вы сами, между прочим, прекрасное воплощение этого принципа, поскольку находитесь в России для того, чтобы учить молодежь…
– Истинная правда! – сказал Лезюр, покраснев от удовольствия.
– Досадно то, – продолжал Михаил Борисович, – что теперь вы не преподаете уже никому!
– Мои ученики повзрослели! – прошептал месье Лезюр, с нежностью взглянув на Николая и Марию.
– Нужно взять других!
Тревога стерла улыбку с лица месье Лезюра:
– Где же я их найду?
– Желающих предостаточно! Одного я уже могу вам предложить.
– Кого?
– Никиту!
Произнеся это имя, Михаил Борисович отметил, что удивление окружающих стало таким, как он хотел. У месье Лезюра задрожали щеки.
– Вы же несерьезно это говорите, месье! – пробормотал он.
– Именно так, – сказал Михаил Борисович. – Вам что, не нравится мое предложение?
– Этот Никита – крестьянин…
– Крестьянин, крепостной, да. И это вас останавливает?
– Меня нанимали, чтобы я воспитывал ваших детей, а не ваших мужиков!
– Странный ответ из уст человека, задача которого просвещать все умы, жаждущие знания! То, что мы, русские варвары, грубые помещики, рассуждаем так, я бы это понял! Но вас, соотечественника Вольтера, Монтескье, Кондорсе!.. Этот мальчик, судя по всему, необыкновенно сообразителен. Вы достаточно хорошо болтаете по-русски, чтобы давать ему уроки истории, географии, обучить счету. Что касается французского языка…
– Я не стану давать ему никаких уроков! – воскликнул месье Лезюр. – Вы не имеете права заставлять меня делать это! Вы переходите границы!..
Не на шутку рассердившись, Михаил Борисович решил, что настало время взорваться.
– Это вы переходите границы! – завопил он. – Если отказываетесь исполнять работу, которую я вам предлагаю, вам остается лишь уехать! Я не нуждаюсь в домашнем воспитателе, который ничего не делает!
Месье Лезюр пошатнулся, будто ему отвесили пощечину тяжелой рукой, и стал задыхаться. И вдруг выкрикнул:
– Я уеду! Уеду! Все вы тут чудовища!
И бросился вон из гостиной. Мария с упреком взглянула на отца и побежала за месье Лезюром. Николай помедлил одно мгновение и тоже вышел. Софи услышала, как он говорит за дверью:
– Прошу вас, месье Лезюр, успокойтесь!.. Ведь это просто недоразумение!..
Затем голоса стихли. Вероятно, двое бывших воспитанников месье Лезюра провожали наставника в его комнату. Софи обернулась к свекру, который стоял руки за спину, живот вперед. Был заметен контраст между тяжеловесностью старческого лица и молодым лукавством его улыбки.
– Вы довольны собой? – спросила она дрожавшим от возмущения голосом.
– Этот человек проявил неуважение к вам, – ответил Михаил Борисович. – Он заслужил, чтобы я поставил его на место.
– Вы могли бы сделать это, не прогоняя его!
Михаил Борисович расплылся в улыбке:
– Я его не прогонял: он сам решил уехать.
– Да бросьте вы! Заставляя его давать уроки Никите, вы прекрасно знали, что он скорее предпочтет потерять место, нежели подчиниться вам!
– Да, но мне также известно, что месье Лезюр не исполнит своей угрозы. Это такой лакей! Он уже раз двадцать клялся покинуть нас после очередной обиды, и двадцать раз дела поправлялись! Хотите поспорим – через десять минут Николай и Мария прибегут и сообщат, что месье Лезюр, вняв их уговорам, согласен остаться с нами?
– Я достаточно презираю его, – сказала Софи, – и допускаю, что он, быть может, изменит свое решение, несмотря на оскорбление, которое вы ему нанесли. Но я не понимаю, почему вы получаете удовольствие от столь недостойной игры. Как человек вашего происхождения и вашего ума может развлекаться, терзая того, кто слабее него?
В упреках Софи было столько почтения к тому, кому они были адресованы, что Михаил Борисович выслушивал их с благодарностью.
– Я не развлекаюсь мучениями слабых! – возразил он. – Это происходит само собой. На меня нападают, и я даю отпор. Слишком суровый, быть может! Но что поделаешь? Я таков, каков есть, со своей кровью, нервами, энергией… Разве я виноват в том, что люди, окружающие меня, недостаточно сильны, чтобы бороться? Я даю толчок, а они тут же падают вверх тормашками! Вы считаете меня чудовищем?
– Вам было бы так приятно, если бы я ответила «да»!
– Вовсе нет!
– О да! Я знаю вас, отец! Вам нравится, когда вас боятся!
– А вы меня не боитесь!
– Нет.
– Вы одна такая.
– Возможно. С нашей первой встречи шесть лет назад я вас поняла. Вместо того чтобы принять меня как дочь, вы попытались обуздать меня, высмеять тем же способом, что удался вам с месье Лезюром.
– Я был рассержен вашей женитьбой! – ответил он. – И потом, я хотел проверить, твердого ли вы закала. Я всегда пытаюсь сломить людей, которых люблю, чтобы оценить их способность к сопротивлению…
Он громко рассмеялся, сощурив глаза:
– Ваша стойкость очень сильна, дорогая Софи! Я почувствовал это на собственной шкуре! В сущности, мы похожи друг на друга…
Софи выразила удивление, слегка отпрянув назад.
– Разумеется, такое предположение шокирует вас, – продолжал он, – потому что во мне вы видите властного, эгоистичного старика… Но подумайте хорошенько. Забудьте о моем лице, моем возрасте… Вы и я, мы одной породы. Мы идем вперед. Другие следуют за нами…
– О каких других вы говорите? – спросила она.
Небрежным движением руки он указал на дверь.
Самолюбие Софи было задето, и она пробормотала:
– У Николая сильный характер!
– Вы находите? – спросил Михаил Борисович, вскинув до середины лба свои густые седые брови.
– Да. Просто уважение, которое он испытывает к вам, парализует его.
– Почему же так происходит, что вы не парализованы?
– Я не ваша дочь. Я не провела все свое детство рядом с вами…
– И стали мне ближе, чем родное дитя, – сказал он глухим голосом.
На секунду это ошеломило ее. Ею овладело непонятное смущение. Дверь резко распахнулась, и на пороге появилась Мария. Лицо ее исказилось от жалости.
– Батюшка! – воскликнула она. – Месье Лезюр плачет!
Михаил Борисович помолчал какое-то время, чтобы вернуться на землю, вздохнул и с иронией пробурчал:
– Да неужели?
– Да, это ужасно! Николай старается утешить его! Может быть, он все же согласится остаться у нас, если вы не будете требовать, чтобы он давал уроки Никите?
Михаил Борисович смерил Софи заговорщическим взглядом. Она улыбнулась и закрыла глаза.
Волна счастья окутала ее.
– Ну хорошо, хорошо, – сказал Михаил Борисович. – Я больше не потребую этого! К черту уроки! Пусть он остается!..
– Спасибо, батюшка! – воскликнула девушка.
Михаил Борисович нахмурил брови:
– Иди предупреди его. Через четверть часа мы садимся за стол. И пусть не вздумает появляться с соответствующей обстоятельствам миной, иначе я отправлю его назад, в его комнату!
Угроза эта прозвучала вяло, как гром удаляющейся грозы.
Мария упорхнула, а Михаил Борисович вернулся к Софи с сияющим лицом. Он, вероятно, надеялся продолжить беседу. Но она тихонько покачала головой, словно отказывая ему, хотя он ни о чем не просил. Затем, в свою очередь, направилась к двери. Он преградил ей дорогу:
– Куда вы идете?
– К Николаю, – ответила она.
В ее глазах было такое спокойствие, столько света; Михаил Борисович не нашел что сказать и – просто поклонился.
Часть II
1
С трубкой в зубах и облаком дыма у лба, Башмаков мелом записывал цифры на зеленом сукне игорного стола. Николай делал вид, что с безразличием наблюдает за счетом, но на самом деле он с тревогой ожидал результата. При себе у него было всего двести пятьдесят рублей, а партия в вист была ожесточенной. Его партнер, молодой Михаил Гусляров, пропустил лучшие ходы, а у него самого в руках были лишь мелкие карты. Клуб вдруг вызвал у него отвращение: старые кожаные кресла, запах остывшего табака и все эти мужские лица, расплывающиеся в полумраке. Башмаков подвел итог и подчеркнул его одной чертой. Кусочек мела раскрошился: четыреста девяносто шесть рублей, то есть двести сорок восемь с каждого из двух проигравших. Николай позволил себе роскошь не проверять, бросил сумму на стол, поклонился собравшимся и вышел. Продутые деньги, растраченное время вызвали у него противное ощущение. Каждый раз, приезжая в Псков, он переживал разочарование. И тем не менее не мог удержаться от поездок, поскольку очень скучал в Каштановке.
Во дворе он задумался, куда пойти: сразу вернуться домой или прогуляться по ярмарке. Стоял август месяц 1823 года. Солнце сияло высоко в небе. Оставив коня в конюшне клуба, Николай сделал несколько шагов по улице. Ряд низких лавочек с запыленными витринами выстроился вдоль тротуара из плохо сбитых досок. Вывески из резного, раскрашенного железа висели над дорогой. Временами купец, с бородой до пупка, в сапогах по колено, появлялся на пороге своей двери и приглашал прохожих зайти к нему. Николай наизусть знал весь выставленный товар. Крестьянки, одетые в яркие платья, ловили его взгляд, но он не замечал этого. Сосед по имению поздоровался с ним, и Николай машинально приподнял головной убор. Вдруг он заметил элегантную коляску, остановившуюся у прилавка с тканями «Переплюев и сын». Эти две лошади рыжей масти с заплетенными гривами, этот ямщик с бородой на две стороны, эта кибитка, выкрашенная в черную и желтую клетку… Экипаж Дарьи Филипповны! Она несомненно делает покупки. И через секунду-другую может выйти из магазина. Поначалу Николай хотел удалиться. Но продолжал стоять на месте, будто охваченный желанием вызвать катастрофу. Неужели печаль этого долгого летнего дня сделала его таким безрассудным? Ведь более двух лет он избегал встреч с матерью Васи! По правде говоря, он легко забыл о ней. Николай сделал вид, что заинтересовался отрезами ткани, украшавшими витрину. За стеклом в полумраке маячил женский силуэт с пышными формами. Под соломенной шляпой с полями, переплетенными разноцветными лентами, он узнал Дарью Филипповну. Она показалась ему немного толще, чем в его воспоминании. Оплатив покупки, Дарья Филипповна шагнула к двери. Ее провожал приказчик, руки его были нагружены пакетами, подбородок прижимал груду покупок. «Отступать слишком поздно, – подумал Николай. – На этот раз все потеряно!» И обнажил голову. Она вздрогнула, лицо ее превратилось в фарфоровую маску самых чистых белых и розовых тонов.
– Дарья Филипповна, – пролепетал он, – позвольте мне выразить вам… выразить вам…
Он, в сущности, не знал, что хотел выразить ей, да и она, видимо, не спешила узнать это. После внутренней борьбы она улыбнулась ему краешком губ:
– Как давно мы не видались, Николай Михайлович.
– Вовсе не потому, что у меня не было такого желания, уважаемая Дарья Филипповна! – с жаром воскликнул он.
Приказчик окаменел посреди тротуара.
– Вы делали покупки! – вновь заговорил Николай.
– Да, для дочек!
– Они хорошо поживают?
– Очень хорошо.
– Тем лучше, тем лучше…
Руки приказчика сгибались под тяжестью тканей.
– Положите все это в коляску, – сказала ему Дарья Филипповна.
Она собиралась уезжать. Николай не мог этого вынести.
– Вы возвращаитесь к себе? – спросил он.
– Ну, конечно.
– Позвольте мне, дорогая Дарья Филипповна, попросить вас оказать мне честь и разрешить сопровождать вас, хотя бы часть пути?
Она не утратила утонченной способности краснеть. Щеки ее заалели, а глаза стали особенно синими под тенью ресниц.
– Вы верхом? – тихо осведомилась она.
– Да.
– Значит, вы можете нагнать меня в дороге…
Вне себя от радости, он поцеловал ей руку, учтиво помог подняться в коляску и побежал на клубную конюшню.
Проскакав какое-то время, он заметил вдали, в поле, светлое пятнышко женской шляпки, раскачивавшейся в такт колес. Коляска ехала медленно. Догнав Дарью Филипповну на опушке березового леса, Николай пустил коня шагом. Ветки ближних деревьев отбрасывали на проезжавших редкие тени. Николаю пришлось наклониться в седле, чтобы разглядеть краешек лица под полями светлой соломенной шляпки. Он не знал, с какого боку завязать разговор. Наконец, нависшее молчание, как волна, подтолкнуло его:
– Вы не можете себе представить, Дарья Филипповна, как я страдал из-за этой досадной истории, в которой ни вы, ни я не виноваты, и тем не менее она разлучила нас!
– Должна признаться, – вздохнула она, – в тот момент мое материнское чувство было глубоко задето.
Он поспешил пояснить:
– Я так отчетливо сознавал это, что уже не решался появиться у вас на глазах! Мне казалось, что вы воспринимаете всю нашу семью с одинаковой неприязнью!
– Так далеко я никогда не заходила, Николай Михайлович! – возразила она. – Но, разумеется, все, что исходило от Каштановки, напоминало мне о печали, о смятении своего сына. Любой мелочи было достаточно, чтобы моя боль воскресла вновь! Не будем больше говорить об этом. Время идет, раны затягиваются, разум одерживает верх…
– У вас хорошие новости от Васи? – спросил он.
– Великолепные! Ему очень нравится в Санкт-Петербурге. Его начальники довольны им. Несмотря на мои просьбы, он ни разу не приезжал в Славянку. Несомненно, воспоминание о вашей сестре удерживает его вдали от этих мест!..
– Я очень сожалею! – пробормотал Николай.
Она очень спокойно взглянула на него:
– Не огорчайтесь: все хорошо. Кстати, я не теряю надежды вернуть сына в наш круг. Вам известно, что я купила землю Елагина? Я строю там павильон в китайском стиле. Для Васи, когда он приедет в отпуск, это будет убежищем, предназначенным для чтения и размышлений, в стороне от шумов усадьбы. В общем, местом, о котором он всегда мечтал! Я должна заехать туда и посмотреть, как идут работы. Не хотите проводить меня туда?
– С радостью! – воскликнул он.
Они свернули на тропинку, проехали вдоль пруда, вид которого Николай назвал идиллией, и направились в сторону громких звуков пил, топоров и молотков. Стройка находилась на поляне. Мужики, строившие пагоду, представляли собой удивительное зрелище. Крыша, с задранными вверх краями и торчавшими повсюду колоколенками, выглядела неуместно среди российских берез. Резные деревянные украшения посреди хрупких колонн крыльца задевали взгляд чрезвычайной усложненностью рисунка. Николай не мог сказать, что находит эту конструкцию довольно безобразной, и потому ограничился тем, что покачал головой и пробормотал:
– Это очень оригинально!.. Каждая деталь великолепно обработана!..
– Я воспользовалась рисунком, который мой сын сделал в пятнадцатилетнем возрасте! – сказала Дарья Филипповна.
Николай больше не удивлялся результату.
– Это был дом его мечты, – продолжила она. – Когда павильон покрасят в яркие цвета, он будет выглядеть еще лучше!
Управляющий, обнажив голову, подошел к Дарье Филипповне, чтобы обсудить с ней какую-то архитектурную проблему. Николай залюбовался преисполненной строгости доброжелательностью, с которой эта сорокалетняя женщина обращалась к работавшим здесь крепостным. Самые незначительные ее предположения звучали как приказы, невыполнение которых чревато наказанием. Все склонялось перед ее мягкостью. Она провела Николая внутрь павильона, показала, где будут размещены книжные шкафы, софа и письменный стол. Он с трудом представлял себе своего друга в роли молодого мандарина, но из вежливости сказал, что обстановка располагала к счастью. Тронутая таким комплиментом, Дарья Филипповна предложила ему выпить чаю в ее усадьбе. Он согласился с поспешностью умирающего от жажды.
В Славянке Николай обнаружил ничуть не изменившийся парк и трех выросших дочерей. Старшая, Елена, почти достигшая двадцати лет, к несчастью, пополнела; у средней, Натальи, восемнадцати лет, были красивые грустные глаза; что касается младшей, Евфросиньи, то в свои шестнадцать лет она была очаровательно свеженькой, кокетливой и дерзкой. Своим смехом девушка веселила весь дом. И не опускала глаз под взглядом Николая.
Чай пили под сенью лип. Николай сидел во главе стола, как единственный мужчина в обществе четырех женщин. Его положение было приятным. Он подумал, что матери и дочкам не хватает визитов, настолько внимательны они были к малейшему его жесту и малейшему высказыванию. Ему показалось, что в душе каждой хранился его образ и они внимательно изучали любую деталь, рассматривали его со всех сторон, приспосабливая к собственной мечте. Их интерес к нему был настолько приятен, что Николай забыл о времени. Дарья Филипповна в своей доброте зашла так далеко, что спросила, как поживает Мария. Растроганный, он ответил, что сестра все такая же и наслаждается меланхолией и одиночеством.
– В наши дни, если девушки живут в деревне, – это ужасно для них, – вздохнула Дарья Филипповна. – Кто станет разыскивать их за красивыми деревьями, которые все скрывают. Я собираюсь отвезти моих девочек в Москву на зимнее время.
Трое барышень Волковых покраснели и опустили головы. Очевидно, эту поездку обещали им уже давно. Затем Дарья Филипповна заговорила с Николаем о его жене, чья забота о мужиках была известна всем в этих местах.
– Да, – сказал Николай, – она хочет осчастливить мужиков помимо их воли, но сомневаюсь, что ей это удастся. Русский крестьянин не любит, когда нарушают его привычный образ жизни. А если учат читать и мыться, он и этого остерегается! Когда ему предоставят свободу, он побоится принять ее!
– Однако именно этот странный подарок вы намерены преподнести ему с согласия царя! – с улыбкой заметила Дарья Филипповна.
Он понял, что она через сына была в курсе всего, но это его не слишком раздосадовало. Даже юные девушки, должно быть, отдаленно ощущали заговор. На лице Николая отразилась политическая значимость.
– Речь идет об обширном проекте, которому многие из нас преданы, – сказал он.
Малышка Евфросинья смотрела на него с восхищением, преисполненным глубокой жажды. Дарья Филипповна, напротив, выглядела недоверчивой. Улучшать условия жизни мужика казалось ей столь же опасным, как обновление в области религии. Она объяснила это с таким изяществом, что Николай не мог сердиться на нее за подобное заблуждение. Консервативные идеи были частью обаяния этой женщины, как кашемировые шали, характер домашнего уклада, большие соломенные шляпы и любовь к варенью. Он простился с нею, надеясь, что она пригласит его приехать опять.
– Приезжайте в любое время! – сказала она. – Я всегда буду рада принять вас!..
И ни слова приглашения в адрес его жены! Какая деликатность! Дарья Филипповна не была бы женщиной, если бы не почувствовала глухой враждебности со стороны Софи. В глубине души Николай предпочитал, чтобы так все и оставалось. Вопреки тому, что ему казалось вначале, дружба между ними двумя стесняла бы его.
Сев на коня, Николай принял решение: он не расскажет Софи ни о проигрыше в игре, ни о встрече с Дарьей Филипповной. Если мужчина не хочет утратить индивидуальность, он должен иметь в жизни кое-какие секреты.
Дарья Филипповна с дочерьми посмотрели, как он отъехал, и вернулись к столу, шагая в ряд все вчетвером и держа друг друга за талию. Евфросинья первая позволила себе выразить свои чувства:
– О! Как он хорош! Мне кажется, он стал красивее и изысканнее, чем два года назад!
Подобное суждение со стороны девочки, еще вчера игравшей в куклы, растрогало Дарью Филипповну.
– Однако он нисколько не изменился, – с улыбкой, свидетельствующей о ее материнской проницательности, сказала она.
– Нет, – вмешалась Наталья. – Он теперь возмужал, выглядит как сильный мужчина!
– Ты это заметила? – встревожившись вдруг, прошептала Дарья Филипповна.
– Ну да, матушка! – ответила Наталья. – Это бросается в глаза.
– А я, – вставила Елена, – не понимаю, что такого необыкновенного вы в нем находите!
Задетая этим высказыванием, Дарья Филипповна взглянула на старшую дочь и заметила, что та насупилась. С такой тяжелой фигурой, воскового оттенка кожей и тусклым взглядом, эта девушка, конечно же, не годилась для того, чтобы высказывать свое мнение относительно мужчины. Ответ, который мать хотела адресовать ей, прозвучал из уст младшей сестры:
– Ты ничего в этом не понимаешь! Николай Михайлович просто очарователен! Если бы кто-нибудь подобный ему попросил моей руки, я ни секунды не сомневалась бы!
– Я тоже! – подхватила Наталья.
Дарья Филипповна почувствовала некую неловкость. Она была удивлена, что Николай смог так пленить девчонок шестнадцати и восемнадцати лет. Этот факт льстил ей в том смысле, что служил оправданием ее собственной склонности и вместе с тем раздражал, когда она задумывалась о том, что гость по возрасту ближе к ее дочерям, нежели к ней самой.
– Вы забываете, что Николай Михайлович – женатый человек! – сказала она.
– Увы! Нет, матушка, мы об этом не забываем! – отозвалась Евфросинья. – Иначе ты бы увидела…
– Что я увидела бы? – спросила Дарья Филипповна.
И она опять села на свое место перед пустой чашкой и тарелкой, запачканной вареньем.
– Я буду вести себя так изысканно при нем, что он воспламенится как густой кустарник! – воскликнула Евфросинья, обняв мать за шею и расцеловав ее в обе щеки.
Дарья Филипповна с досадой отстранилась:
– Какая глупость!
– У него глаза как у зеленого листочка! – простонала Евфросинья, падая на стул, раскинув ноги и свесив руки, будто измучившись.
– Зеленые листочки с золотыми блестками внутри! – поправила Наталья. – А мне больше нравится его лоб.
В течение нескольких секунд Дарья Филипповна, витая в облаках, слушала, как ее дочери в деталях обсуждали лицо Николая. Вдруг Евфросинья пальцем стукнула по столу и заявила:
– Он, должно быть, несчастлив в семейной жизни! Это просматривается в его взгляде! Не так ли, матушка?
– Да нет! – процедила сквозь зубы Дарья Филипповна. – Впрочем… мне об этом ничего не известно…
– Он почти не говорит о своей жене!
– И это не причина, позволяющая думать, что он ею пренебрегает.
– О да! О да! Между прочим, такой человек, как он, не может ужиться с француженкой!
– Во всяком случае, она очень красива! – сказала Елена, проглатывая большую ложку варенья.
«Моя старшая дочь определенно глупа! – подумала Дарья Филипповна. – Или же она нарочно опровергает все мои утверждения!»
– Ты ешь слишком много сладостей, Елена! – строго отчитала ее мать.
– Но, матушка, я еще не наелась!
– Если не остановишься, то станешь огромной!
Елена отвернулась и с грохотом уронила ложку в тарелку.
– А я, – продолжала Евфросинья, – я считаю, эта Софи слишком маленькая, слишком черноволосая…
– Подумать только, если бы Вася женился бы на Марии, Николай Михайлович стал бы нашим родственником! – сказала Наталья, явно сожалея, что это не получилось.
– Как родственник, он меня совсем не заинтересовал бы! – возразила Евфросинья. – Я хотела бы видеть его своим возлюбленным! О! Если бы он сжал меня в объятиях, увез на крупе своего коня…
Разговор увяз в ребячестве.
– Ну хватит, девочки! – остановила Дарья Филипповна.
Девушки смолкли. Наступал вечер. Дарья Филипповна вдохнула запах теплой земли, потянулась, подавила зевоту и встала из-за стола, чтобы немного пройтись по парку. Евфросинья и Наталья, ее любимицы, предложили ей руку. Елена в розовом платье плелась позади с куском пирога в ладони. Крестьянки подметали аллеи. В голубом небе появилась луна.
– О! Матушка! Какой красивый вечер! – вздохнула Евфросинья. – Все так спокойно, так чисто, что мне плакать хочется. Ты можешь это понять?
– Да, дитя мое! – ответила Дарья Филипповна.
Сердце ее рвалось из груди. Она вдруг ощутила желание прожить свою жизнь заново, со всеми иллюзиями молодости.
2
Вот уже час прошел с тех пор, как Алексей Никитич Пешуров, предводитель дворянства Опочского уезда, закрылся в кабинете с Михаилом Борисовичем. Эта затянувшаяся встреча заинтересовала Николая, который бродил по саду, держа руки за спиной и опустив голову. Чем больше он размышлял о визите этого мелкого провинциального сановника, тем отчетливее сознавал, что его посещение вызвано политическим мотивом. В прошлом году император, раздосадованный отголосками испанской и неаполитанской революцией и внутренними трудностями, возникшими вследствие восстания греков против турок, решил нанести сокрушительный удар по «вольнодумцам» в России, приказав распустить все тайные общества, в том числе масонские ложи. Но два Союза заговорщиков – Северный и Южный – пока еще не были затронуты. Без сомнения, предводитель дворянства, обеспокоенный доносом, расспрашивал Михаила Борисовича о том, каковы подлинные взгляды его сына. Все неосторожные слова, произнесенные Николаем в клубе, у друзей, на улице, всплывали в его памяти. Он обозвал себя безумцем и пожалел, что Софи нет рядом с ним и она не может разделить его опасения. В такие трудные минуты он особенно сильно ощущал необходимость жить с ней в согласии. Но она уехала на прогулку с Марией и месье Лезюром. Они собирали травы: новое семейное увлечение!
Николай опять прошел мимо окна кабинета. Разговор происходил очень тихо. Он ничего не смог услышать и спрятался за кустом. Десятью минутами позже дверь распахнулась, затем с треском захлопнулась, и на крыльце появились Михаил Борисович и горбатый, кособокий коротышка – предводитель дворянства. На нем был зеленый сюртук, надетый поверх желтого жилета. Из-за кривизны ног между колен у него просвечивал ромб. Коляска тронулась, увозя предводителя, приподнимавшего над черепом цилиндр. Николай немного успокоился. Должно быть, дело было не таким уж важным, поскольку Пешуров даже не попросил о личной с ним встрече. Николай решил не задавать никаких вопросов отцу, чтобы не вызвать у него подозрений. С другой стороны, Софи так поздно вернулась с прогулки, что он едва успел обменяться с нею несколькими словами перед тем, как сесть за стол.
Во время ужина Михаил Борисович говорил о чем угодно, кроме разговора, состоявшегося у него после полудня. Это умолчание по поводу непривычного события показалось Николаю слишком нарочитым, чтобы не вызвать тревоги. Проглатывая очередной кусок, он все время ожидал, что вот-вот разразится буря. Он уже прожевывал первую ложку мяса в сметанном соусе, как вдруг Михаил Борисович заговорил:
– Алексей Никитич Пешуров оказал мне честь своим посещением. Тебе следовало бы появиться и попрощаться с ним перед его отъездом, Николай!
– Я не хотел мешать вам, батюшка, – прошептал Николай, готовясь к худшему.
– Признайся лучше, что тебе было неприятно встречаться с ним! Ты никогда не угадаешь, что он сказал мне! У меня до сих пор голова идет кругом!
Он сделал паузу, чтобы привлечь внимание всего семейства, и продолжил:
– Один человек поручил ему узнать, как я отнесусь к его намерению жениться на Марии.
На смену облегчению, которое испытал Николай, быстро пришло новое беспокойство. Он взглянул на сестру. Она побледнела.
– Кто этот жених? – спросила Софи.
– Я не должен бы даже называть его, настолько несуразен его поступок! – сказал Михаил Борисович. – Речь идет о племяннике Пешурова, Владимире Карповиче Седове.
Мария вздрогнула, и глаза ее помутнели.
– У него отвратительная репутация, – продолжил Михаил Борисович. – Он по уши в долгах и уже не знает, у кого занять денег. Потому и нашел красивый способ поправить свои дела: жениться на моей дочери. Но меня не проведешь. Я не хочу быть банкиром моего зятя. Так и сказал Пешурову. И в конце концов он признал мою правоту. Седов больше не появится здесь!
Зная о любви своей золовки к Седову, Софи хотела бы броситься ей на помощь, но не могла сделать этого и лишь молча пожалела ее.
– Не правда ли, я хорошо поступил, Мария? – спросил Михаил Борисович.
– Да, отец, – безучастно ответила она.
– По сведениям, которые мне подтвердил и сам Пешуров, ты – уже третья девушка в наших местах, чьей руки добивается этот человек, надеясь поправить свое состояние. Тебе ведь не нужен такой муж, не так ли?
– Не нужен, батюшка.
– Тот, за кого ты выйдешь замуж по моему разумению, должен выбрать тебя ради тебя самой, а не ради денег. И кроме того, у него нет никаких нравственных принципов. Его дом – настоящий притон. Я бы не удивился, если бы у него обнаружился какой-нибудь порок или болезнь. Вот почему я даже не счел необходимым узнать твое мнение. У тебя еще есть время!.. Да? Есть время!
Софи казалось, что девушка – жертва, привязанная к стулу, она в полном изнеможении, не способна более страдать и терпит удары, не шелохнувшись. Ее отец нападал на давно мертвое тело. Не подозревая о своей жестокости, он подмигнул и сказал сыну:
– Я знаю очень пикантные истории о Седове. Напомни мне, чтобы я рассказал тебе их, когда мы останемся в мужской компании.
Рот Марии перекосился. Софи перевела разговор на другую тему, заговорив о разновидностях растений, которые месье Лезюр собрал во время прогулки.
Перед сном она зашла в комнату девушки. Мария сурово приняла ее.
– Я очень рада, что отец дал такой ответ господину Пешурову! – воскликнула она. – Ни за что на свете я не согласилась бы выйти замуж за человека, движимого низкими интересами! Я так давно не видела его, а он вдруг просит моей руки! Более того, посылает человека, чтобы тот подготовил почву! Это ужасно!.. Недостойно!.. И вы бы хотели, чтобы я была взволнована?..
– Я этого не хотела, Мария, я этого боялась, – осторожно сказала Софи.
– Ну а теперь вы успокоились!
– Не совсем. Мне кажется, вы очень нервничаете.
– Можно взволноваться и по меньшему поводу! Мне неприятно, что распоряжаются моими делами, моей жизнью, и каждый раз, когда на горизонте появляется жених, весь дом уже в смятении! Сначала Вася, затем Владимир Карпович Седов! С меня хватит! Я хочу, чтобы меня оставили в покое!
На лице девушки застыло выражение уязвленной гордости, заставившее Софи быть снисходительной.
– Ну что ж! Доброй ночи, Мари, – сказала она. – Не сердитесь на меня за то, что я пришла. Это по дружбе.
Обратившись в статую, Мария не сделала ни одного движения, чтобы удержать невестку. Софи вышла из комнаты в полной уверенности, что за дверью девушка в слезах упала на кровать.
Хорошее настроение вернулось к Марии, но прогулки со сбором трав ее больше не увлекали. Она вновь занялась верховой ездой. Каждое утро в сопровождении конюха носилась верхом по пожелтевшим осенним полям, проезжала по лесной чаще, перескакивала через ограды. В первое время Мария не выезжала за пределы имения. Затем, никому об этом не говоря, стала забираться дальше. Ее преследовала навязчивая идея: девушке хотелось увидеть жилище человека, осмелившегося посвататься к ней, хотя он и не любил ее. Ей было известно, что усадьба Седова находилась южнее, в направлении Острова. Эти места она знала плохо. Конюх навел справки в деревнях. Наконец двое крестьян согласились проводить ездоков. Остановились на пригорке, заросшем кустарником. Охваченная сильным волнением, Мария увидела внизу кирпичный, плохо построенный домишко с четырьмя колоннами впереди и грудой деревянных пристроек сзади.
– Это Отрадное, усадьба Владимира Карповича Седова, – сказал один из крестьян.
– Поехали! – прошептала Мария.
И резко повернула коня.
Вернувшись в Каштановку, она увидела во дворе, около конюшни, Никиту, сидевшего на скамеечке. Положив на колени счеты, он пытался считать как можно быстрее. Стоя позади него, Софи внимательно следила за его усилиями.
– Хорошая была прогулка? – спросила она, заметив Марию.
– Великолепная! – ответила та. – А у вас?
– Мы с месье Лезюром собрали кое-какие травы, и вот видишь, я любуюсь Никитой, который стал виртуозом счетов. Когда он освоит их в совершенстве, Николай сможет использовать его как счетовода.
Мария окинула взглядом невестку, заботливо склонившуюся к крестьянину со слишком белокурыми волосами и слишком голубыми глазами, сжала губы, чтобы не выкрикнуть, насколько смешно такое сближение, подняла полу своей амазонки и направилась к дому. На крыльце она столкнулась с Николаем, который спросил ее непринужденным тоном:
– Ты не видела Софи?
– Видела, – ответила Мария. – Она во дворе, с Никитой.
Николая, судя по всему, это не удивило. Он возвращался из Пскова. Наверняка брат встречался там с девушками. Мария была убеждена, что каждый раз, уезжая в город, Николай делал это для того, чтобы обмануть свою жену с созданиями, которые требуют оплаты. Она чувствовала исходящий от него запах предательства. А Софи ничего не замечала! Или, скорее, ей было на это наплевать! Как и ему было безразлично, что его супруга так настойчиво интересуется образованием двадцатилетнего мужика! К тому же – отец, свекор, околдованный снохой настолько, что разлюбил собственных детей! А месье Лезюр, с коробкой ботаника на животе собирающий лекарственные травы и мечтающий, быть может, составить отвар из ядовитых трав, чтобы уничтожить всю семью! И слуги, служанки, все это низкое сословие, – у них тоже есть головы, ноги, руки, волосы, половые органы! Девушки и юноши, должно быть, спариваются в кустах, на стогах сена. После чего из плоти этих оскверненных женщин рождаются дети. Это было гнусно! Мария задыхалась от отвращения, находясь в центре того мира, где только животные были достойны уважения. До самого вечера она жила на неизмеримом расстоянии от тех, кто окружал ее и полагал, что понимает эту девушку.
Три дня подряд она возвращалась в Отрадное с конюхом. С ее точки наблюдения хорошо был виден дом, двор. На четвертый раз, в то время как она увлеклась созерцанием, заросли позади нее раздвинулись. Появился Владимир Карпович Седов. Он стоял на земле, худой, улыбающийся, в высоких сапогах с тросточкой в руке. Владимир Карпович молча поклонился девушке. Она хотела стегнуть коня хлыстом, броситься вперед, ускакать галопом, но осталась на месте, охваченная счастьем и ужасом.
* * *
С тех пор как он восстановил дружеские отношения с Дарьей Филипповной, Николай часто приезжал в Славянку, и каждое посещение оставляло у него все более приятное воспоминание. Мать и три дочери старались перещеголять друг дружку, угождая ему. Рядом с ними он наслаждался двойным удовольствием оттого, что его обольщали и он обольщал. Но разговор наедине был невозможен в этой многочисленной семье. Избыток добра был чреват лишениями. Случайно Дарья Филипповна заговорила с Николаем о работах в китайском павильоне, которые подходили к концу. Однажды в октябре после полудня, возвращаясь из Пскова, он сделал крюк, чтобы посмотреть, как продвигается строительство.
На поляне возвышалась свежевыкрашенная пагода. Крыша была красной с желтыми прожилками, стены желтыми, оконный ряд – голубым. У Николая в глазах зарябило от этого буйства красок, он слез с коня и подошел к двум мужикам, красившим нижнюю часть домика.
– Эй, ребята, – сказал он, – дело идет к концу?
– Да, барин! Потом останется лишь пригласить батюшку, чтобы освятить. Но напрасно он будет кропить повсюду, ну как такие стены могут стать православными? Это китайцам хорошо жить в таких клетках!
Николай расхохотался, поднял голову и замолчал, охваченный радостью, поскольку увидел женское личико в оконной раме. Секундой позже он уже был в главной комнате перед Дарьей Филипповной, протягивавшей к нему обе руки. В углу громоздились стулья, столики и причудливые вазы. Широкая софа была придвинута к стене.
– Какой сюрприз! – воскликнула Дарья Филипповна.
– Я проезжал мимо, – пробормотал Николай. – И хотел посмотреть. Вы уже обставляете дом?..
– Я только начинаю…
Он взглядом поискал трех девушек, неразлучных с матерью, и в конце концов спросил:
– Вы одна?
– Да, – шепнула она.
Николая охватил странный испуг. Дарья Филипповна медленно присела на край софы. Ткань ее платья напоминала поле, усыпанное маргаритками, маками и васильками на розовом фоне. Из этого полевого цветения выступали две крепкие обнаженные руки и высокая полная шея.
– Вы можете дать мне совет относительно меблировки, – сказала она.
– Я для этого не гожусь!
– О нет! Я чувствую, что ваш вкус соответствует моему!
– Вы льстите мне, дорогая Филипповна!
– Меньше, чем вы того заслуживаете, уважаемый Николай Михайлович!
Николай по-прежнему стоял перед нею, разглядывал белую крепкую плоть ее груди, окаймленной маленьким воланом. Пока он созерцал ее таким образом, бессвязные мысли проносились у него в голове: он вновь видел Париж, любовницу Дельфину, снимающую шляпку перед зеркалом, друга, убитого в бою, императора верхом на коне, присутствовавшего на параде победоносных войск, и чем удаленнее от нынешней ситуации казались эти картинки, тем более необходимыми представлялись они для усмирения сомнений. Словно все его прошлое победителя напомнило ему о себе, чтобы оправдать нынешние поступки. Окутанный дыханием отдаленной эпохи, он вновь становился Николаем прошлых времен, неотразимым и неразумным. Впрочем, бывают обстоятельства, когда честный человек не может удержаться от ошибки. Притвориться, что не замечаешь волнения Дарьи Филипповны, было бы неправильно. Заметить его и не воздать ей должное, было бы еще более невежливо. Она встала и сказала:
– Помогите мне поставить этот круглый столик к окну!
Она говорила с ним, стоя так близко, что он ощущал ее дыхание, не слыша слов.
– Вы согласны? – снова спросила она.
Эта просьба потрясла его. Предмет мебели был легким, но они вдвоем ухватились за него, чтобы перенести к окну, будто он весил сто пудов. Во время прохода их руки соприкоснулись. Дарья Филипповна не убрала свою, когда столик установили, она закатила глаза, открыла рот, будто умирала, и вздохнула:
– Боже всемогущий, что происходит?
Николай понял, что слова относились к нему. Ему хотелось потерять голову, но это никак не удавалось. Вместо того чтобы полностью устремиться к Дарье Филипповне, он никак не мог избавиться от потребности думать о Софи. Он хотел изгнать ее из своих мыслей. Но она все время возвращалась в голову окольным путем.
– Что происходит? – повторила Дарья Филипповна голосом, в котором прозвучало нетерпение.
Николай предвидел момент, когда эта женщина примет его за неумеху. Гордость толкнула его на неумолимый шаг. Он поцеловал ее в губы. Она издала испуганный крик и бросилась на грудь своего соблазнителя. Он опять поцеловал ее, но с большим удовольствием, потому что губы Дарьи Филипповны были нежны.
– С ума сошли, мы с ума сошли! – простонала она. – Работники могут увидеть нас!.. На окнах и штор нет!.. Уезжайте, Николай Михайлович, ангел мой!.. Поклянитесь, что любите меня, и уезжайте!..
Николай был разочарован и вместе с тем обрадован этим требованием. Его плоть оставалась неутоленной, но совесть успокоилась. Элементарнейшая учтивость требовала, чтобы он резко запротестовал.
– Я не уеду, – воскликнул он, – пока вы не скажете мне, что мы сможем видеться!
– О Господи! Вы ужасны, мой ангел!.. Вам известна моя жизнь… Мне трудно ускользнуть… Приезжайте сюда в следующую субботу… Если вы увидите горшочек с геранью на подоконнике, значит, я здесь одна и готова вас принять!.. В противном случае приезжайте в понедельник в тот же час.
За дверью раздались шаги. Рабочие трудились уже на крыльце. Запах краски проник в комнату. Дарья Филипповна встала на цыпочки, как будто была хрупкой, невысокой женщиной, но это движение сделало ее такой же высокой, как и Николай. На лице ее появилось то же выражение, как в те времена, когда она предлагала ему варенье. Он вложил еще больше пыла в последнее объятие.
– Да хранит вас Бог, ангел мой! – сказала она, отрываясь от него, губы ее были крепко сжаты, в глазах стояли слезы радости.
Этого благословения было недостаточно, чтобы развеять тревогу Николая, когда он садился в седло. По мере того как он удалялся от китайского павильона, его приключение казалось ему все более нелепым. Не отрицая прелестей Дарьи Филипповны, он все же недостаточно любил ее, думал Николай, чтобы пойти на риск настоящей связи. Ощущение, что он обманул доверие Софи, мучило его. Хотя пока еще речь шла лишь о простых поцелуях. А что бы произошло, если бы события развивались естественным путем? В любой ситуации Дарья Филипповна была бы для него лишь забавой. Никогда он не отдал бы ей лучшую часть своей души. Он готов был в этом поклясться! Впрочем, он не был уверен, что в субботу поедет в китайский павильон. Быть может, вернется туда лишь для того, чтобы предложить Дарье Филипповне снова стать друзьями? Она была порядочной женщиной и поняла бы его. В их отказе совершить ошибку, продолжая видеться, было бы столько благородства.
Увлеченный своими мечтаниями, Николай оказался перед крыльцом дома с белыми колоннами, стоя на ковре опавших листьев. Он рассматривал лампы, горевшие в окнах первого этажа, и все второстепенные мысли улетучились из его головы. Вдруг его стало волновать лишь одно – как он встретится с Софи. Обладая необыкновенным даром наблюдательности, не определит ли она с первого взгляда, что он целовал женщину?
Семья собралась в гостиной. Софи и Михаил Борисович играли в шахматы, дожидаясь ужина. Мария читала журнал мод. Месье Лезюр перелистывал свой гербарий. Голос Николая прозвучал фальшиво даже для его собственных ушей, когда он оправдывался за то, что его задержали в клубе. Но никто не заметил его замешательства. Софи подставила ему лоб, и он коснулся его почтительным поцелуем. Как он любил ее в эту минуту! Как желал, чтобы она была всегда счастлива! Он хотел броситься к ее ногам, обнять ее колени и поблагодарить за то, что она так прекрасна и вместе с тем так мало подозрительна!
3
В половине девятого утра Мария все еще не вышла из своей комнаты, и Михаил Борисович, рассерженный ее опозданием, приказал не ждать больше и подавать завтрак. Выпив чашку чая, Софи оставила свекра с Николаем и пошла сказать девушке, что надо побыстрее закончить утренний туалет. Мария, наверное, спала глубоким сном, потому что не ответила на стук в дверь. Софи толкнула створку. В комнате – никого. Кровать была не разобрана накануне. Распахнутый шкаф, наполовину выдвинутые полки комода, одежда, кое-как разбросанная на стульях, свидетельствовали о поспешном бегстве. К подушке было приколото письмо: «Для Софи». Она распечатала конверт и в полной растерянности прочла:
«Я ушла, чтобы соединиться с человеком, которого люблю и чьих достоинств никто здесь не признает. С ним, вероятно, я буду несчастна, но по крайней мере моя жизнь обретет смысл. Постарайтесь объяснить это моему отцу, ведь у вас особый дар убеждать его. И главное, не пытайтесь повидаться со мной. Я не хочу иметь ничего общего с моим прошлым. Что не помешает мне хранить о вас доброе воспоминание. Прощайте. Мария».
Изумление молодой женщины длилось недолго. Событие было слишком важным, чтобы она теряла время, доискиваясь, как оно произошло. Необходимо было найти Марию и вернуть ее в Каштановку до того, как кто-нибудь из домашних обнаружит бегство. Даже если шанс на успех был один из ста, Софи решила действовать. С невозмутимым лицом она вышла из комнаты, заперла дверь на два оборота, спрятала ключ вместе с письмом за корсаж и вернулась в столовую, чтобы сообщить, будто Мария занемогла и надо предоставить ей возможность отдохнуть. Ее таинственный и вместе с тем смущенный вид заставил мужчин предположить, что речь идет о женском недомогании, и ни Михаил Борисович, ни Николай не решились требовать других объяснений. Затем Софи отправилась на конюшню и расспросила конюхов. Один из них, плача и осеняя себя крестом, рассказал, что молодая барыня разбудила его в четыре утра и приказала оседлать коня. Другой конюх признался, что однажды она велела ему отвезти ее в Отрадное, имение Владимира Карповича Седова.
– Хорошо! Ты и меня отвезешь туда же! – сказала Софи. – И немедленно!
Она уже собиралась садиться в коляску, когда Николай, решив, что она едет на прогулку, предложил сопровождать ее. Вот уже несколько дней он проявлял к ней трогательное внимание. Ей пришлось сделать над собой усилие и ответить ему, что сегодня утром она хотела бы остаться одна. Он подчинился, не задавая никаких вопросов. Как будто у него было в чем упрекнуть себя.
– Поезжай, – печально сказал он, – но не задерживайся надолго!
Он стоял на крыльце и смотрел, как удаляется коляска в сопровождении конюха.
Не в силах любоваться пейзажем, Софи сосредоточила все свое внимание на предстоящей ей схватке с Марией и Седовым. Она взвешивала свои аргументы, пыталась угадать доводы противника и отказывалась признать, что возможна неудача. Но когда коляска остановилась перед усадьбой Отрадное, ей показалось, что все ее размышления были напрасны и встреча произойдет не так, как она предполагала.
Красивая девушка, повязанная красным платком, встретила ее на крыльце. Софи вспомнила, что рассказывали соседи по поводу крестьянок Седова. А девушка, расплывшись в улыбке, провела посетительницу в гостиную и сообщила, что пойдет предупредить хозяина. «А если он заявит, что Марии у него нет, – задумалась Софи, – что тогда мне делать?» Она остановила служанку.
– Сначала я хотела бы поговорить с Марией Михайловной Озарёвой.
– Я не знаю, кто это, – пробормотала девушка.
– Особа, приехавшая сегодня утром.
– Мне об этом ничего не сказали!
Девушка явно следовала указанию. Софи не стала дальше настаивать, и та удалилась, покачивая бедрами. Нитка стеклянных бус позвякивала у нее на шее. Оставшись одна, Софи осмотрела комнату. Мебель красного дерева придавала ей вид корабельной каюты, словно напоминая о том, что Владимир Карпович Седов был морским офицером в отставке. Ни одно из кресел не держалось твердо на ножках. Вязаные желтые шторы были обтрепаны снизу. На стенах висели в ряд гравюры, изображающие бушующее море, кораблекрушение, морской бой, суда в порту. Под стеклянным колпаком плыла маленькая модель трехмачтовой шхуны, распустившей паруса. Софи любовалась деталями этого произведения искусства, когда вошел Владимир Карпович Седов. Вид у него был непринужденный, почти вызывающий.
– Как мне кажется, вы хотите повидать Марию, – сказал он. – Она одевается и будет здесь через минуту.
И он предложил Софи присесть. Она плохо владела собой в присутствии человека, слишком уверенного в своих возможностях.
– То, что вы сделали, недостойно, сударь! – сказала она. – Вы не имели права, пользуясь своим влиянием на Марию, заманивать ее к себе, ссорить с отцом и губить ее репутацию в глазах всех соседей!
– Ваши упреки были бы заслуженны, мадам, – возразил Седов, – если бы этот побег организовал я. Но я сам первым был удивлен, увидев, что ваша золовка приехала на рассвете в мой дом.
– Только не говорите, что она никогда не была здесь прежде!
– Она нанесла мне три или четыре дружеских визита, но не давала понять, что намерена поселиться у меня.
Пальцы Софи впились в подлокотники кресла.
– Вы лжете! – сказала она.
– И в самом деле это могло бы показаться невероятным тому, кто мало знает Марию, но вам-то известно, что она способна на безрассудный поступок. Так должен ли я отправлять ее назад в семью после того, как она пошла на такой риск из любви ко мне? Ведь она любит меня, мадам, а вы, кажется, упустили эту деталь!
– А вы, месье, вы-то любите ее? – сурово спросила Софи.
– А как же, – ответил он. – Иначе ее не было бы здесь.
– Каковы ваши намерения?
– Я собираюсь жениться на ней.
– После того, как обесчестили!
– Я человек слова. И не буду прикасаться к Марии до того дня, когда она перед Богом станет моей женой.
– Этот брак может состояться – и вы это знаете – лишь вопреки воле ее отца!
Седов саркастически улыбнулся:
– В делах такого рода отказ никогда не бывает окончательным.
Софи подумала, что это шанс на спасение, и воскликнула:
– Отпустите Марию со мной. Я попытаюсь склонить свекра на вашу сторону. Так мы хотя бы избежим скандала. Вы сможете обвенчаться!
Повисла долгая тишина. Затем твердым голосом Седов произнес:
– Я не попаду в ловушку, сударыня! Если Мария останется здесь, со мной, у меня на руках будет козырь против Михаила Борисовича, я смогу угрожать, требовать…
– Требовать чего?
Седов сощурил глаза:
– Чтобы он отдал мне руку дочери со всеми выгодами, которые предполагает такой союз.
– Значит, вы признаете, что хотите жениться на моей золовке из-за ее денег? – возмутилась Софи.
– Я этого не говорил!
– Да что вы! Ваша любовь объясняется долгами, которые надо выплатить! Вас подстегивает не страсть, а страх, что приближаются сроки платежей!
– С каких это пор заинтересованность и чувство стали несовместимы? Что касается меня, то я не скрываю, что оба аспекта проблемы представляются мне одинаково привлекательными!
– А Мария воображает…
– Она ничего не воображает. Она знает!
Приближались чьи-то шаги. Дверь резко распахнулась. На пороге появилась Мария. Черная амазонка подчеркивала бледность ее черт. Когда девушка увидела невестку, лицо ее от волнения исказилось. Софи в какую-то секунду готова была поверить, что Мария бросится в ее объятия. Но рот девушки уже приобрел своевольное выражение.
– Это отец прислал вас сюда? – спросила она.
– Ваш отец не знает даже, что вы сбежали, – ответила Софи. – Я сказала всем, что вы остались в своей комнате из-за недомогания. Если вы вернетесь со мной, нам удастся избежать самого худшего, я все устрою… Доверьтесь мне…
– Куда, по-вашему, я должна ехать? – с достоинством сказала Мария. – Мой дом здесь.
– Чтобы говорить такое, надо сначала замуж выйти!
– В глубине души я уже замужем.
– Я полагала, что вы с большим уважением относитесь к церковному таинству!
– Бог видит меня и благословляет!
– А ваш отец?
– Он так сильно обидел меня, отвергнув Владимира Карповича, что я не хочу больше и слышать о нем. Мне не нужны ни его согласие, ни любовь, ни деньги, чтобы быть счастливой!
Софи бросила взгляд на Седова. Тот расхохотался:
– Наша милая Мария – идеалистка!
– Я не сомневаюсь, что очень скоро вы лишите ее всяких иллюзий! – заявила Софи, вставая.
– Конечно, придется, – сказал Седов. – Чистотой не прокормишься. Как бы ни был настроен мой тесть, он не сможет до бесконечности отвергать свою дочь. Посердится несколько дней, а затем сочтет для себя долгом чести помочь нам. Особенно если мы, как я надеюсь, подарим ему внуков…
Ему как будто нравилось разыгрывать из себя отвратительную личность. На лице его появились складки, свидетельствующие о злости и хитрости.
– Красивеньких малюток, – продолжил он, обняв Марию за талию.
Она вспыхнула от стыда. Губы ее были сжаты, но в расширившихся глазах словно замер крик о том, что она боится быть обманутой, что этот человек внушал ей отвращение и вместе с тем подчинял себе, что она окончательно утратила волю, гордость, надежду и упала в пропасть. Потрясенная этой молчаливой скорбью, Софи пробормотала:
– Разве вы не поняли, Мари? Ваше место не здесь! Я увезу вас! Едем, едем скорее! Для вас это последний шанс!..
Мария крепче прижалась к плечу Седова и опустила голову. Ей открывали дверь тюрьмы, а она отказывалась выйти.
– Вы слышите, что говорит вам ваша невестка? – спросил Седов таким тоном, словно разговаривал с отсталой девчонкой.
– Да, Владимир, – сказала она.
– Что вы ей ответите?
– Пусть уезжает!
Седов скромно улыбнулся:
– Вы могли бы предложить ей это полюбезнее. Она явила вам великое доказательство расположения, примчавшись немедленно. Что касается остального, то я надеюсь, она теперь убедилась в глубине и твердости наших намерений.
– В самом деле, – призналась Софи, – я не жалею, что приехала.
– Доставьте же нам удовольствие и приезжайте почаще, – сказал Седов. – Вы одна можете смягчить ссору, быть может, даже примирить обе стороны. Подумайте только, ведь наша малышка Мария не будет счастлива, если ее семья станет упорствовать, отвергая ее.
– Это так, Владимир, – сквозь зубы процедила Мария.
– Молчите, дитя мое. Ваша гордость лишает вас разума, – сказал Седов.
И краешком губ он коснулся застывших пальчиков Марии. Девушка бросила на Софи взгляд, преисполненный мелкого тщеславия и как бы говоривший: «Вот видите, он целует мне руку, как женщине!»
Софи почувствовала, что она не в состоянии сдвинуть эту гору любви, упрямства, невинности и раболепства. Гордая Мария хотела быть рабой. И надо было предоставить ей возможность наслаждаться странными восторгами повиновения. В коридоре раздался девичий смех. Босые ноги улепетнули. Седов нахмурил брови.
– До свидания, Мари. Я поговорю с вашим отцом. Возмущение поможет ему, надеюсь, преодолеть печаль.
– Да-да, конечно, сделайте, как лучше, – вмешался Седов. – И не забудьте, что в день нашей свадьбы мы ждем вас. Мария напишет вам и сообщит дату.
Обнимая Марию, он проводил Софи на крыльцо. Кучер и конюх вытаращили глаза, увидев свою молодую хозяйку в объятиях мужчины. От удивления они забыли даже поклониться ей.
* * *
Софи плохо рассчитала время. Когда она приехала в Каштановку, час обеда уже миновал. Рассерженный Михаил Борисович отказался садиться за стол, а Николай, охваченный подозрениями, выломал дверь в комнату сестры. Софи повела их обоих в кабинет, чтобы объяснить им причину исчезновения девушки. Во время ее рассказа Михаил Борисович сохранял непроницаемое выражение. Только в тот момент, когда сноха произнесла слово «женитьба», он очнулся и вышел из состояния ступора. Михаил Борисович выглядел так, будто от кровяного давления у него раздулось лицо. Глаза его налились кровью, на щеках появились фиолетовые прожилки, он завопил:
– Никогда! Я никогда не дам согласия!
– Мне кажется, она решила обойтись без него! – заметила Софи.
– Ах так? Ну что ж! Если она все же выйдет за него, то не получит от меня ни копейки! Я не из тех, кого шантажируют, угрожая! Каналья Седов узнает это на своей шкуре! Он останется с нелюбимой женщиной на руках и без ничего, без того, что можно сварить в котелке!
– То, что этот брак вызывает ваше неудовольствие, отец, я понимаю, – сказала Софи. – Но поскольку Мари любит этого человека…
– Она его не любит! Она побежала за ним, как охотничья собака!
– Потому что после вашего запрета уже не могла встречаться с ним обычным образом.
– Значит, по-вашему, я должен был уступить грязной уловке этого охотника за приданым?
– Вы должны были посоветоваться с дочерью, прежде чем что-либо решать!
Михаил Борисович чрезвычайно медленно произнес:
– В России, если ничего не изменится, не дети, а родители обладают исключительным правом на мудрость и власть!
– Это правда, – поддержал его Николай. – Но если Мария совершила ошибку, безумный поступок, она не преступница. Дайте ей шанс раскаяться, искупить свою вину, вернуться к нам!
Михаил Борисович резким движением руки рассек воздух перед собой:
– Нет! Нет! Она ослушалась и опозорила меня! Замужняя или нет, но она не переступит больше порога этого дома! Если я встречусь с нею, то плюну ей в лицо! Что же касается соблазнителя, пусть не вздумает появляться на моих землях! Сегодня же вечером я прикажу моим людям стрелять в него, если увидят!..
Ответом ему было ледяное молчание. Михаил Борисович посмотрел на сына, на сноху и заметил, что они оба осуждали его горячность. Тогда вспышка недоверия промелькнула в его зрачках. Снизив тон, он сказал:
– Что это вы разглядываете меня так? Не на ее ли стороне и против меня, случайно? Я требую, чтобы вы порвали всякие сношения с этой мерзавкой!
– Нет, отец, – спокойно сказала Софи. – Если она выйдет замуж за Седова, я поеду на ее венчание.
– Я тоже, – подхватил Николай.
Михаил Борисович приподнялся за письменным столом и вытянул голову, как черепаха:
– Ваше присутствие на церемонии было бы оскорбительным для меня! В глазах всего света это означало бы, что вы признаете правоту Марии!
– Разве молиться за кого-то в церкви – то же, что признать чью-то правоту? – спросил Николай.
– Она не заслуживает, чтобы за нее молились! – взревел Михаил Борисович.
– Вы говорите не как христианин! Несмотря на всю вашу злобу против моей сестры, вам следовало бы пожелать ей счастья!
– Я не только не желаю его, но, надеюсь, она очень дорого заплатит за то, что позволила себе не считаться с моей волей!
– Не думали ли вы то же самое о Николае, когда он женился на мне без вашего согласия? – мягко спросила Софи.
Михаил Борисович резко обуздал свой порыв, и прошлое заволокло ему глаза.
– Признаете ли вы, что ошибались, и, несмотря на ваши опасения, мы создали счастливую семью, – продолжила Софи. – Со временем все уладится в жизни Марии, как это произошло с нами, и может быть…
Замерев, Михаил Борисович оценивал глубину своего одиночества. Женщина, принижающая его взгляды, была той, к кому он как раз испытывал наибольшую нежность и уважение. Он испугался, что впредь не сможет рассчитывать ни на кого. Все близкие бросили его. Ярость вновь охватила Михаила Борисовича, и он ударил ладонью по столу.
– Вам не надо было напоминать мне об этом, Софи, – сказал он. – Это точно! У меня лишь двое детей, и оба восстали против отца! Оба построили свою жизнь так, как им хотелось! Для обоих я был всего лишь старым идиотом, которого легко переубедить, одурачить!..
Увлекшись своей речью, он почувствовал, что перешел границы: Софи могла подумать, что он поставил ее и ужасного Седова на одну доску. Не зная, как исправить положение, он пробормотал:
– Вы понимаете, что я хочу сказать, Софи? Вас это не касается, но в конце-то концов согласитесь, что дочь вслед за сыном… Это немало!.. Это слишком!..
– Да, отец.
– Я еще существую!..
– Разумеется.
Он умолк, грудь ему сдавило. Волнение было слишком сильным, и, чтобы унять его, он направился к иконе и сложил ладони. Спускался вечер. Вокруг дома дул осенний ветер и забрасывал в окна струи дождя. Николай вдруг вспомнил, что наступила суббота, и Дарья Филипповна с трех часов пополудни ждала его в китайском павильоне. Потрясенный бегством сестры, он забыл о свидании. Теперь было слишком поздно! Она, должно быть, уехала, опечаленная и рассерженная. «Какая досада!» – подумал он, не будучи в этом уверен. В глубине души эта задержка устраивала его. Верный муж поневоле, он наслаждался радостью легко доставшейся ему моральной победы. Он дал себе слово не встречаться более с Дарьей Филипповной несколько недель, может быть, и несколько месяцев… Чтобы утвердиться в своем намерении, он взглянул на Софи пылко и с чистой совестью. Но она смотрела лишь на своего свекра. Стоя на коленях перед ликом святого, Михаил Борисович молился, вздыхал, крестился. Наконец, он вернулся к своему письменному столу, грузно присел и обратил в полутьму свое усталое лицо. Софи предположила, что молитва сделала свое дело и что он простил Марию, еще не признав этого. Он взял в руки разрезной нож, внимательно осмотрел его и вдруг сказал:
– Теперь я мыслю абсолютно ясно. У меня больше нет дочери. Я даже не хочу знать, что станет с той, кто претендует на это звание. Но, разумеется, я не запрещаю вам посещать ее. Вы можете пойти на ее венчание и даже на ее похороны! Что касается меня, то я не появлюсь ни на той, ни на другой церемонии!
Эти слова прозвучали в комнате как смертный приговор. Меж ресниц Михаила Борисовича блестел холодный яростный взгляд. Софи поняла, что он останется на этой горделивой позиции.
– Мне вас жаль, отец, – сказала она.
И знаком предложила Николаю покинуть вместе с ней кабинет.
4
Незадолго до Рождества родственник Кости, проездом побывавший в Пскове, передал Николаю французские брошюры, попавшие в Россию, не вызвав подозрений у властей. В этой груде было несколько сочинений графа Клода-Анри де Сен-Симона, чье аристократическое имя, должно быть, ввело в заблуждение цензоров.
Николай с упоением углубился в философию этого благородного человека, который, поездив по миру, надеялся улучшить с помощью науки жизнь человечества и прежде всего самого многочисленного и самого бедного его сословия. Перестроить общество, исходя из того, что труд есть основа всякой иерархии; осудить праздность, как преступление, противное человеческой природе; передать управление страной элите, составленной из ученых, деятелей искусства и промышленников; реформировать семью и собственность; Николай пытался сопоставить все эти теории с русской реальностью! Увлекшись темой, он попытался даже написать конституцию. Но основные положения согласовывались плохо… Софи была права: трудно было подчинить одному и тому же Закону столь различные существа, как мужики, буржуа, военные, помещики и дворяне. По этому поводу у них состоялся серьезный разговор. Она призналась ему, что сбита с толку характером русского народа с тысячью его противоречий, которые усложнят задачу любого, будь то самодержавного или республиканского правительства.
– По сути, – сказала она, – мне кажется, что пейзажи, окружающие вас, влияют на способ вашего существования. Огромные равнины, покрытые снегом в течение полугода, серое небо, обширная глушь повергают вашу душу в вялую задумчивость. Чтобы отвратить это зло, вы вынуждены искать бодрящие ощущения: азарт, игры, волнение танца, прерывистый ритм песен, шумные светские развлечения, горячность дружеских дискуссий, радости застолья, скачки на санях, пылкость любовных похождений, все, что может избавить от монотонности затворнического существования, становится для вас неудержимой потребностью!
Он посмеялся над столь французским описанием славянского характера, но согласился, что некоторые особенности точно подмечены. Будто бы для того, чтобы поддержать мнение Софи о загадочной необузданности русских, очень скоро ею было получено восторженное письмо от Марии, сообщающей, что ее венчание назначено на 8 января 1824 года; девушка надеялась, что брат и невестка будут присутствовать на церемонии, она написала также отцу, в последний раз умоляя его простить ее.
Софи спросила об этом Михаила Борисовича, и он признался, что разорвал письмецо, присланное дочерью, не соблаговолив даже прочесть его. Несмотря на заявления Николая и Софи, он был уверен, что сын со снохой не поедут в Отрадное. Узнав, что они настаивают на своем решении, он рассердился. И когда месье Лезюр выразил желание сопровождать их, он категорически запретил ему ехать: «Мне совершенно безразлично, что моя дочь взрослая! – сказал он. – Всем в уезде известно, что это венчание состоится без моего согласия! Я прикажу взять на заметку всех людей, присутствующих в церкви, и таким образом узнаю, кто мои враги!» Напуганный месье Лезюр пожалел, что высказал свою просьбу и, чтобы оправдаться, с особым усердием стал критиковать «несчастное дитя, покинувшее родительский дом». И опять эти старания обернулись против него. «Кто вам позволил принимать чью-то сторону в этом деле? – отчитал его Михаил Борисович. – Тот факт, что вы едите за нашим столом, не означает, что вы – член нашей семьи!»
По мере того как день бракосочетания приближался, дом все глубже погружался в молчание. Все словно сговорились и не упоминали о Марии. Она будто умерла. На лице Михаила Борисовича появлялось то траурное выражение, то сдержанная ярость. Накануне венчания Николай попросил у него разрешения взять с собой семейную икону, чтобы по обычаю благословить Марию перед ее отъездом в церковь.
– Эта икона не сдвинется из своего угла! – отрезал Михаил Борисович. – Твоя сестра стала мне чужой и не имеет права на покровительство святого образа, который хранит наш дом. У ее соблазнителя, должно быть, есть какая-нибудь икона. Для нее она вполне подойдет!
На следующий день с рассвета Софи и Николай готовились к отъезду. Поднявшись одновременно с ними, Михаил Борисович сдерживал себя, чтобы не слоняться за Софи и Николаем туда-сюда по дому. Он разрывался между гневом, вызванным тем, что они, вопреки его желанию, все же отправлялись в церковь, и злобным любопытством по поводу того, что они там увидят. Он дорого бы заплатил, чтобы по их возвращении узнать, какой печальной была его дочь, что Седов из-за отсутствия денег не смог организовать приема, что туалеты были безобразны, а хор пел фальшиво… Слуги – все они знали о скандале – избегали взгляда хозяина и обращались в тени, когда он проходил мимо. В углу буфетной плакала Василиса, потому что дитя, которого она учила делать первые шаги, выходило замуж вдали от дома и проявив непослушание. Она передала Софи скатерть, которую вышила тайком. Никита и Антип также вручили маленькие подарки для Марии: ложки и стаканчики из раскрашенного дерева, веночки из лент. Софи спрятала подарки в дорожную сумку из опасения, что свекор отберет их. Он решил не показываться в тот момент, когда его сын и сноха поедут из дома, но испытание оказалось выше его сил. Он нагнал их в передней. Его отрешенный вид как будто свидетельствовал о том, что он попал сюда случайно.
– Одно бесспорно, – проворчал он, – погода – отвратительная. Лучше нельзя было бы устроить, даже если бы заказали это нечистому!
Он с радостью потирал замерзшие руки и украдкой разглядывал снег, густыми хлопьями валивший за колоннами крыльца. Николай и Софи набросили меховые шубы, надели валенки и направились к двери.
– Неужели я ничего не могу передать от вас Марии? – спросил у порога Николай.
Глаза Михаила Борисовича заволокла тень, как будто на лоб его опустилось забрало. Ничего не ответив, он повернулся и ушел в свой рабочий кабинет. Когда сани тронулись, Софи увидела силуэт свекра, стоявшего за покрывшимися инеем окнами. Несдержанность этого характера живо интересовала ее; изучая свекра, она угадывала в нем пугающие, захватывающие глубины…
После тяжелой скачки по снегу Николай и Софи попали в Отрадное в раскаленный дом, где суетились слуги. Чтобы соблюсти приличия, Владимир Карпович Седов разместился в маленьком служебном помещении, оставив в распоряжении невесты основное жилище. Николай остался в гостиной, а Софи отправилась в комнату, где одевалась ее золовка. В белом платье, с венком, украшавшим голову, Мария, казалось, была чуть жива. По контрасту с перламутровым блеском ткани ее лицо выглядело бледнее, чем обычно. Две крепостные девушки, сидя перед нею на корточках, заканчивали подшивать кайму. Увидев Софи, Мария вскрикнула от радости:
– Вы приехали! Какое счастье! Спасибо! Спасибо! А Николай?
– Он ждет в соседней комнате.
– А отец?.. Подумать только, он даже не ответил на мое письмо!.. Но не будем больше говорить об этом!.. Сегодня я хочу видеть вокруг только милые лица!..
Софи вручила ей подарки от Василисы и других слуг. Она растрогалась:
– О Господи! Видно, у простых людей больше сердца, чем у избалованных судьбой!
В дверь постучали. Десятилетний мальчик, дальний родственник Владимира Карповича Седова, принес белые атласные туфельки. Мальчика звали Игорь, и все его лицо до самого лба было усыпано веснушками. В правой руке он держал золотую монету достоинством в десять рублей. Он по обычаю сунул ее в одну из туфелек в качестве амулета, приносящего счастье, и помог Марии обуться.
– Ваш туалет восхитителен, – заметила Софи.
Но на самом деле она так не думала. Платье было явно сшито домашними мастерицами из экономии. Складки легли неровно. Вокруг петлиц были заметны следы от пальцев.
– Если бы вы знали, как мне это безразлично! – вздохнула Мария, подав рукой знак, чтобы мальчик и горничные ушли.
– Вы не счастливы?
– О нет!.. В определенном смысле… Счастлива, что избавилась от принуждения, что отстояла свою независимость…
– И это все?
– Да.
– Но почему же при таких обстоятельствах вы выходите замуж?
– Я выхожу замуж из чувства противоречия, из страха, отвращения и… ненависти!.. Ах! Не знаю, из-за чего еще!..
Слезы застилали ее голубые глаза. Она до крови искусала себе губы. Затем, всхлипнув, прошептала:
– Поклянитесь мне, что не расскажете об этом ни отцу, ни Николаю и никому вообще!
– Клянусь вам, – сказала Софи.
– Впрочем, это неправда! Я люблю Владимира Карповича! Какой замечательный человек! Известно ли вам, что он сдержал слово? Сегодня я так же чиста, как в тот день, когда вошла в этот дом! Следуя традиции, он не видел меня со вчерашнего дня. Он поедет в церковь отдельно. Я хочу, чтобы к алтарю меня повел Николай!
Она воодушевлялась столь странным образом, что Софи поначалу прозаически подумала: «Ее надо срочно выдать замуж». И тут же упрекнула себя за такое поспешное суждение. Мучение Марии превосходило то, с чем обычно сталкиваются девушки. Она, казалось, упорно стремилась к своему несчастью. Неужели еще одна черта русского характера? Пришел слуга и сообщил, что Владимир Карпович только что отъехал.
– Я готова, – сказала Мария. – Пусть подают сани.
Она позвала брата. Вошел Николай, он был смущен, взволнован, улыбался как-то не искренне. Они поцеловались.
– Моя маленькая Мария, – пробормотал он, – я не узнаю тебя в этом красивом платье! Будь счастлива!..
Говоря это, он ощущал, что все больше смущается. Десять минут назад, в гостиной, он видел Седова. Этот человек не нравился ему еще больше с тех пор, как Мария решила выйти за него. Что станет с нею, когда она окажется во власти этого холодного и циничного человека? Она протянула брату маленькую икону:
– Теперь благослови меня!
Затем бросила на пол подушечку и встала на колени. Николай поднял икону, которую держал в руках. Он считал себя недостойным такой роли, ведь у него на совести было столько преступных мечтаний. Тем не менее уверенным тоном он произнес:
– Благословляю тебя, Мария.
Она опустила голову, перекрестилась, приложилась к иконе и встала. С этим было покончено.
– Едем скорее! – попросила Мария. – Все гости должно быть уже в церкви. Не надо заставлять их ждать.
Слуги собрались в прихожей и на крыльце. Когда проходила невеста, зазвучал доброжелательный шепот. Она была укутана в меха. Две служанки несли шлейф. Ветер поигрывал с белой фатой. Вдруг Марию засыпало снежным облаком. Николай помог ей сесть в наполовину закрытые сани и пристроился рядом. Маленький Игорь сел напротив них с иконой на коленях. Ему предстояло ехать так до самой церкви. Софи поднялась в следующие сани вместе с двумя разнаряженными незнакомыми ей старыми дамами, которые оказались родственницами Седова. Трое других саней заполнили друзья дома с веселыми лицами. Кортеж тронулся под свист бури.
Лицо Софи застыло от холода, глаза болели от тусклого света, и она задавала себе вопрос, как кучер различал дорогу сквозь эту бездонную пропасть. Полозья не могли уцепиться за белую гладь, лишь едва задевали ее, будто набирали скорости от этого прикосновения. Кибитка подскакивала, опять опускалась, наклонялась то вправо, то влево, рискуя свалиться на откос. Большие куски льда врезались в переднюю часть повозки с глухим грохотом. Коренная лошадь, подняв голову, втиснутую в разукрашенную яркими красками оглоблю, задавала бешеную рысь, напрягая все свои силы; две пристяжные мчались, вытянув шею вбок. Сани Софи нагнали кибитку, перевозившую ее золовку. Смешивались серебристые звуки колокольчиков обеих упряжек. За бешеным кружением хлопьев Софи разглядела силуэт девушки, скрючившейся под капюшоном, золотистый отблеск иконы, профиль Николая. Картинка казалась фантасмагорической, промелькнувшей быстро, как мысль, и через секунду-другую видение должно было раствориться в воздухе. Долгое время обе тройки бежали рядом, на фоне окончательно исчезнувшего пейзажа. Затем в этой белой пустоте возник зеленый купол церкви. Сани Марии позволили другим саням обогнать их; надо было, чтобы все приглашенные заняли свои места до появления невесты в храме.
Запах ладана после леденящего деревенского воздуха показался Софи тошнотворным. Она пробралась в первый ряд присутствующих с левой, женской половины. Зажженные свечи сверкали в паникадиле над головами верующих. Владимир Карпович Седов ожидал Марию в центральном проходе, напротив распахнутых царских врат. Невозмутимый и чисто выбритый, он обратил взор к куполу, в углублении которого парил образ бородатого и грозного Бога Саваофа. Софи окинула взглядом окружающие ее лица и обнаружила не более десятка знакомых. Впрочем, маленькая церковь была заполнена лишь наполовину. Должно быть, плохая погода и боязнь обидеть Михаила Борисовича вынудили многих людей остаться дома. Даже предводитель дворянства из Опочки Алексей Никитич Пешуров решил не утруждать себя, несмотря на родство с Седовым. Те же, кто осмелился приехать, дрожали от холода. Было слышно, как они шмыгают носом, кашляют, постукивают каблуками. Шаферы, стоявшие рядом с Седовым, дышали на руки, чтобы обогреть их.
Около входа образовалась сутолока. Хор крестьянских голосов запел радостную песню: «Она летит, приближается, белая голубка!» Мария вошла в церковь под руку с Николаем. Призрак в подвенечном платье очень медленно скользил к алтарю. Впереди шагал малыш Игорь с иконой в руках. Приблизившись к шаферам, Николай поклонился им и отошел. Владимир Карпович Седов с гордым видом встал справа от невесты. Большая дверь алтаря распахнулась, и в клубах ладана появился священник с черной бородой и в золотистом облачении. Софи с волнением припомнила подробности ее собственной свадьбы. После венчальных молитв священник подал новобрачным знак, пригласив их пройти по расстеленной перед аналоем дорожке розового шелка. Народное поверье гласило, что тот из двоих, кто первым ступит на дорожку, будет главным в семье. Шепоток пробежал по рядам присутствующих. Дамы спорили, кто окажется первым – он или она. В последний момент Седов иронически улыбнулся и пропустил Марию вперед. Священник протянул им две горящие свечи и вручил шаферам два золотых венца, которые они должны были держать над головами брачующихся. Раздались вопросы, сопровождающие таинство.
– Не связан ли ты обещанием другой невесте? – спросил священник у Седова.
– Нет! – ответил тот.
– Не связана ли ты обещанием другому жениху?
– Нет! – ответила Мария.
Священник заставил их трижды обменяться кольцами. Он прочитал строфы из Послания св. апостола Павла, относящегося к супружеству, отрывок из Евангелия о браке в Кане и другие отрывки, соответствующие происходящему таинству. Завывания ветра временами приглушали его голос. Двери, ставни стучали неизвестно где. Огоньки свечей дрожали на сквозняке. Чем дольше продолжалась церемония, тем более рассеянным и немногочисленным становилось окружение. Настоящие друзья держались рядышком. Обернувшись к выходу, чтобы понаблюдать за бегством гостей, Николай заметил у одной из колонн женскую фигуру, и кровь его взыграла: высокий рост, гордая осанка, меховой воротник, без сомнения, принадлежали Дарье Филипповне. Он не встречался с нею после их поцелуя в китайском павильоне. Что не мешало ему частенько вспоминать о ней со страстью. То, что она пришла на эту свадьбу, хотя Мария отказалась выйти замуж за ее сына, свидетельствовало о необычайной душевной стойкости. Восхищаясь благородством этой женщины, он оправдывал возникшее у него желание возобновить отношения с нею. Как пройдет их встреча после службы? Что скажут Мария и Софи? Ноги Николая заледенели в валяных сапогах. Его уши и нос будто резало ножом. Но мысли горели огнем. Хор громко запел радостную песнь:
Исайе, ликуй!Мария и Седов – их вел священник, державший вместе руки новобрачных под своей епитрахилью, – трижды обошли аналой. Шаферы следовали за ними, неся тяжелые венцы в вытянутых руках. Николай с облегчением подумал, что конец близок. И действительно, пение вдруг прекратилось. Приступы кашля пробудили глухое эхо под сводами храма. Новобрачные вышли вперед, чтобы приложиться к образам на аналое. Священник первым поздравил их. Он был не большой оратор. И просто напутствовал:
– Ну вот вы и сочлись браком! Запомните слова святого апостола Матфея: «И прилепится муж к жене своей, и будут два одною плотью».
Фраза прозвучала столь однозначно, что Мария покраснела, а Седов еле сдерживал улыбку. Затем Николай и Софи – их в спину подталкивали люди, желавшие встряхнуться, – подошли поближе. Поцеловав сестру и зятя, Николай приподнялся на цыпочки, чтобы разглядеть вновь прибывших гостей. Его постигло разочарование. Обманувшись на расстоянии, он принял за Дарью Филипповну женщину постарше нее, которая к тому же была ему незнакома. Однако этот обман зрения был тем не менее поучителен. Николаю показалось, что Дарья Филипповна присутствовала на венчании если не собственной персоной, то по крайней мере мысленно. Взволнованный до предела, он решил в ближайшие же дни нанести визит в Славянку.
После положенных поздравлений гости хотели собраться на паперти, чтобы посмотреть, как новобрачные выйдут из церкви, но необыкновенной силы ветер отбросил их внутрь. Вокруг церкви гулял настоящий снежный вихрь. В трех шагах ничего не было видно. Священник сказал:
– Ехать вам нельзя! Подождите, пока буря утихнет!
И он велел дьякону принести несколько стульев для дам. Они расселись полукругом, укрывшись за закрытыми дверями. Мужчины безропотно и угрюмо стояли рядом. Иногда кто-то из них доставал часы из кармашка. Среди этих людей, терявших по ее милости время, Мария страдала от смущения. Опустив голову, она смотрела под ноги. Сквозь щель между дверью и полом со свистом прорывался ветер, наметая сбоку искрящуюся поземку. Седов сказал:
– Друзья мои, поступайте, как считаете нужным! А с меня достаточно, я уезжаю!..
Дьякон побежал предупредить кучеров, укрывшихся под навесом на кладбище. Они явились, дрожа от холода, чтобы отговорить барина от столь опасной затеи.
– Я сам буду править санями, – ответил Седов. – Дорогу знаю. Если кто-нибудь захочет следовать за мной под звук колокольчика, пусть поторопится.
– Я с вами, – заявил Николай.
Перед тем как сказать это, он не посоветовался с Софи. Она была благодарна ему за принятое решение. Остальные гости предпочли остаться на месте до затишья.
Возницы с большим трудом подогнали двое саней к паперти. Седов усадил Марию в кибитку и поднялся на облучок. Оленья шуба была наброшена на его парадную одежду. Лошади устремились вперед. Николай забрался в следующие сани. Когда Софи устроилась на сиденье, он крикнул: «Укройся!», взмахнул хлыстом и погнал тройку со скоростью ураганного ветра.
Сани Седова скрылись в просеке, и занавес из снежных хлопьев сомкнулся за ними. Николай, будто во сне гнавшийся за Седовым, спрашивал себя, куда этот человек увозит Марию. И не растворится ли она вместе со своим похитителем в бесцветном и леденящем пространстве? В окружающем мире от них осталось лишь позвякивание неутомимых колокольчиков. Главное было слышать этот сигнал. А он удалялся, приближался, перемещался слева направо. Николай вслепую следовал за ним. Лошади грудью преодолевали порывы ветра. Несмотря на неистовость усилий, они продвигались невероятно медленно в наполовину невесомой среде молочного цвета с острыми кристалликами ледяной пыли. Ощущения времени и расстояния также были уничтожены холодом. Софи преодолела оцепенение, лишь увидев дом в Отрадном. Во дворе копошились тени. Седов и Мария как раз ступили на землю у крыльца. Николай пристроил свои сани за санями зятя. От лошадей валил пар. Они мотали головами снизу вверх и разбрасывали вокруг себя белые хлопья пота.
В передней прислуга поднесла новобрачным каравай и солонку на серебряном подносе. Седов потрепал по подбородку девушку и подмигнул ей, не принимая во внимание то, что могла подумать об этом Мария.
– Какая прекрасная скачка! – сказал он. – А все эти трусы еще ждут чего-то в церкви!..
Он, видно, был в восторге от своего подвига. Мария смотрела на него с восхищением и покорностью. «Она в конце концов будет чистить ему сапоги!» – с горечью подумал Николай. Перешли в гостиную. Ни одно зеленое растение не оживляло эту комнату, в убранстве которой преобладали красно-коричневый цвет, морские пейзажи на гравюрах, и стоял устойчивый запах табака. В одном из углов был установлен буфет. Софи и Николай выпили за здоровье новобрачных. Обменявшись несколькими словами о церемонии, они уже не знали, что сказать. Наиболее искренними они были, когда молчали. К счастью, буран вскоре утих. Прибыли гости. С притворным оживлением стали готовиться к ужину.
За столом, предусмотренным на тридцать человек, собралось лишь пятнадцать. Все эти пустые места придавали трапезе окраску неудавшегося торжества. Священник, приглашенный на свадебный пир, выглядел торжественно, в его глазах над черной бородой застыла почти женская печаль, он и трех слов не произносил, не процитировав Евангелие. С точки зрения Николая, еда была обильной, но вина и ликеры плохого качества. У кого Седов занял деньги, чтобы оплатить прием? К десерту он велел подать шампанское. По обычаю выкрикнули: Горько! Горько! Это означало, что вино будет казаться горьким, пока новобрачные не поцелуются при всех. Мария подставила щечку Седову. Он краешком губ поцеловал эту восковую статую. Лицо у него было безразличным. Он снова оживился лишь в тот момент, когда молодая служанка наполнила его бокал. Обернувшись к ней, он на глазах у присутствующих бросил на нее понимающий взгляд. Николай и Софи, не сговариваясь, заторопились с отъездом. Седов вяло пытался задержать их. Мария проводила родных до передней. У них за спиной, в гостиной, раздавался смех, звенела посуда.
– Мы первыми покидаем тебя, – объявил Николай. – Извини нас… Дорога длинная…
– Уезжайте скорее! – шепнула Мария. – И забудьте все, что здесь видели!
– Что вы хотите сказать? – спросила Софи.
– Вы меня очень хорошо понимаете! – ответила Мария. – Забудьте все! Забудьте меня! Я больше не существую!..
В скверном свадебном наряде, с венком, косо венчавшим ее белокурые волосы, с повисшими руками и глазами, полными слез, она выглядела жалкой.
– Я приеду навестить вас, – пообещала Софи. – Через несколько дней вы сами скажете мне, что ваше счастье безгранично!
На крыльце с факелами в руках стояли слуги. В прояснившемся небе сияли редкие звезды. Возница Николая, вернувшийся из церкви с последними санями, уже забрался на свое сиденье. Борода его укрывала широкую грудь, он держал вожжи и ждал распоряжений.
Тройка отъехала по снегу лунного цвета. «Как ужасно – супружеская пара без любви!» – подумала Софи. И она потянулась к руке Николая под накидкой из медвежьей шкуры. Их пальцы крепко переплелись. Она отметила про себя, что их ладони слились в нерасторжимый узел. На протяжении всего пути Софи, не обменявшись с мужем и словом, вкушала удовольствие от того, что была госпожой в голове этого человека.
К десяти часам вечера сани въехали в еловую аллею. Усадьба Каштановки в снегу казалась ниже, чем обычно. В передней горел свет, другой – в кабинете. Михаил Борисович еще не ложился.
– Он будет расспрашивать нас, – сказал Николай. – Признаемся ли мы ему, что свадьба была жалкой?
– Это доставило бы ему большое удовольствие и причинило бы слишком много боли! – заметила Софи. – Из милосердия нам следует немного солгать.
Никита, Василиса и Антип, поджидавшие их в передней, подбежали к прибывшим и тихим голосом спросили, красива ли была невеста.
– Как ангел! – ответила Софи.
Василиса перекрестилась и по своему обыкновению разрыдалась. Пока она развешивала шубы, Николай направился в кабинет. Софи пошла за ним. Он постучал в дверь и, не дождавшись ответа, приоткрыл одну створку. Комната была пустой, непроглядно темной. Запах подогретого масла исходил от лампы, которую только что погасил Михаил Борисович.
– Он ждал нашего возвращения, чтобы узнать, как все прошло, но, когда мы приехали, поднялся в свою комнату! – прошептал Николай. – Что это означает?
– Это означает, что его гордость сильнее любопытства! – ответила Софи.
И, улыбнувшись в глубине души, подумала, что начинает лучше понимать своего свекра.
5
В тот момент, когда снова увидел Дарью Филипповну, Николай оценил ничтожество отговорок, которые заготовил. Сможет ли он убедить ее, что так давно не подавал признаков жизни исключительно потому, что был потрясен бегством и замужеством сестры? Приехав в Славянку, где никто не ожидал его визита, он понял, что напрасно тревожился. Само солнце, явись оно в дом, не осветило бы так сильно лица его обитателей. Все девушки будто обрели вдруг жениха. Дарья Филипповна – глаза на мокром месте, с дрожащими губами – подыскивала слова. Она так боялась потерять Николая, так была счастлива вновь видеть его, что даже не помышляла о том, чтобы упрекнуть его за отсутствие. И если бы он не привел никаких объяснений, она приняла бы его с тем же радушием. Чтобы приободрить его, Дарья Филипповна пробормотала, что была в курсе всего, разделяет его братское возмущение и лишь больше уважает его за это. Фраза о горе, которое непокорные дети могут причинить близким, напомнила трем юным девушкам, что и они не защищены от подобных злоключений. И поскольку ничего лучше нельзя было придумать, решили выпить чаю.
Позже Евфросинья предложила Николаю поотгадывать загадки, но ее мать воспротивилась этому, сочтя подобное развлечение слишком ребяческим для гостя. Натали набралась храбрости и принесла ему свои последние акварельные рисунки. Из вежливости он похвалил ее, перелистав альбом, полный изображений увядших цветов и расплывчатых пейзажей. Рассерженная тем, что дочери завладели вниманием Николая, Дарья Филипповна попросила двух младших девушек посидеть спокойно, пока старшая будет играть на фортепьяно. Сама она с задумчивым видом расположилась в углу небольшого дивана. Николай присел рядом с нею. Евфросинья и Наталья перешептывались, Дарья Филипповна бросила на них жесткий, как удар линейкой по голове, взгляд. Звуки старомодного романса каскадом полились в гостиной. Елена играла старательно и неумело. Ее прилежная спина изогнулась, косы отбивали ритм. Склонившись к Дарье Филипповне, Николай тихим голосом спросил:
– Вы закончили сооружать китайский павильон?
– Да, – с придыханием ответила она.
– Нельзя ли мне взглянуть на него?
– Конечно.
– Когда?
– Завтра, в три часа.
Он пришел вовремя на свидание, но, переступив порог павильона, решил, что попал на пожар. Несмотря на открытую форточку, в комнате витал едкий дым. Посреди этого тумана кашляла и стонала Дарья Филипповна:
– Печь не работает! Вот уже час безуспешно пытаюсь разжечь ее! Не хотелось, чтобы слуга сопровождал меня…
– Пустяки! – сказал Николай. – Позвольте мне заняться этим!
В течение двадцати минут он работал как истопник, раскладывал поленья, поджигал их, раздувал пламя. Наконец, огонь соблаговолил загореться в зеленой изразцовой печи. Но в помещении по-прежнему было много дыма, и холод был очень ощутим. Что не способствовало созданию желательной интимной обстановки. Кроме того, Николая смущали причудливые статуэтки, гримасничающие маски, изогнутые кресла, украшавшие обстановку. Он затерялся в пещере злых духов.
– Откуда взялись эти вещи? – поинтересовался Николай.
– Мой отец купил их когда-то у китайских торговцев в Нижнем Новгороде, – объяснила Дарья Филипповна. – Они красивы, не правда ли?
– О да! Красивые и странные…
Он дрожал от холода перед женщиной, хотя был в шубе и шапке. А вокруг него безобразные статуэтки смеялись над его неудачей. Осознав, что плохо повела дело, Дарья Филипповна едва сдерживалась, чтобы не заплакать.
– Сядьте по крайней мере! – прошептала она.
Все кресла напоминали орудия пыток. Пригодным для сиденья казался только диван, несмотря на четырех золотистых драконов, защищавших его углы. И в тот момент, когда обстоятельства чуть не сломили его, мужская сила вдруг взыграла в Николае. Разве установлено, что холод и неудобство помешают ему оправдать свою репутацию перед любящей женщиной? Забыв о Китае, Николай схватил Дарью Филипповну за запястья и крепко поцеловал ее в губы. Она восприняла как порыв страсти то, что являлось всего лишь проявлением прихоти. Но на этот раз она поостереглась сопротивляться ему из страха, что он остановится на полдороге. Подавив стыдливость, Дарья Филипповна со вздохом позволила раздеть себя. Николай торжествующе запыхтел, обнажая ее округлые плечи и грудь. У нее мороз пробегал по коже. Зубы стучали. «Если не добьюсь своего, то я обесчещен!» – подумал Николай, опрокидывая женщину на диван.
Он добился желаемого настолько успешно, что в шесть часов вечера они все еще обретались в объятиях друг друга. И именно она заставила его уехать. Вернувшись в Каштановку, Николай был счастлив, что не слишком сильным оказалось у него чувство вины. Обстановка в китайском павильоне придавала исключительный и почти нереальный характер наслаждениям, которые он там вкушал. Его поведение заслуживало оправдания, присущего неверности, которую допускают моряки в случайных портах. Он вернулся к Софи с душой великого путешественника.
Порядок был быстро установлен: каждую среду вместо того, чтобы ехать в клуб, Николай отправлялся к Дарье Филипповне, которая принимала его, облачившись в широкий экзотический пеньюар. Домик теперь был хорошо протоплен, китайские чудища спрятали свои когти; самовар возвышался на лаковом столике, между объятиями довольная любовница разливала крепкий чай. Эти непринужденные встречи нравились Николаю, поскольку позволили нарушить монотонный характер его существования. Благодаря им он обретал уверенность в себе, придумывал маленькие безобидные тайны и ставил себе цель в течение недели. Короче, с тех пор как у него появилось то, в чем он мог себя упрекнуть, Николай меньше скучал. Теперь он был больше всего озабочен тем, чтобы Софи ни о чем не догадалась. Но она доверяла ему безгранично. И действительно, у нее не было оснований подозревать его в некоей распущенности, так как муж был по-прежнему очень внимателен к ней. Быть может, из-за ощущения новизны он был даже сильнее влюблен в свою жену с тех пор, как завел любовницу? Вечером, когда Николай переступал порог гостиной, угрызения совести у него рассеивались при виде отца и Софи, сидящих перед шахматной доской. Погрузившись в важные тактические задачи, оба игрока едва замечали присутствие месье Лезюра, терзавшегося от зависти в своем углу, а также присутствие Николая, явившегося сюда с грузом своих тайн.
Для Михаила Борисовича эти шахматные партии стали такой же жизненной необходимостью, как пища. Если проходило два дня и Софи не находила времени сразиться с ним, он начинал страдать. Его увлекала не сама по себе игра, а возможность побыть со снохой. Не дотрагиваясь до нее и пальцем, он будто боролся с нею врукопашную. Крепко обнимал ее, ловко изворачивался, ловил ее за запястья, она же будто каталась в траве, и он валил ее на землю, вскакивала с большим усилием, смеялась, убегала, распустив волосы, и эта дивная борьба выражалась простым перемещением пешек с одной клеточки на другую. Когда удача улыбалась Михаилу Борисовичу и удавалось одну за другой отобрать фигуры у Софи, он как будто раздевал ее. Оказавшись во власти победителя, она ждала среди своих разбросанных слуг, когда он победит ее. Произнося «Шах и мат», он испытывал столь острое наслаждение, что затем с трудом мог поднять взгляд на сноху. В другие дни, напротив, выигрывала она. Он же хитроумно, коварно защищался, затем, наблюдая неистовое женское стремление разгромить его, весело позволял ей похитить у него коня или ладью. Софи немедленно использовала первую же удачу против свекра. Не было позиции, где на него не нападали бы неожиданно. О! Как нравилось Михаилу Борисовичу, что сноха была безжалостна к нему! В тот момент, когда она была близка к победе, размышлял он, у Софи был такой же сияющий взгляд, такая же нежно-жестокая улыбка, как в миг высшего физического наслаждения. Побежденный ею, он с удовольствием уступал и бормотал: «Я сдаюсь, вы оказались сильнее!» Не могло быть иначе, чтобы она в более приглушенной форме не испытывала тех же приятных ощущений, что и он. Во всяком случае, Софи редко отказывалась поиграть в шахматы. Партия заканчивалась банальным разговором, во время которого нервы обоих противников успокаивались.
Пользуясь добрым расположением духа свекра, Софи пыталась иногда заинтересовать его судьбой Марии. И тогда он вдруг становился глухим. Со дня свадьбы дочери он не задал ни одного вопроса по ее поводу. Впрочем, сделай он это, Софи было бы трудно ответить ему, поскольку никаких новостей из Отрадного она не получала.
Так прошли три месяца. В конце концов, беспокоясь из-за молчания золовки, Софи решила нанести ей визит. Она поехала одна, опасаясь, что присутствие Николая помешает Марии откровенничать.
Среди первой весенней зелени дом в Отрадном показался Софи более приветливым. Но стоило ей войти в гостиную, как она вновь испытала ощущение заброшенности, печали и неудобства. Вот уже пятнадцать минут она ждала, сидя в кресле; наконец, Мария открыла дверь и воскликнула:
– О Господи! Это вы! Мне даже не доложили о вашем приезде!
– Я, однако, сказала…
– Эти девицы все забывают! А я так счастлива видеть вас! Извините меня: я совсем не причесана…
Ее белокурые волосы были распущены по спине. А голубое платье казалось поношенным.
– Сейчас быстренько причешусь и вернусь, – сказала она.
По возвращении Мария выглядела более презентабельно. Но глаза по-прежнему излучали тоску. Она привела Софи в столовую и позвонила в колокольчик, чтобы подали самовар. Но никто не откликнулся на ее призыв.
– Как поживает Владимир Карпович? – спросила Софи.
– Он в отъезде, – поспешила ответить Мария. – По своим делам… в Варшаве…
И снова позвонила в колокольчик. От нервной вспышки уголки губ у Марии перекосились. Очевидно, ей было неприятно, что невестка заметила, до какой степени ей не подчинялись. Софи представила себе, каким было это несчастное существование: выйдя замуж сгоряча, отвергнутая своим отцом, покинутая супругом через несколько недель, вынужденная жить в чужом доме, терпя насмешки прислуги, которой до нее дарил любовные ласки хозяин, на что могла она надеяться в будущем? Третий звонок колокольчика остался без ответа, Мария встала и, охваченная гневом, вышла из столовой. Через десять минут она возвратилась, подталкивая сзади мальчишку в лохмотьях, державшего за ручки маленький самовар из красной меди. Сама она несла поднос с двумя горшочками варенья и кусочками серого хлеба на тарелочке.
– Давайте сами угощаться: так будет намного приятнее! – сказала она.
Чашки были с щербинками, ложки разрозненными. «Совершенно необходимо попросить отца помочь ей, – подумала Софи. – Если бы он увидел свою дочь в таком состоянии, ему стало бы стыдно и он забыл бы свою обиду…»
– В Каштановке все здоровы? – спросила Мария.
Софи поделилась с ней семейными новостями.
– А как дела у того милого парнишки, Никиты? – продолжила Мария притворно жизнерадостным тоном.
– Он делает быстрые успехи в счетоводстве.
– И как прежде записывает свои впечатления в тетрадь?
– Наверное.
– В любом случае, мальчик слишком хороший, чтобы оставаться крепостным. Надеюсь, вы в конце концов дадите ему волю!
В ее высказывании прозвучала столь язвительная нотка, что Софи задумалась, к чему золовка завела этот разговор. За окном с гоготом пронеслись утки. Софи прошептала:
– От меня это не зависит!
– От вас или от моего отца, но это одно и то же, – заметила Мария. – Он ни в чем не может отказать вам.
– Может, – мягко возразила Софи. – И вы это прекрасно знаете.
– В чем же?
– Он не прощает вас. А я не перестаю просить его об этом.
Мария зарделась.
– Какая я глупая! – пробормотала она. – Вы – единственный человек на свете, который может помочь мне, а я принимаю вас и говорю злые вещи. Не надо обращать на них внимания. Это от одиночества. Я страдаю от одиночества…
– Когда он возвращается?
– Я не знаю.
– Он не уточняет этого в своих письмах?
– Нет.
У Софи закралось подозрение. «А пишет ли он ей вообще?» – подумала она. И осторожно продолжила:
– Надеюсь, он оставил вам средства на содержание дома…
– Разумеется! – воскликнула Мария. – Денег у меня хватает! А как бы вы думали?..
Лицо ее изменилось от гордой улыбки. Она лгала с душераздирающим упорством.
– К тому же, – снова заговорила Мария, – Владимир Карпович предоставил мне определенные права. И если у меня возникнет необходимость, я смогу воспользоваться ими. Я уже собиралась продать Анюту. Вы видели ее? Красивая девушка. За нее мне могут дать две тысячи рублей!
– Да, – согласилась Софи. – Но если вы это сделаете, ваш муж будет недоволен.
– Не думайте так! Он прощает мне все мои капризы! – произнесла Мария таким легкомысленным тоном, словно лишилась ума.
Софи покинула золовку с ощущением, что не оказала ей никакой поддержки.
После их встречи Мария еще долго хранила молчание. Казалось, Отрадное находилось в тысяче верст от Каштановки. Наступило лето с его солнцем, пылью, грозами… После праздника Преображения Господня Михаил Борисович официально поручил Никите мелкие расчеты по имению. Юноша разместился со своими книгами записей и счетами в небольшой комнатушке рядом с кабинетом Николая. Софи гордилась отличием, которого удостоился ее подопечный. Допущенный в узкий круг хозяев, он уделял большое внимание своему внешнему виду. Пышные шаровары из синего сукна, начищенные сапоги, белая косоворотка, красный пояс – этот деревенский наряд подчеркивал его стройную фигуру и мускулатуру широких стальных плеч. Крепостные девушки ходили взад-вперед под его окном, хохотали, чтобы выманить его на улицу, но он не замечал их уловок. Однако, когда Софи неожиданно заглядывала в его рабочую комнату, она заставала Никиту за чтением. Он сидел, уткнувшись носом в книгу, которую Николай или она сама одолжили ему. Никита шевелил губами и пальцем водил по напечатанным строчкам. Заметив барыню, он подскакивал, и лицо его начинало светиться. Она перебрасывалась с ним несколькими словами, хвалила за аккуратное ведение счетов, интересовалась прочитанным им. Однажды он прочитал ей стихотворение Ломоносова, которое только что обнаружил:
Уста премудрых нам гласят: Там разных множество светов, Несчастны солнца там горят, Народы там и круг веков…В его глазах было столько страсти, что Софи прервала его на четвертой строке.
– Счет наводит на меня тоску, – сказал он. – Я хотел бы изучать поэзию, математику, политику, все, что возвышает разум!
Она упрекнула его в чрезмерной амбициозности, в глубине души сознавая, что он прав.
– Если бы только я знал французский, – продолжал он, – то мог бы читать те же книги, что и Николай Михайлович. Мне кажется, что вся наука будущего содержится во французских книгах, а вся наука прошлого – в русских.
Софи со смехом заверила его, что различие между двумя культурами не так четко обозначено. Тогда он произнес для нее французские слова, которые выучил сам: тэзон (дом), сьель (небо), рут (дорога), форе (лес)… Она была тронута его нескладным произношением (эта манера делать грубый акцент на гласные, грассировать звук «r» на кончике языка!) и резко прервала его, опасаясь, что ей придется давать Никите советы. Она все же не собирается давать ему уроки!
С некоторых пор Софи не получала известий от родителей, отчего стала нервной. И вдруг письма из-за границы, задержанные на несколько недель цензурой, дошли все вместе. Большинство из них были вскрыты на почте. Прочитав их с опозданием, Софи узнала от своей матери, что Франция переживала смутные времена, что повсюду появлялись карбонарии, что после гнусного заговора четырех унтер-офицеров в Лярошели полиция проявляла особую бдительность и все более непреклонно демонстрировала свою власть, и, наконец, что мадам дю Кейла, фаворитка короля, устраивала великолепные празднества, но сам король был очень болен. В конце сентября русские газеты опубликовали сообщение о смерти Людовика XVIII и прибытии Карла X в Париж. Софи размышляла о Франции, как о стране, куда она уже никогда не вернется, и уверенность в этом усиливала ее ностальгию. При виде французской газеты слезы наворачивались у нее на глаза. В начале октября она получила от золовки радостное письмо: Владимир Карпович вернулся! Преисполненная восторга, Мария настаивала, чтобы Николай и Софи нанесли им визит. Николай устранился. Софи подождала с неделю, распорядилась заложить коляску и снова отправилась одна в Отрадное. Седова там уже не оказалось!
Мертвенно-бледная, с осунувшимся лицом, усталыми глазами, Мария закрылась с Софи в своей комнате и простонала:
– Он снова уехал вчера!
– Но почему?
– Все по своим делам!
– Каким делам?
– Я не знаю. Он мне ничего не объясняет. Его поездка в Варшаву ничего не принесла. В течение нескольких дней, которые он провел рядом со мной, я чувствовала, что он не в своей тарелке. Заботы терзали его. И он опять упаковал вещи…
Лицо ее излучало искренность. Она ломала руки на коленях.
– Вы по-настоящему любите вашего мужа? – спросила Софи.
– Да! – прошептала молодая женщина.
– А он любит вас?
– Он очень несчастен. Владимиру не хватает денег. Это не позволяет ему думать обо мне так, как было бы надо…
Она печально усмехнулась и продолжила:
– По сути, он женился на нищенке. Я не принесла ему никакого приданого. И он даже не может продать меня как крепостную девку! Что я такое для него? Источник беспокойства! Но если его дела устроятся, все изменится. Я стану важной дамой…
Изысканным жестом она как бы прикрыла шею веером:
– Я буду наряжаться… Душиться дорогими духами… Он будет лежать у моих ног, вместо того чтобы кричать на меня… Ведь он кричит на меня, знаете?.. Словно я его служанка!.. И бьет!.. Я вам покажу!..
Казалось, она почти гордится этим.
– Увы! Очень боюсь, как бы опять он не вернулся ни с чем. Тогда я не знаю, что мы будем делать. У нас больше нет земли. Придется продать наших последних крестьян. А большинство из них заложено!
– Вы не можете так жить! – сказала Софи. – Поедемте со мной. Встретимся с вашим отцом. Вместе поговорим с ним. Если он смягчится, вы будете спасены. В противном случае вам не видать счастья с таким человеком, как Владимир Карпович.
В глазах Марии промелькнул ужас. Она задрожала.
– Только не к отцу… Я больше не хочу…
– Это цена вашего покоя в браке!
Плечи Марии опустились. Она вся съежилась в своем кресле.
– Хорошо, – вдруг произнесла она, – я поеду…
Только тогда Софи осознала, каким неосмотрительным было ее предложение.
Они приехали в Каштановку незадолго до ужина. Увидев Марию, выходившую из коляски, слуги, прибежавшие на звук колокольчиков, застыли в замешательстве. Будто это больная чумой приближалась к ним. Она им улыбалась, а они отступали с перекосившимися от страха лицами. Даже Василиса выглядела не как обычно. Она благословляла издали вновь прибывшую и бормотала:
– Да хранит тебя Господь, моя голубка! И пусть твое старое гнездо не преподнесет тебе слишком много колючек!..
В передней две женщины столкнулись с Николаем, который выходил из гостиной в большом волнении. Тихим голосом он спросил:
– Что происходит? Зачем Мария приехала с тобой?
– Чтобы встретиться со своим отцом, – ответила Софи.
– Ты с ума сошла? Ты же знаешь, что он этого не хочет!..
Софи оборвала его на полуслове:
– Он видел, что мы приехали?
– Разумеется! – сказал Николай. – Стоял у окна в своей комнате. Отец в ярости!
– Я была в этом уверена! – пролепетала Мария. – Мне лучше уехать!
Софи схватила ее за руку:
– Ничего не бойтесь. Идите за мной. И ты тоже иди с нами, Николай!
Она привыкла к своему противнику и тем не менее боялась его гнева. Какую сцену разыграет он теперь? Она постучала в дверь, открыла ее и отошла в сторону, пропуская золовку. Мария увидела, что ее отец стоит спиной к окну, и грузно упала на колени.
– Отец, – пробормотала она, – прошу вас, простите меня…
– Это вы ее привезли? – спросил он, повернувшись к Софи.
– Да, – ответила та.
– Несмотря на мои приказы?
– Вы, быть может, и отдавали приказы своим слугам, но при мне у вас хватало любезности выражать лишь пожелания! – ответила Софи.
Она знала, что ответ такого рода приведет в восторг ее свекра, хотя он и притворится, что оскорблен.
– Не играйте словами! – бросил он. – Достаточно! Пусть она уезжает.
– Но не раньше чем поговорит с вами, отец! Ваша дочь очень несчастна…
– И кто в этом виноват?
– Мы здесь не для того, чтобы обсуждать это. Что сделано, то сделано. Теперь речь идет о том, чтобы избежать худшего. Мария нуждается в вашем расположении, ваших советах…
– Скажите лучше – в моих деньгах!
При этих словах Мария приподняла голову, и в ее глазах блеснула искра ненависти и стыда. Она готова была убежать, но Софи положила руку ей на плечо и сказала:
– Зачем же это скрывать? Она нуждается также в ваших деньгах! А какие девушки не просят помощи у родителей в начале супружеской жизни?
– Я бы сам предупреждал ее желания, если бы она вышла за человека по моему выбору, – заметил Михаил Борисович.
– Значит, она и есть уже не имеет права по той причине, что любит человека, который не годится вам в зятья?
Михаил Борисович задрал нос и просунул пальцы за проймы жилета. Ничуть не взволновавшись, он надулся и встал в напыщенно-театральную позу. Его униженная дочь была ему неприятна. Он не мог смириться с мыслью, что она прижималась к телу мужчины. Дочь не заслуживала никакой жалости. В мире существовала лишь одна достойная женщина: Софи!
– И вправду, отец! – сказал Николай. – Вы можете не одобрять поведение Марии, но предоставьте ей по крайней мере средства для жизни!
– Было бы справедливо, если бы ваши двое детей в равной мере пользовались доходами от имения, – продолжила Софи. – Нам, вашему сыну и мне, вы даете достаточную сумму, обеспечивающую безбедное существование, которое мы здесь ведем. Сделайте то же для Марии!..
Михаил Борисович вновь погрузился в свои мысли. Ему казалось, что он и его сноха затеяли еще более хитроумную, нежели обычно шахматную партию. Как добиться благодарности Софи, не уступив ей в главном? Как перехитрить ее настолько, чтобы она сочла себя победительницей, в то время как выиграл бы он? Достойная сожаления Мария, с ее неутоленной любовью и денежными затруднениями, стала вдруг для него объектом невероятных стратегических расчетов. В результате он почти забыл, что проклял ее. Его поразила одна столь хитроумная мысль, что поначалу он даже испугался. Это было похоже на дьявольский толчок. Будто пешка переместилась незаметно для противника! В полной тишине Софи помогла Марии подняться. Николай встал у них за спиной с видом рыцаря-защитника. Михаил Борисович почувствовал, что настал момент, позволяющий выдвинуть свой план. Очень серьезно, со значительностью, диктуемой возрастом, он произнес:
– Я не дам Марии ни копейки из моих денег. Это дело принципа. Но дом в Санкт-Петербурге достался нам от моей жены. В соответствии с ее завещанием Николай и Мария унаследовали права на это имущество, так же как и я. Пусть они продадут его, я им разрешаю это, и мы разделим сумму в тех пропорциях, которые определила дорогая покойница: половину – им обоим, половину – мне.
Он наслаждался изумлением, вызванным его речью.
– Да-да! – вновь заговорил он. – В сущности, это будет мудрое решение! Устройством дела мог бы заняться Николай. Я подпишу ему все бумаги, которые понадобятся. Только вот что, мой дорогой, тебе придется поехать в Санкт-Петербург!..
Говоря это, Михаил Борисович представлял себе сына в пути, а себя, наедине с Софи, – в Каштановке. Он знал, что документы о праве собственности были не в порядке и что понадобятся недели, быть может, и месяцы ходатайств, чтобы заключить сделку о продаже. В затылке у него засвербило. Ему стало так жарко, что пришлось засунуть палец между воротником и шеей.
– Это не препятствие, батюшка! – заявил Николай. – Я поеду и постараюсь вернуться как можно скорее!..
– А что вы об этом думаете, Софи? – спросил Михаил Борисович.
Попадет ли она в ловушку? Он так этого желал! Молоденькая женщина доверчиво улыбнулась:
– Это хорошее решение, как мне кажется.
Михаил Борисович вздрогнул от удовольствия и облизнул губы.
– А ты, Мария, ты довольна? – обратился к сестре Николай.
Мария покачала головой, ничего не ответив. Ей хотелось бы отвергнуть это предложение, но состояние, в котором находился ее муж, было слишком плачевным: ей пришлось принудить к молчанию свое самолюбие. Если бы только к этому предложению отца добавилось несколько доброжелательных слов, если бы он дал понять своей дочери, что она для него не совсем потеряна! И она застенчиво прошептала:
– Смею ли я надеяться, что вы, батюшка, снова проявите ко мне интерес и что речь идет не о том, чтобы подавать мне милостыню?..
– Ты называешь это милостыней? – воскликнул Михаил Борисович, побагровев. – Милостыней, которая принесет тебе примерно двадцать тысяч рублей!
– Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду! – испугавшись, выдохнула Мария.
– Нет!
– Приехав сюда, я мечтала о другом! Я думала, что мы с вами…
– Так вот! Ты ошиблась! Я не меняю своего мнения! Что отрезано, то отрезано! Ты получишь свои деньги! Но исчезни и никогда больше не показывайся мне на глаза!
Вытянув руку, он указал ей на дверь. Мария разрыдалась и бросилась вон, за ней – Софи и Николай. Михаил Борисович уселся в кресло и потер лоб тыльной стороной ладони. Дыхание у него успокоилось, мысли мелькали не так быстро. Через двадцать минут он услышал шум в передней. Софи и Николай провожали Марию после того, как утешили ее. Михаил Борисович подавил желание заглянуть в окно. Он представлял себе все: слезы, вздохи, объятия, обещания… Наконец, упряжка тронулась с места со скрипом колес и звоном колокольчиков.
– Пошла к черту! – пробурчал Михаил Борисович.
И с легким сердцем приготовился выслушивать упреки сына и золовки.
* * *
На следующий день во время обеда все усложнилось: не удовольствовавшись тем, что осудила суровость свекра, Софи вдруг объявила о своем желании сопровождать Николая в Санкт-Петербург. Не в силах воспротивиться столь законному решению, Михаил Борисович пробормотал:
– Неужели это так необходимо?.. Николай недолго будет отсутствовать!.. К тому же там у него появится куча дел!.. Вы редко будете видеть его!..
Но ничто не изменило намерений Софи. Михаилу Борисовичу с трудом удалось продержаться достойно до конца трапезы. Удалившись на отдых в свою комнату, он не получил никакого удовольствия от почесывания ног, прогнал Василису и почувствовал боль в сердце. Вытянувшись на диване, не раздеваясь, он засунул руку под рубашку и стал прислушиваясь к неровному биению в груди, задумался о смерти. Он говорил себе, что его жизненный путь завершился, что никому во всем мире он не нужен, что дети разделят его состояние, не заслужив того, и что если он не затеряется в дороге, то найдет свою жену в небесах. С наступлением вечера его размышления совершили более трагический поворот. Затем постепенно он осознал, что его несчастье может оказаться очень полезным ему. Когда настало время ужина, он зазвонил в колокольчик слабой рукой. Василиса приоткрыла дверь, зажгла лампу и побежала за Николаем и Софи. Увидев их, Михаил Борисович, чувствовавший себя значительно лучше, притворился чрезвычайно усталым. Его спросили, что он испытывает. Михаил Борисович ответил довольно искренне, что у него были перебои в сердце. Встревоженная Софи пощупала его пульс и отметила, что он был почти нормален. Василиса принесла ему взбитые с ромом и сахаром яйца, чтобы поддержать силы. Николай предложил послать за доктором в Псков, не дожидаясь утра, но Михаил Борисович запротестовал:
– Зачем беспокоить доктора, коль скоро боль прошла!
– Конечно! – заметила Софи. – Но мы должны проследить за тем, чтобы она не возобновилась!
Михаил Борисович философски улыбнулся:
– Тот, кто всегда ждет худшего, уже не живет!
Произнося это, он надеялся, что Софи, понимая, в каком он состоянии, не посмеет уехать. Она согласилась дождаться утра и только тогда побеспокоить доктора Прикусова.
Это был старый и скромный врач, лечивший семью Озарёвых вот уже двадцать пять лет. Он явился со своей черной сумкой, толстыми очками, а от его одежды пахло медикаментами и лошадиным навозом. Михаил Борисович боялся диагноза вдвойне: если его признают больным, то следует опасаться смертельного исхода, если он окажется достаточно бодрым, придется готовиться к отъезду Софи вместе с мужем в Санкт-Петербург. К счастью, доктор Прикусов любит тонкое обращение. Прослушав пациента, он пригласил членов его семьи и объявил, что у больного, разумеется, слишком слабое сердце и слишком густая кровь, но если слегка разгрузить кровь и укрепить сердце, он проживет сто лет. Рекомендованное лечение состояло в немедленном применении пиявок. Затем каждый вечер перед сном больной должен принимать некое питье и каждое утро натощак выпивать небольшой стаканчик росы. Доктор Прикусов придавал особое значение этому стаканчику росы, от которого, говорил он, большинство его пациентов были в восторге. Оставалось только выбрать несколько крепостных девушек, которые каждый день на рассвете отправлялись бы собирать капельки драгоценной влаги в полях и лесах имения. В остальном – отдых и как можно меньше неприятностей… Михаил Борисович по секрету признался своему врачу, что частенько страдает от тоски, и тот рекомендовал Николаю и Софи не оставлять его одного. При этих словах больной состроил скорбную физиономию и воскликнул:
– Это невозможно, доктор! Они оба должны уехать, это очень важное путешествие! Уверяю вас, что ничем не рискую во время их отсутствия!
Доктору Прикусову достаточно было услышать возражение, чтобы он, человек мягкий, превратился в самое непреклонность.
– А я повторяю вам, – проворчал он, – что вы нуждаетесь в постоянном уходе!
– Но для этого существуют слуги, – заявил Михаил Борисович.
– Мы не можем возложить на них эту заботу, отец! – вмешалась Софи.
Николай так радовался возможности пожить в столице, что мысль о помехе приводила его в отчаяние. Не могла ли Софи остаться в Каштановке, чтобы присмотреть за больным, а он тем временем съездил бы в Санкт-Петербург? Николай не осмеливался высказать подобное предложение, хотя горел желанием сделать это. Дарья Филипповна с ее китайскими безделушками начинала надоедать ему… Сидя в кресле в домашнем халате, Михаил Борисович украдкой наблюдал за сыном и втайне ликовал, делая вид, что очень расстроен:
– О! Мои бедные дети! Я усложняю вам жизнь!
– О нет, батюшка, – мужественно возражал Николай, – мы перенесем поездку на более позднее время!
– А Мария, ведь она с нетерпением ждет результата! – вздохнул Михаил Борисович.
Он боялся перегнуть палку, ведь такая его заботливость могла вызвать подозрение у Софи. Но она посмотрела на него с удивлением и почти с надеждой. Не думала ли она, что, преисполненный раскаяния, он вернется к своей дочери? Простодушие самых умных женщин не имеет границ, когда речь идет о перемене чувств.
После отъезда доктора Прикусова Михаил Борисович снова пожаловался на спазм в груди. Он морщился, задыхался, заикался:
– Это ничего!.. Вот!… Господи!.. Ох!.. Проходит!..
Сын и сноха настояли, чтобы Михаил Борисович рано лег, выпив предварительно липовый отвар. Он провел великолепную ночь. Утром за завтраком Софи сообщила ему, что Николай один поедет в Санкт-Петербург. Михаил Борисович чуть не задохнулся от радости. Все складывалось так, как он того хотел. Михаил Борисович размышлял: «Какая прекрасная паутина лжи! Я в восторге от того, что избавился от сына, и делаю вид, будто сожалею о том, что он уезжает без своей жены; Софи рада, что остается в Каштановке, и притворяется, будто обстоятельства вынудили ее поступить так…» Последнее предложение было наименее бесспорным из трех. Подумав об этом, Михаил Борисович прижал к сердцу обе руки. Сын и сноха заметили его жест и обменялись заговорщическим взглядом. Чтобы зря не потревожить больного, Софи сказала:
– Главное, отец, не воображайте, что я остаюсь из-за вас! Просто я боюсь, что путешествие в такое время может переутомить меня!
– Если это так, – прошептал он, – то я согласен.
И он склонил голову на грудь, будто побежденный великодушием детей.
6
В ночь с 6 на 7 ноября Николай был разбужен скорбным завыванием ветра в печи. Он зажег свечу на ночном столике. Порывом ветра раздувало пламя. На стене обозначилась огромная тень человека, будто выходящая из могилы. Во всех углах потрескивал паркет, стекла дрожали в оконных переплетах. Как обычно во время бессонницы, Николай обратился взором к иконе и перекрестился. Приехав двое суток назад в Санкт-Петербург, он поселился в этой пустой квартире, но не чувствовал себя здесь дома. Первый визит он нанес нотариусу своего отца Дмитрию Львовичу Муханову, который должен был заняться продажей дома. По утверждению юриста, дело предстояло нелегкое. Часть документов была утеряна. Возможно, необходимые сведения удастся найти в Смоленске, где родилась мать Николая и еще жили ее родственники. К счастью, у Дмитрия Львовича Муханова был хороший друг в этом городе. Ему придется поручить поиски. Но на это потребуется время. Перспектива подобной отсрочки вовсе не беспокоила Николая и, напротив, доставляла ему радость. Словно предвидев, что пребывание сына в столице может продлиться, Михаил Борисович перед отъездом снабдил его довольно приличной суммой денег. Что же касается Софи, то она приготовилась к разлуке на две-три недели с учетом того, что поездка туда и обратно потребует в общей сложности неделю. Никогда еще после женитьбы Николай не был свободнее!
Покинув нотариуса, он отправился к Косте Ладомирову. Прекрасное мгновение! Костя плакал от радости, обнимая возвратившегося друга. Три приятеля из прежнего «Союза во имя Добродетели и Истины» присутствовали при этой встрече. У всех в честь первой годовщины заговора на пальце было надето серебряное кольцо. Они рассказывали Николаю, что, несмотря на поездку полковника Пестеля в Санкт-Петербург в мае месяце, никакого сближения между Северным обществом и Южным не произошло. Однако в Северном обществе, помимо бывших руководителей умеренного толка, таких как князь Трубецкой и Никита Муравьев, числился теперь новый, более радикальных убеждений, поэт Кондратий Федорович Рылеев. Костя высоко чтил этого человека, вышедшего в отставку в чине прапорщика, недолгое время служившего в судебном ведомстве, затем назначенного правителем канцелярии Российско-американской торговой компании, целью которой было обнаружение и освоение территорий Нового Света. Вместе со своим другом Александром Бестужевым он издавал альманах «Полярная звезда», в котором сотрудничали лучшие писатели молодого поколения. Осведомленный таким образом, Николай с нетерпением ожидал, что Костя отведет его к Рылееву.
Встреча произошла вчера вечером, в помещении Российско-американской торговой компании. Николай был представлен худощавому, почти щуплому мужчине с волевым лицом, большими темными глазами и густыми бровями, соединявшимися над основанием носа. С самого начала Рылеев заявил ему: «От Кости мне известно о той полезной работе, которую вы делаете в Пскове. Продолжайте! Нам нужны информаторы во всех важных местах». Эта похвала смутила Николая, потому что в последнее время его политическая активность затормозилась. И почему хозяин, познакомившийся с ним всего лишь четверть часа назад, обращался к нему с таким доверием? Неужели он не боялся, что его могут предать, разоблачить? Глаза Рылеева излучали благородство, которое действовало, как волшебство. За несколько минут разговора с ним Николай лучше понял обстановку в России, нежели за пять лет одиночества в Каштановке. По словам Рылеева, правительство с каждым днем все глубже погружается в мракобесие. Добившись отстранения князей Волконского и Голицына, ближайших советников царя, раболепный Аракчеев в настоящее время оказывал единоличное воздействие на разум своего повелителя. Религия и полиция стали важнейшими опорами престола. Но если бы взволновалась армия, это означало бы крушение режима. «Я рассчитываю, что через два или три года мы сможем выступить, имея все шансы на успех! – заявил Рылеев. – Движение начнется с военных поселений. Нельзя лишь допустить, чтобы в него вмешалось остальное население. Нам нужно восстание, которое возглавят офицеры, а не революция, которой руководили бы народные ораторы…»
Обдумывая эти высказывания, Николай испытывал ощущение тревоги и блаженства. То, что прежде казалось ему лишь мечтой, становилось вдруг близкой, ужасной и чреватой непредсказуемыми последствиями реальностью. Он прислушивался к завыванию бури и слышал Рылеева. Взгляд этого человека сопровождал его повсюду. Чтобы избавиться от наваждения, Николай подумал, что завтрашний день будет еще замечательнее. Вася Волков прислал ему письмо с приглашением на обед. Их встреча после разлуки наверняка будет волнительной. Дарья Филипповна умоляла Николая узнать, с кем водит знакомство ее сын. Она опасалась как слишком важных мужчин, так и слишком легкомысленных женщин. Такая заботливость шокировала Николая, решившего, что это отсутствие такта. Ему не нравилось, что его любовница одновременно была и матерью. Их разлука в китайском павильоне была душераздирающей. Дарья Филипповна, упав на пол в пеньюаре, расшитом лотосами, обнимала его колени и жалобно восклицала: «Поклянись, что будешь мне верен!» Софи не требовала от него такой клятвы. Он улыбнулся, подумав об этом, и попытался заснуть. Порывы ветра дули слишком сильно, чтобы можно было закрыть глаза. Время от времени раздавалось хлопанье тяжелой и влажной ткани, будто окутавшей дом. За дверью спальни на своей циновке со стоном ворочался Антип. По обыкновению, он сопровождал хозяина в поездке. Николай собрался разбудить его, чтобы он подал ему чаю. Но, поразмыслив, решил, что больше хочет спать, нежели пить.
Он снова лег и задул свечу. Уперся щекой в думку – маленькую подушечку, которую когда-то сшила ему Василиса, он всегда возил ее в своем багаже. Затем, как когда-то, будучи еще ребенком, зажал в правой руке свой нательный крест и без страха погрузился в ночь, населенную рычащими волками. Они не причинили ему никакого вреда вплоть до первых рассветных лучей. В этот момент один из них с такой яростью бросился на кровать, что Николай издал хриплый крик и стал отбиваться. Во время борьбы он заметил, что у волка человеческие глаза, рыжая шевелюра и зверь, как ни странно, был похож на Антипа.
– Барин! Барин! – вопил тот, расталкивая в плечо своего хозяина. – Вставайте – скорее! Взгляните-ка!..
Он выглядел таким напуганным, что Николай вскочил на ноги. Комната была окутана тусклым сиянием. Антип открыл окно. Холодный ветер приподнял занавески и разметал бумаги на столе. Из города доносился непривычный грохот глухих ударов и хлюпающих звуков. Николай выглянул в окно, и от удивления у него перехватило дыхание: улица превратилась в реку. Грязный, бурный поток воды бился у основания дверей. Дождь косыми струями проливался из свинцового неба. В окнах показались встревоженные лица. Пока еще только подвалы, должно быть, были затоплены. Но вал быстро нарастал. Пушки Петропавловской крепости грохотали с большими интервалами, возвещая о бедствии.
– Все произошло в мгновение ока, – рассказывал Антип. – Морской ветер погнал Неву назад, и вдруг она вышла из берегов. Если Господь хочет омыть город от его грехов, мы еще долго будем видеть, как прибывает вода! Только не поднялась бы она до нашего этажа!
Николай заметил внизу, на орнаменте фасада, шествие серых существ. Крысы бежали из подвала и разыскивали местечко, где им было бы сухо. В спешке они толкались, кусали друг друга. Привратник вышел на тротуар. Вода доходила ему до середины голени. Сложив у рта ладони дудочкой, он что-то крикнул своему приятелю из дома напротив, который так же, как и он, вышел на улицу, чтобы насладиться зрелищем. Конюхи выводили лошадей из конюшен и отводили их подальше от Невы и ее каналов, в восточную часть города, где опасность была не так велика. Испуганные животные ржали, вставали на дыбы. Горожане убегали в колясках. Колеса, крутясь, мутили воду. Подобные мифологическим богам, кучера с хлыстом в руке управляли лошадьми, тащившимися по воде, Николай вспомнил о собственном вознице, о своих лошадях и повозке, оставленных неподалеку от дома.
– Надеюсь, Серафиму удалось разместить все в безопасном месте! – сказал он.
– Наверняка, барин! – успокоил его Антип. – Он слишком любит водку, чтобы бояться воды!
– Все-таки нам следует пойти и посмотреть!
– Это было бы неосторожно, барин… Посмотрите-ка, посмотрите!..
Сидя на тумбах, мальчишки смеялись и пальцем показывали на куски дерева, ящики, овощные очистки, которые проносились в потоке. Вдруг ребятишки стали с визгом удирать. Огромные сине-зеленые волны с гребнями желтой пены хлынули меж фасадами домов. Почтовую телегу понесло будто лодку. Кучер спустился, распряг лошадь и, держа ее за ухо, поплыл. Николай вспомнил, что на первом этаже жили простые люди, слуги, ремесленники, ушедшие на покой мелкие чиновники. Встревожившись, он оделся, быстрым шагом пересек комнату и вышел на лестничную площадку.
Большой вестибюль дома превратился в помещение, залитое водой. Сбежав из своих затопленных комнат, примерно двадцать человек спасались на ступеньках. Женщины в ужасе сжимали в руках узлы с одеждой, самовары и иконы. Какая-то девочка всхлипывала, потому что потеряла свою куклу. Пожилые мужчины, закатав панталоны до колен, возвращались в свое жилище, чтобы спасти мебель и личные вещи. Матрацы, клетки с канарейками, плетеные колыбельки, короба, кухонная утварь, покрывала громоздились у ног Николая, как подношения. С каждой вылазкой храбрецы все глубже погружались в грязную воду. Короткие волны бились об основание лестницы. Женщины кричали, давая указания своим мужьям:
– Захвати мою зеленую шаль!
– Принеси табурет!
Завидев Николая, старая женщина – одни жилы и кости – подскочила к нему и заныла:
– Ваше Благородие, Ваша Честь, Ваше Превосходительство, вы – хозяин дома, не так ли?
– Да, – ответил он.
– Я – Марфа Гавриловна, одна из ваших постоялиц! Я плачу сорок пять рублей в месяц за мое жилье! И никогда не задерживаю! Поэтому прошу вас, соблаговолите приказать, чтобы мне дали лодку!
– Но у меня ее нет!
– Я уверена, что есть! Сделайте усилие, Ваше Благородие! Владычица Небесная отблагодарит вас! Мне нужно повидать сына, моего сына!..
Икота помешала ей говорить, и женщина присела на ящик. Соседки объяснили Николаю, что сын Марфы Гавриловны жил в домике на Васильевском острове, а эта часть города была наиболее опасной.
– Успокойся, Гавриловна, – обратился к ней привратник. – Лучше помолись Богу за сына, вместо того чтобы беспокоить барина.
– И где же все эти несчастные будут ночевать? – спросил Николай.
Привратник раскинул руки, будто принимая в объятия судьбу:
– На лестнице, если вода не поднимется выше.
– Обе квартиры на втором этаже заняты?
– Да, барин. Генерал Маслов с семьей вернулись из деревни. Даже под крышей уже нет места!
– Ну хорошо, мы устроим все по-другому! – сказал Николай.
Антип угадал мысль хозяина и прошептал:
– Барин, барин, вы же не станете селить их у нас!
– Придется, пока вода не спадет! – ответил Николай.
– Но эти люди не вашего ранга!
Николай вдруг почувствовал себя вдохновленным Софи и, как истинный либерал, объявил:
– В несчастьи нет различия рангов. Я предоставляю в их распоряжение большую гостиную.
Жильцы первого этажа рассыпались в благодарности. Под градом благословений Николай был счастлив и вместе с тем стыдился, что ему так признательны за самый естественный поступок. «Я человек нового времени», – подумал он, тогда как неизвестные люди, нагруженные жалким скарбом, переступали порог его жилища. Он уже собирался последовать за ними, как вдруг большая лодка с двумя гребцами заплыла в вестибюль дома, будто в порт, заскользила меж колонн и причалила к основанию лестницы. На корме лодки стоял Костя Ладомиров, закутанный в черный плащ.
– Эй! Николай! Иди сюда скорее! – крикнул он.
Марфа Гавриловна издала победный крик:
– Спасибо, батюшка! Наш благодетель предупредил тебя! Это за моим сыном!..
– Вот она опять за свое! – проворчал привратник. – Ты что же, не понимаешь, что этот господин приплыл за барином, дурища?
Гавриловна расплакалась.
– Откуда у тебя эта лодка? – спросил Николай.
– Один рыбак продал мне ее по цене золотой, – ответил Костя. – Мы должны объехать всех друзей. Некоторые из них, по моим сведениям, могут быть в опасности!
Николай взял свою накидку, шапку и спустился в лодку. Этот способ ухода из дома был таким необычайным, что, жалея жертв наводнения, он при всем при том испытывал какую-то радость, предвидя неожиданные события. Сидя у кормы, он заметил Марфу Гавриловну, заламывающую руки. Вспышка жалости охватила его.
– А не могли бы мы и в самом деле взять ее с собой? – спросил он.
– Ты с ума сошел? – парировал Костя. – В нашей лодке с трудом уместятся наши товарищи, а ты хочешь погрузить в нее и эту безумную старуху? Вперед, ребята!
Двое парней ухватились за весла. Лодка медленно развернулась. Словно в каком-то удивительном сновидении Николай ощутил, как проплывает в рыбацком челне сквозь стеклянный вход. Костя стоял у руля. На улице мелкий дождь стал хлестать пассажиров лодки по лицу.
– Как бы я хотел взглянуть, что стало с моим экипажем, – сказал Николай. – Это совсем рядом. Поверни налево…
У двери каретного сарая слуга, также собиравшийся уплыть на лодке, успокоил их: Серафим отвел лошадей с коляской в надежное место.
– А теперь куда мы отправимся? – спросил удовлетворенный Николай.
– Надо узнать, как дела у Васи Волкова, – ответил Костя. – Он живет на Офицерской улице. Плохое место, когда Нева выходит из берегов.
– Я как раз должен был прийти к нему на обед!
– Ну что же! Если не захочешь обедать, держа ноги в воде, пойдешь куда-нибудь еще!
– Какое бедствие! Ну как такой умный человек, как Петр Великий, мог построить город в том месте, где малейший паводок превращается в клоаку?
– Он думал, что его воля окажется сильнее стихий! – заметил Костя. – Ярчайший пример проявления самодержавного безумия!
Гребцы пыхтели, корпус лодки скрипел, крики отчаяния доносились из домов. Наклонив голову из-за ливня, Николай увидел дощатый плот и кучку людей, потерпевших крушение и окруживших корову. Позади плыл часовой в мундире, сидевший верхом на своей полосатой будке и орудовавший алебардой как веслом. В обратном направлении скользила военно-морская шлюпка, и шесть пар ее весел били по волнам с абсолютной синхронностью. Один офицер, стоя и вытянув руку, командовал экипажем. Дождь намочил его треуголку, края которой повисли до плеч. На перекрестке двух улиц встречные потоки слились в водоворот, в котором плясали бочки и поленья. Высунувшись из окна, какой-то парень багром вылавливал куски дерева. Из каретного сарая с разбитыми дверями в открытое водное пространство неслись коляски. Одни продвигались совершенно прямо, другие были перевернуты повозками вниз, колесами вверх. Кресты, вырвавшиеся из земли на кладбище, вращаясь вокруг собственной оси, проплывали мимо. На балконе одного особняка появилась пегая лошадь. Как она туда поднялась?
На Офицерской улице все дома наполовину оказались в воде. Люди целыми семьями спасались на крышах. Сторож, забравшись на трубу, размахивал на ветру белой тряпкой. Вася Волков жил в дощатом домике в глубине сада. Изгородь снесло. Лодка плыла меж ветвями, торчавшими из воды наподобие черных когтей. На краю окна, свесив ноги наружу, сидел человек. Николай узнал своего друга и вскрикнул от радости. Вася спрыгнул в челнок, чуть не опрокинув его. Несмотря на вдвойне усилившийся шквал ветра, приятели обнялись.
– Я ждал этой минуты четыре года! – сказал Николай. – Мое дружеское расположение к тебе ничуть не уменьшилось!
– А мое по отношению к тебе лишь окрепло! – парировал Вася. – О! Зачем так случилось, что мы встретились в разгар бедствия?
Опасаясь вспышки восторженных чувств, Костя прервал их:
– Не время разглагольствовать! Возьми самое ценное из твоих вещей. Мы увозим тебя.
– Куда?
– Ты поживешь у меня, – объяснил Николай.
На женственном лице Васи отразилось глубокое чувство. Его черные ресницы задрожали. Он прошептал:
– Спасибо, мой верный друг! Спасибо! Я уложил вещи на всякий случай…
Он залез назад в свою комнату, передал дорожную сумку через окно и спустился в лодку. Костя направлял гребцов, когда они плыли вдоль Крюкова канала. Время от времени он приказывал остановиться, чтобы узнать о ком-нибудь из членов союза, дому которого угрожало наводнение. Из общего числа приятелей, которых они обнаружили, только Юрий Алмазов и Степан Покровский, оба – холостяки, жившие в нижнем этаже, согласились присоединиться к спасителям. Лодка была так перегружена, что с трудом продвигалась вперед. Николай и Вася сели рядом с гребцами, чтобы помочь им работать веслами. Костя, стоя у руля, кричал:
– Раз, два! Раз, Два!
С галерной улицы лодку вынесло на Сенатскую площадь, превратившуюся теперь в бурное озеро. Потоки с неба и с реки смешивались здесь в мутные волны. Огромное здание Адмиралтейства маячило в тумане, будто лишенное основания. Его величественная стрела затерялась в небе. На глыбе, омываемый волнами, возвышалась конная статуя Петра Алексеевича. Удерживая своего коня, вздыбившегося на краю пропасти, великан вытянул руку, словно повелевая Неве вернуться в свое русло. Но Нева отказывалась подчиняться. Произойдет ли однажды то же самое с русским народом?
– Нами командует статуя! – пробормотал Степан Покровский.
Лодка обогнула монумент. Николай не мог оторвать от него взгляда. Издалека ему казалось, что Петр Великий скачет по волнам. Вдалеке, на крыше небольшого здания военной администрации, выстроился весь личный состав караула, приставивший оружие к ноге. Солдат заливало потоками дождя, но они не двигались с места. Их черные регулярно поднимавшиеся вверх кивера напоминали дымоходы. Как долго дожидались они смены? Шлюпка команды матросов, качаясь, подплыла к ним. Дежурный унтер-офицер хриплым голосом отдал приказ. Солдаты тут же предъявили оружие. Этот общий маневр, проделанный на крыше дома под проливным дождем пугалами в мокрых мундирах, с точки зрения Николая, отражал все величие и нелепость военной дисциплины, доведенной до крайности. Он не знал, стоит ли ему восхищаться или страшиться подобной способности к повиновению в русском народе? Революция вдруг показалась ему невозможной.
Костя пригласил всех к себе на обед. Он был спокоен, поскольку жил на втором этаже. Старик Платон взмахнул руками, когда в прихожую ввалились пятеро промокших и окоченевших мужчин, претерпевших бедствие. Он помог им сбросить накидки, снять обувь, принес халаты и теплые домашние туфли. За столом прибывшие почти не прикоснулись к еде. Объятые мыслями о наводнении, они не могли говорить ни о чем другом. По последним сведениям, подобного наплыва воды не было со времен основания города. На островах и в западном предместье были смыты целые ряды деревянных домов, жертвы исчислялись сотнями. Старик Платон вздыхал и шмыгал носом, обслуживая гостей.
– Ты разве не видел наводнения 1777 года? – спросил его Костя.
– Видел, барин. Помню его, будто это было вчера. А также наводнения в 1755-м, в 1762-м и 1764-м! Отец мой и дед заставили меня влезть на плот. Мы втроем чуть не утонули…
– Пять наводнений на протяжении одной человеческой жизни! – воскликнул Юрий Алмазов. – Это ужасно!
– Говорят, – вставил Платон, – сам батюшка-царь потрясен до глубины души. Он обещал помочь всем несчастным. Государь объезжает на лодке развалины…
– Его появление во всех местах – напрасный труд, – заметил Вася. – Бедняки все равно сочтут это бедствие Божьей карой.
– Вспомните пророчество! Великим наводнением было отмечено в 1777 году рождение Александра I, и более грозный потоп возвестит о его смерти!
– Неужели ты суеверен? – спросил Николай.
– Как же не быть суеверным, когда вся природа, кажется, восстает против того, кто нами правит? – произнес Степан Покровский. – Грехи царя обрушились на народ – вот что люди твердят друг другу в казармах и избах!
– Что им известно о грехах царя?
– По крайней мере, один из них понятен любому православному. Александр отказался поддержать братьев по вере в многострадальной Греции. Чтобы угодить французам, англичанам, австрийцам, он позволил туркам истреблять тех, кто молится в таких же церквях, как и мы, он предпочел палачей секты Магомета героям Ипсиланти, который поднял знамя восстания!
– Так, значит, – сказал Николай, – по-твоему, это ужасное наводнение в конечном счете послужит нашему делу?
Глаза Степана Покровского, скрытые очками, вспыхнули огнем. На его пухлом лице появилось восторженное выражение.
– Я в этом убежден, потому что верю в Бога! – заявил он. – В Библии есть слова, которые звучат в моей памяти: «Свет праведных приносит радость. Светильник злых погаснет». И вот обрушился ураган, он погасит все светильники Зимнего дворца!
Обед закончился в молчании. Затем пятеро друзей решили снова сесть в лодку и осмотреть город, чтобы помочь как можно большему числу людей. Так они и плавали несколько часов по предместьям, раздавая оказавшимся в изоляции жителям хлеб и пресную воду, перевозя целые семьи из одного дома в другой, переправляя раненых в пункты спасения, открытые при казармах. Они завершили все эти дела лишь на закате. Костя вернулся к себе со Степаном Покровским и Юрием Алмазовым, которых обещал приютить. Николай и Вася поплыли в лодке дальше.
С четырех часов пополудни подъем воды стал умереннее, но буря не утихала. Холодные порывы ветра и дождевые потоки мешали работе гребцов. Временами казалось, что брошенный на дно якорь удерживает лодку. Дома погружались в ночную мглу. Трупы лошадей, собак, кошек с раздутыми животами плыли по волнам. И всякий раз, когда их судно сталкивалось с чьими-то останками, Вася с отвращением вздрагивал. Гребцы зажгли факел и прикрепили его на носу лодки. Смоляное масло трещало, распространяя густой дым. Отблески пламени плясали по водной зыби. Другие светящиеся точки проползали по мертвой столице, Николай думал о своих друзьях, о революции, о пьянящей жертвенности… Неужели завтра снова наступит день?
Антип встретил вновь прибывших на верху лестницы с фонарем в руке. Лицо его покрывали черные морщины, как у театрального слуги. Молчание Антипа предвещало новую катастрофу. Войдя в большую гостиную, Николай обнаружил там настоящий цыганский табор. Жильцы нижнего этажа расположились здесь как попало со своими вещами. Драпировки, развешенные на веревках, выделяли пространство для каждой семьи. За этими навевающими со всех сторон шторками, как сияющие звездочки, горели сальные свечки. Запах промокшей одежды, сапог и плохого супа с порога перехватывал горло.
– Вы этого хотели, барин! – проворчал Антип.
Николай вышел с ощущением какого-то слегка вынужденного сочувствия ко всем этим людям, устроившим такой беспорядок в его квартире, взял Васю за руку и повел его в свою комнату. Посреди коридора они столкнулись с молоденькой женщиной, вышедшей из кухни с кувшином в руке. Она поздоровалась с молодыми людьми, кивнув им головой. По знаку Николая шедший сзади Антип поднял лампу. Молодая женщина оказалась блондинкой, с быстрыми карими глазами, вздернутым носом и родинкой на левой ноздре. При виде этой родинки забывались все обыкновенные черты ее лица. Женщина прошла дальше.
– Кто это? – спросил Николай.
– Тамара Казимировна Закрочинская, – ответил Антип. – Из полячек. Живет с сестрой и работает швеей в городе.
Он еще долго рассуждал бы о неудобствах, связанных с приемом в доме по причине наводнения людей всякого сорта, но Николай приказал ему принести угощение в свою комнату и устроить ложе для Васи в соседней комнате. Сидя за столом перед бутылкой вина, колбасой и страсбургским паштетом, двое друзей поначалу молча и жадно насыщались. Затем, наевшись и отогревшись, вновь обрели дар речи. И каждое воспоминание, всплывавшее в их памяти, увеличивало радость от совместной беседы. Николай случайно упомянул, что видел Дарью Филипповну. Вася не спрашивал, как поживает Мария. Он без сомнения знал, что она вышла замуж за Седова. Фитиль лампы обгорал. Урчала небольшая низенькая печка, расположенная напротив черного окна, в которое хлестал дождь. Плеск воды, ударяющей по стенам, не мешал разговору. К часу утра ветер стих.
7
С отъездом Николая Михаил Борисович обрел вторую молодость. Проснувшись, он преисполнился надежд, как будто наступающий день предвещал какое-то радостное событие. Он тщательно брился, четко следя за рисунком своих бакенбардов, и с удовольствием выбирал жилет и галстук. Принося ему маленький стаканчик росы, предписанной врачом, Василиса удивлялась, увидев его таким элегантным. Он выпивал глоток целебной жидкости, думал о девушках, поработавших для него в предрассветном тумане, и улыбался от удовольствия. Столько хождений по тропинкам, наклонов к траве, боли в коленях ради нескольких капель чистой водички! С его точки зрения, это было символом величайшей человеческой радости. Ни за что на свете он не отказался бы от такого лечения, в котором, однако, не было никакой необходимости. Его задача состояла в том, чтобы соблюдать правильное равновесие между внешними признаками болезни и действительным состоянием здоровья. Софи не поняла бы, как он мог выздороветь так быстро. Быть может, была бы даже разочарована. Ему приходилось изображать из себя достаточно нездорового человека, чтобы она чувствовала свою необходимость в качестве сиделки, и вместе с тем поддерживать хорошее настроение, иначе она заскучала бы в его обществе. До настоящего момента он довольно неплохо справлялся с этой двойной игрой. Николай уехал неделю назад, но молодая женщина, по-видимому, не испытывала пока ни грусти, ни усталости. Она лишь признавалась, что беспокоится, почему нет новостей от мужа, – не больше. Но с первым письмом, которое она получит из Санкт-Петербурга, эта тучка наверняка рассеется. Михаил Борисович желал, чтобы Софи лучше чувствовала себя в доме в отсутствие Николая. Для этого он старался придать непредсказуемый характер каждому мгновению их существования. Тайком листая книги по истории, запоминал любопытные детали и вставлял эти сведения в разговор. Особенно блестящим он выглядел во время застолья, когда заводил речь об эпохе Петра Великого или Екатерины II. Истории, которые рассказывал Михаил Борисович, казалось, приходили ему в голову случайно. Месье Лезюр заметил его маневр и лукаво прищуривал глаз. Но Софи была в восторге. Со своей стороны, она проявляла нежную заботу о нем. Когда Михаил Борисович надевал очки, Софи восклицала: «Господи, как они запылились! Вы, наверное, ничего в них не видите!» И он протягивал ей очки с якобы недовольным видом. В то время как она протирала стекла, подышав на них, он наслаждался, глядя, как она занимается принадлежащей ему вещью. После обеда Софи уговаривала свекра прилечь. Он возражал, испытывая необыкновенную радость оттого, что она отчитывает его. Иногда Софи провожала Михаила Борисовича до порога его спальни. В таком случае он отказывался от услуг Василисы и засыпал счастливый, не позволив почесать себе ступни.
После полудня Софи громко читала ему какой-нибудь французский роман. Он не слушал, а лишь смотрел на губы снохи. Она произносила слова так, что они складывались будто в поцелуе. Вечером наступало высшее наслаждение, связанное с шахматной партией. Всякий раз, когда Михаил Борисович отрывал взгляд от игры, его поражала красота этой молодой темноволосой женщины с тонкими чертами лица. Поворачивала ли она голову, увенчанную темной шапкой волос, протягивала ли руку, чтобы взять фигуру, или склонялась круглой грудью над столом, – все линии ее тела перемещались и перестраивались гармонично. Существовал чрезвычайно волнующий контраст между естественной изысказанностью ее манер и тем чувственным безумием, которое общали ее черные зрачки, янтарного цвета кожа, пухлый рот, ямочки на щеках и изгиб плеч. Когда партия заканчивалась, а фигуры были убраны, Михаил Борисович, утомленный, довольный, удалялся, дрожа от любовной муки.
Однажды ночью, не сумев заснуть – настолько сильно он был взволнован, – Михаил Борисович поднялся и вышел в коридор ради удовольствия пройти мимо комнаты Софи. Прижавшись ухом к двери, он как будто расслышал ровное дыхание. В мозгу промелькнули обнаженные видения. Он вдыхал аромат духов, просочившийся, как ему казалось, сквозь деревянные створки. В этом доме нет никого, кроме него и нее! Николай и Мария – далеко, а слуги в счет не идут. Даже месье Лезюр – не стоящий внимания свидетель! Если бы она захотела!.. При этой мысли наслаждение и стыд пронзили его. Грех завладел им с ног до подбородка. Софи отдавалась ему. С неистовой силой он тряхнул головой. Картинка раскололась на куски. Постояв так довольно долгое время, Михаил Борисович перекрестился, поплотнее запахнул свой халат и отправился к себе спать.
На следующий день за утренним завтраком Софи заметила, что он странно выглядит. И тут же забеспокоилась о его здоровье, но он поклялся ей, что чувствует себя не лучше и не хуже, чем накануне. Чтобы повернуть разговор на другую тему, Михаил Борисович сделал Софи комплимент по поводу ее туалета: шерстяное платье золотисто-зеленого цвета было украшено понизу бархатными листочками того же оттенка. Это был парижский фасон, который домашние крепостные швеи искусно воссоздали по рисункам Софи. Она надела это платье впервые. Радуясь тому, что понравилась свекру, молодая женщина обдумывала, насколько рискованным может быть ее кокетство. Хотя ничто не изменилось в их отношениях, у нее возникло ощущение, что свекор все настойчивее проявлял к ней нежность. Сегодня утром его манера смотреть на нее и говорить напоминала поведение супруга, ослепленного своим счастьем. Будто для того, чтобы отвести угрозу, Софи спросила:
– Вы посылали кого-нибудь на почту в Псков?
– Конечно, дорогая моя! – ответил Михаил Борисович. – Мне, как и вам, не терпится узнать, что происходит в Санкт-Петербурге! Федька уехал в пять часов утра. Скоро должен вернуться.
Он очень спокойно пил чай из большого стакана с серебряной подставкой. Его изможденное лицо, седые волосы, вены на руках успокоили Софи. Как могла она вообразить, что он любит ее иной, не отеческой любовью?
– Это будет уже девятый день! – продолжила она.
– Вы забываете, что он написал вам с почтовой станции!
– Действительно! Но с тех пор я ничего не получала! Согласитесь, что это странно!
– Должно быть, у него возникло множество дел по прибытии! – заметил месье Лезюр, лицо которого разделял пополам огромный бутерброд.
– Нотариус, друзья, – подхватил Михаил Борисович.
Дождь стучал в двойные рамы. Софи с удивлением обнаружила, что больше не чувствует себя несчастной. На свекре был серый жилет в серебристую крапинку, который она не припоминала.
– Вы ждете кого-то? – спросила она.
– Нет. А почему вы спрашиваете?
– Просто так.
Нос месье Лезюра сморщился, как у хитрой лисы. Михаил Борисович нахмурил брови. «Он оделся для меня, как это смешно!» – подумала Софи.
– Не хотите сыграть в шахматы? – обратился к ней Михаил Борисович.
– Нет, – ответила она, – у меня мигрень.
Он посмотрел на нее с таким отчаянием, будто она отказала ему в близости. Прошло несколько тягостных, наполненных невысказанными требованиями минут. Михаил Борисович зажег трубку. С некоторых пор он снова начал курить, в меньшей мере из пристрастия к табаку, в большей – из-за того, что ему хотелось взволновать сноху, считавшую эту привычку безрассудной. У крыльца со скрипом остановилась телега. Софи и Михаил Борисович вышли встречать Федьку.
– Ничего нет, барин! – сообщил мужик, хлопнув ладонью по пустой сумке.
Софи опустила голову и вернулась в столовую, где месье Лезюр поедал теперь мед ложкой. Она услышала за спиной шаги свекра, его тяжелое взволнованное дыхание. И вдруг ей захотелось доставить ему большое удовольствие.
– Что ж, если желаете, сыграем одну партию, – обернувшись, сказала она.
Лицо, которое она увидела, выражало радость, не соответствующую предложению. Софи показалось, что она открыла дверь, которую не сможет закрыть. В ее жизнь ворвался ураган. Михаил Борисович отложил трубку и потер руки:
– Прекрасно! Прекрасно!.. Давайте начнем немедленно!
«Он позволит мне выиграть!» – решила она. Однако Михаил Борисович сделал все, чтобы победить ее. Но когда произносил «Шах и мат!», взгляд его блуждал, выражая чуть не муку.
– Вы отлично играли! – сказала она.
– Нет! Я был зол! А вы рассеянны!
И в самом деле, в течение всей партии она думала о Николае. Глаза Михаила Борисовича печально упрекали ее в этом. Она попросила его о реванше. Он с благодарностью согласился. Софи играла теперь лучше. Борьба была еще не закончена, когда прозвенел час обеда. Они решили сделать передышку до вечера. После еды Михаил Борисович удалился в свою комнату отдохнуть. Пришла Василиса и предложила свои услуги. Он убрал голые ноги под одеяло. Старуха сложила руки и прошептала:
– Еще вчера вы не захотели, чтобы я почесала вас, барин! Неужели я плохо это делаю?
– Ты надоедаешь мне! – проворчал он. – Я просто не хочу этого, и все! Пошла вон!
– Я опозорилась на старости лет! – проворчала Василиса.
И ушла в слезах. Михаил Борисович погрузился в легкий сон, проспал до шести часов и проснулся, услышав звон колокольчиков какого-то экипажа. Поглядев в окно, он узнал коляску предводителя дворянства из Опочки, надоедливого Пешурова.
– Что опять нужно этому типу? – произнес Михаил Борисович, подавив зевоту.
Разозлившись, что его тревожат, когда он собрался продолжить шахматную партию с Софи, хозяин дома вышел навстречу гостю и, не предложив ему ничего выпить, провел в свой кабинет. Едва усевшись, Пешуров выгнул спину, вытянул шею и сказал:
– Правда ли то, что ваш сын уехал в Санкт-Петербург?
– Да, – удивившись, ответил Михаил Борисович. – А в чем дело?
– Получали ли вы известия от него?
– Еще нет.
– А знаете, что там происходит?
– Нет.
– Именно так я и предполагал! Правительство запретило публиковать эти сведения! Но в официальных кругах, где я вращаюсь, все уже известно. Сегодня утром начальник почтового ведомства сообщил мне дополнительные подробности. Я счел своим долгом предупредить вас по пути…
Пешуров хотел произвести впечатление, округлил глаза испуганной птицы и закончил:
– Столица полностью затоплена!
В груди Михаила Борисовича образовалась пустота. Боль нахлынула так внезапно, что он сначала испугался за себя и только потом подумал о сыне. Когда сердце вновь забилось нормально, он прошептал:
– Но это же не в первый раз…
– Другие наводнения были безобидны в сравнении с нынешним, – заметил Пешуров. – Говорят, что царь с семьей вынуждены были бежать из города, что каждый второй житель утонул, множество домов разрушено…
Михаилу Борисовичу была известна склонность Пешурова к трагедии, ведь он не мог рассказать о катастрофе, не добавив от себя чудовищных подробностей. Но, даже отдав дань этой страсти к преувеличениям, нельзя было исключать вероятность того, что наводнение обернулось многочисленными жертвами. В этой ситуации затянувшееся молчание Николая вызывало серьезнейшую тревогу. Пока Пешуров, увлеченный собственным рассказом, описывал затопление Зимнего дворца и Адмиралтейства, охваченную печалью русскую аристократию и стертый с лица земли Санкт-Петербург, Михаил Борисович, сдерживая остроту чувств, углубился в собственные размышления.
– Благодарю вас, что оповестили меня, любезный Алексей Никитич, – произнес он наконец. – Но если увидите мою сноху, не повторяйте ей то, что только что сообщили мне. Для этого еще будет время. Вы меня понимаете, не так ли?
– Понимаю и одобряю вас! – воскликнул Пешуров, пожимая ему руки.
Он немного задержался, вероятно, надеясь, что его угостят чаем или ликерами, но в конце концов поднялся, разочарованный, раздосадованный, с пересохшим горлом. Михаил Борисович проводил его до передней, опасаясь, что они столкнутся с Софи. Зная, как глуп Пешуров, он легко мог себе представить, как тот случайно проболтается и выдаст секрет. К счастью, молодая женщина осталась у себя, несмотря на рулады предводителя дворянства, который говорил по-французски, чтобы его не поняли слуги.
Когда он уехал, Михаил Борисович спешно вернулся в свой кабинет, будто его ожидало там важное дело. Закрыв дверь, он рухнул в кресло. Что произойдет, если Николай не вернется? Он представил сына погибшим в наводнении, горе Софи и себя, утешающего ее, оказывающего поддержку смертельно бледной в своем траурном платье снохе. Если он сумеет быть убедительным, она останется с ним в Каштановке. Николая здесь больше не будет, следовательно, сын уже не разлучит их. Весь свет окажется далеко, оставив их лицом к лицу. Она станет его женой, но никто не будет знать об этом. Он подарит ей такую любовь, какой она не познала с его сыном. И Михаил Борисович вдруг осознал, что желает смерти Николаю. Мистический страх охватил его, но он не отвергал своих грез. Достигнув такой стадии возбуждения, он уже не испытывал столь сильных угрызений совести, чтобы подавить свое желание. Он пойдет вперед с этим тяжким грузом на плечах. Послышались три робких удара в дверь. Он вздрогнул. Это была Софи, пришедшая, чтобы предложить ему сыграть в шахматы. Она улыбалась, была беззаботна, находясь за тысячу лье от драмы, героиней которой являлась.
– Пешуров приезжал повидать вас, батюшка?
– Да.
– Чего он хотел?
– Да так, ничего… визит вежливости.
Разговаривая со снохой, он наблюдал за ней с каким-то ликующим страхом, преступным наслаждением. На ней было светлое платье, а он представлял ее себе в черном. И именно за вдовой своего сына он шел по гостиной. Перед шахматной доской, затем позднее, за столом, он продолжал вести двойную жизнь. Михаил Борисович жестикулировал и произносил слова, которых ожидали от него, но какая-то, самая важная часть его существа потеряла связь с реальностью. Когда пришло время для сна, Софи проводила свекра до двери его комнаты. Он притворился усталым и оперся на руку снохи. Сквозь ткань ее платья Михаил Борисович чувствовал, совсем близко, ток молодой крови. В тот вечер он встал на колени перед иконой и молился дольше, чем обычно. Размашистые крестные знамения, которыми он осенял себя, не прогоняли наваждения. Он забрался в кровать, так и не облегчив совести. Ночью Михаил Борисович так напряженно думал о Софи, что ему не понадобилось бродить по коридору, чтобы вообразить то, чего он желал.
На следующий день погода прояснилась, и Софи воспользовалась этим, чтобы нанести визит своей золовке. Михаил Борисович после полудня томился от скуки. Напрасно месье Лезюр предлагал ему разыграть шахматную партию. Его ничто не интересовало. До самого вечера у него не было иного развлечения, помимо нападок на француза и созерцания его кислых мин. В час, когда зажигали лампы, коляска вернулась. Принимая Софи в кабинете, Михаил Борисович был поражен расстроенным выражением ее лица.
– Отец, – сказала она, – Мария только что сообщила мне ужасную вещь: в Санкт-Петербурге – наводнение!..
У него хватило достоинства, чтобы притвориться удивленным. Но мускулы лица не подчинялись ему. Восклицания звучали фальшиво. Однако Софи, охваченная глубокой тревогой, не замечала, что он разыгрывает комедию.
– О Господи! Это невероятно! – воскликнул Михаил Борисович. – Но от кого Мария узнала эту новость?
– От Владимира Карповича, – ответила Софи. – Он сам узнал об этом вчера во Пскове.
– Я опасаюсь провинциальных сплетен. Нужно подождать более подробных сведений, прежде чем волноваться!
– Нет, батюшка, – сказала Софи. – Я поеду.
Он запаниковал и пролепетал:
– Уедешь?.. Как уедешь?.. Зачем уезжать?.. Вы не должны!.. Это бессмысленно!..
– Вы забываете, что я не получаю писем от Николая с тех пор, как он уехал!
– И что такого! Вы получите письмо завтра или послезавтра… Кстати, наш дом расположен далеко от канала… Это должно бы успокоить вас… С Николаем ничего не случилось… Абсолютно ничего!
– Пока я не получу тому подтверждение, я не буду знать покоя.
Михаил Борисович опустил голову. Упорство снохи огорчало его. Как она дорожила своим мужем! Софи села в кресло у окна. Усталость отражалась на ее лице. Она плакала. Ее ресницы были еще влажны. Михаил Борисович не мог вынести, что Софи страдает из-за другого. Разве она не понимала, как была жестока? За несколько дней он обрел права на нее. При мысли о потере снохи он дрожал от ревности. Обнять ее, прижать крепко, осушить поцелуями следы слез с ее щек!
– Я поеду с вами, – вдруг сказал он.
– О нет! – воскликнула она.
– Я не могу допустить, чтобы вы одна носились по дорогам!
– Я ничем не рискую.
– О нет, Софи! – пробормотал он. – И потом, можете вы представить меня в этом доме без сына, без снохи?..
– Вы не в таком хорошем состоянии, чтобы вынести путешествие, отец.
– Полноте! Я чувствую себя значительно лучше!
Он представил себе, как едет с Софи в кибитке и касается ее при каждом толчке. А потом – остановки на постоялых дворах, трапезы вдвоем, сон в плохих постелях, разделенных тоненькой перегородкой! Четыре дня счастья!.. А в конце пути, если Бог того захочет, ужасная, великолепная новость о смерти Николая!
– Да, – продолжил он, – решено: если завтра вы не получите письмо, мы уедем оба!
Будто не слыша его, она пробормотала:
– Я вот о чем сейчас подумала: кое-кто может сообщить мне что-нибудь!
– Кто?
– Дарья Филипповна. Ее сын в Санкт-Петербурге. Может быть, он упоминал о Николае в своих последних письмах к ней? Я поеду повидать ее!
– И не думайте! После того, что произошло между нашими семьями…
– Судьба Николая слишком волнует меня, чтобы я остановилась из-за этих ничтожных ссор, – возразила Софи.
Она позвала слугу и приказала снова заложить коляску.
– Хорошо. Я велю слуге сопровождать вас, – вздохнул Михаил Борисович.
Смягчившись, Софи, протянув ему руки для поцелуя, сказала:
– Я не долго буду отсутствовать, обещаю вам. Наверное, вы считаете меня невыносимой. Но поймите мою тревогу. Я больше не живу…
– Как и я! – пробормотал он. – Как и я! Поезжайте, дитя мое! И да поможет вам Господь в пути!
* * *
Семейство Волковых собиралось садиться за стол, когда Семен, старший среди слуг, открыл дверь и дрожащим голосом объявил, что госпожа Озарёва желает переговорить с хозяйкой дома. Дарья Филипповна, у которой вдруг отказали ноги, не могла теперь подняться из кресла. «Кто ее предупредил? – задумалась она. – Слуга, сосед – недоброжелатель?» Дарья Филипповна догадывалась, что произойдет дальше: упреки, крики, оскорбления! Ее растерянный взгляд обратился на трех дочерей. Лучше умереть, чем быть опозоренной у них на глазах! Замолчавшие от неожиданности невинные создания как будто говорили: «Чего хочет от нас эта непрошеная гостья?» Но голос Семена уже затихал в присутствии посетительницы. Послышалось шуршание ткани. Божественная справедливость вошла в салон в образе Софи. По знаку матери Елена, Наталья и Евфросинья склонились в реверансе и послушно удалились. «Да свершится воля твоя, Господи! – подумала Дарья Филипповна. – Я согрешила в темноте, так покарай меня при свете!»
И мысленно она подставила горло под нож.
– Мадам, – сказала Софи, – прошу прощения, что побеспокоила вас в столь поздний час.
Столь учтивое приветствие удивило Дарью Филипповну, в которой ожила робкая надежда. Когда Софи изложила ей цель визита, последние опасения исчезли и Дарью Филипповну охватила неистовая радость. Еще немного, и она сочла бы жену Николая приятной женщиной.
– Увы! – ответила Софи хозяйка. – Я в таком же положении, как и вы. Мой сын не писал мне. И если бы Алексей Никитич Пешуров не заглянул ко мне вчера, я даже не знала бы, что Санкт-Петербург затопило!
– Как, это Пешуров?..
– Ну да! Разве он не нанес вам визит после того, как посетил меня? Он сказал мне, что собирается сделать это.
– Он приезжал, приезжал! – пробормотала Софи.
Она задумалась, почему свекор скрыл от нее, что узнал от Пешурова о катастрофе. Наверняка он не хотел волновать ее до тех пор, пока не получит достоверных известий. Такое объяснение было самым достойным. Она предпочла бы довольствоваться этим. Но вспомнила, какое наигранно удивленное лицо было у Михаила Борисовича, когда она рассказывала ему о том, что он уже знал, и ею овладело чувство неловкости. Подобное притворство, даже во имя милосердия, было недостойно с его стороны. Софи уже не различала правду и ложь. Отношения с этим человеком представлялись ей двусмысленными, теплыми и вместе с тем опасными. Молодая женщина дала себе слово, что скажет ему, насколько она рассержена тем, что он не предупредил ее тут же об опасности, угрожавшей Николаю. Затем передумала, осознав, сколь бесполезна такого рода дискуссия. Всем ее аргументам Михаил Борисович противопоставит благородный облик отца семейства, озабоченного покоем детей. В конце концов виноватой окажется она!
– Вася так невнимателен! – говорила Дарья Филипповна. – И живет он в самом незащищенном квартале! Со вчерашнего дня я живу в ужасной тревоге!..
Узнав, что Софи на следующий день собирается ехать в Санкт-Петербург, Дарья Филипповна в глубине души позавидовала ей. Если бы не дочери, она сама помчалась бы туда. Ведь на эту поездку она имела большее право, чем кто-либо другой: ее сыну и любовнику угрожало наводнение! Они так тесно переплелись в ее охваченном тревогой сознании, что раз десять она чуть не выдала себя, произнося имя Николая в тот момент, когда говорила о Васе. Ее смущение особенно усилилось, когда она заметила на круглом столике книгу, которую Николай дал ей перед отъездом: стихи Жуковского в зеленом сафьяновом переплете с золотым тиснением, изображающим гирлянду цветов. Это был томик из библиотеки Каштановки. Если Софи узнала бы его, у нее непременно возникли бы подозрения. В свете лампы предмет, злобно красуясь, выделялся на фоне окружающей обстановки. Обложка его сияла. Только это и было видно. До того момента, как Софи встала и откланялась, Дарья Филипповна испытывала смертельный страх.
* * *
Стоя посреди двора, Михаил Борисович орал на Василису, ощипывающую гуся:
– Когда ж ты наконец поймешь, дубина ты эдакая, что гусиные перья изогнуты особым образом и только левые крылья годятся для письма? Правые крылья не ложатся под палец. Потому не перепутай то, что ты вытаскиваешь с разных сторон!
Василиса, с почтением слушавшая хозяина, вдруг прервала его:
– Барин! Барин! Вы слышите?
– Что?
– Колокольчик! Это Федька вернулся с почты.
Покинув Василису и ее мертвого гуся, Михаил Борисович поспешил к дому. Но на каждом шагу увязал в грязи. У крыльца он увидел Федьку, уже распрягавшего лошадь.
– Было письмо из Санкт-Петербурга для барыни, – сообщил Федька.
– Ты отдал его ей?
– Да, барин.
– Что она сказала?
– Ничего. Она побледнела и ушла, чтобы прочитать его.
Сердце Михаила Борисовича сжалось, он поднялся по ступенькам, пересек прихожую, вошел в гостиную, никого там не обнаружил и, разъяренный тем, что зря поторопился, отправился в кабинет переживать свое нетерпение. Именно туда десятью минутами позже пришла Софи. Радость преобразила ее. Глаза блестели, рот улыбался, все ее тело с невероятной легкостью порхало среди тяжелой мебели, загромождавшей комнату. «Он жив!» – подумал Михаил Борисович. Почти в тот же момент Софи воскликнула:
– Не беспокойтесь, батюшка!
Вместо бешеной досады, которую ожидал, Михаил Борисович испытал слабое облегчение. Разумеется, существовал план, от которого ему придется отказаться: Софи и он, одни в большом доме в Каштановке… Но это его разочарование ничтожно по сравнению с адом, в который он мог погрузиться, если бы Бог покарал его смертью сына. Охваченный водоворотом мрачных и жестоких размышлений, он услышал, как сноха говорит:
– Я пришла прочесть вам письмо!
Михаил Борисович кивнул в знак благодарности. Хотя не испытывал никакого желания выслушивать написанное. Взлеты и падения, через которые он прошел за последние несколько дней, истощили его нервную сопротивляемость. Чувство нравственного избавления сменилось упадком духа. Служение добродетели было похоже на наказание. Несправедливо, что, постарев, мужчина не свободен выбирать объект любви, что Церковь, общество, семья преследуют его, мешая жить так, как он хочет, что молодых женщин привлекают глупцы одного с ними возраста всего лишь потому, что у них кожа без морщин и ясный взгляд, что удел тех, кто перевалил за шестьдесят, – пустое вожделение и ожидание небытия!
Сидя на подлокотнике кресла, Софи читала громким голосом:
– «Думаю, несмотря на цензуру, ты должна знать об ужасной катастрофе, постигшей столицу…»
Михаил Борисович заметил, что она начала читать с середины первой страницы: без сомнения, в начале письма были фразы слишком интимного, чтобы озвучивать их, характера.
– «Я не стану описывать тебе ужасные сцены, свидетелем которых я оказался, – продолжала она, – это слишком огорчило бы тебя. Сообщаю только, что река, из-за урагана обернувшая свое течение к верховью, затопила предместья, острова, весь город, унося экипажи и лошадей, ломая мосты. Калеки, больные, старики, на которых внезапно обрушилось наводнение, были унесены потоком так же, как малолетние дети. Только в гавани и на фабриках погибло более пятисот работников. Запасы продовольствия на зиму уничтожены, тысячи обездоленных без крыши над головой бродят по улицам, заваленным обломками. Слава Богу, наш дом не слишком пострадал. Вода, затопившая нижний этаж, в конце концов спала. Я на время приютил у себя несчастных жильцов, изгнанных Невой из их комнат. Среди наших друзей жертв нет…»
Софи перестала читать и сказала:
– Мне нужно сообщить об этом Дарье Филипповне!
Затем бодро продолжила чтение:
– «Разумеется, это чудовищное бедствие вызвало повсюду достойную восхищения самоотверженную реакцию. По примеру императора, пожертвовавшего миллион рублей пострадавшим, была открыта подписка в их пользу. Дворянское и купеческое сословия стремятся превзойти друг друга в щедрости. Создаются общества содействия пострадавшим. Со своей стороны, я внес двести рублей…»
– Это хорошо, не так ли, отец? – спросила Софи.
– Очень хорошо, – ответил он. – Продолжайте…
– «Увы! Будто по воле Господа, решившего, что это наказание недостаточно, после наводнения грянули вдруг морозы. Большинство домов за недостатком времени не высохли и покрылись ледяной коркой. Люди небогатые не могут купить дров для топки и живут при десяти градусах ниже нуля. Что касается меня, то я абсолютно здоров и преисполнен желания помочь моим бедным согражданам…»
– А что с продажей? – спросил Михаил Борисович.
– Я подхожу к этому, – сказала Софи. – «Из-за ужасных разрушений цены на основательно выстроенные дома будут расти. Муханов уверен, что мы сможем совершить сделку на очень выгодных условиях. Он говорит уже не о восьмидесяти тысячах рублей, а о ста тысячах. И, разумеется, советует мне набраться терпения. Впрочем, он еще не собрал необходимые бумаги. Боюсь, мне придется продлить мое пребывание здесь на три или четыре недели…»
Только на это и надеялся Михаил Борисович с того момента, как узнал, что Николай жив. Сжав губы, он постарался скрыть улыбку.
– Какая досада! – вздохнула Софи.
– Этого следовало ожидать, – подхватил Михаил Борисович. – Дела такого рода не решаются в несколько дней.
– «Если захотите, – прочла дальше Софи, – я предоставлю Муханову право вести переговоры вместо меня!..»
– Ни в коем случае! – воскликнул Михаил Борисович. – Он нас облапошит!
– «Но я полагаю, что это было бы неосторожно, – продолжила Софи. – Так будь же благоразумной, моя дорогая, как благоразумен я. Если бы ты знала, как я страдаю из-за нашей разлуки! Иногда в одиночестве проводя вечера, я проклинаю ту минуту, когда решил уехать. Затем уговариваю себя, вспоминая, что, уехав, я исполнил свой долг в отношении Марии, тебя, всех нас!.. Город выглядит зловеще. Я опять встречаюсь с прежними друзьями, которые заметно остепенились. И с грустью думаю о нашей милой Каштановке. Как поживает отец? Окрепло ли его здоровье? Может быть, ему нужно какое-нибудь лекарство, которое я мог бы привезти из Санкт-Петербурга?»
Михаил Борисович покачал головой. Такие знаки внимания были ему приятны, поскольку он очень хотел, чтобы его почитали.
– «А ты, моя драгоценная, как ты проводишь время? Я пытаюсь представить себе, как ты сидишь в своей комнате…»
Софи смутилась, сложила письмо и сунула его за корсаж. Свекор бросил на нее удивленный взгляд.
– Это все? – спросил он.
– Да.
Она противостояла ему с таким очаровательным вызовом, что он почувствовал, как все жилы его охватило огнем. А на лице появилась испарина. Взяв молодую женщину за руку, он, запинаясь, произнес:
– Вы ведь понимаете, что напрасно встревожились!
– Да, батюшка, – ответила она.
– Полагаю, что теперь вы не собираетесь уезжать, оставив меня одного!
– О нет!..
– Вы счастливы?
– Очень счастлива! Пойду поскорее напишу ответ Николаю!
Он ударил бы ее! Она улыбалась. Свекор отпустил руки снохи. Комната наполнилась жужжанием пчел. Михаил Борисович ощутил сильнейший толчок в груди. Он оперся о спинку кресла.
– Мне нехорошо! – прошептал он.
Сноха помогла ему присесть, и боль тут же исчезла. Он задыхался, разглядывая нежное личико, склонившееся над ним в сгустившемся тумане, и уже не понимал, действительно ли так ослабел или притворился, что теряет сознание, дабы разжалобить Софи.
8
Наконец, река замерзла по всей ширине. Воспоминания о потопе покрылись белым панцирем, соединившим гранитные набережные Невы. Там, где еще недавно разъяренный поток перекатывал обломки домов и трупы животных, теперь катались на коньках дети, продавцы горячих напитков пританцовывали, чтобы согреться, упряжки важных особ мчались куда-то и олени с высокими рогами тащили груды прозрачного льда. Раны домов были затянуты снежным покровом. Золотая игла Адмиралтейства вновь засияла на зимнем солнце. Фронтоны дворцов, как прежде, возвышались над припудренными снегом колоннами. На улицах тихое скольжение саней пришло на смену грохоту колесных экипажей. Город будто заснул, окоченел в обманчивой безмятежности. Жильцы нижнего этажа покинули гостиную Николая и снова поселились в своих комнатах с оторванной деревянной обшивкой и покрытым грязью полом. Вероятно, тесноте они предпочитали убожество и холод жилья. Даже Вася вскоре перебрался в свой домик на Офицерской улице.
Пережив опыт совместного существования с другими людьми, Николай был счастлив, оказавшись снова наедине с Антипом. Он завел знакомство с хорошенькой полячкой Тамарой и намеревался обольстить ее, чтобы скоротать время. Под предлогом ремонтных работ он уже трижды нанес ей визит в ту единственную комнату, где она жила с сестрой. Во время двух первых посещений хромая и угрюмая сестра присутствовала при их встрече. В третий раз Тамара принимала его одна, и, рассказывая девушке о серьезной проблеме проникновения воды в стены, он взял ее за руку. Она с испугом посмотрела на него, но не осмелилась высвободиться: он был владельцем дома, богатым, респектабельным человеком, который мог выбросить ее за дверь или в качестве наказания удвоить плату за проживание! А может быть, он все же понравился ей? На следующий день Николай написал ей записку и предложил как-нибудь вечером, когда ей будет угодно, отужинать с ним. Швея, думал он, не посмеет отказаться от столь лестного приглашения! Однако шли дни, Тамара не отвечала, а Николай терял терпение. В конце концов он настолько потерял к ней интерес, что даже не искал новой встречи.
К тому же у него было слишком много дел, и он не скучал. Вставая поздно, он долгое время занимался своим туалетом, закусывал слегка и усаживался за письмо к Софи. Вдали от нее он лучше осознал, какое место занимала жена в его существовании. Николай вспоминал ее красивое лицо, им овладевала нежность, и перо начинало скользить по бумаге. Доведись ему говорить с ней живым голосом, он выразил бы свои чувства с такой же непринужденностью. И, напротив, он не испытывал желания отвечать Дарье Филипповне, засыпавшей его страстными посланиями. Чем настойчивее упрекала она его за молчание, тем упорнее он замыкался в себе. Около одиннадцати часов Николай надевал подбитое мехом пальто, водружал на голову широкополую шляпу, брал в руки трость с серебряным набалдашником и выходил на улицу, задрав нос, при этом сердце его стучало от удовольствия. Каждый или почти каждый день он заглядывал к нотариусу, беседовал с очередным покупателем, катался в санях по замерзшей Неве, обедал с Костей, Васей, Юрием Алмазовым, Степаном Покровским, принимал участие в обсуждении политических новостей и заканчивал вечер в Кабаре Руж, среди офицеров и веселых девиц.
Юрий Алмазов влюбился в молоденькую, но трудно доступную балерину. Он так много рассказывал о ней своим друзьям, что Николай захотел познакомиться с нею. Однажды в воскресенье, в семь часов, они всей компанией отправились в театр, недавно построенный на площади за Поцелуевым мостом.
Амфитеатр и ложи трех ярусов были битком забиты зрителями в мундирах и вечерних платьях. Эполеты, аксельбанты, диадемы и россыпи бриллиантов сияли тысячью отражений в свете огромной хрустальной люстры. Редкие фраки придавали строгий оттенок этому мерцанию ярких цветов. Сценический занавес с изображением греческого храма мягко колыхался, освещенный рядом масляных ламп. Шум разговоров напоминал рокот моря. Сидя между Юрием Алмазовым и Костей, Николай бросал взгляды во все стороны, приветствовал знакомых, заглядывался на красивых женщин с обнаженными плечами и тихим голосом справлялся об их именах. Позади него две важные персоны в мундирах рассказывали о том, какое беспокойство причиняют им их имения.
– Мой управляющий – негодяй, но у меня нет времени следить за ним, – говорил один из них. – Я написал ему, чтобы он вырубил деревьев на десять тысяч рублей, а он повалил в два раза больше и присвоил дополнительную выручку. Урожаи настолько плохи, что не приносят мне ни копейки. Если же я возмущаюсь, то мне говорят, что моя земля неплодородна, потому что слишком камениста и совсем истощена. То же самое с сеном: по расчетам, которые я получаю, за четыре месяца скот поглотил двадцать тысяч пудов!
– Двадцать тысяч пудов за четыре месяца! – воскликнул другой. – Но этого хватило бы на прокорм лошадей кавалерийского полка в течение года!
– Возможно! Я просто не понимаю! Меня обирают, а я терплю! Видно, так Богу угодно!
– Нужно что-то делать, Иван Аркадьевич. Пригрозите им розгами, и все наладится. Но, в сущности, сколько у вас душ?
Николай наклонился к Косте и вздохнул:
– Удивительная страна – Россия! Люди здесь не спрашивают друг у друга: «У вас есть душа?» А говорят: «Сколько у вас душ?» Все зло происходит из-за подобного смешения множественного и единственного числа!
Они прыснули со смеху и были счастливы, что так хорошо понимают друг друга. Рядом с ними, с левой стороны, молоденький кавалергард в белом мундире возбужденно рассказывал своему соседу о последнем смотре в манеже:
– Поначалу мы шли шагом, затем рысью, потом галопом. Я ехал на Арлекине. Просто блеск! А ты знаешь, что нам скоро выдадут новые кивера, пониже прежних? Мы будем похожи на римских воинов!..
При этих словах он вскочил и встал по стойке «смирно». Между креслами прошел генерал. Старый и лысый, он шагал, выпятив плечо вперед и небрежно отвечая на приветствия. Николай услышал шепот двух молодых женщин:
– В его-то возрасте! Не может быть!
– Может! И эта связь длится уже давно! Говорят, Великий князь Николай потребовал, чтобы он порвал с нею! Иначе отправит его на Кавказ!
Военные едва успели сесть, как все присутствующие снова встали: генерал Милорадович, граф и губернатор Санкт-Петербурга, появился в своей ложе. Герой Отечественной войны, он гордо носил прозвище «русский богатырь». Его репутация любовника была столь же внушительна, как репутация воина. Ходили слухи, что он содержит настоящий гарем. На его широкой груди красовалась голубая лента, увешанная орденами. А его эполеты весили не меньше фунта каждая. Кончиками пальцев генерал придерживал блестящий золотой бинокль. Слегка изогнувшись, он ответил на молчаливое приветствие публики и занял свое место в кресле. И вновь зазвучали разговоры между верхом и низом. Глядя на этот элегантный зал, трудно было поверить, что несколькими днями раньше чудовищное наводнение разрушало город. После того как похоронили погибших, очистили улицы, жажда жизни побуждала зажиточных людей забыть о несчастье других.
Первые аккорды оркестра заглушили говор, пробегавший от партера к галерке. На афише значился балет «Ацис и Галатея». Занавес вдруг взлетел. На сцену, украшенную зелеными растениями, выпорхнули необычайно воздушные женские фигурки. Ужасный киклоп Полифем, обезумев от ревности, кружился и скакал вокруг нимфы и влюбленного пастуха. Телешова в роли Галатеи, Новицкая в роли Ациса соперничали в изяществе исполнения. У каждой были свои поклонники, аплодировавшие им после труднейших па. Юрий Алмазов, однако, не видел никого, кроме маленькой танцовщицы из кордебалета, которая время от времени делала пируэт или легонький батман на втором плане.
– Она божественна, не так ли? – бормотал он.
То была его возлюбленная Катя, карьере которой покровительствовал богатый торговец лесом. В конце первого акта публика разразилась овацией, сцену засыпали цветами. По трогательной супружеской привычке Николай взгрустнул, что Софи не было рядом с ним и она не могла насладиться спектаклем. Юрий Алмазов, пылая восторгом, бросился за кулисы. Шпоры его звенели. Николай и Костя пошли за ним. Они попали в толпу рабочих сцены, передвигавших декорации. Масляные лампы плохо освещали нагромождение вертикальных полотен, тросов, лебедок и блоков. Прижавшись к стойке, малышка Катя пыталась отдышаться. Неказистая каштановая шаль прикрывала ее костюм из розового тюля. Бумажные цветы свисали с ее волос. У танцовщицы был остренький носик, и легкий запах пота исходил от нее.
– Божественно! Божественно! – повторял Юрий Алмазов, целуя девушке руки. – Позволь представить тебе моих друзей, они тоже твои поклонники…
Он не успел больше ничего сказать; с криком появился балетмейстер Дидло:
– Танцовщицы, по своим гримуборным! Зрители – в зал! Не время для болтовни! Потрудитесь удалиться, господин офицер!
Катя убежала. Юрий Алмазов хотел последовать за ней, но Николай удержал его. Странный кортеж пересекал сцену: пять билетеров шли, неся огромные корзины роз. За ними шагал граф Милорадович. Вся эта группа устремилась в коридор и остановилась перед дверью Телешовой. В то время как губернатор Санкт-Петербурга стучал в дверь, Дидло повторял не имеющим отношения к труппе людям распоряжение о необходимости немедленно покинуть кулисы.
– Исчезните, смертные! – возгласил Николай. – Великан Полифем собирается поухаживать за своей избранницей!
Некоторые из посетителей услышали его. Раздались приглушенные смешки. Трое крепких танцовщиков, в костюмах тритонов и в зеленых париках, перебросившие рыбьи хвосты через руку, взялись вежливо оттеснять непрошеных визитеров к выходу.
После спектакля Юрий Алмазов не смог присоединиться к Кате, которая была приглашена на ужин своим богатым покровителем, и в отчаянии предложил двум своим друзьям закончить вечер у цыган. Николай вернулся домой к полуночи, не выпив ничего, кроме шампанского. Он был абсолютно трезв, хотя в голове его упорно звучали песни.
Антип, дожидаясь хозяина, дремал в кресле у зажженной лампы.
– Вам, барин, недавно принесли письмо, – произнес он, вставая и еле ворочая языком.
– Кто принес?
– Да полячка. А вы только что ушли…
Николай схватил конверт, распечатал его и прочитал следующие строки, написанные аккуратным почерком:
«Уважаемый Николай Михайлович,
Моя сестра сегодня утром уехала в Тулу, где наша больная тетя нуждается в уходе. Оставшись одна, я подумала, что мы могли бы поужинать вместе, как вы любезно предлагали мне прежде. Если сегодняшний вечер вас устроит, это было бы приятно. Если нет, значит – в другой раз, когда захотите. Примите, уважаемый Николай Михайлович, мое нижайшее почтение».
На губах Николая заиграла улыбка. Тамара незаметно исчезла из его памяти, теперь же неожиданно вернулась. Он вдруг порадовался легкому роману, который ему предстоял. Эта полячка была именно тем существом, в котором он нуждался в данный момент: скромная, тихая, в сто раз красивее Кати Юрия Алмазова! Жаль, что уже слишком поздно приглашать девушку на ужин. Но, может быть, она еще не спит? Он взял лампу из рук Антипа, спустился по лестнице, прошел по коридору первого этажа и тихонько постучал в дверь. С другой ее стороны послышалось легкое шуршание, шлепанье обнаженных ног по полу. Мягкий голос прошептал:
– Кто здесь?
– Это я, Николай Михайлович Озарёв! – ответил Николай. – Я только что прочитал вашу записку. Мне совершенно необходимо поговорить с вами. Откройте мне.
– Не могу.
– Почему?
– Я уже легла.
– Это неважно. Накиньте что-нибудь…
– А мы не можем подождать до завтра?
– Завтра будет слишком поздно!
– Слишком поздно для чего?
– Я не могу объяснять это вот так. Мне во что бы ни стало надо вас увидеть. Каждая потерянная минута усугубляет ситуацию. Скорее! Скорее!
Он услышал, как она открывает шкаф. «Лишь бы не слишком тщательно оделась», – подумал Николай. Наконец, Тамара приоткрыла дверь. Ее темные волосы рассыпались по плечам. Девушка надела пеньюар из грубой желтой ткани. Под ним, должно быть, не было ничего, кроме ночной рубашки.
– Что случилось? – прошептала Тамара, глаза ее расширились от тревоги.
– Случилось так, что я вас люблю! – воскликнул Николай, втолкнув ее в комнату.
И закрыл за собой дверь.
Все произошло так, как он и предполагал. Тамара, преисполненная уважения к столь важному господину, позволила уложить себя и ласкать со смирением, не лишенным любопытства. Но перед тем как уступить окончательно, застонала: она была девственной. Поняв это, он возгордился и вместе с тем был смущен. А потом она уже не сопротивлялась. Поскольку в ее комнате было слишком холодно, чтобы предаваться любви, получая при этом хоть какое-то удовольствие, Николай увел ее в свою квартиру. Увидев, что его хозяин вернулся с полячкой, Антип открыл свой дурацкий рот. Этот молчаливый упрек рассердил Николая, ведь он предпочел бы не иметь свидетеля. Он велел подать шампанское и фрукты в комнату, испепелил слугу взглядом повелителя и захлопнул дверь.
Тепло от печи, винные пары, нега поцелуев окончательно убедили Тамару. Бесконечно признательная Николаю, девушка повторяла, что он слишком красив и слишком образован для нее, что она его не стоит и, что бы ни случилось в дальнейшем, будет молиться за него, потому что он одарил ее до конца дней. Сознание того, что он человек исключительный, хотя бы с точки зрения швеи, придавало Николаю сил до пяти часов утра. Но еще до того, как встал привратник, он отвел совсем ослабевшую Тамару в ее комнату.
– Как только я смогу снова встретиться с тобой, я приду и постучу в твою дверь, – сказал Николай. – А до тех пор будь умницей.
– О да! – ответила она. – Я буду слушаться. Буду ждать…
Тамара казалась ему совершенством, и он отправился спать, довольный тем, что так ловко провел игру.
На следующий день, перед тем как встать с постели, он позвал Антипа, почесал затылок и пробурчал безразличным тоном:
– Я рассчитываю на твое молчание о том, что произошло вчерашней ночью. Если кому-нибудь расскажешь, будешь иметь дело со мной. Я кожу спущу у тебя со спины!
– Ваше желание – превыше всего, барин, – вздохнул Антип.
У него был угрюмый вид, он будто замкнулся в себе. Очевидно, несмотря на угрозы, Антип имел собственное мнение. Николай не мог вынести, что какой-то мужик порицал его, хотя и молча, в измене жене. И вдруг он почувствовал, что согласен с двумя помещиками, жаловавшимися на своих крепостных в театре.
Весь день Антип дулся на своего хозяина. То он старался не смотреть на Николая, то бросал на него колкий взгляд, качал головой и бурчал:
– Ой-ой-ой! Прости нам, Господи, наши сегодняшние грехи и не забудь о наших добрых вчерашних и завтрашних делах!
Или же:
– Вода в реке выглядит чистой, но войди в нее, и твои ноги увязнут в тине!
– Что ты хочешь сказать? – рассердившись, спрашивал Николай.
– Ничего! Ничего! Я просто мечтал вслух.
Вечером Николай снова привел Тамару в свою комнату. Закрывая за ними дверь, Антип сплюнул через плечо.
* * *
Затем в течение нескольких дней Николай был очень занят делами и политикой. Муханов наконец опубликовал в газетах сообщение о том, что дом Озарёва продается. Из множества заинтересованных лиц, заявивших о себе, только один граф Держинский казался надежным. Однако он критиковал качество строения с резкостью, недостойной человека с таким состоянием. Пока он предлагал лишь семьдесят пять тысяч рублей ассигнациями, хотя назначенная цена составляла сто тысяч. Торг, видимо, предстоял долгий и трудный, но Николай не спешил заключать сделку. Более чем когда-либо он ощущал, что его место в Санкт-Петербурге, среди реформаторов. Тайные собрания проводились все чаще у Кости, у Степана Покровского и особенно у Кондрата Рылеева. Отвергнув предложения Южного общества, члены Северного пытались выработать согласованную программу в собственной группе. Однако от дискуссии к дискуссии расхождения во мнениях усиливались. «Умеренные», сторонники Никиты Муравьева, отдавали предпочтение конституционной монархии, тогда как «решительные», поддерживавшие Рылеева, выступали за республику. Будто для того, чтобы усилить это замешательство, полковник Пестель недавно объявил о своей скорой поездке в Санкт-Петербург. Те, кто встречался с ним во время его последнего посещения столицы в мая 1824 года, говорили о нем, как о человеке необычайно здравомыслящем, влиятельном и расчетливом, без колебаний отстаивавшем идею цареубийства. Николаю было интересно встретиться с ним, но он боялся, что, будучи новичком в этом обществе, не может принимать участия в столь важном заседании. Тем сильнее была его радость, когда Костя передал ему приглашение Рылеева на следующее воскресенье, к семи часам вечера.
Здание Российско-Американской компании было расположено на берегу Мойки, неподалеку от Голубого моста. Окна, выходившие на улицы, были загорожены решетками. У входа Николай повстречался с Костей и Васей, которые пришли вместе. Передняя была завалена горой гражданских и военных одежд. Кивера и цилиндры выстроились в ряд на полке. В углу поблескивала прославленная сталь шашек, приставленных к стене. Обезумевший казачок Рылеева Филька даже не спросил имен у посетителей. Они вошли без доклада.
Николай, помнивший это жилище с маленькими и чистенькими комнатами, шторами белого муслина, канарейкой в клетке, горшочками с бальзамином на подоконниках и яркими холщовыми дорожками на полу, поначалу не узнал помещения. Двери между гостиной, кабинетом и столовой были сняты с петель. Вся ненужная мебель исчезла, уступив место большому столу, покрытому зеленой скатертью. Два десятка разрозненных столов упирались в стену. По меньшей мере половина членов общества, по-видимому, вынуждена будет стоять. Уже собралось так много народу, что пришлось открыть форточку, дабы избавиться от запаха табака. Пестель еще не приехал. Лица присутствующих были серьезны. Николай поздоровался с Рылеевым, который показался ему празднично одетым и нервным. Чтобы скрыть нетерпение, он заговорил с двумя молодыми людьми о пьесе Грибоедова «Горе от ума», которую находил великолепной, правда, царская цензура не позволяла публиковать ее. Заметив Николая, Рылеев воскликнул:
– Кстати, дорогой мой, известно ли вам, что наш замечательный поэт Пушкин, побывавший в ссылке на Юге, отослан на вынужденное проживание в имение своих родителей, что в Псковской губернии?
– Действительно, я слышал об этом.
– Значит, он ваш сосед.
– Очень дальний сосед.
– Тем не менее вы должны нанести ему визит. Он умирает от скуки в одиночестве!
– Как я его понимаю! – вздохнул Николай. – Если бы мог, я никогда не вернулся бы в провинцию!
И он с большим интересом продолжал наблюдать за происходящим вокруг. У окна Никита Муравьев – в парадной форме, бледное лицо, пожелтевшие глаза, мягкие белокурые волосы – доставал из кармана маленькие бумажки, прочитывал их, прятал опять, словно повторял урок. Убежденный монархист, автор конституции Северного общества, он должен был до тонкостей продумать свои доводы, противоречащие взглядам главы заговорщиков из Южного общества. Чтобы не мешать его размышлениям, Николай присоединился к группе, в которой громче всех звучал раскатистый голос Бестужева. Здесь обсуждали противоречия, влиявшие на характер Пестеля. Его отец, бывший генерал-губернатор Сибири, глупый, жестокий, самовлюбленный человек, к тому же взяточник, был разжалован и предан суду. Можно было подумать, что ради того, чтобы избавиться от воспоминания об этом провинциальном деспоте, нынешний руководитель Южного общества и избрал путь революции. Но у него было на кого равняться, и, проповедуя свободу, он оставался непримиримым полковником, приказывавшим наказывать солдат шпицрутенами за малейшие провинности по службе.
– Его полк состоит из автоматов! – сказал Бестужев. – Наш повелитель, а он знаток в таких делах, кажется, похвалил Пестеля, отметив высокую дисциплину его подразделений после смотра в Тульчине!
– Если бы царь знал, что обращается к заговорщику! – заметил Николай.
– Он наверняка узнал об этом потом!
– Это невозможно!
– Но это так, Николай Михайлович. Представьте себе, что император от своих агентов знает о наших тайных собраниях. Но имена подозреваемых успокаивают его. Почти все они офицеры, высокопоставленные чиновники или дворяне самого высокого происхождения. «От таких людей, – думает он, – не приходится ждать ничего плохого! Они не станут поднимать народ ради удовольствия потерять свои привилегии в этой авантюре!» Насколько Александр ощущает угрозу, когда слышит о солдатах, восставших против офицеров, настолько же бывает снисходителен к военным чинам, мечтающим о лучшем будущем для человечества!
– Ты тешишь себя иллюзиями, – сказал Рылеев, подходя к Бестужеву. – Александр – друг идеалистов всякого рода, это годилось в то время, когда он одобрял создание Библейского общества. Теперь эта ассоциация, в которую приходилось вступать, чтобы добиться быстрого продвижения по службе, распущена по указу ее бывшего покровителя. Все, что при ближайшем рассмотрении или издалека напоминает тайную организацию, вызывает его подозрения. Даже комитеты помощи пострадавшим от наводнения беспокоят его и вызывают неудовольствие. Стоит двоим людям поговорить между собой тихим голосом, это уже заговор, стоит солдату кашлянуть на параде, – это начало бунта, стоит прокричать «Ура» при проезде императора, это уже способ его освистать! Все эти воображаемые угрозы скрывают от него единственную подлинную опасность! Он не воспринимает нас такими, каковы мы есть на самом деле, потому что слишком доверяет своему воображению!
– Вернемся же к Пестелю, – вмешался другой заговорщик, – когда я впервые встретился с ним, то тут же подумал о Наполеоне.
– А я о Робеспьере, – вставил Бестужев.
– Какая ужасная мешанина! – заметил Николай, пытаясь рассмеяться. – Это обещает нам бурную дискуссию.
Прибыли другие гости, среди которых он узнал заговорщиков Кюхельбекера, Одоевского, Батенкова… Шум голосов становился оглушительным. На стене рабочего кабинета, выше голов, красовалась карта Америки. Русские поселения на Алеутских островах и берегах Тихого океана были отмечены маленькими красными флажками. Казалось невероятным, что подданные царя добрались до Калифорнии. Однако правительство Вашингтона уже протестовало против такой попытки колонизации и было вполне вероятно, что в Санкт-Петербурге министр Мордвинов согласится на компромисс, предполагающий разделение границ различных владений и провозглашающий свободу торговли. Николай размечтался. Он думал о своих соотечественниках, затерянных в этом диком краю. Конечно, возможность цивилизовать девственную землю опьяняла! Но и заговорщики тоже были первопроходцами! «Впервые в жизни, – задумался Николай, – я ощущаю, что испытывают люди в начале великого деяния». Волнение окружающих прервало ход его мыслей. Раздался шепот:
– Он идет!.. Подвиньтесь!.. Господа, прошу вас!..
Встав на цыпочки, Николай увидел, как вошел человек невысокого роста, в зеленом мундире пехотинца, с высоким красным воротником и эполетами старшего офицера. На его отекшем, бледном лице выделялись черные глаза, глубоко сидящие под изгибом бровей, взгляд был застывшим и властным. Его пухлые губы сжимались в презрительной улыбке. Редкие волосы были зачесаны вперед, на виски, по военной моде. Николай обратил внимание на награды пришедшего: орден Святой Анны, орден «За заслуги» и золотая шпага с надписью «За храбрость». Все отличительные признаки героя Отечественной войны! Что касается сходства с Наполеоном, то оно скорее было моральным, нежели физическим. Пестель пожал несколько рук, но отказался представляться всем.
– Вас слишком много, – сказал он, – знакомству не было бы конца!
Хозяин дома подвел его к столу заседаний. Тяжелая масляная лампа свисала с потолка. Самые важные персоны расселись вокруг зеленой скатерти, будто для начала карточной партии. Другие, в их числе Николай, остались стоять, прижавшись к стене. Никита Муравьев объявил, что заседание открыто, и предоставил слово руководителю Южного общества, полковнику Павлу Ивановичу Пестелю.
– Я снова приехал к вам, – сказал Пестель, – потому что мне представляется все более и более пагубным то обстоятельство, что наши два Союза, вдохновленные одним и тем же идеалом, не объединяют усилий, чтобы добиться его торжества. Со времени моего последнего приезда вы, должно быть, окончательно поняли, что разложение режима усугубляется. В тяжелых случаях врач уже не лечит, он ампутирует. Время полумер прошло. Мы не можем себе позволить с помощью конституции подправлять монархию. Нам нужна республика…
– Многие из нас думают, как и вы, – сказал Рылеев. – Но мы хотели бы знать, какими средствами вы надеетесь достичь результата?
– По приказу командиров армия восстанет и заставит царя отречься.
– Прекрасно, – отметил Бестужев. – Ну а потом?
– Потом мы вынудим Синод и Сенат издать указ о назначении временного правительства.
– А как вы поступите с царем? – спросил Никита Муравьев очень любезным тоном, будто интересовался делами какого-то близкого родственника гостя.
Глаза Пестеля под облысевшим лбом цвета слоновой кости засверкали. И он ответил резким тоном:
– Когда метут лестницу, то начинают сверху!
– Уточните вашу мысль.
– Я вам это уже сказал: с моей точки зрения, недостаточно удалить царя. Даже в ссылке он был бы опасен из-за сторонников, которые остались бы у него в стране. Надо очистить место. Только при мертвых царях создаются живые республики!
Все ожидали такого заявления. Однако оно поразило присутствующих как кощунственный крик в церкви. Лица окаменели в зеленоватых отсветах стола. Наступило продолжительное молчание. Николай, считавший себя революционером, почувствовал, что становится монархистом. Он с ужасом смотрел на того, кто осмелился говорить об убийстве своего государя. Несомненно, Пестель был существом иной породы по сравнению с заговорщиками Северного общества, политическая деятельность которых была окрашена поэзией, философией, человеколюбивыми грезами. Они были мечтателями, а он – человеком действия. Никита Муравьев вздохнул и сказал:
– Мои нравственные и религиозные убеждения не позволяют мне принять подобное предложение, Павел Иванович. Кстати, я убежден, что народ с ужасом восстанет против цареубийств. Не забудьте, что, с точки зрения нас, русских царей благословляет и вдохновляет сам Господь Бог!
Пестель, немец по происхождению, понял злой намек и парировал:
– Персидский шах тоже называет себя сыном Солнца и братом Луны. Поэтому вы относитесь с большим почтением к этому человеку?
– Не надо сравнивать…
– Но почему? Один самодержец стоит другого. Меняется только размер территории и форма короны. Я же утверждаю, что, видя, как легко убить царя, самые простые люди поймут, что его всемогущество покоится на огромной лжи!
– А члены императорской фамилии, какова будет их участь? – спросил Рылеев.
– Логически, мы должны были бы уничтожить также великих князей и великих княгинь, – ответил Пестель. – Пока у гидры остается хоть одна голова, она может укусить!
Он говорил так спокойно, будто доказывал теорему. Однако вокруг него распространялся смертельный холод.
– Вы призываете нас к бойне! – пробормотал кто-то.
– К чистке, – уточнил Пестель. – Чтобы обеспечить союз Южного общества с вашим, я готов на некоторые уступки в этом вопросе: так, например, я допускаю, что можно сохранить жизнь великим князьям и великим княгиням при условии, что они будут сосланы. Для осуществления этой операции я могу рассчитывать на содействие Кронштадтского флота.
– Это большая уступка с вашей стороны, – заметил Никита Муравьев, криво усмехнувшись.
– Да, – подтвердил Пестель. – Вам этого недостаточно?
Никита Муравьев отрицательно покачал головой.
– Хорошо! – продолжил Пестель. – Я предлагаю вам кое-что еще: убийство царя совершат мои люди. Вы не будете замешаны в заговор. Сохраните чистыми руки!
– А совесть?
– Ее отмыть легче, чем руки, в случае успеха! Разумеется, возложив на себя скверное дело, мы потребуем от вас гарантий. Если наше предложение о сотрудничестве вас устроит, то уже сейчас вы должны одобрить написанную мною конституцию и заверить нас, что другой не будет!
Никита Муравьев, чье самолюбие юриста было задето, ответил, что предпочитает конституцию, автором которой сам является. Даже последовал очень бурный обмен мнениями. Пестель, более резкий в своих нападках, очень скоро перешел к утверждению, что система его противника – это неумелое перекрашивание нынешнего режима.
– Моя конституция – черновой проект, который я готов подправить под давлением событий! – с раздражением сказал Никита Муравьев.
– На штурм существующих порядков не отправляются, вооружившись наброском! – воскликнул Пестель. – Имейте мужество заглянуть открытыми глазами в будущее. Мы должны проложить путь от полнейшего рабства к абсолютной свободе. У нас нет ничего, а мы хотим иметь все. Как вы думаете, почему я назвал свою конституцию «Русская правда»? Когда-нибудь все европейские народы, терпящие ненавистный гнет аристократии и денег, возьмут на вооружение эту «Русскую правду», чтобы уничтожить иго, которое их подавляет. Революция 1789 года была только французской, наша же будет мировой!
Некоторые из присутствующих зааплодировали.
– Кто, по-вашему, возглавит повстанческое движение? – спросил Рылеев.
– Ваше и наше руководство должны будут назначить диктатора, которому должны слепо подчиняться оба общества, – ответил Пестель.
– И этим диктатором станете вы?
Пестель пожал плечами:
– Не обязательно. Решение примет большинство. К тому же у меня есть серьезный недостаток, мешающий занять эту должность: нерусское имя!
Говоря это, он бросил полный ненависти взгляд на Никиту Муравьева, который сверялся со своими записями, ожидая новой нападки.
– Вовсе не обязательно носить русское имя, чтобы знать, в чем состоит благо отечества! – воскликнул высокий и худой Кюхельбекер. – Вы всегда сможете положить конец клевете, оставив власть, и, подобно Вашингтону, вернуться в ряды простых граждан!
– Сравнить Наполеона с Вашингтоном, какая бессмыслица! – прошептал Костя на ухо Николаю.
– В любом случае, – сказал Рылеев, – я полагаю, что временное правительство долго не продержится: год, самое большее – два…
– О нет! – возразил Пестель. – Нам понадобится не меньше десяти лет, чтобы ввести новый порядок.
– И этот новый порядок вы будете устанавливать силой?
Пестель рассмеялся, и в этом смехе прозвучали металлические нотки.
– А вы знаете другой способ? Надо будет искоренить столько вредных привычек! В новой России ни одна голова не поднимется выше другой. Процветание родится из равенства, счастья, единообразия. Мы отменим рабство, уничтожим различие состояний и общественного положения: больше не будет ни богатых, ни бедных, ни государей, ни вассалов, ни хозяев, ни мужиков! Внебрачные дети будут обладать теми же правами, что и законные. Обязательное образование обеспечат государственные учреждения. Всякого рода частное обучение будет запрещено как опасное для политического воспитания молодежи. Надо будет также подавить особые устремления различных народов, проживающих на нашей территории; их традиции, их фольклор будут запрещены; даже их имена исчезнут из словарного запаса. Когда все различия рас, состояний, культур будут уничтожены, гражданам назначат определенное место жительства и предоставят ту работу, которая послужит интересам республики.
Ропот пробежал среди присутствующих.
– Простите, что перебиваю вас, Павел Иванович, – сказал Никита Муравьев, – но то, что вы описываете здесь перед нами, очень напоминает каторжную тюрьму!
– Так будет только в переходный период, – заверил Пестель.
– Вам, конечно, понадобится многочисленная полиция, чтобы не допустить контрреволюции? – спросил Рылеев.
– Да, я этого не скрываю! И даже предвижу создание контингента тайных агентов, напрямую связанных с центральной властью.
– А цензура?
– Мы усилим ее. Очень важно, чтобы пациент не шевелился, пока оперирует хирург.
– Не боитесь ли вы с другой стороны, что Церковь…
Пестель остановил Рылеева взмахом руки:
– Я думал об этом. Все конфессии будут подчинены власти государства. Православная церковь будет объявлена официальной церковью. Столицей республики станет не Санкт-Петербург, город, хранящий царскую традицию, а Нижний Новгород, где Восток и Запад объединяются. Там будет удобнее всего добиваться русского единства. Я, кстати, намерен выслать два миллиона русских и польских евреев и отправить их в Малую Азию, где они создадут еврейское царство…
У Николая возникло ощущение, что перед ним находится человек, чья страсть к умозаключениям погубила чувствительность. Непреклонный теоретик Пестель до конца разрабатывал придуманные им системы государственного устройства, соизмеряя их с реальностью, допуская любые последствия. Он, наверное, точно так же применял бы свой интеллектуальный потенциал, если бы решал задачку по математике или физике, но обстоятельства подтолкнули его к заговору. Он решил использовать ситуацию для преобразования России. О! Как далеко было все это от идеальной республики Сен-Симона, которой Николай восхищался в своем одиночестве!
– Поскольку вы так откровенно рассказываете нам о своих намерениях, – сказал Никита Муравьев, – я хотел бы узнать, правда ли, что вы собираетесь отделить Польшу от России?
– Абсолютная правда, – ответил Пестель, ничего не объясняя. – Польша станет самостоятельной республикой.
– Почему?
– Потому что таков договор, который я заключил с главарями повстанцев этой страны!
– Вы осмелились разделить Россию, не посоветовавшись с нами? – проворчал Рылеев.
– Мне незачем обращаться к вам за советом, поскольку вы не являетесь членами общества, которым я руковожу. Однако запомните: я считаю независимость Польши необходимым условием в нашей стратегии. Вы все еще топчетесь в пыли старого времени. Я же иду по новому пути. Если вам нравится мечтать о революции, продолжайте действовать вашими методами; а если хотите делать революцию – идите за мной!
– Куда? В хижину? – прорычал Бестужев.
Никита Муравьев тряхнул колокольчиком, призывая всех к молчанию, и произнес:
– Господа, мы достигли предела непоследовательности! Чтобы объединить Россию, у нее отбирают Польшу, чтобы защитить народ, создают тайную полицию, задача которой – осуществлять слежку, а чтобы обеспечить свободу для всех, ограничивают свободу каждого! Если такова ваша «Русская правда», то я предпочту ей правду французскую, английскую или американскую!
– Да! Да! – воскликнули несколько заговорщиков. – Никакой диктатуры! Долой личную власть!
Николай уже давно сдерживал себя, ничего не говоря. И вдруг его прорвало:
– Прелесть жизни составляет разнообразие обычаев, верований, характеров, талантов! Если вы уничтожите это, если вы подведете всех людей к общему знаменателю, масса поглотит индивидуальность, Россия превратится в огромный муравейник! И это будет ужасно!
– Для кого? – воскликнул Пестель, бросив на Николая испепеляющий взгляд своих черных глаз. – Для вас, кому предстоит потерять небольшую часть своего благосостояния, или для бедных людей, которые от этого сильно выиграют?
– Не бывает благосостояния без свободы!
– Вы говорите как человек, который никогда и ни в чем не нуждался!
– А вы как сторонник рабства! – пробормотал Николай, дрожа от гнева. – Вы хотите отменить крепостную зависимость мужиков лишь для того, чтобы распространить ее на всю нацию!
Такая смелость удивила его самого. Неужели это он, затворник из Каштановки, осмелился дать отпор могущественному руководителю Южного общества?
Вдохновленный одобрением своих товарищей, он продолжил:
– Смертная казнь существует при вашем режиме?
– Нет, – ответил Пестель.
– А что же вы будете делать с людьми вроде нас, отвергающими ваши идеи?
Пестель сжал кулаки на краю стола и не сказал ни слова.
– Отошлете нас в Сибирь, разыграв предварительно судебное разбирательство? – снова спросил Николай.
Пестель по-прежнему молчал. Он явно напрягся всем телом, чтобы не закричать: «Да!» В его глазах сиял огонь чистой совести и презрение к пошлым суждениям, которыми ему досаждали. Опасаясь, как бы собрание не закончилось потасовкой, Никита Муравьев дипломатично вмешался:
– Принципы, которые разработаны нашим гостем, возможно, пригодятся России через пятьдесят, через сто лет, но в настоящее время страна не готова пережить столь радикальное изменение. Народу, который на протяжении веков прозябал в рабстве и невежестве, можно предоставлять политические права лишь постепенно и понемногу. Если не сегодня завтра вы сбросите царя ради неизвестного диктатора из толщи народа, ваши действия будут обречены на провал. Слишком жестокий удар повредит мозги. Создав хаос, вы в нем и погибнете. Вот почему я возвращаюсь к своей мысли: чтобы предоставить нации возможность научиться гражданскому сознанию, мы должны действовать поэтапно: сначала – конституционная монархия…
– Почему же не начать с республики? – перебил его Рылеев. – Либеральной республики, разумеется, но не такого типа, что предложил нам Пестель.
– Да, да, либеральная республика! – подхватил Кюхельбекер.
– Монархия! – сказал Батенков. – В монархии тоже немало хорошего!
Голоса присутствующих зазвучали на разные лады:
– Голосую за монархию! Но при условии, что заменят царя!
– А я голосую за республику!
– Обратитесь к американской конституции!
– Нет, к французской… к Хартии!..
Пока стоял этот гул, Пестель поднялся и направился к двери.
– Куда вы идете? – спросил Рылеев.
– Я вернусь, когда вы договоритесь между собой! – ответил Пестель с презрительной улыбкой.
– Не стоит возвращаться! – крикнул Кюхельбекер. – Согласие уже достигнуто: Северное общество никогда не объединится с Южным! Прощайте!
Рылеев проводил гостя до передней и вскоре вернулся с задумчивым видом.
– Наконец-то мы опять среди своих, – заметил Никита Муравьев, вытирая лоб. – Как это приятно!
– Этот Пестель – безумец! – сказал Николай.
– Вы так считаете? – прошептал Рылеев, покачав головой.
Вернувшись домой, Николай не отправился за Тамарой в ее комнату. То, что он увидел и услышал, слишком занимало его, чтобы после этого наслаждаться обществом женщины. Он раскрыл свою тетрадку с цитатами, чтобы обрести новые силы в учении своих любимых мыслителей. В глаза ему бросилась фраза Шатобриана: «Народ, неожиданно избавившийся от рабства, устремившись к свободе, может погрузиться в анархию, а анархия почти всегда порождает деспотизм» (Путешествие в Америку). Гордясь своим знанием, Николай переписал отрывочек для Никиты Муравьева.
На следующий день он уже готовился к выходу, как вдруг появился посыльный. Он был в мундире, с саблей на боку, на голове – кивер. На носу повисла капелька влаги. Покрасневшими пальцами он рылся в кожаной сумке. Достал из нее письмо:
– Для вас, Ваше Благородие! Какой холод сегодня утром! Дым поднимается прямо, значит, подморозит!
Николай заплатил двадцать копеек почтового сбора, включая доставку на дом. Он узнал почерк Софи. Настроившись на нежность, распечатал конверт и прочел:
«Любимый мой, не собираешься ли ты скоро вернуться? Дни кажутся мне такими долгими! Без тебя, в этом большом доме, я кажусь себе глупой, бесполезной, и все здесь напоминает мне о нашей любви. Отец чувствует себя довольно хорошо. Он необыкновенно внимателен ко мне. Но недомогания сделали его капризным. Он просто как избалованный ребенок, не желает оставаться один. Чтобы он был абсолютно доволен, я вынуждена проводить свое время, играя с ним в шахматы, или читая ему вслух, или же выслушивая его рассказы о молодости. Я повидала Мари, она по-прежнему грустна, а ее супруг все так же отвратителен. Они с нетерпением ждут результатов твоих переговоров…»
Не прекращая читать письмо, Николай вернулся в свою комнату и сел на кровать. Он уже погрузился в атмосферу Каштановки. И на какое-то мгновение позавидовал отцу, который мог видеть Софи с утра до вечера. Затем он всерьез задумался о своих друзьях из Северного общества. «Если бы я не любил свою жену, – размышлял Николай, – я бы остался с ними, быть может, стал бы их руководителем!..» Странная фантазия взволновала его. Он понял, что жертвует чем-то благородным и опасным во имя спокойного семейного счастья.
9
Десять раз пригрозив прервать переговоры, граф Держинский согласился заплатить за дом сто тысяч рублей. Продажа была оформлена в первые январские дни 1825 года. Николай попрощался с Тамарой, пообещав ей без особой уверенности, что она увидит его снова в следующем месяце, и устроил прощальный ужин для друзей в ресторане. Во время трапезы он красноречиво говорил о Сен-Симоне, последователями которого, заявил Николай, он желал бы видеть всех заговорщиков. Рылеев спросил, известно ли ему, что французский философ в марте 1823 года пытался покончить с собой. Пистолетная пуля прострелила ему глаз. Эта новость удивила Николая: казалось непостижимым, что гений такого высокого духа мог поддаться отчаянию. Однако, по словам Рылеева, неудавшееся самоубийство убедило Сен-Симона в том, что его роль не закончена и торжество его теорий близко, после чего он мужественно возобновил работу.
– Если вас это интересует, – сказал Рылеев, – я передам вам все его труды, которые сумею достать.
Николай поблагодарил с признательностью. В конце обеда друзья встали, чтобы выпить за успех «дела». Костя Ладомиров и Вася Волков проводили Николая до городской заставы. Расставаясь с ними, он почувствовал себя так, будто отрывается от века просвещения и погружается во мглу древней эпохи. Четыре дня путешествия не развеселили его. Конечно, он был счастлив, думая о предстоящем свидании с Софи, но боялся, что жизнь в провинции покажется ему еще монотоннее после приятных часов, проведенных в Санкт-Петербурге. Но Николай забыл о своих опасениях, когда увидел крышу родного дома среди засыпанных снегом елей. Каждый раз, въезжая на эту аллею по возвращении из путешествия, он представлял себе, как, будучи студентом, приезжал на каникулы к родителям. Его приезд был триумфальным: Михаил Борисович поздравил сына с тем, что он успешно завершил столь тонкую сделку, а Софи нежно прижалась к его груди. Они почти не спали всю ночь, так жаждали близости после многомесячной разлуки. Между объятиями они по очереди расспрашивали друг друга, как проводили дни. Николай подробно рассказывал о политических обсуждениях, которые проходили в обществе его друзей, анализировал конституцию Северного общества, противопоставляя ее конституции Южного, и описывал Рылеева как разумного, смелого и сильного руководителя, а Пестеля представил диктатором с демоническими амбициями. Воодушевившись интересом, проявленным к его рассказу Софи, он вдруг заявил:
– Возбуждение умов таково, что мне, вероятно, придется вернуться туда через некоторое время.
– Если это действительно необходимо.
– Бесспорно необходимо. Мы поедем вместе! Согласна?
Она не сказала ни «да», ни «нет» и, сменив тему, стала расспрашивать его о наводнении в Санкт-Петербурге. Он уже рассказывал об этом за столом, в присутствии отца. И начал снова. Воспоминание о Тамаре тут же промелькнуло у него в голове. В самом ли деле она существовала, эта женщина с родинкой на носу? Держа в объятиях такую родную Софи, он готов был поверить, что изменял ей только во сне. Такое истолкование событий избавляло его от угрызений совести. Около четырех часов утра прощенный Николай – хотя ему и не пришлось просить прощения – заснул, прижавшись к бедру женщины, которой, несмотря на очевидные факты, он никогда не мог до конца изменить.
Они вместе поехали в Отрадное, чтобы отвезти Мари ее часть от продажи дома. Принимая из рук брата толстый конверт, запечатанный красным сургучом, куда он вложил двадцать пять тысяч рублей ассигнациями, молодая женщина заплакала от счастья. Даже не проверив содержимое пакета, она подписала расписку, подготовленную Николаем, и сказала:
– Эти деньги спасут нас от разорения! У нас столько долгов! Благодарю тебя от всей души, Николай! Владимир Карпович, конечно, также выразит тебе свою признательность, как только вернется. Да, он еще в отъезде. Но я жду его со дня на день…
Всякий раз, когда она говорила о муже, в ее глазах появилась искорка неловкости. Мария закутала живот серой шалью. Софи, не видевшая ее более двух месяцев, заметила пополневшую талию, осунувшееся лицо, и прошептала:
– Вы не скрываете от нас радостную новость?
Мария густо покраснела.
– Да, я жду ребенка, – пролепетала она.
– Но это чудесно! – воскликнула Софи. – Когда же?
– Через четыре месяца!
Николай поздравил сестру довольно неловко, совсем по-мужски.
– Как ты его назовешь? – спросил он.
– Сергей, если будет мальчик, – ответила Мария, – Татьяна, если девочка.
– А кого бы ты хотела?
– Мальчика!
Она будто разрывалась между гордостью и стыдливостью. И боялась заглянуть брату в глаза. Ее нервные пальцы теребили бахрому шали. Софи была потрясена при мысли о том, что ее золовка в скором времени познает счастье, о котором она сама так долго и напрасно мечтала! При виде этой молодой женщины, которая скоро подарит жизнь ребенку, она ощутила прилив восхищения, нежности и зависть, словно этот самый естественный в мире акт был одновременно самым удивительным и самым блистательным.
– Рассчитывайте на нас, Мари! – сказала она. – Если вам что-нибудь понадобится…
Они расцеловались и начали болтать по-женски о будущем. Мария разволновалась больше, чем положено. Можно было подумать, что она пыталась убедить себя в том, что ее ждет блаженство, хотя и знала, насколько оно невозможно. Поначалу позавидовав ей, Софи теперь спрашивала себя, не должна ли она, напротив, пожалеть золовку. По какой-то таинственной причине события, которые любой другой женщине обещали счастье, для Марии обретали угрожающий характер. Она притягивала бедствия, как некоторые горы притягивают грозовые тучи. Вокруг не существовал спокойный и светлый мир, но на лбу ее все время витала тень. Что за жизнь ожидает эту мать без мужа, этого ребенка без отца? «Я глупая! – подумала Софи. – Все драматизирую! Немало неудачных браков были спасены после рождения ребенка!» Несмотря на такой вывод, ее не покидала жгучая тревога. И было трудно притворяться веселой до конца визита.
На обратном пути Софи поделилась с Николаем своими размышлениями.
– Мне тоже не удается порадоваться, – сказал он. – В этом доме от всего веет разногласием, запустением, бедностью, стыдом! Седов все время шастает по горам, по долам, Мария не способна защитить себя, слуги наглые, холодный очаг! Ребенок появится на свет в самых жалких условиях!
– Что можно сделать для нее? – вздохнула Софи.
– Ничего. В сущности, как мне кажется, ей нравится страдать. Она бессознательно выбрала Седова, потому что он – существо, способное сделать ее до предела несчастной!
Софи дождалась конца обеда и только тогда сообщила Михаилу Борисовичу, что он станет дедом. Месье Лезюр собрался было расточать поздравления, но в последнюю секунду сдержался, решив сопоставить свои ощущения с позицией хозяина дома. А тот предпочел отмалчиваться, оставаясь невозмутимым и угрюмым.
– Разве вы не рады, батюшка? – спросил Николай, рассерженный этим молчанием.
– Я не понимаю, почему должен испытывать радость при мысли, что в скором времени на земле появится еще один Седов, – сказал Михаил Борисович.
Софи, в свою очередь, не смогла сдержаться:
– Это все-таки ваша дочь…
– Ну и что с того? – прорычал Михаил Борисович. – Избавьте меня от общепринятых сентенций! Это событие ни в коей мере не касается нашей семьи!
Месье Лезюр сдерживал улыбку. Глубоко опечаленные Николай и Софи переглянулись. Из-за стола вышли, будто после поминок. В этот вечер Михаил Борисович выкурил целую трубку, и его сноха не упрекнула его в неосмотрительности. К тому же она не предложила протереть его очки, когда он собрался почитать газету.
Осознав, что причинил боль близким, Михаил Борисович все последующие дни, напротив, старался быть очень приветливым. Желание обладать Софи ослабевало теперь, когда она снова стала женой Николая. Вновь оказавшись в роли свекра, он стремился ограничить свои притязания доступными радостями. Набравшись терпения и с помощью воображения, он сумеет, думал Михаил Борисович, довольствоваться крохами счастья, падающими со стола супругов. Он наблюдал за ними, находил, что они плохо подходят друг другу, и хранил в сердце надежду, не желая определить ни ее характер, ни срок исполнения.
После возвращения Николая Софи снова стала ездить по деревням. И не было в имении семьи, не ставившей перед нею какой-нибудь проблемы, не спрашивавшей у нее совета. Браки между крепостными заключались с одобрения хозяина, и именно к ней обращались жених и невеста с просьбой походатайствовать перед Михаилом Борисовичем. И в самом деле, он никогда не отказывал в согласии и был чрезвычайно рад, что может доказать снохе, насколько у него широкие взгляды. Она тоже вовсе не смущалась, если молодая пара являлась к хозяину и падала на колени посреди кабинета. Парни были коротко пострижены, а косы девушек украшали разноцветные ленты. Оба, не смея шевельнуться из уважения к хозяину, боялись даже взглянуть на своего господина, подавляющего их своей тенью. Покружившись вокруг них и внимательно осмотрев со всех сторон, Михаил Борисович неизменно изрекал:
– Прекрасно! Но родите мне побольше детей! Иначе берегитесь!
И он отсылал их, громко смеясь. Софи упрекала его в суровости, а он еще больше смеялся. Никогда ей не удастся внушить ему свои идеи! Чтобы вновь обрести веру в себя, Софи время от времени ходила смотреть, как работает Никита.
Однажды, когда она входила в маленькую рабочую комнату, ее поразило, как взволнован был мальчик, устремившийся ей навстречу. По всей видимости, ему надо было сделать признание или задать ей вопрос, а он не знал, как к этому приступить. Наконец, Никита решился: Антип только что рассказал ему необыкновенную вещь. Правда ли, что в Санкт-Петербурге Николай Михайлович и его друзья ищут наилучший способ обеспечить счастье для народа? Озадаченная, Софи задумалась на секунду, затем осторожно ответила:
– Действительно, многие люди хотят улучшить участь крепостных. Я убеждена, что в один прекрасный день все вы будете освобождены…
– А зачем господам делать это? – спросил Никита.
Простодушие его души отражалось в легком сиянии глаз.
– Из жажды справедливости, – ответила она.
Он все еще не понимал. Его светлые, почти белые брови нахмурились. Он сдерживал дыхание, но сильные ноздри его коротковатого носа раздувались.
– Если они освободят нас, то обеднеют, – сказал он.
– Сознание того, что они сделали доброе дело, вознаградит их за эти потери!
– Быть может, для некоторых так и будет… Но для других?..
– Остальных повлечет за собой ход Истории, – ответила она. – Россия не может бесконечно оставаться единственной в Европе страной, где процветает рабство!
Он вздохнул:
– Вы действительно в это верите, барыня? А я не могу себе представить, что не будет вдруг ни хозяев, ни рабов! Даже если нас освободят, мы никогда не станем такими, как вы.
– Почему?
– Потому что мы люди иной породы, не вашей. Наше рождение наложило отпечаток на нашу плоть. У нас мужицкая кожа на мужицких костях. Обучите меня, освободите меня, оденьте меня в роскошные одежды, я все равно останусь бедняком!
Он раскинул руки, опустил голову, и все его тело выражало смирение перед роковой неизбежностью.
– Абсолютная глупость! – воскликнула Софи. – Однажды ты прочитал мне оды Ломоносова, помнишь об этом?
– Да, барыня.
– Что ты знаешь о нем?
– Ничего.
– Тогда слушай: этот человек, ставший в прошлом веке первым великим русским поэтом, основателем русской школы изучения химии и физики, тот, кто написал правила русской грамматики, способствовал развитию русского театра, изучению русской истории, создал Московский университет, – этот человек был сыном безграмотного рыбака с побережья Белого моря. В девятнадцать лет, обуреваемый жаждой знаний, он убежал из родительской избы в большой город. И после долгих лет учения, жестокой борьбы и многочисленных трудов в конце концов стал всеми уважаемым дворянином, осыпанным почестями со стороны императрицы. Если бы этот несчастный парень рассуждал так, как ты, он бы никогда не осмелился проложить себе дорогу в мир литературы, искусства и наук!
Покоренный, Никита слушал волшебную сказку. Наконец он спохватился и прошептал:
– Он был гением, барыня!
Она уже собиралась ответить, что гениальность не обязательна для того, чтобы верить в будущее, как вдруг суровый голос заставил его подскочить:
– Неужели появится новый Ломоносов в наших стенах?
На пороге стоял Михаил Борисович. Он весело улыбался, но глаза его были злыми. Что он уловил из разговора? Софи казалось, что ее застали врасплох, хотя ей не в чем было себя упрекнуть. Сердясь на себя из-за этого замешательства, она пробормотала:
– Я объясняла Никите, что он не должен стыдиться своего скромного происхождения!
– Ну конечно! – подхватил Михаил Борисович. – У него даже есть причина быть этим довольным! Ну разве вы заинтересовались бы им, не будь он крепостным?
Поскольку Софи молчала, презирая подобные перепалки, Михаил Борисович громко добавил: «В этом мире все пошло вверх дном!» – и удалился, громко топая по коридору. Оставшись один в своем кабинете, он упрекнул себя, что так быстро отступил. Но ему не продержаться бы долго в присутствии снохи, не дав воли гневу. Участие, с которым она относилась к Никите, слишком раздражало его! Что особенного нашла она в этом ничтожном мужлане двадцати двух лет от роду с белокурыми волосами и голубыми глазами? Присутствие мальчишки в доме со дня на день становилось все невыносимее для Михаила Борисовича. Он жалел, что не дал ему вольную и не отослал в город, о чем просила его когда-то Софи. В голову ему пришла вдруг идея: почему не предоставить ему сегодня то, в чем он отказал снохе несколько лет назад? Но, быть может, она уже не хочет этого? Возможно, подобно стольким верным женам, она предпочитает оставить при себе своего чичисбея? Тем хуже для нее! Предложение будет выглядеть особенно смешным! Михаил Борисович наслаждался, представляя себе тайные терзания женской совести. Все, что казалось ему результатом преступных мечтаний Софи, пробуждало в нем возмущение, ревность, надежду, злость, желание, и это смешение чувств вызывало приятное головокружение. На следующее утро он пригласил ее в свой кабинет и вкрадчивым тоном объявил, что подумал о судьбе Никиты:
– Как всегда, вы были правы, дорогая Софи; мы не имеем права удерживать этого молодого человека в униженном положении. Я решил освободить его.
– Неужели это возможно? – с надеждой воскликнула она.
– Разве вы не просили меня об этом?
– Но так давно!
– Эта идея долго созревала в моей старой голове. Никогда не поздно сделать доброе дело. Никита, конечно, не Ломоносов, но он заслуживает лучшей участи, нежели убогая работа, которую он здесь выполняет. Я собираюсь отдать ему его паспорт и отправить в Санкт-Петербург с рекомендательным письмом. Он знает четыре правила арифметики, ловко справляется со счетами и станет помощником счетовода в каком-нибудь торговом деле. А когда заработает достаточно денег, выкупит у меня свою вольную. Будьте покойны, я потребую от него умеренную плату! Возможно, даже, что отдам ее ему просто так! Вы довольны?
Он надеялся заметить признаки смятения у снохи и был удивлен, что та и бровью не повела. «Она умело скрывает свою игру», – подумал он. Софи поблагодарила его и покинула кабинет преисполненная удовлетворения. Но, радуясь за Никиту в связи с открывшимися перед ним благодаря решению Михаила Борисовича перспективами, она грустила, что придется расстаться с юношей, чью склонность к учению поощряла. Софи нашла Никиту в его рабочей комнате за чтением «Российской истории» Ломоносова. Когда она сообщила юноше, что он вскоре покинет Каштановку и будет жить в Санкт-Петербурге, тот побледнел, а глаза его расширились. Стоя перед Софи, Никита машинально перебирал пальцами косточки на счетах. Долгое время молчание нарушал лишь стук деревянных кружочков, бьющихся один о другой.
– Благодарю вас, барыня, – сказал он наконец. – Я знаю, что все это мне во благо. Я поеду туда, потому что вы этого хотите…
– Надеюсь, ты тоже этого хочешь? – спросила она.
– Я ничего не просил.
– В Санкт-Петербурге с тобой будут обращаться как с работником, а не рабом; ты заработаешь денег и когда-нибудь выкупишь вольную…
– Зачем нужна свобода, если нет счастья? – пробормотал Никита, глядя ей прямо в глаза.
Это заявление смутило ее. Быть может, он хотел сказать, что предпочитает остаться крепостным, но жить при ней, вместо того чтобы стать свободным человеком, но не видеть ее? Она не желала признавать этого. Существовало объяснение попроще: Никита был привязан к своей деревне, своим хозяевам и страдал оттого, что придется уехать в большой город, где он никого не знал!..
– Барыня! Барыня! – простонал Никита хриплым голосом.
Он глядел на нее ласковым собачьим взглядом. Опасаясь, что Никита заметит ее волнение, Софи неопределенно улыбнулась ему и вышла из комнаты.
* * *
С тех пор как вернулся, Николай двадцать раз собирался нанести визит Дарье Филипповне и двадцать раз отказывался делать это. Он больше не испытывал и намека на чувство к ней, и даже воспоминание об их связи угнетало его. Не получив от него никакого письма, она была, конечно, готова к разрыву. И тем не менее он боялся, что ему придется говорить ей открыто, что между ними все кончено. Объяснение, на которое у него не хватало мужества решиться, было навязано ему случайно, да еще тогда, когда он об этом уже не думал. Однажды пополудни у въезда в Псков его сани повстречались с санями Дарьи Филипповны. Она выезжала из города, а он въезжал в него. Их взгляды перекрестились. Дарья Филипповна побледнела под меховым капором. Николай приказал вознице придержать лошадей. Женщина сделала то же самое. Сани встали, прижавшись друг к другу. Николай, которого вдруг охватила жалость, сказал:
– Я так давно хотел повидать вас, Дарья Филипповна.
– Я тоже, – со вздохом произнесла она.
– Где мы могли бы поговорить спокойно?
– Вы это прекрасно знаете! Поехали!
Он понял, что она хочет увезти его в китайский павильон, и недоверчиво нахохлился. Сани тронулись, впереди – повозка Николая, позади – Дарьи Филипповны. Воздух был свеж. Снег на земле искрился розовым светом, по ветвям деревьев – голубым. Веселый звон колокольчиков плохо сочетался с мрачными мыслями путешественников. Наконец дорога привела на поляну. Посреди белого пространства странное сооружение, пестрящее четырьмя цветами, напоминало груду овощей, застигнутых морозом. Николай вошел вслед за Дарьей Филипповной в зал. Там было очень холодно, как во время их первого поцелуя. При каждом выдохе у рта Дарьи Филипповны появлялись клубы пара. Ее взгляд сделался томным, и она прошептала:
– Тебе это ничего не напоминает?
– Да, напоминает, – признался он.
И поскольку решил нанести удар быстро и жестко, чтобы покончить с прошлым, добавил:
– Но нужно положить этому конец!
– О! Не говори так! – воскликнула она и укусила руку через перчатку. – Я не могу поверить, что твоя страсть ко мне была лишь вспышкой пучка соломы! Ты что же, полюбил другую?
Он не ответил. Глаза Дарьи Филипповны наполнились слезами. Николай внимательно рассматривал ее, заметил веки в морщинах, неровности кожи и удивлялся, как мог плениться ею. Промолчав довольно долгое время, он наконец мягко сказал:
– Рано или поздно наша связь закончилась бы именно так. Мы пережили чудесные мгновения. Так не будем же омрачать это воспоминание пошлой ссорой. Теперь я горячо желаю, чтобы мы остались добрыми друзьями.
Она упрекнула его в жестокости и потребовала вернуть ее письма. Он признался, что сжег их, и это до предела усугубило ее отчаяние. Упав в кресло, она рыдала:
– Подумать только, с каким доверием я относилась к тебе! Ты просто эгоистичное чудовище! С холодным сердцем! О! Как я страдаю!.. Уходи! Уходи! Больше ты никогда обо мне не услышишь!
Висевшая на стене китайская маска красно-кирпичного цвета с перекошенным от гнева ртом будто бы заступалась за нее. Николай решил, что разумнее будет удалиться. Он уже готов был переступить порог, когда Дарья Филипповна воскликнула:
– Останься! Я тебе все прощаю!
Втянув голову в плечи, он бросился вон и прыгнул в сани.
– Домой! – приказал он веселым голосом.
Когда лошади тронулись, он всем своим существом ощутил удовлетворение по поводу выполненного долга.
* * *
Получив на руки паспорт и рекомендательное письмо к торговцу кожами в Санкт-Петербурге, Никита отправился в дорогу в первый четверг марта месяца. В тот же вечер Антип тайком принес Софи тетрадь, которую должна была прочитать только она. Этот поступок Никиты очень рассердил ее. Она не хотела, чтобы другие мужики знали о благоговении, внушенном ею Никите. К счастью, странички были перетянуты лентой, запечатанной к тому же воском.
– А! Я знаю, что это такое! – прошептала она равнодушным голосом. – Запоздавшие счета…
– Именно так Никита и мне сказал, барыня! – пробормотал Антип с готовностью, показавшейся Софи подозрительной.
И он добавил, заморгав толстыми веками в рыжих ресницах:
– Если бы вы видели, каким он был, когда отдавал мне эти счета! Можно было подумать, что он протягивает мне всю душу на подносе!..
Она смерила Антипа взглядом с головы до ног, и он исчез, лебезя как шут. Поскольку до ужина оставался целый час, Софи пошла в свою комнату и раскрыла тетрадь. Почерк стал получше. Орфография тоже.
«Мой отец – дело решенное. Те, кто меня окружает, полагают, что мне повезло. Один я знаю, почему у меня так тяжело на сердце! Покинув Каштановку, я потеряю свет моей жизни. Когда я буду далеко, он будет светить для других, а я буду страдать во тьме. Антип рассказал мне все о Санкт-Петербурге, о его улицах, каретах, магазинах и жителях. Он говорит, что там люди печальные, важные и торопливые; что бедные там еще беднее, а богатые – богаче, нежели в деревне; что на каждом углу улицы можно увидеть, как проезжает император, и тогда – горе тебе! Я опять вспомнил, что говорила моя благодетельница о крепостных, якобы имеющих право жить, как другие. Пусть услышит ее Господь! Однажды на ярмарке в Пскове я остановился перед торговцем птиц, купил жаворонка и отпустил его на свободу. Птичка полетела прямо в небо, описала большой круг и запела от радости. Быть может, господа сумеют убедить царя и он всех нас освободит, как жаворонков на ярмарке, чтобы слышать, как мы поем ему хвалебные песни? Но время веселиться еще не пришло. Я взял старые газеты, которые Антип привез из Санкт-Петербурга, и громким голосом прочитал в людской, что пóвара с женой – прачкой и хорошенькой дочкой шестнадцати лет, умеющей гладить рубашки, продают. Было там и много других объявлений такого же рода. Вместо того чтобы возмутиться, слуги, окружавшие меня, серьезно обсуждали цены на крепостных в городе и в деревне. Федька был горд, поскольку мог рассказать, что один граф продал другому его дядю за три тысячи рублей как лакея. А мне было стыдно. И я подумал: в самом ли деле они хотят стать свободными? С тех пор как я научился читать и писать, я стал отличаться от других слуг. Я размышляю над вещами, о которых они понятия не имеют, и это огорчает меня. День отъезда приближается. Я побывал у отца и мачехи, в деревне. Они долго плакали, трижды благословили меня и попросили присылать им денег. Потом я обошел все избы, и в каждой мне пришлось что-нибудь съесть: гречневую кашу, гороховый кисель, варенье из ягод, соленые грибы. Отец Иосиф наказал мне усердно посещать церковь, потому что в городе лукавый хитрее, чем в деревне. Вчера дворовые люди в Каштановке устроили мне ласковые проводы. Василиса причитала: „Хлеб в нашем доме сладок! Какой же будет хлеб в столице, где серые камни?“ В моих глазах тоже стояли слезы. Вечером я допоздна играл на балалайке, пел песни со всеми. И печаль моей души возносилась к небу вместе с голосом. Сегодня я хорошенько помылся в бане. Затем пошел повидать хозяев. Старый барин и молодой приняли меня ласково. Молодой барин сказал: если мне понадобятся советы в Санкт-Петербурге, надо лишь обратиться от его имени к какому-то Платону, слуге господина Ладомирова. Моя благодетельница вручила мне на дорогу кожаный кошелек с деньгами. Я никогда не расстанусь с этой святыней. С нею меня и похоронят. Я пишу эти строки в кровати, при свете свечи. На рассвете сяду в телегу, которая повезет меня в Псков. Оттуда ломовик доставит меня вместе с обозом товаров в Санкт-Петербург. Я не горю желанием прибыть туда. Прощай, моя деревня! Прощай все, что я любил!..»
Софи заканчивала чтение, когда в комнату вошел Николай. Не в силах справиться с замешательством, она протянула ему тетрадь. Он, в свою очередь, пробежал написанное и сказал с меланхолической улыбкой:
– Бедный парень! Ты покорила его на всю жизнь. Впрочем, то, что он здесь написал – прелестно. Мне хотелось бы показать эти строки нашим друзьям в Санкт-Петербурге. Они восприняли бы их как оправдание наших усилий.
* * *
Некоторое время спустя Николай получил письмо от некоего Мойкина, юридического советника из Пскова, который просил его приехать и повидаться с ним в его конторе по делу. Если не последует отмены приказа, он будет ждать Николая в следующую субботу, в четыре часа. За Мойкиным закрепилась репутация сутяги и сквалыги, но, поскольку Николаю нечего было опасаться, он не проигнорировал приглашения.
Мойкин принял его с чрезвычайной любезностью, провел его в набитую делами комнату, сел за стол и вдруг стал похож на грызуна. Его маленькие черные глазки сместились в сторону длинного носа. Тонкая линия усов очерчивала угловатые челюсти. Свои загребущие лапки он поднял на середину груди. Груды бумаг представляли собой его запас продовольствия.
Когда Николай спросил Мойкина, по какой надобности тот его вызвал, юридический советник углубился в странные рассуждения о мягкой погоде и будущем земледелия в России, затем добавил:
– Я предпочел бы дождаться приезда Владимира Карповича Седова для того, чтобы изложить вам дело.
– Мой зять должен приехать? – спросил удивленный Николай.
– Да. Подчиняясь именно его распоряжением, я и позволил себе предложить вам эту встречу.
– Чего он хочет от меня?
– Он сам вам это объяснит.
– В таком случае, почему он не обратился прямо ко мне? Нам не нужны посредники.
– Вас смущает мое присутствие? – спросил Мойкин. – Напрасно! Я здесь не только для того, чтобы помогать Владимиру Карповичу, но и для того, чтобы разъяснить все вам. Если вы оба доверитесь мне, я рассужу вас.
– Нам не о чем судиться!
– Ну как же, есть о чем! О продаже дома в Санкт-Петербурге…
– И что?
– Я считаю, что она закончилась не совсем корректно…
Николай был так поражен, что с секунду колебался, прежде чем вскипеть. Затем гнев охватил его со всех сторон. Он закричал:
– Поясните вашу мысль, сударь!
В этот момент за его спиной распахнулась дверь. Николай обернулся и увидел, что вошел его зять, выбритый, костистый, ироничный и в голубом галстуке, повязанном под подбородком.
– Прошу прощения, что слегка опоздал, – сказал он, – но улицы так запружены…
Даже не поздоровавшись с ним, Николай спросил:
– Как я должен это понимать? Вы оспариваете законность продажи?
– И не подумаю! – ответил Седов, присев на краешек стола и скрестив ноги. – Подписи проставлены, деньги оплачены, квитанция передана правообладателю. Все в порядке… по-видимому!
– И в чем тогда дело?
– Вот в чем! – вмешался Мойкин. – Несмотря на видимую правомерность сделки, Владимир Карпович справедливо считает себя обделенным при разделе. Он полагает, что вы могли продать подороже…
Нога Седова слегка покачивалась в пустоте.
– Мы по взаимному соглашению назначили минимальную сумму в восемьдесят тысяч рублей! – сказал Николай.
– Но это было до наводнения! – вставил Мойкин, подняв пожелтевший от табака указательный палец. – С тех пор цены на дома выросли!
– Разумеется! – заметил Николай. – Доказательство? Я продал за сто!
– Еще немного бы упорства, и вы получили бы сто двадцать пять.
– Конечно, нет!
– Не выходите из себя, мой дорогой! – смеясь, сказал Седов. – Ни вы, ни я ничего не смыслим в таких делах. Вне всякого сомнения, окажись я на вашем месте, и меня обвели бы вокруг пальца, как вас. Меня огорчает лишь результат. Получается так, что, будь вы поухватистей, мы получили бы больше, вот и все! В моем печальном положении десятью тысячами больше или меньше – это имеет значение. Та денежная малость, которую, благодаря вам, получила Мария, уже ушла на оплату наших долгов. У нас ничего не осталось на жизнь, ничего, чтобы достойно подготовиться к рождению вашего племянника или племянницы!.. К счастью, господин Мойкин в очередной раз любезно согласился помочь мне. Но рано или поздно, с ним тоже надо расплатиться. Заинтересованность прежде…
– О да! – вздохнул Мойкин, стыдливо потупив очи.
– Куда вы ведете? – спросил Николай.
– По справедливости, – заговорил Седов, – вы должны бы были по мере возможности возместить убытки, которые понесла Мария из-за того, что вы уступили по ничтожной цене дом, который вам поручили продать на самых выгодных условиях. Заплатите нам еще десять тысяч рублей из вашей личной доли, и я обещаю вам, что больше не стану докучать вам этой историей!
– Ни за что на свете! – пробурчал Николай, сдерживая нервную дрожь.
– Вы так мало любите Марию? – сказал Седов.
– Я слишком люблю ее, чтобы давать ей деньги, которые осядут в вашем кармане!
– Прекрасное оправдание! Иными словами: если бы она не нуждалась, вы, не размышляя, предложили бы ей помощь!
Мойкин засмеялся, но его смех был похож на чиханье.
– Не пытайтесь вывести меня из себя! – разозлился Николай. – Я решил сохранять спокойствие. Да, я, быть может, передал бы моей сестре несколько тысяч рублей, если бы она сама попросила меня об этом, но поскольку вы обвиняете меня в том, что я плохо защищал ваши интересы при продаже, повторяю, вы ничего не получите от меня ни путем упреков, ни угроз. Мария в курсе ваших действий?
– Нет, – ответил Седов.
– Тем лучше! Так, по крайней мере, я могу с прежней нежностью относиться к ней.
– Эта нежность вам недорого стоит!
Мойкин скрестил свои когти на пухлом животе и прожужжал:
– Николай Михайлович, позвольте старому служителю закона предостеречь вас от опасностей упорства. Чтобы избежать неприятностей, вы должны принять вполне разумное предложение Владимира Карповича.
– На какие неприятности вы намекаете? – спросил Николай. – Вы хотите привлечь меня к суду?
– Господи, нет! Мы бы проиграли дело!
– Тогда что вы имеете в виду? Объяснитесь!
Глаза Седова заблестели от злости. Губы сжались и уголки их опустились.
– У каждого человека есть слабые точки, Николай Михайлович, – сказал он. – Мы многое знаем о вас. И нам легко будет причинить вам вред…
Николай сразу подумал, что двое пройдох в курсе его принадлежности к тайному обществу. Но, как бы ни велика была опасность доноса, он не мог, не обесчестив себя, согласиться на сделку, предложенную ему зятем! Лучше умереть, чем прослыть трусом!
– Я не боюсь вас, господа! – гордо заявил он.
И пошел к двери.
– Взвесьте хорошенько все «за» и «против», Николай Михайлович! – крикнул ему вслед Седов. – И не мешкая слишком долго, возвращайтесь к нам! Иначе вы обо всем пожалеете!
Выйдя на улицу, Николай удивился, что до конца сохранял спокойствие. Лишь забота о том, чтобы не испортить отношения с сестрой, удержала его от пощечины Седову. «И все же надо было ударить его! Он заслужил это! Какой мерзавец!» – повторял он, шагая по улицам. По здравому размышлению, Николай решил, что Седов не может осуществить своих угроз. Ведь дело заключалось в банальной попытке запугать. Поскольку ставка на десять тысяч рублей провалилась, Мойкин и Седов скоро снова приступят к делу, но с требованиями поскромнее. Затем, столкнувшись с неуступчивостью Николая, они окончательно откажутся от притязаний. Успокоившись, Николай с интересом стал смотреть, что происходит в городе. В маленьких садиках, окружавших деревянные дома, все деревья уже распустились. Бледное солнце светило в окна. Между камнями на дороге проросла крапива.
Николай пересек опустевший рынок, где еще витал рыбный запах, и направился к Кремлю. Часовой с алебардой в руке посмотрел на него с безразличием. Николай поднялся по широкой изогнутой лестнице, вошел в собор и остановился, чтобы глаза могли привыкнуть к полумраку. Четыре колонны поддерживали голубой купол, усеянный золотыми звездами. Воздух был пропитан запахом воска, заплесневевшей ткани и ладана. У иконостаса подрагивало несколько зажженных свечей. Маленькие старушки распростерлись перед деревянной ракой с мощами святого князя Довмонта, меч которого, подвешенный в пустом пространстве, сиял, будто был готов разрубить путы зла. В минуты тревоги или просто усталости Николай любил удаляться в этот чертог раздумий. Из всех икон в нефе Николай отдавал предпочтение изображению лика Богородицы, охраняющей жителей Пскова во время осады их города Стефаном Баторием. Иконописец изобразил древний город в миниатюре, с его куполами, бойницами, лодками на реке и защитниками на бастионах. Поляки штурмовали город, неся красные знамена. Их расстреливали из пушек. Все святые России держали небесный совет. Николай и сам не понимал, почему эта наивная житийная икона вызывала у него такое приятное ощущение. Глядя на нее, он чувствовал себя сопричастным далекому прошлому своей родины. Ветер Истории пронизывал все его существо. Опустившись на колени, он стал молиться: «Спаси меня, Господи, каковы бы ни были мои грехи, ибо моя основная вина – великая слабость!» Последние его страхи рассеялись. Встреча с Мойкиным и Седовым не оставила в его душе никакого следа, помимо презрения к своему зятю и жалости к Марии. Сзади подходили прихожане, спешившие к вечерне. Кашель и топот громко раздавались под сводами. Зазвонили колокола.
Николай вышел из церкви, спустился по лестнице, по краям которой выстроились нищие, прошел вдоль повалившейся стены и остановился в самой высокой точке Кремля, откуда было видно место слияния двух рек. Колокольня Успенской церкви отражалась в волнах реки Великой. Золотистые кресты Иоановского женского монастыря сияли в зеленых зарослях. На противоположном берегу возвышалась колокольня Снетогорского монастыря. Течение Псковы уносило связки очищенных от коры стволов, которые с такого расстояния казались малюсенькими. От одного прогона к другому тащились работники, с виду не превышавшие по размерам майских жуков. Солнце уже садилось. Легкий шум доносился от этого погрязшего в делах мира. Николай не хотел поддаваться надвигающимся на него реальным ощущениям страха, радости, надежды и с радостью погружался в столь туманные мечты, что, спроси его кто-нибудь внезапно, о чем он думает, ответить ему было бы нечего.
Несколько позже он отправился в клуб. Башмаков встретил его возгласами радости. Его как раз и не хватало, чтобы сесть за стол четвертым и сыграть в вист. В этот вечер Николай, как это ни удивительно, ушел из клуба с выигрышем в сорок рублей.
10
Поздно ночью Софи услышала, что кто-то скребется в дверь. Она зажгла свечу, встала, открыла и оказалась перед здоровой, как башня, Василисой.
– Прошу прощения, что разбудила вас, барыня, – прошептала старуха, – но из Отрадного только что прибыл слуга. У нашей Марии, кажется, начались схватки. Она прислала вам вот это письмо.
Софи вскрыла конверт, который протянула ей Василиса, и прочла: «Ребенок скоро родится. Я ужасно страдаю. Здесь никто меня не понимает, никто не любит. Приезжайте, умоляю вас…»
– Который час? – спросила Софи, сложив письмо.
– Пять часов утра, барыня!
– Я только оденусь и сразу еду. Скажи Федьке, пусть закладывает коляску!
Василиса сложила руки:
– Не возьмете ли и меня с собой, барыня? У меня ведь такой опыт! Со мной ей, бедняжке, будет не так страшно!
Софи на секунду задумалась и сказала:
– Ты права. Иди собирайся.
– Спасибо, барыня! – пробормотала Василиса, целуя ее в плечо.
Софи прикрыла дверь и взглянула на спящего глубоким сном Николая. Разбудить его? Зачем? После того что он рассказал о его стычке с Седовым, Николай не станет подвергать себя риску встречи с этим человеком у изголовья Марии. Возможно, даже, настроенный против зятя, он захочет помешать Софи ехать в Отрадное. Но в этом вопросе она ему не уступила бы. Ее призывала насущная необходимость. Если Седов осмелится затеять с нею разговор о деньгах, она в два счета поставит его на место. Софи тихонько оделась, взяла лист бумаги в ящике стола и написала:
«Мой дорогой,
Мне сообщили, что Мария рожает. Тебе нечего там делать! А мне – есть! Поэтому я уезжаю, не потревожив твой сон. Вернусь, как только смогу. Не волнуйся. Нежно целую тебя в лоб, окутанный снами. – Софи».
Она прикалывала письмо к подушке, как вдруг Николай перевернулся и что-то пробурчал. Она быстро задула свечку и вышла из комнаты. В доме стояла тишина. Внизу у лестницы горел свет. Василиса заставила Софи выпить чашку горячего чая и съесть баранку, пока конюх запрягал лошадей. Когда они тронулись в путь, было еще темно. Но свежее дуновение ветра, серая прозрачная дымка на верхушках деревьев говорили о том, что ночь скоро кончится.
Проезжая по перелеску, путешественницы были оглушены поднявшимся птичьим гоготом. Затем золотистая мгла окутала окрестности. На горизонте небо вспыхнуло, а за туманной дымкой выглянул голубой небесный свод. Необыкновенно радостное чувство охватило Софи. Она присутствовала при рождении дня и думала о другом рождении, происходившем в это самое время. Поскольку Софи торопилась, Василиса успокоила ее:
– Не волнуйтесь, барыня, мы не опоздаем. Я расспросила человека, приехавшего из Отрадного. Когда он уезжал, у бедняжки все только начиналось. У нее узкие бедра. Ведь это ее первый ребенок. Ей понадобится много времени и придется пострадать, прежде чем она родит его.
Тем не менее Софи приказала вознице ехать быстрее. Он отхлестал лошадей. Коляска тяжело грохотала по ухабам.
– Царица Небесная! – воскликнула Василиса. – Если и дальше он будет так стегать, то рожу я!
Софи расхохоталась нервным смехом. Ей казалось, что между ребенком и упряжкой завязалась борьба, кто доскачет первым. Когда она увидела дом в Отрадном, то удивилась, что он выглядит как обычно, несмотря на чрезвычайное событие, которое должно было произойти в его стенах. На крыльцо вышла служанка.
– Как себя чувствует барыня? – спросила Софи, ступая на землю.
– Она вот-вот родит! – сказала девица тягучим голосом. – Барыня ждет вас. Я провожу к ней, если позволите…
Переступив порог комнаты, Софи почувствовала себя так, будто ее отбросило в прошлое. Этот теплый полумрак, разобранная постель, тазы, белье, запах влажной кожи, разверстая плоть, уксус, – все напоминало ей об испытании, которое она сама перенесла понапрасну. Софи бросилась к Марии, обратившей к ней изможденное лицо с лихорадочно блестящими глазами.
– Спасибо, что приехали, – прошептала Мария. – И Василиса тоже здесь! О! Как это хорошо!..
Повитуха отстранилась, чтобы пропустить поближе приезжих. Несомненно, именно эта женщина с самого начала руководила родами. Увидев Василису, она поняла, что это соперница, насупилась и сказала:
– Не надо ее утомлять: она сейчас между схватками.
– Я так и думала! – заметила Василиса, пожав плечами.
Она встала на колени около Марии, осенила ее крестным знамением и стала гладить ей живот под рубашкой. Софи села у изголовья золовки и взяла ее за руку.
– О! Как хорошо! О! Как хорошо! – повторяла Мария детским голосом.
Слезы текли из ее широко раскрытых глаз.
– Не говорите много, – сказала повитуха.
– Да нет! – сказала Василиса. – Пусть говорит! Это поможет ей сверху!
Мария оперлась на локти и приподнялась:
– Вы не слышите?.. Колокольчик!.. Коляска! Быть может, это он?..
– Не может быть он, вы это прекрасно знаете! – сказала повитуха, покачав головой. – Ну, будьте благоразумны! Тужьтесь, вместо того чтобы говорить понапрасну.
Мария снова упала на подушку и сжала зубы.
– Она ждет своего мужа, – сказала повитуха. – Он снова уехал по делам на прошлой неделе.
– Замолчи, Фекла! – простонала Мария.
Фекла была худа, лицо каменное, руки длинные, а ладони длиннее, чем ступни.
– Почему, красавица моя? – спросила она. – Что правда, то правда, Владимир Карпович очень занятой барин. От него нельзя требовать, чтобы он оставался все время дома. Он уходит, приходит. К тому же здесь барин нам скорее помешал бы. Мужчине – наслаждение, женщине – страдание. Бог так устроил!
– Где он в настоящий момент? – поинтересовалась Софи.
– Мне кажется, в Санкт-Петербурге, – ответила Мария. – У друзей…
Софи не смогла сдержать возмущения:
– Он мог бы подождать несколько дней, прежде чем уезжать!
– О нет! – смиренно сказала Мария. – Дело было срочное! Все те же денежные проблемы! Он надеется получить там что-то. И, кроме того, я бы не хотела, чтобы он присутствовал здесь! Это некрасиво… Противно… Мне стыдно!..
– Она должна бы гордиться, а ей стыдно! – воскликнула Василиса.
Неожиданно судорога пробежала по телу Марии, поясница у нее изогнулась, и роженица издала животный крик.
– Очень хорошо! – сказала Василиса. – Тужься еще! Помоги младенцу!
Сжимая руку золовки, Софи ощущала силу этих болевых усилий и заново переживала муку, которую испытала когда-то. Чего бы она ни отдала, чтобы в эту минуту быть на месте Марии! Очень скоро ребенок отделится от этой запачканной, истерзанной и торжествующей плоти. Ребенок, который не умрет через несколько дней! Крики молодой женщины смолкли. Она отдыхала в ожидании следующей схватки. Фекла захотела напоить ее святой водой. Но Василиса принесла свою в пузырьке. Вода Феклы была из церкви, где Мария венчалась, вода Василисы – из храма, где Марию крестили. Две женщины встали друг против друга, и каждая держала в руке свою склянку:
– Моя вода освящена отцом Иосифом! – заявила Василиса. – Это святой человек!
– Не так он свят, как наш отец Иоанн! – воскликнула Фекла. – Он-то никогда не пьет!
– Отец Иосиф тоже!
– Пьет!
– Нет!
Мария снова изогнулась, будто укушенная в бок. Василиса и Фекла бросились ей на помощь. Они толкались у кровати. Их руки соприкоснулись на полуобнаженном теле.
– Оставьте меня! – тяжело дыша, взмолилась Мария. – Я хочу… Одну Василису!
Обиженная Фекла выпрямилась и сказала:
– Барин выбрал меня для помощи при родах!
– Если бы он хотел, чтобы все прошло по его указке, то не должен был уезжать! – высказалась Василиса. – А твой барин предпочел улететь, как птичка! Так пусть себе щебечет в сторонке!
– Я не позволю тебе оскорблять моего хозяина, старая ведьма! – заорала Фекла.
Софи вмешалась, проявив свою власть, отругала Василису за дерзость и отослала Феклу, пообещав, что ее позовут, когда роды приблизятся.
После ухода Феклы Василиса весело заявила:
– Теперь мы вдвоем справимся, моя красавица! Ты же прекрасно понимаешь, что я не собиралась раскрывать свои секреты при этой служанке Ирода!
И, развязав мешочек, она достала из него маленькие горшочки, пучки травы и икону. Прежде всего она постаралась натереть живот и бедра Марии барсучьим жиром. Во время массажа молодая женщина вытаращила глаза и начала торопливо, свистящим, как в бреду, голосом, говорить:
– Я хочу, чтобы вы знали… Но никому не рассказывайте этого… Он меня оставил… Он не любит меня… Ему наплевать, что я рожу ему ребенка… Бедный малыш!.. Он еще не родился, а все на свете против него… Никому он не нужен… Мой ребенок будет несчастным… Как я!..
Она с маниакальным упорством крутила головой по подушке.
– Не говори так, – пробормотала испуганная Василиса, – ты прогневишь Бога, и он будет против тебя! Лучше читай молитву!
Мария отказалась. Ей было слишком больно. Василиса прикладывала к ее губам, лбу и груди платок, смоченный в святой воде: «Хорошая вода, от отца Иосифа!» Из груди молодой женщины вырвался хрип. Ногти впились в ладонь Софи. Взгляд уперся в потолок. Василиса вдохновенным голосом произнесла:
– Он будет красивым! Сильным! Справедливым! Он будет умным! Богатым! И его будут звать Сережа!
* * *
Софи вернулась в Каштановку в сумерки. Она привезла важную весть: Мария родила мальчика. Николай обрадовался этому и захотел поделиться счастьем с отцом. В очередной раз Михаил Борисович отказался проявлять интерес к событиям в Отрадном. Софи пришлось дожидаться, когда она останется наедине с мужем, чтобы рассказать о всех перипетиях дня. Он упрекнул ее за то, что она уехала, не разбудив его, но на самом деле казался не очень огорченным тем, что остался в стороне от происходящего. Мужской эгоизм помогал ему игнорировать тяжелые обстоятельства рождения ребенка и наслаждаться счастьем конечного результата. Возможно, даже Николай не считал столь возмутительным отсутствие Седова, как хотел это показать. Что же касается Софи, то она была чрезвычайно взволнована, познав до конца ужас и красоту деторождения. Лежа в своей кровати при погашенной лампе, она ясно представляла себе момент, когда кусок красной плоти выскочил на свежий воздух прямо в руки Василисы. Этот сильный толчок, это кровавое месиво и крик новорожденного – все придавало началу жизни видимость ужасного преступления. Позже, склонившись над колыбелью, она уже не могла поверить, что это хрупкое бело-розовое дитя с большой головкой и прекрасными ручками было извлеченно из отвратительного окровавленного чрева. Ребенок был удивительно спокоен. Он еще принадлежал иному миру. Она поцеловала его, словно хотела ощутить свежесть источника. Разбитая, измученная Мария отдыхала с улыбкой на губах. Она онемела от счастья. Софи взяла задремавшего Николая за руку и тихонько сжала ее, затем посильнее. Ею овладел чувственный дурман. Наконец, он открыл глаза и придвинулся к ней. В его объятиях она продолжала думать о ребенке.
На следующий день Николай и Софи отправились в Отрадное, прихватив Василису, которая везла туда приданое для новорожденного. Вся женская прислуга Каштановки втихомолку вязала и шила предметы этой миниатюрной одежонки. Мария с волнением приняла подарки. Тяжелые испытания предыдущего дня не слишком отразились на внешности роженицы. Она сияла от гордости, лежа рядом с колыбелью, где дышал ее сын. Николай нашел его великолепным. Стали гадать, на кого он похож. Все пришли к единодушному мнению, что он полностью соответствует озарёвской породе. Софи не осмелилась сказать золовке, что рождение ребенка не по нутру Михаилу Борисовичу. Впрочем, молодая женщина, наверное, догадывалась об этом, ибо не задала ни одного вопроса по поводу отца. Точно так же она избегала любого упоминания об отъезде ее мужа. Николай спросил сестру, нужны ли ей деньги. Она от них отказалась. Уходя, он оставил на ночном столике тысячу рублей.
– У меня на всем свете есть только вы двое! – прошептала Мария. – Вы и мой ребенок!
* * *
Миновало несколько недель, а Седов все не возвращался. Каждый раз, когда Софи приезжала в Отрадное, она замечала, что Мария становится все более озабоченной и замкнутой. Счастье, которое подарил ей маленький Сергей, омрачалось ее полным неведением относительно намерений супруга. Она двадцать раз писала ему, но ответов не получала. Пожелай Седов оставить ее и ребенка, он, наверное, вел бы себя именно так. Вняв доводам Софи, Мария теперь согласилась, чтобы брат помогал ей деньгами. Но Николай считал, что подобная ситуация не может длиться долго. Он сам собирался поехать в Санкт-Петербург, найти там беглеца и под угрозой заставить его вернуться в семейное гнездо. На всякий случай он написал Васе и попросил его разузнать точный адрес Седова, чем он занимается и с кем общается. Его письмо осталось без ответа. Наконец, 9 сентября он получил от своего друга послание, в лаконичной форме объяснившее ситуацию: «Я покинул Санкт-Петербург и приехал к родным, чтобы отдохнуть здесь две недели. Мне совершенно необходимо встретиться с тобой. В любой день ты можешь найти меня в Пскове, в клубе, с трех часов дня».
Сухость такого приглашения удивила Николая, а также тот факт, что Вася не сообщил ему раньше о своем приезде в Славянку. Предчувствуя какую-то тайну, он в тот же день после обеда отправился в клуб. И, обнаружив Васю в комнате, предназначенной для чтения газет, с радостью бросился к нему. Но молодой человек остановил его резким, как удар шпаги, взглядом. Увидев столь враждебное выражение лица, Николай потерял самообладание:
– Что это на тебя нашло? Ты не рад меня видеть?
– Прежде чем ответить, я хотел бы показать тебе вот это письмо, которое я получил в Санкт-Петербурге, – произнес Вася бесцветным голосом.
В его руке дрожал листок бумаги, исписанный ровным почерком. Буквы напоминали печатные знаки. Николай схватил бумажку, прочел несколько строк и просто похолодел от страха:
«Знаете ли вы, что ваш лучший друг – любовник вашей матери? Я надеюсь, что не знаете, иначе не мог бы понять, как вы можете поддерживать отношения с Николаем Михайловичем Озарёвым. Он встречается с Дарьей Филипповной в китайском павильоне, построенном, так сказать, для вас. Несчастная женщина покорена этим безнравственным человеком, который почти годится ей в сыновья. В глазах соседей она выглядит смешной. Если вы не вмешаетесь, Дарья Филипповна опозорит свою семью. Друг, слишком уважающий вас, чтобы и далее скрывать от вас этот позор».
Николай машинально сложил письмо. Лицо его сохраняло спокойствие, но внутри царил полный хаос. Изобличенный в связи, которую порвал, Николай не знал теперь, что делать – отрицать очевидное или гордо принять вызов. Кто написал эту мерзость? Он тут же подумал о зяте. Не дождавшись десяти тысяч рублей, Седов решил отомстить. Но это было лишь одно из десяти предположений. Не было доказательств. Впрочем, проблема заключалась не в том. Что делать? В затянувшейся тишине страх, гнев, отвращение нарастали в душе Николая как гроза, затягивающая небо. Совсем потеряв голову, он пробормотал:
– Анонимное письмо!.. Какая гадость!
– Способ сообщения имеет небольшое значение, – заметил Вася. – Важно то, что здесь сказано. Я приехал сюда, чтобы проверить мои подозрения!
– Ты позволил себе расспрашивать мать?
– Нет. Я имею слабость все еще уважать ее. Что бы ни случилось, она ничего не узнает о моем беспокойстве. Я не задавал также никаких вопросов сестрам, чтя их невинность. О ваших свиданиях мне рассказали слуги.
– И ты им поверил?
– Полученные от них ответы соответствуют подробностям, содержащимся в письме без подписи. Но мне этого недостаточно. Я хочу услышать правду из твоих уст. Если ты станешь все отрицать, я сочту тебя трусом…
– А если я признаюсь?
– Ты заслуживаешь мою ненависть, но не презрение!
Николай бросил взгляд через плечо: они были одни в комнате.
– Послушай, – сказал он, – эта история нелепа! Наша дружба…
– Не упоминай о нашей дружбе! – выкрикнул Вася. – Отвечай: да или нет! Это все, что я хочу знать!
У него было лицо как у раздражительной женщины. Маленький рот искривился, глаза сверкали из-под длинных ресниц, пряди черных кудрей повисли над побелевшим лбом.
– Дашь ли ты мне слово, как мужчина, что никогда и ничего не было между моей матерью и тобой? – продолжил он.
Николай преисполнился долгом чести, желая выглядеть великолепным, и сказал:
– Хорошо! Я признаю факты.
Лицо Васи вдруг напряглось:
– Я требую дуэли!
– Ты с ума сошел? – прошептал ошеломленный Николай.
– А ты что же, так же малодушен, как лицемерен? – спросил Вася. – Для меня жизнь не будет больше иметь смысла, если я не смою это оскорбление кровью!
– Нет! Нет! – воскликнул Николай. – Я не стану драться с тобой! Ты был моим братом! Одна мысль, что…
Он не закончил фразы. Пощечина врезалась ему в щеку. Стыд и злость охватили его, нарастая с каждой секундой. Окинув комнату одним взглядом, он убедился, что никто не вошел сюда во время спора. Шум голосов доносился из соседнего зала. Еще переводя дыхание, Николай спокойно изрек:
– Ты этого хотел, Вася. Я принимаю твой вызов. Но с одним условием: никто не должен знать причин нашей ссоры. Даже наши секунданты!
– Согласен, – сказал Вася.
– Какой день ты назначишь?
– Завтра!
– А что с нашими секундантами? – спросил Николай.
– Мы найдем их прямо здесь, среди членов клуба. Думаю, Башмаков сможет все это устроить. Пойду поищу его.
Вася вышел из комнаты, а Николай стоял неподвижно, не в силах побороть ощущение роковой неизбежности, давившей ему на плечи. Он сбросил оцепенение, лишь увидев снова своего друга, который появился в сопровождении Башмакова и Гуслярова. Рядом с молоденьким, невысоким и толстеньким Гусляровым Башмаков казался еще выше и крепче, у Гуслярова было круглое лицо, лоб покрыт белым пушком. На лицах обоих приятелей застыло очень строгое выражение: Вася сообщил им, какой услуги ожидали от них.
– Я буду твоим секундантом, – сказал Башмаков Николаю. – А у Васи – Гусляров.
– Прекрасно, – ответил Николай. – Заметьте с самого начала, что я принимаю все условия, которые мой противник пожелает поставить перед поединком. Давайте покончим с этим! Как угодно, но поскорее!
Он никогда не дрался на дуэли. Вася тоже. Башмаков, напротив, поднаторел в делах чести.
– Осторожно, дорогой мой! – заметил он. – Так дела не делаются! Надо соблюдать определенные правила. Первая встреча секундантов состоится немедленно. Мы составим проект протокола…
Николай перебил его:
– Займитесь вашими делами. А я поеду домой. И не сдвинусь с места, пока не узнаю, куда надо явиться. Будьте так добры, до того времени сообщите мне о принятых вами условиях!
И, ни с кем не попрощавшись, он вышел. В конюшне клуба стояла в ожидании его лошадь. Он велел оседлать ее и направился в Каштановку. Свежий ветер скачки не разогнал его тревоги. То, что случилось с ним, было настолько глупо, что он уже ни в малейшей степени не ощущал единства с тем миром, в котором привык жить. Он встретился с Софи, но не как с женой, а как с очаровательной иностранкой, чьей проницательности должен был опасаться. Чтобы избежать необходимости говорить с нею, Николай удалился в свой рабочий кабинет под предлогом проверки счетов по имению.
В семь часов вечера явился Башмаков. Он выглядел напыщенным, побагровел, голову держал прямо, смотрел мрачно, усы его топорщились.
– Все улажено! – заявил он, усаживаясь в кресло, которое затрещало под тяжестью его тела.
Николай бросил настороженный взгляд в коридор, захлопнул дверь и спросил:
– Когда мы деремся?
– Завтра, в одиннадцать часов утра, в маленькой рощице, которую я знаю, неподалеку от Великой. Ты заедешь за мной. Я тебя провожу.
– Оружие?
– Пистолеты, – ответил Башмаков.
– Каковы остальные условия?
Усы Башмакова скосились, что у него являлось признаком замешательства:
– Твой противник хочет придать поединку рыцарский характер. Он отказывается удовлетвориться простым обменом выстрелами. По его просьбе мы разработали следующие условия… Разумеется, если они тебе не подойдут, мы поищем другие способы…
– Я уже сказал в присутствии Васи и Гуслярова, что согласен со всем наперед! – пробурчал Николай. – И не собираюсь теперь отказываться от своих слов!
– Прекрасно! – сказал Башмаков. – Другого я и не ожидал от тебя. Итак, дело выглядит следующим образом…
Он потер свои сухие ладони друг об друга, сощурил один глаз и продолжил тоном организатора:
– Вы будете стоять на расстоянии восьми шагов. Мы разыграем в орлянку, кто из вас будет стрелять первым. Тот, кого определит судьба, получит пистолет, и мы повяжем его глаза платком.
– Зачем?
– Чтобы усложнить задачу и испытать мужество и достоинство другого. Безоружный дуэлянт, действительно, своими указаниями должен будет направлять на себя дуло стреляющего вслепую. Если последний промахнется, то станет мишенью в свою очередь. Другими словами, вновь обретя зрение, он будет давать все необходимые указания, чтобы его противник, которому между тем тоже завяжут глаза и дадут пистолет, смог прицелиться в него, имея все шансы на удачу.
– Если я правильно понимаю, – заметил Николай, – такого рода дуэль требует от каждого заинтересованного лица сделать все необходимое, чтобы быть убитым другим.
– Именно так! – подтвердил сияющий Башмаков. – Я слышал, что подобная дуэль недавно произошла в Пруссии. Вася, которому я представил свой проект, был в восторге. Он так же, как и я, считает, что это верх утонченности в области решения разногласий с помощью оружия.
– Он прав, – буркнул Николай.
– Значит, мы так и будем делать?
– Конечно!
– Учитывая исключительные условия поединка, противники должны согласиться с тем, что по законам чести получат удовлетворение после одного обмена выстрелами, даже безрезультатного.
– Согласен.
– Я займусь пистолетами.
– Да, да! – вздохнул Николай.
Он не мог дождаться, когда уйдет этот посетитель, чьи глупость и тщеславие раздражали его. Однако, когда Башмаков удалился, Николай загрустил от того, что ему теперь не с кем было поговорить о предстоящей дуэли. До отхода ко сну приходилось всеми силами сдерживать себя, чтобы скрыть волнение от Софи. Могла ли она предположить, что человек, поцеловавший ее сегодня вечером, перед тем как лечь в постель, только наполовину имеет шанс выжить?
Гася лампу, он ощутил, что стал одновременно более одиноким и свободным, более проницательным и вместе с тем преисполненным отчаяния. Вперив глаза в черную мглу ночи, он попытался проанализировать свою тревогу. Нет, Николай не боялся смерти. Он представлял ее себе как головокружительное падение в колодец, плавную потерю сил, вечный покой в окружении библейских пророков… Но если он с восторгом согласился бы пожертвовать собой во имя благородной цели, то теперь страдал оттого, что бессмысленно рискует жизнью из-за женщины, которую больше не любил и, в сущности, никогда не любил. Размышляя о своем политическом идеале, о друзьях, о будущих переменах, он мучился тем, что эта великая мечта оказалась разбита незначительной вольностью поведения. Как допустил Господь такое несоизмеримое с грехом наказание? Николай заметил, что защищает свое дело перед судьей, который находится приблизительно на месте иконы. Свет ночника освещал позолоту святого лика. Если предопределено, что Вася убьет его завтра, что станет с Софи? Николай разрывался от жалости при мысли о горе, которое она испытает из-за него. Он привез ее из Франции в Россию, поселил в чужой семье, не смог подарить ей ребенка, изменил ей и теперь готовился умереть, оставив ее в одиночестве, обесчещенной из-за скандала, ее, заслуживающую величайшего счастья! «Если я выживу, – подумал Николай, – клянусь посвятить всего себя моей жене и благу людей…» И его страхи тут же рассеялись. Он отказывался верить, что часы из плоти и крови по имени Николай Михайлович Озарёв остановятся завтра около одиннадцати часов. Он слишком ощущал в себе жизнь, чтобы представить себя трупом.
– Ты не спишь? – раздался в темноте голос Софи.
Он подскочил, будто разбуженный призраком. Во рту появился солоноватый привкус. До предела охваченный нежностью, он тихо ответил:
– Я засыпал.
Николай не спал всю ночь. Рассвет застиг его в тот момент, когда он, измученный и раздраженный, мысленно сочинял письмо, которое оставит жене. Утром Николай дождался, когда она выйдет из спальни, чтобы написать его. Но составленный текст показался ему смехотворным. И он начертал на клочке бумаги простые слова: «Прости мне, моя Софи, все то зло, что я тебе причинил. Я не мог поступить иначе. Люблю тебя больше, чем жизнь. Прощай». Он сунул бумажку себе в карман: ее найдут у него, если он будет убит.
В день своего последнего, быть может, появления в этом мире Николай хотел выглядеть особенно элегантным. Он тщательно выбрился, надел тонкое белье, повязал красивый галстук и надел сюртук темно-фиолетового цвета с черным воротничком. Этот изысканный туалет не помешал ему остаться для его близких таким же беззаботным и милым Николаем, каким он был всегда. Софи спросила, что он собирается делать в Пскове в такой ранний час. Николай ответил, что Башмаков хотел узнать его мнение о кобыле, которую ему пытались продать.
– Но ты вернешься к обеду? – спросила Софи.
– Конечно! – ответил он.
И сердце его горестно защемило. Михаил Борисович попросил сына привезти ему табаку. Николай обещал не забыть об этом.
– Какое чудесное утро! – сказал он, засовывая ногу в стремя.
Новое седло слегка заскрипело под ним. Лошадь прядала ушами. «Для чего я жил? – подумал Николай. – Ни для чего! Ни для чего!..» Его отец и жена вышли на крыльцо. Он печальным взглядом окинул две знакомые фигуры, старый розовый дом с белыми колоннами, пожелтевшие деревья, все то, что, быть может, он больше не увидит. Затем, не в силах справиться с нахлынувшими воспоминаниями, погнал лошадь в черную еловую аллею.
Когда Николай и Башмаков подъехали к рощице на берегу Великой, Вася и Гусляров оказались уже на месте. Тонкие березки с золотистой листвой окружали участок земли, покрытый увядшей травой. Хотя солнце поднялось уже высоко в небо, густой туман, поднимавшийся от воды, все еще цеплялся за ветки. Было свежо. В воздухе пахло тиной, мхом, дымом. С карканьем пролетел ворон. «Дурное предзнаменование!» – подумал Николай. Он привязал свою лошадь и лошадь Башмакова к дереву. Гусляров и Вася приехали в коляске. В случае необходимости она послужит как санитарное средство. Но привозить врача не сочли необходимым.
Бледный, в черном сюртуке, Вася сидел на камне и покусывал соломинку. Он даже не взглянул на вновь прибывших. Николай не мог смириться с мыслью, что перед ним не друг юности, а враг, жаждущий его гибели. Вопреки очевидности, он все еще надеялся, что этот молчаливый паренек бросится к нему, обнимет его и со слезами откажется от испытания. Но время шло, а Вася не двигался с места. Секунданты, шагая рядом – один – маленький, другой – очень высокий, – уже отсчитывали восемь условленных шагов. Они положили свои шляпы в тех точках, где должны были стоять противники. Затем стали тихо переговариваться. Каждый принес дуэльные пистолеты в футлярах. Секунданты сравнили оружие, проверили его, зарядили. Николай желал всей душой, чтобы судьба назначила Васю стреляющим первым. «Если так случится, – размышлял он, – мне не придется решать сложную задачу: или он убьет меня, и все будет кончено, или не попадет в цель, а когда придет моя очередь, я выстрелю в воздух. Но если я должен буду стрелять первым, как мне поступить? Попытаться убить его или пощадить, допуская, что он затем не промахнется?»
– Скоро ли они закончат? – сухо спросил он.
Вася приподнял голову и бросил на него презрительный взгляд.
– Вот! И вот! – произнес Башмаков. – Мы сейчас бросим жребий.
– Я выбираю решку, – сказал Вася.
– Отлично, – буркнул Николай.
Башмаков подбросил вверх серебряную монету. Она закрутилась вокруг собственной оси и упала в притоптанную траву. Четыре головы склонились одновременно к земле.
– Орел! – объявил Гусляров. – Николай Михайлович, вам принадлежит честь…
Николай вздрогнул, охваченный разочарованием. Его сердце разрывалось в гулкой пустоте. Он направился к отведенному ему месту. Вася, вытянувшись, встал на расстоянии в восемь шагов.
– Выбирайте, – сказал Гусляров, протягивая Николаю футляр, где лежали два одинаковых пистолета с длинными отполированными дулами. Николай выбрал оружие наугад. Пистолет показался ему тяжелым, но хорошо сбалансированным. Башмаков достал из кармана черный шейный платок и, встав за спиной друга, завязал ему глаза.
– Можете поклясться мне честью, что вы теперь не видите? – спросил Гусляров.
– Клянусь вам, – ответил Николай.
Платок впился ему в перепонку носа. Очень тугой узел комом давил в основание черепа. Запах табака и притираний наполнил голову: аромат Башмакова. Темная ночь. Нельзя терять ни секунды. Все тот же вопрос, но с большей остротой, проник в его сознание: «Убить Васю, чтобы быть уверенным, что останусь жить, или подарить ему жизнь, рискуя быть убитым?»
– Готов? – спросил Башмаков.
– Готов, – ответил Николай.
И медленно поднял руку. Он представлял себе Васю, бледного, вытянувшегося, с остановившимся взглядом, в котором светятся и ужас, и храбрость, Васю, которому не в чем было себя упрекнуть, Васю, чьи самые прекрасные годы – в будущем!.. В сравнении с этим мальчишкой он ощущал себя износившимся, увядшим, бесполезным. Оружие оттягивало ему руку. Он опустил дуло, направленное в темноту наугад. Голос Васи прогремел у него в ушах. Голос будто из могилы:
– Ниже… Левее… Так, теперь чуточку вправо… Нет, это слишком… Очень хорошо. Еще немного… Еще…
Николай послушно исполнял указания, убийца, поощряемый жертвой!
– Прекрасно, – сказал Вася. – Не двигайтесь. Стреляйте!
Это обращение на «вы» удивило Николая. Рука его задрожала.
– Ну что же вы! Стреляйте! Стреляйте! Чего вы ждете? – истерически орал Вася.
Николай направил пистолет вверх и нажал на курок. Выстрел оглушил его, и одновременно он ощутил отдачу оружия в плечо. И сорвал повязку. Дневной свет ослепил его. Он был счастлив, что выстрелил в воздух. В восьми шагах от него Вася с искаженным от гнева лицом кричал:
– Не думайте, что удержите меня своим великодушным жестом! Между нами нет места для признательности! Я намерен воспользоваться своим правом!
– Кто тебе в этом мешает? – спросил Николай.
И подумал: «Он будет меня ненавидеть и после того, как убьет?» Башмаков уже поднес пистолеты Васе, завязал ему глаза и задал положенный вопрос:
– Можете вы поклясться мне честью, что ничего не видите?
– Клянусь вам, – ответил Вася.
Он отряхнул плечо и поднял оружие. Молодой бог, слепой, как Фортуна, он ждал, когда голос прикажет ему двигаться. Под пристальными взглядами секундантов Николай не мог нарушить долга. Впрочем, у него не было никакого желания плутовать. Если он страдал в тот момент, когда держал на мушке противника, то теперь, когда стал мишенью, уже ничего не боялся. Жизнь, смерть – все ему было безразлично. Николаю казалось, что он перевоплощается, что пересекает полосу прозрачного воздуха, что переходит в иной мир. Зрительно он упивался бледными красками осени и произнес:
– Ты совсем не там стоишь, где надо… Вернись влево… Подними чуть-чуть оружие… Чуть поменьше… – Пистолет осторожно перемещался. И наконец застыл на удобном уровне. Отверстие ствола было похоже на маленький и злой черный глаз, нацеленный на Николая. «Он не выстрелит мимо меня», – подумал Николай. И крикнул:
– Не двигайся дальше! Стреляй!
Николай на мгновение задумался о Софи, о своих друзьях… Выстрел. Пуля просвистела у левого уха. Когда прошла первая секунда удивления, он понял, что стоит без единой царапины, а его сердце бьется ровно. Дым рассеялся. Вася в ярости протянул пистолет Гуслярову.
– Господа, – сказал Башмаков, – условия договора чести соблюдены. Как было решено, другого обмена выстрелами не будет. Не желаете ли вы помириться на месте?
Вася отрицательно покачал головой. Его глаза сверкали.
– Это невозможно! – пробормотал он. – Я не потребую новой дуэли, но не предлагайте мне пожать руку этому человеку! Между ним и мною все кончено! Я не хочу больше знать его! Прощайте!
Быстрым шагом он направился к своей коляске, Гусляров на коротких ножках следовал за ним. Башмаков громко расхохотался:
– Финита ля комедия! Все прошло хорошо! Ты доволен?
– Очень доволен, – искренне подтвердил Николай.
Он почувствовал охватившее его с ног до головы облегчение, но радоваться не мог, словно, сохранив жизнь, все же проиграл. Единственным удовлетворением было то, что Софи ни о чем не подозревала. Он достал из кармана письмо, которое написал жене, с грустью прочитал его и разорвал. Клочки бумаги рассыпались по траве.
– Пригласи меня отобедать в клубе, давай отпразднуем счастливое завершение этого поединка! – предложил Башмаков.
– Нет, – отказался Николай. – Меня ждут дома.
Проезжая Псков, он купил табаку для отца.
11
Со временем Николай окончательно понял, что эта дуэль, которая внешне закончилась благополучно, на самом деле оставила в нем глубокий след. Один человек покинул этот дом, чтобы сражаться, другой вернулся в него разочарованным, сдержанным, задумчивым. Убежденный в том, что автором анонимного письма был Седов, он подумывал о том, чтобы поехать в Санкт-Петербург, заставить его признаться и лишить возможности вредить ему. Но каким образом? Он не знал в точности. Человек этот был опасным. За разоблачениями любовного свойства могли последовать разоблачения политического характера. Николай предпочел бы умереть, нежели увидеть своих друзей скомпрометированными по его вине! Костя Ладомиров посылал ему по-прежнему все более настойчивые письма: «Рылеев часто говорит с нами о тебе… Как жаль, что ты живешь так далеко!» Николай показывал эти письма Софи. Она, казалось, не догадывалась, чего он ждал от нее.
Пользуясь затянувшимся отсутствием Седова, она целыми днями пропадала в Отрадном, рядом с Марией и маленьким Сергеем, которым восхищалась.
С первыми осенними дождями настроение Николая заметно ухудшилось. Он часто думал о Васе, который уехал, не согласившись встретиться с ним. Деревня, оголенная, размытая, погружалась в грязь и туман. В Санкт-Петербурге открылся театральный сезон, собрания у Рылеева, должно быть, становились все более пленительными, а здесь лучшее развлечение – завывание ветра, треск деревьев и рокот воды в водосточных трубах. Как случилось, что перспектива провести еще одну зиму в Каштановке в той же степени не удручает Софи? Приглядевшись к поведению своей жены, Николай убедился, что эта республиканка в действительности была очень счастлива, оказавшись в роли хозяйки большого имения. Осуждая варварские нравы в России, она довольна предоставленной ей властью над двумя тысячами крепостных крестьян. Пытаясь улучшить их участь, она, конечно, делала это по доброте душевной, но вместе с тем из потребности управлять жизнью других. Даже ради того, чтобы угодить мужу, даже для совместного с ним участия в борьбе за свободу она не смирилась с необходимостью покинуть усадьбу. Без сомнения, сознание того, что она, начав с нуля, завоевала доверие стольких людей, начиная со свекра и кончая последним из мужиков, крепко привязывало ее к местам, куда она когда-то приехала в качестве нежеланной иностранки. Каштановка стала ее завоеванием. Даже спесивый Михаил Борисович больше не отрицал этого. Николай не мог спокойно думать о своем отце. Какую игру разыгрывал он между детьми? Михаил Борисович поправлялся, совершал короткие прогулки верхом и собирался организовать новую охоту на волков. Губернатор Пскова фон Адеркас пригласил его отобедать в его доме в последнее воскресенье октября месяца, – ежегодно в этот день он собирал у себя всех знатных людей этой местности. Впервые по прошествии долгого времени Михаил Борисович, по уговору Софи, решил принять приглашение.
Когда настал этот день, именно она решала, как ему одеться. Софи подчеркивала, что Михаил Борисович обязан быть особенно элегантным, поскольку его выходы в свет случаются редко. Он потратил много времени на подготовку и вышел из своей комнаты, словно медведь из берлоги. И, беспокойно озираясь, ждал одобрения Софи. Она похвалила его, пальчиком поправила узел галстука и потребовала показать ей очки. Он не удосужился почистить их. Софи упрекнула его за это и вытерла стекла своим носовым платком, а он в это время улыбался от удовольствия. Месье Лезюр испросил разрешения воспользоваться той же коляской для поездки в Псков. Но вне всякого сомнения это был скорее предлог, чтобы провести часок наедине с Михаилом Борисовичем в его экипаже: для него все средства были хороши, лишь бы приблизиться к своему мучителю. Пожурив француза и чуть не доведя его до слез, Михаил Борисович крикнул ему, что надо торопиться, что лошади готовы, что ждут только его!.. Месье Лезюр бросился в свою комнату и скоро спустился вниз: ботинки его были начищены, лысина надушена, а жилет криво застегнут. Николай и Софи, стоя на крыльце, провожали двух путешественников. Сидя рядом с импозантным Михаилом Борисовичем, наставник – маленький, съежившийся в своем пальто, в надвинутой на глаза шляпе и с сияющим лицом – был похож на ребенка, которого везут на ярмарку.
Уже несколько лет Николай с женой не обедали наедине. Софи наслаждалась этим обстоятельством, но вопреки собственной воле все время думала о свекре. Этот дом был немыслим без Михаила Борисовича, присутствие которого оживляло его. Стоило Софи взглянуть на кресло, где он обычно сидел, и она была уже в комнате не одна со своим мужем. Николай, напротив, казалось, избавился от напряжения. С самого начала обеда он стал обсуждать письмо Кости Ладомирова, которое прочел Софи накануне. Вдруг Николай заговорил твердым голосом и стал нападать:
– Надо принять решение, Софи. Если нам придется прожить здесь с начала до конца года, я умру от скуки, безделья и отчаяния!..
Никогда раньше он с такой горечью не жаловался в ее присутствии.
– Ты опять хочешь уехать? – спросила она.
– Да, – ответил он. – С тобой!
Она опасалась такого ответа.
– Почему тебе не нравится жить в Каштановке? – вздохнула она.
– А тебе, Софи, почему так хорошо здесь после Парижа и Санкт-Петербурга?
Она улыбнулась:
– В городах столько суеты, фальшивый блеск, и мне это отвратительно! Здесь же все подлинное, все простое, все имеет истинное значение…
– Я, быть может, думал бы так же, как ты, если бы мне было безразлично будущее моего отечества! Но ты-то знаешь, что в Санкт-Петербурге меня ждут друзья, тебе ведь известно, что я горю желанием посвятить себя их делу! И ты не можешь осуждать меня, когда я заявляю о том, что хочу присоединиться к ним! В конце-то концов, ведь именно ты толкнула меня на этот путь! До того как познакомиться с тобой, я совсем не разбирался в политике и не думал о необходимости отмены крепостного права, я даже не представлял себе или почти не представлял, что такое конституция!
Софи уже давно ждала подобного упрека! Да, Николаю могло показаться странным, что после того, как жена привила ему вкус к свободе, теперь почему-то не слишком поощряет его действия. Как объяснить ему, что жизнь притупила в ней страсть к идеям, что она предпочитала теперь общение с простыми людьми знакомству с великими умами, что ее счастье стало земным, безотлагательным, ежедневным?..
– Я хотела бы предостеречь тебя от такого воодушевления, – тихо произнесла она.
– А что ты видишь плохого в моем воодушевлении? – воскликнул он. – Не исповедуешь ли ты теперь случайно монархизм?
Рассердившись, она смотрела на него с сочувствием, не лишенным иронии, с нежностью, но здраво, как учитель смотрит на ученика:
– Нет, Николай, я не изменила своих взглядов.
– Однако ты не стала бы говорить так во Франции!
– Во Франции я была у себя дома, среди соотечественников, чьи взгляды были мне близки.
– Можно подумать, что ты только что приехала в Россию! Хотя живешь среди нас уже годы!..
– Да, годы, – прошептала Софи. – И тем не менее в политическом смысле чувствую себя чужой русскому народу. Всякий раз, когда я хочу действовать, что-то стесняет меня, беспокоит, удивляет. Мне кажется, у меня нет качеств, необходимых для того, чтобы разрушать существующий режим в стране, где я не родилась. Ты будешь смеяться, но если бы я помогала вам насаждать здесь республиканские идеи, которые отстаивала во Франции, то в какой-то момент сочла бы это неуважением к законам гостеприимства!
Он откинулся назад на стуле и пробормотал:
– Именно об этом я и говорил: ты – против революции!
– Вовсе нет! Я даже считаю ее необходимой. Но не признаю за собой право вмешиваться в нее лично. Сколько раз я повторяла тебе, что новый режим должен быть продуман, подготовлен, установлен русскими, иначе говоря, тобой и твоими друзьями! Все, что могу сделать я, это – подготовить крестьян к восприятию счастья, которое вы подарите им однажды. Для этого мне нет никакой нужды ехать в город! Совершенно очевидно даже, что лучше будет мне остаться в деревне…
Она говорила о мужиках, а думала о Михаиле Борисовиче. Он тоже нуждался в ней. И вдруг она обрадовалась, что увидит его снова за ужином. Он расскажет ей об обеде у фон Адеркаса, покритикует меню, посмеется над гостями. Она упрекнет его в том, что он не очень общителен. Он согласится, признав ее правоту. Потом, может быть, они сыграют в шахматы… Она услышала, что говорит Николай:
– Мы могли бы провести там недели две, не больше…
– Нет, Николай, – ответила она, – мое место – здесь.
– Я знаю, почему ты не хочешь уезжать: из-за моего отца!
– Действительно. Он уже не молод. Его здоровье тревожит меня…
– Да будет тебе! – заметил он, смеясь. – Когда он смотрит на тебя, ему как будто двадцать!
Ее задела столь грубая шутка.
– Я решил тебя подразнить! – продолжил Николай. – Впрочем, не только он удерживает тебя. Есть еще Мария! И Сергей! И мужики! Каким бы невероятным это ни казалось, весь этот мирок мешает нам жить так, как мы хотим!
– А почему бы тебе не возвратиться в Санкт-Петербург? – спросила она.
Он с удивлением посмотрел на нее:
– Мы ведь не станем разлучаться опять!
Она улыбнулась:
– Неужели ты совсем забываешь меня, когда вдалеке?
– Я не только не забываю тебя! – воскликнул он. – Но с той минуты, когда расстаюсь с тобой, мечтаю о мгновении, когда вновь тебя увижу!
– Осторожно! Если все так, я посоветую тебе как можно чаще уезжать!
– Я бы этого не выдержал, – признался он. – Но при этом ты представить себе не можешь, как мне хочется снова увидеть друзей! Я подозреваю, что готовятся великие дела! И если мне придется пропустить важное собрание, я никогда не утешусь! О, Софи, как приятно иметь идеал! Как же я благодарен тебе за то, что ты открыла мне радость напряженной умственной жизни!
Она одобрила его высказывания, слегка покачав головой. Этот юношеский порыв забавлял и очаровывал ее.
– Так вот! Поезжай в Санкт-Петербург, Николай, – сказала она. – Я прошу тебя об этом!
Михаил Борисович вернулся лишь в пять часов пополудни. Увидев его снова, Софи ощутила радостный подъем и осознала, что все время ждала его. Обед у фон Адеркаса утомил свекра.
– Я расскажу вам обо всем сегодня вечером! – сказал он.
И удалился в свою комнату. Но вместо того, чтобы прилечь и отдохнуть, позвал к себе сына. Николай застал его лежащим на диване черной кожи, с подушкой под затылком, ноги отца были укрыты клетчатым пледом. Глаза Михаила Борисовича были закрыты, он тяжело дышал, как человек, погруженный в сон. Услышав, как закрывается дверь, он, не поднимая век, произнес:
– Это ты, Николай?
– Да.
– Что это за история с дуэлью?
Николай вздрогнул и, чтобы выиграть время, пробормотал:
– Дуэль?
– Да, мне о ней рассказали у фон Адеркаса. Говорят, ты дрался с Васей Волковым!
Не в силах отрицать факты, Николай упавшим голосом сказал:
– Так точно.
И тут же его охватил страх при мысли, что отцу, быть может, известна причина поединка.
– Вы поссорились? – спросил Михаил Борисович.
– Да.
– Из-за чего?
Николай обрел надежду: тот, кто его расспрашивал, ничего определенного не знал.
– Я готов рассказать вам об этом, батюшка, – прошептал он, – но обещайте мне, что ничего не расскажете Софи… Ей ничего не известно… Это дело чести, понимаете, мужское дело…
– Даю тебе слово, – промолвил лежавший.
Только губы зашевелились на его каменном лице.
– Ну так вот, – сказал Николай, – Вася Волков обвинил меня в том, что я плутую в игре…
Произнося эту фразу, Николай задавал себе вопрос, когда же он приготовил ее. Такая легкость выдумки напомнила ему первое время после женитьбы, когда он лгал отцу, чтобы убедить его принять жену, и лгал жене, чтобы оправдать жестокосердие отца.
– Да ну? – заметил Михаил Борисович. – Так не похоже на этого мальчишку!
– Я и сам был поражен, – вставил Николай. – Он сильно изменился в Санкт-Петербурге. Стал мрачным, заносчивым, мстительным… Поскольку Вася сделал мне такое замечание при свидетелях, а я отказался принести ему извинения, он потребовал сатисфакции с помощью оружия! Я должен был уклониться?
– Нет, конечно! – пробурчал Михаил Борисович. – Но это глупо! Один из вас мог остаться на месте дуэли! И все из-за пустяка! О молодость!..
Вдруг он приоткрыл один глаз. Николая поразил его проникновенный взгляд, который, казалось, ставил под сомнение искренность его объяснений. Дабы избежать новых вопросов отца, Николай решил сам смутить его. Зная слабое место своего противника, он беззаботным тоном объявил:
– В общем, я согласился с Софи относительно поездки в Санкт-Петербург…
Он хорошо направил удар. Михаил Борисович приподнялся на ложе. Его густые брови нахмурились. Он пробормотал:
– Какая поездка?
– Софи не предупредила вас?
– Нет.
– И вправду! Все решилось так быстро! Впрочем, мы еще не назначили день отъезда. Думаю, через четыре или пять дней…
Произнося эти слова, он наслаждался смятением, охватившим его отца.
– Ты с ума сошел? – сказал Михаил Борисович. – Что тебе там делать? Снова драться с Васей Волковым?
– Конечно, нет, – ответил Николай. – Мы расстались холодно, но достойно. Нет, я надеюсь, что это будет поездка ради развлечения. Мне нужно отвлечься…
– Но это… это невозможно!.. Сейчас самое неподходящее время года для путешествий!.. И кроме того, дом уже продан!.. Где ты будешь жить с женой?
Николай решил, что игра продолжалась достаточно долго.
– Как вы могли подумать, что Софи будет сопровождать меня, отец? – произнес он с саркастической улыбкой.
– Она не поедет с тобой? – спросил Михаил Борисович.
– Да нет! Она останется здесь. С вами.
Михаилу Борисовичу трудно было скрыть свою радость. Его тяжелые щеки дрогнули. На лице обозначилось выражение растерянности и торжества.
– Ну! Вы довольны? – спросил Николай.
– Вовсе нет! – ответил Михаил Борисович. – Я считаю прискорбной подобную разлуку супругов. Но в конце-то концов, если это ваше обоюдное решение…
«Он лжет так же, как я, но похуже!» – с отвращением подумал Николай. Стоя у дивана, он прочитал в глазах отца безобразную тайну, нечто злобное и радостное одновременно, пожал плечами и направился к двери.
12
Едва коляска въехала в ворота Отрадного, как Софи захотела повернуть назад. В группе мужчин, толпившихся перед домом, она издалека разглядела тощую фигуру Седова. Если бы она знала, что он вернулся из Санкт-Петербурга, она бы не приехала. Скатываясь и подскакивая в грязи двора, коляска остановилась у крыльца. Седов помог Софи выйти. На нем были высокие запачканные грязью сапоги и красный жилет с медными пуговицами под черной бархатной курткой.
– Добро пожаловать, – приветствовал он ее подчеркнуто любезно. – Мария не ожидала вас, но будет в восторге от вашего приезда. Она, должно быть, в своей комнате. Я не провожаю вас…
Софи холодно ответила на его поклон и поднялась по ступенькам. Дом будто опустел. В помещении для прислуги крестьяне плакали, как на похоронах. Софи постучала в дверь спальни. Через секунду Мария была уже в ее объятиях, лицо молодой женщины казалось очень напряженным.
– Что происходит? – спросила Софи. – Вы выглядите взволнованной!
– Вы ничего не заметили на улице? – спросила Мария.
– Я встретила Владимира Карповича…
– Да, он приехал позавчера. А этих людей вы видели? Это покупатели…
– Чего?
– Крепостных, лошадей, скота. Мой муж решил продать то немногое, что у нас осталось. Мы сохраним для себя только дом, одну лошадь, двух коров, трех или четырех слуг. Я буду по-прежнему жить здесь с ребенком. А у Владимира Карповича появится маленькое жилище в Санкт-Петербурге, для работы. Время от времени муж будет навещать меня.
Софи была потрясена, но не решалась сказать об этом, боясь усугубить положение. В конце-то концов, возможно, Мария будет счастливее в этом деревенском уединении, нежели в Санкт-Петербурге, рядом с человеком, который не любит ее. Как бы то ни было, действия Седова были отвратительны: он ликвидировал все свое имущество, покидал жену и ребенка и убегал, прихватив деньги семьи.
– А вы не хотите уехать в Санкт-Петербург вместе с ним? – спросила Софи.
– Нет, – поспешно ответила Мария. – Я ненавижу город. Мне было бы скучно там. Я сказала об этом Владимиру Карповичу…
Из гордости она делала вид, что сама приняла решение, явно навязанное ей Седовым. С тех пор как Мария вышла замуж, она вот так и разрывалась между необходимостью признаться в своем отчаянном положении и стремлением доказать, что она счастлива. Плохенькое светло-сиреневое платье с голубыми оборками обтягивало ее талию и тяжелыми складками спадало на бедра. Мария подошла к окну.
– Посмотрите, – сказала она. – Это ужасно!..
Домашние слуги вереницей подходили к крытой повозке. Человек, купивший их наверняка для одного из местных помещиков, останавливал их по пути, заглядывал им под нос, ощупывал руку одного, открывал рот другого, вытирал пальцы о брюки и записывал имя на листе. Женщины удостаивались хлопка по заду. Все – и молодые, и старые – плакали. Они, должно быть, надели юбки одну на другую, потому что казались необъятными. Согнув плечи, крестьянки тащили тяжелые матерчатые тюки, откуда выглядывал то ковш, то ручка сковороды. Мария тихим голосом называла их имена:
– Матрена, Агафья, Евдокия, Анастасия…
На другой стороне двора перекупщики осматривали лошадей. Один из мужиков вывел за уздечку первое животное из строя и пустил рысью. Это была серая кобыла с блеклой шерстью и большой вялой головой. Чтобы заставить ее усилить прыть, Седов хлопал в ладоши, топал ногами, свистел. Лошадь испугалась, протащила немного конюха на корде, затем снова позволила ему править. Вторая лошадь оказалась не более ретивой. Еще две клячи, окруженные с обеих сторон, проскакали по кругу и вернулись на свое место, с трудом переводя дух от столь ничтожного напряжения. На лицах торговцев было написано разочарование. Так же как поступали с крепостными, они смотрели глаза, зубы, мускулатуру животных. Началось обсуждение. Седов размахивал руками и говорил с большой важностью, но Софи ничего не слышала сквозь толщу двойных рам.
В соседней комнате раздался писк младенца. Мария пошла за проснувшимся сыном. Он появился на руках у Меланьи, кормилицы в чепце, украшенном венчиком из стеклянных бусин и разноцветными лентами. Меланья была крупной молодой женщиной с большой грудью, розовой кожей и глазами как у телки. Пока она расстегивала свой корсаж, Софи положила ребенка к себе на колени. У него была абсолютно круглая головка, личико, как у крохотного зверька, и огромные карие глаза, излучающие свет и окутанные грезой. Выкручиваясь и пыхтя, он подчинялся какому-то внутреннему порыву. И вдруг улыбнулся Софи. Ее это удивило, как знак из иного мира, и она прошептала:
– Вы видели?
Кормилица взяла у нее ребенка. Он припал к пышной груди и начал сосать.
– Эта девица останется с вами, я полагаю? – спросила Софи по-французски.
– Да, – ответила Мария. – Я возьму ее себе, так же как Феклу, Пульхерию, Андрея…
Обе молодые женщины снова подошли к окну. Часть обоза уже двинулась с места. Повозки, перевозящие крепостных, катились впереди. Бородатые лица выглядывали сквозь проемы покрытия. Чья-то рука осенила крестным знамением тусклое воздушное пространство. Четыре лошади шли позади. Наконец проследовали две коровы, которых вел мальчишка в лохмотьях и с голыми ногами.
– Вот мы и стали еще беднее! – вздохнула Мария.
Ротик Сергея с одинаковыми интервалами издавал сосущий звук.
– Не так быстро, обжора! – рассмеялась кормилица.
В комнату вошел Седов. Он, видно, был доволен собой.
– С этим покончено, – сказал он. – Меня обобрали, как я и предполагал. Но теперь по крайней мере путь свободен!
Затем, увидев кормилицу, он покривился с отвращением, щелкнул пальцами, указав на дверь, и проворчал:
– Я терпеть не могу, когда выставляют грудь напоказ!
Испуганная кормилица пятясь вышла из комнаты. Он даже не взглянул на сына, которого она уносила. Глаза Марии потемнели от грусти. Она опустила голову. Седов повернулся к Софи и любезно сказал:
– Как жаль, что ваш муж не приехал с вами!
– Он в Санкт-Петербурге, – объяснила Софи.
– Ах вот как! Когда он уехал?
– В начале недели.
– Значит, наши пути перекрестились без нашего ведома! В последнее время люди в России много ездят. Наш государь подает нам пример. Какое необыкновенное путешествие для главы государства! Проехать по всей стране в такое время года! Спуститься на Юг! Проводить смотры, парады!.. У царя железное здоровье! Николай Михайлович находится в столице, без сомнения, по делам?
– Конечно, – ответила Софи.
– Если он задержится еще на несколько дней, я буду иметь удовольствие встретиться там с ним. В Отрадное я вернусь не очень скоро. Моя жена, должно быть, рассказала вам о наших планах.
– Да, – кивнула Софи.
Она хотела на этом остановиться. Но вызывающее поведение зятя раздражало ее. Не подумав, она спросила:
– Вы не испытываете угрызений совести, оставляя Марию одну с ребенком?
– Она не будет одна! – ответил он. – Как только я уеду, ее семья станет ближе к ней. Разве я не прав, полагая, что она всегда сможет рассчитывать на вас в случае нужды?
– Какую бы помощь я ни оказывала Мари, – возразила Софи, – я никогда не смогу заменить ей мужа! Она вышла замуж не для того, чтобы жить вдали от вас! И если родила вам ребенка, то не для того, чтобы растить его так, будто у него нет отца!
Черты лица у Седова заострились. Глаза сузились от ненависти. Четким голосом он произнес:
– Я не желал рождения этого ребенка!
Мария закрыла лицо руками. Разрываясь между желанием утешить молодую женщину и осадить Седова, озадаченная Софи на секунду смолкла. Затем гнев одержал над ней верх. Она забыла о всякой осторожности.
– Быть может, вы и брака вашего тоже не хотели? – сказала она.
– Хотел, – ответил Седов. – Но я ошибся.
– В чувствах или расчетах?
– И в том, и в другом.
Мария качнула головой, не размыкая пальцев, и простонала:
– Замолчите!..
Ни муж, ни невестка не услышали ее. Стоя друг против друга, они взглядом уничтожали противника.
– То, что вы сейчас сказали, возмутительно! – пробормотала она.
– Как будто вы об этом не догадывались! – воскликнул он, смеясь.
И, вновь обретя маску ярости, продолжил:
– Хватит притворяться! Наш союз, быть может, не удался. Но Мария и я пытаемся избежать самого худшего. Так не вмешивайтесь и не запутывайте все вашими советами. То, что здесь происходит, вас не касается!
– Нет, касается. Хотите вы этого или нет, но вы всегда найдете меня рядом с Марией, я буду помогать ей, защищать от человека, который избегает ответственности и забывает о своем долге!
При этих словах Седов вздохнул и встал, опершись спиной о дверь, будто для того, чтобы закрыть вход.
– Не думаете ли вы, что вам следует лучше присматривать за собственным мужем, вместо того чтобы критиковать чужого? – спросил он.
– Ваши инсинуации не трогают меня! – ответила Софи.
– Потому что пока это всего лишь намеки! Подождите, я уточню…
Мария издала отчаянный крик:
– Владимир, умоляю тебя!
Очевидно, она знала, какие откровения он собирался обнаружить. Эта мысль встревожила Софи. Отвращение охватило ее, будто она забрела в нечистое место. Взгляд ее остановился на золовке, сидевшей в слезах на краешке кровати, затем на двери, наполовину скрытой фигурой зятя в черных сапогах и красном жилете.
– Позвольте мне выйти! – сказала она.
– Неужели вы боитесь правды? – спросил Седов.
– Какой правды? Что бы вы ни сказали, я вам не поверю!
– Вот я и освободился от последних угрызений совести, – заявил он, склонившись перед Софи. – И тем не менее окажу вам еще одну услугу, порекомендовав сохранять бóльшую скромность, демонстрируя ваше семейное счастье. Ваше глупое тщеславие француженки больше не может обманываться. Слишком многим людям известно сегодня, что ваш муж не верен вам…
Оскорбление задело Софи, как пощечина. Она вздрогнула и сжала зубы. Ее высокомерное молчание лишь распалило ярость Седова. Раздвоенная вена набухла под кожей лба. Он прорычал:
– Вам это безразлично, быть может? Вы вообразили, что я выдумал эту историю из чувства мести?
– Вы – низкое существо! – с придыханием произнесла Софи. – Мне жаль Мари, связавшую свою судьбу с таким человеком, как вы!
– А вы радуетесь тому, что связали вашу судьбу с судьбой абсолютно честного человека, каковым и является Николай Михайлович? – надменно бросил он. – Тогда спросите у него из любопытства, что он делал с Дарьей Филипповной в так называемом китайском павильоне!
– Владимир, ты не имеешь права! – выкрикнула Мария, бросившись на него. – Ради Бога! Умоляю тебя!..
Она стучала своими слабенькими кулачками по груди мужа. Он грубо отстранил ее:
– Оставь меня, дуреха!
Мария упала в кресло и согнула спину. Софи пошла к двери твердой походкой. Перед ней расплывалось лицо Седова со ртом в центре, и он говорил, говорил:
– Прекрасно! Дарья Филипповна Волкова! Это общеизвестно!.. А ее сын, сын Вася, – лучший друг Николая Михайловича!.. Вася узнал обо всем из анонимного письма!.. Какой позор!.. Он не мог этого вынести!.. Его мать! Его родная мать!.. Подумать только!.. Они дрались на дуэли… Теперь вы убедились?..
Свернувшись в комок в своем кресле, Мария рыдала:
– Не слушайте его, Софи! Он хочет причинить вам боль! Это неправда! Не может быть правдой!..
– Как ты смеешь говорить, что это неправда? – заорал Седов.
И ударил жену. Совершая это действие, он отошел от двери. Софи распахнула одну створку и бросилась вон. Седов не побежал за ней.
Только в коляске она пришла в себя. Лошади мчались, разбрызгивая грязь из встречных луж. Николай и Дарья Филипповна! Подобный союз был настолько смешон, настолько чудовищен, что Софи отказывалась допустить такое. Это определенно клевета. Но в обвинениях Седова были пугающие подробности: китайский павильон, дуэль… Она вспомнила о визите к Дарье Филипповне в прошлом году, во время наводнения в Санкт-Петербурге. И, поразмыслив, засомневалась, ей показалось, что эта женщина была смущена и напугана во время ее приезда. В памяти возникли обрывки разговора. Она вновь увидела маленькую книжечку в зеленом кожаном переплете, лежавшую на столике: стихи Жуковского. Такой же томик, так же переплетенный, находился в библиотеке в Каштановке. Простое совпадение? Теперь ее поразило ужасное сомнение: не Николай ли преподнес этот сборник стихов Дарье Филипповне?
Сразу по приезде Софи поспешила в кабинет. К счастью, свекра там не было. С бьющимся сердцем она обошла стол и встала перед книжным шкафом. Все творения русских поэтов были расставлены на одной полке. Между двумя переплетенными томиками – маленькая пустота, темная ячейка. Сборника стихов Жуковского не хватало в собрании. Софи почувствовала, как что-то оборвалось у нее внутри. Как мог Николай изменить ей с этой пожилой, рыхлой и тяжелой женщиной, матерью его лучшего друга? С каких пор жили они во лжи? Кому стало известно об этой связи? Достаточно было Софи вспомнить последний разговор с мужем, ласку Николая в момент отъезда, его наставления, улыбку, поцелуй, и дыхание у нее перехватило из-за нахлынувшего отвращения. Все воспоминания о супружеской жизни были отравлены. Ей хотелось немедленно забыть обо всем, отмыться с головы до ног. Однако ее смятение не имело ничего общего с низменными приступами ревности. Больше всего ее мучила не измена Николая, но характер лжи, которой он окружил свою интригу. Задетая больше со стороны самолюбия, нежели любви, она не могла смириться с мыслью, что так долго доверяла человеку, который смеялся над нею! Он оказался не лучше Седова! И вдруг Софи стала думать обо всех русских с одинаковой неприязнью. Невозможно полагаться на этих людей. Порвать с Николаем, сжечь все корабли, вернуться во Францию… Софи уже не размышляла, она размахивала топором. Затем успокоилась. Неужели она перевернет всю свою жизнь из-за какой-то переставленной в другое место, подаренной или потерянной книги? Нужны другие доказательства перед тем, как принять столь важное решение. И эта дуэль, о которой говорил Седов…
Приближались шаги. Софи встала лицом к двери. Вошел Михаил Борисович.
– Уже вернулись? – спросил он с притворным добродушием.
Ему не нравилось, что сноха оставляет его на все послеобеденное время и ездит в Отрадное. Разбитая от усталости, она прислонилась к книжному шкафу. У нее больше не было иного друга, иной поддержки на свете, помимо этого человека с грубыми чертами лица и седеющими волосами. Софи сказала тихим голосом:
– Отец, вы знаете, что Николай дрался на дуэли?
Он застыл. Их разделял стол.
– Да, – ответил он.
И глаза его потухли, лицо отяжелело, будто под воздействием муки.
– Я узнал об этом случайно, незадолго до его отъезда, – продолжал он. – Конечно, он заставил меня пообещать, что я не расскажу вам об этом деле. Но поскольку вы уже в курсе…
– Он сказал вам, что Вася вызвал его?
– Он говорил мне о ссоре за карточным столом…
– И вы ему поверили?
Михаил Борисович не ответил. Он наслаждался первыми признаками победы. Нет, он не попался на удочку. И все по той простой причине, что собрал самые точные сведения на обеде у губернатора. В тот момент, когда Николай воображал, что убедил его, изложив по-своему причины дуэли, он уже знал, в чем было дело! О! Какое редкое удовольствие притворяться доверчивым перед лицом плохого лжеца! Слушая сына и притворяясь, что верит ему, он осуждал его с холодной ненавистью и спокойным презрением. Со времени того разговора он хранил в душе единственную надежду, что Софи когда-нибудь узнает правду. Он даже размышлял, как подтолкнуть ее на этот путь. И вот она, кажется, узнала все, и ему не пришлось упрекать себя в болтливости. Определенно, Бог был на его стороне в этом деле!
– Вы ничего не отвечаете! – продолжала Софи. – Вы боитесь причинить мне боль! Но если вы не поможете мне избавиться от сомнений, я вынуждена буду обратиться к кому-то другому. Этого вы хотите?
– Нет! – воскликнул он.
– Тогда говорите со мной откровенно. Вася из-за матери потребовал удовлетворения с помощью оружия? Николай был…
Она искала слова и, покраснев от стыда, закончила:
– Николай был любовником этой женщины?
Взрыв радости потряс голову Михаила Борисовича. «На этот раз все действительно кончено между ними!» – подумал он. И тем не менее сумел сохранить печаль на лице. Губы его, как бы сожалея, произнесли:
– Я не могу этого отрицать, Софи.
Она ждала такого ответа и все же растерялась. Ее поражение представилось Софи бесспорным и ослепило. Ноги у нее подкосились, Софи добрела до кресла, села и сжала плечи. Михаил Борисович пришел в восторг, увидев, как она красива в такой беспомощной позе. Он подумал о раненой птице, о задыхающейся козочке. Как мог Николай предпочесть толстую Дарью Филипповну этой молодой женщине, каждым движением подчеркивающей изящество своего тела, утонченность черт, жар души?
– Мой сын, – сказал он, – негодяй! Он никогда не будет взрослым! Навсегда останется безмозглым, легкомысленным, кривляющимся, бесполезным мальчишкой!.. Он не заслуживает такой несравненной женщины, как вы! Я презираю его за нанесенное вам оскорбление! Я бы отдал жизнь, чтобы искупить его ошибки! О Господи, если бы вы знали, что я испытываю в эту минуту!..
Склонившись над Софи, он смотрел ей в глаза таким умоляющим взглядом, что она была смущена. Какая разница между отцом и сыном! Разницы поколений недостаточно, чтобы объяснить, почему один из этих мужчин был образцом неверности, тогда как другой обладал таким благородством, постоянством и силой воли. Если к мужу Софи в основном относилась как старшая снисходительная сестра, при Михаиле Борисовиче она не могла забыть, что была прежде всего женщиной. Он поддерживал в ней ощущение, что она изящна и неповторима, изощрялся, убеждал Софи, что она центр мира, молодая женщина чувствовала себя растоптанной, униженной, потерянной, а он воздавал ей должное, восхищаясь.
– Все это ужасно! – вздохнула Софи. – Я сержусь на себя за легкомыслие, за свою неосмотрительность…
– Не говорите так! – перебил ее он. – Вы лишь усугубите свою боль!
Софи вскинула подбородок:
– У меня нет боли! Я испытываю отвращение!
Он схватил ее за руку. Она вздрогнула, и по жилам у нее расплылось тепло. Такая нежность, излившаяся на нее после пережитого стыда, вызывала желание плакать.
– Поверьте мне, – сказал Михаил Борисович, – ваш истинный смысл существования – здесь, посреди этой деревни, которую вы любите, в этом доме, который принадлежит вам. Отъезд Николая – хорошая вещь. Он увез с собою всю свою грязь, всю ложь! Чистое место! Мы не нуждаемся в нем, чтобы быть счастливыми!..
Он испугался, что зашел слишком далеко, и бросил беспокойный взгляд на сноху. Она, казалось, совсем ослабела. Да слышала ли она то, что он говорил? Дождливые сумерки окутывали кабинет. Михаил Борисович не осмеливался зажечь лампу. Отпустив руку Софи, он сел рядом с нею на стул и смиренно продолжил:
– Софи, Софи, вы меня понимаете, вы думаете так же, как я?
Она наклонила голову, не отвечая.
– Вы не сердитесь на меня за то зло, которое причинил вам мой сын?
Она отрицательно покачала головой.
– Вы останетесь здесь, что бы ни случилось?
– Да, – сказала она.
Софи встала и слабо добавила:
– Извините меня, батюшка, я поднимусь в свою комнату, мне нужно побыть одной.
Он проводил ее до двери, ступая совсем рядом, чтобы как можно дольше находиться в ее тепле. Затем, вернувшись в кабинет, сел в кресло, откуда она только что встала. И там сверхчеловеческое торжество охватило его, хотя одновременно нарастал страх по поводу того, что случится дальше.
13
Николай и Костя молча заканчивали обед в большой столовой, стены которой были обтянуты темной кожей. Двое слуг суетились вокруг них под присмотром Платона. Присутствие этих угодливых холопов раздражало Николая. Он жил у своего друга, ел всегда вместе с ним, но не обрел той беззаботности, которую ощущал во время предыдущего приезда. Несомненно это было связано с тем, что он беспокоился о жене! Уже было 27 ноября, а он так и не получил ответа на три письма, посланных Софи. Сегодня вечером он напишет ей опять. По совести, Николай задавался вопросом, зачем приехал в Санкт-Петербург. Напрасно он искал Седова по всему городу. Даже предположив, что повстречает этого человека, как он сможет доказать, что анонимное письмо действительно написано его рукой? На каком основании он бросил бы ему вызов, не спровоцировав нового скандала? Благоразумие требовало от него на время отказаться от расправы. С другой стороны, у Николая не возникло никакого желания вновь увидеть милую полячку. Он даже не заглянул в свой прежний дом. Дуэль закалила его душу, сделала серьезным. Он хотел посвятить себя целиком политике. Но политика, казалось, дремала. Отъезд императора в южные провинции для проведения смотров создал в Санкт-Петербурге нечто вроде перемирия между властью и заговорщиками. Наступила передышка. В России больше не было столицы. По некоторым неподтвержденным слухам, царь простудился и отдыхал в Таганроге. Императрица ухаживала за ним с необыкновенным вниманием. Князь Трубецкой привез эти новости из дворца четыре дня назад. Заговорщики не придали им никакого значения. Крепкий организм Александра очень скоро справится с болезнью.
Остатки фаршированного бекаса с орехами на тарелке перед Николаем были заменены фруктовым мармеладом под сметанным соусом. В его бокал налили вина – малаги. Он выпил глоток и вздохнул:
– Я здесь уже три недели! И каков результат, Боже мой?
Слуги, подав десерт, удалились за дверь. Остался один Платон, человек, пользовавшийся доверием.
– Надеюсь, ты как-никак предполагал, что Рылеев устроит революцию сразу после твоего приезда, лишь бы доставить тебе удовольствие! – сказал Костя.
– Нет, – согласился Николай. – Но, судя по твоим письмам, я все же ожидал, что наше общество бурлит, активно готовит войска к бою, раскинув сеть во всех казармах, всех административных частях… Однако ничего не изменилось со времени моего последнего приезда. Вы по-прежнему обсуждаете, какую конституцию следует выбрать для России и на каких условиях мы можем объединиться с Пестелем и южными заговорщиками. Уверяю тебя, ваша инертность обескураживает!
– Если бы ты прожил с нами весь год, – перебил его Костя, – ты лучше бы понял, какие трудности ожидают наше предприятие и что их можно избежать, лишь действуя медленно.
– Может быть! В любом случае, я решил уехать послезавтра.
Костя уронил вилку. Пристально глядя на Николая, нахмурив брови, он сказал:
– Уже? Ты ведь хотел остаться до 15 декабря!
– Я поразмыслил обо всем: это невозможно.
– Почему?
– Жена не поняла бы меня.
– Да что ты! Я уверен, она поймет! Она же знает, зачем ты находишься в Санкт-Петербурге! И одобряет тебя! Во всяком случае, до сих пор не проявляла нетерпения…
Николай в глубине души признал, что Костя прав. И эта мысль огорчила его. Он хотел бы, чтобы свобода, которой он сейчас пользовался, не обернулась для него охлаждением со стороны Софи. Как живет она в его отсутствие? А если супружеские отношения, обросшие тысячами привычек, тысячью разочарований, покрылись плесенью, побеждающей их любовь? Быть может, он сейчас теряет свою супругу? А вдруг она уже не будет рада снова увидеть его? Он испугался и посмотрел на своего друга так странно, что тот спросил:
– Что с тобой?
– Ничего, – ответил он, – я размышлял о моем возвращении. Надо заказать лошадей на почтовой станции.
Он приехал в Псков в наемной карете, без слуг.
– Друзья будут огорчены! – заметил Костя. – Побудь с нами еще неделю…
– Нет!
– Ты упрям, как осел! Неужели так влюблен в свою жену, что не можешь подождать?
Николай засмеялся, но невесело, и пробормотал: «Кажется, да!», и согласился выкурить маленькую сигару. Они вышли в гостиную. Поджав длинные ноги на груде турецких подушек, Костя, вытянув нос, взъерошив волосы, еще раз попытался переубедить друга:
– Предупреждаю тебя: чем сильнее ты заставишь ее скучать, тем радостнее будет ваша встреча. Торопя события, ты лишаешь себя возможности еще ближе привлечь ее!
– Ты рассуждаешь, как холостяк! – буркнул Николай.
– Почему же! Разве у супруги не то же восприятие любви, что у других женщин?
Николай зевнул, стряхнул пепел с кончика сигары в медную плошку и сказал:
– Любовника и любовницу связывает только любовь, а в жизни супружеской пары существует также дружба, взаимное доверие, уважение… Например, Софи и я…
Он не закончил фразы. В коридоре послышались торопливые шаги. Раздался лепет Платона:
– Подождите! Подождите хотя бы, пока я доложу о вас!..
Дверь открылась. На пороге появился Степан Покровский. Его румяное лицо побелело от мороза. Из-под очков блеснул полный трагизма взгляд. Он передохнул и произнес:
– Государь скончался!
Николай задрожал. Внешний мир померк, как и его собственные мысли. Вскочив на ноги, Костя спросил:
– Ты уверен?
– Абсолютно! – подтвердил Степан Покровский. – Новость только что обнародована! Он умер от лихорадки 19 ноября в Таганроге. Уже восемь дней Россия без царя! И никто об этом ничего не знал!..
Голова Николая склонилась на грудь. Умер победитель Наполеона! – подумал он. Умер полубог, который провел парад своих войск в Париже, на Елисейских полях! Он мысленно представил себе царя: в парадном мундире, грудь колесом, эполеты блещут, в треуголке, украшенной петушиными перьями и затеняющей его мраморное лицо; это воспоминание взволновало его, потому что напомнило о молодости. Как бы строго он ни осуждал Александра в последние годы его правления, он ничего не мог поделать с тем, что большая часть его души скорбила по поводу этой кончины, как будто перевернулась страница его собственной жизни.
– Кто наследует ему? – спросил он. – Его брат Константин, этот своенравный и невежественный зверь, которого поляки едва терпят как наместника?
– Ничего еще не решено, – ответил Степан Покровский. – Во дворце действительно все приносят присягу Константину. Но он находится в Варшаве. Неизвестно, примет ли он венец. Некоторые люди заявляют, что по завещанию почившего императора законным наследником будет великий князь Николай Павлович.
– Что?! – воскликнул Николай. – Но это же невозможно! Значит, очередность наследования будет нарушена?
– Может быть! Я надеюсь на это и опасаюсь одновременно!
– Какая путаница! – заметил Костя.
– Во всяком случае, – сказал Степан Покровский, – развитие событий может заставить нас принять главное решение. Рылеев ждет всех нас в восемь часов сегодня вечером. Вы придете?
– Конечно! – ответил Николай.
И он с леденящей ясностью понял, что уже не имеет права покинуть своих товарищей.
* * *
Приехав к Рылееву к восьми часам вечера, Николай и Костя обнаружили, что дом полон народу. На всех лицах запечатлелась значимость события. На пороге столовой Николай столкнулся с Васей Волковым. Здесь они впервые встретились после дуэли. Но нынешние обстоятельства были очень серьезны, и, вместо того чтобы повернуться спиной друг к другу, они обменялись благожелательным взглядом. Этот дружеский знак удивил Николая, и он покраснел от удовольствия. Но прежде чем успел произнести хоть слово, Вася Волков отошел от него. Еще погруженный в свои мысли, Николай увидел Рылеева, который сидел за круглым столом в группе офицеров. Он был бледен, лохмат, галстук плохо завязан, и что-то нервно обсуждал с двумя братьями – Николаем и Александром Бестужевыми. Вдруг он поднялся и уставился на дверь.
Высокий, худой, с очень длинным носом полковник гвардии вразвалку вошел в комнату. Кульмский железный крест покачивался на его впалой груди. На лице полковника, попорченном оспой, запечатлелось похоронное достоинство. Это был князь Трубецкой, один из главарей заговорщиков. Он приехал из дворца со свежими новостями. Все замолчали, чтобы выслушать его.
– Друзья мои, – начал он, – то, что я увидел при дворе, оставило у меня ощущение глубокого, непоправимого замешательства. Императорская фамилия находилась в дворцовой часовне и молилась за выздоровление Александра, когда пришло сообщение о его кончине. Императрица-мать упала в обморок, а Великий князь Николай со стремительностью, которая вам известна, тут же присягнул своему старшему брату Константину. Он потребовал той же присяги от нескольких присутствующих лиц и внутренней дворцовой гвардии.
– Из какого полка были гвардейцы? – спросил Рылеев.
– Преображенского.
– Они никак не противились присяге?
– Да! Некоторые из них говорили, что их даже не оповестили о болезни императора и что, быть может, весть о кончине – ложная. Понадобилось личное вмешательство Великого князя, чтобы убедить их. Я наблюдал эту сцену собственными глазами. После этого Николай Павлович тут же послал приказы в гарнизон и поздравительное письмо Великому князю Константину в Варшаву с выражением покорности. Когда императрица-мать пришла в себя, по свидетельству очевидцев, она воскликнула: «Николай, что вы наделали? Разве вы не знаете, что существует другой документ, назначающий наследником вас!» А он якобы ответил: «Если такой документ и существует, то мне он неизвестен, и никто в моем окружении о нем не знает. Пока не доказано обратное, мой старший брат должен наследовать Александру. Так будь что будет!» Его приближенные потрясены. По общему мнению, Константин не захочет принять престол. В этом случае нас ожидают времена междуцарствия…
– Идеальные условия для революции! – заметил Степан Покровский.
Взгляды обратились к Рылееву, который снова сел и задумчиво разглядывал свои руки.
– Нужно еще иметь силы, чтобы сделать это! – сказал он.
Николай Бестужев в мундире морского офицера выпрямился во весь рост:
– Не хочешь ли ты сказать, что мы не готовы?
Поскольку Рылеев молчал, он продолжил:
– Я слышал, как ты всегда утверждал, что смерть императора послужит сигналом к восстанию. И вот тебе преподносят эту новость на серебряном блюде! К тому же тебе сообщают, что наследник еще не назначен! И вместо того, чтобы радоваться этому, ты подавлен, растерян, не знаешь, что предпринять!..
Александр Бестужев, штабс-капитан, редактор и издатель альманаха «Полярная звезда», поддержал брата:
– Он прав! Объяснись же, прошу тебя! Неужели ты нас обманывал, рассказывая о мощи нашей организации?
– Я сам обманывался! – вздохнул Рылеев. – Когда рассуждаешь впустую, все кажется возможным. Но при столкновении с реальными событиями миражи рассеиваются. У нас нет плана борьбы, нет надежных войск, наши обязанности, и у одних, и у других, нечетко определены. Действовать в подобных условиях было бы безумием!..
Он уткнулся лбом в ладони. Плечи его согнулись.
– Я у всех вас прошу прощения, – добавил он глухим голосом.
– Вам надо просить у нас прощения! – воскликнул Николай, потрясенный видом этого замечательного человека, согнувшегося под тяжестью угрызений совести. – Главное – согласовать наши усилия с возможностями, которыми мы располагаем. Даже незначительное, даже ограниченное наше вмешательство может положительно повлиять на ход вещей…
Посреди своей речи он вдруг осознал, что не предлагает никакого конкретного решения, а роняет слова лишь ради удовольствия услышать, как говорит. Именно в этой слабости он любил упрекнуть своих друзей. Николай приуныл. Но Степан Покровский разделил его воодушевление:
– То, что ты говоришь, абсолютно верно. Во всяком случае, наше дело на один шаг продвинулось вперед. Константина любит гвардия. Между собой они говорят, что Константин в Варшаве платит своим людям серебром. Нельзя ли использовать эти настроения в наших целях?
– Как? – спросил Рылеев.
Молодой князь Оболенский, какое-то время кусавший ногти, проверещал петушиным голосом:
– Я разговаривал с кавалергардами, пытался узнать, сможем ли мы рассчитывать на их полк в случае революции: они все назвали меня сумасшедшим!
При слове «революция» князь Трубецкой скорчил кислую мину. Его длинный нос заострился. Худосочные пальцы застучали по краю стола.
– Выбирайте выражение! – строго сказал он. – Мы здесь занимаемся военным переворотом, а не революцией! Дисциплина прежде всего! Все должно происходить как на параде!
– Для этого требуется, чтобы в наших рядах было в десять раз больше офицеров, – пробормотал Рылеев.
– Попробуем найти их! – сказал Николай. – Еще есть время!..
– Было бы хорошо, – продолжил князь Трубецкой, – если бы после одновременного отказа Великих князей Константина и Николая вдова почившего императора императрица Елизавета взошла на престол. Мне кажется, ее можно было бы убедить принять конституцию.
– Князь, – вмешался Рылеев, – вы принимаете свои мечты за реальность. Вы же не хуже меня знаете, что нет никакой надежды на то, что императрица станет наследницей супруга!
– При таких условиях наше дело представляется мне довольно безнадежным, – ответил князь. – Я до смерти хочу спать. Желаю всем доброй ночи! Завтра увидимся снова. Может быть, тогда появится что-то новое.
Его отъезд охладил присутствующих. Разговор продолжился, но вяло. Рылеев, усевшись на стул, не проявлял больше интереса к обсуждению. Николаю хотелось переброситься словами с Васей, но тот скоро ушел. Другие заговорщики последовали за ним. В столовой осталось не больше пятнадцати человек, и в этот момент братья Бестужевы предложили составить воззвания и тайком разбросать их в казармах. Неожиданно оживившийся Рылеев признал, что идея великолепна. Он раздал бумагу, перья. Офицеры и гражданские лица сели вокруг стола, чтобы выполнить одинаковое задание. Тяжелая лампа, подвешенная к потолку на цепях, освещала их прилежные головы. Стали обсуждать текст. Первую фразу одобрили все: «Солдаты, вас обманывают!» Далее начались разногласия. Вдруг Николая осенило:
– Мы пишем воззвания для солдат, тогда как большинство из них неграмотно! – сказал он. – Это глупо! Если мы хотим, чтобы нас услышали в армии, нам надо обращаться к людям живым голосом!
– Вы абсолютно правы! – согласился Рылеев.
Николай расцвел от гордости. Наконец-то он почувствовал себя значительным, необходимым! О нет! Сейчас не время возвращаться в Каштановку! Софи и сама отсоветовала бы ему ехать, если бы присутствовала на этом собрании!
– Да-да! – сказал Александр Бестужев. – Мы должны выйти на улицу, останавливать солдат, возвращающихся после увольнительной в казармы, заговаривать с часовыми…
– Или можно было бы сказать, например, – продолжил его брат, – что царь обещал дать мужикам свободу и сократить срок военной службы до пятнадцати лет, но что новое правительство хочет уничтожить манифест!
– Расскажем им что угодно, но давайте разбередим их, избавим от апатии, подготовим, на всякий случай, к тому, чтобы они взялись за оружие и выступили против будущего императора! – сказал Рылеев. – Разумеется, они охотнее станут слушать человека в офицерском мундире. Оболенский, ты великолепен в форме поручика гвардии, это подходящий способ!
– Не хотите ли составить мне компанию? – спросил Николая Александр Бестужев, поклонившись ему, будто приглашал даму на танец.
Они расхохотались. Костя Ладомиров присоединился к Николаю Бестужеву, Степан Покровский – к юному корнету, новому члену братства… Выйдя на улицу, каждая группа пошла в разных направлениях.
Ночь была светлая. Ледяной ветер дул с севера. Александр Бестужев повел Николая по большой Морской к казарме конногвардейцев. Было одиннадцать часов вечера. В большинстве домов за окнами уже не горел свет, двери заперли. Время от времени раздавался стук башмаков по сухой мостовой. Проезжала коляска с лакированными дверями, горящими серебряными факелами, лошадьми с шелковыми накидками и с бородатым кучером, вырисовывающимся наподобие китайской тени. Прохожие попадались редко. Николай уж и не надеялся встретить солдат, как вдруг Александр Бестужев показал на одного из них, идущего им навстречу.
– У него, должно быть, увольнение до полуночи, – предположил он.
Увидев офицера, солдат встал по стойке «смирно» у стены и снял кивер.
– Ничего не бойся, любезный! – сказал ему Александр Бестужев. – Мне надо задать тебе один вопрос. Ты слышал о завещании, которое наш возлюбленный император составил перед смертью? Завещании, написанном золотыми буквами…
Рыжий солдат, с расплющенным носом и бледными зрачками, засопел и хриплым басовитым голосом ответил:
– Нет, Ваше Благородие.
– Ну так вот! Такой документ существует! В нем обещана отмена крепостного права, увеличение денежного содержания, уменьшение срока службы в армии! Но враги народа не хотят, чтобы это стало известно…
В то время как он разглагольствовал с пафосом, ветер трепал его султан. Плащ, соскользнув, обнажил блестящий эполет и белую аксельбантовую ленту адъютанта. Ужас отобразился на лице солдата. Конечно, он никак не мог предполагать, что офицер позволит себе держать столь безрассудные речи в его присутствии. За это могут сослать в Сибирь и того, кто говорил, и того, кто слушал!
– Тебя это удивило, не так ли? – спросил Николай. – Ты расскажешь об этом своим товарищам?
– Никогда! – пробормотал солдат. – Обещаю вам, что никогда не стану повторять такое!
– Ну, дурак ты эдакий! – закричал Александр Бестужев. – Надо, чтобы ты рассказывал! Я прошу тебя, приказываю тебе рассказывать!
– Рад служить Вашему Благородию!
– Если многие из вас узнают, что такое завещание существует и вы потребуете исполнить его, новый царь будет вынужден дать вам все, чего вы хотите!
– Мы не хотим ничего, кроме блага нашему отечеству, Ваше Благородие!
– В этом-то и состоит благо отечества!
– В чем в этом, Ваше Благородие?
– В свободе!
– Бейте меня, убейте, Ваше Благородие, но я не виновен в свободе! – пробормотал солдат.
И вдруг он задрожал, спрятал голову в плечи и бросился бежать.
– Эй! Вернись! – крикнул Александр Бестужев. – Тебе не хотят зла! Вернись!
Беглец исчез за поворотом улицы. Эхо его галопа затерялось в ночи.
– Если все они так ограниченны, – заметил Николай, – наша задача не так проста.
Они сделали еще несколько шагов среди темных камней, срезанных с правого угла. Ветер свистел, завывал и бросал в лицо Николаю белую, колючую пыль. Время от времени он потирал нос, уши, чтобы они не отмерзли. Дыхание изо рта дымилось.
– Внимание! – прошептал Александр Бестужев. – Вот те, кого мы ищем!
Двое крепких парней спешили к казарме. Их сапоги стучали по мостовой в согласованном бравом ритме. Фонарь, висевший на столбе в белую и черную полоски, на секунду осветил их лица. Одному, должно быть, было лет около тридцати, другому – едва двадцать. Они были похожи на переодетых крестьян. Александр Бестужев и Николай вышли из тени. Солдаты застыли на месте, и теперь их лица абсолютно ничего не выражали. Ответив на приветствие, Александр Бестужев спросил, слышали ли они о завещании императора. К его великому удивлению, старший из солдат ответил:
– Да, Ваше Благородие.
– И что о нем говорят в казарме?
– Я не могу этого повторить, Ваше Благородие.
– Почему?
– Вы прикажете провести меня сквозь строй!
– Я не только не допущу, чтобы тебя наказали шпицрутенами, но еще похвалю и дам тебе три рубля! – сказал Александр Бестужев.
– Три рубля?
– Ну да! – подхватил Николай. – Мы – ваши друзья. И хотим помочь вам получить то, что почивший царь пообещал в своем манифесте.
– Этого не может быть! – пробормотал молоденький солдат. – Ты слышишь, Никанор?
Никанор покачал головой. Его светлые брови нахмурились под козырьком кивера. Он задумался на секунду и пробормотал:
– Говорят, в завещании царя указано, что всех плохих богачей повесят, что откроют все казармы, все тюрьмы, что землю раздадут мужикам и что творить суд будут бедняки!
Николай и Александр Бестужев обменялись удивленным взглядом: Никанор слишком далеко зашел в своих мечтах. Ни одна революция никогда не принесла бы того, на что он надеялся! Надо ли было переубеждать его, рискуя разочаровать, или использовать его восторг, позволив и дальше ошибаться?
– Примерно так, – сказал Николай. – Перед смертью царь пожелал искупить свои грехи, подарив свободу и благополучие народу, который столько страдал по его вине. Однако плохие советники завладели документом. Они хотят уничтожить его. Но армия не допустит этого.
– Армия? – спросил Никанор.
– Да, ты и твои товарищи, которым ты расскажешь то, что услышал от нас!
– А офицеры? Они будут с нами?
– Одни – с вами. Другие – против вас…
– А как в нашем полку, к примеру?..
– Будьте спокойны! Ваши командиры поведут вас туда, куда надо! – ответил Александр Бестужев.
– Когда это произойдет?
– Скоро! Очень скоро! – бодро заявил Николай.
Он сознавал, насколько ребяческими и непродуманными были их действия. Конечно, необходимые для революции армейские части Николай с Бестужевым не соберут, останавливая случайных солдат на улице. Но как бы то ни было, другого способа обратиться к этим людям и завоевать их доверие не существовало!
– Да услышит вас Господь, Ваше Благородие! – сказал молоденький солдат.
– Я рассчитываю на то, что вы распространите добрую весть!
Глуповатая улыбка обнажила крепкие и белые зубы Никанора:
– Можете рассчитывать, Ваше Благородие. С завтрашнего дня мы начнем везде рассказывать, что господ будут вешать!
Александр Бестужев закашлялся с раздражением, достал три рубля из кармана и вручил их Никанору. Двое солдат щелкнули каблуками, отдали честь, повернулись и, как автоматы, пошли дальше.
– Они, дураки, ничего не поняли! – вздохнул Александр Бестужев.
– Быть может, ничего не поняли мы? – усомнился Николай.
И они уже были готовы окликнуть других солдат, чьи шаги приближались во мраке ночи.
14
Письмо было датировано 28 ноября, «на рассвете». Софи перечитала несколько фраз из него: «Почему ты не сообщаешь мне никаких новостей? Ты не больна? Я терзаюсь беспокойством, как ты там. Пришли мне ответ с обратной почтой, умоляю тебя!.. Кончина царя, о которой я узнал вчера, вынуждает меня задержаться здесь еще на некоторое время. Друзья рассчитывают на меня. Я не могу их покинуть… О Софи, если бы ты знала, как опьяняет ощущение, что ты после стольких лет бездействия снова нужен!.. Я возвращаюсь с ночной прогулки по городу. Говорил с солдатами. Эти простые, грубые люди понимают нас… Кстати, три-четыре дня назад я видел Никиту. Он навещал старика Платона, который стал его наставником во всех делах. Санкт-Петербург пошел на пользу твоему подопечному. На мой взгляд, он теперь выглядит не совсем по-деревенски. Поначалу он работал у торговца кожами. А теперь служит в лавке по продаже тканей. Болтая с ним, я припомнил Каштановку, и это усилило мою тоску. Я был бы предельно счастлив, если бы ты была здесь со мной. Как вспомню твое милое лицо, мне не хватает воздуха, сердце разрывается и хочется сжать тебя в объятиях! Совершенно необходимо, чтобы ты приехала ко мне. Отец чувствует себя достаточно хорошо, значит, ты можешь оставить его без опасений…»
Она подняла глаза и посмотрела на окно гостиной, по которому хлестал сильный дождь со снегом. Эти любовные уверения очень мало трогали ее, как будто письмо предназначалось другой. Она чувствовала, что окончательно освободилась от Николая, забыв и о его достоинствах, и о недостатках. Поскольку он требовал ответа, она напишет ему, что ему незачем больше искать встреч с нею. Ему остается только поселиться в Санкт-Петербурге, тогда как она сама останется в деревне. В глазах света они будут представлять собой разъехавшуюся супружескую пару, каковых очень много. Позже она, быть может, вернется во Францию. В любом случае, Софи не бросит никакого упрека в адрес мужа. Зачем? Он бы не понял, почему ее оскорбила такая малость. Безвольное, легкомысленное, непостоянное существо – вот за кого она вышла замуж и от кого должна сейчас избавиться. Она рассчитывала на свекра, который мог защитить ее от возможных выпадов Николая. Михаил Борисович проявлял такую заботу о чести и спокойствии снохи, что рядом с ним она ощущала себя в безопасности, как в крепости. Ей нравилось их уединение в Каштановке, неяркая и уютная жизнь, которую поверхностный наблюдатель счел бы тоскливой; Софи полюбила эти невеселые края с нежными красками, полюбила простых людей, бывших у нее в услужении. Впрочем, ее супружеская жизнь закончилась. Она не могла представить себе, что увлечется другим мужчиной. И после десяти лет брака знала, что детей у нее не будет. Какой обрыв в нити ее жизни! Ребенок с жадным ротиком, удивленным взглядом, неловкими и мягкими ручонками! Она снова задумалась об этом, разволновалась, стала терзаться. Чувство неудовлетворенности, вызванное несовершенством собственной плоти, иногда охватывало ее с неистовой силой. После ссоры с Седовым она больше не ездила в Отрадное. А он, наверное, уже снова уехал. Как только она узнает об этом наверняка, то поедет повидать Мари и маленького Сережу.
Письмо Николая трепетало между пальцев. Она сложила его и сунула за корсаж. Тяжелые шаги вернули ей улыбку на губах. Михаил Борисович вошел в гостиную, он выглядел усталым и заспанным. Узнав несколько дней назад о кончине царя, он очень расстроился. Не говоря ни слова, он протянул Софи газету. Траурной линией была очерчена первая страница «Русского инвалида». Под рамкой с изображением двуглавого орла Софи прочитала:
«Воскресенье, 29 ноября 1825. – Гонец, прибывший из Таганрога 27-го числа сего месяца, доставил печальную новость о кончине Его Величества Императора Александра. Узнав об этом неожиданном трауре, высокопоставленные члены императорской фамилии, Государственный Совет, министры собрались в Зимнем дворце. Первым, Его Величество Великий Князь Николай Павлович, вслед за ним все находившиеся там государственные чиновники, а также все полки императорской гвардии принесли присягу верности и повиновения Его Величеству Императору Константину I».
– Итак, – сказал Михаил Борисович, – у нас начинается новое правление. За мою долгую жизнь это будет уже четвертый император, которого мне придется узнать: Екатерина Великая, Павел I, Александр I, а теперь Константин… Вы, должно быть, воспринимаете меня как исторический памятник!
– Ни в коей мере, – возразила она. – Я даже нахожу вас удивительно молодым. Еще утро, а он уже одет с ног до головы! Вы собираетесь выезжать?
– Да, – ответил он, – мне надо побывать в Пскове. В соборе будут служить панихиду по императору. Губернатор просил всех именитых граждан присутствовать на ней. Я пообедаю в городе. Вернусь, может быть, поздно. А что будете делать вы в мое отсутствие?
– Поеду в Черняково, потом в Крапиново…
– Опять навещаете больных крестьян?
– Не упрекайте меня в этом, я нахожу удовольствие в этих поездках и, в каком-то смысле, оправдание моего здесь пребывания.
– Вашего пребывания… О, ваше пребывание не требует таких оправданий!.. О нет, Софи!..
Он больше ничего не сказал, но его взгляд был полон нежности. Она смутилась, будто он выбрал ее из сотен ей подобных. Вздохнув, Софи различила хруст письма Николая у своей груди. Уголок листка царапал ей кожу. Она поднесла к нему руку.
– Вы не получили по почте известий из Санкт-Петербурга? – спросил Михаил Борисович, заметив ее жест.
– Получила.
– И что вы собираетесь делать?
– Останусь здесь при условии, что Николай сюда не вернется, – произнесла она четким голосом.
С восхищением глядя на Софи, Михаил Борисович подумал, что она для него уже не та женщина, которой он отдавал предпочтение, которую выбрал, женщина, отличная от всех; нет, она стала частью его души, его тепла настолько, что он уже не представлял себе жизни без нее, так же как не верил в существование каких-то чувств после смерти. Медленно подчеркивая суровый смысл каждого слова, он произнес:
– Не беспокойтесь, он не переступит порога этого дома. Я извещу его об этом немедленно.
– Лучше я напишу ему сама, – возразила она.
– Как вам угодно, Софи. Но не медлите. Ради вашего покоя, вашего счастья, которыми я так дорожу!..
Он поцеловал ей руку. Всякий раз, когда он склонял перед нею свою седую тяжелую голову, она ощущала, что это верный человек. Явился Федька и сообщил барину, что коляска готова. Михаил Борисович выпрямился. Высокий и сильный, с густыми волосами, ярким цветом лица, фигурой, затянутой в черный сюртук с бархатным воротничком, он, казалось, ждал комплимента.
– Вы великолепны! – с восхищением произнесла Софи.
Михаил Борисович выслушал эти слова с серьезным видом, что удивило Софи. Неужели он воспринимает все, что она говорит, буквально? Федька открыл большой зонтик, чтобы поберечь хозяина, пока он будет садиться в коляску. Экипаж двинулся в путь в потоке воды и снега, падающих с неба блестящими струями.
Софи обедала наедине с месье Лезюром, который на протяжении всего застолья расхваливал ей преимущества французской кухни в сравнении с русской. Он так раздражал Софи, что она вышла из-за стола, не притронувшись к десерту. Ей надо было срочно съездить в Черняково, где, по слухам, умирала жена старосты. Не дожидаясь, когда подадут коляску, она пошла на конюшню и встала у порога. Дождь и снег прекратились. Куры с кудахтаньем отбежали от кучки теплого навоза. Белая кобыла, уже облаченная в сбрую, кружилась на месте, стучала копытами по камням водосточного желоба и вся содрогнулась, выскочив на свежий воздух. Конюх подтолкнул ее к оглоблям упряжки, крича на собак, которые бегали вокруг, тявкали, мешая ему заниматься делом. Василиса принесла из кладовки груду старой одежды, которую приготовила по приказу барыни, и сунула все это под лавку. Софи положила в эту связку три шерстяных покрывала и коробку с лекарствами.
– Вы так хорошо будете лечить мужиков, барыня, – сказала Василиса, – что они не станут умирать. Постареют. И что тогда с ними делать, никто не знает!
Толстая, беззубая и спокойная, она смеялась, не сознавая своей жестокости. Мальчик Гришка залез на место возницы. Его голые ноги утопали в огромных валенках. Круглая шапка доходила до бровей. Он был, видимо, очень горд, что повезет барыню. «Все здесь любят меня! – подумала Софи. – Я действительно дома!» Василиса помогла ей сесть, укутала колени барыни овечьей дохой, перекрестила ее и сказала:
– Не гони, Гришка!
Гришка щелкнул языком, и коляска, содрогнувшись, тронулась. Снег не задержался. Под колесами с хлюпающим звуком расступалась земля. По обеим сторонам дороги сверкали колдобины, полные воды. С высоких черных елей, протянувших ветки к затянутому тучами небу, стекала вода. В туманном воздухе клубились пары, распространяемые дыханием Гришки и кобылы.
Когда коляска достигла конца аллеи, Софи увидела всадника, ехавшего навстречу. Она узнала крестьянина из Отрадного (одного из немногих, не проданных Седовым), сидевшего верхом на рабочей лошади. Софи тут же решила, что он привез ей приглашение от Марии, и порадовалась этому. Подъехав к коляске, мужик снял шапку. Обнажился чистый и бледный лоб, венчающий обожженное солнцем и заляпанное грязью лицо.
– У меня письмо для вас, барыня, – сказал он запыхавшимся голосом.
И протянул конверт Софи. Она распечатала его, прочитала первые строки, и ужасная тревога охватила ее:
«Когда вы прочтете это письмо, меня уже не будет в живых. Господь, видевший, какого стыда я натерпелась с тех пор, как вышла замуж, простит меня, надеюсь, за то, что я свела счеты с жизнью. Это было необходимо для спокойствия всех нас. Мой муж – презренное существо, холодное, расчетливое и злое чудовище. Даже перед кончиной я не могу простить ему зло, которое он вам причинил. Это он, я теперь знаю, написал то анонимное письмо Васе Волкову. Такому мерзкому поступку нет оправдания! В очередной раз он отправился в поездку. Я опять одна. Умоляю вас приехать и забрать Сережу. Через несколько минут у него не останется на свете никого, кроме вас. Не отдавайте мальчика его отцу ни в коем случае! Владимир Карпович был бы очень рад сделать его козлом отпущения вместо меня. Конечно, мать, покидающая своего ребенка, – преступница, но я ощущаю себя виновницей лишь наполовину, поскольку доверяю его вам. Я слишком измучена, слишком слаба и не сумела бы воспитать его. Рядом с вами, такой сильной женщиной, он будет счастливее, нежели со мной. Позаботьтесь о моем сыне. Любите его. Надеюсь, Николай и батюшка тоже полюбят его. Я ужасно устала. Больше не могу. Молитесь за меня. Прощайте, – Мария».
Софи на секунду провалилась в чудовищную пустоту и тишину. Затем, приходя в себя, прошептала:
– Кто вручил тебе это письмо?
Мужик посмотрел на нее одуревшим взглядом и не ответил. Второпях она задала свой вопрос по-французски. Пришлось повторить его по-русски. Лицо мужика меж густых бровей и бородой оживилось:
– Сама барыня!
– Ты видел ее перед отъездом?
– Конечно!
– Как она выглядела?
– Как всегда!
Невозмутимый спокойный вид мужика успокоил Софи. Золовка, должно быть, написала письмо в минуту отчаяния. Но между желанием умереть и самоубийством как таковым – большая дистанция. Мария наверняка уже отказалась от своего намерения. Софи надеялась на это, прекрасно сознавая, что этот зов о помощи мог исходить лишь от женщины, лишившейся способности сопротивляться и даже разума. Дорогá была каждая минута, но, чтобы добраться до места, понадобится по меньшей мере полтора часа. Софи дернула Гришку за рукав и крикнула:
– Скорее! Гони! В Отрадное!
Он хлестнул кнутом белую кобылу. Коляска, скрипя и подскакивая, тронулась. Уцепившись за сиденье, Софи дрожала от нетерпения. Мысль ее опережала лошадь и терялась в тумане. С бессознательным упорством Софи повторяла одно и то же: «Лишь бы мне не опоздать! Только бы рассеялся этот кошмар!» Сосредоточившись на одном предмете, она теряла ощущение времени. Обнаженные деревья с воронами, рассевшимися по ветвям, пролетали мимо. Белая кобыла выдыхалась, замедлила свой бег. Софи пришла в отчаяние. Гришка с большей силой стеганул лошадь. Она побежала рысцой. Но это Марию хлестали, чтобы заставить ее опомниться, еще немного понести свой груз, жить, несмотря на истощение сил и тяжесть пути! Далеко за коляской скакал крестьянин из Отрадного.
Когда показался дом, стоявший в центре безлюдного двора, тревога сдавила сердце Софи. Она искала взглядом хоть какую-то деталь, которая могла бы избавить ее от страха. У крыльца собака грызла кость. Ела бы она так спокойно в двух шагах от мертвого тела? Нет. Все это было нелепой, противоречивой историей, русским приключением! Колеса увязли в грязи перед ступеньками. Кобыла закусила удила и замотала головой, отчего послышался звон, будто ключи в связке ударялись друг о друга. Гришка помог Софи выйти из коляски. Подхватив юбку, она бросилась в переднюю. Путь ей преградила чья-то фигура. Это была Меланья, кормилица. Лицо ее было бледным и распухшим, глаза расширились от страха.
– Что случилось? – воскликнула Софи.
Девка подавила рыдание, перекрестилась и сказала:
– Наша барыня умерла!
Софи почувствовала, что силы совсем покидают ее, душа разрывается, и не могла произнести ни слова.
– Час назад, – продолжила Меланья. – Ее нашли в сарае. Она повесилась.
– Какой ужас! – прошептала Софи. – Где она?
Меланья отвела ее в спальню. Шторы были задернуты. В полумраке горели две свечи. Перед иконой мерцал огонек лампады. На кровати, одетая, застывшая, лежала женщина. Лицо ее было прикрыто платком. Туфель с нее не сняли. Софи узнала бледно-сиреневое платье с голубыми оборками, в котором ее золовка была во время их последней встречи. Но разве на груди покоятся руки Мари? Пальцы не были соединены в молитвенном жесте, но были изогнуты, скрючены до излома. Две крестьянки и мужик стояли, прижавшись к стене. Трехголовая тень протянулась до потолка. У изножья кровати рыдала повитуха Фекла. Заметив Софи, она пробормотала:
– Я послала за отцом Иоанном!
Несмотря на стремление рассуждать здраво, Софи не могла еще поверить, что последняя надежда потеряна. Она приподняла платок. И почувствовала будто удар в голове. Мертвенно-бледное лицо, которое она увидела, было лицом незнакомой Марии, Марии, отбросившей стыдливость, позволяющей разглядывать свою неистовую, исстрадавшуюся, истерзанную душу, застывшую с ужасной маской на лице. Щеки были покрыты лиловатыми пятнами. За приоткрытыми веками просвечивал молочного цвета взгляд. Краешек синего языка торчал в уголке рта. Веревка оставила косую бороздку на коже шеи и нижней челюсти. Задумавшись об этой, так плохо прожитой жизни, Софи испытала странное чувство, ей показалось, что она всегда знала, каким трагическим будет конец Мари. В девушке, которая однажды, в снежную бурю, в белом платье венчалась в деревенской церкви, уже тогда зародилась повешенная обезображенная женщина, распростертая на этой кровати.
– Прости ее, Господи! – вздохнула Фекла. – Пусть страдание послужит ей искуплением ее греха!
Софи опустила голову. Ощутив неумолимую суровость такого заключения, она тоже испытывала необходимость обратить свою душу к невидимому и всеведущему Владыке, который решает судьбу человека в тот самый момент, когда он считает себя абсолютно независимым. Она прикрыла лицо покойной платком. Затем обратила внимание, что туфли Марии запачканы грязью. Эта деталь по непонятной причине потрясла ее. Печаль, которую она долго сдерживала, неудержимо охватила ее, и глаза Софи подернулись слезами. Она опустилась на колени у кровати, поцеловала руку с холодной кожей и жесткими костями и тихо пробормотала:
– О Мари! Мари! Зачем вы это сделали?
Воспоминания нахлынули на нее. Как во сне, она представила себе тот зимний вечер, когда девушка и ее отец танцевали один перед другим под звуки балалайки. Софи опять увидела симпатичное личико Мари, кружившейся вокруг Михаила Борисовича, который, покраснев от удовольствия, постукивал каблуками и щелкал пальцами, выкрикивая: «Оп-ля! Оп-ля!» Все тогда было таким простым, таким сияющим и чистым!..
За спиной раздались торопливые шаги. Задыхаясь, вошла толстая крестьянка в платке и сказала:
– Отец Иоанн отказывается отпевать самоубийцу! Он говорит, что она умерла не по-христиански! Говорит, что ей уготован ад!
Женщины с ужасом перекрестились. Мужик пробормотал:
– Тебе не надо было рассказывать ему, что она повесилась!
– Он сам увидел бы это, придя сюда! И еще сильнее разгневался бы!
– И то правда! – сказала Фекла. – Ой! Ой! Ой! Святые угодники, святые угодницы! Грех-то какой! Как же мы ее похороним без отпевания? Да и устоит ли крест на ее могиле?
– Покойники, которых хоронят без священника, не находят упокоения! – твердо объявила Меланья. – Это всем известно! Они бродят по деревне. Стучат в окно! Хотят вернуться! Она вернется!
– Замолчите! – прикрикнула Софи. – Вам не стыдно болтать такой вздор?
Этот властный голос подействовал на крестьянок.
– Господь, быть может, будет не так суров, как поп! – заметила Фекла, пожав плечами.
И продолжила жалобно и нежно:
– О! Милая голубка, ты улетела! О! Чудесное зернышко, потерявшееся на ветру!..
Вслед за нею заплакали все женщины. Их четко согласованные стенания напоминали вокальное упражнение, лишь незначительно окрашенное печалью. На их рыдания отозвался вопль ребенка, отдыхавшего в соседней комнате. Меланья шмыгнула носом, осушила глаза, расстегнула корсаж и сказала:
– Он проголодался, бедняжка! Мне все-таки надо пойти к нему!
Скоро после ее ухода ребенок перестал хныкать. Уткнувшись лбом в бедро покойницы, Софи продолжала вспоминать историю их такой беспокойной и такой нескладной дружбы. Она не столько страдала, сколько переживала ощущение разрыва с жизнью. Быть может, именно это и называли молитвенным состоянием?
* * *
В половине девятого вечера сгоравший от нетерпения Михаил Борисович услышал, что у крыльца остановилась коляска. Почему Софи так надолго задержалась в деревнях? Неужели не подумала, как беспокоится свекор? Он решил выразить свое неодобрение и не пошел в переднюю встречать ее. В окно кабинета он увидел слугу, поднявшего большой фонарь, и дождь, бриллиантовой пудрой сверкающий в его свете. Кожаная кибитка была залита водой. Перед окном замелькали тени. Из коляски вышли две фигуры: Софи и крестьянка.
Михаилу Борисовичу не нравилось, что сноха привозила людей из деревни в дом. Он решил очень сильно отругать ее за это. Но такая перспектива была ему не по душе. Радуясь, как комедиант, он сел за рабочий стол, передвинул чернильницу и малахитовое пресс-папье, застегнул жилет и изобразил недовольное лицо.
Но время шло, а Софи не показывалась. Снедавшее его желание увидеть ее остановило ход времени. Наконец дверь приоткрылась, и вошла она, черноволосая, оживленная, элегантная. Платье ее зашуршало, коснувшись стула. Когда Софи оказалась в свете лампы, он увидел, что в руках снохи – белый сверток. Приглядевшись попристальнее, Михаил Борисович узнал младенца. Наверное, какой-то мужицкий ребенок! И рассердился. Если он не остановит сноху, она превратит дом в приют!
– Наконец-то, Софи, но это же смешно! – ворчал он, пока она укладывала дитя в кресло.
Сноха выпрямилась и встала напротив свекра. Только тогда он заметил, что она бледна, а глаза смотрят пугающе пристально. Можно было подумать, что женщина околдована только ею различимым видением. Он испугался и пробормотал:
– Что это за ребенок?
– Ваш внук, – ответила Софи.
Когда прошел первый миг удивления, Михаил Борисович замкнулся, недоверчиво глядя на сноху. Он предчувствовал какое-то действие, предназначенное для того, чтобы провести его. Упершись двумя кулаками в край стола, он встал, грозно выпятив широкую грудь и подняв подбородок.
– Зачем вы его привезли? – спросил он суровым тоном.
– Я не могла поступить иначе!
– Если вы надеетесь разжалобить меня!..
– О нет, батюшка! – произнесла она. – Я даже умоляю вас быть мужественным!
И протянула ему письмо Марии. Он не пожелал взять его:
– То, что она хочет сказать мне, не интересует меня!
– Она написала не вам, а мне.
Поскольку Софи настаивала, Михаил Борисович с угрюмым видом схватил письмо и надел очки в золотой оправе. И стоило ему углубиться в чтение, как лицо его исказилось. Софи видела, что оно стареет на глазах, по мере того как Михаил Борисович продолжал читать. Подобравшись к концу, старик бросил на сноху, поверх очков, обезумевший взгляд.
– Она не сделала этого? – пробурчал он.
– Сделала, отец, – ответила Софи. – Я приехала из Отрадного. Мари нет в живых.
Он задрожал, будто его ударили. Челюсти старика сжались. Он снял очки. Затем, повернувшись к иконе, перекрестился так медленно и с таким старанием, будто вырезал рисунок креста в твердой материи. Софи задумалась, какое внутреннее борение скрывается за этой видимостью достоинства. Раздавленный горем и угрызениями совести одновременно, Михаил Борисович, по-видимому, не знал, с какой стороны обороняться. Ей стало жаль его. Он глубоко вздохнул и прошептал:
– Что ж! Она умерла, как жила: презираемая Богом, отцом и светом!
Такое заявление поразило Софи. Неужели это все, что мог сказать человек, чья дочь только что покончила с собой. Он даже не пытался узнать, как она убила себя, и даже не выражал желания увидеть ее! Опоясав себя гордостью, как корсетом, он продолжил:
– Это все же не объясняет мне, что делает этот ребенок под моею крышей.
– Что вы, батюшка, – пролепетала Софи, – вы же прекрасно понимаете это! Вы прочли, о чем меня просит Мария в своем письме!..
– Почему я должен подчиняться ей после ее смерти, ведь она не подчинилась мне при жизни? – сказал он.
– Сергей – ваш внук!
– Отвергнув дочь раз и навсегда, я не вижу никаких оснований для того, чтобы интересоваться ее потомством. Отвезите этого младенца назад в Отрадное. Когда-нибудь его отец приедет туда за ним!
Гнев охватил ее, как трескучий и пылающий огонь. Теперь не могло быть и речи об оправдании этого домашнего тирана, надо было сокрушить его эгоизм, злобу и властолюбие.
Она воскликнула:
– Как вы можете упускать единственный еще оставшийся у вас шанс искупить свою вину?
Он выпятил грудь:
– Какую вину?
– Это вы убили Мари! Вы убивали ее каждый день, понемногу, своим безразличием, суровостью, презрением!..
Она возвысила голос, словно желала, чтобы покойница услышала издалека ее обвинительную речь.
– Вы убили ее, а я невольно помогла вам сделать это!
– Вы? – воскликнул он. – Это нелепо! Вы здесь ни при чем…
Она оборвала его:
– Все зло началось в тот день, когда я приехала в Каштановку! Стоило мне появиться, как вы отвернулись от своих детей! Очень скоро Николай стал для вас невыносим. Что же касается Мари, то вы поставили ей в вину то, что она не обладала достоинствами, которые вы обнаружили во мне, не отдавая себе отчета в том, что у нее ее другие, в сто раз более достойные качества! Когда она совершила безумный поступок и вышла замуж, вы прогнали ее как преступницу, вместо того чтобы употребить все свои силы и не позволить ей стать слишком несчастной! А я, я, которая должна была бы заставить вас проявить больше снисходительности, я не сумела этого сделать!.. Имейте же мужество, по крайней мере раз в жизни, признать свои ошибки! Считайте, что таков священный долг для нас обоих – исполнить последнюю волю существа, которое мы подтолкнули к гибели! Теперь это мой ребенок! Я его взяла! И я его оставлю!
Выдохнувшись, она замолчала, до глубины души взволнованная каким-то животным чувством. Михаил Борисович, однако, не шелохнулся, молчал. В свете лампы лицо его исказилось, черты поникли. Принимал ли он обвинения, которые она бросила в него? Она и не надеялась, что он признает себя виновным. Свекор тяжело дышал. Его взгляд с холодным любопытством обратился к креслу, где лежал внук.
– Я никогда не смогу привязаться к этому ребенку, – произнес он наконец.
Маленький Сережа дремал, свернувшись в комок, насупившись, кружевной чепчик сдвинулся ему на ухо, голубой бант был завязан под подбородком. Михаил Борисович сильно тряхнул головой.
– Никогда, – повторил он, – никогда!
Дождь струился по темным окнам. Вокруг дома трещали деревья. Софи вспомнила другую трагическую ночь: Михаил Борисович приехал в Санкт-Петербург, чтобы увидеть внука, которого она ему подарила, и узнал, что малыш умер. Софи взяла на руки Сережу и прижала к груди этот теплый и легкий груз. Когда она шагнула к двери, Михаил Борисович спросил:
– Софи, куда вы идете?
– Укладывать Сергея, – ответила она.
Он не сказал ни слова, не попытался удержать ее. На пороге она обернулась. Михаил Борисович не шелохнулся. Голова его склонилась к груди. С такого расстояния Софи не могла разглядеть выражения его лица. Он как будто пережевывал что-то очень усердно. Через минуту она поняла, что Михаил Борисович плачет.
Слава побежденным
Часть I
1
– Как? Неужто еще не готов? – воскликнул Костя Ладомиров, приоткрывая дверь спальни.
Николай искоса взглянул на него, но только проворчал в ответ что-то невразумительное, не переставая бриться – подбородок его был сильно напряжен. Мог ли он признаться, что нарочно тянет с утренним туалетом, потому что до сих пор не появился почтальон? Между тем нынешней ночью ему во сне с поразительной ясностью увиделось, что он получит письмо от Софи – письмо, которым все будет объяснено, все улажено! А сейчас Николай, приставив наискосок к щеке лезвие бритвы, провел снизу вверх – «против шерсти», и по мыльной пене побежала розовая дорожка.
– Рылеев ведь заждался нас! – с досадой воскликнул Костя.
– Он не назначил точного времени.
– Нет, но я убежден, что все собрались. И наверняка есть новости!
– Конечно! Со вчерашнего-то вечера! – отозвался Николай. – М-да, меня бы это сильно удивило!
Ему хотелось, чтобы история мира замерла и оставалась неизменной до тех пор, пока он не получит долгожданного письма от жены. В самом деле, ну почему Софи не отвечает ему уже больше трех недель? А если она перепутала адрес?.. Да нет, не может быть: он же ясно сказал, что остановится у Кости Ладомирова, поблизости от Исаакиевской площади! Единственное объяснение – его корреспонденцию перехватывает полиция.
– Как ты думаешь, цензура прочитывает нашу почту? – прошептал Николай.
Костя молча вытащил из кармана сложенный листок.
– Что это? – спросил Николай.
– Письмо. Только что получил.
– Значит, почтальон приходил уже?
– Да.
Разочарованный Николай подумал, а не лучше ли ему сесть в почтовую карету и доехать до Каштановки, чтобы увидеться с Софи? Четыре дня на дорогу от Санкт-Петербурга до Пскова, столько же обратно… Искушение оказалось невероятно сильным, но он сумел его побороть: нельзя же предать… нельзя же так подло бросить товарищей в минуту, когда они собираются все вместе пойти на риск и совершить поступок отчаянно дерзкий, но способный подарить свободу России!
Столь же решительно, как с политическим вопросом, Николай разделался с бритьем: одним движением бритвы было покончено с левой щекой, затем точно так же – с правой. Теперь оставалось только вытереть лицо, завязать галстук, надеть темно-вишневый жилет и орехового цвета сюртук, а потом провозгласить:
– Костя, я чувствую, что сегодня утром мы отлично поработаем!
Друзья торопливо вышли в переднюю, где, уютно пристроившись у окошка, старый лакей Платон в зеленой ливрее с серебряными галунами вязал чулок. Хозяин растормошил его, и слуга побежал за шинелями, шляпами, галошами…
Прежде чем выйти на улицу, Костя, кокетливый от природы, не преминул полюбоваться собой в зеркале. От вихра на затылке пахло жасмином, нос, подобно клюву, нависал над чисто выбритой верхней губой, на пальце сверкал бриллиант, длинные голенастые ноги были туго обтянуты серо-голубой тканью.
– Не слишком-то хорошо я выгляжу, – пробормотал он. – Положительно, эта революция слишком расшатывает нервы… Ладно, пойдем, дорогой, пора!
На улице ледяной ветер покусывал лица молодых людей. Маленькие прозрачные снежинки падали на тротуар. По мостовой, блестящей от гололедицы, широко расставив ноги, но все равно непрерывно оскальзываясь, брели запряженные в экипажи лошади. Жалкие, похожие на нищих прохожие спешили куда-то, сгорбившись, засунув озябшие кулаки в карманы, упрятав носы в воротники шинелей. Несмотря на ранний час, двери лавок на Невском были приоткрыты. На витрине книжного магазина Николай заметил портрет великого князя Константина Павловича с такой подписью: «Его Величество, государь-император Константин I, царь всея Руси». Никто там, похоже, не знал, что еще накануне, 12 декабря 1825 года, великий князь Константин Павлович, раздраженный лживыми измышлениями на свой счет, отправил из Варшавы в Санкт-Петербург эстафету, коей подтверждал отречение государева брата от престола.
– Честное слово, лучше бы им убрать этот портрет! – вздохнул Николай.
– Ждут, наверное, известия о том, кто прямого наследника заменит, – откликнулся Костя. – Александр I мертв, Константин Павлович, не покидая Варшавы, отказался от короны, а Николай Павлович, провозгласив уже императором брата, теперь раздумывает, а присягнут ли теперь войска ему. Признай, верно ведь – это самое экстравагантное междуцарствие в Европе! Предлагают Российскую империю, словно чашку чаю, то одному, то другому, и никто ее не хочет испить!
Николай подошел поближе и вгляделся в изображение великого князя: лицо моськи, нос будто придавлен, лоб низкий, тяжелая нижняя губа совсем отвисла…
– Неказистый он, и скотское совершенно выражение лица, – сказал наконец молодой человек, – но тем не менее я предпочел бы его моему тезке, жестокому, неотесанному и пустозвонному, как барабан! Константин-то, вполне возможно, согласился бы на реформу общественных установлений…
– Не думаю, – ответил Костя. – Но хорошо бы народ в это верил. Если войска воспротивятся второй присяге, которой от них вот-вот потребуют, тогда все шансы будут на нашей стороне. А вот если смирятся…
Ладомиров легонько взмахнул перед собою рукой, словно отгоняя призрак надвигающейся беды.
– Не смирятся, не уступят! – с силой произнес Николай. – Да они попросту не могут смириться!
– Почему бы это?
– А потому как чистая выгода диктует им, что идти нужно за нами! Потому как… потому как я чувствую, что все будет хорошо!
Он минутку помолчал, раздумывая, потом заговорил шепотом:
– А ведь мы лгуны, братец ты мой, мы ужасные лгуны! Чудовищные! Мы сражаемся за свободу и не решаемся сказать об этом людям. Мы вынуждаем народ думать, будто наша цель – возвести на трон Константина Павловича. Но, если удастся совершить задуманный нами государственный переворот, солдаты быстро поймут, что Константина мы хотим не более, чем Николая, что Константин для нас – вообще лишь предлог, что мы пользуемся его авторитетом лишь для того, чтобы организовать не просто дворцовую революцию, но – революцию как таковую. Так скажи, Костя, разве эти простые люди не упрекнут нас после в том, что их одурачили? Не отвернутся ли от нас, нет, хуже – не восстанут ли против нас, чтобы наказать за то, что предложили им независимость? Наверное, вторая часть нашей задачи в том, чтобы убедить народные массы: счастье без царя стоит куда больше, чем несчастье с царем!
– Ты прав! – ответил заметно испуганный Костя.
Он даже остановился, и Николаю пришлось подтолкнуть друга, чтобы продолжить путь. Шагая, Озарёв продолжил разговор более веселым тоном:
– Ну, и почему ты насупился? Ведь именно это и интереснее всего! Управлять людьми, временем, да какое там!.. Управлять ходом истории!
Приободряя себя самого, Николай не переставал думать, что жена поддерживает его либеральные идеи, что она первая открыла ему, какая нищета и какие бедствия царят в мире и чем это можно вылечить. Если бы они не встретились летним днем 1814 года в Париже, как знать, может быть, он сейчас оказался бы по другую сторону баррикад – среди приверженцев монархии… Откуда берется призвание у великих политиков? Забыв о своем встревоженном спутнике, дальнейший путь Николай мысленно проделал об руку с Софи, простившись с видением только у самого дома Рылеева на берегу Мойки, неподалеку от Синего моста.
Прибитая справа от входной двери медная дощечка извещала, что здесь находится «Российско-Американская компания». Тот факт, что глава русских заговорщиков одновременно является и главой международной организации, занимающейся продажей товаров за рубежом, казался Николаю верхом абсурда. Ему было смешно думать, что отсюда уходят как официальные распоряжения, направленные на установление власти царя в отдаленных землях, так и тайные приказы, направленные на разрушение этой власти в землях его собственных.
Казачок Рылеева Филька помог гостям снять шинели. В пустой столовой еще стоял запах свежеиспеченного хлеба. Канарейки в клетке распевали, лампадки освещали несколько икон с потемневшими от времени строгими ликами. Из-за двери, ведущей в жилые покои, доносился женский голос – там распекали прислугу. Николай не был знаком с Натальей Михайловной Рылеевой – она никогда не показывалась на заседаниях Северного общества. Интересно, знала ли она об опасности, грозящей мужу? Все в этой половине было так спокойно, везде царили такие чистота и порядок, что Николаю, пришедшему сюда с собственными заботами, почудилось, будто он грязными башмаками испачкал весь сверкающий воском паркет.
– Хозяин дома? – спросил он у казачка.
– Да, – ответил Филька. – Он с господами в кабинете.
Николай с Костей вошли в маленькую, жарко натопленную комнату, зарешеченное окно которой выходило на стену соседнего дома во дворе. По тесному пространству кабинета между черным кожаным диваном, заваленным бумагами столом, застекленным книжным шкафом и стопками «Полярной звезды», притулившимися у ножек стульев, передвигаться можно было только с огромной осторожностью. Рылеев присел на подлокотник кресла. Изношенный желтый халат, запятнанный чернилами, едва держался у него на плечах. По-детски тонкая шея выглядывала из белого шелкового шейного платка. Сияние огромных, прекрасных, нежных и печальных глаз на его смуглом, обветренном лице с выступающими скулами и тонкими, женственными губами, очаровывало собеседника. Темные кудрявые волосы спускались на лоб. Горло у Кондратия Федоровича болело: он еще не совсем оправился от простуды, которую подхватил, бегая день и ночь по городу в надежде заполучить солдат для участия в мятеже. Здесь были еще низкорослый Юрий Алмазов в мундире и длинный, тонкий Кюхельбекер в сюртуке. Выражение лиц у всех троих было соответственное обстоятельствам.
– Есть какие-нибудь новости? – спросил Николай, пожимая протянутые ему руки.
– Пока нет, – сказал Рылеев, – но я надеюсь, что события не заставят себя ждать. Советникам Николая Павловича нет никакого смысла и дальше задерживать обнародование манифеста.
– Но если условия таковы, то почему бы нам не начать действовать?
– Потому что единственным предлогом для того, чтобы мы подняли восстание, может быть отданный войскам приказ совершить клятвопреступление, присягнув Николаю Павловичу после того, как они уже присягнули Константину Павловичу. И мы ничего не можем предпринять, пока не будет назначена дата этой второй присяги. Возможно даже, императорский указ уже подписан, только мы ничего не знаем – вот чепуха какая!
– Существуют же какие-то способы узнать! – воскликнул Костя.
– Некоторые наши друзья, имеющие связи при дворе, обещали предупредить меня, когда документ отнесут на подпись, – ответил Рылеев. – Однако предполагаю, что любые передвижения этой бумаги будут храниться в тайне до самой последней минуты. Николай Павлович хочет застать всех врасплох, не оставив войскам времени задуматься о своем долге…
Слушая монолог хозяина, Николай ломал голову над тем, чем он-то может помочь – ему безумно хотелось оказать услугу Рылееву, которого считал самым умным и порядочным из людей. Внезапно его озарило, и он радостно воскликнул:
– Я знаю кое-кого, кто наверняка в курсе подготовки манифеста!
– И кто же это? – удивился Рылеев.
– Ипполит Розников! – объявил Николай.
– А ведь правда! – обрадовался в свою очередь Костя. – Как же я сам не подумал!
– Погодите-погодите… – Рылеев нахмурился. – Ипполит Розников?.. Розников… Что-то мне напоминает эта фамилия… О чем же она говорит… А не занимал ли этот Ипполит Розников важный пост при губернаторе Санкт-Петербурга?
– Он адъютант генерала Милорадовича, – сказал Николай.
Рылеев весело, совсем по-ребячески, заулыбался:
– Отлично! Как это хорошо! И вы близки с ним?
– Мы вместе служили в Литовской гвардии в 1814 году, затем в генеральном штабе в Париже, в 1815-м. Но после моей женитьбы потеряли друг друга из виду…
– А теперь есть удобный случай снова встретиться! Отлично! Постарайтесь увидеться с ним сегодня же. А главное – постарайтесь говорить с ним, не возбуждая подозрений!
Николай был на седьмом небе от счастья: надо же какую деликатнейшую миссию ему поручили! Юрий Алмазов тем временем прикурил сигарку и расстегнул верхнюю пуговицу мундира. Густые и широкие черные брови на его узком бледном лице казались приклеенными.
– Славная мысль. Если красавчик Ипполит и впрямь хоть что-то знает, он тут же тебе и выложит! – проворчал он. – Во-первых, потому, что глуп как пробка, а во-вторых, потому что, не спрашивая твоего на сей счет мнения, изначально считает тебя другом. Если хочешь с ним встретиться, напоминаю, что Розников каждый день пьет кофе в кондитерской Шварца на Морской.
– Слышал, – сказал Николай. – Пойду-ка перехвачу его там прямо сейчас.
Рылеев поискал на круглом одноногом столике лекарство, взял склянку, налил себе полную ложку снадобья, проглотил и поморщился.
– До чего же противная микстура! А нужно лечиться – хочу быть в боевой готовности, когда наступит великий день!
Он похлопал ладонью по сложенным на столе папкам и добавил:
– Только подумать, насколько я задержал всю эту работу…
– Когда мы одержим победу, вам больше не надо будет служить в Российско-Американской компании! – вскричал Николай в восторженном порыве. – Вы… вы встанете во главе нового правительства!.. Вы будете нашим либеральным диктатором!..
– Не думаю… – отозвался Рылеев и закашлялся, сложившись вдвое от сильного приступа.
Кюхельбекер, который в это время рассматривал приколотую к стене карту Сибири, округлил свои и без того большие и круглые, как у рыбы, глаза, оттопырил нижнюю губу и произнес:
– А если нас победят, то мы окажемся вот здесь…
Воцарилось неловкое молчание.
– Вот и прекрасно! – нарушил тишину Рылеев, втискивая пробку в пузырек с лекарством. – Право, это же совсем неплохо! Сибирь – истинная страна чудес…
– Оставляю на вас ответственность за это утверждение, – усмехнулся Костя. – А что тут за пунктирная линия через всю карту?
– Маршрут, по которому движутся обозы с продовольствием Российско-Американской компании, – объяснил Рылеев. – Они таким образом добираются до Охотска, города на Тихом океане, а оттуда зафрахтованные нами корабли уходят на Аляску. Я часто мечтал сам предпринять это грандиозное путешествие. И совсем недавно мой друг Маслоедов, который вершит там все дела, пригласил меня погостить. Но поздновато, поздновато… Сейчас у нас у всех в голове иные мысли, верно? И что касается до изумительного приключения, которое подталкивает русских к покорению Нового Света, – мне суждено с ним познакомиться только на бумаге!
– Вы говорите так, словно ваша жизнь должна завтра закончиться! – с упреком сказал Николай.
– Правда, правда… – ответил Рылеев с натянутым смешком. – Я до нелепости пессимистичен. Тут все дело в лекарствах, которые расстраивают мне желудок. Нет, все-таки удивительно, почему до сих пор не пришли Голицын и Оболенский! И Степан Покровский – чем он там занимается?
– Он позавчера вывихнул лодыжку, – сообщил Костя.
– Вот это да! А что ваш приятель Вася Волков?
– Кажется, ему пришлось сегодня утром отправиться в Псков по семейным делам.
– Значит, и его с нами не будет?
– Нет.
– Как это некстати! А князь Трубецкой?
– Должно быть, пошел во дворец – за новостями.
– Наверное, наверное! Господи, боже мой, до чего же неприятно жить в неведении накануне таких важных действий!
Из горла Рылеева снова вырвался хриплый кашель. Он обтер лицо клетчатым платком, отдышался и, бросив на Николая светящийся беспокойством взгляд, спросил:
– Так я рассчитываю на вас – вы ведь поговорите с Ипполитом Розниковым, да? – затем, не дожидаясь ответа, прибавил: – Извините, господа, по долгу службы мне необходимо сейчас же написать два-три письма. Но пусть это вас не стесняет – болтайте друг с другом сколько угодно!
Он очинил перо, рука его дрожала.
«Настоящий вождь не может так нервничать», – подумал Николай.
* * *
Ипполит Розников так переменился, что Николаю было трудно вернуться в его присутствии к тону разговоров, какие они вели в былые времена. Теперь он видел перед собой бравого самонадеянного адъютанта генерал-губернатора с черными нафабренными усами, жирным подбородком, с широкой грудью, украшенной сверкающими аксельбантами, и тщетно искал в нем черты пылкого молодого офицера, насмешника и карьериста, который десять лет назад был его лучшим товарищем в Париже. Но, оплакивая в душе потери друга на пути к почестям, думал и о том, что и тот, со своей стороны, вероятно, сокрушается: зачем Николай так испортил себе жизнь, обвенчавшись с француженкой и выйдя в отставку!
Из-за всех этих мыслей и обстоятельств общие слова, которыми перекидывались старинные друзья между взрывами смеха, не мешали им испытывать тягостное ощущение, вызванное тем, что время столь безжалостно уходит, да и нравы теперь совсем уже не те… Николай был смущен, он уже подумывал, что вряд ли сможет расспросить красавчика Ипполита, не выдав своих истинных намерений. Перед ними дымились две чашки кофе. Кондитерская была почти пуста. По залу прошел официант с блюдом пирожных.
– А я тебя не задерживаю? – спросил Николай. – У тебя, вероятно, сейчас особенно много работы!
– Почему сейчас особенно?
– Да в связи с манифестом.
– Так не я же его пишу! – весело откликнулся Ипполит.
– Конечно, не ты, но ведь как адъютант генерала Милорадовича ты, наверное, участвуешь в подготовке церемонии. Ну и что – известно уже, когда войска приведут к присяге?
Николай задал вопрос с притворной небрежностью и поднес к губам чашку, в которой плавал кусочек лимона. Он казался себе чертовски дипломатичным. Игра возбуждала его, заставляла сердце биться с немыслимой скоростью, зато голова оставалась совершенно холодной и ясной.
– А вот об этом я ничего не могу тебе сказать.
– Почему?
– Официально время еще не назначено.
– Но это будет скоро?
– Очень скоро. Совсем скоро.
– Дело нескольких дней?
– Дело нескольких часов! – важно произнес Ипполит.
Николай перенес удар и глазом не моргнув.
– А-а-а, вот как, нескольких часов, – протянул он. – Ну, значит, манифест уже подписан.
Ипполит явно боролся с собой: с одной стороны, никак нельзя было выдать государственную тайну – ведь он получил насчет этого строгие указания, а с другой – ужасно хотелось поразить друга.
– В конце концов, если я от тебя скрою, ты все равно узнаешь от кого-нибудь другого, – вздохнул он. – Половина Санкт-Петербурга уже в курсе. Да, великий князь Николай Павлович сегодня на рассвете подписал манифест. Императорский Совет состоится в восемь вечера, приглашения уже разосланы. А завтра утром, 14 декабря, все войска гарнизона принесут присягу новому императору.
– Это невозможно! – пробормотал Николай.
Он чуть не задыхался от мучительной радости. Это он, он первый, принесет важнейшую новость Рылееву, это он приведет в действие весь механизм восстания! Быть может, заговорщики будут обязаны своим успехом именно той скорости, с которой он все разведал! Губы Николая невольно расплылись в довольной улыбке.
– Тебя это обрадовало? – удивился Розников.
– Признаюсь, не ожидал подобной поспешности!
– Она необходима: нельзя же, чтоб вечно длилось междуцарствие.
– Да-да, конечно…
Ипполит нахмурил брови и прошептал:
– Ты говоришь: «да-да, конечно», – но думаешь совсем не о том.
Проницательность Розникова показалась Николаю странной: он-то полагал, будто говорит с болваном, а тот легко раскусил его самого, следившего за каждым своим словом!
– Будет! – продолжал тем временем Ипполит. – Прекрати ты эти игры, не надо никаких уловок. Тебя ведь прислали твои друзья?
– Каких друзей ты имеешь в виду? – пробормотал совершенно растерянный собеседник.
– Успокойся, не собираюсь же я вызнавать у тебя их имена! Впрочем, они мне почти все и так известны, более того, многим из них я… я симпатизирую. Но позволь дать совет, пока не слишком поздно: держись от них подальше! Они на грани того, чтобы совершить безумный поступок. Если вы попробуете воспротивиться принесению присяги, и сам ты погибнешь, и вы все пропадете, причем – зря, никому никакой пользы от этого не будет. Горстке либерально настроенных офицеров не под силу возбудить к мятежу целый народ, воспитанный в уважении к Богу, царю и Отечеству!
Николаю очень хотелось вложить в ответ весь свой пыл, но из осторожности приходилось сдерживаться.
– Да о чем ты говоришь? – пожал он плечами. – Ничего об этом не знаю…
Он так хорошо изобразил недоумение, что, казалось, Ипполит поверил ему.
– Правда? – спросил он. – Но я же сам видел тебя с ними!
– Когда это было, дорогой мой! Тогда я жил в Санкт-Петербурге, а теперь давно уже провинциал!
– Однако, вернувшись, ты снова стал посещать их?
– Ну и что тут плохого?
– Неужели станешь отрицать, что в разговорах между собой вы критикуете правительство?
– Помилуй, да кто ж нынче его не критикует? Позволю себе сказать, что даже само правительство себя порой критикует! Разумеется, нам случается высказывать какие-то пожелания в его адрес, но от этой болтовни далеко до разговоров о мятеже, на которые ты намекал. Храни нас Господь от подобной катастрофы!
Озарёву было стыдно лгать, да еще пускаться в такие дурацкие разглагольствования, но настроение его было безнадежно испорчено не только из-за этого. Значит, власти предупреждены о заговоре, угрожающем трону. Если Рылеев рассчитывает на внезапность, которая поможет ему добиться решительной победы, какое же огромное разочарование его ждет! Разве что приверженцы будущего императора окажутся такими же безалаберными, как его враги. Голова Николая работала с головокружительной скоростью. Ему не терпелось расстаться с Ипполитом, чтобы объявить друзьям, какие серьезные события на подходе. А Ипполит между тем уже сменил подозрительность на привычное благодушие: он слишком преуспел в карьере, чтобы признать мир устроенным плохо. Недовольные казались ему попросту завистниками. А Николаю, происходящему из вполне обеспеченной семьи, по его мнению, некому и нечему было завидовать! Потому можно и расслабиться, можно кое-что и открыть старому другу… С подчеркнутым удовольствием Розников принялся рассказывать о работе у генерал-губернатора Милорадовича, о своих лошадях, о проигрышах в игре и о везении в ней… Однако Николай, которому не сиделось на месте, воспользовался первой же паузой, чтобы откланяться:
– Прости, ради бога, но мне пора: меня ждут.
– Женщина? – Ипполит подмигнул, сладострастно прикрыв тяжелые коричневатые веки.
– А кто же…
– Расскажешь потом? Обожаю любовные интрижки! Век бы слушал! Почему мы перестали видеться?
– Не знаю.
– Хочешь, встретимся здесь же завтра в то же время?
– Завтра? – пробормотал Николай. – Но завтра же 14 декабря, день присяги…
– Ну и что? Разве ты должен присягать?
– Нет, конечно! До завтра! – сказал Николай.
* * *
Оказавшись снова на набережной Мойки, Николай ворвался к Рылееву и вбросил новость, как бомбу, но… никто ей не удивился. Кондратий Федорович, сидевший за столом и председательствовавший на собрании, только и сказал:
– Да знаем мы уже, знаем! Все будет завтра!
Наверное, Трубецкой, вернувшись из дворца, поднял тревогу. Николай досадовал, что оказался вторым. В столовой и кабинете к тому времени собралось много заговорщиков: здесь были три брата Бестужевых – Михаил, Николай и Александр; Оболенский; Каховский; Юрий Алмазов; Кюхельбекер; князь Трубецкой; Костя Ладомиров; Щепин-Ростовский; Одоевский; Батеньков; Розен; Арбузов; Панов; другие. Сюда постоянно входили, отсюда выходили, возвращались, присаживались на ручки кресел, на подоконник, затягивались трубками молодые офицеры. Гренадеры, саперы, морские офицеры, стрелки-гвардейцы – казалось, все полки гарнизона прислали на это совещание своих представителей. Штатские были редки, но говорили они так же громко, как военные. Слабенький поток воздуха от форточки шевелил дым вокруг большой масляной лампы, висевшей под потолком.
– Но, может быть, вы не знаете, что у властей есть подозрения! – продолжил Николай.
– У них больше, чем подозрения, – ответил Рылеев. – У них – твердая уверенность!
– Что?!
– Да, мой дорогой, да, в ваше отсутствие тут много всякого произошло. Я как раз только что рассказывал нашим товарищам, что на нас донесли. Младший лейтенант Ростовцев, который, хотя и был не из наших, к несчастью, сумел втереться в друзья к Оболенскому, и вчера передал великому князю Николаю Павловичу письмо с предупреждением о заговоре.
– Боже, что за низость! – воскликнул Николай. – Откуда вам об этом известно?
– От самого Ростовцева. Он пришел повидаться с нами – со мной и с Оболенским – сегодня после обеда. Говорит, что, помешав действовать, желал спасти нас помимо нашей же воли. В качестве доказательства своего к нам дружелюбия принес копию письма. Вот она…
Рылеев ткнул пальцем в листок бумаги, лежащий на столе. Николай схватил документ и пробежал его взглядом. «Готовится восстание. Оно разразится в момент, когда войска приведут к присяге. Отблеск пожара, разгоревшегося на площади, может осветить окончательное падение России…»
– Он назвал кого-нибудь? – в горле Николая пересохло.
– Клянется, что нет, – сказал Оболенский.
– А ему можно доверять?
– Наверное. Никто ведь его не вынуждал признаваться мне в том, что сделал.
– Как, как вы могли оставить предателя живым? – воскликнул Николай.
– Оболенский с наслаждением придушил бы изменника, – вмешался Рылеев, – но я остановил его, потому что это ни к чему бы не привело. Более того: вполне возможно, столь торопливо совершенное преступление лишило бы нас последнего шанса на успех!
– Неужели вы считаете, что еще остается надежда на успех? – спросил Николай.
– Разумеется, поскольку нас еще не арестовали!
Николай осмотрелся. На лицах людей, окружавших стол, было торжественно-возвышенное выражение. Самым растерянным и огорченным из всех присутствующих выглядел князь Трубецкой, в котором многие молодые офицеры видели главнокомандующего мятежом. Высокий и худой, он склонил на впалую грудь длинное лицо с рыжеватыми бакенбардами, губы его искривила гримаса разочарования. Уши Трубецкого торчали по обеим сторонам черепа, как ручки вазы. Полдюжины орденов украшали зеленую ткань его мундира. Князь процедил сквозь зубы:
– В противоположность Рылееву, признаюсь, что откровения Ростовцева заставляют меня раздумывать над возможностью поднять восстание завтра.
– Не понимаю ваших колебаний, князь, – живо ответил Рылеев. – На самом деле вмешательство Ростовцева никак не может помешать нашему делу, наоборот, оно делает восстание неизбежным. Если до сих пор у нас не было необходимости действовать быстро, то теперь она появилась, и подарил нам ее именно Ростовцев!
– Как это так?
– Загнав в тупик. Теперь мы знаем, что, если помедлим, если не начнем действовать, нас арестуют. И что же? Вы предлагаете опустить руки и, сидя по домам, ждать, пока за нами придут?
– Рылеев прав! – прогремел Михаил Бестужев, капитан Московского полка. – Лучше уж пусть нас возьмут на Сенатской площади с оружием в руках, чем в постели!
Эти слова так возбудили Николая, словно он произнес их сам. В комнате было страшно жарко. Запах табака и кожаных сапог придавал встрече серьезности. Лица светились, будто смазанные маслом. Рылеев встал, оперся кулаками на стол и сказал с мрачным пафосом:
– Даже если наше начинание обречено на провал, оно пробудит Россию от сна. Мы первыми сотрясем ее. Потом наши сыновья, наши внуки, наученные нашими ошибками, подхватят начатое нами дело и завершат его. Тактика революции заключена в одном-единственном слове: решимость! Мы решимся! Не правда ли, друзья?
Сильные голоса ответили ему:
– Да! Да! Мы решимся!
– По крайней мере, о нас упомянут в истории нашей Родины! – воскликнул драгунский капитан Александр Бестужев, у него была фигура атлета и достойный оперы бас.
– Господа… господа… умоляю вас, немножко логики! Господа… – повторял князь Трубецкой.
– Прежде чем продолжать этот спор, я бы хотел выяснить одну вещь, князь: выйдете ли вы завтра с нами на Сенатскую площадь? – спросил Рылеев.
– Разумеется, если мое присутствие представляется вам необходимым…
Огонек негодования вспыхнул в глазах Кондратия Федоровича.
– Что я слышу?! Вы позабыли, князь, что назначены на завтрашний день военным диктатором?..
– Сомневаюсь, что ваш выбор удачен, – отпарировал Трубецкой. – Я уже давно оставил службу. Гвардия меня забыла. Она откажется мне повиноваться…
– Помилуйте! – вмешался Александр Бестужев. – Память о ваших подвигах в Отечественной войне и поныне живет в сердцах солдат!
Трубецкой пошевелил своими большими ушами. Нос его, казалось, удлинился до самой губы.
– Все это старые дела! – сказал он. – К тому же, если я и мог доказать свою храбрость на поле битвы, это отнюдь не означает, что чувствую себя способным возглавить мятежные войска и провести их по улицам Санкт-Петербурга! Совсем напротив…
Ледяное молчание стало ответом на эти слова. Князю Трубецкому померещилось, что он окружен судьями. Более того, судьи эти уже вынесли приговор. Причем некоторые из судей, по преимуществу молодые, глядели на него – со всеми его побрякушками – не скрывая презрения. Всеобщая враждебность вызвала у князя прилив гордости.
– Безумцы! – невнятно бормотал он. – Безумцы! Вы не представляете ожидающей вас участи, вы не знаете своей судьбы, если дело обернется поражением! Сейчас вы здесь, вы счастливы, вам тепло, у вас есть всё, вы уверены в своих правах, вас опьяняют ваши надежды!.. Завтра все это у вас могут отнять! Вы превратитесь в рабов, хуже, чем рабов, вы превратитесь в отбросы русской нации!
Перед Николаем разверзлась бездна. Да князь же прав, совершенно прав! Но… не нужно бы его слушать. Раз задумаешься – и вот уже никакой героизм невозможен…
– Хватит! – высокомерно произнес Батеньков.
– Я и сам не намерен ничего добавлять к этому предостережению, – ответил Трубецкой. – Только никак не пойму, зачем вам надо, чтобы именно я стал командующим?
– Затем, что у нас нет никого, кто мог бы заменить вас, – вздохнул Рылеев.
– А кого вы наметили мне в адъютанты?
– Оболенского.
Князь Трубецкой, сложив костлявые руки, захрустел пальцами. Рылеев пристально, с близкого расстояния смотрел на него темными, печальными глазами – так, словно хотел загипнотизировать гостя.
– Отлично! – сказал наконец Трубецкой. – Сделаю все, что смогу.
Он выглядел недовольным, но решительным. Кажется, можно было немного расслабиться. Лица присутствующих посветлели. Оболенский машинально поправил аксельбанты. Это был человек хорошего роста, лоб его перерезали две глубокие преждевременные морщины, лицо казалось утонченным, задумчивым и спокойным.
– Теперь хорошо бы узнать, на какие войска мы можем твердо рассчитывать, – снова заговорил князь Трубецкой.
– Сколько людей вам нужно? – спросил Рылеев.
– По крайней мере, шесть тысяч.
– Они поступят под ваше начало! – с апломбом воскликнул Кюхельбекер.
Военные, услышав от гражданского лица столь безапелляционное заявление, только рассмеялись.
– Очевидно, что сигнал должен дать один из самых старинных гвардейских полков, – сказал Трубецкой. – В противном случае остальные дрогнут…
– В Измайловском полку точно есть наши, – отозвался Рылеев.
– Я, со своей стороны, могу отвечать за Московский полк, – объявил Михаил Бестужев.
– А я – за Финляндский, – поддержал его барон Розен.
– Экипажи судов придут со мной, – отчитался Николай Бестужев и, повернувшись к брату Александру, добавил: – Думаю, твои драгуны последуют за тобой?
– Да, – согласился тот. – Наверняка сумею их убедить.
Каждый приносил свой подарок в корзину мятежа. Рота за ротой здесь прошла вся русская армия. Николай еле сдерживался, чтобы не зааплодировать. Как жаль, что он отказался от военной карьеры! Ему тоже так хотелось внести в копилку общего дела, дела свободы хоть толику пользы, не только самого себя! А вокруг тем временем стали подсчитывать, какие же завтра будут у восставших силы, и оказалось, что никто, ни один из присутствующих офицеров не может поручиться, что мятежников поддержит полк целиком: кто говорил о своем эскадроне, кто о своем батальоне…
– Наш численный состав тает на глазах! – с горечью констатировал князь Трубецкой.
– Дайте только начать, в ходе операции людей станет куда больше! – заверил его Рылеев.
Трубецкой поднял глаза к потолку и тяжело вздохнул:
– Да услышит вас Господь на небесах! Ладно, как бы там ни было, вот мой план: первый полк, который откажется приносить новую присягу, будет приведен в полном боевом порядке, с барабаном, со знаменем впереди, к казарме, где размещается соседний полк, чтобы побудить товарищей к действию. Отсюда уже два полка отправятся дальше, к следующей казарме. Таким образом, мало-помалу, революционное войско станет увеличиваться и одновременно приближаться к центру города, чтобы, в конце концов, уже в полном составе оказаться на Сенатской площади, у Зимнего дворца. Увидев, как перед ним развертывается целая армия, великий князь Николай Павлович откажется от своих претензий на трон, а Сенат обнародует совсем другой, чем собирался, манифест – учреждающий Временное правительство…
В его речи, ровной, спокойной, события разворачивались сами по себе, без столкновений, без пролития крови, власть имущие с отменной приятностью склоняли головы перед теми, кто – с точно такой же отменной приятностью – требовал их ухода, и в одно прекрасное утро Россия пробуждалась, одаренная отменно приятной монархической конституцией.
– Вы тут рассказываете нам о революции, в которой проливается розовая водичка! – насмешливо воскликнул Рылеев.
– Я, как вы изволили заметить, «рассказываю» вам о революции, происходящей по закону, – сухо ответил Трубецкой. – Единственно приемлемый для меня путь.
– Революция по закону! – вскричал Николай. – Но ведь эти слова не имеют между собой ничего общего!
Князь посмотрел на него усталым взглядом и прошептал:
– Может быть, в результате нашей победы между ними появится нечто общее…
– В любом случае, – заявил Рылеев, – я не могу дать согласия на предлагаемые вами визиты одного полка другому!
– Почему?
– Только время потеряем… Драгоценное время! Пока верные нам полки станут прогуливаться от казармы к казарме, великий князь Николай Павлович выстроит себе надежную оборону, и мы окажемся разбиты. Следует, наоборот, как можно быстрее привести тех солдат, в которых мы абсолютно уверены, на Сенатскую площадь: пусть их даже поначалу будет не так много, но они послужат примером другим!
– А если придет только один батальон? – пожал плечами Трубецкой.
– Один батальон мужественных и отважных людей стоит больше, чем нерешительная масса!
– И что же вы предпримете с этими мужественными и отважными людьми?
– Пойду штурмом на Зимний дворец!
Удивленный и возмущенный князь как будто даже отшатнулся от собеседника:
– Ах, нет! Нет, нет и нет, господа! Только не это! Дворец должен оставаться для нас неприступным убежищем. Здесь не может быть никакого насилия!
– Отчего же?
– Да просто оттого, что стоит солдатне оккупировать царский дворец, вы больше не сможете сдерживать людей!
– Сможем-сможем! С чего бы войскам перестать повиноваться нам по-прежнему! Впрочем, мы слишком рано перешли к обсуждению тактики – когда будем на месте, обстоятельства сами подскажут, как действовать.
– Не терплю импровизированных баталий!
– А мы не можем позволить себе репетиции!
– Но что мы станем делать в случае провала?
Слова князя прозвучали для Николая оскорблением, просто-таки оплеухой.
– Никакого провала не будет! – воскликнул он.
– Так что мы станем делать в случае провала? – невозмутимо переспросил Трубецкой.
– Отступим к Старой Руссе, – сказал Рылеев, – поднимая по пути войска. Нам встретится много военных поселений. Повстанцы Юга присоединятся к нам: Пестель уже наготове в Тульчине, Волконский – в Умани, Сергей Муравьев-Апостол – в Киеве…
Князь Трубецкой в ответ на каждую названную Рылеевым фамилию одобрительно кивал головой – ему, наконец-то, представили логичный, последовательный план действий.
– Ваша программа отступления для меня предпочтительнее вашего же плана атаки, – сказал он, когда Кондратий Федорович закончил речь.
– Вот уж что неудивительно! – дерзко заметил Николай.
Он испытывал такую жгучую потребность в поддержке, что теперь просто возненавидел князя за его пессимистический настрой.
– Господа, господа, прошу сохранять спокойствие! – вмешался Рылеев. – Не забывайте, что князь Трубецкой принял на себя полномочия диктатора!
На Николая снизошло вдохновение, и он решился тихонько скаламбурить по-французски:
– Ce n’est pas un «dictateur désigné», c’est un «dictateur résigné»…
Что означало: не принял он полномочия, а сложил их с себя!
Стоявшие поблизости офицеры засмеялись, только хозяин дома нахмурился. Вероятно, сам критикуя князя Трубецкого за мягкотелость и робость, он переживал, что тот теряет уважение других заговорщиков. Лучше все-таки армия с плохим военачальником, чем армия вовсе без военачальника, думал Рылеев. Для того чтобы сплотить собравшихся если не вокруг человека, то хотя бы вокруг идеи, Кондратий Федорович попросил барона Штейнгеля прочесть манифест, который намеревались доставить в Сенат. У барона было сонное пергаментное лицо, тяжелые очки в черепаховой оправе, подбородок в форме яйца, уложенный на высокий узел белого галстука, носил он бутылочно-зеленый сюртук, протертый на локтях. Вынув из кармана весь исписанный и весь исчерканный листок бумаги, барон предупредил, что документ, собственно, написан ночью, отсюда и неряшливый вид, извинился и начал вяло, монотонно читать вслух:
– «В Манифесте Сената будет объявлено об уничтожении бывшего правления и учреждении Временного революционного правительства… Задачи у этого временного правительства будут следующие: подготовка выборов в Конституционное собрание, отмена крепостного права, равно как и всех привилегий для каких-либо общественных классов, на него будет возложена обязанность распустить армию и упразднить военные поселения, вместо чего будет введена всеобщая воинская повинность; ему же предстоит осуществить на деле свободу печати, свободу любых вероисповеданий и занятий, обеспечить равенство всех граждан перед законом, независимость суда путем введения гласного суда присяжных, уничтожение цензуры, проведение реформы властных учреждений: все правительственные чиновники должны будут уступить место выборным лицам…»
Заговорщики давно знали наизусть длинный и скучный перечень политических задач, но всякий раз слушали его с одинаковым воодушевлением. Думая о том, что родина всех этих возвышенных и гуманных идей – Франция, Николай мысленно благодарил жену… ах, как бы ему хотелось на самом деле сказать ей спасибо, расцеловать руки… Вокруг него заискрились сдерживаемыми слезами глаза на лицах, вмиг ставших словно более ожесточенными, выражавших теперь только одну, общую для всех идею, только одну, общую для всех надежду: мы должны победить! Затем офицеры расслабились, стали обниматься и похлопывать друг друга по спине: даже князь Трубецкой выглядел теперь взволнованным и растроганным.
– Надеюсь, друзья мои, все наши действия окажутся достойны цели, которой мы мечтаем достичь, – воскликнул он.
И направился к двери.
– Как? Вы уже покидаете нас, Сергей Петрович? – удивился Рылеев.
– Да. Не хочется ложиться слишком поздно.
– Чтобы набраться свежести и бодрости к завтрашнему утру?
– Н-ну… и для этого тоже… – Трубецкой явно был в затруднении… подыскивал слова для ответа.
А Николай тем временем, теряя в густом дыму от сигар и трубок лица друзей и вылавливая их снова, думал про себя: «Хм… Князья, графы, бароны, офицеры-гвардейцы, молодые люди из тех, кого считают вертопрахами и бонвиванами… кое-кто просто мещане… Наверное, впервые в мировой истории революцию затевают те, кто ничего не выиграет в случае ее победы! Обычно угнетенный народ восстает против тех, у кого есть привилегии – у кого благодаря происхождению, у кого благодаря богатству, – восстает, ища для себя свободы и равенства, а нынче, у нас, те, кому отроду принадлежат такие привилегии, люди, у которых есть все, чтобы жить спокойно и счастливо, рискуют этим всем, ставят его на кон, ради того, чтобы подарить народу даже и непрошенные им сейчас свободу и равенство… Да! Да! Никогда прежде не было настолько бескорыстного, настолько благородного, настолько… странного предприятия! И никогда прежде люди не выказывали cебя ни такими великими, ни такими безумными! Все эти юноши с такими обыкновенными лицами, они – герои столь же великие, как герои античности! И я сам… я – такой же герой…»
Он чувствовал себя странно легким… он будто воспарял, ноги больше не касались земли – он плыл на облаке… Несмотря на, прямо скажем, несколько спертый воздух в комнате, было в этом воздухе что-то такое – опьяняющее… Достаточно оказалось вдохнуть его, пусть всего несколько минут тут подышать – и тебя уже пьянила страсть к самопожертвованию! И ты понимал: хотеть – значит мочь, решиться – значит победить! Наверное, все-таки сам Господь тем или иным путем вдохновлял их дело.
Князь Трубецкой наскоро откланялся и удалился. Филька принес несколько бутылок вина, большое блюдо с хлебом, сыром и колбасами, поставил на стол. Взять, что приглянется, могли только стоявшие рядом, остальные просили друзей передать им тоже выпивки и закуски. Бокалы с вином переходили из рук в руки, Николай получил свой «заказ», дотянувшись до него через четыре ряда эполет. Откусив от бутерброда, измазал пальцы в масле. Ну и что? Никому не хотелось уходить. На улице – холод, ночь, царство рассудка, семьи… Нет-нет, не думать ни о чем таком – не позволять себе расслабиться! Все опять заговорили разом. Из прихожей долетали взрывы хохота. Отдельные, совершенно несуразные предложения вдруг становились отчетливо слышны среди общего гула:
– А новой столицей станет Нижний Новгород!
– Прежде всего нужно будет захватить Кронштадт!
– Но почему бы не реорганизовать военные поселения, превратив их, на французский манер, в национальную гвардию?
– Господа, у нас же нет патронов! Сначала надо захватить Арсенал!!!
– Вы просто мальчишки! – перекричал всех капитан Якубович. – Вы не понимаете, вы просто не знаете, каков русский солдат! Уж я-то преподам вам урок, я познакомлю вас с тем, что это за птица!
Якубович был высоким, поджарым, смуглолицым, с жесткими темными волосами. Длинные висячие усы, напоминавшие ласточкин хвост, крест на шее, черная повязка на глазу… Этакий цыган в драгунском мундире…
– Откройте все притоны и игорные дома, – продолжал вещать он. – Позвольте людям допьяна напиться, разрешите им грабить магазины, щупать девок, поджигать кое-какие дома… Ничто не возбуждает толпу так, как парочка хорошеньких пожаров! Ах, какая красота, ах, как это горячит кровь! Затем, добудьте мне в церкви десяток хоругвей – да и вперед теперь: под образами святых, с ружьями и топорами, прямо к дворцу! А там уже вы возьмете за шиворот великого князя Николая Павловича… – и провозгласите республику!
– Боже мой, замолчите же! – остановил поток дерзких призывов хозяин дома. – Всякому овощу – свое время! А пока – единственное, о чем вас просят, это – вывести свой полк на площадь завтра утром.
– Но я не хочу ждать до утра! – продолжал гнуть свою линию Якубович. – Я хочу выступить этой же ночью!
Николая словно молния ослепила: и впрямь – зачем ждать, почему не начать прямо ночью! Офицеры стали переглядываться: одна и та же мысль, видимо, мелькнула у всех, возбуждая молодые умы.
А Рылеев между тем все еще пытался переубедить Якубовича.
– Вы просто безумец! – взревел он наконец, ударив кулаком по столу, но сильно закашлялся. Ему поднесли стакан вина, он пригубил и заговорил снова, уже потише:
– Вы просто безумец… Что, ну, что вы могли бы сделать сегодня ночью? Вы же отлично знаете: солдаты пальцем не пошевелят, пока их не примутся склонять к новой присяге! Да что там – склонять: пока они не получат приказа присягнуть вторично… А они его получат, нам это известно теперь. Вот тогда…
– А мы не нуждаемся в солдатах! – завопил кто-то из дальнего угла комнаты. Все обернулись.
Это был лейтенант в отставке Каховский: изможденная физиономия, жидкие усики над крупным ртом, порывистые жесты, во взгляде карих, поставленных асимметрично, лихорадочно сверкающих глаз – сразу и глубокая печаль, и очевидное безумие…
– Я бы даже сказал, – уточнил Каховский, отвечая на безмолвный вопрос собравшихся, – я бы даже сказал, что солдаты нам помешают. Все, что нам нужно, это – потихоньку забраться во дворец, убить великого князя и – потом уже – завершить революцию!
Якубович поправил сползавшую с пустой орбиты повязку и замогильным голосом произнес:
– Чтобы убить великого князя, достаточно быть мужественным человеком. Отважным.
– Ну и что? Вы хотите проявить таким образом свое мужество и свою отвагу? – ехидно спросил Рылеев, раздраженный фанфаронством собеседника.
Якубович вздрогнул.
– Почему именно я? Из того, что я хотел когда-то убить царя Александра, вовсе не следует, что именно мне теперь следует поручить убийство его брата. Я вообще человек, скорее, спокойный и – с заранее обдуманным намерением – даже и мухи не способен прибить! И вообще – если нам нужен исполнитель – давайте бросим жребий. Нас тут сколько?
Он пробежался единственным глазом по лицам собравшихся. Все молчали.
«А если выпадет мне?!» – с ужасом подумал Николай. У него больно закололо сердце. Как бы ни была сильна его враждебность по отношению к режиму как таковому, в целом, у него никогда не хватило бы мужества убить конкретного человека – великого князя Николая Павловича. Все-таки, несмотря на все свои недостатки, этот человек не совсем похож на других. Он, пожалуй, ближе к тем, кто – благодаря мудрости, рассудку, терпению или, наоборот, хитрости и насилию – веками выстраивал Россию. Да и… какими бы умными ни казались рассуждения, сердце не могло забыть, что Православная церковь считает царя помазанником Божиим. Иными словами – представителем Господа на земле. Все православное детство Николая бунтовало сейчас против святотатства, которое задумывали его товарищи, которого они могли потребовать от него самого. Уклониться в этом случае означало бы потерять их уважение и доверие, согласиться – потерять душу…
– Та-а-ак! – сказал наконец Якубович. – Вы согласны, нет? Давайте напишем наши имена на бумажках, бросим эти бумажки в шляпу и…
Николай неожиданно услышал свой собственный голос:
– Что ж, мне кажется, предложение следует обсудить…
– Но оно не ново для нас, – пожал плечами Александр Бестужев. – Пестель уже проводил жеребьевку, здесь же – несколько месяцев назад!
– С той только разницей, – уточнил Николай уже сознательно, – что у Пестеля имелись доверенные лица, способные выполнить столь грязную работу!
Якубович усмехнулся, и на оливковом его лице блеснули белоснежные зубы:
– Кажется, вы боитесь, что жребий выпадет – вам!
– Да, боюсь, – просто ответил Николай.
В последовавшем за его ответом молчании он ощутил безмолвную поддержку и добавил:
– Русский человек не может думать иначе!
– Здорово сказано, метко – прямо в яблочко! – воскликнул князь Голицын. – Мы напрасно силимся представить себя ярыми революционерами, даже – атеистами… мы все еще во младенчестве крещены, мы все сызмальства связаны с Церковью, у нас у всех в крови почитание царя как помазанника Божия!
Сутулый, костлявый, весь какой-то узловатый Батеньков вдруг распрямился, будто бы сбросив тяжкий груз, и сказал таким же глухим, как у Якубовича, голосом:
– Я ни в коей мере не трус, и я заявляю, что готов умереть на Сенатской площади от пули или ядра, все равно, но я никогда не подниму руку на царя, слышите: ни-ког-да!
– Никогда! Никогда! – поддержали его другие.
– Значит, мы не бросаем жребий? – нахохлился Якубович.
– Нет! – отрезал Рылеев. – В данном случае…
Звон посуды не дал ему договорить: Каховский, сверкая глазами из темных орбит, одним движением смахнул со скатерти тарелки и стаканы, одним прыжком вскочил на стол, выхватил кинжал и принялся потрясать им в воздухе. Головой он задевал люстру.
– Какой смысл бросать жребий? – надрывался он. – Мне это назначено судьбой с самого детства! Я в мире один такой! Я ни от кого ничего не жду! Я не боюсь ни Бога, ни черта, ни – тем более – царя! Вам противна мысль запачкать ручки? Предлагаю вам мои!
– Ты перестанешь молоть чепуху? – спросил Рылеев. – Давай-ка спускайся оттуда…
– И потечет кровь тирана! – не слушая, продолжал свое Каховский. – И освобожденная страна воспоет вам хвалу! Вся слава будет вам, весь позор, все бесчестие – мне! Я останусь для грядущих поколений – на века! – кровавым мясником, именем моим станут пугать маленьких детей! О родина моя, вот на какие жертвы я иду из любви к тебе!
Александр Бестужев потянул его за рукав и вынудил спрыгнуть на пол.
– Отдайте мне кинжал немедленно! – потребовал Рылеев.
Каховский швырнул оружие в угол комнаты, рукоятка звякнула, задев за мебель.
– Прости меня и сохрани этот кинжал в качестве сувенира, – буркнул он.
– В память о чем?
– В память о предложении, которое я сделал. Прежде всего – тебе. Больше я не повторю этих слов. Какой смысл – никому меня не понять. Я одинок… Одинок…
Побелевшие ноздри его раздувались от шумного дыхания. Адамово яблоко гуляло по шее вверх-вниз.
– Экая комедия! – проворчал Александр Бестужев. – Сотрясаем воздух Бог весть сколько часов и ни на шаг не продвинулись… С чем пришли, с тем, похоже, и уйдем… Одно, правда, ясно: не может быть и речи об отступлении. Завтра мы встретимся – все! – на Сенатской площади!
Корнет Одоевский, младший из заговорщиков, приложил руку к сердцу, свежее румяное его лицо отражало романтический пыл, охвативший юношу.
– Нас всех ждет смерть! – воскликнул он с жаром. – Но какая это будет славная смерть!..
– Друзья, час уже поздний… – тихонько напомнил Рылеев.
Наверное, он подумал о жене, которая весь вечер сидела одна в спальне.
– Попросите за нас прощения у Натальи Михайловны, – догадался Николай.
Большая часть гостей тут же и переместилась в прихожую, где были грудой навалены их шубы, шинели, кивера, сабли… Филька мирно посапывал в уголке. Рылеев тумаком пробудил казачка. Парнишка вскочил на ноги, стал потирать слипающиеся глаза. Уже одевшись, но еще держа головные уборы в руке, заговорщики медлили уходить – как будто неведомая сила удерживала их здесь. Может быть, сознание того, что за порогом начинается реальная жизнь в реальном мире? Николай тоже колебался у порога – ему трудно оказалось вырвать себя из царства мечты… Он пропустил перед собой почти всех и никак не решался выйти сам.
– До завтра! Да поможет нам Бог! Мужайтесь! – говорил вслед покидающим его гостям Рылеев.
Уход каждого из них сопровождался глухим ударом тяжелой двери. Вскоре в прихожей остались только Каховский, Александр Бестужев, Оболенский, Голицын, Пущин, Якубович, Костя, Николай и хозяин дома. Каховский, склонив голову, сидел на сундуке, укрывшемся под рядами крючков на вешалке, и больше всего напоминал усталого путника, дожидающегося на обочине дороги проезда хоть какого-нибудь экипажа.
– Ничего не хочешь мне сказать? – внезапно спросил он у Рылеева, уставив на друга расширившиеся зрачки.
– Хочу, – прошептал тот. – Я подумал… и понял, что мы слишком плохо организованы, чтобы рассчитывать на успех масштабной акции. И ты один можешь нас спасти. Я принимаю твою жертву.
Он минутку помолчал и добавил еле слышно:
– Пойди и убей великого князя.
– Но как это сделать?
– Переоденься в офицерский мундир и постарайся под любым предлогом проникнуть во дворец. Ну… или подожди уже прямо на Сенатской, пока великий князь явится туда показаться народу…
– Да! Да! Я убью его на Сенатской площади! – откликнулся Каховский.
Лицо его, обычно весьма подвижное, мигом успокоилось – так, словно решение принесло, наконец, желанный мир его душе. Детской улыбкой блеснули глаза, детская улыбка раздвинула губы… «Господи, можно ли так радоваться разрешению убить?! – подумал Николай. – Нет, нет, конечно же, он осчастливлен не тем, что разрешено убить, он счастлив возможности рискнуть жизнью… Он счастлив возможности отдать ее за наше дело…»
– Ах, дорогой мой, дорогой мой, я так тобою восхищен! – Якубович уже тряс руку Каховского.
– Потом станете поздравлять, потом – когда… если я выживу… – усмехнулся тот. – Впрочем, может, тогда вы и узнавать-то меня не захотите: слишком опасным покажется знакомство со мной!
– Что за глупости ты несешь! – возмутился Рылеев.
Они обнялись. Николаю было не по себе. Он раскланялся с хозяином дома, Костя последовал его примеру.
– До завтра! – проводил и их привычными словами Рылеев. – Да поможет нам Бог!
Костя с Николаем некоторое время шагали по набережной молча – вдыхая морозный воздух ночи, прислушиваясь к звукам спящего города.
– Что-то не слишком хорошее у меня осталось впечатление от минувшего вечера, – нарушил тишину Костя.
– Да и у меня тоже, – отозвался Николай.
– Ну, и как теперь быть, что думаешь?
– А ты колеблешься?! – дрожащим голосом спросил Николай.
– Нет-нет, Господь с тобой, вовсе нет. Если ты решишься, то и я решусь!
Они сделали крюк, чтобы пройти мимо Зимнего дворца: громадное здание тонуло в ночи, перед ним простиралось снежное поле, часовые, дежурящие в своих полосатых будках, совсем заледенели, вокруг жаровни с пылающими угольями сгрудились кучера, чьи глаза горели отраженным светом, да и рыжие бороды тоже… Привязанные к каменным тумбам лошади спали, понурив головы и хвосты… Фонари раскачивались на ветру, поводя поделенными крестом на четыре части пучками бледного света справа налево, слева направо и опять справа налево… Николай поднял глаза – на третьем этаже несколько окон были освещены. Может быть, великий князь припозднился, работая в своем кабинете?
– Вот и он тоже не спит, тоже готовится к завтрашнему дню, – вздохнул Озарёв.
Друзья помедлили перед дворцом, помолчали, не сводя глаз со светящихся во тьме зимней ночи желтоватых прямоугольников, четко вырисовывавшихся на фоне мрачной стены, оглядели карнизы – на карнизах лежал снег… Постояли и пошли об руку дальше, домой – усталые, продрогшие, не способные избавиться от переполнявших их головы тягостных впечатлений и мыслей.
2
Николаю ужасно хотелось спать, но, как ни старался снова уснуть, пробудился окончательно, сна ни в одном глазу. Посмотрел в окно: заиндевевшие стекла, за ними – черным-черно. Зажег с помощью огнива свечу, взглянул на часы – пять утра. На него снова навалились вчерашние тревоги и подавили бы, если бы вместе с ними не пробудился и вчерашний энтузиазм. Хотя… хотя с приближением опасности чувства Озарёва словно бы теряли понемногу свой возвышенный характер: тело и дух набирались страха. Впрочем, этот феномен был ему хорошо знаком – те же ощущения неизменно появлялись перед каждым сражением с Наполеоном в 1814–1815 годах. Однако то мужество, та отвага, каких от него тогда требовали командиры, не имели ничего общего с мужеством и отвагой, способными пригодиться сегодня. Некогда ему приходилось лишь сдерживать разгулявшиеся нервы, чтобы выполнить приказ, с которым не спорят, а сейчас к этой заботе добавлялась необходимость разобраться, в чем все-таки заключены истинные интересы Отечества. Сейчас он был не только солдатом, но и политиком. И все эти новые, присущие лишь сегодняшнему дню сомнения в таком своем двойном призвании усугублялись тем, что Николай знал: воевал он холостяком, а революцию решил делать семейным человеком. Женатым. А жизнь ничего не стоит только тогда, когда ты никому в этой жизни особенно не нужен. Но Софи он нужен… А он любит жену слишком сильно, чтобы не думать о том, как бы она отнеслась к его намерениям. И, даже будучи уверен, что Софи поддержала бы его, все равно не смог бы изгнать из сердца чувство вины: сам ведь, по доброй воле, идет на риск. Сейчас от любой малости, которая вспоминалась ему в связи с Софи, у него едва ли не слезы на глазах выступали, решимость его слабела. Уставившись невидящими глазами в пустоту, он вызывал в памяти лицо жены: вот, вот она – он видит ее так близко, так ясно, что кажется, будто заметно, как дыхание вздымает грудь любимой… Ах, эти огромные черные глаза, эта коротковатая, чуточку вздернутая верхняя губа, эта длинная лебединая шея, чуть расширяющаяся книзу, это жемчужное сияние улыбки, эта тонкая рука, поправляющая на плече шаль… Он вскочил с постели, откинул крышечку чернильницы, принялся писать:
«Возлюбленная моя, если мне не суждено вернуться после этого опасного дня, ты знай, знай, что последняя моя мысль была с тобой, о тебе. Прости, любимая, что я жертвую жизнью, которую, наверное, должен был посвятить тебе одной… что я несу эту жизнь на алтарь Отечества… прости! Единственное мое оправдание – в том, что, отдавая всего себя политике, я делаю это с убеждением, что цель нашего дела представляется тебе такою же святой, как и нам, как мне…»
Он исписал несколько страниц, сложил их вчетверо, скрепил печаткой и написал повыше сгиба: «Передать, если случится несчастье, моей супруге госпоже Озарёвой в собственные руки».
Теперь осталось только положить письмо на видное место – между двумя серебряными подсвечниками: тут Платон наверняка его заметит и озаботится тем, чтобы доставить по адресу как можно быстрее. Уладив таким образом свои личные дела, Николай тщательно умылся и начисто выбрил щеки, выбрал самую тонкую сорочку и лучший свой сюртук, оделся… – было похоже, что он элегантностью костюма воздает почести смерти! Затем, повернувшись спиной к зеркалу, он встал на колени перед иконой. В тишине ночи душа его воспарила мгновенно и слова молитвы полились сами собой. Сложив руки у груди, Озарёв горячо шептал:
– Господи, если наша борьба – борьба праведная, встань во главе наших полков, Господи! Помоги нам победить! Да будет на то воля Твоя!
Но, прежде чем осенить себя крестным знамением, он секунду помолчал и добавил смиренно, уже без прежнего жара:
– Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного! Спаси и сохрани раба Твоего Николая!
И только после этого, взяв свечу, чтобы освещать себе дорогу, пошел будить Костю.
Постучал в дверь его спальни. Ответа не последовало. Николай вошел. При звуке его шагов встрепанная фигура, как чертик из табакерки, выскочила из груды смятых простыней и сбитых на сторону одеял:
– Что?! Что случилось?! Кто это?! Который час?!
Узнав, что не способный больше уснуть Николай решил вернуться к Рылееву, Костя разозлился:
– Ну и делай, что хочешь, а я – при чем? Хочешь – иди, а я еще посплю! Слишком рано…
– Но не пройдет и нескольких часов, как войска выстроят для присяги!
– Так и что? Говорю же: ра-но! Спать хочу. Убирайся!
– Я зайду за тобой позже.
– О Господи! Ладно, ладно… Ну, иди же!
Костя натянул на уши ночной колпак, повернулся носом к стене и испустил такой могучий храп, что Николай поспешил ретироваться. Платон, оказывается, уже встал.
– Друг мой, там у меня на столе – письмо, ты легко увидишь его, – сказал ему хозяин. – А если со мной что-нибудь случится, передашь госпоже Озарёвой.
– Но что, что с вами может случиться, барин? – Платон растревожился.
Николай не удостоил слугу ответом, согласился только перед уходом из дому выпить чашку чаю и съесть калач.
Когда он добрался до особняка Рылеева, было еще совсем темно. По дороге решил: если сквозь занавеси на окнах не просочится ни лучика света, надо будет тут же повернуть назад. Но в особняке не только ярко светились окна, но и были слышны из-за двери, выплескиваясь на тротуар, возбужденные мужские голоса.
Увидев Николая, Рылеев тут же и сообщил новому гостю, что так и не смог глаз сомкнуть всю ночь. Кондратий Федорович был смертельно бледен, щеки поросли щетиной, губы обметала лихорадка. Его окружали заговорщики, на вид сильно неуверенные в себе, хотя и пытались изо всех сил казаться суровыми и непримиримыми. Поговорив с одним, другим, третьим, Николай узнал, что все планы мятежа расстроились. Каховский, который сначала принял предложение обагрить руки царскою кровью, потом, обдумав, чем это для него наверняка закончится, не захотел стать террористом-одиночкой, действующим якобы вне планов общества, и рано утром отказался от данного ему поручения. Час спустя после отказа Каховского к Александру Бестужеву приехал Якубович и объявил, что не поведет на захват Зимнего дворца матросов и измайловцев: боится, дескать, что в схватке матросы убьют Николая и его родственников и, таким образом, вместо ареста царской семьи получится цареубийство, а подобного преступления неустрашимый Якубович брать на себя не хотел. Тем самым оказался грубо нарушен принятый накануне план действий, и положение осложнялось. Впрочем, хоть задуманный план и начал рушиться еще до рассвета, медлить было нельзя: наступало утро. А тут, ко всему еще, выяснилось, что и у Трубецкого решимости куда меньше – даже по сравнению со вчерашним вечером… Между тем в некоторых казармах уже стали готовить войска к присяге, в других офицеры агитировали солдат против нее. Но в Сенате как раз в эти минуты все собирались на совещание. И надо было, надо было весьма срочно принимать меры. Вот только от многих офицеров как не было, так и нет никаких вестей. Приведет ли барон Розен Финляндский полк? Не случилось ли каких трудностей с гренадерами у Сутгофа и Панова? А что там с Измайловским полком? А с Преображенским? Николай Бестужев рвался пойти узнать, каково настроение в Московском полку, где сейчас должен был уже выступать перед солдатами его брат, штабс-капитан драгунской лейб-гвардии Александр, да и там же ведь служит другой его брат – Михаил…
– Да, да! – нетерпеливо воскликнул Рылеев. – Отправимся туда! Именно москвичи должны нанести первый удар!
Он был уже почти одет, когда спустился от себя барон Штейнгель, проживавший этажом выше. На нем был коричневый халат, домашние туфли, подбитые мехом.
– Я нынче ночью написал манифест, – объявил Штейнгель. – Хотите – прочитаю?
– Нам еще так далеко до манифестов… – вздохнул Рылеев.
– Однако кое-что мне необходимо уточнить уже сейчас, – не хотел уступать барон.
– Потом! Ради бога – потом! Позже…
– То есть мне писать на свое усмотрение?
– Господи ты, боже мой, да пишите же, как хотите!
Филька, встав на цыпочки, уже пытался набросить на плечи барина шубу. Тот поискал пройму одной рукой, остановился, подумал немножко и шепнул через плечо казачку:
– Передашь барыне, что я скоро вернусь!
При этих словах с грохотом ударилась о стену дверь в прихожую, и на пороге появилась заплаканная молодая женщина в розовом, усыпанном маргаритками, но кое-как застегнутом пеньюаре и с выбивавшимися из-под кружевного чепчика белокурыми прядями. Она так торопилась, что потеряла туфельку, споткнулась, прихрамывая, пробежала три шага, отделявших ее от мужа, и бросилась ему на грудь.
– Не уходи! – почти простонала Наталья Михайловна.
– Мы – солдаты свободы, сударыня! Нас зовет наш долг! – вмешался Николай Бестужев, но вмешался так неуместно и так не вовремя, что Рылеев не скрыл упрека в брошенном на него взгляде.
– Какой еще долг?! – рыдала Наталья Михайловна. – У моего супруга есть один только долг: беречь себя, оставаться живым ради своей семьи, ради своего ребенка!
– Полно, Натали, никто из нас не собирается умирать! – Кондратий Федорович собрал все силы, чтобы улыбнуться жене.
– Как же! Не собирается! Ты идешь на верную смерть! Я знаю, я чувствую! Вы все смертники! Вы все – безумцы!
Припав к мужу, она сжимала его в объятиях, принималась его гладить, пробегала легкими пальцами по его шее, лицу, покрывала поцелуями его руки… и, пытаясь уговорить Рылеева, в то же время виновато смотрела на его товарищей, словно бы испрашивая прощения за столь неприличную сцену. Николай, у которого от волнения комок встал в горле, думал о Софи. Разумеется, она более мужественна, чем Наталья Михайловна, и более, нежели супруга Рылеева, способна понять политическую необходимость, но… но вдруг – вдруг в таком серьезном положении, при таких обстоятельствах – она бы тоже постаралась удержать мужа? Может такое быть? И, как ни странно, Озарёву захотелось, чтобы так все и происходило – наверное, потому, что в эту минуту ему, как никогда, нужна была любовь, хоть минута любви. Все присутствовавшие склонили головы, все они, сильные, крепкие мужчины, чувствовали себя виноватыми перед этой хрупкой заплаканной женщиной, которая отчаянно пыталась защитить свое счастье. А Наталья Михайловна внезапно закричала:
– Настенька! Настенька, иди сюда! Упроси папу не оставлять нас одних!
Между заговорщиками проскользнула маленькая девочка в ночной сорочке, добралась до отца и вцепилась в его ногу. Малышка еще не совсем проснулась, но глаза ее, обращенные на незнакомцев, были полны слез, и бормотала она словно бы выученный накануне урок:
– Папочка, миленький, не уходи! Останься с нами, папочка! Ты станешь нас защищать! Папочка, ты же наш единственный ангел-хранитель!
Силы у Наталии Михайловны кончились, и она упала без чувств на руки Рылеева. Он унес жену в соседнюю комнату, уложил на кушетку, позвал служанку и чуть позже вернулся к товарищам с неловкой улыбкой на губах:
– Простите, господа, за эту сцену… Пойдемте!
На улице заговорщики разделились: в одном наемном экипаже Бестужев, Рылеев и Пущин отправились к Трубецкому – они решили еще раз поговорить с ним, прежде чем начать объезд казарм; в другом Николай, внезапно оказавшийся не у дел, решил вернуться домой, рассчитывая найти там уже совершенно готового, одетого с ног до головы Костю, ожидающего только его появления, чтобы вместе идти на площадь.
К великому своему удивлению, никакого Кости он дома не обнаружил. И у Платона вид был какой-то потерянный.
– Барин собрал вещи, потребовал карету и уехал! – объяснил старый слуга.
– Как это – собрал вещи?! – Николай вытаращил глаза. – Да нет, Платон, ты что-то путаешь! Такого просто быть не может!
– Я сам отнес его поклажу в карету. Маленький сундучок – должно быть, они отбыли ненадолго… Может, в поместье отправились, в Царское Село?
– А что, Костя и адреса не оставил?
– Н-нет…
– Он ничего не передал мне? Про меня не говорил?
– Говорил. Сказал: заботься о Николае Михайловиче, как обо мне…
– И все?!
– Все, барин, все…
«Испугался и сбежал», – с горечью подумал Николай. Озарёву было так грустно, что даже и рассердиться на друга как следует он не смог. Попытался понять, как мог испытывать такие сильные дружеские чувства к трусу и предателю… Вспомнил о Васе Волкове, которого семейные обязанности вынудили остаться далеко от столицы… Но нет, Вася-то мужественный человек! Храбрый! Он доказал это во время дуэли с Николаем! Но… но ведь тогда его вел в бой гнев, он действовал в порыве ярости, он хотел защитить свое личное счастье! А действовать в порыве ярости куда легче, чем рисковать жизнью во имя политических убеждений и делать это сознательно, добровольно… М-да, вкупе с предательством Якубовича и Каховского новая измена оставляла уже совсем мало надежд на победу революции… И не станут ли теперь все заговорщики, один за другим, отрекаться от дела, которому еще вчера клялись служить до последней капли крови? Не выйдет ли он сейчас на Сенатскую площадь совсем один?
Больная совесть не давала покоя, и Николай устремился к дворцу. Над городом вставал серый рассвет. При трескучем морозе снега не было. Золоченая стрела Адмиралтейства пронизывала плотные черные облака. Фонарщики спускали лампы вниз, заливали свежим маслом резервуары и поднимали их на блоках снова. Пробежал мальчишка, зажав под мышкой пачку газет и крича:
– Манифест! Манифе-е-ест!
Николай успел выхватить у него листок и сунуть какую-то мелочь. Никакого тебе манифеста – только текст присяги новому императору. Двери кабаков закрыты. Кареты на улицах редки. В рассветном тумане – перезвон колоколов, тоскливый какой-то, прямо-таки погребальный перезвон.
У храма Николаю встретилась странная процессия: совершенно одинаковые, как приютские, девочки, закутанные так, что только кончики носов выглядывают из-под платка, маленькие старушонки. Они медленно шли парами, у каждой – клюка, которой она постукивала впереди себя по заледеневшему тротуару.
– Будьте любезны, скажите, чье имя вы собираетесь сегодня поминать в молитвах? – осмелился спросить у одной из старушек Николай.
Старушка, будучи неожиданно окликнута незнакомцем, всполошилась, как курица, захлопала, словно крыльями, концами шали, сделала круглые глаза, решила было сбежать, но передумала и спросила кудахчущим голосом:
– Как это – чье имя?
– Я просто хотел узнать… за какого царя вы собираетесь молиться?
– Как это – за какого царя? За Николая Павловича, нашего нового царя-батюшку! – ответила старушонка. – Да благословит его Господь, да пошлет ему Господь многая лета!
Она почти бегом присоединилась к процессии, старушки пошептались, часто оглядываясь на Николая, так, будто им удалось в последний момент избежать опасности быть втянутыми в ужасную авантюру.
Николай прошел мимо строящегося Исаакиевского кафедрального собора, где пока виднелись только груды камней, балки и лестницы, и вот Сенатская площадь уже почти рядом. Пустыня со вздымающимся посреди нее на высоком своем постаменте Петром Великим… Покрытая от берега до берега льдом Нева… Пешеходные мостки, ведущие от земной тверди в молочный туман другого берега… На откосе Адмиралтейской набережной рабочие вырубают изо льда глыбы, обтесывают их – Николай некоторое время понаблюдал за ними. Снова вышел на Сенатскую – теперь она показалась ему более оживленной. Впрочем, те фигуры, которые здесь возникли, меньше всего напоминали мятежников. Какое там – ну, просто ничего общего! Вот деревенские торговцы выкладывают на самодельных прилавках немудреные свои сласти… А вот и продавец горячих напитков – на спине громадный медный чайник (из носика – пар), гирлянда булочек вокруг шеи… Двое ливрейных лакеев вывели погулять шестерых левреток на длинных ломких ножках, одетых в зеленые пальтишки с помпонами, прикрывающие трясущиеся тела пугливых собачек. Время от времени проезжают кареты, мягко покачиваясь на упругих рессорах. На запятках – лакеи (ничего себе профиль вот у того – просто сам господин Рок!), они проплывают высоко над землей. Стекла в украшенных гербами дверцах карет отбрасывают на снег яркие отблески. Наверное, это высокопоставленные сановники – едут во дворец, чтобы поздравить государя после присяги. Все эти картины казались такими мирными, такими безмятежными, что Николай невольно подумал: «Ничего не будет, да ничего и не может быть! Городу мы не нужны! Здесь каждый камень – и тот монархист!» Он замерз, хотел есть. На часах было двадцать пять минут десятого. Леса на стройке кафедрального собора заполнились рабочими. Воздух прорезал острый звук пилы. Застучали молотки.
Николай прошел по Адмиралтейскому бульвару, повернул на Гороховую и, добравшись до угла Морской, зашел в кондитерскую Шварца. Спустился по лестнице в зал. Дневной свет проникал сюда через полукруглые подвальные окошки. Посетителям были видны движущиеся как будто бы прямо над их головами и весьма разнообразно обутые ноги прохожих. Туда-сюда, туда-сюда… Из смежного зала доносились сухой треск сталкивающихся бильярдных шаров и взрывы смеха игроков. Николая обволокло теплом от печки, аромат горячего шоколада и сдобного теста, перешептывание посетителей, тихое позвякивание посуды – все это привело его в какое-то сладостное оцепенение. Он заказал чаю с лимоном и вспомнил, что именно здесь в три пополудни у него назначена встреча с Ипполитом Розниковым. Да, сегодня ровно в три – в этой кондитерской…
Вчера, договариваясь о свидании, он был совершенно уверен, что события помешают ему явиться, а нынче доводы старого приятеля показались ему справедливыми: «Горстке либерально настроенных офицеров не под силу возбудить к мятежу целый народ, воспитанный в уважении к Богу, царю и Отечеству!..»
А колокола все звонили, звонили… только уж очень глухо теперь – уж больно толстыми были стены. За соседним столиком двое мужчин, одетых по-мещански, тихо переговаривались, попивая чаек. Один из них, рябой, краснолицый, не сводил глаз с Николая. «Должно быть, переряженные полицейские!» – промелькнуло у него в голове, и от ярости кулаки сжались сами собой. Пришлось сдерживаться, чтобы не наброситься на шпика и не вытрясти из него ответ, по какому праву так на достойного человека пялится. Ах, как бы ему хотелось одному совершить революцию, которую никак не могли развязать его друзья! Пытаясь подавить гнев, он принялся рассеянно изучать ноги прохожих в полукруглом окошке… Вдруг ему показалось, что ног стало больше… И гражданские башмаки исчезли – их заменил целый лес краг. И земля задрожала под мерным шагом тысяч ног. И прозвучали гортанные возгласы. По лестнице, со ступеньки на ступеньку, прямо в кондитерскую скатился рокот барабанов… Николай, как сумасшедший, кинулся к выходу. Его задевали люди в мундирах, толкали, сдвигали с места – он только радовался этому. С гордостью различал знакомые цвета. Вот быстро прошел Московский полк. Они шагали, чуть наклонившись вперед, выставив острые штыки, их рты раздирал крик:
– Урра-а-а! Да здррра-а-авствует Константин!
Николай присоединился к восставшим. По обе стороны колонны бежали мальчишки. Все собаки квартала оглушительно лаяли. За окнами домов появлялись встревоженные лица, белели носы, плотно прижатые к стеклам.
Кто там во главе полка? Николай побежал, стараясь догнать марширующих в первой шеренге. Когда добрался, его оглушил барабанный бой. Но прилив радости от увиденных впереди Михаила и Александра Бестужевых, размахивавших прицепленными на концы шпаг треуголками с белыми плюмажами, окупил все. За ними виднелся маленький лейтенантик – Юрий Алмазов, весь словно бы из костей и оголенных нервов: нахмуренные черные брови, белоснежная улыбка… Рядом – штабс-капитан москвичей Дмитрий Щепин-Ростовский – побагровевший, несколько растерзанный, с выпученными глазами. Он сунул под нос Николаю окровавленную саблю и выкрикнул:
– Я всех троих – в куски, в куски!
– Кого? – спросил Николай.
– Да какая разница!.. Канальи, охвостье самодержавия!.. Подумать только – они пытались помешать полку выйти из казармы!.. В куски! Урра! Урра!
– Урра-а-а! – взревел в тон ему Николай.
Он пожалел, что не в мундире. Вслед за своими знаменами солдаты Московского полка – числом не более семисот-восьмисот – бурлящим потоком выливались на Сенатскую площадь. Александр Бестужев остановил их у памятника Петру Великому, построил в каре – лицом к зданию Адмиралтейства, вывел вперед цепочку стрелков. Затем, в приливе какого-то дикого вдохновения, принялся точить шпагу о гранитную скалу, служившую постаментом памятнику. Он был в зеленом мундире, белых панталонах, гусарских сапогах, парадной перевязи. Мятежники, под надежным укрытием из штыков, находили друг друга и обнимались, крича от радости. Даже те, кого Озарёв уже и не надеялся увидеть, вдруг свалились как снег на голову: Якубович с черной повязкой на глазу, Каховский в цилиндре, в лиловом фраке с широким красным кушаком под ним, а из-под кушака высовываются рукоятки кинжала и пистолета… А вот и Оболенский, вот Голицын, Кюхельбекер, Иван Пущин… Все говорили разом, все были страшно возбуждены.
– Ну, хорошо: знаменитый Московский уже на площади! – сказал им Николай. – Браво братьям Бестужевым! Но – если бы Якубович привел-таки артиллерию…
– Мы не нуждаемся в артиллерии! – проворчал Якубович.
И добавил:
– Прошу извинить, мне пора!
– Ты куда?
– Надо кое-что посмотреть… туда…
– Но ты вернешься?
– Разумеется.
– Рылеев-то где, что поделывает? – спросил Юрий Алмазов.
– Не тревожься, сейчас будет, ему не к лицу опаздывать, – откликнулся Оболенский.
– А Трубецкой?
– Ну, знаешь, я сильно удивился бы, встретив его сегодня, – вздохнул Голицын.
– Да плевать нам на него! – завопил, размахивая пистолетом, Кюхельбекер.
– Тихо-тихо! – сказал Николай. – Осторожнее, ты ведь не умеешь пользоваться оружием.
Он впервые сказал Вильгельму «ты»… Но ведь в эту минуту все окружавшие его люди казались молодому человеку друзьями детства. Дыша морозным воздухом площади, он будто снова оказался в особняке Рылеева, в маленькой комнатке на Мойке, за запертыми дверями. А вот и сам Рылеев – с солдатским ранцем за плечами. Его мальчишеская фигурка словно бы придавлена к земле огромным боливаром. Штрипки панталон лопнули и тащатся по земле. Кондратий Федорович пригнулся, чтобы оторвать их совсем. Он выглядел нервным, усталым. Все утро бегал из одной казармы в другую – и все понапрасну.
– Нас слишком мало, – сказал Рылеев.
– Но мы ведь можем идти на дворец! – воскликнул в ответ Озарёв.
– Пока еще нет.
– А чего ждем?
– Подкрепления… полков, которые вот-вот подойдут… должны подойти…
– А если они не придут?
– Если полки не придут, – разгорячился Иван Пущин, – мы всегда можем попросить поддержки у них! – и он махнул рукой в сторону толпы, собравшейся вокруг каре москвичей. Николай до сих пор и не замечал, сколько гражданских лиц вертится в месте, где цивильным, казалось бы, и вовсе делать нечего. Ротозеи то и дело подходили к солдатам, присматривались к ним, заводили с ними разговоры, пытались просочиться в их ряды. Александр Бестужев чуть не поминутно приказывал этим праздным гулякам разойтись – они отступали на несколько шагов, но тут же и возвращались – с томительным упорством.
– Ух, как же я боюсь черни! – прошептал Рылеев. – Если мы уступим, если пустим их к себе – мы пропали!
– Нужно попросту добиться порядка в этом хаосе, – наставительно произнес Кюхельбекер.
– Увы! – вздохнул Пущин. – С подобными молодцами каши не сваришь…
Николаю захотелось посмотреть, что за люди потянулись к передовому отряду мятежников. Он прошел через шеренгу стрелков и смешался с толпой. Огляделся. Кого тут только не было! Мужики, рабочие со стройки, а рядом – студенты и мелкие чиновники в нищенских мундирчиках, торговцы, кутающиеся в длинные и широкие тулупы, какие-то типы, не принадлежащие явно ни к одному классу общества – тощие, обмотанные грязными тряпками, вооруженные дубинами. Что за таинственный зов поднял их с самого дна российской столицы и привлек в стан бунтовщиков – в двух шагах от Зимнего дворца? Понятно ли им, что означает испытание сил, которое вот-вот начнет разворачиваться здесь? Слышали ли они хоть словечко о свободе, о равенстве, о конституции? Они переступали с ноги на ногу, ворчали, подталкивали друг друга локтями.
– Увидите, православные! – загремел бас бородатого исполина. – Сегодня все перевернется вверх тормашками! Кто был внизу – станет наверху! Мужику теперь попотеть будет только лишь в свое удовольствие!
– Да не потеть на работе мне тошно, – отвечал ему работяга в драном кафтане и с обмотанными тряпьем ногами. – Мне бы пожрать в свое удовольствие!
– Вот о том и говорю! Будешь жрать, пока не лопнешь! Хорошие господа не отнимут у тебя твоей доли! И не будет теперь у нас никаких господ-то, братцы! Мы теперь сами станем господа!
– Да я с кобылой своей лучше обращаюсь, чем бары со мной! – объявил кучер в большой черной шапке.
Николай вернулся к солдатам. Здесь тоже разговорам не было конца:
– По слухам, великий князь Константин Павлович уже вышел из Варшавы и двигается сюда с целой армией! Скоро будет в Санкт-Петербурге!
– Уж он покажет братцу Николашке, где раки зимуют!
– А кто примет новую присягу – тех высекут шомполами!
– И цифра уже известна: по восемьсот батогов на солдата. А потом – Сибирь!..
– А чего измайловцы-то не подошли еще?
– Мешает дурное офицерье!
– Пошли их освобождать!
– Пусть только начнется битва – уж мы масла в огонь подольем!
Люди покинули казармы в парадных мундирах – у них не хватило времени переодеться. Хотя бы – накинуть шинели. Холод пробирал их до костей – они приплясывали на месте, шутливо боролись, чтобы согреться. В этой дружеской суматохе их кивера с высокими белыми плюмажами, то подергивавшимися, то наклонявшимися, то поднимавшимися кверху, напоминали приветствия в театре марионеток. На башне Адмиралтейства часы пробили полдень. Нигде по-прежнему не было видно ни подкрепления, ни противника.
– И Трубецкого до сих пор нет! – покачал головой Рылеев. – Нет, так нельзя! Пойду поищу его!
Он удалился. Юрий Алмазов и князь Голицын пригласили Николая погреться в кофейню.
– Купите мне там конфеток! – крикнул им вслед Кюхельбекер.
– Каких, Вилинька?
– Лимонных! Обожаю лимонную карамель!
Они пробили себе в толпе дорогу, но только успели устроиться за столиком в кофейне, туда вбежал запыхавшийся мальчишка – с соломенными волосами, пунцовыми щеками, блестящими глазами.
– Господа офицеры! Господа офицеры! – с порога завопил он.
Никто из них в жизни не видел этого мальчика.
– Что случилось? – спросил Николай. – Почему кричишь?
– Там солдаты пришли, там еще солдаты пришли! – продолжал надрываться мальчишка.
– Наши или какие…?
– А мне откуда знать?
Наша троица мигом выскочила наружу, но Юрий Алмазов все-таки успел по дороге купить лимонных карамелек Кюхельбекеру.
Николай взобрался на решетку, окружавшую памятник Петру Великому. Вдалеке, где-то на углу Адмиралтейского бульвара, плясали серебряные искры. Это двигался парадным шагом один из батальонов Преображенского полка. Остановились перед площадкой, где возводилось здание Генерального штаба, – пока стройку огораживал дощатый забор.
Вдруг стало видно, что навстречу войскам выехал всадник – лица было не различить. Но – выгнутый в спине силуэт всадника… но – его украшенная перьями шляпа… его бело-зеленый мундир… эта голубая лента через плечо…
– Царь! Царь! – воскликнул Николай Озарёв. – Друзья мои, да посмотрите же, уверяю вас, государь перед нами!..
И с ужасом заметил, что коронует того самого императора, законность притязаний на престол которого яростно отрицал минутой раньше.
– Думаю, ты прав, братец, – подмигнул ему Александр Бестужев. – А ты посмотри-ка, кто рядом с ним! Наш приятель Якубович! Храбрейший из храбрецов! Наконец-то он предал нас окончательно, негодяй!
– Не судите слишком скоро, – раздался знакомый голос рядом. – Как знать, может быть, он окажется там полезнее, чем здесь.
Николай живо обернулся: это Рылеев вернулся к каре. В своей широкополой шляпе Кондратий Федорович выглядел изголодавшимся поэтом. Беспокойный, но при этом – словно бы замкнутый на ключ, с крутым подбородком, бледным лбом, блуждающим взглядом…
– А что там в других полках? Есть новости? – спросил Николай.
Но вместо ответа услышал:
– Ну-ка, ну-ка! Ах, какой знатный гость!
Все посмотрели в ту сторону, куда указал Рылеев: на строящийся Исаакиевский собор. Оттуда на Сенатскую площадь галопом въезжали сани, запряженные двумя статными лошадьми, серыми в яблоках. В санях стоял Михаил Андреевич Милорадович, петербургский генерал-губернатор. Опершись левой рукой на плечо возницы, он чрезмерно патетическим и торжественным жестом простирал правую в направлении «врага». На груди полководца сверкали две дюжины орденов, бирюзовая муаровая лента ордена Святого Андрея Первозванного отчетливо выделялась на белой ткани мундира. Генерал приближался – из уст некоторых зевак посыпались глухие проклятия. Милорадович отдал приказ вознице обогнуть церковь и десять минут спустя появился снова – уже верхом, гордо подняв голову в треуголке с плюмажем. Лицо его – увядшее, блестящее от помад, с масляными глазками, в рамке из выкрашенных в иссиня-черный цвет бакенбард – искажала презрительная гримаса. Доскакав до мятежников, он остановился, приосанился, от чего, казалось, еще подрос, и прогремел:
– Солдаты!!!
Призыв генерала со столь легендарным прошлым – генерала, отличавшегося отвагой и презрением к смерти, ставшего всего в двадцать восемь лет генерал-майором и заслужившего в Битве народов при Лейпциге, где командовал гвардией, солдатский Знак отличия военного ордена с лестными словами от Александра I: «Носи солдатский крест, ты – друг солдат», – его призыв был услышан: люди вздрогнули и невольно поправили ряды. Довольный произведенным впечатлением, Милорадович упер кулак в бедро и обратился к солдатам:
– Ну-ка, солдаты, скажите, кто из вас был со мной под Кульмом, Лютценом, Бауценом?
Мертвая тишина на площади стала ему ответом.
– Слава богу! – воскликнул Милорадович – Значит, здесь, среди вас, нет ни одного русского солдата! И ни единого русского офицера!
Продолжая говорить, он приподнялся на стременах и, выхватив из ножен золотой клинок, взмахнул им. Собирался ударить кого-то? Николаю стало страшновато за то, как станут развиваться события. Но генералу оказалось достаточно прочесть выгравированную на лезвии надпись: «Другу моему – Милорадовичу».
– Слышите, солдаты? «Другу моему – Милорадовичу»! Эту шпагу великий князь Константин Павлович подарил мне во время Итальянской кампании. Мы оба воевали тогда под началом великого нашего полководца Суворова. Вот уже четверть века я неразлучен с этим оружием. Оно было со мной и у села Крымское, и под Дорогобужем, и под Красным, и в Битве народов при Лейпциге, и при Арси-сюр-Об, Бриене, Фер-Шампенуаз, Париже, мы штурмовали с ним крепость Альта-Дорук и сражались при Бородине…
Пока Милорадович перечислял места славных битв, Николай всматривался в лица самых пожилых солдат.
– Ну, и как вы полагаете: могу ли я, имея подобный знак уважения от великого князя Константина, предать сегодня наше общее дело? – воззвал к умам и сердцам слушателей генерал. – Неужели вы думаете, что я способен предать вас самих – вас, кто прошел со мной Италию, Германию, Францию, кто помог нашей матушке России выстоять и победить в самых суровых боях? Великий князь Константин Павлович действительно отказался от российской короны. Я собственными глазами видел акт его отречения от престола. А вас обманывают, друзья мои! Послушайтесь меня, повинуйтесь мне, как повиновались некогда на поле брани! Вперед, марш! К дворцу – марш! К присяге!
В первых рядах мятежников наметилось движение. Взгляды солдат обратились к молодым офицерам – так, будто им хотелось спросить совета у руководителей восстания. Начальник штаба восставших князь Оболенский – великолепный в украшенной перьями шляпе, в мундире лейтенанта Финляндского полка с красной выпушкой и серебряным поясом – пробрался между шеренгами солдат и, подойдя к Милорадовичу, взял под уздцы его лошадь.
– Граф, вам бы лучше уехать отсюда и оставить в покое людей, которые явились выполнить свой долг! – сказал он губернатору.
– Какой долг? – лицо Милорадовича густо покраснело. – Мальчишки, повесы, вы же втаптываете в грязь честь русской армии!..
– Уезжайте, генерал! – настаивал Оболенский.
– Ни за что!
Милорадович не двигался с места и продолжал уговоры.
Тогда Оболенский попытался выхваченным у кого-то, кто стоял рядом, штыком повернуть губернаторскую лошадь, заставляя ту отступить, но промахнулся и ранил генерала в бедро. Милорадович побледнел. Силясь выпрямиться, он пробормотал какое-то ругательство, глаза его закрылись. Князь швырнул ружье на землю и, словно вмиг лишившись всякого мужества и совершенно упав духом, опустил голову, растворился в толпе.
Тут же прозвучал громкий хлопок выстрела, но Николай Озарёв поначалу не придал этому никакого значения. Однако не прошло и секунды, как все заметили: губернатор покачнулся в седле, а по голубому шелку его орденской ленты стало быстро расползаться багровое пятно. Тело Милорадовича обмякло, как-то неловко вывернулось, руки, державшие поводья, ослабели, лошадь, ощутив это, занервничала и ринулась вперед, прямо на людей. К счастью, появившийся уже к тому времени на месте происшествия адъютант успел подхватить сползающего вниз головой начальника и бережно уложил раненого на снег. Зеваки расступились.
– Помогите, помогите мне! – кричал адъютант. – Раненого нужно поскорее унести!
Никто и пальцем не пошевелил. Онемевшие, остолбеневшие от изумления мужчины и женщины смотрели на агонию героя с таким же страстным любопытством, с каким наблюдали бы за предсмертными судорогами цесарки, которой только что свернули шею. Николай почувствовал омерзение, к горлу подступила тошнота. Все его мечты о свободе, братстве, благородных идеях дворянства рассыпались в прах у тела первой жертвы революции. Он сожалел только о том, что очутился в пустоте: дружеские разговоры за столом Рылеева, споры и примирения с товарищами, все, все, что мнилось таким святым и таким чистым, теперь было потеряно. Хватило одной пули. Пытаясь себя утешить и подбодрить, он попробовал зайти с другой стороны: возможно, именно святость и чистота их дела оправдывает ошибки, совершенные во имя его? Слабое утешение! А адъютант, совсем еще юноша, бледный и дрожащий, стоя на коленях и подложив ладони под голову истекающего кровью генерал-губернатора, молил собравшихся, бесконечно повторяя одно и то же:
– Друзья, помогите! Помогите же! Вы не можете отказать мне в этой просьбе! Помогите, друзья!..
Вскоре поняв все-таки, к кому обращается с такой мольбой, он живо сменил адрес и закричал:
– Ипполит!.. Ипполит!.. Скорее сюда!..
Николай увидел Розникова в парадном мундире – тот, расталкивая локтями солдат и зевак, бурча проклятия, продирался сквозь толпу. Их глаза встретились.
– Несчастный! – буквально взревел Ипполит, презрительно измерив взглядом старого приятеля. – Теперь ты видишь?! А я ведь предупреждал тебя!.. Что же вы сделали?!.. Такого человека!.. Лучшего из людей!..
Розников, в свою очередь, склонился к раненому. Николай чуть отступил. Он сгорал со стыда, он готов был провалиться сквозь землю в тот самый момент, когда ему хотелось бы, наоборот, гордо воспарить в лучах славы.
Тем временем адъютанты вдвоем подхватили генерала под мышки и потащили безвольное тело в направлении манежа – лошади стояли там. Милорадович был похож на тряпичную куклу: сапоги его взрыхляли грязный снег, оставляя на нем борозды, голова с завитыми и крашеными волосами свисала на простреленную грудь, бесполезные теперь ордена неуместно позвякивали… На другом конце площади Николай Павлович совещался с генералами.
– Кто стрелял? – спросил Озарёв, вернувшись к мятежникам.
– Я! – воскликнул Каховский.
Он улыбался, лицо его было спокойным, правда, широкие поля черной шляпы подчеркивали смертельную бледность этого спокойного лица. Но взгляд отставного поручика, устремленный на оружие, казался более чем дружелюбным.
– А что – разве это было необходимо? – снова поинтересовался Николай.
– Безусловно! Его слишком любили в армии. Он мог все нам погубить!..
Бешенство Озарёва поутихло: слова товарища неожиданно показались ему справедливыми. На самом деле его выстрел знаменовал истинное начало мятежа. Границу переступили – обагрив ее кровью. И теперь, связанные совершенным одним из них убийством, заговорщики уже не могут сделать ни шагу назад, они должны продолжать борьбу – неумолимо, непреклонно, вести ее не на жизнь, а на смерть.
Солдаты как будто тоже почувствовали вдруг облегчение и принялись монотонно выкрикивать:
– Да здравствует Константин! Да здравствует Константин!
Офицеры в эту же минуту начали скандировать:
– Да здрав-ству-ет кон-сти-ту-ци-я!
Какой-то румянощекий сержант обратился к Николаю:
– Вашбродь, а это ктой-то у нас Кон-сти-ту-ци-я?
– Долго сейчас объяснять, – попытался уклониться от ответа Озарёв.
Но сержант не унимался:
– А ребята говорили, вроде как она – супруга великого князя Константина! Так – правду они говорят или нет?
– Ну… да, да, что-то такое, где-то так… – промямлил Николай, решив: главное сейчас – выиграть, а какими средствами – уже и не так важно. Оправдываться они станут потом, потом отделят истину ото лжи. Усталый, замерзший, он весь дрожал. Рылеев снова пропал куда-то. Кого, что он ищет? Военного подкрепления? Просто моральной поддержки? Солнце пробилось сквозь туман – и сразу же заискрился снег, сверкнули в бледных лучах оконные стекла и лезвия штыков…
* * *
К двум часам пополудни гвардейцы, в большинстве оставшиеся верными великому князю Николаю Павловичу, показались на площади и выстроились в колонны по эскадронам. Всадники – сабли наголо, белые мундиры, кирасы и каски – держались в седлах вороных своих коней прямо и горделиво. Толпа немедленно отозвалась на появление конногвардейцев враждебными криками:
– Эй, вы, убирайтесь отсюда со своей медной башкой!
Чуть позже шестьсот человек, представлявших Московский полк, но не ставших бунтовщиками, собрались под водительством великого князя Михаила Павловича на углу строительной площадки Исаакиевского собора. За ними последовали семеновцы. Потом наступила очередь кавалергардов: выехав рысью на лошадях гнедой масти, они расположились слева от Преображенского полка. Финляндцы блокировали подступы к Неве, павловцы – Галерную улицу, измайловцами подкрепили правительственные войска на Адмиралтейском бульваре. Однако подразделение гренадеров, в котором насчитывалось не менее тысячи двухсот ружей, и тысячный же отряд морской гвардии тем временем присоединились к мятежникам.
Николай взобрался на груду камней, приготовленных для стройки, и обвел глазами обширный прямоугольник, простершийся между Сенатом, Невой, Адмиралтейством и оградой, за которой уже виднелось незаконченное здание кафедрального собора. Стало ясно, что великий князь дислоцировал свои – значительно превосходящие восставших по численности – войска таким образом, чтобы они окружили каре бунтовщиков. Все входы и выходы теперь охранялись. Издали строй императорских войск напоминал детский рисунок: блестящий забор из штыков, чуть ниже – розовая пунктирная линия, это лица, еще ниже – полоса из маленьких белых крестиков – так выглядели перевязи на груди. Между силами порядка и силами мятежников огромной черной тучей располагалась толпа – люди шептались, вертя головами. Особо любопытные влезли на деревья бульвара, на строительные леса, на крыши ближайших домов. Время от времени звучали донесшиеся неведомо откуда выстрелы, и тогда по рядам солдат и толпе пробегали волны. Николаю вспомнилось прошлогоднее наводнение: поднявшаяся выше уровня парапета набережных река выплеснулась тогда на площадь, пугая и нагоняя тоску. Сегодня – при виде людского потока, такого же бушующего и непонятного – его охватила похожая тоска. Чего можно ждать от этого не поддающегося никакому управлению смешения тел и умов? Пока ни со стороны лояльных по отношению к власти войск, ни со стороны мятежников никто не решался перейти к действиям. Внутри каре солдаты разложили костерок из найденных, скорее всего, на стройке досок и приплясывали рядом с ним, чтобы согреться. По площади уже сновали развеселые молодцы – предлагали желающим водки из кувшинов. Николай спрыгнул на землю. Пробираясь между солдатами, он вдыхал характерный запах, в котором были смешаны ароматы кваса, кислой капусты, влажного сукна, кожи, мужского пота, и ностальгически вспоминал времена, когда он был своим среди этих людей. Решил, когда революция победит, вернуться в армию. Конечно, вполне может случиться, что Софи рассердит такое его решение, но только поначалу – он сумеет все ей объяснить, он переубедит жену: ведь ясно же, что новому правительству потребуются преданные и надежные офицеры, способные заменить тех, кто остался верен старому режиму.
Продолжая размышлять, Озарёв рассеянно бродил взглядом по лицам окружавших людей – и вдруг внимание его привлекла знакомая физиономия. Во-о-он там высокий светловолосый молодой человек в красной рубахе и бараньем тулупе продирается сквозь толпу – ба! да это же Никита, юноша-крепостной, которого Софи отправила в Санкт-Петербург, чтобы он обучился тут ремеслу! Несмотря на то, что одежда его была явно крестьянской, в манерах парня виделась непринужденность, даже некоторое благородство, смотри-ка, насколько гордо посажена у него голова, а как развернул могучие плечи, мерно покачивая ими, а глаза-то, глаза-то до чего спокойные! Хм… Гляди-ка, за ним, оказывается, пристроился старик Платон с корзиной в руке… Ах да, им ведь уже случалось выходить в город вместе… Оба крепостных шарили взглядами по толпе, будто стараясь найти кого-то. Наконец, заметили Николая, и лица их осветились улыбками.
– Барин мой, барин, – приблизившись, запричитал Никита, – так я и думал, что вы будете здесь, на площади! Зашел за Платоном – и вот мы здесь!
– Я принес вам поесть, – добавил Платон, похлопывая по крышке своей корзины. – Тут вот колбаска, сыр, вино, даже соленые огурчики…
– Очень мило с твоей стороны, – сказал Николай, – только я ведь ни в чем не нуждаюсь!
– Как это не нуждаетесь! – воскликнул старик. – Если хотите иметь силы, надо кушать! Да и пальтишко на вас хлипкое – небось, уже продуло! Не подцепить бы простуды, барин! Мы еще захватили с собой для вас теплую шубу – маленько, правда, старовата, что правда, то правда, зато вмиг согреетесь!
Никита набросил на плечи Озарёва мягкую тяжелую шубу из чуть траченного молью меха:
– Вот в ней хоть всю ночь гуляйте по площади, и ничего с вами не сделается! – восторженно заявил Платон.
Николая растрогала и смутила такая предусмотрительность. Товарищи, как ему показалось, наблюдали за сценой иронически: революционера прямо на поле битвы нянчат слуги – только полного комфорта, видимо, ему и не хватало, чтобы вести борьбу за свободу!
– Благодарю вас, дружочки мои, а теперь уходите, пожалуйста, – ласково попросил он.
– А разве вы не хотите, чтобы мы остались тут, с вами? – в голосе Никиты послышалось разочарование.
– Нет! Нет! Вам здесь не место!
– Ну, хотя бы немножечко, барин, разрешите хоть посмотреть, как вы победите в этой схватке!
– Бесполезно настаивать, Никита, война – дело военных! Только военных, и ничье более!
Расстроенный Платон тем не менее засуетился:
– Все понятно, барин, дорогой наш, солнце наше, все понятно! Вот только вы уж скажите, чем еще мы можем быть полезны-то! Если вам чего не хватает…
– Мне всего достаточно!
– А рому, чуточку рому?
– Нет.
– Табачку если?
– Тоже нет.
Наконец, Никита с Платоном удалились. Николай пригласил друзей, откинул крышку корзины – и в минуту все запасы провизии были разобраны.
– Зачем отпустил их так? Тебе следовало велеть, чтобы принесли еще! – упрекнул товарища Юрий Алмазов. – Эта колбаса, она же – истинный шедевр кулинарии!
Пока они ели, два эскадрона конной гвардии выстроились в одну линию лицом к каре – так, будто собирались начать атаку.
– Господа, – сказал Одоевский, – похоже, мы вступаем в решающую фазу. Ну, и что станем делать?
– Что делать… Ничего мы не можем делать без командования! Раз уж Трубецкой не явился, давайте выберем на сегодняшний день другого диктатора! – заявил Голицын.
– Легко сказать! – буркнул Кюхельбекер. – Никто из нас для такой должности рылом не вышел – ни тебе воинской славы, ни тебе эполет…
– Оболенский, вы из нас чином выше всех – вот и возьмите командование на себя, – предложил Одоевский.
– Да ни за что в жизни! – сразу же воспротивился тот.
Николай повесил шубу на решетку, ограждавшую монумент, и встал лицом к первой шеренге каре. Изможденные солдаты с посиневшими от холода щеками, с каплями под носом тупо смотрели в пустоту.
– Эй, братцы! – закричал Николай. – Я, конечно, сейчас в гражданском платье, но в Отечественную служил гвардейским лейтенантом Литовского полка, ну так скажите – готовы вы подчиняться мне?
– Рады стараться, ваше благородие… – прозвучали в ответ нестройные голоса.
И тогда, к величайшему своему удивлению, внезапно ощутив себя на седьмом небе от счастья, Озарёв принялся командовать:
– Объявляю боевую готовность!.. К оружию, друзья!.. Двигаем каре на кавалерию!.. Сначала вы стреляете в воздух, но второй раз – по ногам лошадей!..
А гвардейцы в это время уже всколыхнулись, собираясь действовать, сокращая дистанцию. Но обледенелая почва и узость прохода мешали животным набрать скорость. Колебания всадников, то, как они вынужденно гарцевали на одном месте, будто приплясывая и постоянно оскальзываясь, – все это вызывало гомерический хохот зевак, оккупировавших ограды. Они прямо-таки помирали со смеху. В воздухе прогремел залп – стреляли солдаты каре. Никто не был задет, но несколько лошадей противника, испугавшись, поднялись на дыбы. Три всадника, гремя металлом, свалились на землю. Один из них, плотный рыжеволосый унтер-офицер, быстро вскочил и разразился бранью:
– Сукины дети! Мать вашу так…
Стрелки тут же и узнали его:
– Хорош ругаться-то, Лысенко! Мы ж стреляли поверх ваших голов! Давай переходи к нам!
– Да нельзя мне, – проворчал Лысенко, вставляя носок сапога в стремя.
– Чего это – нельзя?
– Следят за нами… Вот погодите, ночью все перейдем на вашу сторону!
– Точно?
– Землю ем! До скорого, парни!
– До скорого, Лысенко! Привет ребятам!
Офицеры выбранили конногвардейцев, те вернулись назад, перестроились и, крича: «Да здравствует Николай!», предприняли новую попытку наступления. На этот раз она была встречена брошенными с крыш камнями, поленьями, комьями снега – простой люд явно был на стороне мятежников. А те сейчас прицелились точнее: всадники, один за другим, тяжело валились с коней, причем некоторым так и не удалось подняться, и товарищи унесли их. Толпа, будто на спектакле, зааплодировала. Озарёв, весьма довольный собой, поздравил своих людей прямо-таки тоном военачальника-победителя:
– Спасибо, ребята, хвалю! Вы отлично поработали! Молодцы!
Еще три атаки не увенчались успехом, затем противник сменил тактику. Полковник Штурлер, командир гренадерского полка, поддержавшего мятежников, прибежал с приказом вернуться в казарму.
– Уходите! – сказал новоприбывшему Одоевский. – Вы жизнью рискуете!
Два человека схватили полковника под мышки и силой, будто пьяницу из кабака, поволокли его вон с поля сражения. Однако тому удалось вырваться, и он, кипя гневом, вернулся к бунтовщикам.
– Предатели! Предатели! – закричал Штурлер с сильным немецким акцентом.
– Молчать! – бросил Каховский и сразу вслед за этими словами выстрелил в упор, разрядив в него пистолет. Полковник вскинул руки к небу, медленно – словно совершая танцевальное па – повернулся вокруг своей оси, выкрикнул: «Ah, mein Gott!» – и упал наземь. Два гренадера подняли безжизненное тело и, прихрамывая, понесли его к зданию Генерального штаба, но бросили на полдороге. Каховский снова засунул пистолет за пояс. Лиловый фрак с потертыми локтями и вылинявшими подмышками подчеркивал худобу отставного поручика, болезненную бледность его лица.
– Неужто Милорадовича мало показалось? – спросил Николай. Подбородок его дрожал.
– Следует точно знать, чего тебе в жизни нужно, – наставительно произнес Каховский. – Делать революцию или реверансы!
Возбужденные водкой и пролившейся кровью солдаты заволновались:
– А почему нас не ведут больше в атаку?
– Разве вы не слышали, что сказал Лысенко? – вопросом на вопрос ответил Николай. – Подождем, пока стемнеет – тогда те, кто побоялся перейти к нам при свете дня, встанут в наши ряды. В конце концов, все расквартированные в городе полки будут наши!
Он почти поверил в это и сам…
– Нет, нет, слишком долго ждать! – продолжали кричать солдаты. – Мы тут до костей промерзнем!
Но вдруг – как по команде – все они умолкли, сняли шапки, потупились, стали тихонько, по-деревенски креститься. Удивившись столь внезапному приступу набожности, Николай поднялся на цыпочки – посмотреть, чем он вызван. Оказалось, что посреди площади остановилась карета, а из нее вышли двое священнослужителей: митрополит Серафим в зеленом бархатном облачении и еще один – в темно-красном.
Озарёв сразу разгадал маневр: раз сила не принесла победы, великий князь решил прибегнуть к помощи православной веры. Окруженные почтительной, но все-таки чересчур возбужденной толпой, священнослужители тихо совещались. Было сразу видно, что они пришли сюда не по собственной воле. Оба глубокие старики, казалось, они держатся прямо только благодаря своим ризам, жесткие складки которых будто подпирают их со всех сторон. Головы старцев были увенчаны высокими митрами со сверкающими драгоценными камнями, на лицах ясно читалось смятение. Наконец митрополит Серафим – в одиночку – медленно двинулся к мятежникам. Создавалось впечатление, что древние его кости при каждом шаге рискуют рассыпаться. Длинная белая борода трепетала на ветру. Глаза под морщинистыми веками блестели старческими слезами. Подойдя поближе, он поднял в руке, увитой синими венами, крест и произнес глухим от волнения голосом:
– Православные, успокойтесь! Поймите, что сейчас вы восстали против Бога, Церкви и Отечества!
– А вы, ваше преосвященство, за две недели присягнули двум разным императорам! Служителю Церкви не пристало так себя вести! – бросил старику в лицо Одоевский.
– Но великий князь Константин отрекся от престола! – с достоинством возразил митрополит. – Господь свидетель, что я говорю правду.
– Господь тут совершенно ни при чем! – презрительно сказал Каховский. – Тут чистая политика. Уходите-ка лучше отсюда подобру-поздорову!
Перерезанные мелкими морщинами щечки митрополита надулись – от возмущения весь его страх рассеялся. Казалось, он даже вырос вершка на три.
– Кто ты есть, чтобы говорить такое? – загремел старик. – Осмелься еще сказать, будто веруешь в Господа нашего Всемогущего!
– Да. Я верую в Господа нашего Всемогущего! – невозмутимо отозвался Каховский. И неожиданно добавил, положив руку на ствол пистолета: – Хотите доказательство? Дайте мне поцеловать крест!
– Не-е-ет! – выдохнул Серафим.
– Прошу вас, мне это очень нужно!
Николаю оказалось достаточно одного взгляда, чтобы понять: Каховский не шутит. Убив поочередно Милорадовича и Штурлера, он просил теперь помощи у веры, у священника, к которому, впрочем, не питал ни малейшего уважения.
Митрополит колебался, затем неуверенным жестом протянул крест – было похоже, будто он опасается, что бунтовщик вцепится в него зубами. Но ничего подобного не произошло: губы Каховского лишь слегка прикоснулись к священному кресту.
– А теперь мне, пожалуйста! – попросил Голицын.
– И мне, – сказал Одоевский.
– И мне, – повторил за ним Николай.
Восставшие один за другим подходили к митрополиту, осеняли себя крестным знамением. Когда настала очередь Николая – все мысли его словно застыли, и все внимание сосредоточилось лишь на холодной поверхности металла, обжигавшего рот.
– Вот теперь Христос с нами! – воскликнул Юрий Алмазов.
– Иисус Христос с нами! Он за нас! – поддержали его криками солдаты. – Ура! Да здравствует Константин!
Взбешенный тем, что невольно оказал моральную поддержку бунтовщикам, митрополит Серафим прижал крест к груди и посыпал скороговоркой:
– Да сгниют пасти безбожников! Нельзя красть Христа, как яблоко с прилавка! Православные воины, заклинаю вас в последний раз…
Но тот самый человек, который одним из первых только что просил подать ему крест для целования, резко оборвал старика.
– Довольно! – воскликнул Голицын. – Возвращайтесь в храм, если не хотите больших несчастий! Живее, живее! Вам нечего тут делать, да и мы уже насмотрелись на вас!
Он выхватил клинок, лязг металла, услышанный всеми сразу за его жестом, показал, что примеру Голицына последовали многие офицеры. Над головой митрополита скрестились шпаги, и он боязливо стал втягивать голову в свою сверкающую «броню». На подмогу Серафиму прибежали двое архидьяконов, они почтительно и очень бережно взяли старца под руки и увели его в безопасное место.
Едва священнослужитель исчез, на смену ему явился другой эмиссар: младший брат великого князя Николая Павловича, великий князь Михаил Павлович собственной персоной, молодой человек с длинным мясистым носом, маленьким тонкогубым ртом и дерзким взглядом. Оставаясь верхом, он закричал из седла, и голос его прозвучал неожиданно весело и радостно:
– Приветствую вас, дети мои!
– Здравия желаем, ваше императорское высочество!
– Я только что прибыл из Варшавы, – продолжал Михаил Павлович, – и виделся там с братом Константином…
– Зато мы с ним не виделись! – рявкнул Одоевский.
Именно это и следовало сказать, чтобы вызвать недовольство солдат, реплики из их рядов посыпались горохом.
– Да! да! Почему нам его не показывают?
– Может, его уже арестовали в Варшаве, может, он давно пленник?
– Пусть придет сюда и скажет сам: «Я не хочу быть вашим царем!» – вот тогда мы поверим. Мы только ему поверим!
Генерал из сопровождения великого князя решил вмешаться:
– Да как вы смеете не приносить присяги, если ваши собственные генералы уже подали вам пример?!
Один из гренадеров, скрытый за спиной другого, как за деревом, выкрикнул из своего укрытия:
– Ха! Может, для господ генералов ничего не стоит присягать каждый день кому-то другому, а для нас присяга – это серьезно! Мы так не поступаем!
– Кто это там высказывается?! – проревел генерал из сопровождения. – Кто это осмелился произнести подобную хулу?!
По приказу Александра Бестужева барабанный бой заглушил вопли военачальника. Великий князь Михаил Павлович развернул лошадь и ускакал галопом, маленький эскорт – все груди в орденах – за ним.
К четырем пополудни небо потемнело, ледяной ветер, пришедший с финского берега, заметался по площади. Ночь опускалась стремительно, заливая свинцом пухлые облака, затушевывая четкие линии строений… Полицейские тщетно старались вытеснить толпу с Сенатской площади на примыкающие к ней улицы. А Николай думал в это время о том, что Московскому полку следовало заручиться поддержкой других полков, что морская гвардия совершила тяжкую ошибку, не приведя с собой артиллерии, что, будь гренадеры более отважны, они пошли бы на дворец, захватили Сенат, и все эти блестящие возможности были упущены только потому, что не было никакого руководства… В результате же сложилась ситуация поистине парадоксальная – предвидеть ее накануне не мог никто. Тогда рассматривалось только два варианта: победа или поражение, а то, что происходило сейчас, нельзя было считать ни успехом, ни провалом операции, то, что происходило сейчас, решительно не соответствовало ни одной из категорий. Вялые, словно заторможенные, не способные ни думать, ни действовать, сомневающиеся во всем, включая прежде всего себя самих, противники издали смотрели друг на друга, стучали зубами от холода и, вполне возможно, жалели, что вообще сюда явились. Как та сторона, так и другая… Но тем не менее со всеми своими слабостями, со всеми своими противоречиями попытка мятежа продолжала оставаться для Николая Озарёва событием совершенно восхитительным.
До 14 декабря 1825 года, до этого знаменательного дня, в России, конечно, случались государственные перевороты, но их совершали какими-то дикими способами, тайно, некие приверженцы той или иной диктатуры, ведущие между собой торг в пользу того или иного претендента на престол. А сегодня, впервые на памяти человечества, спорный вопрос решался прямо на главной столичной площади, решался публично – на глазах всего народа. Впервые в политику оказались втянуты улица и казарма. Еще накануне такой безразличный, такой опасливый, такой непоследовательный народ встал на защиту Закона и Свободы. И ничего еще не потеряно! Большинство солдат, казалось бы, лояльных к власти, на самом деле только и ждут момента, когда можно будет перейти в другой лагерь! Скорее всего, они воссоединятся со своими товарищами-мятежниками, едва наступит ночь! Таково, во всяком случае, было мнение Оболенского, в конце концов, согласившегося взять на себя роль военного диктатора.
– Следует тянуть время, у нас не может быть в данный момент никакой другой тактики, – убеждал он собравшихся вокруг него на военный совет друзей.
Между тем ординарцы принесли стол и установили его в центре каре. Все было приготовлено для работы Генерального штаба: бумага, чернильницы, заточенные перья, свечи, воск, чтобы скреплять документы. Вот только писать пока еще было нечего.
– Да что ж за неподвижная революция! Топчется на месте! – проворчал Каховский.
– Недолго ей топтаться на месте, – отозвался Михаил Бестужев. – Посмотрите-ка, посмотрите!
В правительственных войсках началось какое-то странное движение – будто черви закопошились в банке. Людские массы приливали волнами, отступали назад, словно бы сжимались в ширину и снова вытягивались, но фланги терялись в сумерках. Вдруг ряды пехоты, прикрывавшей выход на Адмиралтейский бульвар, расступились, пропуская на площадь четыре пушки, которые были немедленно выстроены в батарею, дулами к каре – на расстоянии не больше ста шагов от него. Николай вскочил на стол: так было лучше видно.
– Что нам теперь делать? – бормотал он.
– Ничего, – пожал плечами Оболенский.
– А если они начнут стрелять?
– Не решатся…
– А я тебе говорю – непременно решатся! – возмутился Голицын. – Не понимаю твоего спокойствия. Давай опередим их, начнем наступление сами – как бы не было слишком поздно!
– Конечно, конечно! – поддержал его Николай. – Уверен, едва только артиллеристы увидят, что мы идем в атаку, они раскроют нам объятия!
– Да какого же дьявола вы избрали меня диктатором, если с самого начала критикуете мои приказы? Пусть ответственность за нападение ляжет на противника – тогда именно он окажется виновен в любых возможных осложнениях.
– Кто его будет обвинять, побойся Бога! – воскликнул Голицын. – Ты что – с ума сошел? У нас тут революция или судебный процесс?
– Всякая революция – это судебный процесс. – Оболенский впал в экзальтацию. – И один только Господь нам судья!
Пока они спорили, генерал Сухозанет, командующий артиллерией гвардейцев, галопом подскакал к каре, раздвинул корпусом лошади ряд стрелков, повернулся и закричал, обращаясь оттуда к офицерам-мятежникам:
– Видите пушки? Царь дает вам последний шанс!..
– Наш последний шанс – конституция, – с достоинством возразил Иван Пущин. – Вы принесли нам конституцию, ваше превосходительство?
– Я прибыл сюда не парламентером, я прибыл одарить прощением государя нескольких заблудших его подданных!
– Ну и пошел тогда к чертовой матери! – воскликнул один из солдат.
А другой поддержал товарища:
– И скажи, чтоб прислали кого почище тебя!
Николаю было известно, что гвардейцы сильно не любят Сухозанета, но прежде он и представить бы себе не смог, чтобы простые русские солдаты, даже и вставшие на сторону бунтовщиков, осмелились вот так оскорблять генерала. Озарёв разделял их гнев, но все-таки его смущала грубость. Трудно ему было забыть, что сам недавно носил офицерский мундир. Гренадеры тем временем начали прицеливаться.
– Огонь! – скомандовал унтер-офицер с усами, как у моржа.
Над головой Сухозанета просвистели пули. Одна из них сорвала с его шляпы белые перья. Пришпорив лошадь, он смешался с толпой, вслед ему полетели пули и насмешки.
– Не стоит тратить боеприпасы на таких каналий, – заметил Иван Пущин.
Выстрелы смолкли. Великий князь Николай Павлович уже беседовал с Сухозанетом под прикрытием батареи. Вероятно, генерал рапортовал о неудаче. Стало тихо – как будто все боялись упустить самую мелкую деталь из этого разговора. Но вдруг, подобно грому, прозвучал приказ – несмотря на большое расстояние, было ясно различимо каждое из трех слов:
– Канониры, по местам!
Зажглись фитили, звездочками посыпались с них на снег красные искры… Очнувшись от оцепенения, мятежники закричали:
– Антихрист! Грех стрелять в своих братьев!
Николай зажмурился и обратился к Софи: «Я люблю тебя!.. Я люблю тебя!.. Прости! Как это все глупо!..» А после широко открыл глаза, решив, что должен смотреть смерти прямо в лицо. Бежать некуда, да и невозможно. Надежда только на Бога. Наверное, первые христиане, которых сгоняли на арену, где им предстояло подвергнуться нападению хищников, испытывали такую же щемящую тоску… Как ни странно, внезапно промелькнувшая мысль вернула Николаю силы. «Ради нашего общего блага необходимо, чтобы это побоище, это массовое убийство состоялось. Это спасет нас от насмешек грядущих поколений. Если мы останемся в живых, прослывем пустозвонами, мечтателями, если погибнем – история простит нас и возвеличит наши имена!» Лица вокруг него носили теперь отпечаток мрачной решимости.
– Уррааа! – изо всех сил закричал Озарёв. – Да здравствует Константин!
В ту же минуту снег рядом с ним был взрыт пушечным выстрелом: ядро ударилось в стену Сената. Стекла со звоном разлетелись осколками. Двое ротозеев, примостившихся раньше на карнизе, соскользнули в пустоту, двигаясь медленно, будто рыбы под водой…
– За мной, друзья! – воскликнул Оболенский, выхватив шпагу.
Наконец-то он решился атаковать. Но в этот момент увидел на углу бульвара яркую вспышку: второе ядро, вспахав снег перед каре, угодило прямо в центр первой шеренги. Залп был настолько мощным, что задетые солдаты начали безмолвно, не издав даже стона, валиться один на другого: неловкие, отягощенные киверами, ружьями и ранцами… Эта все растущая молчаливая гора тел напомнила Николаю образы из детских ночных кошмаров: ему виделись тогда, может быть, еще худшие, но такие же безмерно тихие катастрофы, и у него самого, спящего, не хватало голоса, чтобы закричать. Осколки льда и камней царапали лицо, но кровь не текла. Он задыхался от ужаса и гнева. Если революции и потребуется оправдание, то теперь оно у них есть: жестокость бессмысленного наказания.
Перепуганная толпа ринулась с площади, оставляя на пути распростертые по снегу черные трупы. Однако все выходы оказались перекрыты. У заграждений завихрились водовороты из человеческих тел. Штатские вытаскивали из карманов платки, срывали с голов шляпы и принимались размахивать ими – видимо, надеясь благодаря этим жестам получить пощаду. От третьего залпа все заволокло дымом. Рядом с Николаем маленький флейтист из гренадеров подскочил на месте, молча, как рыба, открыл рот и сразу же рухнул на землю, прижав обе руки к животу. Между его пальцев сочилась кровь – ни дать ни взять вспоротый бурдюк с красным вином… Оставшиеся в живых солдаты открыли беспорядочную стрельбу по императорским войскам, но им недоставало уверенности. По бегающим взглядам и вялым движениям иных становилось ясно, что им бы теперь только скрыться отсюда поскорее. Оболенский положил руку на плечо Николая и прошептал ему:
– Все погибло! Это конец…
– Все погибло, да, но мы преподали урок нашему Отечеству! – воскликнул Кюхельбекер.
– Ты прав! – громко подтвердил Озарёв. – Так и нужно было. Я ни о чем не жалею!..
Лица мятежников, выражавшие героическую решимость, засветились нежностью. Они пожимали друг другу руки, обнимались. Сцена казалась настолько нереальной, что Николаю померещилось, будто он уже мертв и вместе с друзьями перебрался в потусторонний мир. Четвертый артиллерийский залп уже совсем расстроил ряды восставших.
– Спасайся, кто может!
Каре распалось, беглецы ринулись врассыпную, они мчались во всех направлениях. Николая толкали, его несла общая волна, и он бежал под ядрами вслед за остальными. На пути увидел Оболенского, пытавшегося удержать за рукав какого-то гренадера – тот со злобным лицом ожесточенно вырывался. Наталкиваясь на гражданских и опрокидывая их в грязный снег, солдаты Московского полка удирали по Галерной. Николай помчался за ними. Пушки тут же наставили туда дула и принялись выбрасывать ядра в узкий проход. Раскаленное железо с грохотом ударялось о стены и рикошетом попадало в старавшихся спрятаться в углублениях прохожих. Обезумевшие от страха женщины отчаянно колотились во все двери в надежде найти укрытие, но никто не решался отворить. Жильцы окрестных домов затаились по своим норам, боясь впустить к себе смерть. Убитый мальчик-посыльный из кондитерской лежал на снегу, а вокруг него расстилалось душистое поле свежей сдобы. Лысый чиновник с крестом Святой Анны протягивал руки к площади, крича: «Убийцы! Убийцы!» Неподалеку, привалившись спиной к стене, толстая дама в украшенной перьями шляпе вроде бы спала глубоким сном, – вот только из ноздри ее все текла, и текла, и спускалась по подбородку к шее тоненькая алая струйка. Только что браво улепетывавший солдат – простоволосый, без оружия – кубарем покатился навстречу Николаю и продолжал, лежа на земле, сучить ногами – словно ему хотелось сбросить с себя тяжелое одеяло. Его горячая кровь пропитывала снег и застывала тонкой крупкой, отливавшей красным и серебром.
Воспользовавшись минутной передышкой, Николай кинулся в проходной двор и выбежал на Адмиралтейскую набережную. Трупы здесь лежали грудами, похожие на кучки белья у входа в парильню. В какой-то момент Озарёву почудилось, что он единственный из заговорщиков остался в живых. Но, перегнувшись через парапет, заметил, как внизу спешат перебраться по льду реки на тот берег солдаты – чьи, какого полка, было уже и не понять. Михаил Бестужев вроде бы пытался их построить, чтобы пересечь Неву более или менее организованно, они не слушали. Вскоре серое стадо растворилось в тумане, в ледяной пустыне.
– Подождите меня! – крикнул Николай, оседлав парапет.
Откуда ни возьмись – яркое пламя, прорезавшее сумрак: выведенная на середину моста батарея стреляла по беглецам. Николаю оставалось только броситься назад. Пули и ядра сыпались бешеным каким-то градом. Даже и в самых густых облаках дыма и пороха мелькали призраки людей в мундирах. Между двумя орудийными залпами Михаил Бестужев успел выкрикнуть:
– Вперед, ребята!.. На крепость!..
Все в беспорядке побежали за ним. Оставшемуся на берегу Николаю почудилось, будто он стал жертвой оптической иллюзии: в окружающем его пейзаже что-то неуловимо изменилось, некоторые горизонтальные линии стали едва приметно наклоняться, прогибаться, отдельные куски открывающейся его взгляду картины плавно соскальзывали вниз… Буквально секунду спустя он с ужасом понял, что пробитый ядрами лед не выдержал веса толпы: белые островки вращались вокруг своей оси, вставали вертикально, острым углом к небу, и сбрасывали в образовавшуюся полынью слипшийся уже в подобие раздавленного муравейника груз. Выжившие солдаты барахтались между этими островками льда, цеплялись за края, налезая друг на друга и друг друга отпихивая, падали навзничь и уходили под воду. Тех, кто бежал по твердому пока льду, настигали пули. Но все-таки кое-кому удавалось достичь противоположного берега, и они тут же проваливались в дым и туман. Когда уже ничего не стало видно, на Николая обрушилась смертельная усталость. Он был раздавлен случившимся, голова стала чугунной, тело отказывалось повиноваться.
Со стороны моста и со стороны Сенатской площади еще слышались выстрелы, по мертвым улицам скакали кони. Николай удалялся с поля битвы, сам не понимая, куда идет. Может быть, за домом Кости на Петербургской стороне установлено наблюдение? У Рылеева-то наверняка не укроешься! Рано или поздно полиция схватит всех членов общества. Вспоминая о друзьях, большею частью, как ему представлялось, убитых и раненых, Николай стыдился мыслей о собственной безопасности. Крах революции не оставил никаких надежд, исчез самый смысл жизни – зачем она теперь? Нет, нет, нет никаких причин жить – а уж благородных тем более! Подумалось, а не отправиться ли к Степану Покровскому, которого удержала нынче дома вывихнутая лодыжка. Степан живет на Крюковом канале – комнату снимает у вдовы какого-то чиновника…
Прибыв к товарищу, Озарёв узнал, что тот уже полностью в курсе событий и якобы слышал, будто Рылеев и другие главари заговорщиков вернулись по домам целыми и невредимыми. Степана бесило то, что ему пришлось довольствоваться четырьмя стенами и мягкими домашними туфлями, когда его друзья подставляли грудь под ядра. Единственным утешением ему служила уверенность, что, едва по приказу правительства заговорщиков начнут арестовывать, его возьмут тоже – он же, черт побери, с самого начала был с ними!
– Понимаешь, Николай, в таком деле, как наше, нельзя говорить о провале, – пылко уверял Покровский. – Или тогда придется считать погибшим дело Иисуса Христа – ведь он был схвачен, его истязали, оскорбляли, в конце концов, распяли на кресте! Может быть, мы принесем больше пользы России, став мучениками свободы, чем в том случае, если бы вышли победителями из этого испытания!
Откинувшись на спинку кресла и уложив больную ногу на стоящий чуть впереди табурет, он словно бы бредил, сохраняя на лице мягкое выражение, свойственное людям, погруженным в философические раздумья. За стеклами очков в золотой оправе сверкали небесно-голубые глаза. Пухлые руки в желтом свете лампы летали, подобно птицам. На стенах комнаты были развешаны пастельные портреты немолодых дам. Степан взял колокольчик, позвонил. Явился слуга с подносом, уставленным снедью. Николай подумал было, что после таких переживаний, такого страшного потрясения ему кусок в горло не полезет, однако при виде холодного цыпленка и вина ощутил такой немыслимый голод, у него разыгрался такой постыдный, неприличный в этих условиях аппетит, что он содрогнулся. И все равно готов был слопать все, что находится перед ним. Душа страдала – тело требовало своего. Ничего не поделаешь – Озарёв с жадностью набросился на угощение. За едой друзья все еще пытались разобраться в причинах поражения, но их обсуждение свелось, по существу, к одному-единственному вопросу: следует ли считать это поражение полным и окончательным или все-таки осталась хоть какая-то надежда? Как знать, может быть, Южное общество, которым руководит Пестель, возьмет реванш в провинции? Может быть даже, они уже приступили к действиям? А вдруг именно здесь их единственный шанс?
Беседу прервало появление Кюхельбекера. Тот был у Рылеева и видел там, кроме хозяина дома, начавшего жечь бумаги Общества и укладывать пачками документы Российско-Американской компании, еще и Ивана Пущина, Юрия Алмазова, Штейнгеля, Оболенского, Батенькова, Каховского да многих… По словам Вильгельма, все были подавлены, почти не говорили друг с другом, пили чай и дымили сигарами, ожидая момента, когда за ними придут.
– Можно подумать, они начисто опустошены, – горячился гость. – Безвольные, вялые, бессильные, словно им сухожилия перерезали.
– Ну, а сам ты – что намерен делать? – спросил его Николай.
– Бежать, естественно!
– Да тебя тут же схватят!
– У меня есть план. Сначала попробую добраться до имения сестры под Смоленском, там наверняка найду преданного слугу, который снабдит меня паспортом и одеждой. Изменю облик и – через границу. В Германию!
– Господи, в Германию! Да ты что? Как же это можно?! – возмутился Николай. – Покинуть в такой момент Россию? Бросить все? Всех?
– Что я тут оставлю? Кого? Опомнись! Кто тут есть, помимо жандармов, полицейских ищеек, тюремных надзирателей и кровавого тирана?
– Родину ты оставишь, свое Отечество, его небо, его горизонты, память, в конце-то концов!..
– Слова, одни слова! – отмахнулся Кюхельбекер. – Лучше последуй моему примеру. У тебя ведь жена француженка, верно? Ну и отправляйся к ней, и бегите вместе во Францию с подложными документами!
– А как я при этом буду выглядеть в глазах товарищей?
– Как человек, обладающий здравым смыслом и чувством реальности! Если мы позволим бросить в застенки нас всех, дело пропало окончательно. Навсегда. А оказавшись свободным человеком во Франции, ты будешь всем нам куда полезнее, чем покорившись участи заключенного в России.
Уговоры растрогали Николая. Он уже представлял, как ночью тайно проникнет в Каштановку, как расскажет все Софи, как они станут готовиться к романтическому бегству… Но внезапно понял, что ничего, просто ничегошеньки такого не сделает. Для него была совершенно неприемлема мысль о том, что порядочный человек способен покинуть родину, опасаясь наказания за участие в справедливом деле. Раз уж он решил вложить всего себя в обернувшееся провалом предприятие, значит, следует теперь оплатить долги до полушки. Это вопрос чести.
– Нет, Вильгельм, – сказал он спокойно, – я и пальцем не пошевелю. Впрочем, не совсем-то я и уверен, что нас непременно арестуют…
– Николай, на мой взгляд, прав, – заметил Степан Покровский. – Меня ничуть не удивит, если, желая отпраздновать свое восшествие на престол, император объявит амнистию!
– Вы, как дети, верите в светлый рай… – усмехнулся Кюхельбекер. – Что ж, тем хуже для вас. А мне остается только откланяться… Прощайте!..
Вильгельм распахнул объятия. Тень его силуэтом напоминала Дон Кихота. Когда он ушел, Покровский прошептал:
– Сразу видно, что немец по происхождению: эмиграция не эмиграция – для него нет разницы, где жить…
Николай еще долго беседовал с другом, постепенно утверждаясь в своем решении и ощущая себя от этого все более чистым и бодрым – совсем как от купания в реке. В два часа ночи он решил, что пора идти домой. Степан из глубины кресла перекрестил, благословил его…
Черная ледяная ночь держала столицу в тисках. Берега Крюкова канала выглядели пустыней. Но Николай не обольщался ни тишиной, ни покоем, вроде бы царившими в Петербурге. Он сделал большой крюк, прежде чем достичь дома Кости Ладомирова. По мере того, как Озарёв приближался к центру, город становился все больше похож на победителя, еще не вполне умиротворенного одержанной им викторией. На перекрестках горели бивуачные костры, влажные поленья, потрескивая, пускали струи дыма в лица собравшихся у огня солдат… Составленные в козлы винтовки и пики чередовались с наваленными прямо на снег кучами фуража… Перекрикивались с одного поста на другой продрогшие до костей часовые… Тяжело прошагал ночной патруль во главе с офицером, подозрительно оглядывавшим дома справа, дома слева, опять дома справа… Галопом проскакал посыльный из императорской канцелярии: сумка, видимо, с бумагами, болталась у него за плечом…
Николай вышел на Английскую набережную, где несмотря на поздний час еще толпились под козырьками подъездов любопытные. По берегу скользили сани, накрытые брезентом. Видя, как они приближаются, люди начали истово креститься. Сани были нагружены трупами.
– Куда их увозят? – спросил у первого встречного Николай.
– Жандармы сделали проруби во льду, – ответил тот, оказавшийся швейцаром из соседнего дома, – и спускают под лед все тела, какие только находят, рыская повсюду. Да и не только мертвые тела – Господи помилуй! – они и раненых туда бросают.
– Боже, какой кошмар! Как это гнусно!
– Конечно, ваше благородие, – откликнулся кто-то из прохожих, – конечно, гнусно, но у них ведь попросту нет времени разбираться, кто тут еще дышит, а кто уже и нет. К утру город приказано полностью очистить. Царь-батюшка сам так повелел.
Под тканью, которой были накрыты сани, угадывались рельефами закоченевшие члены, восковая рука вывалилась в прореху, на каждой колдобине она принималась раскачиваться. Полицейский, конвоировавший сани, грубо схватил эту мертвую руку и затолкал под брезент. Вид при этом у него был такой, будто он призвал к порядку невоспитанного путешественника.
– Боже мой, боже мой, с ними и священника-то нету, – вздохнула рядом укутанная в платок старушка.
Николай, у которого сердце разрывалось на части, только покачал головой. Сколько ни в чем не повинных людей заплатили жизнью за неудачу затеянного ими государственного переворота, за то, что они плохо подготовились к этому перевороту, что слабой оказалась их организация? Солдаты, подобно баранам, согнанные в стадо, чтобы покорно выполнять приказы офицеров; безобидные прохожие; рабочие с ближайших строек; женщины; ребятишки… Конечно же, куда больше жертв среди тех, кто был ничем не причастен к мятежу, чем среди тех, кто развязал всю это кровавую историю. Николая душило чувство вины. Кровь невинно павших стучала у него в висках. Но он же не хотел этого! Никто из них этого не хотел! Озарёв продолжал идти по направлению к площади. Здесь оказалось больше, чем повсюду в иных местах, бивуаков с кострами, сюда были стянуты более многочисленные отряды. Пушки стояли, целясь блестящими жерлами дул в устья проулков. Под наблюдением часовых команды рабочих собирали граблями, лопатами и скребками окровавленный снег, а освободив от него землю, тут же посыпали ее привезенным откуда-то свежим. Другие бригады стеклили окна фасадов и красили белой известью выщербленные пулями колонны. К завтрашнему дню не останется и следа от совершенного 14 декабря насилия – и верноподданные смогут петь императору хвалу, ни о чем не задумываясь… Обожать царя-батюшку, восхищаться им…
– Стой, кто идет!
Николай вздрогнул – погрузившись в размышления, он и не заметил, что дорогу перегородил ночной дозор.
– Куда идете? – спросил унтер-офицер, поднимая фонарь, чтобы разглядеть лицо Озарёва.
– Домой возвращаюсь, – пожал он плечами.
– Кто таков будете? Имя? Фамилия? Адрес? – не отставал патрульный.
– А вам-то зачем?
– Имею приказ допрашивать всякого, кто пытается пройти через площадь!
– Ах, вот в чем дело!.. – прошептал Николай.
Подумал: «Я уже где-то его видел…» – и тут же вспомнил захлебнувшуюся атаку конногвардейцев, выбитого из седла унтер-офицера, сначала проклинавшего солдат Московского полка, а потом пообещавшего объединиться с ними под покровом ночи.
– Вам неизвестно мое имя, зато я ваше – знаю! Как делишки, Лысенко?
Унтер-офицер выпрямился, большой фонарь раскачивался на зажатой в кулаке цепочке. Он вытаращил глаза от удивления.
– Что – никак не припомнишь? – усмехнулся Николай, пристально глядя прямо в лицо унтеру.
– Извольте пройти, – пробормотал тот.
Узнал ли он Озарёва, опасался ли задеть чересчур высокопоставленного человека или просто знал за собой вину? Солдаты расступились. Николай еле удержался, чтобы никого не поблагодарить. И никто больше не останавливал его до самого дома.
Ему казалось, что прислуга должна спать, но выяснилось, что Платон с Никитой ожидают барина в прихожей. Он не успел произнести ни слова, а они уже бросились целовать ему руки.
– Барин, барин, наконец-то вы вернулись! – приговаривал Никита. – Не ранены?
– Нет.
– А мы так боялись за вас! Так боялись! Мы были в толпе на Галерной улице… там, рядом… И все, все видели!.. Какие ужасы!.. Как страшно!.. Эти выстрелы… Эта кровь… Никогда не забуду!.. Спасибо вам, барин! Храни вас Господь!
Лицо старика сияло благодарностью.
– Но за что ты меня благодаришь-то? – спросил Николай.
– Как за что? Вы же хотели дать счастье народу, а сейчас вам придется расплачиваться за эту дерзость своим собственным счастьем! – сказал Никита.
У Озарёва перехватило от волнения горло.
– Так, значит, ты понял…
– А кто ж из бедноты не понял?
Николай взглянул в большое зеркало у входа и едва узнал себя в бледном, обросшем щетиной человеке с распухшими покрасневшими глазами.
– Поесть, барин?
– Нет-нет, идите спать, голубчики. Оба сейчас же идите спать.
– А вы что станете делать?
– Мне нужно разобраться в бумагах, сжечь кое-какие письма…
Платон хлопнул себя ладонью по лбу:
– Надо же, забыл, ох, простите, барин! Вам же с утра пришло письмо – я положил его на стол.
Радость сделала тело Николая невесомым – он полетел в комнату, словно перышко: это, конечно же, от Софи, это Софи написала ему! Подбежав к столу, зажег лампу, схватил письмо… и словно упал с облака на землю. Почерк отца. Он вскрыл длинным ногтем конверт.
«Сын мой!
Я уверен, что твоя жена еще не решилась сама отослать тебе письмо, которого ты заслуживаешь. Поэтому, повинуясь отцовскому долгу, спешу сообщить сам наиболее важные новости. Первая: твоя сестра, покрыв позором нашу семью благодаря затеянному ей глупому замужеству, довершила свои безумства и умножила свои грехи тем, что наложила на себя руки. Да простит ее Господь, как я ее прощаю! Вторая: величие души твоей супруги, которому я не могу не воздать должное, побудило ее взять в наш дом сиротку. Надеюсь, что это дитя, такое прелестное, не вырастет похожим ни на отца, ни на мать. Третья: Софи узнала о том, что ты изменял ей с Дарьей Филипповной…»
Колени у Николая подогнулись, он еле устоял на ногах. Нет, все-таки лучше сесть в кресло – какая слабость!
«Разумеется, она не хочет никогда более тебя видеть, и я вполне ее в этом поддерживаю. А это значит: чтобы ноги твоей не было в Каштановке, даже и не думай сюда возвращаться. Твоя супруга все равно не покинет своей комнаты, пока ты не уедешь. А я, если станешь упорствовать, прикажу слугам выбросить тебя за дверь. Единственное, чем, может быть, тебе удастся хотя бы отчасти искупить свою вину, так это тем, чтобы никогда в жизни отныне не показываться нам на глаза. Говорю тебе все это, находясь в полном согласии с Софи, которая, оправившись от гнева и недомоганий, вызванных горем, что ты причинил ей своими „подвигами“, вероятно, уедет на родину. Мне бы следовало проклясть тебя, но ты все равно не поймешь, что такое отцовская ярость. Поэтому ограничусь тем, что скажу: прощай навек!
Михаил Борисович Озарёв».
Николай совершенно потерялся, сломленный жестоким ударом. Ему казалось, будто он уже не существует как личность. Это кто-то другой складывает сейчас вчетверо бумажный лист. Это кто-то другой, понурив голову, погружается в размышления. После всего чудовищного, что довелось пережить за день, собственное существование показалось ему сотканным только из лжи, подлости, глупого крохоборства… Чем получать такое послание, лучше было пасть на Сенатской площади! Им овладели скорбь, отвращение, он чувствовал себя раздавленным. Сестра покончила с собой, жена, узнав о его измене, не хочет больше его видеть! А нет ли таинственной трагической связи между этими двумя событиями? Как все это могло случиться? По чьей вине? В связи с какими обстоятельствами? Что послужило поводом? Он знал, что Маша в отчаянии, что она унижена, удручена, но не до такой же степени, чтобы наложить на cебя руки! Неужели не нашлось рядом ни единого человека, способного успокоить ее, утешить, дать мудрый совет, когда земля уходила у нее из-под ног, когда она звала на помощь? А мог бы он спасти сестру, если бы был в Каштановке? Вдруг смог бы? В нем росло ощущение, что у него одним движением отсекли все воспоминания детства. Он страдал, ему казалось, что он не способен думать ни о чем, кроме этого ужасного конца, но боль, которую причинила ему Софи, все-таки оказалась сильнее, неожиданнее и затмила другие переживания. Как она может думать о том, чтобы разорвать их союз из-за связи, с которой давным-давно покончено, из-за связи, которой сам он не придавал ровно никакого значения! Выбросить на свалку десять лет безоблачного счастья из-за минутного заблуждения! Их любовь была слишком прочной, их обоюдное согласие было слишком живым, слишком тесным, замешанным на чересчур благородной основе, чтобы подобной глупостью можно было все разрушить! Нет, Софи, с ее гордым нравом, скорее всего, приняла это решение в порыве гнева. А Михаил Борисович вместо того, чтобы урезонить невестку, всячески изощрялся, подливая масла в огонь. Он настолько ненавидел сына и ему так хотелось поскорее остаться одному со снохой, что любые уловки годились для достижения цели. Все пойдет в дело! Николай представил себе гостиную в Каштановке, жену и отца, мирно играющих в шахматы… А он тут – в отчаянии! Его охватило бешенство. Озарёв принялся бегать по комнате, бросая вокруг себя дикие взгляды. Что? Позволить вот так над собой надругаться? Но любовь Софи необходима ему, чтобы просто существовать! Лишенный ее любви, он перестанет быть самим собой, он станет ничтожеством, превратится в пустое место! Десять лет владеть этим прелестным личиком, этим стройным телом, этой пылкой душою, всей этой хрупкой красотой – и лишиться сразу всего? Есть от чего потерять рассудок! Решение было бесповоротным. Он отправится в Каштановку, чего бы это ни стоило. Он увидится с Софи, он заставит жену себя выслушать. Даже если она встретит его как чужого, как врага, он найдет средства склонить жену к примирению. Он слишком несчастен, и она просто не сможет долго сопротивляться его раскаянию и его нежности. Искренняя страсть разрывала его сердце.
Ему пришел на память совет Кюхельбекера, он распахнул дверь и позвал:
– Платон! Никита! Живее сюда!
Вбежали слуги.
– Мне нужна крестьянская одежда, – потребовал Озарёв.
У Платона от изумления отвалилась челюсть.
– Для кого, барин?
– Для меня.
Никита сразу догадался, в чем дело, и, счастливый, перешел на шепот:
– Неужто бежать хотите, барин?
– Ну да.
– Небось, в Каштановку?
– Конечно. Куда ж еще?
– Разрешите мне с вами?
– С ума сошел?
– Барин, барин, одного-то вас мигом схватят! Вы же не умеете говорить, как мужик! А со мной все будет проще. Притворимся паломниками, пойдем проселочными дорогами…
Николай уже готов был согласиться, но вспомнил, что Никита служит в лавке.
– А что скажет твой хозяин?
– Э-э, когда он поймет, что я сбежал, будет уже слишком поздно!
– Но твой паспорт у него…
Платон, который уже с минуту, казалось, не мог уследить за разговором – слишком все пошло быстро, услышал слово «паспорт», оживился и сказал, расплывшись в улыбке:
– Насчет паспортов не тревожьтесь, Николай Михайлович. Я знаю, где наш барин держит бумаги всей прислуги, и добуду паспорта и для вас, и для Никиты – не подкопаешься, подберу такие, чтобы описания подходили как нельзя лучше.
От подобной преданности слезы навернулись на глаза Николая.
– Друзья мои, мои истинные, мои настоящие друзья! – бормотал он, чуть не плача.
3
Они шли два дня и две ночи по засыпавшему дороги глубокому снегу, а добрались только до Гатчины – всего на сорок пять верст отдалились от Санкт-Петербурга. Рассветное солнце щедро поливало лучами придуманный для развлечений очаровательный городок: вот замок с колоннами, вот укрытый белоснежным одеялом парк, вот затянутые льдом пруды, вот окрашенные в нежные цвета виллы… В центре Гатчины уже открылись все трактиры и харчевни. Николай выбрал самый из них скромный и зашел туда вместе со спутником. Поклонились иконам в красном углу, перекрестились, сели за стол в уголке зальца. Даже не спрашивая, чего бы хотелось посетителям, пузатый черноволосый хозяин заведения, вылитый турок с виду, принес жареной колбасы, черного хлеба и кваса. Должно быть, ничего другого здесь не подавали. Николай склонился над тарелкой. Прошлой ночью останавливались в амбаре, и он совсем не выспался. Ноги – как ватные, от голода кружится голова. Никита печально посмотрел на барина и сказал тихо:
– Отдохнуть бы нынче…
– Нет-нет, – возразил Николай. – У нас мало времени, очень мало. Через час – снова в путь.
Он так стремился к Софи, что ни о чем, кроме скорого свидания с женой, даже и думать не мог. В грезах, в обрывках снов, повторявшихся постоянно, она сначала захлопывала перед ним дверь, но к середине ночи, наконец, соглашалась отворить, чтобы выслушать его объяснения. Мысль об этом воспламеняла кровь Озарёва. Сердце его начинало биться, как у подростка. Улыбка сияла на губах…
Озарёв расстегнул бараний тулуп, открылась грубая домотканая сорочка. В валенках, косматой шапке, с мешком и посохом он действительно походил на мужика-паломника. Вдруг ему показалось, что хозяин трактира искоса и как-то странно поглядывает на него. Ох, как стало страшно – аж мурашки поползли по коже… Господи! Да он же по привычке ест, прижав локти к корпусу и лишь слегка склонив голову к столу – какой крестьянин так ведет себя! Быстро сообразив, что к чему, Николай, исправляя ошибку, налег на клеенку локтями, стал гримасничать, причмокивать после каждого глотка.
– Ой, барин, не перегнуть бы вам палку-то! – озабоченно шепнул Никита.
– А ты кончай называть меня барином и выкать! – огрызнулся Николай в ответ. – Ляпнешь так однажды при ищейках – и мы готовы! Как думаешь, удастся сговориться тут с каким-нибудь возчиком, чтобы доставил нас в Лугу? Да хоть в телеге!
– Может, и сговоримся…
– Пошли-ка поищем в стороне рынка!
– Если позволите, барин… виноват… нет, давай уж я один схожу туда, – отозвался Никита. – Одного-то меня никто ни в чем не заподозрит. Улажу дело и вернусь за тобой.
На смуглом обветренном лице крестьянина мягкий блеск сине-фиолетовых глаз напоминал драгоценную эмаль, и даже тогда, когда Никита не улыбался, от него все равно исходило сияние здоровой молодости, простодушия, искреннего доброжелательства. Он прикончил свою порцию колбасы, допил квас, встал. Николай с тревогой смотрел вслед уходящему спутнику: одному ему все-таки было немножко не по себе. Чтобы казаться более естественным, он вытащил из кармана тулупа горсть семечек и принялся их грызть, энергично сплевывая. Из другого угла зальца к нему, пошатываясь, двинулась какая-то тень.
– Угости, братец, подсолнушками! Отсыплешь?
Перед Николаем, все так же покачиваясь, остановился сильно на вид пьяный бородач с растрепанными светлыми волосами. Судя по повязке на лбу и покрою длинного армяка – плотник. Бородач протянул вымазанную какой-то гадостью открытую ладонь, Озарёв щедро сыпанул ему семечек.
– Вот уж благодарствую! – обрадовался плотник. – Храни тебя Господь, мил-человек!
И пошел своей неуверенной походкой к выходу.
Но хозяин преградил ему дорогу.
– Эй, ты чего – собираешься уйти, не заплатив?
– За что платить? Я и не пил вовсе!
Явная ложь возмутила «турка». Лицо его исказилось, и он заорал:
– Ах, так! Значит, не пил?! Дрянь ты этакая! Скотина! Вонючка! Чтоб тебе ни дна, ни покрышки!
Произнося очередное ругательство, хозяин всякий раз изо всех сил толкал бородача кулаками в грудь. Тот, и без чужой помощи вот-вот готовый упасть, сначала пятился, а потом потерял равновесие и рухнул на ближайшую лавку.
– Да нету у меня денег-то, братец, вишь, в чем дело… – пробормотал он.
– Тогда я посылаю за полицией!
– А толку-то? Что она – денег тебе даст?
– Удовольствие доставит: посмотрю, как тебя взгреют! Ну-ка, ну-ка, выворачивай свои карманы!
– А давай я тебе лучше спою!..
Мальчишка в белом переднике по знаку хозяина уже направлялся к двери – скорее всего, чтобы сбегать за полицейскими. Пьяница тем временем запел, отбивая такт ладонью по столу. Николай с тревогой наблюдал за происходящим: если явится полиция, его могут как свидетеля повести в участок. А там допросы, там станут присматриваться к бумагам… Нет, любой ценой, любой ценой этого надо избежать! Он пошарил в карманах, мелочи там не оказалось, и трактирщик получил десятирублевую ассигнацию со словами:
– Возьми, я плачу за него.
Трактирщик удивился. Осклабившись, он принялся низко-низко кланяться, складываясь просто вдвое – так, будто его осчастливил знатный господин. Николай еще больше смутился от такого и снова притворился человеком из народа, пересчитывая сдачу с нарочитой, как бы исполненной подозрений медлительностью.
– Откуда денежки-то? Небось, на ярмарке давеча хорошо заработал? – поинтересовался хозяин заведения.
– Ну да, – ответил Николай.
– И теперь к себе возвращаешься?
– Угу. Домой.
– И где ж ты живешь?
– А под Лугой…
– Далеко отсюда…
– Далековато еще…
– Что ж ты продавал-то там?
– Луб, – выпалил Николай первое, что пришло на ум.
– Э-э-э, как повезло тебе! У нас с таким товаром не разживешься!
Их беседа была прервана пьяницей, который, словно очнувшись, вскочил с места, но тут же и повалился на Николая, сжимая его в объятиях так, что кости трещали, и целуя в обе щеки мокрыми губами. Изо рта у бородача нестерпимо воняло перегаром.
– Солнце ты мое незакатное! Отец родной! Кормилец! Век не забуду! Прикажи, я отрежу себе хоть палец, хоть ухо – все сделаю, лишь бы тебе в радость!
Николай вырвался и устремился к двери. Трактирщик и мальчишка-слуга, кланяясь, как китайские болванчики, проводили его до порога. Опасаясь новых приключений, он решил в ожидании Никиты прогуливаться по тротуару, но успел дойти лишь до ближайшего угла: за спиной раздался голос:
– Эй, парень! Ты, ты! Куда направляешься?
Озарёв обернулся. Двое вооруженных полицейских знаками приказывали ему приблизиться. За ними маячил трактирщик: он втянул голову в плечи, однако выглядел не только немножко виноватым, но и торжествующим.
* * *
Окна крытого возка заиндевели, и Николаю пришлось процарапать ногтем на стекле белую полоску и склониться к ней, чтобы разглядеть, что там на улице. Сидевший рядом жандарм поспешил призвать его к порядку:
– Будьте любезны не показываться, держитесь дальше от двери!
Сиденье было узким, и теплая ляжка конвоира тесно прижималась к бедру Николая.
– Интересно, чего вы боитесь? Что я увижу город или что город увидит меня? – усмехнулся он, несмотря на то, что настроение было хуже некуда.
Жандарм поморщился – арестант, а шутит! – и поплотнее обхватил затянутыми в перчатки руками свою саблю. После того, как Николая задержали на гатчинской улице и допросили в участке, этому жандарму было поручено заехать с преступником домой, вернее, к Косте Ладомирову, чтобы тот переоделся, а теперь он вез его в неизвестном направлении. Крестьянская одежда была уложена в пакет, пакет обвязан веревочкой и брошен под сиденье. К счастью, Никите удалось избежать следствия: Озарёв поклялся допрашивавшему его начальнику участка, что бродил по дорогам один, и ему, несмотря на протесты трактирщика, поверили: да и как было не поверить, если он не преминул напомнить как о своем происхождении (не у всякого семья со столь древними корнями!), так и о служении Родине во время Отечественной войны.
Наверное, тех, кто станет допрашивать его сегодня, убедить будет труднее. Ах, если бы ему удалось повидаться с Софи до ареста! Если бы жена его простила, он выдержал бы любые испытания с улыбкой на губах! Теперь же все, что он не успел сказать в свое оправдание, только давит на совесть тяжелым грузом…
Повозка остановилась, за стеклами задвигались тени, жандарм вышел первым. Спрыгнув за ним на снег, Николай увидел перед собой бесконечный фасад Зимнего дворца. Вот это честь! Но почему, почему его привезли сюда, а не в полицейский участок? Впрочем, он не пытался ответить себе на этот вопрос. Ему было все равно. Часовые, расставленные на одинаковом расстоянии друг от друга, охраняли подступы к зданию. На площади виднелись группы вооруженных людей, горели костры, переминались с ноги на ногу привязанные лошади, стояли пушки… Все это было похоже на укрепленный лагерь. Жандарм щелкнул каблуками, склонившись перед парой эполет, двумя пальцами прикоснулся к краю форменной фуражки: приказано было явиться… Не успев понять, что, собственно, происходит, Николай оказался окруженным солдатами с саблями наголо, и человек, похожий на адъютанта, сухо повелел:
– Пройдите!
Сразу после туманных сумерек – ослепительное чудо мрамора, зеркал, сияющих люстр… На широченной лестнице – офицеры в орденах, они бегают вверх и вниз с деловым, озабоченным видом. Толпа придворных в бело-золотой гостиной: тихий разговор по-французски. Головы тщательно причесаны, волосок к волоску – в воздухе ясно ощущается аромат дорогой помады. Едва Озарёва ввели, все взгляды обратились на него – будто глазами на абордаж брали. И он услышал:
– А вот и еще один предатель Отечества!
– Император проявляет излишнюю доброту, сам их допрашивая!
– Как подумаю о князе Трубецком…
Николай спросил у адъютанта:
– Князя Трубецкого арестовали?
– Да.
– А еще кого?
– Я не имею права с вами говорить. Оставайтесь здесь. Подождите.
Сопровождающий исчез, оставив Озарёва среди людей, чья ненависть ощущалась им физически: просто воздуха от этой ненависти не хватало. И тем не менее он, который совсем еще недавно с трудом выносил, когда его рассматривали, сегодня черпал силы в презрении ко всем этим интриганам.
Ждать пришлось долго, но адъютант, наконец, появился снова и отвел его в гостиную поменьше и потемнее – стены ее были завешаны картинами. Под большим холстом итальянского письма, изображавшим Святое семейство, сидел молодой еще человек в красно-золотом гусарском мундире. Николай узнал генерала Левашова. Перед ним, на ломберном столике, были приготовлены бумага, перья, стояла малахитовая чернильница, рядом с ней – вазочка, полная розовых конфеток-драже.
Коротко допросив новоприбывшего – в общем-то, только удостоверив личность, Левашов дружелюбно поинтересовался:
– С каких пор вы состоите членом тайного общества?
– Года два или три, – ответил Николай.
– И кто же ввел вас в эту среду?
– Никто! – Озарёв пожал плечами.
– Хотите, чтобы я поверил, будто однажды вам самому припала охота просто пойти да постучаться в дверь к Рылееву?
«Так… он знает, что Рылеев руководил нами…» – Сердце у Николая сжалось.
– Даже и не помню, как это было.
Левашов прижмурил глаз, словно прицеливался в неприятеля. В неприметном его лице интересна была только одна деталь: тонкие, тщательно завитые усы, кончики которых он время от времени накручивал на мизинец. «Салонный шаркун!» – с неприязнью подумал Николай.
– Но, может быть, вы о другом помните: например, о том, что ваш друг Ладомиров поселил вас у себя? – продолжал Левашов.
– Конечно.
– Он же не мог в таком случае не знать, что вы встречаетесь с заговорщиками!
– Почему не мог? – притворился удивленным Николай. – Он ничего и не знал.
А подумал при этом, что Костя, струсивший и предавший товарищей в последнюю минуту, не заслуживает, чтобы его выгораживали. Как всегда – храбрецы расплачиваются за трусов.
– Ну, а Степан Покровский? – снова заговорил генерал. – А Юрий Алмазов? А Кюхельбекер?..
Имена так и сыпались из его уст, но Николай и бровью не повел.
– Так как же? О них не желаете мне что-нибудь рассказать?
– Нет.
– Почему?
– Дело принципа.
– Не вам, предавшему вашего государя, говорить о принципах!
– Я не предавал его, ибо не приносил ему присяги!
– Есть еще время раскаяться и сделать это.
Николай опустил голову и сжал челюсти. Никогда раньше он не поверил бы, что так легко сумеет проявить благородство в совершенно безнадежной ситуации. Левашов склонился над бумагой, быстро записывая ответы Озарёва. Перо в генеральской руке чуть вздрагивало. Закончив, он перечитал текст, исправил несколько запятых и снова приступил к допросу.
– Скорее всего, вы станете отрицать, что 14 декабря находились на Сенатской площади среди мятежников?
– Нет, не стану. Находился.
– Следовательно, убийства генерала Милорадовича и полковника Штурлера произошли на ваших глазах…
– Да.
– Кто же в них стрелял?
– Не заметил.
– Вы защищаете банду убийц!
– Они не убийцы, поскольку действовали, исходя из политических убеждений.
К бледным щекам Левашова прилила кровь.
– Неужели безумные идеи нескольких французских философов вы почитаете более, чем священные законы, которые веками правят страной ваших предков? Неужели вы ставите Рылеева, Трубецкого или Пестеля выше императора, получившего власть от Бога?
– Император не получал власти от Бога.
У Николая перехватило дыхание, и он замолчал. В глубине комнаты распахнулась двустворчатая дверь – на пороге обозначился силуэт высокого крепкого мужчины, затянутого в мундир Измайловского полка. Царь! Матовое лицо, прямой нос, лысеющая голова, большие и выпуклые светлые глаза – как он напоминает тяжелую, неподвижную мраморную статую!..
– А я тебя знаю! – сказал царь. – Ты ведь десять лет назад вступил в Париж с нашей победоносной армией?
– Да, ваше величество! – ответил Николай, на которого, несмотря ни на что, произвели впечатление осанка царя и его безмятежное высокомерие.
– Перед тобою открывалась блестящая карьера. Но ты все потерял из-за глупости!
Говоря это, царь взял со стола протокол допроса, составленный Левашовым, рассеянно пробежал его взглядом.
– Просто-таки разговор слепого с глухим, – проворчал он, иронически улыбнувшись. – Наверное, я удивлю тебя, сказав, что мне нравится, как ты пытаешься выгородить своих товарищей?
– Ничуть не удивите, ваше величество! – отозвался Николай.
– Но мне ты можешь признаться во всем. Я выше злопамятства. Говори со мной, как говорил бы с отцом.
Озарёв сделал вид, что не расслышал. А думал он о том, какой дьявол навел царя на мысль самому, лично допрашивать каждого заговорщика по мере того, как их, одного за другим, доставляли в Зимний дворец… Разве монарх не утрачивает своего величия, становясь судьей в своем собственном деле? Тем более что этот, похоже, умеет менять маски с ловкостью ярмарочного фигляра! Только что он выглядел олимпийски спокойным, и вот уже черты его выражают одно лишь бесконечное великодушие.
– Благородные души восхищают меня, – снова заговорил император, – восхищают даже тогда, когда их увлекают дурные идеи. Каждый ведь может ошибиться. По моим сведениям, участие твое в заговоре было не слишком значительным. И я бы мог забыть о твоих заблуждениях, в случае, если бы ты захотел вернуться в армию…
Услышав это, генерал Левашов отложил перо и поднял на царя взгляд, в котором ясно читалось сомнение.
– Да-да, – продолжал между тем Николай Павлович, – ты бы мог взлететь довольно высоко, достаточно проявить честолюбие, способность прислушиваться… Впрочем, я готов простить и других заговорщиков – из тех, кого ты сочтешь нужным назвать…
Николай учуял ловушку и замкнулся, бросив в пустоту:
– Я уже сказал генералу Левашову, что никого не назову!
– Но теперь не генерал, теперь царь просит тебя об этом!
Наступила мертвая тишина. После долгой паузы государь, недовольный упорством виновного, нахмурил брови.
– Твоя супруга – француженка, не так ли? – спросил он.
Николай вздрогнул: оказалось затронуто самое уязвимое его место. Он пробормотал:
– Да, ваше величество.
– Это от нее ты набрался либеральных идей, которые и привели тебя к заговорщикам?
– Нет, ваше величество.
– Зачем ты лжешь мне?
Николаю было мучительно слышать, как Софи пытаются обвинить в совершенных им преступлениях: не решатся ли они и ее судить как участницу заговора? Теперь, когда их союз рухнул, мысль об этом показалась ему особенно тягостной.
– Как знать, велика ли роль женщин в серьезных политических конфликтах? – вздохнул царь. – Мне бы хотелось иметь побольше сведений о твоей жене…
– Она ни при чем, ваше величество, заверяю вас! – прошептал Николай. – Клянусь вам! Ей на этот счет вообще ничего неизвестно!
– Тем лучше, тем лучше… Наверное, тебе хотелось бы увидеться с нею?
Николай с трудом выговорил:
– Да, конечно, ваше величество!
– Ничего не может быть проще, если, разумеется, ты проявишь чуть-чуть меньше упрямства, говоря со мной. Впрочем, засвидетельствую-ка я тебе, пожалуй, прямо сейчас свое доброе отношение: можешь написать жене, я разрешаю. Здесь, у меня на глазах. Но – пятнадцать строк, ни на одну больше! Дайте бумагу и перо, Левашов!
Совершенно пораженный ходом событий, Николай стоял неподвижно, не в силах пошевелить пальцем. В первый раз с тех пор, как его привезли во дворец, он почувствовал себя не в своей тарелке, первый раз ему стало стыдно. Мог ли он признаться императору, что между ним и Софи все кончено? Левашов тем временем уже протягивал перо.
– Извольте!
– Нет, – отрезал Озарёв.
– Отказываетесь? – генерал посмотрел на него свысока. – А отдаете ли вы себе отчет в том, насколько дерзким выглядит ваше поведение? Кто вы такой, чтобы отвергать милость, оказанную вам императором?
– Я никто и не прошу ни о чем, – хмуро произнес Николай. – Делайте со мной что хотите, но писать я не стану.
– И подданный плохой, и супруг никуда не годный! – сухо сказал император. – Мало того, что ему не хватает принципов в общественной жизни, так еще и в личной – тем же грешит!
– Позабыл раньше сказать, ваше величество, – подсуетился Левашов, – что он, ко всему еще, переодевался мужиком, чтобы скрыться от нашего расследования!
Глаза Николая Павловича сверкнули, на лбу его надулась вена. Он закричал:
– Вам следовало так и оставить его в мужицком наряде! Пока уведите. Я еще поговорю с ним – потом!
Двое солдат препроводили Николая в соседнюю комнату и показали, на какую банкетку у окна сесть. Ледяным холодом тянуло от расписанного по итальянской моде потолка, от навощенного паркета. Один из солдат предложил другому табаку. Они оба взяли по понюшке, втянули, дружно поморщились и хором чихнули.
– Эх, друг, у тебя не табачок, а порох какой-то!
– Да уж, силен… Я в него подмешиваю щепотку мелко толченного стекла. Ну, и пробирает до самых глаз. Еще хочешь?
– Погоди, дай очухаться!
Николай попытался заговорить с караульными – они не ответили. Еще вчера они намеревались перейти в лагерь мятежников, а сегодня смотрят на своего пленника с суеверным страхом – будто он враг самому Господу. Озарёв вспомнил убитых 14 декабря: маленького флейтиста с разорванным животом, мальчика-рассыльного посреди рассыпавшейся сдобы, даму в большой шляпе с перьями и струйку крови, которая текла по ее лицу, островки льда, плясавшие в Неве, и людей, надеявшихся спастись, перебравшись на другой берег, а теперь вопивших от ужаса… Эти образы преследовали его. Какое наказание – помнить их всю жизнь! Наверное, так и будет… Николай с усилием вернулся в сегодняшний день. За дверью шел разговор: вероятно, император возобновил допросы. Не обращая внимания на надзирателей, Озарёв встал и прислонился к дверной раме, чтобы лучше слышать. До него долетали лишь обрывки фраз. Допрашиваемые сменяли друг друга в нескольких шагах от него, но ему не удавалось никого узнать по голосу. К каждому царь находил особый подход, он напоминал актера, которому подвластны любое амплуа, любой жанр и который демонстрирует это, желая доказать, сколь велик его талант.
– Вы – потомок столь знатного рода, как же вы могли позволить себе якшаться с подобными тварями? – печально говорил он одному.
– На колени! – кричал другому. – И вам не стыдно? Ну-ка быстро пишите все, что знаете! Может быть, этим заслужите разрешение увидеть вашу жену и ваших горячо любимых детей!..
Или – так:
– Поверь, я страдаю из-за того, что вынужден наказать тебя, но, увы, это необходимо! Император воплощает в себе Закон, и моя судьба не менее плачевна, чем твоя… Станем молиться друг за друга: ты за меня в темнице, я за тебя – на троне…
Если речь императора чаще всего была хорошо слышна, то ответы заговорщиков различить было трудно: все они говорили шепотом – будто на исповеди у священника. Дважды Николай услышал в вопросах царя собственное имя.
Часом позже за ним снова пришел адъютант. Те же два солдата отконвоировали узника в гостиную, где император ходил взад-вперед мимо столика, за которым что-то писал Левашов.
– Отлично, – смерив Николая взглядом, сказал царь. – Ну и как, ты подумал?
– О чем, ваше величество?
– О риске, которому подвергаешь себя, упорствуя в молчании. Большая часть твоих товарищей пытается искупить вину откровенными признаниями. Если ты не последуешь их примеру, судьба твоя будет ужасна!
– Я не боюсь смерти, ваше величество! – ответил Николай.
– А кто тебе говорил о смерти?! – взревел император. – Знаешь, чего ты заслуживаешь? Думаешь, тебя казнят, так будешь интересен? Нет, я тебя попросту в крепости сгною!
Николай даже не подумал ответить: угрозы царя казались ему такими же фальшивыми, как его обещания. Никогда еще скорбь о провале революции не была в нем такой острой.
– Извольте подписать ваши показания, – Левашов протянул Николаю заполненный лист бумаги.
Озарёв бросил взгляд на протокол допроса, но терпения прочитать его до конца не хватило, и он без задержки поставил внизу росчерк.
* * *
У дверей Зимнего дворца его ожидала та же повозка с тем же жандармом. Стекла были матовыми, но все-таки ему удалось быстро определить маршрут, по которому его повезли. Копыта лошадей стучали глухо – значит, под ногами у них деревянный мост через реку. А теперь – каменная мостовая, вон какое эхо… Нет никаких сомнений: они едут в Петропавловскую крепость. Ступив на землю, Николай увидел перед собой заснеженный двор, окруженный высокими каменными стенами, посреди него небольшое строение. Жандарм провел его в вестибюль с голыми стенами. Из-за центральной двери вышел генерал, припадая на деревянную ногу. Седые волосы, подстриженные ежиком, толстый живот выпирает из-под зеленого сукна мундира. Бахрома эполет редкая – буквально через один не хватает шнурочков, да и золото на них совсем потускнело от времени.
Мрачно глядя на новоприбывшего, старый вояка представился:
– Комендант крепости, генерал от инфантерии Сукин, – и, указав пальцем куда-то назад, сказал: – А это моя правая рука, плац-адъютант Подушкин.
За его спиной маячил персонаж с помятым круглым старушечьим личиком без всякой растительности, с раздавленным в лепешку носом. Пухлый подбородок этого странного существа был выложен тремя крупными складками на оранжевом воротнике его мундира.
– Извольте последовать за мной в свою камеру, – прошелестел Подушкин и поднял вверх мешок из грубой толстой ткани.
– А это еще что? – спросил Николай.
– Простая формальность.
Мешок был наброшен узнику на голову, теперь он ничего не видел. Подушкин взял Николая за руку и повел его, говоря почти без умолку и выдерживая при этом любезный тон хозяина гостиницы, намеренного показать гостю приготовленный для него номер:
– Вот сюда… осторожно, тут ступенька… теперь повернем направо… потихонечку-потихонечку, здесь очень скользко…
Они выбрались на свежий воздух, прошли по обледенелому мостику, и Николай почувствовал, что запахло подземельем.
Два человека, скорее всего, из тюремной стражи, двигались следом за ними. Одна из плиток, которыми был вымощен пол, отстала и шаталась. Николай споткнулся, и Подушкин, ухватив его за талию, весело сказал:
– Гляди-ка, на этом месте все спотыкаются!.. Еще чуть-чуть терпения… Вот мы и на месте!..
Он стянул с головы Николая мешок. Николай зажмурился: дым от факела ел глаза. Перед ним простирался коридор со множеством дверей, весьма основательно запертых. Именно так он всегда представлял себе казематы, тюрьму – давно представлял, еще в детстве… У тюремщика, точь-в-точь так, как рассказывали в романах и легендах, на поясе висела связка ключей. Он выбрал один, сунул его в замочную скважину, повернул, затем толкнул тяжелую створку из окованного железом дерева, и та, скрипнув, нехотя поддалась.
Камера, куда привели Озарёва, была с низкими сводами, размером пять шагов на три, никак не больше. Из зарешеченного окошка, стекла которого, кроме самого верхнего, были густо замазаны мелом, проливался тусклый свет. На выкрашенной в зеленую краску кровати, составленной из нескольких соединенных между собою железными полосами досок неодинаковой толщины – грязный соломенный тюфяк и госпитальное одеяло. В углу – деревянная кадушка, из которой нестерпимо воняет застарелой мочой и нечистотами. Стула нет, к ножке хлипкого, вот-вот упадет, стола цепью прикована колченогая табуретка, да стол и сам вроде бы прикован к стене. Тюремщик зажег ночник – фитиль, плавающий в плошечке с маслом: поднялась копоть, сразу проникшая в нос и грудь, дрожащий огонек бросил на потолок неяркий блик, какие бывают от церковных лампад. Холод и сырость пронизывали насквозь. Николай хотел было поднять воротник шинели, но Подушкин задержал его руку:
– Не утруждайте себя понапрасну! Мы обязаны забрать у вас одежду. Вам дадут другую – более соответствующую вашему положению.
И, встав к Озарёву почти вплотную, ловкими движениями опытного мошенника принялся шарить по его карманам. Все, что там было найдено, личные вещи заключенного, а именно – часы, перочинный нож, мелкие монетки и записную книжку, Подушкин мгновенно изъял, описал и завернул в носовой платок, заверив:
– Вы все это получите назад, когда придет время.
Николай разделся, и надзиратель принес ему длинный серый халат, который белые, не слишком ровно намазанные поперек, полосы делали очень жестким: ткань, и без того грубая, от них и вовсе стояла колом. Арестант с отвращением натянул робу на свое белье и переобулся в стоптанные арестантские башмаки. Подушкин растроганно оглядел его и сказал:
– Надо же, как вам все подошло! В точности ваш размер – отлично выглядите! Сидит, как влитое!
«Интересно, он идиот или зверь?» – подумал Озарёв. Ему не терпелось остаться одному, однако стоило коменданту и надзирателю удалиться, а ключу дважды повернуться в замке, одиночество навалилось на узника так, что показалось, будто он совсем потерял равновесие. Тишина была такая, что у него даже в голове зазвенело. Николай принялся осматривать камеру. Черная линия на мутно-зеленой, давно облупившейся стене обозначает, вероятно, уровень, до которого поднималась вода во время последнего наводнения. Все углы затянуты паутиной. По щелям между плитками пола озабоченно снуют тараканы, внезапно исчезают, но тут же и появляются снова. Взяв в руки ночник и присмотревшись к стенам, узник обнаружил несколько нацарапанных гвоздем фамилий – они были ему неизвестны – и какие-то даты… Вот и все, что осталось от несчастных людей, брошенных в эту темницу… Но ведь каждый из них, будь он преступник или ни в чем не повинен, точно так же чувствовал потребность жить, участвовать в движении мира вперед, как и сам Николай!
– А теперь всему конец… – прошептал он.
Мрак, сырость… Узник вздрогнул всем телом. Еще не поняв, что с ним происходит, разразился рыданиями: упал лицом в подстилку и плакал, плакал, плакал, вдыхая горький запах плесени, гнили и испражнений. Острые соломинки, пробившись сквозь ткань, покалывали ему щеки. Но боль в сердце была куда сильнее: что могло быть на свете хуже этого ареста в то самое время, когда ему так нужно было отправиться в Каштановку, чтобы спутать карты отца и вновь завоевать Софи! Он совершенно беспомощен, его голоса отсюда она не услышит, значит, ему остается только бессильно терпеть муки человека, оклеветанного в глазах любимой жены, как раз тогда, когда нужнее всего было бы иметь ее союзником! Если государство не сочтет необходимым сообщить семьям имена осужденных, Софи даже и не узнает, что он арестован, решит, что он с легким сердцем согласился на развод, и, может быть, вернется во Францию с этим ужасным убеждением. Он припомнил письмо Михаила Борисовича – впрочем, он и не забывал его, выучив наизусть, прежде чем сжечь. Каждое слово гнусного послания имело одну цель – заставить его страдать. «Как отец ненавидит меня! Но за что? Что я ему сделал? И разве есть у меня сейчас более злобный враг, чем человек, имя которого я ношу?» Мысли об отцовской ненависти, о гибели сестры, о разладе с Софи, о кровавом исходе революции, аресте, тюрьме беспорядочно кружились в голове, путались, оседали непосильным грузом. У него не было даже возможности оценить каждое из событий отдельно – в соответствии с его действительным значением. Увлекаемый ими, словно потоком лавы, он ощущал только, что катится все ниже, ниже, что ему плохо, что он окунается в ночь и что силы его слабеют по мере того, как все ускоряется это кошмарное скольжение в бездну. Слезы кончились – им овладела беспредельная тупость. Встал, принялся кругами ходить по камере. Вид голых, покрытых мокрицами, стоножками и какими-то еще неведомыми гадами стен вызывал у него состояние, близкое к опьянению. Он снова рухнул на подстилку и уснул мертвым сном.
* * *
На рассвете Николая разбудил тщедушный и весьма пожилой инвалид, увешанный медалями, в одной руке которого был огромный чайник, а в другой – кусок сахара и горбушка черного хлеба. Старик кашлял, надрывая впалую грудь. Челюсть слева у него была сломана – не хватало куска кости в подбородке, и омертвевшая кожа мешочком свисала под усами.
Он принялся наливать в стоявшую на столе жестяную кружку бледный чай. Николай спросил:
– А который теперь час?
Инвалид, казалось, испугался неуместного вопроса.
– Не могу знать. Извольте подождать, пока пробьют часы на соборе.
– Как тебя зовут?
– Не велено говорить!
– А где тебя ранили, можешь сказать?
– Под Парижем. – Инвалид вытянулся, словно в строю.
– Я тоже там был, – грустно улыбнулся Николай. – Лейтенант Озарёв, гвардия Литовского полка.
– А я – бывший гренадер… Тоже из гвардии…
– Значит, твоя фамилия Попов?
– Нет, Степухов! – тут же возразил старик и сразу понял, что его обвели вокруг пальца, укоризненно покачал головой и продолжил печально: – Нехорошо, ваше благородие!
– Никто не узнает, – ответил узник. – Скажи, а соседи у меня тут есть?
Степухов подозрительно посмотрел на него и сделал шаг к двери.
– Ты куда?
– Вы заставляете меня делать глупости, – проворчал старик. Но по глазам ветерана видно было: человек этот на самом деле милый, смиренный, что, впрочем, немедленно и было доказано. У самого порога он вдруг решился.
– Да, да, да, – быстро зашептал Степухов, – множество соседей, все камеры у меня тут заняты. И везде одни только молодые, полные сил люди – такие, вроде вас. Сердце разрывается, как посмотришь на них! Помилуй, Господи, тех, кто грешит, и тех, кто их приговаривает!
Николая переполняла нежность. Старик ушел, но осталось ощущение, что теперь у него появился друг, верный, как собака… Славный пес с лохматой шерстью и преданным взглядом… Однако, покончив со скудным завтраком, он стал терзаться бездельем. Время текло удручающе медленно, и при полном отсутствии того, чем можно было бы заняться, это нестерпимо изматывало. В коридоре, видимо, затопили печку – кусок железной трубы, проходившей по верху его камеры, местами покраснел, раздался легкий треск. Голове стало жарко, ноги по-прежнему стыли. На всякий случай он постучал кулаком в стену. Никто не отозвался. Можно подумать, он один во всей крепости! Но Степухов ведь сказал, что арестованных много, «и везде одни только молодые, полные сил люди – такие, вроде вас…» Озарёву представилась – как если бы перед ним стояло множество зеркал – сотня одинаковых Николаев, сидящих на нарах с понурой головой, каждый в своей камере. Лучше бы он родился простым рабочим, лучше бы он родился мужиком – ему куда легче было бы смириться со своею судьбой! Привыкший к тонкому белью, к мягкой постели, к изысканной кухне, к дружеским отношениям с окружающими, он чувствовал себя потерянным здесь, где царили только жестокость, уродство и лишения. Ни единого предмета, на который можно взглянуть без ужаса! Дотрагиваясь до досок, из которых была сколочена кровать, или до ручки кувшина с водой, покрытого жирной лоснящейся грязью, он испытывал ощущение, что грязь эта проникает ему до костей. Из открытой кадушки несло чудовищной вонью: надзиратель не успел вылить ее отвратительное содержимое. Мысль о том, что теперь он неотделим от всей этой гадости, укрепляла ощущение краха. Сможет ли его душа воспарять, если достаточно просто вдохнуть здешний воздух, чтобы вспомнить: его окружает гниль, и он сам гниет, гниет, ему остается только сгнить окончательно!
Арестант встал и снова заходил по камере – быстро, как будто у него появилась цель, которой необходимо достичь нынче к вечеру. Пять шагов от окна до двери, поворот налево, три шага от кровати до вонючей кадушки, снова поворот налево и снова пять шагов до противоположной стены, а теперь поворот направо – и прогулка продолжается в обратном направлении. Вдруг что-то сверкнуло у него под ногами, в щели между плитками пола, – он резко остановился, нагнулся посмотреть. Серебряная пуговица от его жилета! Должно быть, оторвалась, когда он переодевался вчера. Поднял… Находка растрогала его, глубоко взволновала. Когда-то он не смог бы ответить, какой рисунок выгравирован на этом кусочке металла, а вот теперь стал вглядываться в узор из волнистых пересекающихся линий, как влюбленный в строчки письма от подруги. Ему на ладонь только что легло все, что осталось у него от прежней, свободной жизни, от его мира. Слезы застилали глаза. Чувствительность – как у тяжело больного. Николай сунул пуговицу в карман и решил забыть о ней, но не прошло и десяти минут, как он уже снова вглядывался в эту реликвию.
Пробило полдень – в камеру проник запах прогорклого сала. Степухов принес миску жидкой каши и капусту. Николай от еды отказался.
– Унесите! – только и бросил он, уткнувшись носом в стену.
Но часа четыре спустя голод стал так силен, что голова разболелась. Он вскочил и, подбежав к двери, стал сильно стучать, надеясь привлечь внимание надзирателя. Степухов, побранившись, согласился тем не менее принести ему остаток варева из гречки. Но каша оказалась совсем холодной, а о том, чтобы разогреть ее на кухне, и речи быть не могло.
– Ладно, сойдет! – сказал Николай.
Ложка застыла в этой гадости – словно приклеилась. Отодрал с трудом и принялся жадно глотать, ощущая, как в желудке разрастается ком чего-то тяжелого, неудобоваримого. Поел и опять заходил по своему застенку. Пять шагов туда, три сюда… И завтра то же самое, и послезавтра… Ну и как это может заполнить жизнь? В нем прорастало глубокое беспокойство, граничащее со страхом, и казалось уже, будто оно глухо рокочет, подобно морю… Николай быстро достал пуговицу и стал перекидывать ее из ладони в ладонь: словно играю со звездой, подумалось ему. Этот темно-вишневый жилет сшил ему портной Кости Ладомирова. Он вспомнил, как примерял жилет, вертясь перед зеркалом и придираясь к каждой морщинке. Но остался доволен работой и заказал еще один – синий на семи пуговицах. Его должны были привезти к концу недели…
В сумерках тараканы оживились, и столько их наползло к поганой кадушке, что весь угол оказался заполнен суматошливыми черными панцирями. Исходящее из угла шуршание было похоже на шорох, какой издает смятый лист бумаги. Николай, пройдя вперед, стал давить насекомых. Нескольких грубым башмаком раздавил. Звук из-под подошвы слышался каким-то двойным: сразу и сухим, и сочным. Однако эта массовая бойня в полутьме показалась узнику такой отвратительной, что его затошнило, и он отказался от мысли о ней. Когда явился Степухов со светильником, тараканы и сами быстро убрались в свои щели, а трупы охранник вымел в коридор.
– Да не злые они, – приговаривал старик. – Их даже противнее убивать, чем жить с ними…
4
Утром, совершая из необходимости размять ноги ставший уже привычным моцион по камере, Николай заметил, что у него родилось новое ощущение: как будто он не ходит по кругу, по собственным следам, а двигается вперед длинной дорогой с крутыми поворотами и за каждым из этих поворотов его ждет неожиданное. Но на самом деле переменился не пейзаж – переменился он сам. Счастливый, свободный, легкий человек, каким он был, остался в далеком прошлом, в невероятном прошлом. Утонул, растворился в прошлом, вместе с прошлым. И, чтобы выжить, нужно сопротивляться притягательной, но безнадежной прелести воспоминаний. Согласиться стать другим. Совсем новым человеком, родившимся в тюрьме, родившимся сразу тридцатиоднолетним. Тогда все покажется гораздо проще. Заключение убавляет желаний, аппетитов, даже страхов: здешние порядки этому способствуют. Разве что попытаешься иногда помечтать о внешних соблазнах – так, в надежде, что возьмет да и выплывет из глубин мозга какая-то возможность развлечься, отвлечься, рассеяться, вдруг случится такое… Но тут же и понимаешь, что лучше не растрачивать своих запасов, лучше приберечь их – как будто ты находишься в осажденном городе. Как будто ты сам – такой город. Ты становишься своим единственным другом, своим единственным врагом, своим единственным судьей, своей единственной аудиторией. Но может быть, когда-нибудь все это позволит даже почувствовать себя счастливым? Хотя бы в какой-то мере… Ох нет, несмотря на твердую решимость собраться с мужеством, вот в это Николаю страшно трудно было поверить.
Он достал из кармана серебряную пуговицу и с нежной укоризной всмотрелся в находку. Она, пуговка эта, настоящий символ всех его слабостей. Сверкает, так дерзко сверкает в этом мире, где ей совершенно нечего делать! Она – помеха, она – отрицание, она одна мешает своему владельцу до конца почувствовать себя пленником. Внезапно ему захотелось избавиться от жилетной пуговицы. Попытался выбросить ее сквозь щель под дверью. Не удалось: не прошла по толщине, откатилась к нему обратно. Николай наступил на нее, надеясь сплющить. Наступал снова, снова. Ударяя пяткой по пуговке, всякий раз ощущал острую боль – подошва башмака была истерта. Конечно же, проще было позвать надзирателя и отдать ему пуговицу, но – лень… лень… Отказался и от этого намерения.
Потом его снова охватила дикая жажда деятельности, и он стал добивать несчастную серебряшку. Дохромав до центра камеры, почувствовал, что завершил какое-то важное дело: после часа работы пуговица и впрямь сплющилась и могла теперь скользнуть под створку. Николай разогнулся – весь в поту, донельзя усталый, бормоча: «Вот и прекрасно… вот и прекрасно…»
Затем нужно было облегчиться в кадушку. Всякий раз это становилось для него событием дня – он думал о своей естественной потребности заранее, нарочно тянул время… Ужасный запах, как всегда, поразил его, тошнота подкатилась к горлу… Поистине эта несчастная кадушка достойна стать монументом, взывающим к стыду и совести человечества!
Николай улегся на подстилку, заложив руки под голову. Ему безумно захотелось почитать хоть какую-нибудь книгу. Все равно какую! Любую! Лишь бы переворачивать страницы, лишь бы вдыхать легкий аромат типографской краски, погружаться в историю – настоящую или вымышленную, плыть из страны в страну, из века в век, следить за причудливым, зигзагообразным развитием философской идеи… Он попытался припомнить романы, которыми увлекался в юности, стал цитировать про себя обрывки стихотворений, что-то подсчитывать… Время от времени в прорезанном и зарешеченном окошке на двери мелькал взгляд кого-то из охранников. Тараканы собирались вокруг плошки с водой.
«Вот и прекрасно, – снова подумал Озарёв, – вот я и в согласии с самим собой. Теперь у меня нет ни изысканных привычек, ни утонченных вкусов, ни оригинальных идей – я отказался от всего этого, отверг все это. Я вполне приспособился к жизни арестанта…» Но не прошло и пяти минут, как он снова вспомнил Софи, твердость покинула его, нервное возбуждение утихло – и все началось сначала.
* * *
Прошло еще недели две, однако время не вносило никаких изменений в жизнь Николая. Присутствие тараканов и прочей нечисти больше не тревожило и не раздражало. Подумал как-то, что неплохо бы побриться, спросил, оказалось – запрещено уставом. Зеркала посмотреться у него не было, и он попробовал представить себе, как выглядит, проведя рукой по щекам. Ну и щетина! Заросли и щеки, и подбородок зарос, а лицо, похоже, осунулось, под кожей кости выпирают… Он опустил голову – шею царапает, будто скребком. От капельки воды, которую ему приносили для умывания, нестерпимо несло то ли кислым, то ли тухлым. Но и к грязи, и к зуду, и к голоду, в конце концов, можно привыкнуть, даже довольно легко… Забавно, что эта нищета, в которую его погрузили с головой, в какой-то мере даже ободряет, живительная она, что ли… Ну да, в несчастье ведь, перенося его достойно, проникаешься уважением к себе самому. А может быть, он из числа людей, которым нужны страдания, чтобы обрести смысл жизни? Может, в нормальных условиях существование само по себе ему не интересно? Ход времени здесь отмечали надтреснутым бронзовым голосом часы Петропавловского собора, потом начинался колокольный перезвон. Чтобы не потерять счет дням, Николай каждый вечер приклеивал комочек черного хлеба к стене – у изголовья постели. Крысы, наличие которых он обнаружил еще в самом начале пребывания тут – по писку и по тому, как животные скребли острыми когтями камень, – решились, наконец, нанести ему визит. Это оказались водяные крысы – серые шкурки отливали рыжим, и шерсть была очень густая. Сперва он испугался и их величины, и их численности, но потом решил, что, раз уж не удастся от них избавиться, нужно привыкнуть к тому, что отныне они живут вместе: оставлял им крошки после еды, и только тогда, когда уже не было ничего съестного, швырял в них башмаком, чтобы оставили его в покое. Как ни странно, крысы быстро осознали все преимущества этого modus vivendi[2] и, как только хозяин камеры их выгонял, мигом убирались по норам. Среди них были старые, молодые, самки, самцы… Николай развлекался тем, что давал животным имена, стараясь распознавать, где тут кто. Ночами ему случалось проснуться от взгляда: в темноте, совсем рядом с его головой, сверкали бусинки маленьких глаз. Забавно, но раздражало это куда меньше, чем привычка надзирателей следить за ним в окошко. Со Степуховым тюремщиков насчитывалось трое, и они поочередно занимались арестантом. Передвигались они бесшумно, и невозможно было ни двинуться, ни кашлянуть так, чтобы не привлечь их внимания: тут же приподнималась зеленая тряпка, прикрывающая отверстие в двери, и око циклопа ощупывало камеру. Там, в мире свободных людей, порой слышались перешептывания, однажды Озарёву почудилось даже, будто он узнает голос царя. Но он сразу понял, что ошибся, потому что у императора всея Руси хватает дел и кроме того, чтобы шпионить за своими арестантами. На всякий случай спросил Степухова, тот почему-то вздрогнул, смутился и наотрез отказался отвечать. Но что это доказывает?
Сидя на нарах, Николай все перебирал и перебирал в памяти подробности своего допроса в Зимнем дворце, пытаясь оживить таким образом ненависть к монархии и ожесточить характер в предвидении грядущей борьбы с ней. Но вместо этого в нем постоянно возрождалось воспитанное с юности стремление поставить себя на место противника и посмотреть на события с его точки зрения. Сам факт, что император лично занимался каждым из заговорщиков, доказывал только одно: насколько он растерялся, пусть и победив, перед масштабом раскрытого им заговора. Поэтому по отношению к людям, осмелившимся замахнуться на десять веков русской истории, он, скорее всего, испытывал какое-то странное смешанное чувство: тут были и гнев, и презрение, и жалость, и даже болезненное любопытство. И ему хотелось именно от них, еще не остывших после совершенного ими преступления, добиться объяснений – пусть сами скажут, что являет собой тот кажущийся ему невероятным, немыслимым феномен, которым стал мятеж на Сенатской площади 14 декабря. Самым удивительным, наверное, царю казалось, что большая часть этих новых якобинцев хорошо ему знакома: офицеры его армии, все из хороших семей… теперь ему мнилось, что доверять нельзя уже никому, что любая тень отныне должна вызывать подозрения… И все средства хороши, чтобы проверить свои догадки, проникнуть в сознание заговорщиков, понять, наконец, что у них на уме.
Николай подумал, что, вполне может быть, он и сам на месте царя не смог бы действовать иначе. Но одна только мысль об этом тотчас привела его в раздражение. «Вот что случается, если даешь волю фантазии! – с досадой сказал он себе. – Нет, не дело человека, замыслившего революцию, разбираться в причинах такого или другого поведения противника. Соотнести себя с ним даже на минуту-другую означает простить ему все и простить навеки. Сильный человек не тот, кто подобно эху отзывается на всякий оклик, а тот, кто отказывается верить, будто на свете существует иная правда, кроме его собственной». Вдруг ему пришло в голову, что они с императором тезки, и стало смешно, он улыбнулся. Верно-верно, у них у обоих день ангела – 6 декабря. Вспомнилась их первая встреча – во Франции, в лагере под Вертю. Рядом с императором Александром I, поздравлявшим Озарёва с его предстоящей женитьбой на Софи, стоял тогда великий князь – молодой, элегантный, надменный… Одни образы сменились другими: теперь перед Николаем стоял уже не великий князь, а царь, а перед царем – не блестящий офицер Литовского полка, а отвратительный узник. Боже, Боже, все потеряно! В ту ночь он видел Софи во сне настолько ясно, что, открыв глаза, удивился, что жена не сидит у его изголовья.
После завтрака Степухов провел к нему в камеру молодого одетого с иголочки офицера, который держал в руке пакет, скрепленный черной восковой печатью.
– Это вам, – сказал посетитель. – От следственной комиссии.
Офицер повел носом и нахмурился: запах от кадушки был невыносим. Но Николаю не стало стыдно.
– А что там такое? – поинтересовался арестант. – Приказ идти по этапу?
– Нет, вопросник, – ответил офицер. – Будьте любезны заполнить, а завтра в это же время я приду за ним. Вам дадут перо и чернила. А что касается бумаги, то тут вам хватит места. Черновики запрещены.
– Почему?
– Потому что ответы заключенных не должны быть приготовлены заранее, они должны идти из сердца.
Гость щелкнул каблуками и исчез. Николай сорвал печать, развернул бумагу. В списке оказалось тридцать пунктов. Все то же или почти то же, чем интересовались Левашов, а потом царь во время первого допроса: «Когда вы вступили в тайное общество?», «С кем из заговорщиков вы поддерживали отношения?», «Знакомы ли вы с какими-либо проектами конституции?»… Сначала он решил не отвечать вообще и отложил документ, но тут вмешался Степухов.
– Если не ответите, ваше благородие, вас отправят на гауптвахту или того хуже!
– Что – «того хуже»?
– В каменный мешок… такая яма под землей, она досками прикрыта, и оставлено только маленькое отверстие. Внизу жить куда ужасней, чем тут: ничего не видать, задыхаешься…
Николай рассмеялся, но смех вышел горький. Внезапно перспектива «каменного мешка» показалась ему привлекательной, возникло желание испытать себя, дойдя до самого края, чтобы понять, где предел несправедливости. Но затем он решил, что лучше послужит общему делу и вернее запутает следствие, если не станет отбрасывать все чохом, а наоборот, будет отвечать хитро, используя любую уловку, чтобы не сказать правды. И принялся за работу. Если чувствовал ловушку, использовал уклончивый ответ: «не знаю», «не слышал об этом»… И, наоборот, всякий раз, как от него требовалось изложить цели их объединения, рьяно вставал на защиту своих политических идеалов. После фразы: «Каким образом революционеры привлекали новых сторонников в свой лагерь?» – он написал целый монолог. «Когда наша победоносная армия вернулась из Франции, не оказалось в ней ни единого офицера, достойного этого звания, который не ощутил бы стыда, увидев, под каким гнетом находится его собственная страна. Все те, кто под водительством славного Александра I воевали с Наполеоном, стремясь, пусть даже ценою своей крови, своей жизни, вернуть свободу Европе, сразу же поняли, что им самим в такой же свободе отказано. Познакомившись с условиями жизни за границами России, они сочли нормальной и естественной попытку объединиться ради того, чтобы дать родине конституцию».
Озарёв с удовольствием перечитал свой текст. Отличный выпад против господ из следственной комиссии! Жаль только, что он не увидит их физиономий, когда они станут знакомиться с документом! Привычным уже жестом Николай погладил бородку: растет, колется… Однако и такой – заросший щетиной, грязный и изможденный – он все равно куда сильнее всех этих генералов вместе взятых.
Назавтра ближе к полудню тот же элегантный офицер вошел в камеру, взял у Николая вопросник, спрятал его и удалился, сказав перед тем Степухову:
– К чаю дадите ему сегодня белого хлеба.
Николай, которому, в общем-то, и черный был не так уж противен, задумался, что бы означала подобная милость.
А старик, видимо, догадался о его раздумьях и прошептал:
– Это только начало. Если станете хорошо себя вести и скажете все, что знаете, вас будут содержать еще лучше. Может быть, позволят даже переписываться с семьей…
Софи, Софи, он снова думал о ней! Он отказался писать ей во дворце, чувствуя на себе пристальные взгляды императора и Левашова, но он сгорал от желания открыться ей, исповедаться теперь, когда находился в заточении. И допоздна выстраивал мысленно в строчки слова, в которых лучше всего отразились бы и его любовь к ней, и его стремление перед нею оправдаться.
Посреди ночи Николая разбудило звяканье ключей, но сейчас же пришлось зажмуриться: вся камера была ярко освещена факелами. Тараканы исчезли. Николай вскочил на ноги. Перед ним стояли генерал от инфантерии Сукин со своей деревянной ногой и луннолицый плац-майор Подушкин. Тут же находился и надзиратель – в корзине, которую тот держал в руке, были сложены одежда и обувь Озарёва, конфискованные у него в день ареста.
– Переоденетесь и пойдете с нами, – сказал Сукин.
«Куда? Куда вы поведете… повезете меня?!» – едва не закричал Николай, но из гордости сдержался. А в не совсем проснувшемся мозгу его заворочались тяжелые, как жернова, мысли – все о трагическом исходе. На казнь, в руки палачей, в карцер… каменный мешок, по этапу в Сибирь, на пытки… вот куда! Часы на кафедральном соборе пробили два раза – два часа ночи. Он прикрыл глаза, слюна стала вязкой, в пустом желудке заурчало. Узник принялся неловко натягивать на себя вещи – а он и забыл, какие они мягкие, тонкие, легкие… Увидев снова свой темно-вишневый жилет, на котором теперь не хватало одной серебряной пуговицы, грустно улыбнулся. Незнакомый тюремщик завязал ему черной тряпкой глаза, накинул на голову мешок. Так же, как в день прибытия в крепость, Подушкин взял его за руку и повлек за собой. После долгого перехода по коридорам на него сквозь покрывавшую лицо ткань мешка пахнуло холодом и свежестью ночного зимнего воздуха. Дыхание перехватило. Господи! Если бы он мог сорвать с себя эту мерзость, покатиться прямо в снег, насладиться притоком кислорода в измученные легкие!
– Вперед, вперед!
Его подтолкнули в спину. Он преодолел лестницу – и оказался среди тепла и шорохов населенного помещения.
– Садитесь, – приказал Подушкин, снимая с головы арестанта мешок и повязку.
Николая поместили теперь за зеленой ширмой, по-прежнему под охраной двух солдат. В прореху было видно, как вошли еще трое заключенных – тоже с эскортом. Поскольку у них на головах оставались мешки, понять, кто это, оказалось невозможно. Впрочем, минуту спустя и они скрылись за ширмами. Наверху, видимо, по балкону или галерее, ходили, позвякивая шпорами, офицеры, они громко разговаривали, шутили, смеялись, не обращая внимания на узников, хотя некоторые наверняка были когда-то, и не так уж давно, их товарищами по оружию.
Прошло минут десять, Подушкин вывел Николая из укрытия и снова двинулся с ним куда-то. Стуча каблуками и звеня ножнами, конвойные шли сзади на расстоянии в шаг, не больше. Пересекая комнату, напоминавшую гостиную, Озарёв вдруг оказался перед Ипполитом Розниковым – ну, просто нос к носу! Старый приятель разглагольствовал о чем-то, сидя в центре группы одетых в мундиры людей. Их взгляды встретились, но в лице Ипполита ничто не дрогнуло, он и бровью не повел: смотрел на бывшего друга холодно, как будто на незнакомца, на чужого… Николай проглотил бешенство и прошел мимо. Перед следующей дверью пришлось подождать. Затем оттуда раздался голос:
– Введите Озарёва!
В небольшой комнате, за столом, покрытым красным сукном, Николай насчитал десять человек: видимо, члены следственной комиссии. И подумал: «Совет Десяти, совсем как в Венеции…»[3] В свете тяжелых канделябров позолоченного серебра мерцали и вспыхивали искры на эполетах и аксельбантах, посверкивали ордена… было похоже на рыбью чешую… Среди собравшихся были младший брат императора великий князь Михаил Павлович, начальник Генерального штаба генерал Дибич, военный министр Татищев, действительный тайный советник Голицын, генерал Левашов, генерал Чернышев, генерал Бенкендорф, генерал Голенищев-Кутузов… Надо же, какое великолепие, какое сборище знати в этом органе дознания, созванном нынче для него одного!
Ему задавали вслух те же вопросы, что письменно, и он старался, чтобы ответы не отличались от прежних. Наиболее хитрым и изворотливым показал себя генерал Чернышев: лицо у него было бело-розовое, накрашенное, брови выщипанные, на голове – каштановый парик с туго завитыми, как овечье руно, локончиками.
– Нам известны имена главных участников заговора, и, если вас пригласили сюда, то только затем, чтобы дать вам возможность откровенными признаниями смягчить свою вину, – сказал Чернышев.
– С какой стати я должен верить вам? – отозвался Николай.
– Хотя бы в силу этого! – генерал протянул ему список из многих фамилий.
Одного взгляда оказалось достаточно: тут были Рылеев и Пестель, Кюхельбекер и братья Бестужевы, Каховский и Голицын, Пущин, Якубович, Трубецкой, Муравьев-Апостол… Руководители и члены Северного общества, руководители и члены Южного общества – тут были все! Значит, восстание на Юге тоже провалилось или даже не успело начаться… Но немыслимо же, чтобы полиция нашла столько заговорщиков только собственными средствами! Их выдали предатели, тут дело в предательстве, это точно!
– Ну и как, убедились теперь? – спросил Чернышев.
Николай не ответил – во рту словно высохло все, язык стал большим и шершавым.
– Ваши товарищи в своих показаниях утверждают, что вы присутствовали на последнем собрании тайного общества, которое состоялось в ночь с 13-го на 14 декабря, – возобновил попытки разговорить арестанта Чернышев.
– Был! – с вызовом бросил тот.
– Припомните, как вел себя тогда князь Трубецкой. В частности – стоял ли он за мятеж или был против него.
– У меня сохранились более чем смутные воспоминания о той ночи.
– Надеюсь их оживить и уверен, что, скорее всего, так и произойдет, стоит вам услышать вот это сообщение. Князь Трубецкой, назначенный вами «военным диктатором», вместо того, чтобы присоединиться к товарищам на Сенатской площади, как обещал ранее, бродил по соседним улицам, наблюдая за появлением войск, дрожа и прячась по углам. А после провала мятежа стал кидаться из одного аристократического особняка в другой в надежде скрыться от розыска. Он жил тогда у отца жены своей, урожденной графини Лаваль, но там его не нашли, зато обнаружили писанную рукой Трубецкого черновую бумагу особой важности – с программой на весь ход действий мятежников 14-го числа, с именами лиц, участвующих в означенных действиях, и разделением обязанностей каждому. Сам князь с утра не возвращался, и в доме тестя его полагали, что должен он быть у княгини Белосельской, жениной тетки, однако и у княгини Белосельской его тоже не застали, стало известно только, что будто бы он перебрался в дом австрийского посла, графа Лебцельтерна, женатого на другой сестре графини… В конце концов, там и оказался Трубецкой – в посольстве Австрии, у своего зятя… там его и арестовали – посреди ночи. Так что – вам хочется еще заступаться за князя?
Николай меньше, чем ожидал, удивился новости. Вероятно, рассказывая ему в самом начале допроса о постыдном поведении человека, которого Озарёв почитал своим начальником, Чернышев был намерен попросту деморализовать его сразу? Но как притворяется – просто классически!
– Среди конспираторов всегда попадаются люди более сильные и более слабые… – постарался арестант увернуться от прямого ответа.
– Но вы лично, думаю, поклоняетесь все-таки сильным людям? Это же очевидно! – заявил Чернышев.
– Да, это так.
– И много было таковых в вашей группе?
– Видимо, недостаточно.
– Но, видимо, именно эти сильные люди на последнем собрании у Рылеева говорили о покушении на государя?
– Не слышал ничего подобного.
– Согласно показаниям одних, – невозмутимо продолжал Чернышев, – Каховскому поручил убить царя Рылеев, согласно показаниям других, Каховский принял решение сам, оно не было вызвано ни чьей-то просьбой, ни чьим-то поручением. Откровенно во всем признавшись, вы можете облегчить участь, по крайней мере, одного из этих двух людей. Продолжая молчать, вы только крепче связываете их – обвиняемых в попытке цареубийства. Как вы полагаете, не лучше ли спасти одного, чем погубить своим молчанием обоих?
Такая постановка вопроса озадачила Николая. Он впервые в жизни оказался в ситуации, когда представления о справедливости запрещали ему молчать дальше. Тем не менее помочь расследованию в одном этом частном вопросе означало бы согласие участвовать в предлагаемой ему игре на протяжении всего расследования, принять для себя возможность сотрудничества обвиняемых с обвинителями, то есть признать в каком-то смысле необходимость наказания… Как он помнил, Каховский и ранее был одержим идеей цареубийства, но на исходе встречи уже Рылеев просил его действовать. Умолял… Иными словами, они несут практически равную ответственность. Почти равную. Но, с другой стороны, Каховский, обагривший руки кровью Милорадовича и Штурлера, не мог рассчитывать ни на какое снисхождение, Рылеев же, оставшийся не замешанным в реальных убийствах, мог при благоприятном стечении свидетельских показаний надеяться на улучшение своей судьбы… Движимый дружеским отношением к Кондратию Федоровичу, Озарёв чуть не заговорил, но тут же и отказался от этого намерения: одному Господу решать, кто на самом деле чист, а кто виновен. Чернышев между тем начал нервничать:
– Ну так что же? Все упрямитесь? Предпочитаете пойти ко дну вместе с двумя своими товарищами, а не помочь хотя бы одному добраться до берега?
– Что вы имеете в виду, говоря «пойти ко дну», ваше сиятельство? – спросил Николай.
– Ваше преступление для России так ново, что не существует пока законов, предусматривающих меру наказания для виновных.
– Единственное наше преступление в том, что мы желали блага для нашей Родины!
– Нельзя желать блага для своей родины и смерти для ее государя одновременно!
В эту минуту взгляд Озарёва задержался на игравшем восковой палочкой Татищеве и задремавшем, сидя рядом с ним в кресле, Голенищеве-Кутузове. Эти двое двадцать четыре года тому назад принимали участие в убийстве императора Павла I, открывшем его сыну Александру дорогу на трон. Все в Санкт-Петербурге знали эту историю. По какой иронии судьбы судят они сейчас людей, чье преступление только в том, что проиграли в игре, которую им самим повезло когда-то выиграть? Боже, что за радость! Словно зажегся светлый огонек в душе! Искушение было слишком сильным: он, не хуже опытного фехтовальщика, чуть затянул выпад и произнес, стараясь контролировать возбуждение:
– Бывают случаи, ваше сиятельство, когда мятеж против правителя становится священным долгом. Некоторые из вас смогли бы меня понять, если бы вспомнили собственное прошлое.
Татищев весь задрожал от бешенства, и его тяжелая рука окороком упала на стол. Голенищев-Кутузов, вздрогнув, открыл сонные глаза.
– Что все это значит? Извольте объясниться! – приказал Бенкендорф.
– Нет ничего проще, ваше сиятельство, – охотно выполнил приказание Николай. – Заговорщики 14 декабря ставили своей целью не допустить до престола великого князя, и вы считаете их убийцами; заговорщики же 11 марта 1801 года ночью, совершенно варварским способом убили царя и при этом пользуются вашим уважением. Разве такое справедливо?
– Что за наглость! – закричал Татищев.
– Вон отсюда! – поддержал его Голенищев-Кузузов. – Эй там, кто-нибудь! Уведите его! И пусть его закуют!
Остальных, похоже, забавляли гнев и смущение, в которые арестант вогнал их коллег – наверное, между членами этого ареопага соперничество и злоба по отношению друг к другу существовали еще со времен воцарения Александра I… Размалеванная лисья мордочка Чернышева нахмурилась, и он сказал:
– Мы собрались здесь не для того, чтобы выслушать ваше мнение о политическом прошлом и будущем России, но исключительно для того, чтобы предложить вам внести уточнения по поводу плана действий Рылеева и Каховского. Вы намерены сообщить нам…
– Мне нечего вам сказать, – ответил Озарёв.
– Что ж, – вздохнул Левашов, – предоставим вам время для размышлений, пусть совесть подскажет, как быть дальше. Надумаете изменить показания, дайте знать. Но впредь помните, что в вашем положении податливость куда предпочтительней чванства.
Допрос окончился. Николаю велели переодеться в арестантский халат, лишили чаю и на ужин выдали только половину порции размазни. Обычного его надзирателя, старика Степухова, заменил какой-то насквозь провонявший квасом дикарь с монгольской физиономией. Утром он привел в камеру к Николаю священника. «Шпион!» – тотчас же подумал заключенный. Священник был рослый, широкоплечий, с широким крестьянским лицом, голубыми глазами и рыжей, но уже серебрящейся бородой, спускавшейся ниже нагрудного креста. Он назвался отцом Петром Мысловским.
– Благодарю, батюшка, что решили оказать мне моральную поддержку, – сказал Николай, – но так как вы присланы правительством, я не смогу открыть вам душу. Увы, это невозможно.
– С чего вы взяли, что я прислан правительством? – удивился священник, садясь на табурет. – Разумеется, я не смог бы сюда попасть без разрешения тех, кто руководит следствием. Но мне никто не поручал ни допрашивать вас, ни исповедовать, поэтому все, что вы мне скажете, я никому не передам.
Несмотря на заверения отца Петра, Николай по-прежнему был настороже, старался уклончиво отвечать на сердечные, казалось, расспросы гостя и распрощался с ним без единого слова признательности. Но, оставшись один, вдохнул витавший в воздухе легкий запах ладана, которым была пропитана ряса священника, и едва различимый аромат взволновал его, напомнил о детстве. Ему стало физически необходимо обрести мир с помощью молитвы. Выполнял ли отец Петр Мысловский распоряжения следственной комиссии или не выполнял их, прежде всего он был представителем Господа, и вместе с ним в камеру заходил Бог. А Николай из чистого каприза не захотел этого понять.
К счастью, не прошло и двух дней, как священник явился снова – так, словно ничего не произошло. И снова запах ладана окутал Николая: он с наслаждением вдыхал сладковатый аромат, ему казалось, будто голова его плавает в облаках. Однако, обменявшись с посетителем несколькими безобидными фразами, он вдруг резко спросил:
– Вам известно, каким именно образом были арестованы мои друзья?
– Большею частью они ждали дома, когда за ними придут.
– Это странно!
– Вероятно, понимали, что единственно надежное их укрытие – царская справедливость, иного не существует. Подобное поведение делает им честь.
– А каково сейчас состояние России?
– Вы что имеете в виду?
– Воцарилось ли повсюду спокойствие?
– Разумеется.
– И на Юге не было мятежа?
– Был, но его сразу подавили.
– Как это было?
– Проще некуда. Руководитель заговора на Юге, некий Пестель, был обнаружен и арестован, благодаря счастливой случайности, накануне 14 декабря. 30 же декабря двое других офицеров-южан, Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, подняли свои подразделения, заняли небольшой городок Васильков и провозгласили Иисуса Христа царем вселенной. Заставили священника произносить молитвы, угрожая ему пистолетом. По приказу своих командиров солдаты присягнули в верности Господу и делу независимости. Затем все вышли в степь и отправились на завоевание страны. И три дня спустя, при первой же встрече с правительственными войсками, так называемая христианская армия заговорщиков рассыпалась в прах, а ее главарей схватили и привезли в Санкт-Петербург.
– Что за безумие! Что за трагическое безумие! – пробормотал Николай.
– Пелена пала на глаза лучшим сынам России, – отозвался священник.
– Что они собираются сделать с нами, батюшка?
– Когда следствие будет закончено – а это потребует еще нескольких месяцев, вас станут судить, – сказал отец Петр Мысловский.
– А потом?
– Что значит «потом»?
– К чему приговорят? К смертной казни?
Отец Петр, протестуя, воздел крупные белые руки к небу.
– Господь с вами! Что за мысли? Вы же отлично знаете, что со времен правления Елизаветы Петровны смертной казни в России не существует!
– Ну, а что или кто может помешать царю восстановить ее ради такого случая?
– Почтительность к велениям Божьим.
– Но пытки, пытки-то применяются, они разрешены! Ста ударов кнутом достаточно для того, чтобы человек погиб в ужасных страданиях! И это делается! Как вы объясните?
– Объяснить не могу, только оплакиваю подобные ужасы, как и вы. Но у вас, в вашем случае, ничуть не похожем на те, нет оснований чего-либо опасаться. Вы не из числа убийц… И в конце концов, все вы… дворяне… Более или менее знатные… Это тоже не может не учитываться…
Священник опустил глаза, произнося последние фразы.
– Тогда – что? – настаивал Николай. – Тюрьма на долгие годы? Сибирь?
– Для главных виновников – возможно, – вздохнул Мысловский. – Но большую часть обвиняемых, я убежден, простят. Император, а он, как всем известно, милосердный христианин, наверняка захочет ознаменовать начало своего царствования решением великодушным, проявить милосердие. И не стоит вам теперь настраивать себя одного отдельно против государя – хватит и того, что вы пытались выступить против него сообща. Постарайтесь лучше прояснить царю свои намерения, чтобы помочь ему переустроить нашу любимую многострадальную Родину. Наверное, среди ваших товарищей немало чрезвычайно почтенных, уважаемых людей, но ведь другие не вызывают такого же уважения. А для здоровья всей нации необходимо отделить добрые зерна от плевел…
И тут Николай понял, что священник притворяется: ему, разумеется, отлично известны выдвинутые против Рылеева и Каховского обвинения.
– Если бы я смог вам помочь… если бы я мог помочь вам победить сомнения… – снова заговорил отец Петр.
– Нет, батюшка, это невозможно, – оборвал его арестант.
Священник догадался, о чем тот подумал, и прошептал, обозначив лишь тень улыбки на суровом лице:
– Вы верующий?
– Да.
– Соблюдаете церковные обряды?
– Раньше соблюдал, теперь реже.
– Мы еще поговорим об этом. Раз вас не интересует мое мнение, попрошу вас только помолиться этой ночью: помолитесь изо всех сил, от всего сердца.
Николай не стал дожидаться ночи. Он заметил на стене влажное пятно, контуры которого напоминали фигуру Пресвятой Богоматери с младенцем Иисусом на руках, и это пятно обратилось для него в икону. Бросившись на колени, он с жаром принялся молить Богородицу, припоминая и подбирая слова акафистов, казавшиеся ему самыми подходящими к случаю:
«Царице моя преблагая, надеждо моя, Богородице, убежище сирых и странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь. Помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши. Яко не имамы иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, перед кончиной нашей, защити нас, когда поведут по мытарствам, защити нас на Страшном судищи, помяни о спасении рабов Твоих и избави нас от злохитрого антихриста и печати его. Утешь, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, раба Твоего, ныне Тебе молящегося, в узах и заточении его утешь, не презри во скорбех и бедах, но помилуй… Аминь».
Он каялся, он просил утешения, молитва стекала с его губ легко, почти радостно, а одновременно на него снисходила какая-то таинственная, божественная ясность. Когда Николай поднялся с колен, решение было принято: он попытается спасти Рылеева – идеалиста, мечтателя, истинного революционера – пусть даже в ущерб Каховскому, чье кровавое безумие способно только обесчестить товарищей. Поступая так, он внесет последнюю лепту в дело Свободы.
Озарёв позвал Подушкина и объявил, что хочет, чтобы его выслушали, что готов предстать снова перед следственной комиссией.
Его желание было выполнено, последовал показавшийся уже привычным ритуал – повязка на глаза, мешок на голову, остановка за дверью, выход к свету, стол, накрытый красным сукном, десять фигур в золотых эполетах. Члены комиссии не выказали никакого удивления, когда арестант сообщил им, что, насколько ему известно, у Каховского, а вовсе не у Рылеева, было намерение убить царя. Скорее всего, слышали ту же версию от остальных заключенных. Николай подумал, что решение прийти сюда оказалось правильным. Ему показалось, будто допрос окончен, но Чернышев вытянул губы куриной гузкой и прошептал:
– Если вам известно… если вы слышали, как Каховский предлагал себя в цареубийцы, то вам должно быть известно и то, что Якубович также имел своим намерением уничтожить семью государя.
Выходка генерала обескуражила его, и Озарёв подумал, что слишком рано успокоился. В этом деле цеплялись за любую мелочь. И невозможно было сказать правду об одном, чтобы тут же не оказаться вынужденным откровенничать на другую тему. Надо с этим кончать.
– Нет, о Якубовиче я не знаю ничего, – отчеканил он.
Хотя на самом деле одноглазый фанфарон с черной повязкой на лице был ему ничуть не милее Каховского. Зачем обвинять одного и выгораживать другого? Положительно, он зажег пожар и перестал быть хозяином положения.
– Правда? – усмехнулся Чернышев. – То есть вы не слышали странного предложения, сделанного им в ночь с 13-го на 14 декабря? Напомню: речь шла о том, чтобы кинуть жребий: кому из заговорщиков судьба назначит стать цареубийцей…
Грудь Николая сжали тиски. Он попытался глубоко вздохнуть и ответил:
– Не слышал.
Маленькие глазки генерала засветились охотничьим торжеством:
– Но почему же в таком случае вас так возмутило предложение Якубовича, что вы стали протестовать?
– Я? Нет, я не протестовал.
– Прекратите, Озарёв! К чему ломаться! Все ваши товарищи как один утверждают, будто в тот вечер вы высказались об идее цареубийства именно с возмущением, с негодованием. Некоторые свидетели в точности запомнили ваши слова.
Чернышев взял со стола листок бумаги, поднес его ближе к глазам и прочитал:
– В ответ на слова Якубовича: «Кажется, вы боитесь, что жребий выпадет вам!», Озарёв ответил: «Да, боюсь», после чего добавил: «Русский человек не может думать иначе!..»
Эту последнюю свою фразу Николай помнил прекрасно, но в устах Чернышева она приобретала совсем другое значение. Будто произнес ее не бунтовщик, мучимый совестью, а лакей, пресмыкающийся перед самодержцем. Он молчал. Чернышев же посмеивался:
– Неужто хотите сказать, что ваши товарищи сами придумали подобный ответ Якубовичу?
– В конце концов, он же делает вам честь, – присовокупил Бенкендорф. – Его величеству станет известно ваше мнение.
Озарёву кровь бросилась в голову: противнику удалось поймать его, обвести вокруг пальца! Да что же это такое! Даже получив награду за совершенное им предательство, он и то не мог бы страдать сильнее!
– Но другие ведь тоже протестовали? – спросил Левашов.
Минутное колебание. Должен ли он из гордыни отказать друзьям в возможности смягчить их участь?
– Да, протестовали, – еле выговорил он.
– Кто же?
– Голицын, Батеньков, Одоевский, Юрий Алмазов…
– Это все?
– Нет… постараюсь вспомнить… Кюхельбекер, Розен, Оболенский, Пущин…
Желание спасти всех подталкивало его к тому, чтобы объединять имена тех, кто на самом деле возмущался планом Якубовича, и тех, кто не говорил ни да, ни нет. Он говорил и говорил… фамилии следовали одна за другой… Слушатели согласно кивали, писарь составлял список, а когда Николай закончил перечисление, Бенкендорф проворчал:
– Удивления достойно! Решительно все революционеры – монархисты!
– Далеко не все, тем не менее кое-кого из нам известных обвиняемый не назвал-таки! – живо откликнулся Чернышев. – Но для иных тяжесть преступления усугубляется тем, что большая часть товарищей делала попытки образумить их, которым они не вняли. Нет, мы не можем говорить о коллективном безумии, об идеологической заразе…
Николай терял голову: все задуманные им благородные начинания немедленно оборачивались против него. Ему уже чудилось: что бы ни сказал, он только повредит друзьям. Кого, кого он не назвал?
– Но тут не окончательный список, – забормотал он. – Я наверняка забыл кого-то, упустил…
– Не стоит волноваться, – сказал Бенкендорф, изобразив на лице тонкую улыбку. – Ваши показания, безусловно, будут дополнены другими обвиняемыми.
Чернышев щелкнул пальцами – вошли конвоиры.
– Благодарю вас, господин Озарёв, – прозвучало ему вслед.
Николай весь кипел, у него было ощущение, что он еле выбрался из притона мошенников.
Утром надзиратель принес ему к завтраку белого хлеба, чаю и двойную порцию сахара. Арестант молча оттолкнул хлеб, опрокинул на землю чай. Тюремщик, притворившись, будто ничего не заметил, удалился. Днем на смену ему снова пришел Степухов, который немедленно выбранил своего подопечного за отказ от еды.
– Так делать нехорошо, ваше благородие, так делать нельзя! Станут ведь вас через воронку кормить – разве это приятно? Уверяю, вам не понравится. А вот это… – старик весело подмигнул, – это понравится. Смотрите, какой у меня для вас сюрприз!
Он вытащил из кармана бритву и помахал ею в воздухе:
– Разрешили вас побрить!
– Пошел к черту! – рявкнул Николай. – Не хочу быть ничем им обязан! Останусь какой есть!
Степухов мигом исчез. Николай в бешенстве стал колотить руками и ногами по стене – пусть станет больно, заслужил, заслужил! Кожа на ладонях вспухла, покраснела. Показалась кровь – глядя, как она сочится, Озарёв немножко успокоился. Сейчас важно не растратить весь гнев – сохранить его до встречи с отцом Петром Мысловским, излить гнев ему на голову! Ежели б не этот велеречивый поп – разве ему пришла бы в голову идея вернуться к следователям?
– Доносчик в рясе! – процедил он сквозь зубы.
Но когда увидел в раме открывшейся двери высокую фигуру – священнику приходилось пригибать голову, чтобы войти, – то снова почувствовал себя обезоруженным. Запах ладана, рыжая борода, небесный взгляд, серебряный крест на черной ткани… ну, как поверить, что все это сплошная ложь? Таить дальше свою тоску не осталось сил. Он забылся, он исповедался.
Когда исповедь была закончена, отец Петр сказал с улыбкой:
– Ну, и чем же вы недовольны? Своей искренностью вы оказали услугу сразу и правительству, и друзьям. Рылееву, исключительно благодаря вашему признанию, может быть, смягчат кару, что же до Каховского, то его преступления столь многочисленны и очевидны, что скомпрометировать его вы уже ничем не могли. Поздравляю, ваши испытания закончились, примите благословение, и заклинаю вас спать спокойно.
Несмотря ни на какие добрые слова, Николаю из тупика выбраться не удалось. А назавтра, едва прозвучал сигнал побудки, Степухов приоткрыл дверь камеры, сунул в руку арестанта комочек бумаги и прошептал:
– Читайте быстро и возвращайте – я сразу уничтожу!
Озарёв узнал почерк Степана Покровского.
«Все стало известно. Зачем ты выгораживал Рылеева, зная, что это он подстрекал Каховского к убийству царя? Рылеев целиком отдался во власть государя – на всех доносит, во всем раскаивается. Несчастный! Впрочем, так делают большинство наших. Воздействие тюрьмы. Постарайся отказаться от своих слов».
Первой реакцией Николая был приступ гнева: взбесила попытка Степана Покровского нарушить его душевный покой упреками в поступке, из-за которого он и так угрызался, взбесила надежда Рылеева спастись, перейдя к признаниям, взбесила собственная беспомощность – невозможность отделить истину ото лжи, справедливость от беззакония. Но затем он огорчился и растрогался. Подумать только: Степан, который оказался не у дел 14 декабря, тоже в крепости, но они могут переписываться!
– Дай-ка карандаш, – попросил он надзирателя. – Напишу ему пару слов на обороте.
– Никак невозможно, ваше благородие! – зашипел старик. – И думать не смейте! Мне не следовало отдавать вам это письмо! Если меня поймают – отправят в Сибирь!
– Да никто тебя не поймает. Что, разве не под Богом живем?
– Ох, господа революционеры, господа революционеры… – покачал головой тюремщик. – Под Богом-то под Богом, вот только разуму Он вам не дал…
Вздохнул, перекрестился и вытащил из-за обшлага огрызок карандаша.
«Дорогой Степан! Твои упреки сильно меня расстроили. Неужели Каховский вызывает у тебя больше сочувствия, чем Рылеев? Как бы последний себя ни вел перед следственной комиссией, я предпочту его другому – конечно, тоже мечтателю, но ведь и убийце. В конце концов, это он убил Милорадовича!» – вот что оказалось на обороте письма Покровского.
– А теперь быстро за ответом! – Николай отдал записку надзирателю.
– Э-э-э, нет, я лучше на словах передам, ваше благородие! Не так опасно! – и старик вышел из камеры.
Николай весь день ожидал его возвращения – тщетно. Обед принес другой тюремщик, и тревога достигла предела.
Он еще не успел доесть, когда дверь снова отворилась – на пороге возник розовый жирный Подушкин, извинился, что пришлось побеспокоить во время трапезы, предложил надеть на голову мешок и следовать за ним.
Следственная комиссия в полном составе встретила узника сиянием свечей. Чернышев держал в руке бумажку. Николай узнал свое письмецо Покровскому. Ему стало страшно. Боже мой! Степухова арестовали! Каким мукам подвергнут этого славного старика за его преданность делу «господ революционеров»! Не жизнью ли он за это заплатит?
– Прошу прощения за то, что вынужден был нарушить тайну переписки, – произнес Чернышев с саркастической гримасой, – но, видите ли, в той ночи, в какой мы оказались, все средства привнести хоть толику света хороши. Итак, вы подтверждаете и даже усиливаете свои обвинения в адрес Каховского?
Николай едва слышал – ему причиняла нестерпимые страдания мысль о том, что из чистого эгоизма, только из легкомыслия он стал причиной гибели инвалида.
– Мы все готовы разделить ваше убеждение, – продолжал между тем Чернышев. – Тем более что, судя по вашему письму, Каховский один повинен в смерти генерала Милорадовича.
Озарёв вздрогнул.
– Я никогда не писал ничего подобного!
– Но таков может быть единственный вывод: вы не назвали других имен.
– Думайте что хотите – мне все равно.
– Некоторые ваши товарищи сообщают, будто на генерала Милорадовича было совершено одновременно два покушения: Каховский выстрелил в него, а Оболенский ударил штыком.
Это точно. Николай снова почувствовал, что увязает в жестокой игре, цель которой – вынудить одних обвиняемых судить и осуждать других.
– А кое-кто говорит, что Оболенский даже раньше ударил штыком генерала Милорадовича, чем Каховский выстрелил в него… – Чернышев словно бы размышлял вслух. – Но если все было так, то вина Каховского уменьшается, между тем как вина Оболенского возрастает ровно в той же пропорции.
– Я ничего не видел! – заявил Николай, решив, что подобное заявление освобождает его от выбора.
– Какая жалость! – великий князь Михаил Павлович тяжело вздохнул.
– В любом случае, – заторопился Чернышев, – если в будущем вам придет охота сказать что-либо своим товарищам, не пишите им – просто попросите разрешения свидеться, мы никогда вам не откажем.
Николай внимательно посмотрел на генерала с лисьей мордочкой: какой еще капкан для меня припасли? Но едва он успел об этом подумать, адъютант отодвинул занавеску, открылась небольшая дверца и на пороге показался угрюмый всклокоченный человек. Тощий, с безумным взглядом.
– А вот и доказательство, – продолжил Чернышев. – Вот человек, пожелавший встретиться с вами: мы немедленно удовлетворили его ходатайство.
Озарёв узнал Каховского, сердце его дрогнуло: неужели я переменился так же, как он?
– Я все слышал! – закричал вдруг Каховский. – Да как ты смел, сукин сын, говорить, будто не видел, что было перед тем, как я выстрелил в Милорадовича! Ты стоял в двух шагах от меня! И точно, как я сам, видел, что Оболенский первым нанес удар штыком!
– Нет, ничего подобного я не видел, – тусклым голосом отозвался Николай.
Воцарилось молчание. Члены следственной комиссии смотрели на двух арестантов и были похожи на любителей петушиного боя.
– Да что я тебе сделал, в конце-то концов? – спросил Каховский тихо. – Не думай, что, обвиняя меня, ты сможешь обелить других. Мы все пропали. Все! Все!
Он задрожал, закатил глаза, молитвенно сложил на груди руки.
– Единственный может отпустить нам грехи! Государь! Наш царь-батюшка! Отец наш! Царь, против которого мы злоумышляли в святотатственном нашем безумии!
Каховский отрекался от прежних взглядов, и все это звучало так жалобно, что Николаю невольно подумалось: а не играет ли он роль ради спасения своей жизни? Но нет, кажется, он столь же искренне нынче раскаивается, сколь яростно раньше ненавидел. Его потребность любить, обожать кого-то попросту перенеслась с революции на императора – вот и все.
– Вы подтверждаете свои показания? – спросил Николая Чернышев.
– Полностью.
– Иными словами, вы уверены, что Оболенский не имеет отношения к убийству генерала Милорадовича?
– Уверен. Он не имеет никакого отношения.
– Можете поклясться?
– Клянусь.
Ему показалось, будто он только что вынес Каховскому смертный приговор.
– Да помилует тебя Господь… – прошептал тот.
Двое солдат увели его. Впоследствии Озарёву устраивали очные ставки с Одоевским, с Голицыным, Оболенским, Рылеевым… Всякий раз, как отворялась дверь, в гостиную входил новый призрак. В сумрачной раме возникал из бездны ада генеральный штаб мятежников, на лицах лежала печать усталости и одиночества, душевного замешательства, а то и расстройства. Впрочем, чего еще можно было ожидать от них, переживших подобный крах…
Николай с трудом узнавал прежних гордых своих друзей в этих тенях, в этих оцепеневших, будто оглушенных пленниках, отвечавших на вопросы с торопливостью услужливых лакеев. Казалось, все убеждены, что совершили тяжкую ошибку, затевая мятеж. Но самое тяжелое впечатление произвел на Озарёва Рылеев: истощенный, заросший щетиной, с загнанным взглядом, он еле держался на ногах.
– Почему вы сказали, что идея цареубийства исходила от Каховского, а не от меня? – спросил он Николая. – Вы же прекрасно знаете, что это неправда? Я беру на себя ответственность за этот чудовищный план!
– Зачем вы это делаете? – вскричал Николай. – Жаждете мученического венца?
– Нет. Хочу заплатить за всех, потому что из-за меня все пошло не по тому пути. Все пошло прахом.
Николай пожал плечами.
– Берегитесь, Рылеев! Сейчас вы верите, будто действия ваши продиктованы христианским смирением, но на самом деле движет вами только гордыня. Если не хотите защищаться ради себя самого, защищайтесь хотя бы ради вашей жены, ради вашей дочери!
– Государь в бесконечном милосердии своем дал мне понять, что позаботится о них…
Николай искоса взглянул на следователей и увидел, как сосредоточенно они прислушиваются ко всему этому бреду. На него навалилась безграничная усталость. Больше не было смысла спорить, не было смысла бороться – да и не хотелось. Рылеев с этим новым лицом одержимого стал для него внезапно таким же чужим, как и эти собравшиеся за столом напыщенные генералы.
Вернувшись в камеру, он почувствовал себя так, словно окунулся в чистый ручей, вылезши из болота. Здесь он дома.
* * *
Он уселся на соломенный тюфяк и задумался: надо все-таки разобраться, почему же его товарищи, еще совсем недавно готовые пожертвовать жизнью, состоянием, карьерой во имя счастья народа, оказались теперь лишены всякого человеческого достоинства. Как это произошло? Такое впечатление, будто в них, внутри, лопнула некая пружина. Став обвиняемыми, они сразу переходят на сторону судей, отрекаются от прежних идеалов. Нет, скорее, возвращаются к самым давним своим идеалам, к идеалам детства… Конечно, конечно, именно так: с младенчества всех этих людей приучали почитать царя, слушаться его, преклоняться перед ним… тогда же, когда учили молиться Богу… Разумеется, потом была война, они открыли для себя Францию… Но войну они прошли офицерами императорской армии, а Францию увидели под сенью победоносных знамен… И, даже восхищаясь политикой французов, они никогда не переставали быть русскими… Республиканская доктрина появилась в их жизни чересчур поздно – когда они были уже полностью сформировавшимися людьми, и оставалось слишком мало пространства для того, чтобы либеральные идеи могли пустить глубокие корни и свободно прорасти. Теории Бенжамена Констана наслаивались на монархические традиции, а вовсе не покоились на стремлении разрушить монархию окончательно. И 14 декабря, когда революционный порыв захлебнулся в крови, вера юных лет в них возобладала. Находясь в агонии, человек инстинктивно обращается памятью к матери, зовет ее, вот так же и они – потеряв всякую надежду, ощутили необходимость вернуться к вере отцов, к законам предков. Николаю вспомнилась прочитанная когда-то у Карамзина фраза о том, что политические принципы нашей страны вдохновляются отнюдь не энциклопедией, изданной в Париже, а бесконечно более древней энциклопедией – Библией. По мнению Карамзина, государь в России – не представитель народа, он представитель Того, кто царствует над всеми народами, он – наш Живой Закон… Вот потому-то, когда Рылеев, Каховский, Оболенский, Якубович, Трубецкой и иные, иные, иные… когда ими было осознано, что они замахнулись святотатственной рукой на этот Живой Закон, душевные силы оставили их. Пушечные залпы на Сенатской площади прозвучали для них подобно раскатам грома небесного, обрушившегося на осквернителей храма, – и пришел ужас, и наступило раскаяние.
«А если бы все удалось, если бы победа, – думал Николай, – испытывали бы они хоть какие-то угрызения совести? Наверняка нет. Совестливость родилась из провала, из поражения. Именно в этом я их и упрекаю!»
Он вскочил и принялся обходить кругами камеру. Испуганные скоростью его передвижения крысы притаились по норам. В углу у двери таракан сражался с пауком. Может быть, на взгляд Бога, их битва значит даже больше, чем борьба Николая со следственной комиссией? Он спрашивал себя: неужели французские, английские, германские, итальянские узники в таких же обстоятельствах вели бы себя так же, как русские? Нет, нет, в любой стране человек, брошенный в темницу, сопротивляется, бунтует, только у нас подобное испытание воспринимается как знак гнева Божия! И чем неожиданнее, чем болезненнее удар, тем вернее для страдальца, что это именно небесная кара. В конце концов, самодержавие и найдет единственное оправдание для себя как раз в неправедности своих действий. Это подготовлено всей историей развития страны, веками рабства, в котором нас держали против нашей воли. Разве мы не дети народа, познавшего тяжкое бремя при варягах и татарское иго, гнет в эпоху Ивана Грозного и кулак Петра Великого?.. И хотим мы того или нет, в нас живет атавистическое почитание любой власти.
Голова пылала – он остановился, выпил воды. Может, у него лихорадка? Внезапно промелькнула новая мысль и показалась настолько очевидной, что мигом перевернула его представления. А что, если поведение Рылеева, Каховского, Оболенского, которое он объяснял себе трусостью, вызвано, напротив, исключительным мужеством? Сверхчеловеческим, сверхъестественным? Почему бы не предположить, что, протрезвев после столкновения с реальностью, они оценили риск анархии, осознали, что затеянный ими государственный переворот способен обернуться лишь распадом державы? Бунтующие войска, мужики, громящие поместья и поднимающие на вилы господ, борьба за автономию, за независимость – то в одном конце страны, то в другом… Поняв, что чуть не стали причиной такого бедствия, они решили помешать возможному осуществлению таких же планов другими… И согласились стать пугалом для будущих революционеров. Они чернят себя, шельмуют, дискредитируют, они унижаются только во имя блага Родины. «Возможно, тот, кто действительно любит свою страну, – была следующая мысль, – должен уметь отрекаться от своих политических идеалов, едва поймет, что с их помощью не достичь желанной цели? Возможно, ему следует публично заявить о своих ошибках, чтобы мир наконец снизошел на умы и сердца? Возможно, честь ему делает именно бесчестье?»
Ну-ка, ну-ка, таракан-то выбрался из лап паука, зато там теперь муха! У нее уже нет головы, и одной лапки тоже нет. Паук навалился на свою добычу и алчно пожирает ее. Невесомая паутина, затянувшая угол и часть стены, еле заметно содрогается. Крыса пробежала по камере, замерла у ножки табурета, попробовала на вкус дерево и скрылась снова. Часы Петропавловского собора отбили четыре пополудни. Скоро весна: за окном во двор с вымазанными мелом стеклами дневной свет угасает теперь не так рано.
«Нет, я ошибаюсь – вовсе они не думали ничего такого, – вернулся он к прежним размышлениям. – Любой из них просто трус и предатель. Вот и все. Фанатики самодержавия, недолгое время побывшие фанатиками революции».
Он почувствовал на себе взгляд из окошка на двери. Погладил бороду: такая отросла длинная, что уже не колется. «Ах, если бы меня увидела Софи!..» Николай быстро прогнал от себя всякий раз приводившую его в отчаяние мысль о жене. Нужно быть сильным и прозорливым. Он именно этого хочет. Испытание застенком, выбившее почву из-под ног самых пылких его товарищей, ему, наоборот, придало пылу, какого он не знал накануне мятежа. Совершенно один, не слыша никакого отзвука, не ощущая никакой поддержки, он исследовал закономерности взлетов и падений человеческой судьбы, он существовал только в вечности, он познавал восторг открытия в себе бессмертной души… «И теперь, когда я понял, зачем живу, они хотят меня убить, сослать в Сибирь, сгноить в крепости… разве это не глупость!»
* * *
В понедельник 13 марта, ближе к одиннадцати утра, ему почудилось, что в коридоре за дверью началась суматоха, беспорядочная беготня. Затем вдали послышался треск барабанов, какой бывает на военных похоронах. И тут же – траурный звон колоколов собора. Николай позвал надзирателя:
– Что происходит?
– Царя хоронят, ваше благородие.
Молнией вспыхнула надежда. Он всмотрелся в плоское лицо, низкий лоб стоявшего перед ним со связкой ключей в руке тюремщика и спросил тихо:
– Как? Николай I скончался?
Охранник с негодованием поглядел на него, быстро перекрестился и пробормотал:
– Кто вам сказал: «Николай I»? Храни его Господь в добром здравии! Это Александра Павловича доставили из Таганрога и опускают теперь в землю. Больше двух месяцев везли тело по матушке России…
Разочарование… Николай понурил голову. Барабаны внизу смолкли. Александр I, вслед за Петром Великим, Елизаветой, Екатериной, Павлом, упокоился в семейном склепе. По какой иронии судьбы государи и государыни всея Руси, когда заканчивается их царствование, отправляются на вечный покой за стены Петропавловской крепости – туда, где в двух шагах от них держат политических заключенных? Никто после смерти русского царя не находится ближе к нему, чем те, кому он выносил приговор при жизни.
Надзиратель между тем, почесав в затылке, вдруг снова заговорил, теперь уже совсем еле слышно:
– Не все ясно в этой истории! Знаете, по слухам, император-то Александр вовсе и не умер, и на его место в гроб положили чей-то чужой труп, а сам он, переодевшись крестьянином, удалился в монастырь, чтобы замолить там наши грехи. Вы можете в такое поверить?
– Нет, – покачал головой Николай.
– Но тогда почему усопшего государя хоронили в закрытом гробу? Почему не показали его народу, как обычно?
– Может быть, плохо забальзамировали тело?
– Помазанник Божий не нуждается в бальзамах, чтобы избежать тления!
– Тебе бы поговорить об этом с отцом Петром Мысловским…
– Да говорил я… А он назвал меня ослом. Как будто осел не имеет права вопросы задавать!
Тюремщик уже стоял на пороге, когда Озарёв снова окликнул его:
– Скажи, а не известно ли тебе, что стало со Степуховым?
– Нет… – приуныл тот. – Как пропал однажды, так его больше и не видели.
– А тебя как звать?
– Змейкин.
– Лет сколько тебе?
– Двадцать пять.
– Почему ты здесь, а не на воинской службе?
Змейкин почему-то забеспокоился, вытаращил глаза, скорчил гримасу.
– Согрешил, – проворчал он. – Сильно согрешил, – переступил порог, захлопнул дверь и с силой повернул ключ в замке.
Шесть дней спустя Николай лежал на постели в раздумьях. Вдруг – словно отражение его мыслей – зазвучала где-то мелодия военного марша. Музыка иных времен. По облакам зашагали полки.
Вошел Змейкин и весело спросил:
– Слышите? Такой парад! Всю гвардию выстроили перед Зимним дворцом!
– В честь чего?
– Да сегодня ж 19 марта!
– Ну и что? 19-е так 19-е…
– Так ведь этого дня наши войска в 14-м году взяли Париж!
– Ох уж, мне-то следовало бы это помнить… – улыбка вышла разочарованной.
– А теперь все, кому Россия обязана этой великой победой, получают памятную медаль из чистого серебра. На могиле государя Александра Павловича освященную.
– Все! Не говори ерунды, – снова усмехнулся Николай. – Я там был, но не получу ничего.
– Вы другое дело, – убежденно ответил Змейкин. – Вы декабрист!
– Кто-кто?
– Декабрист. Декабрьский бунтовщик. Нынче вас всех только так и называют. А насчет медалей – я видел несколько. Красивые… С одной стороны – Александр I в лавровом венке и лучезарное Всевидящее око Божие сияет, а с другой, по всему обводу, тоже в лавровом венке, надпись: «ЗА – ВЗЯТИЕ – ПАРИЖА – 19 МАРТА – 1814».
Николай увидел себя – вот молодой, полный сил лейтенант Озарёв под ликование фанфар и рокот барабанов въезжает в столицу Франции через Сен-Мартен. Парижанки приветствуют его, бросают цветы. И он горд тем, что русский.
– Если встретишь отца Петра, скажи, чтобы зашел ко мне, – попросил он охранника.
Однако священник так и не появился. Запамятовал Змейкин, что ли, передать просьбу? Отзвуки музыки долго еще преследовали Николая во сне: он воображал их, уже не слышные. Значит, все уладилось, все встало на свои места. Снова парады, снова балы, приемы. Те, кому посчастливилось не участвовать в мятеже, торопятся забыть былых друзей. Любовь, дружба, политические убеждения – ничто не имеет цены по сравнению с жаждой блестящей карьеры. Желание почестей заставляет расстаться с чувством чести. В тот вечер, по случаю праздника, арестантам налили по чарке водки. Николай одним глотком опустошил ее, закусил луковицей – и ноги у него подкосились: отвык от спиртного. Обожгло желудок. Началась дикая икота. Он еле успел к кадушке – вырвало.
А отец Мысловский пришел в камеру только вечером следующего воскресенья, часов в шесть. Николай, ни на что не надеясь, спросил, не согласится ли батюшка передать письмо его жене.
– Не имею права, – ответил поп.
– Тогда напишите ей за меня сами.
– И это запрещено. А что бы вы хотели ей написать?
– Что я в тюрьме.
– Она это уже знает.
– Откуда?
– Семьи были в надлежащее время извещены.
В Николае проснулась было надежда, но тут же и умерла, все стало безразлично. Известно ли его семье об аресте, нет ли – что от этого меняется? Тот ничтожный шанс вернуть любовь Софи, который у него оставался до мятежа, Михаил Борисович наверняка свел на нет. Бесконечные уговоры и выговоры свекра, не отступающего от нее ни на шаг, скорее всего, сделали саму мысль о примирении невыносимой для жены. Вглядываясь в прошлое, Озарёв чувствовал, что со всем этим давно покончено. Что там? Куча мелких, ничем не примечательных происшествий, запутанных, как сваленные в мешок клубки пряжи… Нет, все это никак не связано с тем человеком, которым он стал. Он – с нынешними своими, одновременно на него свалившимися нечистоплотностью и способностью рассуждать – в стороне. Но как же трудно сохранять достоинство, когда от тебя так несет и когда ты так слаб! Взглядом он наткнулся на кадушку – исходивший от священника аромат ладана не перекрывал зловония мочи.
– Скоро нас станут судить? – спросил Николай.
– Следственная комиссия работает без передышки. Наберитесь терпения! И не сомневайтесь в милосердии государя.
Николай сосчитал взглядом катышки черного хлеба, прилепленные к стене над изголовьем. Он сидит в тюрьме уже три месяца и двенадцать дней. На дворе заметно потеплело. Но лед на реке еще держится.
– Не хотите ли исповедаться и причаститься к Пасхе? – поинтересовался священник.
– Хотелось бы.
Улыбка осветила рыжую бороду, улыбкой просияли голубые глаза. Отлично, батюшка придет со святыми дарами в Вербное воскресенье.
Страстная суббота. Тюремщик Змейкин ходит из камеры в камеру и советует арестантам поплотнее заткнуть уши, потому что в полночь все крепостные пушки станут палить в честь Светлого Воскресения Христова. Улегшись на нищенское свое ложе, Николай с замиранием сердца ожидал великой Новости. Здесь темно, тихо, но за стенами крепости во всех городских соборах, в любой деревенской часовенке собираются толпы верующих со свечами в руках. И всю российскую землю – с севера на юг, с запада на восток – усыпали нынче эти мерцающие огоньки. Наверное, и Софи отправилась с Михаилом Борисовичем в Шатково… Паперть, оба придела, вся церковь заполнена нарядными, одетыми по-праздничному людьми. Мужики на коленях между корзин с крашеными яйцами и прочей пасхальной снедью… Все улыбаются, перешептываются, толкают друг дружку локтями, ожидая времени, когда позволено будет выразить свою радость. У отца Иосифа сегодня голос звучит торжественней обычного. Вступает хор: певчие все крепостные. Вскоре начнется крестный ход – из церкви выносят иконы, хоругви… Горло Николая сжимается. Он бы всем, всем, всем пожертвовал, все бы отдал, лишь бы оказаться сейчас рядом с женой, среди своих крестьян! Если бы только знал человек, какому таинственному и чудесному стечению обстоятельств он обязан редкими часами покоя, он смог бы оценить, сколь слабо защищен от беды, и он бы научился извлекать из каждой прожитой секунды сладкий нектар блаженства, который секунда эта способна ему подарить, и так любил бы, так берег бы своих близких, словно завтра может их потерять…
– Господи, помилуй мя! – прошептал он. – Дай сил вынести все, что меня ждет, не дрогнув душой…
В ту же минуту над головой его загрохотали пушки. Стены сотряслись. Стекло в окошке разлетелось вдребезги. Отсветы пламени заплясали по камере. Лица узника коснулся свежий воздух. Он упал на колени. Канонада длилась всего пять минут, потом весело зазвонили колокола всех церквей – близких и отдаленных. Вошел надзиратель Змейкин со словами:
– Христос Воскресе!
– Воистину воскресе! – ответил Николай.
И они трижды расцеловались.
5
Минуло Светлое Христово Воскресенье, и положение заключенных сделалось несколько лучше: кормить стали сытнее, да еще и квас начали давать через день. В окно камеры Николая было вставлено новое стекло и, несмотря на его мольбы не делать этого, до половины закрашено так же, как первое, смесью мела и клея. Не видя неба, он с трудом мог заставить себя поверить в то, что на дворе весна.
Однажды майским утром Змейкин явился с таким загадочным выражением лица, что у Озарёва мелькнула мысль: его снова вызывают, надо как следует подготовиться к встрече со следственной комиссией! Но тюремщик был один, глаза ему не завязал, мешка на голову не надел – он просто повел арестанта по длинному коридору, потом по винтовой лестнице, затем они перебрались по дощатым мосткам и вдруг – оказались под слепящим солнцем. Николай зажмурился. Легкие его мгновенно заполнились свежим воздухом, с непривычки перехватило дыхание, он покачнулся и поспешил ухватиться за руку беззвучно ухмылявшегося Змейкина.
– Куда ты меня привел? – отдышавшись, спросил Озарёв.
– В сад Алексеевского равелина.
– Почему вдруг?
– Потому что со вчерашнего дня арестантам разрешено три раза в неделю гулять тут по очереди. Вот… хотел сюрприз вам сделать…
Николай осмотрелся. Сад… Дворик оказался маленький, треугольный, окруженный высокими поросшими мхом каменными стенами. Чуть-чуть травы, чахлые сирени в уголке, две тощие березки, а в самой глубине колодца неведомым каким-то образом – да просто чудом! – проникший сюда такой же жалкий кустик смородины… Смотри-ка, потайной ход – зарешеченная дверца ведет в крытый пассаж, а он спускается к реке. Слышно, как в конце тоннеля плещутся волны Невы, ударяясь о каменный парапет набережной. А может – о пристань…
Устоять на ногах все-таки оказалось трудно: опьяненный простором и воздухом Николай опустился на деревянную скамью. В стороне заметил холмик с крестом без надписи.
– Тут что – кладбище? – произнес он тихо.
– Откуда, ваше благородие! – слегка удивившись, ответил Змейкин. – Нету же тут никаких других могил! Старики говорили, будто тут княжна Тараканова похоронена. Катерина Великая приказала бросить ее в этот равелин за то, что та возмечтала пробраться на российский престол, ну вот, посадили ее сюда, а стало наводнение – она тут и потонула. В своей камере. Вместе с крысами…
Николай рассеянно прислушивался к болтовне конвоира и едва ли не со слезами на глазах рассматривал юные, такие светлые и трепещущие, листочки на березах. Отрезанный от мира на несколько месяцев, он в конце концов притерпелся и привык быть заточенным среди камней до такой степени, что утерял, как ему казалось, любовь к природе. И теперь это внезапное возвращение на свежий воздух столь же внезапно оживило в нем мысли о побеге. Так и закопошились… Стоп-стоп, а может быть, это всего лишь утонченная пытка – соблазнять узников не имеющими будущего удовольствиями? Не надеются ли они еще больше сломить несчастных, возрождая в них заглохшие было в сумраке заточения чувства? Страдание жило в нем сейчас наравне с наслаждением: он вдыхал нежный аромат травы вперемешку с горьковато-соленым тинистым запахом реки; он прислушивался к мягким ударам весел о воду, к пронзительным крикам чаек, а там, дальше, совсем далеко слышался шум города, который продолжал жить своей жизнью… Змейкин взял его за руку, потянул, заставил встать. Они переступили через водосточный желоб – отсюда, по мнению конвоира, лучше было видно высоко над головами золотой шпиль Петропавловского собора с ангелом, взмывающим с крестом в небеса. Николай некоторое время не сводил глаз с ангела, потом вокруг все поплыло, и он опустил взгляд в землю.
– Больше не могу, – прошептал. – Пошли назад, Змейкин.
В камере ему стало лучше, хотя мысли по-прежнему бешено вертелись только вокруг жизни, продолжавшейся за стенами тюрьмы. И любая картина этой жизни возвращала его мыслями к жене. Небесная синева, медленные, лениво проплывающие по ней облака, трепет березового листка – все, решительно все оказывалось связано самой что ни на есть тесной, пусть и тайной связью с его Софи. Но разве она не уехала уже во Францию? Если уехала, то какой смысл утешаться теперь, воображая Софи дома, среди привычной обстановки… Он потерял ее дважды – в действительности и в снах… Когда мысль об этом становилась совсем нестерпимой, он говорил себе: да, так лучше и для нее, и для меня, лучше, чтобы она оставила Россию и забыла о том, что была замужем за мной.
Когда через день Змейкин снова явился в камеру, чтобы вести арестанта гулять, Николай отказался.
Надзиратель, даже и не скрывавший явной к нему симпатии, в ответ упрекнул подопечного в том, что он впадает в уныние, и позвал отца Петра Мысловского.
– Только не заставляйте меня гулять, батюшка! – предупредил Николай, едва тот показался на пороге. – Этого для меня слишком мало… или слишком много… Раз в свободе отказано, лучше буду жить заживо погребенным.
– Возможно, вы правы, – задумчиво произнес священник. – Затвор придает сил.
– Есть какие-то новости? Процесс вперед продвинулся?
– Следственная комиссия должна закончить работу через две недели.
– А суд когда?
– Состав еще не назначен.
Все время, пока отец Петр оставался с ним, Николаю хотелось поговорить с ним о Софи. Конечно, исповедуясь перед Пасхой во всех грехах, он поведал обо всех своих слабостях, но вообще – не уточняя, при каких обстоятельствах слабостям он этим потакал. И что именно делал. И вот теперь ему казалось просто-таки необходимым рассказать – случай за случаем – обо всем, в чем виноват он перед женой, об анонимных письмах, о дуэли, о смерти сестры, о ненависти, которой удостаивает его отец, об этой кошмарной истории заблуждения, – хорошо, если не обмана, – распутства, праздности… Ему чудилось, будто это – из другой жизни, жизни другого человека… Однако всякий раз, как признание начинало жечь губы, гордыня не позволяла произнести его вслух. И наконец – опустошенный, несчастный, он улегся на свою соломенную подстилку и отвернулся к стене, стиснув зубы. Священник, поняв, как плохо арестанту, на цыпочках вышел. А Николай сразу же пожалел, что отказался от прогулки. Садик, поросший редкой травой, казался ему отсюда зеленеющим раем. Он смотрел в мутно-белое окно и мечтал о бездонном небе.
Назавтра Змейкин явился снова, и улыбка его была еще более зазывной. Николай сказал сразу же:
– Ладно-ладно! Решено: пошли гулять!
– Ой, ваше благородие, – забормотал тюремщик, – а я вовсе не за этим пришел, не гулять вас вести.
– Почему это?
– Полковник Подушкин приказал мне сей минут сопроводить вас к генералу Сукину.
Николай нахмурился: чего им еще нужно? Теперь чего потребуют? Что намечают? Хотят провести дополнительное расследование? Намереваются сделать внушение? Выговор? Перевести в другую камеру? Волновался он, впрочем, недолго, понял, что в конце-то концов какая разница, – и вышел из камеры без единой мысли. Змейкин и второй конвоир шли слишком быстро, он едва поспевал за ними и сам не заметил, как они оказались у дома коменданта крепости.
Здесь их встретил унтер-офицер, проводил в гостиную с выцветшими, блеклыми стенками и попросил немного подождать. В нос бил запах щей. В клетке посвистывали канарейки. На стене висела раскрашенная гравюра, изображавшая государя Александра Павловича верхом на коне и венчаемого Славой. Пока Николай рассматривал портрет, где-то сбоку отворилась дверь, он машинально глянул в ту сторону и обмер, потеряв всякую связь с реальной жизнью. Нет, нет, это галлюцинация, это образ, порожденный усталостью, тоской, нет, такого просто не может быть! От порога двигалась к нему жена – бледная, печальная, но с улыбкой на губах, точно такая, какой он постоянно видел ее во сне. По мере того, как становились виднее все детали галлюцинации, росло и ощущение счастья в нем и страха…
А видение прошептало:
– Николя!
Сомнения мигом ушли. Сердце куда-то провалилось, глаза заволокло слезами, он сделал шаг вперед. Стены закружились, как крылья мельницы. Ноги подломились в коленях. Подбежали унтер-офицер с охранником, подхватили, усадили на кушетку. Но он пришел в себя только в тот момент, когда легкая прохладная рука коснулась его лба. И пробормотал – еще в полусознании:
– Софи! Софи! Ты здесь! Со мной! Так близко! Значит, ты не уехала!..
– Куда, милый, мне было уезжать? – спросила она, усаживаясь рядышком.
– Во Францию…
Она посмотрела так удивленно, что ему подумалось: «Отец солгал. Софи и не собиралась никуда уезжать. Скорее всего, она даже и не знает, что я был ей неверен».
– Успокойся, успокойся! – говорила между тем гостья с такой нежностью, от которой у него все переворачивалось внутри.
– Ну, как я могу успокоиться! Как? Ты хочешь от меня невозможного! Объясни, ради бога, неужели тебе разрешили увидеться со мной?
– Да конечно же. Я ведь подавала прошения, как и другие жены узников.
Он застенчиво взял ее руки и поднес их к губам. Запах женщины пьянил, голова мягко кружилась. От избытка удовольствия сами собой закрылись глаза: «Раз она разрешает мне так делать, значит, между нами ничего не переменилось!»
– А как ты узнала, что я арестован? – Николай перешел на французский.
– От Никиты.
– Ты его видела?
– Да…
Она поколебалась, глядя в сторону охранников – унтер-офицера и солдата, застывших у двери.
– Не волнуйся, – шепнул Николай. – Они ни слова не поймут из того, что мы скажем. Ну, так что же? Как Никита?
– С ним ничего не случилось. Его не тронули. Цел и невредим.
– Слава тебе, Господи! А я так беспокоился за него!
– Как-то ночью он пришел в Каштановку… и рассказал нам обо всем…
– Какой ужас, Софи! Как все это ужасно… и какая глупость!.. Все могло получиться – и все, все провалилось!.. Такая великая цель – и такие ничтожные средства!.. И эта кровь, вся эта понапрасну пролитая кровь!.. Ты сердишься на меня?
– За что, милый?
– За то, что шел к цели до конца…
– Сам посуди, как я могу за это сердиться?.. Тебе же известны все мои мысли!.. И ты знаешь, что я всей душою с тобой, Николя!
– Значит, так и было нужно? Ты так думаешь? Уверена? Так было нужно?
– Да, Николя, да!.. Ты все сделал правильно… Но теперь забудь о прошлом. Забудь!.. Тебе нужно взять себя в руки, набраться сил и начать борьбу, продвигаясь шаг за шагом к тому, чтобы выбраться отсюда… Надо пытаться!.. Стой!
Они замерли, прислушиваясь. К двери приближалось какое-то равномерное постукивание. Деревянная нога. Вошел, прихрамывая, генерал Сукин, поклонился Софи и сел в кресло у окошка. Наверное, получил приказ наблюдать за свиданиями узников с женами. Обернулся, махнул рукой, отпуская унтер-офицера и солдата. И снова повернулся к окну, притворяясь, будто рассматривает крепостной двор, однако было заметно, как он то и дело исподтишка поглядывает сюда.
Николай с досадой передернул плечами: ну вот, этот соглядатай, этот солдафон в генеральском мундире погубил его счастье, все испортил, и ко всему еще он-то ведь наверняка понимает по-французски! Боже мой, хотя бы Софи сумела преодолеть смущение! А она улыбкой подбодрила мужа:
– Ничего, ничего, – сказала она. – Это все пустяки! – и, переведя дыхание, добавила: – Николя, у меня дурная новость, но я обязана сказать: твоя сестра…
– Я знаю, – перебил Николай, – это чудовищно! Но как, как это произошло?
– Потом объясню, позже…
– У меня в голове не укладывается, что Маша, моя Машенька…
– От кого ты узнал?
– От отца!
Софи, кажется, сильно удивилась. Или возмутилась?
– Как?! – воскликнула. – Он писал тебе?
– Да.
– Но Михаил Борисович обещал мне не делать этого! Обещал!
– Ну и что? Солгал, как обычно, – с бешенством выпалил он. – Почему тебя это удивляет? Он же чудовище! И ненавидит меня! Это письмо… Если бы ты видела это письмо… Грязь, гадости, сплошное вранье!.. Он писал, что ты меня больше не любишь, что ты не хочешь меня видеть… никогда в жизни… Но почему ты не написала сама?
– Я написала… Только, наверное, поздно… Мое письмо ушло 14 декабря… Пришло, должно быть, когда ты уже тут был…
Николай задумался. Возбуждение сменилось глухой тоской.
– А что ты там написала? – неуверенно спросил он.
– Не все ли равно!
– Нет… То же самое, что и мой отец?
Софи не ответила, и эта начавшаяся игра в прятки отбросила узника снова на край бездны. Он больше не в силах терпеть в их отношениях не только лжи, но даже простого недоразумения, между ними не должно быть ни малейших недомолвок! Николай бросился к ногам жены.
– Какое же я ничтожество! – почти простонал он.
Она прикрыла ему рот ладошкой, но он продолжал шептать сквозь тонкие пальцы:
– Скажи, как ты можешь любить меня? Все еще любить меня – до сих пор? Меня – такого, как я есть?
– Никогда не спрашивай так! – голос ее дрожал.
Его как ударило: догадался, это же очевидно! Отстранился, посмотрел на жену с недоверием, с тревогой и тихо произнес:
– Я все понял, Софи… Ты пришла ко мне из милосердия… Если это и впрямь так, умоляю, уходи!.. – Он стал повторять, как в бреду: – Уходи, уходи, Софи, уходи…
Ни один мускул в лице гостьи не шевельнулся, только глаза наполнились слезами. Николай понял, какую обиду нанес любимой, и бешено замотал головой:
– О, прости меня! Я сам не знаю, что говорю! Прости! Ты здесь, рядом со мной, после всего, что произошло, а я…
– Тише, тише, Николя! Нас же слушают…
– Мне все равно! Безразлично! Пусть все слушают! Я люблю тебя!
Генерал Сукин кашлянул, устроился в кресле поудобнее и принялся чистить ногти заостренным концом палочки из слоновой кости. Николай готов был убить его ради того, чтобы на пять минут остаться с женой наедине, без свидетелей, но… Уткнувшись лбом в колени Софи, он повторил – тихо и нежно:
– Люблю тебя…
– И я, Николя. И я тебя люблю тоже.
– Но что с нами будет? Я погиб и увлекаю тебя за собой!
Она стала поглаживать ему волосы – так ласково, что дрожь пробежала по всему телу несчастного. Нервы его были натянуты до предела.
– Надо надеяться, – сказала Софи. – Со всех сторон говорят, что приговор будет вынесен не столь уж суровый.
– Не могу поверить, что меня вот просто возьмут да отпустят в один прекрасный день!
– Вот увидишь, так и будет!
– И ты согласишься, чтобы я вернулся к тебе?
Она приподняла голову мужа обеими руками, всмотрелась в него влюбленным взглядом… потом внимательным… потом сокрушенным… и горестно сказала:
– До чего же ты отощал… настрадался, верно!
– Если я вернусь и мы будем вместе, ты увидишь, я стану совершенно другим человеком!.. Достойным тебя, достойным нашей любви!.. Я столько понял в тюрьме!.. Мне все стало ясно, я сам стал ясным изнутри, я стал серьезным!.. Поверь мне, умоляю тебя, поверь… Начинай верить прямо сейчас!..
Только в этот момент Николай разглядел, как она одета: совсем простое серое платьице, кружевной воротничок, скромная черная шляпка с белым перышком… И теперь не мог насмотреться на гордую головку на высокой шее, милое тонкое лицо, темные глаза с золотыми искорками, легкие изящно вырезанные ноздри, бархатную тень над верхней губкой… Столько грации, столько чистоты… нет, это просто лишает последних сил… Он прошептал:
– Как ты прекрасна…
И сразу увидел со стороны себя самого: нищий в грязных тряпках у ног элегантной женщины.
– А я-то… я грязный… от меня дурно пахнет… – выговорил он с отвращением.
Генерал Сукин вытаращил глаза, брови полезли вверх. Софи, с вызовом поглядев в его сторону, помогла мужу подняться, усадила рядом с собой, обняла – словно хотела убаюкать. Но он все еще не решался прижаться к ней в засаленной своей одежде.
– Ты еще сможешь прийти? – спросил, наконец, Николай.
– Мне обещали.
– А когда?
– Еще не знаю. Скоро…
– А пока – что станешь делать?
– Подавать прошения… Вот уже два месяца я стучу во все двери, возобновляю все знакомства, завязываю новые…
– Значит, ты уже два месяца в Петербурге?
– Да, Николя, как раз два месяца. Сняла маленькую квартирку на Васильевском.
– Ты тут одна?
– Нет, со мною Никита.
– Как это? Бросил работу?
– Бросил. Сказал, ему больше нравится быть моим слугой, чем свободным работником у других.
– Чудесный он парень!
– А знаешь, кто больше всех помог мне в хлопотах? Ипполит Розников!
– Это животное! – проворчал Николай.
– Неправда! Он был очень, очень мил со мною, ужасно деликатен… И он не перестал быть твоим другом, опровергая все твои идеи… наши идеи… Именно он устроил мне встречу с генералом Бенкендорфом и великим князем Михаилом Павловичем. Видишь, какие теперь высокие у нас покровители!
– Дорогая моя, любимая моя, ты делаешь все это для меня – для меня, который и сотой, тысячной доли таких забот не достоин, который…
Софи прервала его:
– Давай-ка лучше поговорим о тебе. Как ты себя чувствуешь? Здоров ли? Что делаешь целыми днями в своей камере? Достаточно ли хорошо тебя кормят?
– Мадам, – поднялся из кресла генерал-соглядатай, – сожалею, но вынужден сообщить, что свидание окончено.
Николаю словно пощечину дали – он вздрогнул, сжал слабые кулаки, но скоро успокоился под любящим взглядом жены. А Софи встала, обняла его снова, поцеловала, не обращая никакого внимания на надзор: генерал смотрел теперь на них открыто, ничуть не стесняясь. Вошли охранники, взяли Николая под руки и мягко повлекли за собою.
– Софи! Софи! Я хочу жить ради тебя! – остановившись, закричал Озарёв. – Возвращайся! Умоляю тебя, возвращайся!
– Если вы хотите, чтобы ваша супруга вернулась, позвольте спокойно увести вас, Николай Михайлович! – сказал Сукин.
Софи, у которой сердце сжалось в комок от боли, глядела вслед мужу – он удалялся, двое охранников с двух сторон… А на пороге обернулся. О, эти длинные светлые волосы, эта грязная всклокоченная борода, эти нестерпимо зеленые глаза на изможденном лице – никогда, никогда она не испытывала к Николя такой щемящей нежности! Она приехала сюда, тая в душе озлобление, жалость не совсем еще смыла его, и до той минуты, когда она увидела мужа, ей приходилось бороться с собой, чтобы забыть о том, как он ее предал. Но первый же взгляд начисто уничтожил глупую зависимость от гордыни. Разве не ее это ошибка, не ее вина – то, что Николя в тюрьме? Сам по себе, он, скорее всего, никогда не восстал бы против режима. Это она, она привила ему когда-то в Париже вкус к свободе, и теперь он так дорого за это платит. И чем больше Софи чувствовала ответственность за подталкивание мужа к политике, тем меньше признавала за собой прав оценивать, достоин ли он прощения. Она рассеянно улыбнулась генералу, который проводил ее до дверей:
– Благодарю вас, ваше превосходительство!
* * *
Никита ждал Софи в квартирке, снятой неподалеку от крепости, за Сытным рынком, – и, когда она вернулась, вид у него был такой встревоженный, что нельзя было не растрогаться. Софи подробно рассказала верному слуге о посещении тюрьмы, и собственный рассказ страшно разволновал ее снова. И все равно любая, даже самая горькая фраза была окрашена безумной радостью от того, что она увиделась с мужем. По крайней мере, Софи очень хотелось в это верить, чтобы помешать вернуться ревности. Рана открылась в момент, когда она меньше всего могла о таком подумать, и снова Софи стала опасаться, не оставила ли неверность Николя такой глубокий след в ее душе, что это не даст ей возможности уважать его так, как раньше, как ей хотелось бы. А вдруг после первых сердечных излияний ей теперь придется вымучивать из себя слова, вдруг она невольно проявит холодность, враждебность? Или это уже произошло? Ах, как Софи ненавидела в себе эту непримиримость, эту несговорчивость, неумение пойти на компромисс, как все это мешает принять и простить то, что многие женщины сочли бы попросту обидой, которой можно и не придавать особого значения!
– А что – у Николая Михайловича политические идеи все те же, барыня? – спросил Никита.
– Николай Михайлович теперь еще больше убежден в своей правоте! – с гордостью воскликнула она.
И подумала: «Но я же люблю его, люблю! Люблю, как прежде!»
– А что же вам теперь делать, чтобы свидеться с барином опять?
– Завтра же начну подавать новые ходатайства.
– Наверное, вам бы стоило переговорить об этом с господином Розниковым?
– Да-да, я и сама собиралась.
Софи заметила, что разговаривает с Никитой не как со слугой, а как с близким другом. И в самом деле, молодой человек уже ничем и не напоминал робкого и невежественного крепостного, каким был когда-то. С нею говорил теперь сильный, мужественный юноша, лицо его лучилось энергией, отражая неизменную готовность к действию, взгляд был открытым, манера держаться скромная, но достойная. Кроме Никиты, Софи взяла с собой из деревни горничную – двадцатилетнюю Дуняшу. Оба – красивые, здоровые, хорошо бы их поженить.
Она отослала Никиту, надела пеньюар, побродила минуты две по комнате – просто так, ничего не делая, ни о чем не думая, а потом решительно села к столу. Надо написать свекру. Надо объяснить ему, в какую ярость привел ее Михаил Борисович своим тайным посланием Николя. Совершенно ведь очевидно, что расчет у него был один: сообщив все эти мерзости, солгав, добиться, чтобы между нею и мужем были сожжены все мосты, причем сделать это прежде, чем она опомнится, все обдумает; он хотел поставить ее перед необходимостью разрыва, не дав возможности заглянуть в собственное сердце. Михаил Борисович так ненавидит Николя, что, даже узнав о его аресте, не проявил ни малейшего милосердия, даже не пожалел сына и – вместо того, чтобы озаботиться его судьбой – стал проклинать мятежника, осмелившегося вступить в заговор против царя. А когда Софи собралась ехать в Санкт-Петербург, закричал, что она не смеет, не смеет, взяв опеку над сироткой, кидаться на помощь разбойнику и политическому преступнику. Наверное, если бы она решила сбежать с любовником, он и то меньше бы разозлился. До последней минуты ей приходилось выдерживать атаки, обходить ловушки, выслушивать угрозы, уговоры, мольбы старика, испуганного грядущим одиночеством. И с тех пор, как она уехала, от него через день приходило по письму с краткими отчетами о здоровье маленького Сережи и очень длинными рассказами о себе, но никогда ни слова о сыне. Можно подумать, он понятия не имеет, зачем она здесь. Каждое послание неизменно заканчивалось любезностями, признанием, как без нее грустно и словами: «Когда же вы вернетесь?»
Склонившись над чистым листом, Софи тщательно продумывала все свои претензии и столь же тщательно отбирала слова достаточно выразительные, чтобы произвести впечатление. Хотя… есть ли на свете слова, способные произвести впечатление на злобного, лживого старика, есть ли на свете что-то, что способно его растрогать? Эгоизм Михаила Борисовича каменной стеной отделял его от всего мира. Он слышал только то, что хотел услышать. Тогда к чему? К чему? Софи вздохнула. Перо так и зависло над бумагой, а она погрузилась в воспоминания о Каштановке…
Как же она страдает в разлуке с этим чудесным имением, каждый уголок которого ей знаком, ей дорог! Как она скучает по крестьянам, да и нужна ведь им каждый день, а главное – как ей тяжело без маленького мальчика, которого Мари доверила ей умирая… Сколько живых существ она покинула из преданности одному-единственному! Разумеется, ребенку хватает и заботы, и ласки – кроме влюбленного в малыша деда (а ведь отказывался в свое время приютить внука!), есть старая Василиса, она нянчит дитя, как положено у русских, и месье Лезюру уже не терпится приступить к воспитанию на французский манер, а еще есть целая толпа служанок, восторженным гулом откликающихся на всякую улыбку Сереженьки и сокрушающихся от души, стоит ему нахмурить бровки.
Прекрасно понимая, что ребенок вполне счастлив в такой обстановке и в ее отсутствие, Софи тем не менее тревожилась из-за того, что пришлось с ним расстаться. Нежность, которая заливала ее при виде маленького розового насупленного личика, лучики, загоравшиеся в глазах малыша, едва она появится на пороге, его радостное утреннее агуканье… Наверное, вырос за два-то месяца… И узнает ли он свою Софи, когда она сможет вернуться в Каштановку? Ее охватило желание прижать его к себе – такого теплого, такого резвого, прижать к груди крепко-крепко. Материнские заботы были в ее жизни самым существенным: тысячи советов Василисе, кормилице… И вдруг непонятная истома повернула все ее мысли в совсем ином направлении, и Софи покраснела от стыда: какое я, оказывается, животное, самка в привязанности к этому человеку! Взяла себя в руки, окунула перо в чернильницу. Михаил Борисович получит от нее обычное, бесстрастное письмо, никаких излияний, одни только сухие сведения. Впрочем, ничего другого ему и не понять. Она написала:
«Дорогой отец! Мне удалось повидаться с Николя…»
* * *
Следствие продолжалось пять месяцев, и работа в целом была завершена к 30 мая 1826 года. 1 июня император издал манифест об учреждении Верховного уголовного суда, которому вменялось в обязанность решение судьбы ста двадцати одного обвиняемого. Верховный суд этот был составлен из членов Государственного совета, Святейшего синода, Сената, а также высших военных и гражданских чинов, назначаемых особо, – всего семьдесят два сановника. И царь – в качестве единственного, по существу, судьи.
Процесс был закрытым, тайным, обвиняемым даже не предоставили возможности обеспечить себя защитой. Ходили слухи, будто Михаил Сперанский, лучший законодатель России, специально изучал не только политические процессы екатерининских времен, но даже и средневековые рукописи, чтобы найти прецедент, который позволил бы сделать законными исключительные меры – их только и жаждал царь. Преступников поделили на несколько разрядов – по тяжести вины и наказания приговор обещал быть весьма суровым, но император пообещал впоследствии смягчить кару и удивить мир своим великодушием, своим умением прощать.
Ипполит говорил об этом очень уверенно, и Софи повторила все Николаю при следующем свидании – в конце июня. В этот раз ей показалось, что муж выглядит лучше: тюремщик побрил его, подстриг волосы. На Озарёве была теперь изношенная, с бахромой по подолу, но чистая солдатская шинель. Лицо сияло надеждой:
– Знаешь, – шептал он, – я больше не отказываюсь от прогулок и съедаю все, что принесут, хочу набраться сил – благодаря тебе я снова полюбил жизнь!
– Это прекрасно, Николя, так и должно быть, – серьезно отвечала она. – Я убеждена, что ты скоро будешь свободен. Многих узников уже признали невиновными.
– Кого – не помнишь?
– Тех, кто смог доказать, что не был 14 декабря на Сенатской площади. И Костю Ладомирова, и Степана Покровского только что освободили!
– Очень рад за них… – В голосе Николая прозвучала горечь.
– И твоя очередь придет!
– Ох, сомнительно… Я-то 14 декабря был на Сенатской вместе с бунтовщиками!
– Но ты же не скомпрометировал себя так серьезно, как Рылеев или Каховский!
– Конечно же, нет, но…
– Но?
– Не знаю, не знаю… Наверное, ты права…
Генерал Сукин, присутствовавший при свидании, по-отечески одобрительно покачал головой.
– Как бы там ни было, – снова заговорила Софи, – Ипполит Розников сказал, что ты непременно должен написать государю, прямо ему и молить о помиловании.
– Как ты можешь просить меня об этом! – пробормотал он. – Это было бы недостойно!
– Однако многие твои товарищи – большинство! – этот, как ты говоришь, недостойный поступок совершили. Мы не должны упустить ни малейшего шанса!
Он обещал подумать. Николая переполняла благодарность жене за рвение, с которым она спасала его, он был взволнован до слез и, придя в камеру, до самой ночи, как драгоценные бусинки, перебирал воспоминания о сегодняшней встрече.
* * *
Едва установилась хорошая погода, по приказу коменданта крепости открыли окошко с замазанными мелом стеклами. Правда, даже так дышать было трудно: воздух в тесной камере и с открытым окном был влажный и обжигающий, как в парильне. И все прочие запахи перекрывала вонь из деревянной кадушки… Но все-таки квадратик неба, переливавшегося всеми оттенками лазури, сопровождал теперь Николая даже во сне.
Несмотря на желание дать Софи утешение, он так и не смог заставить себя написать пошлейшее письмо с целью растрогать императора. Изорвав в клочья несколько листов бумаги, решил поделиться своими затруднениями с отцом Петром Мысловским. А тот посоветовал ждать: лучше подать прошение уже после того, как Высший уголовный суд вынесет приговор.
– Думаю, не пройдет и недели, и вы поймете, как следует действовать…
Священник казался озабоченным, встревоженным. Николай спросил, известно ли ему хоть что-то определенное насчет того, как двигается процесс.
– Нет-нет, – торопливо отозвался отец Петр, – пока ничего определенного я не знаю.
Поведение его было настолько странным, что Николай, поразмыслив, наконец, догадался: похоже, батюшку мучает совесть! Скорее всего, в начале следствия он приходил к арестантам только как верный слуга императорской власти, но, разговаривая с ними… с нами… но беседуя, но всматриваясь, вслушиваясь, узнавая людей, наверняка убедился, что они не заслужили того наказания, какое им угрожает. Пускай поступки мятежников представлялись ему неблаговидными, заслуживающими порицания – он не мог теперь отрицать, что вдохновляли их благородные идеи. И теперь он выносил им приговор мягкий, отеческий – может быть даже, он встал на их сторону во имя божественного правосудия и против официального. А если священник не говорит этого, все равно ведь все можно прочесть в его глазах. Ну, и чем более ложным кажется ему положение, в котором он невольно оказался, тем сильнее он хочет облегчить страдания узников, тем большее уважение, тем большую любовь к ним испытывает.
Назавтра, 12 июля, Николая разбудила суматоха за дверью камеры: там бегали, отдавали какие-то короткие приказы, позвякивали металлом. Ворвался ураганом полковник Подушкин, за ним – двое охранников и брадобрей.
– Извольте одеться, сейчас вас побреют!
– Что происходит? – спросил Николай.
Но Подушкин уже улетел.
– Нам-то откуда знать? – пожал плечами Змейкин. – Наверное, что-то серьезное. Вам ведь принесли вашу красивую одежду.
Николая побрили, он с удовольствием переоделся в то, в чем был арестован. Охранники вывели его во двор крепости. Здесь было невероятное множество карет – ни дать ни взять бал в Зимнем дворце, усмехнулся про себя Озарёв. Кучера, берейторы, выездные лакеи в ярких разноцветных ливреях важно прохаживались туда-сюда между лошадьми с заплетенными в косички гривами, с горящей серебром сбруей. Плотные группы солдат и жандармов бесстрашно жарились под добела раскаленным июльским солнцем. Двери комендантского дома были распахнуты настежь, часовые, выпятив грудь, застыли на каждой ступеньке лестницы, видны они были и в прихожей.
Николая подтолкнули – он оказался в тесной комнате с задернутыми занавесями. Здесь уже собралось человек двадцать. Узники… Вылинявшие мундиры, болезненно-тревожные лица… Почти все молчали. Удивительно: Озарёв никого из них не знал. Наверное, здесь одни только члены Южного общества, подумал он, жаль, что так вышло.
Вдруг кто-то тронул его за плечо. Обернулся: маленькое, узкое лицо с густыми черными бровями – Юрий Алмазов! Вот это встреча на краю света! Они, чуть не плача, обнялись.
– Ты хоть что-нибудь понимаешь? – спросил Николай.
– Не больше твоего, – ответил Алмазов. – Судить нас будут. Что ж, постараемся себя защитить.
– Но как случилось, что здесь нет никого из наших друзей?
– Загадка судопроизводства! Должно быть, они принадлежат к другому разряду. Каждый – в соответствии со своим преступлением! Просто-таки Дантова «Божественная комедия»… А мы с тобой оказались в одном круге ада. Впрочем… впрочем, не в такой уж дурной компании – посмотри!
Николай проследил взглядом за рукой Юрия Алмазова и обнаружил в углу, в полутьме, пятерых членов Северного общества. Тут были Одоевский, штабс-капитан Муханов, генерал Фонвизин и два брата Беляевых. Озарёв подошел, пожал руки товарищам. Мундир младшего Беляева украшен крестом Святого Владимира – Александр I наградил его за героизм, проявленный во время наводнения 1824 года…
– Тебе не о чем беспокоиться, – сказал ему штабс-капитан Муханов. – Уж такого отличия они не смогут не принять во внимание. И ты еще с почестями выйдешь отсюда.
– Разумеется, – поддержал Николай. – Если верить сведениям, которые я получил от жены, речь вообще идет о простой формальности.
– Говорят, императрица потрясена письмами, которые шлют ей семьи обвиняемых! – воскликнул Одоевский. – Она поможет нам! Она святая!
Двери распахнулись. Засуетились солдаты, выводя небольшую группу арестантов. Не успев ни в чем разобраться, Николай, вынесенный потоком, очутился в том самом помещении, где его несколько раз допрашивала следственная комиссия. Стол, накрытый красным сукном, имел теперь форму подковы, а сидели за ним не только генералы, но и архиепископ, и митрополиты, и сенаторы в малиновых мундирах… Места не хватало, и некоторые из судей устроились в глубине – на стульях и скамьях, поставленных полукругом. Лица у высших сановников империи, одетых, словно явились на гала-представление, были нарочито безразличными. Стоявшие навытяжку арестанты, выстроенные в один ряд у стены, казались еще более жалкими перед этой выставкой золота, орденов, широких муаровых лент. Министр юстиции, старый князь Лобанов-Ростовский, стоял у аналоя – будто собирался служить литургию, однако перед ним было раскрыто отнюдь не Евангелие, а толстый том с делом декабристов.
– Какая мизансцена! – шепнул Николай Одоевскому.
– Хотят произвести на нас впечатление – надеются, лучше урок усвоим! – проворчал штабс-капитан Муханов.
Жандармы, выпучив глаза, зашипели: «Молчать!» Министр юстиции ткнул указательным пальцем в какой-то параграф книги, раскрытой на аналое. Секретарь, получив сигнал, надел очки и прочел:
– «Будут лишены дворянства, всех прав и имущества, титулов, чинов, званий, наград и сосланы в каторжные работы сроком на двенадцать лет с последующим поселением на вечное жительство под надзором в Сибирь те, кто принадлежит к четвертому разряду, а именно следующие преступники…»
Он помолчал, откашлялся и принялся оглашать список:
– Штабс-капитан Муханов, бригадный генерал Фонвизин…
Оледеневший до костей Николай повторял и повторял про себя: «Двенадцать лет каторги и вечная ссылка! Не может быть! Такого просто не может быть! Чересчур суровая кара! В конце он объявит смягчение наказания!»
У сидевших перед ним судей, помимо их воли, лица стали виноватыми. Кое-кто не решался поднять глаза, чтобы не встретиться взглядом с осужденными. Священнослужители, потупившись, жевали бороды. Военный министр Татищев брал одну понюшку за другой и нервно чихал в платок. Генерал Чернышев, раскрашенный больше обычного, внимательно, будто сквозь ювелирную лупу, рассматривал свои ногти.
– Озарёв Николай Михайлович…
Николай вздрогнул, услышав свое имя, посмотрел направо, налево – на товарищей, все они словно окаменели.
– Корнет Нарышкин, корнет князь Одоевский!
Было названо последнее в четвертом разряде имя. Секретарь умолк и сделал шаг назад, уступив место другому, который монотонно, как пономарь, зачитал вынесенный за несколько минут до того приговор обвиняемым первого, второго, третьего разрядов: ссылка в каторжные работы навечно, на двадцать лет, на пятнадцать лет… И наконец – вытянув шею, будто петух, приготовившийся пропеть утреннюю зарю, сообщил, что политические преступники вне разряда Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Кондратий Рылеев и Петр Каховский приговорены к смертной казни через повешение. Николаю показалось, что его ударили в самое сердце. Его душило негодование, но он и пальцем пошевелить не мог. Секунду-другую ждал, что объявят государеву милость. Но секретарь раскланялся и исчез, не сказав больше ни слова.
– Уведите их! – приказал Лобанов-Ростовский.
Арестанты зароптали, поднялся шум.
– Вы не смеете судить нас таким образом! – воскликнул Николай. – Дайте нам возможность хотя бы защититься!
– Уведите же их! – гневно повторил Лобанов-Ростовский. – И пусть введут следующих!
– По одному – напр-р-раво! – рявкнул унтер-офицер.
Узники вышли из зала. Их отконвоировали в Алексеевский равелин, разместили уже в других камерах. Едва Николай успел сесть на соломенный тюфяк, вошел очень бледный и взволнованный отец Петр Мысловский.
– Вы не верьте ничему из того, что сейчас услышали! – заторопился он. – Их помилуют у подножия виселицы! И ваш приговор, ваш тоже будет изменен, облегчен!
– Как они приняли весть о казни?
– Спокойно. Очень-очень спокойно. Впрочем, они прекрасно понимают, что это мера устрашения. Смертная казнь в России отменена, и государь не может пойти против человеческих законов, а четыре митрополита из состава высшего суда – против Закона Божьего! Будем верить! Будем верить!
В экзальтации священник присоединился к приговоренным политическим преступникам. Несчастье было его отчизной. Он наскоро благословил Николая и сказал:
– Больше не могу оставаться с вами. Мне нужно посетить всех ваших друзей. До завтра!
* * *
Совсем стемнело, но Николай не мог заснуть. Июльская ночь вливала в открытое окно камеры влажную жару, раздражающие запахи и отдаленные шумы города. Время от времени у стен крепости раздавался плеск весел. Крысы высунулись из нор, им было любопытно посмотреть на нового соседа. Он не обращал на них внимания. Во рту пересохло, как при лихорадке. Потная сорочка приклеилась к телу. Ему оставили собственную одежду, строго наказав не пачкать ее. Что означает эта предупредительность? Он лег на спину и, глядя на черно-синее небо, постарался собрать беспорядочно разбегающиеся мысли.
Двенадцать лет каторги!.. Если приговор не будет пересмотрен, он никогда больше не увидит Софи! Но теперь, когда они снова обрели друг друга, угроза вечной разлуки невыносима, невыносима!.. Вернув ощущение счастья, Софи похитила у него мужество… «Все устроится, – принялся Николай уговаривать себя. – Император сократит мне срок до нескольких месяцев тюрьмы. Наши пятеро друзей не будут повешены. Мир и душевный покой вернется в Россию. Господу не угодно, чтобы было иначе…» Он повторял себе это утешение без конца.
Посреди ночи послышались стук молотка и визг пилы. Должно быть, плотники возводят около крепости трибуны… Потом пронизывающий рассветный ветер принес ему едва различимый барабанный бой, сигналы трубы… Играли зорю в казармах… Квадратик неба в окне стал похож на клок серого тумана… Птицы начали свои утренние переговоры, где-то с криком пролетела чайка… Измученный Николай наконец заснул, но его разбудил тюремный врач, явившийся осведомиться о здоровье. Да что они там – в высших кругах – опасаются, как бы суровость приговора вконец не расшатала арестантам нервы, что ли? Подобное участие показалось Николаю столь смехотворным, что он отослал заботливого посетителя без всякого уважения к его сединам, ученому виду, очкам и саквояжу. Но тут наступила очередь отца Петра Мысловского. Дергая за кончик свою рыжую бороду, священник объявил:
– Последние новости весьма утешительны: смертной казни не будет. Храни вас Господь!
И уступил место коменданту. Исполненный важности Подушкин отдал Николаю приказ одеваться и следовать за ним.
– Куда вы собираетесь меня вести? – спросил Озарёв.
– Я не намерен вам ничего объяснять. Но на вашем месте я бы поторопился.
«Нам хотят объявить царскую милость! Помилование!» – возликовал в душе Николай. Его окружили охранники, вооруженные солдаты, но он, охваченный радостным предчувствием, смотрел на них дружески, чуть ли не с любовью. Перейдя под конвоем подъемный мост, связывающий Алексеевский равелин с собственно крепостью, Николай спустился во двор.
Здесь, в утреннем сумраке, тесно, локоть к локтю, уже стояла примерно сотня узников, и приводили еще и еще – из всех казематов. Невыспавшиеся, невыбритые, плохо одетые, бледные, истощенные, у каждого – взгляд загнанного зверя.
Генерал Сукин в мундире с иголочки во все горло выкрикивал приказы. Опьяненные собственным рвением унтер-офицеры с оранжевыми воротниками распределяли арестантов по группам – в соответствии с объявленными накануне судом разрядами. Каково преступление – таков разряд: главные организаторы заговора; те, кто признан виновными в попытке цареубийства; те, кто позволил себя вовлечь и примкнул к мятежникам; те, кто ничего не сделал, чтобы предотвратить восстание… Рядом с Николаем оказались братья Беляевы и Юрий Алмазов. Слева, среди приговоренных к вечной каторге, он различил Трубецкого, Оболенского, Кюхельбекера, Александра Бестужева, Якубовича, Пущина… В другой группе – там, где были осужденные на двадцать лет каторжных работ, – Николая и Михаила Бестужевых… Ни Рылеева, ни Каховского, ни Пестеля не было видно.
– Какое еще зрелище нам хотят предложить? – проворчал Юрий Алмазов.
– Знаешь, в любом случае я не думал, что нас так много, – отозвался Николай. – Как-то это приободряет!..
Три четверти осужденных были ему незнакомы. Немногочисленные гражданские участники заговора, одетые в черное, затерялись среди толпы военных в мундирах с красными отворотами, облезшими позолоченными эполетами, в пыльных измятых головных уборах. Кое у кого на груди сверкали самые славные ордена империи. Когда все группы были выстроены и сосчитаны, выехал верхом генерал Чернышев. Он сегодня не стал румяниться, и лицо его казалось таким безжизненным, словно его вылепили из горшечной глины. Чистокровный жеребец под генералом взыгрывал, генерал нервно, с трудом сдерживал его. Он был неважный наездник, генерал Чернышев, – знатоки в рядах осужденных молча оценивали действия всадника. Заметив их насмешливые улыбки, генерал в ярости повернул коня и ускакал прочь. Солдаты Павловского полка окружили приговоренных четвертого разряда. В память о Павле I, основавшем когда-то полк, в него набирали преимущественно людей с такими же курносыми носами, какой был у покойного императора. Николай смотрел на ряд черепов под высокими медными колпаками и думал: «Мы живем в стране безумцев!» Унтер-офицер вытянулся во весь рост и, видимо, на что-то разгневавшись, пролаял приказ. Войска стронулись с места, строевым шагом вышли из крепости через Петровские ворота…
Слева, на кронверке у крепостного вала – странное сооружение: два столба, соединенных железной балкой. С железной балки свисают пять веревок.
– Виселица! – прошептал Николай.
– Да… – откликнулся Одоевский. – Отец Петр Мысловский предупредил меня, что комедия будет сыграна до конца. А в последнюю минуту стремглав прискачет посланец царя и возвестит о великой милости!
– Стой!
Они остановились на плацу. Увидели вдали небольшую группку молчаливых зрителей: несколько человек в иностранных мундирах, дипломаты, придворные. Семьям приговоренных наверняка ничего не сказали.
– Какая малочисленная публика, друг дорогой! – смеясь сказал Муханов. – Мы явно не делаем сборов!
Николай тоже засмеялся – так хотелось победить тревогу: нет, нет, никакой казни не будет, такого просто не может быть, ее не будет, они на это не пойдут, ведь даже сама пышность, с какой они все это обставляют, говорит о том, что единственная их цель – потрясти, поразить, сломить дух виновников!
По помосту прогуливались палачи в красных рубахах. То тут, то там на плацу вспыхивали и рассыпались искрами большие костры – их шевелили люди, вооруженные рогатинами и вилами. Густой дым поднимался к небу. Солнце не спешило выходить. Плац окружили подразделения всех полков Санкт-Петербургского гарнизона. С четырех сторон света разверзли свои жерла пушки.
Генерал Чернышев скакал по плацу то в одном направлении, то в другом. Он останавливался перед тем или иным узником, быстро вглядывался в него сквозь лорнет и суетливо двигался дальше. Плюмаж его развевался по ветру. Совершенно очевидно, Чернышев был назначен распорядителем церемонии. Император ради нее себя не побеспокоил… А может быть, не осмелился?.. Шептались, что он в Царском Селе… О начале торжества возвестил гром барабанов. По знаку Чернышева адъютант огласил приговор, чеканя каждое слово.
Николай подсчитывал имена. Сто двадцать, даже больше! Когда чтение списка было закончено, прозвучал приказ:
– На колени!
Все приговоренные опустились на колени. Снова забили барабаны, чтобы оповестить о разжалованиях, лишении дворянства, чинов, орденов, воинских званий. Палачи приблизились к офицерам и стали срывать с них эполеты, аксельбанты, ордена, наконец – мундиры… Все это сразу же бросали в огонь. Поленья трещали, пламя ярко вспыхивало, костры дымились, сильно пахло жженым сукном… С Николая, хоть он и не был военным, стащили фрак.
– Там у вас в карманах ничего не осталось? – услужливо спросил палач.
– Нет.
– Тогда давайте!
Палач швырнул фрак, и он полетел к костру, как черная птица, – крылья в разные стороны. Упал. Поднялся целый фонтан искр. Когда все остались в одних сорочках или полуобнаженными, палачи взяли в руки заранее подпиленные шпаги. Сильно взмахнув, они затем ломали шпаги над головами офицеров. Многие из стоящих на коленях людей были героями Отечественной войны, и лица их в этом чудовищном унижении светились трагически возвышенно. Челюсти сжаты, глаза сухие – в утешение теперь им остались лишь воспоминания. Иногда, даже при сильном ударе, клинок не ломался. Генералы, полковники, простые корнеты падали на землю – кто с ободранным плечом, кто с окровавленным, едва не оторванным по недосмотру ухом. И ворчали:
– Неумехи!
– Они тут новобранцев привели, что ли?
– Даже этого не умеют делать в России, – горько сказал Одоевский, пошатнувшись под ударом.
Палачи, на которых весьма недовольным взглядом смотрел Чернышев, были взвинчены, ругались. Николай подумал в холодном бешенстве: «Думаете, господа, что нас разжаловали? Нет! Вы сами себя разжаловали!»
Когда была сломана шпага над последней головой, солдаты принесли охапками тюремные халаты в серо-белую полосу и велели арестантам надеть их. Времени разбираться с размерами не было – и высоким доставались чересчур короткие халаты, а низкорослым слишком длинные. Вскоре на кронверке Петропавловской крепости никого уже не было, кроме толпы скоморохов в арестантских робах.
Военный оркестр грянул радостный марш – звенели цимбалы, ликовали фанфары. Услышав мелодию, кони стали приплясывать на месте. Генерал Чернышев спешился перед гостями. Хотел услышать комплименты за удачное зрелище? Услышал? Под синим небом гремели окрики унтер-офицеров. Легкий речной ветер колыхал перья киверов. Пели трубы.
Приговоренных повели в крепость. Проходя мимо виселицы, они с любопытством смотрели на нее.
* * *
Николай понапрасну выпытывал у тюремщика во время ужина, что ему известно о пяти приговоренных к повешению – тот клялся, что не известно ничего. Но бегающий взгляд говорил ясно: лжет. Стремясь все-таки хоть что-то разузнать, Озарёв попросил охранника позвать к нему отца Петра Мысловского.
– Слишком поздно, – сказал охранник.
– Мне нужно исповедаться.
Тюремщик кивнул – в тюрьме для встречи с Богом расписания не существовало.
Когда священник вошел в камеру, за окном было уже совсем темно. Стоило увидеть его перевернутое лицо, стало ясно: беда!
Отец Петр опустился на табурет, закрыл лицо руками и прошептал:
– Бедный, бедный мой друг, как это омерзительно!
– Что? – воскликнул Николай. – Вы же не хотите сказать, что их повесили?
– Повесили…
Мгновение Озарёв болтался сам в веревочной петле, чувствуя внизу пустоту. Земля ушла у него из-под ног. Он задыхался от ужаса.
– Никогда и подумать не мог, что такое возможно! – снова заговорил священник. – Самые высокопоставленные сановники заверяли, что все будет хорошо… Я позволил убаюкать себя, как ребенка… Какой стыд!.. Какой стыд!.. Какой позор для нашей страны!..
– Вы были с ними до последней минуты? – тихо спросил Николай.
– Да. Все пятеро вели себя удивительно мужественно и достойно.
– Что они говорили?
– Рылеев говорил мне о страданиях Христа… Муравьев-Апостол сказал: «Я прощаю царя, если он сделает Россию счастливой». И даже протестант Пестель попросил его благословить!..
– А потом?
– Что потом?
– Потом что было? Им завязали глаза?
– Николай Михайлович, зачем это вам?
– Мне надо знать… Чтобы яснее себе их представить… Чтобы сильнее их любить… Чтобы уметь лучше почтить их память…
– Им надели колпаки на головы, связали руки за спиной, на грудь каждому повесили табличку с надписью: «Злодей цареубийца», они сидели на траве в ожидании казни и спокойно, тихо беседовали. Потом им скомандовали: «Вперед к эшафоту!» И заиграла музыка…
Священник глубоко вздохнул, отвел от лица руки. Лоб его судорожно морщился, слезы текли по щекам и пропадали в бороде.
– Они по крайней мере умерли сразу?
– Нет…
– Как это – нет?
Отец Петр какое-то время не мог продолжать, он дрожал всем телом, казалось, сейчас он упадет… И вдруг все, о чем священник хотел промолчать, лихорадочным потоком выплеснулось из него:
– Нет, бедный друг мой, нет! Конец их был ужасен!.. Палачи поставили на доски, прикрывающие яму, школьные скамьи, втащили туда осужденных, а когда вынули эти скамьи из-под их ног, то три из пяти веревок оборвались!.. Пестель и Бестужев-Рюмин остались висеть, но Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол рухнули на доски, те сломались под их тяжестью, и все трое упали в яму… поломали ноги… Их стали вытаскивать из ямы – окровавленных, полуживых, но живых! Рылеев так расшибся, что во второй раз его на руках на эшафот внесли. Палачи растерялись – где взять другие веревки, все лавки закрыты… Исполнение казни задержали на полчаса… Полчаса смертной тоски для приговоренных, полчаса стыда для тех, кто наказывал их… Наконец, стали вешать снова – теперь им все удалось… А музыка играла все громче и громче… Да, да, теперь веревки оказались крепкие… Я не мог вынести этого зрелища – потерял сознание… Как я виноват перед Господом!.. Боже, Боже, милостив буди мне, грешному!
Нервы Николая были натянуты до предела, он и сам дрожал, по коже пополз холод… Бессильный гнев…
– Отец Петр… вы и сейчас думаете, будто царь – помазанник Божий?
– Теперь уже не знаю… – ответил Мысловский. – Голова горит, все кружится в ней… Преступление сместилось… оно теперь по другую сторону… Судьи обесчестили себя, а обвиняемые взяты на небо в ореоле мучеников!.. Да приимет их Господь в Царствии Своем, да учинит души их, идеже праведнии упокояются! Вечная память!
Отец Мысловский перекрестился.
– А для нас, – заговорил, помолчав, Николай, – после этой казни не осталось ни малейшей надежды.
– Отчего вы так думаете?
– Если царь, не поколебавшись, отправил на виселицу пятерых главных заговорщиков, почему бы ему не отправить на каторгу всех остальных?
– Да, пожалуй, – ответил священник, – пожалуй, теперь вам не стоит надеяться на царское милосердие.
Николай будто второй раз услышал приговор. Впереди ничего, кроме огромной зияющей пустоты: Сибирь. «Знает ли Софи, что произошло?» – подумал он. Она отдалялась от него. Он больше не может думать о ней как о жене. Рыдания сотрясли его плечи. Он упал на кровать, закрыл глаза и позавидовал тем, кто нынче уже мертв.
* * *
На следующий день, когда солнце поднялось уже высоко в небо и сияло нестерпимо ярко, до слуха Николая донеслось церковное пение. Он довольно долго и с печалью слушал певчих, затем позвал охранника и спросил, откуда это и что такое.
– Служат благодарственный молебен на Сенатской площади, – ответил тот. – И очистительное молебствие. Император и вся императорская семья вернулись из Царского Села. Все священники из Казанского собора там. Митрополит проходит перед гвардейцами и кропит всех святою водой. И землю святою водой окропляют, где мятеж был… Такой прекрасный праздник!..
Николай улыбнулся и прошептал:
– Скажи, какой сегодня день!
– 14 июля.
– Так я и думал… А знаешь, что произошло во Франции 14 июля ровно тридцать семь лет назад?
– Никак нет, ваше благородие.
– Взятие Бастилии!
Тюремщик изобразил на лице безразличие, покачал головой и вышел.
6
Никита принес еще влажную, пахнущую типографской краской газету и молча протянул ее Софи. Она знала, что найдет там: Ипполит Розников вчера еще предупредил. Но вопреки всяким разумным доводам надеялась, что с тех пор наказание смягчили – ведь такого просто не может, не должно быть!
Вот… посреди страницы – приговор… Буквы заплясали перед глазами, не давая прочесть… «Преднамеренно… преступление против царя и Отечества… тайное общество… возбуждение войск к мятежу… цареубийство…» Знакомый и чудовищный язык всех специальных, такого рода судов… Длинный список имен… Имя мужа бросилось в глаза: «Николай Михайлович Озарёв… в каторжные работы сроком на двенадцать лет с последующей вечной ссылкой»! Пальцы разжались, газета упала на колени.
– Так это верно, барыня? – тихо спросил Никита.
– Да, – ответила она.
– Какое ужасное горе, барыня! Какое несчастье для всех! Сейчас у типографии была целая очередь: ждали выхода газеты… И у всех такие печальные лица…
Софи с трудом могла вынести его взгляд – чересчур синий, чересчур трогательно-любовный. Она окаменела в отчаянии и не способна была плакать. Сухие блестящие глаза, невыносимая боль в груди – она страдала, что от природы устроена так, что не может, как бы это ни было правильно и благотворно, отдаться целиком горю, позволить ему поглотить себя, раствориться в нем. Более того, ей вдруг захотелось немедленно действовать, вот только – как? Что теперь она должна делать?
Попробовала написать свекру – следует ведь Михаилу Борисовичу знать о том, что сына приговорили к каторжным работам, но слова не шли, не связывались в строчки. Естественно: она же пытается говорить с каменной статуей! Софи с досадой отложила начатое письмо – успеется! – и снова взялась за газету. Сбоку от приговора – сегодняшнее обращение императора к армии:
«Божьею милостью Мы, Николай Первый, Император и Самодержец Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая…
Верховный уголовный суд, манифестом 1 июля сего года составленный для суждения государственных преступников, совершил вверенное ему дело. Приговоры его, на силе законов основанные, смягчив, сколько долг правосудия и государственная безопасность дозволяли, обращены нами к надлежащему исполнению и изданы во всеобщее известие.
Таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено; преступники восприяли достойную их казнь; Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди него таившейся. Обращая последний взор на сии горестные происшествия, обязанностью себе вменяем: на том самом месте, где в первый раз, тому ровно семь месяцев, среди мгновенного мятежа явилась пред нами тайна зла долголетнего, совершить последний долг воспоминания как жертву очистительную за кровь русскую, за Веру, Царя и Отечество на сем самом месте пролиянную, и вместе с тем принести Всевышнему торжественную мольбу благодарения…
Не в свойствах, не в нравах русских был сей умысел. Составленный горстью извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную, но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и всегда будет неприступно. Не посрамится сердце русское изменой престолу и Отечеству. Напротив, мы видели при сем самом случае новые опыты приверженности; видели, как отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили к суду подозреваемых; видели все состояния, соединившихся в одной мысли, в одном желании: суда и казни преступникам.
Но усилия злонамеренных, хотя и в тесных пределах заключенные, тем не менее были деятельны. Язва была глубока и по самой сокровенности ее опасна. Мысль, что главным ее предметом, первой целью была жизнь Александра Благословенного, поражала вместе ужасом, омерзением и прискорбием. Другие соображения тревожили и утомляли внимание: надлежало в самых необходимых изысканиях, по крайней возможности, щадить, не коснуться, не оскорбить напрасным подозрением невинность. Тот же Промысел, коему благоугодно было при самом начале царствования нашего, среди бесчисленных забот и попечении, поставить нас на сем пути скорбном и многотрудном, дал нам крепость и силу совершить его.
Следственная комиссия в течение пяти месяцев неусыпных трудов деятельностью, разборчивостью, беспристрастием, мерами кроткого убеждения привела самых ожесточенных к смягчению, возбудила их совесть, обратила к добровольному и чистосердечному признанию. Верховный уголовный суд, объяв дело во всем пространстве государственной его важности, отличив со тщанием все его виды и постепенности, положил оному конец законный.
Так, единодушным соединением всех верных сынов Отечества в течение краткого времени укрощено зло, в других нравах долго неукротимое…»
Нет, это уж слишком! Софи встала, заметалась по комнате, как по клетке. Она первая готова признать, что восстание 14 декабря было предприятием совершенно бессмысленным: революция не может победить, не опираясь на народ, на армию. А ни народ, ни армия в России не были готовы к тому, чтобы ощутить вкус свободы и начать за нее борьбу. Нужно было пробудить массы, нужно было воспитывать их, просвещать, развивать – а потом уже идти вместе с ними, во главе их, в наступление. Она же сотни раз говорила об этом Николя! Из-за собственной поспешности, из-за собственной неопытности декабристы потерпели поражение, проиграли там, где несколько лет спустя могли бы выиграть. Однако намерения их были благородны, были бескорыстны, да что там – восхитительны! Даже упрекая их в безумии, отвергая их взгляды, судьи вынуждены были признать: тот, кто рискует жизнью – не обычный преступник, он действует из любви к Родине, и, пусть даже его дело преждевременно, он имеет право на уважение сограждан. И в просвещенной монархии, достойной этого имени, не приговаривают человека к каторжным работам на двенадцать лет с вечной ссылкой за принадлежность к тайному обществу, не вешают пятерых заговорщиков, не дав им возможности обеспечить себе защиту, не душат протест самых великих умов империи! Охваченная гневом Софи то и дело повторяла, что нигде на свете, ни в одной стране подобная низость не могла бы иметь места. Она тосковала по Франции, думала, что ее родина – страна разума и милосердия.
Вдруг стало трудно дышать. Выйти на улицу? И куда-нибудь пойти – но куда ей идти, к кому? Она так мало знает людей в Санкт-Петербурге… Единственные ее знакомые в этом городе – старые друзья Николя. Софи позвала Никиту и велела нанять экипаж – отвезти ее к Косте Ладомирову.
Костю она застала в мавританской гостиной – они со Степаном Покровским пили кофе. Обоих в свое время арестовали, но выпустили, так как ни тот, ни другой не выходили на Сенатскую площадь 14 декабря. Увидев Софи, друзья смутились. Наверное, им показалось стыдно предаваться отдыху в этой элегантной гостиной, в обстановке неги и покоя, когда их друг в тюрьме, и пришла его жена поговорить о нем. Визит Софи беспокоил, расстраивал их, сбивал с толку. Костя и Степан с возмущением заговорили о казни пяти их «братьев» и несправедливом наказании для остальных.
– Едва глаза закрою – вижу виселицу! – драматически воскликнул Степан Покровский.
– А я – сибирский тракт! – подхватил Костя Ладомиров. – Николай, дорогой мой друг Николай! Как это все чудовищно!.. И подумать только: если бы он не заставил меня в то утро 14 декабря спешно уехать в Царское Село, я бы оказался вместе с моими товарищами на Сенатской площади!..
Его большой нос покраснел, на глазах появились слезы. Шумно сморкаясь, он принялся объяснять, что теперь, после всех физических и нравственных мук, которые пришлось пережить, ему просто необходимо отправиться в деревню и немного отдохнуть, прийти в себя. Софи спросила друзей Николая, что они думают о его поведении во время следствия. Они отвечали осторожно – так, словно говорили со вдовою. Насколько им известно, их бедный друг усугубил свое положение, отказываясь признать себя виновным и дерзко отвечая на вопросы следователей. Из их не слишком понятных объяснений Софи сумела сделать только один вывод: Николай, одержимый своими идеями, погубил себя гордыней – он, тридцатилетний, вел себя как пылкий юнец. И в то время как они упрекали Николая за его необдуманное поведение, она восхищалась тем, что муж оказался на такое способен, – ведь многие заговорщики предали их веру.
Внезапно Софи почувствовала, что у нее нет ничего общего с этими счастливцами, ускользнувшими от исхода только что разыгравшейся политической трагедии. Оборвав Костю Ладомирова на полуслове, она встала и вышла, убежденная, что ее уход доставит им только облегчение.
Никита встретил ее у порога чрезвычайно взволнованный. В гостиной – посетитель, вот уже десять минут ожидает.
– Это офицер, барыня! Весь как есть офицер – с орденами, с аксельбантами!..
Софи сразу же подумала: Ипполит Розников! Так и оказалось. Гость извинился за то, что пришел без предупреждения, потом протянул Софи лист серой бумаги, сложенный вчетверо. Она развернула – и узнала почерк Николая.
«Любимая моя, самая моя любимая! Наверное, ты уже знаешь, какая судьба нам уготована. Нет слов, чтобы выразить, как я подавлен. Что с тобою станется? Надеюсь, что мы свидимся до того, как меня отправят в Сибирь. А после – тебе нужно вернуться во Францию: там тебе легче будет меня позабыть. Просто необходимо, чтобы ты забыла меня! Я люблю тебя. Я день и ночь думаю только о тебе.
Твой несчастный Николай».
– Я смог увидеться с ним только что, и мы пробыли наедине десять минут, – сказал Розников. – Николай попросил бумагу, карандаш и написал вот эту записку. Он держался очень спокойно…
Софи уняла руки, чтобы не так дрожали, и пробормотала:
– Что значит «очень спокойно»?
– Я хочу сказать – мужественно, мадам. Николай принял свой приговор и не потерял достоинства. Тюрьма не переменила его…
– Когда их отправляют на каторгу? – спросила Софи, изо всех сил стараясь выговаривать страшные слова хотя бы с видимым хладнокровием.
– Не знаю.
– Но вы же должны, по крайней мере, сами что-то думать об этом!
– Все, что я знаю: первые восемь человек были увезены вчера – сразу после казни.
Софи прижала руки к готовому выпрыгнуть из груди сердцу:
– Уже?
– Успокойтесь, мадам, речь идет о преступниках первого разряда – это Трубецкой, Оболенский, Волконский, Якубович…
– А другие?
– Что касается остальных – ничего еще не решено. На каторге не хватает места, чтобы принять всех – там, в Сибири… Нужно время, чтобы все приготовить…
– Несколько дней?
– Или несколько месяцев! – поспешил обнадежить ее Ипполит Розников. – До тех пор можно надеяться. Приближаются торжества по поводу коронации. Может быть, по этому случаю государь…
Софи не дала ему договорить:
– Простите, но я больше не верю в царственное милосердие!
Ипполит, словно в знак покорности судьбе, развел руками:
– Жестокость мятежа повлекла за собой и жестокость отпора ему. Император решил наказать виновных в назидание другим. И я ведь предупреждал Николая…
– Да, я знаю, – вздохнула она.
И упрекнула себя в том, что таким сухим тоном говорит с человеком, который старается ее утешить и помочь им с Николаем, несмотря на все противоречия в политических взглядах. К счастью, у этого Ипполита вроде бы достаточно толстая кожа, и самодовольство защищает его от обид. Хорош собой – ямочка на подбородке, усы такие надменные… Прищурившись, он смотрел на молодую женщину с явной симпатией, несомненно, находя ее по своему вкусу, и ему нравилось разыгрывать перед нею значительное лицо. Ах, как легко она могла бы одним лишь кокетством переманить его на свою сторону, переубедить… Но ломать комедию, да еще такую – выше ее сил!
– Вы намерены вернуться во Францию, как советует Николай? – спросил Розников.
Она пожала плечами.
– Об этом не может быть и речи!
Зубы гостя блеснули – какая-то людоедская у него улыбка все же…
– Я был уверен, что вы непременно так ответите! Ах, вы совершенно такая, какой я вас себе представлял!
– Не смогли бы вы добиться для меня разрешения на новое свидание с мужем?
– Сделаю возможное и невозможное… Надеюсь, что преуспею в этом… Но вас так много – тех, кто осаждает правительство ходатайствами! Генерала Бенкендорфа просто завалили письмами… Если отвечать на каждое – ему жизни не хватит. Что же до государя, то он уже сокрушается о том, что позволил княгине Трубецкой сопровождать мужа в Сибирь.
– Что?! – не веря ушам своим, прошептала Софи. – Княгиня Трубецкая получила разрешение следовать за мужем…
– Да. Наверное, уже готовится сейчас в дорогу. И другие жены декабристов – княгиня Мария Волконская, графиня Александрина Муравьева – они тоже пытаются получить такое разрешение…
Ипполит заметил взволнованность Софи и добавил:
– Но это не означает, что дело выиграно! Случай княгини Трубецкой – особенный: царь заинтересован в ней лично. Она такого высокого рода, у нее такие могущественные связи…
– Кому следует адресовать прошение? – перебила Софи.
– Никому.
– Иными словами, императору?
– Да нет же! Клянусь, государь не станет ничего делать для вас! Зато вы рискуете добиться нерасположения властей по отношению к мужу!
– Это правда, – согласилась она со вздохом.
Розников искоса взглянул на собеседницу – он не был уверен, что ему удалось ее переубедить.
Минутку Софи помолчала, и вид у нее был такой, будто ушла в грезы, но потом она спустилась с облаков и посмотрела Ипполиту прямо в лицо:
– Как бы там ни было, я предприму все, что только смогу, для улучшения участи моего мужа, и мне в этом понадобится ваша помощь, месье.
– Прошу вас как о милости – располагать мною в любой момент и обращаться ко мне, не задумываясь, – ответил Ипполит, приосанившись.
«Может быть, конечно, он фат и интриган, но душа у него, кажется, добрая», – подумала Софи. Она не отпустила гостя, им принесли ликеры, и Софи попросила его рассказать о себе. Большего удовольствия Ипполиту Розникову доставить было невозможно: он, расцветши на глазах, принялся рассказывать обо всей своей карьере – поэтапно, о том, как она чуть не была погублена убийством генерала Милорадовича, но, к счастью, дружеское к нему отношение великого князя Михаила Павловича и генерала Бенкендорфа поспособствовали ее успешному продолжению…
* * *
Одиннадцать дней спустя после казни пятерых мятежников Николай I совершил торжественный въезд в Москву, чтобы стать здесь императором всея Руси. Празднества по поводу коронации продолжались в течение месяца. Но ни множество писем от самых разных людей, ни военные парады, ни пышные церемонии в Кремле, ни услужливость дворянства не растрогали сердца государя – он не пересмотрел своего решения о судьбах декабристов. Узники в Петропавловской крепости потеряли всякую надежду на смягчение приговора. Тысячи неуловимых признаков свидетельствовали о том, что там, за стенами крепости, жизнь вернулась в свою колею, общество, какое-то время возбужденное, успокоилось, и теперь они не интересуют никого, кроме близких. Вся Россия поторопилась забыть их, чтобы полностью отдаться любви к новому государю. Разве не было слухов, что Николай I вернул из ссылки Пушкина, сосланного покойным императором некоторое время тому назад на свои псковские земли, в село Михайловское, и что поэт в благодарность за возвращенную ему свободу пообещал отныне вести себя достойно, как подобает истинно верноподданному? Вот и еще одна победа деспотизма над гением, материи над духом!
Чтобы утешиться, Николай порою декламировал в своей темнице пушкинскую «Оду к вольности»:
«…Питомцы ветреной Судьбы, Тираны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и внемлите, Восстаньте, падшие рабы! Увы! куда ни брошу взор — Везде бичи, везде железы, Законов гибельный позор, Неволи немощные слезы; Везде неправедная Власть В сгущенной мгле предрассуждений Воссела – Рабства грозный Гений И Славы роковая страсть. Лишь там над царскою главой Народов не легло страданье, Где крепко с Вольностью святой Законов мощных сочетанье; Где всем простерт их твердый щит, Где сжатый верными руками Граждан над равными главами Их меч без выбора скользит И преступленье свысока Сражает праведным размахом; Где не подкупна их рука Ни алчной скупостью, ни страхом. Владыки! вам венец и трон Дает Закон – а не природа; Стоите выше вы народа, Но вечный выше вас Закон».Он даже попытался перевести оду на французский – может быть, когда-нибудь сможет прочитать ее Софи… Писать ему было не на чем и нечем, надо было все держать в голове. Сначала его развлекло это занятие, потом стало раздражать, и, наконец, он разочаровался. Поэзия Пушкина – такая точная, такая музыкальная – не позволяла выразить себя на ином языке, кроме родного.
В самом деле:
«…Favoris d’un destin volage, Tyrans du monde, frissonnez! Et vous, écoutez-moi, courage, Debout, esclaves prosternés!..»Нет, это немыслимо! И даже слова «вольность» ни в каком другом языке нет! Все это настолько же отвратительно звучит по-французски, насколько прекрасно по-русски! Ему вдруг вспомнилось, как он корпел над латинскими переводами, которые задавал ему месье Лезюр. И одна фраза всплыла со дна памяти подобно пузырьку шампанского в бокале: слова Горация, обращенные к его рабу Давусу. Гораций приглашал Давуса участвовать в сатурналиях, которые проводились в конце года и где упразднялись все различия между хозяевами и слугами. «Age… liberate decembri utere…» – сказал он. «Воспользуйся декабрьской свободой!..» Николай усмехнулся. «Наша декабрьская свобода продержалась куда меньше времени, чем римские сатурналии», – подумал он.
Тем не менее шли дни, и в Алексеевском равелине дисциплина становилась несколько менее строгой. Унтер-офицеры, охранники и солдаты старались облегчить существование узников. Николая неожиданно перевели в более просторную камеру. Помогая арестанту устроиться на новом месте, тюремщик приговаривал:
– Тут вам будет хорошо. Это самая лучшая камера, раньше в ней содержали Пестеля…
Николай был потрясен. Бросил взгляд на тюфяк – его не меняли, значит, Пестель лежал на нем в последнюю свою ночь. И посещавшие его накануне казни мысли вылетали в мир через вот это вот окошко… Едва ушел охранник, Озарёв принялся изучать стены – сверху донизу – в надежде обнаружить хоть несколько слов, выцарапанных острием гвоздя. Нет, камни молчали – гладкие, без каких-либо знаков, потолок, выбеленный известкой, тоже. Он стал шагать взад-вперед, думая, что, шагнув сейчас, попадет в след, оставленный казненным. Он довольно сурово критиковал Пестеля при жизни, но теперь думал о нем иначе: ведь руководитель Южного общества, единственный из всех декабристов, предчувствовал: полумеры при государственном перевороте способны удовлетворить нежные сердца, но они уменьшают надежду на успех. Пестель понимал, что толпа не может завоевать свободу, если во главе ее не встанет вождь такой же деспотичный, такой же решительный, не менее жестокий, чем тот, против которого он поднимает массы; что настоящий революционер обязан быть гуманным, когда ставит себе цель, и бесчеловечным, когда речь заходит о средствах ее достижения. Урок 14 декабря теперь стал совершенно ясен. Мятежники проиграли, потому что были мечтателями, художниками, детьми… Над ними – не хватало главаря, диктатора с железной рукой, под ними – не хватало бесчисленных масс народа. Ах, как горько Николай сожалел о том, что не мог поговорить с Пестелем перед казнью! О чем думал этот холодный материалист в момент, когда поднимался на эшафот? Был ли в нем страх перед тем, что ждет его в ином мире? Разочаровался ли в себе – ведь поставил не на ту карту? Гордился ли, что сохранил верность своим политическим убеждениям? Николай надеялся, что верно самое последнее предположение. Ему необходимо было в это поверить – хотелось же оправдаться в собственных глазах.
Окно новой камеры, как и прежней, выходило на Неву. Издалека, как и в прежнюю, сюда доносились городские шумы. Иногда, проплывая мимо стен крепости, медлила лодка, женский голос выкрикивал чье-то имя, мужской, охрипший, тоскливо отвечал из окна камеры. А часовой сверху кричал:
– Убирайтесь отсюда! Запрещено!
– Да погоди ты! Не видишь разве – мы на мель сели! – отвечали гребцы.
И, пока они притворялись, будто никак не могут отчалить, арестант и пассажирка успевали обменяться еще несколькими фразами по-французски.
– Прекратите! – снова кричал часовой. – Убирайтесь, говорю, стрелять буду! Ну, ра-аз, два, три!
– Хорошо-хорошо, не сердись, братец!
И лодка с ленивым плеском удалялась.
Семьи осужденных платили владельцам лодок за такие ночные прогулки к крепостной стене бешеные деньги. Несколько раз Николаю казалось, что он узнает в ночи голос жены. И с каждым разом, убеждаясь, что ошибся, все больше и больше печалился, все сильнее и сильнее тосковал.
Однажды отец Петр Мысловский сообщил ему, что царь, тронутый мольбами своего окружения, согласился на регулярные посещения заключенных крепости их родными и женами.
– И когда же начнутся такие посещения?
– Как будто со следующей недели.
– Ох, нам это было уже столько раз обещано!
– Теперь обещано официально.
– Батюшка, батюшка, разве может быть в России что-то официально обещано? Вы же отлично знаете, что нет! Мы живем лишь под знаком доброй царской воли…
Говоря со священником, Николай заметил вдруг, что у того на шее – орден Святой Анны. Наверное, царь наградил отца Петра за услуги, оказанные им, церковным пастырем.
– Поздравляю вас! – сказал с улыбкой.
Но Мысловский покраснел, словно его застали, когда он делал что-то недостойное, и тяжело вздохнул:
– Нет, друг мой, не стоит поздравлять. Это награда тягостна для меня… Но что тут поделаешь? Я же не могу… я же не могу всегда и от всего отказываться!
Он поспешил уйти. Николай забрался на табуретку – только так можно было выглянуть в окошко. При свете заходящего солнца воды Невы казались расплавленным металлом. Город отсвечивал вдали розовым, черным и золотом, блестками оконных стекол, куполами, шпилями и крестами соборов… От причала крепости отошло суденышко, на корме стоял отец Петр Мысловский – простоволосый, с развевающейся по ветру бородой. Его четко вырисовывавшийся на фоне воспламененной закатом воды силуэт казался твердым, словно панцирь жука-скарабея. Священник поднял руку и благословил тюрьму. «Вот и еще один день заканчивается, – подумал Озарёв. – Радоваться этому или сожалеть о нем?» Он до сих пор не знал, передал ли Розников его записку Софи. Надеясь таким путем придать смысл своему существованию, он принялся упрямо повторять себе, что отец Петр Мысловский прав, что жена скоро навестит его, что она теперь станет приходить часто…
Небо нахмурилось. С островов потянуло ароматом акаций. Там – в садах – наверное, садятся ужинать, и дамы вышитыми платочками отгоняют комаров…
Когда вышла луна, она залила серебряным светом всю камеру, черная тень решетки нарисовалась на белой стене.
* * *
К счастью, сведения, полученные от священника, и впрямь оказались верными. В середине сентября Николая вывели из камеры и привели под конвоем в комендантский дом, где его ожидала Софи. Под внимательным взглядом генерала Сукина они обнялись, что-то лепеча и плача от радости. Когда первое волнение немного улеглось, Николай тихо спросил:
– Розников передал тебе мою записку?
– Да, – улыбнулась она. – Ну, и как ты мог мне посоветовать вернуться во Францию?
– Но послушай, Софи, это ведь единственное разумное решение. Что тебе делать в Санкт-Петербурге, когда меня отправят на каторгу?
– А я и не намерена оставаться в Санкт-Петербурге!
– Как это? А куда ты собираешься уехать? В Каштановку? Чтобы жить там вместе с моим отцом?.. Я не хочу этого! Ни за что на свете не хочу!
Она опять улыбнулась – совсем безмятежно – и шепнула:
– Я последую за тобой в Сибирь!
Николай чуть отшатнулся:
– Ты сошла с ума! Это невозможно!
– Отчего невозможно? Княгиня Трубецкая уже на пути к мужу. Уже собираются в дорогу, вот-вот выедут Мария Волконская и Александрина Муравьева. И другие жены декабристов направили ходатайства о том, чтобы им выдали подорожную для следования в Иркутск. И я, со своей стороны, тоже успела кое-что предпринять…
Счастливый донельзя, едва не растаяв от счастья, он все-таки попытался возразить, урезонить:
– Но ты подумала о том, что у тебя там будет за существование? В этой дикой стране, в этой пустыне! Тебе же не разрешат поселиться поблизости от каторги! И не дадут права видеть меня тогда, когда тебе хочется!
– И все-таки я буду гораздо ближе к тебе, чем если останусь тут!
– Ты погубишь лучшие годы своей жизни! Ты станешь жалеть, что выбрала для себя это изгнание, это чудовищное изгнание – бесконечное, безнадежное!.. Софи, моя Софи, любимая моя! Я не могу принять от тебя такой жертвы!
– А я тебе говорю, что мне было бы куда тяжелей жить вдали от тебя, чем пойти за тобой в ад! – торопливо, задыхаясь, пробормотала она.
И, словно бы устыдившись такого признания, отвела взгляд. Николай прижал жену к груди, и ему показалось, что он растворился в ней навеки. Наказание стало для него наградой, отчаяние обернулось утешением. Эта минута весила больше, чем все воспоминания вместе взятые.
Но он повторял:
– Нет, Софи! Нет, моя Софи! Я отказываюсь!.. Я не могу!..
И вдруг всем своим существом ощутил, что больше всего на свете боится, что она примет его отказ, переменит решение.
Генерал Сукин приказал им прощаться, пообещав, что вскоре они увидятся снова.
Действительно, им были разрешены еженедельные свидания. Скупо отмеренные минуты, пока они длились, пролетали для них как сон, мечта, греза… Они быстро обменивались тревогами, надеждами, новостями, они давали друг другу советы, быстро – чтобы поскорей безмолвно замереть в объятии. Пусть всего на мгновение, но так близко друг к другу. То, что Озарёва скоро повезут на каторгу, стало для них навязчивой идеей. Каждое свидание могло стать последним. Расставаясь, они с тревогой думали, увидятся ли на следующей неделе. Николай хотел знать все подробности о попытках жены добиться разрешения следовать за ним. Она лгала – говорила, что все идет так, как надо. На самом деле ее письмо великому князю Михаилу Павловичу осталось без ответа. А генерал Бенкендорф, к которому она обратилась сразу же после того, передал через Ипполита Розникова, что ей ни к чему слишком уж торопиться.
Придя в отчаяние от всего этого, Софи отправилась во французское посольство к господину де ла Ферроне. Дипломат принял ее любезно, свысока посочувствовал ее горю и заверил, что, увы, не может ничем помочь в столь тягостных обстоятельствах. Предложил посодействовать ее возвращению во Францию, если у Софи появится такое желание. Она с негодованием отказалась.
Свекор, не знавший о том, что она намерена последовать за мужем в Сибирь, по-прежнему умолял ее вернуться в Каштановку. Софи отделывалась все более туманными обещаниями.
Внезапно на город обрушилась осень – порывы ледяного ветра, бесконечные ливни… В окно камеры снова вставили зарешеченную раму. Дни становились все короче, серые на рассвете, серые по вечерам. Уже в три часа пополудни Николай видел на том берегу Невы зажженные фонари. Значит, по улицам ходят фонарщики со своими лестницами… Когда лил слишком сильный дождь, узникам приходилось отказываться от прогулки в треугольном садике. Готовясь к зиме, Софи купила мужу овчинный тулуп и подбитые мехом сапоги. С помощью одного из охранников ей удалось передать Николаю немного денег и кое-какую еду.
Они по-прежнему виделись каждую неделю, но по мере того, как проходило время, Николаю все меньше и меньше верилось, что Софи получит разрешение сопровождать его в Сибирь. Напрасно она говорила: «Не беспокойся! Дело движется! Розников потихоньку ведет осаду Бенкендорфа, генерал Дибич переговорит о нас с великим князем Михаилом Павловичем!» – он отвечал ей ласковой, но скептической улыбкой. А сама Софи и не знала порой, в какую еще дверь постучаться. В Санкт-Петербурге она была знакома с весьма небольшим количеством влиятельных людей – обращалась уже ко всем, и ее бесило, что со всеми своими запасами энергии она повсюду наталкивается на недоброжелательство, ложь и всяческие уловки.
На еще теплую землю упали первые снежинки, и земля поначалу отказывалась принимать их, но скоро весь город накрыла белая пелена. Среди карет замелькали сани. В желтоватой воде появились островки льда, и, чтобы не случилось ледяного затора, плотники взялись за разборку Троицкого моста, соединявшего крепость с берегом.
9 декабря в полночь, когда Софи уже почти засыпала, в дверь осторожно постучала горничная Дуняша:
– Барыня! Барыня! Тут пришел Никита и говорит, что ему нужно с вами поговорить! Говорит, это очень важно!
Она накинула пеньюар, открыла и увидела перед собой юношу и девушку с бледными расстроенными лицами.
– Я пошел прогуляться у крепости, – сказал Никита, – и видел, как арестантов под конвоем повезли в Сибирь!
У Софи перехватило дыхание, и она с трудом выговорила:
– Боже мой! В эту пору? Ночью?
– Да, барыня, только что.
– Но Николая Михайловича ты среди них не видел?
– Я не мог увидеть – там кругом жандармы…
Никита был отослан, и она стала лихорадочно одеваться с помощью Дуняши. Девушка плакала. Нетерпение терзало Софи, она чуть не выскочила из дома без шубы, но горничная вернула – заставила надеть. Десять минут спустя она уже бежала по улице, Никита – за ней. Квартира находилась недалеко от крепости, но, подойдя к Петровским воротам, они увидели только пустой плац. Минутку поколебавшись, Софи решительно направилась к подъемному мосту.
– Куда вы, барыня? – догнал ее Никита. – Не стоит труда. Вы же видите – никого нет, их уже увезли…
Но Софи продолжала свой путь.
Часовой закричал: «Стой!» – и пригрозил штыком, она шла.
Из караульной вышел унтер-офицер. Поднял фонарь, чтобы заглянуть в лицо незваной гостье.
– Я хочу увидеть генерала Сукина, – сказала Софи.
– Генерал в такое время не принимает.
– Тем не менее мне необходимо узнать, отправили ли моего мужа с этим конвоем!
– Завтра узнаете.
– Куда их повезли?
– Уж конечно, не в Крым!
– Пойдемте, барыня, – прошептал Никита. – Если поторопимся, сможем их нагнать на ближайшей же станции.
Такая возможность вдохновила Софи и придала ей сил. Они заспешили в сторону Кронверкского проспекта, где стояли извозчики. Кучер, дремавший на облучке в крутящемся снеге, едва Никита дотронулся до его плеча, вздрогнув, проснулся, окинул их взглядом и запросил небывалую цену за то, чтобы доставить к первой почтовой станции на пути к Москве. Ночь на дворе! Софи, не споря, уселась в сани. Никита – рядом, тесно сжав колени.
По мере того, как сани удалялись от центра города, улицы становились все темнее. Когда выехали за городскую черту, кучер пустил лошадей быстрее. Софи сосредоточилась на двух черных лошадиных головах с растрепанными гривами, мотавшимися перед нею во мраке. Сердце ее забилось в такт стуку копыт по мерзлой земле. Ей хотелось обогнать свою судьбу. Прошел целый век – и впереди возникло строение почтовой станции – с крытым входом, фонарем над распахнутыми воротами. В желтом круге его света плясали белые снежинки. Во дворе никого. Арестантов уже повезли дальше.
Софи почувствовала, что силы изменяют ей. Вошла в общую комнату, села у печки. Двое крестьян спали валетом на широкой лавке. Их валенки дымились. Никита попросил показать регистр проезжающих. На последней странице – единственная фамилия: Желдыбин, фельдъегерь, сопровождавший заключенных. Внизу – список городов по пути следования: Рыбинск, Ярославль, Вятка, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Иркутск… Станционный смотритель, хитрым глазком посматривавший на встревоженную женщину в куньей шубе, в конце концов, спросил:
– Могу я вам чем-нибудь помочь, барыня?
– Нет, – ответила Софи. – Я думала, успею приехать вовремя, чтобы застать их…
– Кого застать? Каторжников? Да уж точно – слишком поздно! Они уже далеко теперь… Но может быть, вы хотите узнать, кого повезли нынешней ночью?
– О да! Да! Да! – закричала она.
Станционный смотритель приблизил свое лицо так, что ее едва не защекотала русая борода с застрявшими в ней зернами овса. Грубый конский запах ударил в ноздри. Он прошептал:
– Барыня, я записал все имена каторжников, чтобы сослужить службу таким, как вы. Однако вы же понимаете, барыня, как я рискую…
Софи молча вытащила двадцать рублей ассигнациями. Смотритель выхватил у нее из рук деньги и сунул за голенище сапога. Потом засопел и сказал с сокрушенным видом:
– Очень сильно рискую, барыня! Ну, просто всем!
Софи дала ему еще двадцать рублей.
– Храни вас Бог и Пресвятая Богородица! – поклонился станционный смотритель и передал ей исписанный лист бумаги. Фамилии, фамилии… Она читала, перескакивая, словно через ступеньки, и поспешно возвращаясь: Анненков, Вольф, Киреев, Торсон… Дойдя до последнего имени, вздохнула с облегчением: Николая в списке не было!
* * *
Софи была так сильно взволнована и потрясена, что, вернувшись домой, решила: так больше невозможно, надо написать императрице Александре Федоровне, – ничего, что я ей не представлена! Я смогу объяснить необходимость для меня последовать в Сибирь за мужем, «политическим преступником Николаем Михайловичем Озарёвым», и стану умолять императрицу походатайствовать за нас перед августейшим супругом. Сказано – сделано. На этот раз Софи отказалась от посредников и сама отнесла письмо во дворец. Молодой адъютант с ледяным взглядом пообещал, что послание будет передано, но отказался записать Софи на аудиенцию. Уходя несолоно хлебавши, она пожалела, что все-таки не обратилась к Ипполиту Розникову за помощью.
В день очередной встречи с Николаем она изо всех сил старалась казаться бодрой и оптимистичной. А он сказал, что – странное дело! – оттого, что он так долго, неделю за неделей, ждет отправки в Сибирь, этот отъезд стал для него почти желанным. Впрочем, не так уж странно: если мозг долго остается сосредоточен на одном и том же, это гипнотизирует, и катастрофа, которой непременно надо избежать, преобразуется в цель, которой надо достигнуть. Теперь, как многие его товарищи, Николай боялся не Сибири, совсем другого: он боялся, что его бросят в Шлиссельбургскую крепость, где власти порой забывали об узниках до конца их жизни, независимо от того, какой срок был им определен приговором. А если ему не повезет и его отправят туда, то Софи уже не сможет поселиться с ним в изгнании! Софи кое-как успокоила мужа и после его ухода осведомилась у Сукина, может ли подобное произойти.
– Действительно, – сказал тот, – некоторых арестантов решено перевести в Шлиссельбург. Но нам пока неизвестно, кого именно.
Ночь Софи не спала. Ей чудилось, что она руками держит рушащуюся каменную стену, которая вот-вот повалится на них с Николаем. 14 декабря визиты в Петропавловскую крепость были запрещены: власти наверняка решили ничем не радовать узников в годовщину их преступления. Боже мой, уже год прошел! В Рождество они виделись десять минут, и Сукин разрешил Софи передать Николаю посылку с едой. Город был расцвечен флагами, гирляндами, фонариками всевозможных цветов и форм… Во всех особняках балы, ужины, приемы, спектакли, концерты, маскарады… Только семьи узников существуют в другом мире, только они не участвуют в общем неудержимом веселье…
В середине февраля к Софи снова пришел Ипполит Розников, и ее тронуло внимание этого человека. Но, увы, пришел он без каких-либо новостей. А она не осмелилась сказать, что без его ведома написала императрице. Ипполит был элегантен, надушен, он коротко постригся, лосины туго обтягивали полные бедра. После ухода гостя Софи села к столу: надо было написать родителям. Конечно, она уже сообщила им, что Николя оказался замешан в политическом заговоре, но скрыла, насколько серьезно его положение – не хотелось уж слишком тревожить родных. Пришло время сказать правду. Оттуда, из Франции, то, что муж был приговорен к каторжным работам, не могло не казаться позорным. Софи так и слышала негодующие восклицания отца, слезливые причитания матери. Люди, живущие в нормальном обществе, следующие веяниям времени, менее всего способны понять, что иная кара лишь возвышает тех, кого должна была бы сломить и унизить.
Она уже исписала полстраницы, когда звон колокольцев заставил ее взглянуть в окно. Во дворе остановились крытые сани. Из саней вылез человек-медведь, закутанный в лохматый мех. Господи! Еще не разглядев лица, она узнала своего свекра! И тут же забеспокоилась: не случилось ли чего с маленьким Сережей? Да нет, что за глупости, при малейшей тревоге Михаил Борисович письмом вызвал бы ее в Каштановку, а не приехал бы сам, оставив ребенка. Да-да, конечно, он приехал повидать сына, которого шельмовал прежде, он, наконец, стал сочувствовать ему! Такой оборот полностью оправдывал свекра в глазах Софи, и она была уже готова все ему простить, все забыть… Но почему Михаил Борисович не предупредил ее о намерении приехать в Санкт-Петербург? Непременно ему надо застать ее врасплох… Софи послала Никиту и Дуняшу помочь отнести в дом вещи гостя и вышла в прихожую встретить его.
Появление старика, морщинистое лицо которого, стоило ему увидеть невестку, засияло от счастья, неожиданно тронуло Софи больше, чем она могла себе представить. Свекор жарко расцеловал ей обе руки. Глаза его слезились от мороза, на носу выступили синие жилки, воротник в пути сбился, открыв шею, бакенбарды с проседью были всклокочены.
– Софи, Софи! – бормотал Михаил Борисович. – Наконец-то вы рядом! Жизнь без вас просто невыносима!
Снова забеспокоившись, она спросила:
– А как Сережа?
– Превосходно! Лучше не может быть!
Софи вздохнула с облегчением: значит, и впрямь он приехал из-за сына.
– Почему вы мне не написали, что приедете?
– Ох, все решилось так быстро! – воскликнул он. – Внезапно не смог больше оставаться в Каштановке – мне необходимо было уехать. Сел в сани – и вот я тут! Мчался как сумасшедший!
Софи провела свекра в гостиную. Он тяжело опустился в кресло и оглядел комнату. Взгляд его был безжизненным. Наверное, хочет показать, как устал и как нуждается в сочувствии, мелькнуло в голове у Софи. Она стояла перед гостем, сильно озадаченная. Конечно, ей было в чем упрекнуть его, много в чем было упрекнуть, но не хотелось быть резкой, раз уж он теперь изменил отношение к сыну. Но решив тем не менее высказать, пусть мягко, осторожно, все, что думает, она печально улыбнулась и прошептала:
– Ах, батюшка, знали бы, как я сердита на вас! Вы нарушили данное мне слово!..
Он искренне удивился, поднял брови:
– Я? Когда? Каким образом?
– Вы послали Николя то письмо и сообщили ему, что я все знаю и не хочу больше его видеть! А я ведь просила вас не делать этого… Я должна была сама ему написать…
– Да, дитя мое, да, дорогая моя Софи, но время шло, а вы ничего не предпринимали, лишь страдали молча в одиночестве… Мне невыносимо было видеть ваши страдания, вот я и взял на себя труд выполнить за вас тягостный этот долг… Думал, так будет лучше для вас… Вы же прекрасно знаете, я искал всегда и ищу только счастья вашего!..
Софи могла бы заранее пересказать ответ свекра. Михаил Борисович есть Михаил Борисович! Или нужно принимать его, каков есть, или – отказаться от общения с ним вовсе… Она молчала, и он продолжил смиренно:
– Найдется у вас уголок приютить меня, Софи? Не то поеду в гостиницу.
Она помолчала: уж очень хотелось все-таки поспорить с ним, обличить его, объяснить ему все его провинности, – но передумала, вздохнула устало и предложила:
– Пойдемте, батюшка, я провожу вас…
Софи приказала постелить Михаилу Борисовичу в большой комнате, находившейся в глубине квартиры и не использовавшейся ею ни для каких нужд. Он отправился приводить себя в порядок с дороги – переодевался, умывался. Антип, приехавший с ним из Каштановки, бегал из кухни в комнату с кувшинами. Проходя по коридору, Софи слышала, как льется вода, как звякает фарфор, как вздыхает и кряхтит от удовольствия свекор, пошлепывая себя по телу… Потом он появился – розовый, с влажным еще лицом, отдохнувший на вид, в халате с брандебурами, обутый в мягкие пантофли. Софи предложила ему выпить чаю. Увидев самовар, Михаил Борисович уже совсем расцвел. Были открыты две банки варенья, гость поколебался между сливовым и малиновым и выбрал малиновое. Ел его, морща нос от наслаждения. А она глядела на него как на животное непонятной породы: вот уже третий бутерброд с вареньем доедает, но о сыне – так и не спросил. В конце концов, она не выдержала и выпалила:
– Позавчера я видела Николя!
– Надо же, как ему повезло! – жуя, откликнулся свекор. – А я не видел вас целый год!
– Михаил Борисович, как вы можете сравнивать! Он так несчастен! Я его жена!.. И я должна сделать все возможное и невозможное, чтобы поддержать его!
– Ах, вы снова стали его женой? – злая насмешка мелькнула в его взгляде.
– Я никогда не переставала быть его женой! Слышите – ни-ког-да!
– Какое величие духа! Софи, Софи, вы заставляете меня думать, что к тем, кто дурно с вами обходится, вы только сильнее привязываетесь! Дорогое дитя, это жалость ослепляет вас! Ну, и до каких же пределов вы готовы дойти в самоотречении?
Софи собрала все силы, чтобы не ответить.
– Уж не до Сибири ли? – тихо спросил он.
Она вздрогнула. Откуда ему стало известно о ее планах? Она ведь ничего об этом ему не писала! Весь вытянувшись в ее сторону, Михаил Борисович больше не нападал, теперь он словно бы молча умолял ее. Софи тоже молчала, решив как следует потомить его неизвестностью.
– Но скажите же мне, что это неправда! – в конце концов, не выдержал он.
– Это правда, – сухо ответила она.
Михаил Борисович схватился за голову:
– Боже мой! Боже мой! Какой ужас!
– Кто известил вас?
– Псковский предводитель дворянства. Когда вы направили ходатайство императрице, ему пришел из Санкт-Петербурга приказ составить донесение о вашей жизни в Каштановке. А поскольку мы с ним старые друзья, он и сообщил мне об этом сразу же…
Софи быстро сообразила, что раз насчет нее ведется что-то вроде расследования, значит, ее прошение принято и рассматривается. Лицо ее осветилось такой надеждой, что Михаил Борисович разозлился – нахмурившись, он буркнул:
– Рано радуетесь! Далеко не все собранные о вас сведения могут оказаться в вашу пользу!
– Меня бы это удивило! – не без иронии откликнулась она.
– Меня тоже! – с жалкой гримасой признался он.
Она не ответила. Молчание было тяжелым, длилось долго. Погрузившись в себя, Софи пыталась поймать какую-то ускользавшую от нее мысль, и вдруг все стало так ясно, что она даже просветлела лицом.
– Теперь мне понятно: вы приехали только потому, что узнали о моем намерении отправиться за Николя в Сибирь! – торжествующе сказала она.
Свекор не дрогнув выдержал ее взгляд и ответил:
– Вы правы. Поэтому. И намерен сделать все, чтобы помешать вам совершить эту глупость.
– Забавно… Вы говорите совсем как ваш сын. Он тоже старался меня отговорить… Но разве я послушаюсь вас, если не послушалась его?
– Но он не мог сказать вам того, что скажу я! Потому что в глубине души он ведь только о том и мечтает, чтобы вы были рядом – как же ему убедить вас, что вы ведете себя безрассудно!
– Ничего подобного, и я отлично представляю себе, что меня там ждет.
– Вот уж нет! У вас ни малейшего представления о Сибири! Для того чтобы там выжить, надо там родиться! А если вас поселят очень далеко от каторги? А если вы вообще не сможете видеться с Николаем и, отрезанная от Санкт-Петербурга, к тому же еще и никак не сможете повлиять на его участь?
– Что ж, рискну!
– Какой уж тут риск, когда нет никаких сомнений в неудаче вашего дела… Послушайте, Софи, если уж вам так необходимо проявить преданность и самоотверженность, вернитесь-ка лучше в Каштановку, а не устремляйтесь за Байкал!..
– А я думаю иначе.
– По-видимому, вы забыли о маленьком Сереже? Но Маша доверила его вам умирая… И вы ответственны перед нею за жизнь ребенка!
Софи был совершенно ясен замысел гнусной комедии, которую разыгрывал перед ней Михаил Борисович. Она выпрямилась и смотрела на свекра с нескрываемым отвращением.
– У него нет никого на свете, кроме вас! – продолжал тот. – Вы ему мать! Бросая его, вы лишаете невинное существо материнской нежности, материнского тепла, между тем как в них нуждается каждый ребенок! Значит, вы допустите, чтобы дитя второй раз осиротело?!
Голос его охрип, слезы повисли на редких ресницах.
– Я люблю Сережу всей душой, – спокойно ответила она, – но я знаю, что и в разлуке со мной он не будет чувствовать себя несчастным. В вашем доме, Михаил Борисович, он вырастет, не зная ни в чем нужды. Николай же без меня пропадет: вот он-то нуждается во мне как никто на свете.
– На одной чаше весов невинное дитя, на другой – политический преступник, – злобно усмехнулся свекор.
Выведенная из себя, Софи закричала:
– Прошу вас, оставьте в покое Сережу и не пытайтесь меня разжалобить с его помощью. Я отлично понимаю, что вы думаете только о себе!
– Я?! – глаза его округлились в нарочитом недоумении. – Да как вы можете такое предполагать?
– Ничего я не предполагаю, я просто очень хорошо знаю вас, батюшка! Вы думаете только о себе! Ваши желания должны быть законом для всех ваших близких! И если вы не хотите, чтобы я ехала за Николя в Сибирь, то только потому, что страшитесь скуки и одиночества в Каштановке! Вам наплевать, выживет ваш сын или погибнет в нищете, на другом конце земли, лишь бы у вас была возможность играть со мной в шахматы каждый вечер!
– Ах, вы убиваете меня, Софи… – Михаил Борисович театральным жестом прижал руку к сердцу. Страдальческая гримаса его была столь неестественна: искривленные губы, закатившиеся глаза, – что Софи едва удержалась от злобной усмешки.
– Оставьте, хватит притворяться! – устало произнесла она. – В том положении, в каком мы находимся, ваши мелкие недомогания вообще не в счет. Когда вы увидите Николя – исхудавшего, грязного, измученного одиночеством – вот тогда вы хоть что-то поймете…
Лицо Михаила Борисовича словно отвердело: мягкий воск превратился в мрамор.
– Видеться с ним не намерен! – заявил он.
Софи подумала, что ослышалась.
– Что вы сказали?
– Сказал, что ноги моей сроду не было в тюрьме, и я не собираюсь изменять своим обычаям, не в том, видите ли, возрасте…
– Но речь же идет о вашем сыне!
– Какой он мне сын? Моим сыном не может быть тот, кто вступил в заговор против государя! Нет, он больше не сын мне. Я читал приговор! Я знаю все! Этот человек покрыл меня позором! Извалял в грязи доброе имя Озарёвых! И вы хотите, чтобы я простил его?
Софи с ужасом смотрела на свекра. А когда заговорила, голос ее прозвучал глухо от волнения:
– Михаил Борисович, я вовсе не прошу вас простить его! Я прошу вас любить вашего сына и жалеть… Николя не убийца и не вор! Он не сделал ничего низкого. Наоборот. Он пожертвовал собой во имя идеала, высокого идеала! И если у вас разные идеалы, это же ничего не значит! Признайте хотя бы, что он заслуживает великой преданности!
– Нет уж, скорее, я признаю, что моему… сыну… прекрасно удалось обратить вас в свою веру, дорогое дитя! – усмехнулся Михаил Борисович. – Вы совсем иначе говорили до этих тюремных встреч!
– Возможно… Несчастье сблизило нас… И дело, из-за которого Николя так страдает…
– Конечно… Дело цареубийц, человекоубийц, поджигателей!..
– Дело свободы! А знаете, это ведь от меня Николя набрался этих политических идей! Вполне возможно, он не был бы сейчас в крепости, если бы когда-то не встретил меня, если бы женился на русской девушке по вашему выбору. И вы все равно считаете, что я должна отречься от него, покинуть его? Нет, батюшка, я никогда в жизни не чувствовала такой тесной близости с мужем. И горжусь тем, что я его жена!
Она умолкла, задыхаясь, трепеща, ее переполняли ярость и любовь, слезы выступили на глаза… Михаил Борисович чуть втянул голову в плечи и забормотал:
– Софи, Софи, успокойтесь!.. Я вовсе не хотел обидеть вас… Ну, поговорили, ну, погорячились немножко… На самом деле я никогда не осуждал вас за милосердие по отношению к моему сыну… Он ведь плоть от плоти моей… Но, простите уж, я не могу во всем с вами до конца согласиться. Некоторые традиции в моем возрасте пересиливают все остальное… Принципы со временем затвердевают – как артерии…
Резкая перемена тона удивила Софи. Михаил Борисович неожиданно избрал другую тактику. Теперь перед нею снова был плаксивый паяц.
– Софи, Софи, вы понимаете меня? – продолжал бормотать он.
– Нет, батюшка, не понимаю, – отрезала она.
– Нет, это невозможно! Вы должны понять! Ведь все это только потому, что я осмелился покритиковать Николая… того самого Николая, которого вы вместе со мною проклинали совсем недавно!.. Хорошо-хорошо! Если вам так важно, чтобы мы с ним увиделись, я пойду туда, сделаю над собой усилие… Но не теперь!.. Позже… может быть, через несколько недель… когда я привыкну к этой мысли…
– Да после всего, что вы о нем наговорили, я запрещаю вам видеться с ним! – выкрикнула она.
Он похлопал ресницами, словно оглушенный ударами молота. Потом вздохнул:
– Экая вы странная… То хотите, то не хотите… Ладно, не станем больше говорить об этом… Но только вернитесь ко мне, Софи, умоляю вас!.. Я не заслужил вашей жестокости! И без вас я погибну, я погибну!
Михаил Борисович зарыдал, щеки его мелко затряслись, он тяжело оперся рукой о подлокотник и, медленно, с трудом сползши с кресла, встал на колени перед невесткой. Софи отшатнулась, ей почудилось, будто грязная лужа, растекаясь, подступила к ее подолу.
– Встаньте! – приказала она. – Не делайте себя посмешищем!
Он остался коленопреклоненным. Она, хлопнув дверью, вышла из комнаты. Десять минут спустя в ее спальню прибежала встревоженная Дуняша:
– Барыня! Барыня! Ваш свекор так плохо себя чувствует! Он упал поперек кровати и еле дышит!
Софи ждала и этого маневра.
– Ну и не трогайте его, – сказала, – когда поймет, что никто не станет вокруг него суетиться, сразу почувствует себя лучше.
– Но, барыня, он зовет вас!
– Скажи, что я занята.
Дуняше был выдан флакон с солями, она ушла. Софи осталась одна, но долго не могла успокоиться. Ее поражала черствость Михаила Борисовича, его немыслимая гордыня, его жестокость, его склонности к интригам и обману, она не понимала, как все это могло родиться в его ребяческом каком-то мозгу… Жаждущий почтения, пьянеющий от власти, он потерял всякий стыд и даже не скрывал этого. Если когда-то раньше она старалась находить для него оправдания, нынче убедилась, что Николя был совершенно прав: его отец настоящее чудовище!
7
Собираясь к мужу, Софи решила не говорить ему, что отец в Петербурге, но отказывается свидеться с ним. Зачем Николя в тюремной камере волноваться из-за мерзкой семейной истории, когда ему так необходимы спокойствие и мужество, чтобы вынести предстоящие ему испытания до конца! Ночью выпал снег, и она приближалась к крепости по белым улицам, словно с открытыми глазами погружалась в мягкую вату. От всей этой белизны кругом крепость казалась еще массивнее и темнее. Инвалиды подметали подъемный мост у Петровских ворот. Часовой в полосатой будке надел сегодня длинную черную шинель с теплым капюшоном – еще бы, такой мороз. День посещений. Под сводами теснятся сани, стоят почти вплотную одни к другим. Родственники заключенных, выйдя из саней, раскланиваются с встреченными во дворе знакомыми. Почти у всех в руках свертки. В корзине Софи – теплые вещи, колбаса, до которой Николя такой охотник, сигарки… Не скажут ли, что слишком много для одной передачи?.. Софи улыбается нескольким запомнившимся уже людям, одолевает ступеньки комендантского дома, протягивает пропуск дежурному унтер-офицеру у дверей. Тот бросает взгляд на документ, сверяется со списком и говорит:
– Его здесь больше нет.
От такого удара в голове у Софи сразу стало пусто. Беда, которой она ждала так долго, сразила ее наповал – так, словно она совершенно не была к этому готова.
– Этого не может быть! – лепечет она.
– Почему не может быть? Именно что может! – ворчит унтер-офицер. – Их отправили как раз вчера, 28 февраля, с конвоем в Сибирь.
– В Сибирь… – повторяет она, как автомат. – В Сибирь… да-да, в Сибирь… в Сибирь…
Она глаз не могла отвести от этого посланца судьбы, который только что с таким равнодушным видом объявил ей о конце света.
– Пожалуйста, пропустите меня к генералу Сукину, – наконец, прошептала Софи.
– Генерал не может вас принять.
– А комендант Подушкин?
– Плац-адъютант Подушкин занят.
– Спросите его все-таки!
– Невозможно. Сожалею, мадам… Я получил инструкции…
– Но… Но, пожалуйста! Мне нужно точно знать, куда отправили моего мужа… в какую губернию… в какой город…
– Никто вам этого не скажет – это секретные сведения.
– Прошу вас…
Слова выговаривались с трудом, силы окончательно оставили Софи.
– Уходите, сударыня! – повысив голос, решительно сказал унтер-офицер. – Вам больше нечего делать в Петропавловской крепости.
Софи вспомнила о теплой одежде, о колбасе, о сигарках – и почувствовала, что выглядит столь же трагически смешной, как если бы принесла все это покойнику на кладбище.
Поставила корзину на ступеньку:
– Будьте добры, отдайте это любому политическому заключенному.
Она шла через двор, высоко подняв голову, хотя колени подгибались и ноги идти отказывались. Родные узников, ожидавшие, когда их впустят в дом, поглядывали на нее с сочувствием, перешептывались, когда проходила мимо. На подъемном мосту она поскользнулась, чуть не упала, еле удержалась, схватившись за металлическую цепочку, заменявшую перила. Где сейчас Николя? Она представляла себе снежную равнину, сани, в которые брошен ее муж – полуживой от холода и голода, представляла его отчаяние от того, что они не увиделись, знала, что он думает о ней как о последней надежде на спасение…
Вернувшись домой и увидев в гостиной ожидавшего ее свекра, этого благополучного старика с гладко выбритыми щеками, читавшего газетку в кресле у теплой изразцовой печки, Софи почувствовала такую ярость, что с трудом сдержалась: так бы и убила его.
– Радуйтесь! – сказала она. – Вашего сына уже везут в Сибирь.
– Да обретет он там прощение Господне! – ответствовал Михаил Борисович, переворачивая страницу.
Потом поднял голову, лукаво улыбнулся невестке и подмигнул:
– Ай-ай-ай, какая жалость! А я-то как раз подумал, что не худо бы навестить его на следующей неделе!..
* * *
От холода и голода Николая все время клонило в сон. Иногда он словно бы проваливался, терял сознание, но скоро и резко пробуждался и удивлялся тогда, что едет в крытых санях с драным пологом по снежной равнине, что рядом Юрий Алмазов – прикорнул у его плеча, а перед ними – жандарм, вот, сидит, лицом к ним – глаза закрыты, усы торчком, нос какой-то фиолетовый… Вот уже неделя, как они выехали из Петербурга – шесть повозок, запряженных тройками. Их с Юрием сани – самые маленькие, они последние в конвое. Бубенцы, привязанные к упряжи каждой из тридцати лошадей, звенят, звенят… и звон этот кажется в пустыне неправдоподобно праздничным…
Маршрут делится на отрезки – сорок восемь часов езды, потом ночевка на почтовой станции. Наверное, не так уж теперь далеко и до Сибири…
Николай отвернул полог и выглянул – ничего, кроме сплошной белизны. В животе урчало. Ах, если бы, если бы только ему дали на последней стоянке хоть немного горячей похлебки!.. Нет, не дали. Фельдъегерь Коротышкин, начальник конвоя, сокращает расходы, стараясь прикарманить как можно больше из суммы, отведенной на питание заключенных в пути. Сани тряхнуло на колдобине, Юрий Алмазов глухо застонал и переменил позу.
– Если нас не накормят на ближайшей станции, надо протестовать, – обратился к нему по-французски Николай.
– Господи, как ты собираешься протестовать? К кому обращаться? Мы во власти этой канальи!
Жандарм, приоткрыв один глаз, прорычал:
– Извольте говорить по-русски, чтобы было понятно! Смотрите мне, а то доложу фельдъегерю!
В соответствии с правилами фельдъегерь за то, что арестант заговорил по-французски, мог в наказание лишить его еды. Николай вспомнил, как в детстве его наставник месье Лезюр запрещал ему за столом говорить по-русски под страхом того, что «Николенька не получит сладкого…». Улыбнулся – глазами, обветренными губами… Жандарм молчал, видимо, успокоился. Алмазов снова задремал. Весь продрогший, сжавшийся в комочек, с синим подбородком, черными бровями, он сонно покачивал головой, губы и у него потрескались до крови, изо рта вылетали облачка белого пара. Заржала лошадь. Раздался щелчок кнута, обрушившегося затем на полог. Чтобы развлечься, Николай попробовал уловить мелодию в беспорядочном звяканье колокольцев. Но единственной мелодией, которую хранил его усталый мозг, оказался перезвон колоколов Петропавловского собора, слышанный в крепости. В последний раз – той ночью, когда тюремщики вытащили его из убогой постели, привели под охраной двух солдат в дом коменданта, и он увидел там нынешних своих спутников. Пятнадцать остолбеневших арестантов, под мышкой у каждого – узелок с бельем, перед ними – генерал Сукин… И надменное его объяснение: «По императорскому указу, сейчас всех вас закуют в ножные кандалы». Они тупо смотрят на генерала, потом растерянно переглядываются, хотя в глубине души, наверное, каждый ожидал и этого оскорбления, этого унижения тоже.
– Извольте сесть на табурет, – предлагает охранник Николаю таким тоном, словно собирается примерить ему новые башмаки. Потом становится перед ним на колени и вынимает из мешка перепутанные, будто змеи, тяжелые цепи. Ощущение холода на коже. Поворот ключа. Два кольца закреплены на щиколотках. Поднявшись и желая сделать шаг, Николай лишь с трудом может переставить ногу. Десять фунтов железа висят на ногах, не дают двигаться. Тяжело. Но идет. Идет и тащит за собою адское бряцание. Его товарищи, как и он, пошатываются на ставших сразу неловкими ногах. Конвоиры берут их под руки, помогая спуститься с лестницы. Внизу сани. В каждых санях по жандарму. Плюс фельдъегерь Коротышкин, который распоряжается процедурой отъезда. Конвой трогается с места в час ночи, движется по мертвой столице империи. Николай прощается с домами, памятниками, с жизнью, которую он так любил. Софи в такой поздний час, конечно же, спит… Но не проникает ли в ее сны эта душераздирающая боль разлуки… может быть, разлуки навек?.. Он шлет жене безмолвное: «Проща-а-ай! Прости-и-и!», – стараясь не разрыдаться… Слезы застывают льдинками на его ресницах, царапают края век… Лошади идут шагом. Фельдъегерь шагает по деревянному тротуару рядом с санями. Об руку с ним – молоденькая девушка. Девушка что-то шепчет, всхлипывает, сморкается в платочек. «Будет тебе, Марфинька! Это уже смешно, Марфинька!» – бормочет растроганно фельдъегерь. А ведь он покидает девушку всего на месяц! Сани подъезжают к шлагбауму, здесь граница города, и фельдъегерь прощается с Марфинькой. Проверяют бумаги, караульные приподнимают пологи саней. Смотрят. Ямщики освобождают колокольцы – все время, пока тройки двигались по улицам, они были подвязаны, чтобы не нарушить тишины в спящем Петербурге. И вот уже лошади резво бегут по сельскому тракту… Снег… снег… снег… Праздничный звон бубенцов…
«Неделя уже, целая неделя, – подумал Николай. – Хотя Господь его ведает, я ведь мог и просчитаться, и уже восемь дней… или девять… А может быть, год… Есть, спать… Все остальное не имеет значения…» Ему так хотелось себя в этом убедить – нет, не получалось: все та же неотвязная, как клубы снежной пыли позади саней, тоска… Он поглядел на свои цепи. Груда железных колец покоилась у его ног, жизнь железа вмешалась в его жизнь, стала частью его жизни. В Перми кандалы на время сняли, чтобы сводить его вместе с остальными в баню помыться. Все банщики были из бывших каторжников: уголовники с позорными клеймами на лицах. У некоторых были вырваны ноздри. Они терли спины новоприбывших лубяными мочалками и, сквозь пар, кричали им в уши советы из собственного опыта: «Останетесь в Иркутске, сами увидите – рай да и только! Чита – тоже неплохо! Но храни вас Господь от Благодатска!..» Когда все «политические» были отмыты и снова закованы, фельдъегерь Коротышкин повел их в церковь. Служба уже началась. От иконостаса доносились ангельские голоса. Священник, весь в золоте, громовым и в то же время странно-бархатным голосом взывал к Богу. Арестантов поставили в углу, подальше от прихожан. Проходя мимо них после окончания литургии, прихожане подавали милостыню, некоторые спрашивали:
– За что ж это вас в Сибирь-то, голубчики?
Им отвечали:
– За восстание 14 декабря.
Но, кажется, никто здесь не знал, что произошло 14 декабря.
А кто-то из более свободных в обращении крестьян иногда, услышав такой ответ, спрашивал:
– Значит, вы – политические?
– Политические, отец.
– Дурное на земле дело может быть добрым делом на небесех! Храни вас Господь!
Девушка в платочке все стояла возле Николая, все смотрела на него и шептала со слезами: «Бедненький, бедненький!..», а потом, прежде чем уйти, сунула ему в руку рубль. Он не отказался, не поблагодарил, у него от волнения перехватило дыхание. Он запомнил эту девушку. И даже теперь думал о круглом свежем личике, таком простом, таком обычном, об огромных глазах, лучащихся истинно русским милосердием… Русским… В памяти всплыло… Вот они с Софи десять лет назад во дворе почтовой станции. Она только что приехала из Парижа. Она ничего не знала о новой для нее стране. И вдруг с ужасом обнаружила, что вдоль стены выстроены несколько каторжников. Пока меняли упряжку, Софи подошла, выбрала самого жалкого на вид и дала ему денег. Он упал на колени и поцеловал подол ее платья. Тогда пропасть отделяла ее от этих людей, этих отбросов общества – теперь ее муж один из них. От сопоставления двух картин у него закружилась голова. Он понял, что богатство, высокое положение, здоровье, добродетель, удачи иных… все это может быть результатом некоей божественной забавы, а истинным счастьем, настоящим, человек не обязан никому, никаким внешним обстоятельствам, тут он совершенно не зависит от них – и, если жить ради самого главного, если иметь в виду жизнь вечную, то пусть ты потерпел самое горькое поражение, пусть ты в самой страшной беде и в немилости, ты все равно способен проявить необычайную силу, твое будущее станет неизменным и твое видение мира и человечества умрет только вместе с тобою самим. Николай нащупал в кармане рубль. Этот рубль будет его талисманом.
Сани замедлили бег. Лошади шли с трудом, задыхались. Этот переход через Урал просто бесконечен. Когда же они доберутся до перевала…
– Стой! Выйти из саней!
Узники повиновались. Жандарм приказал Николаю и Юрию Алмазову подвязать цепи кандалов к поясу, чтобы легче было двигаться. И они пошли пешком – цепочкой. Ветер играл с ними, беззлобно швыряя в лицо кристаллики снега. По обочинам дороги высились черные ели. Между вершинами гор текли реки белого тумана. Серебристому позвякиванию бубенцов вторило тяжелое бряцание цепей. Цепочка пингвинов, переваливаясь с ноги на ногу, пыталась одолеть гребень горы. Они не привыкли к такому чистому воздуху и теперь дышали с трудом. Приходилось все время придерживать шаг. Николай, чувствуя, что легкие его рвутся, а сердце выскакивает из груди, не стоял на ногах – дважды он падал, и жандарм помогал ему подняться. Наверху возник силуэт одинокой, заваленной снегом хижины. Над трубой вился дымок, где-то рядом лаяла собака. Жилье! Жизнь! Пустые сани оказались на стоянке раньше людей. Оттуда, сверху, фельдъегерь делал знаки поторопиться.
– Ну! Ну! Давайте же! Да кто ж меня проклял-то такими недотепами! Давайте быстрее, рохли! Подберите ваши цепи! Ступайте след в след!
Они достигли перевала, и Николай едва не потерял сознания: в ушах шумело, в глазах мелькали снежные мушки, во рту появился отчетливый привкус крови. Он прислонился спиной к дереву – отдышаться. Ему что-то говорили, он ничего не понимал. Хотелось плакать, тошнило. Но мало-помалу силы возвращались к нему. Стал потихоньку оглядываться. Видимо, они на вершине Уральского хребта. Отсюда, сколько хватает глаз, бегут под уклон бесконечные леса из черно-синих, опушенных белым елей… Похоже на густой темный мех… И по густому этому меху вьется белая лента дороги, она исчезает и появляется снова и снова, чтобы опять скрыться и опять возникнуть где-то дальше, едва ли не у горизонта – узенькая теперь, как ниточка…
Ямщик ткнул кнутом в раскинувшееся впереди пространство:
– Вот она и Сибирь-матушка!
Николай не мог оторваться от зрелища. Значит, он на границе двух несовместимых, двух непримиримых вселенных. Позади него – Россия, прошлое, Софи, радость жизни. Впереди – каторга, земля забвения.
– Ну, и что скажешь? – послышался голос Юрия Алмазова. – Посмотреть отсюда – так нет ничего более похожего на Европу, чем Азия…
Николай попытался улыбнуться, но одеревеневшие на морозе мышцы лица не повиновались ему. По приказу фельдъегеря арестанты, горбясь, гремя цепями, направились к хижине. Их встретил грубо вырезанный из дерева двуглавый орел, укрепленный над дверью.
8
Софи сбросила на руки Дуняше накидку, отдала горничной шляпку. И села на край кушетки, опустив голову, сложив руки на коленях. До четырех часов пополудни она бегала из канцелярии в канцелярию – нигде никто ничего не знал о ее деле. Ее вежливо выпроводили из Зимнего дворца, ее не приняли в посольстве Франции. Найти Ипполита Розникова в Михайловском дворце, где теперь располагался его кабинет, тоже не удалось.
Услышав в коридоре приближающиеся шаги свекра, она вся сжалась: до того он стал ей противен – особенно, когда Николя увезли в Сибирь. Просто невыносимо было терпеть присутствие старика, чья привязанность была обильно приправлена обманом и коварством и которому, кажется, доставляло удовольствие страдать, если Софи позволяла себе иногда унизить его. А уж помыкай она им – тут было бы истинное наслаждение… Господи, как же она устает от его гримас и вздохов!..
– Какие новости? – спросил Михаил Борисович, войдя в гостиную.
– Никаких, – ответила она.
Физиономия свекра вытянулась: огорчился. И действительно:
– Ах, дитя мое, я просто в отчаянии из-за вас!
– Батюшка! – гневно воскликнула она. – Ради бога! Кому-кому, только не вам меня оплакивать!
– Наоборот! Только мне! Именно мне! Осуждая то, чему вы так преданы, я восхищаюсь вашим упорством и сожалею, что оно не вознаграждается!
Софи покачала головой:
– Никак не могу понять, зачем им нужна подобная моя неуверенность в течение столь долгого времени… Казалось бы, чего проще: скажите да или нет!.. Томят… томят… как на медленном огне…
– Увы, дорогое дитя, вы не представляете себе дистанции между собою и государем. Царь слишком высоко, он не может вас услышать. Вы бьетесь головою о стену, Софи! Проходят недели, вы теряете силы, здоровье, достоинство, наконец, – и все это ради совершенно бесполезных хлопот! Поверьте, вы добиваетесь невозможного. И теперь, когда совесть ваша чиста, вы имеете полное право – зачем я говорю «право»? – теперь, когда совесть ваша чиста, ваш священный долг – вернуться вместе со мной к маленькому Сереже…
– Нет, – сказала она, – я своего дела не оставлю.
– Да кто вам говорит, чтобы вы оставили свое дело! – закричал он. – Кто?! Если вам суждено получить ответ, то вы его с таким же успехом получите в Каштановке, с каким и в Санкт-Петербурге! Но вместо того, чтобы дожидаться здесь в тревогах и праздности, подождете там, будучи полезной вашим близким!
Последний аргумент едва не сломил Софи. Она так устала, она почти потеряла надежду, несмотря на все знакомства, которые ей удалось завести, она чувствовала себя более одинокой и потерянной в российской столице, чем в глухом лесу. Уже готовая уступить, она подняла глаза на свекра. А тот стоял перед ней с лукаво-нежным выражением лица: «перехитрил, теперь ты моя!» – говорил весь его облик. Софи уже замечала нечто похожее, бросив на него мимолетный взгляд во время партии в шахматы. Она встряхнулась, постаралась обрести ясность мышления. И сказала резко:
– Я не поеду в Каштановку.
– Но почему? Почему?.. Я ведь только что объяснил вам…
– Уступить здесь – значит, уступить во всем. Если власти узнают, что я согласилась уехать с вами, мое дело раз и навсегда положат под сукно.
– Хорошо… – вздохнул он. – Не хотите слушать моих доводов – время переубедит вас.
– Ну, а вы, батюшка, когда собираетесь уехать? – в лоб спросила Софи.
Он растерялся, глаза его забегали.
– Но я не хочу оставлять вас одну!
– Даже если мне придется ждать еще недели? Месяцы?
– Да…
– А как же маленький Сережа? Сереженька – как же он без вас?
– Что?
– Оставите ребенка одного в Каштановке?
– У Сережи есть нянюшки, служанки… им есть кому заниматься…
Софи бросала свекру в лицо те самые упреки, которыми он прежде осыпал ее, но старик не замечал… Она усмехнулась:
– Однако желая заставить меня уехать в Каштановку, вы не принимали точно таких же, но моих доводов!
Обезоруженный в разгар нападения, он высоко поднял голову, раздул ноздри и… глухо сказал:
– Наплевать мне на Сереженьку! Я живу, слышите, живу вовсе не ради него, я живу только вами!
Будто громадный валун рухнул в пруд… Последовало долгое молчание – от этого валуна, от этой внезапно открывшейся истины по воде пошли все расширяющиеся круги… Вошла Дуняша с лампой. На столе между Михаилом Борисовичем и Софи вспыхнул матовый светящийся шар. Вынырнуло из сумерек лицо старика – изрезанное морщинами, словно сухая, растрескавшаяся земля. Он отбросил всю свою гордость.
– Разрешите мне остаться, Софи, – забормотал Михаил Борисович, едва горничная вышла из комнаты. – Пожалуйста, разрешите мне остаться! Мы переедем в другую квартиру – большую, удобную, красивую… Я стану помогать вам…
Со времени своего приезда Софи жила на деньги, вырученные мужем от продажи принадлежавшего ему в Петербурге особняка, и, как бы ни старалась экономить, даже на эту, более чем скромную меблированную квартиру уходило ежемесячно целое состояние. А ведь еще питание, еще всякие мелкие услуги – в этом городе цены просто непомерны! Еще немного, и ей придется отнести в заклад свои драгоценности. Михаил Борисович, должно быть, догадывался о стесненном положении невестки.
– Мне невыносимо видеть, что ко всем вашим серьезным, к вашим душевным заботам прибавляются еще и денежные! Ах, Софи, дитя мое дорогое, зачем вы отказываетесь признать во мне существо, для которого важнее всего на свете ваше счастье и ваше благополучие?
– Я ни в чем не нуждаюсь… – пробормотала она. – И я не хочу никуда переезжать…
– Хорошо, не надо. Но разрешите мне хотя бы, раз уж я живу в этом доме, взять на себя часть расходов!
– Нет!
– Тогда я намерен у вас еще погостить. И очень долго!
– Да сколько угодно! – окончательно разозлилась она.
Именно на такой ответ он и рассчитывал – после стольких разочарований и отказов. Лицо старика просияло от счастья, и Софи рассердилась теперь уже на себя за то, что доставила ему это удовольствие.
– Да исполнит Бог все ваши желания, дорогое дитя! – театрально воскликнул он. – Даже те, исполнение которых принесет мне огромное горе!
Михаил Борисович повернулся к иконе Богоматери, висевшей в красном углу, и стал молиться. Софи подумала: а о том ли он молится, о чем сказал… Старик истово крестился.
– Софи! Мне бы хотелось пригласить вас в ресторан сегодня вечером! – неожиданно переменил он тему, снова усевшись в кресло.
Свекор впервые предложил ей выйти из дому вместе, развлечься. Она подумала о Николае, затерянном в степях, о его страданиях – день ото дня, как ей казалось, возраставших, – и собралась было резко ответить тому, кто не желал этого осознать, но в эту минуту в дверь постучали: Никита объявил о визите Ипполита Розникова.
Гость вошел – словно бы несомый лучом света. Шпоры его позвякивали, глаза блестели, зубы сверкали в улыбке. Ипполит щелкнул каблуками, сложился пополам перед Софи, потом перед Михаилом Борисовичем, отстегнул шпагу и воскликнул по-французски:
– Я только чуть опоздал и не застал вас в своем кабинете, когда вы приходили в Михайловский дворец! Наконец-то у меня для вас новость! Генерал Бенкендорф желает видеть вас послезавтра в три пополудни!
* * *
Деликатным жестом генерал Бенкендорф пригласил Софи сесть. Она села, не в силах отвести взгляда от этого сорокалетнего мужчины с полысевшей головой, морщинистыми щеками и живыми глазами: от него зависела ее судьба! Золотые эполеты были явно широки для его тощих плеч, шнуры и аксельбанты образовывали сложный узор между пуговицами его мундира, вся левая сторона груди была сплошь покрыта крестами, медалями и другими наградами. Бенкендорф благоухал «Parfum de la Cour». Ей показалось, что генерал слишком сдержан в обращении с ней, и это ее встревожило.
А Бенкендорф между тем заговорил – по-французски, но с очень сильным русским акцентом.
– Мадам, – сказал он. – Его величеству стало известно о многочисленных ходатайствах, которые вы направили лицам из окружения государя.
– Я счастлива, что это стало известно его величеству, генерал, – пролепетала Софи.
Как она готовилась к этой аудиенции, как старалась одеться изысканно! Ради того, чтобы добиться нужного ей решения, можно ведь и пококетничать! Выбрала темно-зеленое, почти черное бархатное пальто в талию, а на голову – шляпу из того же гладкого бархата с лиловыми страусовыми перьями, загибающимися к уху… Отправляясь к генералу, она внушила себе, что понравится ему, была совершенно уверена в этом… И вот теперь оказывается, что на Бенкендорфа вовсе и не действуют ее чары. Он смотрит на Софи в точности так же, как на папки, что на столе, как на лампу, как на мебель… Пристальный, но равнодушный взгляд, печально обвисшие усы…
– Ваша настойчивость, – продолжил генерал, – могла бы не понравиться императору, но государь так добр, что не усмотрел в ней ничего, кроме преданности верной и любящей супруги своему мужу. Но это, разумеется, не позволяет решить проблему.
– Но я же не первая из жен осужденных, кто обратился к его величеству с просьбой оказать милость и разрешить последовать за мужем в Сибирь, – Софи силилась улыбнуться.
– Да конечно же, нет! – воскликнул Бенкендорф. – Вам подали пример княгиня Трубецкая и княгиня Волконская. Но разрешите напомнить, что обе эти дамы принадлежат к древнейшим и знатным русским фамилиям и что мы можем в силу этого полностью им доверять.
– Вы упрекаете меня в том, что я француженка? – сердце Софи забилось часто и глухо, разговор пошел в каком-то странном направлении.
– Упаси господь, ни в коем случае! Причина – вовсе не ваше происхождение, но ваши взгляды. У меня есть донесение о наиболее интересных из этих взглядов…
Генерал взял со стола стопочку бумаги, бегло просмотрел и выбрал нужный листок.
– Вот, например… «По свидетельствам, собранным на месте, в деревне Каштановка и во всем уезде, интересующая нас особа (речь о вас, мадам!) посещала церковь скорее из любопытства, чем из настоящей набожности. Данная особа сожалела о наличии в России крепостного права, прививала крестьянам мысли о том, что их спасет просвещение, и не упускала случая критиковать существующие в империи порядки и насаждать распространенные во Франции либеральные теории».
– Но это же неправда! – возмутилась Софи. – Кто вам такое наговорил?
– Лица, вам близкие.
Свекор! Это он сообщил о ней самое плохое, чтобы побудить власти к отказу в подорожной! Он способен на все! Подобное вероломство непостижимо… А может быть, не он… или не только он… если подумать еще… Злых языков в уезде хватает: Дарья Филипповна, Башмаков, Пещуров… Люди, фамилии проносились в ее голове, но все равно подозрение неуклонно возвращалось к Михаилу Борисовичу. Это свекор. А она пропала.
– Но как вы можете верить провинциальным сплетням, генерал? – Софи постаралась изобразить оскорбленную добродетель.
– Мадам, вы приехали из страны, где политические страсти бушуют на каждой улице! Разве вы отказались от республиканских идей, выйдя замуж и перебравшись в Россию?
Надо отбиваться!
– Нет, но ведь, не отказываясь от своих идей, я никогда не пыталась навязывать их кому-либо из окружавших меня лиц. Иначе плохо отплатила бы я за гостеприимство, оказанное мне моей новой родиной!
– Как жаль, что ваш супруг не проявил такой же скромности, какую проявили вы, мадам! – Бенкендорф произнес это с полуулыбкой на губах.
– Он позволил вовлечь себя…
– А вы даже не попытались его удержать. Впрочем, мы сейчас занимаемся не обсуждением дела декабристов…
– … и не обсуждением дела их жен, – подсказала Софи.
– Мадам, право, не стоит так волноваться. Во Франции всех этих господ непременно приговорили бы к смертной казни.
– Может быть, но они, по крайней мере, имели бы адвокатов для защиты!
– В политических процессах адвокаты никогда никого не спасли!
– Просто дело принципа!
– Ваши принципы, мадам, служат лишь для того, чтобы поддерживать озлобление слабых против сильных! Франция представляется вам страной культуры и справедливости, между тем как – вспомните! – во все периоды своей истории она жестоко наказывала за любое политическое преступление. Республика отправила на гильотину тысячи аристократов, империя расстреляла герцога Энгиенского, королевская власть перерезала горло четырем ларошельским сержантам… И при этом вы желаете учить человечество гуманности?
Софи сдерживалась изо всех сил, боясь противоречить Бенкендорфу. Пока остается хотя бы один-единственный, бесконечно малый шанс на успех, она должна играть роль смиренной просительницы. «Я нужна Николя!» – сказала она себе, чтобы набраться мужества на случай, если ей предстоят новые унижения. А лицо генерала вдруг пошло морщинками и стало дружелюбным.
– О да, разумеется, вы правы, мадам, – любезно произнес он, – вот только мы, при всем нашем варварстве, куда снисходительнее по отношению к врагам империи, чем просвещенные французы с их легендарной широтой взглядов! Тем, кто еще сомневается в этом, государь всякий день дает новые неоспоримые свидетельства своего милосердия по отношению к семьям осужденных.
– Хотелось бы разделять вашу в этом убежденность, – с усилием выговорила Софи.
– Сию минуту будете иметь случай, – улыбнулся Бенкендорф, откидываясь на спинку кресла.
Он выдержал паузу – как хороший актер, который готовится произнести главную в роли реплику, – пронзил Софи взглядом и, наконец, решился:
– Мне поручена приятнейшая миссия поставить вас в известность о том, что император удовлетворил ваше ходатайство.
Софи охватило ощущение нереальности происходящего, сразу же сменившееся таким острым, таким полным счастьем, что кровь быстрее побежала по жилам, глаза затуманились слезами. Она прошептала:
– О-о-о… благодарю… благодарю вас, генерал!
– Мадам! Не меня вам следует благодарить! Не меня, но императора, и даже прежде государя ее величество императрицу – именно вмешательство государыни оказалось решающим.
– Я напишу… напишу их величествам… – бормотала раскрасневшаяся Софи. – Я напишу…
Бенкендорф явно наслаждался ее волнением.
– А вы очаровательны! – вдруг воскликнул он, словно только что заметив, что перед ним женщина. – Если вы не станете жалеть о Петербурге, то Петербург станет жалеть о вашем отъезде! Скажите, мадам, вы обращались к послу Франции за поддержкой вашего прошения?
– Да…
– Так я и полагал! И на всякий случай известил месье де ла Ферроне о счастливом разрешении вашего вопроса. Не сомневаюсь, что посол упомянет об этом в следующей депеше на родину. И превосходно: пусть в Париже узнают, что твердость царя не исключает и возможности поистине отеческого благорасположения…
Софи поняла, что ее используют заодно и для пропаганды. Догадалась, что стала предметом политической демонстрации. Ну и пусть! Какая разница! Главное, что путь к Николя открыт!
– Когда я могу уехать? – спросила она.
– Зачем вам торопиться, мадам? Если бы вы знали, что вас там ожидает…
– Мой муж!
– Какой прекрасный ответ, мадам! – Бенкендорф поклонился. – Готовьтесь, готовьтесь к путешествию. Пройдет некоторое время, вас пригласит полицмейстер, и вы получите подорожную.
Бенкендорф встал. Аудиенция была окончена.
Софи вышла из генеральского кабинета и – вне себя от радости – понеслась, никого не замечая, через комнату, полную офицеров, по лестнице, по обеим сторонам которой стояли часовые, выбежала на улицу… Прохожие толкали ее локтями, но и это не могло вывести Cофи из состояния сладкого наваждения. Она не была верующей, она никогда не просила Бога помочь в ее несчастье. Но сейчас, в этом необъяснимом состоянии духа, сейчас, когда она была так счастлива, именно Его ей хотелось поблагодарить. Без помощи Высших Сил, конечно же, конечно же, все ее письма, все сделанные ею визиты не послужили бы ничему, это Господь повелел русскому царю понять ее и внять ее просьбе!
Перед нею, словно только и ждала этого ее решения, появилась церковь, и Софи вошла. В храме было тихо и почти пусто, всего несколько человек – они молились, преклонив колени перед иконой, осеняли себя крестом… Софи не могла подражать им, но интуиция подсказывала ей: важно не только то, что видно воочию, настоящая жизнь, вполне возможно, кроется как раз за жестами и за словами…
– Спасибо! – сказала она тихо.
Тысячи маленьких огоньков трепетали перед ней. Не раздумывая, она купила свечу, зажгла ее, поставила перед святым образом и смотрела, смотрела, как она горит среди других беленьких тонких столбиков… Из этого созерцания в ней родилось не слишком религиозное ощущение какого-то совсем детского удовольствия. Эта женщина, растворившаяся в блаженстве, была не она – с ее твердым, решительным и ясным характером. С нее сняли ратные доспехи, ушла тревога, ушла тоска… Свободная в движениях и, может быть даже, не такая рассудочная, как прежде, она направилась к двери, от которой тянуло холодом. Стоявшие на паперти нищие тянули к ней посиневшие от мороза руки. Она подала милостыню всем – как будто удача обязывала к этому.
Она совершенно забыла о Михаиле Борисовиче, по дороге домой ни разу о нем не вспомнила, но, войдя в гостиную, вдруг оказалась лицом к лицу со стариком: оказывается, все эти часы он нетерпеливо поджидал невестку. Софи одарила свекра сияющей улыбкой из-под шляпки с перьями, он понял – и сник, глаза угасли, вся физиономия будто осела… наверное, он не выглядел таким растерянным и подавленным, когда узнал об аресте сына… Софи весело, словоохотливо рассказала ему о свидании с Бенкендорфом, радость сделала ее эгоистичной: она видела, как страдает свекор, но нисколько его не жалела. Когда невестка умолкла, старик долго сидел, глядя в пол, сгорбившись, сосредоточившись на своей ране.
Потом произнес слабым голосом:
– Поезжайте туда, Софи, если уж вам так хочется!.. Но возвращайтесь, возвращайтесь через полгода… через год… Если вы задержитесь, я умру!..
Она отвела глаза. Он громко высморкался. Подбородок дрожал между махрами седых бакенбард. Сморщенный, опустошенный, вмиг постаревший на десять лет, он, казалось, и впрямь вот-вот отдаст Богу душу. Но он слишком часто симулировал болезни, чтобы Софи обеспокоилась новым недомоганием. Впрочем, он и сам уже притворялся, будто преодолел слабость.
– Не печальтесь обо мне, Софи, не думайте обо мне!.. Будьте счастливы, дитя мое!.. Вы это счастье заслужили! – тон все-таки остался в высшей степени траурным.
Все следующие дни Михаил Борисович вел себя так же, и это сильно облегчало существование Софи. Неделя за неделей она ожидала приглашения к полицмейстеру, и разногласия между нею и свекром сводились все это время только к тому, каковы должны быть условия путешествия. Михаил Борисович требовал, чтобы за его счет было сделано все для максимального комфорта в пути, Софи не соглашалась быть ему хоть в чем-то обязанной. Она продала несколько драгоценных вещей, меховую шубу и получила за все четыре тысячи рублей. Этого было достаточно. Нужно было еще решить, как быть со слугами.
Никита умолял хозяйку взять его с собой в Сибирь. Сколько она ни доказывала, что его ждет страшное разочарование, он упирался и твердил:
– Я буду везде, где будете вы! Я всем обязан вам и Николаю Михайловичу! Это вы, а вовсе не мои родители подарили мне жизнь!
Слепая преданность Никиты трогала Софи и раздражала Михаила Борисовича. Он открыто ревновал к любому, к кому невестка проявляла симпатию. Он пытался убедить ее, что Антип станет прислуживать ей в пути куда усерднее и лучше. Она стояла на своем. Он все более и более мрачнел.
И, в конце концов, его прорвало:
– А вы не боитесь злых языков, дорогое дитя? – прошипел старик. – Что о вас скажут, увидев, что вы берете с собой в столь дальнее путешествие такого молодого, чересчур молодого… и чересчур ладно скроенного слугу?
Ее взгляд был похож на оплеуху – и презрения в нем было больше, чем злости. Но ему нравилось, когда она обливала его холодным презрением. Уходя, он прошептал:
– Вы не можете сердиться на меня за то, что я пекусь о вашем добром имени!
Несколько минут спустя, проходя мимо служб, Софи услышала голоса и приотворила дверь.
Антип стоял перед Михаилом Борисовичем на коленях, молитвенно сложив руки, и бормотал:
– Раз уж Никита туда едет, барин, зачем же мне ехать?..
– Станете присматривать друг за другом.
– Барин, миленький, пошлите кого-нибудь помоложе! Нету у меня прежней силы-то… И я же не сделал ничего плохого – за что вы меня в Сибирь!
– Ты там будешь не один.
– Сжальтесь, барин! – мольба Антипа была уже похожа на стон. Гримасы искажали его поросшее рыжей шерстью лицо, большие уши горели.
– Молчать, пес! – закричал Михаил Борисович. – Что я тебе прикажу, то и сделаешь! Никуда не годится, чтобы барыня одна ехала с Никитой! Впрочем, отправлю-ка я с вами еще и Дуняшу. Вас троих, чтобы прислуживать барыне, как раз хватит… Это не слишком много…
Дуняша разрыдалась, уронив голову на руки. Софи вошла и навела порядок с помощью таких резких слов, что у Михаила Борисовича перехватило дыхание. Она не хотела брать с собой никого, кроме Никиты. Спасенные от ссылки Дуняша и Антип бросились целовать барыне ручки. Михаил Борисович дулся весь вечер. Но, вернувшись на следующий день из похода по магазинам и лавкам, Софи увидела у подъезда замечательную черную с желтым коляску, внутри которой сидел свекор – он только что купил этот экипаж и теперь проверял, хороши ли рессоры.
– Вот мой вам прощальный подарок… – произнес старик.
Она сразу же отказалась, почудилось, будто и подарком этим он покушается на ее человеческое достоинство, и он совсем расстроился и обиделся:
– Послушайте, Софи, это уже смешно! Вы не можете отправиться в такое долгое путешествие в какой-нибудь дрянной колымаге! Вы вдвое больше устанете, а главное – потратите вдвое больше времени на дорогу к Николаю! Перестаньте упрямиться. Или… или я тоже заупрямлюсь: помешаю Никите ехать с вами!
– Интересно, как! – высокомерно бросила она.
– Да очень просто: этот человек принадлежит мне, и он не может ехать в Сибирь без моего письменного разрешения.
– То есть вы предлагаете сделку?
– Да. И обратите внимание: сделку, от которой сам ничего не выиграю, разве что – капельку вашей признательности!
Софи почувствовала себя обезоруженной. Как ей нравилась эта коляска! И у нее не было средств, чтобы купить что-нибудь столь же удобное. Кроме того, и без Никиты ей не обойтись. После долгой борьбы с совестью она, наконец, уступила. В тот же вечер Михаил Борисович написал аттестат, который от него требовался:
«Я, нижеподписавшийся, разрешаю моему крепостному человеку Никите Христофоровичу сопровождать в Сибирь мою невестку Софью Озарёву, француженку по рождению. Приметы лица, которому выдано разрешение: рост два аршина девять вершков, глаза голубые, волосы светлые, лицо овальное, нос прямой, бороду бреет, усы отращивает. Холост. Умеет читать и писать. Вероисповедания православного».
Внизу были – крупная подпись и печать зеленого воска с фамильным гербом, это означало, что документ заверен. Передав его Софи, старик проворчал:
– Не стыжусь, что уступил вам, потому что государь подал мне тут пример… Но позвольте заметить, я вовсе не уверен, что вам разрешат взять с собою слугу!
Теперь все его радости свелись к тому, что он либо поддразнивал Софи, либо пытался ее разжалобить, и то, и другое – имея целью налюбоваться перед разлукой разнообразием выражений лица невестки. Каждая минута, проведенная в ее обществе, становилась для него праздником, и он жил с ними потом, перебирая, как скупой рыцарь, свои сокровища. По утрам он ходил в церковь – помолиться о том, чтобы полицмейстер не прислал сегодня Софи вызова, а по вечерам благодарил Господа, подарившего ему еще один день отсрочки. Прошло еще два долгих томительных месяца, и вот 27 мая явился квартальный, который принес такую долгожданную для Софи и такую нежеланную для Михаила Борисовича повестку.
Она думала, что все формальности будут тотчас же и улажены, но принявший ее в канцелярии молодой секретарь был медлителен и педантичен. Сначала он зачитал Софи служебную записку, из которой она ничего не поняла, а потом в заключение показал ей каллиграфически написанный на гербовой бумаге документ со словами:
– Вам следует подписать это предписание, если вы продолжаете настаивать на намерении воссоединиться с вашим мужем.
Софи сначала просто пробежала глазами бумагу, потом стала читать каждый пункт внимательно, и удивление ее все возрастало:
«Женам государственных преступников, которые последуют за мужьями в Сибирь, должно будет разделить их участь, утратить свое прежнее звание и признаваться впредь лишь женами ссыльнокаторжных, а прижитые в Сибири дети будут зачислены в казенные крестьяне…
Им не будет дозволено взять с собою ни денежных сумм, ни драгоценных вещей, и сопровождать их может лишь одна персона, выбранная из крепостных крестьян, при условии, что означенная персона, женского или мужского пола, согласится на это добровольно и даст об этом письменное или устное свидетельство губернатору…
Им будет дозволено видеть мужей исключительно в остроге два раза в неделю…
Им запрещено куда-либо отлучаться от места, где будет их пребывание, а равно и посылать слугу своего по произволу своему без ведома коменданта…
Они не должны никому писать и отправлять своих писем и других бумаг иначе, как только через коменданта…
Из числа вещей, при них находящихся, и коих регистр имеется у коменданта, они не вправе, без ведома его, продавать их, дарить кому или уничтожать. Деньгам же собственным обязуются вести приходорасходную книгу, в случае востребования г. комендантом немедленно ему предоставляемую…»
Ни малейших сомнений: этим тщательно продуманным списком запретов власти рассчитывают отвратить жен декабристов от намерения ехать к мужьям! И делают это так явно, так цинично! Софи с трудом сдержала гнев, желание протестовать и ограничилась тем, что сказала, пожав плечами:
– Это несерьезно, сударь! Получается, что, отправляясь к мужу в Сибирь, жена декабриста сама соглашается стать кем-то вроде ссыльнокаторжной!
– Не совсем, сударыня…
– Ах да, тут, в вашем предписании, не говорится, что нас закуют в кандалы!
– И работать никто не заставит, и в камере не запрут.
– От императорской милости я ожидала другого…
Секретарь протянул руку за бумагой:
– Вы еще можете отказаться, есть время!
– Ну уж, нет! – отрезала она. – Где нужно подписать?
Он показал заостренным ногтем указательного пальца:
– Здесь, внизу страницы.
Софи твердой рукой написала имя и фамилию – и ей показалось, что с этого росчерка начинается новый и гораздо более важный поворот в ее судьбе, чем начавшийся в день свадьбы.
Часть II
1
После того, как проехали Томск, путь продолжался в облаках серой пыли между необозримыми пространствами полегшей под бешеными порывами ветра травы. Все вокруг дрожало, казалось, вибрирует и сама вздыбленная почва, распространяющая вокруг терпкий запах. Ямщику приходилось выбирать дорогу вслепую. Полдюжины колокольцев тренькали под расписанной яркими красками дугой, возвышавшейся над мечущейся туда-сюда гривой коренника. Он бежал тяжелой рысью, рывками, а две пристяжных справа и слева, отвернув от него головы и натягивая упряжь, силились перейти на галоп. Вырванный с корнями из земли кустик пролетел поперек тракта. Испуганная тройка резко повернула в сторону, и оба левых колеса кареты, попав в канаву, замерли без движения. Экипаж потерял равновесие и начал заваливаться набок. Ямщик, проклиная все и вся, спрыгнул с облучка, Никита последовал за ним, схватил коренника за удила. Софи решила помочь мужчинам, но стоило ей оказаться на скате, ураган хлестнул по ней в полную силу, спеленал ее платьем. Тысячи мелких иголочек впились ей в щеки. Она стала задыхаться, сжала губы, но песок уже скрипел на зубах.
– Скорее возвращайтесь в карету, барыня! – не своим голосом заорал Никита.
Его не хуже кнута стегал ветер, он с трудом мог устоять на ногах – клонило в сторону, он был весь расхристанный, взъерошенный – словно его одежда была сделана из перьев или изодрана в клочья, в разлетающиеся по ветру узкие полоски…
Лошадь упрямилась, вставала на дыбы, и Никита пытался удержать ее на расстоянии вытянутой руки. Голова человека и напротив голова лошади, оба в клубах серебристой пыли, представляли собой фантастическую картину. Изо рта человека вылетали окрики, из пасти лошади – ржание…
Как ни странно, в конце концов они поладили между собой. Лошади успокоились, карета, скрипя и повизгивая всеми креплениями, все-таки выбралась из рытвины, опустилась на все четыре колеса. Софи и Никита снова уселись бок о бок. Ямщик тоже занял свое место, свистнул и отпустил поводья. Экипаж запрыгал по ухабам, его чудовищно трясло. Упираясь ногами в пол кареты, изо всех сил вцепившись руками в поручни, Софи страдала от ударов, не умея предупредить их. То она скатывалась на грудь Никиты, то ее подбрасывало в воздух, и она билась головой о металлические части откидного верха… «Пока доеду, буду вся в синяках», – думала она. До следующей почтовой станции – Семилужного – оставалось еще тридцать верст. И казалось невероятным, что изящная черно-желтая карета, подаренная Михаилом Борисовичем, сможет одолеть этот путь и остаться целой.
Внезапно вой урагана сменила совершенно нереальная тишина. Подняв тучи пыли и вырвав из земли едва ли не всю траву, ураган насытился произведенными им разрушениями и помчался к Томску. Воцарилось пекло. В раскаленном воздухе любая веточка, малейший камешек вырисовывались с радующей глаз четкостью, но у Софи уже не хватало сил вглядываться в ландшафт.
Она выехала из Санкт-Петербурга четыре недели назад, и теперь была одержима лишь одной навязчивой мыслью: найдутся ли лошади на следующей станции? Ей поневоле пришлось смириться с тем способом передвигаться, каким путешествовали в России: здесь было принято ехать день и ночь до тех пор, пока находились упряжки на смену. И, едва переступив порог почтовой станции, она бросалась к смотрителю, чтобы ознакомить его со своей «подорожной» – так назывался выданный в петербургской полиции листок вроде пропуска, с ее приметами, печатью и разрешением отправиться в Сибирь, – зарегистрироваться в специальном журнале и потребовать как можно скорее запрячь свежую тройку. Если таковая находилась, они отбывали десять минут спустя, а если ее не было – начиналось ожидание, тем более невыносимое, что Софи каждую минуту ждала появления какой-нибудь важной особы, чья подорожная позволит этой особе уехать раньше нее самой. Она никак не могла смириться с распределением путешественников по трем категориям – в зависимости от свойств охранной грамоты. Подорожная, например, курьера, посланного императорской канцелярией, имела на себе три печати, и это позволяло владельцу захватить лучшую тройку прямо перед носом того, кто имел на нее право как прибывший на станцию раньше и уже собирался занять место в запряженном ею экипаже. На случай появления такого влиятельного лица у станционного смотрителя всегда были запасные лошади. Подорожную второй категории – с двумя печатями – выдавали морским и сухопутным офицерам, чиновникам, представлявшим органы власти. Обладатель такого листка не имел возможности реквизировать лошадей и, если их не находилось в конюшне, ему приходилось ждать, пока последняя тройка не отдохнет в течение пяти часов, но после этого он получал преимущество по отношению к остальным путешественникам, даже если те прибыли на станцию гораздо раньше него самого. Подорожная с одной-единственной печатью не давала никаких привилегий. Софи относилась именно к этой – третьей – категории. «Как же это несправедливо, – думала она, – как неправильно, что почтовых служащих, нарочных министерств, каких-то рассыльных, которые едут в Сибирь с какими-то неопределенными поручениями, ценят больше, чем женщину, отправившуюся на край света в надежде найти там свое счастье!»
В минуты крайней усталости она начинала сомневаться в том, что наступит день, когда судьба позволит ей снова увидеться с Николя. Она ведь даже не знает, в каком остроге, на каком именно заводе или руднике ей искать мужа! В петербургской полиции Софи предупредили, что все необходимые ей сведения она получит в Иркутске, там находился центр, откуда декабристов после распределения развозили по каторжным тюрьмам. Но от Томска до Иркутска – тысяча пятьсот шестьдесят верст, это, в лучшем случае, две недели пути! А вдруг и там идиоты-чиновники скажут, что ничего не знают? Еще когда она была в столице, разнесся слух, что несколько ссыльных умерли в дороге, что другие работают на медных рудниках, что тюремное начальство не делает никаких различий между политическими и уголовными преступниками… Отказываясь верить этим пересудам, Софи тем не менее постоянно пребывала в тревоге.
Она закрыла глаза, и ей почудилось, будто низкорослые сибирские лошадки несут ее в пустоту, будто ее приключения никогда не кончатся, будто она уже приехала и по приезде вдруг оказалась совсем одна во вселенной без цвета, без запахов, без звуков… Из тревожного полузабытья ее вырвал низкий голос:
– Барыня! Барыня! Что с вами?
Софи встрепенулась, остановила благодарный взгляд на выдубленном солнцем лице Никиты. Лучшего спутника и пожелать было невозможно: этот молодой крестьянин так предупредителен и так скромен одновременно!
– Устала немножко, – улыбнулась она.
– Вы такая бледная! Может быть, хотите остановиться ненадолго?
– Нет-нет, ни в коем случае! Пустяки, ничего страшного! Поехали, поехали быстрее!.. Нам нельзя терять времени!
Местность, по которой тянулась лента дороги, была холмистой и пустынной. Изредка открывалась поперечная ложбина, где темною волной развертывался лес. Затем они выехали в степь – нежно-зеленую, освежающую взгляд, как освежил бы иссохшее горло глоток прохладной воды. В высокой траве трепетали головки цветов – желтых лютиков, сиреневых ветрениц, голубых скромниц-незабудок… Рожок пастуха хриплым зовом порой нарушал тишину. Показались сооруженные вдоль откоса времянки переселенцев. Из-под крышки пристроенного над костром котла валил пар. Мужики в лохмотьях, приложив руку козырьком ко лбу, смотрели, как проезжает мимо карета. Еще две или три версты – и вот уже несколько жалких избушек теснятся справа от дороги. Софи уже навидалась таких деревушек – наверное, не меньше тысячи промелькнуло за время пути: почерневшие и покосившиеся бревенчатые домики, палисадники, заросшие крапивой, колодец с длинным шестом-рычагом… он называется здесь «журавль», кажется… им воду качают… маленькая выбеленная церквушка с капустно-зеленой крышей и металлическим куполом… Свиньи, похожие на диких кабанов, – желтые, поджарые, мохнатые – валяются в канаве… Потревоженный гусь пытается взлететь… Оборачивается и глядит вслед карете священник – бородатый, как пророк, а глядит удивленно, как дитя… А вот уже и нет никакой деревушки…
Проехали еще один большой перегон с равниной и лесами, и на горизонте, куда вела пыльная дорога, снова возникло поселение. Лошади ускорили бег, ямщик приосанился, Никита расправил складки рубахи под кушаком. Почтовая станция!
Вход туда был отмечен столбом, на котором чередовались белые и черные полосы. Деревянный дом, к двери вели несколько ступенек, над этим крылечком – навес…
К счастью, свободная тройка тут имелась, и смотритель поклялся даже, что дает Софи лучших своих лошадей: «Настоящие орлы, настоящие степные орлы, барыня! Вот увидите!» – Софи дала ему рубль на чай: тем лучше, если полетим, как на крыльях. Конюх тем временем распрягал усталых лошадей – сейчас им дадут передохнуть двадцать минут, а потом ямщик сядет верхом на одну из них, остальных поведет за собой на поводьях, и они потихоньку двинутся к той почтовой станции, откуда прибыли. Там животным и предоставят положенные пять часов отдыха, прежде чем их снова запрягут и они опять побегут знакомым уже маршрутом.
Укрытая одеялом из пыли карета была похожа на экипаж-призрак. Никита проверил, хорошо ли закреплен багаж, а теперь наблюдал за тем, как смазывают оси. Софи в это время вписала свое имя в реестр путешественников, огляделась. Общая зала была здесь точно такой, какие им были знакомы по всем станциям, где они останавливались: стол с подсвечником; четыре стула; обитые мягкой тканью скамьи для тех, кто остается ночевать; икона в углу; схема проезда от станции к станции с указанием расстояния между ними и стоимости: полторы копейки за версту, считая за одну лошадь; портрет Александра I – видимо, изображение нового государя еще не добралось до этих далеких краев… Из самовара валил пар. Софи выпила чашку обжигающего чая, съела два сваренных вкрутую яйца с кусочком черного хлеба и послала за Никитой, чтобы он тоже перекусил. Слуга явился – широкоплечий, с совершенно ребяческим выражением лица. Он отказался садиться в присутствии барыни, но – сильно покраснев от смущения – согласился разделить с нею трапезу. Надетая на Никите крестьянская рубаха, туго перехваченная в поясе, хоть и вылиняла, но все равно пока еще своим кирпично-красным оттенком, по контрасту, подчеркивала небесную голубизну глаз молодого человека. В пути лицо его загорело и обветрилось, волосы и брови выцвели почти до белизны, губы покрылись трещинками. Только он успел вытереть рот рукавом, станционный смотритель объявил:
– Экипаж подан!
Сибирские лошадки на этот раз попались такие горячие, что конюхам пришлось придерживать их за морды, чтобы стояли спокойно. Софи и Никита легко поднялись в карету, позаботившись о том, чтобы не дрогнули оглобли. Ямщик сел на свое место, и только тогда конюхи, придерживавшие упряжку, отошли в сторону. Получившая свободу тройка рванула вперед с ураганной скоростью. И все понеслось, все заплясало, все затрещало вокруг под стук копыт и перезвон под дугой… Некоторое время спустя лошадки, опомнившись от первого порыва счастья, чуть успокоились, пошли медленнее, ямщик уже мог управлять ими. Эти красавицы в сбруе из веревок и кожаных ремешков, с лохматой серой шерстью, с развевающимися по ветру гривами, легко взлетали на холмы и даже почти не теряли скорости на подъемах, один лишь коренник порою чуть упирался задними ногами, чтобы можно было выдержать вес кареты.
– Слушай, у экипажа ведь есть тормоза! – крикнула Софи ямщику. – Почему же ты не используешь их?
– Ох, барыня, нету надежнее тормозов, чем лошадиная задница! – ответил тот.
Никита бросил на хозяйку, которая, правду сказать, и бровью не повела, обеспокоенный взгляд: он очень переживал, когда кто-то позволял себе при ней грубые слова, сам никогда не употреблял их и вообще стремился к тому, чтобы оградить ее от неприятных встреч, уберечь от палящего зноя и лютых морозов, сделать так, чтобы она не уставала, не печалилась, не тревожилась ни о чем… И как только это хрупкое с виду создание выдерживает все тяготы поездки? Но – подумать только! – даже после такого трудного, такого долгого и утомительного путешествия она оставалась не менее элегантной, чем была в столице. На Софи было сейчас платье в черно-серо-вишневую шотландскую клетку, соломенная шляпка с вуалью, концы которой завязывались под подбородком. Зонтик покоился на коленях молодой женщины. Она заметила, что Никита исподтишка разглядывает ее, и улыбнулась: все-таки приятно, когда тобою так восхищаются…
– Смотри-ка, пейзаж чуть-чуть оживился! – сказала Софи.
Холмы, все в соснах и березах, уходя в бесконечность, вдали выглядели кудрявыми зелеными барашками… Дорогу то и дело пересекали реки и речки – притоки Оби. Над некоторыми были построены деревянные мосты, другие приходилось переезжать вброд, вода кипела тогда вокруг колес и лизала ступеньки… Стоило упряжке немного замедлить бег, как на путешественников налетали тучи комаров – Никита пытался отогнать их, размахивая веткой с листьями перед лицом Софи.
Миновали к вечеру несколько почтовых станций, лазурный небосвод запылал красной медью и изумрудной зеленью. После дневной удушающей жары резко похолодало, ударил едва ли не мороз. Софи подумала, что скачки температуры в Сибири такие, что с заходом солнца начинает казаться, будто лето внезапно сменяется зимой. Никита снова встревожился: теперь ему примстилось, что барыня слишком легко одета, вот-вот замерзнет и простудится. Пришлось ей набросить на плечи стеганную на вате накидку и укутать пледом ноги.
Ночью они добрались до станции в деревне Пачитанская – и здесь их ждало страшное разочарование: выяснилось, что почтовый курьер только что отбыл, забрав четыре экипажа и двенадцать лошадей! Да еще с десяток путешественников, улегшись по лавкам в зале, уже переживали собственное невезение! Среди них Софи заметила двух китайцев в черной шелковой одежде и маленьких круглых шапочках – эти спали сидя, спиной к спине, склонив голову на грудь, и были ужасно похожи на фарфоровых обезьянок. Молодая женщина в уголке, выпростав большую белую грудь, кормила младенца, а муж, сыто рыгая, наблюдал за ней. На одном конце стола, уронив голову на скрещенные руки, похрапывал бородатый торговец, на другом – двое, полуприкрыв глаза, сунув по кусочку сахара за щеку, пили чай. Вокруг свисавшего над столом фонаря (только он и освещал эту большую комнату) летали мухи. Окна были плотно закрыты, и в помещении воняло прогорклым подсолнечным маслом, немытыми ногами и кислой капустой. Станционный смотритель записал фамилию Софи в реестр и предупредил, что она сможет тронуться в путь не раньше завтрашнего полудня.
– Но это невозможно! – возразила она. – Я очень спешу!
И дала смотрителю щедрые чаевые: целых три рубля. Он с поклоном принял деньги, однако повторил, что свободных лошадей раньше означенного времени у него не будет.
– Впрочем, барыня, вам не помешает отдохнуть, – продолжил смотритель. – Если вы голодны, могу приготовить для вас отличный ужин.
На самом деле он мог предложить лишь крутые яйца, щи и простоквашу. Поскольку отдельной комнаты тут не было, Софи легла на лавку и натянула плед до подбородка. Никита устроился на лавке напротив. Смотритель прикрутил фитилек в лампе – в полумраке дыхание спящих казалось оглушительно громким. Софи не могла заснуть, невольно прислушиваясь к разнообразным оттенкам храпа, напоминавшего приливы и отливы. Кто-то присвистывал, кто-то только что не ревел, как зверь, кто-то вздыхал, кто-то постанывал, кто-то кашлял, захлебываясь мокротой… Как тут заснуть? Еще и ребенок заплакал, мать стала баюкать его напевая… Бородач встал, принялся шумно пить воду. Укладываясь, разбудил соседа, и они зашептались.
– Слушай, приятель, скинь мне гривенник за твои ложки, а я тебе тогда уступлю столько же за сукно!
– Да что ты, кормилец, креста на тебе нет, что ли, ежели мне такое предлагаешь?..
Продолжения разговора Софи не слышала – только жужжание голосов. Она попыталась удобнее устроить голову на сложенной вчетверо накидке. Ноги и руки ныли, усталость казалась нестерпимой, наконец она уснула – словно провалившись в черную дыру, но чуть позже ее пробудил монотонный плач младенца, у которого начался понос. Мать сменила ему пеленки и, чтобы успокоить, снова дала грудь. Софи посмотрела на Никиту: тот лежал с открытыми глазами.
– Вам тут не отдохнуть, барыня! – прошептал Никита. – Хотите, я схожу поговорю с крестьянами: вдруг кто-нибудь даст нам внаем лошадей? Только в таких случаях они не стесняются и заламывают бог знает какую цену…
– Заплачу, сколько запросят, – отозвалась Софи. – Иди скорей!
Он отправился в деревню. Софи была почти уверена, что вернется он несолоно хлебавши: ну, кто ему откроет дверь посреди ночи! Едва Никита оказался на улице, послышался бешеный лай. Деревенские собаки – передавая эстафету из дома в дом – начинали голосить, возмущенные вторжением незнакомца, позволившего себе бродить тут, когда всем положено спать. Софи могла проследить весь его маршрут – по шуму, который поднимался то в одном месте, то в другом. Довольно долго она пролежала, ни о чем не думая, уставившись в дверь. И вдруг на пороге появился Никита – вид у него был торжествующий: один из крестьян предложил тройку по шесть копеек за версту и лошадь. До почтовой станции Берикульское, а это двадцать семь верст, с чаевыми дорога им обойдется в пятьдесят рублей. Вчетверо больше обыкновения!
– Поехали! – решительно произнесла Софи.
Никита разбудил станционного смотрителя и конюхов. При свете фонаря в элегантную карету впрягли трех почти карликовых мохнатых лошадок с безумными глазами. На вид они казались более подходящими, чтобы тащить какой-нибудь тарантас. Их владелец, тунгус, потребовал плату вперед. Положив в карман деньги, сел на место ямщика – и тройка, сорвавшись с места, понеслась во весь опор в непроглядном мраке.
– Совсем не вижу дороги! – бормотала Софи, трясясь и подпрыгивая на ухабах.
– Зато он видит, барыня, не тревожьтесь, – успокаивал ее Никита. – Попробуйте лучше поспать!
Нет, заснуть она не способна. Устроившись поудобнее на сиденье и стараясь покрепче держаться, чтобы не упасть, Софи смотрела то налево, то направо: и тут, и там открывалась бездна – с черной травой, черными листьями на черных деревьях, даже туман, и он был черным… Изредка мелькал только светящийся во тьме белизной ствол березы… Вдалеке какое-то животное издавало крик, напоминающий смех ребенка.
– Что это за зверь? – спросила Софи.
Никита не ответил: он спал. Карету покачивало, он наклонился в сторону Софи, чуть позже она почувствовала тяжесть – голова слуги легла на ее плечо. Никогда еще между хозяйкой и крепостными не было подобной близости! Она подумала: спящий Никита становится человеком, не отличающимся от нее своим положением в обществе, и только проснувшись, он опять превращается в слугу. Но ведь и слуга он совершенно особенный, служение ей не умаляет, а возвышает его, хотя, казалось бы, такого вообще быть не может. Вот только в этом необычайном приключении, в которое их бросила судьба, разница в происхождении исчезает – они, как шелуху, отбрасывают все эти фальшивые насквозь условности, понастроенные цивилизацией, и обнажается истинная сущность каждого. Это сближение с крепостным представлялось Софи наглядной иллюстрацией к теории всеобщего равенства, которой она так восхищалась в юности. Наверное, она потому чувствует себя свободно и естественно в такой необычной ситуации, что француженка и взгляды у нее республиканские… Будь она русской, не смогла бы забыть, на какую бы высоту ни поднялись ее душевные и духовные устремления, что Никита – крепостной… Интересно, что ему снится, какие вообще мысли скрываются за этим лбом, уткнувшимся сейчас в ее плечо и подрагивающим в ритме езды? Если бы она могла видеть это скрытое, то разве не обнаружила бы в тайниках сознания и души Никиты себя самое – себя, Софи, словно бы отразившуюся в гладком черном зеркале колодца? Она чувствовала на своей руке, на шее ласку теплого дыхания. Время от времени проникавший в карету от быстрого хода холодный ветерок прогонял приятные ощущения, и Софи едва не приказала ямщику ехать потише, но тотчас опомнилась.
Занимался день. Волосы Никиты посветлели, стали отливать золотом. Это была первая краска, вернувшаяся на землю после темной ночи… Заметив, что парень пошевелился, Софи быстренько закрыла глаза и притворилась спящей – только не хватало, чтобы он понял, как она его разглядывала! А теперь, проснувшись, он увидит хозяйку с лицом, словно бы запертым на ключик, с лицом, за выражением которого она могла тщательно следить: достаточно, чтобы на нем сохранялось простодушно-благожелательное выражение. Она почувствовала, что, пробудившись, Никита сразу же отстранился, догадалась, что он смотрит на нее, поправляет на ней одеяло.
Вплоть до момента, когда они прибыли в Берикульское, Софи позволяла себе удовольствие ничего не видеть. А потом вдруг «проснулась», и выглядело это естественней некуда. Никита сразу же принялся озабоченно расспрашивать, хорошо ли она спала, не чувствует ли себя по-прежнему усталой…
Посреди села пастух протрубил в берестяной рожок. По этому сигналу уже во всем Берикульском распахнулись ворота, и хозяева стали выгонять своих домашних животных, чтобы те шли на пастбище. Теперь карета двигалась медленнее некуда, окруженная многоголосым блеянием толпы разномастных баранов с шерстью крутыми колечками, розовыми мордами и завитыми в улитку рогами и белых кротких овечек с тупыми рыльцами. Так и добрались до почтовой станции.
Никаких лошадей еще три часа! Софи пришлось покориться судьбе. Впрочем, давно пора было освежиться, поесть… В темной каморке, соседней с большой общей комнатой, она нашла медный рукомойник: он висел на костыле, вбитом в бревенчатую стену. Дно рукомойника было пробито, и в отверстие вставлен стержень, который оканчивался шариком, выполнявшим роль клапана. Если нажать на стержень, шарик поднимется, а из дырочки в дне рукомойника прольется тоненькая струйка воды. Софи приспустила платье, подперев ногой дверь, так как задвижки на ней не оказалось, и, приняв из-за этого почти акробатическую позу, ухитрилась тем не менее с грехом пополам помыться.
Ямщик и лошади, появившиеся во дворе почтовой станции, были на удивление похожи на тех, которых три часа назад отправили восвояси. Просто не отличить… Даже и не пытались – уехали, и вовсе не заметив, что теперь везут карету другие…
А в трех верстах от Берикульского небо потемнело: со всех сторон потянулись стада похожих на курчавых берикульских барашков черных туч, от которых к земле тянулись белые нити тумана… «Барашки» на глазах тучнели, тяжелели и в конце концов разразились дождем. Первые же его капли словно бы превратили крышу кареты в натянутую на барабан кожу: стук становился все более частым, все более дробным… Пейзаж постепенно исчезал из виду, отсеченный клинками ливня. Сколько оставалось видно глазу, вместо дороги перед путниками простиралась теперь болотная жижа. Копыта лошадей с хлюпаньем погружались в нее и с чавканьем тяжело выпрастывались. Вскоре грязь стала такой глубокой, что увязли колеса, и упряжка вынуждена была прилагать неимоверные усилия, чтобы вытащить карету на единственное обнаружившееся на мгновенно размякшей земле надежное место – мостки из срубленных древесных стволов. Требовалось вытянуть карету и протащить ее вперед на десять шагов. Удалось! Вот уже передние колеса достигли подрагивающих мостков! Но что это? Глухой удар – и экипаж накренился! Ямщик спрыгнул на землю, обошел карету, то и дело совершенно бессмысленным движением отряхивая с себя капли, выпрямился и сообщил, что два задних колеса разбиты.
– Сейчас мы все починим! – пообещал Никита, присоединяясь к нему.
Но не тут-то было: поломка оказалась куда более серьезной, чем он предполагал: оказались повреждены и обода, и спицы, и стало понятно: нельзя ни исправить положение, ни пускаться в дорогу после такой аварии. Ямщик объявил, что знает кое-кого, чей дом неподалеку, чуть в стороне, пусть, дескать, путешественники там подождут, а он сядет верхом на одну из лошадок и вернется на станцию, чтобы взять там какую-никакую повозку и доставить сюда каретного мастера, если найдет такового. Никита решил подстраховаться: Господь его ведает, а вдруг ямщик попросту сбежит, – и заявил, что в таком случае он берет двух других лошадей в залог. Ямщик согласился, но всем своим видом выразил оскорбленное достоинство.
– Сейчас провожу вас к дому, – буркнул он, – а то ведь может там и не поздоровиться!
Софи тоже вышла из кареты, рассудив, что так лошадям будет полегче. Никита раскрыл зонт и протянул его: вот, барыня, возьмите. Ежась под холодными струями дождя, они двинулись вперед. В лужах вспухали и лопались пузыри, и Никита заметил, что теперь дожди надолго по примете… Тысячи маленьких лягушек выскакивали из бывших рытвин, теперь превратившихся в бурливые ручьи…
Шли они так. Впереди – ямщик, он вел под уздцы упряжку, тащившую за собой экипаж, за ним – Никита и Софи. Карета скрипела, стонала, раскачивалась, с каждым толчком, с каждым шагом она явно все больше повреждалась и все ниже оседала. Скоро уже не стало ободов, и она теперь пропарывала грязь одними спицами, а чуть позже стала двигаться только на втулках… Тройке было чрезвычайно тяжело везти за собой это странное сооружение, словно бы вспахивавшее почву изувеченным своим задом.
Они свернули с дороги и углубились в лес, состоявший на этот раз из гигантских лиственниц. Здесь, под их сводами, было темно, как будто уже наступили сумерки, но зато густые кроны не пропускали дождь. Выйдя на поляну, путники обнаружили на ней три бревенчатых избушки, одна из которых выглядела обитаемой.
– Пришли? – спросил Никита у ямщика.
– Угу, – ответил тот. – Здесь, в тепле, меня и подождете, а я вернусь часа через три…
Однако Никите что-то тут показалось сомнительным, он отвел ямщика в сторону и стал тихо с ним переговариваться, а когда вернулся к Софи, лицо его было озабоченным.
– Барыня, – потупившись, с трудом выговорил Никита, – не стоит нам туда ходить…
– Почему же?
– Потому что этот дом принадлежит шаману!
– Шаману? И кто же такой этот шаман?
– Сибирский колдун. Он живет один. Он умеет разговаривать с животными, с растениями, с духами…
– Только и всего-то! А ты что – боишься?
Никита смутился и растерялся, как будто Софи упрекнула его в невежестве.
– Неужели боишься? – продолжала между тем она. – А ведь ты так много читал, так много знаешь! Уж тебе-то должен казаться просто смехотворным подобный вздор! А шаман вполне может оказаться славным человеком. Мне очень хочется с ним познакомиться. Да, впрочем, и выбора у нас нет. Пошли!
– Воля ваша, барыня, – пробормотал Никита. – Только в книгах далеко не все написано, с чем на свете встретишься, а уж объясняется и вовсе не все…
Они двинулись к избушке. Ямщик постучал в дверь. На пороге появился невысокий человечек неопределенного возраста, желтолицый, с лоснящейся кожей, двумя узкими щелочками вместо глаз при полном отсутствии бровей, борода у него, скорее всего, отродясь не росла, а в расщелине смеющегося рта торчал один-единственный зуб… Одет шаман был в подобие длинной куртки из оленьей кожи, голову венчал заостренный колпак. Ямщик поклонился ему в пояс и сказал несколько слов на непонятном наречии. Шаман же в ответ обратился к гостям по-русски:
– Меня зовут Кубальдо. Заходите и чувствуйте себя как дома, мой дом – ваш дом на все то время, какое вам будет угодно здесь провести!
Софи поблагодарила и прошла в комнату, опередив Никиту. Ей ударил в нос, да так, что трудно было перевести дыхание, смешанный и очень острый запах вяленого мяса, немытой шерсти и мочи животных. На стенах она увидела растянутые и прибитые гвоздями на концах лап шкуры волка, соболя, лисы, шкурку белки… Единственное окно было вместо стекла затянуто рыбьим пузырем. В центре комнаты между тремя камнями пылал огонь, дым выходил в дыру, проделанную посреди кровли. Из мебели тут было только три некрашеных деревянных ларя, их покрывали надписи, выполненные иероглифами. Кубальдо расстелил на полу оленьи шкуры и пригласил гостей сесть на них, – они сели, подобрав под себя ноги. Затем шаман разогрел, поставив на огонь очага котелок, плиточный чай, называемый еще калмыцким, который в Сибири предпочитают всем остальным напиткам. Софи слышала раньше об этом отваре – жирном, потому что в него добавляли молоко, баранье сало и соль, – но считала, что у нее не хватило бы мужества попробовать его. Тем не менее, когда Кубальдо стал угощать, не смогла отказаться. Шаман разлил густую светло-коричневую жидкость в четыре плошки – от них запахло стойлом. Ямщик одним глотком опорожнил свою, и видно было, что получил от этого удовольствие, после чего откланялся, сказав на прощанье, что слетает туда и обратно стрелой и очень скоро вернется, и вышел. Никита и Софи под пристальным взглядом шамана поднесли к губам плошки… Едва пригубив пойло, Софи почувствовала, что ее бросает в жар, щеки залило краской, она просто не могла вынести вкуса пережженной травы и жира… Преодолевая тошноту, она попросила дать ей воды – пополоскать рот…
– Сию минуту принесу! – заторопился Кубальдо. – Вода родниковая, и готов поклясться, что такой чистой вы никогда и не видывали!
У шамана был старушечий голос и сильный восточный акцент при, в общем-то, правильной русской речи. Софи хозяин избушки казался довольно забавным, у Никиты он по-прежнему вызывал подозрения.
– Барыня, вам не стоит пить его воду! – горячо зашептал он, внимательно следя за Кубальдо, который, чуть покачиваясь на ходу, удалялся в глубь избы.
А тот уже возвращался с кувшином в одной руке и черным камнем в другой. На ходу он бросил камень в воду, и лицо его при этом было очень серьезным.
– Зачем ты это сделал, Кубальдо? – не скрыла удивления Софи.
– Это не обычный камень, – ответил шаман. – Это звезда, упавшая с неба в один знаменательный день. Я сам видел это. Звезда эта зародилась далеко-далеко отсюда – в глубинах небес, так же, как вода, которой я вас угощаю, зародилась далеко-далеко отсюда – в глубинах земли. Когда я соединяю камень и воду, я замыкаю таким образом круг творения, и это может принести большое счастье…
Софи улыбнулась. Глаза Кубальдо в узких щелочках почти смеженных век сверкнули.
– Разве ты не нуждаешься в счастье? – спросил он.
– Очень, очень нуждаюсь, мне кажется даже, что никогда в жизни я так в нем не нуждалась!
– Тогда почему ты улыбаешься? Счастье – как змея: его привораживают знаками… Я не знаю тебя, но читаю в твоей душе. Ты много страдала, и ты готова еще больше страдать ради того, чтобы встретиться с мужчиной. Его я не вижу, но только подумаю о нем – слышу звон цепей…
Софи на мгновение остолбенела, но потом сразу же сообразила, что шаману наверняка сообщил о ней все, что знал, ямщик, а тому – смотритель почтовой станции. А вот Никита был, кажется, совершенно потрясен способностью сибирского колдуна к ясновидению. Они молчали – Софи в раздумьях, Никита не мог вымолвить ни слова от изумления. В мертвой тишине могло почудиться, будто лес подступил к избушке: совсем рядом, словно и не было стен, трещали, ломаясь, ветки деревьев, журчал дождь, вскрикивали испуганные птицы. А в пламени очага отчетливо виднелся петушиный бой: перья света и перья тени летели по углам комнаты… Кубальдо, освещенный снизу, казался какой-то изрытой морщинами горой, кожа на его лице была в таких же складках, как кожа его сапог. Призрак в остроугольном колпаке метался по стене за его плечами.
– А что еще ты можешь мне рассказать? – вернулась к действительности Софи.
– Ничего особенного. Тебе бы побыть тут со мной подольше… У тебя очень твердый, решительный характер, и это мешает тебе познать кое-какие радости – из самых простых.
– Я не о себе хочу от тебя услышать!
– О ком же?
– О мужчине, с которым, как ты сказал, мне предстоит встретиться.
– Повторяю тебе: я его не вижу!
– Ну, постарайся, попытайся увидеть!..
Софи было странно оказаться втянутой в эту игру с ясновидением, она же всегда отвергала суеверия, смеялась над ними. Но сейчас, когда тревога за мужа достигла предела, ей все средства казались пригодными, лишь бы хоть на минутку, хотя бы одним глазком заглянуть в будущее. Смущаясь и немного оробев, она все же решила настаивать на своем:
– Скажи, по крайней мере, жив ли он! Он жив?!
– Жив, – ответил шаман.
Софи испытала огромное облегчение, и это тут же показалось ей смехотворным. Впрочем, приобретенный вместе с образованием рационализм, как ни боролся с искушением проникнуть в тайну, как ни твердил, что чудес не бывает, вынужден был уступить, сдать позиции.
– А он здоров?..
– Думаю, да… Но больше я ничего не стану тебе говорить, потому что солгал бы, сказав еще что-то. Но тебе должно быть достаточно и услышанного – позволь потоку увлечь себя!
Кубальдо наполнил до краев деревянную чашу и протянул ее гостье. Она отпила, и ей почудилось, будто свежесть деревенского воздуха проникла ей в горло, жжение во рту сразу стихло, тошнота прошла как не бывало.
– Какая прекрасная у тебя вода! – искренне восхитилась Софи.
Шаман поклонился молодой женщине, взял у нее чашу и, протянув ее Никите, приказал:
– А теперь ты пей!
– Ни за что, – помотал головой Никита.
– Почему?
– Не страдаю от жажды!
– Скажи лучше, что боишься, подозреваешь меня…
– Ну, и это тоже…
– Что за нелепость, – прошептала Софи. – Да пей же!
– Вы вдвоем вошли ко мне, – сказал Кубальдо, – и выйдете тоже вдвоем. Если один из вас двоих отказался от воды счастья, когда другой выпил ее, то все, чему суждено было стать белым, станет черным!
Никитой овладел ужас, и это можно было прочитать по его лицу. Он буквально выхватил чашу из рук шамана и в мгновение ока опустошил ее. А потом перекрестил себе рот.
– Крестись, сколько хочешь, – усмехнулся шаман. – Я встречал священников, миссионеров, знаю, что написано в их книгах, и не враг им. Вот только их Бог живет в доме с крестом наверху, а мой – он везде: в березовом листочке, в шкурке соболя, в прожилках камня, в куколке медяницы, в тумане, который поднимается над рекой…
– Для нас тоже Бог – везде, – возразил Никита. – Но у нас, кроме того, есть Иисус Христос, который учит любви…
– Прекрасно знаю всю историю про Христа. Это был великий шаман. Может быть, самый великий шаман из всех… Но вы, христиане, говорите, будто Христос умер на кресте, а мы, не православные и даже не христиане, считаем, что он вытерпел все муки и остался жить…
– Что вы говорите! – закричал Никита. – Как это возможно?
– Сейчас объясню, как мне в свое время объяснил мой учитель мудрости. Христа распяли в пятницу, верно?
– Да… в пятницу…
– Обычно приговоренных тогда оставляли на три дня агонизировать на кресте. Но его не оставили – его сняли на следующий день, в субботу, потому что суббота у иудеев – это Шаббат, а в Шаббат ничего такого происходить не должно. Жизнь останавливается, когда наступает Шаббат. И вот солдат, который должен был прикончить его ударом копья, ударил Христа в бок, увидел, что из раны выступило немного крови и сукровицы, понял, что он жив, и отдал его матери, Пресвятой Богородице. Та в подземелье вылечила и выходила сына, три дня спустя он уже мог говорить, и его ученики назвали исцеление – воскресением из мертвых. После этого Христос покинул Иерусалим, но совсем не вознесшись на небеса, как верят те, кто ему молится, – он попросту удалился в пустыню и жил там в молитвах и раздумьях до глубокой старости…
– Иисус?.. Иисус Христос жил до глубокой старости?.. Христос был стариком?.. Да ты сумасшедший! Ты попросту сумасшедший! – повторял Никита, стискивая кулаки.
Кубальдо пожал плечами.
– А чем старик Христос хуже молодого Христа? Разве он не так же достоин поклонения?
Этот богословский спор между ее слугой и сибирским колдуном удивлял Софи все больше. Она думала: но откуда же шаман, который, скорее всего, и читать-то не умел по-русски, набрался учености?
– И когда же, по-твоему, Христос умер? – спросила Софи.
– Вот этого не знаю – но он умер – и это совершенно точно! – в глубокой старости. Вспомни, что произошло с человеком, которого вы называете апостолом Павлом. Кстати, видишь, как много я знаю?.. Помнишь рассказ о видении, случившемся с ним на дороге в Дамаск… («Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба…» – тут же тихонько пробормотал Никита). Так вот – он лжет в этом рассказе, ваш святой Павел! Он встретил тогда самого Иисуса Христа, во плоти. Старого Христа. Такого же старика, как я сейчас, или даже старше! И старик Иисус привел путника Павла в свое жилище, и они в тот день долго говорили о великих тайнах жизни, как мы с вами сегодня вечером, и именно тогда Павел и был обращен…
Колдун замолчал, по губам и щекам его пробежала судорога. Можно было подумать, Кубальдо продолжает говорить с кем-то на языке, недоступном простым смертным. Снаружи послышалось замогильное и похожее на призыв на помощь ржание, и Никита выбежал за дверь. Две лошади мокли, привязанные, под дождем, неподалеку стояла карета Софи – разобранная на части, ни к чему не пригодная… Повесив голову, молодой человек вернулся в избу шамана, где Кубальдо, принеся целое блюдо кедровых шишек, угощал Софи орешками. Она разгрызла несколько, нашла их очень нежными и вкусными, а потом стала расспрашивать шамана о том, как охотятся в лесах. Воодушевленный расспросами гостьи сибиряк сразу же выложил кучу историй – о том, как выслеживал медведя, как застрелил изюбра, как ловит диких коз в западни: глубокие ямы, прикрытые сосновыми ветками…
– Знаете, часто бывает, что коза, упав в такую яму, обнаруживает там… волка, который только что гнался за ней. Но в подобных случаях волк, сам ставший пленником, не трогает желанную добычу. Они как бы заключают между собой союз товарищей по несчастью.
Союз товарищей по несчастью… эти слова шамана вернули Софи к мыслям о муже. И ей стало стыдно: сидит тут, грызет орешки, слушает охотничьи рассказы, наслаждается отдыхом, а ведь должна-то проклинать беду, из-за которой путешествие ее к Николя станет дольше, из-за которой они увидятся позже… А там, за окном, затянутым желтоватой пленкой, уже темнеет… Как быстро пролетело время в этом уединенном колдовском убежище!.. Дождь перестал, но с деревьев в лесу еще падают капли… Кубальдо подбросил в огонь поленьев, и очаг запылал жарче, языки пламени взметнулись высоко… Софи ощущала, как тяжелеет и тяжелеет голова, – может быть, Никита был прав, предостерегая ее, он был прав, говоря, что оказаться во власти шамана, этого сибирского колдуна – опаснее не придумаешь!.. А вдруг вода, которую она пила, – на самом деле какое-то зелье, изменяющее душу, подменяющее все желания?.. «Ну и глупые же мысли приходят мне в голову, – с улыбкой сказала себе Софи, – вот они уж точно не мои!»
– Пора бы нашему ямщику вернуться, – вмешался в ее размышления голос Никиты.
– Да, пожалуй, – думая о другом, рассеянно согласилась она.
– А если он до ночи не вернется? Что мы тогда станем делать?
– Заночуете у меня, – ответил за Софи шаман.
– Нет! – воскликнул Никита. – Тогда я возьму лошадь и отправлюсь ему навстречу.
– Нет, уж! Лучший способ с ним разминуться! – отозвалась Софи.
И прибавила тихонько:
– И потом, Никита, не могу же я остаться тут совсем одна!
– Давайте поедем вместе? – так же тихо предложил слуга.
– А багаж, а карета?
Никита покорился. А шаман, потирая свои длинные иссохшие руки, смеялся:
– Ох, странники, странники, забудьте, откуда идете, забудьте, куда, забудьте, кто вы!.. Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе упустить хоть какую-нибудь возможность заполучить счастье!.. В наших краях водится такая большая птица, тетерев, он весит примерно тридцать фунтов, у него черно-серое оперение, красные надбровья, клюв крючком… Весной он забирается повыше на дерево и зовет оттуда своих курочек – и зов этот его напоминает долгое воркование и заканчивается коротким вскриком. И когда он вот так воркует – полурасправив крылья, распустив хвост веером, вытянув к небесам шею, закрыв от восторга глаза – он совершенно теряет ощущение опасности, настолько, что становится не способен услышать приближающегося охотника, и тогда в него можно выстрелить, и он упадет бездыханный, но – счастливый… Мы зовем этих тетеревов глухарями, потому что они глухи ко всему, что не составляет радости для них. Человеку тоже следовало бы научиться быть иногда глухарем…
Никита в тревоге посмотрел на Софи: не рассердится ли она сейчас на старого болтливого колдуна? Не поссорится ли с ним? Нет… Она улыбалась ему и бессознательно вела себя так, словно путешествует по Сибири только ради собственного удовольствия и словно ее спутник никогда не был крепостным.
– Очень красивая у тебя история, – сказала Софи шаману. – Но ведь, если я правильно поняла, эти… глухари почти всегда становятся жертвами собственной беззаботности?
– А разве это не самая лучшая смерть – та, что подстерегает вас на вершине жизни?
– Не думаю… – ответила Софи.
– Ты чересчур осторожная и предусмотрительная! Ты, должно быть, родом не из наших мест! Да и выговор у тебя чудной? Где родилась-то?
– Во Франции.
Кубальдо мечтательно взглянул на гостью из-под складчатых век и протянул:
– Фра-а-анция… Это далеко… Я много знаю о Франции… Революция… Наполеон… Сейчас приготовлю вам постели вот тут, у стенки!
– Не трудитесь, мы не останемся здесь ночевать, – торопливо вмешался в разговор Никита.
– Ах, так! Что – ждешь с нетерпением своего ямщика? Хочешь, чтобы скорей приехал? – не без сарказма спросил Кубальдо.
– Да, конечно.
– А ты, барыня? – обратился он к Софи.
– Да, конечно!
– Значит, все и будет так, как вы хотите!
Шаман скрестил на груди руки, наклонил голову, закрыл глаза. Почти сразу молчание ночи нарушил приближающийся издалека звон бубенцов…
2
Колеса, починенные в Подельничной, снова сломались при выезде из Мариинска. Передняя ось, у которой совершенно расшаталась металлическая оковка, оторвалась между Сусловым и Тяжинской. Санкт-петербургской карете здорово досталось на сибирских дорогах, и – совершенно измученная и покалеченная – она запросила пощады. Никита посоветовал Софи продать экипаж, пусть даже по бросовой цене, и купить вместо него какой-нибудь тарантас, приспособленный к местным условиям, чтобы можно было продолжить путь. Впрочем, добавил он, если барыня хочет более выгодной сделки, то лучше подождать Красноярска – именно там, а не в деревнях, попадающихся по дороге, можно будет и найти то, что нужно, и поторговаться…
В этот большой город, выстроенный на берегу Енисея, они прибыли ночью. И – о чудо! – на почтовой станции оказалась отдельная комната для Софи. Наконец она сумела вымыться с головы до ног, отдать в стирку белье и выспаться на настоящей кровати! Утром – посвежевшая и отдохнувшая – она с удовольствием вышла на улицу. После долгих месяцев, проведенных в почти полном одиночестве, от царившего здесь оживления запестрило в глазах. Большая часть домов оказалась красно-коричневого цвета – такого же, как окружавшие Красноярск горы. По деревянным тротуарам спешили русские обитатели города в европейских костюмах и азиаты – с широкими желтыми лицами, в свободной одежде, развевающейся на ветру. Никита отвел Софи к каретнику, у которого, если верить станционному смотрителю, имелся самый лучший на свете тарантас.
Самый лучший на свете тарантас оказался повозкой на четырех колесах, но кузов ее покоился не на рессорах, а на восьми деревянных цилиндрах – продолговатых, упругих и способных гнуться: они были предназначены для того, чтобы амортизировать в дороге удары и толчки. При такой системе, полагал Никита, для полной надежности расстояние между передней и задней осью должно быть не менее четырех аршин. Он вместе с продавцом залез под экипаж и сверился, – результат измерений оказался идеальным. Затем Никита простучал колеса по окружности, прощупал обода и шины, поскреб ножичком смазку на ступице, потому что ему показалось, будто она треснула… и, в конце концов, объявил, что все вполне сносно. Но Софи беспокоилась, не понимая, где же в этом тарантасе сиденья. Ей объяснили, что так полагается, что в подобных экипажах сидений не делают, что очень удобные сиденья и даже лежанки получаются из багажа: промежутки забивают соломой, а сверху все это сооружение накрывают овчинами и раскладывают подушки. Продавец показал, как опускается и поднимается кожаный верх, как прикрывают широким фартуком ноги пассажиров. После чего запросил за эту почти новую повозку триста рублей и старую карету в придачу. Софи уже готова была заплатить, но Никита впал в страшную ярость, голубые его глаза, всегда такие кроткие, засверкали, как два кинжала. Он схватил каретника за шиворот и принялся бешено его трясти, крича, что тот нагло пользуется их положением, и грозя разбить ему физиономию, если тот сию же минуту не снизит вдвое свои непомерные требования. Софи никогда бы не поверила, что ее миролюбивый слуга может впасть в такое неистовство. Испуганный продавец, который явно завысил цену, забормотал, что, дескать, мы же не дикари и можно все спокойно обсудить. Постепенно стоимость тарантаса снизилась до двухсот рублей, причем вместе с ним покупатели должны были получить принадлежности для смазки и ремонта колес, толстые и тонкие веревки, коробку свечей, достаточное количество гвоздей, топор и некоторые другие инструменты, необходимые для того, чтобы экипаж можно было починить в дороге. На этот раз Никита счел торг разумным и предложил ударить по рукам. Сказано – сделано, договорились, что совершенно готовый и смазанный тарантас будет подан во двор почтовой станции к шести часам утра.
– Чего это ты так разгневался? – спросила Софи у Никиты, когда они вышли от каретного мастера.
– Как не гневаться! Этот паршивец хотел обмануть вас, обворовать вас, барыня! Это же по глазам было видно! Ну, разве я мог вынести такое!
Ей хотелось походить по магазинам в центре города. Туалет Софи возбуждал любопытство прохожих, некоторые даже оборачивались ей вслед, и Никита испепелял их взглядом. Теперь он не шел позади барыни, как когда-то, теперь он двигался рядом, свободно помахивая руками, сильный и мрачный с виду, всем своим обликом показывая, что готов в любую минуту защитить свою даму от оскорбления или нападения. Софи забавлялась этим уподоблением слуги рыцарю без страха и упрека. Почти все утро Никита провел в бане, от него пахло мылом, чисто промытые, сильно отросшие волосы отливали на солнце золотистым блеском, на нем была свежая рубаха. Софи подумала, что недурно было бы подарить ему новую – белую или голубую, но эта мысль недолго задержалась в ее голове: прежде всего следовало позаботиться о продуктах в дорогу. Их купили на пятьдесят рублей, и Никита уложил свертки в заплечный мешок. Придя на станцию, они кое-как поужинали и рано легли: Софи в своей комнате, Никита – в общей зале. Еще не рассвело, когда он постучался в ее дверь – ямщик с тарантасом, запряженным тройкой, ждал во дворе.
В новой повозке трясло еще больше, чем в карете, но ведь они убедились, что устройство ее позволяет перенести любые испытания. Полулежа под кожаным пологом на своих сундуках, Софи думала, что, наверное, похожа сейчас на какую-нибудь королеву былых времен, которую вынесли прогуляться на носилках – и жестко ей, и тряско, да что ж поделаешь… Никита, усевшись рядом, не сводил с нее глаз, и взгляд у него был таким жалобным, словно он один несет ответственность за все неровности дороги, словно он один повинен во всех неудобствах, какие вынуждена терпеть его барыня.
Прилетевший невесть откуда свежий ветерок внес беспорядок в пейзаж, словно вздумал причесать его против шерсти: ерошил траву, перевертывал каждый листик наизнанку, морщил воду против течения… Путешественникам пришлось переправиться на пароме через один рукав Енисея, потом проехать по двум островам, соединенным наплавным мостом, а затем – снова на пароме – перебраться через второй рукав великой сибирской реки. Тяжелой барже, которая несла их на палубе, двигаясь вдоль каната, перекинутого с берега на берег, придавала скорость одна только сила течения. Противоположный берег, видный с расстояния больше чем в версту, казался ленточкой зеленого тумана с розовато-голубоватым зубчатым краем: они уже знали, что это горы за лесом… Медленное плавное скольжение по тихой воде создавало у Софи впечатление, будто ее везут прямо в мираж. Позади толпились крестьяне, повозки, лошади, коровы… словно все население и все поголовье скота решило вдруг перебраться на новое место… Люди и животные стояли неподвижно, не издавая ни звука, – так, словно странное путешествие вне времени заставило их онеметь и остолбенеть. Облокотившись рядом с Никитой о поручни, Софи временами шептала:
– Боже мой, как долго… Да это займет еще не меньше часа! – воскликнула она так же тихо, дав наконец волю отчаянию.
А Никита, с грустью на нее глядя, ответил:
– Да, барыня…
И спросил, помолчав:
– Вам так не терпится оказаться на почтовой станции, барыня?
– Как всегда! – она пожала плечами.
– Но тут ведь так красиво!
– Ты прав: очень красиво. Но у меня сейчас нет никакого настроения любоваться пейзажем, знаешь ли!
– Понимаю-понимаю…
Она догадалась, что расстроила его, причинила ему боль. Конечно, Никита отдал бы все на свете, лишь бы ей было хорошо, лишь бы она была счастлива или хотя бы казалась счастливой… но ведь эта долгая дорога, которая изматывала ее, отнимала силы, не давая возможности даже предположить, когда же они, наконец, достигнут цели, для парня-то стала прекраснейшим приключением – таким, о каком он и помечтать никогда прежде не мог! Еле слышный плеск воды завораживал, говорить не хотелось… Софи чувствовала, как близко рука Никиты на перилах. Посмотрела на него: лицо молодого человека выглядело страдальческим, – легонько отстранилась, но локти их все-таки почти касались друг друга. И зной был один на двоих – они едва не таяли…
Вдруг Никита резко, даже с каким-то недовольством, повернулся спиной к Софи и ушел на корму парома. Вернулся он только тогда, когда стали причаливать. Она не стала выяснять причин его невежливой выходки. Они забрались в свой тарантас и двинулись дальше – сначала дорога шла по правому берегу, затем она стала подниматься плавными изгибами по склону горы. Леса не было – только камни и пожухшая трава под палящим солнцем. Повозка держалась, несмотря на многочисленные колдобины и ухабы. На каждой станции Никита и Софи удавалось утолить жажду и перекусить, пока по приказу смотрителя меняли лошадей и смазывали колеса.
В Уяр они добрались только к половине двенадцатого ночи, а сразу после полуночи уже отбыли. Ямщик, двадцатилетний тщедушный мальчишка, оказался пьян в стельку. На первом же повороте он свалился в придорожный овраг. Растерянные лошади набирали скорость. Софи кричала от страха. Но Никита, слава богу, успел схватить поводья и натянуть их. Тройка резко затормозила под грохот всех соединений повозки. Парень, хохоча и жестикулируя, нагнал повозку и вскарабкался на свое место, но Никита с размаху влепил ему пощечину, оттолкнул в сторону и стал править сам. Правда, он не знал дороги и не мог определить, в какую сторону теперь двигаться. Ямщик приткнулся к его плечу и захрапел, время от времени, неуклюже, как мешок с орехами, сползая с сиденья, и Никите раза четыре или пять после особенно глубоких рытвин пришлось усаживать его прямо.
Ночь была ясной, небо – все в звездах. Время от времени Никита оборачивался, чтобы взглянуть на Софи. Она не спала – в глубине тарантаса светились ее внимательные глаза, обращенные на него… О чем она думает, когда вот так на него смотрит? Из благоговения перед нею Никита никогда даже не приближался к женщинам и, заперев себя в клетку целомудрия, гордился, что его страсть к Софи не запятнана никаким сладострастным воспоминанием. Однако с тех пор, как шаман угостил их этой странной водой с утопленным в ней черным камнем счастья, юноша чувствовал себя пленником каких-то греховных чар: ему, который никогда раньше не осмеливался смотреть на Софи как на существо из плоти и крови, оставалось только удивляться, какой дерзостью отличаются нынче его фантазии… Как будто в сознании открылся люк, и через него вырвались на свободу все подавлявшиеся прежде желания – подавлявшиеся долгое время из обычной, свойственной чистой юности, стыдливости. Никита твердо знал, что он всего лишь крепостной, жалкий раб, недостойный внимания барыни, что барыня эта к тому же любит своего супруга, загоняет сейчас лошадей, чтобы скорее встретиться с ним, жертвует собой ради него, но тем не менее, управляя сейчас в ночи тройкой, которая везет Софи к этому самому супругу, он ничего не мог сделать с собой и забывал порою о том, кто он… кто она… Вот и получается, что по вине сибирского колдуна присутствие Софи перестало быть для него счастьем, благословением Божиим, теперь оно – одна лишь мука! Пытка, да и только… И в ту минуту, когда он считал себя сильнее, чем когда-либо, до него доносился аромат… аромат такой родной, такой волнующий, что бедняга терял нить своих размышлений, у него просто в голове мутилось. Или это был отзвук ее голоса, особенная интонация, какое-то словечко, полуулыбка… Голова его пылала, ему чудились сброшенные одежды… Какая бессмыслица, нелепость, все это недостижимо, нереально!.. Но почему, почему она остается такой холодной – она ведь тоже отпила этого зелья?! «Наверное, потому что она француженка, – чуть опомнившись, сказал себе Никита. – Вот на нее и не действует никакое чародейство!»
Юноша принял твердое решение не думать о Софи… хотя бы до следующей почтовой станции. Не думать и не смотреть на нее – и все тут! Однако решимости его хватило только на две версты. А когда Никита снова обернулся, барыня спала, покоясь щекой на кожаной подушке, прелестные ее ножки были укутаны в медвежью шкуру… Ее лицо… личико Софи – оно будто волшебное яйцо, снесенное в пуховое гнездышко жар-птицей из народной сказки… И он, простой мужик, везет сейчас самое драгоценное сокровище на свете!.. Все чародеи мира настороже. И добрые, и злые… Кто-то за него, Никиту, кто-то против него… Вот они собрались – по обеим сторонам дороги… У них тела из камня, бороды из травы, пальцы из ветвей, их глаза – звезды, их голос подобен грому, а смех у них лисий…Лошади почувствовали, что они здесь, и пугливо трясут головами, гривы полетели по ветру… Надо, чтобы они успокоились… Никита трижды издалека осенил животных крестным знамением. Хотя… хотя – после того, что сказал колдун, разве можно, перекрестив, изгнать бесов? Ох, вряд ли, вряд ли… Если Иисус Христос не умер на кресте, разве может защитить крест? Вряд ли, вряд ли… А что тогда? Молитва!.. Он начал: «Отче наш, иже еси на небесех…» Но очень скоро святые слова молитвы Господней сменились совсем другими, и Никита невнятно забормотал:
– Я люблю ее, люблю ее, люблю, люблю…
Он больше не шептал – он кричал в ночь, в темноту. Самые дурные, самые безумные инстинкты проснулись и забурлили в его крови. Он весь горел сатанинским пламенем. Издалека его, наверное, приняли бы за дерево, охваченное огнем… А она… она ничего не замечает, ни о чем не догадывается!… Она даже не слышит!.. Не слышит, потому что стук колес перекрывает выкрикиваемый им бред… Впрочем, это к счастью для него… А то ведь его дерзость, его наглость оскорбила бы эту чистую голубку, и она сразу же отправила бы его назад в Петербург… Нет! Нет! Лучше страдать, лучше умереть, только не разлучаться с ней, только бы видеть ее, слышать ее голос!.. Как было бы хорошо умереть с этой исполинской мечтой в сердце карлика… Слезы выступили на глазах Никиты. А что там – вдалеке, на краю дороги? Что за огни?.. А-а-а, это почтовая станция… Возбуждение его угасло. Подобно птице, которая, как бы ее ни опьяняло небо, время от времени опускаясь на землю, набирается сил, Никита испытал облегчение, рухнув с облаков обратно на твердую почву. Да, он рожден для высоких порывов, а не для того, чтобы их сдерживать, но, если он хочет и дальше любить Софи так же безумно, ему нужно иногда забывать об этой любви.
Он вернул поводья ямщику.
До рассвета они мчались, не теряя времени на станциях. В призрачном утреннем свете Софи различила справа заснеженные вершины Саянского хребта: они добрались до границы с Монголией.
В Канске станционный смотритель предупредил путешественников о том, что в нескольких верстах отсюда, в лесах появились разбойники. И добавил: «Вообще-то они не злые: они людей не трогают, забирают только багаж и лошадей…» Никита тут же запылал снова. Сколько лет он мечтал о том, как с риском для собственной жизни бросится на защиту своей барыни! И вот время пришло: она увидит, на что он способен! На Софи произвела сильное впечатление уверенность Никиты в себе. На этот раз им достался хороший ямщик, но хилые лошадки. Сидя рядом с ямщиком и сжимая в кулаке рукоятку ножа, Никита пристально всматривался в лесную поросль по обеим сторонам дороги. «Обратить в бегство десять… нет, двадцать разбойников, уложить к ее ногам десять мертвыми и самому упасть тут же, раненым, залитым кровью, и тогда только признаться ей в любви, да-да, в этот момент, прежде чем испустить последний вздох, не раньше!.. Только на пороге смерти я смогу вымолвить эти слова, ни минутой раньше, ни минутой, Господи, помилуй мя грешного!» Но вместо разбойников им попалась на пути группа старушек с котомками за спиной и посохами в руке.
– Куда путь держите, матушки? – крикнул ямщик, придерживая лошадей.
– В Троице-Сергиеву лавру, милок, – ответила одна из старушек.
– Да это же под Москвой! Вы же попадете туда хорошо если через год!
– А что время для того, у кого Господь в сердце?!
Паломницы выглядели пропыленными насквозь и очень усталыми, глаза у всех были выцветшие – оттенка дождя.
Софи подала им милостыню, старушки, кланяясь в пояс, поблагодарили добрую барыню. С откоса за этой сценой наблюдала целая компания маленьких четвероногих зверушек: они стояли на длинных задних лапках, прижав к груди короткие и хрупкие передние, навострив треугольные ушки и глядя умными глазками.
– Это белки? – поинтересовалась Софи.
– Да нет, какие же белки! Тушканчики это! Их тут полным-полно… – отозвался ямщик.
Стоило ему щелкнуть кнутом, как все тушканчики запрыгали друг за дружкой, стараясь, видимо, как можно скорее удалиться от страшного звука. Они подпрыгивали довольно высоко, делали в воздухе пируэты, помахивали хвостом с белой кисточкой на конце. И вдруг все разом исчезли в норах. Жизнь в степи словно бы остановилась, только орел парил высоко в небе…
После Ключинска степь кончилась – теперь вокруг простиралась тайга. Зажатая между двумя стенами из высоких елей, дорога стала такой же каменистой, как русла здешних рек.
Следующей ночью, когда лошади на подъеме дороги перешли в галоп, вдруг раздался треск, тарантас накренился влево, какое-то время по инерции катился, прихрамывая, а потом резко остановился, его как следует тряхнуло, и Софи пришлось вцепиться в Никиту, чтобы не вывалиться наружу. Одно из колес слетело с оси и укатилось в неизвестном направлении. Ямщик, проклиная свою судьбу, отправился на поиски. Никита высек кресалом огонь, зажег фонарь и следом за ямщиком углубился в густой лес. Софи осталась в тарантасе одна. Как ей было страшно! С трудом отгоняя мысли о разбойниках и преодолевая страх, она прислушивалась к шелесту листьев, ловя в нем звуки шагов, до боли в глазах всматривалась в сумрак таежной ночи… Наконец мужчины вернулись – очень довольные: благодаря совершенно необъяснимой удаче им удалось отыскать не только колесо, но и гайку, которой оно было закреплено, и даже винт, который нужно было ввернуть в эту гайку! Десять минут спустя тройка резво потянула за собой возвращенный к жизни тарантас, позвякивая колокольцами под дугой.
Назавтра в тайге обозначились просветы, стало видно горизонт, и Софи принялась считать версты, оставшиеся до Иркутска. Именно там ей должны были сообщить наконец, на какие рудники, в какой острог направлен Николай, именно там ей объяснят, где и каким именно образом они встретятся. По мере того, как тарантас приближался к месту своего назначения, воспоминания об удивительных приключениях на пути уступали в ней место ясному видению реальности. Горя нетерпением, она даже не замечала, какое теперь печальное лицо у Никиты, и беспокоилась лишь об одном: только бы колесо не оторвалось снова до следующей почтовой станции!
В Боковской они потеряли целый час на ремонт обода. Но эта сорок четвертая и последняя остановка на их долгом пути была всего в тринадцати верстах от Иркутска, и ямщик поклялся, что доберется до города за три четверти часа. Огромный, подстриженный под горшок толстяк в сапогах, с красным кушаком, он правил лошадьми стоя и громко распевая. Временами на равнине показывались табуны диких лошадей. Отдельные лошадки, наверное, заинтересовавшись проездом столь музыкального тарантаса, некоторое время бежали за ним рысцой, ловко перебирая короткими ногами, а потом внезапно останавливались на бегу, привлеченные какой-нибудь качающейся травинкой на обочине, и тогда длинная грива, только что развевавшаяся по ветру, падала им на холку и закрывала глаза…
Миновав пустынные и болотистые земли, проехав вдоль стен громадного монастыря с зелеными крышами строений внутри, тарантас оказался на берегу Ангары. Оставалось последнее препятствие: дощатые мостки на сваях, по которым нужно было перебраться на паром. Наши путешественники были тут не одни: целая толпа местных крестьян, кто сидя на мешках, кто прилегши на телегу, тоже ожидала прибытия баржи. Однако у Софи с ее подорожной было перед ними преимущество, и крестьяне, догадываясь об этом, посторонились, пропуская упряжку. Доски палубы звонко отозвались на топот копыт. Вскоре на противоположном берегу обозначился город, в сумерках выглядевший скромно, разве что золотые купола церквей над рядами беленьких домиков показались Софи похожими на овощи с какого-то сказочного огорода.
3
– Поздравляю вас, мадам, с тем, что вам удалось так быстро доехать! – сказал губернатор Иркутска Цейдлер, приглашая Софи в свой кабинет и указывая, куда ей сесть.
Он превосходно говорил по-французски, грассируя, как истинный парижанин. Седые волосы, облетевшая от времени позолота эполет, пожелтевший на швах зеленый мундир…
– Хорошо ли вы устроились? – любезно продолжал он.
– У меня не было времени разобраться, – ответила Софи. – Едва приехав в Иркутск, я сразу же поспешила к вам.
– О да, конечно, конечно! Но вы остановились у вашего соотечественника, Проспера Рабудена?
– Да.
– Отличная гостиница! Ну, еще бы: единственная французская гостиница на весь город! Увы, увы, Иркутск – отнюдь не столица!.. Ах, мадам, у нас тут не Петербург, совсем не Петербург, вот увидите… Но я надеюсь, после всех дорожных тягот вы счастливы, что сможете хотя бы и здесь отдохнуть? – сладким тоном спросил генерал.
– Я буду счастлива как можно скорее уехать отсюда! – отрезала Софи.
Гладко выбритое лицо генерала перерезала сетка морщин, в безрадостной улыбке обнажились желтые зубы.
– Все то же! Вы как будто подслушали слова княгини Трубецкой или княгини Волконской… они говорили так же… Ах, мадам, насколько же государь осложнил мою работу, разрешив этим дамам отправиться в Сибирь!
– Прошу прощения, ваше превосходительство, я так тревожусь… А не можете ли вы сказать мне хотя бы, где сейчас мой муж?
– Отчего же не могу? Он в Чите, мадам!
– Он в Чите? – недоверчиво повторила за ним она.
– Да, там.
– А что это еще за Чита?
– Поселение, где один из острогов отведен специально для политических преступников.
– Ну и далеко ли отсюда эта Чита?
– Увы, далеко, мадам! Восемьсот семнадцать верст!.. В Забайкалье… И ужасные, чудовищные дороги!.. Да и сами края тамошние… небезопасны…
– Ваше превосходительство, могу я попросить вас об услуге? Мне хотелось бы получить лошадей к завтрашнему утру!
– О, как вы торопитесь! – воскликнул губернатор. – Погодите-погодите, наберитесь терпения, мадам, дайте мне сначала хотя бы на ваши бумаги взглянуть!
Софи молча протянула ему подорожные – свою и Никиты, свой паспорт. Генерал принялся изучать их, поднеся так близко к лицу, словно ему нужно было их обнюхать, а не прочесть. Ознакомившись, он положил документы в ящик письменного стола. От звука, с которым ключ повернулся в скважине ящика, Софи вздрогнула и, не сдержавшись, спросила:
– Зачем вы заперли эти бумаги?
– Чтобы они не потерялись, мадам, чтобы они не потерялись… Если они вдруг пропадут, для вас это могло бы иметь последствия самые неприятные!
– Но они мне очень скоро понадобятся!
– Ну, не так уж скоро… Есть еще время…
– Как это так?!
– Мне следует дождаться указаний, имею ли я право разрешить вам отправиться дальше.
Софи на мгновение замерла, не понимая, что происходит. Еще не совсем опомнившись, пролепетала:
– Тут какое-то недоразумение… Государь сам разрешил мне ехать к мужу, в Сибирь!.. И все мои документы в полном порядке!..
– Не спорю. У княгини Трубецкой, княгини Волконской и госпожи Муравьевой документы также были в порядке, но я был вынужден задержать и их в Иркутске, пока велось дополнительное расследование. А в вашем случае я получил от высшей власти инструкцию провести таковое еще более тщательно. И получил приказ проверить ваш багаж.
– Багаж! Но это недостойно – копаться в чужих вещах! Как это можно!
– Успокойтесь, мадам, речь идет о простой формальности. Мои люди уже в гостинице, где вы остановились, и с минуты на минуту я ожидаю результатов досмотра.
Софи еле сдержалась, чтобы не выкрикнуть: «Обыск!», – но поняла, насколько бесполезно, если не вредно сейчас, возмущаться. А Цейдлер тем временем уже выбрал из лежащих на столе папок ту, на которой красными чернилами было аккуратно, почти каллиграфически выписано ее имя, развязал ленточки, открыл папку и достал оттуда какую-то бумагу, после чего пробежал ее глазами очень быстро – как будто для того лишь, чтобы вспомнить, о чем там говорится, – и произнес фальшиво-сочувственным тоном:
– Ах, мадам, зачем вы не хотели остаться там, откуда вы приехали!.. Проявленное вами упорство станет причиной многих несчастий для ваших близких, не принеся и толики счастья вашему мужу!
Но Софи не слушала генерала: она всматривалась в документ, который он держал в руке. Боже мой, ей знаком этот почерк!
Это же почерк ее свекра! Она не могла поверить своим глазам… Зачем ему было посылать письмо иркутскому губернатору?
– Что это за бумага, ваше превосходительство? – спросила она, изо всех сил стараясь унять дрожь в голосе.
Генерал Цейдлер не удостоил ее ответом: он молча открыл папку, чтобы вернуть документ на место. Но Софи опередила его движение – быстро, как молния, она ринулась к столу и выхватила у губернатора из рук письмо, взгляд ее, скользнув по строчкам, выхватил обрывки двух фраз, но их оказалось достаточно: «Политическое прошлое моей невестки… Я готов поклясться вашему превосходительству…»
– Немедленно отдайте мне документ! – с металлом в голосе приказал генерал Цейдлер, даже не привстав в кресле.
Но Софи, в которой все кипело от гнева, его не слушала. Отступив в глубину кабинета, она лихорадочно пробегала глазами письмо, по-прежнему останавливаясь на случайных фразах: «Логично ли, ваше превосходительство, отправляя на каторжные работы организаторов неслыханного по дерзости мятежа 14 декабря 1825 года, разрешать одной из самых пылких пропагандисток идей бунтовщиков обосновываться поблизости от места, куда они сосланы, чтобы нести заслуженное наказание?..» Рядом послышались шаги, сопровождаемые позвякиванием шпор… «Воспитанная на французский манер, то есть в полном неуважении, если не сказать – презрении как к монархии, так и к религии, эта женщина представляет собою серьезную угрозу для общественного порядка… Вы еще можете помешать худшему свершиться… Удержите ее!.. Отправьте ее обратно в Каштановку…»
Письмо – словно бы порывом ветра – было выхвачено из рук Софи, и только тогда она увидела рядом с собой генерала. Высокий, худой, смертельно бледный, со впалыми щеками и выпученными глазами он напоминал ожившего мертвеца.
– Дорого же обойдется вам ваша дерзкая выходка, сударыня! – рявкнул Цейдлер.
– Но если вам не было угодно, чтобы я взяла у вас это письмо, зачем было так демонстративно размахивать им передо мной, генерал? – усмехнулась Софи.
– В мою задачу входило только смутить вас, заставить задуматься…
– О-о, вы добились своей цели. Только, знаете, я ведь задумалась совсем не о том, о чем вам хотелось бы, и смутило меня отнюдь не то, что вы предполагали. Меня смутила низость моего свекра, я задумалась о том, что за чудовищный эгоист мой свекор!
Подозрения, зародившиеся во время визита к шефу жандармов Бенкендорфу, подтвердились теперь самым ужасным образом. Ей показалось, что на нее – как на лошадь – накинули веревочную петлю, остановив на всем скаку. Она считала себя свободной – так нет же: она в петле! Все это время свекор держал ее на коротком поводке, и вот теперь… Да! Да! Если вспомнить… Разве, не сумев удержать невестку подле себя, он не тянул ее назад при всякой возможности, на каждом шагу? Просто она об этом не думала! Михаил Борисович управлял ею, как марионеткой, он дергал за ниточки – пусть и на расстоянии, а она… она не ожидала такого внезапного удара и теперь растеряна, теперь не знает, что предпринять… Она кипела негодованием, ее душило отвращение к недостойному старику, но самое ужасное – она внезапно потеряла всякую уверенность в себе и в своих действиях… устала сражаться с невидимым врагом, с врагом, которого все равно не достать…
И, почти совсем уже сдав все позиции, забормотала:
– Простите мою выходку, ваше превосходительство… и постарайтесь меня понять… такое долгое путешествие… усталость… и потом, когда я приехала сюда, это ужасное разочарование… отсюда – такой порыв… я не сдержалась…
Софи было стыдно признаваться в подобной слабости, но вдруг она инстинктивно почувствовала, что это одновременно и хороший тактический ход: генерал Цейдлер явно клюнул на признание ею своей «вины», видимо, ему доставляет удовольствие играть в благородство, видя, как унижена жертва! И несмотря на полное отчаяние, ведомая женской интуицией, подсказывавшей, что, признав себя побежденной, она выиграет скорее, чем продолжая упорствовать, Софи даже слезу пустила.
– Ах, мадам, мадам, – теперь этот Цейдлер заговорил прямо-таки отеческим тоном, – успокойтесь, ради бога. Я же готов забыть навсегда это… ммм… странное поведение, понимая, сколь велико ваше горе… Но я все-таки должен принять во внимание документ, переданный мне высшими инстанциями…
– Но это письмо доказывает только готовность моего свекра использовать любые средства, вплоть до клеветы, лишь бы добиться, чтоб меня вернули ему! – воскликнула Софи.
Генерал, казалось бы, улыбнулся, но губы у него были такие тонкие, что улыбка эта напоминала шрам на лице.
– Мадам, мне не хотелось бы вдаваться в подробности ваших семейных ссор, – с притворной скромностью сказал он, – но поймите же и меня! Михаил Борисович Озарёв известен как человек с незапятнанной репутацией, бесконечно преданный государю-императору, в то время как вы, мадам – простите! – всего лишь иностранка и жена политического преступника. Разве не естественно для нас верить отцу, поднявшемуся выше своей боли за сына, своего отчаяния и сохранившему верность царю и Отечеству, а не женщине, пытающейся воссоединиться с мужем, потому что она поддерживает те самые убеждения его, за которые он был осужден?
– Да господи боже мой, ничего же общего не имеет политика с целью моего путешествия! – горячо воскликнула в ответ Софи. – Просто я люблю мужа! Я обожаю его! И знаю, что Николя относится ко мне так же. Я не могу вынести мысли о том, как он несчастен вдали от меня, и сама несчастна оттого, что муж не рядом со мной! Генерал, объясните же мне, я ведь никак не могу понять, разве люди, без конца говорящие о своей религиозности, могут забыть, что никакой земной суд не имеет права разлучать тех, чей союз скреплен Богом!
Она замолчала, с ужасом подумав, что слишком раскрылась перед скорым на расправу противником. Но Цейдлер продолжал, глядя на нее, улыбаться, видимо, забавляясь путаницей, царившей в душе жены политического преступника. Она была четвертой по счету декабристкой, которую он принимал в своем рабочем кабинете, и, вполне вероятно, он сейчас сравнивал ее поведение с поведением остальных. Мысль о том, что она не может потерпеть поражение там, где Екатерина Трубецкая, Мария Волконская и Александрина Муравьева одержали победу, придала Софи мужества. Ей надо понять этого верноподданного солдафона, сухого, желчного и искушенного в таких делах, ей надо пробиться сквозь бумажную стену, их разделяющую, заинтересовать его, растрогать да соблазнить, если иначе нельзя… Она прошептала:
– Помогите мне, мой генерал, умоляю вас, умоляю…
– Вы полагаете, что у меня больше власти, чем есть на самом деле, мадам… Решение зависит не от меня, но от восточно-сибирского генерал-губернатора Александра Степановича Лавинского… Но он, в этом я нисколько не сомневаюсь, запросит совета по вашему делу у санкт-петербургских властей…
– И все из-за какого-то нелепого письма… лживого… преступного…
– Совершенно ясно, что не на одно лишь письмо это станет опираться генерал-губернатор, решая ваши проблемы, но я… я все-таки вынужден задержать вас здесь на какое-то время…
– Зачем?!
– Чтобы попытаться лучше узнать вас, мадам… – с одной стороны, а с другой – чтобы дать вам время подумать… Вам известно, какие вас ждут потери, если вы осуществите свое намерение соединиться с мужем? Вы лишитесь всех гражданских прав, лишитесь возможности когда-либо вернуться в Россию, вы… вам придется приспособиться к среде каторжников, и вы растворитесь в ней…
– Да мне уже сто раз это объясняли! Я же подписала бумагу, где сказано, что на все это согласна!
– Но я даю вам последний шанс…
– Лучше дайте мне лошадей!
– Мадам, это порочный круг, мы с вами, словно заблудились в лабиринте: что ни шаг – тупик! – вздохнул генерал.
Постучали в дверь. Вошел унтер-офицер, покрасневший от важности порученного ему дела, и молча положил лист бумаги на письменный стол губернатора. Тот стал вполголоса читать документ:
– «Осмотр багажа… Не обнаружено французских книг, русских книг, газет, обнаружены женская одежда, женская пудра, женские щетки, женская туалетная вода и другие предметы, пригодные для использования исключительно особами слабого пола…»
– У меня есть подробный протокол, ваше превосходительство, и при необходимости… – Унтер-офицера распирало желание услужить начальству, он даже охрип от усердия.
– Ни к чему, – в уголке губ генерала появилась лукавая улыбочка. – По-моему, все в порядке.
Унтер-офицер искоса взглянул на Софи и, откашлявшись, продолжил:
– Мне следует еще доложить вашему превосходительству, что крепостной слуга этой путешествующей особы пытался помешать нам работать…
– Черт побери! – не сдержался на этот раз губернатор. – И что же?
– Пришлось взгреть его – для науки. Ну, а потом – арестовать.
– Отлично!
Софи окончательно потеряла голову. Ей теперь уже всюду мерещились враги.
– Почему вы так поступили? – закричала она, не помня себя. – Как вы смели? Немедленно отпустите Никиту! Вы обязаны его отпустить! Сию же минуту!
Генерал тут же перестал улыбаться, лицо его отвердело.
– Это невозможно, мадам! Никто, позволивший себе сопротивление моему приказу, от наказания уйти не может!
– Но хотя бы разрешите мне увидеться с Никитой!
– Это также невозможно. Ваш слуга проведет ночь в камере, а завтра я его допрошу. Если ответы меня удовлетворят, то пришлю вам его туда, где вы остановились. Но это все, что я могу на сегодняшний день пообещать вам, мадам.
Софи поняла, что надо брать себя в руки, хотя бы из страха, что не хватит сил на последний решительный бой с губернатором… Надо покориться и уходить. Генерал Цейдлер проводил ее до выхода из кабинета. На пороге она все-таки, не выдержав, прошептала:
– Господин губернатор, вы ничего мне не сказали по поводу главного моего дела… Могу ли я надеяться…
– Как только появится решение по вашему делу, тут же дам вам знать.
– Но сколько времени мне ждать этого решения, как вы полагаете?
– Не имею понятия.
– А княгиня Трубецкая, она…
– Она оставалась в Иркутске три месяца.
– Боже мой! Это немыслимо!
– Увы, ничего другого предложить вам не могу. Мое почтение, мадам.
Скелет в мундире вытянулся перед ней, щелкнул каблуками – она некстати вспомнила елочного щелкунчика… И вышла, растерянная.
* * *
Вернувшись на постоялый двор, Софи обнаружила, что все ее сундуки открыты, вещи из них валяются на кровати, а хозяин, Проспер Рабуден, ужасно взволнованный, с порога стал ей, чуть не плача, жаловаться на то, как, дескать, испугался, когда Никита запротестовал против досмотра вещей барыни.
– Видели бы вы, мадам, как он встал у вашей двери, не желая никого пускать в номер! Из его глаз сыпались молнии! Он выставил кулаки! Да они едва смогли утихомирить и скрутить его, а их было четверо, между прочим! Четверо здоровенных парней!
– Но они, по крайней мере, не поранили Никиту?
Хозяин стал клясться, что нет, нет, ни в коем случае, но Софи заподозрила, что клятвы эти ничего не стоят, потому как храбрец хозяин, скорее всего, сбежал, не дождавшись развязки битвы. Проспер был лысый и жирный, с маленькими слезящимися глазками; мокрые губы между толстых щек все время шевелились, напоминая извивающегося слизняка.
Не слушая Софи, он продолжал бормотать:
– Ему не следовало, ему не следовало! Разве заставишь таких людей, как эти, себя послушать, разве их урезонишь? Счастье еще, что наш губернатор приличный человек! Если он пообещал вам выпустить завтра Никиту, то, значит, и отпустит. Да если надо будет, я сам вмешаюсь и постараюсь все уладить. Меня эти господа уважают, здесь ведь лучший в городе стол! Нигде так не кормят! И потом, я же учу их французскому…
Софи больше из вежливости спросила владельца постоялого двора, как его занесло так далеко от Франции. И Проспер, словно только и дожидался этого вопроса, стал рассказывать свою историю во всех подробностях.
Бывший офицер армии Конде, в 1794 году он перешел на службу России и сделал блестящую карьеру при Екатерине Великой. И если бы ему не ударило в голову вызвать на дуэль приятеля по полку и, хуже того, ранить этого беднягу, а потом, когда его арестовали, при побеге прикончить часового, все было бы в порядке. Но он все это совершил… Его снова арестовали, судили и сослали в Сибирь. Десять лет он пробыл на каторжных работах, после чего ему определили местом постоянного жительства Иркутск, где, естественно, он также находился под наблюдением полиции. Ну, и тогда он открыл здесь постоялый двор, потому как больше всего на свете любит хорошо покушать… Вот и вся биография, мадам… Софи сидела на краю постели в своем номере и не без замешательства слушала исповедь толстого болтуна трактирщика, куда меньше похожего на бравого офицера, чем на обожающего стряпать, а главное – как можно чаще пробовать свою стряпню повара. Возможно ли, чтобы возраст, пережитые им унижения, вынужденные и не очень сделки с совестью привели человека, чья юность была столь блестящей и многообещающей, к подобной деградации? А самое печальное – то, что он, кажется, доволен своей участью… Хотя… хотя почему тогда во время рассказа о выдающихся достижениях Рабудена в качестве коммерсанта, рассказа восторженного, едва ли не экзальтированного, глаза его затуманились? И почему, сразу же переменившись в лице, он сказал, тяжело вздыхая: «Ах, Франция, Франция… Вот уже тридцать пять лет я с нею в разлуке…». А потом спросил:
– А вы, мадам? Вы – уже лет десять как покинули родину?
– Откуда вы знаете?
– Мы живем здесь, как в пустыне, мадам. И единственное наше развлечение – осведомляться в канцелярии губернатора о том, кто в ближайшее время приедет в наш город. А дальше новость передается из уст в уста, пока не облетит весь Иркутск. За неделю до того, как вы прибыли, я уже был в курсе всех ваших проблем… Знал, как вы вышли замуж за господина Озарёва, как перебрались в Россию, мне были известны ваши политические взгляды, ваше сочувствие мятежу, затеянному декабристами, знал и о том, как отчаянно вы добивались разрешения отправиться к мужу… и надеялся на то, что вы остановитесь именно у меня… Как я благодарен вам, мадам, за то, что вы выбрали мою гостиницу, как благодарен!.. Спасибо вам за доверие! Клянусь: я оправдаю его! С минуты на минуту вы сможете познакомиться с моей кухней – и убедиться, что это настоящая французская кухня! Наша с вами кухня!..
Хозяин постоялого двора раздражал Софи. В конце концов, сославшись на усталость, она выставила Проспера Рабудена за дверь. Но успокоиться было трудно: из головы не выходило письмо свекра, каждая буква которого словно бы отпечаталась в сознании. Из всех чувств, которые владели ею в эту минуту, главным было презрение, но она не могла найти слов, облегчавших ее состояние, какие ни приходили на ум, все казалось: нет, это недостаточно сильно заденет мерзкого старика! Вот если бы лицом к лицу, она бы сказала! Она бы такое ему высказала, этому Михаилу Борисовичу! Но написать…
Софи села к столу, взяла бумагу, поискала фразу, с которой лучше всегда было бы начать, и решительно отложила перо: нет никаких сомнений, что с тех пор, как она покинула Санкт-Петербург, установлена слежка за каждым ее шагом. Ее письмо наверняка вскроют на почте и сразу же отправят генералу Цейдлеру. А тот, вполне возможно, придравшись к словам, отыщет в тексте повод для того, чтобы задержать ее в Иркутске. Куда умнее воздержаться. Она подавила гнев усилием воли, как привыкла подавлять физические страдания.
Вечером, едва услышав позвякивание посуды, Софи спустилась в столовую. Здесь вокруг длинного табльдота уже разместились, чуть ли не вжимаясь друг другу в бока, шумные постояльцы. У каждого под подбородком белоснежная салфетка, у всех блестящие, словно маслом вымазанные, физиономии. Взгляды сотрапезников обратились к новоприбывшей, они перешли на шепот, так что о чем говорили, слышно не было. Смущенная обычным, впрочем, для провинции алчным любопытством, Софи попросила хозяина посадить ее отдельно и устроилась за маленьким столиком в углу.
Ненадолго воцарилась тишина, затем все снова заговорили в полный голос. По-русски: видимо, иностранцев, кроме Софи, тут не было. Зато стены были украшены французскими надписями, и она не без удивления прочитала такие перлы: «В Париже за словом в карман не полезут!»; «Отменный вкус в еде, выпивке и любви найдешь только во Франции, а без него человек – просто-напросто скотина!»; «Ура бургундскому – рубину в моем бокале!» и так далее… Между надписями висели пожелтевшие от времени гравюры: изображения костюмов, которые надевают в праздничные дни жители французских провинций; портреты Людовика XVI и Генриха IV; виды площади Согласия, садов Пале-Рояля, мельниц Монмартра… отдельно – под стеклами и в рамочках – веер с геральдическими лилиями; билет в театр; листок бумаги, весь в печатях и подписях – видимо, чей-то аттестат или подорожная… Можно было улыбнуться над желанием соотечественника сохранить с помощью подобных пустяков, безделушек память о потерянной родине, но во всем этом звучала такая печаль, что Софи растрогалась и прониклась жалостью к Просперу.
А тот, заметив, что она разглядывает стены, приосанился и, обводя широким жестом выставку реликвий, с гордостью сказал:
– Потом я все вам тут подробно объясню… но это позже… а сейчас мы займемся меню, не правда ли?
И принялся заверять Софи, что здесь, в глубине Сибири, почти на краю света она сможет попробовать такие супы, какие уже давно разучились варить в самом Париже. А сидевшие за столом постояльцы, вдыхая запах уже поданного им бульона, воодушевились и, еще не отведав, плотоядно облизывались, чем словно бы подтверждали слова шеф-повара. Некоторые даже пытались выразить свой восторг здешней кухней по-французски: «Delicieux! Supréme!»[4] – восклицали они, хозяин же в ответ кланялся, прижав руку к сердцу, но видно было, что привычные комплименты его уже не удовлетворяют и что ему куда важнее оценка соотечественницы. А Софи, проглотив первую ложку кулинарного шедевра Рабудена, подумала, что ее разыгрывают. Стоило ли французской кухне завоевывать всемирную славу, чтобы столько людей начинали громогласно восторгаться похлебкой, выдающей себя за истинно парижскую, если сваренные простой русской крестьянкой щи не в пример вкуснее? Ей-то, во всяком случае, русские щи гораздо больше нравятся… Когда подали десерт – претендующий на звание мусса тяжеловесный крем, где в изобилии присутствовали к тому же ягоды маринованного винограда – хозяин заведения уселся рядом с Софи и шепнул ей:
– Ну и как?
– Все-то вам удается, – уклончиво ответила она, надеясь, что так, может быть, не придется входить в детали.
– Завтра я приготовлю для вас фрикасе из цыпленка – мое фирменное блюдо! Вот оно удается мне действительно лучше всего!
– Скажите, месье, а княгиня Трубецкая останавливалась у вас?
– Нет, я не имел чести принимать у себя ни княгиню Трубецкую, ни княгиню Волконскую, ни госпожу Муравьеву… Им дали неверный совет насчет того, где стоит остановиться в Иркутске. Но я виделся с ними и имел возможность поговорить!..
– И какое они на вас произвели впечатление?
– Восхитительные дамы! Святые! А может быть, безумные, простите уж! Такие красивые, такие богатые, такие знатные – и что же? Одна-единственная мысль в голове: добраться до каторги! Мне показалось даже, что одна из них – не стану называть имени! – поняла, что любит мужа, только тогда, когда ему вынесли приговор, а пока он жил да радовался жизни, супруга была к нему вполне безразлична. Вот с кандалами на ногах муж стал для нее героем! Естественно ли это? Или все-таки странно?
– Я не нахожу это странным, – тихо сказала Софи.
– А когда я вспоминаю, что, задумывая эту авантюру, княгиня Волконская даже не подумала, как она сможет оставить сына, еще не вышедшего даже из колыбели, а мадам Муравьева – бросить троих детей… Ах, мадам, вы-то, по крайней мере, не оставили никого сиротствовать…
Она не ответила. Хлопнула дверь кухни, оттуда вырвался мерзкий запах горелого сала… Софи подумала о Сереже – как ей хотелось думать: без какого-либо раскаяния. Потому что, если ей суждено принести себя в жертву кому-то, то отнюдь не этому малышу, который прекрасно вырастет и без нее, а Николя – ведь только она одна сможет скрасить ему кошмар каторги… И на самом деле у нее нет никакого другого ребенка, кроме мужа! Она вдруг заметила, что все чаще думает о том, как бы ей поддержать мужа, ободрить его, позаботиться о нем, совершенно забывая о том счастье, которым насладится сама! Наверное, естественна такая подмена: то, что она больше всего любит в муже, – это его потребность в ней, это ее, Софи, собственная преданность ему… Тут мысли приняли такое неожиданное направление и завертелись в сознании так быстро, что пришлось силком заставить себя переключиться.
– Не понимаю, – сказала она, – почему власти, уже наделив жен декабристов правом поехать в Сибирь, теперь словно бы отнимают его, изобретая все новые способы оттянуть встречу с мужьями, как можно дольше задерживая нас в пути!
– Ах, мадам, вы вкладываете слишком много логики в мышление! – отозвался Рабуден. – А России это не присуще: здесь предпочитают не решать раз и навсегда. Знаете, русскую поговорку «семь пятниц на неделе»? Вот-вот… В вашем случае происходит так: одной рукой дают право на поездку, другой тут же и отнимают… Или, как вы говорите, изобретают способы вас задержать: а вдруг передумаете… Если бы генералу Цейдлеру удалось убедить вас вернуться, он заслужил бы признательность петербургских начальников…
– Да почему, почему?!
– Потому что царю совершенно не нужно, чтобы вы и вам подобные превращались в героинь легенд! Стоит не разрешить какой-то из жен декабристов ехать к мужу, народная молва тут же сотворит из нее мученицу! Но если она сама, прибыв в Иркутск, поймет, что устала, что двигаться дальше ей не хватает отваги, если сама решит вернуться назад, – и вот уже свет, да и ближайшее окружение начинает ее осуждать, говорить, что грош им цена, таким женам, и больше несчастная женщина не вызывает ни у кого ни восхищения, ни сочувствия…
Софи невольно подумала, что этот заплывший салом человек не лишен тонкости суждений. Хорошенько взвесив все «за» и «против», она не могла не признать, что ей повезло с этим французом-иркутянином. Ей даже чудилось, что она дома, когда слышала беррийский его акцент…
– Как бы там ни было, – прошептала Софи, – уж я-то точно на их провокации не поддамся и им не уступлю.
– Я так и думал, мадам, иначе не позволил бы себе говорить с вами подобным образом, – живо откликнулся Проспер Рабуден. – Видите ли, в юности я сражался за монархию, но с тех пор, как познал тюрьму, каторгу, с тех пор, как кнут погулял по моей спине, – я круто переменил взгляды.
– Вы теперь за республику?
Он широко улыбнулся, подмигнул и произнес:
– Я – за Проспера Рабудена, где бы ни был и какому бы режиму ни вынуждали меня подчиняться!
Софи попросила его рассказать о каторге и каторжниках. Он неохотно повиновался:
– Да, там тяжело… Я работал в Нерчинске, на медных рудниках… Кандалы на ногах, омерзительная пища… Но что поделаешь? Человек может приспособиться ко всему…
Хозяину постоялого двора явно не хотелось огорчать Софи заранее, рисуя ей в подробностях картины ужасных страданий, им пережитых.
– Никакая политика не стоит того, чтобы погибать ради нее, – заключил он, тяжело вздыхая. – Если вы стремитесь в Читу только из чувства долга, если вами движет величие души, то я только предупрежу вас об опасности. Но если, напротив того, вы чувствуете, что вне Читы для вас нет никакой надежды быть счастливой, – тогда в добрый путь! Я первый скажу: долой сомнения, пробивайте лбом любую стену, расшвыривайте в стороны всех губернаторов!..
Он засмеялся. А Софи разволновалась.
– Я не представляю себе жизни вдали от мужа… – прошептала она.
– Браво, мадам! Разрешите угостить вас французским ликером…
Она согласилась выпить рюмочку черносмородинной наливки, которая оказалась слишком сладкой и очень крепкой. Но тем не менее Софи стало тепло, и щеки ее порозовели. Собственная судьба вдруг показалась ей удивительно странной, почти нереальной: неужели и впрямь она вот сейчас сидит в забытой богом, затерявшейся в окрестностях Байкала гостинице и обсуждает свои чувства к мужу с бывшим французским офицером, сражавшимся в рядах армии принца Конде и попавшим потом на русскую каторгу?.. Когда выйдет срок каторжных работ для Николя, они тоже поселятся в назначенном им для вечного поселения городе и, подобно Просперу Рабудену, станут строить свой дом… свой семейный очаг… И они выживут, выживут, постаравшись забыть свое слишком благополучное прошлое! Сколько же в Сибири таких людей – вырванных с корнем из родной почвы, перемещенных незнамо куда, так и не сумевших полностью адаптироваться к новым условиям жизни!..
– Скажите, месье, вам оказалось трудно снова вести нормальный образ жизни после того, как вас освободили? – спросила она задумчиво.
– Нет, – ответил Рабуден. – У меня были кое-какие сбережения, друзья помогли, в Иркутске не было ни одного приличного трактира, и…
– Я не имею в виду материальную сторону! – прервав его, уточнила Софи.
– Ах, вот вы о чем… Моральная сторона – совсем другое дело… – тут задумался и даже снова взгрустнул хозяин постоялого двора. – Господи, мадам, да разве человек может не страдать в изгнании! Как вы себе это представляете? У нормальных людей жизнь цельная – с начала до конца. Думая о прошлом, они представляют себе детство, юность – как они росли, как взрослели. Думая о будущем – видят спокойную старость в кругу родных и близких. И в любом возрасте узнают себя… Иное дело – мы, выпущенные на свободу каторжники. Мы словно разрублены надвое, как и наша жизнь. Как-то жили до тридцати лет, до сорока, а потом… потом начинается совсем другое существование. Те, которым мы станем рассказывать, что когда-то имели дом, семью, состояние, интересное дело с богатыми перспективами, друзей из числа знати, они попросту смеются над нами и называют лжецами, хвастунами… И в конце концов мы уподобляемся им, мы перестаем верить своим воспоминаниям, так легче, потому что не о чем жалеть и не страшно думать о том, каким, кем ты стал! Я и сам иногда думаю, что жизнь, которую я считаю своим прошлым, мне просто приснилась, а на самом деле я никогда не жил во Франции, никогда не носил мундир, нет, я так и родился – трактирщиком в Иркутске!
В гримасе на его лице отразилась вся горечь поражения…
– Пусть так, – согласилась Софи и показала на гравюры и надписи на стенах. – Но как тогда быть с этим?
– А вот этого не нужно было, – проворчал ее собеседник. – От этого одна маета. Когда-нибудь я все это сниму! – Он посмотрел на Софи и добавил с силой: – Со временем и вы поймете, мадам, что самое ужасное, самое тягостное – вовсе не каторга. Пока ты на каторге – ты еще надеешься на что-то. Но после каторги, когда ты осознаешь, что надеяться бессмысленно, что до последнего своего вздоха ты обречен довольствоваться этой неполноценной свободой в этом паршивом городишке среди этих ненужных и неинтересных тебе людей… – Рабуден похлопал себя по животу и продолжал: – Я был сухим и гибким, как виноградная лоза, – я разжирел; я был мужественным и отважным – я стал осторожным, шагу не ступлю, не прощупав почву; я был бедняком и гордился собой – я стал богат и не получаю от этого ни малейшего удовольствия; я был всем недоволен, а это первый признак боевого духа, – мне ничто на свете не доставляет удовольствия, а это первый признак смирения…
Рабуден собрался было снова наполнить рюмку Софи, но она отвела горлышко бутылки пальцем и покачала головой, улыбаясь:
– Спасибо, мне уже достаточно, месье!
– Наверное, я кажусь вам странным трактирщиком! Но я уже много лет не говорил ни с кем… ни с одним человеком, похожим на вас, мадам… Ах, как светло на сердце становится рядом с вами… Вы – как глоток свежего воздуха… Но, мадам… позвольте, я оставлю вас – мне нужно заняться другими постояльцами…
Трактирщик обошел вокруг большого стола, где, как выяснилось, каждому требовалось что-то сказать ему… А Софи растерялась. Вроде бы ничего не изменил этот разговор с Проспером Рабуденом, но на самом деле ничего не изменилось для нее только внешне, в душе же – многое. Теперь она словно бы потеряла ориентиры, то, в чем она совсем еще недавно была совершенно уверена, стало казаться зыбким, неубедительным. Она всю жизнь любила ясность – в любом положении, и страдала теперь оттого, что ее силком втащили в мир, где все двойственно, все двусмысленно: люди, инструкции, пейзажи, расстояния, даже – время, а уж о предсказаниях и прогнозах и говорить нечего… Ей вспомнилась беседа с губернатором Цейдлером. Вот теперь она могла бы ему достойно ответить, вот теперь множество живых, остроумных реплик, способных поставить генерала на место, пришло ей на ум, но что теперь… теперь поздно, игра на сегодня закончена, и счет пока не в ее пользу… Хотя это – вопрос времени! Все еще изменится! Партия не проиграна, а всего лишь отложена! Пускай ей придется провести долгие часы в его приемной, пусть понадобится каждый день приходить туда, в конце концов, правда восторжествует – ну, значит, Софи возьмет Цейдлера измором, раз иначе не выходит! Сначала он будет вынужден освободить Никиту – сам же заверил, что обязательно выпустит. Прямо завтра. И так бедный парень, наверное, весь извелся от тревог в своей камере. Ох, и выругает же она его завтра за излишнее рвение! От одной только мысли об этом ей стало нестерпимо жарко… Софи встала и медленно пошла к двери. Когда она проходила мимо табльдота, некоторые из постояльцев Рабудена любезно, даже с какой-то торопливой услужливостью ей поклонились. У выхода на полочке стояли подсвечники. Она взяла один – и сразу же трое мужчин поспешили зажечь ей свечу. Вокруг нее раздавались характерные удары кремня о кресало. Ей что-то говорили, ее открыто рассматривали, задувая огонек на труте… Раздвинув любопытствующих, сам хозяин заведения проводил Софи до подножия лестницы и пожелал ей спокойной ночи.
Комната у нее была с низким закопченным потолком, выкрашенным в красный цвет полом, следами свечного воска на мебели и жирными пятнами на покрывале… Софи вытащила из дорожного сундука чистые простыни и позвала служанку, чтобы та постелила ей. Затем приказала принести побольше горячей воды, заперла дверь на ключ и, раздевшись догола, вымылась в деревянной лохани. Как долго ее тело страдало от отсутствия ухода за ним! Она наклонялась, разгибалась, терла намыленной мочалкой бедра, живот, грудь, а зеркало отражало ее – обнаженную, всю золотистую в полутьме. Софи заметила, что сильно похудела за время путешествия, но это ничуть ее не огорчило: талия стала более тонкой и гибкой, шея удлинилась… Несмотря на то, что ею было принято твердое решение не думать о себе, наслаждение, которое Софи испытывала сейчас, омывшись с головы до ног, привело к тому, что она погрузилась в мечты – все более и более сладострастные. Она легла – словно окунулась в туман, натянула на себя одеяло, задула свечу, и ночь накатила на нее, подобно морскому прибою…
4
Заснула Софи в Иркутске, а проснулась во Франции, где-то поблизости то ли от Буржа, то ли от Сансера: грубый голос из-за двери кричал со специфическим выговором:
– Мадам! Мадам! Ваш слуга вернулся!
Ей понадобилось время, чтобы осознать, где она находится, кто такой Проспер Рабуден, кто такая она сама… В конце концов сообразила и отозвалась:
– Отлично! Пусть подождет меня внизу!
– Но я думаю, мадам, вам лучше спуститься самой! – продолжал надрываться хозяин постоялого двора.
– Это еще почему?
– Он нуждается в вашей помощи!
Софи, встревоженная донельзя, вскочила с постели, кое-как оделась и сбежала вниз по лестнице.
В столовой вокруг табльдота, на котором пыхтел большой самовар, расположились любители чая – они блаженствовали, вдыхая аромат, исходивший из их стаканов…
Не удостоив их даже взглядом, Софи проследовала за Рабуденом в буфетную и там обнаружила, наконец, Никиту. Он сидел на табуретке – бледный, с распухшей губой, с наполовину заплывшим одним глазом и лихорадочно блестящим другим, с засохшей кровью под носом. Рубашка на слуге была изодрана в клочья, безжизненную левую руку он поддерживал правой…
Сердце Софи едва не разорвалось от жалости к юноше. Она воскликнула:
– Никита! Боже мой! Кто тебя так отделал?
– Простите, барыня, – зашептал он. – Это было в караульной… Они напали на меня, навалились все вместе, как… как трусы, как подлые людишки… Но я… я им не спустил, я хорошо защищался, барыня!.. Они получили по заслугам, они тоже все покалеченные, тоже… – Никита пошевелился, и гримаса боли исказила его лицо.
– Где у тебя так болит? – участливо спросила Софи.
– Плечо… Там что-то не в порядке… Простите, барыня!..
– Надо скорее позвать врача!
– Если у него перелом или вывих, то костоправ лучше все сделает, чем доктор, – авторитетно вмешался трактирщик. – Нам здесь повезло: есть такой старик Дидым, он и костоправ, и знахарь, ну, просто мастер на все руки!
За Дидымом тут же отправили мальчишку-рассыльного, тот полетел стрелой, а вокруг раненого засуетились слуги Рабудена, лица которых, правда, не выражали ничего, кроме праздного и к тому же глупого любопытства. Конечно, они сочувствовали пострадавшему от побоев, но к их сочувствию примешивалась изрядная доля наслаждения увиденным, – как будто несчастье другого служило этим обиженным на собственную злую судьбу людям своеобразным утешением.
Не могло быть и речи о том, чтобы доверить раненого заботам этих бессмысленно бегающих туда-сюда болванов! На вопрос Софи, хватит ли у него сил подняться на второй этаж, Никита поклялся, что, конечно, хватит, но на первых же ступеньках лестницы он пошатнулся, Рабуден подхватил его и повел, крепко держа за плечи, а Софи поспешила открыть наверху дверь своего номера. Там раненого усадили на стул, и Софи принялась обмывать ему лицо мокрым полотенцем, стараясь действовать поосторожнее. Никита тяжело дышал, со свистом выдыхая воздух.
– Вы так добры, барыня… А от меня вам одни неприятности!.. И столько хлопот!.. Не стоит… не стоит возиться со мной… Мне уже лучше…
Она, не слушая, делала ему примочки – важнее было не задеть раны и не причинить лишней боли, чем отвечать на этот бред. Каждую минуту кто-нибудь из слуг выскакивал на улицу посмотреть, не идет ли «костоправ, он же знахарь». А он появился в момент, когда у Софи уже окончательно истощилось терпение. Дверь распахнулась, и на пороге – просто как из-под земли вырос! – она увидела огромного роста мужика с выдубленной временем кожей и длинной белой бородой. Лицо – словно вырублено топором, зато в затерявшихся среди мелких морщинок глазах светится почти детская веселость. Проспер Рабуден забежал вперед и принялся при помощи жестов изображать, как Никита в одиночку сражался с несколькими дюжими противниками. Дидым, глядя на пантомиму, покачивал головой, затем испустил какое-то невнятное рычание, и Софи поняла, что он глухонемой.
– Вот еще новая проблема, – нахмурилась она. – Как же он нам объяснит-то, что делать?
– А он ничего не станет нам объяснять, – улыбнулся ей хозяин постоялого двора. – Ему хватит и того, что он вылечит вашего слугу. Можете ни о чем не беспокоиться, мадам, и доверять Дидыму, я много раз видел, как он работает…
А Дидым в это время уже помогал Никите снять сорочку. Для того, чтобы не задеть раны, пришлось сначала разрезать рукав по всей длине. Когда плечи молодого человека обнажились, Софи увидела, что правое – округлое и налитое, а левое – будто без костей и мышц, обвисшее и неживое. Костоправ закрыл глаза и стал кончиками пальцев – словно он еще и слепой – легко и быстро ощупывать это мертвое плечо. Никите стало больно – черты лица его заострились, он еще сильнее побледнел и мелкие капли пота выступили у корней волос. Знахарь тем временем закончил осмотр и, повернувшись к Рабудену, прищелкнул пальцами.
– Что он хочет сказать? – забеспокоилась Софи.
– Не понял, – пробормотал трактирщик. – Но вам не следует волноваться, мадам, у Никиты нет ничего особенно серьезного, иначе Дидым смотрел бы совсем по-другому, я знаю, я видел…
– Ох, я бы совсем не волновалась, если бы вы все-таки вызвали настоящего доктора!
– Ни в коем случае, мадам! Ни в коем случае!
Теперь Дидым сложил ладонь ковшиком и сделал вид, что пьет из этого ковшика.
– Вот теперь понятно! – обрадовался Проспер Рабуден. – Дидым хочет, чтобы принесли водку!
– Это еще зачем? – недоверчиво спросила Софи.
– Чтобы одурманить Никиту. Костоправы обычно дают пациенту выпить перед операцией, чтобы ему было не так больно. Водка, она, знаете ли, приглушает боль…
Одного из слуг послали за водкой, а Дидым подошел к Софи, поклонился ей, а затем – все так же почтительно – указал на дверь.
– Мадам, – перевел хозяин постоялого двора, – он просит вас выйти: зрелище может оказаться для вас слишком тягостным.
– Что за глупости! – пожала плечами она. – Почему я должна выходить? Я хочу остаться здесь и видеть, что он делает с Никитой!
Хотя они говорили по-французски, Никита уловил смысл разговора и пробормотал:
– Правда, барыня, вам бы лучше выйти, вы, пожалуйста, не смотрите…
Софи нежно взглянула на юношу и медленно покачала головой. Он скрипнул зубами.
Вошел слуга с графином водки. Никита выпил одну за другой, большими глотками, четыре стопки. Лицо его смягчилось, щеки порозовели, глаза сначала заволокло, потом они засверкали, как звезды, а на губах появилась печальная улыбка. «Готов!» – с видом знатока шепнул Софи трактирщик.
Дидым жестами объяснил слугам, что делать дальше, они осторожно уложили раненого на спину. Софи все больше нервничала: как знать, не вывихнет ли этот немой знахарь все здоровые суставы Никиты вместо того, чтобы поставить на место больной? И что за странное место для проведения операции – этот Дидым, он же собирается ее делать прямо на голом полу! Софи встала и, стараясь не потревожить раненого лишний раз, подсунула ему под голову подушечку. Тот продолжал улыбаться, но улыбка стала бессмысленной. А она смотрела сверху на это сраженное вражеским ударом тело – такое фантастически светлое, просто-таки светящееся на фоне кроваво-красных досок пола: раскинутые руки… широкие плечи… тонкая талия… как он похож на упавшего с неба Икара! При каждом вдохе его живот чуть напрягается под свободным поясом штанов. В ямке между ключицами и в вертикальном углублении, разделяющем надвое грудную клетку, кожа блестит от пота… Правая рука закинута назад, и потому открыта подмышка, где курчавятся золотистые волосы… Загорели под степным солнцем только лицо и кисти рук, остальное нет – какая белая у него кожа… Софи отмечала все это почти бессознательно, вдыхая поднимающийся к ней от распростертого тела запах молодого обнаженного и горящего в лихорадке мужчины.
Дидым, не снимая сапога, засунул свою огромную ножищу в левую подмышку Никиты, осторожно поднял вверх его руку, поискал наилучшее положение, нахмурился, чуть выгнулся назад и – рванул, вытаскивая больную руку из сустава. Ошеломленный силой этого рывка, Никита испустил почти звериный рык. Софи показалось, будто она, как рыбка, попалась на крючок, и ее резко выдернули вместе с ее внутренностями… А Никита повернул голову и посмотрел на нее так, словно молил о пощаде… Потом снова отвернулся, бледный, как смерть. Его щеки, лоб, подбородок были усеяны мелкими капельками пота, нижняя челюсть дрожала, под кожей живота вздулась мышца.
Софи встала на колени, чтобы вытереть ему платочком лицо. Дидым, примостившийся с другой стороны, предложил раненому еще стакан водки. Никита с явным отвращением, но залпом выпил. Глаза его почти закатились, было похоже, что он теряет сознание. Но левое плечо, только что совсем плоское, стало таким же округлым, как здоровое правое. Костоправ с удовольствием смотрел на результат своего труда. Софи тоже наконец успокоилась, но от слабости у нее закружилась голова.
– Все уже в порядке, – прошептала она, положив руку на лоб Никиты. – Больше тебе не будет больно, не бойся, будь умницей, пусть этот человек тебя полечит…
Губы Никиты зашевелились, пригнувшись, она различила, что он сказал:
– Да, барыня…
Дидым тем временем приказал принести ему простыню, порванную на узкие полоски, намочил эти полоски в соленой воде и туго забинтовал левое плечо Никиты. Затем сделал повязку на руку, чтобы она оставалась согнутой и прижатой к грудной клетке. Когда дело было сделано, он сам выпил водки, подмигнул и поднес к лицу Софи восемь растопыренных пальцев.
– Он говорит, что ваш слуга выздоровеет на восьмой день! – сказал Проспер Рабуден.
– Ну, а как за ним теперь ухаживать? Как его лечить?
– Никак.
– Откуда вы знаете?
– А сейчас он сам это объяснит, увидите!
Действительно, глухонемой жестами показал, что теперь все пойдет на лад, что раненого не надо трогать, просто оставить его в покое до возвращения костоправа, а вернется он скоро. Софи протянула знахарю двадцать рублей ассигнациями.
– Это чересчур! – прошептал трактирщик.
А Дидым, положив деньги в карман, опустился перед Софи на колени, поцеловал подол ее платья, встал и вышел с достоинством знатного сеньора. Никита пролежал на полу еще минут пять, потом с помощью слуг Рабудена поднялся с пола, сделал, пошатываясь, пару шагов и неловко плюхнулся на стул. Попытка двигаться, казалось, лишила юношу последних сил. Голова его упала на грудь.
– Ему нужен покой! – решила Софи.
Но как поступить? Она не могла оставить его в своей комнате, но ей не хотелось и отправлять больного Никиту в помещение для прислуги. Проспер Рабуден предложил устроить его в каморке без окна, которая, как выяснилось, была в конце коридора. Туда принесли соломенный тюфяк, одеяла, свечу в подсвечнике и кувшин с водой. Никита, стоило уложить его в постель, немедленно забылся сном. Софи стояла рядом и внимательно его рассматривала. Его дикий вопль во время операции, сделанной Дидымом, все еще, помимо воли, заставлял трепетать каждый ее нерв. Трудно было поверить, что лечение закончилось так быстро, что теперь Никита пойдет на поправку. И еще труднее было оторваться от этого созерцания и, сделав над собой усилие, отправиться – без всякой, правда, надежды услышать что-то приятное – к губернатору за новостями.
Генерал Цейдлер принял ее стоя, и гостье тоже не предложил кресла. Похоже, он был недоволен, нет, скорее даже раздражен ее настырностью, ее неуместным и несвоевременным визитом. Впрочем, он и не скрыл этого:
– Мадам, я, кажется, имел честь изложить вам вчера все, что мне известно о вашем деле! Что вам угодно еще?
– Поблагодарить за то, что вернули мне моего слугу! язвительно отразила удар Софи. – И заодно известить вас о том, что ваши солдаты чуть его не прикончили. У него выбита из сустава рука!
– А у одного из моих людей выбиты два зуба! На самом деле мне не следовало отпускать вашего Никиту, и если я это сделал, то исключительно из уважения к вам. Не заставляйте меня, пожалуйста, сожалеть об этом поступке!
В душе Софи не могла не согласиться с генералом… Она сменила тон и продолжала тихо:
– Знаете, ваше превосходительство, мне пришла в голову одна мысль… Вы же сказали мне вчера, что решение, касающееся сроков моего отъезда из Иркутска, зависит не от вас, а от генерал-губернатора Восточной Сибири господина Лавинского, не правда ли?
– Да, это именно так.
– Тогда мне бы хотелось получить у него аудиенцию!
Генерал Цейдлер тяжело вздохнул.
– Это невозможно, мадам!
– Почему?
– Потому что генерал-губернатора нет на месте, еще на прошлой неделе господин Лавинский отправился с инспекционной поездкой по Амуру.
– И вы мне сообщаете об этом только сегодня! – воскликнула молодая женщина.
– Я был уверен, что вы об этом знаете…
– Откуда бы я могла это знать!.. Нет, это просто… просто ужасно!..
Софи растерялась, на какое-то время поддалась панике, но быстро взяла себя в руки и заговорила снова.
– Длительная ли это поездка у господина Лавинского? – спросила она.
– Мне неизвестно, сударыня.
– А кто-то замещает генерал-губернатора, пока он отсутствует?
– Только не в том, что связано с такими деликатными делами, как ваше. Ваши документы должен подписать лично господин Лавинский!
– Но, может быть, с ним можно встретиться где-то на пути?
– Нет, не получится, один день генерал-губернатор здесь, другой – там…
– А если бы вы ему написали?
– Я не премину это сделать, но ведь господин Лавинский вернется раньше, чем получит мое письмо… Вы не представляете наших расстояний, мадам…
Изучая непроницаемое лицо генерала Цейдлера, Софи пыталась понять, правду он говорит или врет, желая от нее поскорее отделаться. В любом случае никогда в жизни она не ощущала себя настолько зависимой от чужой воли. Уходя, Софи чувствовала, что надежда ее добиться преимущества после вчерашнего инцидента оказалась тщетной: она проиграла по всем статьям!
* * *
Никита очень скоро встал и, хотя рука его была еще прибинтована к груди, он уже мог сопровождать Софи в ее прогулках по городу. Они выглядели забавно: он был на голову выше всех прохожих и, пока он делал шаг, Софи успевала сделать два. Новая белая сорочка заменила порванную в драке.
Город был небольшой, весь пропыленный, с прямыми улицами, мостовые – утрамбованные, тротуары дощатые, дома деревянные. Имелось также нечто вроде сквера из берез и лиственниц, где каждый вечер собирались семьи местных чиновников и купцов. Несмотря на летнюю пору, – только-только заканчивался август, – к исходу дня становилось так холодно, что люди, выходившие прогуляться, надевали шубы. Кое-кто из представителей иркутской знати попытался пригласить Софи на обед или ужин, надеясь удовлетворить любопытство, узнав более или менее свежие санкт-петербургские сплетни, но она слишком дорожила своим покоем и отклоняла любые приглашения. Зато очень охотно беседовала с сотрапезниками в столовой у Проспера Рабудена.
С тех пор, как хозяин постоялого двора рассказал ей подробности об обитателях Иркутска, у нее не было лучшего развлечения, чем отгадывать, кто из них родился в Сибири, а кто находится под надзором – на поселении. В большинстве случаев разница бросалась в глаза: речь сибиряков была простонародной, грубой, осанка и взгляд выдавали уверенность в себе, манерами они походили на сельских жителей; приезжие, наоборот, отличались изысканностью обращения при безусловной сдержанности, даже застенчивости, и казалось, что живут они в неизбывной печали… Многие из ссыльных, отбыв срок, начинали работать в здешней администрации и служили на совесть, другие становились земледельцами, сборщиками налогов, купцами второй гильдии. Но все-таки Проспер Рабуден был прав: в этих людях уцелела в лучшем случае половина, а чаще не более трети от тех, какими они были прежде. И если сравнивать с судном, то можно было сказать, что видимое в них ничего не стоило по сравнению с тем, что оставалось ниже ватерлинии. Софи познакомилась тут с одним напомаженным семидесятилетним мужчиной, которого отправил на каторгу еще Потемкин – за то, что Екатерина Великая удостоила его, тогда совсем юнца, своими милостями. Лучшим своим другом старик считал бывшего польского графа, теперь работавшего на таможне: его сослала сама эта императрица за участие в мятеже Кожушко 1794 года.
Среди постояльцев Рабудена оказались еще бывший профессор Московского университета, навлекший на себя гнев Павла I тем, что вносил в лекции по астрономии философский аспект; грузинский князь, изобличенный в предательстве; разжалованный молодой офицер Семеновского полка, восстание которого было так жестоко подавлено Александром I в 1820 году; еще один живой и деятельный старик, содержавший банное заведение, по фамилии Ридингер – эльзасец по происхождению, приговоренный Елизаветой Петровной к каторжным работам за убийство своего полковника, принятого им за врага во время битвы при Кунерсдорфе в 1759 году. Софи слушала его историю и не могла поверить своим ушам.
– Сколько же лет вам было тогда? – спросила она старика.
– Девятнадцать. А теперь мне восемьдесят семь.
– Пять царей сменилось с тех пор на российском престоле, начал царствовать шестой император – и вас так и не помиловали?!
– Забыли обо мне, наверное… – вздохнул Ридингер. – Так нередко случается… А я тут женился, у меня шестеро детей, двадцать пять внуков… И все они трудятся в бане…
Смирение этого человека, его покорность судьбе заставили Софи задуматься. Иркутск все чаще виделся ей местом встречи несбывшихся мечтаний и подавленных амбиций, центром упроченной временем несправедливости. Каким-то чуланом, куда сваливали, сломав перед тем их судьбы и карьеры, вперемешку всех, кто рано или поздно решился на мятеж или кому просто не повезло. Нереальный город, город призраков… Стоит случиться очередному, неважно – сильному или слабому содроганию российской истории – и сюда, в Сибирь, хлынет новая волна изгнанников. За поляками – семеновцы, за семеновцами – декабристы… Глядя на эти существа, одни из которых еще молоды, другие вступили в пору зрелости, а иные уже и одряхлели, но все в прошлом пережили столкновение с императорской властью, можно представить себе прошлое России так же ясно, как прошлое Земли по слоям геологических отложений. Разумеется, здесь есть и легионы обычных преступников – и они, отбыв срок каторги, становятся рабочими, слугами или попрошайками, но их узнаешь иначе – по вырванным ноздрям. Хотя… хотя физиогномика порой подводит… Как-то утром Софи, садясь в коляску, кучер которой имел на лице эту, казалось бы, неопровержимую улику, разговорилась с ним и узнала, что этот человек в прошлом был майором кирасиров в Астраханском полку, и его по ошибке обвинили в расхищении государственного имущества. Говорил ли он правду или лгал, придумав себе красивую легенду? Господь его ведает, но нельзя было не признать, что хотя лицо его было изуродовано, борода всклокочена, а одет он был в грязный тулуп, речь-то выдавала человека образованного! Софи устыдилась того, что стала «тыкать» ему, как простому мужику, с самого начала, и решила исправить положение, сделав при расставании акцент на местоимении:
– Сколько я вам должна?
Но кучер, кажется, этого не заметил.
Когда она рассказала эту историю хозяину постоялого двора, тот печально улыбнулся и заявил:
– Что ж, прелестный анекдот! Теперь, если мне доведется покончить со своим пребыванием в Сибири, когда меня станут расспрашивать, что это за страна, я скажу: это страна, где в отличие от всех других мест на земном шаре люди начинают знакомство с обращения на «ты», чтобы потом перейти на «вы»!
* * *
В воскресенье Софи встала очень рано – ей хотелось пойти в церковь. Никита попросил разрешения сопровождать барыню и получил его. В полном соответствии с обстоятельствами он принарядился: надел белую рубашку с красным поясом, начистил сапоги так, что они сверкали даже в складках. Повязку с его руки уже сняли. Золотистые волосы, волнами спускавшиеся ему до шеи, сияли на солнце, и голова юноши казалась охваченной пламенем. Софи наняла экипаж, и Никита уселся рядом с кучером.
Кафедральный собор был переполнен. Все чиновники, надевшие по этому случаю парадные мундиры, собрались сюда. Софи проскользнула на левую, «женскую» половину храма. В первом ряду, поближе к Богу, виднелись только шляпки, перья, ленты, меха, драгоценности… Центр был отдан простонародью и выглядел сплошь серым. Самые бедные и самые обездоленные теснились у дверей. Роскошный, важный священник, в золотом облачении, медленно произносил слова молитв, хор отвечал ему грубыми голосами. Отдельно молились за царя. Все опустились на колени – и Софи вслед за всеми. Склонив голову, молитвенно соединив руки на груди, она наслаждалась абсурдностью ситуации, вынудившей ее притворяться молящейся о божественной милости для того, кого она считала виновником всех своих несчастий. Интересно, сколько тут еще таких, как она? Сколько тут людей, осеняющих себя крестным знамением, но деланой набожностью прикрывающих истинную ненависть к монарху и монархии? Сколько на самом деле призывают Божью кару на голову императора? Но может быть, куда меньше, чем ей кажется? Ведь на самом деле каждый русский человек свято верит в судьбу, они же все – фаталисты! А Николай? Вдруг ее Николя тоже решил за это время, что сослан на каторгу не волей императора, а силою высшей необходимости? Ей так хотелось предостеречь мужа, не позволить ему покориться, а с другой стороны… с другой стороны, разве не может быть, что именно покорность, смирение могут помочь ему обрести мир в душе? Если она помешает ему склониться перед неизбежным, как склонились его товарищи, – не станет ли это причиной новых страданий? Раньше как-то не приходилось задумываться об этом. Началась общая молитва, но Софи не вникала в ее смысл, она полностью сосредоточилась на необходимости найти поддержку свыше. Но ее порыв не был порывом к небу, это скорее был разговор с самой собой. Она задавала себе вопросы, отвечала на них, и в процессе этого немого разговора тени становились светом, горечь обращалась в надежду. Внезапно Софи ощутила, как ее душу заполняет Бог… самые высоты ее души… заполняет, подобно дыму, витающему в пространстве замкнутой комнаты…
Она очнулась на паперти церкви после окончания литургии. Прихожане, довольные тем, что смогли показаться друг другу во всей красе, в лучших своих нарядах, переговаривались, раскланивались, собирались группками под желтым холодным солнцем. Нищие с деревянными плошками в руках ходили между этими группками, задерживаясь там, где перепадала милостыня. Генерал Цейдлер, высоко подняв голову, стоял в кружке офицеров. Он заметил Софи и угловатой походкой двинулся к ней. Софи же, оценив честь, оказанную ей публично, отблагодарила его за это улыбкой. Но, едва губернатор оказался рядом, спросила:
– Есть ли какие-то новости для меня, ваше превосходительство?
– Экая вы нетерпеливая! – усмехнулся генерал. – Успокойтесь, мадам, вы ведь и всего-то тут дней десять!
– Да для меня эти десять дней дольше века!
Генерал сморщился, отчего лицо его стало похожим на смятый пергамент.
– В таком случае, боюсь, вы будете сильно разочарованы! Утром я получил депешу от генерала Лавинского, которому предстоит решить вашу судьбу. Так вот: он не рассчитывает прибыть в Иркутск раньше, чем недель через пять, минимум через месяц…
– Месяц! Пять недель! – пробормотала Софи. – Боже мой, это немыслимо! Получается, я не уеду отсюда раньше конца сентября!..
– Наш город поистине прекрасен золотой осенью! – воскликнул генерал и любезно предложил: – Если хотите, мадам, я могу познакомить вас с несколькими очень, очень достойными семействами. Рад был бы возможности доставить вам удовольствие!
– Не стоит, спасибо, ваше превосходительство…
Она попрощалась, миновала группок десять сплетников, мужчины в которых приосанивались, а женщины поджимали губы, когда она приближалась, и подошла к Никите, который ждал ее у коляски.
В тот же вечер, после ужина, она попросила у Проспера Рабудена совета: как ускорить дело. Он не стал скрывать, что не видит никаких особенно приятных перспектив.
– Совершенно ясно, что Цейдлер не может сам дать разрешения на ваш отъезд и действительно все зависит от Лавинского. Но поскольку они постоянно борются за власть, подозреваю, что губернатор Иркутска вполне способен придержать ваши бумаги и не передавать их генерал-губернатору Восточной Сибири сколько сможет долго – в надежде, что упреки из высших инстанций за задержку текущих дел если и посыплются, то не на него, а на Лавинского…
– Но может быть, в таких условиях мне лучше подать прошение непосредственно Лавинскому?
– А как? Если вы пошлете прошение через Цейдлера, он передаст не скоро: пройдут недели, пока бумага сдвинется с места!
– А если я напрямую отправлю ходатайство генерал-губернатору?
– Цейдлер все равно рано или поздно узнает об этом и разгневается на вас за то, что обошли его!
– Мне кажется, стоить рискнуть… – мечтательно прошептала Софи.
Они сидели за уединенным маленьким столиком, перед ними стояла бутылка плохого шампанского и два стакана.
На противоположной стене висел плакатик с рукописным текстом, в котором восхвалялись любовь, вино и французская песня…
– Месье Рабуден, может быть, вы знакомы с кем-нибудь из помощников генерал-губернатора?
– Еще бы! С самим господином лейтенантом Кувшиновым – адъютантом и ближайшим его помощником!
– А если бы, я подумала… Если бы этот господин Кувшинов запросил мое досье в канцелярии Цейдлера… Он мог бы это сделать?
– Наверное, мог бы.
– А познакомившись с моим делом, он согласился бы передать генерал-губернатору Лавинскому свое суждение о нем, окажись это суждение для меня благоприятным?
– Почему бы и нет? Но ведь если Лавинский не удовлетворит вашего ходатайства, вы проиграете сразу на двух досках! Иркутский губернатор рассердится на вас, а расположения генерал-губернатора Восточной Сибири вы не завоюете. Ну, и кому же тогда вы станете отправлять прошения, кому станете жаловаться, кто сумеет вытащить вас из этой передряги? Русские говорят: лучше синица в руках, чем журавль в небе… а мы, если помните – лучше мало, чем ничего…
Софи равнодушно слушала предостережения трактирщика. Какими бы слабыми средствами она ни располагала, в ней все еще жила вера в то, что упорство помогает преодолеть все препятствия. Ей даже казалось, что любое заблуждение, если его придерживаться очень долго, обращается в истину. Проспер Рабуден после долгого сопротивления, наконец, сдался и пообещал устроить свидание с лейтенантом Кувшиновым.
Ради такого случая Софи выбирала туалет особенно тщательно. Надела, в конце концов, платье из органди цвета палых листьев, бутылочно-зеленый спенсер из гроденапля, сильно затянутый в талии, того же оттенка бархатную шляпку, а на плечи набросила красновато-коричневый с золотистым отливом барежевый палантин… Увидев ее принаряженной, хозяин постоялого двора даже вскрикнул, настолько был восхищен красотой соотечественницы. А она с удовольствием слушала комплименты: в это утро к ней вернулось уже совсем почти утерянное ощущение легкости во всем теле и спокойствия. Шуршание шелковой ткани, сопровождавшее каждый шаг Софи, напоминало ей о том, что она – женщина. Проспер Рабуден, поддерживая ее под руку, отправился провожать.
Каменный дворец, где размещалось местное отделение канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири, оказался куда просторнее и красивее губернаторского дворца. В большой прихожей толпились офицеры, лица у них были такие же серьезные и надменные, как у санкт-петербургских, зато мундиры скроены и пошиты гораздо хуже. Интересно, они все так громко говорят только потому, что генерал-губернатор в отъезде, или тут вообще так принято? Адъютант Лавинского принял Софи и Проспера Рабудена в светлом кабинете, на стене над его головой висела литография с изображением государя-императора Александра Павловича, от которого шли лучи, как от солнца, а вокруг него, словно цветы, гирляндой располагались в овалах портреты героев Отечественной войны 1812 года.
Лейтенант Кувшинов был молоденьким, свеженьким, с губками сердечком, но с большой плешью и светлыми бакенбардами, располагавшимися подобно полуостровам на его румяных щеках. История Софи привела его в необычайный восторг. Ей показалось даже, что офицер только и ждал случая насолить генералу Цейдлеру.
– Это честный, порядочный человек, – сказал Кувшинов по-французски, – но порой он несколько превышает свои полномочия, присваивая себе возможность решать вопросы, входящие исключительно в компетенцию генерал-губернатора. Придется нам как-нибудь помягче призвать его к порядку.
– Я ни за что на свете не хотела бы своим обращением к вам подвести кого бы то ни было и тем самым настроить против себя! – испугалась Софи.
– Но вы никого против себя и не настроите, мадам! – воскликнул лейтенант, потирая руки. – Наоборот, вы окажете услугу многим людям! А уж мой начальник, генерал Лавинский, просто весьма признателен вам будет за одно то, что обратились к нему. С настоящей минуты можете считать, что ваше дело улажено. Ах, до чего забавно! Вы себе и представить не можете, до чего все это забавно! Bы бы лучше это понимали, если бы дольше пробыли в Иркутске!..
Он одновременно ликовал и злорадствовал, он то хохотал, как ненормальный, то становился похож на воркующего голубка. Должно быть, дни, когда ему выпадало счастье впутаться в какую-нибудь очередную провинциальную интригу, казались Кувшинову самыми прекрасными в жизни. А Софи, глядя на него, никак не могла поверить, что после стольких треволнений все действительно уладилось и уладилось так быстро. Ну, почему, почему она не пришла сюда сразу как приехала!
– Месье, как мне благодарить вас! – воскликнула она.
Но он ответил, что только исполняет свой долг, и посоветовал использовать последние дни для закупок всего, что может понадобиться в Чите:
– Там, сударыня, вы не найдете ни иголок, ни ниток, ни тканей, ни утюга, ни кастрюль… ни-че-го!
– И сколько же у меня есть времени на то, чтобы собраться в дорогу?
– Думаю, не больше недели.
Она чуть не бросилась целовать его за такую приятную новость.
Каждый день после обеда Софи занималась обходом лавок. Покупки она складывала в углу комнаты, где громоздилась уже целая гора, а вечером старательно отмечала галочками в заранее составленном списке уже приобретенное. Нельзя было упустить ни одной мелочи – она, как юная новобрачная, намеревалась строить свой дом, чтобы вести в нем хозяйство, и это обстоятельство забавляло женщину, прожившую с мужем уже больше десяти лет. Но ведь она всегда любила строить…
На четвертый день после визита к Кувшинову Софи снова отправилась во дворец. Теперь адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири принял ее уже не как просительницу, а как сообщницу: разве у них нет общего противника в лице иркутского губернатора?
– Все идет хорошо, – сказал лейтенант с улыбкой. – В связи с моим срочным запросом Цейдлер выпустил, наконец, из рук ваше досье. Я тут же извлек из него материал для благоприятного для вас рапорта генералу Лавинскому и направил этот рапорт ему. Ах, мадам, я способствую тому, чтобы вы как можно скорее покинули Иркутск, сознавая, что истинным наслаждением для всех нас было бы оставаться с вами здесь как можно дольше! Не окажете ли чести в следующее воскресенье прогуляться со мной после обеда в сквер – там состоится концерт?
У Софи не было ни малейшего желания появляться на людях с этим человеком, но она побоялась отказать Кувшинову, чтобы не обиделся: в ее положении нужен надежный союзник.
И лейтенант – воплощение элегантности! – заехал за ней к Просперу Рабудену ближе к вечеру.
В городском саду военный оркестр с большим пылом исполнял Глюка. В сдержанную размеренную музыку то и дело визгливо прорывались фальшивые ноты. Весь Иркутск собрался здесь. Сидели на жестких стульях: офицеры – сторонясь гражданских, те, в свою очередь, – стараясь держаться подальше от купцов. Софи заметила, что в одной семье мать и дочь часто были одеты в платья из одинаковой ткани.
Между двумя ударами тарелок лейтенант Кувшинов своим монотонным голосом рассказывал Софи о жизни в Иркутске и о своих надеждах на продвижение в интеллектуальном и административном плане. Соседи исподтишка поглядывали на них, должно быть, считая, что у адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири роман с этой приезжей, и Кувшинов явно гордился тем, что сумел внушить жителям города такую приятную для него иллюзию. В антракте, склонившись к француженке, лейтенант спросил, приняв таинственный вид:
– Почему бы вам после Читы не вернуться в Иркутск? Я прикажу оформить вам бумаги таким образом, чтобы вы могли свободно ездить куда вам вздумается.
Ей пришлось сдержаться, чтобы не поставить его на место резкими словами, и она начала мягко:
– Мне кажется, вы не совсем точно представляете себе цель моей поездки в Сибирь. Я собираюсь не навестить мужа, а остаться с ним навсегда.
– Вполне может быть, после того, как вы проведете там некоторое время, ваши намерения изменятся!
– Этого никогда не произойдет, месье!
– Ох, не зарекайтесь, мадам, не зарекайтесь. В Сибири не стоит вот так, с маху, принимать твердые решения. Даже если вы родились во Франции… А знаете ли вы, мадам, что у вас самые красивые ручки в мире?..
Софи ответила льстецу таким удивленным взглядом, что он этим первым комплиментом и ограничился, и, пока концерт не закончился, они обменивались только ничего не значащими фразами. Молодой женщине ужасно хотелось сказать спутнику какую-нибудь колкость, но она силилась улыбаться ему, он же пытался скрыть разочарование за притворной развязностью. Домой лейтенант провожал ее пешком, подхватывая под руку при малейшей неровности тротуара. «Господи, зачем я была с ним так нелюбезна! – корила себя Софи. – А вдруг он теперь станет делать мне назло, и я потеряю свой последний шанс?»
Расстались они у входа в трактир, соблюдая весь светский церемониал. Софи вошла и сразу же увидела Никиту, который поджидал ее в прихожей. Она с трудом узнала юношу: пока она ходила слушать музыку, Никита подстригся. От густой золотистой шевелюры остался лишь короткий ежик надо лбом и за ушами. Голова стала маленькой и глупо торчала на длинной мускулистой шее. С новой прической Никита стал похож на какого-нибудь крестьянина, возвращающегося с ярмарки… Ее это взбесило, а он понял и стал оправдываться:
– Но они же были слишком длинные, барыня, правда, слишком длинные…
Она в ответ только пожала плечами. И подумала: а почему, собственно, я так недовольна? В конце концов, какое значение в моей нынешней жизни могут иметь волосы Никиты?..
5
С каждым днем радужные надежды Софи на скорый отъезд в Читу таяли. Несмотря на заверения Кувшинова, она все чаще думала, что хотела выиграть время, а вместо того только запутала свои дела. Наконец, 8 сентября ей принесли от губернатора Иркутска приглашение явиться к нему. За двадцать минут до назначенного часа Софи уже была в приемной.
Генерал Цейдлер принял ее очень холодно, глядел свысока, держался чопорно. Из-под приспущенных век серые глаза сверкали, как стальной клинок, взгляд казался суровым. Она только сейчас правильно оценила всю степень риска, которому подвергала себя, оскорбив человека с такой гордыней. А губернатор, даже не предложив посетительнице сесть, сухо сказал:
– Вы сочли для себя возможным, мадам, перескочив через мою голову, обратиться непосредственно к генералу Лавинскому. Подобная неучтивость по отношению ко мне должна была бы обойтись вам дорого!..
– Я не хотела задеть вас, ваше превосходительство, даже не думала! – забормотала молодая женщина, чувствуя себя глубоко несчастной. – Но вы же знаете мое состояние, вы представляете мою тревогу, значит, понимаете: я не могла просто сидеть и ждать, пока дело решится, ну, и решила, что надо испробовать все варианты, и…
Губернатор перебил ее и произнес, четко выговаривая каждое слово:
– К счастью для вас, правила управления губернией – это одно, а капризы власть имущих – совсем другое. Отсюда вытекает, что вы имели причины, а следовательно, и право не соблюдать иерархию, нарушать – простите уж! – элементарные правила приличия! И я только что получил приказ – подчеркиваю это слово: приказ! – не чинить вам никаких препятствий и удовлетворить ваши требования.
В Софи все пело от счастья, в ней словно фейерверк взорвался, словно пробился к свету чистый родник.
– Благодарю вас, ваше превосходительство! – с пылом воскликнула она.
– Вам не меня следует благодарить, а генерала Лавинского. На вашей подорожной стоит его подпись – не моя.
– Когда же я могу уехать?
– Когда угодно. Вот ваши бумаги.
Цейдлер протянул ей паспорт и подорожную, скрепленную красной печатью.
– У вас остался еще паспорт моего слуги… – напомнила Софи, пряча документы в сумочку.
По безразличному лицу губернатора пробежала непонятная судорога. Две глубокие морщины пролегли от губ к подбородку.
– А его паспорт пока и останется у меня, – бросил он небрежно.
– Как это так? Почему?
– Потому, что я получил распоряжение только насчет вас лично, вот и повинуюсь приказу, выполняя все его пункты. И не просите, чтобы я полученный приказ нарушил!
Софи разозлилась.
– Но этот человек приехал со мной из Санкт-Петербурга! – закричала она. – Я не могу его тут бросить!
– Пожалуйста, мадам, не посвящайте меня в эти чисто личные подробности! – с иронией попросил генерал.
А она, прищурившись, вложила в свой взгляд столько ненависти, что даже векам стало больно! Однако чем больше Софи выходила из себя, тем более спокойным казался губернатор. Он, похоже, просто наслаждался местью, выкладывая заготовленные для посетительницы болезненные сюрпризы последовательно, один за другим, не торопясь.
– Я расскажу об этом генералу Лавинскому! – уже не сознавая, что говорит, пригрозила она.
– Конечно-конечно, у вас уже так хорошо получилось однажды, грех было бы не попробовать еще раз! – язвительно прошипел он в ответ. – Вот только, когда генерал вернется, я должен буду доложить ему о том, что освободил вашего слугу, как было обещано, несмотря на все совершенные им по отношению к моим людям бесчинства. Сомневаюсь, что, узнав, насколько серьезны проступки вашего слуги, генерал-губернатор Восточной Сибири после моего доклада снова примет вашу сторону.
Софи была побеждена, сломлена, унижена, и ей приходилось глотать свою обиду. Генерал Цейдлер улыбался, морщинки разбегались по всему его серому старческому лицу.
– Между нами говоря, – продолжал он, – напрасно вы так расстраиваетесь из-за подобных мелочей. Что такое крепостной? В Чите вы найдете себе сколько угодно слуг!
От этого циничного предложения, произнесенного все тем же холодным, бесстрастным тоном, мужество окончательно покинуло Софи. Цейдлер набросил на нее сеть, и при каждом движении она все больше запутывалась в ячейках.
– Ну, что ж, теперь, сударыня, мне остается лишь пожелать вам счастливого пути! – заключил губернатор Иркутска.
Выйдя от него, Софи сразу же, чуть ли не бегом, отправилась во дворец Лавинского, чтобы попросить помощи у его адъютанта. Кувшинов немедленно принял ее, и она поверила, что вот сейчас, одним только словом он сможет разогнать сгустившиеся над ней тучи. Однако, выслушав ее, лейтенант помрачнел.
– Да, – сказал он, – ошибка была совершена с самого начала: в докладе генералу Лавинскому я не упомянул вашего слугу, говорил лишь о вас. Но как можно было ожидать, что кто-то станет придираться к вам по всем возможным и невозможным пунктам! И боюсь, что теперь генерал Цейдлер, уже показавший себя человеком злопамятным, сделает все, чтобы помешать вам увезти слугу с собой…
– Но разве генерал Лавинский не может вмешаться?
– Генерал Лавинский уже вмешался в это дело – ради вас, но ради вашего крепостного… нет, тут генерал вряд ли станет вмешиваться. Это ведь значило бы оскорбить Цейдлера вторично… два раза подряд! А мы же еще не находимся в состоянии объявленной войны с иркутскими властями… Разумеется, я могу ошибаться. Если вы не слишком спешите, подождите здесь возвращения генерал-губернатора Восточной Сибири – господин Лавинский обещал прибыть недели через две, – ну, и расскажете ему сами о своих проблемах…
– Целых две недели!.. – в растерянности прошептала Софи.
Первая ее мысль была: я не имею права оставаться в Иркутске, потому что каждый час, отданный Никите, я краду у мужа. Как всадник, собирающий перед препятствием всю волю в кулак, чтобы передать ее лошади: мы возьмем этот барьер! – так и она пыталась призвать себе на помощь всю оставшуюся в запасе решимость, надеясь, что хватит мужества двинуться дальше в направлении Читы к Николя. Однако решимость эта угасла прежде, чем Софи нашла способ ее выразить. Теперь мысли крутились вокруг другого: этот парень приехал вслед за ней в такую глушь, в самое сердце Сибири, – так имеет ли она право не позаботиться о его судьбе? Все услуги, какие им были оказаны, все доказательства бесконечной преданности, какие он демонстрировал буквально каждый день, – разве они не заслуживают с ее стороны маленькой жертвы – всего лишь задержаться на несколько дней, чтобы помочь Никите выпутаться из затруднений? Вооружившись столь сильными оправданиями, Софи выдержала любопытный взгляд лейтенанта Кувшинова и, немножко все-таки покраснев, прошептала:
– Нет, я не могу уехать при таких обстоятельствах… Никита… мой слуга… проделал из-за меня такой долгий и трудный путь, и теперь я не могу бросить его на произвол судьбы… Это было бы… это было бы бесчеловечно!
– Но если документы вашего Никиты в порядке, – пожал плечами Кувшинов, – он всегда найдет работу в Иркутске. Что он умеет делать?
– Читать, писать, вести счета…
– Вот это да! – засмеялся лейтенант. – Надо же – какой образованный! Ну, и чего же вы боитесь-то тогда? Можете спокойно ехать дальше, даже и не думая ни о каких угрызениях совести. Бьюсь об заклад, не пройдет и недели, как ваш слуга устроится просто по-царски!
– О, нет… я не могу… уверяю вас, я… лучше мне подождать генерала Лавинского…
Кувшинов, покривив душой, понимающе улыбнулся посетительнице, но глаза его сверкнули, а нос заострился.
– Что ж, какова бы ни была причина вашего упорства, я благословляю судьбу за счастье, нам всем подаренное: вы остаетесь здесь!
Софи смутилась и, желая смягчить впечатление, вызванное ее решением, наверное, показавшимся лейтенанту более чем странным, произнесла:
– Но, конечно же, если я передумаю, то, в свою очередь, буду счастлива, если смогу рассчитывать на вашу поддержку!
– Безусловно, мадам, безусловно! Можете быть совершенно спокойны: что бы ни случилось, я не забуду о вашем протеже…
Он уклонился от прямого ответа, рассыпаясь в любезностях. Софи простилась с Кувшиновым, так и не обретя внутреннего равновесия. Как бы там это ни выглядело внешне, на самом-то деле она уходит несолоно хлебавши, и такой долгожданной подорожной ей теперь не хватает для полного счастья… Конечно, она страшно виновата перед мужем: в то время, как следует думать только о нем одном, без конца пережевывает проблему, не имеющую к Николя ровно никакого отношения. «Но ведь… но ведь, – убеждала себя Софи, идя по улице, – две недели промелькнут быстро, да и Лавинский может приехать раньше обещанного… да и Николя сейчас не страдает из-за моей задержки в пути, он ведь не знает даже, что я еду к нему…» Подумать только, всех этих препятствий не возникло бы, если бы ей хватило терпения дождаться, пока генерал Цейдлер дозреет до того, чтобы выпустить ее из Иркутска! Как всегда, она чересчур тороплива, чересчур своевольна, чересчур стремительна в решениях и поступках…
Едва оказавшись на постоялом дворе, она позвала к себе Никиту. Слуга явился в ту же минуту, и на лице его Софи прочитала такую надежду и такую признательность, что взволновалась и растрогалась. Она пристально смотрела на молодого человека и, ощущая, как ее заливает теплая волна удовольствия, понимала, что не способна с этим справиться. А поскольку хозяйка так и сидела молча, Никита забеспокоился и нерешительно спросил:
– Ну что, барыня? Новости оказались плохие?
– Нет, – пробормотала Софи. – Или, скорее, да… Дело в том, что я не смогла получить для тебя подорожную…
В ответ на удар только зрачки его чуть-чуть сузились.
– Но… – поспешно продолжили Софи, – но… ничего еще не решено окончательно… все может измениться… Все уладится, я уверена!..
Слова вылетали словно бы помимо ее воли, и она с ужасом сознавала, на какой встает опасный путь. А больше всего Софи поражало то, что она внезапно и с изумлением открыла в себе самой, в глубине собственной души: это было так, как если бы она, взглянув в зеркало, увидела в нем незнакомку с безумной улыбкой. Но она же еще может, может все переиначить, она еще способна убежать от Никиты, пока не стало слишком поздно! Надо только дать себе время подумать… Желая оттянуть решение, Софи принялась подробно рассказывать Никите о своем визите к Цейдлеру, о своем визите к Кувшинову… Когда повествование иссякло, он спросил:
– Так как же: дальше вы одна, что ли, поедете?
Софи протяжно вздохнула. И вдруг решение на самом деле сформировалось окончательно. Будущее зависит от настоящего, потому надо рубить сразу, наносить мгновенный и сильный удар – так рана потом быстрее заживет…
– Да, – ответила она.
Челюсти Никиты сжались. Видя его страдания, Софи испытала такой же укол в сердце, как в тот день, когда молодого человека, раненого, уложили на красные доски пола ее комнаты. И ведь она причинила ему это горе, она виновата в том, что юноше так больно, – горло от этой мысли сжалось, на глаза набежали слезы. Боясь, что нежность захлестнет ее и выплеснется через край, она быстро добавила:
– Но, поверь, у меня нет возможности поступить иначе!
– Я понимаю, барыня, – устало ответил Никита. – Когда вы едете?
– Завтра.
– Уже?!
– Да, Никита… – голос ее слабел, ответ был еле слышен. – Да… Путь до Читы такой долгий…
Жизнь на глазах покидала его… или, по крайней мере, сознание. Он будто спал наяву, глубоко погрузившись в свое горе. Казалось, он ничего не видит, не слышит, не понимает, где находится. Лицо его стало вдруг таким ненормально спокойным, что Софи испугалась:
– Никита! Лейтенант Кувшинов обещал мне, что сам о тебе позаботится! – воскликнула она с наигранной горячностью. – Вполне возможно, пройдет несколько дней – и ты отправишься за мной следом!
– Никто не позволит мне ехать за вами, барыня, вы отлично это знаете, – отозвался Никита. – И я больше не увижу вас – никогда, никогда…
Дурацкая слишком короткая стрижка делала его лицо совсем простецким, но безграничная безысходная любовь, смешанная со столь же безграничным и безысходным отчаянием, сделали бы честь любому аристократу. Почти готовая уступить чувству сострадания, вызванного такими глубокими и тонкими переживаниями молодого человека, Софи еле справилась с охватившим ее волнением, но все-таки нашла в себе силы приказать:
– Я запрещаю тебе говорить так, Никита! Слышишь: запрещаю! Что за глупости! Прежде всего надо подумать, что ты можешь делать в Иркутске, пока не оформят твои бумаги. Тебе нужно найти жилье, работу… Конечно, я оставлю тебе немного денег, чтобы ты не бедствовал в первые дни… Да, да! Не спорь, это необходимо!..
Она задохнулась, остановилась… Крутой поворот, которого она сама от себя потребовала, отобрал все силы. Сердце рвалось пополам. Ей казалось, будто она за какую-то ничтожную долю секунды едва не навлекла на них и сумела отвести грозившую им беду. И внезапно ощутила, что ее стесняет то, что она с Никитой наедине. Воздух между ними был раскален, насыщен электричеством. Даже предметы обстановки выглядели непривычно, угрожающе, все напоминало приближение грозы… Софи распахнула дверь и позвала Проспера Рабудена: надо же обсудить с хозяином постоялого двора детали ее отъезда! И, увидев в проеме его круглое бесхитростное лицо, испытала огромное облегчение. А трактирщик сразу же предложил, что оставит Никиту у себя:
– Он такой любезный, такой расторопный молодой человек! И чаевые у него будут немалые! Чего же еще лучше-то желать?
Софи притворилась, будто в восторге от этой идеи:
– Какая прекрасная мысль, месье! Никита, ты слышишь, как хорошо все устраивается?
Она преувеличивала свое восхищение – так делают, ухаживая за тяжело больным, который отказывается от «такого необыкновенно вкусного бульона», предлагая ему съесть «ну, хотя бы еще ложечку!..» Никита же по-прежнему ничего не слышал, ничего не видел, он молчал, очевидно, прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри. Желая вытащить юношу из этого состояния, Софи попросила его посмотреть, готов ли к дороге тарантас. Но к каретнику, мастерская которого находилась рядом с почтовой станцией, они отправились вместе. Оказалось, что все в полном порядке: оси щедро смазаны, железные обода колес сверкают как новенькие… Никита с тоской рассматривал повозку, в которой должен был ехать навстречу судьбе он сам и которая завтра унесет Софи – одну-одинешеньку – в страну, откуда ей уже никогда не вернуться.
* * *
Назавтра, едва забрезжил рассвет, тарантас, запряженный тройкой, остановился перед постоялым двором. Вся челядь высыпала посмотреть на отъезд Софи. Она вскарабкалась в повозку и постаралась, насколько это было возможно, как-нибудь поудобнее устроиться между набитыми соломой мешками, прикрытыми материей. Никита вынес багаж и поставил его туда же, привязав веревками. Он молчал, стиснув зубы, был бледным, с красными глазами, дышал тяжело. С тех пор, как хозяйка объявила юноше о том, что уезжает одна, он предпринимал все усилия, чтобы держаться от нее подальше, закрыться в своей раковине – наверное, надеялся, что так страдания будут менее острыми. Проспер Рабуден принес соотечественнице провизию, чтобы не голодала в пути: в приготовленную для Софи корзину он положил три холодных цыпленка, хлеб, сало, сахар и несколько бутылок вина…
– Господи, как много! – воскликнула Софи. – Я же не в Америку еду все-таки!
– Откуда нам знать, что может случиться в дороге, – вздохнул трактирщик. – На станциях советую остерегаться людей, навязывающихся в попутчики. Если ямщик предложит поехать более коротким путем, отказывайтесь. И никогда не платите крупными ассигнациями…
Он продолжал давать советы, но Софи слушала его рассеянно: ей было куда важнее понять, что сейчас думает Никита, и потому она внимательно следила за каждым его движением. Этот парень был ее верным спутником в долгом пути, он чувствовал, когда она уставала, он знал все ее страхи, тревоги, надежды, он был ее защитником и ее подопечным… Ну, зачем так случилось, что ему потребовалось от нее нечто большее, чем доверие? Почему она не может сказать Никите, как ей самой тягостна эта разлука, не рискуя причинить ему еще больше мучений? Он был перед ней – живой и здоровый, такой сильный внешне и такой ранимый в душе… И ничего не было потеряно!.. А несколько минут спустя… Она не чувствовала себя способной ни отказаться, ни покориться… Ею овладела чуть ли не дурнота, в груди теснило… Ах, эти коротко остриженные светлые волосы Никиты, его высокие скулы, его сиренево-голубые непостижимые глаза…
– Ну, что, барыня, едем? – спросил ямщик.
Она вздрогнула. Никита поднял голову, его зрачки расширились, взгляд молодого человека излучал такую боль, такой ужас перед расставанием и такую нежность, что Софи физически ощущала, как все это волной накатывает на нее саму.
– Минуточку! – пробормотала она. – Я бы хотела посмотреть, не забыто ли что-нибудь в номере…
Кто-то из слуг Рабудена воспринял это как указание и кинулся исполнять. А она не знала, что бы сделать еще, лишь бы оттянуть время отъезда. Ей было невмочь отвести глаза от Никиты, и она с трудом выносила необходимость произносить слова прощания.
– Не волнуйтесь, мадам, вашему слуге будет хорошо у нас, – уловил ее настроение Проспер Рабуден. – Сначала он побудет в услужении у постояльцев, потом я приставлю его к кухне, а там, глядишь, и счета начнет вести…
С серого неба упало несколько капель. С Байкала подул холодный ветер, и у Софи сразу замерзли руки – пришлось сунуть их под медвежью шкуру. Вернулся слуга, сказал, что ничего в комнате не обнаружил. Больше никаких оправданий задержки не оставалось. Надо ехать. Ямщик перекрестился.
– До свидания, господин Рабуден! До свидания, Никита! – еле выговорила Софи.
– Храни вас Бог, барыня! – прошептал Никита и вдруг, жестом совершенного безумца, выхватил руку Софи из-под меховой полости и поднес к губам, обжигая горячим дыханием. Конюх, который стоял перед тройкой, отскочил в сторону, словно ему надо было пропустить катящуюся с гор лавину, и лошади двинулись с места, подгоняемые свистом и щелканьем кнута возницы. Оси, колеса, поперечные перемычки скрипели на каждой рытвине. В сердце Софи образовалась страшная пустота, и она обернулась назад. Там, вдали, стояла небольшая группа людей… кто-то из них махал ей вслед рукой… А чуть в стороне от этой группы – мужчина на голову выше остальных, широкоплечий, светлоголовый… Между ним, остающимся в городе, и ею, уезжавшей, убегавшей от него, еще существовала какая-то связь, но ниточка, их связывавшая, все натягивалась, натягивалась по мере того, как тарантас удалялся от постоялого двора, вот-вот разорвется… И вдруг Софи почувствовала свободу! Тарантас свернул за угол. Пока они ехали по городу, путешественница размышляла, и вырвал ее из раздумий только блеск Ангары – река оказалась совсем близко от тракта, она разлилась широко, хорошо были видны и каменистые острова, и черные леса, поднимавшиеся по откосам… и стаи ласточек, которые с криками летали над песчаными отмелями…
6
Когда тарантас отъехал от третьей по счету почтовой станции, уже темнело. Дорога к тому времени превратилась в каменистую тропу, неровными уступами карабкавшуюся вверх по склону горы. Внизу катила быстрые свои воды Ангара, порой бросаясь в гневе на скалы, сужавшие ее русло. Обрубок дерева, на котором, тесно прижавшись одна к другой, сидели какие-то белые птицы, покачиваясь, плыл по волнам. Постепенно, с каждым поворотом дороги, лощина стала расширяться. Воздух стал свежее, он теперь словно омывал щеки путешественницы. Сквозь скрип осей она расслышала монотонные звуки, напоминавшие морской прибой: накат, откат… И наконец раскинулось перед ней гладкое серое море, а где-то на самом горизонте виднелись заснеженные пики, прикрытые обрывками тумана.
– Вот он, наш Байкал! – сказал ямщик. – Тут у нас священные места, заповедные: тут у нас рыбные запасы!
Овраги, по которым устремлялись пенистые потоки, крутые берега, поросшие березами и соснами, сумеречное зеркало воды, тяжелые облака, тянувшиеся до самого горизонта – из всего этого формировался совершенно особенный, дикий, таинственный, навевающий мысли об одиночестве пейзаж, и даже возница, казалось, это чувствовал. Во всяком случае, он придержал лошадей, и тарантас замер, чуть-чуть не доехав до нового поворота, почти у обрыва над озером.
– Что происходит? – поинтересовалась Софи.
– Ничего, барыня. Просто такой у нас обычай: попав сюда, каждый должен крепко подумать о том, чего ему больше всего хочется. Видите там, посреди потока, скалу? Она называется Камень Шамана. Если шаман, скрывшийся внутри скалы, вас услышит, он исполнит вашу просьбу. Загадайте-ка желание, барыня!
В Петербурге Софи только посмеялась бы над этими суевериями, но здесь она была не так уверена в себе: должно быть, эта страна, по которой ей пришлось так долго ехать, обладает каким-то колдовским воздействием на дух, на сознание. В бесконечной пустыне человека одолевают грезы, дело доходит до галлюцинаций… И она уступила соблазну, да и как было помешать себе истово, с суеверным каким-то пылом, думать о Николае, о Никите… Мало-помалу в окружавших ее сумерках начиналась ночная жизнь. Успокоенные неподвижностью тарантаса, тысячи птиц приветствовали наступление тьмы щебетанием, попискиванием, хохотом, гоготаньем, сначала осторожным, затем все более звучным. Дикие утки, вернувшиеся с охоты на озере, прежде чем устроиться на ночевку, обменивались гортанными окликами. Потом наступила очередь больших лебедей, которые заглушили все прочие шумы хлопаньем крыльев и пронзительным криком. Когда голоса диких уток и лебедей затихли, заговорили утки-мандаринки, после них гусь запел победную песнь, и другие водоплавающие вскоре ее подхватили. Суматоха на реке поднялась страшная, все птицы орали хором… Однако достигнув апогея, этот гвалт внезапно, будто по мановению дирижерской палочки, оборвался. Наступила мертвая тишина. Между облаками появился краешек луны. По серебряному зеркалу байкальских вод пробежала легкая волна. Теперь ночной покой нарушался лишь посвистыванием маленькой ржанки, бегавшей по песчаному берегу озера.
Софи в очередной раз пожалела, что Никиты нет рядом: наверняка ему было бы так интересно услышать все эти голоса! Со времени своего отъезда из Иркутска она мысленно делилась с ним мельчайшими подробностями путешествия. Красивый пейзаж, участок плохой дороги, все, что ее тревожило, радовало, огорчало, – именно Никите и только Никите ей хотелось рассказать об этом. Вместе с ним восхититься, ему пожаловаться, его расспросить о впечатлениях… Возница прищелкнул языком, лошади тронулись, а она так и не успела загадать желание, глядя на Камень Шамана…
Ближе к полуночи тарантас остановился у деревянного строения – это была почтовая станция. Человек двадцать путешественников расположились на лавках общей залы. Все ждали прихода баржи, погрузившись на которую вместе с повозками, можно будет переправиться на другой берег Байкала в самом узком месте озера – между Лиственничным и Боярским. Люди потеснились, чтобы дать место новоприбывшей. Она села между старушкой с отвратительно злой физиономией и здоровенным бородатым мужиком с лохматыми волосами, от которого так несло хлевом, что нетрудно было догадаться: богатырь торгует скотом. Масляная лампа бросала тусклый свет на лица, серые от усталости, усталость же клонила их к земле…
Вдруг Софи почувствовала, как теплая ляжка скототорговца прижимается к ее бедру. Отодвинулась. Он подвинулся за ней. Почти не поворачивая головы, кося глазом, бросил на женщину тошнотворно-сладкий взгляд. Из полукружья мясистых губ, видневшихся в просвете огненно-рыжей всклокоченной бороды, вырывалось обжигающее дыхание. Софи уже не могла отодвинуться даже на самую малость, не потревожив старушку, а вместе с ней – всех, кто спал на этой лавке.
– Оставьте меня, сударь, – прошептала она.
Мужик сделал вид, что не слышит, теперь он почти наваливался на Софи плечом, одновременно тычась ей в юбку коленом. А она почувствовала подозрительное щекотание, осмотрела первым делом руки, затем дорожный костюм: везде кишели клопы. Молодая женщина резко встала с лавки, отряхнула одежду и решительно двинулась к двери: уж лучше провести ночь в тарантасе! Для того чтобы выйти, ей пришлось перешагнуть через нескольких растянувшихся на досках крестьян, задев их краем юбки. От этого они проснулись, открыли глаза и смерили нарушительницу их покоя недовольными взглядами. Этих людей тоже осаждали клопы, но их, похоже, это вовсе не беспокоило.
Снаружи воздух показался ей очень свежим и холодным. Опять это приятное чувство прохлады, омывающей лицо!.. Луна совсем скрылась за облаками. Байкал казался безбрежным. В темноте слышался тихий плеск его волн. Софи пришлось долго искать свой тарантас среди множества повозок, оставленных у почтовой станции ее постояльцами.
Улегшись на тюках соломы под брезентовым верхом, она положила рядом, так, чтобы удобно было достать, пистолет: это Проспер Рабуден посоветовал взять в дорогу оружие. А еще по его же совету она спрятала в подшивке платья все наличные деньги… Советы хороши, конечно, но сумеет ли она защититься в случае необходимости, если вдруг кто-то нападет? Софи натянула до подбородка медвежью полость, оставила между низом тарантаса и пологом только узкую щелочку, и все равно дрожала от холода, с тревогой всматриваясь в эту укрытую непроглядной тьмой чужую страну, где из-за каждого угла каждую минуту может грозить опасность. Сучок ли хрустнет, качнется ли на ветру с тихим шелестом ветка, у нее замирает сердце! Она понимала, насколько безумным было решение ехать дальше одной… Еще восемьсот верст, это минимум двенадцать дней! Невозможно же поверить, что путь до Читы окажется гладким, что ее минуют все и всяческие неприятности! Ах, если бы Никита по-прежнему был рядом, как безмятежно бы она сейчас спала, пусть даже и в тарантасе… Софи представила себе Никиту: как он смотрит на нее, держа высоко голову, расправив плечи… Чем больше она думала о нем, тем более уязвимым казалось ей положение, в которое она попала, тем острее она чувствовала потребность в его присутствии, в его силе, в его нежности. Она металась по соломенным тюкам, она, будто в бреду, тихонько звала: «Никита! Никита!» Ей казалось, что, возникни он сейчас перед ней, она бы бросилась ему в объятия. От страха, из благодарности? А может быть, ее подталкивала к нему ответная нежность? Она уже не могла разобраться… От усталости ее лихорадило, щеки пылали, из глаз неудержимо катились слезы. Внезапно ей послышался говор целой толпы – как будто, сминая траву, к ней подходило много-много людей. Похолодев от страха, Софи дрожащей рукой схватила пистолет, прицелилась неизвестно куда… Но тут шум сделался понятным и знакомым… Господи, да это же просто дождь, сильный дождь: просто капли стучат по земле в каком-то бешенстве, словно хотят все измочить, все захватить с бою, все поглотить собой. Отгороженная от мира пеленой дождя, Софи постепенно успокоилась. Ни один разбойник не решится напасть на нее, когда такой потоп! И это Никита наслал его, раз прийти не может, – да, да, это магия, это волшебство! Он просто издали создал для нее такую вот стенку, чтобы защитить, спасти! Подумала – и сама удивилась столь не характерной для себя мысли. Непонятно, может быть, она меняется, вот-вот изменится окончательно под влиянием климата, встреченных людей, случившихся событий? Она начала дремать, измученная, растерянная, но сквозь сон продолжала слышать, как проливает обильные слезы и вздыхает ночь.
Когда Софи проснулась, пейзаж был совсем иным: вышло солнце и залило всю округу. Холодно, все тут вымокло насквозь, все блестит… Грозившие опасности рассеялись вместе с темнотой. Из дома, где помещается почтовая станция, доносится разноголосый гул. За самоваром там, наверное, собралось человек двадцать… Софи перешла на другую сторону дороги и спустилась к озеру. Берег Байкала был галечный – бледно-голубые, темно-красные, светло-зеленые, нежно-сиреневые, немыслимо представить, скольких разнообразных цветов камешки это сибирское море обтесало, отполировало до почти зеркальной поверхности и почти идеальной округлости. Красота! И спуск к воде какой отлогий… Так и тянется пестрое это полотно до самой воды… Если поднять глаза, то увидишь горы, они словно поросли густым темным мехом, а на верхушках – шапки из облаков… Веселый ветер, пришедший с водного простора, дует порывисто, и полог тарантаса хлопает при каждом порыве так, будто аплодирует… Оторвавшись от созерцания озера, Софи почувствовала, что продрогла и что все ее натруженное тело побаливает. Взяла сахару и пряников из своей корзины и отправилась в общую залу почтовой станции, чтобы согреться и попить горячего чайку.
Купчина, который пытался заигрывать с ней ночью, отвесил поклон и спросил, хорошо ли она спала. Софи не ответила, мужик разозлился и процедил сквозь зубы:
– А я-то думал, у нас после Наполеона все войны с французами кончились!
Софи и тут промолчала, выпила чаю, а станционный смотритель, едва она поставила чашку, объявил, что баржа подошла к причалу. Это оказалась древняя пузатая посудина с плоской палубой, квадратным парусом и уключинами для весел. Крестьяне-буряты с бронзовыми лицами и раскосыми глазами, объединившись в группы, уже тащили свои телеги к пристани. Оказавшись на откосе, телеги сами по себе ускоряли ход, и теперь приходилось напрягаться, чтобы удержать их: шаг в сторону, и они вместе со всем грузом скатятся в воду, тогда уж не жалуйся! Широкий трап, проложенный с борта на берег, сотрясался и прогибался под колесами. Одна за другой повозки поднимались на баржу и занимали свое место на палубе.
Софи уже поднималась на борт, когда под легкое позвякивание колокольцев четыре тройки выехали из ворот почтовой станции. Путешественники растерянно переглянулись: курьерская почта имела все преимущества, и теперь они уже не надеялись получить в Боярском лошадей.
В восемь утра отчалили. Весел не понадобилось – ветер был ровный и достаточно сильный для того, чтобы хорошо наполнить паруса. Если не станет слабее, к вечеру баржа подойдет к противоположному берегу.
На палубе теснилось с десяток тарантасов и телег. У бортового ограждения громоздились тюки и ящики. Пространство, отведенное пассажирам, оказалось таким узким, что многие предпочли оставаться в своих повозках. Софи тоже села в тарантас, устроилась поудобнее между чемоданами, привалилась спиной к соломенным подушкам и стала любоваться озером – таким спокойным и прекрасным в этот утренний час. Изумрудно-зеленая его поверхность чуть волновалась под легким ветерком, горизонт на севере был так далек, словно Байкал не озеро, а океан… Зато на юге взгляд сразу упирался в высокие горы – ближние совсем черные, хребты четко очерчены, более отдаленные кажутся синими, а самые дальние сверкают и курятся серебристой пылью, словно растертый мел в солнечных лучах. Софи убаюкивала еле заметная зыбь. Она вспомнила день, когда переправлялась на пароме через Енисей – то же скольжение между бесконечным небом и бесконечностью волн, то же парение духа… Но тогда Никита был поблизости: стоял облокотившись на перила ограждения… Она словно бы услышала его голос, такой родной: «Вам так не терпится оказаться на почтовой станции, барыня?.. Но тут ведь так красиво!..» А она… Это неважно, что она сама была в печали, – она его так огорчила, так обидела своим ответом: «Очень красиво, но у меня сейчас нет никакого настроения любоваться пейзажем!»
Совершенно расстроившись, она постаралась отогнать от себя мысли о Никите, насильно втиснуть его в рамки его новой жизни. Должно быть, он уже начал работать у Проспера Рабудена. И теперь, бегая между кухней и табльдотом, даже времени-то не имеет подумать о ней. Давно забыл ее, занятый болтовней с другими слугами, пересмеиваясь с ними. Да, да, конечно, именно так! Она оставила ему, уезжая, сто рублей, он ни в чем не будет нуждаться… А вдруг, получив свои бумаги, он приедет к ней в Читу? Софи почувствовала, как начинают полыхать жаром ее щеки. Милые сердцу образы волна за волной накатывали на ее воспаленный мозг, один сменялся другим… Как наваждение… То, что она сделала там, в Иркутске, – разве ей этого хотелось? Когда и как возникло у нее это желание? Какие чары побудили ее к этому путешествию на край света? Можно подумать, что в ее жизнь, в ее судьбу вкралась какая-то ошибка, все пошло не в том направлении, и она проживает события, предназначенные вовсе не ей!
Плавание продолжалось без происшествий до конца дня. Птицы, крича, падали к волнам, потом резко – молнией – поднимались на головокружительную высоту. Когда село солнце, небо у линии горизонта окрасилось ярким пламенем. По черному берегу заплясали кроваво-красные, золотые, лазоревые отсветы. Не дожидаясь, пока баржа причалит, пассажиры стали вылезать из своих повозок, и вскоре у воротец, через которые можно будет пройти на трап, чтобы спуститься по нему на землю, собралась целая толпа. Софи удивилась: почему все они так торопятся, им-то куда спешить? А потом поняла причину – разумеется, всех свежих лошадей на почтовой станции отдадут курьерской службе, но те, кто сейчас первыми зарегистрируются в журнале станционного смотрителя, получат шанс первыми же завтра и уехать. Станция тут находилась метрах в пятистах от берега, и, едва был установлен трап, поток пассажиров хлынул в направлении к ней. Люди бежали по откосу, отталкивая друг друга, стараясь обогнать всех… Вперед вышел здоровяк-купец, в самом хвосте плелась маленькая старушонка со злобным лицом… Если бы Никита был с ней, он уж точно бы пришел на станцию первым! Софи тяжело вздохнула и сошла по трапу последней – теперь-то чего пороть горячку?..
7
Никита всю ночь так и эдак проворачивал в голове самые разные планы, а на рассвете поднялся раньше, чем открыли глаза другие слуги, взял свой узелок, на цыпочках прошел по большой комнате, где спали его товарищи, и так же тихо закрыл за собой дверь черного хода. Над рекой поднимался серый туман, укрывая весь город. Пусто – на тротуаре никого. Кое-где еще светятся уличные фонари. Торговец лошадьми, о котором ему вчера рассказали слуги из местных, живет на другом конце города – на берегу Ангары. Бывший каторжник, его фамилия Голубенко. Говорят, с ним можно иметь дело. Никита пожалел, что не подумал раньше о том, чтобы с ним повидаться: целых два дня псу под хвост! Два долгих-предолгих дня, в течение которых он, моя ли посуду в жирной воде, разжигая ли огонь, выметая ли мусор, только и думал, что о барыне. Думал с отчаянием, растравляя душевные раны. Но раз уж ему нет жизни вдали от Софи, пусть лучше ему грозит тюрьма, кнут, смерть – он все равно попробует ее догнать! Он это понял перед рассветом, шепча слова утренней молитвы, и, вдохновленный озарением, вызванным навязчивой идеей, поспешил к Голубенко.
Его встретил крепкий лысый мужик с грубым лицом, непроницаемым и твердым, как сжатый кулак. Барышник позвал Никиту за собой, и они вошли в пристройку к конюшне, где гостю было предложено сесть к столу, на котором он увидел початый штоф водки.
– У меня нет времени, – не дожидаясь приглашения выпить, помотал головой юноша. – Я хочу купить лошадь.
– Отлично! А для чего? – поинтересовался Голубенко. – Что собираешься делать: работать, на прогулки ездить, путешествовать?
– Путешествовать.
– И далеко собрался?
– Да.
В маленьких черных глазках барышника загорелись насмешливые огоньки, и Никита понял, что его намерения разгаданы.
– Очень далеко? – не унимался Голубенко. – На запад, на восток?
– Тебе-то какое дело? Вот уж что тебя не касается!
– Хороший ответ, сынок, достойный! Но тогда почему бы тебе не отправиться за лошадью на почтовую станцию – там они и дешевле, кстати…
Никита молча пожал плечами.
– А ты случайно не потерял свои бумаги, сынок? – упорствовал в вопросах барышник. – И, увидев, как взбесило посетителя его неуемное любопытство, расхохотался, потом добавил серьезно: – Не беспокойся, голубчик ты мой, уж кто-кто, а я не стану доносить на тебя властям! Это не в моих правилах, и вообще я сочувствую тем, кто с ними не в ладах. А к тебе у меня просто-таки душа лежит… И лошадь я тебе продам. Хорошую. Недорого.
Никита приготовился к удару: у него ведь было-то всего сто рублей, полученных от барыни, а вдруг Голубенко запросит больше? В растерянности он не нашел ничего лучшего, как прошептать:
– Понимаешь, я ведь не богатей…
– Вот уж не сомневаюсь! Но и мне надо жить. Полсотни – такую цену осилишь?
Молодой человек просиял.
– Еще как осилю! – воскликнул он.
– Один из моих людей проводит тебя до выезда из города, а потом выпутывайся сам. Посоветую только держаться в стороне от больших дорог!
Вдохновленный доброжелательным отношением торговца лошадьми, Никита совсем осмелел и спросил его:
– А не знаешь, кто бы мог снабдить меня потом другой лошадью? Когда твоя устанет… Я бы оплатил ему разницу…
– Ну, как ты хочешь, чтобы я тебе ответил, если не сказал, куда держишь путь? – в свою очередь пожал плечами Голубенко.
– В сторону Байкала, – признался Никита.
Барышник налил водку в сделанные из рога стопки. Выпили, закусили селедкой, вытерли рты обшлагом…
– Добавь пять рубликов – все расскажу, – сказал Голубенко.
– Идет!
– Только деньги на стол!
– Вот они…
Голубенко сосчитал ассигнации, скатал их в трубочку и сунул за голенище сапога.
– Приехав в Лиственничное, – сказал он, – спросишь, где живет Спиридон, и остановишься у него – ему скажешь, что это я тебя послал. Спиридон тебе поможет – Христом Богом клянусь!
Он вынул из кармана веревочку, на которой, как четки, висели три маленьких конуса из слоновой кости.
– Это что? – удивился Никита.
– Волчьи зубы. Такой тебе от меня подарок. Когда захочешь скакать совсем быстро – привяжи их к шее лошади, и она понесется стрелой, молнией – никому вас тогда не догнать.
– Спасибо, – от души поблагодарил Никита.
Часом позже он уже был в чистом поле. Следуя совету Голубенко, старался держаться подальше от больших дорог и выбирал проселочные, слишком узкие для повозок. Его низенькая азиатская лошадка, с жилистыми ногами, с длинной растрепанной гривой, двигалась неспешно, рысцой, казалось, задумавшись о чем-то своем. Никита подогрел ее, заставив перепрыгнуть через несколько широких ручьев, потом все-таки пустил в галоп, впрочем, тоже не самый быстрый. Проспер Рабуден, наверное, уже обнаружил исчезновение нового слуги, но он не такой человек, чтобы поднимать по этому поводу тревогу. С этой стороны опасаться нечего. Утро выдалось прекрасное. Рощицы белых берез то и дело возникали на равнине, и деревья с гладкими белыми стволами казались путнику похожими на церковные свечи. Словно читая его мысли, в какой-то дальней деревне зазвонил колокол. Никита надеялся к ночи добраться до берега Байкала. Если он сразу найдет лошадь на смену этой, а Софи из-за чего-нибудь застрянет в дороге, может быть, ему удастся нагнать ее еще до Читы! Но когда догонит, то не поедет вместе с барыней, а станет охранять ее на расстоянии, нельзя же причинять ей новые неприятности! Едва молодой человек подумал о грядущей встрече с госпожой, кровь забурлила у него в жилах. И как будто сам Господь Бог решил подталкивать Никиту в спину: лишь время от времени ему случалось уговорить себя натянуть поводья лошади и вынудить ту перейти на шаг…
* * *
От станции отъезжали в том же порядке, в каком записывались в реестр смотрителя, и потому тарантас Софи оказался последним в очереди из шести повозок. Забившись поглубже под полог, она вдыхала дорожную пыль, поднятую копытами опередивших ее упряжку лошадей. От грохота окованных железом колес разламывалась голова. Она сообразила, что и на всех следующих станциях будет такая же толчея, и пришла в ярость от одной только мысли о том, что все эти люди обеспечили себе на всю дальнейшую дорогу право получать свежих лошадей раньше нее. Дернув своего ямщика за рукав, Софи крикнула ему:
– Постарайся их обогнать!
– Это запрещено правилами, барыня! – ответил тот.
Она протянула ему рубль. Он, не оборачиваясь, через плечо взял деньги у нее из рук и повторил:
– Никак не могу, барыня, уж вы не обессудьте.
Но второй рубль заставил его переменить мнение.
– Ну, помогай нам бог! Держитесь крепче!
Он вытянул лошадей кнутом, и те рванулись вперед. Тарантас вильнул влево и, проехав двумя колесами по дороге, двумя по траве, опередил первую повозку, откуда раздались негодующие выкрики. Четыре следующие повозки постигла та же участь. Все они были слишком тяжело нагружены для того, чтобы соревноваться в скорости с тарантасом Софи. И вскоре скрип их осей и перезвон бубенцов затих в отдалении. Слегка устыдившись того, что в нарушение всех правил их обошла, Софи сама перед собой оправдалась тем, что ни у кого из этих людей, несомненно, не было таких причин спешить, какие были у нее. Для того чтобы поддерживать в себе возбуждение, необходимое для успеха ее предприятия, ей то и дело приходилось напоминать себе о том, что она едет к мужу. «Еще неделя, и я буду рядом с ним! Как он обрадуется, как будет мне благодарен! Мы снова будем счастливы! Это непременно должно быть так, иначе все утратило бы смысл, и мое путешествие, и моя любовь, и вообще весь мир, в котором мы живем!..»
Прибыв на станцию в Кабанске, она едва не лишилась чувств, когда увидела во дворе Никиту. Крик уже готов был сорваться с ее губ, но она вовремя опомнилась. И как только она могла принять за Никиту этого конюха? Конечно, он тоже высокий и светловолосый, но у него такое тупое лицо! И ее охватила такая грусть, что она едва улыбнулась при известии о том, что свежих лошадей ей дадут всего через час. Начало смеркаться. Станционный смотритель зажег лампу. Софи открыла свою корзинку с припасами и поела одна, на краешке стола, вспоминая другие дорожные трапезы, которыми не умела как следует насладиться вовремя…
* * *
Быстро темнело. Вороны стали слетаться на верхушки гигантских елей, трясогузки уже скрылись в прибрежные травы, да и ласточки оповещали пронзительными криками о том, что им пора приземлиться на песчаных отмелях – спать, спать, спа-а-ать… Никита, который ехал сейчас вдоль Ангары, приготовился было к тому, что наступит тишина, но внезапно, со всех сторон разом, зазвучали голоса уток, гусей и диких лебедей. Гогот стоял оглушительный, но совершенно колдовской – эта ночная симфония не предназначалась для человеческих ушей: животные и птицы изливали душу в полуобморочном каком-то восторге… Интересно, а Софи, когда проезжала тут, слышала такой же странный концерт? Юноше не хотелось в одиночку переживать прекрасное, великое, волнующее – ему было необходимо разделять все это с нею. Проезжая через город, через деревню, минуя каждую версту, он говорил себе, что Софи уже побывала здесь, и любая дорога, любая точка в пути сразу же превращалась в место, освященное ее присутствием. Он искал отпечатки, отблески ее образа в травах у обочины и на каменистых отрогах горных хребтов, он искал их в переплетении веток и облаках на небе… Сколько верст отделяло теперь его от Софи? Сто пятьдесят, двести?.. Никита прикидывал так и этак, запутывался и начинал снова, мошенничая сам с собой. Измученная лошадь уже еле передвигалась: отдыхали они в пути после Иркутска лишь трижды, да и то понемножку. Если Голубенко не соврал, в Лиственничном он получит свежую лошадь…
Когда Никита добрался до цели, окна в домах были темными, видимо, все спали. Но если здесь меняют лошадей, неважно, большой это город или деревушка, все равно поблизости могут дежурить жандармы – лучше не показываться на главной улице! Никита спрыгнул на землю и двинулся лугами. А может быть, разумнее отдохнуть тут часа два-три, поспать, а потом продолжить путь на той же лошади? Нет, она не выдержит… Она хромает, задыхается… Молодой человек потрепал кобылу по холке. Та заржала, он испугался и потянул ее за поводья в маленькую еловую рощицу – прятаться. А там наткнулся на мальчишку лет десяти, который вытягивал из колодца ведро с водой. Загремела цепь, ведро ухнуло вниз, Никита и мальчик в страхе уставились друг на друга. Ребенок уже приготовился закричать.
– Слушай, ты знаешь Спиридона? – вопрос был задан скороговоркой и сопровождался улыбкой – надо же было успокоить парнишку.
Тот мгновение поколебался, но испуг его быстро прошел, и подозрительность сменилась симпатией. Круглоголовый, беленький, курносый, он широко заулыбался в ответ и показал пальцем:
– Во-он туда тебе идти… Последний дом на том краю. Наверху, над дверью, наличник синий – не ошибешься!
Вытащил свое ведро, поднял с земли второе и заковылял прочь. Из ведер на каждом шагу выплескивалась вода…
Никита, стараясь оставаться незамеченным, обогнул деревню по околице. Вот и дом с синим наличником! Но тут его снова охватили сомнения: а что, если попадет в ловушку? Кто его знает, этого Спиридона! Но выхода не было, и, стараясь себя успокоить, он постучал в дверь.
Отворил высокий худой человек: черная с проседью борода, на скуле знак того, что хозяин дома побывал на каторге – волосы здесь больше не росли. Брови Спиридона были нахмурены, кулаки сжаты, он не пустил незваного гостя дальше порога.
– Чего тебе надо? – спросил хриплым голосом.
– Я пришел от друга.
– Нет у меня никаких друзей!
– От Голубенко.
Спиридон вдруг искренне обрадовался.
– Голубенко! – закричал он. – Надо же, Голубенко объявился! Ах ты, старый паскудник! Не подох, значит, еще! Голубенко! Ну, ладно! Тем лучше! Тем лучше!
Какие преступления и какие совместно отбытые наказания связывали двух этих людей? Ясно, что воспоминания и радовали, повергали в печаль Спиридона, который то смеялся, то вздыхал… Теперь Никита стал гостем желанным. Хозяин проводил его в комнату, пригласил к столу, на котором горела масляная лампа. Еще одна – маленькая лампадка – светилась перед иконами. Никита перекрестился. В полутьме, в самой глубине комнаты, на убогой постели из тряпья лежала женщина, услышав голоса рядом, она приподнялась.
– Вставай, Авдотья!
По приказу хозяина Авдотья, которая оказалась еще молодой женщиной с большими испуганными глазами, круглым подбородком и тяжелой русой косой на голом плече (она была в одной сорочке) встала, принесла хлеба, сала. Никита наелся до чувства тяжести в животе и завел, наконец, разговор о лошади. Спиридон сказал, что, конечно же, поменяет ему лошадь, запросив «небольшую доплату» всего в двадцать рублей, поскольку речь идет об услуге старому товарищу. Если бы Никита принял его условие, – остался бы до конца путешествия всего с двадцатью пятью рублями в кармане, а этого было бы явно недостаточно. Пришлось торговаться. Ударили по рукам, сойдясь на действительно небольшой сумме в двенадцать с полтиной. Более того, Спиридон сказал посланцу старого друга, что на той стороне Байкала, в Кабанске, живет его знакомый по фамилии Валуев, который в случае необходимости даст ему новую лошадь за такую же доплату.
– Только скажи, что пришел от меня, он тебя прямо, как прынца, принимать станет! Но для начала – ложись-ка спать, переночуешь у меня!
– Нет, – сказал Никита, – мне давно пора ехать дальше.
– Куда ты поедешь? Баржа подойдет только через двое суток!
– А разве нет дороги вокруг озера?
– Есть, но плохая и путь очень долгий.
– Что поделаешь. Мне ждать баржу некогда, очень спешу.
– Да ты же на ногах не держишься!
– Ничего. Посплю в седле.
Сонная, разнеженная Авдотья смотрела на них, под ее сорочкой острыми конусами обозначались груди.
– Ладно, – вздохнул Спиридон. – Раз ты такой упрямый, сейчас оседлаю лошадь и укажу тебе дорогу… На посошок-то надо!
Они чокнулись квасом. Авдотью услали, она снова легла на свои тряпки, но глаз не сводила с Никиты. Юноша понял, что понравился молодке, и ему стало не по себе. Всякий раз, как Никита замечал вожделение или даже простое лукавство в направленном на него взгляде женщины, его это коробило – как будто она тем самым совершала преступление, принижая пол, к которому принадлежала и Софи. Вздохнул с облегчением он только тогда, когда вышел за двери дома Спиридона и окунулся в ночь.
Дорога поднималась в гору, горизонт отодвигался все дальше, озеро при свете луны казалось бескрайним… Гладь воды время от времени взблескивала алмазными штрихами… Порой медленно приближающаяся еловая завеса перекрывала пейзаж. Высокие темные деревья казались вырезанными из железа. Их тени, падавшие на дорогу, выглядели зубьями пилы, но лошадка, переступив через них, оставалась невредимой. Она бежала резво, и направлять ее оказалось не нужно, дорога была, видимо, привычной. Когда-то Никита побоялся бы путешествовать один, в ночи, по лесу, населенному призраками и коварными злыми духами, но в этот вечер ему мерещилось, что он сам – призрак. Сидя в седле, убаюканный мерным его колебанием, он потерял ощущение собственного тела, ни о чем не думал, непонятно, жил ли вообще… Так он заснул и проснулся в испуге. Но ничего вокруг не переменилось: вокруг по-прежнему возвышались черные деревья, в небе так же сияла молочно-белая луна.
* * *
В Верхнеудинске Софи снова пришлось задержаться: не было тройки на смену, но станционный смотритель божился, что лошади прибудут через сутки. Надо было как-то убить время, и ничего не оставалось, как погулять по городу. Деревянные домишки выстроились вдоль берега Селенги… Пожалуй, нигде путешественница не ощущала с такой остротой близости Китая: конечно, церковь устремляла в небо сияющие купола, и кладбище рядом укрывалось православными крестами, но на вывесках любой лавки рыночной площади русские буквы и китайские иероглифы сосуществовали на равных правах. Эти иероглифы изысканных форм, золоченые резные дощечки вместо вывесок, бумажные фонарики, странные наряды прохожих, их своеобразно интонированная речь… – все это смущало и забавляло француженку. Ей попалось навстречу множество бурят с желтыми, словно салом намазанными лицами. Те, кто был победнее, носили верхнюю одежду из козлиных или бараньих шкур, а на голове – остроконечные шапки, поля которых спускались им на уши. На спины местных богачей, всех как один одетых в длинные темно-синие халаты с расшитыми обшлагами, спускались волосы, собранные в длинный хвост, их головы венчали маленькие шапочки с серебряной шишечкой наверху. Прически здешних модниц (видимо, это считалось элегантным!) представляли собой сооружения, в которых коралловые, перламутровые и малахитовые бусы соседствовали с металлическими цепочками, пластинками и колечками, с золотыми и медными монетами, – все свое богатство эти дамы не просто носили с собой, но выставляли напоказ. Мелодичный перезвон каждой такой коллекции украшений, возникающий при каждом шаге, был словно гимн красоте владелицы.
Тысячи предметов, изготовленных на Востоке, привлекали внимание Софи к витринам магазинов: драгоценные ткани, меха, фигурки из слоновой кости… Но деньги, зашитые в подол платья, она считала неприкосновенным запасом: их можно будет тратить только в самом крайнем случае – для облегчения участи Николя! К воротам почтовой станции путешественница подошла счастливой, потому что удалось сдержать свои порывы и ничего не купить по дороге.
На следующий день она снова тронулась в путь, теперь по песчаной пустыне, унылый пейзаж которой время от времени оживляли лишь похожие на высокие конусы шатров аборигенов. Единственными обитателями этих мест были буряты – именно они держали все перевалочные пункты, именно они снабжали путешественников лошадьми. Бурятские же лошади оказались настолько буйными и непокорными, что управлять ими, как выяснилось, могли только те, кто их воспитал. Ямщики с широкими монгольскими лицами сменяли один другого на облучке ее тарантаса – все они кутались в замызганные меха и у всех были одинаковые кнуты: совсем короткие палочки с приделанной к ним веревкой. Из-под колес повозки в воздух поднимались клубы серой пыли, во все стороны летели брызгами мелкие блестящие камешки. За этими тучами на краю дороги иногда мелькал одинокий всадник в остроконечной шапке с неизменным луком и колчаном, полным стрел. Ощущение было такое, будто возник этот всадник из глубины веков, и вот теперь, застыв на минуту на месте, провожает Софи взглядом из прошлого…
А в другой раз ей встретилось стадо, пастухом которого была женщина, сидевшая верхом на быке. На пастушке был наряд из бараньей шкуры, кожаные штаны, в косы она вплела множество монет и медалей, она смеялась во весь рот, полный испорченных зубов. Ямщик Софи спрыгнул на землю и принялся ударами своей никчемушной палочки отгонять стадо на обочину, чтобы освободить проезд. Поток рогатых степняков разделился надвое и двинулся мимо тарантаса, огибая его с обеих сторон. Лошадей бросило в дрожь, они испуганно ржали, козлы и бараны вторили им оглушительным блеянием.
Спустилась ночь, пришлось остановиться в селении, состоявшем из пузатых юрт. Самая большая служила почтовой станцией, но сменных лошадей здесь не оказалось. Станционный смотритель, на ломаном русском, пригласил Софи войти. Внутри она увидела всю его семью – люди сидели по-турецки вокруг разложенного на земляном полу огня. Их лица, освещенные снизу, напоминали грубо вырезанные из дерева маски. Густой дым тянулся вдоль стойки, поддерживавшей крышу, к отверстию, откуда выходил наружу. Вся обстановка состояла из двух диванов, накрытых войлочными попонами, нескольких кожаных подушек и низенького столика, на котором Софи увидела статуэтки буддийских божеств, бубен и трубы, предназначенные, очевидно, для культовых надобностей.
Ей было холодно и хотелось есть. Хозяин предложил постоялице провяленную на солнце и просоленную сырую баранину, сказав, что буряты больше ничего не едят:
– Кушай! Вкусна! Вкусна! Пробуй давай!
Софи кусок почерневшего, заскорузлого мяса, протянутый ей хозяином, показался тошнотворным, и она покачала головой в знак отказа – что ж, значит, аппетит придется подавить… Расстроенный бурят настаивал на том, чтобы для подкрепления сил она хотя бы выпила чаю, но ей сразу же вспомнился жуткий сероватого оттенка напиток с молоком, воняющий бараньим жиром, который ей довелось отведать у старого шамана на пути из Берикульского в Подельничную… Вся картина мгновенно встала у нее перед глазами с поразительной четкостью… Хозяйка наливала чай, а она грезила, грезила… Особенно ясно увиделось встревоженное лицо Никиты, когда старик Кубальдо бросил волшебный черный камень в кувшин с родниковой водой. Как Никита горячо шептал тогда: «Барыня, вам не стоит пить его воду!»… Увидятся ли они хоть когда-нибудь? Софи позарез необходимо было надеяться на эту встречу, чтобы продолжать путешествие. И вдруг она с ужасом подумала: «У него же нет подорожной! А если он решится уехать, не получив бумаг? Мне надо было заставить Никиту поклясться, что он с места не сдвинется, не попытается меня догонять, пока все не устроится. Как я могла забыть, что он подвержен порывам, склонен к риску?.. И он же знает, что даже в том случае, если он доберется до Читы, мне все равно не разрешат оставить его при себе без документов! Нет… все-таки он достаточно дерзок, чтобы предпринять побег из Иркутска! О Боже! А что я стану делать, если он действительно не попадет ни в какие ловушки и приедет ко мне, что я стану делать?! В таком случае… в таком случае, я, конечно, сделаю все, чтобы спрятать его, чтобы спасти!.. Ладно, что это я паникую? В конце концов, когда мы расставались, Никита вел себя тихо, казался покорившимся судьбе…» Софи успокоилась, настроив себя на мысль о том, что ее слуга – умный парень, уважает полицию и закон, усерден в работе. Чего еще желать?
– Барыня не пить? – озабоченно спросил станционный смотритель.
Она вздрогнула, огляделась. Оказывается, все буряты собрались вокруг нее и дружелюбно смотрят на гостью. Не желая их обидеть, Софи взяла чашку и опустошила ее, обжигаясь и остерегаясь выдать свое отвращение гримасой, потому что ее все-таки подташнивало.
Ей постелили поближе к огню. Она легла. Усталость была так велика, что веки ее сомкнулись, но она тут же открыла глаза и увидела сказочных гномов в слишком широкой для них кожаной одежде, сидящих на корточках. Буряты курили трубку. Женщины наравне с мужчинами. Все молчали. Тишина, неподвижность, пляшущие огоньки постепенно становились частицами сладкой грезы. И Софи уснула, чувствуя себя в этой бурятской юрте в куда большей безопасности, чем в своей санкт-петербургской квартире…
* * *
Застава Верхнеудинска охранялась военными так же строго, как и границы всех других значимых населенных пунктов. Никита издали увидел высокие перья на киверах и вовремя успел сделать большой крюк, чтобы не попасть в ловушку, огибая город. Он собирался как можно дольше ехать верхом по проселочным дорогам и лесным тропинкам, пока обстоятельства не вынудят его двигаться по тракту, что, конечно, на самом деле гораздо удобнее. К сожалению, лошадь, которую он получил в Кабанске от Валуева, оказалась не такой выносливой, как две ее предшественницы. Низкорослая кобылка – очень красивая, серая в яблоках – вела себя как бог на душу положит, не слушаясь и не считаясь ни с чем. Он потерял много времени, пытаясь укротить это слишком нервное, слишком хрупкое животное, которое чуть что принималось дрожать и шумно дышать, шлепая ноздрями, а на губах у нее появлялась пена. А поскольку дорога шла в гору, она все время останавливалась, и Никите приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы лошадь сделала еще хотя бы шаг вперед.
К полудню они добрались до соснового перелеска на вершине холма, откуда была хорошо видна широкая пыльная дорога, по которой ездили курьеры с почтой. Никита спешился и расседлал кобылку, бока у нее были влажными от пота. Он нарвал травы, обтер животное, выгулял его по поляне, чтобы успокоилось, только тогда можно будет вести его к ручью. Чтобы как следует отдохнуть, думал Никита, двух-трех часов лошади хватит, а там и двинемся дальше… У самого него было ощущение, что все кости ему переломали, что все мышцы онемели, а голова так и вообще отлита из свинца. Даже не слишком торопясь, он все равно себя загнал и теперь подыхает от усталости. Впрочем, это неважно, важно, что в главном все происходит как нельзя лучше, жаль только, что он не знал, как легко проехать через всю Сибирь контрабандой, а то бы последовал за Софи просто в тот же день!
Он достал из дорожного мешка кусок вяленого мяса – другой пищи буряты не признают, а Никита покупал провизию у них – и, как делает это местное население, принялся ожесточенно грызть его, отрезая кусочки ножом у самых губ. Если хорошенько прожевать, солонина из баранины теряет свой мерзкий вкус – по крайней мере Никита всю дорогу силился себя в этом убедить. Насытившись, он обтер нож, сунул его в ножны, прикрепленные к поясу, привязал лошадь к дереву и лег на спину под ним. Подстилка из сосновых иголок была мягкой, пружинистой, а затылок он примостил в углубление корня, выгнутого и ставшего похожим на изголовье. Он старался не закрывать глаза и пристально смотрел на сложное переплетение ветвей, небо за которыми казалось еще более ослепительно-голубым. «Только не спать, – говорил себе Никита. – Главное, не заснуть!» И – заснул.
Пробуждение было мгновенным – его вызвало неприятное чувство, что рядом пусто. Осмотрелся – лошади нет. Отвязалась, что ли, слишком сильно потянув поводья? Никита встревожился, вскочил, размял затекшие ноги. Без лошади он пропал! Денег на покупку другой уже не хватит, а пешком до Читы не дойдешь! «Эта тварь не могла уйти далеко! Надо найти ее поскорее!» Парня душило отчаяние, он цокал языком, свистел, звал – все напрасно: отражаясь от сосновых стволов, его призывы возвращались к нему эхом. Никита побежал по леску, стволы расступались, открывая пустынную, скучную местность. Выбежав на опушку, он заглянул в ложбину на краю ее, и тут внезапно – радость: его лошадка, целая и невредимая, щипала там траву. «Слава тебе, Господи!» – Никита мысленно поблагодарил Бога и побежал вниз, спотыкаясь о камни и перепрыгивая через корни, преграждавшие ему путь. Но когда он оказался на дне ложбины, его кобылы там уже не было! За кустарниками ему послышалось ржание. Ну, что за дурацкое животное такое, куда ее понесло! Но вроде бы ржет неподалеку… Юноша, раздвигая кусты и не обращая внимания на колючки, шел напролом, но когда добрался до цели, оказалось, что он стоит… перед двумя жандармами. Те держали за поводья своих лошадей, а Никитина кобылка стояла между ними, по-прежнему жевала траву и смотрела на всех, отгоняя хвостом слепней, самым что ни на есть простодушным, невинным и каким-то даже женственным взглядом. Сердце Никиты ухнуло в пятки, колени задрожали. Один из жандармов – почти старик, с длинными усами и бородавкой на носу – казался добрым, во всяком случае, в тусклых глазах его злобы не было. У другого, кругленького и красномордого, щеки, как у стеклодува… Оба одеты в серые шинели, у каждого ружье в чехле и сабля на боку.
– Чего тебе надо? – спросил тот, что помоложе.
– Лошадь… – пробормотал Никита.
– Она твоя, что ли?
– Да…
– А чем ты это докажешь?
Никита смутился. К сожалению, лицо его не умело лгать и выражало все обуревавшие молодого человека в эту минуту чувства. Он пробормотал:
– Ничем… Я был с лошадью в лесочке… Заснул… Она отвязалась и ушла… Ну, и я пошел ее искать… Это всё…
– Что-что ты делал в лесу?
– Спал…
– Спал в лесу! Ты путешественник, что ли?
– Ну да…
– Тогда почему не едешь по большой дороге?
– Здесь, на проселочной, спокойнее, меньше встречных – у меня лошадь пугливая…
– Точно-точно, и за проселочными надзора меньше! А документы у тебя есть? Ну-ка покажи их!
В глазах у Никиты стало темным-темно. Но ему тут же пришла в голову блестящая идея, и он сказал:
– Документы у меня остались там, наверху, в моем дорожном мешке.
– Сейчас посмотрим!
В секунду оба жандарма уже были в седле.
– А я тоже могу ехать верхом? – спросил Никита.
– Ладно, давай… Только поедешь между нами.
Никита сел верхом на неоседланную лошадь, поерзал, устраиваясь поудобнее, собрался с силами и призвал себе на помощь все спокойствие, какое только бывает – словно намеревался предстать перед Богом.
– Откуда ты вообще? – спросил старший жандарм.
– Из Томска, – наобум брякнул юноша.
– А едешь куда?
– В Погроминскую…
– Зачем же?
– Да семейные дела… Там у меня дядя, он сильно заболел… и хотел… хотел меня видеть… благословить…
Говоря, он незаметно вытащил из кармана волчьи зубы, подаренные ему Голубенко, и надел веревочное кольцо на шею лошади. Кобыла тотчас же навострила уши и задрожала, все жилы ее напряглись. Никита ударил пятками в бока лошади, шлепнул ее по холке ладонью, подталкивая вперед, и она рванула сразу галопом в таком ужасе, словно ее и впрямь преследовала целая стая волков. Жандармы, поначалу остолбеневшие от удивления, бросились в погоню, крича:
– Стой! Стой!..
Никита подумал: «Если мне не удастся оторваться от них на приличное расстояние, я пропал – они меня схватят, и тогда уж лучше смерть! Вперед, моя красавица, вперед, птица моя быстрая!» Кобылка поняла его и вложила все силы, всю свою молодую прыть в бросок с такой ловкостью, что земля засмеялась у нее под копытами. Жандармы позади сопели, пытаясь догнать беглеца, но бег их лошадей был тяжелым, неровным. Опасавшийся оглянуться, поскольку это могло замедлить продвижение вперед, Никита спиной чувствовал, что беда удаляется от него с каждым новым рывком лошади. Вместо того, чтобы подняться наверх, к леску, он взял на восток и двигался теперь параллельно тракту. Еще десять минут такой скачки – и он окажется на равнине. Один. Сзади послышался хлопок – безобидный, смешной: кто-то из жандармов выстрелил в воздух. Бессильное проклятие, пустая угроза – ему надо было разрядиться, прежде чем выйти из игры… Второй выстрел, раздавшийся сразу за первым, показался ему еще бессмысленнее и глупее предыдущего…
Опьянев от счастья, Никита потрепал лохматую гриву, желая поблагодарить свою спасительницу, но в ту же минуту ощутил, что повисает в воздухе: лошади под ним не было, она куда-то исчезла, будто ее поглотила бездна! Рухнув на всем скаку, всадник и лошадь покатились по земле. Удар оказался настолько силен, что оглушил юношу. Череп раскалывался от боли, в ушах звенело, челюсть, кажется, была вывихнута. Ему хватило секунды, чтобы осознать: кобыла ранена, ей больно – ржание звучало как стон, голова задралась к небу, в вытаращенных круглых глазах был ужас, из дырочки на бедре левой задней ноги сочилась кровь… Но и самому Никите было больно: его ногу придавил вздрагивающий круп несчастной твари… Высвободиться никак не удавалось, жандармы между тем подъезжали все ближе – молодой был уже почти рядом, старик остался далеко позади. «Все пропало!» – решил Никита, героическим усилием выпростал ногу, встал и, повинуясь инстинкту, понимая, что теперь ни малейшего шанса на спасение нет, захромал прямо перед собой. Жандарм легко нагнал его и взмахнул саблей – столь же неистово, сколь и неуклюже. Никита уклонился от удара.
– Ах ты, сукин сын! – заорал жандарм в бешенстве.
И попытался ударить пленника вторично. На этот раз клинок просвистел совсем рядом с ухом Никиты. Молодого человека охватила дикая злоба против этого красномордого усатого нахала, помешавшего его будущей встрече с Софи, он схватил на лету руку жандарма и вывернул ее с такой силой, что тот покачнулся в седле, ругнулся и выронил оружие. Потом наклонился, и Никита этим воспользовался, мигом сбросив противника с седла, будто мешок с мукой с воза. Однако, не справившись с его тяжестью, сам упал на землю. Теперь, катаясь по траве, они молотили друг друга кулаками, пытались ухватиться за шею врага, придушить его, матерились, но посмотри кто со стороны – понял бы, что страх овладел обоими. «Ах, если б мне только удалось забрать у него лошадь!» – подумал Никита, но в эту минуту жандарм вырвался, вскочил на ноги и подобрал свою саблю. Никита же вытащил нож.
– Ну-ка брось! Брось, слышишь! – завопил жандарм. – С ума сошел, что ли? Брось, тебе говорят! Ну, ты у меня посмотришь!..
И пошел в атаку, размахивая саблей – дурак дураком, красный, потный, уродливый, гримасничая, как ярмарочный скоморох… «Господи, помилуй мя грешного! – взмолился Никита. – Выбери: я или он! Помоги, Господи!» Отпрыгнув в сторону, ему удалось избежать сделанного по всем правилам фехтовальной науки медлительного выпада один раз, второй, но на третий оружие противника плашмя задело его плечо. Никита пошатнулся, сжал зубы и ткнул ножом в приблизившуюся к нему серую шинель. Все оказалось чрезвычайно просто: острие чуть дрогнувшего ножа, разорвав ткань, преодолев легкое сопротивление мышц и жира, вошло в плоть. Глаза жандарма едва не выскочили из орбит – не столько от боли, из-за шока он пока ее не чувствовал, сколько от изумления. Произошедшее не укладывалось ни в какие рамки, было недопустимо! Никита тоже так считал… Исполненный почтения к покачивающейся перед его глазами серой глыбе, юноша отступил, чтобы она не свалилась на него. А тело жандарма уже сотрясала икота, он сложился пополам и бессильно упал на траву. При падении нож, оставшийся в ране, проник глубже, и красное пятно стало растекаться по земле.
Конский галоп за спиной Никиты между тем приближался, но он не слышал ничего, бездумно глядя на зелень, окрашиваемую багрянцем. «Я убил человека, – стало первой его ясной мыслью. – Я убил человека, и он истекает кровью. Но так было надо, прости меня, Господи!» Он взглянул на лошадь убитого: «Успею ли я скрыться?» Ответом стал страшный удар по затылку: подъехавший старший жандарм владел оружием лучше товарища.
Никита потерял сознание.
8
Тарантас, поскрипывая, остановился на берегу реки, ямщик повернулся к Софи, указал кнутом на противоположный берег, на монгольском его лице обозначилась улыбка, и он произнес совсем просто:
– Чита.
Хотя Софи уже долгое время была готова к этой минуте, все-таки трудно было поверить, что путешествие заканчивается. Испытывая столько же счастья, сколько и растерянности, она вгляделась в расстилавшуюся перед ней землю обетованную. Песчаный холм, несколько деревянных халуп окружают красное здание с флагштоком на крыше. Чуть дальше золотятся медные луковки церкви. Окрестный пейзаж складывается из редкой чахлой травы, кустарников и лужиц, в которых отражается небо. На линии горизонта – опять-таки холмы, только синеватые и какие-то плоские. Они отделены один от другого расстоянием и напоминают картонные силуэты, вставленные в пазы рамки. Ямщик хотел было ехать дальше, но Софи жестом попросила погодить: ей не хотелось представать перед комендантом Читы в неприбранном виде, надо было прихорошиться. Она достала из дорожной сумки ручное зеркальце, кисточки, щеточки, флакончики и баночки. В овале зеркальца отразилось бледное усталое пропыленное лицо. Софи решила, что выглядит ужасно. Надо было причесаться, умыться – в дорожных условиях это означало протереть лицо носовым платочком, смоченным в розовой воде, отряхнуть платье и, вернув форму бутылочно-зеленой бархатной шляпке, перевязать ее золотистые ленты под подбородком, чтобы получился красивый бант. Тут ведь не только вопрос достоинства, тут еще нужно соблюдать чисто женскую стратегию! Время от времени ямщик оглядывался и смотрел на нее, раскрыв рот. Наконец, удостоверившись в зеркале, что смотрится теперь вполне прилично, Софи сказала:
– Ну, все! Поехали! Высадишь меня перед домом коменданта.
Речку надо было переходить вброд. Тарантас спустился по тропе и до ступиц погрузился в воду. На другом берегу к тарантасу подбежали мальчишки, схватили лошадей за поводья и стали тащить их из вязкой, похожей на болотную тину грязи. Колеса несколько раз оскальзывались, но, в конце концов, тарантас оказался на твердой почве. Софи поправила шляпку, съехавшую набок от сотрясений, повозка, с которой ручьями текла вода, переваливаясь с боку на бок, двинулась по единственной улице города.
Но вот ямщик, натянув вожжи, сказал лошадям «тпр-р-ру», и они замерли.
– Приехали, барыня!
За забором, посреди ухоженного сада высился выкрашенный красной краской дом, который Софи сразу же узнала: именно это здание ей удалось различить с того берега. У ворот в черно-белой будке нес караул часовой. Софи приказала вознице подождать, прошла мимо караульного, выказавшего полное безразличие к приезжей, и решительным шагом двинулась к крыльцу. О том, с кем ей предстояло сейчас познакомиться и с кем, видимо, предстояло иметь дело дальше, она знала очень немногое: что зовут его Станислав Романович Лепарский, что он генерал и что царь Николай, несмотря на то, что генералу сравнялось уже семьдесят два, еще в июле 1826 года поставил его руководить строительством новой, специально создававшейся для декабристов в Забайкалье тюрьмы и назначил главой Нерчинского комендантского управления – иными словами, комендантом читинской каторги.
В вестибюле красного дома ее встретил унтер-офицер – спросил, кто такая, и предложил подождать: его превосходительство сейчас занят. «Еще одно превосходительство», – уныло покоряясь судьбе, подумала Софи. Сколько же их, превосходительств этих, она навидалась с тех пор, как отослала первое ходатайство! Похоже, в России шагу не сделаешь, чтобы не наткнуться на очередного генерала, сидящего за заваленным бумагами письменным столом! Ей так не терпелось узнать хоть какие-то новости о своем Николя, что, пытаясь утихомирить нервы, она принялась вышагивать по вестибюлю туда-сюда, туда-сюда… Прошло несколько долгих, как часы, минут, и вновь появился унтер-офицер. Он щелкнул каблуками и распахнул перед новоприбывшей дверь.
Когда Софи вошла в кабинет Лепарского, ей почудилось, что она уже побывала тут в своей прошлой жизни и все это видела: мебель красного дерева, портрет царя на стене, стопки документов в желтых папках, малахитовая чернильница… Право, в России, существует некий стандарт, диктующий обстановку в служебном кабинете администратора высокого полета!.. Да и сам генерал, поднявшийся при ее появлении и отвесивший поклон, выглядел старым знакомым, хотя видела Софи его первый раз в жизни. Морщинистое старческое лицо с розовыми щечками, завитые кончиками вверх полуседые усы, в маленьких глазках – холод и коварство. Редкие волосы зачесаны на лоб и виски, чтобы прикрыть плешь. Зеленое сукно мундира собирается складками на груди…
– С иркутской почтой я получил известие о том, что вы скоро прибудете, мадам, – произнес генерал по-французски. – Добро пожаловать к нам, в Читу!
Он говорил почти без акцента, но немножко гундосил. У Софи мелькнула мысль: «Вот, значит, каков господин моего Николя! Вот от кого зависит наше счастье на всю жизнь, на все грядущие годы…» Стараясь подавить в себе тоску и тревогу, она поблагодарила Лепарского за милое приветствие и откликнулась на приглашение сесть.
– Думаю, вам хотелось бы поскорее узнать, как поживает ваш муж, мадам, – снова заговорил он.
– Да! Да! Как он? Я не решалась спросить, ваше превосходительство, хотя просто умираю от тревоги о нем! Как он? Здоров ли?
– Николай Михайлович чувствует себя превосходно, как нельзя лучше…
– А он знает, что я уже здесь?
– Нет еще, мадам.
– Почему? Но вы хотя бы предупредили Николя, что я давно в пути?
– И на это скажу «нет». Я не люблю дарить заключенным надежду, когда по не зависящим от нас обстоятельствам она может не оправдаться.
– Да, ваше превосходительство… Наверное, вы правы… Когда же, когда я смогу увидеть мужа?
– В среду. В этот день разрешены посещения.
Софи озадаченно посмотрела на Лепарского.
– Но сегодня же только понедельник!..
– И впрямь понедельник, мадам.
– Так впереди же еще целых два дня! А можно раньше?
– Не настаивайте, сударыня… Инструкция…
Окончательный и бесповоротный отказ глубоко опечалил Софи. Она чуть не поддалась порыву, чуть не высказала генералу в глаза все накопившиеся за это время мысли о чиновниках-бюрократах, но взяла себя в руки и припрятала уже выпущенные было коготки. Наученная горьким опытом, она знала, что в конфликтах такого рода лаской и показным смирением порой добьешься большего, чем возмущением и протестом.
– Ваше превосходительство, – шепотом начала молодая женщина, – умоляю, просто умоляю вас понять меня! Прошло три с половиной месяца с тех пор, как я оставила Санкт-Петербург! Я преодолела шесть тысяч верст только для того, чтобы увидеть мужа! Пожалуйста, ну, пожалуйста, очень вас прошу, разрешите мне не ждать эти два дня, просто уже нет сил снова откладывать радость встречи!
Пока Софи с жаром излагала свою просьбу, генерал смотрел на нее с безмятежным интересом. Наверное, привык к женским слезам, мольбам, упрекам. Наверное, ему пришлось пережить такие же вот препирательства с Екатериной Трубецкой, Марией Волконской, Александриной Муравьевой… Софи померещилось, что она опять в санкт-петербургском кабинете Бенкендорфа или перед генералом Цейдлером в Иркутске… Какой бы пост ни занимали эти генералы, в каком бы месте ни обитали, – должность в них поглощает человека. Много у них орденов на груди или мало, – все равно у всех одинаково жесткая манера держаться, у всех за приторной любезностью скрывается ледяное сердце… Они просто манекены, которыми издали управляет центральная власть!
– Сожалею, что не могу исполнить вашего желания, мадам, – сказал Лепарский. – Есть установленный порядок, и события должны следовать согласно ему. Да, вам еще необходимо подписать один документ: не тревожьтесь, это простое дополнение к правилам, с которыми вы ознакомились еще в Санкт-Петербурге…
Комендант протянул ей бумагу. Она наскоро пробежала документ глазами:
1. Обязуюсь не делать попыток увидеть моего мужа при помощи средств, не дозволенных законом, и не встречаться с ним в дни, не назначенные для этого комендантом.
2. Обязуюсь не передавать мужу ни денег, ни бумаги, ни чернил, ни карандашей без разрешения коменданта.
3. Обязуюсь не снабжать мужа никакими содержащими алкоголь напитками – ни водкой, ни вином, ни пивом.
4. Обязуюсь во время свиданий говорить с мужем только по-русски, чтобы часовой, который за нами наблюдает, мог все понимать.
5. Обязуюсь отправлять письма только при посредничестве коменданта, которому они будут предоставляться открытыми.
Не дочитав до конца, Софи в раздражении воскликнула:
– Тут какие-то мелочи!
– Да, но здесь мелочи, детали играют более значительную роль, чем общие положения… Извольте, сударыня, подписать внизу страницы…
Она повиновалась. Генерал Лепарский взял документ и, не сводя взгляда с посетительницы, положил бумагу в ящик. Софи была чрезвычайно неприятна эта уже знакомая ей манера рассматривать человека, как энтомолог рассматривает только что пойманное в сачок насекомое. Ну, и какую этикетку он для нее придумает, приколов булавкой к картону? «Живая, решительная, гордая, но можно найти уязвимые места…» Она покраснела.
– Вам приготовлена комната в крестьянском доме, – как ни в чем не бывало продолжал комендант. – Надеюсь, вы простите меня за то, что ничего лучшего предложить не могу. Один из моих людей вас проводит.
– Отлично, генерал. Но вот насчет моего свидания с мужем, я еще хотела…
– Разве я не ясно сказал: послезавтра?
Этой маленькой сухой фразой он перечеркнул все ее надежды – нет, Лепарский не сдастся, не уступит, остается с нетерпением ждать среды… Глуша в себе ярость, превозмогая печаль, Софи – глаза в пол, незачем ему видеть результаты своей победы! – вышла…
Из глубокой задумчивости ее вывела только тряска – оказалось, она уже едет в тарантасе по улице, а впереди, сбоку от лошадей идет солдат, указывая дорогу. Остановились на околице деревни перед бревенчатой избой. На пороге открытой двери стояли двое: какой-то весь замшелый крестьянин с выдубленной кожей и узловатыми руками и женщина много моложе его в красном платке – видимо, жена хозяина. Они отвесили Софи земные поклоны и представились: старика звали Порфирием Захарычем, хозяйку – Пульхерией.
Вещи быстро выгрузили, и Софи пошла посмотреть отведенную ей комнату. Она оказалась крошечной, с низким потолком, в ней всего-то и помещались, что кровать, стол и стул, но путешественнице – после многочисленных остановок в грязных и неудобных общих залах почтовых станций – комнатка показалась уютной и просто-таки сияющей чистотой. Из единственного ее окна открывался вид на овраг, заросший кустарниками, по нему протекал быстрый ручей с мутной водой, на другом берегу паслось стадо баранов с черной волнистой шерстью… Пока приезжая осматривала свое новое жилище, подошли хозяева дома: Пульхерия с Захарычем встали у притолоки и с робким обожанием взирали на удивительную иностранку, которая решилась покинуть столицу, чтобы обосноваться в их скромной избушке.
– Мне будет очень хорошо здесь! – воскликнула Софи и улыбнулась хозяевам.
Но вдруг насторожилась – за стеной кто-то перешептывался, двигался… Софи подумала было, что за ней следят, и спросила довольно резко:
– А что это еще там такое?
Захарыч согнулся вдвое и приложил руку к сердцу:
– Вас ждут, барыня, там, рядом…
– Кто ждет?
– Другие барыни.
В ту же минуту раздался осторожный стук в дверь, и мелодичный голос произнес по-французски: «Можно нам войти?». Открыв, Софи увидела перед собой трех молодых женщин, которые с доброжелательным любопытством смотрели на нее.
– Вот и вы наконец-то! – воскликнула одна из них. – Мы со вчерашнего дня ждем вас. Я – Екатерина Трубецкая, а это – Мария Волконская и Александрина Муравьева. Вы не слишком устали в дороге? Как принял вас Лепарский? Вы в чем-нибудь нуждаетесь?
Немножко растерянная оттого, что эти незнакомки держались с ней совсем как подруги, Софи отвечала на вопросы, втихомолку рассматривая гостий. Вот они какие… Княгиня Екатерина Трубецкая оказалась небольшого роста, кругленькая, с большими темно-голубыми глазами и бледным лицом. Трудно себе представить, как эта маленькая, с виду совсем не сильная женщина смогла упорством и настойчивостью сломить волю царя и проложить путь другим женам политических преступников… Стоящая рядом с ней княгиня Мария Волконская – высокая, стройная, гибкая – похожа на девочку, смущенную тем, что попала в общество взрослых людей. Нежное смуглое лицо, густые темные волосы, улыбка… а взгляд печальный… Ей же едва исполнилось двадцать лет! Ради того, чтобы отправиться в Сибирь к мужу вдвое старше себя, к мужу, которого она, говорят, и не любила вовсе, порвала с семьей и оставила совсем крошечного, еще не вышедшего из колыбели сына… А Александрина Муравьева – троих детей: сына и двух дочек! И бросилась очертя голову в Читу! Она тоже высокая, но степенная, серьезная, смотрит с достоинством… матовая кожа и черные глаза делают Александрину похожей на испанку… Софи многое знала об этих трех женщинах, как и они, конечно, многое знали о ней. Общая беда сблизила их так тесно, как не могли бы сблизить долгие годы светской жизни в Санкт-Петербурге. Спрошу-ка их, как и Лепарского, не знают ли чего о Николя!
– Не волнуйтесь, – с улыбкой ответила Мария Волконская, – у вашего мужа все в порядке, он совершенно здоров, а известие о том, что вы здесь, сильно прибавило ему бодрости духа.
– Как?! Он знает?.. – пролепетала Софи.
– Разумеется! Мы послали ему сегодня утром записочку – тайком, конечно. А когда вы увидитесь с Николаем Михайловичем?
– Только в среду. Послезавтра.
– Ну вот, этого я и опасалась, – вздохнула Екатерина Трубецкая. – Генерал снова уклонился от ответственности, ссылаясь на правила… Любитель уставов!
– Нам нельзя допускать этого! – заволновалась княгиня Волконская. – Мы должны пойти к Лепарскому все вместе, делегацией! Мы скажем ему, что он ведет себя не по-дружески, а как… как садист! Да! Отличное слово – садист!
Мария, совершенно счастливая оттого, что нашла столь удачное определение, оглядела остальных с ребяческой гордостью и торжеством.
– А что вообще за человек генерал Лепарский? – спросила Софи.
– Тюремщик! – горячо отозвалась княгиня Волконская. – Истязатель душ! Людоед!
– Скорее, ему просто хочется таким выглядеть, – поправила Екатерина Трубецкая. – Но я-то думаю, что на самом деле он старается сделать невозможное, чтобы как-то примирить суровость полученных им предписаний с симпатией, которую к нам испытывает.
– Конечно! – неожиданно легко согласилась Мария Волконская. – Если сравнить его с этим ужасным Бурнашевым… Тот – настоящий антихрист во плоти! Он начальник рудников. Наши мужья ведь раньше работали в Благодатске, и, поверьте, одиннадцать месяцев, там проведенные, были нестерпимо тягостны! Вы, может быть, не знаете, мадам, что восемь осужденных первой категории сначала были посланы туда, на свинцовые рудники, их заковали в кандалы! Подумайте только: настоящим преступникам, убийцам, лишь после вторичного преступления надевают кандалы, тогда как наши мужья были заключены в кандалах со дня своего приезда… Если бы их не перевели в Читу, никто из них, наверное, не вынес даже двух-трех лет такой жизни… Но их только что удалось перевести сюда, где и условия получше, и товарищи с менее суровым приговором рядом. Мы ведь всего две недели здесь, с ними, так что – почти как вы – новоприбывшие!
– А мой муж?
– Ваш муж все время был в Чите, – вмешалась Александрина Муравьева. – Каторгу постоянно расширяют…
От первых полученных о Николае сведений нетерпение Софи не только не уменьшилось, но возросло: находясь в двух шагах от мужа, она гораздо больше страдала от невозможности увидеться с ним, чем на расстоянии в сотни и тысячи верст. Она достигла цели, а для нее, кажется, ничего не переменилось, и единственным источником новостей по-прежнему оставались расспросы о том, что ее ждет впереди, какие еще чувства ей придется испытать. К счастью, эти три молодые женщины были такие милые, что с ними не возникало никакой напряженности. Для нее было огромным удовольствием после долгих месяцев перемещений, неудобств и усталости оказаться в обществе людей своего круга. Одеты ее новые знакомые были очень просто, и их лица с тонкими чертами не соответствовали платьям, подходящим разве что для горничных.
Захарыч принес табуретки, и женщины уселись за пустой стол.
– Как проходят свидания? – спросила Софи. – Вы приходите туда, где живут ваши мужья?
– Нет, – поспешила с ответом Мария, – Николая Михайловича приведут к вам. Под конвоем… И бестолковый часовой будет слушать все, о чем вы шепчетесь с мужем. А полчаса пройдет, – кру-у-угом! и на выход. Свидание окончено – пожалуйте обратно на каторгу!
– Как это гнусно!
– Первое время – ужасно! Но потом привыкаешь… И воспринимаешь эти короткие встречи как мгновения, проведенные в раю… Но что это мы все болтаем, болтаем, когда уже пора!
– Пора – что?
– Сюрприз! – воскликнула Александрина Муравьева. – Приглашаю вас к себе.
– Но дайте мне хотя бы умыться с дороги, переодеться! – протестовала Софи, хотя была заинтригована.
– Нет-нет-нет! После… а то опоздаем!
Они были возбуждены, лица у всех – таинственные: как будто у трех пансионерок, готовящихся к какой-то проделке. Софи удивила их ребяческая радость – как может расцвести столь доблестное простодушие в тени каторги? Наверное, инстинкт самосохранения все-таки способен преодолеть любую силу, стремящуюся удушить его! Она надела шляпку и вслед за гостьями вышла на улицу.
Когда они подошли к домику, где жила Александрина Муравьева, уже стало смеркаться. Подобрав юбки, все четверо, одна за другой, вскарабкались по длинной лестнице-стремянке на чердак. Здесь под завесой из кружевной паутины громоздились ящики, валялась всякая утварь, тряпки… Дамы осторожно пробирались между рифами к широкому окну, и прогнившие доски трещали под их легкими шагами. Мария Волконская подвела Софи к широкому чердачному окну.
– Вот! Смотрите туда, прямо перед собой! – сказала Екатерина Трубецкая.
Софи послушалась, высунулась в окно и увидела напротив высокий забор, огораживающий большое прямоугольное пространство. Вход туда был на запоре, вооруженный часовой отмеривал шаги перед караульной будкой. За изгородью выстроились в ряд деревянные строения. Неясные тени человек пятидесяти передвигались по огороженной территории.
– Это они! – прошептала Мария Волконская.
Софи изо всех сил всмотрелась, она едва дышала. Возможно ли, чтобы Николя – ее Николя! – бродил среди этих серых теней? Она пыталась разглядеть его, узнать, но как это сделаешь в сумерках, когда не видно лиц, и на таком расстоянии?
– А это не Николай Михайлович – там, в глубине двора, с тачкой?
– Может быть… не знаю… не вижу! – с отчаянием прошептала Софи. Ей казалось, что муж растворился в массе призраков, что он потерял свое лицо, свою душу, что ей никогда уже больше не найти его.
– Мне-то кажется, – сказала Екатерина Трубецкая, – что Николай Михайлович – скорее, у дверей сарая, с моим мужем!
– Господи, да что вы такое говорите, Каташа! – воскликнула Александрина Муравьева. – Николай Михайлович гораздо выше этого человека ростом! А тот, о ком вы думаете, это господин Лорер… Голову даю на отсечение!
– Ах, если бы у нас был бинокль… – вздохнула Мария Волконская.
Несколько узников, заметив в окне чердака молодых женщин, помахали им рукой.
– Ну вот и поздоровались! – обрадовалась Екатерина. – А теперь мы отойдем, а вы останьтесь в окошке одна, – сказала она Софи. – И ваш муж сразу поймет, что вы уже тут!
Троица отошла. Софи взмахнула платочком. Она посылала приветствие одному человеку, ей ответили добрых три десятка.
– Ничего не получается, – Софи бессильно опустила руку с платком. – А что они делают там, в этом дворе?
– Вот уже два дня, как они не выходят на работы и что-то чинят на территории самой тюрьмы, – отозвалась Александрина Муравьева. – Скоро их поведут на ужин…
Поскольку некоторые из заключенных продолжали размахивать руками, охранники сочли необходимым принять меры: произошло нечто вроде легкой, впрочем, беззлобной потасовки между мундирами и тюремными робами. До Софи донеслись раскаты голосов, но почти тут же все успокоилось. Раздался барабанный бой, и узники выстроились в два ряда – можно было подумать, будто перед ней двор какого-нибудь пансиона! – но тут острожники двинулись, и Софи услышала глухие звуки – словно потрясли мешок с монетами: это звенели цепи колодников. Никогда еще мысль о том, что на Николя надели кандалы, не пронизывала ее с такой ясностью и с такой остротой. Смертный холод пробрал ее до костей. Этот ужасный звон отзывался в самых глубинах ее существа, проникал в самую интимную область ее жизни, звучал как эхо ее собственного сердца. Она никогда не сможет забыть его! Хорошенько приглядевшись, Софи заметила то, на что поначалу не обратила внимания: на цепочку черных колец между щиколотками каждого из заключенных. Эти цепи отягощали шаг, и узники шли, чуть переваливаясь с боку на бок. Когда они маршировали, возвращаясь в казематы, звон усилился. Мария Волконская прикрыла ладонями уши.
– Это чудовищно! – вскричала она. – Нет, нет, я к этому не привыкну!
В горле у Софи пересохло.
– С них никогда не снимают цепей? – спросила она, с трудом выговаривая слова.
Три ее спутницы печально переглянулись.
– Никогда не снимают, – ответила за всех Александрина Муравьева. – И к вам тоже Николая Михайловича приведут в кандалах – приготовьтесь к этому потрясению, оно будет очень сильным. Что до меня, я разрыдалась, увидев мужа…
– Я тоже, – подхватила Мария Волконская. – Только я не знала, что он в кандалах, бряцание поразило меня, но там было полутемно, и я его не сразу разглядела. Сергей бросился ко мне – худой, изможденный, несчастный, и этот кошмарный звон… Я ничего не могла с собой поделать: я бросилась перед ним на колени, поцеловала его кандалы, а потом уже его самого…
– И я поступила так же, – подытожила тягостные воспоминания Екатерина Трубецкая, зябко кутаясь в черный шерстяной платок.
Позвякивание кандалов, удаляясь, таяло в сумерках. Софи вся вытянулась, стараясь отыскать своего мужа хотя бы сейчас – среди последних в череде заключенных. Она неимоверно страдала из-за того, что не было никакой уверенности, что именно с ним встретилась взглядами. Когда во дворе не осталось никого, голова у нее закружилась, ей почудилось, что груз всего долгого путешествия внезапно навалился ей на плечи, и она закрыла лицо руками.
– Вы согласитесь поужинать с нами сегодня? – нерешительно спросила Екатерина Трубецкая.
9
Когда двое солдат пришли за Никитой и поволокли его из камеры, день только занимался. Он убил жандарма и понимал, что дело его безнадежно: за такое даже и не судят, никаких обсуждений, никакого следствия – просто выносится административное решение. Вчера его приговорили к ста ударам кнутом, и он знал, что не вынесет их. Правда, полковник Прохоров, военный комендант Верхнеудинска, пообещал, что скостит число ударов наполовину, если Никита во всем чистосердечно признается, но он не хотел открывать ни своего имени, ни причины, которая привела его в Сибирь, а главное – он боялся, чтобы как-нибудь не стало известно, что он крепостной крестьянин Озарёвых, ведь тогда из-за его преступления могут отыскать и потревожить барыню. Да и вообще, раз уж ему не суждено больше встретиться с нею, зачем жить? Руки ему связали за спиной, и теперь он шел по коридору, размышляя о том, сколько счастья ему подарила Софи за время путешествия. Разве после такого высокого, такого неслыханного счастья не естественно умереть? Совершенство несет в себе привкус вечности. Для того, кто поднялся на вершину и хочет подняться еще выше, один путь – в небо. Сейчас, в одиночестве и на пороге небытия, Никита превозмог все человеческие беды. Он больше не стыдился ни своего жалкого состояния, ни своего преступного вожделения. Он перестал быть крепостным, раз ему суждено умереть – он теперь дворянин, офицер, поэт… Софи в ином, лучшем мире будет принадлежать ему так, как никогда не принадлежала бы здесь, на земле. Это шаман так решил, когда дал им испить – двоим! – своей волшебной воды. Что это была за птица, о которой он рассказывал?.. А-а-а, глухарь!.. Тетерев, удивительное существо, которого страсть вдохновляет до такой степени, что он не способен даже заметить охотника, который пришел его убить… «Потом, после все станет ясно, все будет светлым – для нее и для меня, – думал он. – Сверхъестественное и непорочное блаженство… Не для тела, но для души…»
Он чуть не пропустил ступеньку. Дневной свет ослепил его. Во внутреннем дворике он увидел шеренгу солдат: у каждого – ружье к ноге, кивер на голове. Перед строем прохаживался низенький и пузатый полковник Прохоров. Посередине свободного пространства находился поставленный вертикально щит – широкий, сбитый из досок щит, нижнюю его часть врыли в землю, в верхней же части сделали дырку побольше для головы приговоренного, а по сторонам ее еще две – для рук. Коренастый азиат с желтым, как у них у всех, лицом стоял рядом с этим пыточным устройством. Одетый в красную рубаху и черные широкие штаны с напуском над сапогами, он больше всего походил на ямщика, нарядившегося по случаю праздника. Но, наверное, это был палач. Солдаты развязали Никите руки, сорвали с него сорочку, пинками поставили на колени, заставили просунуть в отверстия на щите голову и руки, привязали кисти рук к колодкам, прибитым с обратной стороны щита. Лишенный возможности пошевелиться, с выгнутой спиной, Никита, обратив взгляд на разгорающийся восток, молил Бога взять его к себе поскорее. Он искренне сожалел о том, что убил жандарма, но не чувствовал себя виноватым – ведь совершил он преступление только во имя любви. Разве можно сравнить пожар, возникший по воле дурного человека, с пожаром от молнии? «Ты ведь понимаешь это, Господи, правда? Ты понимаешь это куда лучше тех, кто меня судит! И Ты со мной против них! Ты ведь, как и я, влюблен в Софи…» Эта странная мысль промелькнула у него в мозгу как раз тогда, когда между ним и восходящим солнцем встала черная тень. Полковник Прохоров, вертя тросточку в обтянутых перчатками руках, спросил:
– Ну, так что? Ты уже решился заговорить? Кто же ты? И откуда прибыл?
Никита не ответил. На лбу его выступили капельки пота. Чтобы отвлечься, он принялся рассматривать серое небо в розовых прожилках. Утро выдалось сухое, морозное. У солдат, похожих друг на друга, как близнецы, изо рта при дыхании вырывался пар. Глаза их, уставленные в пустоту, не выражали ничего. То, что тут происходило, солдат этих никоим образом не касалось.
– Отлично! – сказал полковник. – Можете начинать.
Палач медленно отступил шагов на десять, ухватил покрепче длинный кнут, заканчивавшийся ремешком, сделанным из полоски отвердевшей кожи, прижмурил глаза и взмахнул рукой. На мгновение, пока Никита ждал удара, ему стало страшно и тоскливо, но вот он ощутил ужасный ожог на спине, у лопаток. Края сужающегося к кончику, неровного ремня резали не хуже бритвы, вгрызались в его кожу. Никита, сцепив зубы, хрипло застонал… Три, четыре, пять… Палач наносил удары крестообразно: от правого плеча к левому боку, следующий – от левого плеча к правому… Теперь между ударами он чуть отступал, отдувался и стряхивал кнут, чтобы стекла на землю кровь. После двадцатого удара остановился и выпил водки. Спина Никиты к тому времени представляла собою одну сплошную рану и вся горела, будто по ней прошлись огненной бороной. Сердце выпрыгивало из груди, он дышал, как выброшенная на прибрежный песок рыба, во рту был привкус железа. Несчастный изо всех сил призывал к себе смерть, но что-то внутри требовало, чтобы он жил, изувеченное пыткой тело глупо сопротивлялось разрушению, несущему полную свободу. Полковник Прохоров побледнел, пухлые его щеки мелко дрожали – наверное, не мог вынести вида мучений.
– Ты заговоришь наконец, отребье? – спросил он с таким гневом, словно упрямство Никиты осложняло ему работу. – Подумай, болван: если ты заговоришь, останешься жить! Я велю тебя отвязать после пятидесяти, а не ста ударов…
«Они отвязали Христа, думая, что Он мертв… Но Его матушка, Пресвятая Богородица, в подземелье выходила Сына… Он вновь обрел дар речи… И укрылся в пустыне… И жил там до старости, до глубокой старости, в одиночестве и в молитвах…» Услышанное когда-то от шамана мешало ему сосредоточиться на словах полковника, они попросту пролетали мимо его ушей. А не поменял ли Христос взглядов, состарившись? Остался ли Он и в годах верен тому, что проповедовали от Его имени ученики? Не воспринимал ли к тому времени Евангелие как юношеское творение, требующее теперь пересмотра? Как знать, возможно ведь, что в семьдесят, в восемьдесят лет Спаситель подарил миру другое Послание, более мудрое и ведущее к истинному счастью, Послание, сближающее творение с Творцом, день с ночью, жизнь со смертью… Никто не слышал последних слов Господа нашего Иисуса Христа… Песками пустыни замело его голос, песками пустыни захоронена его тайна… Вот почему люди до сих пор такие злые… Христос, весь в морщинках, с печальным взглядом выцветших глаз, с длинной белой бородой, как у дедушки, склонился над Никитой… И тут его охватил немыслимый ужас: а вдруг это дьявол принял облик Спасителя? Никита хотел было перекреститься, но руки были накрепко прикручены к колодкам. Зубы его стучали, как в лихорадке. «Ты, который вынес столько страданий, помоги мне в этих муках! Он жил во времена Понтия Пилата… Его окружали полные ненависти евреи… Никита стал про себя читать молитву Господню: „Отче наш, иже еси на небесех…“»
– Начинай! – скомандовал полковник.
– «Да святится имя Твое…»
Сотрясение чудовищной силы прервало его молитву. Он зарычал, обдирая глотку этим звериным рыком. Теперь моменты боли чередовались с секундными передышками, рубцы ложились на спину один рядом с другим, рисуя на израненной коже квадраты и ромбы. Никита едва успевал глотнуть воздуха между двумя ударами ремня по плечам. На мгновение прозрев, он ясно увидел перед собой нечищеные сапоги солдат, подернутую ледком лужу, кучу лошадиного навоза, кирпичную стену… потом все полиняло, закружилось, смешалось, и он почувствовал смертельную тошноту. Двадцать восемь, двадцать девять… Добралась ли уже Софи до Читы… Виделась ли она с Николаем Михайловичем… Если виделась, то, конечно, счастливая, даже и не думает о нем, о Никите… Хорошо… Именно это и позволяет ему надеяться на будущее счастье: для того, чтобы она стала его после смерти, необходимо, чтобы она забыла о нем при жизни… Безумная идея словно бы углублялась в его плоть с каждым ударом кнута.
Новая передышка, дольше других. Поменяли палача. Солдат выплеснул в лицо Никите ведро воды. Он жадно глотал ее, и ему мерещилось, будто пьет из родника. К нему вернулось детство. Река… Деревня… Красный платочек мелькает в поле густой ржи… Тут пытка возобновилась – и удары посыпались с неумолимой регулярностью. Кнут свистел, кнутов стало много, много, это уже не кнуты, это летят стервятники… Они слетаются со всех концов земли и камнем падают на спину Никиты. Они рвут ее своими клювами, своими когтями… Он, попытавшись отбиться, вдруг затих, перестал их замечать… Мучения становились все более острыми, все более невыносимыми. Теперь он чувствовал не ожоги – только удары. Каждый глухо отдавался внутри, проникая до кишок, останавливая кровь в жилах, не пуская воздух в легкие.
После пятьдесят четвертого удара он потерял им счет. Думать он уже не мог – ни единой мысли не приходило в голову. Вселенная стала для него замкнутым пространством, отдаленным и враждебным – там ему нечего делать. Он потерял сознание, потом очнулся от ощущения, что холодная волна поднимается от ступней к груди и заливает сердце. Глаза его были открыты, но он уже ничего не видел. Из непроглядного мрака доносились голоса:
– Прошу вас, соблаговолите проверить…
– Он еще жив, ваше высокоблагородие. Как нам поступить?
– Продолжайте.
После восемьдесят седьмого удара палач остановился, не дожидаясь приказа. Он уже несколько минут как истязал безжизненную плоть. Солдаты отвязали тело и попытались усадить его на барабан. Но Никита ткнулся лицом в землю. Он был мертв. Подбежал врач, приподнял за волосы голову казненного, отпустил и сказал:
– Все кончено, ваше высокоблагородие.
10
В окошко камеры просачивался свет луны. Сидя на соломенном тюфяке и глядя на своих спящих товарищей, Николай думал о том, как ему повезло. После доказательства любви, которое он только что получил, нет у него больше и не будет никогда права жаловаться. Завтра утром его под конвоем поведут на свидание с Софи. Ему хотелось на весь мир прокричать о своем счастье, но необходимость уважать чужой сон мешала крику вырваться из его груди. Но как, как, как его сокамерники могут спокойно спать, когда он ждет утра словно освобождения! Озарёв вдруг понял, что страшно хочет пить. Ему станет легче, как только глотнет воды. Кувшин стоял на столе – на другом конце камеры. Николай скинул с себя одеяло, подвязал за колечко цепи к поясу, чтобы меньше гремели, и вскочил на ноги. Слава богу, звон никого не разбудил… В конце концов он стал таким же привычным, как все звуки каторги… Даже по ночам бессознательные движения спящих узников время от времени воскрешали эту музыку… В камере двадцать кроватей, и они составлены так близко, что Николаю пришлось буквально проскальзывать, повернувшись боком, между двумя рядами. От дымящейся у двери печки тянулся едкий запах сажи. Запахи накладывались один на другой, но тот, что исходил от лохани, отведенной заключенным для отправления естественных надобностей, был куда сильнее. И в этой удушающей вони срубленные усталостью арестанты видели сны о свободе…
Продвигаясь мелкими шажками вперед, Николай видел справа и слева от себя это кладбище надежд. Среди этих каторжников нет ни одного, кто был бы в прошлом человеком, обделенным судьбой. Такие все разные – князья, генералы, поэты, выходцы из знатных дворянских семей – они сведены теперь к общему знаменателю. Только взглянув на них, можно оценить, насколько преходящи все блага земные, насколько легко угодить в бездну, внезапно открывающуюся за поворотом дороги жизни… И все-таки их участь в Сибири не так ужасна. Ну, используют их по восемь часов в день на бессмысленных земляных работах, но это можно осилить. Пища, которую им дают, конечно, невкусная, отвратительная даже, зато обильная. Охранники относятся к ним почтительно. С ними не содержат ни единого уголовного преступника. Цепи, пожалуй, самое тягостное здесь, думал Озарёв, но и к ним привыкаешь, и это вполне можно перенести. Во всяком случае, ему так кажется. Из-за Софи! Его товарищи вздыхали, стонали, возвращались во сне к своим бедам, и он смотрел на них с дружелюбной жалостью, как будто был королем среди нищих.
Подойдя к столу, узник налил себе кружку воды и залпом ее выпил. В глубине помещения раздался хриплый кашель – Юрий Алмазов на прошлой неделе, работая под дождем, подхватил простуду. Кто-то громко заговорил со сна. Это Шимков, у него часто кошмары. То тут, то там луна высвечивала серебряным лучом у кого нос, у кого плечо, у кого путаницу железных цепей между синеватыми, как у покойника, лодыжками… Утолив жажду, Николай вернулся на свое место. Прекрасно: он смог убить пять минут из времени, оставшегося до встречи с женой! Целых пять минут! Всего пять минут!.. Ночь-то еле добралась до середины… Он сел на лежанку. Цепи зазвенели. Если кто-то проснется, он всегда может сказать, что разбудил его по недосмотру. Сосед справа лежит черный и неподвижный, как бревно. С этой стороны нечего ждать. Зато сосед слева, кажется, не так безнадежен: Юрий Алмазов мечется в лихорадке, вот и сейчас он в полусне откашливается.
– Ты спишь? – спросил Николай.
Ответа не последовало. Нет, так не пойдет. Он, уже более настойчиво, повторил:
– Ты спишь?
На этот раз Алмазов приподнялся на локте и проворчал:
– Чего тебе надо-то?
– Ничего, ничего… – заторопился нарочито извиняющимся тоном Озарёв. – Просто я думал, тебе не спится. Печка эта дурацкая дымит – мы вот-вот задохнемся! Надо бы сказать дежурному офицеру…
– Хорошо, скажем утром. Спокойной ночи!
– Слушай, а ты ведь завтра вполне можешь отказаться работать, поскольку у тебя сильная простуда. Лепарский прекрасно это поймет…
– Не хочу помирать со скуки, оставшись здесь, лучше уж пойду с вами.
– Так боишься одиночества?
– Боюсь. А ты?
– И я тоже, – признался Николай. – Чем больше думаю, тем яснее вижу, до чего же нам повезло, что мы все оказались в Чите. Нас ведь могли разбросать по тюрьмам всей матушки России и перемешать с уголовными преступниками! Вот тогда бы я точно с ума сошел! А здесь мы, по крайней мере, в обществе верных друзей, у нас у всех одни и те же взгляды… Свет 14 декабря живет в каждом неприкосновенным…
– Знаешь, лучше бы ты говорил только о себе! – посоветовал Юрий и повернулся к другу спиной.
Однако Николай был слишком взбудоражен, чтобы позволить собеседнику снова погрузиться в сон.
– А что? Ты разве не согласен?
– Я сплю!.. Завтра поговорим!
– Минуточку, Юрий! Это слишком важно! И надо, чтобы ты мне сказал искренне и откровенно! Если бы все начиналось сначала, ты сказал бы «нет»?
– Думаю… ну, мне кажется… зная то, что я знаю теперь… увидев результаты…
– Да я не о том! Я тебя спрашиваю: как, по-твоему, правы ли мы были, рискуя всем?
– Мы не подготовились как следует, с такой подготовкой у нас было не более одного шанса на успех из тысячи…
– Но ведь подобного шанса могли не предоставить еще целый век! И что же – нам следовало его упустить?
Юрий погрузился в молчание. Дышал он тяжело, со свистом. Они уже сотни раз обсуждали эту – что и говорить, главную для всех узников – проблему, приходя к самым разным выводам. Что ни день, они подвергали скрупулезному анализу причины своего поражения. Они исследовали восстание 14 декабря на свежую голову, прикидывая так и эдак: а если бы у них были надежные сторонники в гвардейской кавалерии, а если бы Московскому полку поручили начать штурм Зимнего дворца, а если бы у мятежников была артиллерия!.. Если бы, если бы, если бы… Строя одно предположение за другим, они праздновали победу и… выпадали из миража от кандального звона.
– Меня, как и тебя, не раз одолевали сомнения, – снова заговорил Николай. – Но нынче я убежден, что мы не могли действовать иначе. Если бы мы с тобой пальцем не шевельнули 14 декабря…
Юрий живо перебил его:
– Если бы мы с тобой пальцем не шевельнули 14 декабря, сидели бы мы с тобой сейчас в Петербурге, счастливые, всеми уважаемые, полные надежд на будущее… Мы ходили бы в театры и на балы… Мы встречались бы с красивыми женщинами…
Приступ кашля сотряс его тщедушное тело. Он согнулся вдвое.
– И нас бы терзали угрызения совести! – добавил Озарёв.
– Лучше уж совесть, чем клопы и клещи! – отозвался Алмазов.
– Лучше уж ты помолчи! Нет ничего дороже для человека, чем уважение к себе самому. Даже если мы выступили преждевременно, мы наделали много шума, и это непременно отразится на всей истории России! Нашим лучшим друзьям, тем, кто продолжит наше дело, еще только предстоит родиться!
– Каждый утешается, чем и как может… – отпарировал Юрий Алмазов. – Восхищение потомков не стоит того, чтобы жертвовать ради него ни глотком шампанского, ни женской улыбкой! Припомни-ка, Николя, как звали ту хорошенькую танцовщицу из Большого театра?.. Как же ее… А! Катя! Конечно, Катя… В «Ацисе и Галатее»…[5] помнишь? Ах, эти ее прыжки, эти летящие над сценой туфельки… А вечером – ужин с цыганами, в трактире в Красном… Где-то ты теперь, Катенька?.. Кому улыбаешься, кому глазки строишь?.. Скорее всего – какому-нибудь офицеру, который 14 декабря оказался не таким дураком, как мы с тобой, и держался в сторонке… А Нева скоро встанет… и начнутся гонки в санях по льду… И песни, песни…
Он фальшиво напел:
«Ах ты, девица красавица, Покажи-ка ножку белую! Барин, ой! Вы так не делайте — Жениху мому не нравится…»Юрий раскачивался на кровати, цепи звенели в такт мелодии. Внезапно он залился слезами, задохнулся в рыданиях и страшно разозлился:
– Скотина ты, Николай! Я был спокоен! Я спал! Какого черта ты стал морочить мне голову своими вопросами?
– Кончатся тут эти стоны? – заворчал кто-то, тяжело ворочаясь на кровати. – Если вам не спится, это не значит, что нужно будить остальных! Дайте покоя-то!
Николай свесился с постели, чтобы стать ближе к соседу, и зашептал ему в ухо:
– Прости, прости меня!.. Мне так нужно было поговорить с другом сегодня вечером! Я хотел подарить тебе чуточку своей веры… Есть такая фраза в Писании, ее при каждом удобном случае цитировал нам Степан Покровский, помнишь? «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает…»[6]
– Ну и что?
– Разве такие слова – не самая прекрасная молитва для отчаявшихся?
– Хорошо бы еще разобраться, кто праведники, а кто нечестивые…
– Разве тебе непонятно? По-моему, яснее некуда: нечестивые – те, кто насильно препятствует счастью всего человечества ради того, чтобы любой ценой оставить при себе собственные привилегии!
– Ладно. А праведники тогда – кто?
– Те, кто жертвует своим благосостоянием, своим спокойствием, своей жизнью, в конце концов, во имя высоких побуждений!
– Понятно… Хочешь сказать, такие, как ты да я?
– Конечно, Юрий!
– Тогда позволь мне заметить, что в данную минуту праведники лежат в потемках, а светильники нечестивых тысячами сияют по всей России.
– Это переменится, Юрий.
– Когда нас с тобой не будет в живых!
– Может быть, и раньше.
– Это приезд жены снова преобразил тебя в оптимиста?
– Нет, – пробормотал Николай. – Клянусь тебе, что нет, приезд Софи тут ни при чем!..
– Будет тебе лукавить!.. Да ты же себя не помнишь от счастья!.. Еще минута – и лопнешь!.. И к тому же мечтаешь, чтобы все сразу почувствовали себя счастливыми только оттого, что тебе повезло!..
Молчание длилось долго. Наконец, Озарёв сказал:
– Как по-твоему… Смогла ли она узнать меня с такого расстояния, разглядеть среди всех прочих?
– Понятия не имею, – буркнул Юрий. – Нет, не думаю…
– Но я-то ее узнал!
– Еще бы не узнал! Она одна была там, в окошке!
– Да не это я хотел сказать! Я узнал ее, потому что она осталась точно такой же, какой я ее помню! Моя жена – необыкновенное создание, Юрий!
– Разумеется, разумеется…
– Ну, прежде всего, Софи красива!.. замечательно красива!..
– Никто и не спорит. Конечно, красива.
– И к тому же – у нее такая чистая душа!.. Чистая, словно хрусталь!.. Душа, которая звенит, как струна, если ее заденешь…
– О да… да…
Голос Юрия затихал, слова перешли в невнятное бормотание.
– А тебе известно, как мы познакомились в Париже? – не унимался Николай.
Однако вопрос его повис в воздухе. Юрий уснул, свернувшись клубочком, поджав колени к животу, и Николай остался один со всеми своими нерешенными жизненными проблемами. Вокруг него слышалось только неровное хрипловатое дыхание, движение отяжелевших рук и ног, звяканье цепей, шуршание соломы… Он вытянулся на постели, закинув руки за голову, уставился в потолок и попытался представить во всех подробностях, как они завтра встретятся с Софи, и вспомнить все, что собирался ей сказать.
К четырем часам утра облака закрыли луну, и полил дождь…
* * *
– Это они, они, барыня! – кричала Пульхерия. – Быстрее, быстрее!
Софи выбежала из своей комнаты и понеслась к выходу из дома. Остановилась она только под навесом, защищавшим крыльцо. Между небом и землей повисла пелена ледяной измороси. Избы в этой сырости стали похожи на грибы с блестящими черными шляпками. С дальнего конца улицы донесся металлический перезвон: колонной по двое приближались колодники, одетые в промокшие серые робы, тулупы, изодранные солдатские шинели – каждый нес на плече лопату или заступ. Сопровождал заключенных добрый десяток солдат с ружьями. Деревенские собаки лаяли им вслед.
– Их ведут работать к Чертовой Могиле, – пояснила Пульхерия.
Ноги Софи подкосились, она с волнением напряженно вглядывалась в плывущие мимо нее бледные бородатые осунувшиеся лица, вздрагивавшие в такт шагам… Один, другой, десятый… Она искала мужа, но видела только незнакомцев. Неужто на самом деле Николая сегодня приведут к ней? Ее нервам, истомленным ожиданием, не выдержать, если их лишат этой радости, разочарование станет губительным.
Ночью она глаз не сомкнула, а на рассвете стала поспешно готовиться к встрече с Николаем. Желание понравиться мужу боролось со страхом показаться ему чересчур нарядно одетой, чересчур тщательно причесанной. Такой жеманницей… И она не хотела, чтобы Николай по контрасту еще сильнее ощутил ужас собственного положения, это было бы так жестоко! Если бы только она могла ради того, чтобы ему было с ней проще, умерить сияние глаз, свежесть кожи, блеск волос, она бы с радостью это сделала! Впрочем, так говорило в Софи сознание, а подсознательно она наслаждалась мыслью о том, что ей удастся снова обольстить, соблазнить его… На ней было серое платье с белым кружевным воротничком. Ветер растрепал ее волосы, окрасил щеки румянцем… Привстав на цыпочки, она стояла на виду у каторжников, которые, проходя мимо, на нее поглядывали – как знать, может быть, не так давно с кем-то из них она танцевала на балах в Санкт-Петербурге. Близился конец колонны. Николая как не было, так и нет! Ею овладела тоска… Но вдруг… Софи вскрикнула: кто это там, позади всех, – высокий худой мужчина, в тряпье, в цепях?.. Унтер-офицер и солдат выводят его из ряда…
– Николя!!!
Софи бросилась навстречу. Они обнялись, не обращая внимания на дождь. Другие каторжники оборачивались, смотрели на них с завистью и продолжали шлепать по грязи, по лужам: левой, правой, левой, правой, – стараясь не сбить ряды. Объятие длилось долго, Софи прижималась к груди мужа, ощупывала его, вдыхала его запах, повторяла без конца:
– Это ты! Ты! Конечно, ты! Наконец! Какое счастье!
А он не мог говорить. Слезы текли из-под его покрасневших век, губы дрожали, как в лихорадке.
– Идем, – сказала Софи.
Она взяла Николая за руку, чтобы повести за собой в избу. Он двигался медленно, тащил за собой цепи. Унтер-офицер вслед за ними вошел в комнату, солдат остался в сенях.
* * *
– Еще пять минут, ну, пожалуйста, всего лишь пять минут! – умоляла Софи.
Унтер-офицер, раздувшись от сознания собственной значимости, поразмышлял, взвесил в своей тупой, бараньей голове все «за» и «против» и произнес важно:
– Так и быть. На этот раз дозволяется.
Он прислонился к стене, достал из кармана горсть кедровых орешков и принялся задумчиво щелкать их. Софи с Николаем снова уселись на край кровати. Но, вымолив желанную отсрочку, молодая женщина не знала, что сказать. Теперь, когда она увидела своего мужа снова, когда услышала его торопливый рассказ о жизни на каторге, когда наспех сама рассказала ему о своем путешествии, она пришла в растерянность оттого, что смогла совершить задуманное, что ей все удалось. Больше не надо было преодолевать бесчисленные препятствия, больше не надо было побеждать нечеловеческую усталость! Праздная, умиротворенная, она с нежностью смотрела на Николая. Он сильно похудел, но выглядел здоровым. Должно быть, его побрили перед свиданием. Шинель на нем грязная, с обтрепанными обшлагами. А между ног, словно ручное животное, притулилась кучка цепей. Мария Волконская права: самое ужасное – это вид оков, надетых на дорогого тебе человека, как будто он злодей, убийца! Софи невольно опустила взгляд к щиколоткам мужа – желание посмотреть на кандалы вблизи оказалось сильнее нее, а он, заметив это ее движение, сказал:
– Да, поначалу удивительно… Но потом привыкаешь… Скоро ты вообще не станешь обращать на них внимания!..
Николай был исполнен спокойного мужества, и жена гордилась им, ей так хотелось верить в него. Может быть, для того, чтобы оправдаться перед собой самой, чтобы объяснить себе, зачем ее понесло сюда, в Сибирь? Чего стоят не столь уж давние сомнения, разочарования, злость по сравнению с удачей, которая сегодня выпала ей – облегчить его участь, утешить его в беде! Он нуждался в ней, чтобы выжить, – эта мысль ее опьяняла.
– А что там в Санкт-Петербурге? – вдруг спросил он.
Вопрос изумил Софи так, словно муж поинтересовался, как течет жизнь на другой планете.
– Да я так давно оттуда уехала… – пробормотала она.
– Конечно, конечно… но у тебя же должны быть какие-то новости из столицы… Что о нас думают?
– Ничего, Николя… Жизнь вошла в прежнее русло и идет своим чередом.
– Можно было это предвидеть! Но все-таки когда-нибудь необходимость дать человеку все права будет признана всеми. И тогда даже наши палачи воздадут нам должное… А знаешь, чего тут больше всего не хватает? Книг, журналов, газет… Случись во Франции революция, мы и не узнаем об этом!
Софи и не подозревала, что любовь мужа к свободе способна выстоять при таком глубоком разочаровании. Это упрямство, заставляющее его рассуждать в пустоте, думала она, уживается в нем с героизмом, слепотой, ребячеством. Странная смесь!.. Поддержав энтузиазм мужа, она все-таки колебалась, следовать ли за ним, словно что-то самое глубинное, самое женское в ней сопротивлялось политическим играм с силой, присущей лишь инстинкту самосохранения. Как человек, которому отпущено так мало лет земной жизни, может терять время на теоретические споры, когда известно, что тысячелетиями самым главным было для него совсем другое: пробуждение любви, рождение детей, болезнь, смерть дорогого его сердцу существа, голод, жажда, смена времен года, тепло тел, слившихся на постели?.. Счастья в облаках не ищут, счастья ищут здесь, на земле. В кусочке черного хлеба больше правды, чем во всех философских трактатах мира! Софи пришло в голову, что подобным приближением к жизни и, наоборот, отдалением от всяких там безумных идей она обязана именно своему долгому путешествию на край света. Николай, который долго смотрел на задумавшуюся жену, прошептал:
– О чем ты думаешь?
– Да так, ни о чем…
– А кажешься озабоченной…
– Ну, что ты… Вовсе нет… Это просто усталость… перемена мест…
Он окинул взглядом комнату и сказал:
– Надеюсь, тебе нравится в этом доме? Но хорошо бы тебе все-таки завести служанку…
– Пульхерия мне очень много помогает, – ответила Софи. – Потом найму кого-нибудь. Дай мне обосноваться как следует, осмотреться…
– Как жалко, что Никита не смог поехать с тобой!..
Она вздрогнула. Огненный ураган пронесся у нее в голове, сметая все мысли.
– Да… мне тоже жалко… Но ему очень хорошо в Иркутске.
– А может быть, в конце концов, ему удастся получить свои бумаги?
– Может быть, удастся… – эхом откликнулась она.
– Наверное, тебе стоит поговорить о нем с генералом Лепарским.
Совершенно неожиданно для себя Софи вдруг увидела полуголого Никиту, распростертого на красном полу постоялого двора в Иркутске. Растрепанные светлые волосы, гримасу боли, исказившую лицо, блуждающий сине-лиловый взгляд… услышала его прерывистое дыхание… Никита был так близок к ней, несмотря на физическое отсутствие, что ей, почти ослепленной видением, пришлось зажмуриться. Память к тому же воскресила в ней тайное вожделение, и она испугалась чувств, завладевающих ею.
– У меня есть другие, куда более важные предметы для беседы с генералом Лепарским, – сказала она поспешно.
– Ну, какие же, к примеру?
– К примеру, попросить у него разрешения видеться с тобой чаще, и чтобы свидания были подольше, и чтобы я могла снабжать тебя теплой одеждой, едой, книгами…
– Дорогая моя! – Николай задыхался от волнения, наклонившись, он принялся целовать руки жены, каждый пальчик в отдельности. – Дорогая моя! Жизнь в Чите будет так тяжела для тебя! Не знаю, как благодарить тебя! Прости! Прости, любимая! Я так тебя люблю! Я люблю тебя!..
Она уложила себе на колени его тяжелую, как пушечное ядро, голову, и позволила заполнить себя всю щемящей жалости. Желание, которое погнало ее в путешествие и томило в течение всего длинного пути, мгновенно покинуло Софи, едва она достигла цели. Рядом с Николаем оно угасло совершенно, и напрасно она старалась возродить его, разжечь, воодушевить себя на безумства – чувства ее мирно спали. Софи бездумно перебирала спутанные пряди и грезила о совсем других волосах, о другом лице, о дороге, пересекающей бесконечную равнину… Пустое ожидание прилива страсти продолжалось, и ей почудилось, будто время повернуло вспять.
На дворе было сыро и холодно. Унтер-офицер, причмокивая, щелкал орешки, но глаз не сводил с молчаливой пары, сидевшей перед ним. Прошло еще немного времени, и он заявил:
– Пошли, свидание окончено!
Софи не протестовала. Николай встал, гремя железом.
– В воскресенье мы увидимся снова! – прошептала Софи и потянулась к мужу губами.
Они поцеловались. Милосердно позволяя ему терзать ее рот жадными поцелуями, Софи оставалась совершенно спокойной. Унтер-офицер тронул арестанта за плечо, заставив того выпустить добычу.
– И куда же ты теперь? – спросила Софи.
– Туда, где все – на работу, – ответил Николай.
Софи снова стояла под навесом. Теперь она смотрела, как муж уходит от нее. С одной стороны – унтер-офицер, с другой – солдат. Он волок ноги по грязи и иногда спотыкался: цепи мешали идти нормально. Пройдет шага четыре – оборачивается, чтобы поглядеть на нее, пройдет еще четыре – и снова… Она улыбнулась, помахала ему рукой. Когда Николай скрылся из виду, на нее навалилась тоска, такая острая, что трудно стало дышать. «Что я здесь делаю?» – подумала Софи.
Перед ее глазами тянулись избы, окруженные заборами. В тумане дымила труба. Прошел крестьянин, на недоуздке он тащил за собой козу. Крестьянин поклонился Софи. Она кивнула ему в ответ и вернулась в дом.
Примечания
1
Le coquelicot (фр.) – мак-самосейка.
(обратно)2
Образ жизни (лат.).
(обратно)3
В 1310 году Баямонте Тьеполо, один из венецианских патрициев, пытается свергнуть дожа Пьетро Градениго. Результатом захлебнувшегося в крови восстания стала необходимость создания чрезвычайного судебного совета – Совета Десяти, задачей которого была защита существующих общественных устоев. Во главе его был дож, в состав входили десять членов Сената и шесть старейшин. В распоряжении этого органа имелись тайная полиция и осведомители. Он занимался расследованием дел подозреваемых жителей Венеции и рассматривал заявления (доносы) о преступлениях против государства, которые собирались через так наз. львиную пасть: то есть внутри размещенных на стенах общественных зданий барельефных изображений лица с крайне неприятным выражением. В раскрытый рот и опускались анонимные письма-доносы, которые принимались к рассмотрению только в тех случаях, если была ссылка не менее чем на двух свидетелей. (Прим. пер.).
(обратно)4
Восхитительно! В высшей степени! (фр.).
(обратно)5
«Ацис и Галатея» – балет Фридриха Гильфердинга, венского балетмейстера, прибывшего в Россию около 1760 г., чтобы привести в «лучшее нового вкуса совершенство балеты» на придворной сцене (Прим. перев.).
(обратно)6
Прит.13:9. (Прим. перев.).
(обратно)
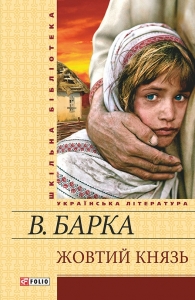
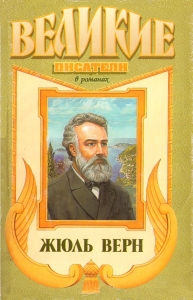
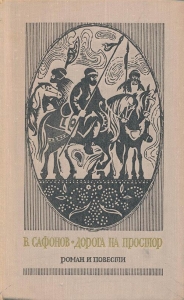

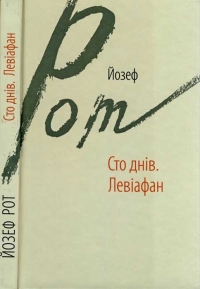

Комментарии к книге «Свет праведных. Том 1. Декабристы», Анри Труайя
Всего 0 комментариев