Ежи Анджеевский МРАК ПОКРЫВАЕТ ЗЕМЛЮ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В середине сентября тысяча четыреста восемьдесят пятого года под вечер в город Вильяреаль, что в Манче, прибыл досточтимый отец Великий инквизитор, — гласит некая старинная испанская хроника. Его сопровождала свита из двухсот с лишним конных и пеших воинов святой инквизиции, называемых фамилиарами[1] или Милицией Христа. Улицы города, — скрупулезно отмечает летописец, — опустели, попрятались торговцы-евреи со своими лотками, из трактиров и винных погребков не доносился гомон голосов, на окнах большинства домов жалюзи были опущены. Зной, нестерпимый днем, несколько ослабел, но со стороны Сьерра-Марены дул сухой и горячий южный ветер.
Как только вслед за лучниками отряд конных латников, минуя Пуэрта де Толедо, вступил в стены города, тишину нарушил глухой удар колокола собора Сан Педро, вслед за ним отозвались колокола монастыря Сан Доминго, храмов Санта Крус, Санта Мария ла Бланка и Сан Томаса. Не прошло и минуты, как заблаговестили во всех городских храмах и монастырях.
На внутренней галерее доминиканского монастыря остановились два монаха. Один в расцвете сил, коренастый, по-мужицки широкий в плечах; другой совсем юный, невысокого роста, щуплый, с загорелым почти детским лицом.
— Приехал, — сказал фра Матео.
— Матео, Матео! — воскликнул фра Дьего. — Единственно, о чем я могу просить Бога, это ниспослать ему смерть.
Матео стоял, опустив голову, и перебирал четки. Издалека, незаглушаемый близким перезвоном, доносился высокий, чистый звук небольшого колокола пригородной обители сестер кармелиток.
— Дьего, — тихо сказал он, — ты этого не говорил, а я — не слышал.
— Боишься? Ты? Разве ты думаешь иначе, чем я?
— Не всегда следует высказывать вслух свои мысли.
— Знаю.
— Ты молод и горяч.
— А ты хотел бы, чтобы я уподобился камню.
— Нет. Но ныне даже у камней есть уши и язык. Поостерегись! Падре Торквемада неспроста покинул королевский двор и приехал в Вильяреаль. Значит, тут будут твориться ужасные вещи.
— О Матео, ничего ужасней того, что я уже видел, быть не может.
— Не обольщайся, — сказал фра Матео. — Ужасно не само событие, а то, что оно за собой влечет.
— Всемогущий и милосердный Боже! В непорочности сохранил я веру свою, но сердце, Матео, мое сердце кровоточит, и совесть неспокойна. Однажды на квемадеро[2] в Севилье я видел, как сжигали на костре сто человек.
Вместе с братией пел я: «Exurge, Domine, et iudica causam Tuam»,[3] но громкое пение не могло заглушить стоны и крики умирающих. В другой раз… — говорил Дьего, поглощенный своими мыслями.
— Замолчи, Дьего. Душевные раны исцелить может только тишина.
— Для меня больше не существует тишины! Ты сказал: не всегда нужно высказывать вслух свои мысли. Что это значит? Ты не доверяешь мне? Боишься меня? Ты — мой друг и наставник!
Фра Матео поднял голову. Дьего бледный, с глазами, горящими мрачным огнем, стоял в шаге от него и весь дрожал.
— Фра Дьего, тот, у кого совесть бунтует против дозволенных беззаконий, прежде всего должен бояться самого себя, а не других.
— Самого себя?
— Знаешь, к чему тебя может привести разлад с совестью? Тебя это не пугает?
— Нет! Хватит бояться, трепетать, быть рабом страха! Я хочу действовать.
— Молись, — сказал фра Матео.
Между тем отряд Христовой милиции узкими, словно вымершими, улицами приближался к собору. Томас Торквемада — Великий инквизитор королевства Кастилии и Арагона в черной монашеской сутане ехал на белом коне в окружении свиты; несмотря на преклонный возраст, он сидел прямо в седле, глаза у него были полузакрыты.
Один из рыцарей, сопровождавших инквизитора, юный, светловолосый дон Лоренсо де Монтеса, перегнулся из седла к своему товарищу.
— Крысы попрятались по своим норам.
Дон Родриго де Кастро рассмеялся.
— Это им не поможет.
— Думаешь?
— Нет такой крысиной норы, в которую не проникла бы рука святой инквизиции. Кроме того, крысы боятся, и страх выдает их.
— А тот, кто боится, всегда виноват?
— Не знаю, меня это не касается. Я знаю только одно: кто боится — тот враг нам.
— Говорят, королю Фердинанду нужны деньги, — очень много денег.
— Война всегда обходится дорого.
— По-твоему, все марраны[4] еретики?
— Не знаю. Наверно, все. Но это нас с тобой, Лоренсо, не касается. Наше дело — выполнять приказы и не ведать страха.
— А тебе никогда не бывает страшно?
— Страшно должно быть им, а не нам.
— Святой отец, — понизив голос, сказал дон Карлос де Сегура, капитан отряда телохранителей Великого инквизитора, — мы прибыли на место.
Падре Торквемада поднял опущенные веки. Среди домов, тесно обступивших площадь Сан Педро, собор вздымался ввысь, словно не рукотворное творение, а извергнутое из недр земли некоей страшной силой, словно эти камни и барельефы внезапно застыли в форме отвесных стен. Столпившиеся под сенью собора люди казались маленькими и беззащитными. По бокам лестницы стояли доминиканцы с зажженными свечами в руках. Их темные сутаны развевались на ветру. Колыхалось и пламя свечей. А на середине лестницы в окружении служителей инквизиции и светского духовенства высокого гостя встречали оба инквизитора толедского архиепископства: каноник собора, доктор правоведения падре Альфонсо де Торрес и доминиканец фра Гаспар Монтихо. Рядом, засунув руки в рукава сутаны, стоял приор[5] монастыря Сан Доминго падре Бласко де ла Куеста.
Тем временем соборный колокол перестал звонить, вслед за ним один за другим умолкли все городские колокола, и на площади внезапно воцарилась тишина. К святому отцу подбежали два лучника, но Торквемада скупым жестом отстранил их и спешился сам.
Собравшиеся склонили головы.
— Благослови тебя Бог, досточтимый отец и милостивый господин, — сказал каноник де Торрес.
Ожидали, что Великий инквизитор благословит их, но он не сделал этого.
— Мир вам, преподобные братия, — помолчав немного, ответил Торквемада приглушенным и уже по-старчески скрипучим голосом. — Да пребудет благословение господа нашего Иисуса Христа со всеми, кто этого достоин.
— Аминь, — произнес фра Гаспар Монтихо.
Торквемада оглядел собравшихся.
— Не вижу, преподобные братия, среди вас представителей светской власти. Или они не знали о нашем приезде?
Молодой рыцарь в легком панцире миланской работы, отливавшем голубизной, выступил из толпы священнослужителей.
— Приветствую тебя, досточтимый отец, — не в меру громко сказал он. — Мой начальник, капитан королевского полка дон Хуан де Сантанхель поручил мне выразить вам глубочайшее почтение и извинить за то, что состояние здоровья не позволяет ему сделать это лично.
— Он болен? — спросил падре Торквемада.
— Да, отче.
— Телом или душой?
Вопрос не смутил молодого рыцаря.
— Я не понимаю тебя, святой отец.
— Что же тут непонятного? Разве ты не христианин и тебе неизвестно, чем разнятся недуги души от недугов тела?
Тот гордо выпрямился.
— Известно, досточтимый отец. Меня зовут Мануэль де Охеда, я христианин и принадлежу к дворянскому роду. И если я сказал: милостивый господин дон Хуан болен, я не мог иметь в виду его душу, поскольку у верного слуги короля и церкви она, по моему глубокому убеждению, не подвержена никаким недугам.
— Ты повышаешь голос, сын мой, значит ли это, что ты недостаточно уверен в своих словах?
Дон Мануэль сделал нетерпеливое движение.
— Досточтимый отец, если бы господин де Сантанхель не был болен…
— …он своим присутствием засвидетельствовал бы почтение и преданность вере и святой инквизиции. Не сомневаюсь в этом. И надеюсь, болезнь господина капитана не столь серьезна, чтобы помешать ему посетить нас завтра в резиденции святой инквизиции.
Дон Мануэль покраснел, отчего его смуглое лицо сделалось еще темней.
— Ты хочешь еще что-то сказать, сын мой? — спросил Торквемада.
Жаркий румянец покрыл лицо молодого рыцаря, заливая лоб и даже шею. На висках у него вздулись вены. Казалось, он не совладает с собой и вспылит.
Но тут послышался тихий голос фра Монтихо.
— Досточтимый отец, — сказал он, — посланец коррехидора[6] желает засвидетельствовать тебе почтение.
Дон Мануэль закусил губы и молча ретировался.
— Высокородный господин коррехидор тоже болен? — спросил Торквемада.
Судейский писарь Франсиско Дос, тщедушный и согбенный, с шеей тонкой, как у больной птицы, представ пред досточтимым отцом, лишился дара речи. Он был бледен, губы у него дрожали, в голубых глазах навыкате застыло выражение испуга.
— Слушаю тебя, сын мой, — сказал падре Торквемада.
Франсиско Дос открыл рот, словно ему не хватало воздуха.
— Дон Бласко де Силос не смог прибыть лично, досточтимый отец, — пробормотал он. — В последнюю минуту он тяжело занемог.
Сказал и умолк под взглядом Торквемады. А тот обратился к отцам-инквизиторам.
— Что ж, преподобные братия, пора во храм. Возблагодарим Господа Бога за благополучное завершение путешествия и помолимся за души еретиков и грешников, дабы Всевышний в бесконечной благодати своей помог им чистосердечно раскаяться и отречься от своих заблуждений.
— Аминь! — сказал фра Гаспар Монтихо.
— Нам кажется, досточтимый отче, в Вильяреале многие души поражены тяжким недугом, — отозвался падре де ла Куеста.
— Врачуйте их! — сказал Торквемада, поднимаясь по ступеням храма. — Чего вы ждете? Разве вы не врачеватели душ?
Он уже миновал портал, а братья-доминиканцы вступали в храм и высокими голосами пели «Magnificat»,[7] когда с площади донесся шум. Падре Торквемада приостановился, пение смолкло.
Внизу всадник на взмыленном коне, громко крича и жестикулируя, с трудом прокладывал себе дорогу в толпе. Окруженный воинами священного трибунала, он с минуту что-то говорил им, после чего один из латников соскочил с лошади и, гремя доспехами, взбежал по лестнице, ведущей в храм.
— Досточтимый отец, прибыл посланец из Сарагосы с важными вестями.
В ответ на мановение Торквемады он поднял руку и телохранители, лучники и латники тотчас расступились, давая дорогу приезжему. А тот — рослый, мускулистый мужчина, — соскочив с лошади, пошатнулся, но, удержавшись на ногах, сбросил с плеч дорожный плащ, глубоко вздохнул, неторопливым движением отер пот со лба и, тяжело ступая, как смертельно усталый человек, стал подниматься по лестнице.
Приблизясь к Великому инквизитору, он повергнулся на колени и склонил черное от пыли лицо.
— Ты прибыл из Сарагосы? — спросил Торквемада.
— Да, досточтимый отец. Три дня и три ночи не слезал я с коня.
— Кто прислал тебя?
— Священный трибунал.
— Говори.
— Досточтимый отец, свершилось страшное злодейство, взывающее об отмщении к небу! — молвил посланец и на миг умолк, переводя дух. — Убит святой отец Педро Арбуэс.
Ропот возмущения пронесся по толпе. Всем было известно, что лишь год назад, когда в Арагонском королевстве была учреждена инквизиция, каноника Педро Арбуэса д'Эпила назначили одним из двух инквизиторов Сарагосы.
— Боже, смилуйся над нами, — сказал падре де ла Куеста.
— Где совершено преступление?
— В храме, святой отец. Во время вечернего богослужения.
— Убийцы?
— Обоих схватили.
— Их имена?
— Видаль д'Урансо и Хуан д'Эспераиндео.
Торквемада наморщил лоб.
— Не знаю таких.
— Это простые люди, преподобный отец. Но оба на службе у высокородного дона Хуана де ла Абадиа.
— Значит, нити преступления тянутся так высоко?
— Досточтимый отче, его преподобие отец-инквизитор Гаспар Хуглар велел передать: гнусное злодеяние свидетельствует о существовании огромного заговора, в котором замешаны знатные особы Арагонского королевства.
— Иисусе Христе! — воскликнул падре Торквемада. — Если это правда, мне трудно поверить, что эти люди принадлежат к старинным христианским родам. Может, в их жилах течет иудейская кровь?
Посланец почтительно склонил голову.
— Твоими устами говорят простолюдины Сарагосы. Когда весть об убийстве преподобного отца Педро разнеслась по городу, народ высыпал на улицы, чтобы покарать марранов, этих проклятых фарисеев, которые хотя и приняли христианство, но сохранили свои обычаи и в душе остались верны иудейской вере. Его преосвященство архиепископ дон Альфонсо, чтобы предотвратить беспорядки, вынужден был проехать по улицам и объявить, что виновные понесут заслуженное наказание.
Падре Торквемада оглядел собравшихся.
— Слышите, преподобные братия? Слышите глас христианского люда? Да послужит вам это уроком! Тысячу грешников, босых, в санбенито[8] сгоните сюда, в собор, на покаянное аутодафе.[9] Передайте светскому суду сто, двести, а если понадобится, триста тайных и упорствующих еретиков, и пусть их сожгут на кострах, как сжигают плевелы и засохшие виноградные лозы. И народ, который сейчас попрятался по домам, выйдет на улицы. Больше того, он повергнется к ногам вашим.
Затем он обратился к коленопреклоненному посланцу:
— Мир тебе, сын мой! Ты принес нам печальную, но вместе радостную весть. Мы скорбим оттого, что преподобного дона Педро уже нет среди нас, но радуемся, ибо душе его уготовано бессмертие и вечное блаженство. Его мученическая смерть укрепит и сплотит наши ряды для борьбы с еретиками, для защиты христианской веры.
Смеркалось. На площади запылали факелы. В тишине голос Торквемады звучал особенно громко.
— Никакая сила на свете, никакое зло и козни врагов не помешают нашему делу. Но будем бдительны, братия! Нельзя спать, ибо пребывающий среди нас враг не дремлет.
— Viva el nombre de Jesus![10] — зычным голосом провозгласил падре де ла Куеста. — Viva la Virgen Santisima![11]
Посланец из Сарагосы вскочил с колен и, повернувшись лицом к площади, надсадно крикнул хриплым голосом во тылу, туда, где, дымя, горели факелы и сгрудились вооруженные воины:
— Viva la Santisima!
— Viva la Santisima! — дружно грянула в ответ толпа.
Тогда Торквемада, — высокий и прямой, — поднял сухую, старческую ладонь и, стоя перед входом в храм среди мерцающего пламени свечей, сотворил крестное знамение.
Поздней ночью — в монастыре доминиканцев давно уже отслужили вечерню — после долгого совещания с инквизиторами и советниками священного трибунала досточтимый отец Торквемада в сопровождении приора направился в келью, предназначенную для него на время пребывания в Вильяреале. Мрак, царивший под низкими сводами монастырских переходов, освещали факелы, которые несли два рыцаря Христовой Милиции.
В конце коридора падре де ла Куеста остановился и отомкнул дверь одной из келий.
— После тягот сегодняшнего дня ты заслужил отдых, преподобный отец. Да ниспошлет тебе Бог покойный сон. По свидетельству монастырских хроник в этой келье сто лет назад жил некоторое время наш брат святой Висенте Феррьер.
Торквемада, пригнув голову, вошел внутрь. Келья была маленькая и убогая. В одном углу горела масляная светильня. Под ней стояла молитвенная скамеечка. В другом — помещалось узкое ложе. Над ним висело деревянное распятие. От каменного пола и стен веяло подвальным холодом. В глубокой нише за окном распростерлось темное ночное небо, усеянное звездами.
Торквемада подошел к окну.
— Брат Висенте был несомненно святой. Но не кажется ли тебе, преподобный отец, что при всех своих христианских добродетелях он слишком большое значение придавал словам?
Падре де ла Куеста бесшумно затворил дверь кельи.
— Благочестивый Висенте был величайшим проповедником нашего ордена.
Торквемада, засунув руки в рукава сутаны, устремил взор на далекое небо за окном.
— Слова! Что значат слова, преподобный отец? Тысячью слов можно обратить в христианство тысячу еретиков. Ты говоришь, святой Винсенте был великим проповедником. Да, это так. Воистину, он обратил в нашу веру много тысяч евреев, которые спаслись от погромов. Ну, и что? А теперь дети и внуки этих самых новообращенных убивают из-за угла ревнителя веры. Почему они это делают? Потому что ненавидят святую инквизицию и лишь для вида исполняют наши обряды, а в душе как были, так и остались безбожниками. Слова — не игольное ушко, а врата, широко разверстые для всех. Как день неизбежно сменяет ночную тьму, так всяк проходит сквозь них. Воистину, отец мой, горе воителям за веру, если они будут возлагать слишком большие надежды на целительную силу слова.
— Ты полагаешь, слово не обладает действенной силой? — смиренно спросил падре де ла Куеста.
— Нет, отчего же, конечно, обладает, но только, если оно претворяется в дело. Истинность слов поверяется нашим вероучением, этой нерушимой твердью, на которой мы воздвигаем наше здание. Разве наше призвание не в том, чтобы истинность слова подтверждать делом? Поверь мне, отец мой, слова лишь тогда что-то значат, когда за ними — не далее, чем в шаге — стоит разящий меч.
— Если я правильно тебя понял, досточтимый отец, показания тайных доказчиков священному трибуналу, из коих следует, что некоторые вельможи и сановники нашего города пренебрегают догматами веры и вместо смирения и послушания выказывают гордыню, и есть те слова, за коими должен стоять разящий меч?
Торквемада отвернулся от окна. Его черные, глубоко запавшие глаза блеснули.
— Воистину, устами твоими глаголет многовековая мудрость нашего учения. Я вижу, ты постиг один из важнейших постулатов христианства.
— Ты имеешь в виду, досточтимый отец, тот постулат, согласно которому причина любого прегрешения — в отступлении от веры?
Торквемада опустил веки и промолчал. Падре де ла Куеста с напряженным вниманием воззрился на него.
— Если бы мы захотели и сумели поглубже и повнимательней присмотреться к людским грехам, — после небольшой паузы сказал Торквемада, — то с легкостью убедились бы, что породившие их причины зачастую бывают страшней самих грехов.
Торквемада поднял веки.
— Отец Бласко, — в раздумье сказал он, — скажи мне как старшему, возлюбившему тебя брату…
— Слушаю, отче.
— У истинного христианина не может быть личных желаний и устремлений, которые противоречили бы установлениям Церкви.
— Да, отче.
— Все дела наши, помыслы и чаяния принадлежат Церкви. Но именно поэтому не только не предосудительно, но, напротив, даже похвально, если христианин лелеет в душе чаяния, которые, будучи его личными и, как таковые, направленные во спасение его души, одновременно служили бы ко благу Церкви. Так вот, скажи, есть ли у тебя сокровенные желания, заветные мечты, которые ты возлюбил в сердце своем и которые были бы пределом твоих земных устремлений?
Падре де ла Куеста помолчал с минуту.
— Если говорить откровенно, как на исповеди…
— Да, именно так!
— Признаюсь, уже давно есть у меня одно заветное желание. Мне хотелось бы, — да простит мне Бог мою гордыню — когда-нибудь в будущем, разумеется, по скончании долгих лет жизни его преосвященства кардинала де Мендосы, стать архиепископом Толедо.
В келье воцарилась тишина. Падре де ла Куеста стоял, опустив голову, и тщетно ожидал ответа. Но Великий инквизитор молчал.
На небе взошла луна, и бледный отблеск ее сияния проник в келью.
— Досточтимый отец, — тихим голосом произнес настоятель, — может, мое признание разгневало тебя? Может, желание мое чересчур дерзновенно? Но я хотел бы…
— Ступай спать, отец Бласко, — сухо ответил Торквемада. — Я вижу, ты нуждаешься в отдыхе после дневных трудов.
Падре де ла Куеста побледнел.
— Боже милостивый! Или мое желание столь предосудительно? Если ты считаешь: я недостоин такой высокой чести…
— Молчи! — Торквемада сделал нетерпеливое движение. — Неужели ты настолько слеп и глух и не понимаешь, чтó отвергаешь ради суетной славы и блеска? Чего ты возжаждал? Митру возложишь на голову, жить во дворце в роскоши и богатстве, придворными окружить себя, в пышных одеждах воссесть на епископский престол. Ты, доминиканец, этого возжаждал? И это твое заветное желание? Что с тобой сталось, какими опутан ты сетями? Твой обманчивый ум ввел меня в заблуждение, и я хотел возвести тебя в самое почетное звание, выше которого нет в нашей воинствующей церкви, назначив одним из инквизиторов королевства. А ты возмечтал стать толедским архиепископом!
— Отче!
— Или ты не понимаешь, что звание инквизитора, которое сопряжено не с почестями, а с тяжкими обязанностями, во сто крат важней всех вместе взятых епископских престолов! Важней кардинальской мантии! Важней папской тиары! Ступай спать, несчастный! Я обманулся в тебе.
Падре де ла Куеста упал на колени.
— Досточтимый отец, благодарение тебе. Я прозрел и вижу теперь — гордыня затмила мне очи и ввела в соблазн, но ради нашего великого патрона святого Доминика, заклинаю тебя, не отворачивайся от меня с презрением, прости мне минутную слабость и заблуждение.
— Не прощу! — пискливым голосом вскричал Торквемада. — Ты не отрок, недавно принявший постриг. Ты приор монастыря, пастырь сотен душ. Наставник молодых. У тебя уже седина в волосах. Сколько лет ты провел в монастырских стенах?
— Тридцать лет минуло тому.
— Тридцать лет! Ты доминиканец лишь по одежде, на словах!
— Нет, отче!
— Да! Твой ум и сердце, как ни прискорбно это, не принадлежат нам. Ты чужой в этих стенах. Тебе не место здесь.
— Прости, святой отец!
Торквемада с презрением посмотрел на коленопреклоненного.
— Встань! Тебе нет прощенья! Ты изменил своему призванию, изменил духу нашего святого братства.
— Отче, наложи на меня самую тяжкую епитимью, и я смиренно ее исполню.
— Епитимью? Ее нужно заслужить! А ты не заслужил этого. Но, чтобы твое желание исполнилось, я при первой же возможности доложу о тебе их королевским величествам и порекомендую назначить епископом в Авилу. Полагаю, со временем не минует тебя и Толедо.
Падре де ла Куеста поднял голову. Лицо у него было землисто-серое, глаза ввалились.
— Отче, заклинаю тебя, не делай этого!
— Отчего же? Ведь это твое заветное желание.
— Теперь я вижу, чтó теряю…
— Надо было раньше смотреть, времени было у тебя достаточно.
— Отче, я теперь все понимаю. Понимаю: ты не можешь не презирать меня, я заслужил твое презрение. Но заклинаю тебя, не отталкивай меня! Прости!
Торквемада помолчал немного и повернулся к нему спиной.
— Ступай, — сухо сказал он своим скрипучим голосом. — Я хочу побыть один.
Он знал, что несмотря на усталость не заснет. Спокойный глубокий сон, приносящий подлинное отдохновение, в последние годы редко посещал его. Обычно он засыпал очень поздно, часто лишь под утро, а, случалось, в размышлениях и молитвах бодрствовал всю ночь, которая тянулась бесконечно долго. Но сегодня он чувствовал, что не сможет молиться.
Масляная светильня догорала, — слабый огонек елемерцал. А в небе высоко поднялась луна, и ее призрачный свет поблескивал в оконной нише.
Торквемаду пронизала дрожь. Он плотней завернулся в плащ и, встав коленями на скамеечку, припал головой к молитвенно сложенным, замерзшим рукам и стал читать «Отче наш». Но скоро осознал, что лишь машинально шевелит губами. Не было в нем того жара, который, никогда не ослабевая, в минуты горячей, самозабвенной молитвы разгорался и охватывал его вдохновенным огнем. Сейчас он ощущал внутри пустоту и холод, — ни мыслей, ни чувств не было.
Из недр ночи донесся высокий, чистый звук — это в тишине звонил колокол в кармелитском монастыре. «Боже!» — почти вслух произнес Торквемада. Еще с минуту он стоял на коленях, потом порывисто встал, словно сбросив с плеч бремя усталости, и пошел к двери.
Один из двух воинов, охранявших келью, при виде Великого инквизитора вскочил с каменной скамьи, другой, склонив голову на грудь и прислонясь к стене, спал.
— Ты — дон Родриго де Кастро? — спросил Торквемада.
— Да, святой отец.
— Знаешь, как пройти в храм?
— Знаю, святой отец.
— Тогда проводи меня. Погоди. Сперва разбуди своего товарища.
Дон Родриго наклонился над спящим и стал трясти его за плечо.
— Лоренсо!
Тот спросонья, совсем как ребенок, откинул со лба светлые волосы, но, открыв глаза, тотчас очнулся и вскочил на ноги.
— Ты почему спишь? — вполголоса спросил Торквемада.
— Прости, святой отец. Я уснул от усталости.
— От усталости? Усталость преодолевать надо и не поддаваться ей.
— Знаю, святой отец.
— Знаешь?
— Мне внушали это с детства…
— Твое лицо мне незнакомо, сын мой. Ты, наверно, недавно в отряде моих телохранителей?
— Да, святой отец, и до этого я нигде не служил.
— Как тебя зовут?
— Лоренсо де Монтеса.
— Губернатор Мурсии, дон Фернандо, твой родственник?
— Отец. Мой старший брат служит королю, а я по желанию отца — святой инквизиции.
— Это только желание твоего отца?
— И мое тоже.
— По-твоему, дон Лоренсо, ты хорошо начинаешь службу?
— Меня учили служить, не щадя сил.
— Служить надо не посильно, а сверх сил.
— Да, святой отец!
— Доложи, сын мой, завтра утром своему начальнику, что ты заснул в карауле.
— Я исполню это, святой отец.
— И пускай сеньор де Сегура назначит тебе наказание по заслугам.
— Слушаюсь, святой отец.
— Ты еще очень молод, учись преодолевать слабости.
Дон Лоренсо стоял, выпрямившись, с высоко поднятой головой, и глаза его светились горячей преданностью.
— Я буду поступать так, как ты велишь, святой отец.
— Идем, — сказал Торквемадо, обращаясь к дону Родриго.
Чтобы попасть в храм из монастыря, нужно было пройти через двор. Была ясная, холодная, безветренная ночь. От спящего города веяло покоем. Полная луна освещала небольшую часть двора, а в глубине его царил глубокий мрак, — и там на темном фоне устрашающе чернела каменная громада нефа Сан Доминго.
Миновав двор, дон Родриго спустился по ступенькам и, подняв факел, осветил в углублении стены низкую дверь.
— Возвращайся, сын мой, — сказал падре Торквемада. — Обратно я найду дорогу сам.
— Святой отец! — промолвил дон Родриго.
Торквемада остановился.
— Прости, досточтимый отец, что беспокою тебя в такой неурочный час, но меня мучает одна вещь. Сеньор Мануэль де Охеда мой старый приятель, мы знакомы с детства. Сегодня я провел с ним вечер.
— Он был один?
— С ним было несколько его друзей. Изрядно выпив, Мануэль, — да простит меня Бог, — стал поносить святую инквизицию и тебя лично, святой отец.
Торквемада молчал. Дон Родриго стоял бледный с высоко поднятым факелом.
— Он говорил также, что сеньор Сантанхель, от имени которого он приветствовал тебя, в добром здравии. И еще, они оба, хотя и принадлежат к старинным испанским родам, поддерживают дружеские отношения с людьми иудейского происхождения…
— Это все?
— Да, святой отец.
— Остальные тоже отзывались в оскорбительных выражениях о христианской вере?
— Мануэль говорил больше всех.
— А ты?
Дон Родриго опустил голову.
— Ты говорил что-нибудь?
— Нет, я молчал.
— Не хватило смелости вступиться за веру перед богохульником или ты хотел убедиться, как далеко зашло его богохульство?
— Не знаю, просто я молчал. Что мне делать теперь, святой отец?
— Ты давно в отряде моих телохранителей?
— В октябре будет год.
— Тебе известны предписания святой инквизиции на этот счет?
— Да, святой отец.
— Итак…
— Я сделаю это, — помолчав, хриплым голосом сказал дон Родриго.
Торквемада положил руку ему на плечо.
— Я знаю, что тебя мучает, сын мой. Тебе кажется, ты предаешь друга.
— О, святой отец!
— Напротив, ты помогаешь заблудшей душе его обрести спасение. А разве не предательством было бы с твоей стороны, если бы ты утаил правду и предоставил грешнику погрязать в грехах? Разве не в том наше призвание, чтобы обращать заблудших на путь истины? Вот мы и поможем сеньорам де Охеде и де Сантанхелю. Поможем благодаря тебе.
На лице дона Родриго огорчение сменилось выражением горячей признательности.
— О, святой отец, ты снял тяжкий камень у меня с души. Нужно ли скреплять показания священному трибуналу своей подписью?
Торквемада сильней оперся о его плечо.
— Подумай, дон Родриго, нуждаются ли в подписи такие слова как: дышу, хожу, ем, сплю?
— Нет. Это само собой разумеется.
— А разве не само собой разумеется, что твои показания правдивы?
— О да, святой отец! — воскликнул дон Родриго. — Правда должна восторжествовать.
— И восторжествует, — сказал Торквемада. — Да, вот еще что. Не забудь, сын мой, упомянуть в своих показаниях о том, что сеньор де Охеда одобрял убийство досточтимого Педро д'Арбуэса.
Дон Родриго заколебался.
— Отче, если память не изменяет мне, дон Мануэль не говорил ничего такого.
— Ты уверен в этом? Ведь по твоим словам, сеньор де Охеда и его начальник поддерживают дружеские отношения с лицами иудейского происхождения?
— Да, отче.
— Итак?..
Дон Родриго молчал.
— Сколько времени продолжался ваш разговор?
— Около часа.
— И ты можешь поклясться, что за все это время ни разу не упоминались события в Сарагосе? Нет? Вот видишь, значит, ты допускаешь: об этом чудовищном преступлении могла зайти речь? Припомни хорошенько, возможно, по понятным причинам сеньор де Охеда говорил не прямо, а намеками, из коих следовало, что он одобряет этот богопротивный проступок?
— Отче, может, мне изменяет память, но я в самом деле не помню…
Торквемада пристально посмотрел на него.
— Помни, дон Родриго, когда дело идет о защите веры, истинный христианин не должен останавливаться на полпути. Можешь ли ты, призвав в свидетели Бога, поклясться на кресте, что сеньор Мануэль не питает в глубине души преступной приязни к убийцам преподобного отца д'Аруэса?
— Нет, отче, не могу, — прошептал дон Родриго.
— Еще раз спрашиваю тебя: готов ли ты поклясться, что дон Мануэль не признавался открыто в этой своей преступной приязни?
— Нет, святой отец. В таких случаях нельзя полагаться на память.
— Верно, — сказал Торквемада, снова кладя руку ему на плечо. — А теперь, сын мой, иди и постарайся воскресить в памяти все, как было. Пусть она будет чиста, как твоя совесть.
Притворив дверь, Торквемада отчетливо слышал удалявшиеся шаги дона Родриго. А когда они, наконец, стихли где-то в глубине двора, он ощутил щемящее одиночество, словно оборвалась последняя нить, связующая его с жизнью.
Тут было еще холодней, чем в монастыре; в тишине, в замкнутом пространстве, темнота, казалось, заполнила собой малейшие углубления в невидимых стенах и сводах. И хотя в отдалении, перед главным алтарем, и ближе, в боковых приделах, теплились желтоватые огоньки лампадок, бледное их свечение не только не рассеивало, но как бы еще больше сгущало мрак. Подняв глаза, Торквемада постепенно начал различать контуры высоких сводов и тогда, словно эти далекие очертания были символом жизни, его покинуло чувство одиночества и потерянности. Каменные своды, безмолвие, мрак — было как раз то, что ему нужно, чего он искал; и вдруг, словно по велению свыше исполняя неотвратимое предназначение, храм огласился поначалу робкими, постепенно усиливавшимися звуками, которые, точно боевые трубы, взывали к борьбе и бдительности.
Постояв с минуту, он направился к ближнему приделу, но, не дойдя до него, замер, — вокруг, наполняя мрак и вместе с ним устремляясь ввысь, зазвучали голоса. Вот оно Царство Божие, на века объемлющее человечество, согласное в своих поступках и помыслах! Вот высшая гармония, цель, к которой устремлены упорная мысль и отважные деяния. Ко как она еще далека, как трудно достижима! Сколько препятствий надо преодолеть, сопротивление скольких мятежников сломить и подавить!
И, словно желая прикоснуться к незримым очертаниям грядущего, он протянул руки, и сразу все смолкло. Среди тишины, мертвой, как тень от камня, послышались тяжелые солдатские шаги, — это вдоль монастырской стены шел ночной караул.
— Господи, — прошептал Торквемада, — не допусти, чтобы ослабла и угасла в нас ненависть к врагам нашим.
Его шепот, должно быть, услышал монах, стоявший на коленях у входа в часовню; неподвижный и, казалось, целиком погруженный в молитву, он вдруг порывисто вскочил на ноги. Был он невысок ростом, щуплый и на вид совсем молодой.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Наконец, Торквемада приблизился к нему. Доминиканец в самом деле был очень молод, лет двадцати, не больше.
— Мир тебе, сын мой, — сказал Торквемада. — Я помешал тебе. Ведь ты молился?
Инок стоял, опустив голову.
— Я хотел молиться, — отвечал он тихим, усталым голосом.
— Весьма похвально. Ночное время особенно благоприятствует молитве. Об эту пору молитва иной раз бывает целительней сна. Все мысли свои можно тогда поверить Богу.
Инок поднял голову, — на его бледном, истомленном лице лихорадочным огнем горели черные, непомерно большие глаза.
— Я хоть и молод, но давно не ведаю покоя, о котором ты изволишь говорить, преподобный отче. Тяжкие мысли одолевают меня и прогоняют сон. В молитве чаял я обрести покой, но он не снизошел на меня.
— Может, ты плохо молился?
— Не знаю, отче. Иногда мне кажется, не молиться нужно, а высказать вслух все, что мучает и гнетет меня. Святой отец, ты намного старше меня и, должно быть, немало пережил и повидал на своем веку. Скажи, молчание может погубить душу в человеке?
— Не понимаю тебя, сын мой, — помедлив, сказал Торквемада. — Душу губит только упорствующий в смертном грехе.
— А молчание разве не может быть смертным грехом? Отче, меня порой охватывает ужас, — ведь если я не выскажу того, что терзает мою совесть и не дает мне уснуть, оно умрет во мне, как подавленный вздох, как слова, которые не в силах вымолвить коснеющий язык. Отче, я боюсь уподобиться камню.
Торквемада шагнул к нему.
— Дай мне руку, сын мой.
Рука была холодная и сухая.
— Думаешь, у меня жар? Нет, отче, у меня нет жара, я здоров.
— Да, вижу. Однако, брат…
— Меня зовут Дьего.
— Однако, брат Дьего, так может говорить человек в бреду или если совесть его обременяет тяжкий грех.
Фра Дьего вздрогнул.
— Нет, отче, грехи отягощают не мою душу. Не я повинен в произволе и насилиях, не я в ответе за страдания, людские слезы, за чинимое зло. Меня не за что ненавидеть и проклинать. Преступления и беззакония не обременяют мою совесть.
Наступило продолжительное молчание. Торквемада запахнул плащ до самого подбородка.
— Брат Дьего, хотя изъясняешься ты весьма туманно, мне кажется, устами твоими говорит непомерная гордыня.
Монах сделал нетерпеливое движение.
— Нет, отче, не гордыня это! Ты ведь не знаешь меня.
И мысли мои не ведомы тебе.
— Ты уверен в этом?
— Не знаю, отче. Может, мои мысли тебе известны, и ты знаешь, что происходит у меня в душе. Я думал: здесь нет никого, и хотел молиться. Я впервые вижу тебя и не знаю, кто ты. Но когда ты вот так стоишь передо мной, и, кроме нас двоих, здесь никого нет, мне сдается, я знаю тебя давно, с тех пор, как помню себя. Почему ты так смотришь на меня? Ты ведь убедился: я здоров, у меня нет жара. Знаешь, отче, о чем я хотел молиться? Может, ты и об этом догадываешься? Но все равно позволь мне сказать: ты поймешь меня, — у тебя лицо человека, который все понимает. Наверно, поэтому я чувствую себя в твоем присутствии так, будто давно, с первых дней жизни, знаю тебя. Я хотел просить Бога смилостивиться над теми, кто данную им власть употребляет не во благо, а во зло людям, обрекая их на страшные муки и страдания. Боже всемогущий и милосердный, иже еси на небесех, — хотел я молиться, — помилуй тех, кто попирает справедливость, злонамеренно клевещет, обвиняет в несодеянном, судит неправедным судом. Смилуйся над теми, кто в ослеплении ненавистью лишает людей покоя, сеет семена вражды и страха, понуждает ближних своих к криводушию, не обрушивай на мучителей карающую длань свою, пощади злодеев… Вот о чем вознамерился я просить Бога. Но не смог. Не сумел заставить себя — не захотел! Слова застряли в горле. Произнесенные вслух они звучат как осуждение, как проклятье, и когда я пытался молиться, каждое слово было, словно тяжелый камень. Такая молитва неугодна Богу, отче.
Торквемада застыл в неподвижности.
— Скажи, брат Дьего, — помолчав, сказал он, — кто эти люди, за которых ты хотел молиться, которые в твоем представлении повинны в таких чудовищных преступлениях?
Фра Дьего прижал к груди стиснутые руки.
— Отче! — Он рванул на себе сутану. — Эта одежда жжет меня, я задыхаюсь в ней.
— Брат Дьего!
— Она душит меня, потому что осквернена людьми, которые ее носят!
— Брат Дьего, я тоже ношу ее.
— И она тебя не душит, — никогда не душила? Скажи, тебя не мучает совесть, что люди в этих самых одеждах…
Торквемада высунул руку из-под плаща и решительным жестом отстранил от себя Дьего.
— Молчи! Ты понимаешь, несчастный, что говоришь? Знаешь, кто я?
Фра Дьего, как в полусне, посмотрел на старика блуждающим взглядом.
— Кто ты, не ведаю, но знаю тебя давно.
— Брат Дьего, — тихо, проникновенным голосом сказал тот, — я — брат Томас Торквемада.
Дьего горько усмехнулся.
— Зачем ты шутишь надо мной? Хочешь испытать меня! Но мне не ведом страх, отче! И окажись сейчас на твоем месте падре Торквемада, я не отрекусь ни от одного своего слова. Ненависть во мне сильней страха. Я ничего не боюсь, отче.
— Опомнись, брат Дьего! — зловещим полушепотом сказал Торквемада. — Ты стоишь перед Великим инквизитором.
Наступила тишина. Дьего напряженно всматривался в Торквемаду. Потом поднес руку ко лбу и ощутил пальцами холодный пот.
— Боже, — прошептал он.
И шагнул в глубь часовни, задел ногой подсвечник, стоявший сбоку алтаря. Лицо у него исказилось, губы задрожали. Вдруг, быстро нагнувшись, он схватил массивный четырехраменный подсвечник и замахнулся на Торквемаду. Но не ударил. Тяжело дыша, с перекошенным ненавистью лицом, он застыл, подняв над головой руку, обезоруженный спокойствием и молчанием старца, — тот даже не шевельнулся, не сделал ни малейшей попытки защититься. От его неподвижной фигуры исходила такая могучая, несокрушимая сила, что Дьего закрыл глаза, и рука его, все еще занесенная для удара, разжалась, — подсвечник упал и, ударяясь о каменные ступени алтаря, с грохотом покатился к ногам Торквемады. В темноте глухим стоном прокатилось эхо, и один звук, особенно громкий, многократно повторяясь, гулко отзывался откуда-то сверху, из-под самого купола, потом внезапно все смолкло и воцарилась глухая, цепенящая тишина.
Дьего открыл глаза.
— Отче, почему вы не призываете стражников? — высоким, по-юношески звонким голосом спросил он. — Поступайте, как всегда в таких случаях.
Торквемада отвернулся и, раздвинув полы плаща, опустился на колени перед алтарем.
— Сын мой, — прошептал он, — встань со мной рядом.
Дьего некоторое время стоял молча, потом стремительно повернулся к Торквемаде и опустился на колени на расстоянии вытянутой руки от него. Лампада в глубине алтаря отбрасывала на обоих коленопреклоненных мерцающий свет.
Торквемада молитвенно сложил руки.
— Повторяй, сын мой: «Отче наш, иже еси на небесех…»
Дьего поднял кверху глаза, но в темноте нельзя было различить свисавшие по бокам алтаря длинные, желтоватого цвета мантеты[12] на которых днем можно было прочесть имена и преступления осужденных священным трибуналом. Сейчас неясные очертания этих зловещих полотнищ лишь смутно рисовались в глубине алтаря.
— «Отче наш, иже еси на небесех», — повторил он высоким, звонким голосом.
— «Да святится имя Твое».
— «Да святится имя Твое».
— «Да приидет Царствие Твое».
Ком подступил к горлу Дьего, и под опущенными веками закипали слезы.
— «Да приидет Царствие Твое», — повторил он тихо, чтобы не выдать дрожи в голосе.
— «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», — совсем тихо повторил Дьего.
Он чувствовал, что не справится с охватившим его волнением и при следующих словах расплачется. Но преподобный отец перестал молиться. Припав головой к молитвенно сложенным рукам, он молчал, словно забыл о монахе, стоявшем рядом на коленях.
Вдалеке снова раздался звон бодрствующего в ночи колокола кармелитского монастыря. Торквемада поднял голову.
— Аминь! — произнес он громким, проникновенным голосом. — Брат Дьего!
— Слушаю, милостливый господин.
— Ступай к себе, сын мой. Скоро начнет светать, а завтра, я полагаю, тебя ждет тяжелый день.
— Хоть бы он стал последним! — воскликнул Дьего.
— Каждый человек хозяин и одновременно раб своей судьбы, — сказал Торквемада. — Иди в свою келью и requiescere in pace,[13] пока не получишь новых распоряжений от старшей братии.
Ночь была на исходе, когда фра Дьего проходил монастырским двором; начинало светать, и на небе, поголубевшем на востоке, гасли звезды. В воздухе висел серый предрассветный туман, и в этот последний ночной час холод был особенно пронизывающий.
В тени галереи стоял человек. Дьего приостановился, потом подошел ближе.
— Это ты, Матео?
— Я, — ответил тот. — Ты откуда идешь? Из собора?
— Да.
— Боже милостивый! Ты видел его?
— О ком ты говоришь? Я видел дьявола.
— Дьего!
— Он одолел меня на этот раз. Я молился вместе с ним.
Фра Матео схватил его за руку.
— Дьего, мой маленький Дьего! Я проснулся ночью и пошел к тебе в келью, — она была пуста. В переходе мне заступил дорогу молодой рыцарь из его стражи и спрашивает: «Вы куда, преподобный брат?» — «В собор», — отвечаю. Он дотронулся до моего плеча и сказал: «Сейчас ночь, преподобный брат, не мешайте досточтимому отцу предаваться в одиночестве размышлениям». И я ждал тебя здесь, Дьего. Очень долго ждал.
Дьего поднял голову.
— Зачем?
— Я боялся за тебя. Почему ты хочешь погубить себя? Ты молился с ним? Что это значит?
— Ничего не значит, — сказал Дьего, глядя в темноту, сгустившуюся под низкими сводами.
— Как это «ничего»?
— Сначала я хотел его убить, а потом читал с ним «Отче наш».
Фра Матео вздрогнул.
— Дьего, что ты наделал? Зачем ты добровольно отдаешься в руки врагов?
Дьего пожал плечами.
— Не знаю. А что тут, собственно, такого? Спасения все равно нет. Можно или лишиться рассудка, или добровольно пойти на смерть. Другого выхода нет.
— Есть Бог!
Дьего отнял у него руку.
— Прощай, Матео! Я устал и хочу спать. «Requiescere in pace», как сказал досточтимый отец.
— Дьего!
Тот остановился у двери в монастырские покои.
— Я любил тебя, как никого на свете, за чистую твою душу.
— Почему ты говоришь: «Любил»?
— Дьего, что бы ни случилось, умоляю тебя, сохрани незапятнанной свою совесть.
— Что это значит?
— Что?
— Совесть.
— Будь собой.
— И это все?
— Да, все!
— Все значит — ничего. Человек остается собой, делая одно и поступая прямо противоположно. А у страха есть совесть?
— Дьего, сколько бы правду ни искажали, ни преследовали, она не перестает быть правдой.
— Ах, так! — сказал Дьего. — Прощай!
Он заснул сразу и спал так крепко, что, когда очнулся под вечер в полумраке, не мог сообразить: предрассветный это час или сумерки. С минуту он лежал неподвижно, отупевший от усталости, и, прежде чем успел прогнать сонную одурь, опять заснул и во сне тотчас же с необычайной остротой и ясностью осознал, что не спит, и в келье, кроме него, находится еще кто-то. Однако глаз не открыл. Чему быть, того не миновать, — он понимал это, — но хотел продлить мгновения спасительной отрешенности и тем самым отогнать от себя еще неведомую, но неотвратимую неизбежность. «Не надо бояться», — подумал он, и страх, будто вызванный этой мыслью, заставил сильней биться его сердце, сковал холодом лоб и губы. «Нет, нет, только не это!» — вслух произнес он и открыл глаза.
Посреди кельи стоял падре Торквемада. Было темно, но ночь за окном казалась светлой, будто ее озаряло пламя огромного пожара. Дьего никогда не видел такого холодного, мертвенного сияния.
Он встал.
— Вы пришли? — без тени удивления спросил он.
И в самом деле, если он в эту минуту испытывал удивление, то лишь оттого, что нисколько не удивился.
— Как видишь, — ответил Торквемада. — Ведь я сказал тебе: каждый человек — хозяин и одновременно раб своей судьбы.
— Вы? — переспросил Дьего. — Когда?
— Не помнишь уже?
Дьего провел ладонью по лбу.
— Теперь вспомнил. И поэтому ты пришел? Ничего не понимаю. Я — это не ты. У меня своя судьба, у тебя своя.
— Ты полагаешь, сын мой? Значит, ты ошибся, говоря, что знаешь меня очень давно?
— Нет, не ошибся. Я, действительно, знаю тебя с тех пор, как помню себя.
— Ну, так как же?
— Но ты — это не я. Когда я в первый раз увидел тебя, да, теперь вспомнил — мне именно потому показалось, будто я давно тебя знаю, что ты существуешь отдельно от меня. Ты — мой антипод, мы взаимно исключаем друг друга.
— Допустим. Но если я твой антипод и мы взаимно друг друга исключаем, тогда почему же ты меня знаешь лучше, чем самого себя? Молчишь? Значит, я прав?
— О, нет! Молчание не всегда означает согласие. Я замолчал, потому что не могу отрицать, что хорошо тебя знаю.
— А себя? Себя ты знаешь лучше, чем меня? Ты все знаешь о себе?
— Кто же знает о себе все?
— Может, ты обо мне все знаешь?
Дьего поколебался.
— Да, — твердо сказал он, — о тебе я знаю все.
Сказал, и ему сразу стало ясно: его признание не достигло цели, старик пропустил его мимо ушей.
— Где же тогда разделяющая нас грань? Не плод ли она твоего воображения?
— Но воображение-то все-таки мое!
Торквемада, казалось, не заметил торжествующей нотки в голосе Дьего.
— Если обо мне, который не будучи тобой, ты знаешь больше, чем о самом себе, тогда, быть может, ты — это вовсе не ты в том смысле, в каком тебе это представляется. Может, твоей натуре свойственно как раз то, что тебе хорошо и досконально известно, а не нечто, судя по твоим словам, неясное и расплывчатое. Что значит, по-твоему, быть собой?
— Быть, — не колеблясь, ответил Дьего.
— А может, знать? Разве можно существовать, не сознавая этого, отрицая существование сознания? В чем твое предназначение: быть или мыслить?
— Понятно! — воскликнул Дьего. — Ты посягаешь на мое сознание.
Торквемада снисходительно улыбнулся.
— Напротив.
— Хочешь овладеть им.
— Придвинь-ка мне стул, сын мой, — сказал Торквемада.
Дьего исполнил его просьбу и остановился на расстоянии вытянутой руки от сидящего.
— Ты хочешь отнять у меня сознание, — повторил он.
Как человек, которому холодно, Торквемада подтянул плащ под самый подбородок. Некоторое время он молчал в раздумье.
— Бог, — наконец сказал он, — особую благодать дарует беззаветным душам. Беззаветность — редкое свойство среди людей. И ты, так щедро наделенный этим даром, тем паче должен задуматься над тем, каким силам служить будет твоя беззаветная вера.
— Значит, вера все-таки моя!
— Царству Божию или силам тьмы?
— Я иначе, чем ты, представляю себе Царство Божие.
Торквемада поднял голову и посмотрел черными, глубоко запавшими глазами на Дьего.
— Ты заблуждаешься, ибо даже самая дерзновенная мысль не в силах объять Царство Божие. Оно незримо и непостижимо. Думал ли ты когда-нибудь о том, служит ли твоя беззаветная вера Богу или направлена против него? Споспешествует ли она торжеству справедливости или злоумышляет на нее? Наша это, христианская вера, или чуждая нам по духу, еретическая, враждебная? Беззаветность, как и все в человеке, не существует сама по себе, отдельно от суетных дел мирских; она может обратить свою могущественную силу как на добро, так и на зло, служить правде или ниспровергать ее. Ты христианин?
— Не будь я христианином, меня не мучила бы так вина моих братьев.
— Ты сын церкви?
— Отче, если бы церковь громко и невозбранно заговорила устами праведников, по всему миру пронесся бы страшный крик отчаяния, — нет, что я говорю! — не отчаяния, а крик гнева сотряс бы землю. Боже, что сотворили вы с учением Христа? О какой справедливости можно говорить, если проповедники ее насаждают насилие, произвол и обман. Любовь всемогуща, — учил Иисус Христос, — она может горы сдвинуть…
— Горы! Горы! — проскрипел старческий голос. — Ты, сын мой, поверхностно судишь об учении Христа. И не постиг еще всей глубины его. Что ведаешь ты о путях, коими следует вести человечество к спасению? Что знаешь ты о неустанном, веками длящемся созидании Царства Божия на земле? Ты, чей жалкий жизненный опыт подобен горстке праха? Что видел ты, что пережил?
— Я много видел, святой отец. Видел, как ужасно истязают людей, каким унижениям подвергают их…
— А что знаешь ты о претворении заветов Христа в жизнь? О неисповедимых путях воплощения слова в дело? А обличье зла и его размеры тебе известны? Ты не представляешь себе, к каким крайним мерам вынуждена порой прибегать власть. А человек? Что знаешь ты о человеческой натуре?
— Я ведь тоже человек.
— Какой?
— Как все.
— Еретики и язычники тоже имеют человеческое обличье. Признаешь ли ты учение церкви высшей истиной и что иной нет и быть не может?
— Отче, я не отступник.
— А истина разве не благо?
— Наивысшее благо, святой отец.
— Если истина — благо, тогда что означает искажение ее? Не есть ли это зло? И не следует ли уничтожать и искоренять его. Допустимо ли, чтобы оно множилось? Нет, сын мой, исповедовать истину недостаточно, ее надо защищать от явных и тайных врагов. Истину надо утверждать вседневно и всечасно.
«Откуда этот свет?» — снова подумал Дьего и спросил в некоторой растерянности:
— Отче, а если мы защищаем истину недостойными средствами, не может ли зло проникнуть в самую сердцевину истины?
— Что называешь ты недостойными средствами? Применение силы? Меч справедливости? Подумай, что сталось бы с истиной, если бы она была беззащитна, если бы на страже ее не стоял закон, требующий беспрекословного повиновения? Нет, ты не знаешь, что такое человеческая натура.
— Я знаю одно: мучения и страдания людей превосходят их вину, а часто они страдают безвинно.
— Мне тоже это известно.
— Тебе?
— Святая инквизиция установлена на земле Богом, и ей известно, что на ней происходит. Но кто осмелится утверждать, будто пришествие Царства Божия возможно без жертв, страданий и ошибок? Человек, сын мой, слаб, порочен и несовершенен. Он легко поддается соблазнам, и врожденные склонности его часто превышают хорошие задатки. Увы, чувствам и мыслям людей доверять нельзя, на них нельзя положиться. Как дым, гонимый ветром, меняет направление, так самые благие намерения могут обратиться в свою противоположность. Человеческая мысль сегодня способна пресмыкаться, а завтра жалить.
— Отче, неужели зло так всесильно и повсеместно?
— Опасность зла, сын мой, отнюдь не в его силе. Благодаря церкви оно у самых истоков своих ослаблено и раздираемо противоречиями. Преступления взаимно уничтожают друг друга, грехи и пороки, враждуя между собой, обречены на гибель, ересь, отколовшаяся от истинного учения, тоже агонизирует. Нет, зло не всесильно и не непобедимо! Это человек слаб, из-за его порочности, несовершенства и неразумия зло возрождается вновь и вновь, и чем большую силу обретает истинное учение, тем все более неожиданную, замаскированную форму оно принимает. Чего достиг бы человек, предоставленный самому себе? Его сознание еще не готово воспринять Царство Божие. Но значит ли это, что час избавления для человечества не наступит? Нет, не значит! Людей надо спасать насильно, вопреки их желанию. Понадобятся долгие годы, чтобы перестроить сознание людей, очистить его от скверны, вытравить из него все то, что отдаляет пришествие Царства Христова. Людьми надо руководить и управлять, понимаешь, сын мой? Управлять! Это наша обязанность. Сей тяжкий труд возложен на нас, на святую инквизицию. Бог поставил нас в первых рядах своего воинства. Мы — разум и меч истины, ибо мысль и деяние едины.
— Люди страдают, — тихо сказал Дьего.
— Знаю. Но именно мы и никто другой хотим избавить их от страданий. Хотим, чтобы несправедливость и страдание вообще исчезли.
— Когда это будет?
— Когда? — спрашиваешь ты. — Может, через сто, через двести, а может, через тысячу лет. Мудрости должно сопутствовать терпение. Пройдет много времени, прежде чем человечество без неизбежного сейчас принуждения добровольно и сознательно в едином порыве устремится к общей цели — к избавлению, и тогда, озаренное светом вечной истины, оно пребудет в веках.
Дьего закрыл руками лицо.
— Отче, у меня мутится в голове. Мне кажется, ты столкнул меня в страшную бездну.
— Мы боремся во мраке ее, чтобы вывести человечество к свету.
— Что тебе, отче, сказать на это? Я люблю людей сегодня, сейчас.
— Hie et nunc?[14] Это похвально. Любви сопутствует жалость, а эта последняя неизбежно порождает презрение.
Дьего сделал нетерпеливое движение.
— Нет!
— Если ты не будешь любить людей сейчас, ты не сможешь презирать их в будущем.
— Я не хочу презирать людей!
— А ты способен любить порочные и безобразные существа? Погрязших в преступлениях, вероломных и лицемерных?
— Я могу понять их. Могу им помочь.
— Не зло, а добро нуждается в помощи. А любовь, что она может? Не смущает ли она душу? Не затмевает ли разум, взывая к жалости, когда нужна беспощадная жестокость? От любви, как тень, неотступна слабость.
— Нет! — вскричал Дьего. — Любовь — это сила.
— Любовь — признак слабости. Она не только не укрепляет в нас ненависти ко злу, но, напротив, благодаря состраданию, которое признает и оправдывает человеческие пороки, в конце концов понуждает примириться со злом. Нет, сын мой, воинствующая истина исключает любовь. Возлюбив истину, нельзя сострадать тому, что препятствует ее торжеству. Пред лицом истины нет невиновных. Вне подозрений не может быть никто. Зло может угнездиться в каждом человеке, и, не пресеченное вовремя, оно укореняется, разъедает душу, и тогда лишь шаг отделяет человека от грани, за которой он из одолеваемого сомнениями становится опасным врагом, носителем преступных еретических взглядов. Любой грех — прежде всего грех против истины. Что может любовь пред лицом вселенского греха? Что может любящая душа, если боль и жалость истерзали ее?
— А презрение?
— Лишь презрение к слабости и пороку позволяет судить и выносить приговор, лишь оно учит, как преодолевать слабости и искоренять пороки.
— Вы хотите совсем изгнать любовь? Боже правый, вы и так лишили людей достоинства, мужества, чистосердечия, свободы…
— Почему ты говоришь «вы»? Ведь ты стремишься к тому же, что и мы, но пока еще не обрел нас в душе.
— Вы ненавидите любовь.
— Ты глубоко заблуждаешься. Кто возлюбил истину и служению ей посвятил свою жизнь, для того любовь — чувство всеобъемлющее и в совершенстве своем — высшее, неземное.
— Неземное?
— Торжествующая любовь, как звезда над нами, как свет в ночи. Она не дает нам сбиться с правильного пути. Но разве может поспешающий к цели голой рукой ухватить звезду или пламя факела? Их жар ослепил бы его, обратил в пепел. Поэтому мы довольствуемся только отсветом любви.
— Отсветом?
— А это презрение. Любовь воистину позволяет видеть и постигать великие цели, предначертанные провидением, но не благодаря ей, а благодаря безграничному презрению мы можем достигнуть их.
— Отче, нить твоей мысли ускользает от меня. Ты говоришь: презрение. А что такое презрение?
— Земная длань любви. Подумай, какой несокрушимой силой должна обладать она, какой беззаветностью и отвагой, если ей предстоит возделывать души людские, подобно плугу, который рыхлит, очищает землю от плевел, подготовляя ее для сева и грядущего урожая.
— Ты все время говоришь о будущем. О пришествии Царства Божия.
— Ради него мы живем.
— Но человеку дана только одна жизнь.
— Одна — земная, другая — вечная. Но именно неповторимость жизни обязывает человека прожить ее так, чтобы его поступки не бросили тень на поколение, грядущее ему на смену. Почему одна паршивая овца должна портить все стадо? Почему грехи и пороки одного тяжким бременем должны ложиться на плечи остальных?
Дьего молчал. Ему почудилось, будто издалека, откуда-то из глуби мертвенно-холодного сияния доносится колокольный звон. Он прислушался. Но было тихо.
— Отче, зачем ты все это говоришь мне? — вполголоса спросил он. — Разве моя судьба не предрешена?
Торквемада встал и выпрямился.
— Да, ты прав, — по-молодому звонко сказал он. — Приговор тебе уже вынесен.
Дьего опустил голову и подумал: «Только не надо бояться».
— Ты сам себе вынес приговор, — сказал Торквемада.
— Я?
— Ты беззаветен и смел.
— Я?
— Да! И потому ты наш. Молчи, говорить будешь потом. Мы своего никогда не упускаем. Думаешь, я не знаю, что вокруг священных трибуналов крутятся, даже проникают в них жалкие людишки, недостойные и трусливые, которыми движет жажда мелкой мести и наживы?
— Знаешь и миришься с этим?
— К сожалению, до поры до времени приходится прибегать к их услугам, больше того, пока они служат нашим целям, снисходительно относиться к их слабостям. Может, ты думаешь, сын мой, я не догадываюсь, что истинная причина благорасположения к святой инквизиции высших сановников королевства не столько в приверженности нашему великому делу и великим целям, сколько в материальной выгоде, которая способствует укреплению светской власти? Да, мы щедро раздаем земельные угодья, оделяем деньгами, но как бы ныне и впредь ни росло их могущество, им никогда не сравняться с нами, — придет время, и мы всецело овладеем умами людей, и тогда никакая сила на свете не сможет нам противостоять. Мы должны быть последовательны в своих действиях и едины, понимаешь, сын мой? И поэтому у кормила власти должны стоять люди тверже стали, самоотверженные и бдительные, отважные и безгранично преданные. И ты будешь одним из них. Знаю, ты не подведешь, и полагаюсь на тебя, как на самого себя. Ты принадлежишь к редкой породе людей, от рождения наделенных стремлением к истине. Это в тебе, как кровь, как дыхание, как биение сердца. Ты искал, заблуждался, но если это стремление живет в тебе, как же ты можешь от него отречься? Или ты хочешь броситься в пропасть?
— Истина, о которой ты толкуешь, подобна пропасти. Почему, отче?
Торквемада молчал.
— Отче!
— Сын мой, ты можешь не разбираться во многих запутанных явлениях жизни, но одно ты должен знать со всей твердостью, на какую ты способен, и даже с еще большей, ибо беспрекословное повиновение должно овладеть всеми помыслами и поступками человека, который борется за торжество истины. Верный сын церкви без колебаний и сомнений, не задаваясь никакими вопросами, должен подчиняться основополагающим догматам веры и с безграничным доверием относиться к вышестоящим.
— Даже не разумея?
— Когда истина безраздельно овладеет твоими мыслями, поступками и стремлениями, вы станете единым целым, и тогда многое станет тебе понятно.
— Отче, ты снова говоришь о будущем.
— А что такое сегодняшний день без грядущего? Ведь от тебя зависит приблизить его.
— И что тогда?
— Грядущее время подобно горе, сын мой. Ты или взбираешься на вершину, или скатываешься в пропасть.
— А когда будет достигнута вершина?
— Не знаю, — после долгой паузы ответил Торквемада. — Этого человеку знать не дано.
Дьего закрыл руками лицо. Кровь горячей волной приливала к щекам и вискам, а руки по-прежнему были ледяными. Внутри себя он тоже ощущал пронзительный холод.
— Отче, чего ты от меня хочешь? Что я должен сделать?
— Знаешь разницу между человеком смелым и трусливым?
Дьего отступил на шаг.
— Знаешь?
— Знаю, — тихо ответил он. — Но это не мои мысли.
Их внушил мне ты, отче.
— Снова делаешь неверное разграничение между собой и мной, а по сути это лишь понятия, выражающие истину. Ты все еще боишься самого себя? Неужели тебе не понятно, что смелый человек повинуется по доброй воле, а трус из страха?
«Не надо только бояться», — подумал Дьего и вслух сказал:
— Люди не должны бояться.
— Напротив! — воскликнул Торквемада. — Человек — жалкое существо, он должен постоянно испытывать страх, это необходимо. Желая заклеймить зло, мы неустанно должны выявлять и обнажать его, чтобы, представ во всей своей неприглядности, оно вызывало отвращение и прежде всего страх. Это непременный закон власти! Если настанет день, когда не окажется виновных, мы должны изобрести их, ибо они нам нужны для того, чтобы порок неустанно и ежечасно разоблачался публично и карался. Истина, пока не победит и не восторжествует окончательно, не может существовать без своей противоположности — лжи. За исключением горстки людей, преданных нам по доброй воле, страх должен стать всеобщим. Им должна быть проникнута вся жизнь, вплоть до глубочайших ее тайников, чтобы человек не мыслил существования без страха — вот непременное условие нашей власти. Жена да не доверяет мужу, родители да убоятся детей своих, жених — невесты, начальники — подчиненных и все вместе взятые — вездесущей и всеведущей, справедливо карающей инквизиции. Власть всегда основана на страхе, понимаешь, сын мой?
Холодный свет луны заливал келью, и в этом призрачном сиянии черный силуэт Великого инквизитора, казалось, стал вдруг увеличиваться и расти. Дьего, ослепленный мертвенным светом, заслонил рукой глаза.
— Отче! — в отчаянии вскричал он. — Царство страха не есть ли царство дьявола?
Услышав собственный голос, подобный эху, он начал падать в пропасть.
Проснулся он в холодном поту, с сердцем, пульсирующим в горле. В келье царил вечерний сумрак, только в глубине ее горела масляная светильня. А подле его ложа, спрятав руки в рукава сутаны, стоял падре де ла Куеста.
Фра Дьего поспешно вскочил, и хотя едва держался на ногах, повинуясь привычке, поклонился, скрестив на груди руки.
— Мир тебе, брат Дьего, — вполголоса сказал настоятель. — Я принес тебе радостную весть.
Издалека, из кармелитского монастыря донесся колокольный звон. Дьего не решался поднять голову.
— Ты, наверно, даже не подозреваешь, — падре де ла Куеста возвысил голос, — какое огромное счастье выпало тебе…
— Отче, — прошептал Дьего.
— Высокочтимый отец Великий инквизитор, — помолчав немного, продолжал падре де ла Куеста, — поручил мне как твоему начальнику возвестить тебе, что ты назначаешься на должность личного секретаря при особе его преподобия.
Дьего стоял, не двигаясь и ни о чем не думая. Лоб его покрывал холодный пот, сердце по-прежнему пульсировало в горле.
— Тебя ожидает великая будущность, сын мой, — сказал падре де ла Куеста.
Фра Дьего только сейчас осмелился взглянуть на приора. Тот стоял в нескольких шагах от него и благосклонно улыбался, а в глазах его читалась ненависть.
Внезапно Дьего овладело спокойствие.
«Боже, — подумал он, — какое жалкое существо человек!»
ГЛАВА ВТОРАЯ
Как гласит старинная хроника, Великий инквизитор, падре Томас Торквемада, покинув Вильяреаль, направился в Толедо, откуда в сопровождении более многочисленного отряда фамилиаров поспешил в Арагонское королевство, в Сарагосу. Там он провел неделю, руководя лично следствием по делу заговорщиков, от руки которых погиб Падре д'Арбуэс, и, преуспев в этом деле, не мешкая, кратчайшим путем двинулся в Вальядолид,[15] поскольку ожидалось, что их королевские величества — король Фердинанд и благочестивая королева Изабелла — в конце сентября покинут военный лагерь под Малагой и прибудут в столицу.
Теперь, когда фра Дьего приступил к исполнению почетных обязанностей секретаря Великого инквизитора, он много времени проводил в обществе своего принципала, присутствуя на всех, даже самых секретных, совещаниях с участием ближайших сподвижников Торквемады, коими являлись советники: доктора правоведения дон Хуан Гутьеррес де Чабес и дон Тристан де Медина. Оказавшись в самом центре важных государственных и церковных дел, фра Дьего вскоре убедился, что лишь из-за своей неосведомленности и уединенного образа жизни полагал, будто святая инквизиция попирает справедливость. Прошло немного времени, и ему, несведущему в сложном сплетенье мирских дел, стало ясно: здесь царит не зловещий произвол, — напротив, святая инквизиция, действуя обдуманно и прозорливо, закладывает фундамент новых законов, руководясь при этом глубоким знанием порочной натуры человека и заботой о его спасении.
Присутствуя на тайных заседаниях в роли молчаливого свидетеля и по поручению преподобного отца Великого инквизитора записывая наиболее важные высказывания и суждения, он внимательно прислушивался к тому, что говорилось, с пристрастием выискивая следы чудовищных злодеяний, но, как он убедился, ни одно решение не противоречило закону, не проистекало из преступных замыслов. На чем же зиждятся эти узаконения, знаменующие новый, гармонический миропорядок? Размышляя над этой основополагающей проблемой, фра Дьего пришел к заключению, что все принимаемые решения безотносительно к тому, исходят ли они из традиционных представлений или отвечают велениям времени — последовательно и, главное, в соответствии с насущными нуждами продиктованы происходящими событиями; в упорном стремлении осмыслить их и упорядочить во имя высшей, божеской справедливости эти решения, с быстротой и безапелляционностью обретая непреложную силу закона, безошибочно предвосхищали породившие их явления, и, невзирая на свои истоки, становились неким самодовлеющим абсолютом, возвышаясь над жизнью, и в то же время будучи нерасторжимо связанными с ней, с ее осмыслением.
Эти узаконения, с их стройной системой и всеохватностью объединяющие разноречивые явления бытия в единое, доступное пониманию целое, вызывали у молодого инока благоговейное восхищение, но применение их на практике по-прежнему смущало его покой. Он был в разладе с собой и чувствовал себя в то время особенно одиноким. Прошлое он старался не вспоминать, о будущем тоже не хотелось думать.
Но время не стояло на месте, и, вопреки его желанию, каждый час напоминал о прошлом, в воображении рисовались разнообразные, но туманные картины будущего. Впрочем, теперь по роду своих обязанностей он имел дело с законами, как таковыми, а не с их практическим применением. Душевное равновесие и покой он обретал лишь когда, размышляя о сложном механизме верховной власти, ответственной перед Богом и людьми, оставался наедине с собой, постигая однозначный смысл законов.
Первые известия о событиях, имевших место в Сарагосе после смерти преподобного Педро д'Арбуэса, достигли королевского двора еще до прибытия Великого инквизитора в Вальядолид. И если на первых порах по неточным и противоречивым сведениям можно было предположить, что к убийству причастны лишь несколько отчаянных авантюристов, протестовавших таким образом против конфискации святой инквизицией имений, то, как оказалось впоследствии, это был разветвленный заговор, угрожавший безопасности королевства и Церкви. Один из убийц преподобного д'Арбуэса, юный Видаль д'Урансо, полагая, что таким образом ему удастся сохранить жизнь (лошади влачили его по улицам Сарагосы, затем он был четвертован и части его тела брошены в Эбро), назвал имена многих знатных людей, которые были в приятельских отношениях с его господином, доном Хуаном де ла Абадией. Этот последний, как гласила молва, будто бы покончил с собой в тюрьме. Нескольким обвиненным в убийстве, в том числе славному рыцарю Санта Крус, удалось бежать. Но такие случаи были крайне редки.
Стражники святой инквизиции действовали быстро и решительно. В тюрьмы бросали не только тех, кого подозревали в соучастии в заговоре, но и тех, кто оказывал помощь беглецам. Арестованы были также семьи осужденных, особенно, если отцу или сыну удалось скрыться. Широкой публике только теперь стало известно, как много знатных вельмож, занимавших высокие должности в королевстве и пользовавшихся всеобщим почетом, запятнаны иудейским происхождением. Под маской лицемерия обнаружилось истинное обличье этих коварных предателей. Чрезвычайное положение требовало новых законов, и падре Торквемада в стремлении пресечь зло без промедления разработал для священных трибуналов инструкцию; с помощью ее десяти четко сформулированных пунктов можно было без труда выявить всех тех, кто скрывал свои истинные убеждения и тайно исповедовал иудейскую веру. Но зловещая тень преступления пала и на людей, чья limpieza de sangre, то есть свидетельство чистоты рода, исключала наличие еврейской или мавританской крови. Коварный враг отравил людские умы и души и оказался опасней, чем это можно было предположить. В какие высокие сферы проник он, свидетельствовал тот факт — по мнению многих, неправдоподобный, но в свете представленных священным трибуналом доказательств, — не вызывающий сомнений, а именно: что в арагонский заговор оказался втянут один из членов королевской семьи, племянник короля Фердинанда и сын королевы Элеоноры, молодой принц дон Хаиме Наваррский.
Однако, несмотря на устрашающую картину нравственного падения, немеркнущий свет католичества еще ярче воссиял в эти дни над зловонной клоакой порока. Доминиканцы, обращаясь с амвонов к верующим, поучали: убийство благочестивого слуги Церкви было угодно Провидению, ибо, не будь это злодеяние совершено, вероотступники, пользуясь свободой и привилегиями, по-прежнему вершили бы свои черные дела, развращая человеческие души. Начертанные на хоругвях и пурпурных знаменах инквизиции слова псалма: «Exurge, Domine, et judica causam Tuam» обретали в связи с последними событиями особый смысл. Воистину Бог явился, чтобы бороться за торжество своего дела.
В нескольких городах королевства: в Севилье, Хаэне и Куэнке, в которых уже несколько лет имелись местные трибуналы, поспешили устроить торжественные аутодафе; под колокольный звон до срока потянулись на квемадеро процессии осужденных в высоких шутовских колпаках, в желтых санбенито, с дроковыми веревками на шее, держа в руках свечи зеленого воска. Пылали костры, грешников, которые в последнюю минуту раскаялись, удушали железными цепями, сотни менее опасных преступников ссылали на галеры, но опустевшие тюрьмы заполнялись новыми узниками.
Желая помочь заблудшим, в храмах в назначенные дни в торжественной обстановке после оглашения акта веры призывали христиан, если они виноваты или знают о прегрешениях ближних, в течение ближайших тридцати дней сообщить о своей вине в соответствующий трибунал. Одни послушно следовали этому призыву, другие оказывались жертвой наговора, и никто не мог быть спокоен за свою жизнь, доброе имя и имущество. Карающая рука инквизиции преследовала даже мертвецов, и, если по чьему-либо доносу покойный был заподозрен в ереси, тело его выкапывали из освященной земли и сжигали на костре in effigie,[16] а семью лишали состояния, званий и прав. Таким образом, вера в народе укреплялась, и, как неотступная тень, за ней следовал страх.
Тем временем столица королевства готовилась к торжественной встрече Великого инквизитора. Ожидали, что по установленному обычаю высланный вперед гонец предуведомит представителей городских и церковных властей о приближении свиты преподобного отца. Однако на этот раз случилось иначе: Торквемада прибыл в Вальядолид на день раньше, чем предполагалось, никого заранее не известив.
Он въехал в город со своей свитой поздно ночью и, отдав распоряжения фра Дьего, а не, как обычно, капитану фамилиаров, дону Карлосу де Сегуре, затворился в келье монастыря Санта Мария ла Антиква, где имел обыкновение останавливаться во время наездов в столицу.
Уединенный монастырь за несколько часов превратился в военный лагерь. Во дворе под ночным небом расположились биваком фамилиары. Вдоль стен расставили вооруженную стражу. Никому не разрешалось покидать монастырь, вход в него был тоже строжайше воспрещен; из той части старинного строения, где поселился его преосвященство, в спешном порядке выдворили братию, а в их кельях разместились фамилиары из числа тех, кто познатней. Представителям городских властей, а также специальным посланцам королевского двора, которые в ту же ночь прибыли в Санта Мария ла Антиква, объявляли у ворот, что Великий инквизитор проводит время в молитве и посте и ни сегодня, ни завтра никого принять не сможет. И, действительно, преподобный отец несколько дней не покидал келью, и единственно, кто имел к нему доступ, были фра Дьего и молодой дон Родриго де Кастро, который в эти дни при весьма драматических обстоятельствах был назначен капитаном отряда телохранителей Великого инквизитора.
В ту первую ночь фра Дьего совсем не ложился. С рвением неофита и противоречивыми чувствами человека, посвященного в тайное тайных, он отдавал распоряжения, лично проверяя, в точности ли они исполняются, и, хотя он был страшно утомлен, ему расхотелось спать. И усталость как рукой сняло, когда он заметил, что к почтению, с каким относятся к нему окружающие, в том числе и убеленный сединами приор монастыря, примешивается страх. И тогда он понял: в эту ночь, которую не спешил сменить рассвет, вопреки собственным представлениям о себе, он стал выразителем воли самого могущественного человека в королевстве. Это неожиданное открытие потрясло его. Он двигался, ощущал свое тело, слышал свой голос, но в иные минуты, когда, проверяя посты, останавливался под огромным неподвижным небом, с которого на него смотрели бесстрастные звезды, у него появлялось ощущение, будто он больше не принадлежит себе, растворяясь в пронзительном до боли чувстве причастности к чему-то великому, непостижимому, но достойному безграничной любви и преданности.
Бережно неся в себе это высокое озарение, он наткнулся посреди небольшого монастырского двора, пустынного и погруженного во тьму, на дона Карлоса де Сегуру, капитана отряда телохранителей Великого инквизитора. Вокруг царили ночь и безмолвие. Только из-под низких сводов внутренних галерей доносились шаги часовых.
— Почему вы не спите, сеньор? — спросил Дьего с ласковой укоризной в голосе. — Скоро начнет светать. Достаточно того, что я бодрствую.
Де Сегура промолчал. Это был худой костистый человек с темным, изборожденным глубокими морщинами лицом. Многие годы славился он своими ратными подвигами и христианскими добродетелями.
— Вам нужно отдохнуть, — продолжал фра Дьего. — Как я мог убедиться, вы безупречно исполнили все приказания досточтимого отца. Можете спать спокойно. Я велю вас разбудить, если понадобится.
Старый воин все также молча с минуту смотрел на фра Дьего, потом повернулся и медленно, слегка ссутулив плечи, зашагал в глубь двора.
Ранним утром, почти на рассвете, фра Дьего принял из рук монастырского служки завтрак и сам отнес его преподобному отцу.
Падре Торквемада лежал на узком ложе в глубине кельи.
Глаза у него были открыты: он не спал. Фра Дьего поставил на стол цинковую тарелку с хлебом и сыром и два кувшина: один с вином, другой с водой.
— Подкрепитесь, досточтимый отец, — вполголоса сказал он.
Полагая, что падре Торквемада желает остаться один, он тихонько направился к двери. Но тот, заметив это, сказал:
— Останься!
Фра Дьего в знак послушания склонил голову.
— Подойди поближе.
Он исполнил и это.
— О чем говорят?
— Кто, святой отец?
— Люди.
— Приезжал гофмейстер двора их королевских величеств…
Торквемада сделал нетерпеливый жест.
— Я не об этом спрашиваю. О чем говорят мои люди и здешние монахи?
— Они исполняют твои приказания, святой отец.
Торквемада приподнялся на ложе и оперся на локоть. Лицо у него было измученное, серое, как после бессонной ночи, но взгляд черных, глубоко запавших глаз выражал напряженную сосредоточенность.
— И это все?
— Досточтимый отец, — сказал фра Дьего, и голос его вновь обрел юношескую звонкость, — я проверял лично, чтобы все твои приказания были исполнены в точности. И старался всюду поспеть.
— И не слышал из уст монахов и моих людей никакой хулы?
— Досточтимый отец, я все время находился поблизости от часовых, и часто они даже не подозревали этого, но ни одного слова, недостойного христианина, я не услышал.
— Мятежные мысли не всегда нуждаются в словах, — как бы размышляя вслух, сказал Торквемада.
Фра Дьего, поколебавшись немного, смело посмотрел в глаза Великому инквизитору.
— Вижу, ты хочешь мне что-то сообщить, — сказал Торквемада.
— Да, святой отец.
— Говори.
— Прости меня, отче, если я ошибаюсь. Слов, достойных осуждения, я не слышал, но взял бы грех на душу, если бы умолчал о том, что, по моему разумению, среди твоих приближенных есть, к сожалению, человек, который внушает мне подозрение.
Торквемада молча смотрел на Дьего, но тот спокойно выдержал его взгляд.
— Тебе известно, сын мой, — наконец сказал он, — что бдительность выполняет свое назначение только тогда, когда обвинение обосновано?
— Да, отче, мне это известно.
— Этим нельзя пренебрегать, и тот, кто бросает на другого хотя бы тень подозрения, должен отдавать себе отчет в том, что, не доказав еще вины, он делает существование ее вероятным.
— Знаю, отче.
— Ты обдумал свое обвинение?
— Да, отче, я хорошо обдумал его.
— Итак?
— Я имею в виду капитана твоих телохранителей.
Торквемада, казалось, не был удивлен, он только снисходительно усмехнулся.
— Сын мой, ты обвиняешь человека, поставленного очень высоко. Сеньор де Сегура пользуется репутацией храброго воина и безупречного христианина.
— Знаю, отче. Но он производит впечатление человека, утаивающего свои мысли.
— И это все, что ты можешь вменить ему в вину?
Фра Дьего молчал. Тогда Торквемада встал и положил руку ему на плечо.
— Человек — существо мыслящее, сын мой.
— Знаю, отче. Я не обвиняю сеньора де Сегуру в том, что он мыслит, но все-таки доверять ему я бы поостерегся.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Мне кажется, он недаром скрывает ото всех свои мысли, — сказал фра Дьего и тотчас подумал: «Боже, ты знаешь, мной движет не оскорбленное самолюбие».
— Чем тебя обидел сеньор де Сегура?
Жаркий румянец залил лицо фра Дьего.
— Обидел? Даже молча выказав мне презрение, он не мог меня обидеть, — ведь исполняя твою волю, отче, я перестаю быть самим собой.
Падре Торквемада на это ничего не ответил. Он подошел к окну и спрятал руки в рукава сутаны.
— Вам надо подкрепиться, досточтимый отец, — тихим голосом сказал Дьего. — Вы со вчерашнего полудня ничего не ели.
«Боже, разве имею я право подвергать сомнению честные побуждения этого юноши? Укрепить отроческую веру — что может быть важней этого? А пред лицом повсеместно могущего возникнуть зла не лучше ли совершить несправедливость в отношении одного человека, чем по непростительной близорукости проглядеть вероятность его возникновения? И вообще разве может быть виновный без обвиняющего? Только с помощью истины — а она едина, — познается ее отрицание. Итак, кто создает вину? Обвиняющий? Если он, тогда чему следует верить больше: обвинениям или фактам, которые, не будучи выявлены, еще не могут быть отнесены к числу преступных?»
— Сын мой, — сказал он.
— Да, отче.
— Думаю, ты понял меня, когда я сказал: всякое обвинение нуждается в доказательстве.
— Да, отче.
— Ступай разыщи дона Карлоса. Если он спит, вели разбудить его. Скажи, я хочу его видеть.
По лицу фра Дьего видно было: он хочет что-то сказать, но, не промолвив слова, он вышел из кельи.
Постепенно светало, хотя под низкими тучами, закрывавшими небо, еще сохранялся ночной мрак. Из недр тьмы доносился колокольный звон — это звонили в городских храмах. Но тут, в стенах Санта Мария ла Антиква, царила тишина.
Падре Торквемада в задумчивости постоял у окна, потом повернулся и подошел к столу. Но к еде не притронулся. Воздев руку, он сотворил над столом крестное знамение и, вынув из-за пазухи ладонку, открыл ее и высыпал содержимое в кувшин с вином.
Когда сеньор де Сегура в сопровождении фра Дьего вошел в келью, его высокопреподобие молился, стоя на коленях около своего ложа. Старый воин по-солдатски скупо перекрестился и, отступив к стене, молча ждал, пока Великий инквизитор кончит молиться. Спустя минуту падре Торквемада поднялся с колен.
Фра Дьего устремил на него вопрошающий взгляд; он был бледен.
— Останься, — сказал преподобный отец и обратился к дону Карлосу: — Мир тебе, благочестивый капитан.
— И тебе, преподобный отец. Брат Дьего сказал: вы желаете меня видеть. Хотите отдать новые распоряжения?
— Нет. Я хочу обратиться к тебе за советом, как к многоопытному человеку.
Торквемада пододвинул кресло поближе к окну и сел так, чтобы лицо его было освещено.
— В последнее время я о многом размышлял, — тихо, с расстановной заговорил он, словно рассуждая сам с собой. — Размышлял и о твоих словах, сказанных несколько дней назад в Сарагосе.
Выражение юношеской преданности озарило изборожденное глубокими морщинами лицо де Сегуры.
— Помню, преподобный отец. И продолжаю утверждать: вы должны позволить, чтобы о вашей безопасности проявляли бóльшую заботу. Враги…
— Так меня ненавидят?
— Преподобный отец, ненависть врагов…
— Да, ты прав. Пока правда не восторжествует, мерилом ее могущества служит ненависть ее врагов.
— Как же им не испытывать к тебе ненависти? Твоя жизнь, досточтимый отец…
— Верно. Не думай, сын мой, будто я не знаю, что возложенные на меня обязанности требуют, чтобы я все свои силы, телесные и духовные, посвятил укреплению на земле святого дела, коим является инквизиция. Но, увы, и Бог тому свидетель, святое это дело еще недостаточно утвердилось в христианском мире, и можно смело сказать, не боясь упрека в гордыне, что тут, в Королевстве, мы являем собой пока единственный и непревзойденный образец благочестия; следуя коему, католические народы научатся у нас, как устанавливать у себя новый порядок и сокрушать сопротивление врагов.
— Да будет благословенно наше святое дело, — взволнованным голосом произнес сеньор де Сегура.
Падре Торквемада воздел руки.
— И я о том же молю Господа нашего. Потому охотно склоняюсь к твоим советам. Воистину не следует пренебрегать никакими средствами, кои могут обеспечить мою безопасность.
— Досточтимый отец, ты всегда можешь рассчитывать на меня и моих воинов. Но дозволь сказать: ты сделал бы мне честь как рыцарю и успокоил мою душу, если бы твои приказания, особенно те, которые не предусмотрены заведенным у нас порядком, я получал бы непосредственно от тебя. Прости, святой отец, что говорю об этом. У меня нет оснований предполагать, что присутствующий здесь брат Дьего не передал мне в точности твоих распоряжений. Но, признаться, я был озадачен их суровостью и подумал: «Всемогущий Боже, если и тут, в освященной Богом обители, тебе грозит опасность, где же искать тогда спасения?»
— Нигде! — решительно отрезал Торквемада. — А преподобный отец д'Арбуэс разве не в храме погиб?
Старый воин опустил голову.
— Я всего лишь простой солдат, и мне трудно постичь умом истинные размеры злодеяний. Но когда ты среди своих приближенных и я стою на страже, тебе ничего не угрожает, — в этом я убежден.
— Думаешь, враг не может проникнуть в наши ряды? Среди них есть такие, которых мечом не одолеешь. Взять хотя бы вот эту пищу. Как знать, не скрывается ли в ней враг?
Сеньор де Сегура побледнел. Подняв руку, он усталым движением провел по лбу и, понизив голос, спросил:
— Ты полагаешь, досточтимый отец…
— Мы лишь тогда обезопасим себя надежным образом, если в каждом действии, в каждом поступке будем подозревать вражескую вылазку, — сказал падре Торквемада. — Все возможно. Итак, чтобы нам не в чем было себя упрекнуть, пускай отныне мои кушания предварительно пробует набожный и, главное, ответственный человек, — разумеется, назначенный тобой.
— Ты считаешь, святой отец, это должен делать я?
— Нет, сын мой, — ответил Торквемада. — Я не хочу подвергать хотя бы малейшему риску близких мне людей. Вполне достаточно, если ты сделаешь это один раз — сегодня. Это будет, так сказать, чисто символический акт, к которому тебя обязывает высокая твоя должность.
— Отче! — воскликнул де Сегура, и в голосе его послышалась растерянность.
Торквемада поднял веки и устремил на него взгляд, исполненный участия и усталой грусти.
— Я исповедался этой ночью, но не успел причаститься святых даров.
Торквемада воздел руку и перекрестил дона Карлоса.
— Отпускаю тебе грехи, сын мой, ибо то, что ты вознамерился совершить, ты совершаешь с глубокой верой и во имя ее укрепления.
— Да продлит Господь Бог твои лета во благо нам, — сказал сеньор де Сегура.
Затем, подойдя к столу, движением человека, который не привык придавать значения еде, придвинул к себе тарелку с хлебом и сыром и налил в кружку вина. И с той же деловитой поспешностью выпил его, а когда, отставив кружку, потянулся за хлебом, лицо его внезапно побледнело, он вздрогнул всем телом, растопыренные, уже одеревеневшие пальцы дернулись судорожно и потянулись к горлу, и он с придушенным криком покачнулся, еще раз издал какой-то нечленораздельный звук, попытался выпрямиться, но в ту же секунду, устремив в пространство невидящий взгляд, рухнул всем своим большим телом на стол; тот под тяжестью его опрокинулся, и под звон и стук разбитой посуды де Сегура упал лицом на каменный пол.
— Боже! — послышался из темного угла крик Дьего.
Наступила тишина.
— Сын мой, — спустя минуту сказал Торквемада.
Фра Дьего прижался к стене и закрыл руками лицо.
— Сын мой, — повторил он, — происшедшее воистину ужасно, но этот человек предстал уже пред высшим судом, и только одному Богу ведомо: преступник он или несчастная жертва преступления? Помолимся Богу, чтобы нам открылась сия тайна.
У фра Дьего лицо было серое, когда он, дрожа всем телом, припал к коленям Великого инквизитора.
— Отче, молю тебя, позволь мне вернуться к себе в монастырь. Признаюсь, я оговорил этого человека из-за оскорбленного самолюбия. Но откуда мне было знать, что подозрение мое оправдается? Порочность человеческой натуры повергает меня в ужас. Я маленький человек и славить Бога могу лишь в тиши и покое.
Торквемада положил руку ему на голову.
— А что есть тишина?
— Не знаю, отче. Знаю только одно: меня ужасает ширящееся на земле зло.
— Ты думаешь, можно забыть то, что уже познал?
— Отче, ты ведь знаешь: мне ведома лишь крупица правды.
— И она так страшит тебя?
— Отче, ты вознамерился вознести меня слишком высоко.
— Боишься узнать правду о роде людском?
— Отче!
— Тобой действительно владеет страх? Боишься во всей полноте познать порочность человеческой натуры?
Фра Дьего поднял истомленное страданием лицо.
— Да, отче. Ненависти и презрения боюсь я больше всего.
— Неправда!
— Да, отче.
— Ты лжешь или трусливо обманываешь самого себя. Нет, не ненависти и презрения ты боишься, а любви.
— Любви?
— А что есть презрение и ненависть ко злу? Не вооруженные ли это рамена любви к добру?
— Отче, но ведь не источник грозен, а река, которая берет из него начало и производит порой опустошения.
— Опять ты заблуждаешься и притом так наивно! Да, бывает, реки приносят страшные бедствия, но источник тут ни при чем, — они выходят из берегов из-за дождей и тающих в горах снегов.
— А к мыслям и чувствам, проистекающим из любви, не может разве примешаться нечто ее природе чуждое? Где взять уверенность, что, движимый любовью, я не совершу поступка, который противоречит ей? И могу ли я заранее предвидеть, куда меня заведет ненависть и презрение?
— Можешь. Не дальше, чем позволит твоя любовь. Если любовь сильна и бесстрашна, такова будет и ненависть ко всякому злу. А если она лишь слабо теплится в душе и заставляет сомневаться, под стать ей будут ненависть и презрение. Увы, сын мой, тебя страшит великая любовь. Тебя пугает ее всемогущество, сила ее воздействия, и прежде всего — ее настойчивые и непререкаемые веления. Ты бежишь любви. Ну что ж, не стану тебя удерживать.
— Отче, ты обманулся во мне, — прошептал Дьего.
Торквемада коснулся рукой его склоненной головы.
— Посмотри мне в глаза.
— Да, отче.
— Боюсь, как бы то, что я скажу тебе сейчас и что еще можно предотвратить, не услышал ты пред Божьим судом, а тот приговор неотвратим.
На глазах Дьего выступили слезы.
— Отче, не во всемогуществе любви сомневаюсь я, а в своих силах.
— Дурачок! А при виде моего стынущего тела ты тоже стал бы сомневаться?
Дьего вздрогнул.
— Отче, побуждения мои не были чисты.
— А их последствия? Разве не оправдывают они твоих побуждений? Или измученный ум твой не в силах постичь коварства происшедшего? Поистине, только великая любовь способна на такое спасительное озарение, какое посетило тебя.
По щекам Дьего текли слезы.
— Отче, ты полагаешь, то была любовь?
Торквемада наклонился над стоящим на коленях.
— Сын мой, дитя мое… в тебе больше христианской любви, чем ты полагаешь.
— Отчего же я усомнился в себе?
— Ты усомнился в истине.
— Отче, клянусь, моя вера…
— Истина и любовь едины?
— Да, отче.
— Доводи свою мысль до конца. Ты усомнился в своих силах? А какой источник питает их? Любовь, которая служит истине и неотделима от нее. Как же, веруя в истину, ты — ее носитель, усомнился в себе? Разве не она, как неистощимый источник, питает алчущих? Лишь усомнившись в ней, человек начинает сомневаться в себе.
Фра Дьего поднял голову, он был еще бледен, но слезы больше не текли из его глаз.
— Отче, я солгал неумышленно.
— Если бы это было не так, я не стал бы разговаривать с тобой, сын мой.
— Я заблуждался, но благодаря тебе прозрел. Зло представилось мне таким всемогущим, что на единый миг я разуверился в истине, перестал внимать ей. Но скажи, отче, почему ты лучше меня самого разумеешь мои мысли? Откуда в тебе эта прозорливость?
— Сын мой, — ласково сказал Торквемада, — я служу истине, только ей одной и в этом черпаю силы. Вот и все.
Наступило короткое молчание. Фра Дьего прижался горячими губами к руке его высокопреподобия, неподвижно лежавшей на поручне кресла. Тогда Торквемада медленно, как бы в раздумье, поднял правую руку и, перекрестив склоненную голову инока, промолвил:
— Ego te absolvo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen.[17]
Сразу после разговора с Великим инквизитором дон Родриго де Кастро вернулся в келью, которую занимал вместе с юным Лоренсо.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Лоренсо.
Дон Родриго, ни слова не говоря, подошел к столу, схватил кувшин с вином и стал жадно пить, как человек мучимый жаждой.
Лоренсо с беспокойством смотрел на друга.
— Что случилось, Родриго?
— Ничего.
— У тебя неприятности?
Дон Родриго со стуком поставил кувшин на стол.
— Послушай, Лоренсо, я всегда хорошо к тебе относился, и, надеюсь, так будет и впредь, но, знай, отныне я для тебя больше не Родриго.
Лоренсо смутился.
— Не понимаю. Что это значит?
— С сегодняшнего дня я твой начальник, понятно?
— Ты? О, Родриго…
В порыве восторга он хотел заключить друга в объятия, но тот резко отстранил его.
— Только что его преосвящество соизволил назначить меня капитаном своих латников. Погоди, не перебивай. Это, во-первых. А во-вторых, хотя ты еще очень молод, Лоренсо, но пора бы тебе знать, что солдат не должен задавать вопросов, и чем раньше ты это усвоишь, тем лучше для тебя. Запомни.
— Прости, — прошептал Лоренсо, — я не знал…
— Зато теперь знаешь, — сухо перебил его дон Родриго. — Ступай за мной и — больше ни слова.
Фра Дьего, впустив обоих рыцарей в келью Торквемады, молча указал на распростертое на полу тело. Оно было прикрыто темным плащом. Лоренсо чуть не вскрикнул, когда, поднимая вместе с доном Родриго покойника, неосторожным движением сдернул плащ с его головы. Но, встретив суровый взгляд дона Родриго, он овладел собой. И, снова прикрыв плащом почерневшее лицо и крепко придерживая руками окоченелое тело, с опущенной головой направился вслед за доном Родриго к двери. В келье царил полумрак, но в коленопреклоненном подле ложа человеке Лоренсо сразу узнал досточтимого отца Великого инквизитора.
Монастырский коридор был пуст — стража неподвижно замерла в обеих концах его, и отсюда ее не было видно, так что никем не замеченные они пронесли тело де Сегуры в келью, которую тот недавно занимал, и, положив прикрытые плащом останки на кровать, остававшуюся этой ночью нетронутой, вернулись к себе.
Дон Родриго тяжело опустился на скамью, распахнул на груди кожаный кафтан и придвинул к себе вино. На этот раз он пил долго, медленными глотками, наконец, отняв ото рта тяжелый кувшин, взглянул на стоявшего рядом Лоренсо.
— Чего уставился? — грубо спросил он.
Лоренсо молчал.
— Садись, — приказал дон Родриго и придвинул к нему кувшин. — Пей!
Тот сел, выпрямившись, на другой конец скамьи и покачал головой.
— Пей! — повторил капитан.
Лоренсо, немного поколебавшись, подчинился.
Дон Родриго неприязненно смотрел на него.
— Хватит, — внезапно сказал он. — А то опьянеешь.
Лоренсо резким движением отставил кувшин и вскочил со скамьи.
— За что ты меня мучаешь, Родриго?
Его высокий, ломающийся голос дрожал от обиды и гнева.
Дон Родриго презрительно усмехнулся.
— Садись.
— Что я тебе сделал, Родриго? Ведь я любил тебя, как брата.
— Оставь это ребячество. Садись, я хочу с тобой серьезно поговорить. Подними голову.
— Можно мне уйти? — прошептал Лоренсо.
— Сейчас — нет.
Дон Родриго взял кувшин и выпил его до дна.
— Послушай, Лоренсо, несмотря на свою молодость, ты удостоился высокой чести, — надеюсь, ты сумеешь это оценить. Отныне ты обязан каждодневно пробовать все кушанья, которые предназначены для его преосвященства. Такова его и моя воля.
Наступила минутная пауза.
— Понимаешь, Лоренсо, какое поручено тебе дело? Первым, кто сегодня снял пробу, был тот человек.
— Скажи, Родриго…
— Никаких вопросов, Лоренсо.
И, отодвинув стол, он тяжело поднялся. Его загорелое, хмурое лицо набрякло, мутные глаза налились кровью.
— Мир — это навозная куча, понимаешь, Лоренсо? Ты еще ничего в жизни не испытал, и ничего не знаешь. Всюду, куда ни повернешься, злодеяния и измена, жалкие пигмеи на каждом шагу расставляют свои коварные сети. Еще недавно меня мучила совесть, оттого что я совершил подлость. Боже мой, какой же я был дурак! Человек, который считал меня своим другом и к которому я испытывал дружеские чувства, сейчас томится в тюрьме. Из-за меня, понимаешь? И я не жалею об этом. Бог свидетель, я поступил правильно. Что значат узы дружбы и прочие чувства в сравнении со служебным долгом? Послушай, Лоренсо, я говорил, что хорошо к тебе отношусь? Говорил?
— Говорил, — прошептал Лоренсо.
— Ты молод и красив, в глазах твоих, как в зеркале, отражается твоя чистая душа. И хотя я очень люблю тебя, больше даже, чем ты предполагаешь, но знай, как бы глубоко в душе ты ни прятал преступные замыслы, как бы старательно ни утаивал хотя бы малейшее отступление от веры или измену своему долгу, от меня это не укроется, и я первый сделаю все, чтобы изничтожить тебя, как изничтожают врага. Берегись меня!
Лоренсо тоже встал. Он был бледен, глаза его потемнели. Взглянув на него, Родриго неожиданно разразился громким, звонким смехом.
— Щенок, ты даже не научился скрывать своих мыслей. По твоим глазам вижу, о чем ты подумал. «И ты тоже берегись меня», — вот что подумал ты.
Посмеявшись еще немного, он внезапно умолк и, рубанув рукой по воздуху, приказал:
— Ступай, я хочу побыть один.
Лоренсо, бледный, с потемневшими от гнева глазами, вытянулся по стойке «смирно».
— Слушаюсь, сеньор капитан! — сказал он мальчишеским ломающимся голосом и, как положено, повернувшись кругом, вышел из кельи. Только дверь за собой захлопнул громче, чем следовало.
Вскоре после этого, а именно спустя час, в Санта Мария ла Антиква прибыл председатель священного трибунала в Вальядолиде доминиканец, падре Кристобаль Гальвес. Во дворе гостя встретил седовласый приор монастыря падре Агустин д'Акунья, и оба направились в старинную часть монастыря, где в трапезной, знававшей славные времена короля Альфонса VI, их поджидали капитан телохранителей его высокопреподобия и фра Дьего.
Падре Гальвес, несмотря на увечье, — он припадал на левую ногу, — быстрым шагом вошел в трапезную и, окинув беглым взглядом просторное, мрачное помещение, исподлобья посмотрел на собравшихся.
— Давно не бывал я в вашей святой обители, — сказал он, обращаясь к приору. — Но вот я прибыл. А где же досточтимый отец? Почему он раньше не призвал меня?
Дон Родриго де Кастро отделился от колонны, в тени которой стоял.
— Разрешите сказать, преподобный отец.
— Говори, — последовал короткий ответ.
— Досточтимый отец призвал вас, — это верно, но он не сможет переговорить с вами лично, поскольку проводит время в молитве и размышлениях.
— Сейчас? — с гневным недоумением спросил падре Гальвес. — Что понудило его к этому? И вообще что здесь происходит? Почему вы прибыли в столицу ночью, не известив заранее? По городу поползли слухи. И, наконец, почему его преосвященство не желает никого видеть?
— Простите, ваше преподобие, — с достоинством ответил дон Родриго, — но я не уполномочен обсуждать решения досточтимого отца.
Падре Гальвес метнул взгляд на молодого воина.
— С кем имею честь?
— Я — капитан телохранителей его высокопреподобия Великого инквизитора, — ответил дон Родриго и, указывая на сидевшего в стороне человека, прибавил: — А это брат Дьего, личный секретарь досточтимого отца.
Падре Гальвес, прихрамывая, подошел к Дьего.
— Поздравляю, сын мой. Не иначе, тебя отличают особые добродетели и способности, если, несмотря на юный возраст, досточтимый отец приблизил тебя к своей особе.
Фра Дьего склонил голову.
— Досточтимый отец приветствует вас и передает вам свое благословение. Он очень сожалеет, но вам, как председателю священного трибунала, надлежит немедленно заняться одним неприятным и весьма прискорбным делом.
Падре Гальвес, глядя в сторону, рассеянно слушал и хмурил кустистые брови. Но внезапно он выпрямился.
— Прошу садиться, — сказал он тоном человека, привыкшего к повиновению.
И первый, прихрамывая, направился своей стремительной походкой в глубину трапезной к столу и, опустившись на скамью, ждал, пока все усядутся.
— Слушаю, — сказал он.
Фра Дьего, который скромно сел в стороне, встал и в коротких словах, бесстрастным тоном рассказал о случившемся. Кончив, он сел и сунул руки в рукава сутаны.
— Это все? — спросил падре Гальвес.
— Остальное предоставляется вам, — ответил фра Дьего.
— Так, так, — равнодушно сказал падре Гальвес. — А что вы скажете на это, отец Агустин?
— Господь Бог жестоко покарал нас, — сказал он, и у него задрожали губы, как у человека, которого постигло горе.
— Бог? — с недоумением переспросил падре Гальвес. — Уж не думаешь ли ты, отец Агустин, что Бог всыпал яд в кувшин с вином? Это все, что ты можешь сказать?
Падре Агустин беспомощно развел руками.
— Все? — вскричал падре Гальвес, ударяя кулаком по столу. — Под крышей твоего монастыря замышлялось чудовищное преступление, убийцы из-за угла готовились нанести нам смертельный удар, поразить нас в самое сердце и мозг, а ты ничего не видел и не знал, словно ослеп и оглох! На каком свете ты живешь? Только с ангелами и святыми угодниками способен ты беседовать? Совсем ума лишился на старости лет! Если бы не твоя всем известная набожность, мы бы иначе поговорили с тобой в священном трибунале.
Старик приор не пытался оправдаться. Сжавшись в комок, сидел он в огромном кресле и под обрушившимися на него обвинениями все ниже клонил седую голову. Но все равно было заметно, как она дрожит. «Вот какова сила страха», — подумал Дьего и, хотя ему с детства внушали почтение к набожности и преклонному возрасту, злорадно усмехнулся. Но он отдал себе в этом отчет, лишь заметив такую же усмешку на лице дона Родриго, который в сиянии позолоченных доспехов неподвижно, как идол, сидел на противоположном конце стола. Их взгляды на миг скрестились, но они тотчас отвели глаза. Фра Дьего опустил веки. «Боже!» — мысленно произнес он, сам не понимая, что означает это безгласное восклицание. Его молнией пронзила какая-то мысль, наполнило чувством беспредельной тоски и одновременно щемящей сладостной печали, но что было тому причиной, он не успел разобраться: его вывел из раздумья голос падре Гальвеса, который, с нескрываемым презрением повернувшись спиной к приору, заговорил с ним; фра Дьего остался доволен собой, так как сумел сохранить невозмутимое спокойствие.
— Ты говорил, сын мой, — сказал падре Гальвес, — будто сеньор де Сегура под предлогом того, что был на исповеди и не успел причаститься святых даров, поначалу не хотел отведать еду.
— Да, — подтвердил фра Дьего.
— К сожалению, я мало знал сеньора де Сегуру, но, насколько мне известно, он пользовался репутацией храброго рыцаря и безупречного христианина. Это верно?
— Да, святой отец. Но порой славе сопутствуют гордыня и неприступность.
— Значит, он был гордецом?
— Думаю, не от избытка скромности он неохотно посвящал людей в свои мысли.
— Ну и что из этого?
Дьего испытал такое чувство, словно он очутился на краю пропасти.
— Преподобный отец, — наконец сказал он после затянувшегося молчания, — мне кажется, я слишком молод и неопытен, чтобы выносить окончательное суждение о том, где грань между вероятностью и безусловностью вины.
Падре Гальвес сделал нетерпеливое движение.
— Что ты хочешь сказать этим, сын мой? Что такое, по-твоему, вероятность вины? Это субъективное, преходящее неумение доказать ее безусловность. Вероятность — это фикция, не так ли? А в расчет принимаются только факты. Вина или есть, или ее нет. Вот и все.
Фра Дьего покраснел от стыда и унижения. Как он мог сказать такую глупость! И ему стало ясно: послушание состоит не в том, чтобы избегать высказывать свое мнение, а в том, чтобы угадывать и соглашаться с суждениями вышестоящих.
— Преподобный отец, — сказал фра Дьего, впервые в жизни стараясь обратить себе на пользу своей по-юношески искренне звучащий голос, — я употребил понятие «вероятность вины» в том смысле, какой придаешь ему ты.
— Сеньор де Сегура принадлежит к одному из самых старинных родов Арагонского королевства, — отозвался с другого конца стола дон Родриго.
— К сожалению, мы убедились на опыте: чем знатней человек, тем меньше следует доверять ему. Казалось бы, слава, богатство, признание заслуг, блестящее имя — все обязывает стоять на страже Истины. А на самом деле именно там рассадник чудовищных преступлений, которым несть числа. Господь наш Иисус Христос сказал: «Блаженны нищие духом», но несовершенный ум человека не в состоянии постичь всей глубины этого мудрого речения. И царство Христово настанет на земле не раньше, чем все будут как дети Божий.
Лицо у фра Дьего было серьезное, но слушал он невнимательно. Он до сих пор думал: ему неведома зависть. А между тем это ядовитое чувство безмерно растравляло ему душу. Что де Сегура происходит из знатного арагонского рода, ему было известно не хуже дона Родриго. Почему же он не сумел воспользоваться этим, как оказалось, важным фактом и позволил опередить себя другому? Он взглянул на дона Родриго, и при виде его лица, которое выражало невозмутимое спокойствие и умение владеть собой, Дьего захлестнула волна зависти.
Воцарилось молчание.
— Что ты намерен предпринять, преподобный отец? — тихим голосом спросил старик приор.
— Сейчас узнаешь, отец Агустин. Поскольку маловероятно, чтобы преступник действовал в одиночку, следовало бы всех братьев вызвать в священный трибунал…
Падре Агустин поднял трясущуюся голову. В его старческих, измученных глазах стояли слезы.
— Боже милостивый, неужели ты сделаешь это?
Тот пожал плечами.
— Нет, пока повременю. Святая инквизиция не заинтересована в том, чтобы хотя бы тень позора пала на эту старинную, почитаемую обитель. Мы верим: несмотря на твою беспомощность, большинство братии хранит в этих священных стенах верность традициям и, что особенно важно, — нашему сообществу. — Затем он обратился к дону Родриго: — А вы, сеньор, распорядитесь, чтобы в священный трибунал доставили того служку, из рук которого фра Дьего принял еду для его высокопреподобия.
— Отец Кристобаль! — воскликнул старик. — Ведь он еще совсем дитя! Невинное дитя!
Падре Гальвес издевательски усмехнулся.
— У тебя, отец Агустин, все невинные. Послушать тебя, так непонятно, откуда вообще берутся преступления, ересь, порок. Может, ты считаешь, их вовсе нет? Может, ты пришел к такому благому заключению? Но если так, чего же ты так тревожишься за этого отрока? Ведь священный трибунал не чета светским судам, его назначение защищать невинных, ибо, борясь со злом, он оберегает их.
С этими словами он встал, давая понять, что совещание закончено.
Уже на другой день стало ясно: падре Гальвес не зря упрекал приора в преступной близорукости и отсутствии бдительности. Шестнадцатилетний Пабло Сарате, всего несколько месяцев назад принявший обет послушания, признался на следствии, что, когда он нес еду для досточтимого отца Великого инквизитора, его остановил во дворе сеньор де Сегура, велел поставить поднос, а самому пойти на кухню и вымыть якобы недостаточно чистые руки. Итак, теперь все было ясно. Враг, как стоглавая гидра, оживал, несмотря на наносимые ему удары. Разоблаченный и уничтоженный в Сарагосе, он протягивает злодейские щупальцы в другом месте, низвергая порядок, сея в умах смятение, а в сердцах — тревогу.
Выяснив обстоятельства дела, суд пришел к заключению, что Пабло не заслуживает сурового наказания, однако, учитывая последствия его проступка, о возвращении в монастырь не могло быть и речи, — а что душа этого отрока поражена страшным недугом и что принят он был на послушание крайне неосмотрительно, выяснилось только потом. После того, как Пабло во всем сознался, он вместо того, чтобы сожалеть о содеянном, покаяться в грехах и впредь не сбиваться с пути истинного, взял и повесился в тюремной камере; богопротивный этот поступок свидетельствовал о том, что праведной жизни христианина он предпочел позор и вечное проклятие.
В монастыре Санта Мария об этом достойном сожаления происшествии стало известно на рассвете перед первой заутреней, которую уже много лет подряд правил сам отец приор. И в тот день в положенный час он вышел со святыми дарами пред алтарь, но движения у него были неверные, как у слепца, а голос, хотя читал он еле слышно, то и дело замирал и совсем прерывался; среди молящейся братии послышался тревожный ропот, но затем наступила тишина, и беспомощному бормотанию старца вторил только орган из глубины храма. Еще больше удивились монахи, когда падре Агустин, поблагословив их по окончании службы, остался стоять перед алтарем и тихо, но как-то особенно внятно и проникновенно произнес:
— А теперь, братия, помолимся Господу нашему и пресвятой богородице за чистую невинную душу нашего младшего брата Пабло.
После его слов наступила гробовая тишина. Ни фра Дьего, одиноко стоявший сбоку алтаря, ни дон Кастро, в отливавших золотом доспехах застывший перед сомкнутым строем фамилиаров, не шелохнулись. И ни один монах не решился опуститься на колени, — такая сила исходила от этих двоих.
Падре Агустин с минуту взирал на неподвижно замершую в полумраке храма толпу, и его истомленное страданием лицо побледнело еще сильней, — он закрыл глаза и, обратившись лицом к алтарю, встал на колени и творил одинокую молитву. Тогда фра Дьего и сеньор Кастро, предварительно перекрестившись, одновременно направились к выходу. За ними, гремя оружием, устремились фамилиары Великого инквизитора. А потом в наступившей тишине один за другим, опустив голову и пряча глаза, покинули храм монахи.
Вскоре отец Агустин остался один. Он долго молился, забыв обо всем на свете. Лучи восходящего солнца озарили на витражах фигуры святых и ангелов. В подсвечниках догорали свечи. Было слышно, как в монастырском дворе сменяется стража.
Но вот падре Агустин поднял голову и, устремив взгляд на огромный крест в вышине, воскликнул исполненным отчаяния голосом:
— Боже, доколе мрак будет покрывать несчастную землю!
Слезы, застилавшие глаза, помешали ему разглядеть, кто припал к его коленям, и, содрогаясь от рыданий, прижался горячими губами к руке. По-прежнему стоя на коленях, он ощупал голову коленопреклоненного и, почувствовав рукой густые, вьющиеся волосы, узнал молоденького монастырского служку по имени Франсиско. Он обнял щуплое, еще детское тело и, гладя мальчика по голове, прошептал прерывающимся от волнения голосом:
— Дитя мое, бедное дитя, не надо терять надежду. Надо всегда надеяться.
То была последняя обедня, которую старик приор отслужил в Санта Мария. Ночью по приказанию церковных властей он покинул монастырь и удалился в уединенную обитель Сан Иниго, расположенную в горах Зстремадуры, чтобы там, невозбранно посвятив себя молитве, в тиши и покое закончить праведную жизнь.
Наутро сам Великий инквизитор после двухдневного поста и молитв отслужил в монастыре раннюю обедню. А фра Дьего обратился к монашеской братии с краткой проповедью, темой которой послужили слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея: «Не мир пришел Я принести, но меч».
Однако, как явствует из истории, торжество истины не всегда сопровождается звуками фанфар, — и вот к исходу тысяча четыреста восемьдесят пятого года в столицу начали доходить отнюдь не радостные вести. Так, стало известно, что королевские войска под началом графа д'Аркоса понесли тяжелое поражение при осаде Малаги — этого оплота неверных, а из Арагона губернаторы доносили о волнениях, со времен небезызвестных событий в Сарагосе то и дело вспыхивавших во многих городах, нарушая покой и порядок; волнения были делом рук иудействующих врагов, которые прибегали к самым гнусным средствам, лишь бы нанести предательский удар королевству.
В Валенсии, к примеру, не считая мелких беспорядков, подстрекаемая тайными провокаторами чернь подожгла дворец Талавера, в котором размещался священный трибунал: в Теруэле науськиваемая бунтовщиками толпа забросала камнями и кирпичами около башни Сан Мартина процессию отца инквизитора, когда тот в первую неделю декабря направлялся в храм на богослужение. В обоих городах имелись жертвы, и только благодаря незамедлительному вмешательству Святой Эрмандады удалось подавить волнения и положить конец дальнейшему кровопролитию. В Барселоне тоже сумели задушить бунт в самом зачатке, разогнав с помощью вооруженных молодчиков народ, который начал стекаться к тюрьме священной инквизиции, при этом было задержано и отдано под суд много подозрительных личностей.
Король Фердинанд, извещенный об этих событиях, разослал с гонцами специальный вердикт, в котором предписывалось беспощадно пресекать всякие богопротивные действия. Великий инквизитор в послании к священным трибуналам, в особенности, к тем из них, юрисдикции которых подлежал Арагон, также призвал к усилению бдительности и более решительным мерам. Враг еще раз просчитался, полагая, что ему удастся ослабить воинствующую Церковь и выкопать между ней и верующими глубокую пропасть. Ни у кого, кроме богомерзких еретиков и горстки людей, временно введенных в заблуждение, не могло возникнуть ни тени сомнения в том, что народ безгранично предан их королевским величествам и Церкви и единодушно осуждает всяческие попытки эту сплоченность ослабить.
Но тем не менее, как это часто в подобных случаях бывает, вести о нездоровом брожении умов продолжали поступать из провинции, и, хотя в столице было все спокойно, отец инквизитор Гальвес решил ускорить назначенное на середину января следующего года аутодафе, которое с немалыми затратами труда приготовлялось уже давно. После того, как падре Торквемада это решение одобрил, были приложены все усилия к тому, чтобы празднество, приуроченное ко дню почитаемого в народе св. Доминика из Силоса, носило особенно торжественный характер. Итак, за неделю до аутодафе были завершены многие дела, расследование которых до этого тянулось долгие месяцы, и начаты новые, предусмотрительно законченные раньше срока. Во всех монастырях, особенно в доминиканских, ежевечерне служили молебны, свидетельствуя о единстве сынов Церкви, в эти дни необходимом, как никогда. Впрочем, как и предполагали, народ не остался безучастным к гласу своих духовных пастырей. Одушевленный глубокой верой, он начал стекаться в Вальядолид из всех селений и городов древнего королевства Леон. Прибывали паломники также из более отдаленных мест. Вскоре все постоялые дворы и трактиры были переполнены, и народ, невзирая на декабрьские холода, располагался под открытым небом на площадях.
Единодушный порыв верующих, а также личная просьба Великого инквизитора склонила их королевские величества, которые из-за поражения под Малагой намеревались срочно туда отбыть, отложить отъезд и почтить торжество своим присутствием для придания ему большего веса и великолепия. Предполагалось, что около двух тысяч осужденных к различным видам наказания сначала примут участие в обряде покаяния в храме, а затем отправятся в процессии на квемадеро; общее же число отлученных от церкви достигло семидесяти с лишним тысяч. Среди осужденных к сожжению живьем лишь тело одного де Сегуры, обвиненного в святотатственной попытке отравления, должно было быть предано огню посмертно. Тщательно проведенное следствие по этому столь очевидному делу, казалось бы, ни у кого не могло возбудить сомнения в справедливости вынесенного священным трибуналом приговора, однако именно по поводу этого решения в Высшем инквизиционном совете вспыхнул ожесточенный спор.
Высший совет инквизиции, созданный несколько лет назад по воле их королевских величеств для более тесной связи с инквизицией, в прошлом редко собирался в полном составе. Однако ввиду последних событий и, кажется, по настоянию нескольких вельмож, король Фердинанд распорядился немедля созвать Совет. Итак, тридцатого ноября, в день св. Андрея, после ранней обедни три представителя высшего духовенства во главе с Великим инквизитором и столько же знатных вельмож, а также два доктора правоведения, достославные советники святой инквизиции, оставив своих приближенных в приемных покоях, ожидали в тронном зале прибытия короля и королевы. Их королевские величества не заставили себя долго ждать. Их сопровождал министр Франсиско Хименес — монах-францисканец.
Падре Гальвес не скрыл своего недовольства, когда после краткой речи короля Фердинанда, говорившего, как всегда, с трудом из-за мучившей его одышки, которая усиливалась по мере того, как он толстел, — слово взял дон Альфонсо Карлос, repuoi Медина Сидония, маркиз Кадикса. Ни для кого не было тайной, что, когда пять лет назад евреи впервые начали покидать селения и города подвластной инквизиции Севильи, он предоставил им убежище в своих владениях. Но то были дела давно минувших дней, и, быть может, молодой герцог, который с годами прозрел, хотел теперь отмежеваться от своего прошлого, ибо речь его была в высшей степени разумна и свидетельствовала о набожности и сыновнем признании заслуг священных трибуналов. Трудно было найти слова, лучше выражавшие верность христианскому учению, чем те, которые рассудительно, с чувством собственного достоинства и без тени высокомерия, произносил этот потомок одного из знатнейших родов королевства.
Их королевские величества с доброжелательным вниманием слушали дона Альфонсо Карлоса, остальные вельможи, в особенности герцог Карнехо, казалось, тоже отдавали должное уму самого молодого среди них. Не разделяли всеобщего одобрения только отцы инквизиторы и архиепископ Толедо кардинал де Мендоса, сохраняя выжидательную сдержанность. Многоопытность и рассудительность подсказывала им, что радоваться преждевременно, и они не обманулись, — вскоре Медина Сидония обнаружил свое истинное обличье.
— К сожалению, — после небольшой паузы, повысив голос, сказал он, — я обманул бы доверие высокого собрания и, главное, исказил бы истину, если бы умолчал о том, что многое из происходящего сейчас в нашем королевстве наряду с удовлетворением и гордостью вызывает у меня, и, наверно, не только у меня, чувство озабоченности.
В зале воцарилась тишина. Падре Гальвес беспокойно заерзал в кресле, а его преосвященство Торквемада поднял голову и устремил на молодого герцога испытующий взгляд.
— Вижу по вашему взгляду, досточтимый отец, вы хотите спросить, чтó именно вызывает у меня озабоченность?
Падре Торквемада на это ответил:
— Да, вы не ошиблись, ваша милость. В наши дни, когда повсеместно множатся преступления против веры, каждый христианин должен испытывать озабоченность. Вы это имели в виду?
— Да, но не только это. Всемилостивейшая королева, я отдаю должное строгости, с какой священные трибуналы преследуют и карают еретиков, но если они с такой же беспощадностью будут относиться к нам, знатнейшим людям королевства, обрекая на бесчестье тех, кто по рождению, заслугам и богатству не ровня простолюдинам, это принесет больше вреда, чем пользы. Вот чем вызвана моя озабоченность, досточтимые отцы.
— Чего вы достигнете, унизив и опозорив перед чернью потомков знатных родов? — вскричал герцог Корнехо. — Что вы сотворили в Арагоне? Разве не мы ваша опора, тот прочный фундамент, на котором должно зиждиться воздвигаемое вами здание?
Маркиз де Вильена, великан и толстяк, забыв о приличии, которое следует соблюдать в присутствии их королевских величеств, стукнул кулаком по поручню кресла.
— Вы что, святые отцы, ослепли или лишились рассудка? На кого дерзаете вы поднимать руку? Если и дальше так пойдет, может, вы и меня будете судить в вашем трибунале?
Снова наступила тишина. Первым нарушил ее падре Торквемада; его тихий, исполненный спокойствия голос резко контрастировал с взволнованной речью дона де Вильена.
— Вы не ошиблись, милостивый сеньор, — сказал он. — Да хранит вас Бог, чтобы этого не случилось.
Кровь бросилась в лицо сеньора де Вильены.
— Вы что, угрожаете мне, досточтимый отец?
— Кому понадобилось бесчестить посмертно сеньора де Сегуру? — вскричал герцог Медина. — Он предстал пред божеским судом, и Бог ему судья.
Падре Гальвес обратил к нему потемневшее от гнева лицо.
— Кого вы защищаете? Отравителя и изменника?
— Вы ошибаетесь, преподобный отец, — отвечал тот. — Я не сеньора де Сегуру защищаю, а честь рыцарского сословия. От греха и тяжких провинностей, как известно, никто не застрахован, даже самые знатные люди, но разве это значит, что их следует предавать огласке? Вместо того, чтобы сохранить преступление в тайне, умолчать о нем, вы делаете его достоянием толпы. Вы что, хотите восстановить против нас презренную чернь?
Король Фердинанд сидел на возвышавшемся троне, полузакрыв выпуклые глаза и положив толстые, коротковатые руки на широко расставленные колени. У набожной королевы Изабеллы вид был печальный и задумчивый. В тишине слышалось прерывистое дыхание сеньора де Вильены.
— Его милость, герцог Медина, прав: грехи и преступления могут стать уделом каждого, в том числе и высокородных. Но он глубоко ошибается, полагая, будто трусливое молчание мы должны предпочесть смелости открыто говорить правду. Что же вы нам посоветуете, милостивые господа? Или вы так невысоко цените правду, что ложно понятую честь своего сословия ставите выше нее?
— Нанося урон нашему сословию, вы тем самым наносите урон правде, — ответил герцог Корнехо.
— Нет! — вскричал Торквемада. — Если у нас хватает смелости обнажать даже самые болезненные язвы, это свидетельствует о нашей силе, в противном случае мы не смогли бы преследовать и карать зло. Еще раз спрашиваю: что вы предлагаете? Или закон и справедливость для вас пустой звук? Молчите? Тогда я отвечу вам: гордыня ваша сильней вашей веры. А если вера ваша ослабела, как же вы можете верить в торжество истины? На это я вам скажу: святая инквизиция никогда не поддастся подобным уговорам и даст отпор любым попыткам ослабить ее единство. Мы будем беспощадно отсекать от древа жизни засохшие и больные ветви.
Герцог Медина побледнел от гнева и вскочил с места.
— Всемилостивейшая королева! Сеньор де Сегура совершил тяжкий грех, — это правда, но в его жилах текла кровь знатнейшего испанского рода. Нельзя допустить такого страшного позора!
В ответ на это молчавший до той поры кардинал де Мендоса сказал:
— По-вашему, что есть позор — преступление или наказание?
— Тут раздаются голоса, призывающие к позору преступления присовокупить позор безнаказанности, — сказал падре Гальвес.
Король Фердинанд поднял руки. Его светло-голубые выпуклые глаза, словно ослепленные светом, казались осоловелыми как спросонья. Но в следующее мгновение, по-прежнему лишенные блеска, они смотрели уже с холодной проницательностью. А на красивых губах все еще погруженной в задумчивость королевы появилась едва приметная, тонкая улыбка, исполненная сладостной печали.
Тут заговорил король Фердинанд, медленно, словно в раздумье произнося слова:
— Мы божьей милостью, единодержавные владетели Арагона и Кастилии, Фердинанд и Изабелла, стоим на страже закона, и не гоже подданным, тем паче занимающим высокое положение в королевстве, просить наши величества нарушать его. — В этом месте король выпрямился, и голос его внезапно обрел силу: — Я и королева, во имя торжества справедливости, без устали предпринимаем усилия к объединению нашего королевства, и это встречает единодушную поддержку всего народа, ибо это наш священный долг. Сеньор де Сегура совершил тяжкое преступление, и ему нет пощады, таково наше королевское суждение. Однако, быть может, Господь в неизреченной доброте своей помилует его грешную душу, коль скоро мы употребим его имущество на столь благородное дело, коим является война с неверными. Это все, что мы можем сделать для сеньора де Сегуры и ему подобных. Что ты на это скажешь, дорогая Изабелла?
— Я согласна с тобой, — отвечала она.
— Ваше величество, — заметил маркиз де Вильена, — вы забываете о заслугах, какие оказали его предки и он сам королевству. С каких это пор черная неблагодарность свила гнездо в сердцах монархов?
Казалось, король вот-вот вспылит. Королева Изабелла тоже перестала улыбаться. Но тут выступил вперед фра Хименес.
— Гнев и обида — плохие советчики, — негромко сказал он, и его голос звучал мягко и примирительно. — Но уж если говорить о забывчивости, то разум подсказывает: этим недостатком страдают не их королевские величества, а некоторые господа невольно или умышленно забывают, что не они одни являются опорой королевской власти и Церкви. Полагаю, мы совершили бы большую ошибку, если бы недооценили роль городов и поселений, — объединившись в святое братство, они содействуют поддержанию порядка в королевстве. И еще не было случая, чтобы они выговаривали для себя у священного трибунала какие-либо привилегии.
— Наш католический народ, — сказал падре Торквемада, — не только не требует послаблений в вере, напротив, он благодарен святой инквизиции за то, что она устраняет тех, кому нет места в обществе.
После его слов наступило долгое молчание.
— Грозите нам расправой толпы? — глухим голосом сказал герцог де Медина.
— Хотите уничтожить нас и опереться на чернь? — прибавил сеньор де Вильена.
Тогда, резким движением отодвинув кресло, встал падре Торквемада.
— Боже милостивый! — воскликнул он. — Кто осмеливается говорить в этом собрании: вы и мы? Разве мы не составляем единое целое? Разве не объединяет нас единая вера и не един Бог живет в наших сердцах? Неужто между нами дошло до непримиримых разногласий, как между христианами и неверными? Помните, враг не дремлет, он подстерегает нас повсюду, ежечасно вершит сотни черных дел и готов нанести нам удар в спину, пользуясь нашей слабостью; он злорадствует по поводу малейших наших промахов и ошибок, для него все средства хороши, лишь бы посеять между нами рознь! И вот когда ради единства, — этого высшего закона нашей жизни, — надо поступиться мелкими, своекорыстными интересами, вы говорите: мы и вы. В таком случае позволительно спросить, что вы под этим подразумеваете? Так вот, милостивые сеньоры, мне не ведомо, чего хотите вы, но я, скромный монах, могу сказать вам, чего страждем мы, верные слуги Церкви. Мы страждем единства и подчинения догматам католической Церкви. И тут все мы равны, и у нас одинаковые обязанности в деле послушания. Нам известны ваши славные имена, ваши заслуги, известно нам и величие ваших предков, но, отдавая этому должное, мы хотели бы знать ваши мысли, и если они не расходятся с нашими, также оценить их по достоинству.
— Его величество изъявил уже свою волю, — сказал старый герцог Корнехо.
— Мы не станем с оружием в руках защищать честь де Сегуры, — прибавил сеньор де Медина.
На это досточтимый падре Торквемада ответствовал:
— Если бы меня спросили, что опасней: мятежные мысли или мятеж с оружием в руках, я бы ответил: первое таит в себе гораздо бóльшую опасность. Значит, вы подчиняетесь лишь королевской воле? А высшая правда, Бог для вас ничто?
В его голосе звучала такая сила, что трое вельмож опустили головы. Наконец, один из них, сеньор Корнехо, сказал:
— Да не оставит нас Всевышний своими милостями, да пребудет он навеки в наших сердцах.
Желая поведать потомкам историю своего времени, ученый инок так описывает в своей хронике заседание Высшего совета инквизиции:
«Несмотря на великое множество препятствий, чинимых даже особами весьма знатными, справедливость восторжествовала, и впредь, преодолевая все преграды и препоны, правда продолжала одерживать победу — и это вселяет в нас надежду, что недалеко то время, когда на земле настанет Царство Божие».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Давно уже не было в Леоне и Старой Кастилии такой суровой зимы, какая выдалась на переломе тысяча четыреста восемьдесят пятого и восемьдесят шестого годов. В декабре выпал обильный снег, и после оттепели в день Трех волхвов снова ударили морозы и неистово бушевали метели.
Сразу же после торжеств в день св. Доминика из Силос их королевские величества в сопровождении двора направились в лагерь, разбитый у стен Малаги, а Великий инквизитор, хотя ему спешно нужно было ехать в Рим, чтобы получить от вновь избранного папы Иннокентия VIII буллу, подтверждающую его полномочия, из-за неблагоприятной погоды вынужден был на несколько недель отложить отъезд. Холода отпустили лишь в последней декаде января; подул теплый южный ветер, снег начал быстро таять, и все предвещало раннюю, дружную весну.
Поскольку к италийскому путешествию уже давно все было готово, его преосвященство, невзирая на поступавшие отовсюду тревожные вести о сильном разливе рек, решил больше не откладывать отъезда и назначил его на Благовещенье.
Когда повсюду уже стало известно о том, что досточтимый отец со своей свитой кратчайшим путем намерен направиться в Барселону, а оттуда на специальном корабле королевской армады — в Неаполь, в Вальядолид прибыл и тотчас явился в Санта Мария ла Антиква некий фра Альваро, присланный отцами-доминиканцами из Вильяреаля. И в тот же самый день падре Торквемада после разговора с фра Альваро переменил свои планы и, хотя это было связано с немалыми дорожными тяготами и по меньшей мере на несколько недель откладывалось прибытие в апостольскую столицу, он решил сначала отправиться в Вильяреаль, полагая, что, коль скоро там придавали такое большое значение его личному присутствию на торжественном аутодафе в день св. Рамуальда, ему, главе всех священных трибуналов католического королевства, не пристало пренебрегать столь благочестивыми просьбами и пожеланиями.
Падре Торквемада сверх ожидания много времени посвятил доминиканцу из Вильяреаля. Когда доминиканец, успешно справившись со своей миссией, наконец простился, фра Дьего, который присутствовал при разговоре, сделал ему знак, чтобы он следовал за ним.
В это время малый церковный колокол зазвонил к вечерне. Они шли молча.
— Вы брат Дьего? — внезапно спросил доминиканец.
— Да, — приостановившись, ответил тот, а затем быстро зашагал дальше, опережая своего спутника.
— Брат Матео просил передать вам поклон, — продолжал доминиканец.
Продолжая идти все также быстро, фра Дьего остановился перед низенькой дверью.
— Вот ваша келья, — сказал он. — Вы, наверно, устали с дороги и нуждаетесь в отдыхе.
— Да, — ответил тот. — Когда я уезжал, брат Матео просил разыскать вас и передать вам поклон. И еще он велел сказать: «Брат Матео думает о тебе и молится за тебя Богу». Именно так он сказал. Кажется, я в точности передал его слова.
Дьего должен был сделать над собой немалое усилие, чтобы поднять голову и посмотреть прямо в лицо посланцу из Вильяреаля. Фра Альваро был одного с ним роста, такой же худощавый и щуплый, и лет ему было ненамного больше, чем ему. Его темные, не по возрасту серьезные, задумчивые глаза дружелюбно смотрели на Дьего.
— Отдыхайте в мире, брат Альваро, — сказал он, избегая его взгляда.
Ему стало вдруг холодно, и он торопливо зашагал по коридору, миновал внутреннюю галерею — совершенно пустынную в это время, так как монахи собрались в храме на богослужение — и стал спускаться вниз по лестнице, не вполне отдавая себе отчет, куда и зачем идет; у него было такое ощущение, будто его спина, грудь, плечи обернуты под сутаной мокрой тряпкой.
Внизу, около лестницы, сеньор де Кастро разговаривал с юным Лоренсо. Дьего хотел пройти мимо, но дон Родриго, посмотрев на него внимательно, спросил:
— Что с тобой, брат Дьего? Похоже, у тебя жар?
Голос у Родриго, обычно громкий и звучный, показался Дьего глухим, будто он доносился из-под земли или слышался сквозь плотную завесу тумана. Дьего с трудом поднял руку и, поднеся ее ко лбу, осознал, что его трясет, как в лихорадке. Он бессвязно пробормотал что-то дрожащим голосом и почувствовал, как кровь волной отхлынула от головы и лица, и его охватил холод, — что такой бывает, он не представлял себе — жуткий, смертельный, будто его заживо погребли в ледяной могиле. Последним проблеском сознания он уловил, что Родриго дотронулся до его плеча и сказал что-то, но что именно, он уже не понял.
— Да, — произнес он, стараясь говорить как можно громче, одновременно отдавая себе отчет, что с уст его слетел шепот, подобный тихому вздоху.
И, отвернувшись от обоих воинов, стал снова подниматься по лестнице. Шел он очень медленно, неуверенно, точно слепец, каждый шаг стоил ему невероятных усилий и казался последним.
На середине лестницы, совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, послышался голос Матео:
— Дьего, что ты наделал! Зачем добровольно предался в руки врагов?
— Замолчи! — прошептал Дьего. — Тебя здесь нет!
Однако он продолжал:
— Что бы ни случилось, заклинаю тебя, Дьего, не поступайся своей совестью.
— Ты лжешь, тебя здесь нет!
Он устремил взгляд туда, где кончается лестница. Но кроме темноты ничего не увидел.
— Почему вы не спите, сеньор? — спросил он с ласковым укором. — Скоро начнет светать. Достаточно того, что я бодрствую.
Никто не ответил. Вытянув руки, Дьего нащупал перила и поднялся еще на одну ступеньку.
— Отвечай! Ты здесь!
Но его не было.
— Мятежные мысли, — послышался голос его высокопреподобия, — не всегда облекаются в слова.
— Да пребудет с нами Бог, — отозвалось эхо голосом сеньора де Сегуры.
— Тебя нет! — вскричал Дьего.
— Зачем ты губишь себя? — спросил Матео где-то совсем рядом.
— Опять ты! — удивился Дьего. — Ведь тебя нет здесь!
— Не возлюбив ближнего своего сегодня, ты не смог бы презирать его завтра, — с самого верха лестницы, терявшейся во тьме, ответил Торквемада.
— Отче! — вскричал Дьего.
Он хотел подняться еще на одну ступеньку и, споткнувшись, ударился лбом обо что-то твердое и холодное. И тотчас пришел в себя. Он стоял у одной из колонн, поддерживавших низкие своды монастырского коридора. Вокруг было тихо. Только из храма доносилось пение монахов. Но вот оно смолкло, и заиграл орган.
Минутой позже Дьего вошел в келью Великого инквизитора. Тот стоял у высокой конторки и, как видно, был занят важным делом, потому что всегда благосклонный к своему молодому секретарю, он недовольно посмотрел на него и резко спросил:
— Что тебе нужно, сын мой? Разве ты не видишь: я занят?
Но когда Дьего упал ему в ноги, суровое выражение исчезло с его лица.
— Что случилось, сын мой?
— Отче! — воскликнул Дьего. — Прости, что осмелился прийти незваный, но то, в чем я должен тебе признаться, не терпит отлагательства.
— Прежде всего успокойся, сын мой.
— Я спокоен, отче. Насколько может быть спокоен человек, который чуть не совершил непоправимой ошибки. Однако я вовремя прозрел и прошу тебя о помощи. Отче, я тяжко провинился. По неразумению и слабости неокрепшего духа моего я хотел утаить от тебя свои мысли. Узнавши о предстоящей поездке в Вильяреаль, надумал я, употребив известные мне зелья, вызвать у себя мнимые признаки одной страшной болезни.
— Ты хотел остаться здесь?
— Да, отче.
— Должно быть, у тебя были на то важные причины?
— Важные в том смысле, что они открыли мне мою слабость. Меня охватил страх при мысли, что я окажусь в стенах монастыря, который был свидетелем моих заблуждений.
— Стены молчат, сын мой.
— Отче, ты ведь знаешь, бывает так: ревнителя веры сегодня, еще вчера, когда он многого не разумел, могли* одолевать греховные мысли.
— Что тебе сказать на это, сын мой? Осознание своих ошибок — первый и необходимый шаг к их преодолению.
— Но человек мог быть в своих заблуждениях не одинок и делился преступными мыслями с другим человеком.
— Зло, сын мой, хуже добра сносит одиночество. А человек этот жив?
— Да, отче. Он помнит обо мне и передает поклон.
— Думаешь, увидев тебя, он усомнится в твоем благочестии и бросит тень на твое доброе имя?
— Не знаю, отче. Человек он замкнутый и смиренный, хотя его мысли не во всем согласны с учением Церкви.
— Значит, он отступник?
— Он никогда не склонял меня ни к чему дурному. И говорю я об этом лишь потому, что, будучи приближен к тебе и облачен таким доверием, должен беречь свое имя от малейшего навета, который может опорочить меня и оклеветать. Если бы речь шла только обо мне, меня бы это не тревожило.
— Мы все недостойны того великого дела, которому служим.
— Потому, отче, я и стою перед тобой на коленях. Покаявшись тебе во всем, я сейчас только окончательно уразумел, что не должен таить посещающие меня недостойные, греховные мысли. Только признание своих ошибок и помощь старших убережет меня от опасных соблазнов и сохранит в чистоте мои помыслы.
— Возьми перо и пергамент, — сказал Торквемада.
Дьего встал с колен.
— Слушаю, отче.
— Приготовился?
— Да, отче.
— Итак, пиши: «Преподобным отцам инквизиторам архиепископства Толедского в Вильяреале». Написал?
— Да, отче.
— «Мы, фра Томас Торквемада, доминиканец, приор монастыря Санта Крус, исповедник их королевских величеств, Великий инквизитор королевства Кастилии и Арагона сим предписываем данной нам властью виновного в тяжком преступлении против веры…»
— Фра Матео Дара, доминиканца, — подсказал Дьего.
— «…фра Матео Дара, доминиканца, немедля заключить в тюрьму святой инквизиции и подвергнуть строжайшему допросу, пока он не признается в своих еретических мыслях, а если он будет запираться, на веки вечные отлучить его от святой католической церкви». Кончил?
— Да, отче.
— Подай мне перо.
Исполнив это, Дьего отошел в сторону. Торквемада, выпрямившись и, как дальнозоркие люди, держа бумагу на отлете, прочел ее и быстрым росчерком пера поставил свою подпись.
— Отче, — прошептал Дьего, снова склоняясь к коленям Торквемады.
Тот возложил руку ему на голову.
— Много месяцев я ждал этого.
— Ты, отче?
— Я знал: рано или поздно настанет день, когда, отбросив всякие сомнения и колебания, ты окончательно обретешь себя. И сегодня день этот настал. Возблагодарим же Господа, возлюбленный сын мой.
Волнение мешало Дьего говорить, и он молча припал губами к руке инквизитора. Он был бесконечно счастлив, его переполняло чувство свободы и безопасности, словно преследовавшие его доселе сомнения остались за внезапно и навсегда захлопнувшейся тяжелой дверью.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Шли годы, за это время произошло много различных событий, и великое дело объединения католического королевства успешно подвигалось вперед.
В августе тысяча четыреста восемьдесят седьмого года в день святой Елены сдалась правоверным Малага, а через неполных пять лет, в конце тясяча четыреста девяносто второго года король Фердинанд после многолетней осады овладел Гранадой. Итак, на Иберийском полуострове был уничтожен последний след некогда могущественного мавританского королевства, и современный поэт с законной гордостью воспел это в таких словах: «Едина паства, един пастырь, едина вера, един король и меч единый».
Теперь, когда наступил мир, которому предшествовали длившиеся несколько веков кровопролитные войны, можно было направить все усилия на то, чтобы единая вера восторжествовала на объединенных землях. В минувшем году по указанию Великого инквизитора на городских площадях и перед храмами были сожжены тысячи еретических древнееврейских книг; священные трибуналы при поддержке воинов Святой Эрманады бдительно охраняли чистоту христианской веры, однако несмотря на все старания сотни тысяч некрещеных иудеев продолжали жить на испанской земле, ростовщичеством и обманом наживая богатства и безнаказанно совершая свои богопротивные обряды. Зло следовало вырвать с корнем.
Вскоре после торжественного вступления их королевских величеств в Гранаду по стране поползли слухи, будто в недалеком будущем король и королева намерены издать эдикт об изгнании иудеев из пределов испанского королевства с предварительной конфискацией их имущества. Вести эти — пока еще недостоверные — встретили самую горячую поддержку широких кругов верующих. Между тем богатые иудейские семьи, стремясь предотвратить нависшую над ними беду, под предлогом возмещения расходов, понесенных в последней войне, выразили готовность выплатить их королевским величествам выкуп в размере тридцати тысяч дукатов. Сумма была огромная, и король Фердинанд, знавший цену деньгам, стал колебаться, не принять ли ее. Королевой Изабеллой тоже овладели сомнения, ибо, находясь под влиянием вольнодумных учений, она склонна была считать, что изгнание евреев в некотором смысле противоречит христианскому милосердию. Итак, в то время как эти слухи породили тревогу и беспокойство у тех, кто жил в согласии с Богом, иудеи не теряли надежды, что безжалостная судьба, уже обрушившая на них столько ударов, на этот раз пощадит их, избавив от окончательной катастрофы. Уверовав во всемогущество золота и алчность монархов, они недооценили те силы, для которых торжество истины было превыше всего. И вот во второй половине января Великий инквизитор, покинув Толедо, вскоре прибыл в Севилью, где в то время находились их королевские величества со своим шумным, многолюдным двором.
Всего двенадцать лет назад, — а казалось, с тех пор прошла целая вечность, — когда первые инквизиторы, доминиканцы Мигуэль Морильо и Хуан де Сант Мартин, приехали в Севилью, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей, они не могли найти себе помощников, и их королевские величества вынуждены были выслать из Медины дель Кампо новую грамоту, обязывающую городские власти Севильи и епархиальные Кадикса оказать содействие вновь назначенным духовным сановникам. За минувшие годы на квемадеро в Севилье костры пылали чаще и числом их было больше, чем в каком-либо другом городе Испании, и, как оказалось, пламя их самым благотворным образом воздействовало на души и умы верующих.
На улицы и площади Севильи высыпали несметные толпы, чтобы приветствовать Великого инквизитора. Солдаты Святой Эрмандады с трудом поддерживали в городе порядок. Был теплый солнечный день. Во всех храмах как в самом городе, так и на другом берегу Гвадалквивира в предместье Триан, звонили колокола. С раннего утра к расположенным с северной стороны воротам Пуерта дель Соль тянулись нескончаемые процессии монахов и духовенства с хоругвями и иконами. Вместе с ними Великого инквизитора встречали у городских ворот знатнейшие вельможи и рыцари Андалузии. Маркиз Кадикса герцог Медина Сидония дон Альфонсо Карлос первым соскочил с коня, чтобы приложиться к руке его высокопреподобия.
К сожалению, благочестивым устремлениям верующих во всем блеске и великолепии увидеть Великого инквизитора не суждено было исполниться, — Торквемада из-за преклонного возраста и убывающих сил уже не мог путешествовать на манер рыцарей верхом на коне. Он въехал в город в итальянской карете, запряженной четверкой белых лошадей, и, поскольку телохранители и свита окружали ее тесным кольцом, мало кому из многочисленной толпы удалось лицезреть Великого инквизитора.
Его сопровождал фра Дьего Маненте, незадолго пред тем назначенный секретарем Высшего инквизиционного совета. Тяготы пути утомили его преосвященство, и, казалось, поглощенный своими мыслями, он мало внимания обращал на пышную встречу в его честь, на толпы горожан, ожидавших его благословения. Минувшие годы не пощадили его. Он заметно постарел; черты его осунувшегося лица заострились, морщинистая кожа пожелтела и истончилась, особенно на висках, губы были бескровные, глубоко запавшие глаза, утратив прежний блеск, глядели устало и безучастно, словно он отрешился уже от суетных дел мира сего.
Фра Дьего в отличие от Торквемады торжественная встреча не оставила равнодушным. Он тоже за это время сильно изменился, но не постарел, а, напротив, возмужал и был в расцвете сил. Он раздался в плечах, пополнел, лицо* у него стало гладким, — не то, что прежде, — и даже несколько одутловатым, и в этом преисполненном собственного достоинства и важности человеке трудно было узнать юношу, всего несколько лет назад одолеваемого мучительными сомнениями и тревогами.
Меж тем процессия Великого инквизитора поравнялась с дворцом герцога Кортехо и продвигалась к храму Санта Мария. Громко и разноголосо гремели колокола окрестных храмов — среди них особенно выделялись Сан Маркое, Сан Юлиан и Санта Паоло из женского монастыря св. Иеронима; звон плыл над толпой, ликующими криками славившей Иисуса и пресвятую богородицу. Доминиканцы, шедшие по двое бесконечно длинной вереницей, затянули божественный гимн, и их пение, сливаясь с колокольным звоном, криками толпы, бряцанием оружия и конским топотом, вознеслось над домами и скопищем людей, и была в нем такая истовая вера, что казалось, оно достигало неба, огромным, лазурным куполом раскинувшегося над землей.
— Поистине поучительное зрелище, — громко, помужски твердо сказал фра Дьего.
Торквемада поднял усталые глаза. Рядом с каретой на могучем вороном коне андалузской породы ехал капитан фамилиаров дон Лоренсо де Монтеса. Это благодаря ему несколько месяцев назад, во время продолжительного пребывания в Толедо, стало известно о предосудительной связи дона Родриго де Кастро с девицей иудейского происхождения. Уличенный в недостойном рыцаря позорном поступке, он был приговорен священным трибуналом к лишению дворянства, состояния и пожизненной ссылке, а на его место назначили сеньора Монтесу, ибо преданность и добродетельный нрав выделяли его среди высокородных господ из окружения Великого инквизитора.
— Посмотри, святой отец, как тебя любит и чтит народ! — воскликнул фра Дьего.
— Да, — произнес Торквемада и откинулся в глубь кареты.
За последние годы Дьего уже привык к тому, что Торквемада часто молчал в его присутствии. Сначала он чувствовал себя виноватым и, не находя за собой вины, страдал. Но впоследствии он так уверовал в свою непогрешимость, что решил: уничижение лишь затмевает ясность суждений. И долгие раздумья святого отца, безразличие к делам, которые еще совсем недавно не были ему безразличны, он приписывал его преклонному возрасту. Впрочем, несмотря на отягощавшее его бремя лет, падре Торквемада, когда была в том надобность, выказывал прежнюю ясность ума и несгибаемую волю. И как гласила молва, проявлял еще большую непримиримость к малейшим отклонениям от веры. И хотя из-за убывающих сил вынужден был ограничить свои поездки по стране, имя его, окруженное любовью и почетом, а также вызывающее страх и лютую ненависть, было вездесущим, напоминая о себе людям, где бы они ни находились.
Фра Дьего, который наблюдал Торквемаду в его каждодневной жизни, лучше чем кто бы то ни было понимал, насколько этот, точно вытесанный из гранитной глыбы, человек превосходит своих современников.
И на этот раз, несмотря на крайнюю усталость, Торквемада доказал, что фра Дьего не ошибся в нем.
Их королевские величества догадывались, чем вызван приезд Великого инквизитора в Севилью. Как король, так и королева умели считать деньги и прекрасно понимали, что, давая согласие на изгнание евреев и конфискацию их имущества, они получат сумму, значительно превышающую выкуп. Однако королева Изабелла, руководствуясь соображениями милосердия, готова была довольствоваться выкупом и настолько освоилась с этой мыслью, что часть денег, которые должны были поступить в казну, уже предназначила на морскую экспедицию в Западную Индию, о которой уже давно и упорно, как о сулящей огромную выгоду, докладывал ей некий генуэзец, Христофор Колумб. Со своей стороны, король Фердинанд менее щепетильный в вопрдсах морали, когда дело касалось политики, не мог не прислушаться к мнению тех, кто, заглядывая в будущее, предрекали, что торговля в результате изгнания без малого восьмисот тысяч евреев придет в упадок, и это будет иметь неблагоприятные последствия для королевства. Трезво оценив положение, он, однако, не мог отделаться от беспокойства, что тем самым малодушно предает великую идею единого католического государства, продиктованную соображениями высшего порядка и привлекавшую его и королеву, с той самой поры, когда они воссели на троне объединенного королевства. Раздираемый противоречиями, он со дня на день откладывал окончательное решение, а поскольку ему было ясно, с какой целью прибыл Торквемада, он с неудовольствием воспринял известие о его приезде.
Холодный прием, оказанный их королевскими величествами Торквемаде, резко отличался от того энтузиазма, с каким встречали его при въезде в город.
Его высокопреподобие вошел, опершись на плечо Дьего, — в последнее время ему было трудно обходиться без посторонней помощи, особенно после столь утомительного путешествия.
— Рад видеть ваши королевские величества в добром здравии, овеянных славой столь желанной народу победы, — сказал он.
— Воистину, Господь внял нашим просьбам, — отвечала на это Изабелла.
Торквемада помолчал с минуту, словно подыскивая нужные слова, и, наконец, сказал:
— Надеюсь, и другие ваши благие пожелания и просьбы будут услышаны Богом.
Тут прерывавшимся от гнева и одышки голосом заговорил король:
— Благие? К сожалению, в некоторых вопросах мы расходимся с тобой, святой отец, в том, что есть благо. На тебя, святой отец, поступают жалобы. Твоя безоглядная жестокость доставляет нам неприятности. Не далее, как несколько дней назад, мы получили бреве его святейшества папы Александра. Он огорчен и возмущен тем, что по твоему попущению начато следствие по делу его преосвященства архиепископа Севильи. Ты вменил ему в вину иудейское происхождение, не имея, как оказалось, на то достаточных оснований. Папа укоряет нас в попустительстве творимому беззаконию. Что прикажешь отвечать святейшему отцу? Чем объяснить содеянную несправедливость?
Слушая короля, его преосвященство продолжал молча стоять, опираясь на плечо Дьего. Когда, излив гнев, король умолк, чтобы перевести дух, он выпрямился и выступил вперед.
— Прошу ваши королевские величества простить меня, — неожиданно громким голосом сказал он, — но я прибыл сюда не по делу архиепископа. До меня дошли слухи, будто иудеи останутся в королевстве. Правда ли это?
Королева покраснела, а король исподлобья взглянул на стоявшего перед ним старца.
— Да, — промолвил он. — Такова наша воля.
— Ну что ж, будь по-вашему! — воскликнул Торквемада. — И пускай во всех христианских государствах узнают, как попирается религия в католическом королевстве. Иисуса Христа единожды уже предали за тридцать сребреников. Теперь вы вознамерились продать его за тридцать тысяч дукатов.
Король передернулся и широко раскрытым ртом вдохнул воздух.
— Святой отец, ты говоришь с королевой и королем.
Торквемада подошел к столу, на котором стояло серебряное распятие, и, взяв его в руку, поднял вверх.
— Вот он, Иисус Христос! Возьмите и продайте его!
Наутро королевской канцелярией был издан эдикт, и геральды немедля зачитали его на городских площадях. Он гласил: по воле los Reyes Catolicos[18] все некрещеные иудеи под страхом сурового наказания в течение трех месяцев, оставив все свое имущество, должны навсегда покинуть пределы испанского королевства.
В тот же самый день, заранее не оповестив ни двор, ни ближайшее свое окружение, Торквемада решил покинуть Севилью. Лишь под вечер вызвал он сеньора де Монтесу и объявил ему о своем решении незамедлительно отправиться в Сеговию.
Вскоре карета Великого инквизитора, окруженная вооруженным отрядом, выехала из монастыря Санта Клара, а поскольку уже стемнело, оруженосцы освещали факелами путь, пролегавший по пустынным улицам спящего города. Покинув пределы города через ворота Пуэрта дель Соль, отряд поскакал по дороге в Кордову.
Была тихая, безветренная, звездная ночь, и ореол вокруг выплывшей из темноты огромной ярко-желтой луны предвещал хорошую погоду.
Торквемада молчал, но спать ему не хотелось. В последнее время он все меньше нуждался в отдыхе и часто долгие ночные часы проводил без сна, а иной раз, предаваясь одиноким раздумьям, не смыкал глаз до самого рассвета. Сначала у фра Дьего было благое намерение бодрствовать вместе с ним, но постепенно усталость и равномерное покачивание кареты сморили его.
Ночь светлела, озаренная лунным сиянием, факелы погасили, и вооруженный отряд быстро продвигался вперед по гладкой равнине, чьи очертания все отчетливей проступали из темноты. Фра Дьего, склонив голову на плечо, громко храпел. А Торквемада по-прежнему сидел прямо и лишь время от времени плотней закутывался в плащ, словно ему было холодно.
Было уже около полуночи, а может, и позже, когда падре Торквемада вдруг беспокойно заерзал и громко, словно отвечал невидимому собеседнику, сказал:
— А что, если все это ошибка?
Фра Дьего тотчас проснулся.
— Ты звал меня, отче? — спросил он.
— Нет, сын мой. Спи спокойно, — помолчав немного, ответил тот.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Упомянутый уже летописец записал в своей хронике:
«В первой половине сентября года тысяча четыреста девяносто восьмого от рождества спасителя нашего Иисуса Христова на шестнадцатом году исправления своей должности Великий инквизитор королевства Арагона и Кастилии его преосвященство падре Томас Торквемада семидесяти восьми лет от родуу прибывши в город Толедо, тяжко занемог.
По достоверным свидетельствам современников, — в особенности, ближайшего поверенного Великого инквизитора секретаря Высшего инквизиционного совета преподобного отца Дьего Мантене, доминиканца, впоследствии инквизитора Сарагосы, а в сие благословенное время, когда к приумножению славы господней описываются события, имевшие место в недавнем прошлом, Великий инквизитор католического королевства, — досточтимый падре Торквемада, несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, отправился из Вальядолида в Толедо, обрекая себя на тяготы путешествия, дабы лично расследовать запутанное дело некоего Лоренсо Переса, ремесленника из Бурхилоса и осветить его в истинном свете католической веры.
Если столь знаменитый и благочестивый муж придавал этому делу такое значение, мы тоже не вправе упомянуть о нем вскользь, дабы нас не упрекнули в том, что, ослепленные мнимым блеском нашумевших событий, мы легкомысленно умалчиваем о делах менее известных, но свидетельствующих о торжестве непреходящих истин. Итак, мы остановимся поподробней на процессе Лоренсо Переса, ибо так велит нам тяжкий, но сладостный долг служения Всевышнему.
Сей Лоренсо Перес, мужчина лет тридцати восьми, в то время, о котором ведем мы рассказ, был заключен в тюрьму и предстал перед священным трибуналом в Толедо по обвинению в том, что с наглым бесстыдством закоренелого еретика распространял богопротивные слухи, будто бы не существует ни дьяволов, ни демонов, ни прочей нечисти, стремящейся завладеть человеческой душой.
Досточтимый падре Торквемада, ознакомившись с присланными ему показаниями обвиняемого, почел для себя не то что желательным, а прямо-таки необходимым лично расследовать на месте это дело, и, хотя — по свидетельству очевидцев — приближенные к нему особы и даже их королевские величества отговаривали его от столь тяжелого путешествия, он настоял на своем, подавая нам пример должной в деле веры самоотверженности.
Согласно протоколам судебных заседаний святой инквизиции, с которыми мы ознакомились с разрешения церковных властей, упомянутый Лоренсо Перес, представ перед священным трибуналом, признался дословно в следующем:
«Начиная с детских лет меня неотступно преследовали всевозможные беды и несчастья, и вот, когда терпеть стало уже невмоготу, я воззвал к дьяволу, пообещав ему за помощь свою душу. Много раз призывал я его, но все напрасно. Он не являлся мне. Тогда обратился я к одному бедному человеку, слывшему колдуном. Он сказал, что сведет меня к женщине, более сведущей по части ворожбы; о ней ходили слухи, будто в лунные ночи, приняв обличье черного козла, она заманивала в пустынные места молодых парней, и те, потеряв стыд, раздевались догола и, обратившись тоже в черных козлищ, натирались испражнениями жаб и воронов и сообща служили святотатственный молебен князю тьмы. Пошел я к этой женщине. Она посоветовала мне три дня подряд ходить на гору Сан Эстебан, что за деревней, и призывать Люцифера, восклицая: „Ангел света!“ и при этом поносить святую троицу и христианскую веру. Я сделал все, как она велела, но никто не явился. Тогда она говорит: выкинь четки, образок и собственной кровью напиши расписку дьяволу. Исполнил я и это. Но дьявол так и не показался. Когда я перепробовал все средства, мне пришло в голову, что, если бы нечистая сила, действительно, существовала и стремилась завладеть человеческими душами, более подходящий случай ей вряд ли бы представился, потому как я очень хотел продать черту душу».
Тут христианину впору воскликнуть: «Боже всемогущий, да разве сии слова не свидетельствуют со всей очевидностью о том, что в него вселился бес. Ведь коварство дьявольских козней в том и состоит, что человек лишается способности распознать врага рода человеческого.
Но как ни старался Сатана опутать невежественного ремесленника, прозорливая мудрость Великого инквизитора вывела его на чистую воду.
Известно было, что его высокопреподобие только в очень редких случаях лично допрашивал обвиняемых в вероотступничестве. Праведник и большой знаток теологии, он досконально изучил человеческую натуру, и это позволяло ему выносить правильные суждения по любому делу на основании одного лишь обвинительного акта. Мало кто с такой ясностью, как он, понимал, что излишние подробности только затемняют суть преступления; и еще одно свойство отличало его ум — он знал: даже самый незначительный проступок не возникает на пустом месте, и одно преступление всегда влечет за собой другое. Но на этот раз падре Торквемада изменил своему обыкновению и, несмотря на нездоровье, лично возглавил заседание священного трибунала и вел допрос, чтобы, невзирая на запирательство обвиняемого, установить истину.
Первоначально вознамерились мы своими словами поведать о ходе судебного разбирательства, но святой дух снизошел на нас, и мы впору уразумели: не гоже наши притязания противопоставлять мудрости, вдохновленной свыше, ибо силы наши несоразмерно малы, и сие будет лишь жалкой потугой передать истину. Итак, пускай сама истина глаголет нашими устами.
Согласно протоколам Лоренсо Перес предстал перед священным трибуналом восьмого сентября тысяча четыреста девяносто восьмого года; на заседании присутствовали: его высокопреподобие Великий инквизитор, отцы-инквизиторы Толедо, секретарь Верховного совета инквизиции преподобный отец Дьего Маненте, а также два нотариуса: монахи-доминиканцы по имени Николас и Паскуаль.
Досточтимый падре Торквемада задавал вопросы, а подсудимый Лоренсо Перес отвечал.
Токвемада. Обвиняемый, признайтесь чистосердечно, ничего не тая, в своих прегрешениях.
Перес (молчит).
Торквемада. Обвиняемый, вы ознакомились с обвинительным заключением?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. Обвиняемый, вы признаете себя виновным?
Перес. Признаюсь, что призывал дьявола, но он не явился.
Торквемада. Я спрашиваю вас, обвиняемый, не кого вы призывали, а признаете ли вы себя виновным?
Перес. Нет, ваша милость, не признаю.
Торквемада. Обвиняемый, вы христианин?
Перес. Да.
Торквемада. И полагаете, что принадлежите к римско-католической церкви?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. Известны ли вам церковные догматы, которым надлежит верить каждому христианину?
Перес. Ваша милость, если дьявол существует, почему же он не явился по мою душу, ведь я отдавал ее по своей воле?
Торквемада. Я спрашиваю вас, обвиняемый, известны ли вам церковные догматы, которым надлежит верить?
Перес. Я — человек неученый, ваша милость.
Торквемада. Вы признались, что не верите в существование Сатаны. Подтверждаете ли вы свои показания?
Перес. Клянусь вам, ваша милость, дьявол в самом деле не явился по мою душу.
Торквемада. Значит, вы подтверждаете правильность своих показаний?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. Вы говорите, что вы человек неученый.
Перес. Так оно и есть, ваша милость.
Торквемада. Значит, не из книг почерпнули вы утверждение, будто Сатаны нет.
Перес. Нет, не из книг.
Торквемада. На чем же тогда основано ваше утверждение?
Перес. Клянусь, ваша милость, я говорил чистейшую правду и ничего не утаил.
Торквемада. Обвиняемый, слушайте внимательно. Я еще раз спрашиваю: на чем основано ваше утверждение, будто Сатаны не существует и нечистая сила не губит души людские?
Перес (молчит).
Торквемада. Вы ссылаетесь на свой опыт. Итак, может, здравый рассудок подсказал вам, что Сатаны нет?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. В согласии с учением Церкви священный трибунал верит в существование Сатаны и его губительное воздействие на души людей. Может, обвиняемый полагает: священный трибунал лишен здравого рассудка?
Перес (молчит).
Торквемада. Почему вы не отвечаете?
Перес. Не знаю, ваша милость. Это недоступно моему разумению. Мне ведомо только одно: я призывал дьявола, хотел продать ему душу, а он не явился, значит, его, наверно, нет.
Торквемада. Как по-вашему, обвиняемый, на земле существует зло?
Перес. О, да, ваша милость! Зла на свете очень много.
Торквемада. Обвиняемый, вы испытали на себе, что такое зло?
Перес. Кроме зла, я ничего другого не видел в жизни.
Торквемада. И вы по-прежнему продолжаете утверждать, что Сатаны нет?
Перес. Если бы он был, ваша милость…
Торквемада. Обвиняемый, я еще раз спрашиваю, утверждаете ли вы, будто Сатаны не существует?
Перес. Да.
Торквемада. Если Сатаны нет, кто же, по-вашему, виновник зла?
Перес (молчит).
Торквемада. Обвиняемый, вы верите в Бога, создателя земли и небесной тверди?
Перес. Как же я могу не верить в Бога?!
Торквемада. Значит, вы считаете, что зло сотворил Бог?
Перес. Клянусь, ваша милость, я никогда ничего такого не говорил.
Торквемада. Вы продолжаете настаивать на том, что Сатаны нет?
Перес. Ваша милость, но ведь он не явился…
Торквемада. Отвечайте: есть Сатана или нет?
Перес. Зло сотворил на земле не Господь Бог.
Торквемада. Священный трибунал верит вам, обвиняемый, что вы чистосердечно отвергаете святотатственную мысль, будто Бог сотворил на земле зло.
Перес. Благодарю вас, ваша милость.
Торквемада. Скажите, обвиняемый, вы чей подданный?
Перес (молчит).
Торквемада. Подданный их католических величеств королевы Изабеллы и короля Фердинанда?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. Кому в католическом королевстве принадлежит высшая власть?
Перес (молчит).
Торквемада. Их королевским величествам?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. А еще кому?
Перес (молчит).
Торквемада. Католической церкви?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. Итак, вы свидетельствуете, что власть в католическом королевстве принадлежит их королевским величествам и католической церкви?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. Опираясь на показания обвиняемого, священный трибунал пришел к заключению, что он признался в злоумышлении против светской и духовной власти.
Перес. Я — злоумышленник?! Да у меня, ваша милость, ничего такого и в помыслах не было.
Торквемада. Священный трибунал исходит из показаний обвиняемого, и это его голословное утверждение не заслуживает доверия. Вы ведь не отрицали того, что на земле существуем зло?
Перес. Да, я говорил это, ваша милость.
Торквемада. Итак, как утверждает обвиняемый Перес, виновником зла является не Сатана, ибо, по его словам, Сатана вообще не существует. Что Всевышний сотворил зло, обвиняемый тоже отрицает. Кто же тогда, по его разумению, виновник зла, если не власть предержащие?
Перес (молчит).
Торквемада. Священный трибунал свидетельствует: обвиняемый Перес, которому вменяется в вину тяжкий грех ереси и вероотступничества, во время следствия высказывал злокозненные мысли, якобы в существовании зла на земле повинны светские и духовные власти.
Перес. Ваша милость, клянусь, я никогда так не думал.
Торквемада. Значит, священный трибунал лжет?
Перес (молчит).
Торквемада. Подозревая священный трибунал во лжи, обвиняемый подтверждает тем самым свои собственные показания о наличии у него злокозненных намерений.
Перес. Ваша милость, я признаю себя виновным.
Торквемада. В чем признаете вы себя виновным?
Перес. По глупости и неразумению своему я заблуждался, но, клянусь Богом, никогда не злоумышлял против власти. Я верю, что Сатана существует и он виновник всех зол на земле.
Торквемада. У священного трибунала нет никаких оснований верить в искренность этого признания. Известно ли вам, обвиняемый, что злоумышление против их королевских величеств карается смертью?
Перес. Известно, ваша милость. Но у меня никогда не было злокозненных мыслей. Признаюсь, я заблуждался, и это великий грех. Я верю, Сатана существует, и он сотворил на земле зло.
Торквемада. У священного трибунала нет оснований верить обвиняемому, ибо это его признание вызвано не столько искренним раскаянием, сколько страхом наказания. Спасти вас может лишь чистосердечное признание.
Перес. Бог свидетель, я говорю чистейшую правду!
Торквемада. Обвиняемый, вы напрасно боитесь. Священный трибунал для того и существует, чтобы наставлять заблудших на путь истины. К сожалению, священный трибунал не может прийти вам на помощь, потому что вы сами не хотите себе помочь. Признайтесь во всем чистосердечно.
Перес. Я сделаю это.
Торквемада. Милосердие Божие беспредельно. Назовите священному трибуналу имена тех, кто был с вами в заговоре против королевских величеств и Церкви?
Перес. Боже милостивый!
Торквемада. Обвиняемый, напоминаю вам: священный трибунал терпеливо ждет ваших признаний и взывание к Богу не может их заменить.
Перес. Ваша милость, досточтимые отцы, я никогда не принадлежал ни к какому заговору.
Торквемада. Припомните хорошенько.
Перес. Клянусь, я никогда не был заговорщиком. Я — простой человек. Чего вы от меня хотите?
Торквемада. Правды!
Перес. Зло сотворил Сатана.
Торквемада. Кто вместе с вами состоял в заговоре против их королевских величеств и Церкви?
Перес. Не принадлежал я ни к какому заговору, ваша милость. Умоляю, поверьте мне! Да, я заблуждался, и бес в том повинен, это он впутал меня в эту историю.
Торквемада. Священный трибунал, руководясь заботой о спасении вашей души, охотно поверит вам.
Перес. Благодарю, ваша милость.
Торквемада. Но сначала вы должны доказать свою невиновность.
Перес. Не понял, ваша милость.
Торквемада. Вы утверждаете, что не состояли в заговоре и не злоумышляли против светской и духовной власти. Чем вы можете доказать это?
Перес. Я ни в чем не виноват.
Торквемада. Докажите.
Перес. Ваша милость, клянусь, за всю мою жизнь мне никогда не приходило в голову бунтовать против властей.
Торквемада. За минуту перед тем вы добровольно сознались в том, что высшие власти королевства повинны в распространении зла на земле.
Перес. Бес меня попутал, ваша милость.
Торквемада. Еще раз повторяю вам, обвиняемый; для священного трибунала нет ничего желанней, как поверить вам. Ради спасения своей души, докажите священному трибуналу, что вы, действительно, никогда не принадлежали к заговору и не имели злокозненных намерений.
Перес. Клянусь Спасителем, я ни в чем не повинен.
Торквемада. Это единственный довод, который вы можете привести в свое оправдание?
Перес. Что же я еще могу сказать, ваша милость?
Торквемада. Это вам лучше знать.
Перес (молчит).
Торквемада. Означает ли ваше молчание отказ привести убедительные доказательства в свое оправдание?
Перес. Я не отказываюсь, ваша милость, но Бог свидетель, я ни в чем не виноват.
Торквемада. Священный трибунал с прискорбием удостоверяет: несмотря на многократные увещевания, обвиняемый упорно отказывается привести доводы в доказательство того, что никогда не злоумышлял против светских и духовных властей и не принадлежал к заговору, который ставил своей целью насильственное низвержение установленного в королевстве правопорядка. Таким образом, подсудимый со всей очевидностью признает себя виновным. Как известно, монархи заботятся о земных благах для своих подданных, а попечение о душе человеческой Господь Бог возложил на святую Церковь. Так вот, обвиняемый с преступным упорством стремится попрать сии человеческие и Божеские установления, обвиняя светские и духовные власти в попущении злу. Невзирая на это, священный трибунал, движимый заботой о спасении души обвиняемого, еще раз призывает его чистосердечно во всем признаться. На предварительном следствии обвиняемый признался в том, что потратил немало времени и усилий, стремясь призвать дьявола. Вы подтверждаете это?
Перес. Да, ваша милость. Я ходил к той женщине, которая слыла колдуньей, потому как очень хотел продать душу дьяволу.
Торквемада. А убедившись в том, что дьявола якобы не существует, с кем вы делились своими сомнениями?
Перес. Не помню, ваша милость.
Торквемада. Со сколькими людьми говорили вы об этом?
Перес (молчит).
Торквемада. Священный трибунал верит, что обвиняемому изменила память. Дабы помочь ему и дать время на размышления, заседание священного трибунала переносится на завтра.
На другой день, девятого сентября, на заседании, на котором присутствовал священный трибунал в прежнем составе, Лоренсо Перес продолжал давать показания.
Торквемада. Продолжается следствие по делу Лоренсо Переса, обвиняемого в распространении взглядов, противоречащих учению римско-католической церкви, а также в участии в разветвленном заговоре, который ставил своей целью насильственное свержение королевской и церковной власти. Обвиняемый, хотите ли вы что-нибудь добавить к данным ранее показаниям?
Перес. Да, ваша милость.
Торквемада. Священный трибунал слушает вас.
Перес. Ваша милость, досточтимые отцы, благодарю вас за предоставление мне единственной и последней возможности — не оправдаться и не умалить свои прегрешения, а, напротив, выставить их во всей чудовищной неприглядности. Если бы молитва такого злодея, как я, могла быть услышана Богом, я молился бы за вас, преподобные отцы, ибо, хотя я так низко пал и погряз в грехах, вы не погнушались протянуть мне руку помощи и споспешествовали уразумению всей мерзопакостности моего преступления. Но, не смея осквернять престол Господний, вознося к нему недостойные свои молитвы, я хочу смиренно покаяться в грехах в назидание всем тем, кто, подобно мне, погрязнул в бездне зла. Да, немало выпало мне на долю невзгод и бед, но вместо того, чтобы, веруя в беспредельное милосердие Божие, покориться судьбе и озаботиться спасением своей души, обуянный непомерной гордыней, я, недостойный, попрал церковные установления и, забыв о святой истине, которая превыше всего, и отравив себя злокозненными помышлениями, вознамерился заключить сделку с дьяволом, не разумея того, что, отрекаясь от святой веры и потакая своим богопротивным мыслям, я тем самым уже оказался в вечной кабале у врага рода человеческого. Теперь понял я, святые отцы: дьяволу не было нужды являться мне, ибо я добровольно уже предался ему. Но это еще не все. Желая спасти свою жизнь, я изворачивался и хитрил, но теперь, благодаря вам, препрдобные отцы, я прозрел: только искренне, чистосердечно признавшись в содеянном, смогу я обрести единственно возможное для меня спасение, то есть понести кару, заслуженную мной по законам Божеским и человеческим. Уверовав в дьявола, я ступил на гибельный путь, и возврата к праведной жизни для меня уже не было, за одним преступлением неизбежно должны были последовать другие, еще более чудовищные. Оказавшись сам во власти Сатаны, я распространял вредоносные слухи о том, будто бы он не существует и не губит человеческие души; сея смуту и отравляя умы, я тем самым подрывал основы христианской веры и выдавал ложь за правду. Осознав, что в алчности своей зло не знает предела, я вижу теперь: это еще не все, ибо, когда я вступил в сговор с дьяволом, мной всецело овладела ненависть к добру, и, жалкий червь, непомнящий, что я всем обязан их королевским величествам и Церкви, я встал на путь открытой борьбы с высшей властью в королевстве, уподобясь преступнику, для которого нет ничего святого и который поднял руку на отца своего и матерь свою. Виновный в столь тяжких преступлениях, я не заслуживаю никакого снисхождения и единственно о чем прошу вас, досточтимые отцы, изберите для меня самое суровое наказание, ибо только оно поможет мне очиститься от грехов и послужит справедливым возмездием за содеянное мной зло.
Торквемада. Обвиняемый, можете ли вы назвать имена своих сообщников?
Перес. Да, ваша милость, я готов назвать имена всех тех, кто по моему наущению примкнул к преступному заговору, ибо только таким образом я послужу ко спасению их душ от вечной погибели.
Торквемада. Священный трибунал слушает вас.
В списке названных Лоренсо Пересом лиц значится несколько десятков мужчин, юношей и женщин, проживающих в Бурхилосе и его окрестностях, но приводить его здесь не имеет смысла, ибо не имена, мало известные в прошлом и тем паче в настоящем, а их число, свидетельствуют о важности этого дела.
Однако одного из разоблаченных преступников следует назвать в назидание потомкам, а именно: священника Мигеля Варгаса; будучи исповедником Переса, он при исполнении своих обязанностей проявил преступную близорукость и заслуживающее всяческого порицания отсутствие бдительности.
Всесторонне и досконально расследованное досточтимым отцом Великим инквизитором дело Лоренсо Переса, хотя он сам и его сообщники были простолюдинами, красноречиво свидетельствует о том, к каким тяжелым преступлениям ведет малейшее отступление от веры. Диавол повсюду коварно расставляет свои сети и с нетерпением выжидает, как бы обратить себе на пользу человеческую слабость и тем паче необузданную гордыню ума. Юдоль земная — великое поле битвы, но людям возвещена единая истина, и, объединившись вокруг нее и служа ей, мы должны твердо верить: небесная твердыня устоит против вражеских происков и неприятель в бессильной злобе своей потерпит поражение.
Долг летописца велит нам прибавить к уже сказанному о процессе над Лоренсо Пересом, что в месяце марте, в день св. Иосифа, все благочестивые жители Толедо имели возможность присутствовать на возвышающем души торжестве по случаю предания очистительному пламени еретика и мятежника Лоренсо Переса и его сообщников. Те, чья вина была не столь велика, понесли менее суровое наказание — одних приговорили пожизненно к галерам, других к церковному покаянию и денежному штрафу и всех без исключения к лишению прав, а их потомкам по мужской линии до третьего колена запрещалось исполнять какие-либо государственные или общественные должности.
Радуясь, что справедливость восторжествовала, мы, однако, не можем не выразить сожаления по поводу того, что тот, кто, не щадя сил, способствовал выявлению истины, не увидел ее окончательного триумфа.
На другой день после того, как Лоренсо Перес признал свою вину, досточтимый отец Торквемада занемог, и, хотя лекари и приближенные к нему особы скрыли от него, насколько опасно его состояние, предчувствие приближающейся смерти не обмануло его, и он выразил желание умереть в родном Авиле. Никто не осмелился воспротивиться воле умирающего.
Утром тринадцатого сентября года от рождества Христова тысяча четыреста девяносто восьмого, озаботившись предварительно об удобствах для больного, приближенные и телохранители Великого инквизитора покинули Толедо, чтобы проводить досточтимого отца в последнее земное странствие».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Едва завечерело, но было уже совершенно темно, дул ветер, и накрапывал дождь, когда кортеж Великого инквизитора, целый день продвигаясь трактом вдоль подножья Сьерры де Гредос, достиг, наконец, перевала через Санта Анну и по извилистой, головоломной дороге стал спускаться к Старо-Кастильскому плоскогорью. Пустынная и дикая местность в довершение ко всему пользовалась дурной славой: окрестные бароны грабили и убивали путешественников, и сюда, в особенности, в ночную пору, не решались заглядывать даже солдаты Святой Эрмандады.
Великий инквизитор ехал в повозке с полотняным верхом. Хотя она подвигалась вперед очень медленно, ее то и дело подкидывало и бросало из стороны в сторону на предательских колдобинах; вся в рытвинах и камнях дорога была к тому же скользкой. За перевалом дождь прекратился, но сырой туман, поднимаясь из долины, становился все гуще. К уже горящим факелам прибавились новые, но это мало помогало: их свет едва мерцал в тумане белесыми пятнами. В темноте шумел поток.
Дон Лоренсо де Монтеса ехал рядом с повозкой, и лошадь ступала под ним так легко и уверенно, будто по гладкой дороге средь бела дня. Падре Дьего, заслонив плащом лицо от ветра, приблизил к нему своего коня.
— Дон Лоренсо, — сказал он, — боюсь, досточтимый отец не выдержит тягот пути. Он слабеет с каждым часом.
Де Монтеса сидел в седле свободно и прямо, будто не было на нем тяжелых доспехов, и взгляд его голубых глаз, казалось, зрит сквозь мрак и туман.
— Что прикажешь, преподобный отец? — спросил он.
— Ты знаешь эти места?
— Я родом из-под Авилы.
— Где здесь можно остановиться на ночь?
Де Монтеса протянул вперед руку.
— В четверти часа езды отсюда находится castello.[19]
— Чей?
— Господ де Лара.
Справа, по невидимому отвесному склону, с грохотом скатывались камни.
— Если я не ошибаюсь, — в раздумье сказал падре Дьего, — потомок этого славного рода — дон Мигуэль де Лара?
— Да, отче.
— Это правда, что его отец женился на язычнице из рода Абенсеррагов?
— Да, преподобный отец, но она перешла в нашу веру.
— Этот дон Мигель, кажется, не пользуется хорошей репутацией?
— Я не знаком с ним, — последовал ответ. — Но говорят, он выше всего ценит свободу.
Лошадь преподобного отца поскользнулась, но он не дал ей упасть, с силой натянув поводья.
— Знаю я этот сорт людей, — презрительно заметил он. — Они ценят свободу, не зная или, что еще хуже, не желая знать, что такое истинная свобода.
— Именно это я хотел сказать, — поспешил прибавить дон Лоренсо. — Итак, что прикажешь, преподобный отец?
— Его преосвященство нуждается в отдыхе, — ответил падре Дьего.
Замок господ де Лара, действительно, находился неподалеку. Темной громадой навис он над дорогой, вздымая ввысь свои башни и стены. Подобно каменному гнезду, прилепился на краю отвесной скалы, а внизу под ним шумела бурливая река.
Тесно сбившиеся лошади скользили на узкой крутой дороге, ведущей к замку; туман был уже не такой густой, но в лицо дул пронизывающий ветер. Несколько лучников соскочили с коней, чтобы поддержать тяжелую повозку.
Оказавшись под стенами замка, падре Дьего, подавленный их суровостью, пожалел о своем решении, но отступать было уже поздно. Затрубили в рог, и, прежде чем смолк его звук, вверху раздался громкий голос:
— Кто вы такие и чего вам надо?
Сеньор де Монтеса, тронув коня, подъехал ближе.
— Именем короля и королевы, откройте! — прокричал он.
После долгой паузы другой голос спросил молодо и звонко:
— Кто говорит от имени короля и королевы?
— Его преосвященство досточтимый отец Великий инквизитор, — отвечал де Монтеса.
— Падре Торквемада? — удивленно прозвучал в темноте молодой голос. — Что могло привести ко мне да еще в такую позднюю пору высокопреподобного отца Великого инквизитора?
Де Монтеса нетерпеливо дергал поводья, и с губ его уже готов был сорваться дерзкий ответ, когда падре Дьего положил ему руку на плечо.
— Не пристало нам, дон Лоренсо, отвечать заносчиво и грубо, — тихо сказал он и, слегка повысив голос, сказал со спокойным достоинством: — Слава Иисусу Христу.
Ответа не последовало. Тогда он спросил:
— Я говорю с господином де Ларой?
— Да, — ответили со стены.
Падре Дьего должен был сделать над собой немалое усилие, чтобы не показать, как возмутил его этот самоуверенный голос.
— Тяжелые и печальные обстоятельства понуждают нас просить у вас гостеприимства, — сказал он. — Досточтимый отец Великий инквизитор, сраженный недугом, направляется в Авилу, но мы опасаемся, он не выдержит тягот дальнейшего пути, если этой ночью не отдохнет.
— Господин Великий инквизитор в самом деле так тяжело болен? — спросил де Лара, даже не пытаясь скрыть своего безразличия.
— Дело обстоит так, как я сказал, — после недолгого молчания ответил падре Дьего.
— Войдите, — последовал ответ. — Десяти рыцарей достаточно для сопровождения его высокопреподобия?
На этот раз падре Дьего не удалось скрыть возмущения, и он воскликнул:
— Боже правый, ведь мы приходим в этот дом не с мечом, а со смирением и скорбью.
— Ладно, — отвечал де Лара. — Будьте все моими гостями.
Прошло немало времени, прежде чем опустили разводной мост и открыли ворота. Наконец, когда это было сделано, падре Дьего вместе с де Монтесой, опережая медленно катившуюся повозку, первыми въехали под низкие своды вратной башни. Когда они миновали ворота, их глаза, привыкшие к темноте, ослепил свет горящих факелов и смолистых лучин. Лишь мгновение спустя они разглядели в тени, за ярким заревом, множество неподвижно стоявших рыцарей и стражей, которые кольцом окружали двор. Несмотря на великое множество людей, во дворе было тихо; безмолвием веяло и от стен и башен замка, которые казались темней ночи, и лишь сухой треск горящих факелов нарушал тишину.
Улыбающийся и очень моложавый дон Мигель в окружении своры охотничьих собак встречал гостей у входа в галерею, ведущую во внутренние покои. Он был без оружия в свободного покроя красном кафтане с большим вырезом и голубых шальварах, наподобие тех, что носят арабы. Его наряд, а также смуглое лицо и разрез черных, горящих глаз делали его похожим скорее на мавра, чем на правоверного кастильского гранда.
Сойдя с лошади, падре Дьего с трудом подавил гнев, овладевший им при виде молодого отпрыска рода де Лара. Он рассчитывал, что, согласно принятому обычаю, тот встретит его как подобает его положению и сану. Но дон Мигель, все также приветливо улыбаясь, молчал и, казалось, нимало не смущаясь затянувшейся паузой, с беззаботным видом гладил ластившихся к нему собак. Тогда падре Дьего решился заговорить первым.
— Мир тебе, сын мой, — сказал он.
Тот молча поклонился, продолжая гладить собак. В это время неподалеку от них остановилась повозка Торквемады, и пустое пространство двора заполнила многочисленная свита инквизитора.
«Глупец! — подумал падре Дьего. — Все равно рано или поздно длань справедливости покарает тебя», а вслух сказал:
— Я полагаю, сын мой, ты понимаешь, какая это для тебя честь принимать в своем доме его высокопреподобие Великого инквизитора.
Дон Мигель оттолкнул огромную борзую, положившую передние лапы ему на грудь.
— Пошел прочь, — мягко и ласково проговорил он, а затем обратился к падре Дьего: Я не гонюсь за почестями, милостивый господин. К чему мне они? Как видите, у меня все есть. — И прибавил, сопровождая свои слова изысканно-светским жестом: — Прошу вас, пройдите в дом. Слуги проводят вас. Вы, верно, хотите, чтобы вас поместили с его преподобием?
— Да, — отвечал падре Дьего. — Его состояние требует того.
Затем дон Мигель обратился к капитану телохранителей Великого инквизитора. Тот стоял нахмурившись и молчал.
— Вы господин де Монтеса?
Дон Лоренсо вздрогнул.
— Откуда вы меня знаете?
— Кто же вас не знает, — отвечал тот и прибавил: — Прошу вас, входите.
И, отгоняя собак, спустился по узкой лестнице, чтобы уступить дорогу людям, которые выносили из повозки бесчувственное тело Великого инквизитора.
На лице падре Торквемады почила тень смерти. В первую же ночь в дороге его частично парализовало, и он лишился сознания и речи. И сейчас, когда его вносили на руках по лестнице, он не подавал признаков жизни. Колеблемое ветром пламя факелов отбрасывало на его неподвижное, безмолвное лицо пятна света и тени. Один глаз у него был открыт: страдальчески сосредоточенно устремленный ввысь, в беспредельную ночную тьму, он казался незрячим, словно земные дела уже больше не существовали для него.
Сеньор де Монтеса с помощью оруженосца снял доспехи и тотчас отослал его: ему хотелось побыть одному. Но когда, подсев к камину, чтобы согреться, он представил себе, что ему предстоит одинокая ночь, его охватило беспокойство. Несмотря на усталость, спать не хотелось.
Отведенная ему комната была невелика, но, подобно остальным, через которые он проходил, обставлена с роскошью, какая не часто встречается в замках самых богатых и знатных вельмож. Тут все претило аскетическим привычкам сурового воина. Пол устилали дорогие ковры, древние стены украшала разноцветная мозаика, до неприличия много места занимало низкое ложе; напротив камина красиво инкрустированный стол овальной формы полукругом окружала покрытая узорчатой тканью софа со множеством мягких подушек. Веяние Востока чувствовалось даже в воздухе, напоенном благоуханием розового масла.
На столе был приготовлен для гостей ужин: немного холодного мяса, хлеб и фрукты. Дон Лоренсо, не притрагиваясь к еде, налил себе вина. Сладкое и ароматное, оно было очень крепким. Но, выпив, он не ощутил желаемого результата… После нескольких бокалов на сердце стало еще тяжелей, и мысли, от которых он хотел отделаться, назойливо лезли в голову.
Вокруг царила тишина. Блики огня, играя на сложенных перед камином доспехах, казалось, были единственными признаками жизни. И хотя было еще не поздно, создавалось впечатление, будто замок погружен в глубокий сон.
Де Лара вошел так тихо, что дон Лоренсо только тогда повернул голову от камина, когда увидел в полосе света перед собой тень человека. При виде де Лары он вскочил слишком резко и поспешно. Но дон Мигель сделал вид, словно не заметил этого.
— Я пришел узнать, не нужно ли вам чего-нибудь? — сказал он.
На нем был темно-пунцовый балахон с затейливым златотканым узором, и этот домашний наряд делал его в глазах Монтесы еще более чуждым. На какой-то миг он почувствовал себя в присутствии этого человека чуть ли не варваром. Но пробудившаяся гордость тотчас прогнала эту унизительную мысль, и он небрежным тоном сказал:
— У тебя превосходное вино. Садись и выпей со мной. Ты живешь в этой глуши, как в сказке.
— Ты полагаешь? По правде говоря, мне трудно судить, можно ли назвать это сказкой или нет. Просто я живу, как мне нравится.
Дон Лоренсо громко рассмеялся.
— Однако излишней скромностью ты не отличаешься. И говоришь об этом таким тоном, словно даешь понять: только ты один можешь себе позволить жить, как хочется. Ты в самом деле так думаешь?
— Нет, — отвечал дон Мигель. — Я не ставлю себе этого в заслугу. Просто одни люди живут согласно своим склонностям, а другие — вопреки им.
— Конечно, первых, как я догадываюсь, по-твоему, отличают всевозможные добродетели, в том числе необычайная храбрость.
— Ты угадал. В наше время, чтобы иметь собственное суждение, надо обладать храбростью.
— Как видно, нынешние порядки тебе не слишком по вкусу?
— Напротив, я отдаю должное их беспримерной справедливости.
— В самом деле?
— До сих пор, как известно, между людьми не было равенства. Одним судьба благоприятствовала больше, другим — меньше. А сейчас страдание уравняло всех.
Дон Лоренсо нахмурился.
— Ты рассуждаешь, как еретик.
— Я говорю то, что думаю.
— Тем хуже для тебя, если ты так думаешь.
— А не кажется ли тебе, сеньор, что посреди всеобщих бедствий меньше страдает тот, кто умеет их предвидеть?
— Не знаю. Я привык считать, что побеждает тот, кто вообще даже не помышляет о неудаче.
— Я не сомневался, что ты именно так думаешь. Но ведь дороже надежды нет ничего.
Дон Лоренсо наполнил вином кубок и, поднеся его ко рту, твердо сказал:
— Надежда не знает поражений.
— Тем хуже, — сказал дон Мигель.
— Для надежды?
— Нет, для тех, кто ею обольщается.
Дон Лоренсо сделал нетерпеливое движение.
— Трудно поверить, что, будучи таким молодым, ты самому себе обязан столь глубоким знанием жизни. Признайся, дон Мигель, у тебя были, наверно, незаурядные наставники?
— Незаурядные? Нет, пожалуй, это были люди заурядные, но они достойны того, чтобы о них упомянуть. Может, тебя, сеньор, это удивит, но до некоторой степени я тебе обязан тем, что случай свел меня с одним из них.
Дон Лоренсо повернул к нему налившееся кровью лицо.
— Поостерегись, дон Мигель. Я могу пренебречь тем, что я твой гость, если ты не перестанешь говорить загадками.
— Я не хотел тебя обидеть, дон Лоренсо, — спокойно ответил де Лара. — Ты спрашивал меня о моих наставниках, так вот об одном из них я хочу тебе рассказать.
— Но ведь не я же им был?
— Конечно, не ты, сеньор.
— Какое же это имеет ко мне отношение?
— Скорее ко мне, чем к тебе. Послушай. Несколько лет назад в такую же дождливую погоду, как сейчас, мои люди обнаружили пониже перевала Санта Анна едва живого, оборванного человека. Они привели его в замок. Он проболел много недель, но спасти его так и не удалось. И через несколько месяцев он умер.
Наступило молчание.
— Кто же был этот человек? — спросил дон Лоренсо.
— Его имя вам несомненно хорошо известно. Это был дон Родриго де Кастро.
На лице дона Лоренсо не дрогнул ни один мускул. Он медленно осушил свой кубок.
— Забавные вещи рассказываешь ты, дон Мигель, — небрежным тоном сказал он. — Вот уж никогда не думал, что он осмелится вернуться. Что же он тебе говорил? Небось выставлял себя жертвой чудовищной несправедливости?
— Напротив, — отвечал дон Мигель, — по его мнению, священный трибунал не может ошибаться. И хотя обстоятельства вынудили его оставаться в моем доме, он не скрывал того, что ему неприятно пользоваться гостеприимством человека, чей образ мыслей он не разделяет. Думаю, в глубине души он меня презирал.
— Значит, он так и не расстался со своей сатанинской гордыней?
— Прежде всего, мне кажется, с верой.
— С верой? Во что?
— Вы меня спрашиваете об этом?
Дон Лоренсо пожал плечами.
— До сих пор я считал его негодяем, но, если верить твоим словам, он просто-напросто безмозглый дурак. На что он рассчитывал, желая вернуться? Неужели он был так наивен, что надеялся на прощение?
— Нет. Его заветным желанием было служить. Он думал, что скоро поправится и под вымышленным именем наймется матросом на корабль Колумба. Для этого он и бежал из ссылки. Вот и все.
Дон Лоренсо попытался встать, но не смог, так он отяжелел от вина. «Я слишком много выпил», — подумал он. Но голос его, хотя и несколько хриплый, прозвучал твердо, когда он спросил:
— Чему же тебя научил господин де Кастро?
— Тебя удивило, когда я сказал, что дороже надежды ничего нет. Так вот, никто не мог бы убедительней доказать мне это, чем сеньор де Кастро. Теперь тебе понятно, почему я говорил, что ты косвенным образом повлиял на мое воспитание?
Дон Лоренсо нетвердым движением протянул руку за вином.
— Немногому же ты научился, дон Мигель. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты считаешь, я погубил этого человека, чтобы занять его место. Можешь не возражать. Меня не интересует ни твое, ни вообще чье бы то ни было мнение. Люди глупы. И никак не хотят понять, что в этой жизни все очень просто. Если бы я не воспользовался удобным случаем и не послал де Кастро ко всем чертям, он не преминул бы сделать то же самое со мной. Ему для этого даже не понадобилось бы предлога, он бы его просто придумал. Но разве ты, сеньор де Лара, можешь понять это? Чтобы понять, надо испытать это самому. Надо погрязнуть в этом болоте, понимаешь? Сделаешь из самых лучших побуждений один неверный шаг — и пропал. Как ни рвись, ни мечись, провалишься только еще глубже. Право, дон Мигель, ты смешон со своим жизненным опытом. Клок трухлявой соломы стоит и то больше. Пойдем со мной на рыночную площадь, и ты сам убедишься в этом. Преподобный падре Дьего и сотни ему подобных за одну ночь обратят в персть твои прекраснодушные фразы. Ты вот распространялся о храбрости. Все это чушь! Что такое храбрость? Ее вообще нет. Есть только страх. Поначалу человек пытается сопротивляться ему. Он лжет или молчит. Но ложь и молчание лишь уснащают почву для страха. И постепенно человек со всеми своими мыслями и чувствами становится его добычей. Во всем изверившись, ты убеждаешься в конце концов, что только страх никогда тебя не оставит. Один он тебе верен. На него можно положиться: он не покинет, не предаст. Приняв это как должное, можешь жить спокойно и споспешествовать пришествию Царства Божия. Вот она правда, если хочешь знать. А ты, сеньор Мигель, что сделал, чтобы ускорить пришествие Царства Божия? Ничего. Тогда что же можешь знать? Ровным счетом ничего.
Дон Мигель со скрещенными на груди руками неподвижно стоял у камина.
— Судя по твоим словам, — с минуту помолчав, сказал он, — жизнь у тебя нелегкая. За откровенность отплачу тебе тем же. Так вот, признаться, я не сочувствую тебе.
Дон Лоренсо с презрением посмотрел на него.
— Несмотря ни на что, я не предполагал, дон Мигель, что ты так наивен. Неужели ты думаешь: я нуждаюсь в твоем сочувствии? К чему оно мне? Из нас двоих ты на что-то еще надеешься. Тешишь себя иллюзией, что сумеешь преодолеть страх, когда этого потребуют обстоятельства. Со своей воображаемой храбростью ты больше должен дорожить жизнью, чем я.
На лице дона Мигеля выступил легкий румянец.
— Это что, предостережение? Если таков смысл ваших слов, вы напрасно себя утруждали. Я знаю, что меня ждет.
Дон Лоренсо внезапно почувствовал нечеловеческую усталость.
— Ничего ты не знаешь, — тихо сказал он и хотел еще раз повторить это, как вдруг дверь с силой распахнулась, и на пороге показался падре Дьего в накинутом на плечи дорожном плаще.
— Дон Лоренсо! — воскликнул он. — Я пришел возвестить тебе великую радость. Досточтимый отец пришел в сознание и распорядился немедля трогаться в путь. Едем!
Дон Лоренсо вскочил на ноги; на его красивом, еще очень юном лице усталости как не бывало.
— Воистину великая радость, — проникновенно сказал он и кликнул оруженосца, чтобы с его помощью надеть доспехи.
Падре Дьего, оглядев комнату и, казалось, только сейчас заметив дона Мигеля, приблизился к нему с сияющим лицом.
— Прости, сын мой, что доставили тебе столько хлопот, и хотя мы недолго пользовались твоим гостеприимством, прими нашу благодарность, ибо, переступая порог сего дома в печали, мы покидаем его с надеждой.
Дон Мигель молча поклонился.
— При встрече ты сказал, сын мой, — продолжал падре Дьего, — что тебя не влекут почести и слава. Это говорит о твоей похвальной скромности. Но, Бог мой, куда это годится, чтобы потомок такого знатного рода прозябал в глуши, в стороне от государственных дел? Надеюсь, ты не будешь на нас в претензии, если мы при первом же удобном случае напомним о тебе их королевским величествам. Вне всякого сомнения тебе будут рады в столице.
— Сеньор де Монтеса только что рассказывал мне о преимуществах столичной жизни, — с любезной улыбкой сказал он.
— Это делает ему честь, — отечески доброжелательным тоном заметил падре Дьего. — Итак, до встречи, сын мой. Да храни тебя Бог.
Со двора доносилось конское ржание и голоса разбуженных людей из свиты Великого инквизитора.
Придя в сознание, падре Торквемада ненадолго заснул, но сон не подкрепил его. И несмотря на страшную усталость, очнувшись, он внезапно почувствовал, что должен во что бы то ни стало бодрствовать. Прошло какое-то время, прежде чем он понял, что находится в пути. Совсем рядом слышалось поскрипывание колес, фырканье лошадей и равномерное цоканье подков по каменистой дороге. Сильный ветер трепал полотняный верх повозки, а под ним было тихо и покойно. Он подумал: хорошо бы заснуть, но острое чувство беспокойства, от которого он проснулся, не покидало его. Лежа неподвижно, он прислушивался к себе, безуспешно пытаясь разобраться, в чем причина овладевшей им тревоги. И вдруг он понял: он был не один, хотя рядом как будто никого не было. Он открыл глаза. Со всех сторон его окружал мрак.
— Ты здесь? — без удивления спросил он.
— Здесь, — эхом отозвался в темноте усталый голос, похожий на его собственный. — Я всегда с тобой, ибо верность — неотъемлемое свойство моей натуры. Согласись, досточтимый отец, я молчал столько лет не по своей вине. Но теперь, кажется, мне будет позволено говорить.
— Говори, — сказал Торквемада.
— Благодарю, досточтимый отец. Я ценю твое великодушие, тем более что до сих пор ты обращался со мной весьма сурово.
— Чего тебе надо?
— Понимаю, ты хочешь, чтобы я сразу приступил к делу. И правильно, зачем понапрасну терять время, особенно, если учесть, что у тебя его осталось совсем мало. Не осуждай меня за многословие и не думай, что я по природе своей болтлив, — это следствие вынужденного многолетнего молчания.
— Ты мог молчать: я говорил и действовал за тебя.
— Да, это правда. Я давно уже заметил: тот, кто поставил перед собой задачу осчастливить человечество, прекрасно обходится без меня. Создается странное положение, и люди поверхностные склонны даже считать, будто во мне вообще нет нужды. Но это не так, и они глубоко заблуждаются. Иногда стоит целый век молчать, чтобы в конце концов получить возможность высказаться. Заранее никогда неизвестно, сколько придется ждать, поэтому надо всегда быть, как говорится, в боевой готовности. Я не люблю повторяться, но хочу еще раз подчеркнуть, что верность ценю больше всего. Впрочем, ты лучше, чем кто-либо другой, должен это понять и оценить. Разве ты сам не хранил всю жизнь обет верности? И не потому ли ты позволил мне сейчас заговорить, что понял: я остался верен тебе, в то время как ты сам себе изменил. Ты правильно сделал, призвав меня.
— Я не звал тебя, — тихо сказал Торквемада.
— Верно, не звал. Но тем не менее я не только нахожусь рядом, но разговариваю с тобой, высказываю свои суждения, а это нечто новое в наших отношениях. Давай подумаем вместе: чем объяснить эту новацию? Но сначала надо решить: появился ли я извне или объявился в тебе? Надеюсь, такая постановка вопроса тебя не удивляет? Ведь, в сущности, все зависит от правильного истолкования фактов. Итак, появился я извне или объявился? По здравом размышлении я высказался бы за версию объявления, потому что как же можно говорить о появлении того, кто всегда с тобой? Но почему я объявился в тебе? Это вопрос серьезный. Думаю, я буду недалек от истины, если выскажу такое предположение: по целому ряду объективных причин в тебе несколько ослабла бдительность, и моя верность из пассивного или статичного состояния перешла в активное. Именно это я имел в виду, когда говорил: иногда целый век стоит молчать, выжидая подходящего случая. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Даже очень сильным личностям свойственны бывают сомнения, и вера их может поколебаться. Признаться, досточтимый отец, я глубоко сострадаю сомневающимся. Человек, преисполненный веры, не нуждается во мне, но в тяжелые минуты сомнений, когда свет истины меркнет, я прихожу ему на помощь. И вот тогда я в полной мере осознаю, какое огромное счастье обладать непоколебимой верой. Твои сомнения, досточтимый отец…
Торквемада открыл глаза и сказал в темноту:
— У меня нет сомнений.
— Понятно. Все это я уже много раз слышал. Люди так нуждаются в вере, что склонны выдавать за нее даже неверие. Хорошо, пусть будет так. Значит, у нас с тобой нет сомнений, и мы оба верим в истину. Но боюсь, что, до сих пор одинаково разумея суть ее, сейчас мы несколько расходимся в ее толковании и оценке. Кто же из нас прав? Разве может быть две правды?
— Нет.
— Верно! Я тронут твоим признанием и вижу: хотя само понятие истины ты толкуешь несколько произвольно, но ее основополагающим, не подлежащим ревизии положениям ты остался верен. Это очень важно. Я полагаю, мы должны сосредоточить внимание не на различии наших точек зрения, а на том, что их сближает и объединяет. Итак, правда одна.
— И ты ее ненавидишь.
В темноте послышался притворно-печальный вздох.
— Это я уже тоже слышал. И больше всего осуждали меня ренегаты и отступники. Ведь приверженность истине вызывает лютую ненависть у тех, кто сам изменил ей, не правда ли?
— Продолжай.
— С удовольствием. Однако я полагал: ты позволил мне разверзнуть уста — прости за высокопарное выражение — не иначе как руководясь желанием обменяться со мной мнениями и согласовать наши взгляды. Ведь, в сущности, мы представляем собой ничто иное, как совокупность воззрений. О себе я не говорю. Мои мысли чисты и неопровержимы, как истина, которой я служу.
— Чтобы уничтожить ее.
— К чему такие сильные выражения! Как это ни прискорбно, досточтимый отец, но я замечаю, ты тоже не исключение из общего правила. Увы, каждый человек, которого одолевают сомнения, в конце концов деградирует. До сих пор твои речи были достойны государственного мужа, а сейчас ты выражаешься, как сентиментальный писака. Где свойственная твоим мыслям острота, сжатость и целенаправленность? Неужели для того ты всю жизнь боролся с разными завиральными идеями, чтобы в конце концов самому стать их жертвой. Прошу тебя, досточтимый отец, заклинаю всем святым, давай говорить как люди серьезные, умудренные опытом, руководствуясь разумом, а не чувствами, которые не поддаются контролю.
Торквемада молчал.
— Ты уснул, святой отец?
— Нет.
— Почему же ты не отвечаешь? Понятно, ты хочешь заставить меня таким образом замолчать. Но что тебе это даст? Ты ведь знаешь, я не могу уйти.
— Знаю.
— Ну, допустим, я исполню твое желание и замолчу.
Наступила тишина. Торквемада думал: «Я создал систему и, как следствие ее, людей, которые ей служат. Что делать с ними, если система оказалась бредовой и пагубной? Как ликвидировать террор, если он породил людей, которые видят в нем смысл жизни? Уничтожить их, прибегнув к террору?»
Спустя минуту рядом послышался голос:
— Я молчал, но ты меня слышал.
Торквемада открыл глаза.
— Да, — прошептал он, — я слышал тебя.
— Ну и что?
— Ты лжешь. Люди против террора.
— Бедняжки! Невинные овечки!
— Перестань издеваться.
— Значит, ты больше не считаешь людей слабыми, жалкими существами, достойными презрения?
— По нашей вине они стали еще хуже. Я ошибался.
— Можно узнать, в чем именно?
— Во всем.
— Это звучит гордо. Ты всегда был максималистом. Все! Не хочешь ли ты этим сказать, что изменить следует тоже все? Не думай, досточтимый отец, меня это нисколько не пугает. На этом свете перемены в порядке вещей. Надо только выработать к ним правильный подход. По моему убеждению, ошибка как таковая вообще не существует. Что такое ошибка? Это неправильное понятие, которому мы противопоставляем правильное. А что такое реальность? Это то, что сейчас, в данный момент правильно и оправданно. Почему? Потому что понятие оправданности формирует реальность по своему подобию, в конечном счете само становясь ею. Из этого следует: только оправданная реальность реальна, но как только она становится неоправданной, она перестает быть материальной субстанцией, и — это ясно, как дважды два — объективно ее как бы не существует. Может быть, бессознательно ты затронул проблему, которая меня давно занимает. Видишь ли, в регулярном отмирании рудиментарных или совсем изживших себя форм и нарождении новых я усматриваю важнейшую закономерность истории. Как я уже говорил, все зависит от правильного подхода к явлениям. Больше того, от правильного их декретирования. Ты понимаешь, досточтимый отец, что я хочу этим сказать? Трансформация существующего в несуществующее должна распространяться на все без исключения, но этот процесс не может носить стихийный характер, его надо направлять и планировать. Тут я хотел бы сделать одну маленькую оговорку. Мы сошлись с тобой на том, что оправданное явление, становясь неоправданным, объективно перестает существовать. Но история не терпит пустоты. Только новое может вытеснить старое. Чтобы умертвить идею, нужна идея. Принимая это в соображение, я полагаю, ты возвестишь миру новую идею.
— Не мучай меня, — прошептал Торквемада, — я устал.
— Прости меня. Впрочем, человеческая усталость — это вопрос, который меня тоже интересует. Правильное дозирование усталости относится к наиболее сложным задачам власти. Нельзя допускать, чтобы люди уставали недостаточно, но в то же время не следует создавать такие условия, при которых усталость была бы чрезмерной. В обоих случаях человек становится опасным. Обратил ли ты внимание, что между самонадеянностью и отчаянием есть некое сходство, в том смысле, что различные эти состояния приводят к схожим последствиям. А нас прежде всего должны интересовать именно последствия, потому что, как правило, преодоление последствий представляет большие трудности, чем устранение причин; это последнее обычно не доставляет много хлопот. Если говорить о твоей усталости, она не вызывает опасений — это явление естественное. Я прямо-таки восхищаюсь тобой, досточтимый отец. Встречаются ведь неуравновешенные натуры, которые начинают вдруг бунтовать в середине жизни. Насколько ты, досточтимый отец, оказался прозорливей этих безумцев! Одной ногой уже стоя в могиле, ты все еще исполнен желания совершенствовать мир. Это свидетельствует о твоей мудрости. И думается, ты больше ценишь дело своей жизни, чем это кажется тебе сейчас, когда ты во власти недужной плоти.
Торквемада хотел приподнять голову, но у него не хватило сил.
— Перестань! — сказал он.
— Глупец! — ответил из темноты спокойный голос. — Кого ты, старый дурак, хочешь обмануть? Меня? Есть во чреве твоем дух правый? Нет. Чего же ты трепыхаешься? Тебе остается только одно: умереть. И чем скорей, тем лучше. В тебе больше нет нужды, ты свое дело сделал. Его продолжат твои ученики.
Торквемада лежал неподвижно, на лбу у него выступили капли холодного пота. А голос рядом продолжал:
— К счастью, ты уже ничего не сможешь изменить. Все пойдет по начертанному тобой, единственно правильному пути. Будет утверждаться и крепнуть Царство Божие на земле — этот несокрушимый оплот всеобщего рабства, бесправия и насилия, ради торжества свободы и справедливости в будущем. Возможно, время от времени то тут, то там будут появляться жалкие людишки, вякающие о какой-то туманной, ни с чем не сообразной свободе — плоде их больного воображения. Но разве они могут представлять опасность для системы, которую ты создал? Ты, досточтимый отец, лучше других знаешь: перед человечеством есть только два пути — служение идее и анархия. Третьего противопоставить им нельзя: его нет. Можно стремиться к порядку или к хаосу. Tertium non datur.[20] Все другие притязания — в какие бы пышные одежды они ни рядились — лишь вариации на ту же тему, но в шутовском исполнении. Поэтому надо сделать решительный выбор. Что касается меня, я всегда стоял и стою за порядок. Разумеется, в зависимости от обстоятельств мне приходилось служить разным идеям, но умом и сердцем я всегда был на стороне тех, кто считал, что порядок в мире невозможен без единой, обязательной для всех идеи. Люди такого склада всегда были, есть и будут, если можно так выразиться, моими духовными сынами. Я говорю это не из хвастовства. Конечно, найдутся чистоплюи, которые усмотрят в моих словах признак мании величия или гордыни. Мне уже не раз приходилось сталкиваться с подобным мнением. На самом деле это не так, — назвать людей, стоящих на страже идеи, своими духовными сынами меня заставила исключительно приверженность исторической правде. К сожалению, нашим сведениям об истории все еще недостает знания фактов. К примеру, я не раз задумывался над беспомощной попыткой некоторых ученых истолковывать в своих трудах один случай, пожалуй, слово «случай» тут неуместно, поскольку речь идет не столько о факте в обычном понимании этого слова, сколько о неповторимой ситуации, являющейся историческим прецедентом. Надеюсь, ты меня понял. Ну, да, я имею в виду яблоко, которое Ева дала Адаму. Яблоко! Впрочем, это оригинальная, не лишенная поэтичности метафора. Но что она означает, что кроется за ней? По утверждению некоторых ученых, яблоко — это символ познания добра и зла. Какая простодушная наивность! Чтобы отличить добро от зла, нужен некий критерий для определения, что есть добро, а что зло. А что является этим критерием? Но прежде чем мы себе это уясним, я хотел бы, досточтимый отец, описать тебе рай. Увы, слова мои бессильны воссоздать перед тобой со всей достоверностью эту величественную картину. Если ты меня спросишь, была ли это гористая местность, поросшая лесами, или широкая равнина со спокойно текущими реками, я затруднился бы тебе ответить. И чтобы не заниматься бесполезным мифотворчеством, скажу только то, что знаю: это был рай и в раю жили люди. О, досточтимый отец, согласно легендам, это были существа во всех отношениях совершенные, красивые, безгрешные и бесконечно счастливые. На самом деле, какие же они были бедные и неприкаянные при всей видимости безграничного блаженства. Конечно, сделав некоторое усилие, я со своими скромными возможностями мог бы сделать так, чтобы глазам твоим представились райские кущи, оглашаемые музыкой сфер, и земля, чьи очертания и краски так прекрасны, что даже сейчас, этой ненастной ночью, ты почувствовал бы, как лицо твое овевает нежный, теплый зефир, а вокруг разливается сладостный аромат дивных цветов. И людей я мог бы приукрасить. Фантазия? Ну что ж, я ничего не имею против фантазии. Однако в этом случае из соображений, так сказать, высшего порядка мы не позволим увлечь себя фантазии. Будем реалистами! Боже мой, когда я пытаюсь воскресить в памяти те стародавние времена, меня пронзает чувство жалости и сострадания почти такое же острое, как тогда при виде бесконечно печальной участи первых человеков. Обладая как будто всем, на самом деле они были лишены всего. Они были наги не только в буквальном смысле. Что, собственно, они имели, что ожидало их в будущем? Увы, перспективы были безотрадные. Все та же бездушная природа. Солнечные восходы и закаты. Бездонная ночная бездна, усеянная сияющими таинственным светом звездами. Детский плач. Грозы и ливни. Далекие горизонты. Любовные утехи. Иссушающий землю зной. Погребение умерших. Собственная смерть. Что еще? Разве что пробудившееся у одного мужчины желание схватить другого за горло? Или распирающее грудь чувство триумфа, когда под босой ногой он ощутит голую спину поверженного соперника? А может… Впрочем, строить догадки — занятие бессмысленное. Будучи людьми, они должны были обладать всем, без чего человек по своей натуре не может существовать. И вот тут-то и заключается главная проблема. В чем смысл всего этого? Что все это значит? Что есть жизнь и что есть смерть? А ненависть? А тяжелые мысли, преследующие по ночам? И тогда движимый исключительно чувством бескорыстия, продиктованным состраданием к жалкой участи людей, я дал им — прости, если тебе покажется это нескромным, — я дал им идею, ибо только она может придать надлежащий смысл человеческому существованию. Чего стоит жизнь, лишенная смысла? Человек жаждал оправдания насилиям и кровопролитию. Он жаждал узаконения жестокости и преступлений. Итак, преобразования были неизбежны. И я дал им идею, избавив от скуки и наполнив жизнь содержанием.
Торквемада судорожно перебирал пальцами под покрывалом, словно хотел освободиться от тяжести, придавившей грудь.
— Боже! — произнес он.
— Вот именно! — послышалось из темноты. — Ты попал в самую точку.
— Боже! — повторил Торквемада.
— Вот-вот! Ведь в Священном писании сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Идея должна быть великой и универсальной. Это ясно, не так ли? Увлечь человечество при всей присущей ему малости способны только великие, универсальные идеи. Ведь малость эта чертовски тяжела!
— Ты был там?
— Где?
— В начале.
Наступила тишина.
— Говори, ты был там?
— Ох, это было так давно! Может, был, а может, нет, сам не знаю! Но разве это так важно? Я уже говорил тебе: моя особа меня мало интересует. Важна идея.
— Все сказанное тобой ложь.
— Ах, ты старый комедиант! — послышался в темноте беззлобный голос. — С каких это пор ты не веришь ни в Бога, ни в меня? Кого ты хочешь обмануть? Самого себя? В идею не надо верить, ибо она и вера — одно и то же.
Торквемада открыл глаза. Было темно, тихо и рядом — никого. Темнота окружала его со всех сторон, заползала внутрь, наполняя холодом, и ему показалось, что он умирает. Он в ужасе закричал.
Падре Дьего, ехавший ближе остальных к повозке, первым услышал крик, больше похожий на звериный вой, чем на голос человека. Он задрожал, хотя был не из робких. Но тотчас, овладев собой, так стремительно направил коня к повозке, что тот задел брюхом за обод колеса.
— Отче! — приглушенным голосом воскликнул он, откидывая полотняный полог.
Торквемада вздрогнул и замолчал. Рот у него был открыт, глаза — тоже.
— Отче, — повторил падре Дьего.
Он лежал неподвижно, уставясь невидящими глазами в темноту.
— Это ты, сын мой? — наконец спросил он.
— Да, отче. Постарайся заснуть. На рассвете мы будем в Авиле.
— На рассвете?
— Скоро начнет светать.
— Мне холодно, дай руку.
Падре Дьего нагнулся и поискал в темноте его руку. Она была холодная и влажная. Он подержал ее с минуту, и дрожь постепенно утихла. Ему показалось, что Торквемада заснул, но тот вдруг судорожно дернулся и закричал:
— Нет! Нет!
— Отче, — умоляюще прошептал падре Дьего.
Некоторое время было тихо, потом Торквемада громко закричал исполненным отчаяния голосом:
— Погасите огонь! Погасите огонь!
Падре Дьего отпрянул и быстро опустил полотняный полог. Окружавшие повозку приближенные досточтимого отца не могли не слышать этот пронзительный крик, но ни один человек не посмотрел в ту сторону. Лица их были неподвижны и непроницаемы.
Падре Дьего тронул за плечо ехавшего рядом дона Лоренсо.
— Дон Лоренсо!
Тот сидел в седле выпрямившись, и глаза его были устремлены вперед.
— Слушаю, ваше преподобие.
— Досточтимый отец не может заснуть, ему хотелось бы послушать божественные песни.
— Слушаюсь, ваше преподобие, — сказал дон Лоренсо и направил коня к голове отряда.
Из-под полотняного верха все еще рвались крики Торквемады:
— Погасите огонь! Погасите огонь!
Но вот там, где, обозначая границу кромешной тьмы, горели первые факелы, сильные мужские голоса запели начальные слова гимна инквизиции: «Exurge, Domine, et judica causam Tuam». И тотчас песню подхватили остальные воины, и она, набирая силу, разносилась над темными просторами под ночным небом.
На рассвете, как и предполагалось, отряд приближался к Авиле. Когда на далеком горизонте показались городские стены и всевозможные башни, падре Дьего, чтобы предотвратить торжественную встречу, выслал вперед гонца.
Темная ночь сменилась хмурым рассветом; небо, обложенное тяжелыми тучами, низко нависло над голой и бесплодной в этих краях землей.
Хотя время было еще раннее и нарочный на целый час опередил отряд, весть о том, кто прибывает в город, мгновенно разнеслась по городу, и когда свита Великого инквизитора, оставив в стороне вновь построенный монастырь Сан Томаса и миновав мост через реку Адаху, въехала в пределы города через Пуэрта дель Пуэнте, толпы жителей Авилы заполнили площади и улицы на пути к монастырю Сан Висенте.
В согласии с полученной инструкцией, ни светские, ни духовные власти не встречали прибывших. Колокола безмолвствовали. В городе царили такое спокойствие и порядок, что стражникам Святой Эрмандады нечего было делать. Толпы сосредоточенно застыли в мертвой тишине, молча расступаясь перед медленно продвигавшимся отрядом, а при виде окруженной рыцарями повозки люди опускались на колени и склоняли головы.
Падре Дьего ехал рядом с повозкой, по правую руку от него находился дон Лоренсо.
— Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, что привело сюда эти несметные толпы? — наклоняясь к нему, спросил падре Дьего.
— Да, отче, — отвечал дон Лоренсо, по своему обыкновению глядя прямо перед собой. — Присутствие этих людей свидетельствует о их безграничной любви к особе досточтимого отца.
— Правильно. Жизнь не стоит на месте. Мыу действительно, завоевали любовь и доверие людей, — сказал падре Дьего и, подумав, прибавил: — Жаль только, что досточтимый отец этого не видит.
После небольшой паузы он снова обратился к своему спутнику.
— Дон Лоренсо!
— Слушаю, преподобный отец.
— Сегодня ночью, как тебе известно, досточтимый отец опять впал в беспамятство, но к счастью, это продолжалось недолго.
Дон Лоренсо слушал его молча. А тот продолжал:
— Беспомощность человека, сраженного недугом, поистине ужасна и достойна всяческого сожаления, но было бы крайне нежелательно, если бы до посторонних людей дошли слухи о болезненном состоянии досточтимого отца.
— Понимаю, ваше преподобие, — ответил де Монтеса. — Вы можете быть на этот счет совершенно спокойны. Мои люди слышат и говорят только то, что я им прикажу.
По-прежнему погруженный в задумчивость, падре Дьего пристально посмотрел на него и, ничего не сказав, отвернулся, «Я погиб, — промелькнуло в голове у дона Лоренсо. — Выказав непростительную самоуверенность, я погубил себя этим». Он стал судорожно подыскивать слова, чтобы продолжить прерванный разговор и как-то выгородить себя, и когда ему показалось, что он нашел их, его охватило безразличие. И он еще раз подумал: «Я погиб». Но к своему удивлению, вместо ожидаемого страха почувствовал облегчение. Совершенно спокойный, он, вопреки своему обыкновению, огляделся по сторонам, стараясь отгадать, кто из его товарищей займет в скором времени его место. И без труда насчитал пятерых претендентов из числа своих тайных ненавистников. «Конечно, — подумал он, — при желании можно было бы увлечь их за собой в пропасть», — но ему тотчас пришло в голову, что отныне он всего лишь жалкая пешка, ибо тот, на кого пало подозрение, бессилен что-либо изменить.
Между тем шедшие впереди воины приближались к монастырю Сан Висенте.
Первым, кто в этот ранний утренний час прибыл в Сан Висенте, был его преосвященство епископ Авилы дон Бласко де ла Куеста. Падре Дьего, уведомленный об этом, покинул больного и, переговорив в соседней келье с доктором Гарсией и выделенным в помощь ему монахом, направился в трапезную.
Его преосвященство прибыл в монастырь с большой свитой, в сопровождении многочисленных аббатов, прелатов и каноников капитула, но после разговора с приором монастыря, отослал своих приближенных и в одиночестве поджидал падре Дьего. При виде вошедшего он поспешил ему навстречу, шелестя фиолетовой мантией. Могучего сложения, дородный, плечистый, за последние годы раздобревший, он при своей полноте имел внушительный, исполненный достоинства вид.
— Приветствую тебя, отец мой, — сказал он звучным, еще нестарым голосом. — При каких печальных обстоятельствах довелось нам встретиться спустя столько лет! Правда, что досточтимый отец в очень тяжелом состоянии?
— Да, — ответил падре Дьего. — Остается уповать только на Бога.
— Он в сознании?
— Сейчас он спит.
Епископ задумался.
— Да, это для всех нас большое горе. Смогу я повидать его, когда он проснется?
— Простите, ваше преосвященство, но, к сожалению, это невозможно в его состоянии. Доктор настоятельно советует оберегать его от волнений. Ему прежде всего нужен сейчас покой, покой и еще раз покой.
Его преосвященство больше не настаивал.
— Ты прав, отец мой. Поистине, в этот знаменательный час мирские звуки не должны его тревожить. Но если говорить об упомянутом тобой покое в широком значении этого слова, трудно представить себе, чтобы кто-нибудь из нас пред лицом смерти заслужил подобное, ничем не омраченное спокойствие, какое должен испытывать досточтимый отец. Мало кому дано покидать земную юдоль с сознанием исполненного долга, оставляя после себя столь совершенное творение, которое будет жить в веках. Впрочем, ты, преподобный отец, кто долгие годы провел в непосредственной близости от него, скорей можешь понять и оценить то, что нам, к его особе не приближенным, представляется лишь в общих чертах. С неизъяснимым волнением взираю я на тебя, отец мой, кого некогда называл сыном. Когда я мысленно обращаюсь к тем временам, когда мы жили в единой семье, мне кажется, с тех пор прошла целая вечность.
— Да, — сказал падре Дьего, — это время, если его мерить не прошедшими годами, а событиями, которыми оно отмечено, представляется весьма значительным.
— Воистину! Никогда еще в истории вера и истина не зиждились на такой незыблемой основе, как это происходит на наших глазах, в наше время. На твою долю, отец мой, выпало величайшее счастье принимать непосредственное и столь большое участие в этом деянии. Помнишь ли ты тот день, когда я первый пришел возвестить тебе эту великую новость?
— Помню, ваше преосвященство, — сказал падре Дьего, глядя епископу прямо в глаза.
— Не раз задумывался я над тем, как могло случиться, что в те далекие годы его преподобие, который тебя совсем не знал, оказался прозорливей меня, твоего пастыря, и сумел по достоинству оценить твой ум и характер. Теперь, по прошествии стольких лет, когда мои опасения, к счастью, оказались несостоятельными, я могу, отец мой, признаться тебе, что ты внушал мне тогда серьезное беспокойство.
Падре Дьего снова посмотрел в глаза епископу.
— Я не совсем понимаю, ваше преосвященство, что вы имеете в виду?
— Свое заблуждение, — отвечал тот. — Правда ли, что один из наших тогдашних братии, если мне память не изменяет, по имени Матео впал в грех ереси и вероотступничества и был отлучен священным трибуналом от церкви?
— К сожалению, правда, — сказал падре Дьего.
— Теперь мне все понятно. Как своему пастырю, он поведал мне на исповеди о твоих, якобы мятежных, более того, кощунственных помыслах. Исповедовался он и в своих сомнениях, и смиренно и добросовестно исполнял наложенное на него покаяние… Разве могло мне тогда прийти в голову, что он лицемерно скрывает свое истинное лицо и клевещет на тебя?
В ответ на это падре Дьего спокойно сказал:
— Ложь и клевета — оружие, к которому обычно прибегают враги.
— Воистину! Однако, хотя я был всего лишь простым настоятелем, мне не следовало поддаваться обману. Прости мне, отец мой, эту давнюю ошибку.
— Кто ж из нас не совершал ошибок? — исполненным почтения голосом с важностью сказал падре Дьего. — Не будем больше говорить об этом, ваше преосвященство.
Лицо епископа просияло от радости.
— В моем лице, отец мой, ты всегда будешь иметь преданного друга. Если я удостоюсь нового назначения, мне приятно сознавать, что мы чаще сможем встречаться с тобой, чем в захолустном Авиле.
Падре Дьего сразу понял, что произошло.
— Значит, кардинал де Мендоса умер?
— Увы, — ответил епископ. — Вчера из Рима пришло известие о его кончине.
— Смерть христианина всегда побуждает к грустным размышлениям. Однако я рад, ваше преосвященство, приветствовать в вашем лице архиепископа Толедо и примаса католического королевства.
Дон Бласко де ла Куеста покраснел.
— Я пока еще не архиепископ.
— Но без сомнения будете им. Всем известно, что и его святейшество и их королевские величества давно видят в вас преемника кардинала де Мендосы.
Его преосвященство задумался и, казалось, был чем-то огорчен.
— Я сознаю всю тяжесть ответственности, которая будет возложена на меня. И молюсь Богу, чтобы он помог мне справиться с моими обязанностями. Но у меня нейдут из головы слова досточтимого отца, сказанные им когда-то: не почести, не высокий сан, а многотрудные обязанности воина святой инквизиции ценит Церковь превыше всего.
На это падре Дьего ответил:
— Досточтимого отца глубоко тронули бы и порадовали слова вашего преосвященства. И я полагаю, что выражу его мнение, если скажу: святой инквизиции можно служить всюду, независимо от занимаемого положения, которое может быть как скромным, так и очень высоким.
У епископа по-прежнему был задумчивый вид.
— Да, — сказал он наконец, — разными путями устремляются люди к единой цели.
Навстречу падре Дьего, когда он шел из трапезной, выбежал молодой монах по имени Мануэль. Был он бледен, глаза у него расширились от страха, руки дрожали.
— Преподобный отец! — крикнул он.
— Скончался? — не своим голосом спросил Дьего.
Фра Мануэль замотал головой.
— Преподобный отец, клянусь, я не виноват. Его преосвященство проснулся, позвонил мне и велел помочь ему встать и одеться…
Падре Дьего ускорил шаги.
— И ты, несчастный, сделал это?
Монах беспомощно развел руками.
— Разве я смел ослушаться?
В дверях кельи стоял доктор Гарсия, тоже бледный и испуганный.
— Глупец! — вскричал падре Дьего. — Как ты мог допустить это?
И, резким движением руки отстранив его, направился к двери, ведущей в келью Торквемады. Замешкавшись на какую-то долю секунды, прежде чем открыть ее, он вошел внутрь.
Келья была большая и, несмотря на белые стены, темная. Только через окно в глубокой нише проникало немного дневного света. Там в глубоком кресле, закутанный в плащ на меху, сидел Торквемада. Сидел прямо, со сложенными на коленях руками. Услышав скрип двери, он пошевелился.
— Это ты, Дьего? — спросил он каким-то чужим голосом, доносившимся словно издалека.
— Отче! Зачем ты встал? Ложись, умоляю тебя! — воскликнул Дьего.
— Подойди ко мне, — сказал Торквемада. Голос его звучал монотонно и глухо. — Я жду тебя. Мне надо торопиться: у меня осталось мало времени, а я должен сообщить тебе чрезвычайно важные вещи. Кое-что из того, что я скажу, нужно записать и немедленно обнародовать. Где ты?
— Я здесь, отче.
— Подойди поближе к свету, чтобы я видел тебя. Вот так. Дай мне руку.
— Отче, тебе нельзя столько разговаривать. Приляг, прошу тебя.
Торквемада покачал головой.
— Нет, не сейчас, может быть, позже. Сперва мы должны обсудить с тобой целый ряд важных дел. Надо срочно многое изменить в нашем королевстве. Собственно говоря, все. Тебе предстоит колоссальный труд, и мне становится страшно при мысли, что ты не справишься с этой задачей, превосходящей человеческие силы. Но кто, кроме тебя, сможет это сделать? Правда, я надеюсь, есть еще люди, не отравленные ядом ненависти и гордыни, не ставшие жертвой страха и лжи. Ты объединишь их вокруг себя и с их помощью и поддержкой уничтожишь все, что создано нами. Все это, насквозь прогнившее, выродившееся, отмеченное печатью зла, надо разрушить до основания. Стереть с лица земли. Ты был прав, сын мой.
— Отче, — прошептал Дьего.
— Помнишь ту ночь, когда я впервые увидел тебя? Вот тогда ты был прав. Гнев твой был праведный, страдания и бунт оправданы. Тяжело признаваться в этом, но, кроме тебя, я не вижу вокруг ни одного достойного человека.
— Отче! — воскликнул Дьего.
— Увы, это так. Дольше заблуждаться нельзя. Наше могущество призрачно, силы наши мнимы. Воздвигнутое нами здание дало трещину, фундамент под ним сотрясается. Это здание чудовищно. Мы превратили страну в тюрьму, сделали ее местом казни. Так продолжаться не может. Если не завтра, то послезавтра все должно рухнуть. Катастрофа неотвратима. Нет больше веры, нет надежды. Мы искалечили людей, отравили их умы и сердца. Нас ненавидят и презирают. Не стоит спасать порожденье мрачного безумия. Надо искать иные пути к спасению. Необходимо самим разрушить то, что обречено на гибель. Ты должен срочно написать соответствующие распоряжения. Я сейчас тебе их продиктую.
Дьего стоял неподвижно, сраженный ужасом.
— Ты готов, сын мой? Поторопись, у нас осталось мало времени. Отчего тут так темно? Прикажи принести свечи. Это по нашей вине землю покрывает мрак. И чтобы он рассеялся, понадобится много света. Но в первую очередь надлежит сделать то, что не терпит отлагательства. Ты все приготовил?
Дьего отступил в тень.
— Да, отче.
— Тогда пиши: мы, Томас Торквемада… нет, титулы уже не нужны. Напиши просто, что с сегодняшнего дня… Какое у нас число?
— Шестнадцатое сентября, отче.
— С шестнадцатого сентября, года…
— Тысяча четыреста девяносто восьмого.
— …года тысяча четыреста девяносто восьмого святая инквизиция распущена. Мы отменяем и ликвидируем ее и тем самым кладем конец произволу и преступлениям, которые во имя нее чинили; жертвы наших злодеяний восстанавливаются в правах, покойным возвращается их честное имя. Судебные процессы и приговоры за отсутствием состава преступления признаются недействительными, — это особенно важно подчеркнуть. Тюрьмы будут открыты, и люди, незаконно арестованные, немедленно должны быть освобождены.
Дьего упал на колени перед Торквемадой.
— Отче! — сдавленным голосом воскликнул он. — Ради всего святого… ты болен…
Торквемада смотрел прямо перед собой и, казалось, не видел его.
— Успокойся, сын мой. Я понимаю, тебя страшит ответственность, которая отныне ложится на тебя, но ты не вправе от нее уклониться. Распоряжение о роспуске святой инквизиции надо разослать сегодня же. Оно будет иметь силу закона. Кроме того, следует теоретически обосновать наше решение. Прежде всего мы должны сами перестать лгать, если хотим, чтобы ложь не отравляла больше сознание людей. Надо сказать всю правду, как бы горька и тяжела она ни была. Неверно было бы, сын мой, полагать, что порочны исключительно лишь методы, которыми мы осуществляли власть и которые привели к нарушению прав человека и попранию законов. Произвол и насилие не устранить, не устранив породившие их причины. Надо честно сказать людям: плоха та вера, которая принесла такие страшные бедствия. Это фальшивая и неправедная вера, и следует сделать все, чтобы не на словах, а на деле освободиться от этой скверны, вырвать ее с корнем. Царство Божие никогда не наступит на земле.
Дьего стоял на коленях, опустив голову, смертельно бледный, не в силах вымолвить ни слова. А Торквемада продолжал говорить глухим, монотонным голосом, глядя в сгустившийся в глубине кельи мрак.
— Чтобы спасти человечество от окончательной погибели, чтобы люди навечно не погрязли в пучине страха, лжи, ненависти и рабства, мы должны разрушить все то, что, тщась бредовой идеей и презирая человечество, создали своими руками ценой величайших людских бед и страданий. Это вызовет всеобщее замешательство, и настанут тяжелые времена, но все равно, дабы предотвратить еще большее зло, мы должны назвать вещи своими именами: безумство нашей веры — безумством, ее фальшь — фальшью. Придется, сын мой, научиться жить без Бога и без Сатаны.
— Отче! — вскричал Дьего.
— Да, мой сын. Ибо их нет.
Дьего подполз на коленях к Торквемаде и дрожащими руками схватил его руки.
— Отче, умоляю тебя, опомнись… это я, Дьего… ты меня слышишь?
— Слышу, ведь я разговариваю с тобой. Однако не перебивай меня, скоро наступит ночь. Не забудь издать декрет об отмене страха. Отныне на земле исчезнет страх. Мы начнем все сначала, верней, ты начнешь. Ты молод, самоотвержен и чист…
Дьего, уже не владея собой, выпрямился и, ухватившись обеими руками за подбитый мехом плащ, которым был укрыт досточтимый отец, изо всех сил дернул его.
— Отче, перестань, слышишь? Перестань! Я приказываю тебе, замолчи!
Торквемада посмотрел на него и увидел незнакомое лицо — бледное, неестественно большое, искаженное страхом и злобой. И на губах ощутил горячее дыхание. Сообразив, что перед ним неведомый враг, он хотел позвать на помощь, но не смог, и лишь прошептал:
— Дьего…
А тот тряс старика и бормотал:
— Молчи, молчи, молчи…
Но вот он замер и с минуту смотрел на посеревшее лицо Торквемады, на его широко раскрытые, но уже остекленевшие, мертвые глаза. Он боялся пошевелиться, наконец, отпустил плащ, который все еще судорожно сжимал в руках. Тело досточтимого отца слегка отклонилось назад, но и мертвый он продолжал прямо сидеть в кресле.
— Боже! — прошептал Дьего.
Он все еще стоял на коленях, и по щекам его текли слезы. Он еще не понял, не осознал того, что произошло. Противоречивые мысли и чувства владели им. Но вот он поднялся с колен и, обессилев, продолжал неподвижно стоять около покойника, глядел на него полными слез глазами. Вдруг, не отдавая себе отчета в том, что делает, он поднял тяжелую, словно каменную, руку и с размаха ударил досточтимого отца по лицу.
Декабрь 1955 — апрель 1957
Примечания
1
Фамилиары (familiares (лат.) — близкие, члены семьи) — члены религиозного ордена; помогали инквизиторам бороться с ересью, составляли свиту Великого инквизитора. На службу инквизиции добровольно поступали многие знатные дворяне, чтобы избежать преследований. (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)2
Квемадеро (quemadero (лат.) — площадь огня) — площадь, где осужденные трибуналом инквизиции сжигались живьем на кострах или фигурально (в изображении).
(обратно)3
«Восстань, Господи, защити дело Твое» (лат.) — 73 псалом; девиз инквизиции.
(обратно)4
Марран (marrano (исп.) — свинья) — бранная кличка крещеных евреев. Их называли еще новообращенными, новохристианами.
(обратно)5
Приор — настоятель католического монастыря.
(обратно)6
Коррехидор — представитель светского правосудия.
(обратно)7
«Да возвеличится» (лат.).
(обратно)8
Санбенито (saco bendito (исп.) — освященный мешок) — одеяние, в которое облачали еретиков, приговоренных инквизицией к сожжению на костре или другим наказаниям.
(обратно)9
Аутодафе (auto da fe (ucn.) — акт веры) — так называлась в Испании торжественно обставленная церемония, на которой осужденные инквизицией выставлялись на публичный позор. Раскаявшиеся приговаривались к церковному покаянию, денежным штрафам, к тюремному заключению или галерам. Упорствующих в ереси передавали в руки светского правосудия для сожжения на костре.
(обратно)10
Слава Иисусу! (исп.)
(обратно)11
Слава пресвятой деве! (исп.)
(обратно)12
Мантетa (manteta (лат.) — накидка) — продолговатый кусок полотна, на котором написано имя, звание и преступление осужденного, а также дата судебного приговора; ее вешали в приходской церкви осужденного, чтобы навеки заклеймить его позором.
(обратно)13
Пребудь в мире (лат.).
(обратно)14
Здесь и теперь? (лат.)
(обратно)15
В то время столица королевства Арагона и Кастилии.
(обратно)16
В изображении (лат.) — то есть сжигались на костре в виде кукол, манекенов, ларцов с выкопанными из могил костями тех, кто был посмертно обвинен в ереси.
(обратно)17
Благословляю тебя во имя отца, сына и святого духа, аминь (лат.).
(обратно)18
Их католических величеств (исп.).
(обратно)19
Замок (исп.).
(обратно)20
Третьего не дано (лат.).
(обратно)




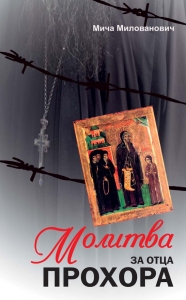

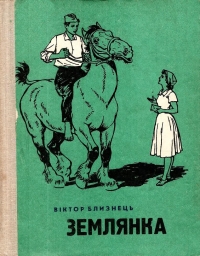

Комментарии к книге «Мрак покрывает землю», Ежи Анджеевский
Всего 0 комментариев