ФИЛИПП БОНОССКИЙ
Во второй половине 40-х годов на страницах прогрессивной американской печати промелькнуло новое имя — Филипп Боносский. Первые литературные опыты молодого писателя, еще не совершенные по форме, свидетельствовали о том, что он хорошо знает жизнь рабочих и ему близки их интересы. В рассказах Боносского, тесно связанного с рабочим движением, бился пульс современности и затрагивались острые социальные проблемы. На страницах передового журнала «Мэссис энд Мэйнстрим», деятельным сотрудником, а затем одним из редакторов которого стал Боносский, часто появлялись его публицистические статьи, рецензии на новинки американской литературы,
В 1953 году журнал «Мэссис энд Мэйнстрим» напечатал отдельной книгой первый роман писателя «Долина в огне», представляющий американский уклон жизни не с парадной его стороны, а в его истинном виде. В 1961 году увидел свет новый роман Боносского «Волшебный папоротник», над которым писатель работал на протяжении многих лет, стремясь передать все то, что волнует американских рабочих в послевоенные годы.
Филипп Боносский пришел в литературу обогащенный большим жизненным опытом. Он принадлежит к числу тех писателей (Альва Бесси, Альберт Мальц, Карл Марзани, Александр Сакстон и др.), чье творчество прочно связано с жизнью и борьбой американского народа за мир и демократические свободы.
Филипп Боносский родился в Дюкене, близ Питтсбурга, в 1916 году в семье переселенца из старой Литвы, в поисках счастья прибывшего в «обетованную страну». Детские годы автор «Долины в огне» провел среди голых холмов Пенсильвании, в прокопченном дымом и гарью городе стали. Отец будущего писателя работал на металлургическом заводе могущественной компании Моргана. С детских лет ребенка окружали простые люди, создавшие богатства Америки и по иронии судьбы оставшиеся ее пасынками.
В годы кризиса мир социальных контрастов встал перед юношей во всей своей обнаженности. Окончив среднюю школу, Боносский тщетно пытался найти применение своим силам. Он присоединился к огромному потоку безработных, скитавшихся по дорогам Америки в надежде найти какую-либо работу. Исколесив всю страну, юноша некоторое время живет в Вашингтоне и учится в педагогическом колледже.
Важная страница в биографии Боносского — его приход в рабочее движение. В 1936 году двадцатилетний юноша становится руководителем одного из комитетов безработных. В 1941 году Боносский возвращается в родные края. Здесь он устраивается на металлургический завод и принимает участие в работе союза сталелитейщиков.
Кризис 30-х годов, когда формировалось мировоззрение писателя, преподал ему много поучительных уроков. Безработные были лишены самых элементарных прав, в частности права голоса, но за ними тщательно сохранялась «привилегия» презирать других людей: белые должны были помнить, что они — белые, а черные, что они — черные, и знать свое место. В огромном потоке людей, передвигавшихся с места на место по дорогам Америки, белые и негры, естественно, шли рядом, но там, где им давали пищу или временный приют, они должны были есть и спать в отдельных помещениях. Уже тогда Боносский отчетливо сознает, что американские буржуазные политики искусственно разжигают расовую и национальную рознь, чтобы ослабить силу сопротивления народа. Именно в ту пору скитаний по стране юноша ясно увидел наихудшие проявления расизма. Перед ним во всей сложности встали социальные проблемы, — в том числе и «негритянская проблема», — требовавшие глубокого осмысления и решения.
Юношу возмущали проявления расизма, он с детских лет привык глубоко уважать негров. Принимая активное участие в движении безработных Вашингтона, Боносский убедился в том, какой грозной силой могут быть сплотившиеся в борьбе белые и негры. Он видел не только расовую дискриминацию и разобщенность, не только смиренную покорность и приниженность, но и единство действий американских рабочих всех цветов кожи.
У молодого писателя сразу же определилась своя излюбленная и большая тема, к которой он неизменно обращается: в самом широком смысле — это тема борьбы американского рабочего класса. Молодой писатель стремился верно и точно передавать противоречия и контрасты американской действительности; он напряженно искал средства художественного воплощения образов мужественных борцов, простых людей Америки, надежды и мечты которых были ему так понятны и близки.
В рядовом американском рабочем Боносский открывал необыкновенного героя, незаурядную личность, отличающуюся твердой волей и большой духовной силой. Таков привлекательный и живой образ Джонни Куку, рабочего-литейщика, в новелле с ироническим названием «Рекорд Джонни Куку».
Джонни Куку, вероятно, мог бы уцелеть и не был бы так изувечен, если бы он думал только о себе и не тревожился о судьбе своих товарищей по работе. То, что случилось с ним, — обыкновенная американская история. Пренебрежение корпораций к правилам безопасности труда, пренебрежение к жизни рабочего человека привело к тому, что, спасая во время аварии других, жизнелюбивый здоровяк Джонни во мгновение ока превратился в беспомощного инвалида. Но он протянул еще двадцать три дня, побив все рекорды, пока наконец не пришел к твердому решению покончить все счеты с жизнью. Джонни не хотел быть в тягость своим близким. Он не хотел прозябать, а жить полной жизнью и работать он уже не мог.
Многое связывало его с жизнью: любимая жена Эллен, дети, о которых он долго и напряженно думал бессонными ночами. Он так же хотел жить, как и попавший в ловушку неудачник Вилли Ломен, герой пьесы Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Но Вилли Ломен в конце концов был раздавлен жизнью и деморализован. Физически раздавленный Джонни остался несломленным.
Принципиально важен подход писателя к изображению внутреннего мира своего героя — человека большой душевной глубины, доброго и щедрого. Сколько трогательной заботы и нежности вкладывает Джонни в слова прощания во время последней встречи с Эллен и другом Джимми, которому он вверяет судьбу жены и детей!
В этом рассказе — своеобразной антитезе новелле «счастливого конца» — писатель, продолжая лучшие традиции американского критического реализма, стремился показать жизнь такой, как она есть.
В творческом развитии Боносского определенную роль сыграл и опыт создания биографического очерка. «Брат Билл Макки» — своего рода портрет рабочего-активиста, растущего в борьбе за общие интересы. И новеллы и биографический очерк говорили о том, что писателя больше всего привлекают героические натуры, подобные Джонни Куку или Биллу Макки.
Важной чертой творчества Филиппа Боносского является его близость к народной жизни. Писатель смело использует мотивы и образы народного творчества, воплощающие в поэтической форме исторический опыт народа, его мудрую прозорливость и сознание своей силы и непобедимости. Эта черта Боносского проявилась в его первом романе «Долина в огне», где удачно использован мотив аллегорической легенды о чудо-богатыре, пробуждение которого не предвещает ничего доброго «хозяевам» Америки. По наивной доверчивости и честности, радушию и любви к труду, по диковинной силе Джо Магарака можно поставить рядом с героем повести В. Г. Короленко «Без языка» — украинским крестьянином Матвеем Лозинским, приехавшим в Новый Свет в погоне за призраком райского счастья и свободы. Простодушный великан, «настоящий медведь из пущи», человек «с глазами и сердцем — как у ребенка», Матвей Лозинский так же непосредствен и неистов в своей ярости, в своем гневном протесте против чуждых ему нравов деляческой Америки, как и Джо Магарак. В истории их жизней действительно есть много созвучного и общего. Эта история разочарований и обманутых надежд — типичная история конца прошлого и начала нынешнего века. Привлеченные заманчивыми посулами вербовщиков, целые потоки переселенцев устремлялись из стран Европы в заокеанские манящие дали, надеясь устроить там свою судьбу. Но американский рай оказывался для них сущим адом.
Легенда о Джо Магараке и показывает в сказочной форме типичную историю переселенца. Джо Магарак — Джо Вьючный Осел, как его прозвали, — работал не покладая рук, а главное — никогда не роптал и не жаловался. Разумеется, компания не преминула широко использовать в своих целях это смирение могучего Вьючного Осла. Но даже и он, неутомимый силач, утомился и заснул Великим Сном. Правда, в конце концов, проснувшись, он снова принялся за работу. Но с тех пор членов заводской компании преследовали кошмары. Они ворочались в постелях, объятые великим страхом: а вдруг Джо Магарак устанет и снова погрузится в свой великий, могучий сон?
В повествовании о судьбе Джо Магарака запечатлен горький опыт переселенцев в «золотую Америку», их ироническое отношение к своим притеснителям. Безропотный Джо Вьючный Осел может стать грозной силой. И хотя этот аллегорический сказ скорее говорит о прошлом переселенцев, в нем угадываются и черты их будущего — они не захотят мириться со своей долей. Именем Джо Магарака подписано в романе обращение ко всем рабочим на английском, венгерском, словацком, русском, литовском и польском языках, обличающее махинации компании и банка и призывающее к сопротивлению. Имя силача Джо Магарака становится знаменем в борьбе. Сказочный образ Джо так или иначе перекликается с образами реального плана.
В центре романа — судьба семьи рабочего-литовца Винсентаса Блуманиса, которому, как и многим другим жителям долины, грозит выселение из жалких хибарок, принадлежащих компании, или из собственных домов. События происходят, как можно заключить из повествования, в 20-х годах нашего столетия. Компания сочла выгодным снести ветхие хижины у Большого Рва, заселенные неграми, которых когда-то привезли сюда как самую дешевую рабочую силу; и она ни перед чем не останавливается, осуществляя свои планы. В ее распоряжении шериф и полиция, на ее стороне — сила, власть, закон. Против рабочих брошены все силы подавления и устрашения. Постепенно, но неизбежно назревает конфликт, и мы являемся свидетелями драматических сцен выселения, пожара в долине, собрания рабочих в лесу.
Сопоставление «Долины в огне» с романом Эптона Синклера «Джунгли» (1906) позволяет со всей остротой ощутить, какое жизненное значение имела тема трагических судеб переселенцев в истории развития американского критического реализма. Эптон Синклер дал потрясающую картину бедствий литовской семьи, испытавшей на себе все прелести «американского рая». Главный герой романа «Джунгли» Юргис Рудкус в конце концов приходит в ряды социалистов и живет мечтой о грядущем золотом веке — социализме. Сопоставление двух романов позволяет увидеть, как обострились классовые противоречия Америки, как усилился террор, направленный против тех, кто борется за социальную справедливость.
В накаленной атмосфере борьбы протекает сложный процесс духовной эволюции и прозрения юноши Бенедикта Блуманиса, запутавшегося в тенетах католицизма, жаждавшего стать «святым» и посвятить всю свою жизнь служению церкви. Как бы ни хотелось наивному юноше отрешиться от земной юдоли, мирские дела во всей своей беспощадной жестокости вставали перед его взором, приковывали к себе его внимание, побуждали много и напряженно размышлять о них, вызывали смятение и разброд в его душе. Мучителен его разлад с отцом, который открыто, иногда очень зло, издевается над ним, над его слепотой. Этот разлад составил сущность внутренней драмы, которую пережил цельный и чистый юноша, старавшийся пробиться к правде, силившийся в религии найти ответы на мучительные вопросы, встававшие перед ним. Но ни священник Дар, ни тем более вновь прибывший отец Брамбо, исполненный скрытой неприязни к своей пастве, состоящей из «черни», конечно, не смогли рассеять все обуревавшие его сомнения и наставить Бенедикта на путь истинный. Горький опыт отца и неожиданная встреча с коммунистом Добриком дали юноше то, что не могли ему дать «духовные наставники». В конце концов он вырывается из-под их влияния, и этот его приход в реальную жизнь вполне закономерен.
Столкновения с отцом, пусть тяжкие и мучительные, открыли Бенедикту глаза. Как он ни был ослеплен религией, он не мог не заметить, что отец, давно утративший наивные иллюзии переселенца, глубоко знает жизнь. Из рассказов отца Бенедикт понял, как отчаянно бился тот за свое счастье. Отец гнул спину по десять-двенадцать часов в день; он работал так, как теперь, в старости, и недели бы не проработал. Но все-таки он был счастлив — счастлив, что у него семья, что он платит взносы за свой дом. Первая мировая война прошла стороной, не затронув его. Винсентас Блуманис верил в свою звезду. Он знал, что у него есть самое главное — его сила. Однако и в те счастливые времена, когда была работа, у него не было иллюзий: он гораздо лучше местных уроженцев понимал, что его труд был подневольным и принудительным. Но пришли плохие времена: он среди армии безработных, и компания настоятельно рекомендует ему оставить дом, за который он выплачивал столько лет. Так завязывается «узел» жизненной драмы, которую должен осознать Бенедикт. Он не может не видеть правоты отца, который не складывает оружия и борется рука об руку с такими людьми, как Добрик.
Впервые с Добриком Бенедикт Блуманис встречается в стенах тюремной камеры. Потрясенный тем, что он без всякой вины попал в тюрьму, Бенедикт увидел в камере человека — живое воплощение спокойствия, уверенности, неугасимого юмора. Мальчика глубоко тронула отзывчивость и чуткость этого веселого человека, который, казалось, понимал его с полуслова. Жизнерадостный и стойкий Добрик, подвергшийся зверскому избиению на глазах у Бенедикта, оставляет в его сознании неизгладимый след. В своих раздумьях мальчик вновь и вновь обращается к воспоминаниям об этом человеке, воплощающем для него надежду и справедливость. Последующие встречи с ним, происходящие в моменты острой, драматической борьбы рабочих с хозяевами и их наемниками, помогли Бенедикту всем сердцем почувствовать правоту людей, подобных Добрику.
Сильное впечатление оставляет собрание в лесу, на которое пришли рабочие, чтобы обсудить свои дела втайне от хозяйских лазутчиков. Во тьме ночи юноша слышит знакомый голос — это голос Добрика. Он умеет и весело шутить, и спокойно убеждать, он призывает к единству и сплоченности всех рабочих, будь то белый или негр. Побои и угрозы не сокрушили Добрика. Бенедикт понимает, что собравшиеся здесь люди уважают, любят и поддерживают человека, одно имя которого приводит отца Брамбо в трепет.
Для прозревающего юноши Добрик воплощает в себе все светлое и лучшее, что он находит в простых людях труда, о которых его духовный пастырь отец Брамбо говорит с неприязнью и презрением. Но «презренная чернь» выдвигает из своей среды таких отзывчивых и гуманных людей, как Добрик, верящих в силы народа и торжество социальной справедливости. Писателю удалось убедительно показать, как в ожесточенной борьбе выковываются сильные характеры, показать процесс рождения нового человека, внимание которого сосредоточено не на себе, а на судьбах всех людей. И хотя Добрик не так уж часто появляется на страницах книги, именно он влияет на мысли людей и ход событий.
С большой теплотой и симпатией изображены в романе негритянка матушка Берис и непокорный негр Клиффорд, борющийся рука об руку с Добриком. В романе, естественно, возникает тема интернационализма, тема единства действий «белых» и «цветных» рабочих. Характерно, что эта тема проходит через многие произведения передовых американских писателей нашего времени.
Филипп Боносский гневно изобличает духовных пастырей, таких как католический священник отец Брамбо, лощеная и привлекательная внешность и приятные манеры которого прикрывают гнусного доносчика и шпиона, ненавидящего простых людей, испытывающего страх перед миром бедноты.
Изображая сложность борьбы и трудности, встающие на пути борцов за социальную справедливость, Боносский не запугивает читателя, а вселяет в него веру в тех людей Америки, которым принадлежит будущее.
В речи на Третьем съезде писателей СССР, на котором он был почетным гостем, Филипп Боносский сказал: «Мы, трудовые люди Америки, хотим жить и будем бороться за свое право на жизнь...», «Я верю в свой рабочий класс и буду верить в него...»
В полемически-публицистических статьях на литературные темы, например в статье «Тридцатые годы в американской культуре» (май 1959), Филипп Боносский отстаивает от нападок буржуазной критики боевые традиции 30-х годов, давшие такие значительные произведения литературы критического реализма, как «Иметь и не иметь» Эрнеста Хемингуэя и «Гроздья гнева» Джона Стейнбека. Не в отходе от острых социальных тем, а в их художественной разработке писатель видит залог появления значительных произведений.
В статье о миссии писателя, опубликованной в журнале «Мэссис энд Мэйнстрим» (февраль 1957), Боносский приводит веские аргументы в защиту тех писателей, которые не отступают от своих идейных убеждений. Задачу писателя он видит в том, чтобы как можно глубже проникать в сущность изображаемых явлений. Коммунисты, как справедливо подчеркивает Боносский, вписали славную и неповторимую страницу в историю Америки. Каким бы преследованиям они ни подвергались, они не откажутся от своих убеждений.
По признанию писателя, эта борьба есть и останется той темой, которую не может отвергнуть либо недооценить писатель, если он хочет сохранить себя как художник.
Развитию этой темы и посвящен роман «Долина в огне», как и связанный с ним общностью идей «Волшебный папоротник».
Мотивы и образы первого романа Боносского находят в «Волшебном папоротнике» дальнейшее развитие. Здесь значительно расширились границы повествования и еще резче выступили социальные контрасты Америки наших дней. Писатель ярко рисует картины рабочего быта, сцены ожесточенной борьбы внутри профсоюза, закулисные маневры хозяев, направленные на раскол бастующих рабочих. Появляется в романе и характерная для современной Америки фигура агента ФБР — зловещая фигура шпиона и доносчика. Все это верно воссоздает общую атмосферу в стране.
Писатель смело подходит к развитию и художественному воплощению большой эпической темы нашего времени — темы борьбы человека за торжество истинно человеческого, справедливого и прекрасного.
Социальные романы Филиппа Боносского «Долина в огне» и «Волшебный папоротник» правдиво освещают картины жизни и борьбы американского рабочего класса. В них читатель найдет изображение того, о чем мечтают и за что борются передовые люди Америки,
П. Балашов
Часть первая
1
— Я буду святым, — сказал Бенедикт. — Я проживу всю жизнь в смирении и бедности.
В кармане он носил четки; на груди у него, подле самого сердца, висел легкий, как листочек, образок с изображением св. Бенедикта, стертый и поблекший.
Бенедикт не впервые давал такой обет. Ему казалось, он всегда верил в то, что станет святым; видно, эта вера жила в нем с самого рождения, ибо он никогда не знал ни сомнений, ни внутренней борьбы. И вот наконец пришло время, когда он сумел выразить ее словами.
Целых два года он думал, что стать святым очень легко. Однако это стало труднее теперь, когда ему почти пятнадцать лет. Тем не менее его намерение только окрепло. «Я буду святым!» — твердил он.
Бенедикт стоял на вершине холма, который назывался Медовым, пока жители города не прозвали его Литвацкой горой, а те, кто жил у его подножья в долине, — Голодной горой, стоял и глядел вниз на рабочий поселок, на Литвацкую Яму, где он жил... Он часто смотрел отсюда на долину, когда возвращался домой из школы или после короткой, но полной опасностей вылазки в город: поселок, лежавший перед ним, казался ему уютным, надежным прибежищем, и, охватывая его взглядом, он словно брал его под свое покровительство и был его заступником перед богом. Вот где находилась его будущая епархия, мечту о которой он лелеял в тайниках своей души.
В отличие от города, который широко раскинулся во все стороны, кончаясь улочками, где ютились домики шахтеров и металлургов, поселок в долине был зажат между Медовым холмом и навалами шлака вдоль железнодорожных путей, милях в трех от холма. На западе поселок упирался в свалку, посреди которой стояла большая, с высокой кирпичной трубой, печь для сжигания мусора и отбросов. На востоке Литвацкую Яму замыкали железнодорожный мост и завод.
У подножья холма причудливо извивались четыре главные улицы: Горная авеню, авеню Вашингтона, улица Вандербильта и Кукушкин переулок. Пересекая их, ко Рву спускались Тенистая улица, авеню Карнеги, авеню Меллона и два переулка: Нижний и Цветочный.
С вершины холма Бенедикт мог разглядеть свой родной домишко и начальную светскую школу; чуть подальше стояла церковь св. Иосифа, приходская школа и дом священника, а за ними монастырь. Все эти строения сгрудились у подножья Медового холма — там, где начиналась Горная авеню.
Бенедикту казалось, что перед ним целый мир: в нем пролегал Большой Ров, полный шахтных вод, стекающих сюда со всей округи; вдоль откосов Северной железной дороги высились горы шлакового отвала, а по путям бегали вагонетки, в которых с завода вывозили раскаленный шлак. Была здесь и заброшенная фабрика, где раньше обогащали руду; за ней лежал пруд, а за прудом начинался лес и тянулся так далеко, что Бенедикт и представить себе не мог, где же он кончается. В той стороне виднелись старые заброшенные шахты, в их бездонных шурфах зловеще поблескивала вода.
Бенедикт задумчиво улыбнулся и по длинной деревянной лестнице начал спускаться в Литвацкую Яму. Он точно знал число ступенек в каждом пролете; сотни раз он их пересчитывал, — всего их было триста сорок восемь. Он и сейчас считал ступеньки, — медленно, каждый раз прищелкивая языком и перебирая четки, но порой сбивался. Когда-то он решил сделать эту лестницу «лестницей молитв», — на каждую «Богородицу» приходилось по десять секунд, подъем занимал ровно час. А спускаясь вниз, он читал «Отче наш...», «Во имя отца и сына...»
В наказание за ложь он однажды заставил Джоя подняться, читая вслух молитву, до самой верхней ступеньки.
Пусть на свете не будет бедных, хоть и грех желать богатства! Сам он тоже был беден, но дело не в нем: он и хотел быть бедным. Священнику не нужны земные блага.
Бенедикту казалось, будто солнечный луч проник в него и осветил изнутри, пронизывая тело.
На половине лестницы он увидал мистера Донкаса; тот лежал на спине, широко разинув рот, пьяный. На лбу у него красовалась ссадина. Бенедикт наклонился над ним и забормотал молитву, но только он хотел перекреститься, как мистер Донкас открыл глаза и схватил мальчика за руку.
— В карман залезть хочешь? — заорал мистер Донкас.
Он так скрутил руку Бенедикта, что у мальчика перехватило дыхание, а на глазах выступили слезы. Еще немного, и он бы не вытерпел и закричал, но мистер Донкас внезапно отпустил его.
— Я помолюсь за вас, — пролепетал Бенедикт и поплелся вниз по лестнице.
Донкас что-то прохрипел ему вслед, перевалился со ступеньки на землю и на этот раз заснул среди одуванчиков.
Солнечное сияние померкло для Бенедикта.
Он всхлипнул, внутренне восставая против унижения, против боли.
«Господи! — молился он сквозь стиснутые зубы. — Испытай меня! Ниспошли мне еще горшие страданья, испытай меня, о господи!»
Ибо даже сейчас он чувствовал в себе силы побороть и боль и обиду, а когда он спустился к подножью холма, на душе у него опять стало спокойно.
Большая канализационная труба, проходившая внизу под лестницей, сбрасывала в сточную канаву мощный поток грязной воды. Бенедикт невольно задержал дыхание и поспешно направился к церкви св. Иосифа. Сегодня суббота. Он шел на исповедь. Однако исповедоваться ему не очень хотелось, и он снова замедлил шаг, пробираясь вдоль заборов по грязному переулку. Женщины в платках вскапывали в огородах черную землю; в воздухе стоял густой запах свежего навоза. В хлевах, мимо которых шел Бенедикт, задумчиво мычали стельные коровы.
Шпиль церкви был его ориентиром, и расстояние он тоже определял по этому шпилю да по высокой трубе мусорной печи. Их было видно отовсюду: из леса, простиравшегося за старой фабрикой, с вершины Медового холма, со шлакового отвала и даже с далекого полусгоревшего копра старой шахты Роббина, если взобраться по обугленным доскам наверх.
В этих пределах протекала вся жизнь Бенедикта.
Он отворил поросшую мохом калитку и направился к дому священника. Экономка отца Дара миссис Ромьер вскапывала во дворе грядки, как и те женщины, которых он видел по пути сюда.
— Здравствуйте, миссис Ромьер, — вежливо сказал Бенедикт.
Она вздрогнула от неожиданности.
— Он приезжает завтра? — спросил мальчик.
Но миссис Ромьер снова вонзила лопату в землю и ничего не ответила.
Бенедикт обогнул дом и пошел по вымощенной кирпичом дорожке через сад, огороженный высоким забором, увитым виноградом. Дорожка вела к ризнице церкви. Войдя в ризницу, мальчик прислонился к двери, словно к чему-то прислушиваясь. О чем бы он ни думал по дороге, в каком бы ни был настроении, но как только входил в церковь, он как бы попадал в другой, особый мир, полностью отрешенный от внешнего мира. Бенедикт постоял некоторое время у двери, собираясь с мыслями, настраиваясь на благочестивый лад.
От застарелого запаха пыли и людского пота, въевшегося в спинки церковных скамей, истертых до блеска многими поколениями прихожан, от запаха ладана и воска, смешанного с ароматом увядших лилий на алтаре, у него сильнее забилось сердце, а щеки начали гореть. Он вздрогнул, стараясь сдержать свой восторг. Его окружала тишина, казавшаяся осязаемой: та сокровенная тишина, которую он познал через католицизм, — тишина всех церквей мира. Она была как бы материальным воплощением религии, рассеянной во времени и пространстве и в то же время единой. Мальчику казалось, что, не сдвинувшись с места, он может сразу же очутиться в Риме, в соборе св. Петра.
Завтра он опять придет сюда и будет отдавать распоряжения мальчикам — служкам при алтаре, подготовляя все к ранней и поздней обедням. Он придет сюда в пять утра, затем в семь и еще раз в полдень. — на все богослужения.
Из ризницы Бенедикт прошел в церковь. Он остановился на верхней ступеньке алтаря и внимательно, настороженно всмотрелся в полумрак церкви, как если бы он был уже священником; он слышал все звуки, ощущал все запахи, замечал все вокруг. Из-под купола длинными блеклыми лохмотьями свисала облупленная краска, изображение чуда Христова с хлебами было изранено трещинами. Бенедикт содрогнулся: это показалось ему кощунством.
Зато стены церкви все еще были прекрасны, а через окна струились такие красивые и радужные лучи, что казалось — они льются сюда прямо из рая. Сейчас на задних скамьях сидело несколько женщин и детей; еще несколько человек стояли на коленях или ждали у исповедальни.
Бенедикт смиренно встал последним, сознавая свое ничтожество, склонив голову. «Святая Мария, матерь божья, молись за нас грешных, аминь».
— Я исповедовался неделю назад, отец мой, — сказал он тихо, когда подошла его очередь.
Решетчатая дверца, отделяющая его от отца Дара, со стуком распахнулась. На него пахнуло мерзким запахом гнилых зубов и перегаром виски. Мальчик понурился, у него защемило сердце.
— Я ни в чем не грешен, мне не в чем исповедоваться, отец мой, — проговорил он.
Отец Дар повернул к нему лицо и хрипло спросил:
— Кто это?
— Это я, Бенедикт, — ответил тот, зардевшись.
— Вот как! — Отец Дар разглядывал его в полумраке. — Может ли это быть, сынок? — спросил он.
— Мне не в чем исповедоваться, — повторил Бенедикт с упрямой гордостью.
Наступило молчание. Он ждал. Взгляд старого священника пронизывал его насквозь, и Бенедикт чувствовал, что старик не верит ему. Мальчик склонил голову еще ниже.
— Тогда зачем же ты пришел? — спросил наконец отец Дар.
Бенедикт вспыхнул. В голосе старого священника ему послышался усталый упрек.
— Я прихожу на исповедь каждую неделю, — забормотал он. — Я рожден во грехе...
Опять стало тихо.
Священник задумчиво повторил:
— Не в чем исповедоваться? За целую неделю ты ни разу не согрешил и помыслы твои все время были чисты? — спросил он.
— Да, отец мой, — отозвался Бенедикт.
— А быть может, — проговорил старый священник, придвигаясь к нему, — ты повинен в грехе гордыни?
— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — пробормотал Бенедикт.
Старик вытер глаза с тайным умилением.
— Все мы не без греха, — сказал он хрипло. — Ты ли, я ли...
Он умолк. Молчание длилось так долго, что Бенедикту почудилось, будто тишина все ширится, растет. Ему стало страшно, он начал молиться, но до него снова донесся голос священника:
—... И он будет моим помощником, ты понимаешь. Помощником священника, куратом. Говорят, он очень молод. Ты, конечно, придешь завтра к ранней обедне? Я хочу, чтобы ты непременно...
— Новый священник, отец мой?
Голова отца Дара дернулась.
— Помощник! — закричал он. Бенедикт еще больше понурился. — Да, — продолжал старик уже более мягко. — Я хочу, чтобы ты непременно...
— Что, отец мой?
— Непременно...
Бенедикт ждал. Тянулись минуты. Мальчик так и не поднял голову. Ему казалось, он слышит — как если бы церковь была гигантской раковиной — дневные звуки, а за ними звуки вечной жизни, в которую он верил. Будто, стоя в исповедальне, он приставил ухо к этой раковине и слушает рокот отдаленного моря религии.
— Отец мой! — настойчиво прошептал он. Просунув палец сквозь решетку, разделявшую их, он тронул священника за плечо. — Отец мой!
Послышался тихий храп. Мальчик слегка толкнул старика, тот встрепенулся и вскричал:
— Что?
— Я еще здесь, отец мой, — с мукой в голосе проговорил Бенедикт. И добавил: — Вы заснули.
Священник откашлялся.
— Много еще народу?
— Я последний, — ответил Бенедикт.
— Ну так иди, сынок, — сказал старик. — Старайся не допускать нечистых помыслов и избегай греховных поступков. Прочитай десять «Отче наш» и двадцать «Богородиц».
— Но, отец мой... — возразил Бенедикт, вспыхивая.
Старик, не глядя, устало осенил его крестным знамением и захлопнул дверцу. Бенедикту стало нестерпимо стыдно, ему показалось, что вокруг него сгущается тьма.
Спотыкаясь, ничего не видя, он вышел из исповедальни и упал на колени. Теперь его молитва была столь сокровенной, что он почти не сознавал ее. Сердце его замирало. Он молился без слов, чтобы бог услышал его, недостойного, и помог церкви, и как-нибудь поддержал отца Дара или милосердно взял священника к себе, взял теперь же — ведь тот стар и немощен, и, верно, от этого не ведает, что творит, и не понимает, как Бенедикт страдает от его недостойного поведения, как глубоко страдает...
Он поднялся с колен, не прочитав тех молитв, которые ему наказал прочитать отец Дар. На миг ему захотелось снова войти в исповедальню, разбудить крепко заснувшего священника, отвести его домой... Но отец Дар сейчас и не проснется, — не проснется до поздней ночи, а то и до самого утра...
Бенедикт вышел из церкви через ризницу и направился к дому священника. Он постучал. Дверь открыла миссис Ромьер.
— Отец Дар... — начал Бенедикт и осекся. Позади миссис Ромьер спиной к нему стоял, нагнувшись над чемоданом, молодой священник. Он не успел еще снять пальто. Услышав голос Бенедикта, он обернулся. Мальчик не мог больше выговорить ни слова, лицо его запылало, в горле пересохло.
— Ну? — воззрилась на него миссис Ромьер. Всклокоченные пряди седых волос падали ей на лицо. — Это он, — сказала она, обернувшись к новому священнику.
Тот просиял и шагнул к двери.
— Так ты — Бенедикт! — воскликнул он.
Он взял обе руки Бенедикта в свои белые руки — такие мягкие, что Бенедикт почти не почувствовал их пожатия.
Мальчик поднял глаза и встретился со взглядом молодого священника. У того были ярко-синие глаза и очень светлые брови и ресницы. На белом как мрамор лбу просвечивали голубые жилки, как у ребенка; розовые щеки покрывал едва заметный золотистый пушок. Голос у него был певучий, удивительно приятный, — такого голоса Бенедикт еще никогда не слышал.
— Мне уже рассказывали о тебе, — продолжал молодой священник с легкой улыбкой. — Миссис Ромьер и отец Дар. Я — отец Брамбо.
Бенедикт кивнул.
— А где же отец Дар?
— Я как раз пришел... — начал Бенедикт, но голос отказывался ему повиноваться. Он молча показал на церковь.
— Там сейчас исповедуются, отец мой, — пояснила миссис Ромьер, обеими руками откидывая волосы, из-под которых вдруг выглянуло ее красное, обветренное лицо.
— Еще не скоро кончится?..
Бенедикт почувствовал, что вот-вот заплачет. У него кружилась голова, звенело в ушах. Он покачнулся.
В глазах молодого священника мелькнуло удивление, он протянул руку, но Бенедикт овладел собой и усмехнулся. Кровь стучала у него в висках, словно барабанная дробь.
— Тебе дурно? — с тревогой спросил отец Брамбо.
Бенедикт упрямо покачал головой.
— Я весь день постился, — прошептал он.
Отец Брамбо изумленно посмотрел на него.
— Но почему?
Бенедикт отвел глаза. На его лице появилось горделивое выражение.
— Перед причастием, — тихо сказал он. — Я всегда пощусь в ночь с пятницы на субботу.
Миссис Ромьер фыркнула.
— Не верьте ему, — сказала она, — скорей всего дома есть нечего. Работы мало, вот что, отец мой. Мало работы. По правде говоря, они все сейчас постятся.
Молодой священник с удивлением переводил взгляд с одного на другую...
«Я постараюсь никогда ничем его не огорчать», — подумал Бенедикт. Казалось, бог услышал его самые сокровенные молитвы и исполнил их! Мальчику припомнился отец Дар, который храпел сейчас в исповедальне. Наверно, сполз с кресла, как бесформенный куль. Нет, нет, Бенедикт никогда не расскажет об этом тому, кто сейчас стоял перед ним — такой чистый, возвышенный, с такими мягкими, нежными руками, что почти не чувствуешь их прикосновения. Он решил, что отныне на него возложен долг заботиться о молодом священнике, ограждать его от всего неприятного, — ведь один лишь он, Бенедикт, понимает, каким бесценным даром провидения является его приезд.
Миссис Ромьер протянула мальчику кусок хлеба с маслом, но он смущенно покачал головой.
— Бери, бери! — настаивала она. Она ткнула пальцем в масло и неожиданно мазнула ему по губам. — Ешь! — сказала она.
Бенедикт сердито покосился на нее. Она всунула хлеб ему в руку, но он не шевельнулся, рука повисла, как плеть.
— Отец Дар еще долго будет занят, — сказал он.
— Так много народу?
Он молча кивнул.
— Что же мне делать? — беспомощно спросил молодой священник.
— Я отнесу ваши вещи в комнату, — сказала миссис Ромьер, завладевая его чемоданом. — А Бенедикт покажет вам наш приход, — добавила она. — Он проводит вас! — Она кивнула в сторону Бенедикта, и волосы снова упали ей на глаза.
Бенедикт повернулся к отцу Брамбо. Молодой священник стоял в нерешительности, затем пожал плечами.
— Вероятно, он вернется не раньше...
— Не раньше, чем через час, — подсказал Бенедикт.
— Тогда идем.
Священник обернулся к миссис Ромьер и протянул руку, будто хотел поправить ей прическу.
— Будьте добры... — он не закончил. Миссис Ромьер уже исчезла из кухни. Отец Брамбо покраснел. — Она... — начал он.
— Отец Дар доволен ею, — отозвался Бенедикт.
Молодой священник посмотрел на него.
— Ведь она много работает, — добавил Бенедикт. — И очень заботится о нем.
Они спустились во двор. Под крыльцом вдруг раздался писк, и оттуда выскочили три крошечных котенка.
— Ах, я и забыл про них! — воскликнул Бенедикт.
— Что? — удивленно спросил священник.
— Отец Дар велел мне утопить их, — ответил Бенедикт.
Через калитку, на которой для тяжести были прибиты три старые подковы, они вышли в немощеный переулок. Посреди него тянулась канава с нечистотами; возле нее играл маленький мальчик. Бенедикт не обратил на него внимания, но отец Брамбо сказал:
— Прикажи ему вылезти оттуда!
— Руди! — позвал Бенедикт. Малыш в одной рубашонке, из-под которой виднелись его грязные босые ножки с пухлыми коленками, поднял круглую рожицу. Бенедикт протянул ему хлеб с маслом. — Беги домой, — сказал он.
Мальчонка бросил, палку, с которой играл, и, набив рот хлебом, засеменил по переулку.
— Пойдемте на Медовый холм, — предложил Бенедикт.
Они направились к лестнице.
— Это правда? — спросил отец Брамбо.
— Что, отец мой?
— То, о чем говорила экономка?
Бенедикт вспыхнул.
— Я не помню, про что она говорила, отец мой.
— Да про то, что ты постишься.
— Нет, неправда. Еды у нас дома хватает, — угрюмо ответил Бенедикт. — А я всегда пощусь по субботам до воскресного причастия.
— Почему?
«Потому, что я святой», — хотелось ответить Бенедикту. Но вместо этого он сказал:
— Я хочу, чтобы мое покаяние было искренним и правдивым.
Священник недоверчиво посмотрел на него.
— Это весьма необычно, — сказал он наконец.
Они дошли до лестницы и начали подниматься. Бенедикт машинально считал про себя ступеньки. На полпути он остановился и посмотрел через перила, не валяется ли там Донкас, но того уже не было. Наверху он осторожно взял отца Брамбо за локоть и повернул лицом к долине.
— Отсюда все видно, — сказал он.
Молодой священник немного запыхался. Болезненно улыбаясь, он прижал руку к сердцу и долго смотрел вниз на расстилавшуюся перед ним долину.
— Какое убожество! — прошептал он.
— Люди из города тоже ходят к нам, — с гордостью сказал Бенедикт.
— Почему же... — начал священник, — почему поселок считается немецким?..
— Сначала в этих местах обосновались немцы, — это и есть самая старая часть города, — объяснил Бенедикт и с удовлетворением добавил: — Генерал Браддок проходил здесь по пути в форт Дукен в тысяча семьсот пятьдесят пятом году.
— Вот как! — отозвался священник.
— А там, — Бенедикт протянул руку, — там Пыльная фабрика.
— Что это такое?
— Завод, где обогащали руду, — отвечал Бенедикт. — Но он давно не работает. С войны. Видите красную пыль? Она засыпала всю землю до самого пруда. Это пыль от железной руды; все там красное, и пруд тоже. А вон там лес. — Он указал на запад. — А это печь для сжигания мусора. Посмотрите, какая высокая труба.
Священник поднял голову и брезгливо поморщился.
— Чем это пахнет? — спросил он.
— Пахнет? — повторил Бенедикт, принюхиваясь.
— Ужасный смрад!
Бенедикт громко потянул носом.
— Я не чувствую... — простодушно сказал он.
— Фу, какая отвратительная вонь! — вскричал священник. — Несет тухлыми яйцами или дохлыми крысами! Чудовищно!
— Я не чувствую никакого запаха, — испуганно отвечал Бенедикт.
— Что там сжигают? — спросил священник.
— Дохлых лошадей, — поспешил объяснить Бенедикт. — И кошек и крыс. Всякую падаль. А может быть, пахнет просто гарью? — воскликнул он, и лицо его просветлело. — Дымом оттуда несет ужасно! — горячо прибавил он. — Летом, когда ветер с той стороны, — дышать нечем! — Он рассмеялся, словно обрадовался своей догадке, но, поглядев на священника, резко оборвал смех. Отец Брамбо прижимал руку к сердцу, в его синих глазах блестели слезы.
Бенедикт медленно перевел взгляд на долину.
— Вон там, — тихо и нерешительно продолжал он, — опрокидываются вагонетки. Вагонетки бегут с завода и сбрасывают шлак под откос, по ту сторону... — он никогда не мог спокойно произнести это слово, — по ту сторону Рва, — закончил он.
У молодого священника дрожали губы, на бледном лице застыло страдальческое выражение.
— Боже мой, куда они послали меня, куда они меня послали? — шептал он, почти не разжимая рта, словно молился.
Они стали молча спускаться по лестнице.
2
Бенедикт ушел далеко-далеко — за мусорную печь, вокруг которой высились кучи гниющих, медленно тлевших отбросов. Вздымая пыль, он брел по усыпанной мелким шлаком дороге. Его преследовал запах гари. Теперь Бенедикт явственно различал его и к стыду своему сознавал, что он не столь уж ему неприятен. Привычный, давно знакомый запах — вот и все; он пропитал его насквозь, проник в кровь.
На половине пути этот запах ослабел, его заглушил запах шлака. Справа от дороги раскинулся темно-серый пустырь. Казалось, на окрестных холмах когда-то произошло извержение вулкана, и с тех пор все вокруг покрылось лавой и шлаком. Здесь ничего не росло. Сколько глаз хватал, тянулось голое, унылое плато. Вдалеке его пересекали железнодорожные пути, по которым бегали вагонетки, груженные раскаленным шлаком. За путями был крутой откос, куда и сбрасывали шлак. Внизу под откосом проходил Ров, а вдоль него стояли дома, вернее, фанерные лачуги, крытые толем. Заводская компания выстроила эти лачуги вскоре после первой мировой войны, чтобы разместить в них негров с Юга, когда их доставили сюда в запломбированных товарных вагонах, чтобы сломить забастовку сталелитейщиков. Тут они с тех пор и застряли; местечко это прозвали Негритянским Рвом.
Бенедикт перебрался через Ров и стал карабкаться на высокий шлаковый отвал по узкой тропинке, которая вилась среди закаменевшей лавы. Рот его и нос набились щелочной пылью, отдававшей серой — от шлака всегда несло серой. Растительности тут не было почти никакой. Должны были пройти годы, прежде чем шлаковая пыль превратится хотя бы в скудную почву. Выше по склону пробились кое-где чахлые ромашки; целое лето они робко ютились на неостывающих камнях. Редкая колючая трава порой привлекала своей обманчивой зеленью заблудившуюся бабочку, — словно белый лепесток, прилетела она из леса. Деревьев или кустов здесь и в помине не было — одни лишь голые серые глыбы, пустынные и печальные. Внизу между этим плато и Медовым холмом, который зеленел вдали, словно тусклый изумруд, протянулась мили на три долина. Медовый холм поднимался не выше шлакового плато, и через долину можно было бы перебросить мост.
В западной стороне серая лава шлака вскоре обрывалась. Шлак исчезал словно по волшебству, и появлялась красная летучая пыль, смесь железной руды и кокса. Земля вокруг была как бы окрашена кровью. Пыль лежала волнами, образуя холмы и лощины, подобно пескам пустыни. Здесь тоже не было ни кустов, ни зелени. Лишь в тех местах, где поверх руды образовался тонкий слой почвы, попадались хилые, но цепкие ромашки или нежные вьюнки. Когда дул ветер, поднимались облака пыли и на своем пути окрашивали все в красный цвет: лица людей и крыши домов, если пыль долетала до них. Среди красных дюн струился чистый, удивительно прозрачный ручеек, на дне которого виднелись ржавые камни. От него пахло кислым, как от огуречного рассола, и все же зелень обрамляла его на всем его пути ко Рву.
В центре этой обширной пустыни стояла обогатительная фабрика — огромное строение, густо покрытое красной пылью. Когда-то тут находилась доменная печь, но потом ее разрушили, и остался только этот железный остов с заброшенными машинами, покрытыми ржавчиной и паутиной. Их охраняли два старика, — казалось, они случайно уцелели от какой-то страшной катастрофы, — охраняли в основном от мальчишек, но те и сами боялись туда ходить.
За обогатительной фабрикой снова тянулась красная земля. В ней глубоко вязли ноги, а от легкой ее пыли лицо и руки делались медно-красными, как у индейцев. Еще дальше, между двумя высокими слежавшимися кучами красной пыли, — будто само время отлило их из багрового чугуна, — лежал небольшой пруд. Его питали лесистые холмы и потоки шахтных вод, но и он был красным как кровь.
Сейчас в этом пруду плескались трое голых мальчишек. Бенедикт пришел сюда за своим братом Джоем. К тому же ему хотелось хорошенько обдумать все, что случилось за последние дни, поэтому он и предпринял эту продолжительную прогулку. Чувство глубокого унижения, охватившее его, когда на вершине холма он поймал страдальческий взгляд отца Брамбо, теперь развеялось. В тот день на обратном пути к дому священника Бенедикт доверчиво рассказал отцу Брамбо, что тоже посвятил себя церкви, а затем с гордостью добавил, что уже выполняет обязанности церковного причетника, хотя епископ еще не утвердил его в этой должности. Это произвело впечатление на отца Брамбо. «Мы будем друзьями, Бенедикт», — сказал он. И мальчик радостно вспыхнул и затрепетал под рукой молодого священника, мягко лежавшей у него на плече.
Когда Бенедикт с отцом Брамбо вернулись, отец Дар, к счастью, был уже дома. Миссис Ромьер сходила в церковь и разбудила его. Но Бенедикт не стал задерживаться и слушать разговор священников.
По дороге к пруду он старался умерить свою радость и твердил про себя, что в благодарность за прибытие отца Брамбо он, Бенедикт, будет стараться выполнять свои обязанности еще более ревностно и смиренно, с еще большим самопожертвованием. Он подразумевал не только обязанности, которых требовала от него церковь, но и те дополнительные, которые сам возложил на себя для большей святости.
Вид голых мальчиков безотчетно смутил его, хотя он и сам не понимал почему. Он признавал, что в наготе нет ничего греховного. И все-таки — совсем нагие! А мальчишкам, по-видимому, ни чуточки не стыдно. Ему было особенно неприятно, что Джой, его брат, тоже разделся догола, как и его товарищи. Это бесстыдство как бы бросало тень и на самого Бенедикта.
Он стоял на берегу пруда, который сверкал красными бликами среди красных дюн, и смотрел на мальчиков. На середине пруда плавал плот, а на нем стоял Джой. Ресницы и нос у него были красные, по подбородку текли розовые слюни, а волосы на голове сбились в красный ком. Он смеялся и с воинственным криком бегал по скользкому плоту, колотя палкой по головам и рукам своих приятелей, а те, в свою очередь, старались свалить его в воду и завладеть плотом. Когда Джой кричал, его худенькие ребра раздвигались и сдвигались, как мехи аккордеона. Никто из ребят не заметил появления Бенедикта.
Он невольно рассмеялся. Джой выглядел таким торжествующим, так смешно приплясывал и с таким удовольствием дубасил своих товарищей, что Бенедикту тоже стало весело. Он смотрел на них до тех пор, пока два мальчугана не нырнули под плот и не опрокинули его. и Джой, взмахнув руками, плюхнулся в ржавую воду.
— Джой!
Все трое повернули к нему свои грязные рожицы.
— Что-о-о? — помедлив, ответил Джой.
— Пойдем домой!
— Неохота! — отозвался Джой.
— Пойдем, — угрожающе повторил Бенедикт. Мальчишки захихикали. — Пошли домой! Сам знаешь зачем...
— Не пойду!
Молчание.
— Одевайся, слышишь? — приказал Бенедикт, но Джой не сдвинулся с места. Он стоял в воде, по лицу тянулись красные потеки, пупок торчал на животе, словно красная пуговица.
— Ты не ходил на исповедь, — осуждающе проговорил Бенедикт.
— Ходил! — запальчиво возразил Джой.
— Не лги!
— Ходил! — Джой неуверенно осенил себя размашистым крестом.
— Не смей этого делать! — закричал Бенедикт. — Хочешь прямо в ад отправиться? Ты не ходил на исповедь — ты солгал!
Лицо Джоя заметно побледнело под красными разводами. Его приятели тоже перепугались и вылезли из воды. Они вытерлись своим нижним бельем, потом засунули его в карманы. Промокшие ладанки липли к их ребрам. Мальчики дрожали всем телом: погода была довольно прохладная.
А непокорный Джой по-прежнему стоял, вперив взгляд в воду.
Мальчишки хорошо знали о святости Бенедикта. Они молча оделись и пошли к поселку. Джой все не вылезал из воды.
Когда они оба скрылись за дюнами, Бенедикт сказал:
— Говорил я тебе, чтобы ты никогда не крал? А?
Джой передернул голыми плечами, как если бы его ударили.
— Я ничего не брал, — захныкал он, испуганно поглядывая на Бенедикта. Его трясло как в ознобе, но в голосе еще звучало неповиновение.
— Я нашел тележку, — процедил Бенедикт сквозь зубы.
Джой заморгал глазами, обведенными красной каймой.
— Чья это тележка?
— Я ее не крал!
— Говори!
Молчание.
— А почему папа не купил мне такую? — внезапно закричал Джой, и от жалости к самому себе на глаза его навернулись слезы.
Бенедикт не обратил на это никакого внимания.
— Потому ты и не пошел на исповедь, ведь так? Ты боялся! Лгать на исповеди — это смертный грех. А возвращать тележку тебе не хотелось. Вот ты и не мог пойти в церковь, — ведь тебе пришлось бы сказать отцу Дару, что ты ее украл. Хочешь, чтобы тебя в тюрьму посадили, да?
Джой судорожно вздрогнул. Губы у него затряслись, подбородок запрыгал, из глаз хлынули потоки слез, промывая светлые полоски на красной мордашке.
— Не отдавай меня, Бенни! — рыдал он с перекошенным от страха лицом. — Я верну тележку обратно — только пойдем вместе. Пойдем вместе, Бенни!
Бенедикт поглядел на его залитое слезами лицо. Ему самому захотелось вдруг заплакать, и он коротко сказал:
— Вылезай из воды.
Джой сильно озяб и на этот раз послушно выбрался из пруда. Дрожа всем телом, он стоял перед Бенедиктом, а тот, сжав губы, сурово смотрел на него.
— Стань на колени! — скомандовал он.
— Дай же мне одеться! — попросил Джой.
— На колени!
Джой опустился в пыль, вздрагивая всем телом. Бенедикт встал на колени рядом с ним.
— Молись! — сказал он глухим голосом. — Повторяй за мной...
Лязгая зубами, бедный Джой повторил пять «Богородиц», десять «Отче наш» и еще одну молитву об отпущении грехов; затем Бенедикт, закрыв увлажненные слезами глаза, стал сам молиться за Джоя. Только после этого он разрешил Джою одеться, что тот и проделал. Он все никак не мог застегнуть пуговицы трясущимися от холода руками.
— Вот мать узнает, что ты плавал в пруду, и выпорет тебя, — сказал Бенедикт. — Хорошо еще, если отец не дознается.
— Но ведь ты не скажешь! — закричал окончательно запуганный Джой.
— Ты же знаешь: я на тебя никогда не ябедничал, — гордо ответил Бенедикт.
Они отправились через красные дюны в обратный путь. Братья шли молча, потом наконец Джой, побледневший и осунувшийся, спросил:
— А они не сцапают меня, если узнают, Бенни?
— Я сам отвезу тележку, — ответил Бенедикт. — Они не арестуют тебя. Я скажу, что это я ее взял.
— Но тогда они сцапают тебя...
— Меня? — улыбнулся Бенедикт. — Нет, — продолжал он с непоколебимой уверенностью. — Они сразу увидят, что я не вор.
Мальчики побрели дальше. Джой и не подумал поблагодарить Бенедикта: разве за такое можно отблагодарить?!
Жили они на авеню Вашингтона, на спуске ко Рву. В домике было четыре комнатушки; две нижние — кухня и «общая» комната — были подвальные, с кирпичными стенами, а воздух и свет проникали туда лишь через дверь, открывающуюся на задний двор, да через маленькое боковое оконце. Там почти всегда царил полумрак. Проходить в верхние две комнатки надо было через кухню. На дворе, где сейчас мелкими пучками рос салат, пахло свежим навозом. У забора стояла уборная: убогий сарайчик с вырезанными на двери полумесяцем и звездочкой меж его рогами. За уборной проходила грязная канава, тянувшаяся до самого Рва. Вдоль этой канавы соседи гоняли своих коров в долину на пастбище.
Бенедикт и Джой завернули за дом. Бенедикт оглядел огород, который почти весь посадил своими руками: не рылся ли здесь кто-нибудь? Успокоившись, он направился за уборную, а Джой немедленно улизнул. Бенедикт вытащил из-за уборной желтую с красным тележку и прислонил ее к стенке.
— Мама, — сказал он, входя в кухню, — заставь Джоя пойти завтра в церковь!
Мать стояла у печки, она обернулась на его голос. В кухне горела керосиновая лампа. Помешивая суп в большой кастрюле на плите, мать пробовала его с ложки. Она была маленькая, толстенькая, с лоснящимся смуглым лицом и серыми глазами, в которых иногда загорались янтарные блики. Ее прямые черные волосы были уложены пучком на затылке. Бенедикт называл ее «Цыганкой», — такая она была смуглая и черноволосая. На щеке у нее были две обворожительные родинки.
Она робела перед Бенедиктом и гордилась им. Сейчас она обернулась к нему с таким выражением, будто ждала какой-то беды, и спросила:
— Что он наделал?
— Ничего, — угрюмо буркнул Бенедикт.
Мать с минуту пристально смотрела на него, потом крикнула:
— Я выпорю его!
Бенедикт нетерпеливо пожал плечами.
— А что толку... — сказал он и, сев на стул, закинул руки за голову. Мать громко втянула суп с ложки, исподтишка поглядывая на него. Наконец Бенедикт озабоченно спросил:
— Где отец?
Мать не ответила. На кухню приковылял маленький мальчик в одной рубашонке. Бенедикт поймал его и зажал меж коленями.
— Ты зачем рылся в мусоре? — ласково пожурил он малыша и обернулся к матери. — Руди играл в канаве, мы с отцом Брамбо видели его. Ну и грязный же он был! Я не знал, куда деваться от стыда. Зачем ты позволяешь ему?
Руди вырвался от Бенедикта, подбежал к матери и спрятался за ее юбку. Он выглядывал оттуда на Бенедикта темно-синим глазом.
Мать шлепнула его.
— Я же велела тебе не уходить со двора, — мягко сказала она, но, бросив быстрый взгляд на Бенедикта, добавила более энергично: — Вот посмотришь, в следующий раз я тебе задам!
Бенедикт почувствовал острую резь в животе, — из кастрюли плыл дразнящий запах супа. Вдруг он воскликнул:
— Отец опять пил?..
От испуга мать уронила ложку в кастрюлю, а Руди совсем спрятался за ее юбкой.
— Не говори так! — сказала она, подходя к Бенедикту и облизывая палец. — Он опять ходил искать работу...
— О мама! — воскликнул Бенедикт, бросаясь к матери. Она отвернулась, виновато посмеиваясь, но он силой повернул ее к свету. Под глазом у матери темнел синяк. Бенедикт с горечью смотрел на нее. — За что? — спросил он и, прежде чем она успела ответить, укоризненно добавил: — Ты сама допускаешь! Сама! — Он подбежал к кухонному шкафику, открыл его и, вытащив недопитую бутылку, шагнул к раковине.
Но мать, прежде чем он успел ее вылить, схватила его за руку.
— Ты с ума сошел? — закричала она, глядя в его злые глаза. — Ничего ты не понимаешь! — продолжала мать, сердито вырывая у него бутылку. — Хочешь, чтобы ему нечем было забыться, когда он возвращается домой? А ты пойди сам поработай! — снова крикнула она. — Поработай-ка весь день у открытой печи, да приди домой, усталый до полусмерти, когда у тебя все кости разламывает, а голова пухнет от забот! Пусти! — Она оттолкнула его, бережно закупорила бутылку и поставила ее в шкаф. Потом обернулась, поглядела на него и опустила глаза.
— Уж если я сама ничего ему не говорю, — сказала она мягко, — зачем же тебе...
— Но ведь он идет против церкви, — сказал Бенедикт.
Мать подняла голову.
— Не тебе судить, — ответила она.
— Он искушает господа бога! — вскричал Бенедикт, Мать всплеснула руками и дважды истово перекрестилась. В глазах ее застыл такой испуг, что Бенедикт отвернулся и понурил голову.
В кухню вошел Джой. Обойдя сторонкой Бенедикта, он шепотом спросил:
— Мама, скоро ужин?
— Сейчас, — ответила она.
Светло-русые волосы Джоя все еще отсвечивали красным, а на щеках были волнистые красные потеки.
Мать поставила на стол миски.
— Где Винс? — тихо спросила она. В ответ Джой только пожал плечами. Мать взглянула на Бенедикта, — тот сидел, опустив голову на руки. Она накрыла на троих и разлила суп по мискам. Мальчики сидели за столом, но к еде не притрагивались. Бенедикт молился не поднимая головы, словно застыв. Потом все, кроме него, стали есть.
После супа мать положила в миски по кусочку вареного мяса. Они съели его с ржаным хлебом. Обед был закончен.
— Мама, я еще голодный, — сказал Джой.
Мать сердито поглядела на него, а, Рудольф ударил ложкой по столу.
— Еще! — весело потребовал он.
Бенедикт поднял голову.
— Дай им еще, мама, — сказал он.
— Больше нет, — ответила она.
— Есть, — возразил он спокойно.
— Это отцу, — объяснила она, — я должна оставить отцу.
Бенедикт встал со стула, взял миску Джоя и направился к плите. Он наполнил миску и поставил ее перед мальчиком. Джой сидел неподвижно, вцепившись пальцами в край стола.
— Ешь! — приказал Бенедикт.
Тот отрицательно покачал русой головой.
— Ешь! — процедил сквозь зубы Бенедикт. Пальцы его потянулись к миске, но он вдруг отдернул руку, словно обжегся. Рудольф, получив дополнительную порцию, уписывал суп за обе щеки. Бенедикт подал свою миску матери.
— Ешь, мама, — сказал он.
— Я не могу, — сказала она и засмеялась. — Посмотри, как я наелась! — Словно ребенок, она выпятила живот и пошлепала по нему ладонью. — Видишь?
Джой поднял голову, с улыбкой наблюдая за ней. Рудольф радостно замахал ложкой.
— Ешь, мама! — страдальчески прошептал Бенедикт.
— Отстань от меня! — отозвалась она.
Он обернулся к Джою. Тот медленно опустил ложку и зачерпнул супу. Бенедикт сердито следил за ним взглядом. В, голове его стучало, глаза горели. Боль в груди и животе несколько успокаивала его, — она была ему хорошо знакома. Бенедикт чувствовал себя так, словно он долго и горько плакал и теперь выплакал все слезы, а голова его превратилась в пустой котел.
Его никто не уговаривал поесть.
Когда обед закончился, он поднялся наверх, в спальню мальчиков. В углу у окна он опустился на колени перед домашним алтарем, на котором стояло позолоченное распятие да две свечки в глиняных подсвечниках. Он молился, ощущая жгучую боль в глазах. «Не оставь меня, господи! — просил он. — Помоги мне сделать нашу жизнь такой, чтобы она была угодной тебе. Укажи мне путь, господи!»
Когда он спустился вниз, мать стояла у лампы и разглядывала большой белый конверт.
— Письмо пришло, — прошептала она упавшим голосом.
— Я прочту, когда вернусь, — ответил Бенедикт, разглядывая конверт. — Это от Заводской компании, — добавил он, прочитав обратный адрес.
— Может быть, сообщают о работе для папы? — заинтересовалась она, придвигаясь к нему.
Бенедикт вскрыл конверт и быстро пробежал письмо.
— Нет, — сказал он. — Они хотят, чтобы мы продали дом.
Она недоумевающе смотрела на него, потом с ужасом вскричала:
— Продать дом? Что это значит? Зачем нам продавать дом?
— Не знаю, мама, — нетерпеливо ответил Бенедикт, возвращая ей письмо. — Мне надо идти. Покажи письмо папе.
Он пошел к уборной и выкатил тележку. Джой ждал его.
— Пошли! — сказал Бенедикт, таща за собой тележку.
Они спустились по Тенистой улице, потом свернули к деревянной лестнице, которая вела на вершину холма. Джой подхватил тележку сзади, и они вместе понесли ее вверх по длинной лестнице, останавливаясь через каждые десять ступенек, чтобы немного передохнуть. Темнело. Долину окутали серые сумерки. Казалось, они сгустятся, прежде чем зажгут уличные фонари, и сразу же наступит непроглядная тьма. Неясные очертания домов расплывались в полумраке. Далеко на западе над высокой черной трубой мусорной печи взлетел сноп желтого пламени. Он вонзился в небо и погас.
На середине лестницы, которой, казалось, не будет конца, мальчики остановились и посмотрели вдаль, в сторону шлакового отвала. Там, на самом краю откоса, остановился поезд из десяти вагонеток; на таком расстоянии круглые ковши были похожи на опрокинутые наперстки. Бенедикт вспомнил, как они с отцом Брамбо смотрели отсюда вниз на Литвацкую Яму.
— Джой, — сказал он. — Ты чувствуешь какой-нибудь запах?
Джой потянул носом.
— Нет, — ответил он.
Небо внезапно вспыхнуло, вся долина ярко озарилась. Ее будто беспощадно выставили напоказ, уличили в чем-то постыдном: дома предстали во всей своей неприглядности. Одна из вагонеток опрокинулась. Шлак вывалился из нее гигантским, докрасна раскаленным комом. На мгновение ком покачнулся и застыл, пылая на фоне темного горизонта, а потом начал свой стремительный спуск вниз по склону откоса. Огненные куски отлетали от него во все стороны, как звезды из вертящегося колеса. На полдороге ком раскололся, и на мгновенье обнажилась его пылающая сердцевина, светясь так ярко, что мальчики почувствовали резь в глазах, а затем и она разорвалась, как огромная бомба, и рассыпалась на тысячи кусков, которые покатились вниз, подпрыгивая и дробясь по пути, пока не достигли подножья откоса. Они догорали в какой-нибудь сотне метров ото Рва. За первым комом последовал второй, — этот быстро распался и вытянулся по откосу, как огненный язык. Третий был похож на сплошную реку огня и дыма. Небо горело. Над долиной словно навис пылающий свод; зловещий свет отражался в окнах домов. Негритянские лачуги вдоль Большого Рва обрисовывались с ужасающей четкостью. Их толевые крыши коробились и размягчались от невыносимого жара.
Два мальчика молча глядели на это обычное для них зрелище. Даже на таком расстоянии — мили за три от откоса — они ощущали палящий жар. Лица у них были испуганные, словно они наблюдали какое-то страшное бедствие.
— Человек упал! Вот только что! — неуверенно заявил Джой.
— Брось врать, — оборвал его Бенедикт и зашагал вверх по лестнице.
Едва они вошли в город, как обоим стало немного не по себе. Они были здесь непрошеными гостями, чужаками. Бенедикт всегда чувствовал себя «чужаком» в городе, хоть и знал, что там тоже есть католики, которые, конечно, были бы о нем самого высокого мнения, знай они о его набожности. Он приходил как-то в церковь святой Марии, даже прислуживал однажды во время обедни, но то была католическая церковь ирландцев, и она ему не понравилась.
— Ну, скоро? — непрестанно спрашивал Бенедикт. — Мы пришли?
— Нет, — отвечал Джой. Он побледнел и съежился от страха.
Протестантизм чувствовался в городе на каждом шагу. Здесь были протестантские церкви, протестантские школы и публичная библиотека. Они обошли стороной деловую часть города и очутились в жилом районе. Вдоль улиц росли платаны, а перед каждым кирпичным домом была полоска зеленого газона.
— Здесь? — спросил Бенедикт.
Джой молча кивнул.
— Который дом?
Джой показал. Бенедикт остановился в нерешительности.
— Этот? — переспросил он. Джой снова кивнул. — Ты уверен?
— Да, — ответил Джой и хрипло зашептал: — Бенни, давай просто оставим тележку у подъезда, а сами убежим!
Бенедикт обрушился на него:
— Чтобы нас считали ворами? Нет. Надо доказать им, что мы не воры. Мы должны доказать!
Джой бросил на него умоляющий взгляд.
— Ладно, подожди здесь, — сказал наконец Бенедикт.
Он покатил тележку по дорожке, пересекавшей газон. Из окон дома лился мягкий оранжевый свет. Бенедикт обернулся и укоризненно посмотрел на Джоя, который спрятался за большим кустом сирени. Листья на ней торчали, как ушки. Бенедикт дошел до двери и опять остановился. До сих пор он шел вперед машинально, как во сне, ни о чем не раздумывая, а теперь, когда он потянулся к звонку, рука его дрогнула.
А что, если тут живут протестанты? В городе он всегда чувствовал скрытую угрозу, неприязнь к себе и своим землякам, и не только потому, что был католиком, но главным образом потому, что он был беден и жил в Литвацкой Яме. Казалось, горожане узнавали это с первого взгляда. Конечно, в городе его никто не знал, не то что в поселке, и он не мог сказать им, что бедность — это несчастье, а не позор. Город был исполнен гордыни. Несмотря на свою решимость, Бенедикт заколебался. «А что, если...» — подумал он. И тогда ему припомнились влажные от слез глаза отца Брамбо, устремленные на долину.
В доме послышались голоса, и Бенедикт чуть было не обратился в бегство, но потом зажмурился и дрожащей рукой нажал кнопку. Раздался мелодичный звон, и, прежде чем он стих, дверь отворилась.
— Что вам надо?
У человека, смотревшего на Бенедикта, было типичное лицо протестанта, и говорил он «по-городскому», как все англосаксы — враги его отца. В представлении Бенедикта он был одним из тех, кому никогда не приходится своим горбом зарабатывать себе на хлеб.
— Я... — мальчик запнулся. Он силился вызвать в своем сознании образ того Бенедикта, который бесстрашно взошел бы на Голгофу и для которого общение с богом было естественным, как дыхание. Мужчина вышел к двери с трубкой; он был высокого роста, волосы у него были совсем седые, нос длинный и тонкий, губ почти не видно.
— Я вернул вашу тележку! — вырвалось наконец у мальчика.
Мужчина насторожился и сурово посмотрел поверх головы Бенедикта.
— Ада! — позвал он. — Вот тележка Роджера! — И прежде чем Бенедикт угадал его намерение, он схватил мальчика за шиворот и потащил в дом.
Бенедикт не мог выговорить ни слова, ноги отказывались ему повиноваться. Мужчина приподнял его и швырнул в переднюю. Бенедикт услышал над собой его возбужденный голос:
— Вор! Он украл твою тележку, Роджер!
Они окружили Бенедикта. Скорчившись на полу, он поднял голову и посмотрел на них. Вот оно — воплощение гордыни! У всех троих взгляд был исполнен равнодушного презрения к его бедной одежде, к его скуластому лицу, к ломаному языку, на котором обычно говорили все инородцы. Их презрение преследовало его всегда, с раннего детства, с тех пор как он себя помнил. Эти трое презирали его.
— Пустите меня, — сказал Бенедикт, ничего вокруг не различая.
— Значит, это ты украл ее? — спросил мужчина.
Бенедикт не нашелся, что ответить.
— Нет, — наконец с трудом выговорил он. — Я не крал, я привез ее обратно...
Но он и сам чувствовал, что говорит не то, что нужно. Они его не поняли.
— Значит, ты — вор? — закричал мужчина.
— Нет, нет, — ответил Бенедикт. — Я же говорю: я вернул ее...
— Но ты сначала украл?
— Нет!
— Так кто же это сделал?
Наконец-то его спросили об этом, но Бенедикт не ответил.
— Ты откуда?
Бенедикт помертвел.
— Из Литвацкой Ямы, да? Можешь не отвечать: я чувствую по запаху!
Бенедикт потупил глаза и начал молиться. Губы его беззвучно шевелились.
— Мы тебя заставим заговорить! — с угрозой сказал мужчина.
Бенедикт зажмурился. Перед ним возник из тьмы строгий шпиль церкви, на самой его вершине ослепительно сиял крест. И вот он уже в самой церкви, у подножья гигантского алтаря из слоновой кости, усыпанного белоснежными лилиями; на него смотрит страдальческое лицо Христа, и он падает ниц на ступени алтаря. С ковра вздымается пыль, он чувствует ее во рту. Над головой его висит тяжелая чаша со святыми дарами. «Святый боже, помилуй нас!» — слышит он низкий надтреснутый голос отца Дара, но внезапно голос меняется, серебристо звенит, как у того, другого, радостно рвется ввысь: «Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!»[1]
Мальчик и женщина наблюдали за ним. Он открыл глаза и увидел их любопытные, слегка испуганные лица. «Боятся меня, думают, что я юродивый...» — подумал Бенедикт. Мужчина звонил в холле по телефону. Он успел бы добежать до двери — эти двое не смогут с ним справиться. Надо только закричать, вскочить, оскалить на них зубы, и женщина упадет в обморок, а мальчик убежит со страху...
Вернулся мужчина.
— Я вызвал полицейскую машину, — сказал он. — Итак, у тебя остается ровно десять минут на размышления. — Он высвободил из-под манжета часы.
«Странно, до чего они все похожи друг на друга, — подумал Бенедикт. — У всех одинаковое выражение лица».
— Роджер, это тот самый?
Теперь на него уставился двенадцатилетний мальчишка, разглядывая его со всех сторон; Бенедикт почувствовал, что его оценивают, выносят приговор. Мальчишка был неприкосновенным лицом, одним из тех, кого охраняла Заводская компания. Волна унижения захлестнула Бенедикта.
— Я не уверен, папа, — сказал мальчик на педантично правильном английском языке, на котором они все говорили. — Но он действительно похож на того литвака, который украл тележку.
На улице Бенедикт показал бы ему за такие слова! Он бы ткнул его носом в грязь! Он заставил бы его раз сто сказать: «Ем дерьмо! Ем дерьмо!» А потом бежал бы за ним следом и дразнил: «Эй ты, девчонка, кружевные штанишки!»
— Три минуты прошло, — четко сказал спокойный голос.
Бенедикт не мог заставить себя посмотреть на мужчину, он и сам не знал почему. Глаза не повиновались ему, бегали по сторонам. В голове всплывали бранные слова — их произносил кто-то другой, не он. Сознание его туманилось.
— Он сейчас заплачет, — с тревогой сказала женщина.
Бенедикт вскинул голову.
— Пять минут! — отчеканил мужчина, глядя на часы.
Мальчика охватило отчаяние.
Иногда дети заводских служащих кричали вниз с вершины холма:
Эй, уроды, чужаки, голодранцы литваки! Негры, итальяшки — драные рубашки!А мальчишки из поселка взбегали по лестнице и гнались за ними до самого города, до кустов барбариса и синих колокольчиков, что росли на окраине.
Бенедикт закрыл глаза. «Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem Factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium...»[2]
— Что он говорит? — воскликнула женщина.
— Они все так говорят, мама, — это литвацкий язык, — авторитетно заявил мальчик.
— Осталось три минуты, — объявил голос мужчины.
«Господи, помилуй», — тихо, нараспев повторял Бенедикт. Перед ним высился алтарь. В ушах звучал голос отца Дара: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen»[3]. Было утро, утро воскресенья. Церковь озарял тихий мерцающий свет; перед Бенедиктом возвышался алтарь, престол был покрыт белым, шитым золотом, покрывалом. Высокие позолоченные подсвечники сияли, отражая пламя свечей. Двери дарохранительницы были плотно закрыты; там покоились тело и кровь господня. Бенедикту свело болью живот, голова его трещала. Ему казалось, он стоит на коленях и если чуть наклонится вперед, то упадет плашмя на пол. Вдруг запах супа, который варила его мать, почему-то проник в комнату, и в удивлении он открыл глаза.
— Отпустите его, пожалуйста, — сказала женщина. — Может быть, они и не приедут за ним, а тележка уже у нас. Разве тебе не хочется отпустить его, пупс?
— Нет, — решительно сказал мальчик.
— Не в тележке дело, — ответил мужчина.
— А может, он и вправду не крал ее, — сказала она.
— Но ведь кто-то ее украл! — раздраженно отозвался мужчина. — Пусть в этой краже он не участвовал, что это меняет? Все равно украл кто-нибудь из Литвацкой Ямы. И если этот мальчишка случайно не участвовал в краже тележки, могу поклясться, что он стащил что-нибудь другое, за что его не поймали. Все они в чем-нибудь виноваты! Мы должны защищать нашу собственность от жителей Литвацкой Ямы, — заключил он. — Понимаешь, от всей Литвацкой Ямы, а не от кого-нибудь из них в отдельности!
Супом больше не пахло. Бенедикту просто показалось.
Он докажет отцу Брамбо свою преданность церкви, верность ее заветам, заповедям, и все они будут потрясены, когда узнают, какую он принес жертву...
«Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus... per omnia saecula saeculorum. Amen»[4].
— И все-таки, — сказала женщина, — если не он украл тележку...
— Тогда пусть скажет, кто это сделал, — огрызнулся муж.
«Джой еще на улице или нет? — раздумывал Бенедикт. — Если он видел, что случилось, и догадался, что меня схватили, то, наверное, убежал домой. Теперь можно заговорить».
Он открыл глаза и спокойно сказал:
— Вы должны отпустить меня. Я не крал тележку, но не могу сказать, кто это сделал.
Бенедикт говорил как по писаному. Он встал.
— И не называйте нас литваками, — продолжал он серьезно, с достоинством, — пусть мы и живем в Яме. Я церковный причетник.
Зазвонил дверной колокольчик. Казалось, только теперь Бенедикту стало ясно, что все это не сон, — фигуры полисменов за окном вернули его к действительности, он дико закричал. Выскользнув из рук мужчины, который все время посматривал на часы, словно следил за спортивным состязанием, Бенедикт кинулся через холл в кухню. Где-то громко залаяла собака. Он ухватился за дверную ручку и стал изо всех сил толкать дверь, колотить в нее ногами, биться и кричать...
3
Они силком выволокли его из полицейской машины. Двое пьяных лежали там в крови и блевотине, и Бенедикт всю дорогу сидел скорчившись в уголке, молясь с закрытыми глазами. Длинноногий полицейский сторожил их, загораживая ногами выход.
Мальчик был так бледен, что полисмен спросил его, не болен ли он. Бенедикт не ответил; он не слышал. Ему казалось, он где-то глубоко под водой, под огромным океаном, который всей своей тяжестью давит ему на легкие, на глаза и мозг и уносит в горячем, липком, как кровь, потоке. И хотя Бенедикт крепко зажмурился, а вокруг было темно, ослепительный солнечный свет резал ему глаза. Он еще теснее прижался к стенке в углу.
Ноги его вдруг остановились. Кто-то тряс его за плечи. Он открыл глаза. Перед ним на возвышении за перегородкой сидел лейтенант, словно господь бог на небесах.
— Как зовут? — повторил вопрос лейтенант.
— Бенедикт Блуманис, — ответил мальчик, еле ворочая языком. Казалось, большой булыжник лежит у него во рту и язык приклеился к нему. — Б-л-у-м-а-н-и-с, — по буквам повторил он лейтенанту.
— Адрес?
Бенедикт замялся.
— Сэр... — начал он.
— Твой адрес?
Лейтенант был весь розовый, от кончиков пальцев до корней волос.
— Сэр, — повторил мальчик, — пожалуйста, позовите отца Дара из церкви святого Иосифа, что на Горной авеню. Пожалуйста, позовите его.
— Адрес?
Бенедикт задрожал.
— Я не хочу давать вам свой адрес, — сказал он.
Лейтенант посмотрел на него, — в первый раз за все время, как показалось Бенедикту. Глаза у лейтенанта были ярко-голубые.
— Говори адрес, — сказал он.
Бенедикт сжал губы.
— Если ты не дашь нам адрес, — сказал лейтенант, — придется продержать тебя за решеткой до понедельника.
— Восемьсот двадцать два, авеню Вашингтона, — проговорил Бенедикт.
— В чем обвиняется?
— В мелкой краже, — послышался чей-то голос. Говорил тот самый полицейский, который загораживал ногами выход в полицейской машине.
— Пострадавший?
Откуда-то сзади возник мистер Брилл и ясным твердым голосом назвал свое имя, адрес, объяснил, что именно украдено, когда, кем... Бенедикт был не в силах поднять на него глаза. Он дрожал от негодования: при нем произнесли ложь. Мистер Брилл свершил такой страшный грех! Бенедикту стало дурно, его била дрожь, на лбу выступил пот. Ему было ясно, что мистер Брилл бесповоротно погубил себя и теперь проклят во веки веков! А тем временем мистер Брилл невозмутимо объяснял лейтенанту, что он инженер-химик на заводе.
Бенедикт был потрясен страшным грехопадением мистера Брилла и в то же время не мог опомниться от удивления: возле него раздавался спокойный голос навеки погибшего грешника, а громы небесные молчали... Бенедикт закрыл глаза и стал молиться.
— Ладно. Заберите его, — сказал лейтенант.
Чья-то рука схватила Бенедикта за шиворот.
— Позовите отца Дара! — крикнул он, упираясь. — Позовите отца Дара! — Душа его билась в горячей мольбе: «О господи, заступись за меня!»
Мистер Брилл удалился. Вышел и лейтенант. Комната опустела, затихла, слышалось лишь отдаленное бряцанье металлических засовов, да кто-то громко рыдал — так громко, словно это билось в агонии раненое животное или вопил слон в джунглях. Рыдал он сам, Бенедикт, но ему казалось, что это рыдает кто-то другой. Два полисмена подхватили его. Он замолотил в воздухе ногами, раскинул руки, пронзительно закричал. Но они протащили его по коридору, отперли дверь камеры и швырнули его на койку.
Он скатился с нее и упал лицом на бетонированный пол, распластав руки. Он больно ударился лбом, потекла кровь, но он этого не заметил. Кто-то тронул его за плечо, но он сбросил руку и заметался в беспамятстве. Он услышал чей-то голос и снова закричал, прижимаясь к холодному полу.
Потом он вообще перестал что-либо чувствовать; ему только казалось, что морской отлив тащит его за собой в глубину. Зеленые волны бурлили вокруг, по лицу его текли струйки воды и попадали в рот. Вода была соленая на вкус и теплая. Кто-то коснулся прохладной рукой его лба, словно осенил его всепрощающим крестным знамением. Шум волн стих. Теплые губы вдруг прижались к его уху. Он почувствовал чье-то дыхание.
Когда он наконец пришел в себя, то увидел, что в углу на койке сидит человек и озабоченно строчит что-то огрызком карандаша на клочке оберточной бумаги. Человек как бы тянулся всем телом к электрической лампочке под потолком; по-видимому, ему не хватало света. На нем была рубашка цвета хаки, черный галстук и потрепанные серые брюки. Его нахмуренное загорелое лицо склонилось над бумагой. Свет озарял его густые темные брови и темные волосы с легкой проседью, большой мясистый нос, широкие скулы. В спокойных и внимательных серых глазах, окруженных морщинками, вспыхивали веселые искорки.
Он поймал на себе взгляд Бенедикта и в знак приветствия поднял тяжелую сильную руку, а правой продолжал писать, то и дело мусоля кончик химического карандаша, отчего на языке его образовалась клякса. Он писал поспешно, не отрываясь, время от времени шевеля губами.
— Через полчаса выключат свет, — пояснил он, не отрывая глаз от бумаги, и кивнул в сторону электрической лампочки. Карандаш не переставая шуршал по бумаге.
Бенедикт огляделся. В камере была еще одна койка, стульчак без крышки и у стенки умывальник.
— Отец Дар пришел? — спросил он.
Мужчина кивнул Бенедикту, что он, мол, слышит, но ответит потом, и продолжал писать.
Кроме них, в камере больше никого не было. Мальчик только теперь понял, что лежит уже не на полу, а на койке, на голом матрасе, сквозь который проступают железные прутья. Он лежал не шевелясь. В голове монотонно гудело; глаза устали, но уже не болели, словно вся боль вылилась из них. Он повернулся на бок и уставился в пол. Рука его свесилась с койки, он прижался подбородком к жесткому матрасу. Ему хотелось лишь одного — умереть.
Бенедикт и раньше знал, что в городе есть тюрьма: полицейская машина приезжала в Литвацкую Яму почти ежедневно. Как-то раз забрали мистера Петрайтиса за то, что он поколотил жену, потом мистера Гадалиса, — он гнал самогон, а на него кто-то донес. Негра с улочки возле Большого Рва увезли неизвестно за что. А за Антони пришли пешком два полицейских и сыщик в штатском, но его не было дома. Они нашли Антони в курятнике, куда тот спрятался, подвели к дому и спросили его отца: «Что же теперь с ним делать?» — «Посадите его в тюрьму», — ответил отец Антони. Он стоял в дверях в одних кальсонах и глядел на запястье сына, прикованное к руке полицейского. «Я не могу оставить его дома». Все это видели и слышали...
Мальчик представил себе, как его собственный отец входит в комнату, хватает его за руку и кричит: «Значит, ты тоже? — Отец горько, отрывисто смеется. — Ты, святой, попал в тюрьму, как мошенник, как вор!»
Бенедикта захлестнула волна гневного возмущения: все это из-за Джоя! Где он теперь? Наверное, уже дома, радуется, что удрал. А завтра воскресенье!
Бенедикт опустил голову; кровь сильно стучала ему в виски. Отец Брамбо! Бледное лицо молодого священника то возникало перед ним, то пропадало в тумане. Он закрыл глаза, голова его совсем поникла, будто ему сломали шею.
Свет погас.
— Черт подери! — выругался мужчина и выронил карандаш. Но тут же засмеялся, опустился на колени и стал шарить по полу. Так он добрался до койки Бенедикта. Вспыхнула спичка. Бенедикт вздрогнул и открыл глаза.
— Закатился куда-то, — сказал мужчина, тяжело дыша. — Мой бесценный огрызочек! — Он послюнил палец, ухватил спичку за сгоревший конец и снова полез под койку. — Ага, нашел! — радостно воскликнул он, нащупав карандаш. — Вот! — Он поднялся с колен и присел на корточки возле Бенедикта. Из коридора в камеру проникал слабый свет. Откуда-то из глубины тюрьмы смутно доносились странные, непривычные звуки: лязг стальных засовов, звяканье мисок, ругань надзирателя.
— Ты мне что-то сказал? Перед тем как погас свет?
Бенедикт отвернулся к стене.
— Понимаю, понимаю, — удивленно продолжал мужчина. — Такой хороший мальчик, и вдруг здесь!.. — Он помолчал, потом сказал: — Я уверен, ты ничего не стащил, сынок. Нет. Они все ошиблись и скоро это поймут, не беспокойся. Они придут сюда извиняться перед тобой. Я тебе правду говорю, вот увидишь.
— Отец Дар пришел? — по-прежнему лежа спиной к нему, спросил Бенедикт.
— О ком ты говоришь, сынок?
Стены тюрьмы вздрогнули от сильного толчка — заревел заводской гудок. Бенедикт не обратил на него никакого внимания, а мужчина сказал:
— Бессемеровская печь. Верно?
Бенедикт повернулся к нему.
— Вы попросите их позвать отца Дара?
Мужчина подошел к решетке и стал стучать по ней кольцом, которое носил на мизинце.
Надзиратель подошел сразу же.
— А ну отойди от решетки!..
Сосед Бенедикта прервал его весело, с шутливой повелительностью:
— Успокойся, Бустер. Мы хотим лишь чуточку конституционных прав для моего нового товарища. Он просит немедленно позвать некоего отца Дара. Где он живет, сынок?
— Горная авеню, — сдавленным голосом сказал Бенедикт, садясь на койке.
— Горная авеню. Понял? Теперь беги к своему лейтенанту и скажи ему: если он не выполнит этой просьбы, я такой грохот подниму, что весь город сюда сбежится!
И он повернулся спиной к надзирателю, будто не имел ни малейшего сомнения, что тот немедленно его послушается.
— Мы раздобудем твоего отца Дара, даже если для этого нам придется послать за ним всю полицию, — сказал он Бенедикту и рассмеялся, — мальчик не понял, над чем.
Потом мужчина полез к себе за пазуху и вынул аккуратно упакованный сверточек. Он развернул его и протянул Бенедикту кусок ржаного хлеба с салом.
— У тебя такой вид, будто ты пропустил и обед и ужин, — сказал он.
Бенедикт откусил кусочек и тут же выплюнул.
— В чем дело? — удивился мужчина и понюхал свой бутерброд.
— Завтра я причащаюсь, — с грустью объяснил Бенедикт и вернул ему хлеб.
Мужчина взял у него хлеб, осмотрел его и поднял глаза на Бенедикта.
— Завтра я причащаюсь, — повторил тот и вдруг горько заплакал, а мужчина подошел и сел рядом с ним. Растерянно бормоча слова утешения, он обнял его своей большой, сильной рукой.
— Ну, ну, — повторял он. — Скажи мне, что же все-таки случилось?
— Я не крал тележку, — всхлипывал Бенедикт. — Я только привез ее обратно. Я никогда не крал. Я хочу стать священником, я в жизни ничего не крал. Теперь мой отец возненавидит меня, и все станут меня презирать. Отец Брамбо станет меня презирать!
— Нет, никто не станет тебя презирать, — серьезно заявил мужчина. — Все узнают, что ты ни в чем не виноват. Это позор, что они тебя сюда посадили. Классовая справедливость! — сказал он, подмигивая. — Вот она какая — эта справедливость! Говорю тебе: как только они узнают, кто на самом деле украл тележку, они извинятся перед тобой.
— Этого они никогда не узнают! — трагически воскликнул Бенедикт.
— Отчего же?
Бенедикт покачал головой.
— А почему бы тебе не рассказать мне? — спросил мужчина. — Может быть, мы придумаем, как тебе помочь? — Он посмотрел на склоненную голову Бенедикта. — Не хочешь? Нет? Ладно. Будем считать, что и так все понятно.
Он взял Бенедикта за подбородок.
— Не огорчайся, слышишь? Если правда на твоей стороне, держись, мой мальчик. Не падай духом! Но ты должен бороться. Даже осел дает сдачу. Понимаешь?
Бенедикт неуверенно кивнул.
— Но ведь они так и не узнают, кто это сделал на самом деле. Я им не скажу... И будут держать меня...
— А он тебе друг, да? — с лукавой улыбкой спросил мужчина.
Бенедикт кивнул.
— И ты не хочешь на него доносить?
— Мы же вернули им тележку! — закричал Бенедикт.
— И тогда они...
Бенедикт кивнул. Мужчина засмеялся, Бенедикт с упреком посмотрел на него.
— Понятно, — сказал мужчина, хлопая себя по колену. — Ты привез ее обратно, так ведь?
— Мы не воры, — сказал Бенедикт.
— Зачем же ты сам ее привез? Почему не заставил его отвезти?
Бенедикт опустил глаза. Мужчина внимательно наблюдал за ним.
— Значит, ты мученик, — сказал он наконец. Бенедикт не заметил легкой насмешки в его голосе. Он сидел понурившись.
— Но теперь-то тебе придется сказать правду? — спросил мужчина.
— Никогда не скажу, не могу, — глухо ответил Бенедикт.
— Но ведь тот, другой, не пришел заявить, что это он виноват. Он бросил тебя.
— Нет, не могу, ни за что! — повторил Бенедикт с отчаянием.
— Даже если тебя пошлют в исправительную школу?.. — Он положил руку Бенедикту на плечо и добавил ласково и тихо: — А может быть, мы придумаем, как нам выйти из положения, никого не впутывая.
Бенедикт обратил к нему залитое слезами лицо.
— Только отец Дар может помочь мне, — с щемящей грустью сказал он.
Мужчина посмотрел в его замученные, страдальческие глаза и стал задумчиво поглаживать пальцем нос. Затем он снова вытащил свой бутерброд и откусил от него.
— Вот так, — сказал он. — Я ведь не иду к причастию. — Бенедикт понимающе кивнул. Мужчина ел с аппетитом и все поглядывал на Бенедикта, потом спросил:
— А попить у тебя нечего?
Бенедикт с серьезным видом покачал головой.
— Я совсем иссох, — пояснил его собеседник. — Думал, может, у тебя выпивка найдется...
Мальчик слабо улыбнулся. Его новый знакомый внимательно вгляделся в него.
— Вроде полегчало тебе немного, — проговорил он и прислушался к звукам в коридоре. — Твой отец работает на заводе?
Бенедикт кивнул.
— И сейчас работает?
Бенедикт заколебался. Ему не хотелось признаваться, что отец его безработный.
— Не совсем, — с трудом выдавил он.
Мужчина понимающе кивнул.
— Но ведь завод работает на полную мощность. Все время. Почему же твоего отца сократили?
— Не знаю, — поежившись, ответил Бенедикт.
— У вас собственный дом?
— Да, — неуверенно сказал Бенедикт, пытливо глядя в лицо собеседника.
— А как дома? Все в порядке? — поинтересовался тот.
Бенедикту стало не по себе.
— Зачем вам знать? — угрюмо спросил он.
Мужчина улыбнулся и успокаивающе похлопал его по коленке.
— За это самое я и сижу в тюрьме, — сказал он. — За то, что задаю вопросы. Но здесь это не опасно. Я все равно уже под замком. Дальше тюрьмы не упрячут. — Он подождал, чтобы Бенедикт улыбнулся, но тот не улыбнулся.
— Понимаешь?
Бенедикт молча кивнул.
— Ладно. Больше ни о чем не буду спрашивать.
Мужчина покосился на окно, — сквозь решетку просачивался мутный свет фонаря.
— Не сделаешь ли ты мне одолжение? — спросил он, вытаскивая спичечную коробку. — Подержи, пожалуйста, спичку. — Он зажег спичку и подал Бенедикту. Бенедикт взял ее, а мужчина вынул свой клочок оберточной бумаги и, нагнувшись к огоньку, стал поспешно писать. — Ближе, ближе, — командовал он. — Зажги другую! — Бенедикт зажег. Тот продолжал писать. Бенедикт смотрел на него как зачарованный, позабыв свои невзгоды. Спичка обожгла ему пальцы, и он выронил ее, но даже не вскрикнул. Мужчина с нетерпением ждал в темноте, пока Бенедикт зажжет новую, и снова занялся работой.
В коридоре послышались шаги, и мужчина поспешно задул спичку. Шаги остановились у камеры, они услышали звяканье ключа в замочной скважине.
Сосед Бенедикта соскочил с койки и повернулся к двери. На лице у него появилась гримаса отвращения; он несколько раз облизнул губы, вытер о штаны вспотевшие ладони. Однако, когда дверь распахнулась, он улыбался как ни в чем не бывало.
В дверях стояли трое, и, хотя они были в штатском, сразу было видно, что это полицейские. Один был высоченный — футов шесть с лишком, — жилистый и тощий, с маленькой головкой и ввалившимися щеками; двое других — плотные, коренастые; казалось, они состоят из сплошных мускулов. Эти двое улыбались, словно пришли в гости. «Телеграфному столбу» пришлось наклонить голову, чтобы войти в камеру.
— Э-э, да ведь это наш старый приятель Добрик! — сказал один из коренастых. — А я-то считал, что судья Пальмер выслал отсюда всех большевиков еще лет пять тому назад! — Повернувшись к своему высокому спутнику, он добавил: — Видно, Добрику очень полюбился наш город, — его просто тянет сюда.
Высокий засмеялся, покачивая маленькой страусовой головкой. На лице Добрика застыла настороженная улыбка.
— Здорово, ребята! — проговорил он.
— Знаете, Добрик, — продолжал укоризненно первый, — я разочаровался в вас. Какого черта вы все время возвращаетесь, куда вас не просят? Ехали бы лучше обратно в вашу Россию, — ведь вы же большевик!
Все трое медленно продвигались в глубь камеры. Говорили они так добродушно и вежливо, что Бенедикт наблюдал за ними с улыбкой, и в то же время что-то в их поведении настораживало его.
Добрик, по-прежнему улыбаясь, отступал назад, но вдруг лицо его стало серьезным.
— Только не при мальчике! — закричал он.
— Ну что вы! У нас и в мыслях нет, — дружелюбно ответил коренастый.
Бенедикт сначала даже не понял, что случилось: коренастый взмахнул кулаком — и Добрик отлетел к стенке. Куски штукатурки посыпались на цементный пол.
Коренастый укоризненно прищелкнул языком.
— И никак вас, большевиков, не научишь! Ведь прекрасно знаете, что все эти инородцы и грязные негры вполне довольны своей жизнью здесь у нас, — и все-таки сеете смуту! Мало мы тебя и Фостера учили во время забастовки сталелитейщиков? Ты считаешь, что всегда прав?
Подавшись вперед всем телом, он ударил Добрика в челюсть. Удар был такой сильный, что кровь струей брызнула у того изо рта.
— Нет, вы только посмотрите на него, — брезгливо сказал коренастый. — Колошматят вас, колошматят — и никакого толку. Знай возитесь с этими проклятыми неграми! Ну видели вы когда-нибудь такого белого? — с притворным изумлением обратился он к своим дружкам. — А я-то считал тебя неглупым парнем, Добрик! Нет, уж теперь придется тебя хорошенько проучить!
Он отступил, и вперед вышел высокий. С минуту Добрик смотрел вверх на его маленькую покачивающуюся голову, а высокий смотрел на него, затем поднял сцепленные руки и с завидной точностью опустил их на голову Добрику. Колени у Добрика подкосились; он закачался; улыбка его погасла. Кровь лилась по его разбитому лицу, стекала вниз по рубашке. Когда Добрик выпрямился, глаза у него были словно стеклянные.
Трое молодчиков стояли, покачивая головами.
— Ай, что за вид! — неодобрительно сказал тот же коренастый. — Если бы я так заботился о своем здоровье, как ты, Добрик, я бы давно уже был покойником.
Теперь настал черед третьего. Он вразвалку подошел к Добрику. Тот закрыл руками лицо.
— Запомни раз и навсегда: Компания не допустит профсоюзов в этом городе, — наставительно сказал полицейский, будто разъяснял эту истину очень непонятливому человеку. — Мы думали, что научили вас уму-разуму после войны!
Он схватил Добрика за волосы и стал с такой силой бить по лицу, что у Добрика залязгали зубы.
Бенедикт оцепенел от ужаса. Коренастый перехватил взгляд мальчика и спокойно подмигнул ему.
Бесчувственное тело Добрика сползло на пол. Коренастый грустно посмотрел на него, покачал головой и подошел к койке Бенедикта. Мальчик отпрянул к стенке. Коренастый заметил это и жалобно сказал:
— Боишься меня, сынок?
В глазах Бенедикта застыл ужас.
Огромная ручища, которая тянулась к нему, чтобы погладить его по волосам, была вся в крови! Мальчик сжался и закрыл глаза. Рука легла на его голову, и ему показалось, что он разорвется от страха.
— А ты ни на что не обращай внимания, — отеческим тоном сказал коренастый. — В церковь-то ходишь, сынок? — Он опять погладил Бенедикта по голове, и тот судорожно закивал. — Вот-вот, ходи в церковь! Вырастешь богобоязненным христианином, а от этих коммунистов держись подальше, сынок! Ты только погляди на него! — негодующе добавил он. — Какой позор!
Внезапно Бенедикт начал дрожать: дрожь леденящими спиралями поднималась от лодыжек к ослабевшим коленям и выше, потом, словно ножом, резануло нутро. Мальчик беспомощно хватал ртом воздух; он задыхался. Ему казалось, что его окутали плотным покрывалом.
Тень коренастого отодвинулась, и он услышал, что все трое спокойно разговаривают, стоя посреди камеры, а еще немного погодя раздались их шаги, и, наконец, лязгнула дверь. Звук этот показался мальчику небесной музыкой.
Он открыл глаза.
Добрик все еще лежал ничком у стены, там, где его сбили с ног; изо рта у него извилистой струйкой текла кровь. Бенедикт не сводил с него глаз. На сердце тяжелым камнем навалился страх, он не мог его сбросить. Он был бледен, ему было так холодно! Он вздрагивал, обливаясь ледяным потом.
Мальчик с трудом спустился с койки и пополз по щербатому полу к Добрику, стараясь не попасть в лужу крови. С замирающим сердцем заглянул он в полуоткрытые остекленевшие глаза и, сам не зная, зачем это делает, стал дышать на них, словно раздувал потухающие угли. Он увидел, как затрепетали ресницы.
Тело Добрика дернулось, он застонал и, открыв окровавленный рот, испустил тяжелый вздох. Он посмотрел на Бенедикта, и, к ужасу мальчика, губы его скривила все та же нарочитая улыбка.
— Как я выгляжу? — ухмыльнувшись, прошептал он, еще больше перепугав Бенедикта.
Держась за выбеленную стенку, мальчик поднялся. Он стоял, качаясь, и смотрел на спину Добрика, — тот с трудом встал на колени, потом поднялся на ноги и вскинул голову, но вдруг покачнулся и рухнул на Бенедикта, прижав его к стене. От тяжелого, крепкого Добрика, пропахшего табаком, на мальчика веяло странным спокойствием. Добрик, будто он совершил нечто непростительное, извинился несколько раз за свою неловкость, с усилием выпрямился, взял Бенедикта за руку и побрел к койке.
Они вместе тяжело опустились на нее, и опять Добрик чуть не задавил Бенедикта. Мальчик высвободился и сел возле Добрика. Тот уронил голову на грудь. Оба молчали. Наконец Бенедикт вытащил из кармана носовой платок и прошептал:
— Хотите?
Добрик поднял голову и долго смотрел на платок, словно пытаясь понять, чей он, а потом, как будто ничего особенного и не случилось, вежливо ответил:
— Нет, нет, я воспользуюсь моим собственным. — Он начал шарить по всем карманам, но ничего не нашел, и
Бенедикт вложил ему в руку свой платок. Добрик вытер лицо и долго старался оттереть пятна на рубашке. Засунув палец в рот, он потрогал зубы и сказал с горечью:
— Если я не образумлюсь, то потеряю все зубы.
Он поднялся с койки и пошел за водой, но в умывальнике ее не оказалось. Взяв жестяную кружку, Добрик проковылял к стульчаку, встал на колени, несколько раз спустил воду и, зачерпнув кружку, начал поливать себе на голову. Потом встряхнулся, как собака, и посмотрел на Бенедикта. Все лицо Добрика было в кровоподтеках.
— Заметил того верзилу? — спросил он с кривой усмешкой. — Похож на страуса, правда? — На этот раз Добрик прошел по камере уже более уверенно и со вздохом опустился на койку. — Они никогда не поймали бы меня, если бы я дождался темноты. Не гожусь я в конспираторы! — Он вздохнул, повернулся к Бенедикту и сказал, сухо улыбаясь: — Знаешь, я все смотрел на этого длинного парня, и мне хотелось ему сказать: «Нагни башку, когда будешь выходить, а то стукнешься о притолоку». — Добрик улыбнулся, покачал головой, будто удивляясь самому себе, и умолк.
Бенедикт сдвинул колени и обхватил их руками. Страх его начал проходить, он и сам не знал почему. В груди отпустило, смягчилось; ему стало тепло. Сердце словно только того и ждало, оно начало биться ровнее. В камере было жарко. Лицо у Бенедикта разгорелось, из глаз медленно покатились слезы. Они текли по щекам, мальчик чувствовал во рту их соленый вкус. Он машинально перекрестился.
— Я знаю, кто вы, — сказал Бенедикт, не глядя на Добрика, — тот сидел в глубоком раздумье, почти совсем закрыв узкие глаза. На его широких скулах запеклась кровь. — Вы из профсоюза.
Казалось, Добрик не расслышал.
— Правда ведь? — спросил мальчик. — Я слышал о вас.
— Что? — спросил Добрик, поднимая глаза.
— Я слышал, как говорили о вас.
— Кто? — спросил Добрик. — Ты имеешь в виду рабочих?
Бенедикт кивнул.
— Мой отец, — сказал он и тревожно взглянул на Добрика. — Но почему вы не ходите в церковь?
Добрик долго, пристально смотрел на него.
— В церковь? — переспросил он.
— Почему вы не просите бога о помощи? — Мальчик заглянул Добрику в лицо и горячо прошептал: — Это правда?
Добрик нагнулся к нему.
— Что «правда»?
— То, что говорили полицейские? — Бенедикт передернул плечами и добавил: — Зачем вы дали им бить себя?
Добрик улыбнулся и подождал, пока Бенедикт взглянет на него.
— Все равно я не сказал бы им того, что они хотели от меня узнать, — объяснил он.
— Имена...
— Да, — сказал Добрик. — Имена людей...
Бенедикт кивнул.
— Членов профсоюза, да? Понимаю, — быстро проговорил он и страдальческим тоном добавил: — Но если вы не любите бога, как же можно...
Он не смог докончить. Воцарилось молчание. Добрик и не собирался отвечать; он только наблюдал за ним. Так они просидели молча около часа. Только раз за это время Бенедикт поднял голову и испуганно сказал:
— Коммунист! Они сказали, что вы коммунист!
Но Добрик уже спал и ничего не услышал.
4
А Бенедикт не мог заснуть. Он встал и начал ходить по камере, каждый раз останавливаясь возле спящего Добрика, и однажды тайком, словно кто-то мог увидеть, поднял руку и благословил его. Он нашел половинку бутерброда, которую Добрик предлагал ему, и, вспомнив, с каким аппетитом тот ел, почувствовал смутные угрызения совести. Он даже опустился на холодный пол, закрыл лицо ладонями и стал молиться, горячо, самозабвенно. И вдруг он вспомнил, как те, трое, вошли в камеру, и, вздрогнув, замотал головой, отгоняя ужасное видение.
Мучимый болью и леденящим душу страхом, он еще теснее припал к каменному полу, прислушиваясь к тюремным звукам и далекому скрежету завода, терзаемого железом и огнем, прислушиваясь к самому себе.
Он совсем замерз, но продолжал стоять на коленях, хотя они болели, и смотрел в окно, за которым изредка проплывали облака, — пламя бессемеровской печи отбрасывало на них оранжевые блики. Голова Бенедикта клонилась все ниже и ниже, он задремал, но вдруг проснулся от лязга ключа в замке.
Он вскочил и с ужасом уставился на дверь. Добрик тоже проснулся, с трудом слез с койки и стоял весь поникший, согнувшись от боли. Но в дверях появился только надзиратель со связкой ключей в руке.
— Выходи-ка, Добрик, — сказал он. — Пришли провожатые, они покажут тебе дорогу.
Добрик криво усмехнулся.
— Ладно, — сухо ответил он и протянул руку мальчику. — Придется идти. А ты не горюй. — Он повернулся к надзирателю. — Вы сделали то, о чем я просил, — позвали отца Дара?
— Да, да, — ответил тот. — Поторапливайся, конвой ждет.
— Кто же это распорядился? — спросил Добрик.
— Сам майор заинтересовался твоим делом, — многозначительно ответил надзиратель.
— Вы знаете, что это нарушение конституции Соединенных Штатов? — заметил Добрик с иронией.
— Конституции? — с безразличным видом переспросил надзиратель. — А что это за штука? Что-то не слыхал. Ну ладно, пошли!
Он шагнул вперед, но Добрик поднял руку.
— Одну минуту, — сказал он и повернулся к Бенедикту. — Не падай духом, не теряй мужества. Это самое главное! — Он ласково дотронулся до груди Бенедикта. — Помни, ты сын рабочего. — Бенедикт молча кивнул. Добрик задумчиво смотрел на него. Потом он взял Бенедикта за подбородок и заглянул ему в глаза. — Я вынужден покинуть тебя, но не бойся одиночества. Если правда на твоей стороне, ты будешь не один. — Он засмеялся и потрепал Бенедикта по плечу. — Понял?
Бенедикт снова кивнул.
Но казалось, Добрик хочет еще что-то сказать. Он озабоченно посматривал то на мальчика, то на надзирателя. Вдруг он повернулся так порывисто, что надзиратель отпрянул от него.
— Скажи майору, что я еще вернусь! — крикнул Добрик. — Скажи ему — в городе будет профсоюз!
— Сам скажи, — буркнул надзиратель.
Добрик засмеялся и пожал плечами.
— Я напишу ему письмо.
Он еще раз обернулся и в последний раз потрепал Бенедикта по плечу.
— Мы вернемся — даю слово! — Он подмигнул.
— Умойся, прежде чем выходить, — услышал Бенедикт голос надзирателя. — Люди подумают, что мы с тобой плохо обращались!
В ответ раздался насмешливый хохот Добрика.
Затем наступила тишина. И хотя Добрик говорил Бенедикту, чтобы он не боялся, сердце мальчика ледяными тисками сдавило одиночество. Он лежал на койке, окаменев от страдания. Благодать молитвы не согревала его больше, лицо застыло, дыхание обращалось в пар. Ему казалось, что он прижался лбом к стеклу аквариума, за которым замерзшая, с остановившимися глазами, лежала мертвая голубая рыбка...
Ночь глядела в решетчатое окно камеры.
Была в Городе могучая Власть, движимая, как машины на заводе, собственными неумолимыми законами. Пока рабочий держался в стороне от нее, Власть его не трогала. Но в Городе, как и на Заводе, при малейшей неосторожности его ждала неминуемая гибель. Стоило ему чуточку ослабить внимание, — и его мгновенно втягивало в машину и измалывало в порошок.
Каждый знал про заводские машины и про городскую Власть и старался обходиться с ними как положено...
Бенедикт был потрясен случившимся, но не удивлен. Он был схвачен по собственной неосторожности, согласно законам Власти, которой совершенно не касалось, были ли его помыслы хорошими и чистыми или же греховными. Этой Власти было безразлично, кто он, собирался ли он стать святым мучеником, ходил ли к причастию... Едва он посмотрел в глаза мистера Брилла, он сразу увидел в них эту равнодушную жестокость.
А вот церковь никогда не спрашивала у человека, кто он, — богатый или бедняк. Власть должна склониться перед церковью — единственным прибежищем слабых и бедных...
Жить еще более праведно и благочестиво, во всем следовать законам божеским, помнить о них каждое мгновение — только так можно спасти свою душу, победить страх и научить своих ближних любить друг друга. Ведь можно вести такую смиренную и добродетельную жизнь, которая не затронет ни машины, ни Власть, и тогда наконец люди перестанут испытывать тайный страх. Вот ради чего он ежедневно ходил за десять миль в католическую школу в Делрое. Тамошние священники и монахини относились к нему с большим уважением — они знали, что ему предназначено стать священником. (И святым! Но об этом они не могли знать.) Отец Сканлон однажды спросил его, когда именно он впервые почувствовал свое призвание, и Бенедикт ответил так убежденно, что весь класс в благоговении замер: «С той минуты, как я родился, отец мой!» Даже епископ знал о нем. В четырнадцать лет Бенедикт стал церковным причетником, и епископ написал об этом его отцу, но тот прочитал письмо и только пожал плечами.
Бенедикт не любил вспоминать об этом. Небритое, заросшее рыжей щетиной лицо отца, светлые брови, серые глаза, в которых застыла усталость, насмешливый голос...
Мальчик застонал, приложил руку ко лбу и почувствовал под пальцами запекшуюся корку. Из-под н ее сочилась кровь.
«Только бы отец ничего не узнал!» — молился Бенедикт.
Он не находил себе места, голова горела. На минуту он задремал, но тут же вскочил: «Ах, не делайте этого!» — закричал он, простирая руки. Широко открытыми глазами глядел он в холодное пространство. В его памяти всплыло страшное видение. Вдруг он затряс рукой и громко сказал: «Ой, жжется!» — и засмеялся. «Что вы там пишете?» — спросил он окружающий его полумрак. Он улыбнулся... «Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, Beato Machaeli Archangelo...»[5] Он попытался вспомнить свои грехи — и сердце его упало. В полном отчаянии он закрыл глаза.
— Нет, сынок, — пробормотал он, — святая троица — это бог отец, бог сын, бог дух святой.
... Мысленно он погладил какого-то ребенка по взъерошенным волосам и торжественно направился по выложенной красным кирпичом дорожке к церкви. Орган гремел: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei»[6]. И его собственный голос вторил: «Ad Deum, qui Laetificat juventutem meam...»[7]
Перед ним было море человеческих лиц, он благословил их всех, а в окно ворвался широкий луч света, и ангелы запорхали в нем, как мотыльки. Опять послышалась музыка, она лилась за окно и поднималась к небу, как дым.
Он сжался в комочек на своей койке, спрятал ладони между коленями, прижимаясь к тощему матрасу в поисках тепла, — ему казалось, что в камере очень холодно. Его одолевал сон, тишина гудела вокруг, как мохнатая пчела, описывала бесконечные круги. Голова его кружилась, в надвигающейся темноте возникли какие-то неясные очертания: словно разматывалась с катушки длинная желтая лента, а он блаженно плыл вдоль нее. Но вдруг Бенедикт начал ворочаться и стонать, метаться на койке; он весь горел. На лбу у него выступили капли пота. Он закричал во сне и открыл глаза, потом лег на бок и зарыдал, уткнувшись лицом в жесткий матрас.
5
— Отец Дар пришел за тобой.
Бенедикт не слышал, как отперли дверь, как подошел надзиратель и стал его расталкивать, но эти слова сразу пробудили его.
Он вскочил качаясь, — надзирателю пришлось поддержать его. Глаза у него покраснели, губы опухли, лицо пожелтело.
Спотыкаясь, шел он по коридору вслед за надзирателем, перешагнул порог канцелярии и зажмурился. Отец Дар, с засаленными седыми волосами, которые торчали во все стороны, как солома, в черной сутане, с воротником, одетым задом наперед, бледный, с трясущейся челюстью и слезящимися близорукими серыми глазами, раскрыл свои объятия, и Бенедикт, сотрясаясь от слез, кинулся ему на грудь.
— Ах, отец мой, я думал — вы никогда не придете! — воскликнул мальчик.
— Ну что ты, что ты, — успокаивал его старик, гладя по плечу и утирая слезы. — Я сразу же пошел сюда.
Бенедикт почувствовал слабый запах виски, пропитавший одежду старого священника, но сейчас этот запах был ему приятен.
Отец Дар отстранил от себя мальчика, чтобы взглянуть на него. На лице его отразился ужас.
— Что они сделали с тобой, дитя мое? — воскликнул старик и повернулся к лейтенанту, который перебирал бумаги на столе. — Если вы тронули хоть волосок на голове этого мальчика, я доберусь до самого папы! — загремел он, словно провозглашал анафему. — А душа ваша попадет на съедение к адским псам! — Он помолчал и сурово спросил: — Вы католик?
— Мы до него пальцем не дотронулись, — спокойно ответил лейтенант, поднимая от стола розовое лицо и переводя взгляд с одного на другого. — А я католик.
— Это я сам ушибся, — пробормотал Бенедикт.
— Скорее уйдем отсюда, — сказал отец Дар и, вздрогнув, огляделся вокруг. — Держать ребенка в таком ужасном месте!
— Мужская тюрьма у нас общая: для взрослых к для подростков, — ответил офицер. — Кстати, мы могли бы отправить его в Морганцу. И не торопитесь, я должен задать ему несколько вопросов. — Он достал какую-то карточку и стал читать ее. — А не был ли ты здесь раньше? — подозрительно спросил он Бенедикта. — Тебя зовут Винсент?
— Нет, — вспыхнув, ответил Бенедикт.
Отец Дар нетерпеливо махнул рукой.
— Я хочу поскорей отвести мальчика домой, — сказал он. — Это было для него страшным испытанием. Что вы задаете ему нелепые вопросы? Отпустите нас.
— Как же я могу вас отпустить? — спросил тот. — Он обвиняется в краже тележки.
— Я не крал ее! — Бенедикт стиснул зубы.
— А кто же ее украл? — допытывался офицер.
— Этого я не могу сказать!
— Вот видите? — сказал офицер, пожимая плечами. Отец Дар перевел взгляд с него на Бенедикта, потрепал мальчика по густым волосам и прохрипел:
— Что? Какую тележку? Кто украл?
— Тележку, — повторил лейтенант.
— Он говорит, что я украл ее, — прошептал Бенедикт.
— Нет, это не я говорю, а мистер Брилл, — заметил лейтенант. — Мистер Брилл с Арбор авеню, четыре тысячи двести восемьдесят семь. Что ты там делал? Зачем пришел из Литвацкой Ямы?
— Чтобы вернуть тележку хозяину, — сказал Бенедикт. Он повернулся к отцу Дару. — Отец мой, я привез ее хозяину. Это не я украл тележку. Но я не могу сказать вам, кто ее украл. Не скажу, даже если мне придется остаться в тюрьме. — Ему почудилось, что Добрик искоса смотрит на него прищуренными глазами. — Ведь я же привез ее обратно! — крикнул он. — Чего же им еще надо?
Отец Дар повернулся к офицеру.
— Да, действительно, — проворчал он, — что вам еще надо?
— Залог, — вздохнул лейтенант.
— Залог? — Отец Дар удивленно заморгал. — Какой залог?
— Залог за мальчика.
Отец Дар развел руками, потом порылся в карманах и вытащил шестьдесят пенсов. — Вот все, что у меня есть.
Офицер покачал головой.
— Этого недостаточно.
Отец Дар опустил голову и задумался. Наконец дрожащей рукой он достал из кармана четки и положил рядом с монетами.
— Теперь достаточно? — спросил он.
Офицер уставился на него, потом покраснел. Густой румянец залил ему лицо и шею.
— Отец мой, я освобожу его под ваше поручительство. — Лейтенант поставил печать на бумаге. — Не вылезай из Ямы, знай свое место! — сказал он, сердито глядя на Бенедикта.
Когда за ними закрылась тюремная дверь и они вышли на тихую, обсаженную кленами улицу, мальчик задрожал от радости. Тюрьма отбрасывала такую огромную тень, что казалось, она покрывает весь город и преследует Бенедикта. Он шел быстро, почти бежал.
— Сбавь-ка шаг, — сказал, задыхаясь, старик.
Каким бесконечно далеким казалось Бенедикту вчерашнее утро — словно оно было в другой жизни. Ему не верилось, что всего лишь вчера он не спеша шел на исповедь, а потом познакомился с отцом Брамбо... А сейчас он так торопился, будто боялся, что тюремщики переменят свое решение и кинутся за ним вдогонку.
Старик кашлял и задыхался.
— Тише, тише, — взмолился он наконец. Бенедикт пошел медленнее. — Вот лицемер! — зло проговорил священник. — Я сразу понял, что этот офицер вовсе не католик, но креста он испугался — креста дьявол боится. Ты заметил, как он покраснел? — Старик положил руку на плечо Бенедикта. — Тише, — прохрипел он, задыхаясь, и затем спросил: — Кто этот человек, которого ты послал ко мне?
Бенедикт резко остановился.
— Какой человек?
Отец Дар обрадовался передышке и начал вытирать вспотевшее лицо.
— Ну да, кто-то постучался ко мне, а потом спрятался и стал звать меня. Напугал меня так, что я до сих пор дрожу. Больше я никогда не отважусь выйти во двор ночью, — сказал он.
Бенедикт уставился на него в полном недоумении.
— Он сказал, что ты в тюрьме. Сказал, что ты послал его ко мне. «Уйди, сатана!» — крикнул я, а он опять: «Бенедикт в тюрьме!»
Мальчик вздрогнул и отвел глаза.
— Потом он исчез, как привидение. Мне казалось, я вижу дурной сон. И только позже я понял: плохие вести всегда приносит дьявол.
— А он... — удивленно начал Бенедикт и смолк. Сердце его застучало. Бенедикту показалось, что у него вдруг выросли крылья. Он снова пошел вперед.
— Я схватился за карман, где лежали мои шестьдесят три цента, — драматически продолжал отец Дар, — и зашептал молитву, когда он вдруг вылез из-за куста сирени и двинулся на меня...
— Это, верно, кто-нибудь из тех, кого я встретил в тюрьме, — коротко ответил Бенедикт.
— В тюрьме? — Отец Дар остановился и схватил Бенедикта за плечо. — Вор?
— Нет, — твердо ответил Бенедикт. — И не дьявол. — На мгновение ему показалось, что все на свете переместилось: хорошие люди сидели в тюрьме, а плохие были на воле... — Нет, не дьявол, — повторил он резко, как будто отец Дар сомневался в этом.
Но отец Дар метнулся в сторону.
— Гляди в оба! — шепнул он и исчез в боковой улочке. Бенедикт, глубоко раскаиваясь в том, что он мог плохо думать о старом священнике, остался стоять у телеграфного столба. Он чувствовал себя обиженным, но тем не менее послушно ждал и следил, не появится ли кто на улице.
— Уф, — облегченно вздохнул отец Дар, возвращаясь к нему. — Как, ты сказал, его зовут?
— Я не говорил, как его зовут! — буркнул Бенедикт и отвернулся. Он пошел впереди. Все тело у него ломило, словно его переехали, оно болело и ныло, как больной зуб. Мальчику хотелось поскорее выйти из города, убежать подальше от тюрьмы, забыть о ней, и в то же время он боялся возвращения домой. Услышав тяжелое дыхание отца Дара позади, Бенедикт нехотя замедлил шаг.
— Говорят, ты уже познакомился с нашим новым... с отцом Брамбо? — небрежно спросил отец Дар, догнав Бенедикта.
— Да, сегодня утром. То есть вчера утром, — сказал Бенедикт. Лицо его омрачилось: снова перед ним возник образ молодого священника — тот стоял на стертых ступеньках лестницы, стройный и бледный, с растерянным, страдальческим выражением лица и глядел вниз, на долину. Сердце мальчика устремилось к нему. Казалось, после пережитых им самим страданий скорбь отца Брамбо стала ему понятнее.
— Да, я видел его, — повторил Бенедикт. — Я показал ему нашу Яму.
— Ну, и что он сказал? — нетерпеливо спросил старик.
Бенедикт шаркал подметками по тротуару.
— Сказал, что ему тут нравится, — ответил он, уклоняясь от пристального взгляда отца Дара.
Старик старался не отставать от мальчика.
— Да, да, — деловито сказал он, кивая косматой головой. — Отец Брамбо будет мне хорошим помощником. Ведь я уже стар, Бенедикт, — продолжал он жалобно, с укоризненным смешком, словно Бенедикт убеждал его в обратном. — Мне нужен молодой помощник. И вот епископ послал мне этого Давида, чтобы я мог опереться на него. Да, опереться, как на посох. Теперь мне станет легче. Этот молодой человек обладает всеми достоинствами. Но он молод, а знаешь ли, молодые... — Он посмотрел на Бенедикта и прищурился. — А он не говорил, что все здесь слишком убого?
— Что убого? — недовольно буркнул Бенедикт.
— Ну, Литвацкая Яма, город, церковь. Он ведь из Бостона, — сказал отец Дар.
— Нет, не говорил.
— Да, он мне очень поможет, — закивал головой старик. — Мне было тяжело последнее время... — Он покосился на Бенедикта. — Очень тяжело.
Бенедикт не отзывался на его слова. Старик опустил руку ему на плечо.
— Как ты думаешь, а зачем он приехал на самом деле? — испуганно зашептал вдруг отец Дар.
Бенедикт с изумлением посмотрел на него.
— Что, отец мой? — вскричал он.
Старик поднял дрожащую руку.
— Ничего, ничего, — быстро проговорил он и огляделся вокруг. — Так ты сказал, что он не вор?
— Кто? — резко спросил Бенедикт.
— Человек, которого ты прислал ко мне, — с упреком ответил отец Дар. — Тот, кто поднял меня с постели, чтобы передать твою просьбу.
Бенедикт вспыхнул.
— Утром я буду прислуживать вам за ранней обедней, — горячо сказал он, поднимая на старого священника ясные, честные глаза. Старик заморгал; он перегнал Бенедикта и пошел впереди.
— Отец Брамбо попросил меня дать ему отслужить эту обедню, — сказал священник.
Бенедикт долго глядел на спину отца Дара, потом тихо спросил:
— А отец Брамбо знает...
— О тебе? — Старик покачал головой. — Нет. Ты будешь служить раннюю обедню вместе с ним, — сказал он, оборачиваясь и лукаво улыбаясь Бенедикту.
Дойдя до лестницы, оба остановились поглядеть на Литвацкую Яму. От завода по-прежнему бежали вагонетки, груженные горящим шлаком. Пока они стояли и смотрели, небо озарилось трепещущим пламенем, гигантский огненный шар выскользнул из опрокинутой вагонетки и покатился по откосу. Вдруг он высоко подпрыгнул в воздух, рассыпался на тысячи кусков и огненными брызгами посыпался вниз. Шлаковый отвал лежал в тени, а позади него, там, где начинались пыльные дюны, темнота поблескивала, как черная шкура в отсветах пожара. Завод, не знающий ни сна, ни отдыха, содрогался вдали. Кончилась смена. Рабочие возникали из мрака и спускались по лестнице, стуча своими тяжелыми башмаками.
У подножья холма Бенедикт попрощался с отцом Даром.
— Спи спокойно, — сказал старик, сворачивая на свою улицу.
Он еще раз обернулся и помахал вслед Бенедикту,
Мальчик дошел до своего дома. В окне горел свет. На здании школы глухо пробили часы. Пахло свежевскопанной землей. Из канавы за домом несло гнилью и сыростью. В хлевах, что лепились вдоль улицы, глухо мычали коровы.
Бенедикт долго стоял у двери, вслушиваясь в окружающий его сумрак. Двор дремал под лунным сиянием, вдали трепетали отсветы горящего шлака: город притаился на холме, словно раскрытый капкан. Мальчик медленно повернул дверную ручку.
Они сидели в желтом свете керосиновой лампы. Мать вскинула на него глаза. Отец, сгорбив широкие плечи, сидел за столом в овчинной безрукавке и синей рубашке; в руке он держал бутылку самогона. Бенедикт остановился в дверях. Отец поднял голову и тяжело повернулся. Взгляды их встретились. Бенедикт вспыхнул и с минуту не отрываясь смотрел в мрачные глаза отца, потом потупился.
— Святой лодырь вернулся! — грубо, насмешливо пробасил отец. Казалось, глаза его еще глубже запали в орбиты, на побагровевшем лбу выступили капли пота. Он поднял тяжелый кулак и с силой ударил по луже, расплывшейся на столе. — Эх! — крикнул он, не спуская глаз с Бенедикта, и заговорил на ломаном английском, чтобы еще больше подчеркнуть свое презрение.
— Священник сказал — ты в тюрьме? Что это? Отвечай! Что говоришь на это?
Перед отцом на столе лежал вчерашний конверт и сложенное пополам письмо. Бумага промокла, на нее что-то разлилось. Отец мрачно, осуждающе смотрел на мальчика, качая головой, потом медленно перевел глаза на письмо, словно между Бенедиктом и этим письмом была какая-то связь.
В комнате воцарилось молчание; казалось, ему не будет конца. Но вот отец заговорил. Его косматые, широкие брови зашевелились, как гусеницы.
— Поди сюда, — приказал он своим густым басом.
Бенедикт стоял в нерешительности.
— Поди сюда! — Отец поднял руку, но тут же тяжело уронил ее. — Слышишь, я говорю: «Поди сюда»! — грозно крикнул он.
Мать сделала мальчику знак подойти. Бенедикт шагнул к столу...
Христос, пригвожденный к кресту, смотрел на него со стены страдальческими глазами. Он был из фарфора, ноги его были пробиты гвоздями, грудь и распростертые руки — в крови; на голове терновый венец. Ниже на стене висел синий календарь — реклама Первого Национального банка. Заводские платежные дни были напечатаны красными цифрами. Беспокойно тикали стенные часы.
Отец, погруженный в невеселые думы, смотрел на сына невидящими глазами.
— Где ты был весь день? — спросил он.
Бенедикт не мог на это ответить и сжал губы.
— И ты тоже как Винс! — закричал отец. Бенедикт вспыхнул: он знал, что отец считает Винса, его старшего брата, отъявленным бездельником и тунеядцем. — Где ты был весь день? — повторил отец, обрушивая на стол свой каменный кулак. Стакан, стоявший перед ним, подпрыгнул, упал набок и медленно покатился по столу. Мать с беспокойством следила за ним и, когда стакан докатился до нее, быстро схватила его и спрятала в складках юбки.
Мальчик опустил голову, губы его дергались.
Лицо отца побагровело, он беззвучно захохотал.
— Сюда приходила полиция, — крикнул он, вскинув голову; в его серых глазах блеснули слезы. — Стали стучаться. Я открываю дверь, говорю: «Зачем пришли? Я рабочий человек, я не картежник, не вор — у вас неверный адрес». Но нет, нет! Они говорят: «Нет, мистер, мы по верному адресу, у нас правильный адрес!» — «Опять Винс? — говорю я. — Что он еще наделал?» Но нет, качают головой, на этот раз не Винс, на этот раз — ты! — Отец потянулся к Бенедикту, вздернув брови, сверкая глазами. — Ты! — повторил он грозно и поднял кулак. — Говори, что ты сделал, или я тебе голову оторву! — Он тяжело рассек кулаком воздух. Мать подбежала к раковине, налила себе стакан воды и выпила ее залпом, поглядывая на них через край стакана расширенными от ужаса глазами. Ее влажные губы блестели.
— Я ничего не сделал, — сказал Бенедикт. Он смотрел на отцовские грубые рабочие ботинки. Сам он правильно говорил по-английски, а отец так и не научился. — Это была ошибка. Они меня отпустили, как только все выяснили.
— Ошибка? — повторил отец в мрачной задумчивости, опустив голову. — Что за ошибка — попасть в тюрьму?
Но голос его прозвучал неуверенно, и Бенедикт поднял на него глаза. Отец снова глядел на стол. Он положил тяжелую с растопыренными пальцами руку на письмо. Рука была такой большой, а бумажка такой маленькой! Отец легко мог скомкать ее. Но в этом письме крылась великая сила — ведь оно было от Заводской компании, из Города. Можно было изорвать эту бумагу, затоптать в грязь, но на следующий день пришла бы другая, а еще через день появился бы полицейский.
У мальчика вырвался вздох.
Отец что-то пробормотал и уставился на него. Теперь на лице его отражалась лишь тяжкая забота.
— Ты хорошо читаешь? — задумчиво спросил он.
Бенедикт кивнул.
— На, читай! — Отец, не повернув головы, схватил письмо своими огрубелыми пальцами и протянул его Бенедикту.
Бенедикт взял у него смятую бумажку и расправил ее. Это было то самое письмо, которое мать показывала ему днем.
«Уважаемый сэр, — начиналось письмо, — согласно договору от 19 сентября 1913 года, который вы заключили с Первым Национальным банком... — Бенедикт бросил взгляд на календарь, — на приобретение собственности под номером 822 авеню Вашингтона, мы ставим вас в известность, что держатели закладной на названную собственность в настоящее время желают расторгнуть это соглашение...»
— Что там пишут? — спросил отец.
Мальчик продолжал читать про себя. Оконце высоко в стене окрасилось в бледно-оранжевый цвет, — значит, снова подошли вагонетки с завода и начали сбрасывать шлак под откос. Где-то прокукарекал петух, приветствуя эту обманчивую огненную зарю. В хлеву замычала корова; ей в ответ хрипло залаяла собака.
Письмо было написано скучно и непонятно, буквы расплывались; мальчик с трудом разбирал их. Он чувствовал на себе тяжелый взгляд отца, который понимал все без слов, видел испуганное, горестное лицо матери. Воздух в кухне был пропитан алкоголем, и от этого сознание его туманилось.
Бенедикт опустил письмо и, не глядя на отца, проговорил:
— Банк хочет вернуть себе дом, купить его обратно. Вот о чем они пишут, как я понимаю.
Он подал письмо отцу.
— Я отвечу им завтра, что мы не можем продать дом, — пообещал он матери.
Отец держал письмо в руке.
— Что они еще пишут?
— Что следующий взнос следует заплатить не позднее пятнадцатого июля. А проценты — первого августа.
Отец кивнул.
— Благодарю, — проговорил он церемонно.
На минуту они замерли в молчании — трое в полутемной комнате. Потом Бенедикт зябко поежился.
— Пойду спать, — сказал он. — Разбуди меня в четыре, мама. Я должен прислуживать при ранней обедне.
Мать кивнула, не взглянув на него. Ее рука лежала на столе; казалось, она хочет дотянуться до отцовской руки, но что-то ее останавливает.
Мальчик вышел из кухни и по темной крутой лестнице поднялся в спальню. Он горбился от усталости. Пробравшись между кроватями, он опустился на колени перед домашним алтарем и начал молиться. Сон одолевал его. Перекрестившись, он забрался в постель, где уже лежал Джой, свернувшись калачиком в теплом гнездышке. Джой пошевелился и сонно спросил:
— Бенни?
— Спи, спи, — ответил Бенедикт, скользнув под старое стеганое одеяло и мирясь с его несвежим запахом.
— Я ждал тебя, — невнятно пробормотал Джой.
— Спи, — повторил Бенедикт.
Наступила тишина, затем голос Джоя снова произнес:
— Бенни, разбуди меня. Я пойду вместе с тобой в церковь.
Бенедикт хотел было ответить, но сон уже завладел им, голос ему не повиновался.
— Бенни! — опять раздался настойчивый сонный шепот Джоя. — Спасибо тебе, что ты вернул тележку!
Бенедикт еле различал его слова сквозь сон, но Джой добавил откуда-то совсем издалека:
— Я знал, что они не сцапают тебя, Бенни!
Бенедикт не ответил ему.
6
Заря еще не занялась, а Бенедикт уже поднялся с постели. Проснулся он сам. Проходя через кухню, он увидел отца, — тот спал, прижавшись щекой к столу, а рядом лежало письмо. Мальчик остановился. Фитиль керосиновой лампы был прикручен. Отец дышал неслышно и, казалось, совсем обессилел. Выражение лица его смягчилось, рот слегка приоткрылся. Бенедикт долго смотрел на него; на душе у него было смутно, он с тревогой вспомнил библейскую историю про Ноя и его сыновей, а потом задумчиво вышел из дома.
На северной стороне небо пылало. Шлак сбрасывали всю ночь. Мальчик быстро пошел по Тенистой улице к Большому Рву, под мышкой он нес стихарь, который мать постирала и отгладила. От голода у него бурчало в животе, и на мгновение он ужаснулся, представив себе наступающий день: сначала ранняя, затем поздняя обедня. Сколько ему предстояло дел!
Пройдя несколько кварталов, Бенедикт немного успокоился. В каком бы он ни был настроении, он всегда испытывал затаенную гордость, когда в предрассветной прохладе спешил в церковь по молчаливым улицам, — спешил исполнить благочестивое, богоугодное дело. Все еще спали, а он бодрствовал и служил богу. Чувство исполненного долга было ему глубоко приятно. Он прошел до Горной авеню, но, вместо того чтобы свернуть на нее, направился к домам, протянувшимся вдоль Большого Рва. Здесь тоже еще никто не проснулся, вокруг царила тишина, и Бенедикт невольно пошел осторожнее, держась середины улицы.
Кроме него самого да матушки Бернс, никто не знал об этой предрассветной миссии, которую он добровольно выполнял каждое воскресенье зимой и летом, в жару и в холод.
Старая негритянка поджидала его. Сидя у окна, она созерцала маленький мирок, лежащий перед ее глазами. На голове у нее был кружевной чепчик, на плечах черная шаль. Она всегда была уже одета к его приходу. Завидев Бенедикта, она постучала кольцом по оконному стеклу, а он приветливо помахал ей рукой. Дверь была не заперта. Надо было только повернуть дверную ручку, оттолкнуть кота Тома, и вот он в одной из двух ее комнат.
Привел его сюда отец Дар. Матушка Бернс намеревалась принять католическую веру, и Бенедикт с огромным увлечением стал подготавливать ее к этой торжественной церемонии. Раньше ему не приходилось встречать негров-католиков, и благочестивое намерение матушки Бернс служило ему доказательством неограниченной, безбрежной власти католицизма. Истинная вера завладевала людьми даже в таком маленьком местечке. Когда-то сын матушки Бернс служил привратником в церкви. В католическую веру его обратил отец Дар, который сам до сих пор не переставал искренне этому удивляться и считал почти чудом: молодой негр был единственным человеком, которого отец Дар привел в лоно церкви. Бенедикт обучал тогда сына матушки Бернс катехизису, истории церкви и другим религиозным предметам, читал ему библию и хорошо его подготовил. Мальчик присутствовал при обряде крещения, во время которого отец Дар сильно волновался. Но затем Сэм Бернс уехал в Детройт, чтобы никогда больше не возвращаться в домик у Большого Рва.
Матушка Бернс жила на деньги, которые посылал ей сын. Она и прежде внимательно прислушивалась к тому, как Бенедикт продирается с Сэмом сквозь дебри катехизиса, и, когда сын уехал, попросила Бенедикта продолжать занятия с ней. Мальчик был далеко не уверен, умеет ли она читать, но у него не хватало смелости спросить ее об этом.
Бенедикт вошел с деловым видом, слегка нахмурившись. Положив стихарь на стол, покрытый пожелтевшей от времени, искусно связанной кружевной скатертью, он сказал:
— Надеюсь, матушка Бернс, вы выучили за эту неделю все, что я вам рассказывал.
— Да, да, мастер Бенедикт, — ответила она и, опираясь на палку, встала со стула. Волосы у нее были белые как снег. Она пошарила в кармане, нашла очки и медленно, с трудом подошла к столу.
— Болят у меня кости сегодня, — объяснила она, добродушно поглядывая на улицу через полуоткрытую дверь. — Утро довольно прохладное.
— Я должен быть в церкви к началу службы, — строго сказал Бенедикт и открыл катехизис. Он зарделся от слова «мастер», — уж очень почтительное обращение. «Но ведь вы еще не «мистер», — объяснила ему как-то раз матушка Бернс.
Она со вздохом села рядом с ним.
— А я целый час сидела ждала вас, да все смотрела через Ров, как вспыхивает пламя, — сказала она. — Боюсь, что когда-нибудь огонь перебросится сюда и уничтожит все наши дома.
— Ну что вы, матушка Бернс, — этого никогда не случится, — успокоил ее Бенедикт, и ему показалось, что она полностью верит ему.
Старушка достала из буфета, стоявшего в маленькой комнате, тарелку с домашним печеньем. В этой же комнате помещались темно-красная кушетка, два плетеных стула, качалка и круглый стол, за которым сидел Бенедикт. Затем она скрылась на кухне, а он закричал ей велел:
— Не надо мне чаю, матушка Бернс! Вы же знаете: мне нельзя пить чай, я и раньше вам это говорил!
Ответа не последовало, и через минуту она вернулась с двумя чашками чаю, над которыми колыхались два облачка пара, как души, возносящиеся к небесам. Он понял, что безнадежно объяснять ей, что ему нельзя ни пить, ни есть перед причастием. Она поставила перед ним чай и печенье, замешанное на патоке. Бенедикт закрыл глаза, перекрестился и поднес чашку к губам. Во время короткой молитвы он постарался объяснить Иисусу Христу, почему он вынужден нарушить свой пост. Горячий чай проник в его пустой желудок, и по всему телу разлилась приятная теплота.
Затем Бенедикт открыл катехизис в серой обложке, на которой был изображен Христос с воздетыми к небу руками, и выжидательно посмотрел на матушку Бернс.
Но ей еще не хотелось начинать урок. Сначала ему пришлось ответить на несколько вопросов.
— Как здоровье вашей бедной мамы?
— Она понемногу поправляется, — ответил Бенедикт.
— А ваш папа?
— Очень хорошо, матушка Бернс, очень хорошо.
Она тихо кивала, как бы заранее соглашаясь со всеми ответами. В глазах ее виднелись красноватые прожилки. Бенедикт поспешил опередить ее дальнейшие вопросы:
— Джой тоже в порядке, хотя немного простудился.
— Немного простудился? — переспросила она с интересом.
— Да, и Рудольф здоров, только он ушиб большой палец на ноге.
— Ушиб большой палец, — повторила она и снова покачала головой.
— И у Винса все в порядке, — сказал он.
— А, это ваш непутевый брат, — заметила она и снова покачала головой.
Потом он открыл книгу и вопросительно посмотрел на нее.
— Урок восемнадцатый, — начал Бенедикт. Он был очень терпелив с ней, и иногда в ее глазах зажигались лукавые искорки. Склонив голову, она с восхищением смотрела на него своими умными глазами, словно наилучшим учеником являлся он сам. Заря, как кошка, подкрадывалась к порогу. Долгая, полная опасностей ночь миновала. — Урок восемнадцатый, — повторил Бенедикт. — Я объяснил вам о святых и реликвиях еще в прошлое воскресенье, — начал он несколько торжественно. Она энергично закивала, чтобы уверить его, что помнит урок. — Теперь мы поразмыслим о третьей заповеди господней. — Он остановился, чтобы убедиться, что она внимательно слушает. — Какая вторая заповедь господня? — спросил он.
— Вам удобно сидеть? — поинтересовалась она.
— Вторая заповедь господня: не поминай имя господа бога твоего всуе, — проговорил он строго.
— Это было у нас на прошлой неделе, — напомнила она.
— Я знаю, — еще строже сказал он. — Какая третья заповедь господня? — сказал он и сам же ответил: — Третья заповедь господня: не нарушай день субботний. — Он посмотрел на нее. — Что это означает?
Это она знала.
— Отдыхай раз в неделю, — пояснила она.
— Правильно, — подтвердил он. — Что запрещает третья заповедь господня?
— Работать по воскресеньям, — ответила она.
— Верно, — сказал он. Чайная чашка вдруг задребезжала на столе — хрипло взревел заводской гудок. Они рассеянно прислушались. — Третья заповедь господня запрещает всякую рабскую работу в воскресенье, — сказал он. — Что такое рабская работа? — спросил Бенедикт и сам же ответил: — Это такая работа, которая требует одних только физических усилий, а не умственных.
За окном послышались шаги, люди торопились на работу. Некоторые, проходя мимо лачуги, громко здоровались: «Доброе утро, матушка Бернс!» И она, даже не взглянув в окно, приветливо кричала в ответ: «Доброе утро, мистер Дрю!» — различая знакомых по голосу.
— Рабская работа, — объяснял Бенедикт, — это такая работа, которую делают руками.
Она утвердительно кивнула.
— Вроде той, что я делала всю жизнь...
— Ну... — неуверенно начал он.
— А в воскресенье, — сказала она, качая головой, — человеку полагается отдыхать.
— Правильно, — отозвался он.
— У мистера Чарлея не было воскресных дней, — сказала она и задумчиво уставилась в пол.
— У кого? — спросил Бенедикт, придвигаясь к ней.
Но она не ответила.
До них долетел с улицы какой-то лязг.
— Отдыхать надо и белым и черным. И тем и другим, — протестующе сказала она.
— Конечно, конечно, — ответил Бенедикт и опять пригляделся к ней. Губы у матушки Бернс были плотно сжаты; она ударила палкой об пол один раз... другой..
— Что дальше? — спросила она с выжидательным видом, сложив руки на коленях.
Он хмуро посмотрел на катехизис, потом на остальные свои книги.
— Давайте займемся библией, — сказал он, открывая большую книгу, лежащую перед ним на столе. Библия была в переплете из грубой кожи, с медной застежкой, внутри нее на заглавной странице стояла дата 1845.
На чистом листе в начале библии красными чернилами была нацарапана вся история жизни матушки Бернс и ее близких. Таинственная история — записаны были лишь даты рождения и смерти, как будто больше ничего и не случалось, а если случалось, то не имело ровно никакого значения. Но перед датами 1845-1864 стояло чье-то имя и кто-то написал: «Он так и не увидел свободы...»
—... Но змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал господь бог, и сказал змей жене: «Не ешьте ни от какого дерева в раю...» — Здесь Бенедикт остановился и закашлялся. — Я закрою дверь, — сказал он, вставая. Снаружи был густой туман, в воздухе пахло серой и горелым шлаком.
— Закрой, закрой, — сказала матушка Бернс, с беспокойством поглядывая на свои кружевные занавески.
Когда Бенедикт вернулся к столу, она склонилась над книгой.
— Это здесь написано «змей»? — спросила она и указала пальцем на строчку.
Бенедикт посмотрел.
— Нет, — ответил он, — вот здесь.
Матушка Бернс долго с любопытством рассматривала печатные буквы.
— Я никогда не забуду, как это слово выглядит, — сказала она наконец.
Едкий запах горелого шлака проник в комнату. Бенедикт снова начал читать, но ему помешал приступ кашля. Где-то в предрассветной мгле раздался звук сирены; он нарастал. Оба не сговариваясь молча подошли к окну. Мимо проехала полицейская машина и остановилась чуть подальше перед одним из домов. Из машины выскочил полицейский, он громко заколотил в дверь. Слегка раздвинув занавеску, матушка Бернс и Бенедикт спрятались в тени.
— Может быть, мне лучше уйти? — тихо спросил Бенедикт.
Но матушка Бернс, казалось, не расслышала. Прищурившись, она вглядывалась в пелену тумана.
— В следующее воскресенье я опять приду, — сказал Бенедикт.
Он взял свой стихарь и направился к двери, но в эту минуту послышался тихий стук в окно. Мальчик остановился. Матушка Бернс сдвинула занавески и быстро прошла мимо него к двери; в глазах ее светилась тревога. Она приоткрыла дверь, и в комнату вместе с туманом проскользнул высокий негр. Он бесшумно метнулся к окну и, прижавшись к стенке, стал глядеть на улицу. Слабый свет зари падал через кружевную занавеску на его лицо. Напряженная поза вошедшего выдавала его тревогу, но в глазах светились насмешливые искорки, будто он один знал о какой-то забавной шутке.
Вдруг он тихо рассмеялся.
— Они с ума сойдут от злости... — начал он и вдруг остановился, увидев Бенедикта.
— Кто это? — резко спросил он.
У Бенедикта пересохли губы, он облизал их, а у матушки Бернс затряслись руки.
— Он мой хороший знакомый... — начала она.
Но мужчина вдруг бросился вперед и больно вцепился в плечо Бенедикта своими сильными пальцами. Бенедикт побледнел.
— Ты знаешь меня? — спросил он, поворачивая его к себе.
Бенедикт отрицательно покачал головой.
— Клиф! — закричала матушка Бернс.
— Никогда меня не видел?
Бенедикт посмотрел в красновато-карие глаза, из которых исчезло все озорство, и тряхнул головой. Пальцы негра так больно впились в плечо, что ему трудно было двинуть шеей.
— Нет! — сказал он, задыхаясь.
— Запомни, тебя здесь сегодня не было!
— Клиффорд! — крикнула снова матушка Бернс, и глаза ее гневно сверкнули. — Сейчас же отпусти мальчика!
Отпустив Бенедикта, молодой негр повернулся к ней с коротким смешком.
— Что вы с ним делаете, с этим мальчиком? — спросил он.
Она сердито посмотрела на него и отрезала:
— Тебя это не касается!
Опять послышались гудки сирены. Мужчина шагнул к окну и прижался к косяку, чтобы видеть, что происходит на улице. Матушка Бернс повернулась к Бенедикту.
— Мне надо спешить! — воскликнул Бенедикт. Он был очень бледен.
— Я буду ждать вас в следующее воскресенье, в обычное время, — спокойно сказала она, бросая взгляд на своего посетителя, по напряженному лицу которого снова пробежала лукавая усмешка. Бенедикт пошел к двери, но матушка Бернс вдруг всплеснула руками и сказала:
— Ах, чуть было не забыла спросить!
Бенедикт остановился. Матушка Бернс порылась в складках юбки и вытащила из кармана длинный белый конверт со знакомым обратным адресом в уголке, — при виде этого конверта сердце мальчика упало.
— Матушка, я не могу остаться! — испуганно вскричал он.
— Да, тебе пора, — быстро проговорила она и сунула письмо обратно в карман. Потом она оглянулась на человека, стоявшего у окна, и тихо шепнула:
— Не сердись на него. Его ищет полиция, но он не преступник. Просто он член профсоюза, вот и все.
Бенедикт даже открыл рот от удивления и повернулся, чтобы посмотреть на негра. Притаившись у стены, тот осторожно отводил кружевную занавеску своей длинной рукой с тонкими пальцами.
Бенедикт тяжело вздохнул.
— Мне пора! — сказал он и вышел на улицу.
Загоралась заря, пронизывая туман зеленоватыми лучами. С воем промчалась обратно полицейская машина. Прижавшись к стене, Бенедикт смотрел ей вслед. Красные фары мигали сзади, как чьи-то злые глаза. Гигантский ком раскаленного шлака скатился под откос, высоко подпрыгнул и взорвался. Осколки разлетелись далеко вокруг, а несколько с оглушительным шипением упали в Ров. На этот раз раскаленный шлак добрался до самого Рва — это случилось впервые! Бенедикт бросил последний взгляд на бедные, крытые толем лачуги и свернул на Горную авеню к церкви. В голове у него беззвучно гудел колокол, он шел понурившись, и ему казалось, что на голову ему сыплются, как снег, зловещие белые конверты.
7
Когда Бенедикт вошел в ризницу, там еще никого не было. Больше всего он любил именно эти минуты: он был один в преддверии святилища, среди немногих знакомых вещей: тут были два стенных шкафа со священными облачениями, стальные ящики, где хранилась церковная утварь — кадила, дарохранительница, кропильница, ладан, свечи, сияющая золотом чаша, которую священник так часто поднимал над его склоненной головой, старые церковные книги... Он надел свой стихарь и сутану (сутана висела в шкафу, — его собственная!) и почувствовал, что наконец успокаивается, освобождаясь от всего, что произошло с ним в городе и дома, забывает мучительные минуты леденящего ужаса, Большой Ров, голод... В этом облачении он был под надежной защитой от всего мирского, оно соединяло его с извечной верой, вливало в него неодолимую силу.
Движения Бенедикта стали четкими и уверенными: он взял сосуды с вином и водой и вышел из ризницы. В церкви уже молились несколько прихожан. Женщины в черных платках прижимали к груди худые, огрубевшие от работы руки; губы их шептали слова молитвы. Мужчины пришли сюда в рабочей одежде, чтобы сразу по окончании обедни отправиться на работу. На скамьях подле них стояли небольшие термосы с горячим кофе на завтрак, напоминая им о покинутой теплой постели и жене.
Круглый купол церкви нависал над ними, как гигантское ухо; молитвы вместе с дыханием медленно плыли вверх. Бенедикт преклонил колено, встал и понес сосуды к алтарю. Он взял из ризницы чашу для омовения рук и полотенце, потом зажег две свечи по обе стороны дарохранительницы.
Когда Бенедикт снова вернулся в ризницу, входная дверь отворилась.
— О! — удивленно воскликнул отец Брамбо. Он стоял на пороге, высокий и стройный, в сиянии бледно-розовой зари, и улыбался, глядя на Бенедикта. — Ты будешь помогать мне, — спокойно сказал он.
Бенедикт слегка закусил губу, чтобы сдержать радостный трепет. Он принес молодому священнику ризу и потир и стал наблюдать, как тот готовится к службе. Священник на минуту закрыл глаза, тонкие губы его шевелились. Потом он начал облачаться. Бенедикт подал ему пояс, проверил, на какой стороне кисточки, одернул стихарь, чтобы он нигде не висел. Отец Брамбо облачился в епитрахиль; глаза его были опущены, длинные ресницы отбрасывали тень на щеки. Одевшись, он молча взглянул на Бенедикта.
— Все в порядке, отец мой! — прошептал Бенедикт.
Отец Брамбо кивнул. Он опустился коленями на скамеечку и, закрыв глаза, начал читать про себя молитву, которую надлежало читать перед ранней обедней. Бенедикт наблюдал за ним со щемящей сердце гордостью; ему казалось, что он призван охранять молодого священника, вместе с которым в их церковь вошла божественная благодать. Чуть ли не с досадой он отогнал все воспоминания о том, что случилось ночью и утром: он хотел лишь покоя, красоты и благоволения, — всего того, что наполняло эту тихую комнату, где слабо пахло ладаном и душистым мылом. Здесь все и навсегда принадлежало ему. Взгляд Бенедикта остановился на мягко изогнутой шее отца Брамбо. Но даже сейчас, когда он смотрел на коленопреклоненного молодого священника, на его красивую голову и опущенные нежные веки с синими прожилками, он не мог забыть отца Дара. Сколько раз он наблюдал, как тот пошатывался на этой самой скамеечке; от него пахло затхлостью, немытым телом, и он рассеянно почесывался, потому что его кусало зимнее шерстяное белье, а над косматой его головой витал запах табака и прогорклого пива.
На глаза мальчика навернулись слезы: ему хотелось тронуть молодого священника за локоть и сказать: «Спасибо, что вы приехали к нам, отец мои!» В предвкушении той минуты, когда они вдвоем будут стоять у алтаря, мальчика охватила трепетная радость. Он, Бенедикт, — надежная опора отца Брамбо! Сердце его наполнилось блаженным смирением, он закрыл глаза. В его представлении святой Августин или святой Бенедикт выглядели совсем как отец Брамбо: светлые волосы красивыми волнами ниспадают на плечи... Бенедикту больше не придется краснеть перед прихожанами за старого отца Дара. Теперь пришел другой — его прекрасные синие глаза излучают сияние, а бледное лицо и тихий голос свидетельствуют о благочестивых помыслах. Перед мысленным взором Бенедикта возник как бы по контрасту его собственный облик: смуглое, скуластое лицо с приплюснутым носом, похожие на материнские, серые, с желтым отливом, глаза, грязные, светлые, как солома, волосы, воспаленные ноздри...
После этого сравнения отец Брамбо показался ему еще красивее.
Бенедикту всегда чудилось, что церковь — это огромная звучащая раковина, погруженная в безбрежное море святости. Сквозь закрытые двери доносилось глухое бормотание, — казалось, отзвуки давних молитв, витавшие среди пыли и теней, сливались все с новыми и новыми молитвами. Здесь царил глубокий покой; за этими стенами мальчик забывал о крытых толем лачугах, ютившихся вдоль Большого Рва, о красной летучей пыли, о навалах шлака, о мусорной печи и мистере Брилле: все это было преходящим и бренным. Незыблемой, вечной была только церковь.
Сюда он стремился, смиренный, но сильный духом, смертный и бессмертный. Здесь было его царство. Здесь утолял он таящуюся в его сердце жажду гармонии и веры, непоколебимого постоянства и вечности, святой справедливости законов, предначертанных богом. Здесь, в этой церкви, где отзвуки молитв как птицы взлетали под купол, было сосредоточено все искусство, которое он знал, вся музыка, вся любовь, и душа его оживала.
Он увидел, как отец Брамбо перекрестился — сейчас он поднимется с колен, но в эту минуту дверь ризницы распахнулась, и на пороге, на фоне мутноватого неба, заполняя собой весь дверной проем, появился отец Дар. У Бенедикта екнуло сердце. Отец Брамбо не поднял головы, глаза его были опущены.
Неуклюже качнувшись, отец Дар схватился за косяк и увидел Бенедикта.
— Ты опоздал! — требовательно прохрипел он, протянув к нему руку. — Я тебя ждал, ждал!
Отец Брамбо обернулся, руки его все еще были прижаты к груди.
— Ну ладно, на этот раз я тебя прощаю, — с трудом выговаривая слова, продолжал отец Дар. — Подай мне скорей облаченье! — Он шагнул в ризницу и снова пошатнулся.
Бенедикт бросился к нему и взял его за руку.
— Идите домой, — зашептал он, сгорая от стыда. — Уходите, отец мой.
Отец Дар ринулся к шкафу и распахнул его.
— Сынок, — приказал он, — поди-ка сюда!
Отец Брамбо побледнел, на его губах застыла натянутая, болезненная улыбка. Он молча наблюдал за Бенедиктом и стариком; голубые его глаза потемнели.
— Сядьте, отец мой! — срывающимся голосом бормотал Бенедикт, подводя старика к табуретке и стараясь усадить его.
— Нам надо служить обедню! — сердито кричал отец Дар.
— Нет, отец мой, — ответил Бенедикт. — Служить будет отец Брамбо. Все в порядке.
Старик уставился на Бенедикта тяжелыми воспаленными глазами, на голове его вздыбилась косматая грива.
— Отец Брамбо... — забормотал он. — Отец Брамбо...
Он погрузился в долгое раздумье, потом наконец очнулся и доверительно шепнул Бенедикту:
— Они выгнали меня, мой мальчик. Выгнали меня. Теперь ты меня уже тут не увидишь...
— Да, отец мой, — сказал Бенедикт. — Служить будет отец Брамбо.
Старик посмотрел на Бенедикта.
— Разве ты не хочешь мне помочь? — спросил он.
— Хочу, отец мой, конечно хочу, — серьезно ответил Бенедикт. — Но вы больны, а отец Брамбо...
Он бросил умоляющий взгляд на молодого священника, но тот молчал, наблюдая за ними с горькой, слабой усмешкой.
— Отцу Дару скоро станет лучше, — вскричал Бенедикт, — только бы отвести его домой!
Старик опустил на плечо Бенедикта тяжелую руку.
— Уже поздно, — строго сказал он. — Пора начинать. Идем...
— Пожалуйста, отец мой, — Бенедикт чуть не плакал, — позвольте мне отвести вас домой. Отец Брамбо...
Старик так сжал плечо Бенедикта — то самое, в которое утром вцепился посетитель матушки Бернс, что мальчик вскрикнул и колени у него подогнулись, а в глазах потемнело.
— Вы делаете мне больно, отец мой! — сказал он с болезненным смешком.
Отец Дар посмотрел в его расширенные глаза — рука его медленно разжалась, он отпустил плечо Бенедикта. Голова старика упала на грудь, словно тяжелые космы волос тянули ее вниз, из груди его вырвался стон. Бенедикт взял его за руку и повел к двери. В эту минуту на пороге вдруг появилась миссис Ромьер. Она деловито схватила отца Дара под руку и потащила вниз с крыльца.
— Теперь он у меня не вырвется, — приговаривала она. — Начинайте обедню. Ну и вид у вас, отец мой! — принялась она отчитывать своего хозяина.
После того как дверь за ними закрылась, Бенедикт и молодой священник долго молчали. Бенедикт не мог заставить себя поднять глаза. Его словно жгли на медленном огне. Едкий запах тумана, казалось, сгустился вокруг него. Из церкви доносились приглушенные звуки. Бенедикт медленно поднял голову и протянул дрожащие руки к отцу Брамбо, который словно застыл посреди ризницы, бледный, с красными, как от укусов, пятнами на щеках.
С опущенной головой молодой священник прошел в церковь. Позванивал маленький колокольчик. Бенедикт последовал за отцом Брамбо. В памяти медленно всплывали латинские слова: «Ad Deum qui laetificat juventutem meam...»[8]
Их встретила волна тихих вздохов, шарканье ног. Бенедикт не глядел на прихожан. Он механически выполнял свои обязанности, отвечая молодому священнику тихим, напряженным голосом. Лицо у него горело так, словно ему надавали пощечин.
Голос отца Брамбо был чист и сладостен. Преклонив колени, Бенедикт следил за мягкими движениями молодого священника, и, по мере того как продолжалась обедня, он позабыл и об отце Даре, и о матушке Бернс. Снова он был во власти света и красок, во власти тишины, наполненной еле слышным бормотанием, снова на него снизошли покой и глубокое удовлетворение, а по телу разлилась приятная истома. Бенедикт слышал у себя за спиной дыхание людей: он ощущал глубокую нежность к ним, ему казалось, что он старше их всех. Он любил их за то, что они пришли сюда в это раннее утро и, смиренно склонив головы, шептали те самые молитвы, на которые так горячо откликалась его собственная душа.
— Misereatur vestri omnipotens Deus...[9] — звучал голос отца Брамбо.
Мерцали огни свечей, бросая отсветы на позолоту подсвечников.
— Amen, — произнес мальчик.
Он перекрестился, стараясь попадать в такт движениям отца Брамбо, и снова повторил:
— Amen.
На мгновение перед мысленным взором Бенедикта вдруг возник спотыкающийся, пьяный отец Дар, и сердце его болезненно сжалось. Раздался заводской гудок; он словно понимал, что проник в церковь, и тоже приглушил голос, призывая к труду нерадивых рабочих, заснувших в церкви с именем Христа на устах. Вой сирены тоже прозвучал здесь тише, не так зловеще; Бенедикт вскинул голову, но сирена уже стихла вдали. Зато он услышал чей-то громкий храп. Он украдкой посмотрел на священника и убедился, что тот тоже слышал. Отец Брамбо начал запинаться и внезапно умолк; в глазах его был ужас. Бенедикт проследил за его взглядом: сквозь кружевной покров дарохранительницы просунула свою острую мордочку мышка. С минуту она оглядывала церковь, а потом юркнула вниз и исчезла.
Бенедикт видел напряженную спину отца Брамбо, его профиль, белую щеку. Крупные капли пота выступили у него на лбу и покатились по щеке; плечи задрожали, как будто он сдерживал рыдания; лицо напряглось; из груди вырвался слабый стон.
Позади них слышалось бормотание — люди продолжали молитву. Бенедикт ждал, но молодой священник не шевелился. Мальчику казалось, что вот-вот случится страшная катастрофа: рухнут колонны, стены и своды, погибнут города...
— Domine, exaude orationem meam[10], — раздался наконец прерывистый голос отца Брамбо.
— Et clamor meus ad te veniat[11], — отозвался Бенедикт.
— Dominus vobiscum[12].
Пламя свечей вдруг заколыхалось, будто кто-то пытался их погасить.
— Et cum spiritu tuo[13].
8
Отец Бенедикта ходил в церковь только на похороны, но никогда не отказывался помочь общине, и если надо было починить крышу церкви, поштукатурить потолок или даже покрасить алтарь, то звали его. В то утро он рано ушел из дому, чтобы сколотить столы для пикника в ореховой роще, где листва, несмотря на налет красной пыли и копоти, все еще была зеленой. Обитатели Литвацкой Ямы решили отпраздновать прибытие отца Брамбо в их приход. Задумано было гуляние и благотворительный базар. Мать Бенедикта заранее насобирала в лесу и на холмах полные корзинки зелени и поймала в силки двух диких кроликов.
Бенедикт помогал отцу мастерить столы. Он держал доски, а отец распиливал и прибивал их. Мальчик краснел от радости, когда отец бросал ему грубовато, но с приметным уважением, как равному: «Подай-ка мне доску... Молоток!.. Принеси гвоздей!» Окружающие шли со всеми вопросами к его отцу, они, не сговариваясь, признавали его своим вожаком. С ним советовались, куда поставить киоски, как развесить фонари, где утрамбовать площадку для танцев. Отец всегда знал, что и как следует делать.
Они даже сложили печь на склоне холма. Протянули проволоку от дерева к дереву и развесили бумажные фонарики. Как по волшебству роща преобразилась, расцвела яркими красками. Вот удивится отец Брамбо! Наверно, глаза молодого священника засияют, когда он придет сюда и увидит, как качаются разноцветные фонарики, пенится в бочках золотистое имбирное пиво, а столы ломятся от кушаний и сладких пирогов. И все это для него! Бенедикт с нетерпением ждал этой минуты, с его губ не сходила легкая улыбка.
В рощу стали сходиться женщины с провизией. Они несли домашние кексы, печенья, блины, пироги, разные колбасы, маринады, прихватили и кислую капусту с тмином в глиняных кринках. Чтобы зажарить козленка, развели костер. Увидев издали свою мать, Бенедикт побежал ей навстречу. Она тащила две больших кастрюли.
— Что там, мама? — осведомился он.
Она бросила на него торжествующий взгляд.
— Я приготовила двух кроликов, — шепнула она. Он улыбнулся ей и взял одну из кастрюль.
— Посмотри-ка, — сказал он, подходя к отцу и приподнимая крышку.
Отец курил крепкую папиросу-самокрутку и, казалось, не расслышал его. Он рассеянно кивнул, глядя куда-то вдаль. Лицо его горело.
— Ступай, — резко сказал он Бенедикту. Мальчик обиженно отошел и понес кастрюлю к столу.
Вся роща наполнилась восхитительными запахами. Маленькие костры горели на склоне холма, над ними вились курчавые дымки. Дети затеяли шумную игру, теперь они будут бегать до самого вечера, пока не свалятся с ног и не заснут, усталые, с разгоревшимися щечками. Пока что они с веселыми криками и смехом сновали среди взрослых. Бенедикт заметил, что его братишка сидит на корточках под столом.
— Что ты там делаешь, Джой? — спросил он.
Джой сердито взглянул на него.
— Сижу! — отрезал он.
Бенедикт оставил его в покое.
И вдруг грянула музыка. Два аккордеона хрипло и призывно заиграли плясовую, старый мистер Гражулис не вытерпел и пустился вприсядку. Он с трудом выбрасывал вперед негнущиеся ноги. Все начали хлопать в ладоши и притопывать по твердой земле. Бенедикт, безотчетно улыбаясь, смотрел на старика, а у того седые волосы разлетались над головой во все стороны, лицо раскраснелось, но ноги ни разу не сбились с ритма. Вдруг аккордеоны перешли на тихую, рыдающую песню, то ли русскую, то ли словацкую, и женщины вокруг Бенедикта начали утирать глаза фартуками. Но вот раздались оглушительные аккорды, и понеслась вихрем бешеная полька. Взрослые оживились, встрепенулись, будто их кто-то укусил; сначала это даже смутило Бенедикта, но скоро он стал покатываться со смеху: его тетка с мужем как угорелые носились по полянке и наконец остановились, выбившись из сил.
Вокруг него все что-то жевали, но Бенедикту не на что было купить еду. Вырученные деньги предназначались для церкви — их передадут отцу Брамбо.
Кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел перед собой отца.
— Возьми-ка! — сказал тот, протягивая ему несколько монет. — Купи что-нибудь для Джоя.
— А для мамы?
Отец молча поглядел на него и ничего не ответил. Опустив голову, Бенедикт взял деньги и отправился искать Джоя, но тот куда-то исчез. Он подошел к матери.
— Мама! — сказал он, протягивая ей деньги.
Она спрятала монетки в коробку из-под сигар и положила ему в миску порцию тушеного кролика. Она все время улыбалась. Он отошел от матери, обмакнул хлеб в соус и съел, умиляясь при мысли о том, что это вкусное кушанье приготовила его мать; у него даже слезы на глаза навернулись. Бенедикт отыскал отца.
— Попробуй-ка, папа, — сказал он.
Но отец сердито оттолкнул его.
— Ешь сам... слышишь!
Бенедикт отправился искать брата. Он увидел его издали: Джой играл с козленком, привязанным к дикой яблоне, и Бенедикт не решился подойти к нему, — ведь скоро этому козленку перережут горло. Бенедикт чуть не заплакал при виде оживленной рожицы Джоя, разговаривавшего с козленком.
Музыка все еще играла — «литвацкая музыка», как презрительно сказал бы, наверно, мистер Брилл. И вдруг Бенедикт испугался при мысли, что сейчас сюда придет отец Брамбо. Мальчик почувствовал, что не может здесь больше находиться, и вышел из рощи. Смеркалось. Он пошел тропинкой вдоль кустов бузины к роднику. Навстречу ему попадались женщины и мальчики, его товарищи, с полными ведрами, из которых выплескивалась вода.
Возле родника пахло коровами. Они истоптали всю землю вокруг деревянного сруба, превратили ее в болото. Пахло дождевыми червями и мхом. И даже сюда доносился из-за леса едкий запах горелого шлака.
Бенедикту ни с кем не хотелось разговаривать и, увидев Тони, маленького итальянца, прислуживающего вместе с ним в церкви по воскресеньям, он свернул в лес. Там в тени за деревом стоял его отец.
— Папа! — позвал Бенедикт.
Отец быстро обернулся и жестом велел мальчику уходить, а за его спиной мелькнула фигура какого-то мужчины, который отпрянул назад, в тень. Бенедикт остановился, затем нерешительно двинулся вперед и позвал еще раз:
— Папа! — Он собирался подойти еще ближе, но отец поспешно шагнул на тропу, протянув на прощанье руку своему собеседнику. При свете луны Бенедикт увидел, как их руки слились в крепком пожатии. Вместо того чтобы идти на пикник, мужчина быстро удалился в противоположном направлении. Бенедикт глядел ему вслед — по телу у него пробежали мурашки.
— Пошли, пошли, — строго сказал отец, беря его за плечи и резко поворачивая.
Бенедикт вопросительно посмотрел на отца, но тот ответил ему недовольным взглядом, а затем, будто вспомнив, что следовало бы рассердиться, грозно спросил:
— Почему ты не на пикнике?
Бенедикт пожал плечами, — он не сумел бы объяснить, почему он ушел оттуда. Ему захотелось взять отца за руку, но вместо того он молча пошел рядом с ним. До них все время доносился праздничный гул, а когда они вышли на поляну, всеобщее веселье захватило и их. Ярко горели разноцветные фонарики, озаряя раскрасневшиеся лица и блестящие глаза, и у Бенедикта снова поднялось настроение. Он увидел Тони и на этот раз подбежал к нему и обнял за плечи.
— Не забудь, что в субботу мы играем против «Птичек-соек»! — строго напомнил Тони, глядя на него своими темно-карими глазами.
— Помню, помню! — засмеялся Бенедикт.
— Мы им всыплем, этим черномазым! — продолжал Тони, моргая длинными ресницами.
«Нехорошо так называть их», — покраснев, подумал Бенедикт, и его улыбка вдруг погасла. Он потупился.
— Знаешь, Тони... — начал было он, но прикусил губу. Его товарищ, не подозревая, в чем дело, доверчиво смотрел на него.
— Мы побьем их, если ты будешь играть, Бенни! — с гордостью заявил Тони.
Бенедикт на миг заколебался, встретившись с его восхищенным взором, но затем круто повернулся и, не сказав ни слова, ушел. Он был польщен и вместе с тем чувствовал себя виноватым.
Танцы были в разгаре. Он стал пробираться сквозь толпу людей, которые, смеясь, с увлечением хлопали в ладоши, и вдруг изумленно отпрянул: на полянке отплясывали польку его отец и мать! Лицо у матери было бледное, покрытое испариной, и, хотя она смеялась, видно было, что она страшно конфузится, зато отец, казалось, забыл обо всем на свете... Бенедикт быстро отошел и спрятался в толпе. Но взрывы радостного звонкого смеха звучали так заразительно, что он не устоял и вернулся обратно.
Перед ним мелькнуло лицо Джоя: с робкой улыбкой, застывшей на его мордашке, тот глядел во все глаза на невиданное зрелище — его родители танцуют! А Бенедикт не решался смотреть на отца. Наверно, он пьян, думал мальчик. Ему казалось, что матери должно быть мучительно неловко из-за этого. Однако выражение откровенного, безудержного веселья, которое он раза два уловил на ее лице, сбивало его с толку. Неожиданно ему пришло в голову, что когда-то в молодости его родители были вот такими, как сейчас, и у него даже рот приоткрылся от удивления.
Полька продолжалась. Его отец, возбужденный, с разгоревшимся лицом, выхватил аккордеон у музыканта и заиграл сам. Все с восторгом ему зааплодировали. Круг расступился, и в центре остался один отец; он играл и продолжал плясать. Вдруг из толпы стремительно выскочил маленький Джой и тоже пустился в пляс. Он носился по кругу вслед за отцом, в точности копируя его движения. Джой неистово выбрасывал вперед ноги, скрестив на груди худенькие ручонки. Бенедикт улыбнулся ему — он так любил его в эту минуту! — но Джой вдруг шлепнулся с размаху на землю. Грянул хохот. Джой растерянно поднялся — наверное, он больно ударился — и подошел к Бенедикту; тот обнял его за плечи.
А отец все плясал. Он кружился на каблуках, подпрыгивал, приседал, снова кружился. И все это время его аккордеон, которому откуда-то издали вторил другой, ни разу не сбился с ритма!
Когда он наконец остановился, раздался гром рукоплесканий и новый взрыв хохота. Из гущи толпы, хлопая в ладоши, выступил отец Дар. Его густые волосы вздыбились, как чудовищная копна. «Неужели отец Дар тоже намерен танцевать?» — подумал Бенедикт, и сердце его упало, когда старый священник пошел вприсядку, с трудом поспевая за аккомпанементом. Лицо отца Дара пылало, на багровой шее налились жилы. Отец Бенедикта играл все быстрей и быстрей, с лукавой улыбкой, — все быстрей и быстрей плясал старый священник, а зрители хлопали в ладоши все громче и громче!
Оглушительно грянули последние аккорды — будто дерево свалилось, — музыка оборвалась, и отец Дар торжествующе помахал рукой. От аплодисментов и смеха фонарики качались из стороны в сторону. Старик обнял отца и что-то ему сказал, а отец расхохотался и потряс в воздухе аккордеоном. Они хлопали друг друга по плечу, смеялись и кивали. Кто-то поднес им по стакану вина; они выпили залпом, и лица их еще больше вспотели и стали ярко-красными, как глянцевитые, румяные яблоки. Но вот аккордеоны заиграли новую мелодию, отец и старый священник вернулись в круг. Зрители обступили их стеной. Воротничок у отца Дара оторвался и болтался поверх его черной сутаны. Сначала они, заложив руки за спину, не спеша прошлись друг против друга на каблуках. Потом отец с грозным видом проплясал несколько тактов, и старый священник передразнил его. Отец принял вызов и вдруг выкинул неожиданное коленце, к которому старый священник отнесся как бы с пренебрежением. И между ними началось бурное состязание, — словно подхваченные вихрем, они закружились, заплясали под все нарастающий одобрительный гул. Бумажные фонарики колыхались, как от порывов буйного ветра. Воротничок отца Дара совсем оторвался, упал на землю; его затоптали в пыли, но никто этого даже не заметил. Волосы старого священника развевались в бешеной пляске.
И в этот миг Бенедикт увидел лицо отца Брамбо: оно возникло с неумолимой четкостью среди хаоса звуков, красок и запахов. Мертвенно-бледное, оно выделялось как шрам на фоне этого празднества. Отец Брамбо не отрываясь смотрел на его отца и на старого священника, потом оглянулся на стоявших вокруг людей — в глазах его промелькнул ужас, он отпрянул и растворился в толпе.
Страдание и отчужденность с такой силой отразились на этом лице, что сердце Бенедикта больно сжалось от сочувствия. Вот такое же лицо было у молодого священника, когда Бенедикт с гордостью показывал ему в первый раз долину — его приход и пастырский вертоград... Бенедикту захотелось остановить музыку, броситься к отцу Брамбо и как-нибудь его утешить...
Но он стоял, не сдвинувшись с места, словно прикованный к чужому страданию, пока аккордеоны не умолкли.
Тогда отец Дар взобрался на скамью, которую сколотил отец Бенедикта, и крикнул:
— Замолчите-ка все! Тихо!
Ему пришлось прокричать это несколько раз, да еще прибавить какие-то смешные словацкие ругательства, вызвавшие удивленный смех женщин. Наконец наступила тишина. Он простер над толпой руки.
— Ну, как? Все уже раскошелились? — вскричал он.
И мальчишки хором ответили:
— Не-ет!
— Деньги вашу пойдут на церковь, — продолжал отец Дар, — так что тратьте, тратьте все, что у вас есть! Бог вас не оставит... Перед вами разные кушанья и напитки... — Он умолк с невинным видом, и все понимающе захохотали. — Но, конечно, только не крепкие напитки, — добавил он. — Я хочу поблагодарить детей... — он остановился и строго посмотрел вниз, — за то, что они хорошо себя вели и слушались матерей. — Раздались выкрики шалунов, но отец Дар не обратил на это никакого внимания. — Я хочу поблагодарить отцов, которые смастерили столы и прилавки, и матерей, которые приготовили еду. Я рад, — громко провозгласил отец Дар, — что мы еще не разучились радоваться и веселиться даже перед лицом... всяких событий. Даже когда наши помыслы омрачены заботами. Но светлый день настанет! Будьте мужественны, не теряйте веры! Светлый день придет! Бог победит Маммону, ибо он сильнее! Бог вас не оставит, друзья мои! — Отец Дар остановился и вытер разгоряченный лоб, потом продолжал уже более спокойным тоном: — Этот пикник... этот праздник устроен по важному поводу: к нам приехал новый священник — мне в подмогу. Вы видели его в прошлое воскресенье. Сегодня мы пригласили его сюда. Он придет, он будет говорить с вами: откройте ему свои сердца! Он ваш пастырь: заботьтесь о нем, охраняйте его, будьте с ним ласковы. Помните — он молод; помните, что ему понадобится ваша помощь! — Отец Дар стукнул кулаком по открытой ладони. — Помогите ему! — крикнул он так громко, что на его голос отозвалось эхо. — Скажите ему, что бога можно найти и здесь. Да, здесь, в этой бедной долине, — среди вас, если поискать. Бог в ваших мозолистых руках; бог в вас самих. Он с вами, когда вы работаете у пылающих горнов, — а души ваши в руках господних!
Старый священник умолк. Голова его поникла, пряди волос свесились на лоб. Потом, устремив взор в толпу, он стал звать:
— Отец Брамбо! Где вы? Подите сюда, скажите несколько слов вашим прихожанам.
Он смотрел поверх голов, возвышаясь над всеми.
— Отец Брамбо!
Люди начали оборачиваться, искать глазами молодого священника. Бенедикт влез на стол и напряженно вглядывался в окружавшую их темноту. Ему показалось, что в проблеске света он видит, как кто-то быстро идет по склону холма, спешит прочь отсюда, и черные полы сутаны развеваются, подымая облако пыли.
Бенедикт не слушал больше отца Дара. Спрыгнув со стола, он поднял с земли затоптанный воротничок старого священника, сунул к себе в карман и стал проталкиваться сквозь толпу. На опушке леса он заметил Джоя, — тот растерянно стоял под дикой яблоней, а потом обошел ее в поисках исчезнувшего козленка. Бенедикт прошел стороной по тропинке вдоль заброшенных шахт, — глубокие шурфы угрожающе зияли у самых его ног. В кустах слышались шорохи, высоко над головой, выгнувшись, как арбузная корка, висел тоненький месяц. Мальчик уходил все дальше, музыка затихала вдали, и боль в его сердце тоже утихала. Неотступно стоявшее перед ним бледное лицо отца Брамбо растаяло в темноте, словно последняя вспышка церковной свечи. Мимо него, задевая крыльями за ветви деревьев, неуклюже пролетела сова. Бенедикт достал из кармана воротничок отца Дара, стряхнул с него пыль и разгладил его...
В кухне горел свет, но дверь оказалась запертой. Отец сначала отодвинул занавеску и выглянул в окно, а потом уже отпер дверь.
— Иди наверх и сейчас же ложись спать! — приказал он.
За кухонным столом сидели в полутьме четверо мужчин. Фитиль керосиновой лампы был прикручен. На секунду мальчик остановился, глядя на них, но тут же опомнился и бросился наверх.
Джой уже давно блуждал в неведомой стране сновидений. Он то и дело ворочался с боку на бок и осипшим голосом спорил с кем-то. Бенедикт скользнул в теплую постель, поближе к худенькому тельцу брата, и заснул глубоким сном.
Вдруг его словно что-то ударило, он вскочил с кровати. Джой ахнул и тоже проснулся, вынырнув из сновидений, как перепуганный пловец из глубокой воды. В комнату вбежал отец.
— Ты чего кричишь? — спросил он.
Бенедикт уставился на него.
— Папа, — сказал он, — я знаю этого человека!
— Кого? — нетерпеливо воскликнул отец.
— Человека из тюрьмы!
Теперь отец посмотрел на него долгим взглядом.
— Спи, — сказал он Джою, легонько толкнув его на подушку, потом помолчал, задумчиво вздыхая. Когда же отец заговорил снова, в его голосе, хоть он и звучал мягко и даже ласково, слышались такие непреклонные нотки, что Бенедикту невольно припомнилось, как тяжела бывает отцовская рука.
— Слушай, Бенедикт, — сказал он. — Засыпай скорей и позабудь, кого ты видел на кухне. Спи. Понял?
Бенедикт снова улегся в постель.
— Ты понял, Бенедикт? — спросил отец.
— Да, папа, — сказал тот, отворачиваясь. — Я запомню, что ты сказал.
Глаза мальчика были широко раскрыты. Отец помедлил, словно хотел что-то прибавить, потом, сказав в последний раз «спи!», ушел. А когда стихли его шаги, Бенедикт прошептал в пустоту комнаты:
— Я видел вас, Добрик! — И темнота сомкнулась над ним, заглушая его голос.
9
При свете дня ночные события показались Бенедикту неправдоподобными.
Когда он вышел утром на кухню, мать, держа Рудольфа на коленях, «размешивала кашку» у него на ладошке и с лукавой улыбкой напевала песенку, а малыш восторженно улыбался, поеживаясь в сладком ожидании. Джой мечтательно смотрел на них.
Сорока-ворона, Кашку варила. Деток кормила...Рудольф засмеялся, а мать начала с серьезным видом загибать ему пальчики:
Этому дала, Этому дала, А этому не досталось...Она сжала его мизинец, а потом пальцы ее быстро побежали вверх, к его подмышке, а он завизжал, захлебываясь от смеха. Джой, улыбаясь, держал малыша, а мать щекотала его и смеялась.
Бенедикт молча смотрел на веселые лица своих братьев и матери. Ему было жаль нарушить эту минуту.
Отец нагнулся над медным котлом, стоявшим на плите, — по длинной трубочке в бутылку стекали капли алкоголя. В кухне пахло жженым сахаром и суслом.
— Папа, — решился наконец Бенедикт, — мне нужны деньги.
— Закрой дверь, — сказал отец по-английски.
Бенедикт прикрыл дверь. С минуту он смотрел на отца, вспоминая, как накануне тот выглядывал в окно из-за занавески, потом отогнал это воспоминание.
— В церковной школе опять требуют плату за обучение, — упрямо продолжал Бенедикт. — Мы ведь не заплатили за прошлый год. Я имею в виду плату за Джоя, — добавил он.
— Пусть Джой, ходит в городскую школу.
Бенедикт ничего не ответил, — ему хотелось, чтобы отец заговорил на родном языке, но тот тоже умолк.
— Я должен заплатить, папа, — снова сказал Бенедикт, сдерживая поднимающееся раздражение, — Джой отстает в учебе. Я должен купить ему книги.
Ему почудилось, что всю ночь он, как в бреду, метался в постели, сжимая в руках затоптанный воротничок.
— В городской школе учебники выдают бесплатно, — ответил отец, проверяя, хорошо ли действует самогонный аппарат. — С меня берут школьный налог, — ты пойди и получи с них деньги.
— Я не допущу, чтобы Джой ходил в городскую школу! — горячо воскликнул Бенедикт. — Отец Дар сказал...
Отец выпрямился и посмотрел на него.
— Что сказал отец Дар? — насмешливо спросил он, подражая интонациям отца Дара. Как он передразнивал его накануне, когда плясал с ним вместе! Бенедикт не мог без возмущения вспомнить об этом. Он сжал кулаки, ногти впились ему в ладонь.
— Перестань, папа! — закричал он, подавшись вперед. — Ты хочешь, чтобы мы все попали в ад! — Лицо Бенедикта пылало. — Но вместо нас в ад попадешь ты сам, ты, ты!
Отец засмеялся, раздраженно повел плечами. Присев на корточки перед плитой, он повернул к мальчику голову.
— Значит, попаду в ад? — спокойно спросил он. Покачав головой, он взял пустую бутылку, осмотрел ее и подставил под трубочку.
— Заводские боссы увольняют всех человека — меня тоже увольняют. Я работаю в заводе пятнадцать лет. Теперь увольняют. За что? Ты об том не думал, нет? Почему завод увольняет нас, а? — Отец взглянул на Бенедикта и погрозил ему пальцем. — Ты сказал мне, за что? — продолжал он на ломаном английском языке. — Ты не знал? Ты и не думал об этом! А я скажу тебе! Теперь они говорят: мистер Блуманис, приходите, продавайте нам дом. Почему? — крикнул он вдруг так громко, что кошка соскочила с подоконника и шмыгнула под печку.
Бенедикт горько сжал губы.
— Иди! — с жаром вскричал его отец. — Иди спроси у отца Дара, что мне теперь делать? А он пусть спросит у бога! — Отец ткнул пальцем в лоб. — Чего-то у тебя не хватает вот здесь! — Он покачал головой и безнадежно пожал плечами. — Несем деньги священнику, он строит дом, ест досыта, — а сами что? Сами ходим — одни дыры! — Отец показал на свои драные штаны. Он смотрел на Бенедикта, и тот даже в полумраке кухни, где монотонно, как сверчок, тикал будильник, увидел в серых глазах отца такое горькое разочарование — почти презрение... — Ты говоришь: папа, дай денег Джою в школу. А я отвечаю: где мы возьмем деньги на еду? — Отец простер перед собой руки. — За что? — спросил он по-литовски, потом тихо, уже не глядя на Бенедикта, повторил: — За что?
В комнате воцарилось молчание. Слышалось лишь мурлыканье кошки, прикорнувшей под печкой. Бенедикт выпрямился и проговорил, опустив голову:
— Но дом мы не продадим!
Отец бегло взглянул на него.
— Это ты говоришь! — Он вытащил из-под змеевика бутылку, завернул ее в газету.
— Отнеси мистеру Дрогробусу, — сказал он. — И купи учебники.
Отец протянул Бенедикту бутылку. Отводя взгляд, Бенедикт взял ее и вышел из дому.
Ему хотелось унести бутылку подальше в поле и разбить о камень!
Под вечер мальчик вышел из дома и побрел по Тенистой улице, пересек Кукушкину аллею. Дым навис над долиной, как сизая тень; на улицах было тихо; со стороны Рва доносились крики мальчишек, игравших в бейсбол. Бенедикту захотелось присоединиться к ним, и он постоял, прислушиваясь к их веселым голосам. Воздух был тих и спокоен, но от мусорной печи, как всегда, доносилось отвратительное зловоние: там жгли бумагу, кости, тряпки, дохлых животных. Бенедикт повернул обратно и пошел по Кукушкиной аллее мимо стойл, куда сердитые мальчишки загоняли больших, громко мычащих коров, стегая их хворостинами по измазанным в навозе бокам. Над заборами свешивались цветущие кисти сирени, в небе уже засветился бледный месяц.
Бенедикт остановился у дома, который, как и соседние, стоял, чуть отступив от пыльной дороги, и был окружен сломанной изгородью. Калитка под деревянной аркой открывалась в палисадник, где вдоль изгороди и по сторонам дорожки росли темно-лиловые ирисы.
— Эй, Бенни! — раздался резкий, пронзительный голос.
Бенедикт обернулся. По переулку к нему шла длинноногая, худая девчонка с русыми косичками за спиной.
— Ты что здесь ходишь?
Бенедикт спрятал сверток за спину.
— Да ничего, — сказал он, — просто мне здесь ближе.
— А куда ближе?
— А никуда, — отрезал он.
— Несешь моему старику самогон? — догадалась она.
— Нет!
— А что за спиной прячешь?
— Не твое собачье дело! — огрызнулся Бенедикт.
— Смотри-ка, да ты ругаешься! — Она была явно довольна.
Он закрыл глаза, стиснул зубы.
— Во всяком случае, отец сказал, что больше не будет покупать самогон. Его уволили с завода.
Бенедикт посмотрел на нее.
— Что? — буркнул он.
— А потому тащи самогон обратно — или пей сам! — сказала она. — Вот придут полисмены и сцапают твоего старика за то, что он его делает. Я-то знаю.
— Дура! — сказал Бенедикт.
Девчонка вошла в палисадник и захлопнула калитку.
— А я знаю, — запела она, выпячивая губы. — А я знаю то, чего ты не знаешь.
Она была как дьявольское наваждение; он не мог заставить себя уйти. Он стоял, заложив руки за спину, и смотрел на нее. Она влезла на забор, веселая, злая, — все на свете было ей нипочем!
Наконец она произнесла свой приговор:
— Ты литвак, — сказала она. — А литваков не берут в священники.
— А я все-таки стану священником! Я уже учусь! — яростно крикнул Бенедикт.
— Вот посмотришь, — спокойно сказала она. — Сначала ты умрешь — от яда!
Он испуганно посмотрел на нее.
— Они подсыплют тебе яду в причастие!
Бенедикт поднял с земли камень и швырнул в ее голые, смуглые ноги. Девчонка удрала в дом, а он стремглав бросился прочь.
От Медового холма дорога шла только в город, но Бенедикт повернул в противоположную сторону и поплелся вдоль подножья холма, уныло глядя себе под ноги.
В сиянии месяца земля казалась серебряной. К северу, над Рвом, над лачугами, горела неугасимая заря, вечный восход солнца, брызгая длинными искрами огненного шлака, которые с шипеньем гасли, падая в мутную воду. Негры — мужчины и женщины с детьми на руках — выглядывали из окон своих лачуг, и глаза у них поблескивали желтым светом — отражением расплавленного шлака. А вдруг эта огненная река когда-нибудь доберется до них? Она ползла дюйм за дюймом вперед, по зеленой траве, сжигая на своем пути все живое. В застывшем шлаке отпечатались скелетики полевых мышей, — сами они сгорали дотла, лишь вздымалась тонкая струйка дыма да оставался этот неясный отпечаток.
Глядя на раскаленный шлак за лачугами, Бенедикт впервые ужаснулся; сердце будто упало в бездонную пропасть. Впервые он задал себе вопрос: где же в конце концов остановятся эти огненные потоки? И почему-то вспомнил, что вчера, вернувшись домой, он заметил в кухне еще одно знакомое лицо — оно чернело в полумраке...
В церкви святого Иосифа зазвонил колокол. Мальчик остановился как вкопанный. Он поставил бутылку на землю и, сняв с головы кепку, встал на колени на истоптанную коровами тропинку и перекрестился. Он горячо молил бога о помощи, словно предчувствовал грядущие испытания, он просил дать ему силу — она была ему нужна, чтобы забыть о минувших испытаниях, которые упорно жили в его памяти. Он старался представить себе, как свет благочестия озаряет щетинистое лицо его отца и широкие отцовские плечи, на которых держится весь дом; как под влиянием духовных наставников смягчается отцовская язвительная речь; но видел лишь его насмешливое и печальное лицо и слышал голос, исполненный горького презрения...
— Боже, помоги мне! — вскричал мальчик, в отчаянии сплетая пальцы.
Он встал с колен и оглянулся по сторонам, не зная куда пойти. Бутылка стояла на пыльной земле, он поднял ее и разбил о камень. В нос ударил запах алкоголя и мгновенно улетучился.
Бенедикт с горечью смотрел на лужицу самогона, сожалея о своем поступке. Ему припомнился Джой и его неоплаченное обучение, книги, которые надо было купить, и он чуть не заплакал от огорчения.
Он решил поговорить с отцом Брамбо, открыть ему свое сердце и попросить помочь ему советами. «Ведь он тоже страдает сейчас, — думал Бенедикт, — он тоже в смятении...»
Деревянная калитка громко заскрипела. Бенедикт с нежностью прислушался к этому звуку и пошел по выложенной кирпичом дорожке, через вскопанный огород, к дому священника. На губах его блуждала безотчетная улыбка, сердце билось ровнее, тишина вокруг была преисполнена миром.
В кухне горел свет, и оттуда доносились приглушенные голоса. Бенедикт открыл первую дверь и поднял было руку, чтобы постучать, но замер в лунном сиянии.
— Нет! — услышал он непривычно грозный голос отца Дара. — Это моя церковь, мой приход! Я прослужил здесь тридцать лет, я так же беден, как они. Я не согласен, я...
— Не кричите! — прозвучал холодный ответ отца Брамбо.
— Нет, буду кричать! Я переверну все вверх дном. Я сделаю все, что считаю нужным! — хрипло кричал отец Дар; слышно было, как тяжело он дышит. — Не смейте распоряжаться в моей церкви. Вы еще не родились, когда я построил ее и начал служить в ней. Эти люди — мои прихожане, и я буду им верен, пока не настанет мой смертный час! Не вам...
— Спектакля вроде вчерашнего больше не будет, — с горечью, но жестко сказал молодой священник. — Мне стыдно было показаться людям на глаза! Нет, вы этого больше не повторите, или мне придется доложить о вас епископу...
— Стыдно? — взорвался отец Дар. — Вам стыдно за меня? Стыдно за этих бедных людей? Они недостаточно хороши для вас? Ступайте доносите! Это же ваша обязанность — шпионить за мной! Скажите епископу, что видели, как я бегаю по улицам голышом...
— Довольно! — резко крикнул отец Брамбо, и старый священник внезапно умолк. Бенедикт понял, что отец Брамбо вышел из комнаты. За закрытой дверью слышалось учащенное дыхание старика. Рука Бенедикта неподвижно застыла в воздухе; он прислонился к стенке и закрыл глаза. В висках у него стучало так, будто в них билось сердце.
Немного погодя он, шатаясь и забыв прикрыть за собой калитку, вышел со двора и побрел по переулку.
10
Домой Бенедикт не пошел. Он долго блуждал по задворкам и пустырям, стараясь освободиться от тяжелого чувства, и не мог, — так глубоко он был подавлен происшедшим. В воздухе стоял запах коровьего навоза и уборных; из канав тянуло стоячей, гнилой водой. Мстительный ветер гнал по пустырям обрывки бумаги. Высоко в небе сияла луна. Одно лишь небо казалось неоскверненным, оно было так высоко, что земное дыхание не доставало до него. Безбрежное лунное сияние простиралось над домами, над окружавшими их холмами и звало в лучший мир — куда-то далеко за реки, леса и железнодорожные пути, туда, откуда явился отец Брамбо.
Бенедикт был не в состоянии вернуться домой. С глубоким сожалением подумал он о разбитой бутылке. Необходимо достать денег! На отца Бенедикт не надеялся. Он помнил день, когда Джой уже собрался в приходскую школу, а отец заявил, что начиная с Джоя все его дети впредь будут посещать только городскую школу. Так началась самая страшная битва из всех битв, какие Бенедикт вел с отцом. Он был готов скорее умереть, чем допустить, чтобы Джой погубил свою душу в «языческой» школе. Когда начались занятия, они с матерью потихоньку отвели Джоя в церковноприходскую школу и записали его туда. За обучение они платили деньгами, которые им с трудом удавалось сэкономить. У Бенедикта был выделен на Джоя особый фонд: он добывал деньги, продавая бутылки и разное старье. Случалось, он даже таскал мелочь из карманов Винса, своего старшего брата, когда тот приходил домой с картежным выигрышем. Потом отец, конечно, узнал обо всем, однако не запретил Джою ходить в приходскую школу, а только пожал плечами. Позднее он согласился платить немного за обучение. Но что делать теперь, когда отец стал безработным?
Отчаянная, греховная мысль пришла Бенедикту в голову: он представил себе, что идет в город — воровать! Мальчик поскорее отогнал это искушение.
Весь вечер его преследовал тошнотворный запах жженого мусора, и вдруг он понял, куда идет, хотя сначала направился в ту сторону без всякой цели. Бенедикт брел по белой известковой дороге, вздымая густую, едкую пыль. «Пусть, — думал он, — пусть пыль разъедает мне нутро». Страданием он хотел заглушить свои горькие мысли.
Никто еще, наверное, не заходил ночью так далеко! Сойдя с залитой лунным светом дороги, Бенедикт пошел сбоку, в тени. У него еще не было никакого определенного намерения, однако ему почему-то не хотелось, чтобы его заметил кривой Култер, — сторож свалки. Столб с прибитой поперек дощечкой преградил ему дорогу, как крест. На дощечке была надпись: «Прохода нет. 50 долларов штрафа».
На свалке лежали целые богатства. Каждый день, пыля по известковой дороге, сюда приезжали грузовики. Старые лошади, которых рано или поздно тоже приволокут сюда же, медленно тащились, нагруженные отбросами города, сбрасывали их и трусили обратно за новой поклажей. Сначала кто угодно мог рыться здесь в поисках разных разностей. Было просто удивительно, насколько город не понимал цены вещам: иногда выброшенной мебелью, которая требовала всего лишь небольшой починки, можно было обставить целую комнату. В прежние дни свалка была усыпана мальчишками и взрослыми, как пирог изюмом. Но затем кривой Култер (один глаз у него был совершенно закрыт бельмом, словно смотрел внутрь) водрузил здесь столб с надписью и начал сам промышлять на свалке. Он складывал разное старье в большие кучи на дворе за печью, а потом продавал.
Култер зверски пил, и у него была винтовка. По ночам, спрятавшись в густой тени печи, он стрелял в крыс, которые рыскали на свалке. Мальчишки прокрадывались сюда за медью и латунью, за свинцом и серебром, хоть и знали, что если кривой Култер их поймает, то упрячет прямо в печку...
Бенедикт вздрогнул: перед ним темнела огромная мусорная куча. Она топорщилась и зловеще шевелилась под порывами ветра. Ему послышался хриплый голос отца Дара, и от страха у него перехватило дыхание.
Ясный месяц все время с любопытством глазел на него и видел, как Бенедикт пришел сюда. Месяц заливал своим сиянием свалку, и только небольшая часть ее была погружена в глубокую тьму, в которой, словно чьи-то подстерегающие глаза, поблескивали черепки и осколки. Бенедикт посмотрел в сторону печи: ее труба высилась перед ним, как длинная колонна, упираясь в небо клубами черного дыма. Кругом стояла тишина и не было ни души; лишь вездесущий ветер шелестел бумагой да с легким шорохом скользил в картошке, длинные стебли которой белели в серебряном свете. Там и сям вспыхивали блуждающие огоньки: свалку постоянно ворошили; мусор рассыпался и скатывался вниз, прежде чем застыть в тяжелом глубоком сне. Вонь, как липкий пар, поднималась от разлагающихся отбросов. Бенедикт дрожал, зубы его стучали. Затаив дыхание, он пробирался вдоль огромной кучи, согнувшись, чтобы его не было видно. Он нашел мешок, потом рукоятку от метлы, вооружился ею и стал рыться в мусоре. Воздух был отравлен. Словно пловец, мальчик захватывал его короткими глотками, а потом медленно выдыхал.
Он нашел медный котел и сунул его в мешок. Внезапно его охватила радость. Он застыл на месте, жадно огляделся вокруг. О, какое перед ним лежало богатство! Оставалось только выбирать себе сокровища. Крысы неохотно отступали перед ним, пятились назад; он грозил им палкой. Они крались в разные стороны, злые серые тени. Бенедикт увидел сломанный канделябр и бросился к нему; канделябр, казалось, был из чистого серебра. И вдруг над долиной раздался оглушительный выстрел. Мальчик упал ничком в какую-то маслянистую лужу. С кучи посыпались вниз жестянки. В страхе он вцепился в мусор пальцами, прижался к нему. Он даже не мог пошевелить губами и прочитать молитву; он оцепенел от ужаса.
Но легкий ветер не испугался, он шелестел вокруг него и лизал его щеки. Мальчик осторожно повернул голову. С того места, где он упал, он едва мог различить печь. Мирный лунный свет заливал двор; ни одна тень не двигалась. И вдруг он увидел! Луч месяца упал на винтовку, озарил ее, — как перст указующий, она была направлена прямо на него!
Бенедикт лежал плашмя на грязной куче и не сводил глаз с винтовки. Он ждал. Он не мог пошевельнуться, не мог даже помыслить об этом! Ему казалось, что он навеки прикован к свалке, к этим гниющим сокровищам города, а сверху камнем на него навалилось его собственное тело, невероятно тяжелое. Волшебная, кристально чистая ночь сияла вокруг. И сам Ужас подкарауливал светлый месяц своим единственным глазом...
Что-то шарахнулось на куче, и опять грянул выстрел. Серая тень подскочила в лунном свете, упала и с пронзительным писком поползла по склону кучи, гремя жестянками от консервов. Затаив дыхание, Бенедикт глядел, как она спускается вниз. Снова раздался выстрел. Крыса запищала и поползла быстрее.
Бенедикт с ужасом следил за ее приближением. Он подумал, что сейчас крыса подползет к нему и запачкает его своей кровью. Ее пронзительный писк вдруг загремел у него в ушах оглушительным ревом, в котором потонули все ночные звуки. Спазма сжала ему горло, во рту пересохло, глаза расширились от ужаса. Крыса опять подскочила и кувырком покатилась вниз, а за ней с грохотом затарахтели жестянки. Внезапно все стихло; лишь отдаленное эхо перекатывалось, как барабанная дробь, но скоро и оно стихло.
Бенедикту еще долго казалось, что ему снится страшный сон; он был не в силах вырваться из-под власти злых чар. Тишина притаилась, как кошка с бархатистыми лапами, и равнодушно глядела на него из темноты. Он перестал ощущать себя Бенедиктом. Его не узнавали в темноте, принимали за кого-то другого! Он чуял смертельную опасность; он хотел крикнуть: «Господь бог знает, кто я! Спросите у него!» — но не смог, язык его прилип к гортани. Ему казалось — он слышит знакомые голоса. Эти люди готовы прийти на помощь, заступиться за него, отвести ужасную угрозу; но они где-то далеко, за непроницаемой стеной, и взывать к ним бесполезно... Мальчик оцепенел от страха. Его охватила безграничная усталость, он был близок к обмороку... Отвратительная свалка поймала его в свои цепкие лапы.
Он начал бессознательно молиться:
— Во имя отца и сына и святого духа...
Потом до слуха Бенедикта донесся его собственный шепот, и он окончательно пришел в себя.
Месяц тихонько скрылся. Облака неуклюже переваливались по небу. Тьма сгустилась, и мусорные кучи лежали теперь в густой тени.
Только сейчас Бенедикт понял, что все еще держит в руках канделябр.
Он поднялся сначала на четвереньки, затем встал на ноги. Его шатало, но он перекинул через плечо мешок, в который положил канделябр, и стал пробираться вдоль склона мусорной кучи. Усталость пригибала его к земле, он горбился, как старик, и все-таки продолжал подбирать банки, куски проволоки — все, что годилось на продажу. Только когда мешок был полон, Бенедикт, крадучись, выбрался на дорогу и зашагал следом за своей тенью.
Мужчины уже спешили на работу, хотя рассвет еще еле брезжил. Они торопливо выходили из домов, словно не были уверены, будет ли для них работа, когда они придут на завод. Бенедикту показалось, что среди них он увидел Добрика; человек, похожий на Добрика, быстро шел по улице рядом с каким-то рабочим, несшим под мышкой алюминиевый термос, на котором играл луч месяца. Но сейчас Бенедикту все было безразлично.
Он спрятал мешок за уборной и постоял во дворе, потом открыл дверь в кухню и медленно поднялся наверх.
— Это ты, Бенедикт? — шепнула в темноте мать.
— Мама! — воскликнул он с тоской.
— Шш... все спят, — сказала она.
Он потянулся к ней в темноте, прижался щекой к ее груди. Она погладила его по голове.
— Мама, мама! — сказал он, целуя ее.
— Отец уже заснул, тише, — ответила она.
В комнате слышалось тихое дыхание спящих детей. Бенедикт медленно разделся и постоял, глядя на своего братишку Рудольфа, потом на Джоя — их лица были такими светлыми и спокойными во сне.
Потом он улегся в постель и крепко уснул, храня в душе то прекрасное, что сейчас промелькнуло перед ним.
11
Рано утром в понедельник пришли какие-то люди и стали прокладывать вдоль Рва огромные бетонные трубы. В полдень, продав канделябр и железный лом, Бенедикт пошел посмотреть, что делается у Большого Рва, где, казалось, собрались все обитатели Литвацкой Ямы. Подъезжали грузовики. Длинный подъемный кран стаскивал бетонные трубы, поднимал в воздух и опускал вниз, укладывая их одну за другой в линию, которая коброй вытянулась по дну Рва. Группа рабочих пригоняла секции и скрепляла их цементным раствором.
Человек, глаз которого с детства привык видеть перед собой все тот же пейзаж, крепко привыкает к нему, глубоко запечатлевает его, черточка за черточкой, в своем сердце, сам сливается с ним, и ему начинает казаться, что он чувствует себя такой же неотъемлемой его частью, как и растущая на родной земле трава. Потому-то всякая перемена и заставляет больно кровоточить его сердце.
И вот однажды, неизвестно откуда, вызванные какой-то неведомой силой, появляются чужие люди, а с ними — грузовики, краны, прицепы с цементом и, не спросив вас, не считаясь ни с вашими привычками, ни с тем, что вы кровно связаны с окружающим, — начинают менять все на свой лад. А вы? Вы бессильны, вы ничего не можете сделать и только безмолвно стоите и наблюдаете... С вами творится что-то странное, вам кажется, что в дорогой вам образ вонзают нож. Вы чувствуете, как в вашей душе что-то оборвалось, что вас отчего-то прошиб холодный пот. Сжимая в руках четки, вы стоите в толпе; на груди вашей поднимается и опускается образок, который льнет к сердцу, как трепещущий листок; и вам начинает казаться, будто вы шли с красивым букетом, а он вдруг на ваших глазах превратился в пучок увядшей травы...
Бенедикт глядел на происходящее. Ему не хватало дыхания; в боку у него кололо, как от быстрого бега, хотя он шел сюда не торопясь. Он вглядывался в лица присутствующих: не плачет ли кто. Ему хотелось спросить...
Высокий скуластый человек сплюнул желтую струю табака и, презрительно поджав губы, заметил:
— Кажется, мы наконец избавимся от них навсегда...
Он метнул беспокойный взгляд на лачуги, затем посмотрел на работающих. Тонкие губы его стянулись в ниточку, и он вдруг схватился за бок, словно у него там закололо, как у Бенедикта.
На дороге вдоль Рва скопилось не менее сотни обитателей Ямы. Несколько негров, с окаменевшими лицами, стояли у дверей своих лачуг. Через Ров к ним доносился палящий жар — по ту сторону Рва остывал шлак. Теперь они даже могли разглядеть, как пузырится его застывающая корка. Усеянная осколками камней лава покрыла уже весь склон, ее желтый язык зловеще тянулся к самому Рву. Всем теперь было ясно, что произойдет дальше: когда сточные трубы уложат на дне Рва, шлак продвинется; он покроет эти трубы, засыплет Ров, доберется до лачуг из фанеры, захлестнет их, сотрет с лица земли и поползет через всю долину, пожалуй даже вскарабкается на вершину противоположного холма.
Как во сне люди наблюдали за происходящим. Подъемный кран хватал огромные бетонные секции и, покачав с минуту над остывающим шлаком, осторожно опускал на нужное место. Подъемный кран был совсем новый, ярко-желтый, его будто специально выкрасили для этого знаменательного дня, и грузовики тоже были новые, даже на некоторых рабочих были новые форменные фуражки и новые комбинезоны. Июньское солнце сверкало в небе, как чистое стеклышко. Дети беззаботно радовались чудесной погоде и громкими криками выражали свой восторг. У Бенедикта на минуту поднялось настроение, но тут же упало, — он почувствовал себя предателем.
Он стоял, вытянувшись в струнку, неотрывно глядя на Ров; правая сторона его тела словно окаменела — он не мог заставить себя повернуться в сторону лачуг.
Миссис Тубелис, литовка, которая иногда навещала его мать (и однажды лечила его, когда у него был нарыв на большом пальце ноги, прикладывая к больному месту печеный лук), обратилась к нему по-литовски:
— Что ж это делается?! — Она угрюмо посмотрела на Ров, сплюнула и выругалась.
Бенедикт улыбнулся. Почему-то лишь английские ругательства казались ему отвратительными.
— Как поживает мама? — осведомилась она, как положено, у Бенедикта и ласково улыбнулась ему.
— Очень хорошо, — охотно откликнулся он, хотя прекрасно знал, что она виделась с его матерью, вероятно, не более часа тому назад.
— А отец?
Он пожал плечами:
— Сидит без работы...
— Ах! — вскричала она с трагической ноткой в голосе, покачивая головой, как будто лишний раз убеждаясь в печальной участи трудового человека. Она испустила глубокий вздох. — Может быть, завод закроют? — испуганно спросила она, выразив эту неприятную мысль по-английски, и прищурилась в ожидании его компетентного ответа. Даже высунула чуть-чуть кончик языка.
Он снова пожал плечами.
— Не знаю.
— А что говорит отец?
Обычно все они в заключение спрашивали, каково мнение его отца. Мальчик пожал плечами и нахмурился.
— Отец ничего не говорит, — резко ответил он по-английски.
— А мой муж... — начала она и вздохнула. — Мой муж работы нет со вторника.
— Получили письмо? — почти не разжимая губы, строго спросил Бенедикт.
— От банка?
Он кивнул.
Она тоже кивнула — молча, без слов. Тень глубокого уныния, смешанного с суеверным фатализмом, омрачила ее лицо, взгляд устремился в одну точку, и она стояла поникшая, изможденная, погрузившись в собственные мысли. Потом встрепенулась и, ласково улыбаясь, стала гладить курчавую голову Бенедикта своей тяжелой, жесткой рукой, приговаривая:
— Славный, славный мальчик...
Словно понимая, что ей это приятно, Бенедикт молча терпел ее ласку и спокойно стоял на месте, пока она с протяжным печальным вздохом не опустила руку.
Укладка трубопровода шла устрашающе быстро. К шести часам вечера рабочие уже успели уложить трубу в несколько сот ярдов. Ров тянулся до косогора, затем сворачивал под железнодорожный мост и шел дальше, к реке. Цепь холмов замыкала всю восточную сторону долины, и только к северу холмы немного раздвигались, пропуская железнодорожный путь.
Первым скрылось солнце, за ним неохотно стали расходиться люди. Некоторые еще медлили, а потом ушли вдруг сразу все, словно боялись остаться в одиночестве. Только Бенедикт и несколько мальчишек продолжали стоять у Рва.
Еще немного, и он опоздает в церковь, но Бенедикт все не уходил. Он не мог оторваться от желтого подъемного крана, который уже перестал скрежетать и вздрагивать и, покинутый рабочими, выглядел теперь одиноким и заброшенным.
Наконец Бенедикт повернулся и не спеша пошел по улице. На мгновенье перед ним промелькнула, как в тумане, женская фигура в чепце и с палкой в руке, но он тотчас же забыл о ней. Он шел и безотчетно улыбался.
Отец Брамбо был в ризнице, где, казалось, уже чувствовал себя полноправным хозяином. С ним был какой-то новый мальчик — рыжий, с тусклыми веснушками, — и отец Брамбо тихо и настойчиво втолковывал ему основные правила церковной службы во время обедни. Мальчик слушал его с напряженным лицом и каждый раз, прежде чем ответить на вопрос священника, нервно облизывал губы.
Отец Брамбо молча кивнул Бенедикту и спросил нового служку:
— Ну, а потом что?
Мальчик запнулся.
— Потом... потом я перехожу на другую сторону, где лежат «Послания»...
— Но ведь ты уже перешел!
Мальчик тупо уставился на отца Брамбо.
— Ты перешел — понимаешь?
Бенедикт из-за спины отца Брамбо сочувственно улыбнулся мальчику.
— Я... я перехожу на другую сторону... — пролепетал мальчик.
— Ты уже третий раз это проделываешь, — сухо заметил отец Брамбо.
— Я п-перехожу... — продолжал заикаться мальчик.
— Об этом, — сказал отец Брамбо, — ты мне уже трижды объявлял!
Лицо мальчика пылало. Бенедикт опустился на колени, чтобы подсказать ему, что именно надо делать. Стараясь привлечь к себе внимание мальчика, он то стоял на коленях, то поднимался, а мальчик в отчаянии следил за ним широко открытыми глазами. Отец Брамбо вдруг обернулся.
Бенедикт встал с колен.
— Простите, отец мой, — произнес он, опустив голову.
— Я понимаю, — ответил священник. На его бледное, замкнутое лицо словно легла глубокая тень, глаза были усталые. Он прибавил: — Но пусть этот мальчик учится сам.
— Да, отец мой.
— Мне надо тебе кое-что сказать. Ты подождешь меня? — спросил отец Брамбо.
— Да, отец мой.
Священник снова обратился к рыжему мальчугану, на лбу у которого выступил бусинками пот.
— Ты понял, что нужно делать?
— Встать на колени...
— Да, преклонить колени, когда ты переходишь от евангелия туда, где лежат «Послания», и обратно. Всегда преклонять колени, если только...
Мальчик энергично закивал головой.
— Что «если только»?.. — резко спросил отец Брамбо. Мальчик удивленно вскинул глаза. — Тебе не следовало бы так поспешно поддакивать, — заметил молодой священник.
Бенедикт вышел из ризницы, прошел через сад и постучался в дом священника с черного хода.
Миссис Ромьер впустила его, оглядев с головы до ног сердитым, цепким взглядом, и с ходу оторвала от его рукава болтающуюся пуговицу. Волосы ее были гладко зачесаны и аккуратно уложены в узел на затылке; чистый розовый фартук заботливо прикрывал платье. «О, да она вовсе не так уж стара!» — с удивлением подумал Бенедикт. Какой-то рабочий и его жена сидели возле кухонного стола, ожидая приема у отца Дара. У женщины под глазом был синяк; муж угрюмо сидел рядом с ней, крепко сцепив на коленях крупные мозолистые руки, словно принуждая их к спокойствию. Супруги пришли к старому священнику за советом.
— Где отец... — начал Бенедикт.
— Который? — угрюмо перебила миссис Ромьер.
— Отец... Дар?
— Там, — она дернула плечом. — Погоди, не входи к нему, — прибавила она, — у него кто-то есть. Дай-ка сюда на минутку, — сказала она, сдергивая с него куртку.
Он прошел через кухню в маленькую темную переднюю. Со стены смотрел на него потемневший лик распятого Христа в терновом венце, и позолоченные терновые колючки поблескивали в полумраке.
Священник сидел в качалке у мутного окна, рядом стояла бутылка с лекарством и лежала ложка. У отца Дара был посетитель. Бенедикт узнал этого человека: то был рабочий Георг Паппис, грек. Он стоял на почтительном расстоянии от старика, заложив руки за спину.
— Ты что — ребенок, что ли? — сердито увещевал его отец Дар.
Паппис пожал в ответ крепкими плечами, и лицо его, казалось, потемнело от мрачных раздумий. В комнате остро пахло виски и сладкой лакрицей. Бенедикт заметил, что Паппис сильно возбужден, но, по-видимому, не пьян. Волнение придавало его омраченному лицу выражение решимости, готовности бороться; Бенедикт не мог заставить себя заговорить, и уйти он тоже не мог.
— Так или эдак, не все ли равно? — сурово сказал Паппис.
— Ты рассуждаешь как ребенок! — резко возразил отец Дар и надрывно закашлялся. В груди у него хрипело.
Паппис шагнул к нему и вскричал низким прерывистым голосом:
— Я скорее умру, чем допущу это! — Он сжал дрожащие кулаки, на руках его буграми вздулись мускулы — Вот этими руками разорву их на части!
— Нет, да ты просто сумасшедший! — с досадой произнес отец Дар. В горле у него вдруг захрипело, и с минуту он откашливался, потом сказал: — Вот чтобы жену поколотить, для этого твои руки вполне пригодны. Но то, о чем ты говоришь, это уже убийство! Кого ты хочешь убить? Шерифа? Ты думаешь, все дело в нем?
— Но что же мне тогда делать? — взревел Паппис, уставившись на священника налитыми кровью глазами. — Дрожать, как овца, и ждать, когда они меня слопают?
Паппис трижды с силой стукнул себя кулаком по лбу, голова у него откинулась назад. («Он словно кричит: Грешен, грешен!» — подумал Бенедикт. )
— Что же нам делать? — кричал Паппис. Плечи его поникли.
— Почему ты спрашиваешь об этом меня? — с горечью ответил отец Дар.
— Но ведь вы тоже один из нас, — упрекнул его Паппис.
Отец Дар поежился и погрузился в глубокое молчание. Потом он что-то тихо прошептал себе под нос. Бенедикт не смог различить слов. Глаза Папписа потускнели; от него веяло тяжелым, безысходным горем. Все трое словно оцепенели. Наконец отец Дар качнулся на своей качалке и, на миг появившись из тени, устало сказал:
— Думаешь, я имею хоть какое-нибудь влияние? Я, полупокойник, дряхлый старик? Чего ты ждешь от меня? Чтобы я пошел к ним и пригрозил им? Но чем? Они поднимут меня на смех. Времена грома небесного, ниспосылаемого господом богом, давно прошли... — Он умолк, глядя на оконные занавески. Паппис тоже молчал. Потом отец Дар встрепенулся и снова спросил: — Чего ты ждешь от меня?
— А бог знает... — ответил Паппис, отворачиваясь.
Голова отца Дара дернулась вперед, будто кто-то толкнул ее. Тяжкий вздох вырвался у него из груди.
— Сколько раз я тебя предупреждал? — сказал он, глядя на опущенную голову Папписа.
Паппис с размаху повернулся к нему и закричал:
— Слова! Кому они помогают, ваши слова? Желудку?
— Душе, — спокойно ответил отец Дар.
Паппис поглядел на него пристальным взглядом; казалось, его яростный гнев наполнил всю комнату, потом он глухо, насмешливо засмеялся. Весь дрожа, он упал на колени, сложил на груди руки и склонил тяжелую голову.
— Благословите меня, отец мой!
Отец Дар побледнел и долго смотрел на него скорбным взглядом. Наконец он поднял руку и медленно начертал в сумерках извечный крест.
— А теперь уходи... — прошептал он.
Еще долго после того, как Паппис, не произнеся больше ни слова, спотыкаясь, прошел мимо него, Бенедикт не мог пошевельнуться. В комнате по-прежнему остро пахло виски.
Наконец мальчик собрался с силами.
— Отец мой, — прошептал он. — Отец мой!
Качалка слегка дрогнула; надтреснутый, сиплый, словно заржавленный, голос произнес:
— Входи, я знаю, это ты.
— Да, это я, отец мой, — ответил Бенедикт, стараясь угадать, заметил его отец Дар раньше или нет. Он приблизился к качалке и спросил:
— Вы заболели?
— Нет, нет! — запротестовал старик. — Что ты, вовсе не заболел. Ты про это говоришь? — Он взял в руки бутылку. — А это чтобы глотку прочищать. Старость в ней завелась. — Он тихо рассмеялся и поднял на Бенедикта глаза с пожелтевшими белками. — Как ты себя чувствуешь?
— Я?
— О, — сказал лукаво священник, — после таких испытаний...
Бенедикт покраснел.
— Благодарю вас, отец мой, что вы вызволили меня, — сказал он.
— Не за что, Бенедикт. Но вообще я боюсь тюрем.
— Я тоже, — признался Бенедикт, содрогнувшись.
Старый священник замолчал: разговор как будто утомил его. Он глядел на колышущиеся занавески; когда они слегка раздвигались, виднелась Горная авеню.
— Поланк с женой сидят на кухне. Они ждут, когда вы их примете, — сказал Бенедикт.
Отец Дар махнул рукой.
— Успеется, — промолвил он и усмехнулся. — У меня две исповедальни: одна в церкви, другая здесь. Сюда ко мне приходят, так сказать, за мирским советом. — Он покачал головой. — Вот уже тринадцать лет, как я твержу этому Поланку, что он попадет прямехонько в ад и будет гореть в вечном огне. А он отвечает: «На что ж тогда человеку жена, если он не смеет бить ее?» Я говорю ему: «Бог не велит этого делать». А он смотрит на меня с упреком. Понимаешь... ну, как бы это сказать? — в общем, как будто он нуждается в советах не божеских, а человеческих. — Священник пристально глядел на Бенедикта и, не дождавшись от него ни слова, прибавил: — А за каким советом пришел сегодня ты?
Приступ кашля загасил иронический огонек, мелькнувший в его глазах, и, когда он, обессиленный, откинулся на спинку качалки, снова наступило молчание. Тяжелая атмосфера комнаты соответствовала стоящей в ней темной мебели и картинам в золоченых рамах, — все они были писаны темными, густыми красками, если не считать светлого нимба на одной, а на другой — золотого сияния. В углу, возле окна, стоял большой аквариум; в нем, среди густо сплетенных водорослей, плавала маленькая голубая рыбка. Бедная пленница, она таинственно мерцала, когда на нее падал луч света. На камине лежали не только религиозные реликвии, но и сувениры, вывезенные из Африки: копье, головной убор какого-то негритянского вождя и браслет из зубов льва — память о миссионерстве отца Дара в молодые годы.
— Отец мой, — сказал Бенедикт, — сегодня днем я ходил вниз, ко Рву.
Отец Дар закашлялся, и Бенедикт подождал, пока не прекратился этот мучительный, надрывный кашель.
— Я смотрел, как они работают, — прибавил он.
— Работают?
— Прокладывают сточные трубы.
Отец Дар кивнул, хотя явно не расслышал. Он прикрыл веки и спросил:
— Ну, ты с отцом Брамбо... Вы ладите друг с другом?
— Да, отец мой, — ответил мягко Бенедикт.
— Он прекрасный молодой человек. — Старик задумался на миг, а затем спросил с любопытством: — Тебе хотелось бы быть таким, как он, Бенедикт?
Мальчик вздрогнул всем телом.
— Это невозможно, отец мой! — возразил он краснея.
— Потому что, — начал отец Дар, — потому что, тебе кажется... — Неожиданно улыбнувшись, он замолчал, задумчиво посмотрел на Бенедикта и спросил: — Значит, ты не отказался от своего решения: принять духовный сан?
— Нет, отец мой, — смущенно ответил Бенедикт.
— А почему ты так решил?
У мальчика давно был готов ответ на этот вопрос, но, чувствуя на себе тяжелый, давящий взгляд отца Дара, Бенедикт не сразу нашелся.
— Я хочу служить церкви, отец мой, — неуверенно ответил он, переминаясь с ноги на ногу.
Отец Дар что-то пробормотал и покачал головой. Он пожевал губами, лицо его было бледным до синевы, потом закашлялся, скорчившись в кресле, поднес ко рту большой носовой платок и сплюнул.
— Вестник смерти, — заметил он, задумчиво разглядывая платок. Бенедикт отвел глаза в сторону.
— Да, — подтвердил отец Дар. — Я тоже послужил церкви — полвека ей отдал. — Он поднял голову и тихо спросил: — Ты хорошо меня видишь?
Бенедикт взглянул на него.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил он смущенно.
— Ну, что же ты видишь? — спросил священник.
— Я не совсем вас понимаю. — Бенедикт запнулся. — Вы, конечно, уже старый.
— Старый? — священник задохнулся. Он нетерпеливо махнул рукой. — Конечно, я старый! Но что ты видишь, Бенедикт? Смотри, смотри внимательней!
— Я ничего не вижу, отец мой! — взволнованно вскричал Бенедикт. — Я не понимаю, о чем вы... — Он прислонился к качалке. — Я... — Бенедикт хотел во что бы то ни стало сдержаться, но не смог. — Отец мой, зачем вы задаете мне такой вопрос? — страдальчески воскликнул он.
Старик долго смотрел Бенедикту в глаза, пальцы его больно сжали руку мальчика. Наконец отец Дар разжал пальцы.
— Дай мне ложку! — попросил он.
Бенедикт подал ему ложку и вытащил пробку из бутылки. Старик дрожащими руками налил маслянистое лекарство и начал задумчиво тянуть его с ложки, а затем, закрыв старческие глаза, стал жадно ее облизывать, смакуя лекарство с каким-то расслабленным восторгом.
— Мой отец... — начал Бенедикт. В голосе его прозвучала нотка раздражения.
Старый священник вытащил наконец ложку изо рта и потер ею по щеке.
— Мой отец... — снова начал Бенедикт.
— Слушаю тебя, Бенедикт, — сказал отец Дар. — Твой отец?.. Говори...
— Мой отец получил письмо от Банка, — сказал мальчик, покраснев от смущения. — Банк предлагает продать наш дом. Могут они заставить нас сделать это?
Отец Дар постучал липкой ложкой себе по уху.
— Ты тоже, — пробормотал он, обратив насмешливый взгляд на Бенедикта, — ты тоже пришел за мирским советом. — Лицо его стало серьезным. — Я тоже получил такое письмо, — сказал он сухо.
Бенедикт раскрыл рот от изумления.
— Вы?
— Да, я, — спокойно ответил отец Дар.
— Что же это значит?..
Отец Дар положил ложку на стол. На щеке его блестело маслянистое пятнышко.
— Они хотят скупить всю собственность, землю, понимаешь? Церковь они выстроят новую на том месте, которое мы им укажем, — сказал он. — Они вовсе не хотят ущемлять религию. Кесарю — кесарево, а богу — богово. Им нужна земля, Бенедикт. Их интересует материальное, а не духовное. Церковь им ни к чему. Конечно, они не упоминают о закладной, они ее уже выкупили.
Бенедикт замер от удивления.
— Закладная, — продолжал насмешливо старик, но гримаса отвращения исказила его лицо, — находилась в руках нескольких богатых католиков, проживающих в городе. Они страховали ею свою загробную жизнь. Но теперь, по-видимому, Банк прибрал всех их к рукам, ведь Банк и Заводская компания одно и то же.
Он поглядел на Бенедикта все с тем же выражением и прибавил:
— Компания хочет засыпать Литвацкую Яму. Засыпать доверху, от холма к холму, всю Яму. Компания намеревается построить на этом месте завод. Еще один завод. Что ты на это скажешь?
— Не знаю, отец мой...
— Да, засыпать всю долину, — повторил он. — От шлакового навала до Голодного холма. И церковь тоже. Погребенные...
Бенедикт медленно произнес:
— А люди?
Отец Дар снова закашлялся, пот выступил у него на лбу. Когда приступ кончился, он поглядел отсутствующим, сумрачным взглядом на Бенедикта, но мальчик тронул его за рукав и настойчиво спросил:
— А люди согласны продать?
Старик с раздражением покачал головой.
— Куда они денутся? — вскричал он. — Что они — коровы, чтобы жить в поле? Разве деньги могут заменить дом?
Бенедикт кивнул. У него дрожали губы; он прилагал большие усилия, чтобы побороть волнение и задать вопрос, который жег ему губы.
— Отец мой! — решился он наконец. Губы его побелели, во рту пересохло, последнее слово он прошептал еле слышно: — А церковь?..
Отец Дар сердито уставился на него.
— Что? — спросил он.
Бенедикт растерянно замигал.
— Церковь? — повторил он хрипло.
Священник все хмурился, но вдруг лицо его просветлело, и он воскликнул:
— Ну, а ты? Ты разрешил бы им?
— Я — нет. — Бенедикт даже отпрянул в ужасе.
Отец Дар вздрогнул и простер к нему руки.
— Да, отец мой, — сказал Бенедикт, облегченно вздохнув, — теперь я понимаю. — Он окинул благодарным взглядом комнату и ласково погладил качалку. — Но внизу, у Рва, — начал он, — они...
Старик уронил голову на грудь, потом снова поднял ее. Его затуманенные глаза искали Бенедикта.
— Что? — спросил он.
— Ничего, отец мой, — ответил Бенедикт, собираясь уходить. — Я скоро опять навещу вас.
— Уходишь? — старик заерзал в качалке. — Приходи ко мне, Бенедикт.
— Приду, отец мой, — ответил Бенедикт.
— Завтра?
Мальчик немного замялся, прежде чем ответить, удивившись тому, что старик требует определенного ответа.
— Хорошо, я приду завтра, — сказал он.
— Только смотри, приходи непременно, — сказал отец Дар.
— Приду, отец мой.
— Закрой-ка окно, пока не ушел, — попросил старик и проследил взглядом, как Бенедикт подошел к окну и закрыл его. Непокорные занавески повисли неподвижно.
Проходя через кухню, Бенедикт положил на стол маленький сверток, в котором лежал белоснежный, сильно накрахмаленный воротничок.
12
Они шли по Горной авеню. Его рука мягко покоилась на плече Бенедикта.
— Он простудился, — говорил отец Брамбо, — поэтому я попросил его не выходить из дому несколько дней. Теперь я нуждаюсь в твоей помощи больше, чем когда-либо, — прибавил он с легкой улыбкой. Он выглядел усталым.
— Я постараюсь сделать все, что могу, — с глубокой искренностью ответил Бенедикт.
Отец Брамбо остановился, взглянул на него и сказал серьезно:
— Ты многое можешь, Бенедикт!
И Бенедикт поднял глаза на его тонкое бледное лицо — под цвет его белому воротничку.
— Я чувствую себя таким одиноким с тех пор, как приехал сюда, — уныло продолжал священник. — Мне сказали, что посылают меня в общину, где преобладают немцы-католики, но, очевидно, они там потеряли всякую связь с этой общиной, — немцы давно отсюда уехали.
— Большинство из них переселилось в город, — объяснил Бенедикт.
— Я никогда прежде не встречался со всеми этими национальностями, — продолжал священник с несколько растерянным видом. — А теперь мне придется... — Он пожал плечами, затем повернулся к Бенедикту и внимательно оглядел его. — Вот, например, кто ты, Бенедикт?
Бенедикт сжался.
— Литовец, — сказал он смущенно. На лице священника ничего не отразилось. — Литовец, — повторил Бенедикт громче.
— Литовец?.. — как эхо отозвался священник, и в глазах его мелькнула растерянность. Они прошли несколько шагов в молчании. — Кого только здесь нет, — сказал отец Брамбо, — и болгары, и венгры, и словаки... Они приходят ко мне, и говорят на ломаном английском языке, и машут руками у меня под носом... Почему все они едят чеснок, Бенедикт? — спросил он с затаенной болью. Он снова пожал плечами, нахмурил брови и сказал совсем другим тоном: — Да, ты можешь очень, очень помочь мне, Бенедикт. Мне кажется, ты понимаешь, как тяжело для меня это назначение. Я не привык жить... вот так, — сказал он, недоумевающе разводя руками. — Я не понимаю здешних жителей. Эти голые дымящиеся холмы угнетают меня. Утром, когда я просыпаюсь и выглядываю из окна, я вижу только вот это, — он указал на навалы шлака. — И воздух такой скверный. А какая кругом нищета! О, я всегда думал, что смогу выдержать соприкосновение с ней. — Он усмехнулся. — Но раньше я никогда не встречался с нищетой, никогда не слышал ее запаха. Рабочие приходят в церковь в рабочей одежде, после них остаются пятна на скамьях и грязь на полу... Я никогда не знал, что люди могут так жить, Бенедикт. Всю свою жизнь я жил совершенно иначе.
В его словах прозвучала такая тоска и боль, что у Бенедикта заныло сердце. Он всей душой сочувствовал отцу Брамбо.
— Где же люди другого, высшего класса? — вскричал священник. — Почему они не приходят сюда? Неужели они все посещают церковь святой Марии? Никто ни разу не пригласил меня в гости на чашку чая, никто не позвал к себе домой. А какая здесь вонь! Это несправедливо, что меня сунули в такую дыру! Мне все это не под силу, но я не смею просить, чтобы меня перевели...
Он снял руку с плеча Бенедикта, и мальчику показалось, будто с него упала тяжесть тех слов, которые произнес священник.
— Может быть... — начал Бенедикт, всем своим видом выражая готовность помочь ему.
— О, не страдай так за меня, Бенедикт, — с грустью сказал священник. — Ты, во всяком случае, очень отличаешься от всех них. Ты гораздо более чувствителен, чем... все это... — Он описал рукой круг, включив в него и зловещую трубу мусорной печи, и далекий темный навес обогатительной фабрики. В эту орбиту вошла также и церковь, шпиль которой высился у них за спиной, и Бенедикт улыбнулся его ошибке. — Я и не подозревал о существовании подобных мест, — продолжал священник с простодушным ужасом. — И о том, что люди могут жить в таких условиях, лишенные самых элементарных удобств, самого необходимого, не имея никакого понятия о культуре. Здесь отсутствует то, что я всю жизнь принимал как нечто само собой разумеющееся, — говорил он с широко открытыми глазами. — Никто ничего не читает, в Яме нет ни одного рояля, нет музыки; если не считать песен пьяных, нет ничего — только красная пыль да удушливый дым, а рабочие напиваются по субботам, сквернословят и орут под окнами. — Он смотрел на Бенедикта, перечисляя все это, и в глазах его отражался ужас. — Ты слышал, в прошлую субботу я был вынужден прибегнуть к помощи полиции?
— Нет, — прошептал Бенедикт.
— Как я могу быть пастырем людей, против которых я должен вызывать полицию? — спросил отец Брамбо почти с отчаянием.
Бенедикт, внимательно слушавший молодого священника, содрогнулся. На лице отца Брамбо отразилась острая жалость к самому себе, и мальчик, в свою очередь, пожалел его всем сердцем. Неожиданно Бенедикт воскликнул:
— Когда-нибудь и я буду священником!
Отец Брамбо с удивлением посмотрел на него.
— И приедешь сюда? — спросил он наконец, поняв.
Бенедикт кивнул, упрямо сжав губы.
— К этим рабочим, к этим людям? — Отец Брамбо потрепал Бенедикта по затылку. — Ты вышел из их среды, Бенедикт. Поэтому ты прав. Ты должен быть здесь, ты здесь нужнее, чем я. — В глазах его глубоко спряталась горечь, он угрюмо отвернулся и продолжал: — Эти люди нуждаются в духовном руководстве особого порядка. Им нужны священники из их среды, если таковые найдутся. Священники с мускулами, — сказал он брезгливо. — Или такие, как ты. А вдруг в один прекрасный день они восстанут против правительства?.. — Он посмотрел на Бенедикта испуганными глазами. — О, не будь так уверен, что этого не случится! — вскричал он, словно Бенедикт возразил ему. — А события в Бостоне, например! Забастовка полисменов! Полисменов, Бенедикт! — повторил он, понижая голос. — Да благословит бог губернатора Кулиджа, хотя он и протестант, — добавил отец Брамбо.
Они продолжали идти вперед, пока не дошли до луга, где в наступающих сумерках темнела июньская травка.
— Здесь была всего одна забастовка, — заверил священника Бенедикт. — Давно, в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Здесь не очень-то позволяют рабочим бастовать, — сказал он, — фараоны перебьют всех.
— Кто? — удивленно переспросил отец Брамбо.
— Фараоны. Заводская охрана. Полиция Сталелитейной компании, — объяснил Бенедикт. — Они убьют рабочих, они их перестреляют.
— Ну что ты, — запротестовал отец Брамбо.
— Конечно, убьют, — твердил Бенедикт.
— Но зачем рабочим бастовать? — Отец Брамбо беспомощным взглядом окинул окружавший их пейзаж, словно тот стал еще более враждебным, чем прежде, таил в себе самые неожиданные опасности.
— Потому что мы все бедняки, — бездумно ответил Бенедикт.
Отец Брамбо остановился и укоризненно посмотрел на него.
— Ах, Бенедикт, — сказал он. — Мне странно слышать это от тебя! Бедность вовсе не означает, что люди должны отвернуться от бога и уверовать в коммунизм, — заключил он с улыбкой.
Бенедикта вдруг обдало жаром.
— Вот так говорили и те! — вскричал он. Он повернулся к отцу Брамбо и взволнованно произнес: — Я знаю одного человека, они ему говорили... Но, отец мой, они били его за то, что он не указал, кто состоит в союзе!
Отец Брамбо воззрился на него.
— Он хочет организовать профсоюз! — настаивал Бенедикт, как будто отец Брамбо возражал ему.
— Коммунист! — пролепетал наконец испуганно и недоверчиво отец Брамбо. — Ты знаком с коммунистом?
Бенедикт молчал в нерешительности. Он никогда не рассказывал отцу Брамбо о том, что с ним произошло. Щеки его заалели; он опустил голову, стиснул руки и прошептал дрожащим голосом:
— Нет, отец мой.
Священник бросил на него успокаивающий взгляд и ласково похлопал по плечу. Они молча шли по дороге. Мальчика переполняло горькое чувство; он сказал, не поднимая головы:
— Моего отца уволили с завода, а теперь Банк хочет купить наш дом.
Отец Брамбо заморгал ресницами, он был поглощен собственными мыслями.
— Что? — спросил он.
— Моего отца уволили с завода! — повторил Бенедикт громко, горько.
— О! — сочувственно воскликнул отец Брамбо. — Но, вероятно, скоро он опять получит работу.
— Конечно, когда завод возьмет его обратно, — многозначительно ответил Бенедикт и с тревогой добавил: — Поскорей бы это произошло! Ведь они требуют, чтобы в июле мой отец выплатил за дом. Того же они требуют и от отца Дара.
Молодой священник круто остановился.
— От отца Дара? — повторил он.
— Да, выплатить за церковь или продать, — ответил Бенедикт.
— Я не понимаю, — сказал молодой священник, нахмурившись.
— Все дело в закладной — они хотят купить церковь вместе с землей, — объяснял Бенедикт с насмешливой улыбкой. — Они хотят снести ее и забить шлаком всю Яму доверху! — Он доверчиво глядел на отца Брамбо, не скрывая своей иронии.
— Откуда ты это знаешь?
— Все уже получили письма, — ответил Бенедикт. — Отец Дар сам сказал мне насчет церкви.
— Сказал тебе?
— Когда я заходил к нему сегодня.
— Ах, так, — промолвил отец Брамбо.
— Но он не продаст церковь, — торжествующе заявил Бенедикт. — Нет, вообразите только — продать церковь! Святую церковь! Да пусть бы меня убили, я бы не продал! — прибавил он с гордостью.
— Конечно, конечно, — подтвердил отец Брамбо, но Бенедикт не был уверен, что тот расслышал его горькие слова. Они все шли и шли в наступающих сумерках, пока не достигли того места, где начиналась свалка. Отец Брамбо резко остановился и поднял голову. Его тонкие ноздри затрепетали, он повернул Бенедикта за плечи.
— Пора возвращаться, — сказал он.
Обратно они шли быстрее и в полном молчании. У калитки отец Брамбо дотронулся до плеча Бенедикта и сказал:
— У нас впереди еще много прогулок. Когда я бываю с тобой, моя работа кажется мне менее... трудной, чем казалась вначале.
— Вот погодите, вам еще здесь понравится! — с жаром заявил Бенедикт. — Отец Дар сказал, что больше не будет пить, и тогда...
— Отец Дар, — резко оборвал его молодой священник, — не пьет!
13
Все бросились бежать вниз по склону холма, словно услышали звуки набата. Мужчины, женщины и дети, собаки и даже коровы стремительно спускались по Тенистой улице вдоль канавы к Большому Рву. Бенедикт бежал вместе со всеми. «Там идет бой!» Он увидел мистера Драгробуса — тот бежал в шерстяной фуфайке, спущенные подтяжки хлестали его по бокам — и его длинноногую дочку Лену, и миссис Тубелис, которая, задыхаясь, прижимала руки к груди, и множество негров: мужчин, женщин, детей. Они вливались в поток и неслись вперед, обгоняя всех.
Рва больше не было. Вместо него до самых холмов извивалась длинная насыпь с пологими краями, напоминавшая свежезасыпанную могилу. Вот уже несколько дней, как рабочие со своим желтым краном и новыми грузовиками отошли дальше к железнодорожному мосту. Рва больше не было. Ров исчез! А вдоль дороги, белой от известковой пыли и бурой от шлака, перед каждой лачугой высились груды мебели и скарба, и меж ними, как синие муравьи, копошились шериф со своими подручными и заводская охрана Сталелитейной компании, — ведь все эти лачуги принадлежали Компании. Они вытаскивали из домиков столы и стулья и складывали их на дороге.
В конце улочки группа полицейских таранила запертую дверь длинной балкой. Деревянная дверь раскололась, послышались крики, — полисмены выволокли из дома сопротивляющуюся женщину и мужчину с окровавленной головой, а затем стали вышвыривать на залитую солнцем дорогу разную рухлядь.
Какой-то негр растолкал собравшуюся толпу и схватил шерифа за рукав. Дубинка взлетела и опустилась, как хорошо смазанный рычаг. Раздался треск, толпа испуганно шарахнулась в сторону, а негр упал ничком на дорогу, перевернулся и распластался на спине. В лачуге послышался пронзительный вопль, из нее выскочила женщина, но, сделав несколько шагов, запуталась в собственной юбке и упала, широко, как крылья, раскинув руки. Полицейский помог ей подняться. Ослепнув от ужаса, она поблагодарила его и, словно позабыв о том, что случилось, повернула обратно к дому, машинально отряхиваясь.
Владелец самой последней лачуги забаррикадировался; из разбитого окна высовывалось дуло охотничьего ружья. Полицейские натянули стальной трос и оттеснили зрителей; те безмолвно наблюдали за происходящим. Они увидели, как полицейский метнул тяжелую бомбу в окно забаррикадированного дома. Послышался звон разбитого стекла, из лачуги повалил дым.
— Слезоточивый газ, — сказал кто-то тоном знатока.
Дверь лачуги распахнулась; споткнувшись, шагнул через порог высокий негр. Он прижимал пальцы к глазам. Полицейский дал ему подножку, и негр упал лицом прямо в пыль.
Бенедикт внезапно сел на дорогу. Он свесил голову меж коленями, его стошнило. Все завертелось у него перед глазами — земля, небо, слепящее солнце.
Кто-то кричал:
— Ты и ко мне подбираешься, Андерсон? Хочешь и меня с моей хозяйкой выкинуть на улицу? А ну-ка попробуй!
Андерсон, шериф, помахал рукой толпе и засмеялся. Кто-то в толпе засмеялся в ответ.
— Разобью башку и тебе и твоим молодцам, только подойдите! Обойдусь и без охотничьего ружья!
Шериф Андерсон сделал вид, что испугался: он, дрожа, воздел руки к небу. Нет, нет, он, конечно, не посмеет подойти! Толпа, наблюдавшая за ним, глухо роптала.
— Подсчитай-ка, сколько стоит твоя разбитая мебель, Джек! — завопил кто-то. — Заставь их вывернуть свои карманы, пока они еще здесь!
— Куда ты все это свезешь, шериф? К себе домой?
Шериф покачал головой с комическим ужасом.
— Бьюсь об заклад, теперь-то они уже не станут голосовать за тебя, шериф!
Шериф Андерсон принял трагическую позу и пожал плечами: ничего, мол, не поделаешь! Закон есть закон. Кстати, всем было хорошо известно, что урны, в которые опускали свои бюллетени жители Ямы, неизменно «терялись».
— Скажи Заводской компании, пусть они убираются к черту! — прокричал кто-то.
— Сначала выкинут негров, а потом возьмутся и за литваков! — раздался еще чей-то голос.
Пущенный кем-то камень шлепнулся у самых ног шерифа. Облачко белой пыли еще поднималось вверх, а шериф уже выхватил револьвер и пальнул в воздух. Люди бросились врассыпную, потом снова сбились толпой немного поодаль. Теперь шериф уже не смеялся.
Бенедикт медленно поднялся: сначала встал на четвереньки, потом, качаясь, выпрямился. Только тогда он заметил, что толпа отступила. Полицейские в синих мундирах входили в одну лачугу за другой, выносили оттуда скарб и складывали на дороге. Появились два грузовика. Семьи укладывали на них вещи и отъезжали. Мальчик пересек дорогу, обогнул домишки и, прячась, побрел в конец улицы. В воздухе сильно чувствовался приторный, отвратительный запах горелого шлака. Бенедикт остановился у одной из лачуг, его трясло как в ознобе. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы сдвинуться с места. Он толкнул дверь и позвал:
— Матушка Бернс! Матушка Бернс, это я, Бенедикт!
Никто не ответил, и, растворив дверь пошире, он закричал:
— Это я, матушка Бернс, больше никого нет, разве вы не слышите? Я пришел сказать, что...
Он вошел внутрь. Навстречу ему пахнуло сладким ароматом ванили и дрожжей, смешанным с острым, никогда не выветривающимся запахом смолы. От вязанных крючком салфеточек и таких же покрышек на спинках кресел, от картинок в резных деревянных рамках веяло покоем и стариной, словно эта комната, в которой витало дыхание матушки Бернс, существовала давным-давно, задолго до того, как выстроили эту лачугу.
Дом был пуст, даже кошка исчезла. Бенедикт прошел в кухню и выглянул во двор посмотреть, не заперся ли кто в уборной.
— Матушка Бернс! — крикнул он, все еще надеясь, что она где-то здесь. В убогой кухоньке со старой утварью, где тихо тлели угли в плите, никого не было. Его охватил страх. Он подбежал к двери, но она вдруг распахнулась, на пороге появился охранник из заводской полиции и крикнул:
— Эй, погляди-ка, кого я нашел!
Бенедикт попятился.
Охранник вошел в комнату. Пол задрожал от его тяжелых шагов.
— Кто здесь живет, парнишка? — спросил он. — Не может быть, чтобы они перепутали и послали нас к белым,
— Матушка Бернс. Она куда-то вышла.
— Твоя мамаша, что ли? — охранник визгливо хихикнул. — Ты что — белый негр?
— Нет, — выдохнул Венедикт.
— А что ты здесь делаешь? Как тебя зовут?
— Бенедикт Блуманис. Я причетник церкви святого Иосифа.
— Вот как? — сказал охранник, опершись рукой о стол. — Все это очень хорошо, только поскорей выметайся отсюда: нам надо приниматься за дело.
Бенедикт с ужасом уставился на него.
— Нет, нет, ради бога! — закричал он.
— Иди, иди отсюда, парнишка, — нетерпеливо прервал его охранник. Он жевал табак. — Незачем тебе болтаться среди негров. Ты ничего лучшего не нашел, что ли? — Он насмешливо покосился на Бенедикта и сплюнул за дверь табачную жижу. — Где ты прятался, когда мы вправляли им мозги?
Бенедикт собрался с силами, — необходимо было вразумить охранника.
— Матушки Бернс нет дома, — ответил он. — Я думаю, она пошла набрать салата к ужину. Подождите, пока она вернется, не выбрасывайте ее обстановку на дорогу. Она ужасно разволнуется, когда придет и увидит, что ее вещи выкинули. Она старая женщина.
— Она все равно разволнуется, парень, — сказал шериф, входя в комнату. — Не мы пишем законы, мы только их исполняем. Впрочем, — прибавил он жестоко, — так даже лучше: не будет ни руготни, ни воплей!..
— Но разве вы не можете подождать...
— Нет, не можем, у нас есть график.
— Но неужели...
— А ну прочь с дороги, парень!
Бенедикт чувствовал, что должен поднять свой престиж в их глазах.
— Спросите отца Дара из церкви святого Иосифа, кто я такой!
— Послушай, парень, если ты немедленно не уйдешь, я вынесу тебя вместе со всей этой рухлядью...
— Каждое воскресенье я прислуживаю во время обедни. Меня все хорошо знают. Спросите обо мне! Отец Дар знает и матушка Бернс. Она готовится стать католичкой. Она старушка. Я обучаю ее катехизису. Ей ведь некуда идти, она такая старенькая!
Шериф положил руку на плечо Бенедикта.
— Тебе следовало бы родиться женщиной, парень, такой ты болтливый! — сказал он. — А теперь иди-ка отсюда подобру-поздорову. Все это ничего общего с религией не имеет. Каждый получил письмо с предупреждением освободить помещение в такой-то час, такого-то числа, то есть именно сегодня. Закон есть закон, — чем раньше ты это поймешь, тем лучше для тебя. Вся здешняя земля принадлежит Компании, и она может делать на ней все, что ей заблагорассудится. И если ты немедленно не уберешься отсюда ко всем чертям, я арестую тебя за нарушение запретной зоны. Ты по-английски понимаешь? Ну, сматывайся, да поживей!
И он так сильно толкнул Бенедикта, что тот пулей отлетел к двери и ударился о косяк.
— Спросите отца Дара! Он меня знает! Я прислуживаю в церкви!
— А мне плевать, будь ты хоть сам папа римский! — Шериф сгреб Бенедикта за шиворот и выбросил его за дверь. Бенедикт упал плашмя в шлаковую золу. Медленно поднявшись, он стал счищать с себя грязь и вдруг услышал звон колокола в церкви святого Иосифа. Звуки доносились слабо, как будто из другого мира. Он стоял, нахмурив брови, прислушиваясь. И вдруг, неизвестно почему, без всякой на то причины, ему на ум пришли стихи, которые он сочинил, когда учился в седьмом классе церковноприходской школы, и которые затем напечатали в католической листовке:
Атеисты законов божьих не чтут, За это в ад они попадут. Но у католиков вера крепка — В рай попадут наверняка.Бенедикт дрожал всем телом. Во рту было горько, язык щипало. Он вспомнил про дурноту, охватившую его у дороги среди толпы, и к нему вернулось прежнее ощущение: казалось, почва ускользает из-под его ног. Он ухватился за рукав шерифа и забормотал скороговоркой:
— Вы должны мне верить: ведь я никогда не лгу; не будьте таким жестоким! — Удар наотмашь сбил его с ног, он кубарем отлетел в сторону и упал ничком на дорогу. Он долго лежал недвижимо, — рот его набился кислой золой, руки раскинулись, колени подвернулись, — а потом вскочил на ноги весь в грязи и как безумный помчался по улице, натыкаясь на столбы, деревья, стены. В ушах отдавался его собственный плачущий голос. Голова его отяжелела и свесилась, глаза болели от набившейся в них золы...
И вдруг он увидел ее. Она толкала перед собой большую ручную тележку, и ее темное, гневное лицо было напряжено от усилий. Тяжело дыша, она прошла мимо него, а он даже не мог ее окликнуть. Спрятавшись в дверях чьей-то лачуги, он смотрел, как она медленно шла по дороге к своему дому, как колыхались на ходу складки ее старой юбки. У Бенедикта начали дрожать руки и заныло во рту оттого, что зубы выбивали дробь. Он опустился на порог и закрыл лицо руками.
Колокол святого Иосифа прозвучал в последний раз, и над долиной нависло свинцовое молчание.
Немного погодя он побрел вверх по улице и спрятался в укромное местечко, откуда мог наблюдать за тем, что делается внизу. Ручные тележки, фургоны и грузовики подобрали и увезли последние пожитки. Часть имущества свезли в лес, где изгнанные из своих домов жители разбили палатки. Спускалась ночь. Вдалеке из-за гребня холма показались вагонетки с раскаленным шлаком. Они как-то неуверенно двигались вперед и остановились, покачиваясь. Внезапно одна из пылающих глыб заколебалась и стала медленно наклоняться. На мгновение она предстала взору, как гигантский раскаленный глаз, затем лениво вывалилась из вагонетки и медленно покатилась вниз. Огнедышащая глыба уже проделала половину пути, когда вдруг от нее откололся громадный багровый кусок и отлетел в сторону. Вертясь, как огненное колесо, он набирал все большую скорость и выбрасывал гигантские снопы искр, освещая темноту. Затем он скакнул к небу и, перепрыгнув через свежую насыпь Рва, с грохотом обрушился на темную лачугу. В небо взметнулся сноп огня, он объял всю лачужку, которая на мгновение обозначилась с необыкновенной четкостью, еще совершенно нетронутая среди бушующего огненного потока. Затем пламя поглотило ее. Из этого жертвенного костра вырвался дым и стремительно помчался вверх, к небу, завиваясь длинной искрящейся спиралью.
Не успела лачуга догореть, как накренился борт второй вагонетки и выкатился новый огненный шар. Он сразу рассыпался, но его длинные щупальца протянулись за Ров и коснулись хижин. Вслед за ним еще один шар помчался с холма и, наскочив на хижины, взорвался, как бомба, извергая пламя и лаву. Домики запылали, повалили густые клубы дыма. А раскаленные шары один за другим неслись под откос на лачуги. Бушующий огонь мгновенно поглотил опустевшие жилища и засыпал их горящим шлаком.
Долина пылала. Со склонов холмов, расположившихся амфитеатром, люди безмолвно наблюдали за происходящим. Ночная темнота робко боролась с заревом. Убогие лачуги будто плавились в огне одна за другой, пока наконец пламя не охватило разом всю улицу вдоль Рва. Поезд с пустыми вагонетками покинул холм; ему на смену появился другой, нагруженный до краев. И вновь раскаленные шары, подпрыгивая, помчались вниз. Как по волшебству, от лачуг не осталось и следа, даже пепла не осталось, — он весь как бы растворился в огне. И там, где еще так недавно вдоль Большого Рва стояли, выстроившись в ряд, бедные домишки, теперь виднелась лишь дымящаяся лава, огненные шары пролетали над ней уже без всяких помех.
Затем, столь же внезапно, как они приехали, все вагонетки исчезли, и над долиной воцарилась ночь. А люди все еще недвижно стояли на холмах. Потом, точно очнувшись от тяжелого сна, они медленно потащились вниз, натыкаясь в темноте друг на друга. Захлопали двери, и по улицам Литвацкой Ямы пронесся последний, такой привычный крик матерей: они сзывали детей домой:
— Альберт! Бе-ла! Джо-о!
14
Всю неделю Бенедикт не мог отделаться от тяжелой грусти, которая камнем лежала у него на сердце. Воспоминание о происшедшем у Рва вызывало ощущение не физического, а нравственного страдания — гораздо более глубокого. Прежде в глубине души он всегда надеялся на небесное заступничество и верил, что господь бог внемлет его молитвам. Но теперь «времена грома небесного прошли» — как сказал отец Дар...
А еще сильнее, чем эта душевная боль, еще сильнее, чем скорбь мученика, его терзало чувство... унижения. К этому он не был подготовлен.
Обездоленные люди разбили палатки или сколотили деревянные хибарки в глубине леса. Бенедикт был уверен, что там находится и матушка Бернс. Он помогал своей матери присматривать за близнецами миссис Кэролл, которые прожили у них два дня, прежде чем их мать смогла найти для них пристанище.
Когда в тот вечер он пришел домой, отец его сидел на кухне, держа на каждом колене по близнецу, по маленькой двухлетней девочке, и объяснял матери, что до приезда в Америку он провел год в Африке в поисках работы и там-то в первый раз увидел человека с черной кожей. Он тогда не мог оторвать глаз от негров, словно завороженный цветом их кожи, но работы в ту пору там уже поубавилось, а платили сущие гроши, вот он и направился в Америку. Он очень авторитетно утверждал, что кожа чернеет от знойного солнца, а девочки в это время ели из деревянной чашки жидкую овсяную кашу, обливая его жилет и штаны.
— Солнце там такое горячее, — объяснял отец.
Мать близнецов, вдова, — муж ее погиб на заводе, — ухаживала за маленькими белыми детьми в городе. У нее была довольно светлая кожа и очень благообразная внешность, поэтому богатые горожане нанимали ее в няньки к своим детям. Бенедикт считал, что все дети богачей, за редким исключением, больные и поэтому нуждаются в няньках и постоянном уходе.
Для своих близнецов эта женщина нанимала старуху, а сама нянчила чужих детей. Но теперь эту старуху тоже выселили, и на время, пока их мать искала жилье в городе, близнецы попали к матери Б енедикта.
Бенедикт нисколько этому не удивился: его мать любила детей и, если бы могла, развела бы их у себя в доме, как цветы. Он поднялся наверх, в спальню, где застал Джоя, сидящего на корточках в углу. Джой глядел на змею: на маленькую, безобидную зеленую змейку, какие водились у них во дворе. Джой ждал, когда она высунет язычок, чтобы узнать, действительно он у нее раздваивается или нет.
— Иди вниз, Джой, — сказал Бенедикт.
— Мне пора ложиться спать, — возразил Джон, не поднимая глаз.
— Иди вниз, — приказал ему Бенедикт.
Джой, ворча, поднялся с пола, запрятал змейку в большую коробку из-под спичек, укоризненно покосился на Бенедикта и стал спускаться по лестнице.
— Джой! — окликнул его Бенедикт.
— Что-о? — с опаской спросил Джой.
— Вы с Бони здорово шумели в церкви в воскресенье. Священник жаловался мне!
— Ничего подобного! — яростно отрезал Джой.
Бенедикт вперил в него осуждающий взгляд. Веки Джоя затрепетали, он перевел глаза на кровоточащую бородавку на суставе пальца и осторожно ее потрогал.
— Думаешь, бог не знает, что ты делаешь? — спросил Бенедикт.
Джой вздрогнул и хотел было снова начать отпираться, но так и замер с открытым ртом, не произнеся ни звука.
— Я помолюсь за тебя, — предупредил его Бенедикт и отвернулся. Джой еще довольно долго стоял на пороге комнаты, потом перевел дух и тихо прикрыл за собой дверь.
Бенедикт преклонил колени перед домашним алтарем, но молитвы почему-то не шли ему на ум. В комнате стоял несвежий запах. Уныние овладело мальчиком. На лице саднили царапины, во рту все еще держался привкус золы. В смирении своем Бенедикт всю свою сознательную жизнь стремился к высшему благу, — он хотел, чтобы разрушился барьер между мечтами и действительностью. Христос на веки вечные благословил всех тех, кто стремится достичь этой высшей благодати, этой сокровеннейшей мечты. Он благословил всех бедных, скорбящих, кротких, справедливых и добрых, чистых сердцем, миротворцев и гонимых, — а Бенедикт был одним из них. Сколько раз в своих мечтаниях Бенедикт с готовностью подставлял плечи под удары судьбы во имя спасения человечества, и ему казалось, что Христос глядит на его раны ласковым взглядом...
Никогда раньше Зло так не смущало его. Раньше это было самое обычное зло, хотя часто скрывалось под соблазнительной личиной. Но Зло, которое делалось с разрешения Государства, ошеломило его. Он представил себе свое страстное, вдохновленное верой лицо, поднятое к шерифу Андерсону, — ведь при взгляде на не го, Бенедикта, каждому должно было стать очевидным, что он не способен ни на что дурное, что ему чужды греховные помыслы и поступки! Он так ясно увидел самого себя, что содрогнулся и снова почувствовал кислую золу во рту, скорчился от боли в животе. «Убирайся отсюда!» — звенел в его ушах окрик шерифа.
Бенедикт даже не мог почерпнуть сладостного утешения в мысли, что пострадал во имя справедливости. Полицейские быстро отделались от него. Точно так же, как и мистер Брилл, с тем же выражением скуки и презрения на лице.
На минуту вид маленького алтаря, украшенного сегодня жалкими букетиками фиалок, со сломанными головками и увядшими лепестками, вернул его к действительности. Он огляделся вокруг. Мысли его вернулись к дому, к этой комнате с резким запахом керосина, — сегодня морили клопов. Он слышал, как разговаривал внизу его отец; снаружи доносился тяжелый гул завода, как удары переутомленного сердца. А где-то там, во тьме, десятки семейств лежали в палатках, ожидая рассвета. Он не пошел за матушкой Бернс, потому что понял, что ничем не может ей помочь, абсолютно ничем. Она попросила бы его помолиться за нее, подумал он, а по некоторым причинам сегодня он не хотел, чтобы его об этом просили.
Никогда раньше Бенедикт не чувствовал себя таким беспомощным, таким неуверенным, — никогда, даже в тюрьме, хотя и она была частью того же чуждого мира. И еще он не мог понять: почему они не признали его, не почувствовали, какая у него душа, — ведь он же похож на святого, высеченного из камня в церковной нише; он так же близко связан с богом и окружен божественным сиянием. Они ведь верят в бога и в церковь! Почему же они тогда не заметили печати глубокого благочестия на его челе? Почему не затрепетали от прикосновения его пальцев, которые он сотни раз погружал в сосуды со святой водой? А его чистые помыслы? Его молитвы? Неужели они ничего не почувствовали? Неужели они вечно будут видеть в нем только бедного мальчишку-инородца из Литвацкой Ямы, в старой куртке и дырявых башмаках, у которого на лице написано, что отец его работал на заводе, а теперь уволен и что мать его не умеет ни говорить, ни писать по-английски.
Но гордость его восстала, и он отогнал от себя эти мысли.
«Разве господу богу нужны такие, как они? — презрительно сказал он себе. — Они попадут в ад, эти подлые... — Он ужаснулся собственным мыслям, зажмурился, зарылся лицом в ладони и стал исступленно молиться: — О господи, укажи мне путь! Помоги мне! Дай мне силы. Помоги мне, о господи!» Ему казалось, будто черная пелена окутывает его сознание. Он простер руки ввысь, в темноту, взывая к тому, кого, может быть, вовсе и не было...
Знакомые шаги на лестнице вернули Бенедикта к действительности. Он быстро перекрестился, встал с колен и хотел было сделать вид, что ложится спать, но тут же, устыдившись собственного малодушия, снова опустился на колени, закрыл глаза и склонил голову над молитвенно сложенными руками. Однако молиться он не мог. Он ждал, когда дверь комнаты распахнется и хриплый, жесткий голос его брата произнесет: «Выговоришь ли ты когда-нибудь все свои молитвы, Бенни?»
Подавляя дрожь, он перекрестился и встал с колен. Винс, его семнадцатилетний брат, который обычно спал дни напролет, уселся на кровать напротив него — длинноногий, в выцветших штанах и свитере, лицо худое, скуластое, на загорелой шее родимое пятно, как большая ягода, из-под светлых выцветших прядей волос смотрят желтоватые глаза. Он вытащил сигарету.
— Нет! Я не буду курить! — сердито сказал Бенедикт.
Винс рассмеялся. Он выпустил изо рта колечко дыма, с наслаждением потянулся всем телом, погладил себя по бокам, зевнул и насмешливо вздохнул. Бенедикт вспыхнул. Винс посмотрел на него своими желтыми; крокодильими глазами и протянул сигарету. Бенедикт с негодованием отвернулся. Винс опять засмеялся.
— Какой ты теленок, Бенни, — сказал он снисходительным тоном. — Не мешало бы спуститься маленько с облаков! Господи боже мой, я никогда не видел, чтобы парень был так помешан на религии, как ты.
Он вытащил из заднего кармана игральные кости, подул на них и погладил, любовно посматривая на них.
— Видишь, — сказал он таинственно. Он погремел кубиками у своего уха и, вкрадчиво проговорив: «Иди к папе, деточка!» — бросил их на стол. Выпала семерка. — Сыграем? — спросил он с невинным видом.
Бенедикт ничего не ответил.
Винс снова погремел костяшками, громко чмокнул их и кинул. Снова вышла семерка. Красные блестящие кубики казались Бенедикту воплощением греха, но он чуть не засмеялся, глядя на фокусы, которые проделывал с ними его брат.
— Заметь, выпадать всегда будет семерка, — многозначительно произнес Винс, — даже если кости будешь бросать ты. Хочешь попробовать? Нет? Это обученные костяшки. Они посещали школу. Гляди. — Он снова метнул их, на этот раз небрежным взмахом руки, как бы давая им полную свободу лечь как они захотят, и снова вышла семерка.
— Меня чуть не убили вчера, — сказал он, рассматривая игральные кости и прикладывая одну к другой. — Какой-то молокосос усомнился в моих костяшках и захотел их проверить.
— Ты пойдешь на исповедь в субботу? — угрюмо спросил Бенедикт.
— Обязательно, — не задумываясь, ответил Винс.
— Ты обещал маме. Хоть ее не обманывай.
— Ладно, ладно! — Винс питал к матери суеверную любовь. Я ведь не сказал тебе, что не пойду. Нечего язвить и все время колоть меня. Ведь ты еще не загнал меня в ад!
— Ты туда обязательно попадешь! — вскричал Бенедикт.
— Эх! — ответил, поеживаясь, его брат. — Умру, так стану покойником, вот и все.
— Откуда ты знаешь? — настойчиво спросил Бенедикт.
Винс поднял на него блестящие узкие глаза.
— А ты небось был бы доволен, если бы узнал, что меня уже поджаривают в аду, да, Бенни?
— Нет, — ответил Бенедикт.
— Так почему же ты все время твердишь мне...
— Потому что ты родился католиком, — страстно вскричал Бенедикт. — Ты был на конфирмации, ты исповедовался, ты посещал католическую школу! Вот почему! Потому что ты становишься бродягой и в конце концов угодишь в тюрьму или еще куда-нибудь похуже!
— В тюрьму? — с хитрой усмешкой спросил Винс. — Я слышал, ты был в тюрьме, Бенни? Но, конечно, это вранье!
Бенедикт багрово покраснел и сжал губы.
— Вот те крест! — побожился Винс. Бенедикт вздрогнул. — Когда я услышал это, я чуть было не помер тут же на месте! Исполнилось бы твое желание — я чуть не отправился прямиком в ад! Бенни в тюрьме?! Наш Бенни? Невероятно! Клянусь богом, это так меня испугало, что я чуть было сам не ударился в религию. Я сказал Поджи: если в тюрьму сажают таких людей, как Бенни, а таких ни к чему не пригодных ублюдков, как ты и я, оставляют шататься на свободе, — значит, началось светопреставление! Поджи даже позеленел от страха, когда вдумался в это. — Винс перестал улыбаться и уже серьезным тоном спросил: — Почему они тебя засунули туда, Бенни?
Покраснев еще гуще, Бенедикт стал нехотя объяснять:
— Кто-то подумал, что я стянул тележку. Они выпустили меня, когда узнали, что это сделал не я.
— Черт побери! — сказал Винс, искренне возмущенный. — Разве они не знают, кто ты? Ты стащил тележку! Да ты к чужой пылинке не притронешься! Если эти олухи посадили тебя, — значит, они не могут отличить дыру в земле от дырки... сам знаешь где! Твое место в церкви, а мое — в тюрьме. Кутузка — вот мой дом родной. Там место для таких, как я, а вовсе не для таких, как ты!
— Брось дурачиться, Винс, — сказал Бенни с натянутой улыбкой.
— Я серьезно говорю!
Бенедикт посмотрел на Винса, к оторый, насупившись, курил сигарету. Он устал спорить с братом. «Не все ли мне равно!» — подумал он, но тут же произнес вслух:
— Ты глупец, Винс, настоящий глупец! Думаешь, что нашел на все ответ, потому что не боишься курить, играть в азартные игры, бездельничать! Но бог есть, и есть наказание за грехи. И загробная жизнь. Ведь если бы этого не было, тогда всем миром управляли бы разные воры, грабители, убийцы, злодеи... Ведь тогда им некого было бы бояться!
Винс насмешливо поглядел на него.
— А почему ты думаешь, что это не они хозяйничают повсюду на белом свете?
— Нет, не они, — убежденно заявил Бенедикт. Он вспомнил шерифа Андерсона и закричал с яростью: — Не они!
Винс потер щеку.
— Ах, не знаю, — сказал он с внезапной искренностью. — Я ничего не знаю! Ни о чем не имею понятия! Впрочем, так же, как и ты, — он повернулся к Бенедикту, потом ласково погладил игральные кости, подбросил их и сказал: — Вот на что я полагаюсь. Тут уж я знаю: они всегда будут ложиться семеркой, в-с-е-г-д -a! И пока на земле не перевелись молокососы, которым невдомек, что бывают игральные кости, налитые свинцом, я буду охотиться на таких олухов, а они — на меня. И пойдет игра! Потеха! Я, что ж — я всегда буду твердо знать, что моя семерочка меня не подведет, а они, эти молокососы, ничего знать не будут. Разве только, что их денежки, с таким трудом заработанные, уплывают у них из карманов. А я приберу их денежки к рукам и куплю себе все, что только можно купить за деньги.
— А потом кто-нибудь из них поймет, что ты мошенничаешь, и укокошит тебя.
Винс с философским спокойствием пожал плечами.
— Ну и что же? — сказал он. — Надеюсь только, что это произойдет неожиданно и быстро.
— Но ты же помрешь!
И Винс опять пожал плечами.
— Ты сможешь помолиться за упокой моей души, — ответил он.
Однако он уставился в одну точку и с минуту сидел неподвижно, погруженный в горькие размышления, но потом рассмеялся, передернул плечами, повернулся к Бенедикту, и дразнящий хитрый огонек снова вспыхнул у него в глазах.
— Ты бы посмотрел, какая девка мне повстречалась сегодня, — начал он с восторгом, закатив глаза, но одновременно наблюдая за Бенедиктом. Винс обрисовал в воздухе ее формы: — Вот такая! Ну и молочное хозяйство, скажу тебе! — Он сделал вид, что хочет убедить Бенедикта, словно тот ему не верил. — Клянусь богом, Бенни, — воскликнул он, воздевая глаза к потолку, — я целую милю протащился за ней, только для того, чтобы посмотреть, как она трясет своими прелестями!
— Замолчи, Винс, — попросил Бенедикт хриплым голосом.
Но Винс не унимался.
— Исусе! — кричал он, — мальчик мой, я еле поспевал за нею, я был очень заинтересован, понимаешь, заинтересован! Потом она обернулась и сделала мне знак. Я бы, конечно, отправился за ней и в ад, но меня с моими верными костяшками ожидало одно важное дельце на берегу речки.
Он вытащил из кармана небольшую пачку денег и начал хвастливо считать их.
— Да, — сказал он, — молокососы рождаются каждую секунду. — Он зевнул. — У меня руки устали деньги загребать. — Он взял доллар, неодобрительно посмотрел на него и швырнул на пол. — Как он попал сюда? — спросил он. — Это деньги от девок, по запаху слышно. — Он посмотрел на Бенедикта взглядом опытного человека. — Выброси этот доллар, Бенедикт, когда у тебя будет время.
Бенедикт усмехнулся.
— Пускаешь пыль в глаза!
— А-а, теленочек, ваше преподобие, — сказал Винс. Он вытянул худые, жилистые ноги и нагнулся, чтобы расшнуровать башмаки. — Я вовсе не беспокоюсь о том, что мне не удастся попасть в рай, — продолжал он, — ведь стоит мне только сказать, что я брат Бенни, и райские врата распахнутся настежь!
В голосе его прозвучала странная нежность, и Бенедикт нахмурился.
— А папа уже работает? — неожиданно спросил Винс, развязывая шнурок.
— Нет, — ответил Бенедикт. Затем он медленно добавил: — Ты знаешь насчет дома?
— Ага, мне мама сказала.
— Ну и как?
— Что ну и как? Чего ты от меня хочешь? — спросил Винс вызывающим тоном.
— Почему бы тебе не подыскать работу, чтобы помочь отцу выкарабкаться?
— А пошел ты!.. — сказал Винс.
— Ты никому не приносишь пользы, — закричал Бенедикт. — Тебе на все наплевать, даже на родную семью! Нас вышвыривают из дома, а тебе и дела нет! Почему ты не идешь работать на завод?
— Черт возьми, я слишком молод, понимаешь, олух! — горячо возразил Винс. — Они не желают меня нанимать. Приходится ждать, пока стукнет восемнадцать.
— Так скажи, что тебе уже восемнадцать!
— Это все, что ты можешь мне посоветовать насчет того, как получить работу? — спросил с презрением Винс. — Пожалуйста, не беспокойся, — прибавил он с горечью. — Если старикан не хочет, чтобы я оставался в его доме, я уйду. Пойду бродяжничать! Сколько парней ушло — и я уйду! Мне до смерти надоело сидеть в этой глухой дыре, где тебя каждая собака знает как облупленного, где, чтобы иметь право ходить по улицам, нужно начальнику полиции задницу лизать! До того обнаглел, что требует, чтобы мы с ним делились доходами от игры! Неужели на Литвацкой Яме свет клином сошелся? Поеду в Нью-Йорк или в Чикаго, переменю фамилию. Вот посмотришь — года через два вернусь с таким мешком денег, что лошадь не свезет!
— Никто не говорит, чтобы ты уходил из дома.
— Ах нет? Тогда что же ты предлагаешь, черт побери?
— Я прост о хочу, чтобы ты помог семье.
— А что я могу сделать? Конечно, если я захочу, я сейчас же могу получить работу в Клэрвилле. Восемь монет в день.
— Что? — вскричал Бенедикт.
— Наверняка, если бы я был подлецом! Там бастуют шахтеры; тут один парень приходил, когда мы играли на холме, и сказал, что мы могли бы заработать по восемь монет в день. Хотел бы ты, чтобы я пошел на это?
— Папа убил бы тебя.
— Значит, все в порядке. — Он с горечью смотрел на свои худые, загорелые руки. — Я буду продолжать давать маме денежки, которые мне перепадают. Она не должна знать, откуда я их беру. Да, да! Это деньги! Пожалуйста, можешь сколько угодно плевать на них, но это — деньги, понимаешь! А ты хочешь непременно быть святым и ходить в рваных штанах с голой задницей? Даже священники не побрезговали бы этими деньгами.
Бенедикт начал раздеваться. Воцарилось напряженное молчание. Ему хотелось сказать этому упрямому лицу, этим сжатым губам, этим желтым глазам, полным горечи, что-нибудь такое, что рассеяло бы давящую тяжесть. Даже если слова его вызовут лишь новые насмешки...
— Я пойду с тобой вместе на исповедь в субботу, — пообещал он. — После исповеди тебе станет легче.
Винс посмотрел на него злыми глазами.
— Да неужели? А что, если я не пойду? Ведь мне за это платить не станут!
— Но ты ведь пойдешь, правда?
— Если захочется.
— Послушай, Винс, не отрекайся от веры, — страстно сказал Бенедикт. — Может быть, наступит день, когда ты будешь в ней нуждаться и она тебе поможет.
— Ложись-ка ты спать.
Винс затушил сигарету о железную ножку кровати и вытянулся. В комнату тихо проскользнул Джой. Винс, как только заметил его, выпрыгнул из постели и схватил Джоя за плечо.
— Ах ты негодник! — завопил он. — Если я еще хоть раз увижу, как ты куришь окурки, я так тебя исполосую, что ты неделю не сядешь.
Джой затрясся от испуга. Винс обернулся к Бенедикту и негодующе вскричал:
— Прошлый раз поймал его с поличным — этот сопляк уже курит! Марш в постель, немедленно! — заорал он и, отпустив Джоя, шлепнул его хорошенько по тощим ягодицам. — И читай сейчас же свои молитвы, черт бы их побрал! Заставь его, Бенни, прочитать все, слышишь? Ты у меня смотри, не пропусти ни одной, — орал он, угрожающе наступая на Джоя, который поспешно стал на колени, — а не то я из тебя дурь выколочу!
— Читай молитвы, — приказал Бенедикт.
— Все, какие знаю? — робко спросил Джой, уткнувшись лицом в ладони.
В субботу после ужина Бенедикт настороженно сказал Винсу:
— Пора идти в церковь. Ты мне обещал, что пойдешь сегодня, — быстро прибавил он. — Он сказал, что пойдет, — повторил он, обращаясь к матери.
Она с мольбой посмотрела на Винса.
— Ну ладно, ладно, — пробормотал он с затравленным видом.
Мать разжевала кусок мяса и сунула в рот Рудольфу.
— Пойди с ним, — попросила она Бенедикта.
— Могу и сам пойти. Я в телохранителях не нуждаюсь, — угрюмо запротестовал Винс.
Вошел отец с пучком зеленого лука. Он посмотрел на двух старших сыновей; те сразу присмирели, а отец уставился на Винса, которого не видел целую неделю.
— Бездельник! — рявкнул он наконец. Винс кинул на него исподлобья злобный взгляд. — Бездельник хорошо знает, куда пойти пообедать, — сказал отец по-английски. — Когда ему нужно пожрать, он находит дорогу домой.
Винс сжал кулаки.
— А как дело до работы коснется, не знает, где его дом.
— Не набрасывайся на меня, папа, — произнес Винс тихим, предостерегающим тоном. Глаза его сузились, лицо потемнело.
Отец взглянул на него.
— Что? — спросил он угрожающе. — Что ты сказал, мистер американский бездельник? Ты еще смеешь так со мной разговаривать! — прибавил он по-литовски. — У тебя же глаза убийцы. А ну-ка погляди на меня еще разок. — Он размахнулся и ударил Винса. — Игрок, бродяга, ничтожество! Приходит домой и лопает, когда я сам без работы, когда я сам недоедаю. А ты жрешь — ты... — И он опять поднял руку. Мать вскрикнула, увидев, что Винс замахнулся в ответ. Она схватила на руки маленького Рудольфа и прижала его личико к своему плечу, чтобы он не видел.
— Не смей поднимать руку на своего отца! — крикнула она хрипло.
Отец ударил Винса, и тот зашатался, прислонился к стене. Винс замер на мгновение, мускулы его напряглись, он сжал кулаки, потом улыбнулся матери какой-то истерзанной, кривой улыбкой, опустил руки и нагнул голову. Отец наносил ему удар за ударам и кричал:
— Ну, что же, бей, бей своего отца! Ну, ударь старика! Он кормит тебя, одевает, он вырастил тебя, американский мальчишка, наглец! — И он колотил его все сильней. А Винс, весь бледный, припал к стене, засунув руки глубоко в карманы. Он даже не уклонялся от ударов и молча ждал, когда они кончатся. Наконец, когда отец, обессилев, отступил и, тяжело дыша, сел к столу. Винс поднял голову, с горькой укоризной посмотрел на мать и вышел из дома.
Бенедикт последовал за ним.
Он шел за ним по пятам, миновал задний двор и перепрыгнул через канаву.
— Винс! — окликнул он.
Брат повернул к нему бледное лицо в кровоподтеках и горько вскричал:
— Убирайся домой! Оставь меня в покое! Чтоб мои глаза тебя не видели.
— А исповедь? — заикнулся было Бенедикт.
— Иди домой! — заорал Винс. — Смотри не заставляй меня пускать в ход кулаки! — Он отвернулся и пустился бежать. Бенедикт помчался за ним, перелез через забор, пересек двор, где лаяли собаки, и понесся по улице, стараясь не терять из виду долговязую фигуру. Его брат время от времени оборачивался на ходу и, грозя кулаком, метал на него яростные взгляды. Однако Бенедикт, охваченный каким-то неосознанным страхом, упорно продолжал бежать за Винсом, настойчиво взывая к нему:
— Ты же обещал мне пойти!
На пути встал еще один забор. Бенедикт перелез через него и угодил прямо в объятия поджидавшего его брата. Винс схватил его за горло и стал стукать головой о забор, приговаривая:
— Не гонись за мной, сукин ты сын! Убирайся домой!
Дико выпучив глаза, Бенедикт прохрипел:
— Отпусти меня, Винс!
Винс схватил Бенедикта за волосы, повалил наземь и стал тыкать его лицом в песок.
— Я не желаю, чтобы ты шел за мной, слышишь? — прошипел он. — Ненавижу тебя, твоих священников, всю эту вонючую дыру.
Бенедикт задыхался, слезы жгли ему глаза. Он ухватился за лодыжки Винса, вцепился в них обеими руками.
— Останься, Винс! — умолял он. — Не убегай!
Винс злобно лягнул его ногой.
Бенедикт поднял к нему измазанное грязью лицо.
— Прошу тебя, Винс, не убегай из дому! Я знаю, ты хочешь это сделать! Останься с нами! Я помогу тебе!
— Т ы! — Винс издевательски хмыкнул. — Будешь мне мораль читать? Иди домой! А я и без вас обойдусь, только оставьте меня в покое, дайте мне жить, как мне хочется! Не хочу вас больше видеть! Меня тошнит от вас всех! — кричал Винс. Он выдернул одну ногу из рук брата, но Бенедикт крепко вцепился в другую, и Винс несколько шагов волок его за собой.
— Отпусти ногу! — заорал Винс, глядя на него и останавливаясь. Бенедикт стиснул зубы и зажмурился, чувствуя, что другая нога Винса опускается ему на голову. Винс с силой пнул его.
— Пойдем со мной, Винс, — бормотал Бенедикт. — Пойдем на исповедь! Отец Дар поможет тебе. И отец Брамбо тоже. Пожалуйста, Винс, прошу тебя, не покидай нас. Останься с нами, Винс! Папа вовсе не хотел тебя бить; он без работы, поэтому такой раздражительный! Вот и все. Останься дома, Винс!
Он горько разрыдался, а Винс ушел. Бенедикт еще долго лежал, распростертый на земле. Наконец он сделал попытку подняться. Он привстал на четвереньки и пополз вдоль канавы, словно у него были переломаны ноги, потом поднял голову, чтобы в последний раз поглядеть на брата, но увидел лишь пегую корову, которая мирно брела по улице, волоча по земле длинную цепочку, продетую сквозь ее широкие ноздри.
Часть вторая
1
Хо, хо, Джо Магарак!
Джо Магарак был ростом в восемь, иногда в десять, а порой даже в двенадцать футов. Он прибыл в Америку в конце восьмидесятых годов прошлого столетия, а может быть, незадолго до первой мировой войны из страны, расположенной где-то в Центральной или Южной Европе — из Словакии, Богемии или Сербии. Американский вербовщик побывал в его деревне и объехал все соседние в округе. В самых пылких и восторженных выражениях он рассказывал о том, как необыкновенно хорошо живется людям в Соединенных Штатах, какие там неисчерпаемые возможности для получения работы, как легка жизнь в этой стране: там улицы вымощены золотом, а великодушные промышленники никого не любят так нежно, как новичков, и никому так щедро не платят, как им.
Джо так громко захохотал, что на расстоянии мили вокруг полегла вся пшеница, словно ее повалил ветер. Ему вдруг стало тесно в маленькой деревушке, где он родился: ему нужен был простор для применения накопившихся сил; он хотел видеть горы, большие реки, гигантские деревья. Он подписал сделку с вербовщиком, поставив такой огромный крест вместо подписи, что понадобилась целая чистая страница, и тут же расстался со всеми сбережениями своей матери и с половиной собственных денег, скопленных им за всю жизнь. Затем он отправился в путь. Он прошел за пять дней пятьсот миль и явился в Антверпен, где узнал, как и остальные завербованные, что агент надул его и скрылся с его деньгами и что билет его недействителен.
Эх ты, Джо Магарак!
Джо был на удивление добродушным человеком и, как всем известно, чрезвычайно терпеливым. Сердился он в очень редких случаях, но это был как раз такой случай. Джо не понимал ни по-английски, ни по-голландски. Он знал одно: он заплатил за свой проезд в золотую Америку и остался почти без копейки. Поэтому, когда ему захотели преградить путь на отплывающий за океан пароход, он растолкал всех и, подхватив под мышки двух или трех своих земляков, тоже переселенцев, взошел с ними на пароход.
Вот как Джо Магарак попал в Америку!
Он приехал в Питтсбург, где проживал один из его родичей, маленький, тщедушный человек, ростом всего в четыре фута девять дюймов, — короче говоря, его родной дядя. На следующее утро дядя повел его в заводскую контору по найму рабочих. Когда служащий конторы взглянул на Джо Магарака, сердце его возрадовалось за Компанию, и он немедленно, без всяких проволочек, вписал имя Джо в списки рабочих Завода.
Оказалось, что получить работу в Америке действительно нетрудно!
Первым долгом Заводская компания соорудила специальную тачку для Джо. Обыкновенные были слишком малы для него. А эта — новая — была десяти футов в длину и пяти в ширину, и Джо брался за нее, словно это была детская коляска, и катил ее через весь Завод, всегда наполненную до краев то глиной, то железной рудой, то известняком. Когда приходило время пробивать летку, старший мастер кричал: «Где Джо Магарак?» — И Джо подходил вразвалку к печи и, ткнув пальцем, пробивал летку и выпускал на свободу расплавленный металл. А когда кипящая лава была уже разлита в бункера и поезд стоял, дожидаясь отправки, старший мастер опять орал: «Где Джо Магарак?» — И Джо прибегал и, толкая поезд обеими руками, переводил его со двора к прокатному стану.
Заводская компания высоко ценила Джо Магарака — Джо Вьючного Осла, как его прозвали. Он работал как зверь и никогда не жаловался. Он являлся на Завод к каждой смене. Компания вычеркнула из платежной ведомости два десятка рабочих. Завод работал в две смены — по двенадцать часов каждая, — и порой, когда работы было много, Компания забывала напомнить Джо, чтобы он шел домой отдохнуть, и он работал без передышки круглые сутки. А так как Джо не умел ни читать, ни писать по-английски, ему платили всего за двенадцать часов работы. А что было делать Джо с этими деньгами, как не пропивать их? Когда же Джо напивался, он шумел, как разбушевавшийся ураган. Голос его гремел на всю долину, валил телефонные столбы и сшибал лошадей в канавы.
Он жил с другими новичками в меблирашках около Завода, и, чтобы Джо мог вытянуть ноги, пришлось срезать стену дома. Когда он спускался в столовую, для него освобождали весь обеденный стол, и вот что подавала ему вдова Додрачик каждое утро на завтрак: десять караваев ржаного хлеба, целого жареного поросенка, четырнадцать дюжин яиц, восемнадцать галлонов кофе, шесть фунтов масла и три бочки пива. Но даже при таком усиленном питании он поначалу немного отощал.
Так вот, по мере того как Джо привыкал к работе на Заводе, Компания все больше и больше ценила его. Она доверила ему проложить собственноручно тридцать миль железнодорожного пути; когда с прокатного стана сходили раскаленные рельсы, их грузили, ещё дымящиеся, на плечи Джо, и он мчался с ними к месту строительства, быстро укладывал шпалы, затем клал поверх них пылающие рельсы и накрепко прибивал их к шпалам. Затем он поднимал паровоз, ставил его на рельсы и катил его один, вручную, двадцать пять миль.
Ох, и Джо Магарак!
Потом ему поручили перенести Завод на другую сторону реки. Он взвалил его себе на плечи и перешел вброд реку, потом вернулся и таким же манером перенес паровоз. «Хо, хо, Джо Магарак!» — кричал ему народ.
После того как Джо десять лет проработал на Компанию, она вручила ему медаль.
Ай да Джо Магарак!
Компания командировала сотню вербовщиков на родину Джо, чтобы обыскать всю страну и найти еще таких, как он. Джо был их гордостью. «Эй, Джо Магарак!» — раздавался клич по всему Заводу, а громче и ласковее всего имя его произносили в конторах Компании, потому что Джо никогда не жаловался. Широкая, добродушная улыбка играла у него на лице, на лоб ему падали пряди волос цвета желтой глины. Он подхватывал нагруженную вагонетку, и воинственный клич вырывался у него из груди: «Хо, Джо Магарак!» И по всему Заводу, как эхо, отзывалось: «Хо, Джо Магарак!» Он был таким покладистым парнем! Работал дни и ночи, если ему приказывали, брал безропотно столько, сколько ему давали, никогда не болел, никогда не обижался. Он так и не научился английскому языку, за исключением тех слов, которые ему надлежало знать: «Буду делать, хозяин», «Да, хозяин, немедленно», «Очень благодарю, хозяин», «Хорошо, хозяин», «Мистер хозяин, о'кей, я делаю!»
Эй, Джо Магарак!
И вдруг в один прекрасный день Джо Магарак почувствовал усталость. В то утро он проснулся и не встал с постели. Вдова Додрачик трясла его, и щекотала, и обливала водой, но он не вставал. Он лежал спокойно, с закрытыми г лазами. Когда Компания узнала, что Джо Магарак все еще в постели, — а прошла уже половина рабочего дня, — она послала мастера разбудить Джо. Мастер заорал: «Ну, Джо, поднимайся! Тебя ждет работа!» И впервые за все время Джо не ухмыльнулся и не ответил: «Буду делать, хозяин!» Он продолжал лежать.
И тогда к нему послали управляющего, и управляющий пообещал Джо еще одну медаль и даже уронил над ним слезу, помянув его матушку, но Джо не сдвинулся с места. Тогда послали за доктором, чтобы проверить, не сошел ли Джо с ума. Потом послали за полицией. Фараонов прибыло немало, из этого города и из соседнего. Они доставили большой фургон, а также захватили с собой дубинки, цепи и ружья. Они выбили из-под Джо кровать и, выгнав его, еще полусонного, на улицу, приковали его цепью к фургону и поволокли к Заводу.
Когда Джо очутился на Заводе, он открыл глаза и увидел, что он уже не в постели. Ну и взбесился же он! «Хо!» — закричал он. Джо разорвал цепи и с такой силой лягнул старшего мастера, что тот перелетел через реку и шлепнулся в грязную лужу. А Джо уселся нога на ногу на верхушке доменной печи и снова заснул.
Джо Магарак проспал на верхушке домны целый месяц. И целый месяц, пока длился Великий Сон Джо Магарака, люди в долине не работали. Они ходили вокруг него на цыпочках, тихонько, словно боялись разбудить Джо Магарака. Его храп был подобен грому и сотрясал дома на расстоянии нескольких миль вокруг. Одну ногу он опустил в реку и запрудил ее. Рабочие сидели дома и пили пиво, и каждое утро, просыпаясь, выглядывали из окон, чтобы посмотреть, сидит ли еще Джо Магарак на макушке домны, возвышаясь как гора и похрапывая на всю долину.
В тот месяц на Заводе не произошло ни одного несчастного случая и не появилось ни одной новой вдовы.
Хозяева Завода совершенно обезумели. Они ломали себе головы, как разбудить Джо Магарака, и в то же время опасались его будить — как бы в нем опять не вспыхнула ярость.
Никогда раньше в долине не царило такое спокойствие. Никогда рабочий люд так долго не отдыхал. Рабочие стали ласковы со своими женами и вспомнили, как зовут их детей. Они даже устраивали пикники на холмах — тех холмах, на которые, работая на Заводе, они могли только поглядывать. И каждое утро, проснувшись, они спешили узнать: отдыхает ли еще Джо Магарак, потому что, пока он отдыхал, отдыхали и они, и глубоким покоем дышала вся долина. Так-то, Джо Магарак!
Наконец на тридцатый день своего Великого Сна Джо Магарак зевнул — и сильный ветер понесся над долиной и повалил наземь деревья. А когда он вытянул ноги и простер руки до самых туч, разразился проливной дождь. И этот дождь окончательно разбудил его.
— Хо, Джо Магарак! — крикнул он, и окна во всех домах задрожали, и рабочие обернулись к своим женам, а дети завопили: «Джо Магарак проснулся!»
Он снова пошел на работу. Управляющие Заводской компании вздыхали и покачивали головами, вспоминая о понесенных ими убытках, и так кричали на рабочих и понукали Джо, словно они уже находились в аду. С тех пор хозяев всегда преследовали кошмары. Они ворочались в постелях, объятые Великим Страхом: а вдруг Джо Магарак, этот покладистый Вьючный Осел, опять устанет и снова впадет в свой Великий Сон. И потому сами они не могли заснуть спокойно в своих роскошных постелях.
Ох, и Джо Магарак!
2
Когда почта доставила рабочим оттиснутые на ротаторе письма, написанные на английском, венгерском, словацком, русском, литовском и польском языках, за подписью «Джо Магарак», — из дома в дом пронесся хохот.
Письмо содержало краткое изложение фактов. Оно подтверждало уже распространившуюся новость: Компания решила засыпать всю Литвацкую Яму и таким образом за бесценок получить несколько акров хорошей, ровной земли — вблизи от реки и железной дороги. Письмо подтверждало также, что Банк потихоньку скупает закладные, которые еще не скупил, что Банк этим занимается уже несколько лет и назначил — неофициально — сроки для окончания этой операции. С первой партией домов будет покончено в июле, со второй — в декабре. В письме говорилось еще и о том, что Банк предлагает купить любой дом по номинальной стоимости. Затем указывалось, что, скупая дома, Банк фактически даром получает улицы, переулки и поля. Никто из Городского совета, большинство которого, кстати, составляли члены Компании, не думает поднимать об этом вопрос, так как это не входит в планы Компании. Далее в письме обращалось внимание на то, что земельный участок, который Завод получит от Банка, уже оплачен правительством по амортизационному плану, представленному Компанией правительству; что это вознаграждение за поставку стали для армии и что в действительности, если тщательно рассмотреть этот вопрос, то, оказывается, эту землю правительство даром отдает Заводской компании. Еще в письме говорилось, что тех рабочих, с которыми Компании не удавалось договориться, сразу же увольняли и таким образом вынуждали продавать свои дома Банку, а если рабочие упорствовали, их дома шли с молотка в уплату налогов. Джо Магарак объявлял, что на Заводе существует Союз рабочих и что Союз будет вести борьбу. Под письмом стояла подпись: «Джо Магарак».
Тринадцать семей продали свои дома Компании и покинули Литвацкую Яму. Люди почувствовали, что происходит что-то неладное, только когда грузовики подъехали к дому Богича. Нагруженный доверху скарбом, грузовик уехал, и тогда на улицах поднялась паника. Богич уже почти полностью выплатил за свой дом, а теперь ухватился за предложение Компании. Он немедленно (через Банк) купил себе другой в городе. Еще двенадцать семей живо последовали его примеру, а те рабочие, которым приходилось платить сложные проценты по крупным закладным, либо те, которые еще далеко не выплатили за дом, поняли, что пустующие дома в городе уже захвачены новыми хозяевами и теперь им некуда податься.
— Ну, — сказал отец Бенедикта, снял очки и обвел комнату потухшим взором, куда же мы теперь денемся? Для нас нет места на этой земле.
Он выглянул из окна в огород, где весенний лук пустил вверх такие высокие стрелки, что их можно было уже срезать для салата. Бенедикт проверял знания Джоя по катехизису. Джой посасывал бородавку на пальце и мучительно напрягал свою память.
— Что гласит четвертая заповедь? — звучно читал Бенедикт.
— Чти отца твоего и мать, — отвечал Джой.
— Что велит нам делать четвертая заповедь?
Джой отгрыз кусочек бородавки и выплюнул его.
— Четвертая заповедь велит нам... — подсказывал Бенедикт.
—... велит нам, — старательно повторил Джой, покосившись на него, и воздел глаза к потолку.
—... велит нам, — вытягивал Бенедикт.
— Верить? — спросил Джой.
— Нет, — ответил Бенедикт, — слушаться отца своего и мать.
— Правильно, — сказал Джой с облегчением.
— Должны ли мы почитать наших родителей? — спросил Бенедикт. Джой старался уловить в строгих глазах Бенедикта хотя бы слабый намек на ответ. — Наших отца с матерью, то есть родителей, — пояснил Бенедикт. — Должны ли мы всегда слушаться их, — понимаешь, не огорчать их?
Джой осторожно кивнул головой, готовый в любой момент отступить, если Бенедикт нахмурит брови.
— Грешно ли прекословить или возражать своим родителям? — мрачно спросил Бенедикт.
— Нет, не грешно, — сразу ответил Джой, и когда Бенедикт устремил на него строгий взгляд, он сказал робко: — Ты же возражаешь!
Бенедикт перевернул страницу.
— Что гласит седьмая заповедь? — спросил он многозначительным тоном.
— Седьмая заповедь? Седьмая? — игриво спросил Джой.
— Да, седьмая.
— Не...
— Не укради! — обрушился на него гневный голос Бенедикта.
— О! — произнес Джой и втянул голову глубоко в плечи.
— Что предписывает нам седьмая заповедь? — спросил Бенедикт.
Джой поглядел на отца, который строгал перекладинку, чтобы починить стул. Рудольф лежал на полу, и кошка лизала ему волосы.
— Седьмая заповедь предписывает нам никогда не брать того, что не принадлежит нам. А что должны сделать люди, которые украли?
— Которые украли? — Джой глотнул, глаза его обежали комнату.
— Они должны?.. — настаивал Бенедикт.
Отец посмотрел на них, отвернув серое, с желтизной, лицо от дневного света, льющегося в окно.
— Господин учитель, — сказал он.
Бенедикт вспыхнул.
— Я занят, папа, — сказал он.
— Пусть Джой отдохнет. Теперь я задаю один маленький вопрос, господин учитель.
Смиренный тон, в котором едва уловимо сквозила издевательская нотка, заставил Бенедикта закусить губу.
— Ты говоришь: «Джой, не воровать. Нехорошо, Джой, воровать». Правильно, правильно! — Он строго погрозил Джою пальцем. — Джой, — сказал он сурово, и Джой поспешно опустил голову. — Не воруй! Воруешь — пойдешь в тюрьму. — И он спросил по-литовски: — Понял? — Джой молча кивнул. — Теперь, — продолжал отец почтительно, — теперь вы скажите мне, господин добрый учитель, скажите мне вот что: когда ворует Компания, что это тогда? Кто сажает Компанию за решетку? Когда Компания крадет дома у людей, что это тогда? Ты, — закричал он, показывая рукой на дверь, — ты иди мистеру Райту, иди управляющему кон торой, твоим катехизисом. Ты открой книгу, покажи ему, ты говори: «Мистер Райт, босс, я показать вам что-то», — как ты говоришь Джою и показываешь в книгу. «Вот, — говоришь ты, — та седьмая заповедь, вы видите? Что она есть? — спрашиваешь Большого Босса. — Что говорит? Не красть! — Она говорит. Не красть рабочие дома! Не красть, сукин сын! Бог говорит: не воруй дом! Отдайте рабочим его дом, отдайте его работу, отдайте жизнь, мистер Райт, Большой Босс, хозяин Завода!» Ты скажи ему, Бенедиктас! — вскричал он взволнованно, тяжело дыша. — Потом приди сказать мне, что говорит Компания.
— Это совсем другое, — ответил Бенедикт, не глядя на отца.
— Вы говорите мне, господин добрый учитель? — спросил отец с ироническим почтением.
Бенедикт повернулся к Джою.
— Как надо ответить? — спросил он.
Джой от неожиданности раскрыл рот и уставился на отца.
— Ах, Джой, — воскликнул отец, воздев руки. Затем опустил их и сказал снисходительно: — Отдохни-ка покамест.
Джой послушно закрыл рот. Рудольф, ухватив кошку за хвост, ползком пробирался под печку. Отец поймал малыша за плечо и разлучил его с кошкой.
— Иди, иди, — сказал он, похлопав его по попке. Он подхватил с пола кошку и чопорно обратился к ней по-английски: — Госпожа кошка, может быть, вы мне скажете, нет? — Он легонько щелкнул кошку по уху и спустил ее на пол. — Погуляй, — приказал он ей. Через комнату, направляясь в огород, прошла мать.
Отец резко повернулся к мальчику.
— Ну, что скажешь?
— Папа, — тихо ответил Бенедикт, — не говори так со мной! Ты заставил Винса убежать из дому, не заставляй и меня сделать то же самое!
На минуту отец помертвел, глаза его, не отрываясь, смотрели на сына. Затем по лицу прошла судорога.
— Что ты говоришь? — спросил он тихим, раскатистым голосом. — Ты говоришь: я заставлять Винса, Винса убежать из дому! Ты так говоришь! — Он наклонился вперед. — Нет, я не говорить Винсу! — Он оглушительно стукнул кулаком по столу. — Я говорить Винсу — оставайся дома! Он сам думал убежать! Он давно это думал! Не вчера, не другой день — очень давно думал!
Он поднял палец и медленно им погрозил. Его голубовато-серые глаза сверлили Бенедикта.
— Он еще придет назад! Ты думаешь, он находит хлеб на дороге? Идет, подбирает? Просто так — подбирает? Нет, нет! Работай, работай, работай! Всегда работай за хлеб! — Он широко взмахнул рукой, как бы охватывая весь мир. — Везде работают за хлеб! Он узнает — хитрый американец! — придет домой, скажет: «Папа, дай мне поесть. Я голоден». Увидишь, так я говорю!
— Мне нужно идти, — сказал Бенедикт. — Мама, — обратился он к матери, вернувшейся в комнату с пучком зеленого лука, — мне пора в церковь.
— Бенедикт, — продолжал отец, — что говорит священник?
— Поешь что-нибудь перед уходом, — упрашивала мать.
Мальчик отрицательно покачал головой.
— Что он говорит? — повторил отец свой вопрос.
— О чем, папа? — терпеливо спросил Бенедикт.
— Что Компания скупает дом и выбрасывает всех?
С гордостью и легким презрением в голосе Бенедикт ответил:
— Отец Дар говорит, что никогда не продаст церковь. Значит, — он пожал плечами, — людям тоже незачем продавать свои дома.
— Ах, вот? — вскричал отец, повышая голос. — А что говорит молодой священник?
Бенедикт удивился.
— Что? — переспросил он и медленно ответил: — Я не спрашивал его, папа. — Он уверенно добавил: — Но он, конечно, думает так же, как отец Дар. Разве можно продать церковь?
Отец передернул плечами.
— Да? — вскричал он и, вскинув голову, постучал себе по лбу. — Как ты знаешь?
Он с понимающей улыбкой покачал головой и заговорил, будто что-то припоминая. Мать стояла, прислушиваясь к разговору; она вытерла руки о фартук, лицо ее потеплело от зазвучавших в его голосе ноток.
— Бенедиктас, — говорил отец на своем родном языке, — я хочу рассказать тебе одну историю, о тебе самом. Ты ее не можешь помнить. Давно это случилось. — Он поправил на носу очки и улыбнулся печальной и мудрой улыбкой. — Я помню этот день, тебе тогда исполнилось пять лет. Я шел после работы домой с завода, лил дождь. И вот я иду и вижу: какой-то малыш стоит под дождем и горько плачет. «О чем может так горько плакать малыш?» — думаю я и подхожу к нему ближе. И тут я увидел, что это ты.
Он остановился и поглядел, скорей не на Бенедикта, а на его мать. А она задумчиво смотрела на кухонную плиту, и в глазах у нее стояли слезы. Джой с удивлением и трепетом слушал рассказ об этих далеких, сказочных событиях. Какое-то отсутствующее выражение появилось у него во взгляде, рот слегка приоткрылся. Кошка спряталась под стул, а Рудольф тянулся к ней пухлой ручонкой.
Отец снова улыбнулся мягко и спокойно.
— «Почему ты плачешь?» — спрашиваю я; ты поднял на меня глаза, полные слез, и показал на лужу перед собой. «Она грязная», — сказал ты. «Да, — ответил я тебе, — она грязная». Тогда ты показал на свои новые красивые белые башмачки, которые мы купили тебе для заводского пикника, и всхлипнул: «Если я пройду через эту лужу, они запачкаются!» Ах, какой умный маленький мальчик! — вскричал отец с иронией, и Бенедикт почувствовал, как сердце его забилось быстрее. О, хороший малютка — американский мальчик! — отец вдруг вернулся к своему ломаному английскому языку, но дальше продолжал по-литовски: — И ты был прав! Но пока ты стоял так, и плакал, и все думал, как быть, идти ли тебе по луже и испортить новые башмаки или нет, — дождь превратил в лепешку твою хорошенькую новую соломенную шляпу...
Отец потянулся, расправил плечи, поднял голову, потом склонил ее набок.
— Это притча, — сказал он спокойно.
Мать улыбнулась с какой-то жгучей печалью и, протянув руку, погладила отца по голове.
Джой так и сидел с открытым ртом и пристально смотрел на Бенедикта, словно узнал о брате что-то такое, о чем и не подозревал. А Бенедикт стоял перед ними с пылающим лицом.
— Я не помню этого, — пробормотал он.
— Конечно нет, — охотно согласился отец. Глаза его затуманились, он отвернулся почти враждебно от Бенедикта и, погрузившись в раздумье, снова принялся строгать деревяшку.
Рассказанная отцом история уязвила Бенедикта, он и сам не знал почему. Он недоумевающе пожал плечами. Каким манящим и близким — как будто он был совсем рядом, в соседней комнате, — показался ему теперь тот, другой мир — мир церкви, в котором, стоит ему только войти, он чувствует себя преображенным. Ему показалось, что он глядит оттуда, издалека, где рядом с ним добрые благословляющие руки и набожно склоненные головы, — глядит на эту комнату, на эту кухню с крошечным окном, на Джоя, разглядывающего кровоточащую бородавку, на Рудольфа, ползущего за кошкой, которая фыркает на него, на мать, — вот она с озабоченным лицом направилась к плите, чтобы снять крышку с кастрюли, в которой кипит суп. Но и себя он вдруг увидел там, в церкви, увидел глазами своей матери. Высокий и худенький, он стоит в черной рясе, отрешенный от всего земного, одинокий, задумчивый, чистый и безгрешный...
Как он тосковал по этому видению, как стремился к нему; он мысленно простирал руки и жаждал, чтобы этот темный силуэт поднял лицо и улыбнулся ему. Тоска по Этому своему образу стала в нем еще более острой после событий последних дней. «О господи, — молил он, — сделай, чтобы время шло быстрее! Чтобы скорей наступил тот заветный день!»
— Нет, — внезапно прервал молчание отец, оглядывая их всех. — Нет, мы никуда отсюда не двинемся, потому что мы не можем этого сделать. Нам некуда идти. Мы останемся здесь.
Затем он посмотрел на Бенедикта каким-то далеким взглядом.
— Что будем делать, добрый учитель? — спросил он. — Скажи, наш пастырь, что будем делать?
— Никто и не собирался заставлять нас переезжать, — ответил Бенедикт, понурившись.
— Кто это тебе говорит? — с мрачной иронией спросил его отец. — Хозяева тебе пишут письмо?
Бенедикт покачал головой.
— Мама, — сказал отец, подходя к плите и глядя на мать с чуть смущенной и серьезной улыбкой. — Мама, — повторил он по-английски, — ты хочешь здесь остаться?
— О чем ты все болтаешь? — ответила она на их родном языке, настороженно поглядев на него и избегая взгляда Бенедикта. Она повернулась к кастрюле с супом и сказала: — Я живу только сегодняшним днем. А сегодня я здесь. — Она стукнула деревянной ложкой по кастрюле. — Зачем ты пугаешь детей? — бросила она сердито.
— Джой, — вдруг обратился отец к Джою, который о чем-то раздумывал и теперь, очнувшись, подпрыгнул от неожиданности, — ты хочешь уехать?
Джой утвердительно закивал.
— Погляди-ка на него, — сказал насмешливо отец. — Джой не прочь уехать! — Он оглянулся, ища глазами Рудольфа, но того нигде не было видно. Тогда он снова повернулся к Джою и сказал: — Ты идешь к хозяину и говоришь: «Джой готов ехать н овый, красивый дом», а босс тебе дает хорошего пинка!
Джой окончательно растерялся.
Отец повернулся к Бенедикту и мягко спросил его:
— А ты, ты хочешь уехать отсюда?
Бенедикт устремил на него напряженный взгляд и ответил:
— Нет, папа.
Отец резко мотнул головой:
— Ты не хочешь уехать? Ответь мне, как можешь остаться? Как можешь помешать Компании вышвырнуть тебя?
Бенедикт пристально поглядел на отца и сказал так проникновенно, как только мог:
— Папа, если церковь скажет Компании: «Не делай», — Компания не сделает. Ведь они тоже христиане и католики, папа. Церковь запретит им выбрасывать на улицу людей, лишать их крова...
Мальчик чувствовал на себе тяжелый взгляд отца, и голос его сорвался; он побледнел и отвернулся. В комнате воцарилось молчание. Наконец отец заговорил, и в голосе его звучала, как прежде, церемонная насмешливость.
— Миссис, — обратился он к матери, — говори мне, миссис, сколько лет мы живем здесь?
Она взглянула на него и на этот, раз еще более сердито:
— Ступай спать. Ты выпил, что ли?
Отец засмеялся, обернулся к Бенедикту и, улыбаясь, сказал:
— Нет, не такие уж они были несчастные — эти первые годы. — Он улыбнулся, как будто Бенедикт не соглашался с ним. Мягкость, даже какая-то примиренность, прозвучавшая в его голосе, прервала ход мыслей Бенедикта — он думал о пылавших лачугах — и заставила его прислушаться. Голос его отца стал ласковее, и речь его на родном языке, по волшебному контрасту с его английской речью, текла плавно и свободно. Бенедикту опять показалось, что когда отец говорит на своем родном языке, то преображается и становится совсем другим человеком, полным странной чужеземной мудрости, умеющим глубоко чувствовать.
— У нас были и счастливые дни, — продолжал отец. — Работал я, правда, по десять — двенадцать часов в день, но скопил денег и женился. — Он протянул руку, чтобы показать, на ком он женился. — Я заплатил первый взнос за этот дом. — Он шлепнул ладонью по стенке, и звук этот больно отозвался в душе Бенедикта. — Вскоре у меня было уже двое детей. — Он помолчал и поглядел на Бенедикта, словно ожидая, что тот освежит его воспоминания. — Ты родился почти без дыхания, — сказал он спокойно. — Я оживил тебя своим дыханием. — Глаза его заволоклись. Бенедикт взглянул на мать, ожидая подтверждения, и она утвердительно кивнула. Джой жадно смотрел на отца и ловил каждое его слово. — Нет, первые наши годы не были несчастливыми. Я был молод, я мог стол зубами поднять! — Он сделал движение, как бы приподнимая воображаемый стол. — Во время эпидемии гриппа у всех умирали дети, а у меня нет. Я благодарил за это бога, но еще больше я втайне благодарил самого себя. — Отец посмотрел на Бенедикта, но тот ничем не выдал своего отношения к его рассказу. Отец поправил на носу очки и, глядя сквозь стекла затуманенным взором, продолжал: — В те дни у меня была одна тайная мысль — она касалась меня самого. Я думал: что бы ни случилось, где бы я ни был, если даже обрушится дом, или сгорит завод, или взорвется бомба — я, Винсентас Блуманис, останусь цел и невредим. Вот в чем я был тогда втайне уверен!
Его глаза сверкнули, и он сжал кулак. Мать с горечью покачала головой и сказала почти про себя:
— Да, так, так...
— Откуда пришло ко мне это чувство, — продолжал он с удивлением, — я и не знаю. На заводе вокруг меня вечно происходили несчастные случаи: одни обжигали себе ноги, другим начисто отрывало руки, — какое это ужасное бедствие! — только с одним со мной ничего не случалось. — Его лицо вдруг озарилось невинной, сияющей улыбкой, поразившей Бенедикта. — Война, — воскликнул он, и его голос зазвучал, как голос Рока, — она кончилась как раз в тот момент, когда дошла очередь до меня; имя мое уже было внесено в списки, но, конечно, меня так и не призвали. — Он снова широко развел руками. — Да, тогда я чувствовал, тогда я думал только так: что бы ни случилось, какое бы несчастье ни свалилось на моего ближнего, оно меня не коснется!
Он поглядел на жену. Лицо ее было ясно и спокойно, но она покачивала головой, подперев щеку рукой, поникнув, словно в глубокой печали. Она закрыла глаза, и, когда открыла их вновь, на ресницах ее дрожали слезинки.
— Я не могу объяснить вам, почему я так чувствовал, — продолжал отец тихо, приглушенным голосом. — Я был молод и кулаком мог свалить с ног быка. — Джой поглядел на его кулак, и отец, перехватив его взгляд, поднял кулак и потряс им. Его кулак показался огромным даже Бенедикту. — О чем были мои думы в те дни? — вскричал отец со страдальческим выражением. Он поднял глаза к потолку и затаил дыхание, как будто силясь что-то вспомнить. — О чем были тогда мои думы? — повторил он шепотом. — Теперь трудно вспомнить. У меня был дом, жена, дети; у меня была работа — такая работа теперь в неделю прикончила бы меня. На заводе в глазах хозяев я был новичком, но я-то сам хорошо знал себе цену. А думать мне никто не мог помешать. Я знал, что у меня есть самое главное — моя сила. — Он вытянул руку, напряг мускулы. — А это значило — работа. В моих руках, спине, ногах была сила, а значит — у меня была и работа. С ней я имел все. Без нее... — Он остановился, снова поднял глаза к потолку и заморгал. Внезапно взгляд его опустился на Бенедикта, и он вскричал: — Ты! Ты ничего не помнишь! Разве ты знаешь, как я жил? Откуда появился этот дом? Ты думаешь, он вырос сам собой? Кто содержит его? Нет, я расскажу, как он появился, я скажу, кто содержит его!
Мать помешивала суп. В комнату ворвался дребезжащий гудок завода, и одновременно с ним они услышали резкий свисток паровоза, тянувшего состав вагонеток с горячим шлаком. Мать зачерпнула полную ложку супа, дала попробовать Джою и ждала, приподняв брови, пока он вдумчиво не распробует и не кивнет в знак того, что суп готов.
— В первые годы, — продолжал отец почти про себя, прикрыв глаза, — в первые годы я все прикидывал и подсчитывал: если я работаю целый год, — а в день мы зарабатывали четыре доллара при шестидневной неделе, сколько же я зарабатываю?
Но прежде чем Бенедикт успел ответить, он ответил сам:
— Значит, я зарабатывал в год тысячу двести сорок восемь долларов. — Он кивнул Бенедикту. — Да, да, — сказал он уверенно, — это правильно. Я сам научился считать. Сначала на пальцах. Гляди, Джой! — отец легонько толкнул локтем в бок подошедшего Джоя и вытянул вперед свои крепкие, сильные пальцы, почерневшие на концах. — Сколько? — спросил он, и Джой прошептал: «Пять». — Хорошо, — похвалил отец, похлопав его по руке. — Тебя научили считать в школе, а я научился сам! А потом я научился писать. Знаешь, как? — спросил он отрывисто. Джой недоуменно пожал плечами. Отец показал на календарь, Бенедикт следил глазами за его пальцем, а затем поднял взгляд выше, к распятию. — А вот как: садился к столу с карандашом и оберточной бумагой из мясной лавки, как маленький мальчик, как Джой, — он подтолкнул Джоя, — и срисовывал буквы и цифры, и надоедал людям на заводе. Я говорил: «Мистер...» — и тут он не только перешел на ломаный английский язык, нарочно утрируя его, но и лицо его приняло заискивающее полутупое, полусмиренное выражение, которое бывает у новичков, изо всех сил старающихся понравиться начальству. «Мистер, — сказал он жалобным голосом, в котором, однако, сквозила издевательская нотка. — Мистер, помогать мне, мистер босс». Он опустил плечи и сгорбился, лицо его расплылось в простодушную, глуповатую улыбку. «Мистер, я забывать очки, не могу читать это. Вы сказать новый рабочий, что это написано, какая буква?» — Он посмеивался себе под нос, и Джой смеялся тоже, и мать засмеялась. Все, кроме Бенедикта. — И я показывать ему мою бумагу, — продолжал отец по-английски. — И он говорить, где какая буква, и я слушаю и помню. — Он обратился к обоим мальчикам: — Вот как я учился читать!
Потом отец помолчал немного, подумал и сказал уже по-литовски:
— Как красиво тогда было в долине! Сюда отовсюду приезжали художники рисовать. Все было совсем иначе, не так, как теперь. Я скопил деньги, купил этот дом. Я сделал погреб, покрасил его, зацементировал; я вскопал землю под огород. И я платил за дом. Каждый год я вовремя вносил плату и проценты платил. Я платить, платить, все время платить, — прибавил он по-английски. — Благодарить вас, благодарить вас, — мне сказал Банк, — благодарить....
Он уронил руки на колени и, словно устав от собственного рассказа, сказал по-литовски:
— А теперь Банк говорит: «Убирайся вон!»
На кухне воцарилось молчание. Бенедикт обернулся к матери.
— Мне нужно идти, — сказал он. — Я опаздываю.
Отец кивнул ему.
— Да, ты опаздываешь, — проговорил он. — До свидания, — добавил он церемонно. — Благодарить вас тоже. — И поклонился.
Когда Бенедикт подошел к двери, отец сказал:
— Спроси своих священников, что мне теперь делать?
— Я вернусь к ужину, мама, — пообещал Бенедикт.
3
Бенедикт пошел в церковь не сразу. С того дня как исчез Винс, он никогда не забывал о нем и не переставал его искать. Ему казалось, что, если бы только ему удалось найти Винса, он сумел бы растолковать ему, как установить мир в доме, что нужно сделать, чтобы хоть как-то поладить с отцом, или же, в случае неудачи, как найти утешение в церкви по его, Бенедикта, примеру. Так или иначе, но он чувствовал, что мог бы приобщить Винса к тому, что обрел сам. Он привел бы его как-нибудь вечером в пустую церковь, где не было бы никого, кроме них двоих. И в молчании, коленопреклоненные перед образом Христа, они дождались бы прихода отца Брамбо. И он пришел бы, чтобы поведать Винсу своим тихим, серебристым голосом о боге и о его сыне Иисусе Христе, который родился в семье плотника и жил среди простого люда.
Отец Брамбо разъяснил бы Винсу, что все они сыны божии, иисусы христы, сочетающие смертную природу с бессмертной, обреченные прожить на земле положенное время, прежде чем вознестись на небеса и предстать перед лицом господним. Ведь дело господа бога и его сына Иисуса Христа было делом церкви здесь на земле, а также и его, Бенедикта, делом. Он жаждал рассказать Винсу о своих самых сокровенных мечтаниях и стремлениях, чтобы Винс понял, как он был не прав, насмехаясь над ним; он указал бы Винсу, как надо жить, чтобы оба они могли ладить со своими домашними, повлиять на отца, облегчить судьбу всей семьи и снова обратить их всех к богу, а тогда в доме установится мир и все они станут любить друг друга. Винс, конечно, отзовется! Узрев величие деяний господних, он пожалеет о жизни, которую вел; он вернется в лоно церкви, станет еженедельно исповедоваться и причащаться, отречется от тех, кто будет тянуть его назад, к прежнему образу жизни. Все изменится к лучшему. Бенедикт твердо верил в это: ведь он так хотел этого и так горячо об этом молился!
За старым сараем, там, где Бенедикт продал двум старьевщикам, занимавшимся сбором и продажей лома, свой канделябр и остальную рухлядь, он наткнулся на компанию парней, игравших в кости. Они толпились позади сарая, некоторые из них сидели на корточках, другие стояли. Вид у всех был настороженный, — шла незаконная игра. Среди этих юнцов были и взрослые мужчины, в хорошо сшитых костюмах и элегантных шляпах; золотые часы поблескивали у них на запястьях. Голоса собравшихся звучали хрипло и приглушенно; казалось, при первом же знаке тревоги они исчезнут, как тени.
Бенедикт, робея, направился к ним. Он долго колебался, прежде чем принял решение поискать брата в разных злачных местах, где, как ему было известно, бывал Винс. Сердце Бенедикта учащенно забилось, когда он приблизился к игрокам. Из глоток сих великовозрастных детин непрерывно вырывались ругательства, от сигарет, которые они не выпускали изо рта, вился дым. Разговор их то и дело сворачивал на скабрезные темы, и Бенедикт весь сжался, будто вступил в запретную зону. Вся компания с величайшей внимательностью, словно загипнотизированная, глядела туда, где на голой земле ловко отплясывали белые игральные кости.
Если бы в этот момент Бенедикт увидел среди них Винса, он страшно огорчился бы. Он подошел ближе и стал молча наблюдать. Он увидел друга Винса — Поджи. Это был парень с переломанным носом, немного старше Винса, с раскосыми, бегающими глазками и пухлым, как у ребенка, ртом. Он упрашивал хриплым голосом: «Ну же, мои малютки, слушайтесь меня, будьте умницами!», дул на кости, перекатывал их в ладонях.
— Восьмерка! Черт побери! — воскликнул он и потер кости меж ладонями.
— Этот пижон думает, что выиграет, — бросил парень постарше, не вынимая изо рта сигареты.
Поджи заметил Бенедикта.
— Поди-ка сюда, мальчуган, — приказал он, гремя костяшками около своего уха.
Бенедикт неохотно подошел к нему; он чувствовал на себе взгляды этих «отпетых».
— Где... — начал было Бенедикт.
Поджи вдруг прижал игральные кости к его губам и завопил:
— Черт возьми! Теперь дело пойдет на лад!
Он бросил кости — выпали две четверки. Окружающие что-то забормотали, бросая на Бенедикта взгляды, в которых светились и вражда, и суеверный страх. Поджи заграбастал деньги и осклабился, поглядывая на Бенедикта.
— Теперь уж не проиграю! — радостно сказал он. — Ты снял с них проклятье, — пояснил он доверительно. — Ну-ка поцелуй их еще разок!
Бенедикт испуганно отпрянул.
Поджи снова бросил кости и проиграл. Он орал, ругался, потом растолкал обступивших его парней и, схватив Бенедикта за руку, прошипел:
— Видишь, что ты наделал?! — Его раскосые глаза метали искры. — Всю игру мне портишь! Заворожил меня!
— Я брат Винса, — сказал Бенедикт дрогнувшим голосом.
— Знаю, — ответил Поджи. — Потому-то я и дал тебе поцеловать кости!
— Я ищу Винса, — Бенедикт потупился. — Ты знаешь, где он?
— Нет, — ответил Поджи.
— Ты его лучший друг, — в голосе Бенедикта звучал упрек, — ты знаешь, где он!
— Я понятия не имел, что Винс ушел из дому! Куда же он девался?
— Об этом я тебя спрашиваю.
Поджи с ожесточением поскреб живот, потом заметил:
— Винс сказал — ты хочешь податься в священники? — В голосе его послышались скрытые нотки уважения, и Бенедикт вспыхнул.
— Может быть, — буркнул он.
Поджи вытащил из кармана кисет с жевательным табаком и так набил себе рот, что щека у него вздулась, как от опухоли.
— За кого ты меня принимаешь? — спросил он. — Я тебе что — доносчик?
— Винс не сделал ничего плохого, — ответил Бенедикт. — И я его брат. Я хотел сказать ему, что он может вернуться домой. Мы все ждем его.
Желтые глаза Поджи на минуту приняли задумчивое выражение и остановились на игроках. Потом он сплюнул и решительно заявил:
— Ничего не знаю. Винс мне ни черта не говорил. Сейчас моя игра. — Он повернулся и пошел к своему месту. Бенедикт последовал за ним.
В круг посыпались деньги. Поджи потер игральные кости меж ладонями, перекрестил их и кинул. Выпала пятерка. Снова посыпались деньги. Он снова кинул. Выпала семерка. Он громко выругался.
— Иду ва-банк! — заявил он с яростью и швырнул на землю пять долларов.
Парень, стоявший с ним рядом, подхватил деньги и утвердительно кивнул.
Поджи метнул кости — выпала тройка. Снова посыпались деньги. Он метнул опять — выпала пятерка, метнул еще: девятка. Поджи исступленно ругался. Схватив кости жесткими пальцами, он повернулся к Бенедикту и поднес их к его рту.
— Ну, живо, поцелуй их! — сказал он. — Сукин сын! Винс спутался с Голди Перкач. Ступай туда через железнодорожный путь. Вызови его. Ему там не очень-то по нутру.
Бенедикт уставился на белые костяшки, поднесенные к его губам. Он поглядел в злые, настойчивые глаза Поджи, содрогнулся, затаил дыхание, зажмурился и поцеловал кости.
Когда он стал проталкиваться, чтобы уйти, до него донесся радостный голос Поджи. Кровь прихлынула к голове мальчика, а губы похолодели так, будто к ним приложили кусок льда.
— Семерка! — услышал он. — Черт побери! Я выиграл!
Бенедикт бросился прочь; он бежал до тех пор, пока играющие не остались далеко позади. Его бил озноб. «Мне все равно!» — твердил он, задыхаясь. Когда он поднимался по улице, ведущей в город, за спиной у него загромыхал грузовик, доверху нагруженный скарбом, и Бенедикт свернул на обочину, уступая ему дорогу. Накануне Дусексы покинули Литвацкую Яму, и рабочие из ремонтной бригады уже принялись за разборку их дома. Бенедикт видел обнажившиеся балки и облупленные стены; он наблюдал с чувством холодящего душу отчаяния, как фут за футом открывается длинный, скрытый в стене дымоход. Ему хотелось, чтобы грузовик скорей скрылся из виду! Ему так хотелось, чтобы развалины исчезли — и Винс по возвращении увидел бы все таким же, каким оставил, — Литвацкая Яма должна остаться на месте!
Но грузовик медленно тащился по дороге, и мальчик тоскливо шагал за ним. Машина с натугой поднималась на холм, взметая пыль; какой-то горшок выпал из груды наваленных вещей и покатился вниз по дороге, пока не застрял в канаве, укрывшись в густой дикой ромашке. Никто из сидевших в грузовике и не заметил, что он свалился.
Бенедикт в конце концов остановился. Он подождал, пока грузовик не скрылся из глаз. Сердце его сжалось: казалось, вместе с грузовиком исчезли и все доводы, которые он приготовил для Винса, — значит, и другие тоже покидают Яму! Но ведь Бенедикт знал, что Дусексы и еще кое-кто давно стремились уехать и просто воспользовались представившимся им случаем. Они продали Банку свои дома, которые никто, будучи в здравом уме, не купил бы у них. Но ведь и сами они под нажимом купили эти дома у Банка, только это было много лет назад; а часто ли в жизни человеку выпадает такая удача: продать что-нибудь Банку на подходящих условиях. Те, кто почти полностью выплатили за свои дома, охотно продавали их и покупали себе новые — в городе. Ежедневно кто-нибудь покидал Яму, а через несколько недель на месте дома, служившего кому-то кровом, стоял лишь остов, и затхлый запах брошенного жилья, отсыревшей штукатурки, ветхих обоев, старой краски, открытого погреба, развороченного цемента и известки долго носился вокруг зияющего углубления в земле. Мало-помалу, как тихо подкрадывающаяся болезнь, в Яму стал проникать дух запустения. На улицах появлялось все больше и больше разрушенных фундаментов, а дома словно начисто выгрызало какое-то страшное чудовище. Утром, вместо того чтобы застать мистера Петрониса в его огороде и увидеть, как он нагибается над грядкой с крошечными зелеными ростками, которые вылезли из глинистой почвы, его сосед обнаруживал на том месте, где было жилье мистера Петрониса, лишь огромную пустую яму — такое может привидеться только в кошмаре! — и грязную мутную лужу, которая с каждым днем растекалась все шире.
Грузовик, ехавший из Литвацкой Ямы, свернул направо, а Бенедикт — влево, по направлению к заводу и железной дороге. Огромное красное облако вдруг поднялось к небу и поплыло, разрастаясь, к горизонту. То была рудная пыль из доменной печи. Над заводом длинной грядой клубились облака дыма; они протянулись на целую милю и недвижно висели в воздухе. Улица Конституции проходила между двумя заводскими дворами и вела прямо к реке. Между рекой и заводом расположился перерезанный железнодорожными путями поселок Дымный Лог.
Бенедикт молил бога, чтобы никто из его городских знакомых не увидел его здесь.
Он рыскал по улочкам и переулкам поселка, перепрыгивал через канавы, избегая встреч с мужчинами, которые, шатаясь, выходили из кабаков. Иногда он натыкался на тела пьяных, распростертые посреди улицы. Он шел от дома к дому — и почти из каждого к нему доносился или воющий, отчаянный вопль женщины, или громкий, хриплый крик мужчины. И Бенедикт, спотыкаясь, брел все дальше, как побитая собака. Казалось, ни в одном доме не сохранилось целого стекла в окне. Они были заткнуты тряпьем или бумагой или зияли темными глазницами. Двери некоторых домов были приоткрыты. Из одной торчали чьи-то ноги: казалось, их владелец кое-как дотащился до дому и в изнеможении свалился на пороге, вытянув ноги наружу.
Будто чувствуя, что Бенедикт не принадлежит к обитателям Дымного Лога, какой-то пес выскочил из боковой улицы, бросился на него, сильно куснул за ногу и побежал бочком по дороге, истерически скуля. Бенедикт побледнел и опустился на землю, крепко сжав колени. Укушенное место горело, как ожог. На несколько секунд у него перехватило дыхание; он молча корчился от боли на обочине дороги, выпучив глаза и вбирая воздух широко раскрытым ртом. Затем воздух с шумом вырвался из легких Бенедикта, и он, будто переломившись надвое, уткнулся головой в колени.
Бенедикт сидел так несколько минут, а когда наконец поднял голову, в глазах у него было темно. Он закатал штанину и взглянул на укус. Нога покраснела. Поднявшись, он, прихрамывая, побрел вдоль улицы.
В конце концов Бенедикт остановил какого-то негра, который спешил на работу.
— Где живет Голди Перкач? — пробормотал он.
Негр серьезно посмотрел на него.
— Тебе не следует туда ходить, мальчуган, — сказал он, положив руку на плечо Бенедикта и глядя ему в глаза.
— Мне надо, — ответил Бенедикт, отводя глаза.
— Ты еще слишком мал, паренек, — сказал человек, резко толкая его назад, в сторону города.
Бенедикт сбросил его руку со своего плеча.
— Мне необходимо пойти туда, мистер! — вскричал он; бледное его лицо было мокро от слез.
Мужчина указал ему дорогу, и Бенедикт заковылял к дому на углу. Вьюнок обвивал крыльцо до самой крыши. Ставни на окнах были закрыты; дом казался необитаемым. Бенедикт уверенно постучал в дверь и замер. Минуту спустя хриплый голос проскрипел за дверью:
— Иди с черного хода!
Он спустился со ступенек, — ноги его словно одеревенели, колени не сгибались, — обогнул дом и пошел по узкой дорожке, по обеим сторонам которой за низенькой деревянной решеткой росли белые и желтые ирисы. За домом был двор, скрытый от взоров большими кустами бирючины и «снежных шаров». Дверь дома, выкрашенная потрескавшейся светлой краской, казалась обтянутой старой кожей. Она была неплотно прикрыта, и он потянул ее к себе, повторяя вполголоса: «Эта я, я!»
Он очутился на кухне; на плите кипел чайник; дверца холодильника была открыта, и он увидел полки, заставленные бутылками с пивом; рядом лежали куски бекона. На стене в золоченой раме истекал кровью Христос. За раму были засунуты крест-накрест две ветки пасхальной вербы. На веревке, протянутой через всю кухню, висело несколько пар длинных, сморщившихся шелковых чулок; рядом с ними — желтые и розовые женские сорочки и трусики. Приторно сладкий запах лекарства, смешанный с ароматом крепкого чая, наполнял кухню. Бенедикт уселся на стул, выкрашенный белой и красной краской, и стал ждать.
Он сидел напротив двери, которая вела в комнаты. Дверь была закрыта. Бенедикт напряженно вытянулся на стуле, словно в приемной учреждения; руки его непроизвольно сомкнулись — ладонь с ладонью — и лежали на коленях. Он закрыл глаза и бессознательно молился без слов, крепко стиснув зубы, тяжело дыша. Казалось, он не сидит на стуле, а бежит.
Хлопнула парадная дверь, — видимо, кто-то ушел, — и он услышал высокий и звонкий женский голос и приближающиеся легкие шаги, но продолжал сидеть не шевелясь, крепко сцепив на коленях руки. Дверь отворилась, и в кухню непринужденно, словно собираясь выпить утренний кофе, вошла совершенно голая рыжая девушка.
Она еле взглянула на него.
— Как ты попал на кухню? — спросила она сердито.
Лицо ее еще хранило сонное выражение, глаза слегка припухли. Она подошла к веревке, сдернула с нее два чулка, обернулась и вдруг возмущенно завизжала:
— Что ты здесь делаешь?
Бенедикт закрыл лицо руками, весь сжавшись.
Лицо девушки стало пунцовым от гнева, она подошла к нему, размахнулась и ударила его по щеке, а потом с плачем выбежала за дверь. Стоя в коридоре, она всхлипывала.
— Убирайся отсюда, мерзкий, грязный мальчишка? Я сейчас позову полицию! Голди! — закричала она. — Голди!
У Бенедикта лицо покрылось испариной, он утерся потными руками. Девушка за дверью впала в истерику. Она вопила, осыпая его бранью:
— Ты заплатишь за это, грязный оборвыш, вонючий литвак! Ты мне заплатишь за это! — И снова принялась звать: — Голди!
Бенедикт услышал чьи-то быстрые шаги, дверь стремительно распахнулась, и хриплый, густой, как у мужчины, голос заорал на него:
— Ты кто такой? Как ты попал сюда? Кто оставил дверь открытой?
Женщина вцепилась ему в волосы и приподняла со стула. Она оторвала его руки от лица, но Бенедикт крепко зажмурился.
— А-а-а! — Голди шумно втянула воздух и захлебнулась от негодования, широко разинув свой кроваво-красный рот. Она с такой силой продолжала тянуть его за волосы, что губы его невольно растянулись в страдальческую гримасу.
— Ты, хочешь, чтобы меня зацапали, да? — вопила она, задыхаясь от ярости.
Не открывая глаз, Бенедикт хрипло закричал:
— Где Винс?
Она дернула его за волосы так, что он оскалился.
— Какой такой Винс? — взвыла она. — Твой старик? Передай своему папаше, чтобы он не смел больше шляться сюда!
— Нет, мой брат, — пробормотал осипшим голосом Бенедикт.
— Знать не знаю твоего окаянного брата! — орала она, больно дергая его за волосы. — Скажи ему от меня, что, если я его когда-нибудь здесь увижу, я его выгоню из дома! Я велю своим девкам заплевать его! Убирайся отсюда! И если я еще раз увижу, что ты шатаешься здесь и подсматриваешь за нами — тебе не поздоровится! Я возьму палку, дрянной, сопливый мальчишка, и проломлю твою дурацкую башку! Господи боже мой, и от какой только матери ты родился?
Она поволокла его к открытой двери и вышвырнула во двор. Бенедикт упал в гущу ирисов. Дверь с шумом захлопнулась за ним, загремел засов,
Бенедикт так и не раскрыл глаз.
4
Его всего трясло. Он не помнил, как выбрался из Дымного Лога, не видел дороги, по которой возвращался обратно к себе в Яму. Солнце еще не зашло, но ему казалось, что вокруг него — непроглядная тьма: он шел, как лунатик, уставившись в землю широко раскрытыми глазами.
Протяжный, жалобный скрип калитки вывел его из оцепенения; он остановился посреди двора, глядя, как калитка медленно затворяется за ним. По телу его пробежала дрожь. Кошка прыгнула с крыльца через сломанные перила. Он поднялся по ступеням — их было три — и постучал. Широко распахнув свежевыкрашенную входную дверь, он прошел по коридору и открыл дверь в кухню. Но там никого не было. Все дышало безмятежным покоем: белая скатерть на столе, плотно закрытые дверцы буфета, раздвинутые занавески на окне. На подоконнике в бледных лучах солнца кровоточила красная герань.
— Отец мой, — прошептал он пересохшими губами. Он снова прошел через слабо освещенный коридор и тихо постучал в дверь. Не получив ответа, он открыл ее. В эту комнату он приходил прежде к отцу Дару, а теперь, примостившись боком у окна, здесь сидел отец Брамбо с раскрытой книгой на коленях. Его тонкий профиль четко выделялся на фоне светлого окна.
— Отец мой, — повторил шепотом Бенедикт. Отец Брамбо испуганно поднял голову и чуть не вскрикнул от неожиданности.
Бенедикт, спотыкаясь, направился было к нему, но остановился.
— Я — Бенедикт, отец мой, — едва слышно произнес он и, устремив взгляд куда-то вверх, подошел поближе.
Отец Брамбо торопливо положил книгу на подоконник, повернулся к нему, нахмурился и спросил:
— Что случилось, Бенедикт? — Затем смущенно засмеялся. — Ты напугал меня!
Внезапно Бенедикт разразился рыданиями. Казалось, они вырывались из самой глубины его потрясенной души. Он бросился к отцу Брамбо и упал на колени у его ног. У отца Брамбо вырвалось удивленное восклицание. Бенедикт уткнулся лицом в колени молодого священника.
— Увезите меня отсюда, отец мой, — молил он прерывающимся голосом. — Пошлите меня в семинарию — увезите меня сейчас же! Я умру, если мне придется здесь оставаться! Я не могу здесь больше жить!
— Но что случилось? — с тревогой воскликнул отец Брамбо, приподнимая заплаканное лицо Бенедикта и пристально глядя в его измученные глаза. — Скажи мне, что случилось? Что ты наделал? — спрашивал он, испытующе глядя на Бенедикта. Затем он отвел глаза и осмотрелся вокруг. Взгляд его выражал растерянность; всякие новые осложнения беспокоили его. Он страдальчески вздохнул и прибавил: — Расскажи мне, что ты наделал, Бенедикт, и я постараюсь помочь тебе.
— Я хочу умереть, отец мой! — рыдал Бенедикт.
— Что ты говоришь? — изумился отец Брамбо. В голосе его звучали испуг и негодование, а его бледное лицо стало таким же напряженным, как у Бенедикта. — Какой у тебя несчастный вид, — прошептал он с нежной жалостью. Он не возражал, когда голова Бенедикта снова упала ему на колени, и стал рассеянно гладить его, скользя печальным взором по комнате. Он взглянул на трясущиеся плечи и дотронулся до руки Бенедикта. Она горела. — О матерь божья! — умоляюще воскликнул он вполголоса. — Скажи сейчас же, что ты наделал?
Но Бенедикт только отчаянно рыдал, и отец Брамбо беспомощно ждал, когда он успокоится. Он чувствовал, как горячие слезы мальчика проникают сквозь рясу на его колени. Он снова приподнял мокрое лицо Бенедикта и пристально всматривался в его полузакрытые глаза, словно искал в них ответа.
— В чем дело? — повторял он. — Кто-нибудь умер?
Бенедикт отрицательно покачал головой. Его глаза оставались закрытыми. Он слышал запах крепкого чая и какой-то другой, незнакомый запах и, высвободив голову из рук священника, закрыл лицо руками.
— Несчастный случай?
Тогда Бенедикт медленно отвел руки от лица. Ладони его были мокры от слез; они горели, как свежие раны. Он глубоко вздохнул, яростно стараясь унять невыплаканные слезы, снова положил голову на колени отцу Брамбо, повернувшись лицом к окну. Он долго оставался в таком положении, не произнося ни слова, чувствуя руку отца Брамбо на своей голове и слыша его учащенное дыхание.
— Отец мой, — вымолвил он наконец. Голос его звучал безжизненно, как будто издалека. — Я теперь тоже ненавижу Яму. Так же, как и вы, — я знаю. Здесь грязно и уродливо, я ненавижу всех, кто здесь живет.
Он посмотрел в окно: мимо проезжал пустой грузовик, и он вспомнил тот, другой грузовик, который так торопился покинуть Яму и, напрягаясь изо всех сил, полз по дороге как черепаха. Он вновь вспомнил, как отец Брамбо стоял наверху деревянной лестницы и со слезами на глазах глядел вниз на долину; увидел его удаляющуюся фигуру в тот вечер, когда отец Дар тщетно взывал к нему, прося его встретиться с прихожанами.
— Простите, что я пришел к вам, отец мой, — сказал мальчик, прижимаясь губами к черной рясе. — Я и н е знал, что иду сюда. Я сам не знаю, зачем пришел.
Воцарилось молчание. Молодой священник долго не отвечал. И вдруг в сознание Бенедикта явственно ворвался насмешливый голос отца Дара, словно старый священник вошел в комнату и вмешался в разговор: «Значит, ты тоже пришел сюда за мирским советом?» Бенедикт отвернул голову, стараясь не слушать.
— Я рад, что ты приходишь ко мне со своими горестями, — медленно промолвил отец Брамбо. Бенедикт прикрыл глаза и улыбнулся, радуясь успокоительной полутьме.
— Я хочу уехать, — сказал он. — Отец Дар много раз говорил мне, что я могу поступить в семинарию, когда захочу. Я хочу теперь же! Теперь! Пожалуйста, попросите епископа!
— Ты еще слишком юн, — ответил отец Брамбо и, словно желая смягчить свои слова, успокаивающе погладил его по голове. И вдруг прибавил: — Как чудесно это мгновение для меня, Бенедикт!
— Вы поможете мне, отец мой?
Отец Брамбо снова погладил его по волосам.
— Да, — ответил он, сжал губы, помедлил какое-то мгновение и ласково сказал: — Может быть, ты немного погодя расскажешь мне, почему ты решился на это именно теперь?
Он взял Бенедикта за подбородок своими нежными пальцами и приподнял его лицо.
— Немного погодя, — повторил он и помог Бенедикту подняться на ноги.
Бенедикт отвернулся и, стоя спиной к отцу Брамбо, сказал:
— Я был в Дымном Логе, отец мой.
Отец Брамбо встал со стула, поглядел на свою рясу, вытащил из кармана платок и вытер следы слез. Бенедикт не смотрел на него.
— Что? — спросил отец Брамбо, послюнив платок, чтобы еще потереть пятно.
— Я искал брата, — ответил Бенедикт вялым, бесстрастным тоном. — Мне сказали, что он там. — Мальчик остановился и облизал сухие губы. — Я... совершил грех, пытаясь узнать, где он. Я пошел туда. Я вошел в один дом... — Он повернулся к отцу Брамбо, лицо его выражало страдание. — Я знаю, что вы сейчас переживаете, отец мой! — с трудом выговорил он.
Отец Брамбо сунул в карман носовой платок.
— Ничего, ничего, — сказал он, облегченно вздохнув и широко улыбаясь. — Как ты напугал меня.
— Мне кажется, я согрешил, отец мой, — мрачно продолжал Бенедикт, отводя глаза в сторону.
Отец Брамбо кинул на него пронзительный взгляд.
— Согрешил? — повторил он.
Бенедикт ответил, не поворачивая головы.
— Я хотел пойти туда, отец мой. И не только из-за Винса. Я хотел посмотреть. Я надеялся, что увижу.
— Что увидишь? — переспросил отец Брамбо.
— Их увижу! — вскричал Бенедикт и словно через силу опустил голову и зажмурился. У него дрожал подбородок. Ведь он и увидел. Ведь руки, которыми он прикрыл глаза, не смогли этому помешать! — Девок, отец мой! — вскричал он в возбуждении. — Голых девок, проституток, там, в Дымном Логе.
Теперь он стоял молча, выплеснув из себя все слова. Комната продолжала жить своей обычной тихой и сонной жизнью. За окном хрипло кашляла, слегка подрагивая, Литвацкая Яма.
Наконец раздался голос отца Брамбо. Бенедикт поднял голову и прислушался. Священник повернулся к нему и сказал неуверенно:
— Я не совсем понимаю, о чем ты мне рассказываешь, но, если ты сам не совершил какого-нибудь греха, Бенедикт... — голос его дрогнул. Он вперил взгляд в Бенедикта. — Ты не совершил?..
Бенедикт вопросительно посмотрел на него. Священник вспыхнул, опустил глаза и повторил:
— Я имею в виду, ты, ты сам, Бенедикт. Ты не...?
Бенедикт понял. Кровь ударила ему в голову. Ему стало нестерпимо стыдно. Он поднял голову и холодно ответил:
— Нет, отец мой!
Священник нервно засмеялся.
— Я только хотел сказать... — произнес он, сильно побледнев, — что не совсем тебя понял. А ты... — Наконец он улыбнулся с серьезным видом и, взяв Бенедикта под локоть, проговорил: — Пойдем. Пойдем лучше на кухню. Там мы поговорим.
Он повел Бенедикта из комнаты — мальчик угрюмо следовал за ним. Отец Брамбо говорил теперь громче и оживленнее, чем прежде.
— Ты знаешь, миссис Ромьер в конце концов покинула нас. Не знаешь ли ты кого-нибудь, Бенедикт, кто мог бы прислуживать вместо нее? Может, у тебя есть какая-нибудь родственница?
Бенедикт молча покачал головой, идя за молодым священником.
— Впрочем, это не так уж важно! Обойдемся пока и без прислуги. — Отец Брамбо открыл холодильник, вынул бутылку молока и поставил на стол. Затем достал из буфета начатый пирог и поставил рядом с молоком. — Я люблю посидеть здесь в одиночестве за едой, — сказал он. — Бери, — прибавил он, избегая взгляда Бенедикта.
Священник взял кусок пирога и откусил.
— Теперь говори, — спохватившись, обратился он к Бенедикту. — Открой мне свою душу...
Но Бенедикт уже не мог говорить.
— Мне больше нечего сказать, — пробормотал он.
— Я хочу, чтобы ты считал меня не только своим духовным отцом, — сказал отец Брамбо, — но и своим другом.
Бенедикт покраснел. Он долго глядел на пирог, стоявший на столе, и наконец сухо произнес:
— Они сносят все дома в Яме, отец мой! Наверно, и нам придется уехать.
Он сжал руки, крепко сплетя пальцы. Тень отца Брамбо падала на занавеску. Красная герань кровоточила, горя на солнце.
— Я слабею, отец мой, — сказал мальчик. Мысли медленно формировались в его сознании. Почувствовав участливое внимание молодого священника, он с внезапным порывом доверия продолжал: — Я чувствую, что ослабеваю, отец мой. Еще совсем недавно я думал, что с годами стану гораздо сильнее, но на самом деле я становлюсь малодушнее, отец мой! Я думал, что каждый человек, каждый хороший человек должен ненавидеть зло... — он поднял глаза на священника, — а теперь дурное искушает меня! Мои мысли греховны. Я не знаю, как сопротивляться, я взываю ко Христу, но с каждым днем слабею. Мне очень тяжко, я сбился с пути. Иногда мне кажется, что я уже не могу отличить добро от зла. Разве мой родной отец, который ненавидит церковь, плохой человек? А католики в городе, продавшие церковь Банку, — разве они хорошие? Мой брат Винс очень дурной, я знаю, но он так добр к моей матери! Я встретил человека, его били в тюрьме и называли коммунистом. Но он хочет спасти наши жилища и создать союз — разве он скверный человек? А те, кто так избивали его, и те, кто требуют, чтобы мы отказались от своих домов, — разве они хорошие, отец мой? Что хорошо и что дурно? Я, как могу, стараюсь не поддаваться злу, но я не в силах ничему воспрепятствовать! — Он уперся ладонями в стол. — Моя вера слабеет! — вырвалось у него из самой глубины души. — Вера слабеет! Я хочу на время уехать отсюда! Я хочу учиться! Я хочу пожить в уединении, отец мой, побыть подольше в одиночестве, чтобы заниматься, чтобы укрепить свою веру, возродить и очистить душу! — Он поднял измученное лицо к отцу Брамбо, который внимательно слушал его с бледной улыбкой на губах. — Помогите мне, отец мой! — взмолился он.
Отец Брамбо приветливо улыбнулся, провел языком по пересохшим губам и сказал:
— Не произноси больше этих слов, Бенедикт, не говори, что вера твоя ослабела. Мы так тебя ценим. — Он поглядел на Бенедикта. — Я не хочу, чтобы ты еще хоть раз это повторил! — вскричал он. В голосе отца Брамбо прозвучала настойчивая просьба, даже приказание. — Ты не должен так думать! — Бусинки пота выступили у него на лбу, и Бенедикт пристально смотрел на них. На светлых волосках над верхней губой тоже выступил пот. Взгляд отца Брамбо сосредоточился на какой-то точке позади Бенедикта. — Такие мысли тревожат и волнуют каждого из нас время от времени, — продолжал он нервно, слегка охрипшим голосом, — но мысли эти проходят... Они перестают нас беспокоить. По самой своей природе зло часто незримо проникает в добро, иногда принимает личину добра. И только вера обладает способностью распознавать за обманчивым внешним обликом черную душу зла. Вера, Бенедикт, абсолютная вера в торжествующую церковь! Тяжелые приступы мучительной духовной борьбы — это те горькие испытания, через которые со славой прошли самые великие святые нашей церкви. Обращайся к нему, Бенедикт, обращайся в такие минуты к нашему господу богу. Вручи ему свою душу. Бог тебя не оставит!
Голос его сорвался. Он помолчал с минуту, словно исчерпал все свои доводы, и потянулся через стол к Бенедикту. Тот сидел потупившись.
— Никогда, никогда не слабей! — снова вскричал отец Брамбо, обеими руками отталкиваясь от стола. — Приходи ко мне, когда тебя будет мучить искушение! Мы будем вместе молиться, чтобы господь дал нам силы, мы будем вместе бороться и изгоним злые, чудовищные мысли, которые являются даже во сне и так терзают нас, что мы просыпаемся в холодном поту от страха или пылая от ужаса и стыда, чувствуя на себе дыхание... — он глубоко вздохнул, грудь его поднялась, —... злого искушения!
— Хорошо, отец мой, — тихо ответил Бенедикт, опустив глаза, чтобы не видеть лица священника.
Наступило тревожное молчание. Бенедикт, чувствуя, как священник, задыхаясь, пытается совладать со своим волнением, сидел, низко опустив голову.
Потом рука отца Брамбо коснулась его руки, и когда он поднял глаза, то увидел, что отец Брамбо уже улыбается, устремив взгляд куда-то вдаль. Лицо молодого священника было покрыто легкой сеткой испарины, на губах запеклась пена. Наконец его глаза остановились на Бенедикте, он тихо улыбнулся мальчику и сказал:
— Немного позднее мы пойдем в церковь, ты и я, и вместе помолимся.
— Отец мой, — тихо прошептал Бенедикт. — Отец мой, как мне хорошо сейчас, когда я с вами — здесь или в церкви. Я чувствую себя добрым, справедливым, спокойным. — На губах мальчика мелькнула слабая улыбка, и он добавил: — Но когда я ухожу из церкви, когда я иду туда... — он локтем показал на дверь, — там совсем другое.
Отец Брамбо не слушал. Капельки пота на его лице медленно высыхали, он смотрел на Бенедикта все с тем же отсутствующим выражением.
— Я знаю, я понимаю, — промолвил он.
— В тот день... — начал Бенедикт. Теперь ему очень хотелось поговорить с отцом Брамбо. Он бросил на него взгляд и перевел глаза вниз, на свои руки. — Вы помните, как в тот день они выбрасывали негров из их домов?
Отец Брамбо покачал головой.
— Пришли солдаты и выкинули их на улицу, — сказал Бенедикт, глядя вниз. — Они явились и к матушке Бернс; я пытался помешать им, когда они начали выбрасывать мебель на дорогу. Я сказал им... — он с мольбой поднял глаза на священника, — я сказал им, — продолжал он, беспомощно захлебываясь потоком слов, — что я прислуживаю в церкви, чтобы они спросили обо мне отца Дара; я просил их подождать, пока матушка Бернс не вернется домой, но...
Теперь улыбка отца Брамбо потеплела. Лицо стало спокойным, напряженность спала.
— О Бенедикт, — заметил он мягко, — ты пытаешься нести все бремя мира на своих плечах! Тебе не следовало сопротивляться солдатам. Вместо этого нужно было прийти сюда.
— Я знаю, отец мой, — смиренно ответил Бенедикт, — но об этом-то я и говорю. Мне тогда на ум не шли ни церковь, ни молитвы. Эти люди были воплощением зла, и мне хотелось убить их!
— Но возможно, негры и сами были не прочь покинуть свои лачуги, — осторожно возразил ему отец Брамбо. — Они теперь поселятся в лучших жилищах, — сказал он. — Может быть, в конце концов это обернется к лучшему для них.
— Теперь они живут в лесу, отец мой, — произнес Бенедикт.
— В лесу? — повторил священник.
— И матушка Бернс тоже.
— В каком лесу?
— За Пыльной фабрикой. Они выстроили там хибарки и поселились в них. Видите ли, отец мой, — доверительным тоном прибавил мальчик, — некоторые из них остались без работы, и им больше некуда деться.
Отец Брамбо вздохнул; по его тонкому лицу скользнуло раздражение.
— Мне никогда не приходилось сталкиваться с подобными проблемами, — сказал он холодным тоном. — По правде говоря, я не гожусь для этого.
Бенедикт поднял голову с надеждой.
— Если бы вы захотели, — сказал он, — пойти со мной в лес...
Отец Брамбо закрыл глаза и отрицательно покачал головой.
— Нет, — сказал он, — пусть они придут сюда, в церковь.
— А может быть, если бы вы послали письмо Компании?.. — начал Бенедикт.
Священник, все еще не открывая глаз, мотнул головой.
— Нет, нет, Бенедикт, — сказал он терпеливо. — Я не могу вмешиваться в такие дела, даже если бы это и принесло пользу, в чем я сомневаюсь. Я ничего не знаю о Компании, но, Бенедикт, и богатые и бедные — одинаково равноправные члены нашей церкви. Мы не имеем права становиться на сторону одних против других. Мы заботимся о душе, — сказал он, указывая себе на грудь.
Бенедикт посмотрел на то место, к которому прикоснулся отец Брамбо. Беспокойный завод хрипло кашлял вдали. Разглядывая свои пальцы, Бенедикт спросил:
— Вы напишете обо мне епископу?
Отец Брамбо кивнул в знак согласия.
— Я бы сделал это даже и без твоей просьбы, — сказал он, глядя поверх Бенедикта. — Видишь ли, Бенедикт, церкви очень дороги такие, как ты. — Он улыбнулся мальчику. Послышался какой-то шум. Отец Брамбо поднял голову и замер от удивления. Бенедикт обернулся. В дверях, прислонившись к косяку, опустив тяжелую косматую голову, босоногий, в подтяжках поверх теплой фуфайки, стоял отец Дар. Он глядел на них с хитрой улыбкой. Выцветшая кожа собиралась неровными складками на его дряблом лице. Взгляд его упал на молоко и пирог на столе, и он радостно вскричал:
— А здесь, оказывается, вечеринка!
Он вошел в комнату; крупные, квадратные ногти на пальцах его ног были синими, в трещинках. Он положил узловатую руку на плечо Бенедикта, успокоительно погладил его и неверными шагами направился к холодильнику.
С трудом нагнувшись, он заглянул внутрь, затем приподнял крышку, чтобы посмотреть на лед, и, повернув голову, к которой прилила кровь, спросил:
— Все выбросили?
Он подозрительно уставился на отца Брамбо, а тот повернулся лицом к окну и сидел, крепко сжав губы.
Отец Дар пожал плечами, порылся в кармане и вытащил доллар.
— Бенни, мальчик мой, — сказал он заискивающим тоном, — сбегай-ка за угол и принеси своему старому священнику бутылку пива.
Бенедикт стал с неохотой подниматься.
— Оставайся на месте! — внезапно подскочив в своем кресле, вскричал отец Брамбо голосом резким, как удар хлыста.
Тяжелая, с густой копной волос голова отца Дара неуклюже повернулась к нему. Старик внимательно поглядел на отца Брамбо.
— Вы отказываете мне в бутылке пива? — спросил старик напыщенно, начиная часто и тяжело дышать.
Отец Брамбо не смотрел на него, он нервно стиснул руки, лежавшие на коленях. Отец Дар снова повернулся к Бенедикту.
— Бенедикт, дружок, — сказал он тихо и вкрадчиво, — беги поскорей и окажи эту маленькую услугу старику. Это тут же за углом. Вот тебе деньги. — Он протянул доллар, который беспомощно повис в воздухе. Голос отца Дара звучал, как хрип затравленного зверя, залегшего в кустах. Он переводил взгляд с одного на другого, потом прерывистым шепотом сказал отцу Брамбо:
— Чего вы добиваетесь? Восстанавливаете мальчика против меня! Где моя одежда? — спросил он.
— Вам прекрасно известно, где она, — ответил молодой священник, кинув на Бенедикта беглый взгляд.
Отец Дар повернулся к Бенедикту.
— Он прячет мою одежду, — пожаловался он и невесело засмеялся. — Вот все, что он мне оставил!
Бенедикт изумленно уставился на него, потом перевел глаза на отца Брамбо. Отец Дар поймал взгляд Бенедикта и стал торопливо убеждать его:
— Скажи, ему, Бенедикт, скажи ему, дружок, объясни ему, что делает рабочий человек, когда возвращается домой после работы. Разве кто-нибудь посмеет отказать ему в кружке пива после восьми или десяти часов рабского труда у пылающей адской печи при открытой топке? А я, разве я не служил по восемь, десять, двенадцать часов в день, год за годом, в таком же раскаленном преддверии ада — и разве я не имею права на кружку пива, чтобы время от времени немного затуманить себе мозги? Скажи ему, Бенедикт.
Бенедикт молчал.
Отец Дар перевел взгляд на отца Брамбо, и вдруг молодой священник спросил:
— Вы что, пытаетесь сделать из мальчика преступника?
Отец Дар вздрогнул: его тяжелая голова медленно и неуверенно качнулась.
— Преступника? — повторил он.
— Вы посылаете его в кабак, — сказал отец Брамбо, брезгливо выговаривая это слово и понижая голос, — вы, приходский священник.
Тяжелое, тягостное молчание нависло над ними. Отец Дар смотрел куда-то вбок не мигая; он несколько раз повторил слово «преступник», будто заучивая его наизусть, и, взглянув на Бенедикта, а потом на своего помощника, покачал головой.
— Он прав? — внезапно спросил он Бенедикта. — Прав? — Бенедикт отвел глаза; старик схватил его за руку и заставил повернуться к нему лицом. — Он прав? — закричал он.
Бенедикт молча сделал отрицательный жест. Отец Дар, торжествуя, отступил назад и оглядел отца Брамбо с головы до ног.
— Вы молоды, сын мой, — сказал он с грубой снисходительностью, — вам еще придется здесь многому научиться. Первое: вы не должны бросать вызов установившимся обычаям. Второе, — сказал он жестко, — вам не следует бежать от народа. — Он снова оглядел молодого священника суровым взглядом из-под нависших бровей. — Скажи ему, Бенедикт, — произнес он, подтолкнув Бенедикта. — Поддержи меня. Ведь здешние жители всегда присылают мне на пробу собственное пиво, когда открывают новую бочку, потому что считают меня своим человеком. Я, так сказать, всегда и всюду с ними: на заводе, в шахтах, я вместе с ними сую свой старый нос в доменную печь, так же прожигаю себе штаны, как они. Скажи это ему, Бенедикт! — приказал он. — Скажи ему, разве это не чистейшая правда, мальчик? Ты-то это знаешь, ты родился здесь, ты сумеешь сказать ему!
Бенедикт утвердительно кивнул, опустив глаза.
Отец Дар подошел к столу и, перегнувшись через него, погрозил пальцем отцу Брамбо, непроницаемое лицо которого выражало лишь ироническое терпение.
— Им нравится, что вкусы мои не расходятся с их вкусами! — продолжал он. — Они ценят и уважают человека, который любит их пиво, который выпечен из того же теста, что и они, так же грешен, как и они, и, если говорить правду, проводит в исповедальне столько же времени, сколько они! Скажи ему это, — он почти кричал, взывая к Бенедикту. — Ты знаешь всю правду! Даже вода, в которую я окунал тебя, когда крестил, дитя мое, была грязной от заводской копоти! Правда у тебя в крови!
Отец Дар похлопал Бенедикта по плечу и приблизил свое широкое лицо к его лицу. Бенедикт почти в упор глядел в налитые кровью глаза священника.
— Ты должен помогать моему помощнику своими советами, Бенедикт, — сказал он величаво. — Ни семинарии, ни книги не могут всему научить! — Он подтянул штаны и снова заглянул в холодильник. — Помнится, я оставил здесь две бутылки, — пожаловался он. Потом выпрямился, лицо его стало багрово-красным, и он заревел: — А, миссис Ромьер! Старая хрычовка забрала их с собой, когда наш молодой священник выгнал ее!
— Я попросил ее оставить этот дом, — сказал отец Брамбо холодным, почти официальным тоном, — потому что застал ее за выпивкой в кухне. Она была пьяна! — Он посмотрел на Бенедикта, как будто объяснение предназначалось в первую очередь для него.
— Что?.. — снова заревел отец Дар. — Да ведь она получала тут сущие гроши, неужели вам жалко, чтоб она выпила глоток-другой для утешения? — Он уставился на своего помощника, потом пожал плечами. — Если бы вы иногда сами прикладывались, вы бы не замечали, когда это делают другие, — он прищурился, поглядел исподлобья на отца Брамбо и добавил убежденно: — Через несколько лет вы тоже начнете подливать водичку в церковное вино!
Отец Брамбо вспыхнул.
— Бенедикт, — задыхаясь, воскликнул он, — ты слышал, что он сказал? Ты слышал?
Бенедикт залился ярким румянцем.
— Отец мой, — сказал он нахмурившись, — разрешите мне проводить вас наверх.
— Куда он спрятал бутылки? — снова заволновался отец Дар. — Он затеял со мной скверную игру. Иезуит! Ему следовало бы быть иезуитом. Ты знаешь, Бенедикт, — обратился он к мальчику тихо и доверительно, но стараясь, чтобы отец Брамбо, который сидел, опустив свое побледневшее лицо, слышал его слова, — среди нас появился хитрейший иезуит! Политикан, дипломат, соглядатай... Он приехал сюда из Бостона, со своим культурным произношением, приехал сюда, к нам, Бенедикт, — многозначительно подчеркнул старик, покачивая головой, — в эту дыру, самую зачумленную во всей стране, где не только тела, но даже души жителей так густо покрыты копотью и пылью, что их невозможно распознать и на небесах! Зачем он явился? — спросил старый священник, придвинувшись и чуть не потеряв равновесие. Он заговорил еще тише, будто отец Брамбо пытался его подслушать. — Кто вдруг вспомнил отца Дара, которого сослали сюда двадцать лет назад, сразу после стачки шахтеров, потому что и он внес свою маленькую лепту в борьбу против Компании? Кто вспомнил его, погребенного все эти годы в прогнившей старой церкви, которая уже почти совсем развалилась? За ним стоит епископ! — вскричал отец Дар, выпрямившись и воздев руку над своей лохматой головой. — Он принес с собой дух интриги! Творятся темные дела! Разве он пришел как пастырь к своей пастве? Посмотри-ка на него, Бенедикт, и скажи мне, что ты чувствуешь сейчас в глубине души? — Он повернул к себе Бенедикта и зажал его щеки между своими ладонями. Мальчик стоял перед ним и беспомощно смотрел на отца Брамбо, широко открыв рот, как рыба. Отец Брамбо словно окаменел и глядел в сторону. — Посмотри на него! — приказал старый священник. Руки его дрожали, пальцы больно впивались в щеки Бенедикта. — Разве он похож на человека, готового разделить жизнь с бедняками, с отверженными шахтерами и рабочими, которые, умирая от усталости, бредут в церковь, чтобы немного всхрапнуть во время обедни, с людьми, от которых за милю разит трудовым потом? Разве он похож на их учителя и друга? Спроси его, Бенедикт, сможет ли слух его выдержать ломаный язык наших жителей, сможет ли он примириться с их исковерканными представлениями о жизни; предупреди его, Бенедикт, — ведь ты умеешь говорить с ним, — предупреди его, разъясни, что ему часто придется затыкать свой бледный нос, когда он будет находиться среди этих душ, уже сейчас обреченных искупать свои грехи в чистилище нищеты и непосильного труда. Пусть он пойдет — проси его, Бенедикт, чтобы он пошел, — к молоху; пусть пойдет на Завод, и падет ниц перед ним, и попросит Завод вернуть бесчисленное множество сожранных им человеческих душ: людей, раздавленных под колесами, сожженных дотла, людей, чьи кости молох ломал одну за другой, пока они не превратились в прах. Скажи ему, Бенедикт! — молил отец Дар. Слезы внезапно брызнули у него из глаз, полились по щекам, слова с хрипом вырывались из горла. — Скажи ему, Бенедикт, — вскричал он прерывисто и, задыхаясь, дико уставился на Бенедикта. — Спроси, когда его призовут исполнить последний обряд, сможет ли он в обугленной массе, которую на лопате вытащили из горячей печи, признать человеческое существо; хватит ли у него сил благословить ящик с пеплом или осенить крестным знамением слиток чугуна, в недрах которого покоится прах несчастного рабочего, навеки заключенного в эту темницу, из которой его не высвободит даже взрыв динамита, а лишь адское пламя! — Голос старого священника окреп, он протянул к Бенедикту трясущиеся руки. — Скажи ему все это, Бенедикт, — старик всхлипнул, — а потом спроси его, считает ли он себя подходящим человеком для этих людей и для этих мест!
Тяжело дыша и брызгая слюной, он тыкал Бенедикта в грудь и кивал в сторону отца Брамбо, но тот не шевелился. Старик подошел к буфету, открыл его, потом, волоча ноги, вернулся на прежнее место и вытащил из кармана письмо.
— Вот оно! — сказал он, похлопывая по конверту и с удовлетворением увидев, что отец Брамбо неотрывно смотрит на письмо. — Хочешь прочитать? — спросил он Бенедикта. — Ты знаешь, что в письме? Нет? Зато он хорошо знает! — отец Дар кивнул с таинственным видом в сторону отца Брамбо. — Но я скажу тебе. Это маленькое письмецо, — продолжал он, стуча по письму указательным пальцем, — сделает нас всех богатыми! Озолотит и нас, и нашу церковь! Я расскажу тебе, Бенедикт, если это тебя интересует, почему сей иезуит внезапно появился в нашей зеленой долине. — Он снова похлопал по письму. — Здесь обо всем написано, — заявил он с многозначительным видом. — Богатство, новая церковь, Бенедикт, большая новая церковь! Он знает, — добавил старик, хитро поглядев на отца Брамбо и доверительно кивая Бенедикту, — он знает, о чем это письмо. Очень хорошо знает, — повторил отец Дар с решительным видом. Прищурившись, он посмотрел на молодого священника и снова понизил голос. — Они засунули меня в эту дыру и забыли обо мне — я боролся за объединение горняков в союз, Бенедикт, и они выслали меня сюда, чтобы я, всеми забытый, оставался здесь до конца дней моих. И вдруг нам повезло — Компания снова обратила внимание на нас, и тогда епископ вдруг вспомнил о моем существовании. Потому-то и приехал сюда этот молодой шпион — он должен проследить за тем, чтобы я не сорвал их планы, чтобы моя земная любовь к моим прихожанам, принесшая мне столько горестей, не расстроила расчеты тех, кто больше всего на свете любит золото, мой юный друг. — Он похлопал по своему карману. — Целое состояние, Бенедикт, — повторил он. — Сумма, которая может поразить воображение! Деньги на новую церковь! А наш иезуит узнал об этом! — сказал отец Дар. — Новости быстро распространяются; вот он и явился сюда, как стервятник на пиршество! — Старик с силой хлопнул Бенедикта по плечу и громко вскричал: — Я пленник, Бенедикт, в своей собственной церкви, в своем собственном доме. Но скажи ему, Бенедикт, что я не одинок, — наша старая церковь останется на месте, люди поддержат меня. Нет! — говорим мы им... — Он вытащил из кармана письмо и помахал им над головой. — Нет! — говорим мы Компании, — нет, нет и нет!
И он разорвал письмо сначала пополам, потом на четыре части и швырнул клочки на пол, торжествующе глядя на молодого священника, который приподнялся в своем кресле. Старик обернулся к Бенедикту, глаза его сверкали, он схватил мальчика за плечо и вскричал:
— Ты видишь, Бенедикт! Видишь! Вот им их злато! — Он, шатаясь, подошел к холодильнику и снова заглянул внутрь. — Так, значит, ты не хочешь оказать услугу старику? — сказал он жалобно и, собравшись с силами, ни на кого не глядя, не произнеся больше ни слова, вышел из комнаты. Они слышали его свистящее дыхание, когда он поднимался по лестнице.
Они долго молчали. Минуты тянулись тягостно, кухня, казалось, потеряла свой привычный уют, будто налетел ветер и разметал все вокруг. Бенедикт обратил горящий, скорбный взгляд на отца Брамбо; тот сидел в кресле неподвижно, как изваяние, тонкие голубые вены пульсировали на его висках.
Наконец молодой священник повернулся к мальчику и проговорил:
— Ты слышал, что он сказал? — Лицо его было холодным и белым, как мрамор. Медленно, тихим ледяным голосом он произнес: — Все, что ты сейчас слышал, Бенедикт, это — богохульство!
Бенедикт глядел в это лицо, в котором так явственно сквозили страх и отвращение. Мальчику казалось, что молодого священника задело не богохульство отца Дара, скорее он испытывал лишь опасливую брезгливость, словно от старого священника исходил дурной запах.
Отец Брамбо сидел и о чем-то размышлял, презрительно кривя губы.
— Старый грубиян! — разразился он внезапно, затем повернулся к Бенедикту и добавил с возмущением и искренним недоверием: — «Мой народ! Мой народ!» — кричит он всегда. А он, мол, такой же, как они. Хотелось бы мне знать, что особенного в этих людях? Одни инородцы да цветные! Большинство из них не имеет никакого образования; ты сам знаешь, они едва умеют говорить по-английски. Самые обыкновенные рабочие. Что же в них такого замечательного? Работать — вот все, на что они способны! Ну и что же? Мой отец каждый день нанимает и увольняет таких, как они!
5
Джой босиком мчался к ним по дороге, поднимая за собой клубы пыли.
Бенедикт с отцом мотыжили землю в огороде. Джой еще издали стал что-то кричать. Отец, в старой, драной соломенной шляпе, которая клочьями свисала ему на уши, поднял голову. Добежав до них, Джой остановился. Он уставился на них, тяжело дыша, не в силах вымолвить ни слова. Наконец он выпалил:
— Мистер Дрогробус!.. Мистер Дрогробус!..
— Набери воздуху. Вздохни поглубже, — посоветовал ему отец и, вытащив из заднего кармана бутылку, запрокинул ее и припал к ней губами.
Оба мальчика следили за его кадыком, который вздрагивал при каждом глотке; отец уже кончил пить, а Джой все еще стоял и смотрел на его горло, хотя кадык уже перестал двигаться. Отец ткнул его в бок.
— Ну, зевака, говори же!
Джой стал рассказывать по-английски, а Бенедикт переводил, вернее, пояснял отцу невнятную речь брата.
— Бенни, что они делают! Что они делают! — кричал Джой, дергаясь своим худеньким тельцем. Он начал молотить в воздухе кулаками. — Они бьют их, бьют!
— Кто? Что ты говоришь? — засмеялся Бенедикт, хватая Джоя за руки.
— Их бьют! О-о-о! — простонал тот, вырываясь от Бенедикта. Он сжал ладонями щеки, глаза его округлились от ужаса.
— В чем дело? — нетерпеливо спросил отец.
— Шериф, — выдохнул Джой. — Там шериф!
Он побледнел еще сильней и, отвернувшись от них, побрел в поле.
Бенедикт и его отец с мотыгами на плече пошли по пыльной известковой дороге.
Еще издалека они почувствовали, что в поселке творится что-то неладное. Словно какая-то сила тянула их к центру Литвацкой Ямы. До них доносились свистки, и, когда они дошли до места, им показалось, что они попали на поле сражения. Солдаты в синих мундирах, с ружьями наперевес, одни верхом, другие пешие, стояли лицом к лицу с толпой, образовавшей полукруг. Вот и знакомое багровое лицо шерифа Андерсона — он стоял с двумя полицейскими Компании; пояса с патронами туго опоясывали их животы. На улицу из какого-то дома уже вынесли кухонный стол, плиту и несколько стульев.
Жена мистера Дрогробуса, маленькая смуглая женщина, накинула на голову фартук по обычаю литовских крестьянок. Какая-то женщина обнимала ее и все поглядывала через плечо на солдат. Это была мать Бенедикта, и он протиснулся к ней.
— Мама? — сказал он полувопросительно, с испугом.
Она затаила дыхание, увидев его, словно только с его приходом осознала грозившую им опасность, и схватила его в свои объятия, в которых уже была стонущая миссис Дрогробус. Б енедикту показалось, что сейчас она фартуком миссис Дрогробус накроет и его голову тоже. У ног ее он увидел лужу крови, похожую на огромного краба. Бенедикт, с ужасом глядя на нее, шагнул в сторону. Подошел отец; с его появлением мужество покинуло мать, она опустила голову на плечо женщины, стоявшей с ней рядом, и плечи ее затряслись.
Вдруг известковые камни, белые, как куски затвердевшего снега, полетели в солдат. Отец стал подталкивать женщин и мальчика, чтобы спрятать их в толпе. Миссис Дрогробус спотыкалась, он вел ее, как ребенка. За спиной у них раздались выстрелы, заржала лошадь, громкий и грубый голос шерифа Андерсона произнес:
— Стрелять в воздух!
Толпа подалась назад; и Бенедикт невольно обратил внимание на лица людей — теперь они выглядели иначе, не то что в тот день, когда выселяли негров. «Сначала негров, — вспомнил он, — потом литваков!»
Чья это кровь?
Вдруг он увидел в толпе Лену; она стояла, глядя куда-то вдаль невидящими глазами, как будто была совсем одна на улице. Ему пришли на память презрительные слова, которые она бросила ему, когда он пришел продавать самогон ее отцу. Брови его нервно дернулись. «Ты не будешь...» Эти слова отдавались у него в мозгу; и вдруг каким-то образом он понял, что ярко-красная лужа крови на залитой солнцем дороге имеет прямое отношение к ее отцу.
У стоящих в толпе людей на лицах было такое выражение, словно они присутствуют при собственной казни. Некоторые ругались, другие молчали затаив дыхание, третьи были словно пристыжены, четвертые тряслись от страха. Над площадью стоял гул, то нарастая, то спадая, — будто налетали порывы ветра, хотя никто не говорил громко.
Звуки выстрелов, словно они обошли весь мир, повсюду предупреждая рабочих, отозвались далеким эхом и, обессиленные, замерли вдали.
И как ни странно, Бенедикт нисколько не удивился, увидев рядом с собой темное лицо с застывшим, горьким, ничего не забывшим взглядом. Ее глаза только слегка заволоклись, когда он воскликнул:
— Матушка Бернс!
Она смотрела куда-то мимо, и Бенедикт смутился: почему она даже не взглянула на него? Потом она вышла из толпы, и он последовал за ней, охваченный тревогой, объяснить которую он не сумел бы. Он догнал ее и взял за локоть.
— Матушка Бернс, — сказал он с легкой укоризной, — это я, Бенедикт. Разве вы меня не узнали?
— Отойди, мальчик! — вскричала она, отстраняясь от него. — Ты же видишь — я ухожу!
Она вырвала руку и двинулась дальше по желтому песку, энергично двигая своими острыми локтями, будто прокладывала себе путь среди толпы. Бенедикт застыл на месте, глядя ей вслед.
За спиной у него снова послышались выстрелы. Пронзительно заржала лошадь. Он оглянулся и увидел, как конь взметнулся на дыбы. Солдат судорожно вцепился в его гриву, но не удержался в седле и рухнул наземь, раскинув руки. Испуганная лошадь метнулась в сторону, наскочила на другую лошадь и понеслась галопом по дороге. Жители Литвацкой Ямы подались вперед.
— Назад! Осади назад! — раздался повелительный окрик шерифа.
Выстрелы!..
И вдруг все куда-то исчезли. Едкая пыль лениво клубилась в воздухе. По земле полз на четвереньках человек, за ним тащился узкий след, как красная змея, — это была его кровь.
6
Бенедикт смотрел, как отец, тщательно подобрав остатки капустного супа в тарелке, облизнул ложку и, отказавшись от дополнительной порции, вытер густые усы тыльной стороной сначала левой, потом правой руки. Вдруг он поднял глаза, словно что-то вспомнив, и встал из-за стола.
— Пойду навещу Якобиса, — небрежно бросил он, потягиваясь и вздыхая.
Стемнело. Вагонетки с горячим шлаком уже разгрузили, и откос полыхал, мерцая и вздрагивая под беззвездным небом. По улице брели коровы, возвращавшиеся с пастбища; бледные огни уличных фонарей освещали их костистые спины. Коровы мычали и шли, тяжело раскачивая разбухшим выменем. Из темных переулков выскакивали собаки и, полаяв, быстро исчезали за домами. Никогда не умолкавший завод свирепо хрипел.
Вскоре после ухода отца поднялся и Бенедикт.
— Мне нужно проведать священника, — объявил он так же небрежно, как и отец.
Мать обернулась.
— Так поздно?
Бенедикт утвердительно кивнул. Джой, спешно расправившись с супом, вскочил.
— Я с тобой! — заявил он.
— Нет, ты останешься дома, — сердито прикрикнул на него Бенедикт.
Джой отошел с обиженным видом, упрямо сжав губы.
По Яме из дома в дом ползли всякие слухи. На улицах было непривычно пусто, по ним разъезжали конные патрули. Раненый мистер Дрогробус лежал в больнице. Другой пострадавший, Петер Яники, умер; он лежал дома.
В полумраке улиц вокруг Бенедикта мелькали людские тени, то появляясь, то исчезая. Двери тихо открывались — на короткое мгновение в желтом отсвете возникал силуэт человека — и снова, будто коротко вздохнув, двери закрывались. Бездомные псы, напуганные непривычной тишиной, бегали, не обращая внимания на прохожих. Облака, еще более темные, чем ночь, стремительно мчались по небу; поднялся холодный ветер, он дул в сторону холмов.
Оглянувшись, Бенедикт увидел фигурку своего маленького брата, — тот крался за ним, легкий, как листик. Бенедикт спрятался за столб. Когда Джой поравнялся с— ним, Бенедикт протянул руку, схватил его за шиворот и подтащил к себе.
— Ступай обратно! — сердито закричал он ему в самое ухо и стукнул его по макушке. — Не смей идти за мной!
Джой отскочил, но, когда Бенедикт тронулся дальше, он снова пошел за ним. Бенедикт погрозил ему кулаком, а потом неожиданно свернул в переулок и помчался бегом. Вскоре уличные фонари остались позади; ему указывала путь только еле белевшая дорога. Он почувствовал, что уже не один: рядом слышались легкие шаги. Бенедикт остановился. Мимо него двигались тени, кто-то нечаянно толкнул его и, ничего не сказав, пошел дальше. Удушливо пахло свалкой и шлаком; Бенедикт досадливо передернул плечами.
Дорога круто сворачивала в кустарник у подножья холмов. Теперь можно было различить запах угля в заброшенных, еле тлеющих шурфах. Вспугнутые кролики удирали во всю прыть. Внезапно раздалось хлопанье крыльев, и из-под ног Бенедикта неловко, словно пьяная, взлетела какая-то птица. Не зная направления, мальчик словно угадывал его. Дорога кончилась. Теперь со всех сторон за него цеплялись ветки. Дикая яблоня осыпала его волосы душистыми лепестками, когда он крался под ней.
Он чувствовал, что народу вокруг него становится все больше и больше. Темнота сгущалась. Теперь люди двигались вперед, локоть к локтю. И наконец остановились.
Он дрожал. Он слышал, как стучали его зубы. Кто-то тихо выругался, потом раздался приглушенный смех, темнота казалась насыщенной сдержанной яростью. Бенедикт вспомнил, как Петер Яники полз по пыльной дороге, оставляя за собой полоску крови, и задрожал еще сильнее. Он вспомнил белое как мел лицо Лены, когда она, пошатываясь, шла за своей матерью. Он вспомнил еще одно знакомое лицо — такое отчужденное теперь! — и быстрый враждебный взгляд, который матушка Бернс бросила на него... Ему неудержимо захотелось быть рядом с отцом!
По тесным рядам собравшихся прошел тихий ропот, кто-то глухо свистнул. Бенедикту стало жутко. Вдруг он чуть было не упал — у его ног, заскулив, прошмыгнула собака. Бенедикт застыл от ужаса, будто стоял на краю пропасти. Еще раз свистнули. «Ну где же он?» В первый раз Бенедикт услышал чей-то голос, прозвучавший спокойно и естественно. Бенедикт даже вздрогнул от неожиданности.
Кто-то, стоявший впереди, спросил из темноты:
— Все собрались?
— Да, да, — послышалось со всех сторон, и Бенедикт внезапно понял, что ответы эти не случайны, что собрание подготовлено и хорошо организовано. Он чувствовал также, что народу собралось очень много.
— Отлично, ребята, — снова раздался тот же уверенный голос, от звука которого кругом стало как будто светлее, — но берегитесь непрошеных гостей!
В ответ тут и там послышалось шарканье ног, возня, чей-то испуганный вскрик, отрывистое ругательство, стук упавшего на землю тела, хрип, удары. И снова тишина и молчание, а спустя несколько мгновений — тихий, довольный смех. Человек, стоявший рядом с Бенедиктом, вдруг кинулся в сторону, сбив мальчика с ног, но его сразу схватили. Бенедикт увидел, как сверкнули его зубы и белки закатившихся глаз. Кто-то навалился на него, скрутил руки и прошипел: «Ты Друбак-осведомитель!» Друбаку сунули в рот кляп, замотали веревкой руки, а глаза завязали красным платком, какие бывают обычно у рабочих. Потом его ткнули лицом в землю, усыпанную кусками угля.
— Все в порядке, братья?
— Все в порядке! — ответил кто-то справа. — Все в порядке! Все в порядке! — раздались голоса сзади и спереди, слева и опять справа, словно голоса эти стояли здесь на посту, словно они были хозяевами этой темноты, властвовали над ней. Бенедикт почувствовал на себе чей-то пронизывающий взгляд, хотя сам он никого не мог различить в темноте.
Не видел он также и человека, который отдавал приказания таким спокойным, уверенным тоном. Человек этот находился где-то впереди. Бенедикт поднялся на ноги. Пойманный шпион бессильно корчился на земле. Бенедикту неожиданно захотелось пнуть его ногой. И так же неожиданно его вдруг покинул страх. Его охватило нервное напряжение. Казалось, темнота вокруг него насыщена силой. Голоса, которые он слышал, были ему близкими, родными; а тот голос, что доносился из темноты, откуда-то спереди, и звучал почти беззаботно, был ему мучительно знаком.
Голос этот продолжал:
— Товарищи, я надеюсь, что все провокаторы, шпионы Компании, агенты Федерального бюро, штрейкбрехеры и предатели выловлены и удалены с собрания. — Раздался тихий смех. — Теперь мы можем начать.
Внезапно впереди вспыхнула спичка, и Бенедикт замер от изумления. «Добрик!» — вскричал он. Да, это было хорошо запомнившееся ему скуластое лицо, все с той же улыбкой на губах, будто Добрик всегда удивлялся тому, что его слушаются, — это был Добрик из тюрьмы! Добрик, который ползал по цементному полу в поисках огрызка карандаша и доказывал ему, что они похожи друг на друга, потому что оба отказались назвать полиции имена товарищей! Печально улыбающийся, с разбитым в кровь лицом, Добрик, ругавший себя за то, что позволил им себя поймать! Да, это был Добрик!
Бенедикт всем сердцем устремился к этому человеку, освещенному огоньком, но спичка вдруг погасла.
— Джо Магарак! — узнал кто-то и мягко рассмеялся.
Бенедикта трясло, как в ознобе. Ему припомнилась страшная ночь в тюрьме. Что же делает здесь этот человек? «Да ведь он из профсоюза!» — удивленно сказал себе Бенедикт. «Этот человек — коммунист, паренек!..» Кошмаром всплыло воспоминание: окровавленная рука тянется к его голове... Он задрожал.
— Так вот, товарищи, — прозвучал опять голос Добрика, который говорил так, словно сидел за столом и только этот стол отделял его от всех остальных. — Я был в Объединении рабочих сталелитейной и чугунной промышленности. Они не дали нам удовлетворительного ответа. Нет никакой надежды. Они не хотят объединяться с нами!
Послышался приглушенный гул голосов.
— Обойдемся без них! — закричал кто-то.
— Да, конечно, обойдемся, — согласился Добрик и продолжал: — Они против всякой стачки, сказал мне Бойл. Но все же, если мы выступим, ребята из Объединения присоединятся к нам!
— Скажи им, Доби!.. — заорал кто-то, но на него зашикали, и он не договорил.
Добрик продолжал свою речь. Он говорил, как всегда, просто и непринужденно, но очень серьезно.
— Нужно торопиться, нужно все держать в секрете. Никаких имен, никаких руководителей. Теперь каждый из нас руководитель. Мы остаемся в лесу. Поняли? — спросил он по-литовски.
— Поняли, — послышалось в ответ.
Голос Добрика стал еще серьезнее:
— Кто здесь из Литвацкой Ямы, в чем там у вас дело? Что стряслось?
— Они выбрасывают нас на улицу, Доби!
— Это я знаю, — нетерпеливо сказал Добрик. — Не об этом спрашиваю. — Несмотря на темноту, можно было понять, что он придвинулся ближе. — Вы позволили им вышвырнуть из домов наших цветных братьев и палец о палец не ударили! — бросил он обвинение.
— Да ведь они были штрейкбрехерами, Доби, — пожаловался кто-то, оправдываясь.
— Они — черные, Доби, — подхватил другой. — Они не понимают, что значит союз!
В ответ, вместо голоса Добрика, молчание. Наконец Добрик сказал:
— Поглядите вокруг себя. — Бенедикт поглядел: тьма, густая тьма... — А теперь, — потребовал Добрик, — скажите мне: можете вы различить, кто здесь белый, а кто черный?
Приглушенный смех был ему ответом.
— Хотите добиться успеха, — закричал Добрик, — и бороться бок о бок с парнем, который стоит сейчас рядом с вами, независимо от того, какого он цвета?
— Хотим, Доби, — ответили они.
— Скажите мне, — опять резко спросил он, — какой он, этот парень рядом — белый или черный?
Люди снова засмеялись, но уже немного смущенно.
— Не различить, Доби, — раздался чей-то голос. — Но все же они штрейкбрехеры! Откуда мы знаем, как они будут вести себя теперь?
— Компания привезла с Юга негров в тысяча девятьсот девятнадцатом году, чтобы сорвать вспыхнувшую стачку, — начал Добрик. — Негры не знали, для чего их привезли сюда; их загнали в товарные вагоны, а потом они очутились на заводе и, сами того не сознавая, сделались штрейкбрехерами. Но кто же, черт возьми, виноват в этом? — спросил он с яростью. — Вы что — хотите сделать их ответственными за зло, которое им причинила Компания?
Он подождал некоторое время, а потом сказал:
— Зажгите спичку!
Снова вспыхнула спичка и вместо Добрика осветила лицо негра. Рабочие рассмеялись и закричали:
— Эй, Клиф, откуда ты взялся?
Бенедикт подскочил от удивления: этот человек вцепился тогда ему в плечо своими длинными пальцами. «Он член профсоюза», — сказала тогда матушка Бернс, словно это могло объяснить странное поведение этого негра, который так напугал Бенедикта. Клиффорд взмахнул рукой, и спичка погасла.
— Он всем вам хорошо известен, — раздался из темноты голос Добрика. — Вы, конечно, не знали, — вы не могли видеть его, — но он все время был здесь, рядом со мной. — Добрик помолчал немного, а когда снова заговорил, в голосе его звучал упрек: — Вы позволили им выбросить наших цветных братьев, а что случилось вчера?
Бенедикт тихо прошептал имена:
— Дрогробус и Яники.
— Теперь каждый должен участвовать в стачке, — твердо заявил Добрик.
— Мы согласны с тобой, Доби, — ответил кто-то. — Согласны со всем, что ты говоришь, Доби.
— Несколько недель тому назад, — продолжал Добрик чуть насмешливо, — вы все получили письма. Вы, жители Литвацкой Ямы, знаете, чего хочет от вас Компания: чтобы вы либо продали ей свои дома, либо сдохли с голоду — и тогда Компания захватит в свои руки всю эту землю, стоимостью в несколько миллионов долларов, и выстроит здесь новый завод. Новый завод по последнему слову техники, с новыми станками и электроплавильными печами. Рабочих на этом заводе будет вдвое меньше, чем сейчас, но завод даст вдвое больше продукции и прибыли.
Раздались возмущенные, гневные выкрики. Добрик негодующе продолжал:
— Мы не можем допустить, чтобы нас выкинули из домов. Что же мы должны делать? Не продавать наши дома по ценам, установленным Банком, а воздержаться. Мы сами назначим цены. Вы видите: они увольняют всех рабочих, живущих в Литвацкой Яме. Почему, как вы думаете?
— Компания считает, что они переутомились. Хочет дать им отдохнуть.
Одобрительный смех.
— Верно! Очень длительный отпуск. И к тому же неоплачиваемый! — сказал Добрик ядовито, со злостью.
Собравшиеся получали от разговора с ним большое удовольствие; им нравилось бросать ему реплики и получать меткие, сдобренные едким остроумием ответы. В продолжение всего этого разговора Бенедикт был в приподнятом настроении. Он испытывал странное, доселе неведомое ему ощущение независимости; казалось, здесь сейчас восстанавливается свобода, а раньше он даже не знал, что лишен ее. Этот митинг, этот взрыв стихийной силы был как светоч во тьме.
— Компания увольняет рабочих, чтобы вынудить их продать свои дома! — гневно вскричал Добрик.
Впервые гнев так явственно прозвучал в его голосе. Бенедикт почувствовал, как в нем самом разгорается жаркое, яростное пламя. И странное дело, ему казалось, что он заранее знает, что сейчас скажет Добрик, что это его, Бенедикта, гнев и боль звучат в словах Добрика, что это его собственный взволнованный голос звучит над темными холмами.
— Теперь вот что: некоторые из товарищей должны укрыться здесь в лесу. Вы знаете где.
— Они доберутся и сюда, Доби!
— Мы проследим, чтобы этого не случилось! — ответил чей-то уверенный голос из толпы.
— Мы пошлем через несколько дней представителей с нашими требованиями, — продолжал Добрик. — Повышение зарплаты на десять центов в час для рабочих всех категорий, от чернорабочих до сталеваров. Признание профессионального союза рабочих. Никаких «желтых» организаций на заводе. Охрана труда.
— Пусть выгонят шпионов!
— Мы сами займемся ими, — ответил Добрик.
— Этими? — спросил кто-то.
— Нет, — презрительно ответил Добрик. — Теперь они не представляют ценности для Компании. Она сама их выгонит.
Радостный гул приветствовал его слова. Бенедикт услышал свой собственный смех. Темнота перестала казаться ему таинственной и грозной. Теперь темнота означала безопасность. Никто, даже звезды, не смогли бы их здесь разглядеть. И под покровом этой непроглядной тьмы они наконец могли говорить правду — ту правду, которую прятали глубоко в своих сердцах. Голоса людей потеплели, и впервые Бенедикту показалось, что все его земляки, находившиеся здесь, вдруг странно преобразились — так преображался его отец, когда переходил с английской речи на родную, — они словно все время прятали свое настоящее лицо за личиной униженности и покорности, невежества и пьянства, и только в редкие минуты свободы, как сейчас, становились самими собой. «Как уверенно и непринужденно они держатся! — с удивлением думал Бенедикт. — Здесь они совсем другие, чем в церкви!»
На губах его блуждала бессознательная улыбка, когда он стал пробираться в темноте на голос Добрика — спокойный и непреклонный. Ему казалось, что Добрик непременно должен узнать, что он, Бенедикт, тоже присутствует здесь, и что если Добрик увидит его, то обязательно скажет: «Я помню тебя!» — и улыбнется ему. Мальчика охватило радостное волнение.
— Итак, они уволили вас, — услышал он сухое замечание Добрика. — Уволили перед очередным взносом за дом. Чем же, интересно, вы теперь будете платить Банку? Бобами, которые вы выращиваете в огородах? А когда вы лишитесь ваших домов — вот тогда они снова возьмут вас на работу.
— А мы пошлем их к черту, Доби! — неуверенно произнес чей-то голос.
— Банк и Компания — единое целое, — продолжал Добрик. Вспыхнула спичка, и собравшиеся увидели две сцепленные руки. — Банк выполняет то, что ему приказывает Компания.
По толпе прокатился ропот, раздались проклятья.
— Но... — голос Добрика прозвучал так внушительно, что гул сразу стих, —... но рабочий класс тоже единое целое! — Снова вспыхнула спичка, и в таинственном, колеблющемся свете две руки — белая и черная — слились в крепком рукопожатии и как бы нанесли сокрушительный удар Банку и Компании. Сгрудившиеся в плотную толпу слушатели разразились приглушенными аплодисментами. У Бенедикта сильней забилось сердце. Где-то в глубине памяти возникло мучительное видение: матушка Бернс идет к своей уже опустошенной лачуге, на ходу колышутся складки ее старой юбки... Он так жалел, что не догнал ее тогда.
— Да, — крикнул все тот же скептический, циничный голос откуда-то из темноты. — А они опять привезут сюда негров, вот увидите. Нельзя допускать негров в наши ряды!
Впереди, где был Добрик, снова наступило молчание. Люди ждали.
Но вот ярко вспыхнул луч света — на этот раз зажгли электрический фонарик; кто-то прикрыл его ладонью. Люди увидели темный силуэт головы Добрика. Резким движением он поднял к свету чью-то белую руку, затем взмахнул перочинным ножом и ловко раскрыл длинное стальное лезвие. Из груди рабочих вырвался непроизвольный вздох. Люди, тревожно посмеиваясь, подались вперед. Бенедикт, сдерживая дрожь, привстал на цыпочки. Добрик приблизил острое лезвие к белому запястью, в набухших венах которого, казалось, быстрей побежала кровь. Рука дернулась, но Добрик крепко держал ее.
— Если я пораню твою руку, — услышали все гневный голос Добрика, — какого цвета будет кровь?
— Красная, Доби, — выпалил обладатель руки. — Но, ради Христа, не делай этого, Доби!
Люди рассмеялись. Бенедикт радостно вздрогнул.
Внезапно по другую сторону светлого круга, отбрасываемого фонарем, поднялась вторая рука — черная. Добрик так же крепко обхватил черное запястье и приставил к нему нож. Затем он повернулся к белому человеку.
— А у него кровь какого цвета? — сурово спросил он.
— Тоже красная! — выдохнул тот с молниеносной быстротой, словно боясь потерять драгоценное время.
Добрик поднял голову и вгляделся в темноту, в ту сторону, откуда раздавался скептический голос.
— Может, кто-нибудь хочет это проверить? — закричал он. — Пусть подойдет сюда, к нам!
Глубокое молчание.
Он подождал еще некоторое время, словно хотел предоставить тем, кто сомневается, возможность удостовериться; потом, когда стало ясно, что на вызов никто не откликнется, Добрик сказал серьезным тоном, как бы взвешивая каждое слово:
— Да, именно это я и имел в виду. Его кровь и ваша кровь — одинакового цвета: красного. Мне все равно, какого цвета ваша кожа, ведь в жилах у вас течет такая же красная кровь, как у меня! И если у вас есть мужество идти по нашему пути, если вы вступили в Союз, помните: я буду бороться за то, чтобы мы все были братьями. — Луч света озарил его руку, он потряс кулаком. — Буду бороться до последней капли крови!
Люди одобрительно загудели и тихо захлопали. У Бенедикта горели щеки от волнения.
Сквозь толпу пробрался человек, как ветер сквозь пшеницу. Он стал что-то говорить Добрику. Воцарилась напряженная тишина, фонарик погас, людей впереди снова окутала непроглядная темень. Затем все тем же спокойным голосом, каким он говорил весь вечер, Добрик сказал:
— Правительственные войска находятся уже на холмах. Они направляются сюда. По-моему, мы здесь обо всем переговорили. Итак, мы закрываем наш митинг до новой встречи, о которой вам будет сообщено. Держите связь с вашими представителями Выполняйте все указания. Доброй ночи, товарищи!
И в то же мгновение тьма, казалось, сгустилась еще больше. Связанный предатель дергался на земле, как издыхающая рыба. Бенедикт брезгливо перешагнул через него и поспешно направился домой.
А пока он шел, мимо него в темноте скользили чьи-то тени. Но теперь они уже казались ему не зловещими, а дружескими — теперь он знал, кто они, эти люди. Он был рад, что темнота укрывает и его вместе с ними. Из-за холма доносился запах горящего шлака. Вскоре запахло коровьим навозом, а затем — свалкой. Пыльная дорога вилась по склону холма. Неожиданный порыв ветра принес с собой гнилой запах Рва, еще не засыпанного на этом далеком участке: бетонные трубы успели проложить лишь там, где раньше стояли лачуги негров. Тем же ветром занесло сюда и горячую крупицу чугуна, она больно кольнула мальчика в щеку.
Вдруг из-за поворота вихрем вылетели два всадника и галопом помчались по дороге. Бенедикт успел отскочить в сторону и спрятаться в густой траве, росшей по обочине.
Пригнувшись, он стал пробираться по траве вдоль дороги и неожиданно наткнулся на Джоя, который притулился на корточках в траве, как птица в гнезде. Оба вскрикнули от испуга; слышно было, как зубы Джоя выбивают дробь. Бенедикт обнял его и зажал ему рот. В окружающем безмолвии каждый звук, казалось, разносится далеко вокруг. Потом он взял Джоя за руку и повел его задворками к дому.
В окнах было темно, и, когда они вошли, Бенедикт не зажег лампы. Мальчики, дрожа, сели в темной кухне. Услышав шаги у калитки, они замерли от страха. Дверь тихо отворилась, и они поняли, что это вернулся отец; он поднялся по лестнице, потом они услышали скрип пружин и стук сброшенных на пол башмаков.
Бенедикт дал Джою подзатыльник.
Джой понял, за что.
7
Никогда церковь святого Иосифа не была так переполнена, как в этот день. Никогда ничьи похороны не привлекали такого внимания. Сотни рабочих со всех концов Литвацкой Ямы и из города собрались проводить в последний путь Петера Яники. За пределами Ямы мало кто знал его, но пришли и незнакомые. Заводскую администрацию охватило лихорадочное волнение; телефонные звонки понеслись из отдела в отдел: «Что происходит? Где люди?»
А люди были на похоронах. Они стояли вокруг маленькой церкви, а те, кто пробрался внутрь, теснились на скамьях. Церковь тонула в полумраке: мерцали догорающие свечи, поставленные за упокой грешной души, да мутный солнечный луч играл на рубиновых ризах святого Петра, отбрасывая красноватые блики на скамьи.
Бенедикт облачился в черную рясу. Вместе с другим мальчиком, Антони, он ждал в ризнице. Было холодно и темновато: свет они не включили. Антони, с приглаженными черными блестящими волосами, сидел в углу и грыз ногти.
Гроб принесли и поставили в церкви, и Бенедикт послал Антони за отцом Даром. Он с тревогой ждал его. До него доносился гул голосов, как шум отдаленного прибоя.
Минуты текли, а Антони все не возвращался. В церкви раздавалось нетерпеливое шарканье ног, покашливание. В конце концов Бенедикт выскользнул из ризницы и через сад, еще влажный от росы, направился к дому священника. Он увидел Антони, — тот уже отворил калитку палисадника, явно собираясь улизнуть на улицу.
— Антони! — с негодованием вскричал Бенедикт.
Антони обернулся с испуганным видом и ответил:
— Отец Брамбо велел мне идти домой! — Он с силой захлопнул за собой калитку.
Бенедикт постучал в дверь к священнику. Никакого ответа. Он повернул дверную ручку и вошел в кухню. Услышав сердитые голоса, он неуверенно позвал:
— Отец мой! Где вы?
Он прошел через темный холл, в нерешительности остановился у двери в комнату. Голоса стихли, но он чувствовал, какая там напряженная атмосфера.
— Отец мой! — снова позвал он и тихонько постучал.
Дверь отворилась. Бледный, с суровым лицом, отец Брамбо спросил:
— В чем дело?
Бенедикт различил за его спиной отца Дара — тот низко опустил голову, почти припал к полу. Ухватившись за спинку стула, старик с трудом поднимался с колен.
— Бенедикт! — вскричал он хрипло, задыхающимся голосом. Он протянул руки к Бенедикту и с отчаянием стал манить его к себе.
— Что случилось, отец мой? — спросил отца Дара Бенедикт и повернулся к отцу Брамбо.
Молодой священник отступил от двери. Бенедикт бросился к отцу Дару и помог ему подняться. Капли пота блестели на багровых щеках и желтом восковом лбу старого священника. Он с благодарностью посмотрел на Бенедикта своими водянистыми голубыми глазами.
— Отлично, — выдохнул он.
Отец Брамбо застыл на месте. Бенедикт обратил на него испуганный, умоляющий взгляд.
Отец Брамбо сдвинул брови и сжал губы.
— Что случилось, отец мой? — снова спросил мальчик.
Веки отца Брамбо дрогнули.
— Ты должен убедить его, Бенедикт, — сказал он взволнованно, глухим голосом, хотя внешне казался совершенно спокойным. — Он не должен идти туда; пусть даже не пытается!
— А как же заупокойная служба? — вскричал удивленный Бенедикт.
Отец Брамбо поднял голову.
— Службы не будет! — произнес он.
Бенедикт, от изумления потеряв дар речи, уставился на него. Отец Дар тянулся к мальчику дрожащей рукой, и наконец ему удалось положить свою руку на плечо Бенедикта.
— Сюда приходила полиция, — сказал отец Брамбо спокойным, уверенным, властным тоном. — От меня требовали, чтобы я отменил публичную службу, потому что... — кивком головы он показал в сторону церкви, — эти люди собрались туда вовсе не для похорон. Они воспользовались этим предлогом, чтобы не выйти на работу. Это настоящий заговор. Если я буду служить заупокойную обедню, значит я тоже участвую в заговоре. Поэтому я запрещаю кому бы то ни было служить ее. Мы должны очистить церковь от посторонних. Останутся только самые близкие родственники, и тогда мы отслужим. — Вы слышали? — Вопрос был обращен к отцу Дару. — Вы слышали? — повторил он, повышая голос.
У самого уха Бенедикта раздавалось громкое, свистящее дыхание отца Дара.
— Помоги мне, Бенедикт, мой мальчик, — ласково сказал старый священник. — Позволь мне покрепче опереться на твое сильное плечо.
Он так налег на плечо Бенедикта, что у того подогнулись колени.
— Хорошо, хорошо, — сиплый голос старика звучал спокойно, даже небрежно. Его брови, орошенные капельками пота, были нахмурены, но глаза глядели сосредоточенно, словно перед ним находилось препятствие, которое ему предстояло преодолеть, что он и делал, тяжело дыша, но радуясь, поздравляя себя с успехом и подбадривая Бенедикта. — Вот и прекрасно! Первый шаг уже сделан! Ты сильный и славный мальчуган. Теперь еще один шаг... — Он с трудом тащился к двери. — Смотри, дело идет неплохо, это совсем не так далеко!
Бенедикт остановился, он шатался под тяжестью старого священника и с трудом удерживался на ногах.
Мальчик перевел взгляд на лицо отца Брамбо. Два алых пятна медленно густели на щеках молодого священника, а глаза его так потемнели, что казались почти черными.
— Оставь его, Бенедикт! — вскричал отец Брамбо негодующим тоном. Он весь дрожал. — Ты не должен идти туда!
— Вперед, вперед, — торопясь, упрямо твердил отец Дар на ухо Бенедикту, не обращая внимания на отца Брамбо. Губы старого священника были влажны, и Бенедикт почувствовал слюну на своем ухе. Не отрывая глаз от отца Брамбо, мальчик шагнул вперед. Он побледнел, губы его пересохли, язык прилип к гортани. Он вспотел от напряжения.
— Отец мой! — вскричал он не своим голосом, с мольбой глядя на молодого священника.
А отец Дар все толкал и толкал его вперед.
— Я должен идти, отец мой! — с отчаянием продолжал мальчик.
Отец Брамбо наклонился к нему, глаза его горели.
— Не забывай, что ты ставишь на карту свое будущее, Бенедикт! — предупредил он. — Все свое будущее! Оно зависит теперь от того, пойдешь ты туда или нет. Этих людей ведут за собой коммунисты — осквернители церкви. Ты не должен позволять им использовать тебя для своих целей. Не связывай своего будущего с этими отпетыми людьми — они восстают против закона. Они преступники — полиция охотится за ними!
— Но Петера Яники убила полиция! — вскричал Бенедикт.
— Это было спровоцировано, Бенедикт, — ответил отец Брамбо, гневно сверкнув глазами. — И то, что происходит сейчас, тоже провокация. Я знаю, мне рассказали всю эту историю, и я предупреждаю тебя!
Бенедикт, поддерживая старика, шатаясь, шел к двери; колени его дрожали.
— Я должен идти туда, отец мой! — закричал он, терзаемый мукой. — Они ждут отпевания! Мы не смеем отказать мертвому в слове божием!
— Остановись, Бенедикт! — крикнул молодой священник. — В последний раз я призываю тебя, Бенедикт, не оскверняй святую церковь!
Бенедикт громко всхлипнул и тяжело шагнул вперед.
— Я не могу не идти!
А старик все подталкивал его. Они протащились через переднюю, дверь широко распахнулась, и они чуть не свалились вдвоем на крыльцо. У Бенедикта гнулись плечи под тяжестью старого священника, он с трудом дотащил его до двери ризницы. Старик жадно прильнул к нему. Он находился в какой-то экзальтации и, захлебываясь, несвязно бормотал что-то. Щеки его раздувались, как кузнечные мехи.
— Славный мальчик! — восклицал он, быстро кивая головой и прерывисто смеясь. — Прекрасный мальчик... борец за веру... спаситель... Ну, теперь мы уже близко... С нами бог... Хвала ему... Вот мы и дошли... теперь мы взойдем на нашу голгофу.
Он упал в кресло, стоящее в ризнице, и на секунду прикрыл глаза, но сразу же открыл их снова — они ярко сияли.
— Вы... — начал тревожно Бенедикт.
Старик тяжело вздохнул.
— Помоги мне одеться! — приказал он резким тоном, и Бенедикт кинулся к шкафу за его облачением.
Утирая слезы, он помог священнику облачиться. Нетерпение собравшихся все возрастало. Вокруг церкви появились заводские охранники.
Мальчик и старый священник вместе поднялись с колен. Старик пошатывался. Он снова положил свою слабую руку на плечо Бенедикту, и они перешагнули порог. Зазвенел золотой колокольчик, и по церкви пронесся глубокий вздох собравшихся. Священник и мальчик медленно двигались к алтарю. Лучистые глаза отца Дара снова затуманились; он шаркал ногами, словно нащупывал дорогу; лицо его, изборожденное глубокими морщинами, осунулось. Когда он прикрыл глаза, веки были желтые, словно восковые.
Бенедикт старался ступать как можно осторожнее. У алтаря он с беспокойством остановился и подождал, пока отец Дар, кряхтя, преклонил колена, а потом и сам последовал его примеру. Затем он отнес кадильницу на подставку справа от алтаря. Черный гроб стоял посреди церкви.
Отец Дар с трудом взошел по ступеням, потом повернулся и оглядел церковь отсутствующим взглядом, — казалось, он блуждал в сновидениях. От старика на Бенедикта внезапно пахнуло запахом увядания, запахом табака, виски и нафталина. Отец Дар опустился на колени и низким, скрипучим голосом заговорил нараспев.
— Introibo ad altare Dei[14].
— Ad Deum qui laetificat juventutem meam[15], — отвечал Бенедикт.
— Judica me, Deus, et discerne causam...[16]
— Отец мой, — взволнованно прошептал Бенедикт, услыхав эти слова, — ведь сейчас идет заупокойная обедня!
Но отец Дар не слышал его. Бенедикт тянул его за рясу.
— Отец мой, — повторил он еще настойчивее, — вы ошиблись...
—...Meam de gente sancta...[17]
В церкви началось перешептывание. Это была совсем не та молитва, которую сейчас полагалось читать! Бенедикт нагнулся к уху отца Дара.
— Отец мой, — вскричал он, — вы забыли! Вы совсем не то читаете. Нужно служить заупокойную обедню!
Но старый священник повернул к нему свою тяжелую голову и хрипло сказал:
— Отойди. — Он пожевал губами и громко продолжал: — Emitte lucem tuam et veritatem tuam...[18]
— Прекратите надругательство над покойником! — крикнул кто-то из присутствующих.
Отец Дар помолчал. Потом снова начал было читать, но голос его дрогнул, сорвался, он обернулся и посмотрел в ту сторону, откуда раздался возглас. Бенедикт потянул его за рясу и вдруг в ужасе всплеснул руками.
— Что? Что? — задыхаясь, хрипло спрашивал отец Дар.
В церковь, через главные двери, вошли два солдата. Нависло глубокое молчание. Солдаты шли между скамьями, разглядывая собравшихся.
— Вы забыли, отец мой... — шепнул Бенедикт.
Солдаты похлопывали дубинками по плечам сидящих и указывали на дверь. Рабочие поднимали головы, с беспокойством глядя на них. Потом вставали один за другим и направлялись, расталкивая толпу, к двери. Какая-то женщина начала нараспев причитание по покойнику, в голосе ее звучал страх и безысходное горе — горестный протест против смерти и угнетения. Древний, как мир, он заполнил церковь, воскрешая в памяти черные страницы истории.
Отец Дар, шатаясь, поднялся на ноги. Он скрестил руки на груди и закрыл глаза. Внезапно какой-то человек, проскочив между коленопреклоненными молящимися, ринулся к ризнице и перепрыгнул через решетчатую загородку исповедальни. Солдаты закричали ему вслед. Когда человек пробегал мимо него, Бенедикт успел разглядеть побледневшее лицо, на котором застыла напряженная усмешка. Шум поднялся со всех сторон и заглушил причитания старой женщины. Присутствующие вскочили и гурьбой устремились к выходу.
Снаружи, на улице, прогремел выстрел, и вслед за ним раздались пронзительные крики; они смешались с криками людей в церкви. Началась паника. Люди, толкаясь, бросились к выходу, лезли через скамьи, падали меж ними, в страхе жались к стенам. Со звоном посыпались разбитые стекла, и в зияющих окнах показалось голубое небо. Люди бежали из Церкви через главный вход, штурмовали дверь ризницы и выскакивали в сад.
Отец Дар стоял, безмолвно наблюдая за происходящим. Он уронил руки, лицо его было странно спокойно. А Бенедикт так крепко стиснул кулаки, что у него заныли пальцы.
В церкви стоял дикий гам. В ужасе вопили женщины, с плачем визжали дети. Мужчины, стараясь поскорее скрыться, бросались кто куда: одни в боковые приделы, другие — в дверь, ведущую вниз, в подвал, третьи — в окна. К первым двум солдатам присоединились другие, они метались посреди воющей толпы, раздавая направо и налево удары дубинками. Выбравшись из церкви, люди врассыпную разбежались по домам или устремились к холмам.
Все кончилось так же внезапно, как и началось. В опустевшей церкви царил полный разгром: опрокинутые скамьи, на полу разорванные молитвенники, затоптанные шляпы, детские капоры, чей-то башмак, рассыпанная пачка табака... Гроб стоял там, где его поставили — у алтаря, посреди церкви.
В дверях показался отец Брамбо. Он с горькой иронической усмешкой оглядел церковь и скрылся.
Старый священник опустился на ступени алтаря.
Снаружи до Бенедикта слабо доносился топот ног, стук мотоцикла. На красном ковре так четко, словно он был специально отпечатан, чернел след чьей-то ноги...
Казалось, над поселком спустилась ночь, хотя день был еще в полном разгаре. Улицы были пустынны, Литвацкая Яма словно ослепла, погрузилась в глубокий сон... Завод, чье громыханье не смолкало никогда, как и биение сердца, теперь молчал. Бенедикт только сейчас это заметил. Гнетущее, выжидающее безмолвие царило вокруг.
Бенедикт брел по дороге и, дойдя до авеню Вашингтона, свернул на Тенистую улицу.
Он только что отвел отца Дара обратно домой, втащил его по лестнице и уложил в постель. Потом он сходил за доктором, но не стал дожидаться результатов осмотра. Отец Брамбо куда-то исчез. У Бенедикта началась головная боль, в ушах шумело; он прижимал к ним ладони, тряс головой, но ничего не помогало.
Гроб в церкви остался в полном одиночестве.
Мальчик различил вдали всадников. Они скакали через красные дюны к холмам. В воздухе носился дух убийства.
В доме Бенедикта на окнах были плотно задернуты занавески, и все сидели в полумраке вокруг кухонного стола.
Когда он вошел, мать разрыдалась.
— Я цел и невредим, мама, — сказал он устало.
Отец снял с носа очки и стал протирать их. На его посеревшем лице проступили капли пота, — гнетущий страх проник и в эту комнату. Отец вытер лицо платком.
— Я тоже был там, — прошептал он глухо. Бенедикт посмотрел на него и понял, что отец давно беспокоится о нем, с той самой минуты, как началась паника.
— Я проводил домой отца Дара, — объяснил он. Отец кивнул ему в ответ. — И вызвал к нему доктора.
Мать, которая прежде, наверное, отозвалась бы на его слова, теперь только неотрывно глядела на него. Она жадно разглядывала его руки, лицо, словно заново обрела его.
— Со мной ничего не случилось, мама! — повторил Бенедикт.
Она положила руки ему на голову, как бы благословляя его, и прильнула к нему, обливаясь слезами. Он чувствовал, что волосы его стали мокрыми от ее слез. Отец смотрел на них неподвижным взглядом, а Джой, который, казалось, никогда в жизни еще не был так взволнован, как сейчас, побледнел и уставился на них с застывшей, задумчивой улыбкой. Бенедикт потрепал мать по плечу и прошептал ей на ухо:
— Ты видишь, мама, я жив и здоров.
Наконец она оторвалась от него, пошла к плите и вернулась с тарелкой свекольного супа. Он покорно стал есть.
В полумраке кухни все они казались заживо погребенными. Снаружи, словно откуда-то очень издалека, доносились звуки, неясные и зловещие. Один раз они услышали стрельбу, и Бенедикт поднял голову, но тут же снова принялся за суп.
— Как же, папа... — наконец сказал он. Отец взглянул на него.
— Я не знаю, — ответил он и тяжело повел плечами, опустив глаза. Только один отец понял, о чем хотел спросить Бенедикт: о тех обещаниях, которые были даны на митинге в лесу прошлой ночью... Мать, казалось, ничего не слышала, — она сидела напротив Бенедикта и следила глазами за каждым его движением.
Он посмотрел на отца, взгляды их встретились, и в полумраке они поняли, что думают об одном и том же, и вдруг впервые заговорили с неожиданной откровенностью, полностью сходясь в своих убеждениях.
— Почему они явились? — тихо спросил Бенедикт, обращаясь теперь к одному отцу, и в голосе его звучало полное доверие.
Отец заерзал на стуле и, очевидно, по каким-то собственным соображениям, ответил по-английски:
— Чтобы отвести рабочих на завод!
Бенедикт взглянул на него с упреком.
— Папа, — сказал он по-литовски, — говори со мной.. Отец посмотрел на него и упрямо повторил по-английски:
— Чтобы отвести рабочих на завод! Понимаешь?
Бенедикт опустил глаза.
— Обратно на завод? — переспросил он.
Отец утвердительно кивнул. Бенедикт опять поглядел на него, и отец отвел глаза. Приготовившись продолжать разговор на своем «английском» языке, отец надел на себя личину «литвацкого отребья», — он всегда изображал себя таким перед американцами.
— Они пришли спрашивать: «Как имя? Ты зачем не приходишь сегодня работу? Ты хотел работать? Иди со мной».
— Но ворваться в церковь, папа!
Отец снова передернул плечами, насмешливо поглядывая на него.
— Самое хорошее место — церковь! Все рабочий в церкви, они знают. Иди туда, дома искать не надо!
Он покачал головой с горьким смехом, который больно ужалил Бенедикта.
— Не смей выходить на улицу! — внезапно вскричала мать, очнувшись от своего оцепенения, и легонько стукнула Джоя по голове.
Джой соскользнул со стула и забрался под стол, потирая голову.
Мать уткнулась в фартук и заплакала.
— Смотри, пожалуйста, — сказал Джой из-под стола. — Ты же еще и плачешь!
Остаток дня они все провели дома. Поздно вечером Бенедикт пошел справиться о здоровье отца Дара. Доктор, который еще раз пришел навестить старика, сказал Бенедикту, что отец Дар спит; у него был легкий удар, но он поправится. Бенедикт осведомился об отце Брамбо и узнал, что тот с утра не возвращался домой.
В Литвацкой Яме весь день было тревожно и беспокойно. Солдаты ходили по квартирам рабочих и, если заставали кого-нибудь дома, принуждали идти на работу.
В доме Блуманисов так и не зажгли света. На ужин поели супа с хлебом и легли спать.
Бенедикт спал спокойно, прижавшись к теплому, худенькому тельцу Джоя, но вдруг он подскочил на кровати, разбуженный громким стуком в дверь. Неясный свет зари вливался в окна. Бенедикт лежал не шевелясь, чтобы не разбудить брата, который безмятежно спал возле него. Дверь внизу, как раз под его окном, отворилась, и он услышал хрипловатый заспанный голос отца, а затем знакомый ему голос солдата, который спрашивал:
— Ты Винсентас Блуманис?
— Да, начальник, — смиренно отвечал отец.
— Ты знаешь, где находится Добрик?
— Нет, начальник.
— Ты врешь, сукин сын, проклятая деревенщина. Почему ты не на работе сегодня? Болен, да?
— Нет, начальник, — отвечал отец. — Завод выгнал меня.
— Ах, вот что! — сказал солдат. — Ну, так с этого часа ты снова принят на работу...
8
Это была первая поездка Бенедикта по железной дороге. Он еще никогда не ездил в поезде, и все же он совсем не боялся. Когда отец Брамбо сказал ему: «Мы с тобой едем к епископу, Бенедикт!» — мальчик только кивнул в знак согласия и ничего не сказал.
Они выехали в полдень. Пути было на два часа. В предыдущую ночь отец его не пришел домой с работы. Многих рабочих совсем не отпускали с завода, там их кормили, и там они спали. На завод привезли в закрытых грузовиках большую партию рабочих-негров. Их похватали в городе и на окраинах. Они не знали, куда их везут, пока не прибыли на место. Некоторые сумели убежать: они перелезли через высокую, обнесенную колючей проволокой стену, которая отделяла завод от реки, и вплавь, под пулями, добрались до леса на противоположном берегу. Как в Литвацкой Яме, так и в рабочих кварталах города не осталось ни одного взрослого мужчины. Будто повальная болезнь уничтожила все мужское население или началась война.
И вот Бенедикт сидел, задумавшись, на зеленом плюшевом сиденье. Рядом с ним был отец Брамбо. На губах его блуждала взволнованная улыбка, которую он никак не мог сдержать; он то и дело восклицал:
— Посмотри, какая прелестная лужайка, Бенедикт! Это ломбардские тополи — им, должно быть, сотни лет; они словно с картин старых мастеров, не правда ли? Смотри, совсем Старая Англия, — вон тот дом с колоннами, мы как раз проезжаем мимо него. У нас много таких вокруг Бостона...
Бенедикт вовсе не испытывал такого волнения, как отец Брамбо. Перед отъездом он не зашел проститься к отцу Дару, хотя и знал, что старый священник уже выздоровел. Ему не хотелось видеть старика. И с отцом Брамбо ему тоже не хотелось встречаться. Тому пришлось прислать за ним мальчика. Бенедикту почему-то хотелось спрятаться от них обоих, вырваться из-под их влияния.
Воспоминание о черном отпечатке чьей-то ноги, таком ясном и отчетливом, на ковре у алтаря преследовало его: прошлой ночью он видел этот след во сне, тысячи следов; они шли вверх и вниз по ступеням, проходили по самому алтарю. Какое кощунство! Потом ему приснилось взволнованное лицо отца Брамбо, — он стоял в дверях и следил за ними, не замечая черного следа; он уставился на отца Дара с выражением такой торжествующей ярости, что Бенедикт содрогнулся во сне — и проснулся.
Отогнав это воспоминание, Бенедикт с радостью вспомнил о другом: он вновь увидел лицо своего отца в ту волнующую минуту, когда души их раскрылись друг для друга... А может, это только приснилось ему, может, он просто сам это выдумал? Тревожные сомнения охватили его — он пытался обрести уверенность, и не мог.
Теперь его отец не появлялся дома — его держали на заводе. Компания никогда еще не сдавалась и не сдастся забастовщикам. Рабочие не могли обеспечить существование своему профсоюзу, и Компании всегда удавалось с помощью штрейкбрехеров и провокаторов разгонять Союз, как только он возникал. Компания пошлет войска на холмы, в леса, она выловит, одного за другим, всех скрывающихся там забастовщиков и сломает безнадежную стачку, как ломает кости рабочим на заводе.
Он подумал, что, конечно, молодой священник, сидящий рядом с ним, ничего в этом не понимает. Как раз в эту минуту отец Брамбо выглянул в окно и воскликнул:
— Но это же красный клен!
Казалось, чем дальше удаляется отец Брамбо от Литвацкой Ямы, тем он счастливее, и приветствует даже деревья, словно празднует свое возвращение в утерянный им мир.
— Отец мой, — произнес Бенедикт.
Отец Брамбо повернул к нему сияющие глаза. Бенедикт покраснел от смущения. В нем снова вспыхнула искра прежней привязанности к молодому священнику, странной благодарности, которую он испытывал к нему за его безукоризненную чистоплотность, за то, что он совсем не похож на жителей Литвацкой Ямы, — за то, что у него такие плавные движения, такой певучий голос и он привык ко всему красивому. Все это в глазах Бенедикта сближало отца Брамбо с религией, с ее непорочной чистотой и благородством, но одновременно делало его беззащитным и слабым, и Бенедикт чувствовал, как в нем снова просыпается желание защищать его, заботиться о нем.
— Отец мой, — сказал он с глубоким чувством, — когда кончатся беспорядки, я хотел бы прийти с вами в церковь, чтобы больше ее никогда не покидать.
Отец Брамбо оторвал зачарованный взгляд от видневшейся вдалеке усадьбы — такие усадьбы, окруженные высокими елями и кленами, изображали на рождественских открытках — и улыбнулся мальчику одобрительно и несколько удивленно.
— Я открою тебе секрет, Бенедикт, — сказал он. — Для того-то мы и отправились в это путешествие.
У Бенедикта екнуло сердце.
— Вы хотите сказать?.. — Он не осмелился продолжить.
Отец Брамбо радостно кивнул и вытащил письмо.
— Епископ просил, чтобы я привез тебя. Он хочет поговорить с тобой, задать тебе кое-какие вопросы.
— А потом я смогу...
— Поступить в семинарию? Да, — подтвердил отец Брамбо с милостивой улыбкой. — Как только ты достигнешь нужного возраста.
Бенедикт прислонился к спинке сидения. Ему казалось, что его попеременно окатывают то холодные, то горячие волны, что громыхает не поезд, а его собственное сердце, — оно вырвалось на свободу и с шумом колотится у него в ушах. Слезы подступили к глазам, но усилием воли Бенедикт сдержал их. Он чувствовал, что начинает дрожать всем телом, и не мог унять эту дрожь. Ослепительный свет залил весь вагон, словно к потолку привинтили солнце. Бенедикт закусил губы, уткнулся мокрым лицом в спинку дивана. Потом он почувствовал на своем плече ласковую руку отца Брамбо.
И Бенедикту пригрезилось, что все свершилось и он снова едет в этом поезде, теперь уже в семинарию. Мать, Джой, Винс, Рудольф, отец Дар, старая церковь, запах Литвацкой Ямы, солдаты, выстрелы, матушка Бернс — всё это осталось позади, отошло в далекое прошлое, он уже от всего освободился. А когда он возвратится, в его власти будет сделать так, чтобы всем было хорошо. Прислонясь мокрым лицом к пыльной спинке сидения, он молился... Вот он идет среди молящихся, благословляя склоненные головы рабочих и служащих Компании. И те и другие опустятся перед ним на колени. А когда они поднимутся, то станут братьями. Церковь будет полна народу; он видел яркие огни, слышал музыку, слова молитвы. «Kyrie, eleison! — звучало у него в ушах, — Christe, eleison!» [19]
— Мне бы хотелось вернуться в Яму, когда я получу сан священника, — сказал Бенедикт. Глаза его были полны слез.
Отец Брамбо, на лицо которого легла легкая тень, ответил:
— Ты, Бенедикт, вышел из низших классов, а низшие классы нуждаются в священниках, выходцах из их среды, способных понимать их потребности. Епископ будет доволен, если ты скажешь ему, что хочешь вернуться в Яму. — Глаза его затуманились. — О, эти последние дни! — вскричал он.
— Я бы не сбился с пути, как отец Дар! — с болью сказал Бенедикт.
Маленькие голубые морщинки вокруг губ отца Брамбо обозначились резче, и он сдержанно сказал:
— Отец Дар за многое в ответе!
— Смогу ли я научиться, отец мой, — спросил Бенедикт, пытливо глядя на священника, — смогу ли я научиться, как работать среди... среди моего народа, отец мой? Будут ли этому обучать в семинарии?..
— Да, именно этому, — радостно ответил отец Брамбо, решительно кивнув головой.
Бенедикт молчал. Он взглянул в окно на проплывающий мимо пейзаж, потом тихо спросил:
— Вы хотите попросить епископа... — он замялся.
Отец Брамбо пристально смотрел на него.
— Попросить епископа, — продолжал Бенедикт, — послать... послать вас куда-нибудь... в другое...
— Нет, — твердо ответил отец Брамбо, сжав губы. — Раньше я думал об этом, но теперь... теперь — нет!
Бенедикт глубоко вздохнул, теперь в глазах его уже не было тревоги.
— Отец мой, — робко произнес он, разглядывая свои пальцы. — Я очень обрадовался, когда вы приехали к нам в Яму.
Священник с удивлением посмотрел на него.
— Правда, Бенедикт? — растроганно спросил он.
Бенедикт кивнул.
— Я думал, вы покинете нас, — продолжал он, с трудом подбирая слова, — когда увидите, как... — он облизнул пересохшие губы, — как мы живем. Понимаете ли, все городские ненавидят нас...
— Нет, они просто боятся вас, Бенедикт, — мягко сказал отец Брамбо.
Бенедикт в недоумении посмотрел на него.
— Почему? — спросил он.
На лице отца Брамбо изобразилось удивление: ведь это было так понятно!
— Ну... — засмеялся он, немного смутившись, — я даже не знаю точно, почему. Мы всегда почему-то боялись бедных, я имею в виду — у нас дома, все мои родные и друзья. Почему, я и сам не знаю. Не то чтобы мы действительно боялись их, нет конечно, — ведь существует полиция и тому подобное; мы боялись другого... — Он задумчиво пожевал нижнюю губу и нахмурился. — Подумай только, вспомни, что произошло у нас за последние несколько дней. Беспорядки! Насилие! Стачка! — вскричал он. — Люди из высших слоев общества не ведут себя таким образом, Бенедикт. Они, естественно, пришли в ужас, они жаловались, они требовали увеличить полицейские силы. — Он нервно дернулся. — Это было страшным испытанием... — сказал он.
— Но, отец мой... — у Бенедикта перехватило дыхание.
— Сопротивляться полиции! — продолжал отец Брамбо. — Они как анархисты в Бостоне! Ты слышал о Сакко и Ванцетти?
Бенедикт покачал головой.
— Тоже инородцы. Если бы ты был тогда в Бостоне! А теперь здесь...
— Но, отец мой, — с болью сказал Бенедикт. — Рабочие вынуждены бастовать!
— Вынуждены, Бенедикт? — спросил отец Брамбо с укором. — Все рабочие?
Бенедикт запнулся.
— Все рабочие? — в раздумье повторил он. — Но ведь если они не будут бастовать, тогда завод...
— Кто вбил им это в головы, Бенедикт? — продолжал отец Брамбо мягко. — Разве они собственным умом дошли до этого? Ты же знаешь, что это неправда. Там был агитатор — агитатор-коммунист! Я ведь знаю про этот митинг на холме.
Бенедикт побледнел. Потом он вспыхнул и виновато опустил глаза. На какое-то мгновение ему показалось, что его страшно изобличили, заглянули ему в самую душу. Он крепко стиснул руки и уставился на них. А поезд уносил его вперед, и время стремительно мчалось вместе с ним.
— Отец мой, — не поднимая глаз, сказал мальчик после долгих, томительных минут. — Отец мой, если бы вы знали что-нибудь... ну, например, где прячутся гла вари стачки, было бы грехом не сообщить об этом полиции?
Отец Брамбо быстро повернулся к нему.
— Ты знаешь? — возбужденно спросил он и нагнулся, чтобы заглянуть Бенедикту в глаза.
Бенедикт еще ниже опустил голову.
— Нет, — сказал он. — Но это грех?
— Конечно, — вскричал священник. — Ты знаешь, кто такой Добрик? Коммунист! Преступник, враг церкви! Ведь укрывать преступника — это не только гражданский грех, но и грех против церкви.
Бенедикт кивнул. Его терзала мука.
— А мой папа... — начал он и осекся.
Отец Брамбо снова удивленно поглядел на него.
— Твой отец тоже бастует? — спросил он с недоверчивой улыбкой.
Бенедикт не мог ответить.
— Не знаю, — пробормотал он.
— Ну, конечно нет! Ведь твоего отца уволили с завода: значит, он не может участвовать в забастовке, — сказал отец Брамбо, довольный, что вспомнил этот факт и имеет возможность доказать Бенедикту, что никогда не сомневался ни в нем, ни в его семье.
Он обнял Бенедикта и прошептал:
— Я ведь знаю, как тебе было тяжело, Бенедикт. Я же не слепой. Тебе приходилось и голодать, ведь правда? Вот почему мне так хотелось, чтобы ты возможно чаще ел со мной.
Бенедикт вспомнил пирог на столе в кухне и отца Дара, застывшего в дверях. «Я так и не попробовал этого пирога», — подумал он.
— Нет, мы едим, — ответил он резко.
Отец Брамбо успокоительно похлопал его по плечу.
— Я понимаю, — ласково сказал он и снова начал созерцать пейзаж за окном.
Бенедикта вдруг охватила дрожь. «А что, если полиция знает? — со страхом подумал он. — Неужели я совершил грех?..» Он закрыл глаза ладонями, и тут же перед ним возникло смуглое лицо Добрика, он услышал его спокойный голос: «Какого цвета кровь?» — «Красная!» — торопливо ответил мужской голос. «Если у вас есть мужество идти по нашему пути, если вы вступили в Союз, помните: я буду бороться за то, чтобы все мы были братьями».
Бенедикт содрогнулся, только теперь по-настоящему осознав, как близок он был от страшного поступка: под действием колдовских чар он чуть было не назвал имя Добрика! Он почувствовал, как струйка холодного пота потекла у него по спине.
Порывисто повернувшись к окну, Бенедикт вскричал:
— В этих домах живут богатые люди, не правда ли, отец мой?
Отец Брамбо с улыбкой вгляделся в проносившиеся мимо усадьбы.
— Пожалуй, не такие уж богатые. Мы могли бы жить в любом из них.
— Ваша семья? — поразился Бенедикт.
Отец Брамбо снисходительно кивнул.
— О да, — небрежно обронил он. — Наш дом был гораздо красивее... — При воспоминании о родных местах в глазах его появилась тоска.
— Чем вот эти? — с недоверием переспросил Бенедикт, не отводя взгляда от домов, которые казались ему волшебными замками.
— Ну да, конечно, — кротко ответил отец Брамбо.
Бенедикту вдруг вспомнился негодующий голос Джоя: «Какое вранье!»
— Но... — хотел было возразить Бенедикт и остановился, не зная, против чего, собственно, он намеревается возражать.
— Мой отец, — начал отец Брамбо с затаенной горечью, чуть прищурив глаза, — мой отец был в свое время влиятельным человеком. Когда ты, Бенедикт, думаешь о Бостоне, — продолжал он с немного смущенной улыбкой, — тебе, наверно, представляются бобовые консервы или Бонкер Хилл. Но когда бостонцы думают о своем городе, им прежде всего приходит на память торговый дом Брамбо «Красивая мебель». Действительно, — произнес он с извиняющимся смешком, — таков был торговый девиз моего отца. Он распорядился, чтобы на здании его фабрики огромными буквами было написано: «Для бостонца «Брамбо» означает «красивая мебель». Моя мать, конечно, этого не одобряла, — добавил молодой священник. Он осторожно приложил пальцы к своим губам, словно хотел потрогать игравшую на них слабую улыбку. — Мой отец не хотел, чтобы я шел в священники, — признался он, — а мать хотела. — Он снова повернулся к окну. — Да, конечно, — сказал он небрежно, — наш дом был несравненно красивее.
— Значит, — сказал Бенедикт, начиная что-то смутно понимать, — значит, наши места должны были вам показаться чем-то вроде... — но он не закончил.
Отец Брамбо обернулся к нему с еле заметной улыбкой.
— Видишь ли, Бенедикт, — сказал он, — я был готов, если понадобится, жить в палатке и терпеть нужду.
Бенедикт смотрел на него, думая о палатках в лесу...
Ехали они в Моргантаун. Такого большого города Бенедикт еще никогда не видел: огромные дома, по улицам сплошным потоком движутся автомобили. В Бенедикте проснулся слабый, но столь привычный для него страх: а вдруг окружающие при взгляде на него сразу, каким-то непонятным образом догадаются, что он явился сюда из Литвацкой Ямы? Ему показалось, что город этот населен протестантами, и он подумал, что не сможет ни говорить со здешними жителями, ни смотреть им в глаза. Только бы отец Брамбо не оставил его одного... Молодой священник нанял такси. Это была первая поездка Бенедикта в такси.
Они проехали через весь город и очутились в зеленом предместье. Бенедикт опустил оконное стекло и неотрывно глядел на большие дома, скрытые за неведомыми ему деревьями, окруженные газонами. Его поразила необычайная тишина и полное отсутствие детей. Безмятежный, почти сонный покой царил в этих тенистых аллеях.
Втягивая носом воздух, Бенедикт повернулся к отцу Брамбо.
— Чем это здесь так хорошо пахнет?
Отец Брамбо удивленно посмотрел на него:
— Мне кажется, ничем, — сказал он, а потом добавил: — Просто здесь свежий воздух...
Но Бенедикт не поверил, что воздух сам по себе может так чудесно пахнуть...
Епископская усадьба стояла в роще густых вязов. Бенедикт с удивлением разглядывал большой пруд, где среди зеленых стеблей лилий плавали золотые рыбки. На берегу посреди зеленой лужайки стояли бронзовые солнечные часы, а поодаль выстроился ряд собачьих будок; вдоль них какой-то человек вел на поводке поджарую борзую. Пышный кустарник с пламенеющими багряными листьями окаймлял посыпанную гравием дорогу, по которой они ехали.
Такси остановилось под каменной аркой, на которой был высечен герб с большим крестом и латинской надписью: «In hoc signo vinces»[20]. Большой особняк сверху донизу был увит плющом; среди густой зелени проглядывали окна, за которыми смутно блестели позолоченные рамы картин и медные ручки дверей. Всюду царил мирный, сияющий покой, какой бывает только во сне.
Они подошли к парадной двери, по обе стороны которой висели фонари, и отец Брамбо легонько нажал на медную кнопку звонка. Позади захрустело по гравию такси, и Бенедикту показалось, что это такси, так чудесно доставившее его сюда, теперь оставляет его на призрачном берегу сновидений.
А потом бесшумно, как глаз, раскрылась дверь, и какой-то молодой человек провел их в библиотеку.
По пути отец Брамбо спрашивал что-то у молодого человека, а когда Бенедикт перехватывал его взгляд, он улыбался ему, как бы говоря: «Ну, что? Вот видишь!» В библиотеке стояли стулья, обитые темной кожей, большой письменный стол орехового дерева, на нем — лампы, затененные розовыми абажурами. Шкафы вдоль стен были сплошь заставлены книгами в кожаных переплетах, в матовом освещении тускло поблескивали золоченые буквы на корешках. Когда Бенедикт вступил в комнату, ему показалось, что он провалился во что-то мягкое; звук шагов, даже его дыхание — все звуки поглотил ковер, такой мягкий, что мальчик даже споткнулся. У него подогнулись колени, он словно не шел, а плыл по воздуху. Стены, заставленные книгами, поразили его своей торжественностью, и самый воздух библиотеки казался ему ватой, которая набилась в ноздри и глотку и медленно душит его.
Отец Брамбо указал ему на стул, предлагая сесть, и опустился в одно из темных кожаных кресел, которое словно с наслаждением вздохнуло, гордясь тем, что молодой священник выбрал именно его. А стул Бенедикта только слегка пискнул: мальчик не осмелился удобно усесться на нем. Отец Брамбо послал ему через комнату призрачную улыбку, но Бенедикт не решился ответить на нее. Ему казалось, что он все равно не сможет пробить своей улыбкой этот тяжелый, душный воздух.
Немного погодя сдержанный молодой человек с темными влажными глазами вернулся и что-то сказал отцу Брамбо таким необычайно нежным, мелодичным и тонким голосом, что ошеломленный Бенедикт хоть и услышал его, но не понял ни слова.
— Благодарю вас, — степенно ответил отец Брамбо, затем поднялся и вышел вслед за молодым человеком из комнаты.
У Бенедикта было такое чувство, будто только что оборвались последние нити, связывавшие его с прошлым, и теперь он во власти новой жизни. Литвацкая Яма отошла куда-то далеко-далеко, как и день, когда он родился; он даже не мог воскресить ее в своей памяти, словно окружающее его великолепие препятствовало этому. Он разглядывал католические медали и картины на стенах, не думая о том, что они висят здесь, в доме епископа, а он, Бенедикт, смотрит на них. Он смотрел на них, как смотрят на вещи, выставленные в витрине магазина — ведь в его представлении слово «католик» всегда отождествлялось с образом бедняка и рабочего, а слово «богатый» всегда относилось к тем, кто возглавлял заводскую Компанию.
Наверно, именно поэтому он сидел настороженный, вытянувшись на стуле, словно аршин проглотил, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. От долгого сидения у него заболела спина, и он стал осторожно двигаться на стуле, с опаской прислушиваясь к поскрипыванию кожаной обивки. Выстроившись в длинный ряд, со стен на него глядели папы. Больше всех был портрет папы Пия XI в золоченой раме. Он да еще папа Бенедикт XV, который висел рядом, безмятежно наблюдали за тем, как мальчик ерзает на стуле. Он хотел встать, поклониться и таким образом высказать им свое уважение, а также объяснить свое присутствие. В этой огромной безмолвной комнате папам не на кого было смотреть, кроме как на него, и Бенедикту было не по себе. Он с нетерпением ждал возвращения отца Брамбо.
Время шло, и ему казалось, что с каждой минутой он становится меньше ростом. Эта комната подавляла его: на двух гобеленах были вытканы мученики, которых кололи копьями и сжигали на костре; кровь их большими багровыми каплями падала на землю. Внимание Бенедикта привлекло огромное распятие: оно было из темного, до глянца полированного орехового дерева, а гвозди, которыми были прибиты к кресту ладони и стопы Христа, были из золота. Бенедикт долго глядел на распятие, и ему вдруг показалось, что Христос пошевелился.
Он вздрогнул и медленно отвел глаза. По какому-то волшебству он очутился в ином, незнакомом мире. Голоса у всех здесь были такие мягкие, тихие и приятные, они так отличались от голосов его родных, и Бенедикту не верилось, что это разговаривают люди. Отец Брамбо тоже так говорил, и Бенедикт вспомнил, как он был заворожен его голосом в их первую встречу.
Он был здесь непрошеным гостем. Ему хотелось, чтобы что-то случилось, какое-то важное событие, чтобы эта комната не смотрела лишь на него одного. Бенедикту казалось, что комната подстерегает его, ждет, когда он украдкой обшарит ее, набьет свои карманы ручками, карандашами и деньгами, которые лежали на письменном столе, — он видел их. У него вспотели ноги, и он похолодел при мысли о том, что вдруг после него на этом прекрасном стуле останется пятно.
Бесшумно, как кошка, в дверях снова появился молодой человек. Бенедикт виновато посмотрел на него и беспомощно спрятал руки за спину. Он весь обратился в слух, напрягся, чтобы в случае, если этот молодой человек обратится к нему, понять, что он говорит.
Но тот только резко мотнул головой. Это было приказание, и Бенедикт соскользнул со своего стула. Он почувствовал, как ноги его отлепились от кожаного сидения. Его башмаки, длинные черные носки и тщательно залатанные короткие штаны — все такое аккуратное и чистенькое — вдруг будто одеревенели на нем. Он шел, переставляя негнущиеся ноги по мягкому ковру, к молодому человеку, который молча поджидал, когда Бенедикт подойдет поближе, а затем повернулся и вышел из комнаты. Бенедикт последовал за ним.
Холл, в который они попали, был похож на подводное царство: он был тенисто-зеленым. Потом открылась еще одна дверь, и Бенедикт увидел отца Брамбо, — тот скромно стоял в углу большой комнаты; на губах его блуждала легкая улыбка. Бенедикт, бледный как мел, не мог оторвать глаз от отца Брамбо, пока чей-то голос не произнес:
— Так ты — Бенедикт?
У Бенедикта все завертелось перед глазами: он подумал, что говорит отец Брамбо, — ведь именно этими словами он приветствовал Бенедикта, когда они впервые встретились. Но губы отца Брамбо были неподвижны, а за темным письменным столом, который, как и холл, словно порос мхом и был погружен в зеленоватую полутьму, сидел сам епископ. Он глядел на Бенедикта без улыбки, на его полном, гладком, матовом лице светлели голубые глаза. Волосы у него были седые, хотя лицо еще сохраняло моложавость. Совсем белые волосы казались белым шелком, только на висках они отливали желтизной. «Он, должно быть, родился в этом доме и вырос в нем, как гриб», — подумал Бенедикт.
— Так ты — Бенедикт? — повторил епископ.
Бенедикт кивнул и потупил глаза.
— Зачем ты сюда приехал? — прозвучал второй вопрос.
Бенедикт оторопело посмотрел сначала на епископа, потом на отца Брамбо, но тот лишь медленно закрыл глаза, а затем так же медленно открыл их.
— Вы... Вы хотели... — начал отрывисто Бенедикт, — проэкзаменовать меня?
— Да, верно, — небрежно бросил епископ. — Но это потом. А пока что скажи мне, Бенедикт, — с расстановкой проговорил он, наклоняясь вперед. Только теперь Бенедикт заметил, что голова его была в тени. Глаза его стали светлыми, почти прозрачными. — Расскажи мне об отце Даре, Бенедикт.
— Об отце Даре? — повторил Бенедикт, с трудом шевеля пересохшими губами.
— Я получил письма, — сказал епископ, — от них обоих.
Бенедикт взглянул на отца Брамбо — тот не отрывал глаз от епископа.
— Да, от обоих, от приходского священника и от его помощника, — прибавил епископ. — Оба хорошо отзываются о тебе. Оба настоятельно рекомендуют тебя. — Он помолчал. — Скажи мне, — сказал он с чуть насмешливым любопытством, — как тебе удалось заслужить столь лестное мнение о себе у них обоих?
Бенедикт ничего не мог ответить.
— Объясни мне своими словами, как сумеешь, — продолжал епископ. Он с минуту пристально смотрел на Бенедикта, но не торопил его с ответом. — Скажи мне, что бы ты делал, если бы стал священником церкви святого Иосифа?
Бенедикт облизал губы.
— Я не понимаю, отец... Ваше преосвященство... — Лицо его пылало.
Епископ, казалось, не замечал его смущения.
— Разве ты не мечтал об этом?
Бенедикт молча кивнул.
— Так расскажи мне, о чем ты мечтал.
— Я бы... — порывисто сказал Бенедикт и осекся. Он взглянул на отца Брамбо, и тот одобрительно кивнул ему. Мальчик вдруг рассмеялся и тут же зажал ладонью рот.
— Продолжай, — подбодрил его епископ. — Оставил бы ты церковь в том же виде, как сейчас?
— Нет! — воскликнул Бенедикт.
— Продолжай, — сказал епископ, — что бы ты сделал? Что бы ты сделал прежде всего?
— О отец мой, — выпалил Бенедикт с сияющими глазами, — я бы жил в церкви!. Вот где был бы мой настоящий дом! Она была бы у меня чистая, без единого пятнышка. Я бы побелил стены, украсил бы ее. Я знаю, рабочие пришли бы и помогли мне привести ее в порядок, если бы я к ним обратился. Даже мой отец пришел бы. Я знаю, они не отказали бы мне!
— Значит, церковь нуждается в большом ремонте?
— Да, отец мой, — отвечал Бенедикт.
— Почему же до сих пор не сделали ремонт?
— Не знаю, отец мой, — медленно произнес Бенедикт.
— Не было для этого достаточно денег?
— Да, денег не было.
— Значит, поэтому и не сделали ремонт? Правильно?
Бенедикт запнулся.
— Н-нет... — протянул он.
— Нет? — переспросил епископ. — Тогда почему же?
— Церковь и так можно было содержать в прекрасном виде, — горячо сказал Бенедикт. — Я бы смог.
— Потому что она дорога тебе?
Бенедикт утвердительно кивнул.
— В котором часу ты встаешь, чтобы прислуживать во время ранней обедни? — спросил епископ.
— В четыре часа утра, — ответил Бенедикт.
— В четыре?
— Да, отец мой, я должен еще кое-что сделать, прежде чем идти в церковь.
— Кое-что сделать?
— Да... я... — Бенедикт вспыхнул. В голове его мелькнула мысль рассказать епископу о матушке Бернс, но он тут же отбросил ее. — Я... я молюсь, — сипло закончил он.
— Когда ты приходишь в церковь?
— В пять.
— А ранняя обедня начинается...
— В шесть.
— Почему же ты приходишь так рано?
— Я... Мне нравится приходить пораньше, — сказал Бенедикт.
— А отец Дар уже ждет твоего прихода?
— Нет, — ответил Бенедикт.
— Где же он обычно бывает в это время?
Бенедикт хотел сказать, но у него сперло дыхание.
— Я не знаю, — пролепетал он.
— Не знаешь? — улыбнулся епископ. — Он ждет тебя в церкви?
— Нет, — тихо ответил Бенедикт, уставившись в пол.
— Где же ты его находишь в таком случае?
— Иногда, — Бенедикт говорил медленно, не поднимая глаз, — он болен и еще спит, тогда я иду за ним и бужу его.
— Запоздала ли когда-нибудь обедня оттого, что тебе пришлось его будить?
— Только раз, но ненамного, — с трудом выговорил Бенедикт.
— Потому что тебе пришлось пойти и разбудить его?
Бенедикт кивнул и прошептал:
— Только один раз.
— Один раз, — сказал епископ, внимательно наблюдая за ним. Бенедикт снова кивнул, — А чем он болел, ты знаешь?
Епископ смотрел на него из-за письменного стола. Комната казалась Бенедикту огромной и совсем пустой, ему хотелось убежать отсюда. Сердце, беспокойно колотившееся в груди, вдруг замерло, в ушах звенело...
— Что происходит в вашем приходе? — спросил епископ.
Бенедикту не хотелось отвечать. Он страшно устал. Епископу пришлось повторить свой вопрос.
— Я не знаю, отец мой, — сдержанно ответил Бенедикт.
— Но в церкви было побоище, — сказал епископ.
Бенедикт кивнул. Он вспомнил про отпечаток ноги на красном ковре; только теперь ему казалось, что это был след босой ноги: на ковре явственно отпечатались пальцы и пятка.
— Что происходит в вашем приходе? — допытывался епископ.
Бенедикт пожал плечами. Он наконец поднял на епископа полные слез глаза. С минуту он смотрел перед собой, испуганный.
— Я ничего не вижу, — признался он, потом смахнул рукой слезы. — Они бастуют против Компании, — сказал он.
— А похороны? — спросил епископ.
Снова у Бенедикта перехватило дыхание. Ведь они тогда забыли про гроб, а ночью люди пробрались в церковь, унесли гроб и захоронили его...
— Но это грех! — сказал он неожиданно.
— Что грех? — спросил епископ.
— Убивать, — тихо ответил Бенедикт.
— А отец Дар? — спросил епископ.
— Он забыл! — вскричал Бенедикт, подняв измученное лицо. — Забыл!
— Забыл про что? — спросил епископ, впиваясь глазами в Бенедикта.
Бенедикт стиснул ладонями щеки, рот его полуоткрылся.
— Разве отца Дара не предупредили о том, что заупокойную обедню служить не следует? — спросил епископ.
Бенедикт ничего не слышал.
— Я предупреждал его, — почтительно проговорил отец Брамбо, но епископ и Бенедикт не обратили внимания на его слова.
— Они ворвались в церковь, — сказал Бенедикт, побледнев, закрыв глаза. — Они ворвались в церковь, они кричали: «Вон отсюда! Убирайтесь!»
— Кто кричал, Бенедикт? — спросил епископ.
— Солдаты, — дрожа, ответил Бенедикт. Он оглянулся вокруг и понизил голос. — Они пришли за забастовщиками, — сообщил он доверительно.
— А разве отец Дар не знал, что они придут?
Бенедикт затряс головой так, что на щеках у него выступили красные пятна — ему хотелось отогнать мучившее его воспоминание. На вопрос епископа он не ответил.
Епископ молчал. Он внимательно присматривался к Бенедикту, беззвучно шевеля губами. Потом он поднял руку, и Бенедикт увидел кольцо на среднем пальце.
— Целуй, — приказал ему епископ.
Мальчик медленно подошел к столу и упал на колени, а епископ протянул ему руку. Бенедикту вдруг почудилось, что он слышит голос Поджи, — он прикоснулся губами к руке епископа, она была приятной и холодной, как игральные кости.
— Когда ты будешь готов к отъезду? — спросил епископ.
— К отъезду? — повторил Бенедикт, поднимая изумленное лицо.
— В семинарию святого Фомы.
— О! — воскликнул Бенедикт. Воцарилась тишина. Он молчал, не понимая, что от него ждут ответа.
— Тебя известят, — сказал наконец епископ. Он поднял руку и сложил пальцы для крестного знамения.
Бенедикт опустил голову.
— Во имя отца и сына... — услышал он голос епископа.
9
Он нес алюминиевые судки: в нижний мать налила горячий кофе, судок грел ему ногу. Завод молчал: из труб вился тонкий дымок, как будто в корпусах шла работа, но было тихо. Литвацкая Яма опустела. Лишь старухи в темных платках торопливо проходили по узким улицам, а на перекрестках бесприютно повизгивали собаки. Кошки сидели под крылечками и смотрели вслед Бенедикту. Близился полдень.
У стальных ворот завода стояли охранники в касках времен первой мировой войны. Высокий кирпичный забор с колючей проволокой поверху опоясывал всю территорию завода; тут и там виднелись люди в военной форме, они угрюмо сидели на солнце с ружьями в руках. В высокой сторожевой башне, с которой можно было обозревать город и Литвацкую Яму, дежурило еще несколько солдат с пулеметами. Больше никого не было видно. Бенедикт пошел через железнодорожные пути к воротам.
— Тебе чего? — спросил его высоченный солдат, глядя на него сверху вниз.
Бенедикт стоял перед ним, не зная, что ответить. Солдат лениво ткнул его стволом ружья. Бенедикт вздрогнул; солдат слегка усмехнулся. Бенедикт молча поднял судки и показал ему. Солдат поглядел на них.
— Моя мать, — с трудом выговорил Бенедикт, — велела мне отнести отцу завтрак.
— Как зовут твоего отца?
— Винсентас Блуманис, — ответил Бенедикт.
— А-а, литвак!.. — протянул тот, потом снова поглядел на Бенедикта и задумался. — Он там, что ли? — солдат мотнул головой в сторону завода.
Бенедикт заглянул ему за спину: стальные ворота были заперты, — накрепко заперты, как ворота тюрьмы; в них была прорезана только узкая дверь, в нее мог пройти всего один человек. Бенедикт утвердительно мотнул головой.
— Как, говоришь, его зовут? — снова спросил часовой и сосредоточенно уставился на мальчика в ожидании ответа. Стараясь говорить спокойно, моргая от напряжения, Бенедикт повторил фамилию отца. Солдат посмотрел на него с кислым видом, протянул руку к судкам и, открыв верхний, вынул из него бутерброд. Он отделил один ломтик от другого и презрительно фыркнул: между ними не было ничего, хлеб был лишь скудно помазан жиром. Затем он заглянул в судок с кофе и погрузил в него палец.
— Теплый, — произнес он с подозрением.
— Я живу недалеко отсюда, — пояснил Бенедикт.
Солдат закрыл судки и сказал:
— Если твой старик тут, еды ему хватает. Проваливай-ка лучше подобру-поздорову.
Бенедикт стоял в нерешительности.
— Ну, — приказал часовой, надвигаясь на него с угрожающим видом. Бенедикт круто повернулся и побежал, а часовой разразился громким смехом.
— Эй, паренек! — позвал он. — Иди обратно!
Бенедикт остановился и недоверчиво оглянулся на часового. Внезапно над его ухом раздался оглушительный гудок, оповещавший о наступлении полдня. Бенедикт оцепенел от испуга, даже волосы зашевелились у него на голове.
— Иди сюда! — приказал часовой.
Бенедикт с опаской приблизился, не спуская глаз с солдата, и остановился так, чтобы тот не смог дотянуться до него. Согнув указательный палец, часовой весело поманил к себе Бенедикта. Мальчик сделал еще шаг, тогда часовой протянул руку и выхватил судки. Он открыл их и снова вытащил бутерброд, посмотрел на него, откусил и с отвращением выплюнул на землю. Затем понюхал кофе, сделал большой глоток, прополоскал себе рот и тоже выплюнул, а затем вылил из судка оставшийся кофе.
Проделав все это, он вернул судки Бенедикту и сказал:
— Ладно уж. Проходи.
Солдат стукнул прикладом в стальные ворота — дверца раскрылась, и Бенедикт прошел на заводской двор.
Мощеная дорожка вела мимо кирпичного навеса, где висели табельные доски; теперь здесь расположилась на скамьях полицейская охрана Сталелитейной компании. Солдаты играли в шашки. От них несло перегаром виски; из черных кобур торчали рукоятки револьверов, в козлах у стен стояли винтовки. Один солдат захохотал, отвел хмурый взгляд от шахматной доски и вдруг увидел Бенедикта, — он воззрился на него, будто завидел добычу. Бенедикт замер от страха и, показав на свои судки, почему-то так широко осклабился, что у него затрещало за ушами. Солдат, все так же пристально глядя на него, сплюнул на землю табачную жвачку и растер сапогом.
Бенедикт часто носил своему отцу горячие завтраки. Отец его работал на домне № 2. Она была похожа на гигантский горшок и, опутанная проводами, вся в трубах, лесенках и переходах, возвышалась над всеми остальными строениями завода. У самой печи стояла лебедка: она опускала и поднимала вагонетки. Их грузили железной рудой, известняком, коксом. Затем лебедка поднимала их вровень с вершиной печи, и вагонетки опрокидывали в печь свое содержимое. Медленно погружаясь на дно печи, оно накалялось от буйного газа и в конце концов плавилось, превращаясь в жидкий металл, который вытекал из печи через летку, словно живая река. Но теперь вагонетки, хотя они и двигались весьма деловито, были пусты. Пустые, они поднимались по наклонной линии к вершине печи, опрокидывались в пустую печь, а затем, громыхая, спускались вниз на «погрузку», чтобы снова проделать тот же путь. Мертвящая пустота чувствовалась за этим механическим шумом: одни только машины находились в движении. Огромные колеса грохотали и лязгали, рассекая воздух. Дым от замасленных тряпок выбивался из труб.
Бенедикт вошел под навес, тянувшийся вокруг домны № 1. Квадратное основание печи было заложено в центре мощенного кирпичом двора, а верх ее проходил через крышу наружу и исчезал из глаз. Возле домны у открытых отверстий фурм стояли люди в грубых синих блузах и защитных очках, которые делали их похожими на лягушек. Они привозили на тачках со двора глину и, вытаскивая насадки, заделанные в кладку печи, замазывали отверстия глиной. Людей было немного — тут были и присланные из конторы и постоянные рабочие. Еще несколько человек сидели на старых, истертых скамьях, с засаленными картами в руках, подле них стояли бутылки виски. Никто из рабочих не обратил внимания на мальчика, когда он проходил мимо; казалось, они с головой ушли в карточную игру. Слышалось добродушное переругивание.
Миновав двор домны № 1, Бенедикт направился к домне № 2. Железная загородка отделяла его от громадной шлаковой ямы, куда сбрасывали горячий шлак, а затем мощной струей воды из шланга дробили его. Безмолвие, царившее здесь, казалось более естественным. При повороте, сквозь колючую проволоку забора, за насыпью из красного песка, тянувшейся, как маленькая горная гряда, вдоль дорожки, по которой он шел, — он снова увидел город. Город лежал, прижавшись к холму, словно понимал, что взят на мушку пулеметом, установленным на сторожевой башне, и, не мигая, пристально глядел на забаррикадированный завод. Бенедикту показалось, что он отсутствовал не короткое время, а целую вечность и что детство его осталось где-то далеко позади. Он вдруг понял, что теперь оно уже безвозвратно ушло... С минуту он неподвижно стоял на дорожке, чувствуя себя так, будто он шел-шел, да и попал в западню, а безгласные стальные ворота навсегда захлопнулись за ним и за его мальчишеской порой. Он вздрогнул, повел плечами, словно просыпаясь, и бегом бросился по дорожке к навесу перед домной № 2. И здесь над всем нависло то же непривычное оцепенение; только откуда-то сверху из трубы капала вода. Печь была холодной, и, когда он проходил мимо, ее ледяное дыхание коснулось его, как дыхание смерти. Он бросил на печь испуганный взгляд. Эта гигантская домна, этот пылающий горн, возле которого так тяжко трудились люди, чтобы поддержать в нем огонь, и день за днем истощали свои силы, возвращаясь домой измотанные, усталые; эта печь, которой они приносили в жертву свои жизни, словно для производства стали требовались не только кокс и известняк, но и человеческая кровь и плоть, — эта печь потухла, в ней лежал лишь холодный пепел. А вокруг царило ледяное безмолвие.
Сначала Бенедикт никого не мог найти. Скамейки, засаленные до блеска, как и скамьи в церкви, — были пусты. Лишь обойдя доменную печь, он увидел посреди двора человека, формовавшего что-то в песке, а возле чугунной болванки небольшую группу людей, которые молча играли в карты.
Отец его не принимал участия в игре и сидел поодаль на деревянной колоде.
Бенедикт подошел к нему.
— Папа, — тихо позвал он.
Отец что-то строгал. У Бенедикта вдруг защемило сердце: отец мастерил из куска дерева флейту, — занятие, столь привычное для него дома.
— Папа, — повторил мальчик.
Отец поднял глаза. Он смотрел перед собой отсутствующим взором, и Бенедикт подошел поближе.
— Папа, — сказал мальчик, переходя на мягкий литовский язык. — Это я — Бенедикт.
Глаза отца остановились на нем и прояснились. Бенедикт улыбнулся, но сердце его снова болезненно сжалось, глаза наполнились слезами.
— Папа! — повторил он, поднимая судки, — я нес тебе завтрак, но часовой вылил все на землю!
Он пошатнулся, и отец, отложив в сторону флейту, сказал:
— Садись, Бенедикт!
Затем, когда Бенедикт сел с ним рядом, отец спросил:
— Ну, как поживает твоя мама? — словно в первую очередь она принадлежала Бенедикту, а уже потом ему.
— Хорошо, — ответил Бенедикт.
— Передай ей, что у меня тоже все в порядке, — сказал отец.
— Да, папа.
— Так ты скажешь ей?
— Да, папа.
Отец замолчал, а Бенедикт счел нужным прибавить:
— И Джой хорошо себя чувствует, и Рудольф тоже.
Он не осмеливался поглядеть на отца. Он стыдился своей жалости к нему. Устремив глаза на ноги и на покрывавшую пол стальную стружку, напоминавшую яблочную кожуру, Бенедикт сказал:
— Я был в Моргантауне со священником. Мы ездили на прием к епископу, и епископ сказал, что я могу поступить в семинарию, папа, и стать... — он облизал губы и добавил еле слышно: —...священником, если захочу. — В душе его ничто не отозвалось, когда он произнес эти слова.
Но отец ответил только:
— Ладно, ладно...
Бенедикт удивленно посмотрел на него и понял, что вряд ли отец слышал его.
— Папа, — сказал он, — а ты не можешь прийти домой?
Отец перевел глаза на поднятое к нему бледное лицо мальчика и с трудом выдавил улыбку. Он покачал головой.
— Скоро приду, — прошептал он.
Бенедикт уронил руки на колени, отшвырнул ногой стружки. Рабочие, те, что играли в карты, негромко переругивались — все на разных языках. Отец снова взялся за флейту и стал вырезать в ней отверстия для воздуха.
— Никакой сухой горошины вкладывать в нее не надо, — сказал он. Потом поднес флейту к губам и дунул. Раздался тихий, мелодичный звук.
— Сейчас проделаю еще одну дырку, и она даст другую ноту, — сказал он.
Бенедикт сидел и наблюдал за отцом, а тот молча трудился над флейтой. Над их головами застыл неподвижный кран. С него на длинном тросе свисал огромный стальной крюк. Рядом стоял тяжелый молот, с двумя рукоятками, торчащими, как вытянутые ноги.
— Вы были на огороде? — спросил отец.
— Что, папа?
— Как на огороде?
— Хорошо, папа, — отвечал Бенедикт. — Горох уже поднимается, и кукуруза тоже. Мы уже едим салат. Полиция, — сказал он, — проехала прямо через огород мистера Трониса, а через наш — нет.
Отец кивнул, и Бенедикт был доволен, что смог сообщить отцу такую радостную новость.
— Папа, — снова начал он. — Часовой у ворот отнял у меня судки, выкинул бутерброды и вылил кофе на землю. Это мама приготовила тебе бутерброды!
— Понимаю, — произнес его отец.
Он снова приложил флейту к губам, и Бенедикт изумленно смотрел, как неуклюже, но вместе с тем осторожно задвигались по флейте натруженные, жесткие пальцы отца. Отец извлекал из нее то низкий, то высокий звук. Потом он протянул ее Бенедикту; тот сунул ее мокрый, горький от отцовского табака конец себе в рот и подул. Звук флейты потряс его. Он, улыбаясь, обернул ся к отцу и гордо сыграл обе ноты. Отец кивнул и наклонился к нему, чтобы лучше слышать. Бенедикт отнял ото рта флейту и рассмеялся.
— Возьми ее себе, — сказал отец.
— Папа, — начал Бенедикт, — теперь уже никто не хочет продавать свои дома.
И вдруг плечи его затряслись, из глаз хлынули горькие слезы. Он стиснул руки, склонил на них голову и зарыдал навзрыд, тяжело всхлипывая. Большая, жесткая отцовская рука опустилась на его плечо, — отец погладил его и притянул к себе. Тогда он уткнулся в колени отца, в его спецовку, пропитанную застарелым соленым потом и острым запахом железа и угля.
— Папа, — сказал он глухо, — чего они хотят от тебя?
Отец еще крепче прижал его к себе и ничего не ответил.
— Папа, — вскричал Бенедикт, поднимая голову, — почему мы не можем уехать из этой долины и переселиться в другое место?
Отец поглядел на мальчика, и его лицо, перед этим такое угрюмое и холодное, теперь подернулось грустью. Он сказал:
— А ты думаешь, есть такое место, где бы не было хозяев?
— Бог поможет тебе, папа! — взволнованно воскликнул Бенедикт.
— Ну-ка погляди на меня, — приказал отец. Он ласково взял Бенедикта за подбородок своей мозолистой рукой. — Скажи мне, Бенедикт, — отец говорил сейчас очень серьезно. — Ты умеешь держать язык за зубами?
— Да, папа, — ответил Бенедикт. Он вспомнил разговор в поезде с отцом Брамбо и невольно содрогнулся.
— Если я поручу тебе кое-что передать совершенно секретно...
Бенедикт кивнул утвердительно.
— Да, папа, клянусь тебе.
Отец так пристально посмотрел на него, словно заглянул ему в душу, потом положил руку ему на голову и притянул к себе. Бенедикт зажмурился и припал к грубой рубашке отца, слушая, как гулко бьется его сердце, вдыхая солоновато-кислый запах его тела. Жгучие слезы любви обожгли ему глаза, и он зажмурился еще крепче.
— Когда ты вернешься обратно, — сказал отец, ласково поглаживая его по спине, — скажи им, что мы придумали, как выйти отсюда.
Бенедикт с изумлением уставился на отца.
— Как же, папа? — Он огляделся вокруг. — А стража?
Отец приложил палец к губам Бенедикта.
— Стража будет сторожить, — сказал он.
— Но, папа... — снова начал Бенедикт. Губы его дрожали.
— Есть один путь, — сказал отец. — Не бойся за меня — я ведь непрестанно думаю о вас... А теперь иди, — добавил он, помогая Бенедикту подняться на ноги. — И передай мистеру Типа, чтобы в полночь он был с лодкой напротив домны № 2, там, где в реку выходит отводная труба.
— Ты хочешь пролезть через нее, папа?..
Отец мягко оттолкнул от себя Бенедикта; мальчик сделал несколько шагов и вернулся, словно хотел еще что-то сказать.
— Ступай, ступай! — нетерпеливо закричал отец.
— Папа, — жалобно сказал Бенедикт, — ты, наверное, голоден?
Отец снова оттолкнул его, и Бенедикт печально побрел прочь. По дороге он опять увидел во дворе компанию игроков, склонившихся над картами, словно карты горели живым огнем, вокруг которого они сгрудились в поисках тепла.
Когда Бенедикт выходил из ворот, часовой угрюмо поглядел на него, но ничего не сказал. Бенедикт пересек железнодорожные пути и стал подниматься вверх по неровной извилистой дороге, направляясь домой через город. Только пройдя половину дороги, он вспомнил, что забыл взять флейту.
10
С прекращением работ на заводе ко Рву перестали прибывать вагонетки, груженные горячим шлаком, и сброшенный ранее шлак постепенно затвердевал, превращаясь в кремнистые скалы и поблескивая под лучами солнца серебряными искорками стали, укрывшейся в его недрах. Огнедышащее чудовище поглотило и Ров, и все пространство вдоль него, где некогда стояли дома; оно буйно разлилось по дну Литвацкой Ямы, уткнулось в горный хребет на восточной окраине, а на западной медленно вскарабкалось на холмы и подступило к лесу.
Еще много домов погибло в огне, их уничтожило налетевшее на них адское пламя; к утру на том месте, где они стояли, осталось лишь пустынное пепелище; серая поверхность слабо пульсировала, по ней пробегали злые огоньки, а под пепелищем навеки покоились покореженные железные балки да фундаменты бедных домов.
На западе шлаковые скалы стеной подошли к красным дюнам. Ранее здесь протекал ручей. У раскрытой пасти дренажной трубы, специально построенной для его принятия, он образовывал небольшое стоячее озерко. Теперь ручей скрылся под шлаком, а озерко у входа в бетонную трубу не высыхало.
Бенедикт и не подумал идти домой. Когда завод остался далеко позади, он прошел окраиной города и направился через дюны в лес. Он шел той же дорогой, что и в памятную ночь, когда ему довелось вновь увидеть Добрика. В ту безлунную ночь он с трудом различал дорогу, но теперь хорошо видел все выбоины и бугры. Вздымавшаяся летучая пыль душила его. Он очень торопился и то шел, то бежал.
Ему можно было и не объяснять, каким важным было поручение, которое он должен передать. Если бы он мог летать, он полетел бы. Труба печи для сжигания мусора служила ему ориентиром; она высилась как смертоносная стрела, ее зловонный дым отравлял воздух, но благодаря ей он знал, где восток и где запад.
На вершине ближайшего холма, откуда ему открывались склоны других холмов, уходивших грядами вдаль, он остановился, охваченный страхом. Опасаясь, что кто-нибудь его заметит, он упал ничком в мягкую, волнистую траву. Невдалеке он увидел солдата верхом, который волочил за собой на веревке двух мужчин. Очевидно, эти мужчины скрывались здесь, и солдат поймал их. Они были привязаны веревкой к его седлу и, спотыкаясь, еле поспевали за лошадью, с трудом передвигая одеревеневшие ноги. Их связанные руки были вытянуты вперед; они как бы молили о пощаде. Бенедикт с ужасом глядел на них. Вдруг один мужчина наткнулся на другого, оба не удержались и рухнули на землю Ло шадь волочила их по дороге в течение нескольких минут, пока солдат не обернулся к ним. До Бенедикта донеслись ругательства, которыми он их осыпал. Взмыленная лошадь повернула морду, раздувая ноздри. Бенедикт из своего укрытия видел ее дико косящий глаз; лошадь стала яростно бить копытом о землю. Двое несчастных с трудом поднялись на ноги, оставляя за собой кровавые следы. Лошадь снова понеслась вперед, а они побежали за ней.
Но даже это жуткое зрелище не смогло остановить Бенедикта. Он испытывал страх и одновременно жгучее нетерпение. Едва солдат и его жертвы исчезли из виду, мальчик сбежал с холма и стал пробираться дальше через дюны. Пыльная фабрика дремала среди красной пыли, словно в паутине гигантского красного паука. Бенедикт цеплялся за стебли травы, карабкаясь наверх. Пыль облаком носилась вокруг него, забивалась ему в нос и рот, оседала на ресницах. Он видел все окружающее как бы сквозь багряную дымку. Снова взобравшись на холм, он огляделся — кругом не было ни души. Даже у пруда, красного, как лужа крови, было пустынно. Сейчас он закричал бы от восторга, если бы увидел, как в пруду барахтается худенький Джой.
На некотором расстоянии от красных песков начинались темно-зеленые, казавшиеся почти серыми леса. Бенедикт с ног до головы был покрыт красной пылью. Но теперь ему уже никто не встречался; он больше не видел солдат, хотя они постоянно рыскали по холмам, пытаясь найти место, где прячутся бастующие рабочие. Бенедикту необходимо было как можно скорей добраться до лагеря в лесу, передать поручение и успеть по возвращении в поселок навестить отца Дара. Он так и не зашел проведать старика, хоть обещал ему, а ведь отец Дар хотел его видеть и справлялся о нем!
Там, где кончались красные дюны, росла небольшая рощица барбариса. Бенедикт пересек ее и стал продираться сквозь густую заросль бузины, которая позднее покроется белыми опахалами цветов (отец делал из них наливку, а мать варила из этой наливки желе). За бузиной шли кусты черной смородины с розоватыми колючими побегами, цеплявшимися за его одежду. В лесу сплошь да рядом попадались темные глубокие ямы: это были старые, теперь заброшенные разработки. Иногда их прикрывал кустарник или какие-нибудь ползучие растения, поэтому идти нужно было осторожно. Нащупывая ногами проржавевшие рельсы, Бенедикт шел по старой узкоколейке, которую провели в былые времена к шахтам; теперь она заросла густой травой. Где-то за кустами смородины среди травы пробивался ручеек, беспечно журча, будто над чем-то посмеиваясь: вода в нем была кислая, ни одно живое существо не обитало в нем, даже змеи не пили из него. Кустарник уступил место деревьям — ясеню, клену, золотисто-коричневой шелковице, ярко-зеленому американскому лавру. Тропинка внезапно оборвалась прямо у ног Бенедикта. Перед ним зияло отверстие старой шахты, откуда поднималась нестерпимая вонь, — может, туда упала лисица или один из тех немногих оленей, которые бесстрашно подходили близко к городу. Теперь стало труднее отыскивать дорогу. Неожиданно из зеленой чащи леса поднялась крутая сланцевая гряда, и он на четвереньках полез вверх. Из-под его ног сыпались куски сланца и, крошась, летели по склону к подножью гряды. Когда он забрался наконец на вершину, то услышал чей-то возглас.
— Какого черта ты пришел сюда, Бенедикт? — раздраженно окликнул его кто-то. Тяжело дыша, весь потный, Бенедикт поднял голову. Он так обрадовался, услышав этот грубый «литвацкий» голос, что засмеялся; ему хотелось потрогать этого человека руками, убедиться, что он видит его наяву. Часовым оказался девятнадцатилетний парень, один из молодых рабочих завода, Петер Гразускус. Бенедикт никогда раньше не видел, чтобы тот занимался чем-нибудь полезным. Этот парень вечно играл то в кости, то в карты где-нибудь под забором. Долговязый и костлявый, он с презрительным видом опирался сейчас на свою винтовку. Прядь желтых волос свисала ему на глаза.
Бенедикт, улыбаясь, остановился перед ним; он запыхался и выбился из сил. Наконец он выдохнул:
— Мне нужно видеть мистера Типа!
Но на Петера это не произвело должного впечатления.
— На что он тебе? — спросил он. Даже здесь, в лесу, на нем была чистая рубашка, волосы аккуратно причесаны, а вокруг шеи завязан красный платок.
— Мне необходимо его видеть, — повторил Бенедикт.
— Вот как? — сказал Петер. — А для чего?
— Этого я не могу тебе сказать, — ответил Бенедикт.
— Не можешь? — спросил парень. Он сощурил глаза, взгляд его стал острым и подозрительным. — Кто тебя прислал? — набросился он на Бенедикта.
— Мой отец, — ответил Бенедикт, начиная сердиться.
— Отец из церкви? Священник? — вскричал Петер Гразускус. — Отец Брамбо?
— Нет! — Бенедикт в ужасе отпрянул. — Он и не знает, что я пришел сюда. Мой отец — мой родной отец, — он там, на заводе.
— Он что — штрейкбрехер? — презрительно спросил Петер.
Бенедикт упрямо поджал губы. Лицо его пылало.
— Отведи меня к мистеру Типа, — потребовал он.
Постовой поднял ружье и похлопал рукой по прикладу.
— Видишь? — спросил он и прибавил: — Если только попробуешь дурака валять, я из тебя решето сделаю!
Бенедикт насмешливо фыркнул:
— Смотри не дай деру, когда охранников завидишь.
— Не беспокойся я-то сумею их встретить, — мрачно ответил Петер, повернулся и стал осторожно спускаться по другую сторону сланцевой гряды. Бенедикт следовал за ним. «Был бы я взрослым — я бы ему показал!» — с обидой думал он.
Снова пошли бугры и ямы. Узкая железнодорожная колея вилась меж ними, то появляясь, то исчезая. Юный постовой молчал, но так быстро шагал вперед, что Бенедикту пришлось поднажать, чтобы поспеть за ним. Наконец они вышли на большую площадку. Ее как будто выжгли на лице земли — только маленькие бородавки камней и сланца торчали на поверхности, а из расщелин поднимался ядовитый рудничный газ. Бенедикту всегда казалось, что именно под такой землей должен находиться ад; он бы не удивился, если бы в дыму и огне из расселины выскочил дьявол. Площадка была горячей и твердой, и они поспешно прошли по ней, ступая на цыпочках, как танцоры. Вокруг них были бугры раскаленной докрасна земли, а где-то в глубине год за годом еще пылала старая шахта.
Но вот они опять вошли в лес. На этот раз лес был темнее и гуще. «Солдаты здесь никогда никого не найдут!» — ликуя, подумал Бенедикт. Ни одна лошадь не смогла бы продраться сквозь эти заросли и обойти все эти предательски прикрытые провалы в почве. А между тем Литвацкая Яма находилась всего в нескольких милях отсюда; забастовщики проскальзывали ночью домой, чтобы увидеться с женами и поесть, а иногда оставались дома переночевать и ранним утром снова убегали в лес. Некоторые за это поплатились.
И вдруг совершенно неожиданно за навалом шлака Бенедикт увидел несколько хижин, прятавшихся в тени кленов и ясеней, и людей возле них. Бенедикт сразу узнал их. Это были те, кого выселила Компания из домиков, стоявших вдоль Большого Рва, теперь уже не существующего. Они первыми переселились сюда и выстроили эти хижины. Бенедикт вглядывался в лица людей, словно искал кого-то.
Петер провел его мимо наспех сколоченных хижин, напоминающих скорее курятники, чем жилища, и снова они углубились в лесную чащу. Вскоре показались убогие бараки из сырых бревен. Их, видимо, поставили позднее, когда началась забастовка. Они были сколочены из свежесрубленных молодых деревьев; на многих остались ветки с сухими листьями, и ветер шелестел ими. Сверху эти бараки были прикрыты выпрямленными жестяными канистрами. Выкорчеванная почва сильно и терпко пахла дождевыми червями и личинками насекомых. Перед этими жалкими жилищами сидели мужчины на грубых скамьях, которые они уже успели сколотить; двое из них играли в «подковы»[21], остальные наблюдали. Трое итальянцев утаптывали ногами длинную полоску земли, видимо, намереваясь превратить ее в площадку для игры в «боче». А вокруг сонно гудел лес, приглушая людские голоса, навевая дремоту. Б енедикт молча пошел дальше.
Под густым ореховым деревом, ветви которого были усыпаны зелеными, незрелыми орехами, забастовщики соорудили длинный стол, как для пикника. Скамьи из гладко обструганных досок были вкопаны в землю. За столом сидело пятеро: трое белых и два негра. Перед ними стоял большой коричневый кувшин с пенистым пивом, а дальше на столе были разложены газеты и большая карта, которую кто-то нарисовал карандашом на грубой оберточной бумаге. Присутствующие внимательно изучали ее.
Спутник Бенедикта остановился в нерешительности и поглядел на мальчика, словно прикидывая в уме, стоит ли из-за него прерывать совещание; затем сплюнул и направился к сидевшим. В это время один из них заговорил, и Бенедикт даже мог различить отдельные слова. Он и Петер подошли ближе.
— Поглядите сюда внимательнее, — говорил широкоплечий негр, указывая длинным пальцем на какую-то точку на карте. — Здесь стоят только два солдата, да и те почти всегда пьяны. В глухую, темную ночь я могу проползти мимо них и... — Бенедикт разглядел наконец его лицо, и как раз в эту минуту негр поднял глаза, посмотрел на него и даже подмигнул ему. Бенедикт вздрогнул: эти руки с длинными пальцами однажды держали его за горло, эти глаза свирепо смотрели на него, а голос — теперь такой спокойный — был полон ярости!
— Но, Клиф, — перебил его один из сидевших, — даже если ты проберешься в это проклятое место, что дальше? Брось ты это, оставь их там, где они есть! Пусть государство их кормит! — говоривший ядовито рассмеялся, откинулся назад и поднес ко рту кружку с пивом.
Клиффорд еще ниже склонился над картой.
— Мы выведем наших оттуда! Мы должны показать, что умеем действовать, что им не остановить нас! Мы выведем наших людей оттуда, — и никто больше не пойдет работать на завод...
— Ты беспокоишься о людях там, на заводе? А как же с нами, с теми, которые здесь? — снова прервал его тот же мужчина. — Что нам делать, как продержаться? Представь, что нас найдут?
— Но пойми же, — ответил возбужденно Клиффорд. — Мы должны вывести оттуда всех рабочих, и белых и негров, — надо им показать, что мы можем это сделать. Послушай, ведь они хотят уйти с завода!
— Откуда ты это знаешь?
Клиффорд взглянул на говорившего.
— Знаю! — тихо, с горечью ответил он. — А ты, Типа, — продолжал он, — что скажешь ты?
Бенедикт посмотрел на человека, которого ему поручили найти. Типа был приземистый, темноволосый, с прямыми усиками над верхней губой. Он затряс головой, явно не одобряя план Клиффорда.
— Ты за слишком многое ручаешься, — быстро и резко ответил Типа. — Не суди о тех неграх по себе, Клиф, — сказал он. — Не поверю я, что они хотят уйти оттуда. Они хорошо устроены, им платят. Им обещали постоянную работу...
— Подумай, что ты говоришь, дружище, — страстно перебил его Клиффорд. — Их привезли туда в наглухо закрытых грузовиках, а ты говоришь — они хотят там остаться? Ведь, Типа, возможно они совсем не такие, какими тебе кажутся! Разве они не вступили в бой с этими негодяями, когда те явились, чтобы сжечь их дома? Они дрались за свои бедные лачужки, словно это были дворцы! А шериф думал, стоит ему только сказать им «кш» — и они убегут. Как бы не так! Думаешь, если негры улыбаются, — значит, они счастливы? Да, мы расплываемся в улыбке, Типа, но мы несчастливы! Да, когда появляется Большой Босс, у нас становятся такие же умильные рожи, как у новоприбывших литовцев, — но мы хорошо знаем, почем фунт лиха. Слушай, я готов поставить последний доллар, которого у меня нет, готов поспорить, что негры там, на заводе, за последние дни много о чем передумали. Теперь надо только повести их за собой!
— Нет, тебя самого схватят. — Типа пожал плечами. — Предположим, ты найдешь способ проникнуть туда, но, если тебя оттуда не вышвырнут, я сочту, что тебе здорово повезло!
— Я готов биться об заклад на собственную шкуру! — вскричал Клиффорд.
Петер наконец решился подойти к столу. Он нагнулся и что-то шепнул. Сидящие за столом подняли головы и посмотрели на Бенедикта. У мальчика перехватило дыхание, он в страхе старался вспомнить слова, которые должен передать Типа. Один из мужчин поманил его рукой, и он, напряженно ступая, будто шел по узкой жердочке, направился через расчищенную площадку.
— Что ты хочешь нам сказать? — резко спросил его Типа.
Бенедикт глотнул и ответил:
— Мой отец — на заводе. Он послал меня сказать вам...
— А как ты попал на завод?
Кое-кто из мужчин засмеялся. Краска залила лицо Бенедикта, — ему явно не доверяли.
— Я... я носил моему отцу завтрак.
— Как зовут твоего отца? — снова спросил Типа, нахмурив густые черные брови.
— Блуманис, — отвечал Бенедикт.
И тогда поднял голову мужчина, который до тех пор не отрываясь читал. Он посмотрел на Бенедикта; его широкое, скуластое лицо расплылось в улыбке, и он коротко сказал:
— Я знаю этого мальчика, Типа!
Бенедикту показалось, что произошло чудо, — Джо Магарак! Сидевшие за столом поглядывали то на него, то на Бенедикта, и с их лиц исчезло напряженное выражение, все засмеялись.
— Кажется, я тоже его знаю! — Бенедикт обернулся на голос. Клиффорд хитро смотрел на него, а потом разразился звонким хохотом. — Это же тот мальчик, который бывал у старой матушки Бернс! — сказал он, а Бенедикт застенчиво улыбнулся ему в ответ. Петер, его страж, с облегчением рассмеялся; он выглядел сконфуженным. У Бенедикта отлегло от сердца. Погруженные в дремоту лес и хижины будто пробудились от человеческих голосов; тягостной, сонной тишины как не бывало! Руки и ноги его опять обрели способность свободно двигаться, он больше не испытывал никакой скованности. Скуластое, загорелое «литвацкое» лицо, повернутое сейчас к нему, было открытым и честным, как дневной свет. Казалось, при первом же взгляде на этого человека все сразу становится на место.
— Как вы думаете, где я с ним встретился? — спросил Добрик, оглядывая всех с широкой, добродушной улыбкой. Он немного помедлил, словно ждал, пока они отгадают, а затем, всплеснув руками, воскликнул: — В тюрьме, в нашей тюрьме! — Он пожал плечами, как бы говоря: «И чего только не случается на этом свете!» Бенедикт и краснел и сиял. Добрик поднялся и обошел вокруг стола. — Садись, — сказал он Бенедикту и, положив руки ему на плечи, усадил на скамью. — Пиво пьешь? — спросил он.
Бенедикт что-то пролепетал и отрицательно покачал головой.
Добрик налил себе полную кружку я, смакуя пенистое пиво, стал пить. По подбородку его потекла узкая струйка. Добрик смахнул с усов белую пену и воззрился на Бенедикта. Мальчик зарделся, а Добрик вдруг хлопнул ладонью по столу и захохотал.
— Ну и напугал же я старого священника! — вскричал он. — От страха он чуть штаны не потерял! — И Добрик так заразительно засмеялся, что люди за столом тоже рассмеялись, хотя еще и не поняли, в чем заключается шутка. Только Типа по-прежнему хмурился.
— Сижу я, значит, в кустах. — Добрик отступил от скамьи, чтобы получше показать, как все происходило. — Они только что вытурили меня из города, но я вернулся, — пояснил Добрик зрителям. Он присел на корточки, приставил руку козырьком ко лбу и стал озираться по сторонам. — Смотрю направо, налево, — ни души; полицейские машины уже уехали в город. Они решили, что я подался в Дравосберг, и устроили мне там засаду. Как бы не так! Я сижу себе в садике у священника, притаился в кустах. — Кое-кто из слушателей прыснул со смеху, и Добрик строго посмотрел на них. Увидев, что он что-то рассказывает, подходили все новые и новые зрители. Теперь у него была уже большая аудитория. — Я выскочил из-за кустов, постучал в дверь — и снова прыг обратно. Вскоре слышу, кто-то гремит ключом в замочной скважине, наконец дверь открывается и, споткнувшись о порог, на крылечко выходит старик. — Добрик зашатался, чуть не упал, потом остановился и поглядел вокруг, что-то сердито шепча себе под нос. Люди смотрели на него с зачарованной улыбкой, у иных даже рот приоткрылся. Перед Бенедиктом как живой предстал отец Дар, и он тоже невольно улыбнулся.
— Стоит старикан в одном исподнем и не знает, стучался кто к нему или нет. Заглянул за дверь, нет ли кого, а я издали чую — несет от него, как от пивоваренного завода! Не вылезая из кустов, я спрашиваю, — тут Добрик понизил голос до хриплого шепота: «Это вы, отец Дар?» — Он ткнул пальцем в сторону Бенедикта. — Так ведь его зовут, правда? — Бенедикт молча кивнул. — Старик как прыгнет назад, словно его укусили! — Добрик отпрянул, будто в испуге, подпрыгнул, взметнул руками и осенил себя крестным знамением, потом оступился и плюхнулся на воображаемое крыльцо, не переставая креститься. — Я, конечно, сами понимаете, выскочил, чтобы помочь старику подняться, а он как завопит — и тык меня в глаз пальцем!
Добрик замолчал, чтобы вытереть выступившие на глазах слезы. Зрители, схватившись за животы, бессильно стонали от хохота. Добрик сидел на земле, тыча в воздух пальцем. Те, что стояли у дальнего конца стола, взобрались на него, чтобы видеть его. Бенедикт старался удержаться, и не мог не смеяться. Добрик перевел дух, но вдруг загрохотал снова:
— Старик сказал, что у него всего шестьдесят три цента, он готов мне их отдать, только бы я не губил его душу!
Раздался новый взрыв хохота, а Добрик, поднявшись на ноги, продолжал:
— Я все-таки помог ему встать, а он все колотил меня по башке. И тут мы споткнулись о кошку, которая вдруг вылезла откуда-то из-под крыльца. Она завизжала как бешеная, а старик ухватил меня за ухо и заорал: «Пресвятая матерь божья, чья это проклятая душа взывает из ада?» — «Кошкина, старина!» — отвечаю я. Но он не поверил и воззрился на меня, — верно, думал, что увидит черта рогатого!
— Ну и как, увидел? — пошутил кто-то.
— Мне удалось усадить старика на крылечко, и я не отпускал его, пока не уговорил пойти выручить из тюрьмы церковного служку, — объяснил Добрик собравшимся. — Вот этого мальчишку! — Добрик со смехом запустил свои большие руки в волосы Бенедикта и ласково пригнул его голову к столу. Зрители тоже смеялись. Потом совсем другим тоном Добрик спросил: — Ну, рассказывай теперь, в чем там дело с Винсентасом?
Бенедикт удивленно уставился на него. Добрик кивнул головой.
— Да, да, я хорошо знаю твоего отца!
И Бенедикт рассказал обо всем, что случилось, чувствуя, что все его слушают с неослабным вниманием.
Пока Бенедикт говорил, Добрик кивал, повернув к нему свое широкое, загорелое лицо, а когда Бенедикт замолчал, снова отхлебнул из кружки, отер с губ пену и сказал:
— Вот как! А ну покажи-ка нам. — Он придвинул карту к Бенедикту и ткнул в нее своим толстым пальцем. — Вот домна номер два. О каком месте говорил твой отец? Покажи, где это?
Бенедикт закусил губу.
— Отец сказал, что здесь к реке выходит труба, — начал он, и все наклонились над картой, а Добрик взял карандаш и начертил на ней линию от завода к реке.
— Здесь? — спросил он, но не Бенедикта, а других, Клиффорд кивнул.
— Можно и здесь... — сказал он.
Добрик вертел карандаш в руке, внимательно изучая карту, потом пробормотал:
— Ну что ж, отлично.
Глаза Добрика хитро сверкнули, и Бенедикт вздрогнул, ибо только сейчас понял, какое важное сообщение он передал.
— А как ты нашел нас? — вдруг спросил его Добрик.
— Я... — начал Бенедикт и, смутившись, осекся. — Я был на митинге в лесу, — сказал он. — Я увидел вас там и узнал: ведь это вас я встретил в тюрьме!
Добрик не спускал с него глаз.
— А откуда ты узнал о митинге?
— Узнал, — многозначительно ответил Бенедикт, — я пошел за отцом.
Добрик взглянул на товарищей.
— Ну, а теперь как ты нас нашел?
— Я хорошо знаю здешние леса, — с уверенностью ответил Бенедикт.
— «Хорошо знаю здешние леса!..» — передразнил его Добрик. — Значит, ты сам догадался, как нас найти, так, что ли? — Он кинул беглый взгляд на остальных и сказал вполголоса: — Хорошо, что он свой человек, хорошо, что он с нами.
Бенедикт покраснел.
— Я шел и шел лесом, пока не встретил Петера, — сказал он.
— Только и всего?
— Да.
— Ты знал, где Петер...
— Нет, — ответил Бенедикт. — Но я решил, что буду идти до тех пор, пока кого-нибудь не встречу.
Добрик задумался.
— Видел ты на холмах солдат или полицейских? Бенедикт утвердительно кивнул. Люди подались к нему.
— Где? — спросил Добрик.
«Надо быть точным», — решил Бенедикт и, подумав, сказал медленно:
— Ярдах в стах к западу от обогатительной фабрики.
Добрик усмехнулся.
— Сколько их было?
— Один, — ответил Бенедикт. — Он поймал двух мужчин.
— Рудника и Пьета, — заметил Типа.
— Рудника и Пьета, — как эхо, печально повторил Добрик, но тут же улыбнулся и вдруг спросил: — Ну разве он не умник, этот мальчик?
Бенедикт вздрогнул, побледнел, потом весь вспыхнул, а люди смотрели на него. Одни улыбались ему, другие хмурились, — видно, из головы у них не шли Рудник и Пьета.
Темные глаза Типа сверкнули, когда он спросил:
— Что же ты скажешь отцу Дару и другому, молодому, — отцу Брамбо?
Все смолкли, и Добрик поглядел на Типа. Вьющиеся волосы веером окружали голову Типа; темные брови казались живыми на его лице; они двигались при каждом слове, которое он произносил, и «слушали», когда он слушал других.
Бенедикт вспомнил свое путешествие в поезде с молодым священником, вспомнил он и вопрос, который задал тогда отцу Брамбо: «А это грех — не сказать?» Молодой священник тогда так на него посмотрел, словно это был не только смертный грех, но и страшное преступление — не сказать властям, где скрывается агитатор, заговорщик и безбожник — коммунист Добрик! На лице отца Брамбо отразилось тогда страстное, нетерпеливое желание все о нем выведать, и точно с таким же выражением на лице произнес он имена Сакко и Ванцетти, — ведь они были не только анархистами и преступниками, но и вдобавок иностранцами!
Бенедикт тихо ответил, глядя на Типа:
— Я ничего не скажу отцу Брамбо! — И прибавил срывающимся голосом: — Даже на исповеди не скажу! — Руки его дрожали, но у него хватило сил крикнуть: — Это не грех!
— А разве ты не собираешься стать священником? — спросил Типа.
— Мне еще мало лет, — ответил Бенедикт. Типа нетерпеливо отмахнулся.
— Я имею в виду — позже. А сейчас разве ты не собираешься учиться в семинарии?
Бенедикт заколебался; он кивнул, не поднимая глаз.
— А знаешь ли ты, — жестко сказал Типа, — что этот отец Брамбо имел в городе свидание с полицией и с шерифом и пообещал им сообщить имена наших товарищей, а также место их пребывания? Знаешь ли ты об этом?
Бенедикт отрицательно покачал головой и поднял на него полные слез глаза.
— Не знаешь? — пронзительно закричал Типа, наклоняя к Бенедикту смуглое лицо и подозрительно вглядываясь в него блестящими глазами. — На чьей ты стороне?
— На нашей! — Добрик поднялся из-за стола и сильной рукой обхватил Бенедикта за плечи. Мальчик весь просиял, душа его потеплела — словно раскрылась под лучами солнца. Голос Добрика прозвучал спокойно, уверенно.
— А теперь тебе нужно поесть! Матушка! — закричал он.
Из-под навеса на зов вышла старая негритянка и сказала:
— Обед уже готов!
Он сидел с ними за одним столом и ел, не слыша, о чем они говорят, готовый вот-вот заплакать от благодарности.
Только позднее, когда тарелки уже убрали, до его сознания дошло, что он ел какое-то хорошо ему знакомое кушанье и что он, кажется, знает женщину, которая подавала им обед.
11
После того как Бенедикт ушел с завода, взяв с собой пустые судки и забыв взять флейту, отец его еще долго сидел в раздумье. Рабочим, запертым на заводе, Компания раздавала виски. По правде сказать, выпить не предлагали, а скорее приказывали. Он уже давно понял, как надо себя вести, чтобы ладить с «американцами», а потому и не отказался от бутылки. Покосившись на нее, он хлопнул себя по ляжке заскорузлой рукой и вскричал: «Наконец-то дождался. Спасибо, хозяин!» — и растянул рот в глуповатую улыбку, как и подобает «литваку».
Мастер, раздававший выпивку, потрепал его по спине и, вернувшись к себе в контору, заявил: «За глоток самогона эти дураки на все пойдут!»
Но Винсентас Блуманис и не попробовал виски. В его представлении выпить хозяйское виски означало не только выпить отраву, но и дать себя вовлечь в предательство. У него, правда, пересохло в горле, но не от жажды... Когда ушел Бенедикт, он долго с грустью смотрел ему вслед и до самого вечера просидел на бревне, погруженный в невеселые думы. Двор домны, столь же хорошо ему знакомый, как собственная кухня, сейчас выглядел чужим и враждебным. Ему казалось невозможным сидеть здесь вот так, сложа руки, среди ржавеющих болванок, и наблюдать, как спускаются сумерки, прокрадываясь во все щели. У него никогда не было иллюзий, он гораздо лучше местных уроженцев понимал, что труд его — подневольный и принудительный. Но знал, что выбора у него нет. Американские боссы немедленно, как только он сошел с парохода, дали ему понять, что он для них рабочая скотина, и ничего больше. Набраться сил и терпеть, стараться не попасть на глаза своему боссу и притеснителю, — к этому свелась вся его жизнь. Но, очевидно, все попытки укрыться от хозяйского ока, как и от ока божьего, обречены на неудачу: все равно его разыщут, куда бы он ни спрятался, да и жизнь заставит его снова взяться за работу...
Негров привезли глухой ночью, в запертых товарных вагонах, как тайный груз. Вагоны открыли на заводском дворе, затихшем и безлюдном, и поместили негров отдельно от всех, в складском помещении. Негры, увидев, куда их завлекли обманным путем, попробовали протестовать, однако их быстро усмирили, и теперь все было тихо, но к виски они так же, как и остальные, не притрагивались.
А солдатам ни до чего и дела не было. Вот уже несколько дней, как они начали пить и с увлечением продолжали это занятие. Заводская компания послала грузовики в Дымный Лог за девицами, которые прибыли и тут же принялись развлекать солдат.
Винсентас вспомнил, с каким ужасом он заглянул в подведенные глаза «красотки», которую ему с чрезвычайной предупредительностью доставила Заводская компания, вспомнил, с какой злобой поднял было руку, чтобы ее ударить, но остановился, заметив слезы, готовые брызнуть из ее подведенных глаз.
Он давно знал, что американские боссы — бессердечные варвары. Они шатались по заводу, отпуская «забавные» шуточки в адрес рабочих: «Эй ты, простофиля, наваливайся сильней, небось на свою миссис умеешь наваливаться!» Или: «Эй, литвак, что это с тобой? Сил, что ли, не стало? Уж очень ты, видно, растрачиваешь их на свою старуху!»
Рабочие в ответ ухмылялись, радуясь, что хозяева в хорошем настроении, но как тяжело и мучительно было это постоянное унижение.
Винсентас постарался отогнать мрачные мысли. Он подошел к играющим в карты и присоединился к игре, чтобы поговорить с людьми, — он немного умел говорить по-польски и по-словацки. Из сарая, где расположились солдаты, временами доносился визгливый смех, похожий на рыданье. Каждый раз, когда слышался такой крик, игроки замирали с картами в руках, а когда он стихал, снова принимались за игру.
Вдруг в той стороне, где находился склад, послышался револьверный выстрел: руки сидевших за игрой дернулись. Минуту спустя по двору, дико озираясь, пробежал негр-рабочий; он нырнул, спасаясь от пуль, под железнодорожные вагоны. Часовые забавлялись, упражняясь в стрельбе, и целились рабочим под ноги...
Винсентас покачал головой.
— Нельзя здесь больше оставаться, — сказал он, стукнув кулаком по скамье. — Мы должны придумать, как выйти отсюда!
Никто не ответил; игра вяло продолжалась.
Затем Джо Порвазник, пожилой рабочий с подстриженными на военный образец седыми волосами и серыми слезящимися глазами, глядя в свои карты, сказал:
— Разве мы можем выйти? Нам ничего не остается, как сидеть здесь и раздумывать над своей судьбой. Все само собой придет к концу. А пока будем играть!
Он покосился на остальных и пошел первой попавшейся картой. На складском дворе послышался шум.
— Конечно, может быть, и можно выйти, — заметил он немного погодя неуверенным тоном. — Какую-нибудь лазейку всегда можно найти!
Остальные трое продолжали играть.
— И чем все это кончится? — проворчал Антанас, лицо которого заросло двухдневной щетиной. — Нас всех снова переловят — и что тогда? Черный список!
Винсентас нехотя кивнул, не потому что был согласен с Антанасом, а потому что предвидел это возражение. Из бараков доносился шум пьяного разгула.
— Солдаты веселятся, — усмехнулся Винсентас.
— Даже если мы и решимся уйти... — сказал Порвазник и вытер слезящиеся глаза. — Даже если мы и выберемся отсюда, здесь все равно останутся негры.
Винсентас не сразу ответил; ему хотелось, чтобы они поняли, как глубоко продумал он этот вопрос.
— А может быть, — медленно начал он, — они тоже захотят уйти...
Его собеседник расхохотался.
— Как бы не так! — сказал он.
Винсентас угрюмо уставился в карты.
— Они такие же рабочие, как и мы, — сказал он упрямо.
— Ничего подобного, ты ошибаешься, — резко бросил ему молодой рабочий. Он поднял голову от карт, в глазах его появилось жесткое выражение. — Совсем не как мы! Они явились по собственной охоте!
— А разве они знали? — спросил Винсентас.
Тот пожал плечами и задал встречный вопрос:
— А разве это имеет какое-нибудь значение?
— Да, человек должен знать, — сказал Винсентас.
— Поди-ка поговори— с ними, — язвительно сказал молодой рабочий. — Да они тебя на смех поднимут! Зачем этим неграм подаваться в леса? Чтобы мерзнуть и прятаться, пока их не схватят? — Он умолк и обвел двор горьким взглядом — угасшая доменная печь, костер, который они сложили из кокса, чтобы приготовить себе еду, койки, доставленные сюда Заводской компанией — армейские койки с одеялами цвета хаки и армейской печатью. Потом он повернулся к Винсентасу и повторил: — Да они тебя на смех поднимут!
— Ну, а если мы убедим их, что это возможно? — начал Винсентас. — Они должны поверить нам, поверить, что мы выиграем стачку. — Он помедлил и нахмурился. — Никогда не нужно терять надежду на успех!
Последнюю фразу он сказал как бы самому себе, и она прозвучала не очень-то убедительно. О какой надежде на успех он говорит? Он послал сына с поручением, но в глубине души сомневался не только в том, что Бенедикт сумеет его выполнить, но и в возможности самого предприятия. Конечно, когда все заснут, он проползет по большой трубе до реки и убежит, но какое значение может иметь его одиночный побег? Никакого. Он молчал, продолжая рассеянно играть, и вдруг с насмешливым удивлением заметил, что делает правильные ходы. Для чего, собственно, они затеяли эту карточную игру? Бутылки с виски, которые принес им сюда мастер, стояли перед ними, выстроившись в ряд. Он усмехнулся.
В южном конце двора послышался шум и показались двое солдат, взлохмаченные, в растерзанном ви де: их синие рубашки были расстегнуты на груди, брюки еле держались. Обхватив друг друга за шею и держа в свободной руке бутылку, они, шатаясь, шли по двору и горланили неприличную песню. Их качало во все стороны, будто в каком-то диком танце. Подойдя вплотную к рабочим, они расшвыряли карты и побрели дальше.
Они были молоды, эти солдаты: возможно, бритва еще не касалась их румяных щек. «Какой стыд!» — подумал Винсентас с глубокой печалью, провожая их взглядом. По внешнему виду их можно было принять за сыновей словаков либо поляков. «Против нас посылают наших же собственных детей», — промелькнула у него горькая мысль.
Они превратились в прислужников американских боссов — эти юноши, покинувшие родные края, эти юноши, его братья по крови, превратились в убийц и варваров, думал он, не помнящих и не желающих помнить ни своей родины, ни языке, ни своего народа...
Он вспомнил о Бенедикте, и ему стало невыносимо больно, хотя он и не сумел бы объяснить почему.
Шум, доносившийся со двора складских помещений, стал явственнее, в нем было что-то угрожающее. Винсентас поднялся до половины лестницы, стоявшей у подъемного крана, и заглянул через загородку во двор отгрузок, который находился рядом. Большой двор тонул в полутьме; стальные бруски различных объемов и длины были сложены рядами в штабеля, их подготовили к погрузке и отправке. Больше он ничего не смог разглядеть. Вдруг мелькнула вспышка, раздался выстрел, пуля с диким визгом пролетела над штабелями и впилась в стену.
Винсентас спустился с лестницы. Внизу стоял и смотрел на него какой-то негр, на лице которого играла довольная улыбка.
— Клиф! — вскричал удивленно Винсентас.
Клиффорд кивнул, улыбнулся еще шире и протянул ему руку.
— Твой сын прислал меня, — сказал он.
— А-а! — только сумел выдохнуть Винсентас, водружая на нос свои очки.
— И Доби, — прибавил Клиф.
— Как ты пробрался сюда? — спросил Винсентас. Клиффорд показал на башмаки. Они по щиколотку были вымазаны в грязи.
— Ага, — понимающе прошептал Винсентас.
Клиффорд затащил его за груду кирпичей.
— Ну, что ты решил?
Винсентас пожал плечами.
— Пролезть через трубу, если все будет благополучно.
— Через трубу нельзя, — прервал его Клиффорд.
Винсентас взволнованно ждал, что он скажет дальше.
— Слишком много людей, — сказал Клиффорд. — У нас всего один ялик. Умеют они плавать? — Он засмеялся.
— А может, они не захотят уходить? — спросил Винсентас.
— Пойдут, — уверил шепотом Клиффорд. — Покажи мне, где находятся негры?
Винсентас ткнул пальцем.
— Вон там.
— А солдат много?
Винсентас утвердительно кивнул.
— Ладно! — сказал Клиффорд, — Мы найдем другой способ выбраться отсюда.
В соседнем дворе в брусья рикошетом ударила пуля.
— Что такое? — спросил Клиффорд.
— Солдаты балуются, — сказал Винсентас и сплюнул.
— Рабочие все пойдут с нами! — сказал Клиффорд, и глаза его блеснули.
— А как?
— Еще не знаю, но мы все равно придумаем, как. Пошли!
Однако Винсентас не был столь уверен. Его пугала мысль, что их затея обречена на провал.
— Будь осторожнее! Смотри под ноги! — посоветовал он резким тоном.
— Не беспокойся, — ответил негр, подавляя смешок. — Раз уж сам Клиф взялся за дело!..
Винсентас пожал плечами.
— Взялся за дело, а в чем оно заключается, это дело? — спросил он и снова пожал плечами.
Клиффорд намеревался проникнуть в складское помещение, чтобы переговорить с кем-нибудь из негров. Винсентас повел его кружным путем. Они пересекли двор и перелезли через стену, отделяющую домну от проходящей внизу железнодорожной колеи, — с другой стороны к ней примыкал двор склада. Крадучись, они скользили вдоль стены, тесно прижимаясь к ней и стараясь не выступать из тени. Вдруг Клиффорд остановился и схватил Винсентаса за руку. Он на что-то показывал.
— Что это там?
Винсентас поглядел в указанном направлении,
— Не понимаю!
— Смотри-ка туда, — возбужденно шептал Клиффорд. — Что это такое?
— Товарные вагоны, — ответил Винсентас.
— Значит, ты тоже их видишь. Мне не померещилось.
Винсентас почувствовал, какое волнение охватило его спутника. Клиффорд хлопнул себя по ляжке.
— Кто приехал, тот может и уехать, — сказал он с таинственным видом. В голосе его слышались какие-то ликующие нотки, хотя он говорил очень тихо; казалось, он вдруг сильно чему-то обрадовался. На глазах у Винсентаса Клиффорд вскарабкался на высокий забор и исчез в темноте, откуда все еще раздавались ленивые, редкие выстрелы.
Клиффорд просил Винсентаса подождать его возвращения, и тот ждал, стоя на пустынных железнодорожных путях и гадая, что за план мог возникнуть в голове у Клиффорда. Труба, конечно, не выход из положения: она вела прямо в реку. Проползти через нее можно, н о только в одиночку.
Никогда еще на заводе не было так тихо, как сейчас. Лишь зловещие выстрелы нарушали эту жуткую тишину. Однако они доносились все глуше, словно их поглощало глубокое бездонное безмолвие, царившее здесь. Винсентас невольно задумался. Он всегда помнил о том, что у завода стоят пулеметы, готовые к действию в любую минуту. Когда голод не мог сам справиться с рабочими, на помощь ему приходила тюрьма, а если и тюрьма не могла сломить их, хозяева обращались к оружию. Винсентас не знал английского языка — настоящего, правильного языка, и потому он так и не постиг этого тонкого слова — «демократия». Для него это слово означало обязанность каждые четыре года голосовать за какого-то человека, чью фамилию он едва мог выговорить. Его вели к избирательным кабинам и помогали поставить крестик возле нужного имени. Во время этой комедии рабочие только удивленно пожимали плечами: они никак не могли понять, для чего все это. Ведь кого бы они ни выбрали в мэры города — все едино. Завод будет продолжать работать, как работал, и хозяева по-прежнему будут распоряжаться всем и вся.
Винсентас, очевидно, не понимал, что «демократия» заключалась именно в том, что, опуская сложенный кусочек бумаги в урну, он давал заводу право подавлять рабочих с помощью оружия.
А что, если бы они ставили свои крестики в другой, а не в той графе, на которую им указывали? Эта мысль позабавила его, хотя улыбка, скользнувшая в темноте по его лицу, была печальной.
Какой пронизывающий ветер дул с реки! На противоположном берегу, на фоне темного горизонта, высились обрывистые кручи, покрытые низкими деревцами и густым кустарником, осыпанным теперь красными и белыми цветами. За ними лежали холмы, необитаемые и пустынные, если не считать кроликов и лисиц, а иногда и трепетного оленя, который подходил к самой воде и испуганными карими глазами смотрел на завод, расположенный на противоположном берегу реки. Вольная жизнь лесного зверя, вот настоящая свобода! Если бы он, Винсентас, мог переплыть реку и убежать в леса, он жил бы там свободно, как и этот олень, — пока не умер бы с голоду, ибо он все-таки подневольный человек. Он до сих пор не мог спокойно смотреть на птиц, пролетавших над трубами завода, а прохладный ветерок с реки неизменно вызывал в нем тревожное волнение...
Прошло уже много времени, а Клиффорд все не возвращался. Мучительные сомнения, которые Винсентас скрывал от своих товарищей, разговаривая с ними там, во дворе, охватили его с новой силой. Долгие дни борьбы, которая в конечном результате всегда бывала сломлена, научили его верить только в реальные вещи, а именно: в силу и власть. Простой человек вовсе не стремится быть мучеником, ему всегда хочется поверить в успех, надеяться. А что мог сказать им Клиффорд? Предложить напасть на солдат? Перелезть через стены? Или ползти по трубе в одиночку для того, чтобы у другого ее конца их всех переловили? Клиффорд сейчас словно одержимый, он готов пойти даже на безрассудство. Рабочих-негров оскорбляли и травили даже больше, чем их, инородцев. Он, Винсентас, сам был свидетелем того, как негр-рабочий, доведенный до бешенства издевательствами белого мастера, не выдержал и в приступе ненависти бросился на мастера и его помощников, подоспевших с дубинками. Он понимал, что негры порой шли на все, не считаясь с опасностью и с тем, что их попытки к освобождению обречены на провал, — до такого их довели отчаяния. Но, для того чтобы попытки эти увенчались успехом, необходимы были хладнокровие и тщательная продуманность действий.
Два солдата, стоявшие на посту во дворе отгрузок, ничего не заметили. Они палили в пустоту и после каждого выстрела прикладывались к бутылке. Винсентас слышал, как они лениво постреливали, и понимал, что они ни во что не целятся...
Вдруг с забора на железнодорожные пути спрыгнула чья-то темная фигура и, увидев Блуманиса, испуганно метнулась в сторону.
— Спокойно! Спокойно! — произнес Винсентас.
Еще одна тень спрыгнула с насыпи, за ней — другая, третья. Их было много. Негры окружили Винсентаса, но вот появился и Клиффорд. На его лице застыла улыбка, он шел пружинистым шагом.
— Следуйте за мной, — шепнул он, и приказание стало передаваться из уст в уста.
Клиффорд лег на землю и пополз впереди всех вдоль железнодорожных путей, все время держась в тени. Так, ползком, они достигли товарных вагонов, стоявших на путях в конце длинного двора. Клиффорд открыл двери вагона, и люди по одному начали влезать в него. Затем, сунув в руки Винсентаса длинный брус, Клиффорд сам взял такой же, зашел за вагон и подсунул его под колесо наподобие рычага. Винсентас просунул брус под другое колесо, а затем, упершись руками в стенку вагона, они всей тяжестью навалились на него. Колеса скрипнули и еле-еле подались. Они снова поднажали, подсунув брусья поглубже; огромный вагон вздрогнул и как будто подвинулся. Тогда они навалились что было силы, и вагон не выдержал — он заскрежетал и сдвинулся с места, а они рывками продолжали толкать его вперед. И вдруг вагон ушел от них и молчаливо покатился по рельсам мимо домен, мимо прокатного стана, мимо сточных колодцев и дальше, дальше — мимо барака, где пьяные солдаты развлекались с девицами. Гигантская молчаливая тень промчалась через всю обширную территорию завода и вырвалась на свободу!
Клиффорд начал грузить второй вагон, а Винсентас поспешно вернулся к себе во двор. Пока он отсутствовал, все переругались; карты все еще валялись на земле, куда их швырнули солдаты.
— Пошли, — сказал Винсентас так уверенно и повелительно, что все встали, и, ни о чем не спрашивая, пошли за ним в темноту и пробрались к вагонам.
Уже занимался рассвет, когда Винсентас вспрыгнул в последний вагон, который помчал свой живой груз вперед, на волю...
12
Бенедикт отправился бродить по лесу. Добрик разрешил ему остаться в лагере, а сам ушел куда-то в сопровождении нескольких человек. Перед этим Клиффорд отвел Бенедикта в сторону и подробно расспросил о том, что сказал ему отец и где именно труба выходит в реку. После разговора с Клиффордом Бенедикт ушел в лес. Он пробирался по узенькой тропинке, которая вела из лагеря в густую, зеленую чащу, пронизанную косыми лучами заходящего солнца. Никто его не останавливал. По пути он видел матушку Бернс, хлопотавшую около большой печи, которую уже успели сложить на склоне холма; она вытаскивала, словно из недр земли, длинные противни, на которых дымились и шипели ломти свинины, перемешанные с фасолью. Ужинало здесь около двадцати человек, но он понял, что еда готовилась и в других уголках леса.
Ему предстояло вернуться в Литвацкую Яму. Каким долгим казался ему обратный путь — гораздо более долгим, чем тот, который он проделал, идя сюда! Он думал, что теперь у него не хватит сил карабкаться по склонам и пробираться через дикие заросли и что он все равно слишком устанет, чтобы идти в церковь для «разговора по душам» с отцом Даром. А Бенедикт понимал, что ему нужно хорошенько подготовиться к этому разговору. В мыслях его мелькало еще что-то неуловимое, он не мог бы точно определить, что именно, и щемящая боль сжимала его сердце, когда, окидывая взором зеленый лес, он вновь слышал громкий голос Добрика: «На нашей!» — и представлял себе, что ждет его там, в поселке... Его прежняя жизнь, казалось, отошла в далекое прошлое, хотя Бенедикт и знал, что, взобравшись на любое высокое дерево здесь, в лесу, он различит вдали шпиль церкви!
Тяжелее всего были для него неотступные воспоминания о поездке с отцом Брамбо в Моргантаун. Он снова мысленно видел молодого священника, видел выражение его лица, когда тот говорил о забастовке в Бостоне и о Сакко и Ванцетти; точно такое же выражение было и у мистера Брилла, господина из Города, по заявлению которого арестовали тогда Бенедикта, очевидно, только за то, что он, Бенедикт, явился из Литвацкой Ямы! Он вспомнил, как отец Брамбо рассказывал ему о том страхе, который он испытывал во времена своего детства перед бедняками. А во взгляде молодого священника, когда он говорил о стачке, было точно такое же выражение, как при памятном разговоре о смертном грехе.
Лицо Бенедикта судорожно передернулось. Он прекрасно помнил мистера Брилла! Лицо мистера Брилла было хорошо ему знакомо: он столько раз встречал такие лица. Люди, подобные мистеру Бриллу, всегда глядели мимо него с отсутствующим выражением, словно его не существует; а иногда в их взгляде сквозило либо негодование, либо отвращение, — например, когда Бенедикт был еще совсем малышом, как Рудольф, и бегал по улицам в грязной рубашонке, — либо снисходительная усмешка, когда он казался им забавным и женщины-американки называли его «паинькой». А когда они с матерью приходили в город, их повсюду окидывали взглядом мистера Брилла, — в конторе или даже у доктора, где Бенедикту пришлось однажды переводить матери все, что говорил ей врач, а в это время городские пациенты сидели вокруг с рассеянными улыбками, ожидая, когда мальчик кончит переводить. Так же относились эти люди и к его отцу. Бенедикт вспомнил, как однажды к ним в гости пришел старший мастер с завода. Отец накрыл стол лучшей скатертью, купил дорогой торт и вино и приказал домочадцам не являться на глаза, пока не уйдет мастер. Он сделал исключение лишь для Бенедикта. Указывая на него, отец сказал: «Это мой сын Бенедикт!» А мастер ответил: «Славный мальчуган. Приведи его ко мне, когда он подрастет — я ему дам работу...» Бенедикту показалось тогда, будто ледяная рука сжала его сердце.
Мастер ушел, не дотронувшись до торта.
Отец Брамбо умеет хотя бы сочувственно улыбаться и из Бостона, где жил среди богатых, проделал далекий путь к ним, инородцам, глубоко чуждым ему людям, с которыми он, бедняга, конечно, не мог иметь ничего общего. Его приезд был ошибкой, пояснял в лесной чаще Бенедикт кому-то неведомому: епископ не должен был посылать его сюда! Отец Брамбо несчастлив здесь, он слишком изнежен для Литвацкой Ямы; подобный человек, кем бы он ни был, может вызвать у рабочих только насмешки. Они непременно скажут о кем друг другу: «Этот красавчик и двух часов не выдержит у открытой печи!» Нет ничего удивительного в том, что отец Брамбо терпеть не может своих прихожан. Отцу Дару не следовало бы так нападать на него, — что может отец Брамбо поделать с собой! Однажды утром он служил обедню, и вдруг послышался храп, — кто-то из ранних прихожан заснул в церкви. Отец Брамбо страшно разнервничался: он не знал, прекратить ли обедню или же, несмотря на этот храп, продолжать. После его приезда у Бенедикта вошло в привычку перед началом службы стучать по аналою, по стенам и даже по ступенькам, чтобы прогнать мышей. Бенедикт был уверен, что отец Брамбо никогда не прикасается губами к чаше с вином. Молодой священник только делал вид, что пьет, — он брезговал пить из их чаши.
Но ведь отец Брамбо мог бы преодолеть все это в себе, правда? — вопрошал Бенедикт, обращаясь к равнодушному лесу. Если, например, он увидит, что правда на стороне забастовщиков, а не на стороне Заводской компании? Ведь никому не хочется отдавать свой дом! Конечно, отец Брамбо поймет все это в конце концов, надо бы только ему по-настоящему объяснить, и тогда все будет в порядке. В Бостоне он привык жить в красивом доме, и, возможно, ему кажется, что не стоит спасать старые, полуразвалившиеся лачуги в Литвацкой Яме. Наверное, поэтому он и не заступается за своих прихожан... Бенедикт боялся: а вдруг отец Брамбо спросит, почему они не хотят переселяться в другие дома? Но у рабочих, кроме этих домов, нигде ничего нет, — продолжал кому-то доказывать Бенедикт, — ведь рабочие очень давно их купили и работали долгие годы, чтобы выплатить за них — разве отец Брамбо об этом не знает? И до сих пор не выплатили. А идти им некуда. В городе для них нет места, они не смогут найти себе жилье, даже такое убогое, как покинутое ими. Вы должны понять это, отец мой!
Бенедикт заметил, что идет вдоль прозрачного ручейка. До него донесся пряный запах лакрицы; он нагнулся, выкопал сладкий, ароматный корень и стал его сосать. На дне ручья ползали раки; они шевелили малюсенькими клешнями, как ножницами. Крошечные зеленые лягушата попрятались при его приближении в густую траву на берегу. Земля вокруг была усеяна незрелыми почерневшими орехами; их сбила недавняя буря. Он поднял один из них, снял зеленую, жухлую оболочку и коричневым соком начертил что-то на своей ладони. Запах ореха был острым и терпким.
В одном месте ручеек растекался, образуя маленькую запруду. Старая женщина шла оттуда с двумя ведрами прозрачной воды. Бенедикт застыл на месте. Он смотрел, как она медленно идет по узкой тропинке, все в тех же старомодных высоких черных ботинках, потрескавшихся и сморщенных, как ее лицо; на ней была все та же черная юбка и кофточка, застегнутая до самого подбородка, — все было знакомое, только на голове вместо чепца была черная вязаная шапочка... У него замерло сердце; ему вдруг захотелось спрятаться в кусты, росшие вдоль тропинки, и переждать, пока она пройдет. Он с волнением следил за ее тяжелой поступью, видел, как ведра оттягивали ее изможденные руки, и сердце его заныло от сочувствия. Больше он не мог этого переносить.
— Матушка Бернс, я помогу вам! — закричал он и, подскочив к удивленной старушке, ухватился за ведро, расплескивая воду ей на юбку и башмаки.
Она стояла, тяжело дыша, прижимая к груди руку.
— У меня прямо сердце оборвалось! — сказала она, поставив второе ведро на землю и растерянно глядя на него. Ее вязаная шапочка сбилась набок.
Он почему-то страшно обрадовался и восторженно воскликнул:
— Я помогу вам взойти на пригорок!
Но в ответ она сделала отрицательный жест и сказала:
— Вам не следует брать оба ведра, мастер Бенедикт!
Но он ловко подхватил их и стал, спотыкаясь, взбираться вверх по тропинке, стараясь не показать, что ему больно, когда ведра ударяют его по ногам. Он шел, оборачиваясь и бросая радостные взгляды на старушку, которая медленно шагала следом за ним.
Он был так счастлив, что ему хотелось смеяться! Как ловко он выскочил и схватился за ведра, раньше чем она смогла отказать ему! Он прибавил шагу и пошел бы еще быстрее, если бы не боялся, что старая женщина потеряет его из виду; он нарочно чаще останавливался, чтобы дать ей передохнуть. Она догнала его и сказала:
— Благодарю вас, мастер Бенедикт, теперь я заберу у вас ведра.
— Нет, нет! — ответил он, нахмурившись. — Но почему вы все время зовете меня «мастер Бенедикт»?
Она посмотрела на него так, как, бывало, смотрела по воскресным дням, когда он приходил к ней; только сейчас слова ее прозвучали более резко:
— Но вы ведь еще не мистер!
Он покраснел с чувством какого-то смутного унижения и, не сказав больше ни слова, взял за дужку одно ведро, а другое предоставил нести ей. Так они дошли до лагеря. Она показала ему, куда вылить воду, — в большой медный котел, который уже закипал. Он простился с ней и, чувствуя себя еще более одиноким, чем обычно, уселся вдалеке на срубленное дерево. Смеркалось, но было еще достаточно светло, площадка для игры в «боче» была готова, и несколько человек нацеливались черными шарами в обруч, обтянутый белой бумагой. Карточная игра продолжалась; никто из игроков не сменился. Хижины, сколоченные из молодых, кое-как обтесанных деревьев, были едва различимы в густой зелени, — казалось, эти срубленные деревья еще росли и жили жизнью леса. Их сухие листья о чем-то шептались.
Позади него, в лесу, уже потемнело, но на поляне было еще светло. Красные муравьи суетились и бегали по стволу упавшего дерева, на котором он сидел. Бенедикт кусочком коры загородил путь одному из них и приостановил озабоченную деятельность муравья. Когда же тот взобрался на барьер, Бенедикт неожиданно поднял кусочек коры, и муравей, застыв от ужаса, повис, как капелька крови. Бенедикт наблюдал за насекомым и бесцельно вертел в руках кору, размышляя, какую судьбу уготовить муравью, потом вздрогнул и бросил его через плечо в траву.
До лба его словно дотронулись каленым железом! Он зарылся лицом в ладони, чтобы не видеть, как на него надвигается кромешная тьма, сердце его болезненно сжалось.
— Помоги мне, о господи! — воскликнул он, стиснув руки. И стал молиться вполголоса по-английски, а потом повторил молитву на литовском языке: «Святая Мария, матерь божья...»
— Господи, помоги мне, — снова вскричал он глухо, крепко прижимая руки к лицу и раскачиваясь всем телом.
Немного погодя он принялся вслух доказывать:
— Я не могу сейчас уйти отсюда, чтобы навестить вас, отец Дар! Я должен дождаться прихода моего отца. Мне надо узнать... — Почувствовав, что лицемерит, он сердито вскричал: — Я не могу, не могу!
Но все равно мысленно он продолжал видеть перед собой отца Дара. Старик, закутавшись в одеяло, сидел в своем кресле. Его львиная грива была расчесана и не имела столь дикого вида, как прежде; глаза он промыл, они не слезились. Мелкие кровяные сосудики в них казались живыми. Бенедикт различал даже выражение лица отца Дара, терпеливое и доверчивое, — ведь старик знал, что Бенедикт обязательно придет; он уже пришел, — вот сейчас скрипнула кухонная дверь. Именно так это произойдет; встреча была неизбежной. Бенедикту казалось, что для этого даже не нужно затрачивать никаких серьезных усилий, — стоит только захотеть, и он предстанет перед старым священником.
Внезапно он помрачнел и отогнал возникшее видение.
— Нет, отец мой, я не приду, — сказал он так, словно отец Дар и в самом деле мог его услышать. Укоризненный взгляд, которым, несомненно, были бы встречены эти слова, пронзил сердце Бенедикта, и он, мучимый раскаянием, закусил губу. Разве смеет он так разговаривать с отцом Даром? — спросил он себя с упреком. — Разве не отец Дар, бросив все, примчался в ту ночь в тюрьму?.. Бенедикт невольно улыбнулся, представив себе, как отец Дар спешит по улицам, переваливаясь и тяжело дыша, — его послал в тюрьму человек, который выскочил из кустов, как призрак, и напугал его чуть не до смерти. Но растаяло и это видение, а мальчик продолжал сидеть на бревне, не разрешая себе больше ни рассуждать, ни мечтать. Он знал, в такие минуты раздумий, дай он себе только волю, и в нем немедленно вспыхнет его заветная мечта: полнозвучный голос органа наполняет церковь, руки Бенедикта подняты для благословения; вокруг все сияет непорочной чистотой, и алтарь усыпан белоснежными лилиями. Но это видение быстро исчезает, и теперь он видит самого себя: высокий и худой (может быть, оттого, что он часто постится), в черной сутане, не обращая внимания на скверные запахи (нос у него теперь такой же восприимчивый, как и у отца Брамбо), он спешит в предзакатных сумерках к убогим домишкам, где по утрам плачут больные дети и усталые матери поджидают у окна его посещения, ибо он приносит им мир и душевный покой. Но и это видение сменяется новым: снова он видит себя, но уже не в рясе, а в черном костюме, и лишь белый стоячий воротничок, неизмятый и чистый, свидетельствует о его духовном сане. Он стоит лицом к лицу с хозяевами Завода и, вдохновляемый божественной справедливостью, заявляет, что Заводская компания обязана поднять заработную плату рабочих и обеспечить высокой пенсией их вдов и сирот. Затем он выходит из конторы за ворота Завода, где толпы рабочих ждут его и при его приближении преклоняют колени на заснеженной земле... Я буду святым!
И вдруг перед его мысленным взором возник тот солдат, который выплюнул хлеб... От этого воспоминания у мальчика задрожали руки. Он видел этот кусок хлеба, валявшийся на земле, и ему хотелось поднять и поцеловать его, — ведь это был хлеб, хлеб! А этот взгляд — как смотрел на него солдат! Этот презрительный взгляд! А выражение его лица, когда он вытаскивал из судков кислый хлеб, чуть смазанный жиром, нюхал и пробовал его, словно брал на зуб самую жизнь рабочих, — с какой презрительной насмешкой поглядел тогда солдат на Бенедикта! И вдруг, прежде чем Бенедикт смог этому помешать, — так внезапно это произошло, — лицо солдата расплылось, и вместо него с тем же взглядом, выражающим презрение, перед мальчиком возникло другое лицо, — красивое, тонкое лицо отца Брамбо! Бенедикт даже заскрежетал зубами: он ненавидел себя за то, что не помешал этому видению! Но, прежде чем ему удалось прогнать его от себя, он вспомнил, как молодой священник стоял на лестнице на Медовом холме, раздувая ноздри, со страдальческим удивлением принюхиваясь к запахам, которые доносились из Литвацкой Ямы, и как, повернувшись к Бенедикту, он с брезгливым ужасом спросил: «Чем это так пахнет?» А Бенедикт ровно ничего не почувствовал: ведь он привык к запаху Ямы, и ему было невдомек, что и вся жизнь его имеет особый запах...
Ладони Бенедикта вспотели; он провел ими по лицу, и оно тоже стало влажным. Ему страстно захотелось помолиться. Если бы через несколько минут он смог оказаться в церкви, преклонить колени и помолиться, все снова стало бы на свое место. Он поднялся бы с колен очищенный, свободный от суетных, греховных помыслов, которые осаждали его. О ничем не запятнанные истоки религии, недра святости! Как это было в средневековье, во времена первых мучеников, он всей душой хотел бы погрузиться в веру, чтобы стать католиком каждой клеткой, каждой частицей своего существа, каждой извилиной мозга!
Бенедикт мучительно ждал возвращения своего отца, словно оно каким-то образом могло вернуть ему утраченное душевное равновесие. Он страстно хотел, чтобы господь бог сократил бег времени и позволил его отцу появиться здесь именно сейчас, когда он так сильно в нем нуждается. Это ожидание заслонило собой все, сковало его. Да, отцу Дару придется ждать его до утра, а отцу Брамбо придется найти кого-нибудь другого, кто будет прислуживать сегодня вечером во время обедни. Пальцы Бенедикта затосковали по флейте, которую он забыл взять. Подумав о ней, он ощутил горьковатый привкус отцовского табака, и ему показалось, что отец здесь, рядом, только его не видно в окружающем непроницаемом мраке.
Теперь уже совсем стемнело.
Наконец мальчик сказал себе ясно и твердо: «Нет, сегодня я не могу пойти в церковь, чтобы увидеться с отцом Брамбо и поговорить с отцом Даром, потому что... — он окинул взглядом темный лес, в котором тревожно шелестели деревья, — потому что я не могу сказать священникам, что мой отец находится на заводе и что сегодня ночью он сделает попытку удрать оттуда, чтобы вместе с руководителем коммунистов Добриком скрываться здесь, в лесах. Я, Бенедикт, скорее умру, чем открою это кому бы то ни было!..»
И Бенедикт заснул. Чья-то рука прикоснулась к нему на миг; он вскочил, даже не заметив, что заря уже занимается, и вскричал:
— Мой отец пришел?
Чей-то голос ответил:
— Да, твой отец в безопасности. Он здесь.
Кто-то поцеловал его в щеку. Ему почудился знакомый запах табака и прогорклый запах трудового пота...
13
Отчаянная нужда схватила их за горло... Остановившись на дороге, Бенедикт смотрел на богатейшие залежи свалки, на кучи разной рухляди и лома, среди которых он нашел тогда канделябр. Его оценили совершенно неожиданно в пять долларов. Теперь вся семья существовала только на то, что могла «выжать» из огорода — своего и своих соседей. Люди стали гораздо больше занимать и давать в долг друг другу, чем в обычное время.
Бенедикт нес кролика, которого ему дала матушка Бернс, когда утром он уходил из лагеря. Она хорошо знала лес и умела добывать пропитание такими способами, о которых он даже и не подозревал, — вот поймала в силки этого кролика. Бенедикт подумал, что сам он не станет его есть, но почему бы кролика не съесть Джою и Рудольфу. Сейчас он раздумывал, не совершить ли ему коротенькую экскурсию по свалке, не поискать ли что-нибудь стоящее? Он бросил задумчивый взгляд на огромную темную кучу, над которой курился дымок и мелькали язычки пламени; он был во власти сильнейшего искушения, свалка притягивала его как магнит. Нет, нет, он должен поскорей вернуться в Литвацкую Яму и повидать своего отца, который рано утром ушел из лагеря к себе домой. Бенедикт должен отдать матери кролика. Он чувствовал его тяжесть, ощущал его холодное прикосновение к своей ноге, но смотреть на него не решался.
На гребне хребта не было видно ни одной вагонетки, — шлак не сбрасывали уже целую неделю. Глыбы шлака докатились до определенного места и остановились, словно чья-то рука начертала линию, за которой для них начиналась запретная зона. Дома напротив шлакового отвала обуглились, краска на них потрескалась и взбухла пузырями. Ряд домов, что стояли ближе ко Рву, разрушили, но там до сих пор копошились люди: они разбирали стены и складывали старые бревна на грузовики, чтобы продать их в городе. Ветер, поднявшийся ночью, покрыл шлаковый отвал красной пылью. На крышах, на улицах и даже на людях — на всем лежал красный налет.
Поравнявшись с церковью, Бенедикт перекрестился и с удивлением стал ее разглядывать, словно давно не видел. Двери церкви были наглухо закрыты, ручка сломана; кто-то скрутил крепкую железную проволоку и сделал из нее подобие ручки. Поглядев в мутное окно, он отметил про себя, что на лике св. Петра появилась новая трещина. Старые кирпичные стены потеряли от непогоды свой цвет; какие-то зеленоватые пятна, похожие на тонкий слой мха, уже заполнили расщелины и расползлись дальше. Крест, венчавший церковь, был обломан на углах и потускнел; вокруг него летали голуби. За церковью высился Медовый холм, он был похож на зеленую феску, которую кто-то лихо нахлобучил на шпиль церкви.
Перед домом священника Бенедикт остановился и подумал, что, может быть, сейчас отец Дар сидит в своей качалке за сдвинутыми занавесками, подглядывает в щелку и видит его, Бенедикта, здесь на дороге. Мальчик решительно взмахнул кроликом и зашагал по Горной авеню вниз к Тенистой улице. Из ворот женской общины вышли сестры Урсула и Мария, и, увидев их, Бенедикт перешел на противоположную сторону.
В кухне была одна мать. Когда он вошел, она разрыдалась.
— Где папа? — взволнованно спросил он.
— Зачем ты вернулся домой! — плача, ответила мать.
Он положил кролика на стол и сказал:
— Отец вернулся домой. Я хочу повидать его.
— Он уже ушел, — сказала она.
Бенедикт опустился на стул.
— Я очень устал, мама.
Мать взяла со стола кролика и стала его разглядывать, а Бенедикт смотрел на нее. Ее темные волосы были заплетены в две тугие косы, в серых глазах еще стояли слезы, хотя теперь она была поглощена созерцанием кролика; пожелтевшая кожа на лице блестела так, будто она ее долго терла. Бенедикт глядел на мать с напряженным вниманием, им почему-то овладело чувство мучительной беспомощности.
— Мама, — позвал он.
Она испуганно посмотрела на него.
— Мама! — он крепко сжал губы. — Мама, мама, — повторил он с болью и отвернулся. Но, почувствовав, что она удивлена и встревожена, Бенедикт заставил себя опять повернуться к ней и даже улыбнулся. — Мне дали его в лагере, — объяснил он, указывая на кролика, пялившего на них остекленевшие глаза.
Она села на стул и, рассеянно приглаживая волосы, посмотрела на него потемневшими глазами, в которых затаился суеверный страх, потом вдруг спросила:
— Что случилось с Джоем?
— А что, мама? — в свою очередь спросил он, улыбаясь ей.
— С Джоем, — повторила она и уронила руки на колени, а во взгляде ее появилась такая тревога, почти отчаяние, что Бенедикт наклонился к ней и слегка потряс ее за плечо.
— Ну, мама! — сказал он с упреком и снова улыбнулся. — Где он?
Она стала бить себя в грудь; лицо ее исказилось от боли, но ей было больно не от ударов, которые она себе наносила...
— Под крыльцом, — прошептала она, показывая на дверь. — Он не хочет выходить оттуда. — Она смотрела на сына испуганными, широко открытыми глазами, в полной растерянности.
— Почему? — засмеялся Бенедикт.
Она перекрестилась.
— Он говорит, что не выйдет и даже будет спать там... до тех пор, пока не кончится... — в ее глазах снова мелькнул ужас, — пока солдаты не уйдут совсем. — Она посмотрела на Бенедикта. — Бенедикт, — прошептала она с таким видом, словно за ней кто-то гнался, — ты видел Рудольфа, когда проходил через двор?
— Да, мама, — ответил мальчик. — Он играет с цыплятами.
Она облегченно вздохнула.
Он вышел.
Под крыльцом хранили дрова и уголь. Дощатая дверца была заперта.
— Джой! — позвал Бенедикт, но ответа не последовало. — Джой, — повторил он, — это я, Бенедикт. — И неизвестно зачем добавил: — Твой брат.
Опять никакого ответа, но он различил за стенкой еле слышное дыхание. Бенедикт постучал.
— Что-о на-до?
Это был голос Джоя, послышалось его хныканье, и Бенедикта внезапно захлестнуло такое чувство облегчения, что он прислонился к двери и не смог сдержать слезы. Он улыбался, и слезы катились по его щекам.
— Что ты там делаешь? — спросил он.
— Ничего, — ответил Джой.
— А почему не выходишь?
Тишина.
— Ты что, никогда не выйдешь оттуда?
Снова минута ожидания, и затем рыдающий голос Джоя:
— Не-е-е-т!..
— Джой, — сказал Бенедикт, — ты ведь не можешь оставаться там вечно. Ты проголодаешься. Почему тебе хочется там сидеть?
— Убирайся! — закричал Джой.
— Послушай, Джой, — сказал Бенедикт, — чего ты боишься?
— Ничего я не боюсь! — пронзительно завопил Джой.
— А тогда зачем ты там спрятался? — крикнул Бенедикт.
— Ничего я не боюсь! — опять раздался пронзительный вопль Джоя.
Бенедикт уставился на запертую дверь, нервно закусив губу, потом прислонился к двери и закрыл глаза.
— Тебя никто не обидит, Джой, — убежденно сказал он. — Полицейские ушли, они охотятся за мужчинами. Они не трогают детей. Выходи же! — молил он брата. — Я принес маме кролика, и она уже жарит его. Это для тебя.
— Убирайся! — закричал Джой срывающимся голосом, потом тихо попросил: — Не говори им, Бенни, где я.
Бенедикт беспомощно оглядел двор. Вдруг он задрожал, страх охватил его.
— Джой, — прошептал он. Беспомощный ужас звучал в его шепоте, — выходи оттуда, ты должен немедленно выйти, Джой!
Он смотрел на уборную, на полумесяц, вырезанный в двери. И перед ним всплыло воспоминание: двое мужчин со связанными руками бегут, спотыкаясь, и падают в траву, обагренную их кровью; лошадь повернула взмыленную морду и косится на них, сверкая белком глаза, и яростно бьет копытом о землю... И снова Бенедикта объял холодный ужас, он съежился у дверцы. Он содрогнулся, вспомнив глаза своей матери, в которых застыл суеверный страх... «Джой навсегда останется там! — подумал он, прижавшись щекой к залитой солнцем дощатой дверце. — Останется там навсегда — от страха!» Казалось, над их двором нависла угроза. Бенедикт растерянно огляделся и принялся колотить в запертую изнутри дверцу.
— Джой! — закричал он не своим голосом. — Джой, если ты сейчас же не выйдешь, я выломаю дверь и исколочу тебя в кровь!
Под крыльцом послышались хриплые рыданья. Бенедикт ухватился за ручку двери и стал трясти ее, бить кулаками и ногами, ломать ее, пока наконец тонкие доски не расщепились. Дверка повисла на петле. Джой испустил вопль и, бросившись вглубь, стал карабкаться на груду угля. Бенедикт ворвался в темную, пыльную каморку и, тяжело дыша, стал продираться к Джою. Он нашел его в углу. Джой сидел съежившись, с громадным куском угля в дрожащих руках. Бенедикт так скрутил руки Джоя, что уголь выпал; схватив его за волосы, он поволок его на солнце. Джой упирался и вопил изо всех сил, лицо его, измазанное угольной пылью и слезами, исказилось. Он пытался выскользнуть из рук брата и снова спрятаться в каморку, но Бенедикт стал молотить его кулаками, исступленно, визгливо крича: «Не смей идти туда! Не смей! Не смей!» — пока сам не свалился рядом с ним.
Он лежал, безучастно глядя на пыльный двор; сердце его неистово билось, солнце обжигало глаза. У него дрожал подбородок, а зубы ныли, словно кто-то с силой сжал их. Рыдания Джоя утихли, и он тоже неподвижно лежал на земле, сжавшись в комочек. Взгляд у него был пустой и бессмысленный.
Бенедикт склонился над ним и ласково произнес:
— Джой, это я, твой брат. Полицейские не придут сюда. Я их никогда не впущу!
Но Джой ничего не ответил. Тогда Бенедикт подхватил брата под мышки и потащил на кухню. Здесь он отпустил его, и Джой, спотыкаясь, направился к матери и упал к ней на колени, а она стала вытирать фартуком его измазанное угольной пылью лицо и заметила тонкую струйку крови, которая текла у него из носа. Она повернулась к Бенедикту; он, тяжело дыша, стоял в дверях.
— Бенедикт! — воскликнула она, словно не узнавая его.
— И если ты еще когда-нибудь туда заберешься, я убью тебя! — вскричал Бенедикт грубым, хриплым голосом и, всхлипнув, бросился вон из кухни.
Когда он добрался до лагеря, было уже шесть часов вечера. Ярость его утихла, но осталось чувство горького, мучительного стыда. Ему не хотелось встречаться с отцом сейчас, когда в нем еще не совсем иссякли бешеный гнев и испуг. Поэтому, засунув руки глубоко в карманы, он отправился бродить по лагерю. Вскоре он увидел в отдалении своего отца; тот разговаривал с какими-то двумя мужчинами. И Бенедикт удивился, как это всегда с ним бывало, когда неожиданно для себя обнаруживал, что отец его ведет себя как рядовой гражданин своей страны, а не как жалкий отщепенец. Но мальчик продолжал держаться на расстоянии, отказывая себе в желании подойти к отцу, хотя никогда еще это желание не было столь сильным, как сейчас. Он стоял так довольно долго, пока наконец не решил, что уже достаточно настрадался. Тогда он приблизился к отцу и стал молча прислушиваться к разговору. Да, сейчас он не испытывал ни тени того унижения, которое всегда охватывало его, когда он слышал, как отец на ломаном английском языке разговаривает с теми, кто говорит на родном для себя языке.
Взгляд отца упал на Бенедикта, и сердце мальчика екнуло, словно он и в самом деле боялся, что отец не захочет его знать.
— Ступай домой! — напустился на него отец.
— Но, папа, — сказал Бенедикт, — я ведь только что...
— Ступай, ступай, — нетерпеливо продолжал отец, потом притянул к себе мальчика. — Бенедикт, — сказал он серьезно на своем родном языке, — послушай меня. Здесь тебе не место. Возвращайся назад, домой, к матери, к братьям.
Бенедикту нестерпимо захотелось попросить: «Папа, поговори с Джоем!»
Но отец прибавил:
— Ты же видишь, мы уже здесь, мы благополучно выбрались с завода. Ступай назад, домой.
— Папа, — промолвил Бенедикт, — я передал твое поручение...
Отец посмотрел на него, и выражение лица его смягчилось.
— А разве я в этом сомневался? — спросил он.
Бенедикт просиял.
— Папа, — начал он, понизив голос, — а будет...
Отец пожал плечами.
— Никто не знает, — ответил он. — Но тебе надо идти домой.
— Завтра я должен повидать отца Дара, — заявил Бенедикт во всеуслышанье, хотя это касалось лишь его одного.
— Да, конечно, — быстро согласился отец.
Бенедикт пошел прочь.
— Бенедикт!
Мальчик порывисто обернулся.
— Вот что, — сказал отец, — если они явятся и будут спрашивать обо мне, ты не...
— Папа! — укоризненно вскричал Бенедикт.
Отец улыбнулся и положил руку ему на голову.
— Знаю, знаю, — пробормотал он. — Я вовсе и не думал... — И, подтолкнув Бенедикта, приказал: — А теперь отправляйся.
Бенедикт поднял на него глаза.
— Папа, — спросил он, — ты потерял флейту?
Отец посмотрел на него непонимающим взглядом, затем сказал с нетерпением:
— Ты что, — ребенок?
Бенедикт отошел от него и на этот раз, уже не оборачиваясь, направился домой.
Обратный путь показался ему гораздо длиннее. Он задержался на холмах: прячась в траве, он искал птичьи яйца, но ни одного не нашел. Темнота осторожно нащупывала свой путь, словно когда-то здесь с ней произошло недоброе. Дул горячий ветер, от свалки тянуло зловонием. Бенедикт пошел дальше, отшвыривая ногой камешки, стараясь ни о чем не думать и не мечтать. Он засунул руки в карманы, прикасаясь пальцами к крепким мускулам ног, и шагал, почти не сгибая колени. Один раз он остановился, вынул руки из карманов и прислушался: казалось, откуда-то доносится приглушенный стук копыт. Бенедикт выпрямился, пристально вглядываясь в окружавшую темь. Только сейчас он заметил, что уже спустилась ночь, и вздрогнул, словно она захлопнула его в свою западню. Вокруг было гораздо темнее, чем всегда: ни на заводе, ни на шлаковых отвалах не мерцало ни огонька. Даже звезд на небе не было видно. В обычное время либо пламенеющий бессемеровский конвертер, либо плавка в доменных печах то и дело озаряли небо гигантской аркой света, и тогда позади мальчика вдруг появлялась его длинная, черная тень, — теперь же кругом стояла кромешная тьма.
Он забрел в густую траву. Наверно, здесь было запрятано гнездо, — какая-то птица поспешно захлопала крыльями и взлетела при его приближении. Он обошел это место из опасения раздавить яйца. На него нахлынули непрошеные воспоминания о том, как он искал Винса. Все это время он не переставая думал о старшем брате, был готов к внезапной встрече с ним; казалось, он вот сейчас увидит долговязую фигуру Винса на улице, на пороге дома или даже у своей кровати ночью и услышит шепот: «Отец дома, Бенни?» Винс постоянно снился ему; Бенедикт в сновидениях обошел всю страну в поисках брата. И вот сейчас ему снова мучительно захотелось увидеть Винса, и он мысленно пустился на его поиски; он ходил по бесчисленным улицам, взбирался на холмы, искал в незнакомых городах, в доках, на верфях, в сараях, амбарах, товарных вагонах. Он снова шел в Дымный Лог, бегал там по переулкам, заглядывал в закрытые ставнями окна и вдруг неожиданно увидел брата: Винс сидел, откинувшись в кресле, играя сигаретой, а перед ним, смеясь накрашенными губами, стояла обнаженная девушка. Винс тоже смеялся, только не так весело. Сигарета обожгла ему пальцы, он небрежным жестом протянул руку к девушке, а та разразилась громким смехом. Бенедикт закричал под окном, предостерегая брата: «Винс!» Но окно было закрыто, а тьма глушила звуки. Винс схватил девушку за набухшую грудь и нарочно обернулся к окну, чтобы поймать полный ужаса взгляд Бенедикта. Потом Винс подмигнул ему, оскалил зубы, насмехаясь над ним, и исчез вместе с девушкой.
Бенедикт явственно видел все это, сердце его гулко стучало; он стоял в темноте, напрягая слух. К лицу его прихлынула кровь, он весь натянулся как струна, сжатые кулаки в карманах вспотели. Темнота подошла к нему вплотную, протянула лапы, схватила его и, уже не выпуская из своих объятий, тесно прижалась, лаская и обволакивая его; она проникла в самое его нутро, прильнула прохладными, влажными губами к разгоряченному лбу, впилась острыми зубами в его приоткрытый рот. «Не делай этого, Винс!» — громко крикнул он, но Винса уже не было, — лишь его собственное возбужденное, горячее тело словно набухало во тьме, растворилось в ночи и, спотыкаясь, брело куда-то вниз по длинной лестнице, к наступающему рассвету...
Джой крепко спал и не пошевельнулся, когда Бенедикт, добравшись до кровати, улегся рядом с ним. Бенедикт знал, что на другой кровати лежит один Рудольф, всхлипывая во сне, и что Винса нет. Прижимаясь к костлявой спине Джоя, Бенедикт долго не мог уснуть, — он думал о Винсе. Где он и что с ним? Действительно ли Винс такой скверный и почему он, Бенедикт, как бы ни старался, не может почувствовать, что брат его дурной человек? И снова Бенедикта обожгло видение, посетившее его на холмах; он томился и горел как в лихорадке, а когда заснул, ему приснилась какая-то страшная ведьма.
14
Бенедикт пошел к дому священника кружным путем. Он выбрал этот путь, потому что заметил несколько солдат: они шли через Литвацкую Яму к холмам. Мальчик осторожно пробирался узким переулком, где было мало народу, но и сам не мог бы сказать, зачем ему понадобилось прятаться.
По обе стороны переулка почти сплошной стеной тянулись почерневшие, побитые ветром и непогодой коровники, откуда доносился запах навоза, иногда неприятно резкий, иногда мягкий и успокаивающий. За попадавшимися изредка заборами виднелись тесные огородики с аккуратными грядками. Надувшиеся бумажные мешки, которыми прикрывали рассаду, беспокойно стремились оторваться от веревочек и улететь. На некоторых грядках растения еще были накрыты стеклянными банками, но гряды сельдерея уже находились только под защитой бумажных мешков. В одном огородике деловито размахивала крыльями игрушечная ветряная мельница, хотя ветра как будто и не было. На крышах лежал налет рудничной пыли. Сожженное молнией дерево протягивало к небу свои искалеченные ветви, и солнце грело своими лучами его мертвенносерую, обнаженную сердцевину.
Бенедикт с тяжелым сердцем отворил калитку. Двор был весь в цветах и зелени. Усилием воли мальчик заставил себя подойти к дому. Прежде чем постучаться, он остановился и заглянул под крыльцо в поисках кошки с котятами, которых у него никак не хватало духу утопить. Но он увидел одну лишь паутину. На его стук никто не отозвался, но это его не удивило. Постучав еще раз погромче, он повернул дверную ручку и вошел в кухню. Цветочный горшок по-прежнему стоял на подоконнике, но герани в нем уже не было. Он увидел лужу на полу под холодильником — вода перелилась через край тазика. Бенедикт вытащил его и опорожнил в раковину. В кухне пахло едой, как в любой кухне, однако нельзя было сказать, чтобы дух святости вовсе в ней не присутствовал; нет, он затаился где-то подспудно, этот запах ладана, свечей, книг в кожаных переплетах, пропыленных церковных одеяний и тлеющих фитилей.
Он прошел через темную переднюю, бросив рассеянный взгляд на позолоченное распятье, потом в нерешительности остановился перед дверью в комнату. Его смущала тишина, царившая в доме. Может быть, подумал Бенедикт, отец Дар находится наверху? Наконец он постучал и немедленно услышал ответ — это был голос отца Дара. Бенедикт вошел.
Он ожидал увидеть отца Дара, как обычно, в качалке у окна, но тот стоял в нижнем белье у конторки из темного дерева, которая укромно примостилась в углу, и занимался тем, что рвал какие-то бумаги и письма.
— Отец мой, — начал Бенедикт кающимся тоном и вдруг отступил назад и закончил неожиданно сухо: — Извините, но я не мог прийти вчера.
Бенедикт чрезвычайно смутился при виде отца Дара в одном нижнем белье. Теперь никто не признал бы в нем священника. С неровно подстриженными, взлохмаченными волосами, с обвислыми щеками, испещренными сине-багровыми пятнами, он скорее походил на мясника. Под морщинистой кожей просвечивали кровеносные сосуды, похожие на еле заметные клубочки свившихся синих червячков.
Держа в руке письмо, отец Дар повернулся к нему и, казалось, не сразу смог припомнить, что это за мальчик стоит перед ним. Бенедикт снова ощутил то смутное унижение, с каким он ждал когда-то в исповедальне, чтобы отец Дар узнал его.
— Бенедикт! — воскликнул наконец старый священник, улыбаясь и покачивая растрепанной головой. — Входи, входи!
Бенедикт сделал еще шаг.
— Я рад, что вам лучше, — выдавил он с трудом.
— Лучше? — засмеялся отец Дар, разрывая письмо на мелкие кусочки. — Да, конечно, мне настолько лучше, что я отправляюсь в путешествие!
Бенедикт был далеко не всегда уверен в том, что отец Дар отдает себе отчет в своих словах.
— Вы — в путешествие? — терпеливо, хотя и с сомнением, переспросил он.
Отец Дар повернулся, заглянул ему в глаза, поднял руки и вдруг оглушительно хлопнул в ладоши.
— Ну да! — вскричал он.
Бенедикт окинул взглядом комнату и только сейчас заметил некоторый беспорядок, хотя все вещи были на своих привычных местах.
— Куда же вы направляетесь с визитом? — насмешливо спросил он отца Дара, ожидая, что тот разъяснит ему свою шутку.
— Я в самом деле уезжаю, — угрюмо промолвил отец Дар и, снова повернувшись к конторке, вытянул один из ящиков. Он вгляделся в надпись на каком-то конверте, потом вынул письмо и, прочитав первую фразу, разорвал его в клочки.
— Но, отец мой, — растерянно улыбаясь, сказал Бенедикт, — куда же вы едете?
Отец Дар, не оборачиваясь, спокойно ответил:
— В богадельню.
Бенедикт уставился на него.
— Что? — спросил он.
Отец Дар, охваченный каким-то слепым неистовством, продолжал рвать письма, уже не читая их.
— Отец мой, — сказал Бенедикт, — отец мой, что вы говорите?
— Я еду в богадельню святого Фомы, — сказал отец Дар, разглядывая какое-то письмо. — Ты приедешь меня навестить?
Бенедикт молчал. До него неожиданно донеслись мужские голоса; кто-то разговаривал на улице и громко ругался, видимо, позабыв, что находится возле церкви.
Отец Дар, словно понимая, что убедить Бенедикта не так-то легко, повернулся к нему и резко повторил:
— Да, да, еду.
Бенедикт настороженно прислушивался к голосам. Отец Дар взглянул на него, потом подошел, тяжело ступая опухшими босыми ногами, молча взял его за локоть и подвел к окну. Он раздвинул занавески, чтобы Бенедикт мог лучше видеть.
Да, слух не обманул мальчика, — перед церковью стояла группа мужчин, они смотрели вверх и громко спорили. Взглянув в том же направлении, Бенедикт увидел на скате крыши двух человек. Вооружившись ломами, они вскрывали шифер. Плиты падали со всего размаху на улицу и разбивались на мелкие куски. У обочины тротуара стояли два грузовика; на них грузили обломки шифера.
Бенедикт устремил на отца Дара взгляд, полный ужаса. Тот пожал плечами и кивнул.
— Они чинят крышу? — с мольбой в голосе спросил Бенедикт.
Отец Дар не ответил. Он опять направился к конторке и выдвинул новый ящик.
— Отец мой! — закричал Бенедикт, не отходя от окна и придерживая рукой занавеску. — Вы должны остановить их! — Он глядел на работающих, не в силах оторвать от них взгляда. — Отец мой! — снова крикнул он. — Отец мой, вы знаете, что они делают?
Но, казалось, отец Дар и не слышит его. На полу лежала груда разорванных писем (корзина для бумаг была полна до краев), а он все продолжал подбрасывать новые клочки. Перечитывая письма, он иногда покачивал головой с чуть смущенной, удивленной улыбкой.
Выпустив занавеску из рук, Бенедикт повернулся к старому священнику.
— Отец мой, я не доносил на вас! — воскликнул он, побледнев, сжимая кулаки.
Отец Дар поднял голову, держа в руках надорванное письмо.
— Отец Брамбо просил меня поехать! — кричал Бенедикт.
Отец Дар рассмеялся.
— Что? Что? — спросил он весело. — Что это ты пытаешься мне рассказать?
Бенедикт понизил голос и уставился в пол:
— Он сказал, что меня хочет видеть епископ.
Отец Дар пристально глядел на него.
— Ну, конечно, конечно! — сказал он наконец.
Бенедикт продолжал, не отрывая взгляда от ковра на полу:
— Церковь продана, отец мой. — Он поднял голову и посмотрел в окно на церковь. — Неужели это правда?
— А ты думал, ее не продадут? — сердито заорал отец Дар. — Вся долина продана!
— Нет, дома не проданы! Мой отец не согласился! — гордо, с жаром ответил Бенедикт, но запнулся. Он так хотел добавить, что он точно это знает, знает, потому что видел их всех там, в лесу.
— Все дома будут проданы, — сказал отец Дар и замолчал.
Горячая волна стыда захлестнула Бенедикта. Он дрожал, облизывая влажным языком пересохшие губы.
— Это моя вина, отец мой! — прохрипел он.
Отец Дар удивленно посмотрел на него и рассмеялся.
— Твоя вина!.. — произнес он и снова занялся письмами. Пока он рвал очередное письмо, Бенедикту припомнилось, как отец Дар разорвал письмо Компании на мелкие кусочки и швырнул их, как горсть снега, в молодого священника.
С улицы послышался громкий треск; Бенедикт бросился к окну. На веревке спускали каменное распятие, оно стукнулось о стену церкви; одна из перекладин креста откололась и рухнула на землю. Люди, стоявшие внизу, в испуге отскочили и теперь, задрав головы вверх, грозили кулаками тем, кто работал на крыше. В это время показался полицейский фургон; у двери его сидел полицейский, загораживая ногами выход. Фургон был переполнен; перед Бенедиктом промелькнули серые лица.
Он обернулся к отцу Дару и сказал с горькой укоризной:
— Продали церковь!..
Отец Дар нагнулся и близорукими глазами разглядывал содержимое одного из ящиков своей конторки. Нечесаные волосы его торчали, как петушиный гребень. Бенедикт посмотрел на него, а потом оглядел комнату, — словно теперь он уже не боялся очной ставки с ней, словно только что получил право разглядывать ее глазами постороннего человека, уже не участвующего в ее жизни. Вот старая качалка, в которой столько лет сидел отец Дар; стулья с прямыми спинками, ножки их украшены резными львиными головами; вот сувениры из Африки: два скрещенных копья, браслет из зубов льва. Он смотрел на фиалки на окне, на аквариум с голубой рыбкой, на картины в золоченых рамах, взиравшие на комнату из тьмы времен. Здесь были полки с книгами, к которым годами не прикасалась ничья рука; книги эти содержали историю и законы церкви. У стены стоял секретер в восточном стиле из темного тикового дерева. Все было подернуто тонким слоем пыли... Запустение и распад уже прокрались в эту комнату. Она казалась обреченной, умирающей. Скоро отсюда все вывезут, дом сломают, а фундамент его навеки погребут под грудами камней. И сад там, за окнами, умрет скоропостижно в полном цвету: неведомо откуда ворвется пламя и убьет одним дыханием фиалки и ирисы, кусты с белыми как снег шарами, цветущие лилии и сирень, живые гроздья винограда на заборе; и если никто не удосужится спасти кошку, то погибнет и она. А котят он утопит, сам...
Ему почудилось, что на него надвигается вечное безмолвие. Оно захлестывает его мягкими волнами и увлекает в пучину, мертвую и глубокую, и вот он уже не может ни двинуться, ни подумать. Это не забвение, не светлый покой, а беспощадное жестокое безмолвие, оно сковывает, как чугун, застывший навеки.
И вдруг, в этой приговоренной к смерти комнате, он неожиданно для себя увидел старика, увидел человека, которого, как ему показалось, он никогда раньше не встречал: человек этот каким-то странным, недоуменным взглядом смотрел на очередную пачку пожелтевших писем, одни он рвал, другие — очень немногие — откладывал в сторону, предоставляя кому-то другому возможность уничтожить их; иногда он прерывал свое занятие, чтобы почесать под мышкой, где ему натерло шерстяное белье. Бенедикт понимал, что не должен поддаваться внезапно охватившему его желанию помочь этому старику — хотя бы вымести из комнаты обрывки бумаги — и напомнить, что уже поздно (поздно для всего на свете!). Ему хотелось плакать, но он знал, что, если старик удивленно обернется к нему и ворчливо спросит: «О чем ты плачешь?» — он не сможет ему ответить, потому что он плакал бы о нем... Ему бы надо сейчас же убежать отсюда, не начиная разговора, ведь он понимает, что глубоко виноват перед старым священником, и ему уже ничем не загладить свою вину, и он не смеет даже жалеть отца Дара! Бенедикта охватила грусть, словно он, сам того не желая, овладел чьей-то ужасной тайной, знать которую не имел права. И благодаря проникновению в эту тайну тот, кто стоял сейчас на другом конце комнаты, превратился из священника в простого старика, жалкого и больного, занятого уничтожением своих писем и бумаг. Вот он читает их, покачивая головой над одними и хмуря брови над другими; иногда какое-нибудь письмо надолго задерживает его внимание, и он молча читает, а потом все равно рвет и это письмо, словно отказываясь от попытки вспомнить, кто его написал и по какому поводу. Он только посмеивается про себя, устало удивляясь, что так легко сбросил со счета свою долгую жизнь, ключ от которой утерян теперь навеки. Бенедикт ощутил острую жалость к старому священнику — но это была уже его собственная тайна...
Отец Дар вздохнул.
— Погляди! — сказал он, указывая на груду бумаги. — Погляди-ка на все это!
Бенедикт встрепенулся. Он снова раздвинул занавески и выглянул в окно. Грузовую машину уже нагрузили доверху, и шофер заводил мотор. А те двое продолжали ломать крышу.
— Отец мой, — сказал Бенедикт, — разве вы уже слишком стары?
— Погляди! — повторил отец Дар, ткнув ногой в гору бумаги.
— Но вы можете найти другой приход, — сказал Бенедикт.
Отец Дар засопел и поднес к свету какое-то письмо...
— «... Навещу вас во вторник», — прочитал он и поднял голову. — В какой вторник?
— Ведь вам хотелось бы получить приход? — настойчиво допрашивал Бенедикт.
— Что? — спросил отец Дар.
— Приход, — тихо повторил Бенедикт. — Разве нет?
Губы отца Дара раздвинулись в улыбке, на лице появилось удивленное выражение. Он перечитал письмо и недоверчиво усмехнулся себе под нос, потом протер глаза и опять уставился на бумагу.
— Тысяча восемьсот восемьдесят второй, — пробормотал он.
— Я могу поехать к епископу, — заявил Бенедикт.
Отец Дар снова принялся за чтение.
— А-а... — только и сказал он.
— Отец мой! — вскричал Бенедикт. — Что же мы будем делать?
Услышав этот вопль отчаяния, отец Дар отложил в сторону письмо и поманил к себе мальчика. Когда Бенедикт приблизился, священник обнял его и притянул к себе. Бенедикт почувствовал запах шерстяного белья и немытого старческого тела.
— Что ты порываешься сказать мне, Бенедикт? — спросил отец Дар.
Мальчик понурился.
— Ты уже ничего не сможешь поделать, — сказал старый священник. — Так же, как и я. Скоро здесь будет стоять новая церковь. Ты будешь убирать ее и прислуживать отцу Брамбо. Вот и все.
— Ну, а вы, отец мой?
— Я буду делать то, что делают старики, — нетерпеливо ответил священник.
На улице раздался оглушительный треск.
— Но зачем же они разбивают?..
Священник оперся на плечо Бенедикта, подошел к креслу и с тяжелым вздохом опустился в него.
— Здесь уже ничего не осталось, — сказал он устало. — Вот потому они и ломают ее. — Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и тихо добавил: — В этой жизни, Бенедикт, бедняки обречены все терять. Рабочие всегда терпят поражение... — Он открыл потухшие глаза и сказал с глубокой серьезностью: — Не осуждай нас, Бенедикт...
В наступившей тишине слышно было, как с грохотом падают листы шифера, и доносились голоса рабочих.
Бенедикт поднял наконец голову и посмотрел старику в глаза, но не выдержал, отвел взгляд и сказал без всякого выражения:
— Я ездил с отцом Брамбо к епископу.
— Ах, Бенедикт! — вскричал отец Дар, легонько толкая его кулаком в бок. — Это я заставил отца Брамбо повезти тебя. Ведь я дал обещанье, что помогу тебе поступить в духовную семинарию.
— Епископ сказал...
Отец Дар прервал его резким движением руки.
— Епископ, епископ! — вскричал он. — Я больше не желаю этого слышать! Всю жизнь я только и слышал: епископ сказал это, епископ сказал то. Слава богу, теперь со всем этим покончено! Можешь сохранить навечно, как тайну, в сердце своем все, что ты услышал от епископа. Ничего нового ты все равно мне не скажешь.
Он ткнул Бенедикта в грудь, будто тайна уже находилась в его сердце, и укоризненно прибавил:
— Ты будешь замечательным священником!
Бенедикт ответил ему такой печальной улыбкой, что отец Дар раздраженно воскликнул:
— Чего ты хмуришься?
Бенедикт молча смотрел на него. В его взгляде была такая откровенная жалость, что старый священник удивленно отпрянул, покраснел от стыда, потом побагровел от гнева и вскричал:
— Ты зачем ко мне пришел?
— Пришел к вам?.. — заикаясь, спросил Бенедикт.
— Ну да! Какое у тебя дело ко мне? — продолжал кричать отец Дар, потирая голову.
Бенедикт на мгновение задумался, потом поднял лицо к старику и медленно сказал:
— А если, отец мой, — он посмотрел на старого священника взглядом, полным сочувствия, — а если я поговорю с отцом Брамбо...
Таких холодных глаз у отца Дара он никогда не видел! Они метали искры, — эти старые, потухшие глаза. Резким рывком старик поднялся с качалки, которая продолжала сердито раскачиваться. Он подошел к конторке и стал со злостью, уже без разбора, рвать бумаги. Бенедикт с ужасом смотрел ему в спину. Он пытался еще что-то сказать, но ему свело губы. Он повернулся к окну, откуда неслись звуки разрушения. Плечи его дрожали, голова поникла на грудь.
И вдруг, не отдавая себе отчета в том, что делает, он оказался у двери. Ему захотелось перешагнуть порог и убежать отсюда без оглядки, ни о чем больше не думать! Но он в нерешительности остановился и поглядел назад, на сгорбленные плечи старика.
— Отец мой, я буду молиться за вас! — крикнул он, судорожно захлопывая за собой дверь.
15
Но Бенедикт не мог сразу покинуть этот дом. Он посидел некоторое время на кухне, осматриваясь, словно желая запечатлеть ее в своей памяти, прежде чем уйдет отсюда навсегда. Услышав, что кошка скребется в дверь, он открыл дверь, взял кошку на руки, заглянул в ее сонные, зеленые глаза и погладил мягкую серую шерстку. Потом он вышел в сад и остановился. Скоро и от этого милого церковного сада ничего не останется! Он подошел к виноградным лозам у заброшенного колодца, сорвал маленькую гроздь жестких зеленых ягод, — каждая не больше горошины, хотя отец Дар старательно за ними ухаживал, — и стал задумчиво катать их в пальцах. Этим ягодкам редко удавалось дозреть: мальчишки срывали их, когда они были еще совсем зелеными; но считалось, что если б они дозрели, то стали бы прозрачно-янтарными и сладкими. Они казались Бенедикту такими безгрешными, невинными, эти облитые солнцем, свисающие гроздья, они вовсе не торопились дозреть, словно перед ними был такой же долгий год, как и прошлый. Все здесь дышит невинностью, подумал он, чувствуя, что сам он с ней навсегда расстался. Он обернулся, поглядел на дом, на котят, которые теперь вылезли из-под крыльца и кувыркались друг через друга; поглядел на забор, который в прошлом году покрасила миссис Ромьер. Теперь она могла уже об этом не беспокоиться... Он смотрел на котят и содрогался, думая, что их придется утопить. Ни в чем не повинных!..
На открытом воздухе особенно отчетливо слышались треск шифера и крики рабочих. Но людей он не видел: они были за домом. Он подошел к двери ризницы. Ему казалось, он видит все впервые: кухню, сад и на двери ризницы самодельную ручку из крученой медной проволоки. Почему он прежде не замечал, из чего она сделана? Он с любопытством ощупал ее, прежде чем просунуть в нее руку; потом потянул на себя тяжелую дверь, открыл ее и вошел внутрь.
Матовое оконное стекло слабо пропускало свет, но он так хорошо знал ризницу, что мог бы пройти по ней с завязанными глазами. Пол был крыт кафелем. Наискосок от двери стоял большой комод, над ним висело распятье. На худых ногах Христа краска облупилась. Направо от комода находилась низенькая скамейка, на которую преклонял колена священник, а возле нее — таз. В нем он сотни раз мыл чашу, вертел в руках эту сверкающую позолоченную посудину, разглядывая на ней чей-то стершийся лик. Он вспомнил, как удивился, узнав, что водосток отсюда проходит не в канализацию, а прямо в землю. Он был потрясен не столько этим фактом, сколько тем, что осмелился подумать, будто эта вода, в которой омывают священную чашу, уходит так же, как и простая вода, через канализационную трубу в реку. Тогда он так ясно осознал свое невежество и очень забеспокоился: много ли грехов совершает он, сам того не ведая?..
Бенедикт подошел к высокому шкафу и открыл его. Запах нафталиновых шариков, простого мыла и свежий аромат чистого белья хлынул на него оттуда. На плечиках висели его стихарь и ряса. При виде их он удивился и даже немного растерялся. Подумать только, — они спокойно висели здесь все это время, а ему-то казалось, что прошли годы. Люди голодали и мучились, их убивали, а его стихарь и ряса, сшитые по старой мерке, по мерке того Бенедикта, каким он был раньше, висели здесь, словно ничего и не происходило. Эти вещи ровно ничего не значили — они были вне времени и пространства! Казалось, неожиданно он, Бенедикт, охваченный унынием и тревогой, споткнулся о свой собственный труп, — если только такое могло случиться! — о воспоминание о своем прошлом, которое не имело никакого права вторгаться в его новую жизнь: ведь он только сейчас с удивлением осознал, что стал совсем другим. Он резко захлопнул дверцы, закрыл глаза и покачал головой. А затем, пытаясь проникнуться прежним благоговейным трепетом, прошептал с отчаянием: «Я в церкви!»
Он запер шкаф на ключ, который всегда торчал в замке, потом пошел в церковь. У двери он задержался, погрузил пальцы в чашу со святой водой и приложил их ко лбу. «Во имя отца и сына...» — зашептал он. Если позвонить в колокольчик, в полумраке церкви задрожат тени; кто-нибудь снаружи услышит и бросится прочь в страхе, что тут бродят привидения. Он медленно подошел к алтарю и, преклонив колена, долго смотрел на него. Алтарь был пуст, дарохранительница открыта, в ней уже ничего не лежало, но еще утром здесь служили обедню: потухшие свечи еще издавали слабый запах. С высоты на него смотрел Христос; его распростертые руки были прибиты гвоздями к кресту; ноги, скрещенные вместе, проткнуты одним большим гвоздем — не из золота! — грудь его кровоточила, на лбу под терновым венцом выступили капли крови. Слава тебе, царь небесный! Много лет Бенедикт не осмеливался глядеть на него; кровавые раны вызывали у него легкую дурноту. Потом он перестал его замечать и лишь смутно чувствовал его присутствие, его мучительную агонию. Но теперь мальчик сознательно его рассматривал, и раны показались ему живыми. Христос тоже страдал, подумал он, вспомнив о своем отце на заводе. Страданье — вот что приблизило его, Бенедикта, к Христу. Христос некогда был живым человеком, и страданья его были человеческими! Когда порой стремление к святости ослабевало в мальчике, он вспоминал о муках, которые претерпел Христос, и тогда его снова охватывало желание стать святым. Он хотел бы сейчас обдумать все это, ибо чувствовал, что стоит на пороге великой правды. Но вместо того он поднялся с колен и внимательно вгляделся в церковный полумрак.
«Kyrie, eleison! Christe, eleison !» [22]
Ему показалось, что он слышит голоса. Они доносились к нему сверху, с темных, пыльных хоров церкви, где уже много лет не раздавалось звуков органа. Орган так и не успели отремонтировать. Бенедикт услышал свой собственный голос: «Christe, eleison !» — и душа его, вместе с другими душами, устремилась к небу. У исповедальни пахло ладаном, но от скамей несло опилками и керосином. В церкви стояла невыносимая духота, он задыхался: казалось, вокруг него роями летает моль. Запах человеческого пота неподвижным облаком висел в воздухе, пропитывая стены, скамьи, даже пол, и никакому ветру не удалось бы полностью изгнать его отсюда. Отец Брамбо сразу же почувствовал этот запах: он брезгливо морщился и в первые дни после своего приезда израсходовал галлоны розовой воды, опрыскивая все вокруг, в надежде уничтожить этот запах. А с завода в церковь через щели в стенах просачивался едкий, угарный дым. Рабочие, когда приходили сюда к обедне, даже не замечали этого запаха, — настолько он был для них привычным.
Бенедикт подошел к стенам, где в ниши были вделаны деревянные резные барельефы, повествующие о Христе в Гефсиманском саду и о пути его на Голгофу, — перед нишами высились пыльные канделябры со свечами. Семь панно на одной стене и семь на противоположной рассказывали о страстях Христовых. Бенедикт подошел к первому из них, опустился на колени и склонил голову. Когда на эти панно собирали пожертвования среди прихожан, как боролся отец Дар за каждый цент, он и умолял и угрожал! А как их берегли! Бенедикт вспомнил, какой благоговейной гордостью наполнилось его сердце, когда их установили в церкви. Он был первым — как тут не гордиться! — кто смотрел здесь на страдания Христовы. Он стоял перед барельефами на коленях до тех пор, пока не изранил ноги в кровь...
Вдруг Бенедикт тихо ахнул и вскинул голову — его раздумья были прерваны: с потолка вдруг посыпалась мелкая известка. Она медленно оседала легкой дымкой. Послышались глухие удары, и он вспомнил, что крышу церкви ломают. Его охватила неожиданная ярость, и он с такой силой сжал кулаки, что у него заныли ладони. Ему хотелось выбежать из церкви и что-то крикнуть этим людям, этому небу, всей долине, целому миру! Крикнуть — но что, что? Он с горечью повернулся снова к барельефу, изображавшему первую остановку Христа на его пути на Голгофу. Он всматривался в грубо вырезанный лик Христа, который стоял между двумя римскими воинами и глядел на глумящуюся толпу. На голове Христа терновый венец; он уже приговорен к смерти. Как часто Бенедикту казалось, что сам он ст оит так и глядит на людей с той же бесконечной жалостью! Ему было тяжело вспоминать об этом, и он перешел ко второй остановке Христа.
Здесь Христос стоит на коленях, простирая руки; тяжелый крест давит на его хрупкие плечи; его палачи с плетьми в руках готовы обрушить на спину Христа первые свирепые удары. «Как часто, — подумал Бенедикт, — я сам ощущал на своих плечах тяжесть такого креста, как часто сам шел по каменистому, крутому пути на Голгофу...»
На следующем барельефе изображалась третья остановка: Христос падает под тяжестью креста и ударов.
На четвертой остановке (Бенедикт задрожал) Иисус встретился со своей матерью. Как они рыдали от состраданья друг к другу! Тщетно она порывалась прижаться к его рукам, к спине, по которой обильно стекала кровь! На панно, изображавшем пятую остановку, палачи, боясь, что у Христа недостанет сил взойти на Голгофу, заставляют Симона взять у Христа крест и нести его. (Бенедикт был бы счастлив тащить этот крест на собственных плечах.)
А вот и шестая остановка — Вероника протягивает Христу свой платок, и он вытирает кровь и пот со своего лица. И седьмая. Бенедикт остановился и стал разглядывать барельеф с таким вниманием, точно никогда раньше не видел его: Иисус распростерт на земле под тяжелым крестом. Солдат занес над ним бич. Бенедикт готов броситься и отвести поднятую руку солдата. Но, внезапно нахмурившись, Бенедикт замечает, как топорно и неискусно сделаны эти изображения, — в них нет ничего от настоящей жизни...
Он с легким раздражением пожал плечами и взглянул на остальные семь барельефов, установленные на противоположной стене. Христос распятый и умерший, в гробу, из которого через три дня восстанет. Стена уходила за алтарь, и Бенедикт не мог видеть последних барельефов. Воробей, случайно залетевший в церковь и спокойно сидевший наверху под куполом, вдруг всполошился и, легкий как перышко, неистово закружился вверху, подымая клубы пыли. Наконец он вырвался на волю сквозь разбитое стекло и исчез, а в церкви воцарилось гробовое молчание.
Бенедикт остановился около задернутой занавесками исповедальни и пощупал пальцами пожелтевшую ткань. Он знал — в исповедальне темно и холодно, а внизу под полом сырой и заплесневелый, грязный подвал. Бенедикт раздвинул занавески и вошел. Он нашел на ощупь маленькую скамеечку, опустился на колени, перекрестился, — ему показалось, что вот-вот раздастся свистящее дыхание старого священника, он увидит его величественный профиль и почувствует кислый, резкий перегар виски. У Бенедикта закружилась голова, и он прислонился к решетке. «Нет, отец мой, мне не в чем исповедоваться. Нет, отец мой, я не грешил... Отец мой, у меня одно желание: стать святым, но это не гордыня, а моя смиренная мечта. Я посвящу этому всю свою жизнь... Я хочу остаться бедным, я хочу служить своему народу...» Он стоял на коленях, отворачиваясь от старого священника, — ведь у того так дурно пахло изо рта, — и молился, чтобы бог каким-нибудь мирным, безгрешным путем освободил прихожан от этого старика...
— О господи!.. — Он выбрался из исповедальни и пошел по проходу меж скамьями к двери. Кусок кровли, минуя его голову, с грохотом рухнул на каменные плиты, и он, заслоняя лицо руками от поднявшейся пыли, недоуменно взглянул наверх и увидел сквозь широкую расщелину в потолке голубое, солнечное небо.
Послышалось ворчанье грузовика, и, когда глаза Бенедикта прояснились, он заметил двух мужчин, которые удивленно смотрели на него.
— А я думал, церковь пуста! — сказал один из них.
Бенедикт бросился вон из церкви и зашагал прочь по улице. У него сильно болела рука, словно обвалившийся шифер ушиб ее.
16
Отец Брамбо вернулся только к пяти часам вечера. Бенедикт видел, как он вышел из машины, помахал кому-то, кто остался в машине, и, держа под мышкой свернутые в трубку листы синей бумаги, быстрым шагом направился к дому.
Теперь у молодого священника была совсем другая походка — он шагал уверенно, с видом человека, облеченного властью. У Бенедикта упало сердце, и он инстинктивно спрятался за дерево, в надежде, что отец Брамбо пройдет мимо, не заметив его. Но как раз в эту минуту взгляд молодого священника упал на него, и он весело его окликнул:
— Здравствуй, Бенедикт!
Голос его звучал бодро, и он выглядел одновременно и моложе и старше. Глаза его блестели, обычно бледное лицо порозовело и даже чуточку загорело, — видимо, он провел целый день на воздухе. Бенедикт никогда не видел его таким. Подбородок отца Брамбо был чем-то выпачкан — совершенно невероятное зрелище! — а на суставах пальцев — содрана кожа. Его черная шляпа, как всегда, сидела прекрасно, но на белом воротнике темнело какое-то пятно.
— Что ты там делаешь? — спросил, смеясь, молодой священник. — Ждешь меня? Давно? — прибавил он с сожалением.
— Я приходил к отцу Дару, — пробормотал Бенедикт.
— Как он поживает? — сочувственным тоном спросил отец Брамбо, ласково обнимая Бенедикта за плечи. Он ждал ответа, вопросительно приподняв брови, но Бенедикт молчал. — Я полагаю, старик рассказал тебе о новой церкви? — произнес он.
Плечи Бенедикта дрогнули, и отец Брамбо с любопытством посмотрел на него.
— Рассказал, да? — снова спросил он, заглядывая в глаза Бенедикту с выжидательной улыбкой. — Ну и прекрасно! — весело продолжал отец Брамбо. — Значит, ты уже знаешь. Какие новости! Какие новости! — он почти пропел последние слова и приподнял листы «синьки». Бенедикт окончательно замкнулся. — Где ты был вчера? — с укоризной спрашивал молодой священник. — Ты уже знал?
Бенедикт стиснул губы и отрицательно покачал головой.
— Ты не знал? — продолжал отец Брамбо с некоторым изумлением. — Все в долине пойдет на слом, долины больше не...
— Они сносят церковь, отец мой! — задыхаясь, вскричал Бенедикт. В голосе его звучало страдание.
— Что? — воскликнул отец Брамбо, заметив наконец, какой у мальчика измученный вид.
Бенедикт высвободил плечо из-под руки священника и указал на кучу сломанного шифера перед фасадом церкви.
— Ну и что? — недоуменно спросил отец Брамбо, и тут увидел полные горечи глаза мальчика. — Бенедикт! — вскричал он с такой глубокой жалостью, что тот невольно повернулся к нему, губы его дрожали. Священник снова притянул его к себе и стал утешать: — Ничего, Бенедикт, все равно она должна была пойти на слом — ведь она очень ветхая. Так или иначе, но нам необходима новая церковь. И господу богу тоже нужна новая! — Он улыбнулся собственной шутке. — У нас по крайней мере будет чистое помещение, и без мышей. — Он погладил Бенедикта по голове. — Почему ты так о ней горюешь? Ты еще многого не знаешь о церкви, Бенедикт, — продолжал он, беря Бенедикта за подбородок. — Взгляни на меня! Мы не могли содержать ее здесь, — слишком уж беден народ. Мы должны были перебраться отсюда — даже если бы ничего не случилось, даже если бы Компании не понадобилась вдруг земля. Пойми, мы все равно должны были перебраться. В городе больше народу, а здешние жители тоже переселятся в город.
— Но ведь они еще не сдались! — вскричал Бенедикт. — Они же еще не переезжают!
Отец Брамбо слегка прищурился и посмотрел на мальчика долгим взглядом. Наконец он сказал:
— А что им остается делать? — Он тронул Бенедикта за локоть. — Ты сам знаешь, что церковь — это не просто здание. Ведь здание церкви — это только скорлупа. Посмотри, — разве ты не видишь? Церковь совсем опустела, душа ее уже отлетела отсюда. Давай же спокойно похороним ее остов. — И он повернул Бенедикта в сторону полуразрушенной церкви. Бенедикт увидел: стропила под куполом полностью обнажились, половины крыши уже не было, словно ее снесла чья-то могучая рука. Тучи пыли заволакивали всю церковь. Бенедикт отвернулся.
— Отец Дар уезжает, — пробормотал он.
Отец Брамбо притянул Бенедикта поближе, обнял его и заставил идти рядом с собой.
— Не беспокойся об отце Даре, — промолвил он спокойно. — Отец Дар уже слишком стар, чтобы служить. Он и сам это понимает.
— Нет, он этого не понимает! — вскричал Бенедикт.
Отец Брамбо вспыхнул.
— Что он тебе наговорил? — спросил он.
— Ничего! — укоризненно ответил Бенедикт.
Отец Брамбо заглянул Бенедикту в глаза, потом сказал:
— Нет, отец Дар прекрасно это понимает. — Он еще крепче сжал плечо Бенедикта и прибавил: — Я знаю, ты любил его, но не позволяй чувствам ослеплять себя. Старик... — он остановился в нерешительности, — старик был безнравственным человеком.
Бенедикт вдруг словно окаменел: он шел вперед, ничего перед собой не видя.
А отец Брамбо не заметил этого. Он радостно вскинул брови; на губах его играла та неуловимая улыбка, которую Бенедикт уже однажды видел. Он ждал, что священник сейчас поднимет руку и проведет пальцами по губам. Они подошли к калитке. Отец Брамбо неловко открыл ее левой рукой, а правую продолжал держать на плече Бенедикта, словно боялся, что тот вырвется и убежит. Они взошли по ступенькам на крыльцо, где стояла качалка, и отец Брамбо уселся в нее.
— Вот здесь, на этих планах, — сказал он решительным тоном, словно только и дожидался, когда они дойдут, чтобы представить Бенедикту свои наиболее веские аргументы, — на этих планах уже видно, какой будет новая церковь. — Он раскатал одну из синих трубок. — Конечно, пока что все это только чертежи, но погляди, насколько новая церковь больше прежней! Вот это — неф. — Лежащий перед ним чертеж поглотил все его внимание. Не отрываясь от него и уже не останавливаясь, чтобы удостовериться, доходят ли его объяснения до Бенедикта, он стал с увлечением рассказывать, где что будет находиться. Он сыпал цифрами, называл размеры, указывал цены. Все священные элементы церкви в его устах находили свое выражение лишь в материальных измерениях. Со знанием дела он водил пальцем по плану. Глаза его блестели, а в голосе звучали лирические нотки.
Бенедикт молча смотрел на старую церковь. Какая-то собака обнюхивала ее ступени. В небе парил и кувыркался голубь; затем он стал снижаться. Он искал карниз, чтобы сесть на него, очевидно не сомневаясь, что тот на прежнем месте. Серебристый голос отца Брамбо журчал не переставая; он перечислял все новые и новые цифры и посасывал кровоточащий сустав пальца, который где-то ободрал. Его светлые брови сошлись на переносице, а ресницы казались выгоревшими на солнце.
— Если можно продать церковь, — сказал вдруг Бенедикт без всякого выражения, — значит, и всем остальным придется продать свои дома. Значит, Компания выиграла.
Но отец Брамбо развертывал уже второй лист «синьки».
— Они решат, что если церковь продана, — продолжал Бенедикт тем же безжизненным тоном, — то им уже незачем продолжать борьбу. Отец Дар обещал никогда не...
— А-а, это! — воскликнул отец Брамбо, на минуту оторвавшись от своего занятия и взглянув на Бенедикта. — Ты имеешь в виду стачку. Но она скоро кончится.
Бенедикт посмотрел на него и сказал так, словно надеялся, что слова его услышат там, далеко отсюда:
— Но рабочие вовсе не желают ее окончания.
— Они скоро возьмутся за ум, — уверенно возразил молодой священник. Он заметил выражение лица Бенедикта и рассмеялся. — О Бенедикт, поверь, они скоро возьмутся за ум! Пусть все это тебя не тревожит. — Он легонько потрепал Бенедикта по щеке. — Ну, улыбнись же! — прибавил он.
— Отец мой, — произнес Бенедикт, — мне очень плохо.
Отец Брамбо отложил в сторону чертежи.
— Я знаю, Бенедикт, — сказал он сочувственно, — я знаю, как трудно расставаться со всем привычным, с чем ты сроднился, что ты любил. Но это пройдет. Подожди немного, пока отстроим новую церковь. Ты будешь приходить и смотреть, как идет строительство, а церковь с каждым днем будет расти. В один прекрасный день она будет закончена, и мы войдем в нее — я и ты. И тогда, тогда, Бенедикт, — представь себе этот день!.. — Лицо отца Брамбо озарилось, глаза сияли, но в ответ Бенедикт только тускло улыбнулся. — Тогда мы будем служить обедню вместе с тобой, — пообещал молодой священник. — Бенедикт, почему ты хмуришься?
Отец Дар сказал ему то же самое!..
— Ну вот, так-то лучше! — произнес священник с облегчением. — Тебе будет трудно вначале, а потом все будет хорошо, вот посмотришь! — Он задумчиво, с любопытством посмотрел на Бенедикта. — Скажи, неужели тебя это никогда не беспокоило? — спросил он удивленно. — Ведь ты видел, что церковь уже обветшала и кишмя кишит мышами, а крыша ее сгнила и протекает...
Он остановился.
— Что с тобой, Бенедикт? — вскричал он.
Бенедикт попытался отвернуться, спрятать взгляд, полный безысходной муки, но отец Брамбо перехватил этот взгляд и повернул к себе Бенедикта.
— Что с тобой? — опять вскричал он, и голос его сорвался. Он уронил чертежи на пол и вскочил. — Садись, — приказал он и сам усадил Бенедикта в качалку. — Сейчас я принесу воды!
Сильно побледнев, он ринулся в дом. Бенедикт слышал, как он бежит по коридору в кухню. Мальчик с трудом опустился в качалку. Он закрыл глаза и посидел так некоторое время, ожидая, когда кончится головокружение, затем с усилием поднялся. Синие листы чертежей зашуршали под его ногами. Шатаясь, он сошел с крыльца и, подойдя к калитке, остановился, чтобы в последний раз поглядеть на приходский дом. Занавески на одном из окон были раздвинуты: на мгновение ему показалось, что у окна кто-то стоит, — что кто-то стоял там все время, наблюдая за ним.
Он вышел, позабыв закрыть за собой калитку.
Часть третья
1
День был знойным. Влажная жара нависла над долиной и холмами и раскаленными волнами подымалась ввысь от перегретой земли. Где-то за холмами непрестанно грохотали громовые раскаты. Утки и куры искали прохлады в тени хлевов, а в поле коровы лениво собрались в кружок под единственным растущим там деревом.
Верховых и пеших солдат и полицейских из местной и заводской полиции в действительности было около сотни, но казалось, что их гораздо больше. Кони шли понурив головы; гривы их задевали высокую траву. Солдаты отпустили поводья и расстегнули рубахи. По их грубым, загорелым лицам струился пот; разморенные невыносимой жарой, они ворчали, сидя в своих пропотевших седлах.
Солдаты миновали красные дюны, поднялись на плоскогорье, покрытое шлаком, и въехали в низкорослый кустарник на опушке леса. Путь стал труднее, но они продолжали продвигаться дальше. Однако вскоре подлесок стал гуще, все чаще стали попадаться ямы, они были скрыты кустами и плющом, и потому их было трудно разглядеть. Солдаты были вынуждены спешиться и, ведя лошадей на поводу, гуськом продирались сквозь лес.
Зной навис над их головами пылающей крышей. Ветки, которые им приходилось отталкивать, были тяжелые, словно налитые свинцом. Сухой щелочной запах ручейка, вытекавшего из шахты, обострял жажду, и они с трудом удерживали лошадей, порывавшихся испить из этого негодного источника. Дальше лошади не могли идти: они все время рисковали свалиться в ямы. Солдаты были вынуждены оставить их под присмотром, а сами двинулись вперед пешим порядком, держа наготове винтовки и револьверы.
К рабочим в лесу донеслась весть, что к ним направляются солдаты. За столом на поляне собрался совет: председательствовал Добрик. Бенедикт издали наблюдал за ними, стоя рядом с матушкой Бернс.
— Как вы думаете, что случилось? — спросил он ее.
— Не могу сказать, — ответила она.
— Почему все так взволнованы?
— Не знаю, — отозвалась она.
Бенедикт разглядывал собравшихся. Негров и белых было приблизительно равное количество. Бенедикт повернулся к матушке Бернс.
— Сюда идут солдаты, — сказал он убежденно, потом поднял на нее глаза и с беспокойством спросил: — Не лучше ли вам уйти отсюда?
Она по-прежнему смотрела перед собой.
— Куда?
— Куда-нибудь подальше отсюда, — ответил Бенедикт.
Она поглядела на него.
— Куда именно? — спросила она снова. Потом отвела взгляд и прибавила: — У каждого кролика есть нора...
Он поглядел на ее изможденное морщинистое лицо, на седую голову. Какая она слабая, хрупкая!
— Найдите место, где можно спрятаться, — настаивал он.
— Такого места нет, — резко ответила она.
Бенедикт обежал взглядом раскинувшийся перед ним лагерь и увидел своего отца, — тот мастерил грубые скамьи, как тогда, к летнему пикнику.
Мальчик повернулся к матушке Бернс и спросил с любопытством:
— Почему вы пришли сюда?
Но она ничего не ответила.
Казалось, что-то изменилось в их отношениях, а может, изменилось давно, но он только сейчас это осознал. Он собирался спросить ее, что из катехизиса она помнит, но удержался. Она уже не обращалась с ним так почтительно, как прежде. И вдруг он подумал, что она не только сильно постарела, но и стала более скрытной, вернее, мудрой, точно видела его насквозь, а это его смущало. В чем же дело? Порой ему казалось, что она просто озлоблена, но иногда он чувствовал, что причина совсем не в этом, а в чем-то более глубоком. Если прежде она радовалась его приходу и была с ним ласкова, то теперь относилась к нему, как к человеку, который появился из враждебного лагеря, но с белым флагом перемирия. И неприязнь ее обращена не просто к нему, не к тому Бенедикту, какой он сейчас, а к тому, каким он станет, когда будет взрослым. Ему так хотелось сказать ей...
— Все белые похожи на кошек, — промолвила она угрюмо и, когда он с удивлением обернулся к ней, прибавила: — На диких кошек в лесу, убивающих певчих птиц.
«И я?» — его обиженные глаза безгласно вопрошали ее, но лицо ее не изменило своего сурового выражения.
— А Добрик? — вскричал он, мотнув головой в сторону стола, за которым сидел Добрик.
Она поглядела, куда он указывал, и сказала медленно и задумчиво:
— Мистер Добрик совсем как мы, негры.
Бенедикту показалось, что она навсегда лишила его своей симпатии.
Она повернулась к нему и сказала:
— Теперь вам время прятаться!
— Мне? — спросил он.
— Да, — ответила она. — Пора бежать отсюда. Оставьте нас, негров, довести борьбу до конца!
Он пристально посмотрел на нее.
— Но мы тоже...
Она резко отвернулась и направилась к своему сарайчику с таким видом, словно ни за что оттуда больше не выйдет. Но Бенедикт последовал за ней и встал на пороге. Она обернулась к нему:
— Что вам нужно, мальчик? — спросила она.
— Мне... — начал было Бенедикт.
— Уходите отсюда, — произнесла она с раздражением. — Оставьте меня.
— Я хочу помочь вам! — вскричал Бенедикт.
Она бросила на него сердитый взгляд.
— Помогай самому себе, парень! — произнесла она.
— Но, матушка, — закричал он, — я не такой. — Он смотрел на нее с отчаянием. — Я не такой! — повторял он, начиная смутно понимать причину ее враждебности. Он вспомнил, как она спешила однажды к своему опустевшему дому, который должны были предать огню. Он спрятался тогда и ничем ей не помог! Взволнованный, раздираемый внутренней мукой, он тихо сказал:
— Я не хочу быть таким!
Она взглянула на него, и выражение лица ее смягчилось.
— Сейчас вы не такой! — отвечала она.
Он вспыхнул:
— Вы думаете, потом...
Она пожала плечами.
— Но, матушка, — произнес он, — как же я смогу?
С губ ее сорвался короткий невеселый смешок.
— Очень легко!
Охваченный смятением, он продолжал смотреть на нее.
— Ну, а почему, — спросил он, — почему Добрик не стал?
Она закусила губу, прищурила глаза и задумалась. Потом сказала просто:
— Видите ли, Добрик — коммунист: у них это не допускается.
Над головой у них загрохотал гром, раздался оглушительный треск, будто гигантский бич рассек небо надвое.
— Будет дождь, — мягко сказала она.
Бенедикт посмотрел на крышу.
— Крыша протечет, — сказал он.
— Оставайтесь у меня, если хотите.
— Но солдаты!..
— Я и думать о них не хочу, — ответила она.
Она присела на койку и стала искать позади себя подушку. Бенедикт подошел и помог ей.
— Спасибо, — сказала она. — Вы всегда были вежливым мальчиком.
— Дать вам еще одну подушку? — спросил он.
— У меня всего одна, — ответила она.
Снова раздался удар грома. Бенедикт с сомнением взглянул на крышу, крытую осокой и картоном, жестью и досками.
— Вам не следовало бы здесь оставаться, — беспомощно сказал он.
— От дьявола не убежишь, — ответила она мрачно и закрыла глаза.
Хлынул проливной дождь. Бенедикт стоял посреди хижины с земляным полом, прислушивался к стуку дождевых капель и смотрел на старую женщину, лежавшую на, койке под лоскутным одеялом, которое она успела спасти от огня. Он думал о своем отце и о старом отце Даре, думал о матери и о Винсе.
Висевшая вместо двери занавеска из мешковины зашевелилась, и в комнату вошел негр. Он поглядел на Бенедикта, потом на матушку Бернс, и в глазах его зажглась смешинка.
— Опять вместе! — сказал он. Это был Клиффорд Кинг. Бенедикт беспомощно заморгал. Клиф улыбнулся, но ничего ему не сказал.
— Вот что, выходи-ка отсюда, мать, — обратился он к матушке Бернс. — Слышишь? — повторил он, но она ничего не ответила. — Мы требуем, чтобы все уходили отсюда. — Он обернулся к Бенедикту. — Что это с ней стряслось? — спросил он.
Бенедикт пожал плечами.
— Она устала, — ответил он.
Матушка Бернс открыла глаза.
— Клиффорд, — сказала она, — ты что, меня не знаешь?
— Нет, мать, я-то тебя знаю, — ответил он.
Матушка Бернс с минуту пристально смотрела на него, а потом повернулась на бок.
— Я уже однажды убежала, — сказала она.
— О чем она говорит? — спросил Клиффорд Бенедикта.
— Она устала, — повторил Бенедикт. — Я побуду с ней. Я постараюсь уговорить ее...
Клиффорд снова посмотрел на съежившуюся, худенькую фигурку, словно застывшую на койке, и сказал:
— Если она не изменит своего решения, придется ее отсюда вынести на руках. Оставайся пока с ней.
— Что происходит? — спросил Бенедикт.
Клиффорд многозначительно посмотрел на него.
— Ничего особенного, не о чем беспокоиться, сынок. Нас не застанут врасплох.
Он вышел, а Бенедикт отодвинул занавеску из мешковины и сквозь сеть дождя поглядел на соседние хижины. Там уже не было признаков жизни. Лагерь опустел, а дождь лил все сильнее и сильнее. Легкая водяная пыль обрызгала его лицо, он вытерся рукавом.
— Я сейчас вернусь, матушка, — пообещал он и, согнувшись, выбежал под дождь. На полянке позади хижин он увидел группу мужчин и женщин под большим тентом. Среди них он заметил и своего отца. Добрик стоял на столе и говорил:
— Мы заляжем на шлаковом навале и постараемся не подпускать их с часок или сколько сумеем. За это время вы проберетесь к шахте Робина, и наши люди спустят вас вниз. Но солдаты, даже если мы их отгоним, все равно будут продолжать нас беспокоить...
Люди напряженно слушали и время от времени поглядывали на неистово хлеставший дождь, содрогаясь при мысли о том, что им придется идти под дождем много миль через лес, чтобы укрыться в заброшенной шахте Робина, в неведомых глубинах которой когда-то погибло двенадцать человек. Там они будут прятаться, как звери, — от солдат, от проливного дождя.
Люди начали поспешно собираться. Бенедикт подошел к отцу.
— Папа, — сказал он, — тебе не холодно?
Отец посмотрел на него.
— У тебя есть шапка? — спросил он Бенедикта.
— Нет, — ответил мальчик.
Он ласково коснулся локтя отца и возвратился в сарайчик.
— Матушка Бернс, — сказал он, — сюда идут солдаты. Придется вам отсюда уходить.
До него донеслось спокойное ровное дыхание, и он на цыпочках приблизился к койке. В тишине он смотрел на нее, и ему пришло в голову, что, пожалуй, сейчас он впервые видит ее по-настоящему. Лицо матушки Бернс смягчилось во сне, но все же ему казалось, что даже сейчас оно хранит отпечаток непреклонной воли. Ее морщинистое лицо напоминало высохшее дно пруда, прорезанное бороздами; в мутном свете видны были резкие очертания ее ноздрей. Притаившись, он внимательно разглядывал ее, боясь, что она это заметит. Выражение сейчас у нее было суровое, замкнутое, и он вдруг почувствовал восхищение перед этой женщиной и, когда вспомнил, что хотел чему-то ее обучить, осознал, как он был заносчив. Он понял, что она просто нуждалась в людском обществе. Да, этой старой женщине, жившей в бедном домишке на самом краю Рва, где в бессонные ночи она часто следила, как мчатся по откосу огненные шары и с шипением падают в стоячие воды, необходимо было человеческое общество. А он являлся к ней каждое воскресное утро, уверенный, самодовольный, держа под мышкой, поближе к сердцу, свой катехизис, и важно поучал ее. «Что есть бог? Кто сотворил нас?» — спрашивал он, забывая спросить, кто она такая и откуда. Как вспышка молнии, его внезапно озарила мысль о том, какие огромные преимущества давал белый цвет кожи, даже когда это была кожа «литвацкого отребья». Очевидно, матушка Бернс и для него была всегда лишь старой негритянкой, которую он мог поучать и которой он, во имя господа бога, покровительствовал, а ведь он не посмел бы так держать себя в отношении кого-либо другого... В первый раз со дня их знакомства он почувствовал себя перед ней глупым мальчишкой.
— Миссис Бернс, — сказал Бенедикт и протянул было руку, чтобы разбудить ее, но не посмел. Теперь он робел перед ней.
Дождь безостановочно колотил по крыше, просачивался через нее, струйками падал на земляной пол. Мокрые волосы Бенедикта липли к голове, вся одежда промокла, на ресницах повисли капли и катились по щекам, — казалось, он плачет. Бенедикт был не в силах покинуть старую матушку Бернс. Сев возле ее кровати, он сложил руки на коленях, стараясь не заснуть, не пропустить то мгновение, когда она проснется. С каким выражением она на него поглядит, хотел бы он знать...
Лагерь замер, лишь ветер да дождь шумели на просторе. Он понял, что все уже ушли. Дождь стал сильнее, он барабанил по земле, словно швырял крошечные бомбы. Крыша хижины сильно протекала. Бенедикт натянул над койкой одеяло, и вода, скопившись, образовала в центре его небольшую лужицу. В хижине, кроме койки, стула и ящика, ничего не было.
Ему показалось, что сквозь шум дождя он различает ружейные выстрелы. Он подошел к двери и прислушался. Над лесом стоял густой рев дождя. Полянка мерцала в сером вечернем полумраке. И снова тревожащие звуки выстрелов... Было холодно. Бенедикт стал искать, чем бы затопить. Увидев деревянный ящик, он разломал его и сложил дощечки посреди хижины, потом подложил под них бумагу, зажег спичку и стал раздувать. От едкого дыма на глазах у Бенедикта теперь выступили настоящие слезы. Дощечки потрескивали, и он дул на них изо всех сил, чтобы они лучше разгорелись. Глаза жгло, и он снова подошел к двери, чтобы немного охладить их. Бенедикт стоял и глядел на сплошную стену ливня. Вдруг ему показалось, что по поляне кто-то идет. Он позвал.
К хижине приблизились двое мужчин. Одним из них был Клиффорд Кинг, который еще так недавно пытался уговорить матушку Бернс покинуть жилище. Он был весь в крови, — пуля пробила ему насквозь щеку. Рядом с ним шел рабочий, белый, — он тяжело дышал и на чем свет стоит проклинал дождь. Лицо его было забрызгано кровью раненого. «Какого же цвета кровь у нас и у них?» Красного, красного, красного!
— Садись, — сказал он Клиффорду, глаза которого потускнели, заволоклись пеленой, словно пруд после первого заморозка.
Обращаясь к Бенедикту, но не узнав его, Клиф сказал:
— Ну и дали же мы им жару! — Взор его немного прояснился, и легкая усмешка промелькнула на губах. Потом он вздрогнул всем телом и спросил: — Вода есть?
Бенедикт чуть не рассмеялся: вода непрерывным потоком лилась с потолка!
— Сейчас принесу, — ответил он, схватил ведро и бросился вниз по сонной лесной тропе к той самой запруде, у которой он встретился с матушкой Бернс. Он наполнил ведро и, ни разу не передохнув, дотащил его до хижины. Матушка Бернс уже поднялась, а второй мужчина, пришедший с раненым Клифом, укладывал его на койку, приговаривая:
— Простая царапина, самая простая царапина...
— Почему же ты не захватил оба ведра? — пожурила мальчика матушка Бернс.
2
Всю ночь в ушах Бенедикта раздавались стоны раненого, и он спал плохо. Он подложил под себя мешок и лежал на полу, свернувшись калачиком в углу комнаты. Было холодно. Ночью в хижину то и дело заходили рабочие проведать раненого. Пришел и Добрик. Он что-то сказал Клиффорду, но тот уже ничего не слышал. Добрик и не заметил Бенедикта. Бенедикту хотелось, как маленькому, потянуть его за пиджак, чтобы он хоть взглянул на него! Но мальчик слишком устал, чтобы двигаться. Матушка Бернс подошла к Бенедикту с чашкой крепкого чаю; он выпил, улегся поудобнее и проспал, как ему казалось, довольно долго. Сквозь сон он слышал стоны Клиффорда и почему-то раз сам закричал во сне. Потом почувствовал, как чья-то рука, от которой пахло хлебом и дрожжами, гладит его по голове.
С пола тянуло холодом, как будто земля до сих пор была мерзлой. Ему снилось, что отец Дар с тяжелым стоном поднимается на крутой холм. Спотыкаясь на каждом шагу, старик тащит на себе тяжелый крест, и римский стражник хлещет его бичом. Три гигантских креста стоят на вершине холма. На одном из них висит он, Бенедикт. Руки его пробиты острыми гвоздями, липкая кровь капает с них на землю; он чувствует, как гвозди дробят кости его ног, накрепко приколачивая его к кресту. Но его страдания лишь часть безграничных страданий, затопивших мир; сам воздух несет в себе страдания. «Ты — один из воров», — объявляет ему кто-то. И хотя Бенедикт тоже пригвожден к кресту, он не смеет взглянуть на Иисуса. «Нет, я не вор, — отвечает он шепотом. — Я прикатил тележку обратно, вы же знаете». — «Ты отребье из негритянской Ямы», — продолжает тот же голос. «Вы ошибаетесь, — думает Бенедикт про себя. — Вы не знаете меня. Ведь я вовсе не негр!» И сердце его трепещет от великой, ликующей радости. Теперь он спасен; они придут и снимут его с креста; и, конечно, будут со слезами просить у него прощения. «Да, ты не негр. Так почему же ты взобрался на крест?» — слышит он негодующие голоса. Чье это лицо?.. Не мистера ли Брилла? «Я знаю тебя!» — говорит мистер Брилл. «Но ведь я не негр!» — слышит он собственный гордый ответ. Но мистер Брилл улыбается, он уроженец Бостона и знаком с семьей Брамбо. «Я знаю тебя!» — повторяет он. «Я ходил туда только по воскресеньям, заниматься с матушкой Бернс», — объясняет Бенедикт. Перед ним уже отец Брамбо, — нет, вовсе не он, а кто-то другой, только в облике отца Брамбо. Ах, да это опять мистер Брилл! Бенедикт смеется. Его не так-то легко провести! Он знает, что отец Брамбо ушел, чтобы принести ему стакан воды, — он вернется и призовет мистера Брилла к ответу. Тому придется объяснить, что все это означает!
«У вас в распоряжении пять минут, мистер Брилл!» Лоб мистера Брилла покрывается испариной. Бенедикт спокойно ждет. «Осталось три минуты, мистер Брилл!» Отец Брамбо скажет мистеру Бриллу: «Вы никогда не были в Бостоне!» Но мистер Брилл торопливо тычет пальцем в людей, стоящих в толпе: он указывает на отца Бенедикта, на его мать, Джоя, Винса, Добрика! Подходят полицейские, хватают их и уводят прочь. «Вот видишь! Я с первого взгляда знаю, откуда вы и чем вы дышите — все вы коммунисты!» — говорит мистер Брилл, только у него теперь совсем другой голос, и это сердит Бенедикта. Почему мистер Брилл не говорит своим собственным голосом? Сейчас у него голос как у отца Брамбо; нет, скорее, как у епископа. Но почему же отец Брамбо так долго не приходит? Бенедикту уже не нужна вода. Он решил не отвечать мистеру Бриллу. В к онце концов ведь ему, Бенедикту, никто никогда даже не рассказывал о коммунизме! Мистер Брилл просто сумасшедший: он хочет всех их засадить за решетку только за то, что они из Литвацкой Ямы!
Но вот мистер Брилл снова стал показывать пальцем на людей, стоящих в толпе, и полицейские быстро хватали их. Бенедикту больно от острых гвоздей. Кто-то произнес: «Порядочные люди не висят на крестах!» Бенедикту стыдно, неловко. Голос походил на голос отца Брамбо. Нет, это произнес мистер Брилл. «Но я не цветной, я не негр!» — закричал Бенедикт. И снова все сместилось. Мистер Брилл заволновался, заспешил, чему-то обрадовался. «Отлично, — произнес голос отца Брамбо, — тогда возьмем ее. Она-то чернокожая!» И они подошли к матушке Бернс. Бенедикт напряг все силы, пытаясь оторваться от креста, и пронзительно закричал.
— Что это с мальчиком? — удивилась матушка Бернс.
Бенедикт открыл глаза, взглянул на нее и коснулся рукой ее лица. На небе занималась заря, моросил мелкий дождь. Раненый уже не стонал.
3
Бенедикт мчался во весь дух, не останавливаясь. Дождь лил по-прежнему. Отягченные водой ветви тяжело склонялись к земле и словно мучились, как недоеные коровы. Спотыкаясь и скользя по топи, мальчик торопливо продирался сквозь густую чащу; над его головой сверкал огромный зеленый свод...
В лагерь прибежал какой-то человек и, вытаращив глаза от ужаса, пронзительно закричал:
— Литвацкую Яму затопили! Они тонут, там наводнение!
Какая-то женщина дико завизжала в ответ, и все, кто оставался в лагере, выскочили из хижин и бросились в лес.
Бенедикта словно чем-то оглушило, когда он это услышал; бессмысленно глядя в мутное небо, он несколько мгновений был не в силах пошевелить пальцем и неподвижно сидел на сыром, грязном полу. Потом он стремительно выбежал из хижины матушки Бернс и бросился через поляну в лесную чащу. Мальчик не знал дороги к шахте Робина, куда ушел вместе с остальными его отец, но инстинктивно угадывал правильный путь. Ему надо было во что бы то ни стало найти их, и ради этого он готов был преодолеть все препятствия. Ноги его сами нащупывали среди топкой травы неразличимые для глаза следы старой дороги, которая теперь настолько заросла, что почти исчезла с лица земли. Он потерял представление о времени и не знал, утро сейчас или еще ночь. Он бежал, падал, снова поднимался, хватаясь за скользкие ветви; его преследовал тяжелый мускусный запах улиток и земляных червей, смешанный с сырым запахом гниющих желудей и грибной плесени. Он был все еще во власти ночных сновидений, и даже сейчас, на бегу, задыхаясь и торопясь, он безостановочно копошился в своей памяти, пытаясь вспомнить подробности своего сна. Кто это так громко кричал? Грудь его мучительно болела.
Забастовщики позабыли о солдатах, — а те, скорчившись под натянутым над их головами брезентом, проклинали мерзкую погоду и курили отсыревшие сигареты. Кони, оставленные позади, стояли под деревьями. На них сыпались капли дождя; они дергались и храпели, прижимаясь к шершавой коре. Меж деревьями как тени скользили, сливаясь с зеленью, люди, бегущие обратно в Литвацкую Яму. Солдаты слышали, как они пробираются по лесу, и гнались за ними; иногда солдаты стреляли, и звуки выстрелов тонули в промозглой сырости. Солдаты жаловались и ворчали: убийство — нехорошее дело.
Чутье подсказало Бенедикту, что он находится возле шахты. Он поднял голову, лицо у него было мокрое, ноздри еще вздрагивали от быстрого бега, и на едва пробивающихся усиках блестели, как бусинки, мелкие капли. Волосы его, прибитые дождем, липли к голове и курчавились. Он решительно юркнул в просвет меж кустов и очутился у входа в шахту; на земле лежало сломанное надшахтное перекрытие, наполовину заросшее кустарником.
Вход в шахту маскировало огромное дерево, оно росло сбоку, у самого края отверстия. За деревом прятался человек, и Бенедикт крикнул ему:
— Яму затопили! Мне нужно видеть отца!
Клеть, управляемая вручную, опустила их в звенящую темноту, глубоко вниз. Железная решетка клети со стоном отворилась. Под темными сводами вокруг костра, где тлел кокс, жалась группа мужчин и женщин. Они уже установили подпорки для перекрытия; от угольных пластов веяло холодом.
Бенедикт вошел, и все обернулись к нему, стараясь спрятать за равнодушием страх, охвативший их при его появлении. Отец его что-то мастерил. Бенедикту вдруг жадно захотелось немедленно же узнать, что это делает отец. Он подошел к нему.
— Папа, — сказал он тихо, глядя на его руки, — Яму затопили! Скорее идем туда и заберем маму, Джоя и Рудольфа!
Но отец, поглощенный своим занятием, продолжал смотреть вниз, на свою руку. На ладони у него лежала птичка, и Бенедикт увидел, что отец приспосабливает лубок к ее сломанному крылу. Она уставилась на Бенедикта маленькими, блестящими глазками.
— Папа, — повторил мальчик.
— Что сказал Добрик? — спросил его отец.
Бенедикт виновато посмотрел на него и вздрогнул.
— Но ведь мама... — начал он.
— А что будет с этими? — спросил его отец, поводя плечом. Глаза птицы, лежавшей у него на ладони, подернулись пленкой. Это был самый обыкновенный воробей. Бенедикт оглянулся на находившихся здесь людей; их было около пятидесяти человек, мужчин и женщин. Они уже не обращали на него внимания и что-то ели. Подпорки трещали. Было пыльно и холодно. Время от времени костер на миг разгорался, и тогда угольные пласты в стенах шахты ярко сверкали, отражая вспышки пламени.
Внезапно кто-то закричал. Это был сам Бенедикт; страх, который сковывал его, вдруг вырвался наружу:
— Литвацкую Яму затопили!
В ответ раздались отчаянные крики, люди бросились к клети, набились в нее, как узники, давно не видевшие свободы, и поднялись из темноты в ливень. Клеть спускалась, снова шла наверх, снова спускалась. Люди бежали напрямик через лес; намокшие ветви хлестали их по лицу.
Бенедикту хотелось, чтобы отец отдал ему воробья. Они с отцом бежали рядом, и теперь, когда у него на глазах отец сразу весь побледнел и осунулся, страх еще сильнее терзал Бенедикта... Он сжимал кулаки, но говорить не мог. Дождь лил как из ведра. Птичка на мгновение приоткрыла глаза и раздвинула желтый клюв.
У Бенедикта кололо в боку, словно туда набился песок. Лицо отца застыло от ужаса, губы побелели. Огромные лужи внезапно возникали у них под ногами, и они по щиколотку проваливались в них. Шумливые потоки воды, пробиваясь сквозь густую траву, мчались вместе с ними, словно их обуревал тот же ужас.
Какой-то мужчина громко застонал, когда они его обогнали; еще кто-то вдруг свалился на землю и лежал, не шевелясь, глядя в небо пустыми глазами; женщина протянула к ним руки, словно молила, чтобы они помогли ей быстрее бежать. Бенедикт взглянул на нее на бегу. «Миссис Тубелис!» — вскричал он мысленно, но был не в состоянии остановиться.
Отец задыхался; на лице его выступил пот. Бенедикт что-то крикнул ему, но голос его не долетел до отца. Тогда мальчик вцепился в его рукав и повис на нем, сотрясаясь от слез. Отец прислонился к дереву и закрыл глаза.
— Папа! — закричал Бенедикт, схватил зажатую в кулак руку отца и разогнул пальцы. Крылышки воробья затрепетали, головка с полузакрытыми глазами упала набок. Отец посмотрел на птичку и приложил ее к уху, как часы. Потом поглядел на Бенедикта, перевел глаза на свою ладонь, нагнулся и положил воробья на землю.
Дальше они уже не бежали.
Дюны представляли собой сплошное море багрового цвета. Бенедикт с отцом выше щиколоток погрузились в это кровавое месиво. Потоки воды бороздили холмы рудных месторождений. Ручеек с горькой водой разбух и вышел из своих берегов; похожий теперь на стремительно движущееся вперед озеро, он с грохотом несся по дюнам, перекатывался через покрытое шлаком плоскогорье и низвергал тонны воды на Литвацкую Яму. Водопропускная дренажная труба давно уже отказалась работать: ее заклинило, как пробкой, вырванным с корнем пнем, и поток перекатывался через нее. Там, где когда-то проходил Большой Ров, теперь яростно пенилось бушующее море. Высота воды доходила до двадцати футов. Ближайшие дома уже затопило по крышу, но вода все прибывала, бурно растекаясь по долине. На крышах вдоль карнизов жались куры и разные домашние животные, отчаянно кукарекали петухи.
Среди затопленных домов уже сновали лодки. Горная авеню совершенно исчезла из виду. Вода, поднявшись до Тенистой улицы и авеню Вашингтона, повернула к западу, затопила церковь и дошла до свалки. Отбросы, в огромном количестве всплывшие на поверхность, неслись дальше вместе с водой. Труба над печью для сжигания мусора еще виднелась среди бескрайнего моря, но дым больше не вился из нее. Мутные пенистые воды дошли до подножья Медового холма и угрожали затопить лестницу.
Стоя на вершине холма, Бенедикт жадно искал глазами свой дом. Вот он! Вода поднялась до окон спальни, на коньке крыши, как на насесте, уселись куры. Потоком уносило корову, она жалобно мычала. Выла тонущая собака.
Медовый холм был запружен народом. На истоптанной траве были разбросаны вещи жителей Литвацкой Ямы. Матери крепко привязали к себе младенцев. Мужчины бежали, спотыкаясь и чуть не падая, по скользкой грязной траве к лодкам и снова гребли к поселку. Огромный костер пылал на холме; дым поднимался высоко в небо. На востоке горизонт снова озаряли вспышки огня, и те, кто заметил их в наступившей темноте, поняли, что на заводе опять идет выплавка стали.
Они пробирались сквозь толпу, они искали своих. Забрезжил рассвет, и на холме прибавилось людей из долины. Пришли и жители города посмотреть на кончину Литвацкой Ямы. Ближе к серому полдню вернулись солдаты; они вели с собой беглецов, пойманных в лесу. Поглядывая злыми, налитыми кровью глазами вниз на тонущий в водовороте поселок, они верхом проехали по холму. Солдаты устали; их обуревала жажда уничтожения. Добрика везли на лошади. У него были связаны руки, но на его окровавленном лице дрожала улыбка. Солдаты, подхлестывая коней, повернули к городу; там они сдали забастовщиков в тюрьму, а из тюрьмы тех вернули обратно на работу — и еще сильней задымили трубы завода.
— Мама! — надрывно закричал Бенедикт.
Она сидела оцепеневшая от горя на сырой земле, прижимая Рудольфа к своей груди. Бенедикт стал трясти ее, стараясь повернуть к себе ее лицо.
— Мама, мама! — твердил он, и потом выпрямился и крикнул, что было силы: — Папа!
Когда подошел отец, плечи ее сразу поникли. Отец сел на землю рядом с ней, обнял ее и положил ее голову к себе на колени. Бенедикту показалось, что мать затряслась от рыданий, но она подняла голову, и мальчик увидел, что она не плачет. Ее восковое лицо словно застыло. Она что-то шепнула отцу, очевидно, такое, чего Бенедикт не должен был слышать.
— Идем, — сказал отец, резко поднимаясь с земли.
Они нашли лодку и отправились в путь. Они плыли мимо церкви. Бенедикт взглянул на нее: крыша была сорвана; вода поднялась по ступеням и через распахнувшиеся двери проникла внутрь; она помедлила у входа, будто преклонила колени, потом, трижды ударившись грудью, взобралась на ступеньки и поглотила алтарь, распятого Христа, канделябры с огромными свечами и, выбравшись из ризницы, с шумом ринулась в сад. Отсюда вода проникла в дом священника и по пути утопила котят. Но в доме она не нашла тех, кого искала. Там никого уже не было. Отец Дар бежал, не закончив укладываться, и вода подхватила его сундук, выкинула из верхнего окна и поволокла за собой по улице. Кошку прибило к дымовой трубе и, словно и в смерти не желая покинуть мать, ее окружили четыре мертвых детеныша. Из разбитых окон выплывала бумага, — казалось, в доме ее неиссякаемый запас: листы мчались за листами, кружились на поверхности мутного потока, а потом, оторвавшись друг от друга, неслись в разные стороны. Какой-то портрет в позолоченной деревянной раме стучался в разбитое окно и, казалось, пристально глядел на окружающее.
Они гребли к Горной авеню, с трудом прокладывая путь среди колышущихся на воде столов и стульев, барахтающихся коз и тонущих петухов. Вокруг них, пузырясь, как если б она облегала распухшие тела утопленников, плавала разная одежда. Вырванное с корнем дерево удивленно покачивалось на волнах меж домами. Газета с черным заголовком статьи, посвященной Сакко и Ванцетти — двум мученикам-итальянцам, — набухнув, расползлась на мокрые лоскуты.
Сначала им никак не удавалось найти свой дом: над водой поднимались лишь верхние окна. Они сделали не одну попытку проникнуть внутрь через какое-нибудь из них. И когда наконец они очутились в затопленной комнате, они сразу же увидели его. Уткнувшись лицом в темную воду, он качался на поверхности, время от времени мягко ударяясь лбом о домашний алтарь Бенедикта.
— Джой! -дико завопил Бенедикт, как будто тот мог его услышать.
4
Через день после похорон, состоявшихся в Ирландской церкви, отец Брамбо, который тоже там присутствовал, разыскал Бенедикта. Он сказал:
— Я и понятия не имел, Бенедикт, что утонувший был твоим братом. Только сегодня узнал об этом.
Они шли по городу. У Бенедикта в руках был кулек с апельсинами; он купил их на деньги, оставшиеся от тех, что собрали по подписке на похороны. Мальчик ничего не ответил.
— У тебя ведь есть еще брат, не так ли? — спросил отец Брамбо.
Бенедикт утвердительно кивнул.
— Что ты несешь? — поинтересовался священник.
— Апельсины, — ответил Бенедикт.
Священник поглядел на него, но Бенедикт больше ничего не прибавил. Стоял ясный день. Солнце мирно сияло, словно само утомилось от недавнего зноя. Было свежо. Несколько зеленых листьев кружились в воздухе. На минуту показалось, что уже наступил октябрь.
Отец Брамбо взял Бенедикта под руку.
— Пойдем со мной, — сказал он, — я хочу тебе кое-что показать.
Они свернули с главной улицы в тень переулка и прошли много кварталов, минуя знакомые палисадники с газонами и кусты сирени, но Бенедикт едва замечал их. Потом дома стали чередоваться с незастроенными участками, где играли дети победнее. Наконец они увидели впереди огромный пустой участок, и отец Брамбо прибавил шагу, увлекая за собой Бенедикта. Бенедикт смотрел на него спокойным изучающим взглядом. У священника возбужденно блестели глаза, он торопился вперед. На участке уже изо дня в день работали землемеры, им не могли помешать никакие события. Сейчас они втыкали в землю колышки. Отец Брамбо потащил Бенедикта к ним и спросил одного из них:
— Как дела?
— Прекрасно, — ответил землемер, глядя в измерительный прибор.
Отец Брамбо пояснил Бенедикту:
— Через неделю они разметят уже всю площадку.
Над городом носилась колючая рудная пыль. Завод снова работал на полную мощность, и внизу, у реки, даже небо казалось закопченным. Бенедикт глядел на гигантское огненное облако, медленно плывущее по небу. Ему хотелось спросить: «Где отец Дар?» Он посмотрел на отца Брамбо; ему было интересно, какое выражение появится при его вопросе на этом аристократическом лице. Сейчас молодой священник был всецело поглощен наблюдением за работой землемеров. Конечно, в первую минуту он будет озадачен таким вопросом и, может быть, немного обижен, но затем на его лице появится выражение, которое будет прекрасно соответствовать следующим успокоительным словам: «Отец Дар уехал в богадельню, где чувствует себя отлично».
Но Бенедикт ни о чем не спросил. Отец Брамбо повернулся к нему.
— Ее закончат через год, — сказал он. — Ровно через год!
В глазах его отразилось ликование, но в ответ этому чужому человеку, который глядел на него, вскинув голову над белым воротником, Бенедикт только пробормотал:
— Да, отец мой.
— И тогда, — придвигаясь к нему, продолжал монотонно и тихо отец Брамбо, словно слова его были так прекрасны, что особой выразительности для них не требовалось, — и тогда ты, Бенедикт, и я — мы вместе отслужим первую обедню. Ты и я.
— Да, отец мой, — отвечал Бенедикт.
Он снова взглянул на бурую почву участка, где люди чертили в разных направлениях белые линии. Багровое облако проплыло над его головой. Он повернулся и зашагал прочь. Он слышал, как молодой священник закричал ему вслед и в голосе его звучало удивление, даже легкая укоризна:
— Бенедикт!
Но мальчик не обернулся. Он прошел через весь город к Медовому холму и остановился на верху лестницы, спускавшейся вниз, к вязкому дну Литвацкой Ямы, где стояла вода глубиной в несколько футов, в темной мути которой еще плавали издохшие животные. Бенедикт огляделся. Здесь он стоял когда-то с отцом Брамбо.
Далеко, по другую сторону долины, на железнодорожных путях показался состав, груженный раскаленным шлаком, и Бенедикт подождал, пока первая огненная глыба не помчалась, подскакивая, вниз по откосу. Церковь стояла без крыши, будто налетевший откуда-то яростный шквал сбил ее, а вокруг снова копошились фигурки людей. Колокольня исчезла; ему казалось, что взгляд его проникает внутрь полузатопленной церкви, в ту темную глубину, откуда возносились к небу его мольбы, его молитвы, бесчисленные молитвы его детства, они бомбардировали небеса, весь воздух был пропитан ими, и в конце концов они бесследно улетучились, а от церкви остался лишь остов, обреченный на разрушение... Само здание — это ведь одна скорлупа, как объяснял ему отец Брамбо, А куда, хотел бы он знать, отлетела ее душа?
Первый огненный шар, кувыркаясь, понесся вниз по скату и с громким шипением, извергая дым, исчез в глубине вод. За ним последовал второй: пронзая воздух огненными искрами, которые взрывались, шлепаясь в воду, он быстро катился, пока тоже не скользнул в мутные воды. Шлаковый отвал дымился, как и прежде.
— Бенни, я пришел.
Бенедикт не обернулся. Он уже заметил брата, — тот вернулся неизвестно откуда, — когда Винс стоял в церкви и плакал, прячась в толпе из боязни попасться на глаза отцу.
— Папа хочет, чтобы ты шел домой, — сказал мальчик.
Винс отвел желтые глаза от затопленной долины и сплюнул.
— Зачем? — спросил он.
Бенедикт ответил:
— Он хочет видеть тебя.
— Нет! — произнес Винс.
Бенедикт повернулся к нему. Винс, в драном коричневом свитере, который мешком висел на его исхудалом теле, в грязных, засаленных штанах, глядел на брата непокорным, затравленным взглядом.
— Пойдем домой, — сказал ему Бенедикт.
— Где вы живете?
— На Карнеги, — ответил Бенедикт. — Мы получили две комнаты.
— А где я буду спать?
Бенедикт помедлил.
— Со мной, — произнес он.
Горькие слезы обожгли желтые глаза.
— С тобой спал Джой, — сказал Винс. — Я буду всегда напоминать тебе о нем.
Он подтянул штаны и еще раз сплюнул.
— Нет, — заявил он. — Я не вернусь домой. Пойду опять бродяжить. Я всегда ненавидел это место, этот город. Никто по мне скучать не будет. — Он поглядел на полыхающий горизонт и плюнул. — А, да провались все к черту! — сказал он и зашагал прочь.
Бенедикт смотрел ему вслед. На этот раз Винс не бежал, а шел неторопливой походкой.
Бенедикт повернулся и побрел к городу, возвращаясь по тому же самому пути, который они когда-то проделали вместе с отцом Даром. Он остановился перед тюрьмой и посмотрел на нее; затем собрался с силами и открыл тяжелую, кованую дверь, прижимая к себе кулечек с апельсинами.
Он сразу узнал офицера за конторкой:
— Мое имя Бенедикт Блуманис. Вы меня помните? Офицер поглядел на него.
— Да, помню. Но штраф за тебя уплатили, разве ты не знаешь? Старый священник заплатил за тебя. Ты пришел сюда по этому поводу?
Бенедикт поднял на него глаза и тихо сказал:
— Нет, я пришел проведать одного человека. И принес ему несколько апельсинов.
— Кого же ты пришел проведать?
— Добрика.
Офицер расхохотался.
— Ты хочешь видеть Добрика? Да ведь он коммунист!
Бенедикт смотрел мимо него в коридор, по которому его когда-то волокли.
— Да, — ответил он. — Коммунист.
Примечания
1
«Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй!» (греч.)
(обратно)2
«Верую в единого бога, отца всемогущего, творца неба и земли и всего видимого и невидимого...» (лат.)
(обратно)3
«Во имя отца и сына и святого духа. Аминь» (лат.).
(обратно)4
«Господь с вами, И со духом твоим. Помолимся... Во веки веков. Аминь» (лат.).
(обратно)5
«Исповедуюсь богу всемогущему, святой Марии приснодеве, святому Михаилу-архангелу...»(лат.)
(обратно)6
«Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Войду в алтарь господа»(лат.).
(обратно)7
«К богу, который веселит все дни юности моей...»(лат.)
(обратно)8
К богу, который веселит все дни юности моей (лат.).
(обратно)9
Да помилует вас всемогущий бог (лат.).
(обратно)10
Господи, услыши молитву мою (лат.).
(обратно)11
И вопль мой к тебе да приидет (лат.).
(обратно)12
Господь с вами (лат.).
(обратно)13
И со духом твоим (лат.).
(обратно)14
Взойду к алтарю божию (лат.).
(обратно)15
К богу, который веселит все дни юности моей (лат.).
(обратно)16
Суди меня, боже, и вниди в тяжбу... (лат.)
(обратно)17
Со мною о народе святом... (лат.)
(обратно)18
Свет твой и истину твою открой... (лат.)
(обратно)19
«Господи, помилуй! Христе, помилуй!» (греч.).
(обратно)20
«Под этим знаком победишь» (лат.). (В традиционном переводе: «Сим победиши».) По христианской легенде, императору Константину Великому (306-337) накануне решающего сражения явился в небесах крест с приведенными выше словами.
(обратно)21
Американская игра: «подковы» бросают на колышки, вбитые в землю.
(обратно)22
«Господи, помилуй! Христе, помилуй!» (греч.).
(обратно)



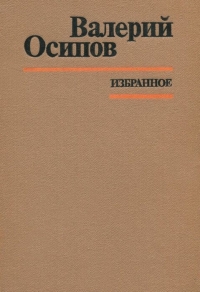

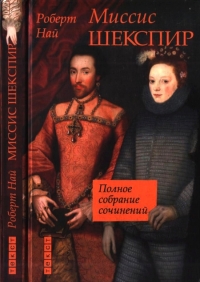
Комментарии к книге «Долина в огне», Филипп Боносский
Всего 0 комментариев