Юрий Владимирович Давыдов Синие тюльпаны
1
Он любил полуподвальные рюмочные, в питерском просторечии – низок. Там пахло огородами и взморьем: лучком, укропчиком, килечкой. Добром поминал завсегдатай довоенное пиво «Красная Бавария», а граненую стопку называл «ударом». Посетитель залетный, пусть чем-то обозленный, взъерошенный, тотчас покорялся общему благорасположению. Милию же Алексеевичу эти плебейские рюмочные дарили минутное забвение опасности, незримой и всепроникающей.
Однако кто он такой, этот пожилой плешивый холостяк без особых примет, если не считать подозрительную недостачу двух пальцев на правой руке?
Избегая эмоций, протокольно укажем на его почти мистическую связь с товарищем Сталиным. Или – Лютым. Так подколодный Башуцкий честил нашего вождя и учителя. Смерть Лютого воскресила Башуцкого. Он дорого дал бы, чтобы на том поставить точку. Увы, бояре сместили Хрущева, связь возобновилась. Говорили, что вождь наш и учитель, кое в чем ошибаясь, в общем-то был прав и что с повальной реабилитацией врагов народа наломали дров. Милий же Алексеевич, чудак эдакий, предпочел бы удавиться, нежели вернуться туда, где «вечно пляшут и поют». К тому же ему очень не хотелось огорчать добрых соотечественников – тех, что видели в зеках ненасытных нахлебников, даром жрущих пайку за пайкой.
Смолоду застенчивый, был он теперь перепуганным интеллигентиком. До того перепуганным, что и в сортир-то мешкал сунуться, если вместо галантного «Туалет» или латинских литеров «WC», знака нашего интимного сближения с Западом, чернели глазницы двух нолей, заменяющих, как известно, гриф «секретно».
Рукавом и то опасался Милий Алексеевич задеть Государственную Тайну. Вот давеча в архиве: позвольте, мол, взглянуть, что там такое в документальном фонде правительственного Еврейского комитета? Отрезали, как в трибунале: «На секретном хранении!» Ему бы возроптать – помилуйте, комитет прошлого века, а на дворе-то вторая половина двадцатого; нет-с, ножкой пришаркнул, извините.
Вторым пунктиком были аллюзии, намеки.
После войны, года за два до ареста, приохотился Башуцкий к историческим сюжетам. Пописывал, публиковал. Знакомые историки охотно отдавали неофита литераторам; литераторы еще охотнее уступали неофита историкам. Башуцкому хотелось именоваться красиво – новеллист, эссеист. Да тут как назло подоспел скуловоротный аврал. В борьбе с тлетворной иностранщиной не щадили терминов, оскорбительных для нации. Ну, вроде «безе», что в переводе с французского – «поцелуй», а в кондитерском ассортименте – пирожное. Правда, когда Башуцкий выполз из лагерей, в свободном полете витало слово «реабилитация». Конечно, следовало бы говорить по-русски «восстановление чести и достоинства», но это уж звучало бы совсем дико и чуждо. Короче, ничего, кроме «очеркист», к тому ж, увы, схожего на слух с «чекист», Башуцкому не оставалось.
Милий Алексеевич и теперь, после лагеря, пробавлялся историческими сюжетами, и притом в самом благонамеренном духе. Дух сей требовал отсутствия аллюзий. Они, однако, выскакива-ли, как моськи из подворотни. Два случая в особенности подтверждали необходимость бдительности.
Однажды изобразил Башуцкий состояние человека в час жандармского обыска. Получилось недурно, да вышло дурно. Сосков, назначенный в редакторы из топтунов, грянул: «Это что?! Это о себе, что ли?!» – тут и блеснули нашему очеркисту браслеты-наручники.
В другой раз цитировал он журнал «Русская старина», а именно: огромная, уродливая Тайная Канцелярия высилась на Лубянке. Добро бы огромная, а то и уродливая! Редактор Кротов покосился на Башуцкого, как на провокатора Азефа, Башуцкий устыдился – ах, черт дери, чуть было человека под монастырь не подвел.
Опять и опять обнаружилась связь с т. Сталиным. Это ж он, Лютый, объявил исторические параллели рискованными; не для науки, конечно, а для тех, кто на параллели отваживается. Да и т. Мао шутил зловеще: обращение к историческим сюжетам как род антипартийной деятельности – это неплохо придумано.
И параллели и деятельность – калашный ряд, а Милию Алексеевичу лишь бы на аллюзиях не поскользнуться. Неистребимы! Раскроешь словарь живого великорусского языка, извольте радоваться: Лубянка – балаган, а лубяные глаза – бесстыжие. О великий, о могучий, неплохо придумано.
Пушкин медлил публикацией «Бориса Годунова», опасаясь дать «повод применениям, намекам, „allusions“…» Вся штука в том, чтобы не давать повода. Но тогда – руки в гору: отринь задуманное. А задумал Башуцкий рассказать кое-что о высшей, то есть тайной полиции. Ее жрецов в темно-голубых мундирах один старый юрист называл Синими тюльпанами.
Взглянуть на историю с «полицейского ракурса» – мысль узкая, мысль плоская? Но если от слитного вздоха всех заключенных когда-нибудь падут тюремные твердыни, то и карманные фонарики, соединившись в прожектор, многое высветят. К тому же мысль эту, как случайно обнаружил Башуцкий, не отвергли и на «другом берегу».
Роман Набокова «Другие берега» разделял в ту пору участь многих книг: отбывал срок в библиотечном отделе, отмеченном административной печатью Люцифера – № 13. В палестинах, Башуцкому незабвенных, Отдельный лагерный пункт № 13 был штрафным.
«Другие берега» достались Милию Алексеевичу не из сейфа, близнеца карцера, не из рук библиотекаря, побратима вертухая. Господи, разве не следовало избегать книжной контрабанды по той же причине, по какой шарахаешься секретности? Но тут уж Милий Алексеевич не владел собой. В подпольном чтении обретал он чудные мгновения зека, получившего пропуск на бесконвойное хождение. Это ж, милые вы мои, не лопатки на спине, а крылушки: лети! Да, остаешься в лагерных пределах, но уже не льешься «каплей с массами» в бригадных колоннах-сороконожках.
Книгу надо было вернуть утром. Милий Алексеевич управился к рассвету. И ладошки потер, выдернув абзацик: о том, стало быть, что русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения: «Во-первых, как своеобразную эволюцию полиции (странно безликой и как бы даже отвлеченной силы, иногда работающей в пустоте, иногда беспомощной, а иногда превосходящей правительство в зверствах – и ныне достигшей такого расцвета); и, во-вторых, как развитие изумительной, вольнолюбивой культуры».
С вольнолюбивой культурой все было ясно. А с эволюцией… гм… «достигшей такого расцвета». Роман написан в середине нашего века. «Ныне достигшей»? Выходит, расцвет политической полиции соотносил автор с той же серединой нашего века. Положим, действитель-но расцвет. Но при чем здесь эволюция? Разве что своеобразная: большой скачок пятками назад… Но это было лишь предположением, и Башуцкий обратился к приват-доценту Тельбергу.
2
Приват-доцент был моложав. Его русая бородка еженедельно встречалась с парикмахером. Был он в добротной тройке, сшитой явно не Ленодеждой. Манжеты и стоячий воротничок подчеркивали свежую твердость дикции.
Он говорил:
– Там, где вся полнота власти в руках одного лица, там политическое преступление воспринимается последним как посягательство лично на него. Там, где отсутствуют традиции закона, где рабством пропитана вся общественная среда, там политическое преследование обращается в первобытную месть.
Вольно было приват-доценту императорского университета глаголить так в 1912 году, но каково слушать такое во второй половине столетия, о котором не скажешь, что оно хотя и безумно, но мудро?
А Тельберг продолжал:
– При московских царях круг политических преступлений допускал широкое толкование. К ним относилось все, что таковым считал носитель верховной власти. Группа слов – «неприс-тойные», «непригожие», «неподобные» составляет колоритную черту московской жизни. Эта группа слов вмещала настолько разнообразные элементы, что трудно дать им какое-либо общее определение. Во всяком случае, это такие слова, в которых московская подозрительность и щепетильность усматривали оскорбление государя или, что то же, его царства.
Как и весь советский народ, Милий Алексеевич прекрасно знал «силу слов». В лекции приват-доцента называлась она изветом. Слушая Тельберга, нельзя было не подивиться глубинности корней. Удивившись, нельзя было не признать эпигонством достижения современной Милию Алексеевичу администрации. Возродила традицию, что похвально, но все же эпигонство.
– Извещения о «государьских лиходеях» почиталось нравственным долгом, невозмутимо трактовал приват-доцент. – Постепенно политический извет обрел черты обязанности, подкрепленной угрозой: уклонившегося от доноса «казнити смертию безо всякия пощады». Эта обязанность, эта угроза рушила скрепы родственные, семейные, супружеские. Если жены и дети – цитирую – «тех изменников про тое измену ведали, и их по тому же казнити смертию». Но это не все. Цитирую: «А буде кто изменит, а после его в московском государстве останутся отец или мати, или братья родные и неродные, или дядья или иной кто в роду, да буде допряма сыщется, что они про измену ведали, и их казнити смертию»…
Пахнуло вонючим и тухлым: в пересылке, что «в городе Горьком, где ясные зорьки», дети «государьских лиходеев» запалили тюфяки и одежу и вот задыхались в самосожжении вонючем и тухлом. А краем глаза видел Милий Алексеевич костер, вокруг костра сидели пионеры, слушали про Павлика Морозова. Славь беднягу иль ославь беднягу, но бери в расчет исконную обязанность доносить.
Тельберг помедлил, призывая Башуцкого сосредоточиться. Продолжил:
– Главные черты тогдашнего политического розыска: тайна и срочность. «Ночным временем, чтобы никому не было ведомо». Все вершилось спешно. Тотчас пускали в ход пыточные средства, тотчас гнали гонцов к государю. И вот еще что: всех сознавшихся пытали вторично, добиваясь оговора сообщников…
Ладони Башуцкого вспотели липким, гадким тогдашним потом. Взяли его ради вала, как берут рыбью молодь. Нет, не пытали. А только пригрозили. В подвале, огромном и сводчатом, за одиноким письменным столом сидел полковник государственной безопасности в мешковатом пехотном кителе. Внушал: органы не прибегают к физическим методам, но поскольку вы, Башуцкий, не желаете разоружаться, вынуть из-за пазухи антисоветские камни… Лицо Милия Алексеевича сделалось алебастровым, он это почувствовал; гадко и липко вспотели ладони. Странно, однако: он не побоев испугался, нет, унизительно-постыдной утраты… коленных чашечек. Мелко-мелко, часто-часто дрожали они, вдруг крупно и резко вспрыгивали и опять дрожали мелко-мелко, часто-часто, вот-вот брякнут на каменный пол, да и покатятся к ногам полковника в желтых полуботинках… «А там, знаете, бьют кулаком наотмашь, по-мужицки бьют», – сказал беззубый старик. Давно сказал, на этапных нарах, но только сейчас, слушая Тельберга, пронзило Милия Алексеевича: по-мужицки бьют, как и Тельберговы «персонажи», вот разве что не умели они одним ударом вышибать дитя из лона беременной женщины, а эти-то, в желтых полуботинках, эти умели…
– Нашим предкам, – итожил приват-доцент, – чужда была вычурная фантазия средневековых инквизиторов, пытки во времена московских царей отличались однообразной жестокостью.
С одной стороны, приемлемо: на Западе пытали круче, нежели на Руси; с другой – уничижительно: вроде бы россиянам недоставало воображения. К тому же немец, пусть и обруселый, примазался к «нашим предкам». То-то высек бы этого Тельберга сурово-неистовый Валериан Шагренев, не только литературовед, но и один из лучших знатоков русского самосознания. Хорошо еще, что примкнувший к «нашим предкам» не кивнул на пушкинское – образ правления дает каждому народу особеную физиономию.
Башуцкий вздохнул и закрыл книгу, изданную в 1912 году. Ничего не оставалось, как только признать однообразие жестокости и жестокость однообразия.
3
Он никогда не видел, как отворяют Секретные Комнаты. Нынче сподобился. И не робел «секретности»: в Особые Кладовые, находившиеся в старинном доме у Невы, явился об руку с родственником.
Секретная Комната не имела прямого отношения к синим тюльпанам, но Башуцкий, по обыкновению, примеривался и принюхивался к избранному сюжету. Он уже и в Москву ездил, сидел в архиве на Пироговской, вникая в бумаги Третьего отделения и штаба корпуса жандармов. Потом вернулся и… и опять корпел в читальном зале на набережной Красного флота; будто наперекор кому-то по-старому называл ее Английской.
Листая одно, другое, третье, клевал по зернышку.
Наконец забрел в фонд 1353, двадцать шесть единиц хранений тридцатых годов прошлого столетия – дела Временной комиссии по разбору архивов Государственного и Сенатского.
Эти документы, зевая, отложил бы в сторону соискатель ученой степени. Не то наш очеркист. Почерк башмачкиных, кляксы башмачкиных, будни башмачкиных. Не бросили векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда? Да ведь жили на белом свете, жили и обратились в топь и глину петербургских погостов.
Башуцкие, выходцы с песчаных берегов Десны, давно угнездились на гранитных, невских – люди негромкие, под пером Карамзина не блистали. Милий же Алексеевич трепетал жухлым листком какой-то высохшей ветки.
В его школьные годы наилучшим считалось происхождение пролетарское, «от станка» – гарантия принадлежности к первому сорту вольнонаемных граждан. Теперь на котурнах было происхождение крестьянское, «от сохи» патент корневого превосходства. Так и подмывало вопросить: а ты, Микула Селянинович, от какой «сохи» – которую ликвидировали как класс или которая ликвидировала класс? Не праздный вопросец! Еще в прошлом веке мужик вожделел не только помещичью, но и кулацкую собственность. Стало быть, эту самую ликвидацию держал на уме задолго до Эпштейна, наркома земледелия. Но Милий Алексеевич сторонился нынешних богоносцев: от них шибало поножовщиной.
Не имея в тылу ни «станка», ни «сохи», Башуцкий не гордился своими предками. А мальчик был. Был мальчик!
Семья Калашниковых жила в том же парадном, что и Башуцкие. Мишенька родился уже после того, как ополченец Калашников принял окопную смерть. Мальчик дивил Башуцкого не повтором отцовских черт, дело заурядное, а повтором отцовскою «маневра»: скорым шагом пересечет двор, круто, под прямым углом свернет к парадному и рывком откроет дверь. Точь-в-точь отец. А ведь не видел, никогда не видел… Ну, генетики объяснили бы, что и почему, Милию Алексеевичу объяснения были без нужды. Глядя на Мишеньку, испытывал он благодарность к таинственным токам бытия, звучавшим нежно, как ивовая дудочка за холмом.
И вот она зазвучала. Он листал, как ласкал, невзрачную «единицу хранения», да вдруг и почувствовал спиритическую дрожь пальцев – из штатного расписания одной тысячи тринадцати сенатских чиновников выглянул… Башуцкий! Мелкая сошка, коллежский регистратор, 24 рубля 05 копеек жалованья; «состоял при обер-прокурорском столе» и только что был прикомандирован «для поручений к сенатору Маврину…». Никто на всем свете, ни один из мириада вот в эту минуту не думал о каком-то давным-давно не существующем регистраторе, а он, Милий Башуцкий, думал, тем самым возобновив его бытие, и, словно бы отчалив, они вместе прибыли на Васильевский остров, где имело быть вскрытие Секретной Комнаты.
Уф, духота! Солдаты держат в кулаках горящие свечи. Тощий, долговязый сенатор Маврин, с неожиданным при таком телосложении пухлым лицом, морщится от приступа почечуя.
Увесистые печати Секретной Комнаты были в легоньких серебряных футлярчиках. Печати пересчитали, футлярчики сняли и удостоверились в девственности сургуча. Засим в узкие скважины ключи влагали и, сопя, ворочали трудно.
Высокая дверь отворилась тяжело, медленно, тьма плеснула из Секретной Комнаты и сухо, как коленкор, треснула в пламени свечей. Сенатор, вытянув перст, подал унтеру знак: «Начинай!» Коллежский регистратор Башуцкий обмакнул перо.
Вынесли из Секретной Комнаты и внесли в несекретную ведомость:
Чайники жестяные – 2,
флейты сломанные – 2,
ножик с деревянным черенком – 1,
кастрюль медных – 2,
лейка садовая – 1,
тарелок оловянных – 7,
подушка пуховая сопревшая – 1,
кафтан красный изодранный – 1,
тюфяк волосяной – 1.
Историко-лирическое волнение Милия Алексеевича сменилось досадой, усталостью и легким поташниванием от голода, но тут солдаты, пыхтя и топая, поволокли пудовые «емкости».
Сундуки обросли пылью, как ягелем. Пахло, однако, не мхами, а водорослями. В восемьсот двадцать четвертом, в день великого наводнения, волны вломились и в этот полуподвал, норовя похитить Государственную Тайну. Не сдюжив, отметили плесенью.
Принимать бумаги осьмнадцатого столетия сенатор Маврин обязан был в присутствии тайного советника Поленова.
Особая Кладовая находилась на Васильевском острове, а тайный советник Поленов нес бремя службы в Иностранной коллегии, на Дворцовой площади.
Регистратор Башуцкий сел в казенный ялик; очеркист Башуцкий тоже. Было огромное небо и кучевые облака, марило солнышко. Ялечник в холщовой рубахе распояскою налег на весла. Тотчас Милию Алексеевичу захотелось жить вольно.
Коллежский регистратор покачал головой. Он жил смирно. Ходил в должность, компанейски поднимал чарку, стрелял куликов на Голодае и помышлял о сватовстве, само собой, не к титулованной богачке, однако и не к мещаночке-бесприданнице. Помышлял, разумеется, и о производстве в следующий чин, но выше асессорского не заносился.
Поглядывая на регистратора, наш очеркист определил, что он, Милий Башуцкий, пожалуй, вдвое старше предка. А тот не без удовольствия обнаружил в потомке фамильные признаки. Мягкие линии рта и подбородка, взгляд несколько исподлобья, нет-нет, не угрюмый, упаси Боже, а всего-навсего застенчивый. Да и руки, руки, знаете ли, самой природой зачисленные в канцелярские принадлежности. Но что это, батюшки светы? Недостача мизинца и безымянного огорчила и озадачила сенатского скорописца.
Дело было такое.
Лютый еще жил в Кремле и на Ближней даче, и потому зек Башуцкий доходил на вятской таежной делянке. Выдалась черная минута, решился на преступление, именуемое по науке саботажем, или – того хлеще экономической контрреволюцией, а по-лагерному – саморубом. Клади ладонь на пенек, жахни топором – амба. Гражданин начальник, известно, кулак занесет: «Ты что же, падло, стране кубики давать не желаешь? Даром жрать хочешь, вражина?!» Заживет рука, найдет гражданин начальник напарника, тоже однорукого, привязывайте, скажет, свои грабки к лучковой пиле и валяйте, гады, чтоб пар из жопы… Но покамест заживет, малость оклемаешься в больничке… Черная выдалась минута, зек Башуцкий занес топор, каленое солнце пополам, и будто железной метлой от макушки до пяток. Да вот ведь слевшил Башуцкий, отсек лишь безымянный с мизинцем.
Расскажешь ли об этом человеку из невозвратно минувшего? Может, проникнется регистратор отчаянностью зека, но не поймет, нипочем не поймет, что сие значит – экономическая контрреволюция?
Огромное было небо и огромные облака, воды чистые, без отравы, широко текли, можно было и о волюшке помечтать.
4
Коллегия иностранных дел занимала часть Главного штаба. Из окна было видно, как галопируют фельдъегери и подкатывают к Зимнему, грузно колыхаясь, дворцовые экипажи, от всех прочих отличимые сразу – кучер в ливрее, на лошадях шоры. Но тайный советник Поленов не глазел по сторонам. Привалившись брюхом к письменному столу, он не отрывался от бумаг. Его формализм был бездушным, когда этого требовала служба: тайный советник управлял хозяйственным департаментом. И одухотворенным, когда этого требовало служение: тайный советник заведовал архивом.
История государства Российского принадлежала государям Всероссийским. В тревогах начала царствования император Николай Павлович не устранился от досмотра портфелей старшего брата, почившего в бозе. И лично опечатывал бумаги о происшествии 14 декабря. А потом и те, что отразили польский бунт. Осязая золотистый сургуч, тайный советник благоговел, как при выносе регалий из Грановитой палаты.
Пустельги видят в нем Ваньку-ключника провиантского магазейна, где шныряют крысы. Невежды! Он несет караул у Врат Истории. Малейший шорох – и бывший капитан лейб-гвардии Преображенского гаркнет: «Стой! Кто идет?!»
Он выслушал нарочного с Васильевского острова, гукнул, как филин, глазки блеснули. Дылде Маврину разбор сундуков лишняя докука. Сперанский, вишь, изъявил желание содействовать, да отстал, когда он, Поленов, объявил, что количество дел простирается до нескольких миллионов. А вот он, Поленов, старый мерин, наведет должный порядок. Тяжело, но проворно поднялся тайный советник, увалисто двинулся вперед, брюхом уминая воздух и увлекая за собой Башуцких.
А там, в Особой Кладовой, в светотенях свечей сундуки наплывали, как гробы. Пахло тленом. Свечи и тлен резонировали в душе сенатора Маврина молебном на исход души. В одном из тех сундуков горстью бумажного праха шуршал его предок, воспитатель Петра Второго. На пухлое бабье лицо сенатора легли элегические складки. Но тотчас исчезли – явился Поленов.
Сундуков и коробов было много, а помещение было тесным и темным. Поленов гукнул, но не так, как давеча, в кабинете, а злобно. Он учуял тлен и гниль. Бездельники не просушили вовремя. А теперь тащи-ка через Неву, в Главный штаб, и гляди в оба, чтобы не обронили, не утопили… Десяток лет тому служил Поленов в морском ведомстве, и он не доверит дело гарнизонным пентюхам, а поручит ластовому экипажу, портовым матросикам.
Насупленное молчание Поленова томило сенатора. Он, Маврин, глава комиссии, а приходится ждать резолюции этого медведя.
Поленов сказал медленно, веско: «Бумаги сии драгоценны для истории. Секретные отправим в архив, моим попечениям вверенный, а несекретные согласно высочайшему повелению – в Санкт-Петербургскую крепость. Я сам не премину наблюдать за перевозкой, дабы произвели оную с должной осторожностью».
Дылда Маврин, слушая тайного советника, мельницу вертел. Хорошо, очень хорошо, пусть медведь озаботится транспортом. Нехорошо, очень нехорошо, что повеление дано Поленову, а не ему, главе комиссии. И сенатор поморщился почечуй дал себя знать сильно, ибо геморроидальные колики тоже зависят от степени благоволения государя императора.
А Поленов уже диктовал коллежскому регистратору Башуцкому записку, адресованную коменданту крепости Петра и Павла.
Речь шла о вещах прозаических. Оказывается, комендант Петропавловской приспосабливал для хранения несекретных документов два каземата в бастионе Петра Первого, а государь повелевал отдать все казематы, кроме принадлежащих Монетному двору. Об этом и сообщал коменданту тайный советник.
Милий же Алексеевич думал о Николае Павловиче: государь отдавал под архив, как сдавал в архив, «твердыню власти роковой», свою бастилию, это и показалось нашему очеркисту примечательным. А Лютый, думал он, даже и в бреду не обронил бы: «Отдать Лефортово под архив…»
Параллель, науке чуждая, но сердцу реабилитированного близкая, увлекала дальше… дальше… дальше… Свечи померкли, запах прели и тлена расточился… Милия Алексеевича не тронула новая должность коллежского регистратора.
Это было чрезвычайно важно, но Милий Алексеевич ни о чем не догадывался, хотя и чувствовал некое радостное предвкушение. Однако куда явственнее был приступ голода.
5
В полуподвальной рюмочной, вдохнув запах огородов и взморья, взял он три бутерброда и принял соответственно три «удара». Потом, не торопясь, выкурил сигаретку. И опять вышел на набережную Английскую, то бишь Красного флота.
Сдвинув вельветовую кепочку достоинством в семь целковых и помахивая портфельчиком, утратившим всякую стоимость, Башуцкий в приятно-беспечном настроении, какое бывает у прогульщиков, шел вдоль Невы.
Ни в детстве, ни в юности Милий Алексеевич не ощущал того, что именуют гением местности. Он сознавал единственность своего Города, но была она как бы собственностью человека, лишенного чувства собственности. Ну, вроде бы есть руки и ноги и ты, само собой, знаешь, что они есть, однако как бы и не замечаешь, пока здоровы, пока не болят.
Милий Алексеевич родился в марте восемнадцатого. Как раз в ту хрустальную ночь правительственный поезд тихо покинул Город. Стоял себе на запасных путях у Цветочного поста, да и ушел, сокрылся. Фонарь хвостового вагона прощально мигнул петербургскому периоду русской истории, а фонарь локомотива бросил прямой сноп туда, где воспрянет период московитский. Отец Милия Алексеевича говаривал, бывало, с бесшабашной усмешечкой, не поймешь, над кем или над чем: а нам остались имперские декорации и профсоюзный кордебалет. До переворота… В семье Башуцких, как, впрочем, и в других подобного разряда, «переворот» был не слишком восторженным синонимом революции, а жизнь прежняя определялась ностальгически – «мирное время»… Так вот, до переворота служил отец в отделе кредитных билетов Государственного банка, а после продолжал службу в разных конторах и помер от грудной жабы летом тридцать четвертого. И хорошо, прости Господи, что летом, а то бы, наверное, замели в декабре. В те «кировские дни» солнце багровело, как раскаленный антрацит, сипли заводские гудки, гнул первобытный страх – ты в пещере у потухшего костра, изо всех углов глядят чудища. А годы последующие остались в его памяти не арестами, не судебными процессами, нет, опущенными глазами, тараканьей побежкой.
Но то было чувством времени, а не чувством Города. Оно возникло после войны, было оно состраданием и надеждой – отогреется Город, обретет второе дыхание.
Была и освобожденность от довоенных впечатлений, потому что поражение фашистской Германии казалось поражением темного и злого здесь, дома. Даже и не то чтобы поражением, а скорее увольнением вчистую за полной ненадобностью. Вот эта освобожденность, эта раскованность и сыграла с Башуцким скверную шутку. Он высказался не по-писаному о начале войны, о блокаде. Высказался среди своих, демобилизованных, озаривших пол-Европы светом свободы. И бритвой полоснуло: ладно бы какой-нибудь стукач, не нюхавший пороха, нет, из своих же побратимов… Антисоветская агитация: статья 58-я пункт 10-й УК РСФСР. Священник-зек вздохнул под бодрый стук столыпинского вагона: «Песнь пятьдесят восьмая, стих десятый».
В тюремных снах он никогда не видел Город и наяву по Городу не тосковал. Лишь изредка ощущал отзвуки былого сострадания, схожие с колкими толчками крови в мизинце и безымянном – несуществующих, отсеченных. Но вот вернулся – и что же?
Мурластый майор с глазами злыми, заплывшими, как у мурзы, исповедовал культ паспортного режима. О мученик идеи, годы спустя сварганивший роман-кирпич про какие-то звезды, исчезающие в полночь, о, как страдал майор, когда враги народа совали ему паршивые реабилитационные справки. И меркли звезды: такие же справки нахально совали жиды. «Башуцкий» произносил он, ударяя на последнем слоге, а все эти «цкий», «ман», «зон», «ич» терзали его барабанные перепонки. К тому же: Милий. А где Милий, там и Юлий, а где Юлий, там и Шмулий… Отдадим должное мурластому: он был бы начеку, явись к нему Милий Балакирев и, в особенности, Сергей Юльевич Витте. А Башуцкого ради отметки «русский» заставил добывать выписку из архивной церковноприходской книги, подтверждающей папенькино крещение: не отделилась все-таки церковь-то от государства! И лишь после того, подозревая, что тот мог быть выкрестом, нехотя оттиснул на справке о реабилитации: «Паспорт выдан».
Они были всюду, обладатели печатей и штампов. Утупив лубяные зенки, шлепали на бумаге жирные грифы. Когда-то писатель Куприн пожимал плечами: эти глаза соответствуют голубому околышу жандармской фуражки или голубой околыш соответствует этим глазам? Ах, Александр Иванович, мы соответствуем и глазам и околышам, вот и реют над нами жирные грифы, а звонким жаворонком вьется: «Паспорт выдан».
И верно, счастливило не возвращение в Город, а паспорт, тотчас явленный участковому. Но вот какая штука! – паспорт не упразднил ноющее беспокойство: и все же, братец, существуешь ты в родной стране на фуфу, дуриком существуешь.
Постепенно, исподволь завладело им чувство Города. То не было восхищение гармоничес-ким согласием северного пространства с западной регулярностью, а было печальное осознание дряхлости Города. Он был в пролежнях, в его недрах застыла кровь. Новостройки обладали другой кровеносной системой и потому не были Городом.
Но Река милосердно смывала пролежни, ржавчину, плесень.
Он шел по набережной, легкой ладонью потрагивая парапет, пригретый солнцем, шершавость гранита и шорох Реки были внятны как радость. И вдруг Башуцкий остановился, присвистнул, сбежал к воде, хотел бросить окурок, но не бросил – как можно? И точно, как можно, если слышишь: «Позвольте…» Вот и молодые люди перестали барахтаться у берега.
Плечи пловца влажно блестели, редеющие волосы слиплись прядями. «Позвольте показать вам, как надо плавать, – крикнул Пушкин молодым людям. Вы не так размахиваете руками, надо по-лягушачьему…» А-а, вот оно что, вот оно что-то, – ярко догадался Милий Алексеевич, – здесь против Летнего сада была когда-то купальня, приходил Пушкин, плавал, однажды учил каких-то молодых людей «по-лягушачьему», приходил и Вяземский. «А, здравствуй, Вяземский», – сказал Пушкин, и Милий Алексеевич взбежал на набережную.
Бабушка, убирая с дороги внучку, проскрипела: «Смотри, Катюша, люди еще на работе, а дяденька уже напился». Нимало не интересуясь «дяденькой», толстушка отозвалась требовательным басом: «Есть хочу!» Милий Алексеевич рассмеялся и приставил ко лбу растопыренные пальцы – идет коза рогатая.
Мгновение спустя три тени наискось прочертились по плитам набережной и в рассеянном солнечном свете сошлись отчетливо-зримые: коллежский секретарь, только что учивший молодых людей плавать по-лягушачьему, брюхастый тайный советник Поленов и – на солнышке лицом совсем белый регистратор Башуцкий.
Милий Алексеевич помахивал портфельчиком, такой, разрази его гром, счастливый.
6
Очень это хорошо, что они, как по наитию, сошлись. Лучше не придумаешь. Однако наш очеркист убил немало времени, прежде чем нашел документы, которые позволили ему считать своего родственника в числе подчиненных тайного советника Поленова. Это уж было не просто хорошо, а было, повторяем, чрезвычайно важно.
Тайный советник взял Башуцкого за почерк. Купцы, случалось, вели к аналою беспридан-ниц, похваляясь: за красоту взял. А Поленов – за почерк. Талант истинный! Этот выводит тоненько, точно фистулой или как паучок лапкой елозит; тот – толстенно, жу-жу-жу, как шмель между оконными рамами; третий – будто корова на льду… А Башуцкий… О-о, душой исполненный полет!
А какое проворство? Не то чтобы лепит фразу за фразой, а схватит единым взором всю страницу и тотчас изобразит, как фигуру в танце.
Труды-то его удвоились, да вот оклад остался прежним. Случай обыденный, следственно, несправедливый. Добро бы нежиться в натопленных покоях Иностранной коллегии, так нет, архивариусы, старшие и младшие, дрогли в сумрачных комнатах, как пасынки.
Но именно здесь, в Главном штабе, супротив Зимнего, в историческом Архиве застиг регистратора Башуцкого час полновесной самоценности. Он почувствовал себя воплощением «вначале бе Слово». Повинуясь торжественной и грозной силе, он приподнялся, опираясь обеими ладонями о канцелярский стол, испытывая потребность к чему-то приглядываться, к чему-то прислушиваться… День стоял обыкновенный, скучно сеялась снежная крупка, Город ощущался огромным холодным коробом, обжатым железом… Вдруг послышались гул, треск, дребезг, звон – выламывались напрочь окна и двери министерств и ведомств. Еще не отзвенели, еще не оттрещали, как из дверных и оконных проемов выхлестнулись, низринулись, потекли на стогны Санкт-Петербурга реестры, ведомости, списки, рапорты, расписания, указы, мемории, рескрипты, экстракты, справки – мильоны бумаг – все вдруг исходящие. Дурной ветер тяжело кружил, ворочал, взметывал эти казенные бумаги, и они веющими хвостами втягивались в подворотни или вдруг бешено кружили в Пляске Смерти. В этих вихрях, в этом, казалось бы, бесконечном исходе исходящих метались, разевая рты и махая руками, министры, директора, вице-директора, сенаторы, прокуроры, обер-прокуроры. На балкон Зимнего, сутулясь, вышел государь, молвил печально: «Царям не совладать». А регистратор Башуцкий, скрестив руки на груди и вскинув подбородок, проникался сатанински гордым сознанием незаменимости своей чернильной корпорации, без которой все гибнет в круговерти незавершенного делопроизводст-ва, потому что держава держится на канцелярских крючках… Трудно определить, к чему привел бы этот бескровный бунт, если бы Башуцкого не позвали к тайному советнику Поленову, и метель за окнами сразу кончилась.
Минувшим летом доставили с Васильевского острова сундуки секретного хранения. Невской переправой командовал Поленов. Он трепетал за эти сундуки, как испанские капитаны за свои пузатые суда, набитые золотом для королевской казны. И теперь архивариусы, старшие и младшие, корпели, осушая своим дыханием, в понедельник сивушным, шершавые, словно наждачные страницы времен Бирона, Миниха, Остермана. Тонкая, как нюхательный табак, пыль порошила в глаза, не помогали даже немецкие примочки из дорогой лечебницы на Фонтанке. Не было спасу от кашля, кашель оставлял на бумаге бурые брызги, потом их кто-то поэтически назовет запекшейся кровью истории.
Корпелки поленовского штата были Милию Алексеевичу как бы родней. Он ведь когда-то служил архивистом в Историческом отделе Главного морского штаба – листал, нумеровал, скреплял бумаги, поступавшие с флотов и флотилий. Послевоенная осень была от земли до небес хлябью. За окном дудела и всхлипывала водосточная труба, солист дворового оркестра. Незабвенной чертой этой осени были большие противени, нагруженные бутербродами с крупной красной икрой – закуска пивных. С ума сойти. Сглотнув слюну, Милий Алексеевич подумал, что «единицы хранения» были архивариусам хламом, который требовал описи, и больше ничего, а для него «единицы хранения» были вчерашней обыденностью. И вдруг выдался день: из груды бумаг совершенно незначительных скользнул, прямо-таки в руки сунулся листок школьной тетради: «Мероприятия при оставлении г. Ленинграда». И полыхнула резолюция: «Утверждено. Пред. ГКО И. Сталин». Увидев «живую», толстым зеленым карандашом подпись Иосифа Виссарионовича, Башуцкий приложился к ней лбом. Потом прочел реестр «мероприятий» и мысленно увидел то, что видывал очно бурое и глыбистое в жгутах и спиралях железо. Но ударило, ударило, как под ребро, другое: «Утверждено». Кутузов, уступая Москву, все взял на себя пред Богом и Родиной. На себя взял. А этот отстранился и заслонился безличным «утверждено». Однако Город-то не отдал? Не отдал, уготовив худшее: выморил. И ударило как под ребро: Сталин ненавидит Город. Кто знал его здесь в мирное время, в дни переворота, в недели, потрясшие мир? Город молчаливо и презрительно свидетельствовал о его безвестности, о его незначительности. Башни и подземелья, Третий Рим, переименованный в Третий Интернационал, вот его место, ибо весь он московитский. Так думалось Башуцкому потом, после лагеря, а тогда лишь робко чувствовалось.
Он вручил начальнику тетрадный лист с автографом Вождя.
Яйцеголовый, приятно грассирующий генерал береговой службы, не глядя на младшего архивиста Башуцкого, сказал тускло: «Вы этого никогда не видели. Идите».
А генералу статской службы Поленову, коему тоже подчинялся архив, покамест нужды не было стращать коллежского регистратора.
Тлен не тронул бумаги Петра. Три фолианта содержали их перечень, но дело царевича Алексея ни в одном не значилось. Пожалуй, самой тайной из всех была книга гарнизонных записей, Поленов берег ее пуще зеницы ока.
Сына Петра Первого, царевича Алексея, убили в июне 1718 года – заря империи. Сына Николая Второго, царевича Алексея, убили в июле 1918 года закат империи. Тут брезжило нечто, Башуцкому недоступное. Не с такой бы головушкой задаваться вопросом громадным, однако реабилитированный гражданин опять чувствовал себя зеком с пропуском на бесконвойное хождение.
Петр казнил сотни стрельцов. Чудовищно! Меченное цифирью, массовое убийство ужасает ум, но не сердце. Иродово злодейство воспринимаешь злодейством Ирода, а не мукой безымянных младенцев. Но вот произносишь имя – возникает «ОН» и – потрясенность… Петр отдал палачу плоть от плоти. Соловьев, философ, не считал его великим человеком. Не потому, что Петр был недостаточно велик, а потому, что Петр был недостаточно человечен. Едва речь заходит о державе, обнаруживается развилка идеи и человечности. Грозный писал Курбскому: величайший из царей, Константин, ради царства сына своего, им же рожденного, убил… «Ради царства» Лютый готов был отдать Город. А Черчилль – Ковентри. Бульдог знал секретный приказ нацистского командования: дотла разбомбить Ковентри. Упреждение налета дало бы понять врагу, что англичане овладели ключом к архисекретному шифру. В расчете на будущие выгоды от владения этим ключом Черчилль обрек горожан, младенцев и старцев, всех обрек гибели. А Рузвельт, подняв бледные, как у Сперанского, руки, вздохнул: иногда приходится действовать вместо Бога.
Сторож зажигал свечи. Коллежский регистратор готовил наутро бумаги для Пушкина.
7
Поленов не благоволил Пушкину: в стихах «сладострастие, близкое к разврату». Прочитав «Бориса Годунова», ворчал, насупив кустистые брови: «Это не поэма, не роман, не трагедия и не творение гения». Тайный советник председательствовал в Отделении русского языка и словесности Академии наук и посему в точности знал, что есть гений.
Добро бы сочинитель Пушкин оставался в свите Аполлона, так нет, волочится за Клио. Приходится отворять Врата Истории. А перед кем отворять? Шеф жандармов трижды прав: посещение государственного архива разрешается единственно людям, пользующимся особенною доверенностью начальства. Сочинитель Пушкин ею не пользуется.
Однако на всякого караульного довольно разводящего. Разводящим явился государь, он разрешил Пушкину рыться в архивах. Поленов испытал пренеприятнейшее чувство, род тяжелой одышки.
В комнате сырой и сумрачной Пушкин занимался историей Петра. Напольные часы английской работы цвякали на тверской манер: «ца-це», «це-ца». Регистратор Башуцкий приносил связки бумаг. Бумаги не шуршали, как осенние листья, а шептали, как сень старинного бора. «Сколько творческих мыслей тут могут развиться», – думал Пушкин. Его изначальный трепет, его подобострастие пред Петром рассеивались. Он обретал свободу суждений, этот дар архивных занятий.
«Очень хорошо, прекрасно, благодарю вас», – быстро говорил Пушкин коллежскому регистратору. Улыбка была яркой. Но всем его существом, казалось Милию Алексеевичу, владела ясность вечерняя – «воды струились тихо, жук жужжал»; душа нашла центр тяжести в желании блага всему сущему.
При виде Пушкина Милий Алексеевич испытал разнородные чувства. Захотелось согреть свою руку в руке сухой и горячей, но он не посмел, хотя явственно ощущал веяние его благожелательности. Она отзывалась давним, детским, внезапно очнувшимся запахом и чувством.
Будто в душной комнате, где пахнет маргарином, макаронами, старым ватным одеялом, оттаивает в плетеной корзине ворох хрусткого белья; корзину внесли со двора, там, на дворе, стираное белье закаржавело, выдубилось сухим морозом и солнцем и вот оттаивает, и духоту, запах обыденности теснит сизая, как вода в проруби, свежесть, и ты дышишь обновление и чисто, и так хорошо, такая отрада, словно заутра светлый праздник.
Все это было слитно с ожиданием. Милий Алексеевич не сомневался: вот-вот сбудется наитие, посетившее у Летнего сада, на невской набережной. Пушкинисты лишь предполагали, а он теперь знал: здесь, в поленовском архиве, служил доброхот Александра Сергеевича. Этим доброхотом был коллежский регистратор Башуцкий.
И точно. Разве государь не запретил брать из архива архивное? Строго-настрого запретил, и ничего деспотического не усмотрел бы в этом ни один из ярых ненавистников монарха. Но Пушкин, Александр Сергеевич Пушкин, случалось, брал бумаги домой. После его гибели тюльпаны все перерыли, ничего архивного не нашли. Потому и не нашли, что Пушкин, сознавая риск Башуцкого, не медлил возвратом. Вот так-то, именно так, однако и не в том главное, погодите-ка… Он завтра опять придет, велено приготовить бумаги. Он ладный, крепкий и ростом средний… Опять послышалась Милию Алексеевичу ивовая дудочка из-за холмов… «Мой предок Рача, мышцей бранной…» «Рача»-то и значит: невысокий… На нем черный плащ-альмавива, набрякший осенней сыростью. Он в новых башмаках от Пеля, лучшего в Городе сапожника, звук шагов четкий, быстрый, Пушкин нетерпелив, он работает в архиве со страстью. Он ждет бумаги, «преданные вечному забвению». В этих бумагах дело царевича Алексея. Пушкин не заслонится от проклятого вопроса, не скажет, как Рузвельт, вот-де приходилось действовать вместо Бога.
О, регистратор Башуцкий не преминет положить перед Пушкиным гарнизонный журнал поденных записей. Не отравили царевича и не сразил царевича апоплексический удар. Сказано в книге: 26 июня 1718 года, в восьмом часу утра, Петр и высшие сановники приехали в крепость; в Трубецком раскате был учинен застенок – царевича пытали; засим Петр и высшие сановники уехали; в шесть пополудни Алексей Петрович преставился, кончину царевича возвестил колокол.
На крови возведенное в кровь рушится. Летом восемнадцатого года убили двух царевичей, двух Алексеев.
Колокол звонил в шесть пополудни, светло было, Алексея Петровича убивали среди бела дня. Ну да, в потемках застенка, огонь, железо, камень все так, но и огромное небо, – когда погибают, небо не бывает с овчинку. И огромные кучевые облака, – когда казнят, они всегда огромны. Царевич превращался в запах, как вода в пар, и этот запах был запахом паленой плоти. И все же с последней тоской царевич увидел просторное, блеклое небо, где ласточки, ласточки, ласточки.
Звон курантов, медленно растекаясь, выстлал небо медной фольгой, Милий Алексеевич припозднился давеча в гостинице у лагерного приятеля-москвича, небо было близко и близок звон курантов, но словно бы отдельный, не городской, и думалось о том же, о чем думалось однажды в бараке усиленного режима: гибель идей предпочтительнее гибели людей.
А нынче регистратор Башуцкий, поджидая Пушкина, раскладывал на столе бумаги, «преданные вечному забвению», смурым пятном означался гарнизонный журнал поденных записей.
«Ца-це» цвикнули напольные часы, насморочным носом шмыгнул архивариус, Милий Алексеевич, подняв глаза, словно бы впервые взглянул на предка: точь-в-точь Езерский – длинный, худой, рябоватый. И в том же чине четырнадцатый класс, коллежский регистратор. Боже ты мой, бормотал Милий Алексеевич, башуцкие, езерские… «При императоре Петре один из них был четвертован, за связь с царевичем…» Четвертуют «за связь», расстреливают «за связь», ссылают «за связь», и нет распада связи времен. Да, но Пушкин оставил четвертованного езерского в черновиках. Не за родственника по крови грозил его Евгений – «Ужо тебе!» – нет, за гибель Любви, то есть Свободы.
Гневный, по-рачьи выпученный зрак, вращаясь востро, сверлил Милия Алексеевича. Два слова начертал Петр в последнем своем земном напряжении, два слова: «Отдайте всё…» Гадают доселе: кому и что? Молчать! Вам объявлено – всё. И добавлено: все.
Молотом о наковальню ударили копыта Коня: «Отдайте всё!» Резким выхлопом вторил Броневик: «Отдайте все!»
Башуцкие, схватившись за голову, кинулись наутек.
Ах, как бежали они, переломившись в поясе, простерев руки, вытянув тонкие шеи, – гуси, подбитые палкой. Сдвинулись вплотную площадь Сенатская и та, что у Финляндского вокзала. «Ужо тебе!» – рыкал Всадник, детище классицизма. «Ужо тебе!» – рычал Броневик, чудище кубизма. Клубились тучи, и там, в этих клубах, Город, качаясь, всеми своими шпилями и колокольнями вычерчивал огромные восьмерки.
8
В коммуналке занимал Башуцкий М. А. четырнадцать квадратных метров без двух квадратных дециметров. В комнате с окном на брандмауэр Башуцкий М. А. ел, пил, спал, работал. Если бы какая-нибудь инстанция вдруг поинтересовалась его житейщиной (что само по себе невероятно), он ответил бы нашим расхожим «нормально». Ясное дело, все зависит от точки отсчета, а если оная – стиль «баракко», то, стало быть, «нормально», особенно для квартиросъемщика, озабоченного проклятыми вопросами бытия.
Умные люди, думал он, примирились с высшей исторической необходимостью: есть правота, есть правда Всадников и Броневиков; есть правда, есть правота пешеходов, евгениев и башуцких. Милий Алексеевич вдруг прыснул в ладошки. А попросту глянуть, всего-то навсего нарушение правил ГАИ! Хоть и петляют ошалело башуцкие-евгении, однако на проезжую часть не выскакивают. Всадники же и Броневики ломят напропалую, не разбирая дороги. Рассмеяв-шись, наш очеркист признал себя тупицей, чего, к сожалению, с умными людьми не случается. И потому, наверное, ничего иного, кроме пресловутого колеса, то красного, то черного, вообразить не умеют. Лишь смирение осеняет прозрением. И потому, наверное, Милий Алексеевич узрел иероглиф истории в давешних огромных восьмерках, обозначенных шпилями и колокольнями в свитках клубящихся туч.
Он тихо пригубил винцо, ласково именуемое «портвешком», и стал жевать плавленый сыр «Лето», ощущая на зубах мячик литой резины, которым до войны играл в лапту.
«Портвешок» и «Лето» указывали, что аванс, полученный в счет очерка, не похож на айсберг. А синие тюльпаны как были в клубнях, так и оставались. Технические же средства находились в готовности. И отцовская чернильница с тусклой серебряной крышкой. И склянка фиолетовых чернил, почти вышедших из употребления, но излюбленных генетически. И ручка-вставочка с пером-уточкой. И школьные тетрадки в линейку, одна даже попалась довоенная, с грозным типографским предупреждением на обложке: «Продажа по цене выше обозначенной карается по закону». У мамы был замечательный общегимназический почерк, раньше говорили: «в струнку». Она все сберегла, пока ее ненаглядный Миличка давал «кубики» в вятских лесах, а потом, поближе к милому Северу, «давал стране угля, хоть мелкого, но до…».
Трехпалая рука потянулась к перу, но стальное перо не дотянулось до бумаги. Все наши сюжеты, думал Милий Алексеевич, определены Пушкиным. Гоголь видел в Пушкине явление русского человека, каким он будет лет двести спустя. Увы, Герцен вопрошал горестно: не начать ли новую жизнь с сохранения корпуса жандармов? Как в воду глядел. Потому и утверждал Главный Синий Тюльпан: будущее России находится за пределами самого пылкого воображения. Угадал – за пределами.
Косясь на бесстыдно пустую бутылку, Милий Алексеевич выкурил сигарету. Потом наугад снял с полки томик Пушкина и умостился в диванных провалах так, чтобы бренное тело не терзали пружины.
Перепуганные интеллигентики похожи друг на друга: они любят Пушкина. Каждый из них любит его по-своему. Башуцкий любил и вообще и, можно сказать, специфически – за тайну точности и тайную точность.
Раскрыв пушкинский томик – выпала «Пиковая дама», – Милий Алексеевич стал перечитывать повесть глазами цепкими, как у филера, он все еще ощущал запах синих тюльпанов, строго говоря, не издающих никакого запаха.
И сразу прицепился к Томскому: тот утверждал, что вследствие неприступности его бабки-графини едва не застрелился внук кардинала Ришелье. Однако в пору успехов русской графини этот внук был развалиной. Вслед за Ришелье упоминался герцог Орлеанский. В столице королевства тогда обитали отец и сын; Пушкин, вероятно, имел в виду последнего, ровесника графини. Позже, в годину революции, этот герцог примкнул к народу, за что, как водится, именем народа отправился на гильотину. Пушкин, рассуждал Милий Алексеевич, видать, не зря заставил графиню проиграть будущему народолюбцу, а засим, опять же неспроста, народолюбец проиграл графине, о народе нимало не помышлявшей.
Этот мощный импульс погрузил нашего очеркиста в глубины, где без скафандра ни шагу. В сумраке водорослей колыхались солдатиками Германн и Раскольников – нечаянный убийца-дворянин с незаряженным пистолетом и злонамеренный убийца-разночинец с навостренным топором. Сплющенными рыбинами плыли вислогубая старуха-графиня и старуха-процентщица. Рыбками золотистой и серебряной мерцали благонравная Лизавета Ивановна и падшая Сонечка Мармеладова – первая вышла за человека состоятельного, вторая не покинула каторжника.
Отдышавшись, наш очеркист приступил к сопоставлениям хронологическим. Болдинской осенью, создавая «Пиковую даму», писал Пушкин не только прозу. Средь стихов его обнаружи-лась строчка, доселе не исследованная с трех точек зрения: сионистской, антисионистскои и кегебистской. Такая, представьте, строчка: «Напрасно я бегу к сионским высотам…» Черт дери, тут бы и разгуляться Милию Алексеевичу! Так нет, без задержки перешел к иному: «Бог веселый винограда позволяет нам три чаши…» – улыбнулся беспечно: подходящая норма – три чаши. И, улыбнувшись, обрел прежнюю филерскую цепкость.
Между замыслом Германна и его роковым рандеву со старухой графиней протекли три недели. Томский говорил, что на совести Германна не менее трех злодейств. Три дамы подошли на балу к Томскому. Три карты назвала графиня Германну. Три раза испытывал Германн судьбу… Этот настойчивый повтор погасил филерскую цепкость нашего очеркиста. Привиде-лось: черенок гусиного пера сжимали три пальца, сложившись щепотью, как для крестного знамения. А на столе перед Пушкиным – свеча: огонь, свет, тепло… Высокое чувство коснулось Милия Алексеевича, как крылом: чувство троичности всего сущего. Но нет, не сподобился он столь же высокой мысли, и три его пальца, сложившись щепотью, показали ему кукиш. Воробьиным прискоком мысль отбежала в сторону. И вдруг замерла, как на краю карниза.
Когда Германн навел пистолет на старуху, она покатилась навзничь и осталась недвижима. Глагол «покатилась» и наречие «навзничь» изобразили графиню распростертой на полу… Когда Германн, возвращаясь от Лизаветы Ивановны, опять вошел в спальню графини, «мертвая старуха сидела, окаменев». Сидела!
Пораженный Башуцкий нашел в себе силы усомниться: вольтеровы кресла позволяли мертвому телу лежать не на полу, а все в тех же вольтеровых креслах. Но сидеть и навзничь?! Невозможно, невозможно, решил Башуцкий, спеша и волнуясь.
И все же опять усомнился. Перелистнул быстро, отыскал быстро: при первом посещении дома графини Германн на улице дожидался, покамест старуха уедет на бал; уехала, швейцар запер двери; Германн еще выждал и «взошел в ярко освещенные сени». Кто же отворил запертые двери? Пушкин не объясняет. Авторская накладка? Нет, право поэта. Комментарий необходим, комментарий. И лучшего, чем из лермонтовского «Сашки», не придумаешь: «Вы знаете, для музы и поэта, как для хромого беса, каждый дом имеет вход особый; ни секрета, ни запрещенья нет для нас ни в чем…»
Но в спальной? О, тут другое, совсем другое! Вот она, тайная точность прозы! Германн отнюдь не рассеян, не ошеломлен, у него не двоится в глазах – он холоден. Не мельком глянул он на мертвую сидящую старуху, а смотрел долго, «как бы желая удостовериться в ужасной истине». В какой же? В том, что старуха мертва? Нет, ужасная истина заключалась в том, что мертвое тело переместилось в пространстве. Переместилось, конечно, не по своей мускульной воле, у мертвецов отсутствующей. И выходило, как дважды два: пока Германн говорил с Лизаветой Ивановной, кто-то был в графининой спальне.
Милий Алексеевич вперился в потолок. Потом поднялся и стал одеваться. В работе над очерками любил он «привязаться к местности»; это помогало уяснению обстоятельств.
Уже стемнело, но фонари еще не горели. Ветер носил перемесь дождя и снега. Был тот час, когда ты, если ты ленинградец, понимаешь, что это такое: и стояла тьма над бездною. Как раз в такую погодливость неведомая сила загнала Германна в одну из главных улиц Петербурга. Туда же, на Малую Морскую, теперь улицу Гоголя, направился и Милий Алексеевич.
Он потому и направился на Малую Морскую, что пушкинисты давно сыскали прототип «Пиковой дамы». Вообще-то говоря, поиски прототипов есть мелочное посягательство на чудо образа и подобия. Но в данном случае сам автор не отрицал прототип. То была не графиня, а княгиня. Княгиня Голицына Наталия Петровна.
На Малой Морской занимала она дом в три этажа. Милий Алексеевич убрал с фасада излишества позднейшего происхождения – лепнину, наличники, герб: был нужен дом прежний, без излишеств, как проза. И, как некогда Германн, стал он «ходить около дома, думая об его хозяйке»
До векового юбилея княгиня не дотянула три года Она слыла мегерой, никогда никого не жалела. Что еще знал Милий Алексеевич об этой даме? С той рассеянностью, какая настигает в минуту сосредоточенности, стоял он посреди лужи, хохлился, шевелил пальцами в промокших ботинках и вдруг вспомнил деда княгини Голицыной. Какая наследственность! При дворе ее прозвали княгиней Усатой… Взгляд Милия Алексеевича скользнул по табличке с названием улицы, «а-а» не произнес, а как бы пискнул он, осенившись догадкой, достойной академичес-кого издания «Мертвых душ» – один из персонажей поэмы, картежник, выложив даму, ударял кулаком по столу, приговаривая: «А я ее по усам!» Не по роже, а именно по усам…
О, молчите! Еще не то будет.
За освещенными окнами слонялись тени, занятые вечерней обыденностью и нисколько не подозревая о появлении не оперного Германна. Ничего странного: преступников тянет на место преступления. Вся штука в том, что инженер был не один, а бок о бок с какой-то несуразной черепахой в мешке и зонтиком над картузом.
Первое предположение Милия Алексеевича было самое простое, естественное, не требующее особого знания жизни: черепаха под зонтиком один из тех агентов наружного наблюдения, которые непременно торчат близ обиталищ наивысших сановников, а вон там, через три дома от Голицыной, жил шеф жандармов, начальник Третьего отделения Бенкендорф. Гипотеза была в духе времени, отпущенного небом Милию Башуцкому, но, как он сразу же и сообразил, не в духе времени, отпущенного тем же небом его сиятельству: охранников на улице не держал, да и вообще не имел личного конвоя. Впрочем, следовало принять в расчет и то, что ни офицер не унизился бы до фланирования с топтуном, ни топтун не осмелился бы семенить чуть не об руку с офицером.
Второе предположение – ослепительное – могло снизойти только на Милия Алексеевича, уже дрожавшего всем телом от пронизывающей сырости. Пальто его, как и шинель черепахи под зонтиком, не подвергалось декатировке, то есть обработке химическим составом, не пропускающим влагу. Но дело, конечно, не в этом. Наглый вымогатель, вот кто был в гнусной шинели! Да, это он, именно он поднял с пола мертвую старуху и усадил в вольтеровы кресла, а теперь шантажировал бедного Германна.
Собеседники, или как уж называть, то отдалялись, то приближались. Напрягая слух, Милий Алексеевич выхватил умом непостижимое. Этот, под зонтиком, оказался королем Испании, ждал прибытия испанской депутации, а депутация опаздывала. Германн отвечал, что погода, сами видите, нелетная, Пулково не принимает…
И теперь уж они не отдалились, а удалились. Король перешел на нечетную сторону улицы и, нагнув зонтик, юркнул в подворотню дома Лепена. Там, еще при царе Павле, жила красавица, дочь умерщвленной старухи, а недавно, с тридцать третьего года, поселился Гоголь. Только не в бельэтаже, а со двора, в подчердачной фатере. Сомневаться не приходилось: этот, в гадкой шинелишке, был Поприщин, титулярный советник. Ясное дело, наслеживает сейчас темную лестницу, поднимаясь к Николаю Васильевичу, надо ж продолжить «Записки сумасшедшего». Гоголь позовет Якова, слуга запалит три сальные свечки, а лучше бы позвать другого Якова, по батюшке Аркадьевича, потому что без Гордина вряд ли развяжешь такой крепкий узел.[1] Пушкин уже написал «Пиковую даму», Гоголь наведывался к Пушкину…
Не сомневаясь в высокой порядочности Я. А. Гордина, он все же утаил от него свои наблюдения. Весьма и весьма жаль, ибо сам Башуцкий не довел исследования до конца, и, таким образом, в литературоведении осталось белое пятно.
Бурный натиск этих соображений как бы смыл Германна. Милий Алексеевич огляделся. Нет, Германна уже не было. Само собой, он не пошел к шефу жандармов, а свернул на Гороховую, ныне Дзержинского, где струила ароматы ресторация Дюме, пальчики оближешь. Но Германн прошел мимо. Не потому, что у Дюме постоянно торчали два, три, нет, именно три фискала, а по причине дороговизны. Проводив его взглядом, Милий Алексеевич вновь потрузился в размышления, оставаясь неподвижен, как столпник.
Явление Германна и Поприщина навело его воспаленную мысль на то, чго оба угодили под занавес в психушку. Первый – в Обуховскую больницу, второй… Везли Поприщина, отмечает Гоголь, со скоростью «странной и необыкновенной». Что ж странного? Сумасшедших и королей всегда возят с необыкновенной скоростью. Но куда, куда именно везли, вот в чем вопрос. А туда же, куда и Германна! Это не было ни подражанием Пушкину, ни заимствованием у Пушкина, а вытекало из реальных обстоятельств места и времени. Гвоздь в том, что другой психушкой, больницей Всех скорбящих, что на Петергофской дороге, управлял тогда доктор Герцог. Нечего и толковать, голубые короли не подчиняются герцогам сомнительной этнической сущности. Итак, не без самодовольства заключил Милий Алексеевич, все еще обретаясь посреди лужи, итак, и Германн и Поприщин угодили в госпиталь на Загородном проспекте.
И опять же пушкинская точность: Германна поместили в 17-м нумере. Тотчас, конечно, ординатор завел историю болезни, по-тогдашнему скорбный лист. И вот поди ж ты, ни в Пушкинском доме Академии наук, ни в Институте мировой литературы решительно никто не догадался взглянуть на этот скорбный лист. О-о, какая могла быть публикация, какой реферат! Ведь лекарь-то записал имя, звание, возраст, родство, имущественное состояние и прочее.
Следовало бы разыскать и записки обуховского эскулапа. Было бы дико, не зафиксируй он свои отношения с пушкинским персонажем. Наверняка сообщил и психиатру, доктору Саблеру. Век был эпистолярный, письма писали не одни аптекари, как пренебрежительно считал король Испании. Кстати, он на первой же прогулке сильно напугался: у Германна был профиль сокрушителя тронов Наполеона Бонапарта. Но потом, признав давешнего уличного собеседника, Поприщин заискивал перед ним в дурдомовских коридорах; думал, наверное, что это и есть коридоры власти.
Да, поместили Германна в 17-м нумере, на окне решетка, меблировка скудная, как на гауптвахте. Непрестанно бормоча: «Тройка, семерка, туз… Тройка, семерка, дама…», он то сидел на койке, обхватив голову руками и, представьте, раскачиваясь, что было неприлично для офицера русской армии, то перебегал из угла в угол, все это вместе символизировало дифференциальное исчисление, которое есть и состояние, и движение. И вот что интересно: дама-то выскакивала всякий раз, едва он оказывался у окна. Впрочем, чему ж удивляться? Мертвая графиня, точнее, княгиня Усатая, поговорив с Германном, заглянула со двора в окошко. Ну, и теперь заглядывала. Однако теперь не стращала, а давала явный намек на то, что ошибки математические, будучи и логическими, свидетельствуют об изъянах нравственных.
Как раз в том же восемьсот тридцать четвертом году, когда спятил Германн, московскому психиатру Саблеру удалось излечить выдающегося представителя науки.
Черт догадал этого математика (а может, физика) заняться загадками истории. Он вдруг увидел то, что давно видел Петр: Россия не Европа и не Азия, а часть света. Вот на этом-то и рехнулся математик. Он стал выбирать отечеству не европейский, не азиатский, не американский и даже не австралийский путь шествия, а совершенно оригинальный.
Доктор Саблер нашел методу, иногда исцеляющую математиков-физиков-химиков. Доктор пользовал бедолагу не медикаментами, не ваннами и клистирами, нет, изящной словесностью.
К счастью Германна, обуховский штаб-лекарь знал о саблеровских новациях, вот и подсунул в 17-й нумер свежий журнал смирдинского издания с повестью, подписанной литером «Р». (Пушкин говорил: «Пиковая дама» была тогда в моде.) И что же? Пациент перестал метаться в нумере, читал и перечитывал, аппетит улучшился, стул тоже.
И вот вам результат. В один прекрасный день консилиум признал Германна здоровым. Больничный сторож, колченогий солдат инвалидной команды, поковылял в цейхгауз, притащил сюртук и прочее. Послали за извозчиком… А дальше, дальше-то, ах, Боже мой!
Германн вернулся в свою фатеру на первом этаже флигеля в Шестилавочной. Верхний этаж занимало семейство покойного Мюллера, корректора той самой типографии, где «Р» печатал «Пиковую даму». Меньшая дочь звалась Шарлоттой. Они давно любили друг друга, милая немочка и бледный офицер с профилем Наполеона. Германну было немного неловко, что он строил куры Лизавете Ивановне. Неловкости подобного рода никому не мешают делать предложения. Сыграли свадьбу. Германн получил назначение преподавать математику в Главном инженерном училище. В классах Михайловского замка, где помещалось училище, он положительно воздействовал на нравственность юнкеров: закончив лекцию по математике, декламировал пассажи из книжки «Пагубные следствия игры в карты». Эту книжку он нерасстанно таскал в кармане сюртука.
А бедный Поприщин по-прежнему обретался в Обуховской. Тот же консилиум находил его «всегдашним сумасшедшим» – так называли хроников. Ошибка? Вряд ли. Самозванство – явление хроническое и отчасти даже типическое, в противном случае Гоголь не вывел бы Поприщина.
Психушка, как доля, у каждого своя. Германн, располагая кое-какими средствами, получал обед из кухмистерской. Конечно, не ресторация Дюме, но и не больничные харчи. А королю Испании отпускали от щедрот казны шесть рубликов на месяц. По-нынешнему глянуть, не худо: щи наваристые, ежедневный фунт говядинки, каша с маслом, квас. А все же с Германном не сравнишь.
Суть, однако, в другом. Германн сбрендил на картах, на деньгах, дело бытовое, хотя офицерский картеж – это ведь тоже «упоение в бою», атаки и маневры, и число, и умение. У Поприщина иное. Присяжный подданный государя императора возомнил себя персоной августейшей, а это уж вещь недопустимая, как инакомыслие.
Вот тут-то Милий Алексеевич, насквозь продрогший, достиг пучин «Записок сумасшедше-го». Есть времена, думал он, когда общий административный режим почти тождествен режиму отдельно взятых дурдомов. Поприщиных держали согласно только что возникшей формуле: «Впредь до распоряжения». Само собой, не медицинского. Добавилась и графа в ведомостях пациентов: «О людях, заслуживающих особой важности». А таковые, как известно, всегда числятся за особым отделом. Вот ведь в какой переплет попал Поприщин. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь».
Обритый наголо, палкой битый, водой пытанный, изнывая вместе с диссидентами, Поприщин отчаянно вымаливал тройку. Не ту, что Гоголь вскоре выпустит на русскую равнину – чудным звоном зальется колокольчик, глухим громом отзовутся мосты, посторонятся народы, включая испанский, оставшийся без нашего Поприщина, – нет, такую, чтобы унесла его на Луну, сделанную в Гамбурге… Тут опять вопрос – отчего же в Гамбурге? Великий русский писатель отдает Западу создание искусственного спутника! Поприщин-то, конечно, сумасшед-ший, однако… Мимоходом, правда, язвительно отмечено, что гамбургские умельцы – дрянь, но не все же… Милий Алексеевич понимал, что комментарий на сей счет чреват крупными неприятностями, но чем не рискнешь… Рискнуть он не успел – блеснул ему свет, синей молнии подобный. Шмыгнуть бы от этого гордого буревестника, как Поприщин в подворотню, а Бащуцкий, все еще неотрывный от бедлама, прянул мыслью… к делу княгини Усатой – как пить дать, любил дед быструю езду. В эту же минуту длинный, тяжелый, сугубо персональный лимузин с синей мигалкой, шурхнув шинами «уж-ж-ж-жо тебе», карающе окатил Бащуцкого слякотной жижей.
Все исчезло. Стояла тьма над бездною…
Германн после похорон старухи обедал в уединенном трактире и пил Пушкин этого не скрывает – очень много. А наш бедняга, леденея последним хрящиком, не имел возможности пропустить профилактики ради даже и сто граммчиков. Дюме приказал долго жить, фискалы переместились в «Асторию»; ее порог не перешагнул бы реабилитированный Бащуцкий: четвертуют за связь с каким-нибудь царевичем, наймитом ЦРУ. А в «Англетере» – табльдот очередной депутации, вполне вероятно, той самой, которая опоздала к несчастному королю Фердинанду.
Пешком бы, пешком, поскорее, нет, не в силах шевельнуться, Милий Алексеевич ждал троллейбуса. В таких случаях всегда ждешь долго; в иных случаях тоже. Наконец кит-троллейбус вперевалку обогнул громаду Исаакия и выплыл на простор, фонтанируя искрами северного сияния.
Вернувшись к себе, ощущая то озноб, то жар, Милий Алексеевич проверил, не горят ли лампочки в местах общего пользования. Коммуналка на улице Плеханова вменила гражданину Башуцкому эту повинность, не предусмотренную, как и персональные буревестники, пионером русского марксизма.
Милий Алексеевич хотел было вскипятить чайник, но не решился обеспокоить соседей. Тсс! Он прокрался в свою комнату, ежась, разделся и лег, скрючившись в три погибели.
Мокрое пальто, висевшее на гвозде, вбитом в дверь, здесь же, в комнате, за неимением уголка в коридоре, пальто это пахло глухим, словно под корягой, житьем.
9
Старичок-то и выпростался из-под коряги. Был старичок в пудреном парике, припахивал нежитью, болотцем. Кряхтя, умостился на тяжелом табурете с толстыми, как балясины, ножками. Багровые отсветы взыграли на красном мундире. Утвердил старичок трость меж колен, покойно руки сложил на балдовине и стал смотреть «яко обвиняемый пытается».
Какие сомненья? Ясное дело, вершился застенок в Тайной канцелярии. Сенатор Ушаков был здесь верховным жрецом. Давно матерел Андрей Иванович в обрядах заплечных, а в интриге политической был гибок, как мыслящий тростник. Принадлежал к партии Бирона и арестовывал Бирона. Шастал в недругах царевны Елизаветы, встал как лист перед травой, едва она воцарилась. Он высворил разномастную свору лазутчиков-уличителей и в лакейской ливрее, и в барском камзоле, и в армяке прасола. Считалось, что Андрей Иванович обладает необыкновен-ным даром «выведывать мысли» особенно в тех случаях, когда никаких мыслей не заводилось. Полагали, что душа у него без прорех, ибо души у него нет. Ошибались!
Он в Ташеньке души не чаял. Дозволял внученьке и за нос щипать, и парик стаскивать, и трость прятать. Раненько поутру, еще до брадобрития, она прямой ладошкой шлепала по дедовым колким щекам, смеялась и лепетала, что ей страсть как хочется иметь усы. Теперь, на девятом десятке, она была похожа на него. С замогильной нежностью, позабыв про обряд, смотрел старик на внучку, прозванную Усатой.
Она вернулась с бала. Озаренная слабо свечами, сидела в вольтеровом кресле. Скользящим шагом вошел в спальню бледный офицер, прядь волос падала на лоб. Офицер заговорил с Ташенькой, голова ее затряслась, огреть бы охальника орясиной, да внучка куда-то спрятала трость, и сенатор Ушаков, цепенея, увидел, как негодяй навел пистоль на внучку, и тут сенатора, должно быть, кондратий хватил, однако он успел заметить, как убийца, удаляясь скорым шагом, отер руки большим белым платком, да и обронил этот платок, после чего Андрей Иванович на паучьих ножках подбежал к Ташеньке и, ухвачив под мышки, кряхтя и причитая, потащил старуху. Он бы внучку-то на постелю уложил, но силенок не хватило, и вот старуха, окаменев, сидела в вольтеровых креслах…
Отпевали ее не то в Секретной Комнате, гарнизонные солдаты держали зажженные свечи, не то в Александро-Невской лавре; к отпеванию съехались многочисленные гости, было очень душно, церковные стены вспотели. Милий Алексеевич тоже потел, ему тоже было душно.
Да-да, гости съехались. Пушкин всегда точен, именно гости, потому что толпа господ и дам не скорбела по усопшей, а грустила о себе: все мы в гостях на сем свете стоим… Тут были Томский, вернее, корнет Голицын, внук усопшей, тот, что рассказал Пушкину историю с бабкиным проигрышем в Париже; были конногвардеец Нарумов с Германном, и какой-то камергер, и накрахмаленный англичанин, вероятно турист из «Астории». Был и ближний сосед покойницы, живший тоже на Малой Морской; он иногда наносил визиты княгине Усатой. Но кавалерийский генерал был не только важной особой, а, можно сказать, вторым лицом в империи: шеф жандармов, начальник Третьего отделения собственной его величества канцелярии.
К нему-то, Главному Синему Тюльпану, и протиснулся старичок сенатор. Парик сидел косо, красный мундир обвис. Бенкендорф изумленно воззрился в давнего предместника своего, а тот, гневливо шлепая губами, подал шефу жандармов платок с монограммой «Л. Л. Г.». И тогда под церковными сводами раздался глас велий: «Инициалы полностью!» Бенкендорф, вздрогнув, прошептал, запинаясь: «Не… не знаю…» И будто пробки перегорели, темно стало в местах общего пользования.
10
В лагере Милию Алексеевичу ничего не снилось, кроме продуктовой посылки. Ничего, да вдруг и припожаловала Патлатая Старуха… Нет, не вдруг, а после того, как рыдающая Москва проводила Лютого, а лагерная толпа, вонявшая лесной прелью, болотом и махоркой, сипло ревела «ура» начальник режима, всхлипывая, мотал бессильным кулаком: «У-у, фашисты…» Смерть Лютого взбрызнула зеков живой водой – все только и говорили, что про амнистию. Вот тогда и припожаловала Патлатая Старуха в бушлате и кирзовых прохарях с квадратными дырочками вверху голенищ, чтобы на просушку вешать.
Клюкой поманила Бащуцкого в какие-то туннели, катакомбы, коридоры, черт знает, полусвет, полутьма; Бащуцкий шел след в след, боясь отстать, хотя решительно не понимал, куда его ведут и что с ним будет. Приблизились к воротам, не таким, как в зоне, дощатым, а словно бы бункерным. Саженными цифрами значилось: «1954». Патлатая подняла клюку… Ноги Бащуцкого ухнули вниз и отнялись. Не клюка была у Патлатой, а железный молоток на длинной деревянной ручке. Другой бы принял этот инструмент за ритуальный, масонский или за такой, как у путевых обходчиков, но уж он-то, Башуцкий знал эти железные молотки на длинной деревянной ручке… Мертвецов, погрузив на сани в одном исподнем, вывозили из зоны ногами вперед. На вахте пересчитывали, проверяя номерные бирки, привязанные к ногам, как до войны к банным шайкам. Потом подходил надзиратель-умелец. Дважды крепенько, с каким-то особенным замахом и точным прицелом ударял мертвеца по черепу, звук получался не тупой и не мягкий, ни с каким иным не спутаешь, а какой, не объяснишь. То была последняя проверка. Старшой вохровец командовал: «Поехали!» – и мертвецы уезжали на волю, в недальнюю ложбину с четой белеющих берез… Но сейчас Патлатая не ударила Башуцкого по черепу, а только тронула молотком, как жезлом, бункерные ворота, и они плавно, как на роликах, убрались в сторону. Опять были коридоры, катакомбы, туннели, полусвет, полутьма. Отворились ворота с саженной цифирью: «1955». А потом отворились другие «1956», – и на Башуцкого хлынул ясный полдень. Он задохнулся, захлебнулся, зажмурился, но лишь на миг: пред ним была площадь Восстания, угол Невского, он увидел нарядных женщин, у них были алые-алые губы, его бросило, как на пойло, к тележке с газированной водой…
Не было дела Милию Алексеевичу ни до каких теорий, объясняющих сновидения. Плевал он на великих психологов и на великих психиатров. Кто растолковал бы ему это лагерное сновидение, необыкновенно живое и продолжительное? Ведь он же действительно увидел волю не в пятьдесят четвертом, не в пятьдесят пятом, а именно в пятьдесят шестом, именно летом, именно в полдень, и его поразили алые-алые губы, и он пил газировку стакан за стаканом, и продавщица в белом переднике не спрашивала денег, смотрела на него молча и молча подавала стакан за стаканом… Пиковая дама обманула Германна, а Патлатая с этим проклятым молочком не только не обманула Милия Алексеевича, нет, наперед указав год освобождения, придала сил вытерпеть время, когда зеков стали отпускать, а он все еще тянул лямку, дожидаясь очереди.
Ему не надо было верить, он знал: такое бывает. Как бывает и нечто другое, но близкое, похожее. Это вот когда испытываешь прожитое и пережитое задолго до того, как твое «я» облеклось плотью. Эта повторность возникает не вследствие какой-либо надобности или работы воображения, а как бы внезапно, само собой. Да, такое Милий Алексеевич испытывал от времени до времени, впрочем, редко, но только сейчас понял, что есть минуты пробуждения мертвых, и тогда оживает прапамять.
Хотя в церкви на отпевании графини не видел он ни коллежского регистратора Башуцкого, ни литератора Башуцкого, умершего в Петербурге лет за десять до рождения отца Милия Алексеевича, однако кто-то из них, Башуцких, находился в церкви.
Все, что произошло там, нельзя было счесть сновидением, болезненным бредом. В таком случае Бенкендорфу вряд ли пришлось бы обращаться к майору Озерецковскому и объясняться с баронессой фон В.
11
В дом на Малой Морской, недальний от дома отпетой княгини, Милий Алексеевич скользнул незамеченным ни швейцаром, ни дежурным фельдъегерем. Если Германн проник сквозь запертые двери поэтическим своеволием Пушкина, то наш очеркист – прозаически, совершенно естественно, легко объяснимо: он был почти бестелесен. Выздоравливая, Милий Алексеевич сам себе напоминал тех доходяг, о которых в лагере говорили: тонкий, звонкий, ушки топориком. А такого примечал только повар при попытке слямзить лишнюю миску баланды. Швейцар же с фельдъегерем доходяг отродясь не видывали, они и бровью не повели.
Башуцкий оказался в анфиладных покоях, занятых представителем старинной, правда, не axти знатной фамилии. Столь, однако, ветвистой, что она, одарив наше отечество первым шефом жандармов, одарила не наше отечество Паулем фон Бенкендорфом унд Гинденбургом. Тем самым фельдмаршалом, который, неслыханно нарушив субординацию, вручил Германию ефрейтору Адольфу.
Переходя из комнаты в комнату, Башуцкий любовался живыми вещами. Он считал, что антикварные лавки умерщвляют вещи, хазы нуворишей – не реанимируют; нувориш, как вор, не ощущает, не может ощутить трепета души давно ушедшего владельца. Вещи живы лишь там, где они внимали первому крику младенца и последнему вздоху старца, стону разбитого хрусталя и треску початой колоды. Здесь, в доме на Малой Морской, они, исполняя обыденные обязан-ности, безропотно подчинялись графу, графине, ее детям от двух браков, равно счастливых. Подчинялись, служили, нимало не помышляя об антиквариате, а потому были милы, изящны, красивы. Многие из них в минувшие годы обиходили персон, глядевших с фамильных портретов, писанных маслом, и притом, по мнению Милия Алексеевича, довольно посредственно.
Все эти персоны были гатчинцами, то есть подвизались некогда в дворцовом штате Павла Петровича, сперва наследника, засим императора. Бабушка Александра Христофоровича состояла при августейших малолетках. Отец генеральствовал рассеянно, что, однако, не гневило плац-парадного императора. А матушка, урожденная баронесса Шиллинг, прибыла в край белых медведей вместе с немецкой принцессой, выданной за наследника, и эта принцесса, сделавшись русской императрицей, благоволила подруге и ее детям. Что и говорить, усмехнулся Милий Алексеевич, насквозь немчура. Однако усмешка его адресовалась не персонам, глядевшим с портретов в тяжелых рамах, а тем, кто всех остзейцев стриг под одну гребенку. А вот русский из русских, Иван Андреевич Крылов, изволите ли знать, дружил с Бенкендорфами.
Поскрипывал навощенный паркет. Приближаясь к домашнему кабинету Главного Синего Тюльпана, Милий Алексеевич наперед любовался кабинетным убранством он питал слабость ко всему, относящемуся к занятиям письменным. К чернильным приборам гарднеровского фарфора с их голубыми узорами или бордовыми гроздьями в золотых ободках. К стройным лампам с расписными абажурами. К настольным часам с репетиром нажми рычажок, услышишь металла звон, никогда не однозвучный, ибо и душа твоя в каждую минутy не однозвучна.
Он не обманулся. Тут был не просто чернильный прибор, пусть и гарднеровского фарфора, а как бы позднее продолжение георгиевского сервиза, изготовленного еще при Екатерине Второй. Декорумом вилась оранжево-черная лента, мерцали изображения двух Георгиев, праведной награды, добытой в боях кавалеристом Бенкендорфом. Но все это приметилось мельком – он увидел Александра Христофоровича.
Тот был, что называется, халатным, то есть совершенно пo-домашнему, в шлафроке и вязаном колпаке, недавно оплешивел, темечко холодело, надевал колпак. Бенкендорф улыбался несколько шаловливо. Все это вместе показалось Милию Алексеевичу как бы заемным из времен екатерининских и как бы несовместным с временем николаевским. Впечатлению соответствовала бумага, только что написанная шефом жандармов, чернила, еще не просохшие, блестели тоже шаловливо, как и его улыбка.
«Доходит беспрерывно до моего сведения, что молодые люди, упитанные духом вражды к Правительству и принимая все мысли и даже моды Западной Европы, отпустили себе бороды June Franse. Хотя подобное себяуродование не заключает вреда, тем не менее небесполезно было бы отклонить молодых людей от такого безобразия, не употребляя, однако, мер строгих и каких-либо предписаний. Следует приказать всем будочникам и другим нижним полицейским служителям отпустить такие же бороды и, для вернейшего успеха, отпустить их в некотором карикатурном виде».
Милий Алексеевич руками всплеснул. Ай да Бенкендорф, ай да сукин сын! Нынешние-то пужают: смотрите, соотечественники, что же это с нами происходит: трактористы не поют «Светит месяц, светит ясный», доярки хороводы не водят, все трясутся в чужеродных ритмах, как в лихоманке. Пужают и требуют «предписаний». Ей-богу, «шотландцы», усмехнулся Милий Алексеевич. Он, вероятно, имел в виду влиятельную шотландскую секту семнадцатого столетия – гневаясь на порчу нравов, она требовала запрета ганцев и возобновления «охоты на ведьм». Так и нынешние. А ведь чего проще, отпустил бы мурластый майор-паспортист бородку а ля юная Франция, да и отдирал на танцплощадке, стекленея лубяными зенками, вот бы все и сгорели со стыда, хороводы завели и подблюдны песни запели.
Точно с разбегу, Бенкендорф прикидывал, чего бы это еще присыпать аттической солью. Не находя предмета, поскучнел. До встречи с государем он ежедневно ездил во дворец – оста-валось время. На Мойку, к Красному мосту, где до тридцать восьмою года, до передислокации к Цепному мосту на Фонтанке, гнездилась, как он шутить изволил, шпионщина, в дом у Красного моста являться охоты не было. Читать тоже.
На прошлой неделе кто-то, не пожелавший назваться, прислал ему «Небесные тайны» Сведенборга. Незнакомец словно бы проведал подноготную: утомленный земными тайнами, шеф жандармов, случалось, воспарял к тайнам небесным.
Поначалу Александр Христофорович был вольтерьянски усмешлив: математик и натуралист Сведенборг сподобился теософии при обстоятельствах комических. Живал он тогда в Лондоне, едал умеренно в таверне, да вот случилось чрезмерно нагрузить брюхо, а вдобавок, может, и нагрузиться портером. Ему сделалось нехорошо. В таверне огустел туман, в тумане объявились рептилии, гады ползучие. И вдруг кто-то громко приказал: «Не ешь много!» Туман расточился, оставив болотный запах, а гады исчезли. Осовевший и вместе испуганный Сведенборг увидел красную мантию… Швед дал обет воздержания. Вскоре внутренний взор Эммануеля Сведенбор-га обрел ту необыкновенную проницательность, которой не одарили его ни математика, ни минералогия, ни натуральная история. Он общался с душами умерших, витал в сферах и написал «Небесные тайны». Вот уже десятилетия потрясали они отнюдь не простаков.
Но Александр Христофорович поначалу усмехался вольтерьянски и даже, прости Господи, грубо матерьялистически. Однако после похорон княгини… Там, в церкви, прея в страшной духоте, чувствуя тошноту, он тоже увидел красную мантию, тоже услышал голос, пусть и не грозный, а шепелявый, но явственный: «Возьми и найди!» – и этот, в красной мантии, отдал ему платок с монограммой «Л. Л. Г.». А засим раздался глас: «Инициалы полностью!» – и Александр Христофорович не знал, что сие значило…
Да и как знать, откуда? «Инициалы полностью», то бишь имя и отчество, требовали грамотеи-вертухаи, заглядывая в камеру и выдергивая на допрос кого-либо из подследственных. Но требования тех будущих времен, когда фельдмаршал фон Бенкендорф унд Гинденбург вручил власть ефрейтору, а побратим ефрейтора, Лютый, подмял одну шестую, эти, как и прочие требования, были задернуты плотными завесами. Но, положим, Александр Христофорович и сообразил бы, о чем спрашивал глас под сводами, разве ж ответил бы? Расшифровать монограм-му не сумел бы покамест даже Башуцкий. Последнюю литеру – «Г», эту, пожалуйста, труда не стоило: «Германн». Разумеется, Германн, кто же еще! Но «инициалы полностью»? О-о, тут надо поломать голову…
Александр же Христофорович, вернувшись из Лавры, хотя и был разбит донельзя, прилежно читал «Небесные тайны». Но сейчас неохотно. Да и то сказать, чтение Сведенборга, его сумрачные, нордические построения предполагали отрешенность от злобы дня, белесо оплывающие свечи и бесшумную беготню подпольных мышей.
Неизвестно, долго ли находился бы шеф жандармов в рассеянии, если бы взгляд его не задержался на траурном извещении о давешней панихиде. Александр Христофорович лениво бросил бумагу в камин, но ток теплого воздуха упруго отнес ее в сторону и она, легонько покачиваясь, распласталась на ковре, как платок, нечаянно оброненный. Тотчас мысли Александра Христофоровича приняли иное направление… лучше сказать, получили направление, ибо в истекшие минуты он обходился вовсе без мыслей.
Его внутреннее око было достаточно сведенборгианским, чтобы в срок, остающийся до поездки в Зимний, установить связь трех носовых платков.
Первый носовой платок, о котором подумал шеф жандармов, хранился под стеклянным колпаком в Третьем отделении. Платок этот подал Бенкендорфу сам государь в ответ на просьбу об инструкции для тайной полиции. Вот тебе главное орудие на твоем поприще, сказал государь, осушай сим платком слезы униженных и оскорбленных, вдов и сирот. И прибавил, пристально взглянув на Бенкендорфа, что желал бы вручим, не этот, а другой, увы, утраченный.
Платок служил символом рачительности синих тюльпанов. И колпак тоже, ибо накрыл все народонаселение. Но тот, утраченный тринадцатого июля двадцать шестого года, обладал значением и весом реликвии.
Тринадцатого июля вершилась казнь. Вешали пятерых декабристов. Государь удалился в Царское, ждал там известий, все ли сошло благополучно. Бенкендорф остался в Петербурге. Он присутствовал. Глаз не опускал, но когда троих, сорвавшихся с виселицы, подняли и вновь… припал ничком к холке коня, конь всхрапнул, решма уздечки звякнули… А там, в Царском, государь бросал в пруд скомканный носовой платок и смотрел туманно: белый пудель, храбро пускаясь вплавь, доставал платок, в зубах приносил к его стопам, и Николай, думая совсем о другом, отмечал, что песик молодцом, промаха не дает, не пуделит. Но вот примчался фельдъегерь. Николай кинулся в Екатерининский дворец, пес, бросив платок, ударился следом…
Изредка вспоминая тринадцатый день июля, Бенкендорф не сожалел о своем сострадании к злодеям. Напротив, полагал, что этот душевный надрыв и порыв занесен в неказенный формулярный список и там, в графе «Награды», руцей царя царствующих начертано: «Достоин». Или еще определеннее: «Дать».
К холке коня припал Бенкендорф не в чистом поле. Его порыв и надрыв не остался незамеченным. Но государь… Юношей Николай играл на кларнете; не отличаясь, истинной музыкальностью, никогда не ошибался ни в нотах, ни в ритме. Коронуясь, не ошибался в выборе приближенных. Он был уверен, что Бенкендорф пойдет за него в сечу, в прорубь, на эшафот.
Ни словом не укорил государь Бенкендорфа. Разве что, упомянув о платке, потерянном тринадцатого июля, взглянул пристально. Но в пристальном взгляде не прочел Бенкендорф укора. Прочел иное. Обретая царство, царь потерял носовой платок. Ничтожная галантерейщина, в любой щепетильной лавке дюжины – и вот не забыл, помнил, потому что реликвия. Бенкен-дорф дал себе обет – принести и положить к стопам. Повелевало сердце, жаждущее выразить признательность. Молчаливую и, быть может, не понятую государем, оттого еще более глубокую. Но, поверяя свою заботу «шпионщине», он приватно наводил справки; увы, все отзывались неведением.
И символ, хранящийся под стеклянным колпаком государственной безопасности, и релик-вия, утраченная именно тринадцатого числа, поселили в душе Александра Христофоровича исключительное, уникальное, можно сказать, мистическое отношение к носовым платкам.
Однако надо без обиняков признать отсутствие чего-либо мистического в том, что старикан сенатор вручил ему носовой платок. Случайность. Мог бы притащить перчатку, пуговицу, еще какую-нибудь улику преступления в доме на Малой Морской. А вот обращение сенатора в красном мундире к генералу в мундире синем – это уже не случайность. К кому ж другому-то было обращаться бывшему начальнику Тайной канцелярии?
Нет нужды объяснять и решение, принятое генералом тогда же, под церковными сводами, в пандан архиерею, который говорил в ту минуту о «бодрствующих в помышлениях благих», он, Бенкендорф, непременно даст делу ход.
Но глас велий? Но «инициалы полностью»? Сидя в кресле спиною к окнам, Александр Христофорович ощутил близость озарения. Еще минута-другая, и ему бы открылся сокровенный смысл этого «полностью». Увы, осиянность схлынула. Может быть, потому, что Александр Христофорович был начинающим сведенборгианцем. А может, и потому, что солнце, едва выглянув, снова спряталось в тучах.
Александр Христофорович вздохнул. Ничего не откроется, пока не разгадана литорея «Л. Л. Г.». Литореей называли тогда и тарабарщину, и тайнопись.
Почти невесомо нажимая податливый репетир, он слышал, не слушая, легкий металла звон. Потом прищелкнул пальцем и позвал Озерецковского.
Майор служил не просто адъютантом, а личным адъютантом. Посему этот ладный штаб-офицер держался с почтительной фамильярностью, свойственной тем, кто уверен в личной необходимости его превосходительству. Милий же Алексеевич, взглянув на Озерецковского, улыбнулся неуверенно, как улыбаются человеку, о котором когда-то слышал, но, что именно слышал, вспоминают не сразу.
В школьные годы случалось Башуцкому наведываться с отцом к букинисту Шилову. Тот казался Милию стариком. Еще бы! Мальчиком на посылках этот Федор Григорьевич бегал за сельтерской для Лескова, пока тучный, одышливый классик копался в книжном развале.
Оборотистый, как многие ярославцы, подавшиеся во Питер на заработки, Шилов, входя в возраст, взбодрил свою торговлю старинными тиснениями и рукописями. Магазин держал по четной стороне Литейного; напротив, через дорогу, вели торг всероссийской известности букинисты Мельников, Трусов, Котов. Пахло переплетами свиной кожи, потертым, как на усадебных диванах, сафьяном; этот запах тепло мерцал вместе с блеклым золотом корешков.
Круг знакомства Шилова включал университетскую публику, коллекционеров и старьевщи-ков. Каждому он знал цену; любил же тихих любителей, похожих на знатоков певчих птиц – особенный наклон головы, будто к уху приставлена ладонь. А вот с какого бока отец затесался в этот круг, Милий Алексеевич и теперь сообразить не умел.
Пережив «национализацию», Шилов доживал в «уплотненной» квартире. Дверь изукрасил длинный перечень: такому-то жильцу столько-то длинных звонков, такому-то столько-то коротких, а другим вперемешку коротких и длинных. Но медная дощечка добротно и скромно тускнела на прежнем месте. Имя начиналось фитой, фамилия кончалась твердым знаком. Вспомнив все это, Милий Алексеевич явственно расслышал: «майор».
Пахло в комнате не тяжелым тленом, как в Особых Кладовых, а легким, немножко винным, как осенью. Федор Григорьевич, испивая чай с блюдечка, рассказывал о тряпичнике-старьевщике. Вот был расчудесный малый! Он с весу сбывал ветошь на бумажные фабрики Шлиссельбургского тракта, а ему, Федору Григорьевичу, приносил рукописный хлам. Однажды вот и досталась Шилову… как, однако, жизнь ниточку с ниточкой вяжет… именно Шилову и досталась пухлая связка, по краям как поджаренная, – переписка Александра Христофоровича Бенкендорфа с личным своим адъютантом майором Озерецковским. Чин офицерский произносил старик по-старинному: «майор», без «и» краткого, выходило осанисто, будто слово развернуло эполетные плечи. А связка рукописей была, утверждал старик, чрезвычайно интересная по своему содержанию. Продал ее Бурцеву – известный о ту пору коллекционер, жительство имел в Дегтярном, а потом куда делась, старик не знал, не столь это и важно. Сомненья прочь – речь-то шла о носовом платке с загадочной монограммой «Л. Л. Г.».
Между тем носовой платок в виде, так сказать, материальном, то есть матерчатом, запропастился черт те куда. Бросив ворошить бумаги, Бенкендорф ходил из угла в угол. Наличие вещественных доказательств заботит отнюдь не всех шефов жандармов. Однако исчезновение вещественных доказательств наводит на мысль о врагах внутренних. На сей раз эта версия исключалась. Бенкендорф начинал сердиться. Он хлопал себя по бокам, будто обыскивая, и озирался, точно ловил свой хвост.
Майор тоже озирался, но рукам воли не давал, что свидетельствовало как об исполнитель-ности, так и о душевном равновесии. Озерецковский и не слыхивал, что такое рассеянный склероз, зато хорошо знал, какова степень рассеянности Александра Христофоровича.
Она была наследственной. Его отец заглянет, бывало, на почту – нет ли писем? Спрашивают: «На чье имя, ваше превосходительство?» Батюшка, наморщив лоб, вспоминает. Или вот засиделся однажды в гостях, все давно разъехались, а он ни с места. Хозяин – сама вежливость – тоже. Глядят друг на друга и недоумевают. Наконец хозяин не выдерживает: «Христофор Иванович, ваш экипаж, наверное, сломался. Я велю заложить свою карету». – «О! – изумился Бенкендорф-старший. – А я хотел предложить вам свою!» Вот тебе и фунт. Думал, что он-то у себя дома, а этот невежа испытывает его терпение. И расхохотался. Бенкендорф-старший был добродушен.
Александр же Христофорович был снисходителен к своим недостаткам, лишь бы оставались незамеченными. Он посмотрел на майора. Личный адъютант являл образец решительной готовности. Это не было статское «чего изволите?», а было армейское «как прикажете!».
12
Домашний Бенкендорф произвел на Башуцкого недурное впечатление. Даже неловко было, когда Александр Христофорович засматривал под стол и стулья и, распрямившись, потирал виски: у него, должно быть, в глазах темнело.
Недурное впечатление от Бенкендорфа смутило очеркиста: как можно упускать из виду гнусное отношение к Гению?!
Не будь Пушкина, потомки вряд ли осудили бы Бенкендорфа на бессрочное заточение в аду. Вообще-то говоря, Милий Алексеевич сильно сомневался, чтобы Господь даже Лютого обрек на вечные муки без возможности обратиться с покаянным заявлением. Самая мысль о геенне огненной недостойна Бога. Евангелисты придумали, евангелисты, смертные, как все человеки.
Совсем еще ребенком, впотьмах, в теплой своей кровати, слыша ровное дыхание родителей, он тихо и горько расплакался. Милию Алексеевичу, он это помнил очень хорошо, не то чтобы вообразилась смерть, а просто подумалось, что вот и его когда-нибудь не будет на свете, и он расплакался от жалости к самому себе. На войне Башуцкий пуще смерти страшился участи «самоварчиков», участи тех, кому ампутировали все конечности, страшился, хотя ни одного «самоварчика» не видел. Лагерная жизнь, выматывая жилы, вышибала из башки «вопрос о смерти»; «вопрос» решали конвой, служебно-розыскные сучары и, конечно, оперуполномочен-ный, очевидно страдавший недержанием мочи, такой он был, бедняга, уринный. А теперь на склоне лет… Когда-то в трудовой школе соклассники чинили пролетарский суд над дворянином Евгением Онегиным. Крепостнику предъявили много обвинений, в том числе и «буржуазное отношение к женщине», что было одним из признаков кризиса феодализма. Но вот вам младость – суд не поставил в строку такое лыко: «Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе…» Эксплуататор Онегин и думать не думал о том, что должен же кто-то выносить ночную посудину, менять рубашку, отирать пот, следить, чтобы не было пролежней, а пролежни все равно будут… Телесной неопрятности медленного умирания, унизительной зависимости от сиделки, которую к тому же ни за какие коврижки не найдешь, ужасался и брезговал Милий Алексеевич. Принимали бы телеграммы на высочайшее имя, послал бы с оплаченным ответом: «Прошу разрешения окочуриться без хлопот».
Шуточками открещивался, а исподволь-то и прорезалась резкая черточка. Работу свою начинал он всегда спозаранку. Задолго до того, как соседи-враги вели артподготовку к новым свершениям на трудфронте – злобно хлопали дверьми, чайниками гремели, словно на узловой станции, где будки с надписью: «Кипяток бесплатно», и все это на звуковом фоне клозетной воды, низверглась она, рыча и захлебываясь. Но прежде, поднимаясь ранехонько, Милий Алексеевич испытывал бодрое, как ток воздуха из распахнутой форточки, нетерпение: хотелось поскорее продолжить начатое накануне. Теперь в его предутреннем сне брезжила глухая тревога, ощущение чужого, враждебного присутствия, и он, спустив ноги с дивана, вставал так, будто обманным маневром увиливал от этого чужого, враждебного, торопясь не продолжить вчерашнее, а поскорее закончить работу, отчего работа продвигалась медленно… И еще вот что. Очерки требовали от Башуцкого частого загляда в энциклопедии, он примечал теперь то, чего раньше не примечал: краткость жизни такого-то или такого-то.
Бенкендорфа он уже пережил. Бенкендорф умер шестидесяти одного от роду. В сентябре 1844-го. Скоропостижно. На корабле. Прекрасная смерть, играют волны, ветер свищет. Сбылось, значит, начертанное руцей царя царствующих в его неказенном формуляре: «Достоин».
Будь на то воля нашего очеркиста, он нипочем не отпустил бы с миром шефа жандармов. Дудки! Однако в казенном формуляре бывшего зека не имелось никаких указаний на сей счет. Указание получила баронесса фон В.
Неясно, однако, кто именно командировал ее на борт «Геркулеса». Поначалу можно было предположить вмешательство шведского теософа Сведенборга, трактат которого «Небесные тайны» прилежно читывал-перечитывал Александр Христофорович. Да и Пушкин в «Пиковой даме» – смотри эпиграф к пятой главе, – ссылаясь на того же Сведенборга, упоминал баронессу фон В.: «Она была вся в белом и сказала мне: „Здравствуйте, господин советник“». Сказать-то сказала, но никакой фон В. пушкинисты не обнаружили у Сведенборга. Обнаружил он, Милий Башуцкий, пушкинистам неизвестный. В давным-давно опубликованном прозаическом отрывке: «В 179… году возвращался я…»
Именно там и указал Пушкин, кто она такая, эта фон В., жительница Лифляндии, вдовая генеральша Каролина Ивановна. Отрывок, как очень и очень уместно отметил наш разыскатель, писан был на бумаге с водяным знаком того же года, когда создавалась «Пиковая дама».
Так-то оно так, но из этого нельзя заключить, будто Пушкин поручал ей диалог с шефом жандармов. То был, вероятно, почин фон В., если, конечно, не принимать всерьез желание Милия Алексеевича.
13
Старея, Бенкендорф все чаще навещал германские курорты. Он пил там целебные воды, не исцелявшие его. В этот раз он побывал в Амстердаме и как бы взбодрился своей молодой славой: он освобождал Голландию от французских оккупантов. Нынче, однако, обнимала Бенкендорфа безотчетная тоска.
Пароход «Геркулес» шел в Кронштадт, кочегары держали пар на марке, слышались, как из-под подушки, мерные удары машины. Солнце садилось в тучи, качало несильно.
Лет десять тому этот же «Геркулес» следовал из Кронштадта в Данциг. Государь находился в соседней, царской каюте. Свитских поместили на другом пароходе, на «Ижоре». Как всегда, во всех вояжах, Александр Христофорович был неразлучен с государем. Русского царя ждали в Германии, ждали в Австрии. Данциг встречал салютом.
Александр Христофорович лежал на широком диване в каюте, щегольски убранной. Позвякивало, не поймешь где, стеклянно и тонко. Его минуты были сочтены, но этого он не сознавал, как и не сознавал того, что эта безотчетная тоска называется смертной.
Пристально глядя на каютные окна, он подумал по-французски: «И никакого человеческого участия». Окна были задраены, казалось, стекла гнутся под напором багрового заката. «Никакого человеческого участия», опять подумал Александр Христофорович, но теперь уже не вяло, а с той отчетливой напряженностью, какая бывает на миг до утраты сознания, и тотчас оттуда, из багровой тьмы, возникла баронесса фон В. Баронесса была вся в белом, она сказала: «Здравствуйте, господин генерал!»
«Мне надо знать, генерал, – строго произнес нездешний голос, – отчего вы так ненавидели покойного Пушкина. – Пот охладил скулы Бенкендорфа. – Я слишком многим обязана покойному Пушкину, – еще строже продолжала баронесса фон В.,– он дал мне бессмертие, и я хочу знать, генерал, почему вы так мучили его».
Александр Христофорович почувствовал быструю убыль своей плоти, словно бы оплывал, как свеча на сквозняке.
Он мучил камер-юнкера Пушкина? Послушайте, ведь государь говорил: «Бенкендорф ни с кем меня не поссорил и со многими примирил». Покойный Пушкин принадлежал к их числу. Ну, хорошо, хорошо. Положим, не примирял, да ведь и не ссорил. А? Нет, баронесса, не ссорил! А вот он меня обижал, да-с, обижал. Разве ж не обидно, когда в «Медном всаднике» читаешь: «Пустились генералы спасать и страхом обуялый, и дома тонущий народ». Эка ведь «пу-сти-лись» – и вся недолга. Наводнение двадцать четвертого года изволите помнить? Буйство стихий, мы с Милорадовичем в баркасе. Ветер, крики, гибель, последний день Петрополя, тут храбрость истинная, не на Царицыном лугу. И заметьте: спасал-то я «тонущий народ», простолюдинов, кому ж воспеть, как не Пушкину! А он «пустились», и баста. А я, вручая ему рукопись с пометками государя, глаза отвел, чтоб ни намека… Нет, меня в стихах-то воспели. Но кто? Слыхали – Висковатов? Разнообразнейшая, скажу вам, личность. И «Гамлета» для нашей сцены приспособил, и в моих агентах состоял. Печатно восславил, публично, вот забыл, в каком журнале тиснул. Подлейшая лесть, мне это претит… Мучил?! Так позвольте вам доложить, баронесса, я предлагал ему камергера. И место в моей канцелярии. Упаси Боже, не в доносы вникать, а ради того, чтобы на Кавказ вояжировал, он же так стремился на театр военных действий. И что же? Отказ! Хорошо-с, дальше. Фон Фок служил у меня, умница, чрезвычайная опытность, жаль, рано умер. А известно ль вам, как Максим Яковлевич аттестовал Пушкина? «Человек, готовый на всё». Слышите, «готовый на всё!». И кому аттестацию подал? Нет-с, не собранию Вольного общества любителей российской словесности, членом коего состоял, а вашему покорному слуге, начальнику высшего надзора. Как прикажете поступать? Вот то-то и оно. Мне, стало быть: опаснейший человек, а ему в глаза, письменно: «Ваш отличный талант» и так далее. И это льстит сочинителю Пушкину. И вот, извольте: «Человек добрый, честный, твердый» эдак он про фон Фока. А я не льстил, но и не оскорблял. А ежели бы… Помню, ничтожный Булгарин подстрекнул, пружина и соскочила: погорячился, накричал на барона Дельвига, велел убираться вон, пригрозил… А потом – не по себе. Нет, думаю, нехорошо, надо бы извиниться. Как на грех занемог, послал чиновника: снеси-ка, братец, мои искренние извинения и сожаления…
«Генерал, вас ничто извинить не может», – ледяным тоном срезала баронесса. Александр Христофорович облизнул пересохшие губы, заговорил горячо, сбивчиво.
Ничто извинить не может?! Сейчас поймете, сударыня. Я не желал зла Пушкину, этого не было. Я не желал добра Пушкину, это было. Постарайтесь понять. Он обессмертил вас? Пусть так. Но он отнял бессмертие у человека достойнейшего – у Михаилы Семеновича, князя Воронцова. Великий муж на поприщах военном и статском. А какое сердце! В его имении в селе Андреевском Владимирской губернии в залах, в покоях, во флигелях бессчетные вмятины на полу от солдатских костылей – гошпиталь. Ах, не понимаете? Потрудитесь понять! В незабвенный день Бородина князь был ранен тяжко. В его батальоне насчитывалось четыре тысячи штыков, уцелело – триста. Отступали, дни отчаянные. Едва живого привезли в Москву, в Немецкой слободе дом собственный. На дворе подводы, мужики, присланные из Андреевско-го: грузят барское добро. И что же? А вот что, милостивая государыня: князь велит опростать телеги, велит спасать раненых, всех забрал, никого не покинул, бессчетные следы костылей в Андреевском. Укажите другие примеры! Уверяю, достанет пальцев одной руки… Бенкендорф перевел дыхание. Он силился приподнять голову… Не все, баронесса, не все, слушайте, продол-жал он, не видя госпожу фон В., но чувствуя влажное веяние, понял, что она обмахивается веером… Годы спустя Михайла Семенович служил в Одессе. Приезжает Пушкин, такой молоденький, такой зелененький, пороху отродясь не нюхивал. Ходит фертом – либерал в изгнании. Его принимают, к нему милостивы – он платит черной неблагодарностью. Эпиграм-мками! «Полу-герой…»? Да поглядел бы в глаза бородинским ветеранам! И тем, кто пал под Лейпцигом. И тем, кто бился при Краоне, где князь схватился не с кем-нибудь – с Наполео-ном… «Полумилорд»? Что ж тут зазорного? Аглицкое воспитание, натура русская, оттого и вполовину. «Полу-купец»? Гнусный намек на мошенство? А если презрение аристократии к аршинникам, то глупая спесь. А «полу-подлец» и вовсе мерзость. Кому в лицо брошено? Кому и за что? За то, сударыня, что супруг воспротивился обольщению супруги: Пушкин приволокнул-ся за княгиней Елизаветой Ксаверьевной. О, молод был, пылок, страстен, да мне-то какое дело?! Я своему первейшему другу сострадал. Может, я один постигал муку Михаилы Семеновича. Вас трогает культ дружбы лицейских? Отчего ж отказывать нам, ветеранам, сроднившимся под ядрами? Мог ли я расположиться к жестокому оскорбителю моего первого, моего бесценного друга? Дивиться надобно, что не пустил противу Пушкина все мои средства, тем паче поводов было с лихвой. Великий талант? Да хоть бы и лорд Байрон! Дурные поступки всегда дурные поступки. А то вот додумался ваш Пушкин: у великих людей все «иначе». Индульгенция!
Бенкендорфа обметало крупным, как градины, потом. Вдруг губы его тронула нехорошая усмешка. Если на то пошло, поручик Дантес поднес камер-юнкеру Пушкину ту самую чашу, какую тот в свое время заставил испить бойца с седою головой. Разумеется, как христианин скорбишь о происшествии на Черной речке… Александр Христофорович замолчал… Но астральная дама поняла, о чем он молчит. Всю жизнь он любил Елизавету Ксаверьевну Воронцову. Любил, оставаясь образцовым супругом. Жестокая ревность к счастливцам, к Пушкину в том числе, оскорбляла его возвышенную любовь.
Астральная дама, проницая будущее, не столь уж и дальнее, не мигая, смотрела мимо Бенкендорфа. Глаза ее мерцали. Ей открылось ужасное: серый, в трещинах череп прекрасной Воронцовой, шмякнув на землю, откатился в сторону. Парень в спецовке, в зубах папироска, ловко, как форвард, наддал носком сапога, и череп влетел в тухлую ямину у забора Слободского кладбища. Мотор грузовика не глушили, воняло машинным маслом, дрянным бензином. Старушки нищенки, обмерев за чапыжником, мелко и быстро крестясь, смотрели, как в эту ямину сбрасывают останки Воронцовых. На окраине Одессы петухи запели. Люди в спецовках управились споро. Вот так же сноровисто взорвали давеча Преображенский собор, где покоился герой Бородина и его жена-княгиня. Грузовик встряхнулся, чихнул и уехал. Парни в спецовках, нахлобучив кепки, стояли в кузове, свежий приморский ветер холодил потные крепкие лица. Хорошо!.. А в центре города, на Соборной, смугло бронзовел генерал-фельдмаршал, скоро постамент украсит надпись: «Полу-герой, полу-невежда… полу-подлец…» Вот она, сбылась надежда – «…полный будет наконец».
Не столь уж далеко проницала астральная дама – в тридцатые годы советской Одессы. «Бога ради…» – шепнул Бенкендорф из последних сил, но тут-то и понеслась кавалькада. Гулко, дробно, быстро, бешено неслась кавалькада на высочайшем смотру драгунской дивизии – в тот год, когда они с государем вернулись из Европы на этом «Геркулесе». Вослед императору, не отставая, мчал Бенкендорф, конь споткнулся, грянулся оземь, увлекая всадника, кавалькада свитских, не успев осадить, летела над ним, распростертым – гулко, дробно, быстро, бешено, – белый снег, черные копыта… Тогда отделался тяжкими ушибами, теперь это была агония. На последнем вздохе он произнес отчетливо: «Dort oben auf dem Berge…» «Там, наверху, на горе…»
О чем это он, какая гора, где?
14
Год иль полтора тому случилось Милию Алексеевичу читать рукописные мемуары сослуживца старшего сына Пушкина. Читал, и кровь ударила в голову: «А у меня дядюшка умер», – меланхолически отозвался сын Пушкина на известие о кончине старика Дантеса.
«Дядюшка»!!!
Поостыв, Милий Алексеевич стал думать о том, что убийца Пушкина не был в глазах его сына убийцей. Сколь бы ни скорбел сын, Дантес не был убийцей противник, вышедший к барьеру по правилам дуэльного кодекса. Но что было делать ему, Башуцкому?
Всех пушкинских современников Милий Алексеевич соизмерял с Пушкиным: хорош или нехорош был такой-то с Пушкиным. Все, современное Пушкину, сопоставлял с ним: хороша иль нехороша была ситуация для Пушкина. И ни на вершок отступления от объективности? Да в ней-то и нужды не возникало. Нет, не так! В этом соизмерении она-то и была. Конечно, не исключалось и «пока»: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон…» Вся штука в том, что и пушкинское «пока» по сердцу.
Но ведь Пушкин завещал: даже любовь к родине не должна уводить за пределы строгой справедливости. Даже к родине! Нелюбовь тоже. Но душа не принимает ни «дядюшку», ни шефа, хрипевшего в корабельной каюте. Ладно, возьмем ближе. По силам ли тебе строгая справедливость к другому гонителю другого поэта? Во всяком случае, понять комсомольского Секретаря, без пяти минут председателя Лубянского Комитета, не велик труд. Опоили ненавистью. Автор «Тихого Дона» восславил с трибуны партсъезда Водокачку. Образ эпический: Водокачка годин гражданской. К ней, станционной, бурой, осклизлой, лепилась разная контра в час скорострельных казней. Семичастный поносил Пастернака. Но «разменять» у Водокачки не требовал. Стало быть, изволь-ка, гражданин Башуцкий, изволь во имя строгой справедливости… Нет-с, уж лучше подождать, покамест и председателя допросит баронесса фон В.
Но Бенкендорфа она уже допросила. Башуцкий пожалел: какая опрометчивость! Не надо было лезть в каюту «Геркулеса». А теперь признавайся сам себе: «Ты этого хотел, ты это и получил».
Не душой, а умом искал он строгой справедливости. За минуту пред тем, как ударили в грудь генерала черные копыта последних коней, помянул он тех, с кем сроднился под ядрами, на биваках, в атаке. Каковы бы ни были послевоенные карьеры, сколь бы ни плесневело сердце, а ведь остается заветный, ветеранский, что ли, уголок.
Молодой Бенкендорф труса не праздновал. Трубил усатый штаб-трубач; тяжелое полковое знамя сжимал безусый фанен-юнкер. Доломаны и киверы, восторг и упоенье. Зарево в полнеба и дым пороховой. На том бы можно было и покончить с молодым Бенкендорфом в грозе Двенадцатого года, если бы молнии ее не высветили черты примечательные.
Военные записки Александра Христофоровича не отличались ни яркостью изложения, ни резвостью мыслей. Притом, однако, автор не становился на котурны, изображая те «малые земли», где ему привелось действовать, ключевыми позициями Отечественной. Отступление и наступление он вспоминал без генеральских претензий на анализ и синтез. Рассказывал, не мудрствуя, как было дело, не скрывая и те случаи, когда его кавалерийским отрядом неприятель попросту пренебрегал. Не Бенкендорф, а другой мемуарист, милостью властей не взысканный, напротив, в Сибирь сосланный после 14 декабря, отметил: отряд гвардейских казаков дрался замечательно, его успехи «единственно приписать должно прозорливости и смелому действию Бенкендорфа».
Но Милий Алексеевич, будто с лупой в руках, сосредоточился на ином. Право, он не ожидал от гатчинца, флигель-адъютанта, светского вертопраха такого сочувствия к простолюдию.
Отступая вместе с армией на восток, Бенкендорф ужаснулся «бедственному рабству» белорусских мужиков, счел их повсеместные бунты жестоким ответом на тиранство шляхты. Потом, и не понаслышке, узнал, что и русские пахари, объятые «варварским наслаждением», подпускают красного петуха в дворянские гнезда. Он и русских понимал: мстят дуроломным душевладельцам – не умеют стричь овец, а машисто сдирают шкуру вместе с шерстью.
Однако и сочувствие, и понимание отнюдь не предполагают душевного почтения к достоинствам тех, кому сочувствуют, кого понимают. Многие «одноклассники» будущего шефа жандармов отдавали должное отваге, терпению, сметливости, самопожертвованию лапотного воителя. Милий Алексеевич не удивился, вычитав в мемуарах Бенкендорфа хвалу тем, кто доброхотно и проворно пособлял провиантом, фуражом, ремонтом, то есть поставкой лошадей, разведками-рекогносцировками, наконец, прямым участием в сшибках с неприятелем. Все так, да вот, кажется, ни один из тех, кто обретался страшно далеко от народа, не высказался столь кратко и сильно, как Бенкендорф: я уважаю крестьян.
Милий Алексеевич предположил тут неверный перевод с французского. По выражению Лютого, дворянчики баловались французским; Бенкендорф, продолжая баловаться французским, переубедил Башуцкого. Александр Христофорович рассказывал, как получил приказ обезоруживать и расстреливать изменников, то есть мужиков, возмутившихся противу господ. И тотчас, будто палашом, отрубил: клевещущие на русских крестьян – сами изменники; расстреливать русских крестьян – не могу.
Башуцкий растерялся. Не потому, что так поступил хотя и россиянин, а все ж не коренной русак. Об этом «все же», повертывая и перевертывая, выдергивая и передергивая, твердил известный знаток русского самосознания критик Валериан Шагренев. Но и Башуцкий не был свободен от этого «все же». Правда, иного свойства, социального.
Слова и поступки Бенкендорфа отнес бы он к истокам декабризма, не окажись Бенкендорф на другой стороне. Ежели декабристы были страшно далеки от народа, то что уж говорить об участнике следствия над декабристами, о будущем шефе жандармов? Но – вот: расстреливать крестьян, усердных и верных защитников отечества, не могу.
«Не могу!» – язвительно повторил Милий Алексеевич точно бы в пику этому «все же» – и шагреневскому, и своему, блуждающему, как бляшка-тромб. Строгая справедливость и еще раз справедливость. Не на мундир взирай, как библейский Самуил, не на лицо, а на сердце, как библейский Господь.
Однако тотчас возник «тромб», не давешний, не блуждающий, а в костюме-тройке и в белой сорочке при ортодоксальном галстуке; на пиджаке цветные планки, забранные в плексиглас и потому похожие на мундштуки-самоделки военного образца; бородка а ля марксист-аграрник, а зеркалом души – мутные глаза снулой рыбины.
Этот Сытов, даже самому себе писатель неизвестный, занимал в Союзе писателей парткресло. Он писал резолюции собраний дня за три до собраний. Краеугольным камнем бытия своего возложил он чертову дюжину книг Лютого, все как одна в обложках цвета хванчкары. Сытов был занудлив, как доморощенный гекзаметр, – трясешься в автобусе и елозишь глазами по табличке: «Двери открывает шофер на основной остановке… Двери открывает шофер на основной остановке…»
Очерки Башуцкого нередко доставались именно Сытову. (О, Милий Алексеевич охотно променял бы этого рецензента на неистового Валериана.) И хотя сейчас Башуцкий лицезрел Сытова, так сказать, внутренним оком, коленные чашечки пренеприятнейше заныли. Не оторвались, уцелели, когда полковник в желтых полуботинках грозил физическими методами, и вот ныли, ныли при мысли о методах идеологических. Отцы ели виноград, у детей оскомина, Милий Алексеевич наперед знал, чего ждать от снулой рыбины в обличье Сытова: есть факты и есть фактики, смещение акцентов, политическая незрелость и т. д. и т. п. А под занавес, как отправка этапом на перековку: рукопись требует кардинальной переработки.
Потирая колени, автор еще не существующей рукописи смотрел в окно и видел: духовным взором – сытовых, материальным – щелистый ларь с помоями и бурый брандмауэр. Смотрел, нахохлясь, и вновь спотыкливо тащился вместе с бригадой зеков по осклизлой лежневой дороге. Таежный гнус толокся столпом низких истин: сила солому ломит, на рожон не при, против ветра мочиться сам мокрым будешь… Костя Сидненков, знаменитый бандит, сумрачно тоскующий по вольной воле, блеснул латунными зубами: «Эх, Милька, сопи в две ноздри!» Длинные палаческие пальцы с плоскими ногтями пробежали по клавишам баяна. «Таким, как ты, – угрюмо добавил каленый зек, – надо ужом ползти, а то сдохнешь».
Однако что же сейчас означало это сопенье? А то, милостивые государи, что многое в еще не написанных «Синих тюльпанах» решил Милий Алексеевич похерить. И возместить позор утраты повтором пушкинского приема: «Гости съезжались на дачу…» – «Третье отделение учредили в 1826 году…».
Ну, а это – ужом – перекликалось с доктриной знакомого Башуцкого в молодости кладовщика-баталера, изловчившегося променять шаткую палубу эсминца на твердый бережок; доктрина гласила: «Вперед не забегай, назад не отставай, а посередке не толкайся».
15
В коляске, плавно бегущей, следил Бенкендорф полет серафимов, хранителей и сеятелей Млечного Пути.
Одним из первых покидал он московские бальные залы, уезжал в третьем часу ночи. Вздыхал: «Устают старые кости». Он не кокетничал, ему было за сорок.
Коронация свершилась, торжества продолжались, государь пребывал в Москве. Гром бальной музыки глушил поддужные, где-то там птицы-тройки умыкали в Сибирь декабристов. А здесь, писал Бенкендорф любезному другу Воронцову, здесь молодежь неистово танцует, не думая о делах политических.
Дела политические подлежали ему. Еще официально не объявлено, но Третье отделение уже возникло. Не припозднишься на балах – чуть свет бодрствуешь.
В коляске, откинувшись на подушки, созерцал он полет серафимов. Ангельские крыла, роняя алмазы-капли, оставляли небесам жемчужные россыпи, какая благодать… Его жизнь, выключая походные, бивачные годы, текла под небом северной столицы. Если он и замечал петербургское небо, то рассеянно, никогда не ощущая вот этого, «московского» движения души: какая благодать… Пятнадцатилетним прапорщиком он был флигель-адъютантом при Павле Петровиче. Таковым остался при Александре Павловиче. Поручения были ничтожные. Ну и носило флигель-адъютанта на Урал, на Каспий, в Тифлис, даже на греческие острова, в Корфу. Мимоездом гостил он у дядюшки близ Страстного монастыря. Орел двуглав, но империя одноглава: столица там, где августейшее семейство, где лейб-гвардейские казармы. Транзитному свитскому офицеру Москва мирного времени была хлебосольным постоялым двором. А Москва военного времени для него, сделавшего уже несколько боевых кампаний и недавно произведенного в генералы, стратегической позицией.
Он оставлял эту позицию в сухой теплый день. Его отряд дислоцировался у Крестовской заставы, прикрывая московский исход на Ярославский тракт: густые толпы, телеги, рыдваны, кибитки. И этот тяжелый, горестный ток, и этот перекат желваков на солдатских щеках, и запалившийся конь, нервно грызущий удила, и придорожный боярышник, испуганно поникший, – все отзывалось болью, но, когда он заметил пегую коровенку – опустив рога, враскорячку тащила буренушка повозку с жалкой кладью, – в эту минуту и прихватило душу отчаянием.
Вот почему сейчас шестикрылые серафимы дарили ему ясные теплые ночи московского бабьего лета. Но была еще причина, тоже известная Милию Алексеевичу.
Неприятель насиловал Москву без малого сорок дней и сорок ночей. Неприятель оставил Москву, сказали наши солдаты, «застрамленной». Отряд Бенкендорфа, взметывая сизую золу, отстучал копытами в полутемных улицах, по земле, схваченной холодным утренником. Бенкендорф, приняв обязанности коменданта, перво-наперво выставил караулы в Кремле, взорванном и ограбленном чужеземцами. Но пуще ужаснулся он святохульству своего начальника, казачьего генерала Иловайского. Сын тихого Дона, застенчивый в бою, оказался куда как буен в тылу. «Ваше превосходительство, – не умея скрыть возмущение, напустился Бенкендорф, – ведь это ж святыни московские, надо вернуть». Иловайский, большой сторонник самобытности, отвечал, раскуривая трубку: «Э, батюшка, нельзя. Я, батюшка, обет дал: все ценное, доставшееся моим казакам, отправляю на Дон».
Вот уж кого следовало бы «расказачить». Увы, Бенкендорф не сумел. Но храмы опечатал и уберег еще не разграбленное. И потому горние космополиты дарили нынче небо в алмазах.
Однако благодать в единстве с шампанским навевают сонливость. Бенкендорф зевал, потягивался, хрустел пальцами. Где он квартирует, Милий Алексеевич не знал, но знал, что будет завтра, то есть уже сегодня, и кучер, повинуясь Башуцкому, правил в Кремль, к Малому дворцу.
Ныне в ампирные покои, испещренные тенями слабо желтеющего сада, доставят из псковского захолустья опального дворянина. Его дорожный костюм пропах суглинками большака. Отверзятся филенчатые позлащенные двери царского кабинета, и государь произнесет великодушно: «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?»
16
Шестнадцать лет Бенкендорф ждал этого дня.
Давним осознанием своего предназначения Александр Христофорович был обязан Парижу. Вот веское доказательство пользы заграничных командировок на казенный счет. А то ведь болтают Бог весть что: мол, за барахлом мотаются, а мы денежки платим.
Пусть не столь вульгарно, но приблизительно так полагал и Александр Первый, отпуская из Петербурга своего флигель-адъютанта. Очередное ничтожное поручение – состоять в свите посла к императору французов.
Посольство прибыло во Францию в восемьсот десятом году. Посол граф Толстой, разделяя мнение государя о Бенкендорфе, предоставил его самому себе. Если праздность – мать пороков, то Париж, очевидно, отец пороков. «Это было время разгульной жизни будущего шефа жандармов», – прочел Милий Алексеевич в своей тетрадке и подосадовал: цитата без сноски на источник. Впрочем, отыскать тогдашние «парижские картинки» не велик труд, рисованы и пером, и пастелью, и маслом. Не так уж трудно отыскать портрет мадемуазель Жорж и перечитать занимательное сочинение «Наполеон и женщины».
Башуцкий удержал в памяти лишь один эпизод. Вот такой. Ночь, Наполеон в дворцовом кабинете. На столе бумаги, ландкарты, всякая там стратегия несправедливых войн. Скрипит дверь, камердинер почтительно: «Ваше величество, она здесь». – «Пусть подождет», – отрывисто бросает его величество. Час-другой, скрип двери, шепот: «Ваше вели…» – «Пусть раздевается». Время за полночь, но завоевано лишь полмира. Отворяется дверь, слышно: «Ваше…» – «Пусть уходит!»
Лишь это и удержалось в памяти из длинной саги об императоре французов и женщинах не только французских. Клубничкой не любопытствовал Милий Алексеевич. Но тут было и некое мстительное чувство. «Пусть уходит», а мы остаемся со своим делом, и нечего нам сидеть под окном, уныло повторяя: «Виду никакого…» Может, и не стоило бы заглядывать в подклеть души Милия Алексеевича, если бы оттуда не струился свет на его дело, на его работу, включая и сию минуту…
Влюбился он бурно, женился быстро. Минуло несколько месяцев, его взяли. Года полтора спустя он получил письмо от Катерины. Она учила школьников немецкому языку и, оставаясь женой врага народа, на себе испытывала святое презрение честных тружеников. Старушка соседка плевала в Катеринину кастрюлю с супом, приговаривая: «Вредители! Вредители!» Подруги сторонились Катерины; приятели Башуцкого словно в воду канули. (После лагеря Бащуцкий не бранил ни ее подруг, ни своих приятелей. Сказал: «Черт знает, может, и я поступил бы так же». Она сказала: «А я бы не так», – и это была чистая правда.) Год за годом Катерина писала Милию, год за годом отправляла посылки, что было не так-то просто – не каждая почтовая тетка отваживалась принять посылку, адресованную в лагерь. Но была Катерина так одинока, так одинока и так молода, и так хороша. А тот, другой, тоже был молод и тоже влюбился бурно. Катерина бывала у него, но замуж не вышла. В несчастье, сказала, не бросают. Нисколько не винясь и не заискивая, чуть не с порога она рассказала Башуцкому «об этом человеке». Ее поспешность продиктовал не страх разоблачения, а гордыня.
Башуцкий вымученно усмехнулся. Лазерным мазохизмом были вариации на тему: «Мы тут горбим, а там наших баб… во всю Ивановскую». Башуцкий не верил, его Катерина не такая, как все. Оказалось, и не такая, и такая же. Вымученно усмехнувшись, он промолчал. Не хотел унизить Катерину всепрощением каторжника-страдальца? Поэзия. Оголодавшей плотью желал он жену свою и ужасно боялся, чего до лагеря не испытывал, ужасно боялся оплошать. Проза.
Потом пили чай, курили (Катерина курить начала в очередях с передачами), да, чай пили, смеялись… Вот тогда-то и надо было расстаться, спокойно и грустно расстаться, потому что жизнь уже развела их, и они это чувствовали, но не то чтобы не хотели, а не могли в этом признаться ни каждый себе, ни один другому.
Года два склеивали разбитый горшок. У Катерины было не умозрительное представление о долге, а родовое, от прадедов досталось, потомственных священников. Она не прочь была повеселиться, поплясать, но жизнь принимала не праздником, а юдолью. Принимая, склеивала горшок, что и было исполнением долга… А Башуцкий при первой же близости с Катериной чувственно понял, что однажды и навсегда проиграл «этому человеку». Он не умел избавиться от мерзейшего подглядывания и за ней, и за собою. А в иные минуты было нечто «шизоидное». Он как бы сопротивлялся загробной победе Лютого, всей здравствующей сволочи, и тому вот, в желтых полуботинках. Не Лютый бы со своей сволочью, жили бы вместе и умерли вместе, твердил себе Башуцкий в какие-то сумасшедшие минуты. Но Аполлон Аполлонович, язвительный зек довоенного разлива, скалил желтые крепкие зубы: «Сколько мартышка ни вертись, а попка голая». И приходилось признавать свою дрянность, признавать не победу Лютого, нет, пошлейшее самолюбие и еще черт знает что. Башуцкий стал выпивать и выпивать крепко. Начались скандалы. Он пускал в ход банальное, жалкое: «Ты меня не понимаешь». Катерина, впиваясь ногтями в ладони, гневно отвечала, что она-то понимает, очень хорошо понимает мелкую, дряблую душонку, эгоцентризм, себялюбие избранничества – как же, «он пишет!» – и называла Миличку «обаяшкой». Презрительное словцо бесило Башуцкого прорывом, пусть и мимовольным, телесной неудовлетворенности Катерины. Он не ошибался. Ошибалась она, считая, что «это» над нею не властно.
После скандалов Башуцкий как бы оказывался на безлюдном полустанке моросит, поезда нет и не будет, а день без числа. «Я сел под окно. Виду никакого», – записывал кто-то из пушкинских персонажей. Он сидел под окном, виду никакого.
Кончилось тем, что Катерина хлопнула дверью. Измученный Башуцкий перевел дух: «Пусть уходит». И все же дважды иль трижды пытался встать, что называется, на дружескую ногу. Дурак! Он получил гневный отпор. По мнению Милия Алексеевича, это было справедливо, как и латинское: да свершится правосудие, хотя бы погиб мир. Но и обидно, ведь он же хотел по-хорошему.
Все давно минуло. Однако оттуда, из минувшего, струился отсвет, как бы поясняющий один из многих недостатков его беллетристических опытов. Он не то чтобы избегал изобразить женское сердце, женский характер, а попросту, словно бы и не замечая, обходился без них, как обходился, скажем, без абстрактной живописи. У него не возникала потребность сопереживания слабому полу – такое же несовершенство натуры, как и отсутствие музыкального слуха.
Вот и сейчас была ему без нужды мадемуазель Жорж. Он бы сказал: «Пусть уходит». Но в груди корсиканца билось не столь черствое сердце и, отложив планы всемирного господства, он отправился к ней.
Мадемуазель Жорж, черноволосая, черноглазая двадцатитрехлетняя актриса с роскошными формами и лицом античной богини, подвывала в классических трагедиях. Тот самый случай, когда говорят: «Весь Париж от нее без ума». Если разделять мнение государя и его посла о Бенкендорфе, флигель-адъютанту остаться «без ума» труда не составило. Ума, вероятно, и не требовалось, чтобы петербургский лейб-гвардеец счел себя победителем непобедимого, а заодно и его маршала. Правда, с некоторой натяжкой: и Наполеон и Мюрат, мастера быстрого маневра, уже успели переменить «предмет». Как бы ни было, мадемуазель Жорж влюбилась в Бенкендорфа настолько, что решилась следовать за ним на край света.
Ей рукоплескали в Павловске и Москве, хотя Пушкин находил парижанку «бездушной», а записной театрал Жихарев – «глуповатой». Вероятно, оба были правы, но Жихарев больше. Она писала матери о «добром Бенкендорфе» и подписывалась «Жорж-Бенкендорф». Увы, рассеянный Бенкендорф-отец явил зоркость: у твоей актрисы есть бриллианты, презентованные Наполеоном, однако прочного состояния нет. Бенкендорф-сын улизнул в Финляндию, на войну. Государь ему не препятствовал, ибо находил, что м-ль Жорж «в его вкусе». Увы, он остался с Нарышкиной, чем сильно досадил ее противникам: многие при дворе уповали на падение «нарышкинской партии» в случае виктории м-ль Жорж.
Все это нисколько не занимало бы Башуцкого, когда бы не подозрение в интриганстве Бенкендорфа. В Петербурге полагали, что веревочка вилась еще в Париже. Дескать, имел он поручение, клонившееся к устранению Нарышкиной посредством греческой бойни. Милий Алексеевич ребуса не решил. Но поведение флигель-адъютанта следовало счесть неблаговид-ным. И с точки зрения Катерины, и с точки зрения вдовствующей императрицы – государыня сердилась на своего протеже. Башуцкий, напротив, был снисходителен. Кому охота быть рогоносцем, даже если рога дарит венценосец? И все ж не грех было бы и пожалеть м-ль Жорж! Так нет, женофоб Башуцкий пробормотал: «Пускай она поплачет, ей ничего не значит…» Как говорится, в какой-то степени он был прав. Мадемуазель быстро утешилась с мужем своей соперницы. И вскоре отправилась за кордон. Судьба ее нисколько не занимала Милия Алексеевича потому хотя бы, что Бенкендорф вывез из Франции более существенное, пусть и менее материальное.
Там, во Франции, посреди удовольствий, самое жгучее из которых вознаграждалось французской болезнью, флигель-адъютант проникся страстью к тайной полиции и осознал свое предназначение. Тому был свидетель в высшей степени искренний. Правда, сей очевидец одно время подвизался во масонстве. Как и Бенкендорф, как и Пушкин. Но Милия Алексеевича еще не успели застращать ни масонами, ни жидо-масонами, и он не сомневался в правдивости князя Волконского.
Декабрист из заглавных, осужденный при участии своего давнего и близкого друга Бенкендорфа на двадцать лет каторги, Волконский писал мемуары в старости, когда научаются ценить добрые намерения, пусть и оставшиеся добрыми намерениями. Писал после смерти друга своего, сделавшегося шефом жандармов. Стало быть, не ищите ни тонкого, ни толстого расчета.
Бенкендорф, рассказывает Волконский, был человеком впечатлительным и мыслящим. Бенкендорф, указывает Волконский, полагал, что на честных началах было бы полезно и для царя, и для отечества учредить отрасль соглядатаев, то есть честную тайную политическую полицию. Бенкендорф, подчеркивает Волконский, не только не скрывал от товарищей свой проект, а приглашал вступить в эту когорту и охранять от утеснений всех малых и сирых.
Вот ведь о чем, оказывается, витийствовал кавалерист на Малой Морской, в доме Воронцо-ва, где квартировал после Парижа, и в доме Волконских, фасадом на Мойку, где Серж курчавая русая прядь на лбу, глаза голубые навыкат, губа чуть вислая – занимал весь нижний этаж; годы спустя там мучительно отходил Пушкин, а десятилетия спустя со всеми своими конторками, шкапами, картотекой, «ундервудами», запахом сургуча, бумаг, крепкого мужского одеколона – угнездилось охранное отделение, эта когорта не мыслящих вовсе… А тогда – диваны, кресла, лафит, трубки, дым слоился, в дыму привиделся нашему очеркисту гранитный человек в долгополой кавалерийской шинели. У него была донкихотская бородка; он стоял на московской площади в излучине плавного потока легковых автомашин. «Дон Кихоты, – скачал Лютый, раскуривая трубку, – лишены элементарного чувства жизни». Тот, гранитный, ничего не ответил. Может статься, в этой иронии было его единственное оправдание. Окутавшись дымом, сплюнул Лютый желтую слюну, Милий Алексеевич брезгливо повел плечом и выругался матерно.
Дым рассеялся, но уже не комнатный, не табачный, а пороховой, пушечный. Ветряные мельницы махали крыльями. Из дома на Малой Морской, из дома фасадом на Мойку ушли на войну господа офицеры. Далеко от России кончилась эта война. Дым рассеялся. Генерал Бенкендорф, сидя на коне, смотрел, как машут крыльями ветряные мельницы.
17
Ветряных мельниц не было. Конец войны застал Башуцкого на Балтике. Эсминец ошвартовался в Н-ской базе, неподалеку от Таллинна. Стали отпускать на берег. Комендатура приступила к борьбе с разгильдяями – л/с, то есть личный состав, отвык от уставной дисциплины. Кто-то начертал углем на стене портового пакгауза – аршинными буквами, стервец: «Смерть немецким оккупантам и военным комендантам». Шуточки, понимаете ли. «Отрасль соглядатаев» пустилась на розыски. Капитан 2-го ранга Карлов презрительно усмехнулся: «Грибы-бздюхи…»
Вот человек, светлая ему память. Гардемарином под андреевским флагом служил, потом – под флагом республики. Как многие, с тридцать седьмого пахал в лагерях; как немногие, воротился в сорок первом. Не вскрикивая «За Сталина!», воевал за Родину. Сухопарый, высокий, узколицый, начисто выбритый, смахивал на командора британского флота. Бывало, прицелится к клешам непомерной ширины, к бескозырке с ленточками ниже копчика, спросит фамилию, да и молвит язвительно: «А я-то подумал, матрос Железняк». И мимо – руки за спиной, спина прямая, мимо, будто тебя и не видел. А ты, дурак, радостно недоумеваешь: ждал взыскания, а получил похвалу. Или вот приблизились к чужим берегам, высказался усмешливо: «Ну, славяне, покажем Европе, где раки зимуют»… Смеялся личный состав, почти сплошь славянский. Почти, ибо штурман и доктор были евреями. В пору смертельной опасности для Родины это не считалось криминалом. Такое, знаете ли, трудное время было.
Едва оно минуло, Лютый определил, какого цвета пир задать после «коричневой чумы». Иван Григорьевич не мыслил глобально. Не столь уж внимательно читал он Достоевского, чтобы помнить: после победоносной войны явятся шовинизм и застой. Нет, кавторанг попросту предполагал, что органы военной контрразведки, эти самые грибы-бздюхи непременно займутся изысканием врагов отчизны в гуще сынов отчизны. Аллюзия с декабристами у Карлова не возникала. Ее высказал Башуцкий. Не в Н-ской базе, а позже, когда бывший кавторанг и бывший подчиненный, что называется, пересеклись в тюрьме города Горького, где дети разных народов дожидались этапов в разные концы страны великой.
Старик дагестанец, серебряный, смуглый, одинокий, гордый, несколько раз на день, расстелив в уголку тряпицу, творил намаз. Уголовные ржали. Однажды ударила моча в голову – с кулаками бросились. Все затихли, как в электричке, когда грабят, невзирая на националь-ность, или изгаляются, на нее взирая. Иван Григорьевич грянул: «Стоп, машина!», Башуцкого будто смыло с нар, он очутился рядом с командиром. Тотчас силы удвоились: испитой врангелевец, некогда ротмистр ея императорского величества гусарского полка, Варшавского кажется, и в доску нашенский квадратный полковник-танкист. Смотрели они на уголовных в упор. «Стыдно, славяне», процедил Карлов. Ротмистр ея императорскою с ледяным бешенством приказал: «Марш на место!» А танкист угрюмо уточнил, в какое именно место. Уголовные попятились, ухмыляясь: «Ладно, мужики, не шуми…»
В тот ли день иль в другой, не вспомнишь, отворилась дверь, шагнул в камеру долговязый хлопец в солдатской шипели, вскинул руку к пилотке без звездочки: «Петя Галицкий, американский шпион!»
Петю парубком угнали в Германию, он батрачил у кулака-бауэра. Побили фашистов, оказался Петя в американской зоне. Тушенка и сигареты о'кей, но Россия лучше всех, подался малый встречь солнышку. Рядового необученного определили в стройбат. «Я и там стахановцем был». Вышла, однако, оказия.
В казарме балакал, простак, каковы в неметчине фольварки, коровники, водопроводы, дороги, то да се. Получилась антисоветская агитация. На этом бы и шабаш, но гриб-то бздюха попался ушлый, с орденком за выслугу. «Американцев, – спрашивает, – видел?» – «Ага», – отвечает Петя. «Какое задание получил, сволочь?» Петя в толк не возьмет. Его вразумили. Получился шпионаж в пользу СеШеА. «Мне бы поскорее в лагерь, – сказал шпион. – Не пропаду, небось не хуже, чем у немцев?» Карлов потеснился на нарах: «Ложись, пехота».
Годы спустя Башуцкий отыскал Карлова. Кавторанга дожирала раковая опухоль. «Абшид, – сказал Иван Григорьевич, – чистая, брат, отставка». Бащуцкий забормотал нелепое, утешитель-ное. Кавторанг оборвал: «Знаешь, Милий, не ходи ты ко мне, я уже гнию».
Он увидел Карлова незадолго до его кончины. Ненароком увидел, ранней осенью, в пустынном месте, на берегу Большой Невки. Изможденный, желто-серый, лысый кавторанг и грузный седой адмирал с грубыми вислыми щеками сидели на скамье. Адмирал в пору молодости Железняковых был матросом, в пору престарелого Лютого командовал флотом. Вот они тут и сошлись, у плоской, густо, как нефть, сплывавшей Невки. Оба были в черных полузастегнутых шинелях. Фуражки лежали на скамейке, как на гробовой крышке.
Кавторанг и адмирал не то чтобы беседовали, что-то обсуждали или о чем-то спорили – они выносили приговор без права обжалования. Приговор не столько своему времени, сколько себе в своем времени.
Не было ни покаяния грузного седого человека, ни отпущения греха из уст человека изможденного, хотя ордер на его второй арест, подобно многим другим, имел лиловое «согласен» этого адмирала и его же лиловую печатку-факсимиле. Ни покаяния, ни ощущения, никакой дороги ко Храму общая Цусима, последний парад, кингстоны открыты.
18
У тебя же, мой друг, нет за душой ничего, кроме испуга пред жизнью. Даже и вот этого: «Милая Груша, через тебя погибаю, терпения не хватает», каракульки самоубийцы попались однажды в архиве.
В зеркале для бритья редькой торчала плешатая головенка, а шею вяло облегала давно не мытая фуфайка, траченная молью. Милий Алексеевич и телесно был неприятен самому себе. Мелкий осенний дождичек брызгал на бурый брандмауэр. Сиротела в коробке последняя спичка, одна сигарета осталась в мятой пачке. Он усмехнулся: вот она, мировая скорбь.
Табачный киоск был в двух шагах от ворот. В двух шагах от киоска была рюмочная. Соседство торговых точек – круг расчисленных светил.
Сей круг освободил его от «связи времен». Ибо чем иным были давешние арабески? Соединять начала и концы вподым лишь Богу. Все прочее – шахматные партии. О-о, шахматы изощряют ум, однако лишь для игры в шахматы, но и они удел сильных натур, а ты, сударь, шевели спицами, не теряя нить.
В первых промельках блеснули полозья тяжелых салазок. То было, наверное, года три-четыре после того, как правительственный поезд увез комиссаров в Москву. Сугробы, поземка, полусвет, полутьма. «Петербургу быть пусту». Шилов, букинист, и покойный отец волочили тяжелые санки. Заваливаясь набок, санки взблескивали полозьями. С грехом пополам добрались до неотопленного помещения, где прозябала одна из бесчисленных комиссий Города – Археографическая. Шилов, букинист, знал цену «историзму», он желал обменять товар на товар, минуя денежную стоимость. «Помилуйте, господа-товарищи, это ж дневник Балашова!» За двадцать четыре тетради большого формата, а сверх того и кипы документов балашовского министерства достался букинисту мешок ржаной муки, часть которой он отдал напарнику.
Чудны чаконы твои, память! Казалось бы, лови ноздрями запах ржаных лепешек, ан нет, слышишь давным-давно неслыханное: возьмется буржуйка тугим гулом, железная дверца дребезжит мелко и весело. Предшественника Бенкендорфа, министра полиции, обратившегося в ржаные лепешки, уписывал за обе щеки будущий автор «Синих тюльпанов» – вот тебе и связь времен. А французский посланник клеветнически утверждал, будто весь Петербург находил Балашова зверем. Господин посланник, счастлив ваш бог, зверей-то вы и не видывали. Тех, что выскочили из бездны. А тогда эволюция начиналась, вот что.
Принимая корону, возвестил Александр Первый: «Отвергнув ужасы Тайной экспедиции, мы исторгли из заклепов ее все ее жертвы». Малиновый звон! Учредил министерство полиции, вверил «отрасль соглядатаев» Балашову. Вверив, не доверял сполна. Не доверяя, проверял исподтишка. Балашов, как жаворонок, поднимался в пять утра, засыпал в десять вечера. Де Санглен, его помощник, около полуночи прилетал, как сова, в Зимний.
Толстый, одышливый камердинер провожал, поднимаясь с этажа на этаж, из галереи в галерею, в какую-то подчердачную комнату-инкогнито: комоды, шифоньеры, пюпитры. Зажжет свечи, исчезнет бесшумно и – входит государь, лик бел, очи светлы.
В минуту первого рандеву сказано было: «Я вашими трудами доволен. Я знаю ваш рыцарский характер. О чем говорить будем, останется между нами». И предложил «освещать» Балашова. Де Санглен, литературе не чуждый, потупился: «Ваше величество, я не способен вонзать кинжал… Моя совесть…» Уста его запечатал государь поцелуем, свои уста отверз вопросом непреходящим: «А если бы польза отечества того требовала?» Лик был светел, глаза лучились… Де Санглен на досуге замыслил трактат «О истинном величии человека», на досуге размышлял де Санглен о совести. Сейчас речь шла об Отечестве. Двинув кадыком, он проглотил слюну, а вместе и свою штучную совесть.
Поверяя Балашова де Сангленом и наоборот, царь гармонии ради поверял министерство Комитетом. Комитетом охранения общей безопасности. Вековой морок келейности, а тут нечто совещательное: ты вещаешь, я вещаю, он вещает – получается плюрализм. Малиновый звон!
Ни министерским, ни комитетским не велено было наказывать, а велено было расследовать и отсылать изобличенного «с прописанисм вины в надлежащее судебное место». То-то огорчался гундосый подагрик сенатор Макаров. Выученик кнутобойца Шешковского, любимца матушки Екатерины, этот Макаров присутствовал на занятиях Комитета. Помилуйте, он не вурдалак-якобинец, но зачем отымать лучшую гарантию тишины гражданской – ужас незримой погибели? Конечно, и министерские, и комитетские вольны так прописать эту самую вину, что и судейские напустят в штаны. Однако с ужасом незримой погибели ничто не сравнить. Ах, не слушались старика, но из Комитета не удаляли, памятуя о пользе преемственности.
Все это сообразив, Милий Алексеевич вытянул ниточку, затерявшуюся в давешних арабесках, и солдатик вскинул руку к пилотке без звездочки: «Петя Галицкий, американский шпион!»
Петино шпионство потешило бы даже сенатора Макарова. Другое дело приглядчивость к чужеземному бауэру. Низкопоклонство пред иностранщиной особливо пагубно, ежели побуждает встать с колен. Тут уж востри глаз, востри ухо!
Еще в канун Наполеонова нашествия слухом земля полнилась: Бонапартий крестьян не тронет, помещиков истребит, облегчит чернь от притеснений. Пришел. «Облегчил» и помещиков и мужиков. И покатился вспять, закусывая на бегу дохлым вороньем. Барклай, мороз иль русский Бог? Остервенение народа! Ни земли, ни воли – пошла гвоздить дубина. Победа! А после победы двинулись победители с полей Европы к родимым пажитям… Как тут не всполох-нуться? Лютый сказал, что русский народ самый лучший, потому что самый терпеливый, и велел подниматься на борьбу с иностранными впечатлениями. А комитетские при царе Алекса-ндре, дурака не валяя, прямодушно отписывали в губернии: обратите особенное внимание на чающих избавления от крепостного состояния; таковых благоволите наказывать по всей строгости.
Возвращался с войны и боевой генерал на боевом коне. Ветряные мельницы махали крыльями. В дороге приключился случай не случайный. Остановились на очередной ночлег в какой-то деревне. Бенкендорф, усталый донельзя, расположился в доме мельника. Денщик, взбив пуховик, разувал генерала. Вошел мужик-хозяин, сказал, что здесь спать нельзя, на этой постели спит его матушка. Денщик сапог уронил. К его пущему изумлению, генерал не прогневался.
Достоинство французского мужика определялось его достоянием. Русский мужик отчаянно пустит под барские застрехи красного петуха, а здешний, ничтоже сумняшеся, скажет: это мое. Какому-то принцу германскому взбрендило оттягать у бауэра приглянувшийся уголок, бауэр набычился: «Не хочу!»
Принц так и сяк, бауэр ни с места: «Есть судьи в Берлине!»
Эх, Петя Галицкий, вот где собака-то зарыта, вслух сказал Милий Алексеевич. Как многие одинокие люди, имел он привычку весьма опасную при наличии особых устройств. Никакое, однако, устройство не пряталось в тесной комнате Башуцкого М. А.: степень его испуга пребывала вполне достаточной для обеспечения социальной стабильности.
19
А боевой генерал на боевом коне доскакал до пределов России. Весьма возможно, что прибыл он на корабле. Как бы ни было, Александр Христофорович зажил петербургской послевоенной жизнью.
Беллетристически живописуя ее, Башуцкий – в согласии с должностями генеральскими – обряжал бы Бенкендорфа в мундиры драгунский, кирасирский, конногвардейский. Ах, пестрота униформ, услада царей, костюмеров и романистов… Башуцкий показал бы Бенкендорфа в лейб-гвардейской казарме, кисло пахнущей сырой кожей и ситным хлебом; на театральном разъезде, когда косой снегопад влажно лепит в стекла каретных фонарей; в череде марсовых игрищ на зеленой мураве и полуночных сражений на зеленом сукне. И так расстарался бы на большом выходе в Зимнем, что исторг бы восторг читателя, сменившего книги «про шпионов» на книги «про царей»: «Вот жили-то, а?»
Не стал он надевать на Бенкендорфа мундиры драгунский, кирасирский, конногвардейский. Повторял: «То ли дело, братцы, очерк». А коль скоро не могло не выскочить – «Ночью сон, поутру чай», – учредил чаепитие.
Тянул, как всегда, с блюдечка, топыря губы и жмурясь. Посреди невинного удовольствия решил почему-то, что таким манером пивал ярославец Шилов. Между тем Башуцкий решительно не помнил, каким именно манером самоварничал старик-букинист. И все же это ощущение возникло не «почему-то». Нет, оттого, вероятно, что Милий Алексеевич все еще держал на уме шиловский обмен дневников министра полиции на ржаную муку. А одна из лепешек, подаренная гулкой буржуйкой с железной дверцей, дребезжавшей мелко и весело, одна из лепешек в своей изначальной субстанции представляла некоего Грибовского, отчего сейчас же возникло соображение, прежде не возникавшее. Оно требовало четкой сосредоточенности. Убирая чайник и прочее, придвигая свои бумаги, Милий Алексеевич подумал о военном прокуроре Новикове.
Когда гражданина Башуцкого выпускали из узилища, ему вручили справочку: дело прекращено за недоказанностью преступления. Месяц спустя пригласили в Большой дом. Он поплелся на ватных ногах. Вызывали, оказывается, для того, чтобы сухо и словно бы обиженно вручить другую справку: дело прекращено за отсутствием состава преступления. Дистанция немалая: недоказанность и отсутствие. Первое понимай так: приключилась недоработочка, и на старуху бывает проруха, гуляй, гражданин Башуцкии, не пойман – не вор. Второе есть признание незаконности репрессии. К этой-то констатации и принудил гебистов прокурор-полковник, как многие юристы эпохи Лютого, не раз униженный в Большом доме.
Нечто подобное замыслил Милий Алексеевич, приступая к расследованию ситуации: генерал-майор Бенкендорф и надворный советник Грибовский.
В восемьсот девятнадцатом Александр Христофорович получил весомое назначение – начальник Генерального штаба Гвардейского корпуса… Какой-нибудь иногородний романист-скорохват, злорадно подумал Милий Алексеевич, усадит Бенкендорфа в экипаж и, ничтоже сумняшеся, отвезет на Дворцовую площадь. Дудки! На Дворцовой поместился Гвардейский генеральный без малого лет двадцать спустя; тогда же, когда Третье отделение переместилось от Красного моста к Цепному. Ущипнув борзописца, фигуры не имеющего, Милий Алексеевич сконфузился. Он не знал или, скажем деликатнее, призабыл, где находилось это важное учреждение в те годы, когда корпусом командовал басистый Васильчиков. Конфуз свой возместил Башуцкий знанием штабной поэтажности – эрудиция редкостная.
Кроме кабинетов, богато убранных, там были: зала для лекций свитским офицерам, арсенал, типография, солидная библиотека, редакция «Военного журнала». Короче, «Жомини да Жомини, а об водке ни полслова».
Служба текла ровно. С корпусным командиром Бенкендорф ладил. В полках не слыл ни любимцем, ни постылым, что, в сущности, недурно – ни зависти, ни ненависти. И ничего не пришлось бы Башуцкому расследовать, не будь доноса, доставленного из Гвардейского штаба в Царское село, государю императору Александру Первому.
Кто ж, если не Бенкендорф, лелея давний проект «отрасли соглядатаев», кто же, если не он, спроворил донос? Еще в давние времена писано было в похвалу: будущий шеф жандармов донес на будущих декабристов – собрал подноготную Союза благоденствия и предложил изъять главных деятелей.
Правда, цель Союза совпала с его проектом тайной полиции: преследовать должностные злоупотребления, невзирая на чины и титулы; искоренять несправедливости, невзирая на ранг служебной инстанции. Но одно дело тайная полиция, другое – тайное общество.
Правда, Союз съединял многих из тех, кого Бенкендорф, считая «добромыслящим», вербовал в свою «когорту». Да, но это до войны. Однако ветеран Отечественной высоко ставил ветеранов Отечественной. Когда какого-то стрюцкого, штафирку какую-то выдворили, заподозрив вольномыслие, с коронной службы, Александр Христофорович бровью не повел: «Этот господин не военный, чего его щадить?!»
Наконец, о доносе Бенкендорфа ни звука не обронил мемуарист князь Волконский. Уж кому-кому, а Волконскому истина дороже друга. Да так, но князь-то не опровергал, не отрицал доносительства Александра Христофоровича.
Карточные домики! Полковник Новиков не согласился бы на реабилитацию «за отсутствием состава преступления». Не принял бы и формулу «за недоказанностью». Скорее всего, единственный представитель администрации, пользующийся симпатией Милия Алексеевича, покосился бы на него подозрительно. Конечно, прежде всего презумпция невиновности. Но упорство, с каким гражданин Бащуцкий М. А. пытается отмыть черного кобеля реакции, волей-неволей наводит на мысль: хотя арест и осуждение гражданина Бащуцкого М. А. противоречили закону, однако, как говорится, нет дыма без огня.
Это вот «нет дыма…», стыкуясь с этим вот «лес рубят, щепки летят», было не чем иным, как революционной целесообразностью, ненавистной Милию Алексеевичу. Карточные домики строил он не ради строгой справедливости, не из желания исправить ошибку, в сущности ничтожную, и уж вовсе не для того, чтобы вплести детективный мотивчик в очерк о синих тюльпанах. То была потребность опрокидывать пресловутую целесообразность в прошлое. Он сводил с ней счеты постоянно и угрюмо, тем самым как бы упрочивая свою внутреннюю свободу, свою относительную независимость от испуга жизнью. Что же до теней, наведенных на Бенкендорфов плетень, то очеркист не упускал из виду «ржаную лепешку», мелькнувшую в минуты чаепития: в своей изначальной субстанции была лепешка неким Грибовским.
Надворный советник подвизался библиотекарем Гвардейского генерального штаба и главным тружеником по части переводов с французского и немецкого серьезных статей для серьезного «Военного журнала».
Был Грибовский и автором оригинального сочинения, посвященного Аракчееву: «О состоянии крестьян господских в России». Убеждал: рабство отнюдь не уничижает природу человеческую. Упомянутый в дневниках министра полиции, теперь уже известных Милию Алексеевичу не в качестве лепешек, Грибовский не состоял агентом Балашова. Быть может, из принципа. Ибо Балашов тоже был автором – подал на высочайшее имя записку «об уничтожении рабства и о вольности крестьян»… Ну-с, усмехнулся Милий Алексеевич, продолжив атаку на «целесообразность» в несколько ином аспекте, извольте положить рядом сочинение человека, получившего университетское образование, и записку министра полиции, возросшего под барабаном, да и вопросите, кто есть кто. Тотчас выставят диагноз: осанну крепостному праву пел скалозуб-бюрократ; осуждал крепостное право духовный побратим Радищева…
Заведуя офицерской библиотекой, сотрудничая в офицерском журнале, статский Грибовский льнул к военным людям. Он был своим в Союзе благоденствия, в эполетой среде будущих декабристов. Из каких же на сей раз принципов? Видать, из тех же: польза отечества того требует.
Светлым майским днем восемьсот двадцать первого года Михаила Кириллович Грибовский, к перу привычный, начертал черный список членов Союза и весьма стройно изложил цели тайного общества. К Балашову – из принципа – не побежал, а сделал свое дело, не выходя из штабного здания.
Он пришел не к Бенкендорфу, хотя и подчинялся служебно Бенкендорфу, а к командиру корпуса, которому подчинялся в обстоятельствах особливого свойства.
Не Бенкендорф передал донос государю, а Васильчиков. Не Бенкендорф просил дозволения взять крутые меры, а Васильчиков, как и несколько лет спустя на Сенатской площади, именно он просил Николая пустить в ход картечь.
Александр Первый донос принял. Ответил: «Никогда не прощу себе, что я сам заронил первое семя этого зла». Изжив собственный либерализм, отец отечества не нашел себя вправе выжечь либерализм сынов отечества. И положил бумагу под сукно.
Как тут было не обратиться мыслью к Лютому? Как было не вообразить Лютого, получив-шего донос? Обратился, вообразил, но лишь на мгновение почувствовал запах неопрятности и этот звериный взгляд пегих глаз. Лишь на мгновение – не Иосиф Виссарионович занимал Милия Алексеевича, а Александр Христофорович.
Командир корпуса не скрыл от начальника штаба ни донос библиотекаря, ни ответ государя. Бенкендорф испытал душевное волнение. Он предполагал возникновение тайного сообщества и скорбел о том, что оно тайное. Великодушие государя тронуло его сердце. Доносительство библиотекаря представилось партикулярным – и потому свинским – посягательством на военный мундир. Сильнее же прочего огорчило Александра Христофоровича то, что боевой генерал Васильчиков поручил секретную отрасль в полках штафирке Грибовскому, совершенно не считаясь с его, Бенкендорфа, мнением.
Последний пункт был уязвим. Командир корпуса имел возможность щелкнуть по носу начальника штаба. Тот однажды рекомендовал полковнику-преображенцу учредить политичес-кий надзор за полковыми офицерами и прислал список подозрительных лиц. А полковник возьми да и откажись наотрез. И притом не с уха на ухо, не в доверительной беседе, нет, официальным рапортом.
Бенкендорф огорчился. Получается так, будто присяга – это одно, честь – другое. Ведь они слитны, нерасторжимы, как магдебургские полушария. А Васильчиков, боевой генерал, обошелся без начальника штаба, учреждая тайный политический надзор в полках. Не потому ли, что еще год тому, исследуя бунт Семеновского полка, Александр Христофорович представил государю не донос, нет, «размышления».
Он так и озаглавил свою записку: «Размышления о происшествиях…» Первое: русский солдат, покорный и терпеливый, бунтует вследствие долгого ряда злоупотреблений. Второе: полковые офицеры, не будучи проникнуты духом своих благородных обязанностей, заботились лишь о чинопроизводстве и салонных успехах. Третье: не материальная, а нравственная сила есть главный рычаг управления массой, составляет ли она войско или целую нацию. Четвертое: при возмущениях, подобных семеновскому, прежде надобно наказывать за покушение на авторитет власти, а засим рассматривать претензии и жалобы. Переговоры с бунтующей солдатчиной пагубны.
Ему казалось, что он все расставил по местам. А боевой генерал, басистый Васильчиков, предпочел ему небоевого статского.
Примечательный субчик! Тотчас вслед за доносом, прежде срока выслуги, Грибовского произвели в коллежские советники – чин по табели о рангах, равный полковничьему. Невдолге спустя послали вице-губернатором в богатый Симбирск. Не приняв по доносу крутых мер, император Александр явил доносчику благоволение. Продолжая службу, Грибовский горюшка не ведал, покамест не присоединил к доносительству еще и провокацию. Император Николай доносы под сукно не прятал. Правда, они уже утратили могучую силу тех времен, о которых рассказывал приват-доцент Тельберг, и еще не вернули себе эту неукоснительную силу, как в те времена, о которых Башуцкий мог бы рассказать приват-доценту Тельбергу. Но что верно, то верно: к доносам Николай Павлович никогда не утрачивал живокровного интереса. Однако в меру своей классовой ограниченности не жаловал провокацию. И потому хлопнул по рукам Грибовского, а засим и под суд отдал «по разным предметам».
Александр Христофорович давно извлек урок из скандальной истории с преображением и разведдеятельности библиотекаря: для высшего тайного надзора необстрелянные статские, пожалуй, приспособлены лучше обстрелянных военных. Но и Бенкендорфу мерзила провокация. И тоже, конечно, вследствие классовой ограниченности.
А тогда, при Александре Благословенном, после стукачества Грибовского, в карьере Бенкендорфа произошло что-то странное. Что-то такое, чему Милий Алексеевич объяснения не обнаружил.
Да, генерал-майора произвели в генерал-лейтенанты. Вскоре, однако, понизили в должности. Он остался начальником штаба. Но не генерального гвардейского, а всего-навсего 1-й Кирасирской дивизии.
Его самолюбие страдало. Он находил утешение в сердечной дружбе с великим князем Николаем. Бог судил им испытание, срок назначив на 14 декабря.
День или ночь, в шестом часу Бенкендорф велел седлать коня. Тьма, ветер, холод. Город, набекрень нахлобучив крыши и тучи, пер косолапо. Генеральские шпоры отзвенели в покоях Аничкова. Бледное лицо Николая дрогнуло крупной дрожью. Застегивая мундир, он сказал Бенкендорфу:
– Сегодня вечером, быть может, нас обоих не будет более на свете. Но, по крайней мере, мы умрем, исполнив долг наш.
Пора было и Башуцкому исполнить долг свой. Зевая, проверил он, не горят ли лампочки в местах общего пользования. То ли дело, братцы, дома, ночью сон, поутру чай.
20
Поутру Милий Алексеевич проникся решимостью в семь дней сотворить микромир синих тюльпанов.
«Реакционное царствование Николая Первого, получившего зловещее прозвище Палкина, началось жестокой расправой с первенцами русской свободы, декабристами», – прилежно написал наш очеркист. И продолжил: «В дни московских коронационных торжеств, в сентябре 1826 года, было официально объявлено учреждение Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Так самодержавие, которое веками душило наш героический народ, упрочивало политический и экономический гнет. Главой сыскного ведомства Николай назначил А. X. Бенкендорфа, одного из тех петербургских немцев, которые, как говорил Герцен…»
Наметанным глазом Милий Алексеевич зацепил нахальновъедливые «которое» и «который»; вычеркнув первое, заменил на «веками душившее» и поджал губы еще и абзаца нет, а рукопись уже «вшивеет»; он стал искать язвительные цитаты из Герцена, заготовленные впрок; не попадались; на столе с черным кругом от сковороды смешались бумаги… Бодрый настрой пошел на убыль. Господи, если бы дело было в мелочной правке и цитатах, если бы так, Господи…
И вчера, и третьего дня, и раньше, размышляя о синих тюльпанах, он почти машинально определял, что именно придется похерить, не давая повода ни для рецензентов из породы «марксиста-аграрника» Сытова, ни для аллюзий чуткого и, быть может, благодарного читателя.
Но и вчера, и третьего дня, и раньше он сознавал близость срока, когда всю эту «прагмати-ку», все эти уловки, пусть и постыдные, накроет тень полковника Вятского полка, повешенного на кронверке Петропавловской крепости, и ему, Башуцкому, некуда будет деться. Нет, не от сытовых – от себя. И не потому лишь, что полковник Вятского полка обернется единомышле-нником генерал-лейтенанта Бенкендорфа, а потому, что казненный первенец русской свободы встанет из могилы предтечей гранитного регулировщика – там, на известной московской площади. Ужасно, ведь и полковник, и его друзья-заговорщики, они, как Пушкин, были первой любовью, словно с рождения поселившейся в сердце. И горестно думалось: о, если бы 14 декабря… Ну да, вот так: если бы к вечеру, исполнив «долг свой», не остались в живых Николай и Бенкендорф…
Захлопали двери, зашаркали жильцы, зарычал унитаз. В соседней комнате радиоголос предложил Мудряку, экономисту Ленэнерго: «Приступайте к водным процедурам». Потом донесся другой голос, сдержанно-торжествующий: «…на двенадцать процентов больше, чем за тот же период в прошлом году». О, кумач на воротах штрафного лагпункта: «Все дороги ведут к коммунизму». Да ведь и ты сейчас готов зарядить туфту? Не совсем так, не совсем так, смутился Башуцкий. Отстраняясь от радиоголоса, от голоса внутреннего отстраняясь, перечитай нейтраль-ное: «Главой сыскного ведомства Николай назначил Л. X. Бенкендорфа», – и недовольные смели быть, подумал Милий Алексеевич с той поспешностью, с какой, как творят, хватаются за соломинку.
Да, на Сенатской площади, рассуждали недовольные, явил Бенкендорф безусловную преданность государю, но, когда злодеев заточили в крепость, сострадал узникам… Да, на следствии по делу о происшествии 14 декабря Бенкендорф вникал во все подробности, однако полагал невозможным ставить вопросы… ну, эти, что вынуждали бы отвечать противу совести… Он желал, чтобы суд над преступниками происходил с возможной степенью законности и гласности. Пусть и с возможной, но мысль ребяческая. А сердечная слабость на кронверке? Пестеля вздергивают, закоперщика – Бенкендорф падает ниц на холку коня… Все это государь знает. И что же? Неделю спустя после бунта отстраняет Аракчеева, соболезнуя графу, здравие которого сильно потерпело от поразившего всех нас общего несчастья. А во дни суда над злодеями учреждает Третье отделение собственной канцелярии, главноначальствующим коего назначает Бенкендорфа. Помилуй Бог, какое время на дворе!..
При любой погоде историки укажут: «Классовая борьба обострилась». При любой погоде повторят: «Положение крестьян ухудшилось». Это ж как доллар: всю жизнь только и слышишь – доллар падает, падает, падает… А надо все архивно ухватить, как рыбу под жабры, – и тогда…
В одном полку толковали сокрушенно: «Эфтот царь забулатит службой, все в гошпитале перемрем». В другом полку горячо шептались: «Приезжал государь к лейб-гвардии финляндцам, велел: ребята, буде какой начальник скажет стрелять в народ, то не слушать, а взять штыком». В трактире на Невском вопросил отставной полковник прилюдно и со вздохом: «Каково-го нашим страдальцам в каторжных работах?!» А на стене постоялого двора – святых вон – «Скоро дворяне, сосущие кровь своих несчастных подданных, погибнут смертью тиранов». И подпись: «Второй Рылеев».
«Второй Рылеев» припахивал Пугачевым. Из поленовского архива, где корпел коллежский регистратор Башуцкий, затребовали… Стоп. Ошибка. Архив еще плесневел в Особых Кладовых, в Секретной комнате, в сундуках, обросших пылью, как ягелем. Оттуда и затребовали дело Пугачева – «весьма нужное для некоторого соображения».
По мнению же господ, недовольных назначением Бенкендорфа, надо было бы затребовать покойного кнуто-бойца Тешковского, любимца матушки Екатерины. Фрондеры ворчали: дружба дружбой, а служба службой; лучше бы государь вернул Александра Христофоровича в Гвардейский генеральный штаб, а не ставил в челе тайного розыска. Да-с, Бенкендорф взлелеял прожект, но что с того, ежели натура неподходящая?..
Аккуратный экономист Мудряк давно обесточил радиоточку, жильцы-труженики давно разошлись, все как один выполняли соцобязательства, а Башуцкий по-прежнему кружил вокруг да около. Видать, не зря экономист объяснял жильцам, кто такие тунеядцы и почему их следует гнать из Города к чертовой матери.
У-у, Башуцкий, счастье твое, на службе Мудряк, а не то бы сквозь стену учуял, на что ты, тунеядец, руку-то поднял. На пламенных революционеров клацает зубами брянский волк, опрометчиво реабилитированный.
С тех пор как гражданка Касаткина, мать-одиночка, еще одного родила, экономист Мудряк удвоил бдительность, «Спидолу» громко запускал, чтобы слышал тунеядец вражеское вещание – уговор с райотделом был: клюнет Башуцкий, антисоветчину выложит. Увы, битый фраер тихохонько сидел в своей мышеловке… Да, Башуцкий, счастье твое, на службе экономист, а не то бы учуял, ну и отдали бы твои четырнадцать квадратных метров без двух квадратных дециметров остронуждающейся гражданке Касаткиной, тем паче младшенький народился от Мудряка.
И действительно, куда-а-а занесло Башуцкого в умозрительном безумстве его!
Третье отделение после тридцать восьмого года фасадом глядело на Фонтанку, а рядом, на Пантелеймоновской, были дворы со службами, экипажными сараями, внутренней тюрьмой. Ну, и переименовали Пантелеймоновскую в улицу Пестеля: люди, страшно далекие от народа, непременно учредили бы и «отрасль соглядатаев», и застенок. А потом Гороховую переименова-ли в улицу Дзержинского: помнили, как там, на Гороховой, ночей не спала Чрезвычайка, ужасно к народу близкая. Не понапрасну тревожился Герцен: а не начнется ли новая жизнь с организа-ции корпуса жандармов? Привычка свыше нам дана, замена гласности она, заключил Башуцкий.
Может, он и вправду спятил?
Тяжело хлопнул парус, рухнули тучи, море встало стеной. Это там было, в Н-ской базе. Кавторанг Карлов не давал бить баклуши, дважды в неделю шлюпочные занятия. Поворот оверштаг, то есть против ветра; поворот через фордевинд, то есть по ветру; и последовательный поворот… Но так, чтобы никаких «вдруг»… И вдруг тяжело хлопнул парус, рухнули тучи, море встало стеной, и все это в миг единый, ибо был поворот – «оверкиль» – вверх днищем, вверх килем. Но матрос из поморов, Васька Анисимов, гаркнул: «Кроче!» – и обошлось.
Можно крикнуть – «Кроче! Тише!» – морю и ветру: в них есть душа, в них есть свобода, глядишь, и обойдется. Грозились «Ужо тебе!» – не обойдется: неумолим Конь, неумолим Броневик, восьмерки небесные, иероглиф истории, число и фигура.
Пестель был жертвой, Бенкендорф палачом, но поразительная близость государственных замыслов. Не обойдется, не образуется. И нечего бегать, как гусь, подбитый палкой.
Пестель сидел в каземате Алексеевского равелина. Бумаги Пестеля читал Бенкендорф в обер-комендантском доме, о коем сказано: «Памятник русского зодчества с четкой и ясной планировкой». Четкие и ясные замыслы Пестеля и Бенкендорфа обжигали Башуцкого в комнате, на которую имел свои виды экономист Мудряк.
Все наперед расчислил Пестель в «Записке о государственном правлении». Все расписал в статье двенадцатой о государственном благочинии, хранимом тайной полицией.
Обязанности: узнавать, как действуют все части управления справедливо ли правосудие, взимаются ли подати без притеснения, нет ли корыстолюбия, лихоимства; узнавать поступки частных людей – не образуются ли вредные общества, не происходят ли запрещенные собрания, не готовятся ли бунты, не распространяются ли соблазны и учения, противные законам и вере; собирать сведения об интригах и связях иностранных посланников, а также иностранцах, навлекших на себя подозрение.
Структура палата исполнительных дел; палата распорядительных дел; палата расправных дел, ибо невозможно подвести под общие законы и правила все предметы, относящиеся до государственной безопасности; наконец, палата внутренней стражи, состоящей из пятидесяти тысяч жандармов.
Способ действия тайные розыски, или шпионство, есть надежнейшее и почти, можно сказать, единственное средство; для тайного розыска, или шпионства, употреблять людей хорошей нравственности, имена коих ни под каким видом или предлогом не должны быть известны; оные лица должны получать хорошее жалование.
Бумаги Пестеля поступили в следственную комиссию в феврале восемьсот двадцать шестого года. В апреле того же года Бенкендорф подал государю записку о синих тюльпанах. Генерал обокрал полковника? Ремни из чужой спины вырезал? Нисколько! Сошлись во взглядах. А государь прочитал, государь согласился, чем и добил Милия Башуцкого.
Жаль Башуцкого, не по Гегелю учили диалектику в трудовой школе на Васильевском острове. Совершив «оверкиль», лежал он ничком на проваленном диване, злобных пружин не чувствуя. Жаль перепуганных интеллигентиков – все близко к сердцу принимают.
Захлопали двери, зашаркали ноги, зарычал унитаз. Мудряк, экономист Ленэнерго, запустил «Спидолу». Жизнь продолжалась.
21
Повешенные повешены, жизнь продолжалась. Двор отъехал в Москву на торжества коронации. Там серафимы дарили генералу небо в алмазах. Бенкендорф рано уезжал с балов и рано поднимался с постели. Его ждала петербургская почта.
Фон Фок писал, точно бисером вышивал. Увы, в трудовой школе на Васильевском острове обучали не французскому, а немецкому. Но если бы обруселый немец писал обруселому немцу по-немецки, то нисколько не выручил бы Милия Алексеевича. Его выручили переводы, некогда опубликованные журналом «Русская старина».
Старина дышала новиной. Или, если угодно, стариной неувядаемой. Речь шла о чудовищном засилье министерств и ведомств. Мурластый майор-паспортист заподозрил бы немца, пусть и обруселого, в русофобии. А экономист Мудряк причислил бы фон Фока к лику борцов с самодержавием, похороненных на Марсовом поле; экономист Мудряк курил у окна Ленэнерго; Марсово поле кропил дождик.
Между тем Максим Яковлевич не только не был там похоронен, но и при жизни редко показывался на тамошних парадах. Не то чтобы не любил армию (в таком случае его не любил бы Бенкендорф), а за недосугом, что Александр Христофорович весьма ценил.
Не он один. Де Санглен тоже. Ночной визитер в Зимний, фонарь, освещавший деятельность Балашова, де Санглен принял фон Фока по протекции. Матушка была очень довольна своим лекарем, а лекарь был очень доволен своим зятем, вот де Санглен и порадел Максимушке. По благу принял! Странно, Милий Алексеевич не поставил лыко в строку. Впрочем, нет, не странно. После войны Башуцкого определил в Исторический отдел министерский адмирал, снизошедший к просьбе кавторанга Карлова. И Башуцкий оказался усердным архивистом и дельным очеркистом, преданным военным сюжетам. А Максимушка оказался и неутомимым помощником де Санглена, и талантливым подвижником тайного розыска.
Блат противоречил интеллигентским принципам Милия Алексеевича, но принцип не отвергал исключения: башуцкие вечно оглядываются на особенности индивидуальные. Им, видите ли, не «объективка» важна, а сама по себе личность.
Так вот, с одной стороны, тонкогубый педант с полированными ногтями был обер-шпионом и в ведомстве де Санглена, и теперь в ведомстве Бенкендорфа. С другой стороны, он был, по свидетельству Пушкина, добрым, честным и твердым. Злой мемуарист Вигель подтверждал: фон Фок совсем не был зол и ничьей погибели не искал. Чего ж еще? В особенности если провести одну из тех исторических параллелей, о рискованности которых зловеще предупреждал Лютый, – параллель с грибами-бздюхами.
Итак, Бенкендорф оставил Петербург, в Петербурге оставил фон Фока. Александр Христофорович праздновал коронацию. Максим Яковлевич не праздничал. У него водилась агентура времен де Санглена; была и добровольная, что называется, con amorе, или, как говорил Бенкендорф, «добромыслящая». Были у фон Фока, человека образованного, умного, общитель-ного, и обширные связи, вовсе не шпионские – десять лет минуло, как его избрали почетным членом Вольного общества любителей российской словесности. Минет еще несколько лет, он окажет словесности услугу: наветы Булгарина расшиты фон Фоковым бисером. Должно быть, слог профессионала казался любителю слишком вульгарным. А как же Пушкин-то: добрый, честный? Пушкин был и проницателен и доверчив. А может, прослышал, что именно фон Фок дозволил декабристу Батенькову, заключенному в каземате Алексеевского равелина и покушавшемуся на самоубийство, разбить на тюремном дворике цветничок?..
Но покамест, летом и в начале осени восемьсот двадцать шестого года, Максим Яковлевич аккуратно посылает своему шефу депешу за депешей. Их плавное течение подергивалось легкой рябью грациозных вольностей, отчего депеши звучали несколько интимно, не утрачивая, однако, должной почтительности. Так пишут шефу, будучи уверенным в его и служебном и домашнем благорасположении.
Французскому не учили в василеостровской школе, флер депеш ускользнул от Милия Алексеевича. Суть была внятной – школила жизнь. Он стал выписывать, упрочиваясь в мысли здравой – о постоянстве явления, и, покоряясь мысли иллюзорной – о возможности тайной полиции ратоборствовать с тайной бюрократической.
Фон Фок сообщал. Фон Фок рассуждал. Фон Фок резюмировал.
В продолжение 25 лет бюрократия питалась лихоимством, совершаемым с бесстыдством и безнаказанностью. Для удовлетворения оскорбленного общества нужно, чтобы были приняты меры, парализующие тот порядок, который был выгоден лишь одним общественным пиявкам. На них-то и должно пасть наказание.
Теперь, или никогда, самое время приступить к реформам в судебном и административном ведомствах, не действуя, впрочем, слишком решительно.
Говорят, что злоупотребления, продажность и безнравственность возросли до такой степени, что расшатали основы всех классов общества без исключения. Все надо исправлять, все надо преобразовывать. Поэтому в среде бюрократии общая тревога.
Бюрократия – истинная гидра, которую можно уничтожить только продолжительным трудом, неустанно добираясь до самого корня зла. Бюрократия – это гложущий червь, которого следует уничтожать огнем или железом; в противном случае невозможны ни личная безопас-ность, ни осуществление самых благих и хорошо обдуманных намерений, которые, конечно, противны интересам этой гидры, более опасной, чем сказочная гидра. Министры, высшие чиновники не хотят пожертвовать общему благу ни своим влиянием, ни своей властью. Их клиенты и подчиненные следуют тому же примеру. Надзор должен удвоить свою деятельность и старания, чтобы предупредить глухую реакцию со стороны бюрократии, приверженцы которой действуют совокупно, верные тому принципу, что цель оправдывает средства.
В деле искоренения злоупотреблений все зависит от обстоятельств и от той быстроты, с какой будут проведены придуманные для этой цели меры. Они должны являться неожиданно и разражаться как гром, чтобы толпа злонамеренных людей, заинтересованных в сохранении злоупотреблений, не могла сплотиться и образовать непреодолимый заговор.
Низшие классы, думавшие прежде только о своих собственных делах, анализируют в настоящее время все правительственные распоряжения; от этого происходит то, что за ними теперь труднее следить.
Милий Алексеевич, выражаясь лагерным языком, раздухарился. Можно было бы сказать – «воодушевился», но «раздухарился», вмещая одушевление, имеет оттенок иронический или самоиронический, а последнее вибрировало в его голосовых связках: «Былое пророчествует! Былое пророчествует!» Милию Алексеевичу стало весело.
Он очень хорошо сознавал, что все это – «в продолжение двадцати пяти лет бюрократия…» – яремщина древняя, как ярлык Золотой Орды, требующей ясак, но он рассмеялся, оглаживая трепетной детской ладонью глянцевито-выпуклую бандероль «Золотого ярлыка» – плиточный шоколад «Золотой ярлык» мама покупала раз в году, ко дню рождения ненаглядного Милички. Он опять рассмеялся, всё это было нелепо, неуместно, да ведь имеем же мы право на тупость, испытывая исторический оптимизм. Ему захотелось распахнуть форточку, и он распахнул бы, если бы… если бы в огромном, щелистом деревянном ларе не дымились помои, и неглубокий исторический оптимизм сменился у него искренним сочувствием дворнику. Вторую неделю пьет, бедняга. Запьешь. Ни от кого никакой благодарности.
Раньше, бывало, и Милий Алексеевич что помнил, раньше в праздники, церковные и атеистические – «без разницы» – дворник обходил квартиры, поздравлял, желал доброго здравия, ему подносили тарелку с граненой стопкой и закуской, неизменно включавшей маленький, как мизинец, крепкий огурчик не захочешь, а выпьешь, лишь бы нежинским похрустеть… Когда страна имеет потомственных дворян, она имеет и потомственных дворников, что не так уж и плохо. В доме, где жили Башуцкие, век свековал Ипатыч. Он был нумизматичес-ки стар, как тяжелый екатерининский пятак. Он сиживал во дворе на табуретке вприслон к единственному дереву, черному, как головешка. Зимой и летом он вбухивал ревматические ноги в огромные валенки времен Шипки и покоренья Плевны. Старожилы говорили, что отцы-деды Ипатыча тоже дворничали. Милий Алексеевич не удивился, когда статский советник фон Фок, выйдя из кареты, вопросительно взглянул на саврасого бородача: «Ну-с, Ипатыч, нынче тоже приклеивался?» – «Точно так, Кинстантин шастал», рапортовал Ипатыч; он стоял во фрунт, шапку держал на ладони вытянутой руки, как солдат на молитве. «Экий болван», – резюмиро-вал фон Фок, отирая ноги на каменном крыльце скромного особняка в Малой Итальянской.
Можно в сердцах ругнуть болваном прохиндея-полицейского. Бывало, и всемогущий граф Аракчеев ругался: болван квартальный за каждым шагом следит; третьего дня цыркнул, так он в мелочную лавку юркнул, а вчерась опять увязался… Ругнуть можно, нельзя пренебречь доносом. Ушлый Константинов донес, что Бенкендорф отдал-де приказ следить за государем императором. Разумеется, вздор! Но Максима Яковлевича уже осведомили: петербургский обер-полицмейстер отрядил нарочного в Кремль, в Малый дворец – в собственные руки. Само собой, его величество отвергнет навет на адъютора своего, друга-пособника. Однако государю не секрет: шпионы Бенкендорфа суть шпионы фон Фока.
Ежели объяснять то, чего не было, – учреждение слежки – сугубым усердием ради охранения государя, придется объяснять и отсутствие высочайшего соизволения на слежку. Конечно, мыльный пузырь лопнет, но покамест витает, радужно дрожа, пред цепенящим взором императора, не остается ничего другого, как цепенеть.
Фон Фок доверял интуиции. Интуиция уверяла фон Фока, что государь его не любит. Бог весть почему, по какой причине, не любит, и баста. Максим Яковлевич не ошибался; Милий Алексеевич знал об этом из дневников Пушкина. И вот статский советник цепенел, отчего казался совершенно невозмутимым. Он грел ноги у камина и полировал ногти. Нет, фон Фок не думал о красе ногтей, как отнюдь не всегда думают о благочестии, перебирая четки, а думал о подозрительности государя и находил объяснение, пограничное с оправданием.
Бабка убила деда. Отца удавили. А потрясение 14 декабря? Да, злодеи казнены, злодеи осуждены, однако «вторые Рылеевы» зовут к топору. Он сам, фон Фок, в недавней депеше сообщал в Москву, правду сказать, мало веря тому, что сообщал, – по дороге в Сибирь государственный преступник Трубецкой, воспользовавшись отлучкой фельдъегеря, сказал жене станционного смотрителя: «Ничего! В Москве человек десять наших, им поручено управиться с государем».
Соединив мысленно и наследственные впечатления его величества и свои же сообщения его величеству о предполагаемых поскребышах-заговорщиках, а теперь и донос прохиндея Констан-тинова, эстафетой отправленный обер-полицмейстером, Максим Яковлевич почувствовал себя скверно и как бы сделался схож со своим давним покровителем де Сангленом. Отстраненный от дел тайного надзора, Яков Иванович ничего на свете так не боялся, как тайного надзора. Тогда это представлялось комическим. Теперь воображение, редко посещавшее фон Фока, разыгралось.
Он выпил два стакана киршвассера, выкурил трубку душистого кнастера и, обретая душевное равновесие, изготовился к контратаке, главное направление которой плотно вместилось в контекст прошлых деист Бенкендорфу, а значит и государю. Направление было такое: приверженцы бюрократии тщатся умалить в глазах его величества и всего благонаме-ренного общества репутацию высшего надзора. Фон Фок написал: органов. Милий Алексеевич поежился. Максим же Яковлевич фон Фок перебелил депешу-жалобу.
«Я должен поговорить с вашим превосходительством об одном обстоятельстве, настолько же нелепом, как и неприятном во многих отношениях. Полиция отдала приказание следить за моими действиями и за действиями органов надзора. Полицейские чиновники, одетые во фраки, бродят около маленького дома, занимаемого мною, и наблюдают за теми, кто ко мне приходит. Положим, мои действия не боятся дневного света, но из этого вытекает большое зло: надзор, делаясь сам предметом надзора, вопреки всякому смыслу и справедливости – непременно должен потерять в том уважении, кое ему обязаны оказывать в интересах успеха его действий.
Можно контролировать мои действия – я ничего против этого не имею, даже был бы готов одобрить это, – но посылать подсматривать за мною и навещающими меня лицами таких болванов, на которых все уличные мальчишки показывают пальцами, – это слишком уж непоследовательно, чтобы не сказать больше.
Между тем средства, которыми располагает полиция, неисчислимы, тогда как средства надзора, напротив, очень ограничены. Полицейское начальство имеет право карать тотчас без всякого следствия. Вот это-то и есть то бесценное преимущество, которого недостает надзору. Круг действий последнего недостаточно обширен, потому что и средства его ограничены; деятельность его могла бы быть гораздо шире без тех препятствий, которые ставит ему полиция, руководствующаяся в этом отношении своим принципом и служебной завистью».
А тебя, сударь, не гложет зависть? Незлобивый очеркист обозлился на фон Фока: «органы». Ничего не скажешь, зеку звук несносный.
Но зависть не когтила фон Фока. Прежде стоял слева от левши де Санглена, теперь стоял справа от правши Бенкендорфа. Незаменим. Не сегодня завтра – действительный статский, чин генеральский. Служебной зависти не зная, он знал высокие порывы. Правитель дел, он правил бал и, случалось, не давал хода делам, коли доносили на людей просвещенного, по его меркам, образа мыслей. В камин, в пылающий камин… Ипатыч, обутый в валенки, барин не терпит шума, дворник Ипатыч, мягко ступая, приносил дрова и железным совком выгребал золу.
Ценитель штрихов и деталей, Башуцкий не желает замечать, что Ипатыч по совместитель-ству истопник и сторож. Этот фон Фок не держит многочисленной прислуги, живет жалованьем, значит, на руку чист. Ничего не желает замечать Милий Алексеевич. Все заслонила фон Фокова подлость – «проучить при первом удобном случае».
Врешь, сударь, ты черный завистник! «Его величество дал Пушкину отдельную аудиенцию, длившуюся более двух часов…» У Трубецкого, государственного преступника, есть в Москве и родственники и друзья, но эмиссаров нет. Эмиссары-стукачи – твоя докука, Максим Яковлевич. («Москва наполнилась шпионами» – это не Башуцкий, это – Башуцкому кго-то из твоих, фон Фок, современников.) И один из них… как бишь?., не фамилия, а сливочная помадка из довоен-ного «Норда» на Невском… да, Локателли, осведомил о двухчасовой аудиенции с глазу на глаз. Пушкина привезли из Михайловского, он был в мятом дорожном костюме, небрит. Государь принял Пушкина в кремлевском Малом дворце. «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?» А тебя, просвещенного борца с бюрократией, никогда не удостаивал и минутой. И все твои органы, включая срамной, снедает, свербит зависть. Ты сразу же пишешь Бенкендор-фу. Пишешь так, будто высказываешь не свое мнение. О, ты очень внимателен «к общему мнению». Оно умнее Вольтера с компанией, повторяешь ты вслед за Талейраном. Не дашь ему сражения и не посадишь в тюрьму, повторяешь ты вслед за Наполеоном. И с дальним прицелом добавляешь: общественное мнение ни с кем не советуется, но к общественному мнению нужно обращаться за советом. Вот почему ты пишешь Бенкендорфу о Пушкине, храня и в подлости осанку благородства: говорят, что… Говорят, что он «презирает людей», говорят, что он «честолюбец, пожираемый жаждой вожделений»; «как примечают, имеет он столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае». И ты вздыхаешь, как добродетельный Тартюф: «Он не оправдает тех милостей, которые его величество оказал ему».
Вообще и нечто, темна вода во облацех, ничего крамольного? Черта с два, моралисты из органов перво-наперво указуют на моральную неустойчивость. Сучий ты сын, и потроха твои сучьи. Ну, тряси, тряси колокольчиком, зови нарочного.
Ипатыч проводил фельдьегеря: «Бог в помощь». Поскреб саврасую бороду: «Такое колесо до Москвы доедет». Малую Итальянскую пеленали потемки. Но там, ближе к Литейному, был свет в оконце. Не Шилов ли, букинист? Нет, Федор Григорьевич еще не родился. Малая Итальянская еще не улица Жуковского, это потом, много позже, а сейчас мерцает оконце в будке благоприя-теля дворника Ипатыча.
Заслышав шаги, благоприятель сипло кричит: «Тойд?!»
Возглас этот не загадка петербуржцу: «Кто идет?!» Знамо кто, дворник Ипатыч топает на посиделки. Давний приятель с недавнего времени – приятель закадычный. Греха в том нет. От барина и на престольный не дождешься, тверезого ума барин, письменный. А тут… Эдаких будок в Питере-городе без малого сотни три, сталоть, будочников-стражей без малого тыща. Но их благородие к этой вот приклеивается, барином интересуется господин Константинов. Греха в том нет. А фельдъегерь, поди, на Большую рогатку выскочил, по Московскому тракту гремит. Казенная служба шкуру выдубит, на барабан сгодится.
22
Депеши фон Фока читал Бенкендорф за кофием.
Фон Фок полагал, что генерал пороха не выдумает, Америку не откроет, но и не закроет. Бенкендорф полагал так: рассуждения фон Фока есть его, Бенкендорфа, собственные, лишь вальсирующие ловчее. Они были квиты.
Читая последнюю депешу, писанную, как всегда, бисерно, Александр Христофорович сообразил, какой червь гложет Максима Яковлевича. Но не рассмеялся. Он тоже не прыгал до потолка оттого, что пиит удостоился столь продолжительной аудиенции, и притом с глазу на глаз. Но… «проучить при первом удобном случае»?! Грубо и плоско, как ногти этого обладателя бисерного почерка. Он, Бенкендорф, видел Пушкина после высочайшей аудиенции. Пушкин был в слезах, то были слезы благодарности. Не оправдает милостей, которые его величество оказал ему? Каков фон Фок! Невозмутим от «а» до «z», и вдруг – a bas.[2] Полноте, мой друг. Он, Бенкендорф, от имени государя обращался к Пушкину: как надобно поступать, чтобы учить, а не проучивать? Пушкин ответил запиской «О народном воспитании». Вопросительными знаками несогласия испещрил государь эту записку. Справедливо. Есть, однако, соображения дельные, сообразные нашей отрасли. Благомыслящие люди, пишете вы, все больше сознают пользу надзора как оплота на пагубных путях преступлений и испорченности; уже поколеблены нравственные силы нашего доброго народа. Доносители, пишете вы, могут преследовать личные выгоды, зато только посредством доносов выясняются такие ужасы, о которых мы никогда бы не проведали; к тому же многие из ужасов совершаются под покровом буквы закона. Прекрасно, мой друг, очень хорошо. А начинать надо ad ovo.[3] Он, Бенкендорф, лучше, чем фон Фок знает гнусную запущенность кадетских корпусов. Пушкин, человек невоенный, хватает через край: из кадетов, мол, выходят не офицеры, а палачи. Сказано, черт возьми, ради красного словца. Впрочем, куда важнее другое. Вот замета человека, возвращающегося к здравому смыслу, – нужна полиция, составленная из лучших воспитанников! Правда, и тут его величество выставил знак вопроса. Даже два. Однако, смею полагать, Пушкин прав. Именно из лучших. Из добромыслящих. И пусть себе Пушкин нынче читает друзьям поэмку про Годунова, есть аллюзии, но аллюзии, мой друг, пустяки…
Едва внутренний монолог Бенкендорфа коснулся Пушкина, как внутренний голос Башуцко-го возмутился. «А bas!» – крикнул он генералу-жандарму. Мерзавец смеет брать в союзники Пушкина! Эдак ведь в случае с Полежаевым сошлешься на другой совет, высказанный в той же записке: «За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание…» «Пустяки…» растерянно повторил Башуцкий и, словно спасаясь, принялся искать, что же такое имел в виду Бенкендорф, покончив с утренним кофием.
Нашел:
На площади, где человека три Сойдутся глядь лазутчик уж и вьётся. А государь досужною порою Доносчиков допрашивает сам.О, смысл слов, оттенки и переливы! Шпионы, доносчики – одна погудка. Разведчики, патриоты-осведомители – вроде бы иная. Как Бернстайн и Бернштейн. Погладит американский конгрессмен по шерстке, читаешь в газетах: Бернстайн справедливо отметил… Тронет против шерстки, читаешь: Бернштейн клеветнически утверждает… Семантика, граждане, зыбкая семантика, а донце твердое.
«Реакционное царствование Николая Первого, получившего зловещее прозвище Палкина…» – нехотя перечитал Башуцкий начало своего очерка. Никакой «семантики», так, скукоженные поганки, невмоготу даже чернилам, едва высохли и уже не мерцают.
«…В сентябре 1826 года было официально объявлено учреждение Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Вкратце представим читателю организационную структуру ведомства синих тюльпанов».
Милий Алексеевич поворошил выписки из научного трактата о политических институтах крепостнического самодержавия. И будто зубы заныли… Не сыграть ли в три листика с Мудряком?
23
Такие монографии давно набили оскомину Милию Алексеевичу. От них веяло сумраком снежных равнин. И вертелось на языке: «С своей волчихою голодной выходит на дорогу волк». Сейчас, однако, надо вникнуть в его намерение перекинуться в картишки именно с Павлом Петровичем Мудряком, и притом именно в три листика.
Жильцы коммуналки на улице Плеханова догадывались, что экономист стучит: коренные ленинградцы на сей счет угадчивы. Шашни Мудряка с Веркой Касаткиной догадок не требовали – малец удался в папашку, жильцы подхихикивали: «Бо-ольшой Мудряк вырастет».
Башуцкий не лишен был представления о легионах сексотов на елисейских полях спелого социализма. Но обвинить кого-либо, пусть и про себя, обвинить по наитию полагал ужасным. В его отношении к стукачам не было ни «Бернстайна», ни «Бернштейна» – было немеркнущее, лагерное: розовая пена на синюшных губах стукача, задушенного под нарами.
Поскребыша гражданки Касаткиной он вроде бы и не замечал. Мудряк обижался. Не то чтобы лично, а за все наше монолитное общество, ведь мальцу жить при коммунизме. Зато Башуцкий замечал другое: внешнее сходство Павла Петровича с Павлом Петровичем. Мудряк был не одинок. Представителей этой породы, двойников императора Павла Первого, Башуцкому случалось опознавать в подюродних поселках, и всегда в чайных, где лишь шпион-новичок спросил бы стакан чаю.
Когда Милий Алексеевич простыл и занемог жестоко, этот Мудряк вдруг выказал деятельное милосердие – и молоко приносил, и хлеб, и в аптеку однажды сбегал. Милий Алексеевич был растроган. Он виноватил себя в подозрениях. Может, и Павел Первый был не так уж и плох, как его малюют мемуаристы.
Ну, хорошо. Положим, в намерении перекинуться в картишки с Мудряком было что-то вроде извинения. Но остается непонятной, даже таинственной мысль о трех листиках. В картежном смысле круг знания Милия Алексеевича исчерпывался игрой в «очко». О трех листиках не имел он ни малейшего понятия. Однако вот уже и ударял согнутым пальцем в стену.
Мудряк будто из-под пола выскочил. С минуту удивленно смотрел на Башуцкого и развел руками. Он тоже не имел понятия, как играют в три листика. Милий Алексеевич, сознавая всю глубину своего дурацкого положения, улыбался соответственно. «Может, закусим? – вкрадчиво сказал экономист. Живем, живем… – Он подумал, прибавил веско: – Как друг, товарищ и брат…»
Экономист соорудил холодный ужин. Миловидно-блеклая Верочка, пораженная щедростью сожителя, распечатала пачку грузинского: Мудряк заваривал дважды в месяц – с аванса и в получку. Деликатно молвив «Кушайте на здоровье», она удалилась.
У Мудряка был Милий Алексеевич впервые. Он увидел фотографию Хемингуэя, похожею на гарпунщика полярных морей. Глянцевитый отблеск экзотически пеcтрогo настенного календаря напомнил Башуцкому школьные вожделения, когда ты готов отдать все на свете за колониальные почтовые марки. Увидел он и старенькую этажерку с бамбуковыми, как лыжные палки, вертикальными стойками. У них дома была такая же; этажерку пригнетали тяжелые, словно фасад Общества взаимною кредита, тома Шиллера, Шекспира, Пушкина, покойная мама продала эти Брокгаузовы издания, когда ее ненаглядный Миличка… Книг у Мудряка не было, была стопка журналов «Здоровье», что-то по технике безопасности и «Вопросы ленинизма», о которых следовало говорить, как о Коране: если в других книгах писано то же, что в этой, они не нужны; если другое, они подлежат кремации.
Мудряк витийствовал, как парторт учил, что жить, как Милий Алексеевич, нельзя, а нужно жить, как все советские люди, коллективом, а раз уж так получилось, что он, Башуцкий, не служит, значит, коллективом ему коммуналка, а он, Башуцкий, не уважает, нехорошо противопоставлять себя коллективу.
Мудряк, кажется, понимал, что мелет чушь, и потому подмигивал и прищелкивал пальцами; обращался к Милию Алексеевичу на «ты», но это было не внове Милию Алексеевичу: люди, вовсе с ним незнакомые, чаще всего говорили ему «ты», и он не одергивал, а только как бы немножко конфузился за них, «тыкающих».
Покончив с рассуждениями пропагандистскими, Мудряк привел пример агитационный, сводившийся к тому, что вот ты, Милий Алексеевич, на прошлой неделе едва концы не отдал, чуть в ящик не сыграл, а стакан воды подать некому было. Милий Алексеевич пустился благодарить. Мудряк остановил его известной сентенцией: «Каждый бы на моем месте…».
Тут-то и выяснилось, что сосед, будучи «на своем месте», заглядывал к Башуцкому и в те дни, когда Милий Алексеевич плавал в полубреду. «А друг твой, писатель, так и не пришел, нечего сказать, инженер человеческих душ», – Мудряк, глядя на Башуцкого, постучал вилкой по тарелке, что, надо полагать, было знаком строгого осуждения сердечной черствости писателя, совершенно неизвестною Милию Алексеевичу.
Он ничего не понимал. Друзей-писателей у него не было. «Ух, какие мы скромные, какие мы скромные, – покачал головой Павел Петрович. – Да ты, Милий Алексеич, звал, звал: „Герман, Герман…“ Он, этот Герман, на Марсовом живет, рядом с моей конторой, мне его показывали, ничего вроде бы мужик, а вот нет того, чтобы больного друга навестить».
Башуцкий, конечно, читал Юрия Германа, однако даже и в шапочном знакомстве не состоял. Мудряк не унимался. «У, какие мы скромные… А зачем же звал-то? Сергея Воронина, к приме-ру, не звал, а все это: Герман, Герман… He-ет, ты уж не темни. Говори как друг, товарищ и брат»
Башуцкий кисло улыбался. Он уже сообразил, чье имя произносил в полубреду, но смекнул и то, что милосердный Мудряк неспроста торчал в комнате. Ну, а теперь выйдет полный бред, если… Нет, ей-Богу, начни толковать о «Пиковой даме», о том, что Германн инженер, военный…
Он все же попытался объяснить, в чем дело. «Интересное кино, – строго сказал Павел Первый, – прямо опера в Кировском». Ладно, связь, несомненно, преступная, иначе зачем же скрывать-то. А дальше уж заботушка райотдела. И бред находка для шпионов, подумал Мудряк, но тотчас поправился: для разведчика. Милий Алексеевич опять почувствовал себя дурак дураком. Да вдруг и расхохотался.
Его смех задел Мудряка. Милий Алексеевич извинился, сказал спасибо и пожелал Павлу Петровичу спокойной ночи и чтобы он после утренней физзарядки не забыл перейти к водным процедурам. Мудряк сухо ответил: «Я ничего не забываю. – Потом пустил вдогонку: – Салют Юрию Герману».
При всем звуковом однообразии смех Башуцкого вместил разнообразные смысловые оттенки. Гамма, возникавшая исподволь, сложилась как бы внезапно, отчего он и рассмеялся словно бы невзначай. Тут была путаница ассоциаций, недоступная психологической прозе, нашему же очеркисту внятная и, главное, имеющая последовательность.
Всему причиной призабытая Башуцким магия пушкинских «троек»: «Где человека три сойдутся – глядь – лазутчик уж и вьется». Поскольку в коммуналке сошлось четырежды три человека… Был ли «лазутчиком» Мудряк, не был ли, а Милий Алексеевич испытывал к нему что-то вроде признательности. Ну, и выскочили три листика. Нелепее не придумаешь? Но это и не было придумано. Возможна другая версия. Скучливо ноющий отзвук «институтов крепост-ничества» плюс «семантика», как ветвь лингвистики – все это шевельнулось в какой-то его извилине стихотворной строчкой: «Скучная вещь лингвистика, лучше сыграть в три листика, и скоротать вечерок…». А потом – чехарда с Германом и Германном, роевое прицокивание к «Пиковой даме»: «три-три-три» и радость освобождения от монографии, взамен которой розыскные усилия майора Озерецковского, личного адъютанта Бенкендорфа. Вот что значит богатство ассоциаций, недоступное психологической прозе.
Что до Юрия Германа, то домогательства Мудряка – чепуха и вздор. В эпоху Лютого сгодилось бы, но в данный текущий момент райотдел отмахнется. Конечно, кое-какие справки наведет, без них нельзя, ежели поступил сигнал, но отмахнется и, быть может, укажет Мудряку, чтоб впредь был мудрее.
Башуцкий, правду сказать, избегал членов Союза писателей. Еще на дальних подступах к приемной комиссии Союза ему сказали: ваши очерки лишены самостоятельной художественной ценности. Формула гуттаперчевая, все вмещающая и ничего не объясняющая. Но он глупо обиделся: а судьи кто? Судьей был завкафедрой библиотечного института. Намарал аллилуйщи-ну изначальной Руси, отметил неразумным хазарам, русофилы возликовали, русофобы юркнули за визами, в большое могутство взошел завкафедрой, член Союза: арбитраж исторической прозы. Нос трубой, телеса крепенькие, как брюква, мозги жидкие, как вокзальные щи. Фамилию носил редкую – Кардалов; суть нередкая – кардован, как толкует Даль – правда, полунемец, полудатчанин, – относящаяся ко всему, что содержится в стойле. Но все это пошлость, лен не родится, и мочало пригодится. Главное таилось в другом.
Когда отпускали на волю, полковник-гебист, потеплевший в оттепели, сказал: «Постарайтесь получше выбирать друзей». Башуцкий понял: не задавай нашему брату лишнюю работенку. Но не этого полковника помнил Башуцкий, а профессора Милютина, первого зека, которого он встретил, переступив порог камеры, мутно-зеленой, как аквариум для рептилий. Лицо показа-лось плавающим. Лицо с перекошенной скулой, страдальчески недоумевающее, как лицо Вальки Артемьева, убитого раскаленным осколком. Голос донесся, как из ущелья: «Не выдержу… назову…» Он умолк. Потом дернул Башуцкого за плечо – и грассирующим, горячечным, страстным шепотом: живи без следа, ни записной книжки, ни телефонов, ни адресов, ничего, лишь бы не пришлось называть, выдавать, уйди без следа… И заплакал, сморкаясь в жалкий лоскут от пиджачной подкладки.
Да-да, уйти без следа, приложиться песчинкой к песку, замереть на сучке, как гусеница. «Ты царь, живи один», башня из слоновой кости, трагическая изоляция – удел избранных, потомки сострадают. Все это минорный лад в симфониях мировой жизни или, как бы еще красивее выразиться. А тут, граждане-товарищи, осознанная необходимость одиночества. И никакого возвышающего самообмана вроде намерения сохранить свое «я» для науки или искусства, будто тебе позарез необходимо что-то сказать, ну, вот это: «Люди, будьте бдительны…» Простите мне, Башуцкому Милию Алексеевичу, простите и вы, граждане начальники, и вы, граждане соотечественники, позорное нежелание дрожать коленными чашечками, опять сидеть орлом, испражняясь публично, стоять без штанов, подставив лобок тупой бритве, вылизывать на лесосеке оловянную миску и, дождавшись очереди, досасывать слюнявую козью ножку.
А в профсоюз работников культуры я плачу исправно, за квартиру тоже, жилплощадью доволен… Аполлон Аполлонович Короткевич, старый зек, довоенного набора, уходил на поселение. Прощались у вахты. «Какое, Аполлон Аполлонович, самое-самое твое?» – «Денька бы три, четыре прожить, чтобы не взяли». А на груди под рубахой кисетец, как ладанка, а в ладанке этой бумажный жгут – давняя, сорок третьего, просьба покойницы матери о свидании и две похоронки на двух других сыновей, убитых чуть ли ни день в день, а на просьбе о свидании: «Отказать». Простите уж нас, граждане товарищи. Постыдный трепет? Он самый.
И Башуцкий хоронился, как барсук. Его нелюдимость разделяли люди. Люди иного века. В их компании он ничего не опасался. Разве одного: не обидеть бы ненароком, не осудить бы с кондачка, ведь у них уж нет земных дней, чтобы поступить иначе. А эти глаза? В Древнем Египте такие глаза назывались «говорящими» – тонкие черные черточки проводили египтянки от углов глаз к вискам.
Не зажигая света, в темноте он сделал ручкой экономисту Ленэнерго: «Здрасьте, здрасьте, тетя Рая, вам посылка из Шанхая», – лег, стал курить и думать о другой действительности, сущей в подлунном мире в единстве с этой действительностью, где и Мудряк.
24
Фарфор так себе, и картинка не шедевр, да жаль, пропала тарелка. То ли еще до войны, то ли пока обучался в академии Лютого. Это уж точнее точного – академия: вот тебе смысл всех наук, вот тебе Гегеля полный курс. А на фарфоровой тарелке – сейчас бы стену украсить – Нева, голубая-голубая, над Невой облачка белые-белые, Английская набережная, и пристань, и пироскаф с высокой железной трубой; еще минута – черные плицы красных колес взроют непучинные воды. Казенный пироскаф поступил в распоряжение Бенкендорфа, граф отправлялся в Фалле. На бревенчатой пристани у гранита Английской набережной провожали Александра Христофоровича чиновники Третьего отделения и штаб-офицеры Отдельного корпуса жандармов.
Башуцкий поискал глазами фон Фока, не нашел и понял, что Максим Яковлевич отсутствует по весьма уважительной причине: помер. Стало быть, правой рукой Бенкендорфа теперь вот этот – Дубельт. Худое, жесткое лицо с вислыми усами напоминало какой-то хирургический инструмент; фигурой, жестами генерал смахивал на хромого беса.
Впрочем, не отсутствие фон Фока и не присутствие Дубельта заняло Милия Алексеевича – он подглядывал за майором Озерецковским. Забавно!
Провожающие, притаивая нетерпение, какое владеет подчиненными на проводах высокого начальства, старались изобразить светлую грусть расставания и не менее светлую радость, как бы предвкушая отдохновение Александра Христофоровича в его приморском имении. Майор же Озерецковский отличался от всех прочих видом совершенного уныния. Рост немалый, выправка отменная, вылощенный, выхоленный, белолицый, чернобровый, он, личный адъютант шефа жандармов, глядел обиженно. Ей-ей, школьник: вместо каникул экзамены. И верно, майор, как и в прошлом году, уехал бы с графом в Фалле. То-то приволье! Ан нет, задали задачу, ни справа, ни слева подсказки. Даже Милию Алексеевичу не придумать, как найти владельца носового платка с меткой «Л. Л. Г.». Он совсем было призабыл историю с умерщвлением старухи графини, оказавшейся княгиней, да, наверное, и не вспомнил бы, не прицепись давеча этот Мудряк со своими домогательствами. Ну да ладно, «Богатырь» уже развел пары.
Пироскаф побасил, посвистел, пошумел и отдал швартовы. Провожающие бодро крикнули «ура», Башуцкий увидел разинутый рот унылого майора. Под черными плицами красных колес звучно вскипела изжелта-белесая пена, послышался запах «королевской эскадры»… В начале войны, только что забритый, в негнущейся робе и грубых бахилах, имевших не совсем табельное название «говнодавы», попал он на колесный грузовой пароходишко. На один из тех, что были мобилизованы для нужд военного флота и благодушно-усмешливо прозывались «королевской эскадрой». Пахли они плохоньким каменным углем и еловыми дровами. Пироскаф «Богатырь», разворачиваясь, выбирался на невский стрежень. А вечером, на закате, матросы-песенники споют «Как на матушке, на Неве-реке…».
В прошлые годы, едва миновав Кронштадт и Толбухин маяк, Александр Христофорович светло устремлялся в любезный душе приморский замок. Но вот уже смеркалось, залив подернулся сизым, сиреневым, ясный обломок солнца, словно бы подрагивая, окунался в волны, уже семейно поужинали, уже матросы стройно спели и про матушку Неву и про волжских разбойников, а Бенкендорфа не оставляла угрюмая печаль.
За то краткое время, что Милий Алексеевич выпустил его из виду, Александр Христофоро-вич сильно сдал. Перемену можно было бы отчасти объяснить недавней хворью. Медики опасались за его жизнь; государь навещал каждый день, а то и дважды на день; набережную Фонтанки выстлали соломой, утишивая гром экипажей. Да, осунулся Александр Христофоро-вич, глаза и пожухли и повлажнели, а какие были красивые глаза; приволакивал ногу, поредевшие волосы красил. Оставаясь бонвиваном, засматривался на русскую деву, которая, как известно, свежа в пыли снегов и в озаренье бала. Но засматривался как бы с некоторым принуждением, по привычке. Все это так, но печаль была душевная.
Недавняя болезнь не дала сопровождать, как всегда, государя в экспедиционной поездке по внутренним губерниям. Государь уверял, что лишь жестокая необходимость, лишь рекоменда-ции лекарей Рауха и Лерхе, дерптских выучеников, нельзя ослушаться – вынуждают eго покинуть верного спутника, пусть наберется сил в прекрасном Фалле, где он, Николай, провел дни незабвенные.
Бенкендорф был уверен, что государь не оставит письмами. Уверен был, что прочтет неизменное обращение: «Мой милый друг», а в конце увидит не это механическое: «Пребываю к Вам благосклонный», нет, умилится: «На всю жизнь любящий Вас Николай». Никаких признаков охлаждения не примечал Александр Христофорович. Ну, случалось получить взбучку. В годовщину коронации угораздило забыть мундир парадный, надел общеармейский, да и вылетел, как ошпаренный, из государева кабинета, сокрушенно мотая головой. «Досталось! Досталось!» Ничего не скажешь, поделом. А вот чтобы eго величество воззрился, как на других, стекленеющими глазами с кровавыми прожилками, Бог миловал.
И все же закрадывалась потаенная щемящая тревога. Иной раз казалось, будто тяготит он государя, как, бывает, тяготят старые надежные слуги, утрачивая расторопность движений. И жалеют их, и досадуют на них.
Николай, принимая в команду Россию, замыслил многое упорядочить. Бенкендорф, получая вожделенное назначение, тоже. А теперь… теперь оба нередко исполняли дуэт барыни и барской барыни: хозяйки-распорядительницы и ее влиятельной наперсницы, что из года в год каждое утро битых два-три часа обсуждают, какой нынче обед заказать, и каждое утро объявляют повару, скучающему в дверном проеме: «Делай как вчера».
Бабья бестолочь? Не скажите. Консерватизм избавляет от несварения желудка; отказ от западных гастрономических новшеств есть род самостоянья. Но в рацион и барыни и барской барыни уже вошел картофель, хотя еще недавно аристократка осьмнадцатого века говаривала, что картофель на Руси унизит достоинство россиянина. Он и унизил, да только гораздо позже – на овощных базах. Николай же Павлович, государь, хотел, чтобы картофель сеяли, окучивали, убирали мужики, свободные от крепостной зависимости. Но и от земли тоже свободные. «Земля принадлежит помещикам; это священное право никакая власть отнять не может». Власть, однако, и может и обязана пресекать помещичий произвол, взращивая христианское, сообразное с законами обращение с крестьянами. Так думал и Бенкендорф. Но предупреждал: взрыв будет, и чем позднее, тем сильнее. Обсуживали, пересуживали, а все выходило: «Делай как вчера».
Бенкендорф, пожалуй, не обманывался: его величество несколько тяготился предметом своей пожизненной любви. Не потому, что Александр Христофорович чему-то мешал или, напротив, забегал вперед коренника. А потому, что своим поварам в синих мундирах не умел заказать разнообразное меню.
Нет, нет, помилуй Бог, государь не имел нужды в заговорах. Заговоры придумывают тираны, озабоченные упрочением своей власти; и, придумав, пускают юшку из якобы заговорщиков. Николай царствовал законно, в заговорах не нуждался. Да и Бенкендорф вряд ли изобрел бы что-либо сносное. А ростки крамолы Третье отделение выпалывало своевременно. Существовал, однако, вид крамолы неистребимой. Она обвивала ветвистое дерево законности нежно и цепко, как лианы. То не было ее священным правом, как право помещика на землю, а было правом, освященным веками. Никакая власть ее отнять не может? Даже высший надзор?
Когда Александр Христофорович начинал в доме у Красного моста, синих тюльпанов было около двадцати. Теперь, когда он продолжал в доме у Цепного моста, – около сорока. Башуц-кий, вообразив штаты Большого дома, рассмеялся. Ехидна! Надо ж брать в расчет и данные демографические, и капиталистическое окружение, пусть и сменившееся социалистическим. Не смеяться впору, а завидовать. Тесность корпорации синих тюльпанов предоставляла возможность не держать дураков. И эта возможность осуществлялась. Правда, не усилиями Бенкендорфа, а стараниями сперва фон Фока, теперь Дубельта, да не это важно.
В жандармских округах, стянувших державу, как обручи бочку, числилось в тот день, когда Александр Христофорович отплыл в свой приморский замок, почти четыре тысячи чинов Отдельного корпуса жандармов. До пятидесяти тысяч, как Пестель планировал, далеконько. Э, не во всем же следовать выкладкам злоумышленника. Вот он, например, не предусмотрел музыкантов, а Бенкендорф имел двадцать шесть синих тюльпанчиков: трубачи, барабанщики, флейтисты. Молодцы, ребята!
Сравни-ка с сенатским поголовьем – больше тысячи – признаешь: и Третье отделение и Отдельный корпус не висели у казны жерновом на шее. А философически глянуть, с нравст-венной точки, негоже раздувать штат бюрократов в том ведомстве, что по его, Бенкендорфа, становому замыслу призвано осуществлять высший надзор за бюрократией, не милуя и министров. К тому же opганы, сжатые пружиной, действуют энергически, не токмо глупец, но и ленивец обнаруживаются без микроскопа.
Бенкендорф хвастал, выпячивал уже довольно впалую грудь, побрякивал кавалерийскими шпорами? Милий Алексеевич, очеркист дотошный, не полагался ни на мнения, ни на сомнение шефа жандармов. Органы и вправду надзирали.
Генерал Ермолов язвил: «Теперь у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или хотя бы голубая заплатка».
Другой современник горестно отмечал: «Не было общественного места, не было гостиной, куда бы не вкрались шпионы. Даже семейный очаг не был от них избавлен».
Офицер, достигший чинов изрядных, вспоминал: «В каждом округе состоял дежурный штаб-офицер, который был обязан писать обо всем, в особенности о настроении и суждениях господ офицеров. Мы в своем кругу товарищей боялись быть откровенными. Лица, служившие вместе со мною в полковом штабе и обедавшие каждый день у полкового командира, часто выходили из-за стола, не сказав ни одного слова».
Прочитай такое Бенкендорф, он остался бы доволен. И право, был бы польщен, услышав из уст революционного демократа, что жандармы старого типа, то есть синие тюльпаны, отличались изысканной вежливостью. Многописание окружных штаб-офицеров? Да, они лишали дара речи людей военного звания. И прекрасно, Цицеронам не место во фрунте… Но поскольку движение голосовых связок, подумал Милий Алексеевич, такая же потребность, как дыхание, не худо было бы уже тогда ввести политзанятия… Так вот, окружные штаб-офицеры поставляли центру незаменимый материал для аналитических годовых обзоров.
Положим, писал их сперва любитель российской словесности фон Фок, потом Леонтий Васильевич Дубельт, коего даже Герцен признавал умницей. Верно и то, что Александр Христофорович многие бумаги подмахивал, почти не глядя. По рассеянности мог бы, пожалуй, рекомендовать митрополита в корпусные командиры и наоборот. (Последнее – в эту пору неприемлемое оказалось при Лютом вполне уместным и надежным. Ладно, это так, в сторону.)
Как бы то ни было, а годовые отчеты, думал Милий Алексеевич, несли явственную печать самостоянья Бенкендорфа. Не золотил он пилюли и не бежал острых yглов.
Среди крестьянского класса, утверждал шеф жандармов, встречается больше рассуждающих голов, чем это можно предположить с первого взгляда; они хорошо знают, что во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находится в состоянии рабства; они ждут своего освободителя, как евреи своего Мессию. Коль скоро именно из этого сословия мы вербуем солдат, оно заслуживает особого внимания со стороны правительства.
Он не льстил монарху: ход дел пришел в расстройство; первые места заняли люди неспособные или нерадивые. Он не тешил царя монолитностью: число приверженцев русской конституции довольно значительно. Он не щеголяет сверхпроницательностью своего ведомства: да, дом Лавалей считают гнездом австрийского шпионства, а Дом Людольфа – шпионства английского; но органы этого не утверждают, а лишь предполагают.
Бенкендорф порицает военного министра Чернышева и прочит Дашкова в министры юстиции. Первый – самодур, взыскующий только высочайшей похвалы. Второй – сторонник гласного суда и адвокатуры.
Он не кадит государю ни расцветом, ни молочно-восковой спелостью; нет, не дожидаясь высочайшего дозволения, произносит: «застой». И этим, сетует он, пользуются злонамеренные умы, сея сомнения в светозарном будущем и предсказывая в настоящем усиление репрессий.
Бенкендорф не скрывает: целые деревни заражены венерическими болезнями; оспа, корь и другие заразные болезни беспрерывно свирепствуют среди беспомощного населения.
Он не списывает на русофобов распыл исторической памяти: никто не думает больше об исторических развалинах, которые вы, государь, приказали сохранять.
Бенкендорф не слезает с Дон Кихотова Россинанта, не роняет копья, вот его генеральная линия: в среде бюрократической редко встречаются личности; хищения, подлоги, взяточничест-во – ремесло чиновников, знатоков всех тонкостей бюрократической системы. Судебные присутствия являют грустную картину: правосудия нет, есть корыстолюбие; прокуроры и стряпчие, постановленные наблюдать правильность судоговорения, нередко сами причастны к злоупотреблениям…
Не правда ли, знакомо, до боли знакомо, не правда ли, думал Милий Алексеевич, и ему уже внятна была печаль дряхлеющего генерала в этот тихий, благостный, сиреневый вечерний час, когда дым пироскафа напоминал дымы «королевской эскадры», а черные плицы красных колес рыли непучинные воды.
Внятна-то внятна, да не сполна. Это ж романисты всеведущи, как Господь, а наш очеркист знать не знал об одном недавнем происшествии, в сущности, ординарном и закончившемся, как в нравоучительной повести, наказанием порока. Но вся штука заключалась в том, что было оно для Александра Христофоровича точкой, градусом, каплей, состоянием, когда количество переходит в качество.
Началось тоже обыденным, всегдашним, утрешним, но теперь уже не в доме на Морской, где Бенкендорф присыпал аттической солью бородки June Franse и полицейских будочников, а потом наблюдал майора Озерецковского и эти безуспешные поиски носового платка с монограммой «Л. Л. Г.». Нет, в доме фасадом на Фонтанку, бывшем Кочубеевом, у Цепного моста, в том кабинете, что назывался Малым.
Съезжались приближенные. И Дубельт, и полковник Леонтьев, тот заведовал императорской главной квартирой, и секретарь Александра Христофоровича тонконогий Миллер, бывший лицеист, поклонник Пушкина, и адъютанты его сиятельства, тоже сиятельные Меншиков и Урусов, ну и, само собой, майор Озерецковский.
Съезжались просто ради того, чтобы поболтать с графом, большим охотником до новостей, пересудов, сплетен… нет, надо изящнее выразиться, по-французски: не сплетен, а комеражей. Делу, известно, время, потехе час. Вот-с он и был, этакий час, когда все они, синие тюльпаны, чувствуя себя если не семейно, то очень и очень корпоративно, получали порцию оптимизма на весь трудовой день.
Бенкендорф брился, посмеивался, задавал вопросы: «Ты вечор являлся в маскераде?» – «Являлся, ваше сиятельство». – «А государь присутствовал?» «Присутствовал, ваше сиятельство». – «Маски интриговали государя?» Брился, слушал, по обыкновению прицокивая языком и этим умело выражая всевозможные оттенки мыслей и чувств, не весьма, надо полагать, глубоких, что, впрочем, соответствовало утреннему приему в Малом кабинете.
На таком мини-приеме и рассказали Александру Христофоровичу о Львове и Пономареве.
Львов еще недавно ходил у него адъютантом. И притом таким, какого не сыщешь среди всех адъютантов империи – автор народного гимна «Боже царя храни». (Между прочим, это ж он, Бенкендорф, надоумил прекрасного музыканта сочинить гимн, а его, Бенкендорфа, дочь, красавица, мило косящая Анна, была запевалой хора на первом исполнении гимна в Дворянском собрании; так что Александр Христофорович без особой натяжки почитал себя соавтором.) Львов и теперь служил у Бенкендорфа распорядителем собственного его величества конвоя.
Там же служил и Пономарев, казначей столь робкий, что внезапные ревизии не обнаружива-ли недостачу и на полушку. Кстати сказать, пример такой редкой застенчивости постоянно отвращал Александра Христофоровича от проектов увеличения жалованья чиновникам. На все уверения – они, мол, без значительной прибавки не могут не воровать – Бенкендорф неизменно восклицал: «А Пономарев?!» – и прицокивал языком, будто видел ласточку, делающую весну.
Так что же милейший Львов? А он, оказывается, купил дом на Караванной, сто тысяч выложил, а тысяч двадцать на ремонт выложить не мог. Тотчас извечный вопрос: «Что делать?» Казначей Пономарев говорит: «Проще простого, Алексей Федорович, возьмите ссуду в Казенной палате. Под залог стотысячного дома не откажут». Отлично. Пономарев, дока, настрочил по всей законной форме. Бумагу отправили. Ремонт был в ходу, подрядчик в мыле, не сегодня завтра расчетец извольте. А присутствие молчит. Львов, инженер и музыкант, объясняться с крапивным семенем не обучен. Тихий, честный Пономарев идет в Казенную палату. Указывают: «Обратитесь к надворному советнику Феклисову, это по его части».
«А-а, ка-ак же, ка-ак же, – отзывается блондин-жеребец с Анной на шее. Да-с, Львов, стало быть… – И, весело оглянувшись на вицмундирный квартет, спросил: – А сколько он мне даст?» Пономарев прошелестел, как встрепанная осинка: полномочий-де не имею, полагаю, однако, пятьюстами не затруднится. «Скажите вашему флигель-адъютанту, пусть привезет. И непременно серебром, а не ассигнациями».
Наглость города берет. Смешался Пономарев, шепчет: «Позвольте заметить, Алексей Федорович Львов имеет счастье быть флигель-адъютантом его императорского величества и, кроме сего, служит при его сиятельстве графе Бенкендорфе». – «Э, – осклабился жеребец с Анной на шее, – для нас, батюшка, все равно, были бы денежки. Пришлет, я, не мешкая, приеду с оценочной комиссией, подпишем акт и расстанемся друзьями. А не пришлет, тоже приеду, та-акую оценку соорудим, напляшется».
Опять сакраментальное: «Что делать?» Ремонт закончили, артель шапки мнет – трудом праведным поставили палаты каменны, пожалуйте, барин, как рядились. Львов глаза прячет, на губах междометия.
Снова на сикурс, на выручку поспешает тихий, честный казначей. «Займем пятьсот рубликов, Алексей Федорович, поеду к разбойнику, да не один, со свидетелем, помощника возьму, а вы уж все слово в слово – его сиятельству». «Ах, – вздохнул Львов, – в одно ухо скажешь, из другого вылетит». – «Пусть так, – рассудил казначей, – а все же вы исполните и долг по службе, и долг человека благородного. Ведь ей-же-ей, грабеж средь бела дня».
Надворный принял взятку, нимало не смущаясь свидетелей, дело сладилось. Припожаловала оценочная комиссия, все честь честью. А поздним вечером – счетец. Надворный знал неписаные законы не хуже писаных. Всей оценочной комиссией дружно оценили и искусство кулинаров ресторации Палкина, и содержимое палкинских погребов. Нуте-с, господин Львов, счетец сверх пятисот.
Бенкендорф брился, слушал, но языком не цокал. Кто-то рассмеялся, Бенкендорф взглянул тускло, наступило молчание. Минута-другая, и Малый кабинет опустел.
Теперь начался второй акт не совсем музыкальной пиесы.
Министру финансов за подписью Бенкендорфа послано было отношение: государь император, получив сведения о противозаконном поступке чиновника Феклисова, высочайше повелеть соизволил назначить следственную комиссию с участием жандармского штаб-офицера; о последующем прошу уведомить для доклада его императорскому величеству.
Министр, неторопливый и основательный, как все финансисты, не без проволочек ответил: знаю господина Феклисова с давнего времени за отличнейшего во всех отношениях чиновника; посему счел нужным прежде назначения формального следствия допросить лично; господин Феклисов отверг возводимое на него нарекание; нахожусь в необходимости, Александр Христофорович, покорнейше просить прислать ко мне полковника Львова, как подкупателя, для очной ставки с господином Феклисовым, обвиняемым во взяточничестве.
Это вот – подкупатель – и срезало Бенкендорфа, ибо Львов оказывался взяткодателем, тоже, стало быть, совершил поступок противозаконный. У Николая же Павловича выступили на глазах кровяные прожилки.
«Скажи от меня графу Канкрину, что я не хуже его знаю русские законы. Но в настоящем случае приказываю смотреть на действия Львова, как мною разрешенные, и оставить его в покое. Сверх того приказываю: следственной комиссии рассмотреть не только поступок против Львова, но исследовать способы, коими Феклисов имеет средства к жизни».
Однако миропомазанника обошли с фланга.
Разумеется, жеребец-блондин с Анной на шее и в комиссии отверг «чудовищный поклеп». Синий тюльпан, командированный Бенкендорфом, взмолился: «Помилуйте! Как же так? Алексей Федорович Львов, слава Богу, жив, живы и свидетели. Как же так?» Председатель, приятно отрыгнув давешним двойным клико от Палкина, ухмыльнулся: «Мы имеем высочайшее повеление не привлекать господина Львова, стало быть, не вправе спрашивать ни его, ни свидетелей».
Жандармский штаб-офицер, вероятно, утратил бы изысканную, а ля Бенкендорф, вежливость, если бы и синие тюльпаны не налегли на весла. Они успели выяснить «способы» надворного советника: квартира за две тысячи, экипажный выезд, многочисленная прислуга женского полу. Тут вроде бы и деться некуда? Как всегда в подобных случаях, надворный понес околесицу о щедрых дядюшках-тетушках. Дело увяло за недостатком доказательств, хотя и решено было, что Феклисов остается в сильном подозрении.
Сильное подозрение не помешало бы бросить щуку в воду, но государь взглянул косо. Он сердился на себя: эка, слевшил, отстранив от допросов автора народного гимна, вот и объехали на кривой. Он круто положил руль без всяких ссылок на параграфы и пункты выгнал Феклисова из Казенной палаты и погнал в Вятку, где, между нами говоря, тоже была Казенная палата. Надворный убрался из Петербурга. На заставе чуть в барабан не ударили для отдания чести: ехал в роскошном дормезе, шестериком лоснящихся гнедых…
Это истинное происшествие, описанное свояком Львова, тоже синим тюльпаном, Милий Алексеевич не заметил в многотомном комплекте «Русского архива». И потому, присматриваясь к Бенкендорфу – тот все еще сидел в креслах на палубе, хотя ветер свежел, – Милий Алексеевич внятно, но не сполна сознавал печаль его.
Да, тревожило охлаждение государя. Тревожило и обижало, как незаслуженное. Оба сознавали холостое вращение шестеренки, той именно, которую он, Бенкендорф, считал едва ли не главной в ведомстве синих тюльпанов. Злодеяния наказуются, зло остается. Оба искали приводной ремень, чтобы шестеренка не крутилась впустую. Государь ждал «изобретения» Бенкендорфа, Бенкендорф – государя. Возникало тягостное напряжение. Увы, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, и это душевное состояние Александра Христофоровича понимал Башуцкий.
Он другого не понимал. Недавнее происшествие с флигель-адъютантом, происшествие, в котором, выражаясь по-нынешнему, было задействовано первое лицо империи, имело для Александра Христофоровича значение переломное. Можно было бы сказать, трагическое, но трагизм почему-то считается несовместимым с шефами ведомств, подобных Третьему отделению.
Это происшествие, повторяем, было градусом, каплей, точкой Бенкендорф капитулиро-вал. Он тяжеловесно сломился, поник, ибо не одним умом осознал: всесилие вездесущих феклисовых неотвратимо, как деторождение, и неизбежно, как смерть.
Вот этого душевного состояния и не понимал Башуцкий. Да оно и не худо, не то пустился бы в рассуждения о том, что функции создают орган, а орган, в свою очередь, создает функции, ну, и вышло бы, что корень зла в бюрократической системе, а не в коренных свойствах природы человеческой.
Предположи Милий Алексеевич нечто подобное таким рассуждениям, не возникшим в его голове, а возникшим в голове Бенкендорфа, он удивился бы. А между тем… Между тем Александр Христофорович поднялся с кресел и рассеянно осмотрелся. Он увидел темное море и не увидел шестикрылых серафимов в блеклом, без звезд небе. Пора было в объятия Морфея. Иные объятия в наши лета, увы, не столь желанны. Забыл… как бишь ее? Имя прелестницы он запамятовал, а донос вспомнил. Лет десять тому, когда Александр Христофорович еще верил в свое предназначение, шпионщина донесла: такой-то чиновник на вопрос, откуда у него именьице, превесело отвечал женушка приобрела на подарки, полученные в молодости от его сиятельства графа Александра Христофоровича… Дурак, улыбнулся Александр Христофорович, но оставалось неясным, кто, собственно, дурак, он ли, подкупитель, или тот, из феклисовых…
25
Бенкендорф любил Эстляндию нестранною любовью: здесь, над морем, у реки Кейле, то медленно-черной, то быстрой и пенистой, простиралась его счастливая Аркадия. О Фалле!
Башуцкий тоже любил Эстонию, но странною любовью. Впервые она шевельнулась чувством стыда. Правда, совсем не жгучего. А так, вроде неловкости, которую он потом мимолетно испытывал за того, кто обращался к нему на «ты».
Когда эсминец стоял в Н-ской базе, где на стене пакгауза шалая рука начертала: «Смерть немецким оккупантам и военным комендантам», капитан второго ранга Карлов послал однажды Башуцкого в таллиннский штаб. Зачем и для чего, Милий Алексеевич запамятовал, а парикма-херскую помнил, ютилась в какой-то улочке, исковерканной, как весь город, бомбежками. Захотелось не побриться, а чтобы побрили. В его желании был довоенный отблеск парикмахер-ской близ Андреевского рынка. И еще как бы ощущение наступившего конца войны. Рядком на лавке сидели эстонцы. Башуцкий спросил, кто последний, ему не ответили, в душе скользнуло раздражение. Вошел лейтенантик, вчерашний курсант училища Фрунзе с пистолетом на заднице. Тут как раз мастер освободился. Лейтенантик вопросительно взглянул на Башуцкого: идешь, что ли? Башуцкий показал глазами на очередников. «Э», небрежно усмехнулся альбатрос грозных морей и той деланной, враскачку походкой, какой ходят новоиспеченные офицеры, мало ходившие по палубе, проследовал к креслу. Никто не произнес ни слова, но Башуцкий корнями волос почувствовал холодное презрение эстонцев. Ему стало неловко, конфузливо, он подумал, что это вот «э» лейтенант не произнес бы ни в Ленинграде, ни в Сталинграде… Потом – в этапной камере – он видел двух парней рыбаков. Они не говорили или не хотели говорить по-русски, но после столкновения с уголовными в защите дагестанца, творившего намаз, серьезно и молча пожимали руку Ивану Григорьевичу. Годы спустя, после лагеря Башуцкий с неделю работал в Тартуском архиве, что на улице Лийви; ночевал неподалеку, в уютном, добропорядоч-ном, тихо пьющем отельчике «Тооме»; дни падали сумрачные, зимние, с капелью; домой возвращался автобусом, ехал долго, сугробы кружили, поля, перелески… Все это, расчлененное и временем и пространством, не оставило в запасниках памяти ничего продуманного, взвешен-ного, ничего пестрого, яркого; зато оставило «эстонское» ощущение надежного, душевно опрятного. Иногда он ловил себя на мысли, что вот жил бы в Тарту, то, пожалуй, и не счел бы столь уж необходимой «осознанную необходимость», не был бы нелюдим среди этих людей. Не хотелось думать, что он ошибается, и это нежелание было любовью к Эстонии.
В Фалле, как бы защищаясь от здешнего очарования, он отдал дань привычкам своего мышления, то есть сразу испытал социальную неприязнь к владельцу богатейшего в Европе имения: оккупант, как и все прибалтийские бароны. Конечно, Александр Христофорович мог бы показать купчую. Впрочем, мог бы и не показывать – то ли копия, то ли подлинник хранились в Тартуском архиве. Хорошо, купил, приобрел. А на какие шиши? Конечно, Бенкендорф мог бы отметить, что денежки честные, не от феклисовых, пришлось залезть в долги, но уже на следующий год честно расплатился – вдовствующая императрица, отходя в мир иной, оставила сыну подруги своей юности семьдесят пять тысяч рублей. Хорошо, пусть так. А все же приобрел-то «на подарок», как и женушка одного из феклисовых, свое именьице. Да еще и разогнал коренных насельников, «печальных пасынков природы». Экий парк-то громадина, дороги в парке общей длиной в пятьдесят четыре версты. А посмотришь на розовый замок с башнями, музыка в камне звучит оккупационной готикой. Да, граф любил Эстляндию не странною любовью. Еще в осьмнадцатом веке говаривал родовитый, не ему чета, русский князь: степень нашего патриотизма в прямой зависимости от размеров нашего недвижимого. Вот так-то, Александр Христофорович.
Уплатив по векселю умозрений, Башуцкий освободился для созерцаний. Тотчас закралось в душу удовольствие, которое дарит культурный парк, в каком бы вкусе ни был устроен, а парк культуры, сколь бы ни был оснащен, не дарит. В первом можно жить, во втором нельзя отдыхать.
Тишина здесь была многозвучной. Ручьи и река, водопад, море, все эти интонации и ритмы, ударения, расставленные камушками, камнями, скалами; голоса разного объема и тембра, голоса и подголоски вод, рощ, лесов они-то и создавали широкошумную тишину холмистой местности по имени Фалле.
Бенкендорф рос в Гатчине, живал в Павловске и Петергофе, прибавьте Зимний – вот и «вся Россия». По сердцу была и Эстляндия, мызы ее, шпили Ревеля. Но едва отворялись тяжелые, медленные чугунные врата с гербами на створках – рыцарский щит и три розы, – как неизъяснимый покой обнимал Александра Христофоровича, покой и отрада отдельного, особного существования.
Ах, задушевно понимал он государя, отягощенного государством, когда тот, погостив в Фалле с императрицей и детьми, сказал: «Жить семейной жизнью – истинное счастье». Не об этом ли шепталась и стайка отроческих березок на ровной лужайке со скошенной травой? Такие же березы, как в палисадниках русских деревень или здешних, чухонских, с их лачугами, крытыми толстым слоем навоза и топившихся по-черному. О-о, нет, эти, на ровной лужайке, своеручно посадил пожизненный друг, теперь, увы, охладевший.
А тогда… Они часами сидели в беседке под зеленым куполом и в той, что под могучим тополем. Слышно было, как дробно, а переменится ветер, приглушенно-слитно низвергается водопад. Государь говорил, что благо семейного круга вдвойне драгоценно, когда… и, вытянув палец, доверительно и ласково коснулся колена Александра Христофоровича. А потом говорил государь, что хорошо бы построить мост… Ишь ты, подумалось Башуцкому, а канал-то сооружать медлил: посмотрел на расчет войск, необходимых для соединения Москвы-реки с Волгой, да и укоротил проект; мысль же о каналармейцах в голову не пришла: он ведь Палкин, а не Лютый. Другое дело Фалльский мост – пусть раскошелится Александр Христофорович, а казна в стороне… «Да, мой друг, – говорил государь, – хорошо бы на реке построить мост». И мост начали строить, государь – это позже – восхитился: «Отличный офицер, все может! Взгляни: будто смычок свой перекинул над рекой». И верно, легкий, грациозный висячий мост соорудил Львов, инженер и музыкант, автор народного гимна… Вечерами на башенной площадке затевалось чаепитие, море жемчужно мглилось, тянул бриз, площадка на такой высоте, что право… Москву увидишь, вперебив Бенкендорфу подумал Башуцкий, и тотчас веянием бриза донесся голос «курсистки». Какая она была милая, хрупкая, наша словесница в трудовой школе, волосы узлом, блузка в мелкий цветочек, юбка до пят, широкий лакированный блескучий пояс; она задыхалась от восторга: «Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве…»; добрейшую Веру Михайловну прозвали Курсисткой, хотя курсисткой в «мирное время» была не она, а директриса, прозванная Божьей Грозой… Сейчас, когда веял бриз и семья Николая Павловича пила чай вместе с семьей Александра Христофоровича, Курсистка объясняла «образ Манилова» – «храм уединенного размышления», мечтания о дружестве, о житье на берегу реки, о постройке моста и дома с таким высоким бельведером, чтобы разглядеть Москву… Не исключено, что наш очеркист где-то, у кого-то вычитал о маниловщине, в известной степени свойственной и круто-суровому Романову, и не чуждому сантиментов Бенкендорфу, но вычитанное, чужое, как нередко бывает, ассоциировалось со своим, личным, услышанным, наблюденным. А вот уж это – Курсистка не трунила над маниловским беспочвенным прожектерством: уповала, голубушка, на мост в социализм – вот уж это было от Башуцкого, или от лукавого.
Бенкендорф же, как обнаружил Милий Алексеевич, летними фалльскими днями, этот шеф головного института крепостнического самодержавия, уповал на капитализм. Целиком и полностью разделяя положения и выводы русского царя касательно семейного уединения, Александр Христофорович лишь отчасти соглашался с бывшим императором французов. Некогда вздыхал Наполеон меланхолически и, быть может, не совсем притворно: «Боже мой! Хижина и десять тысяч франков!» Хижина – да, если это Фалле, но десяти тысяч не хватит даже на георгины.
О, не Фалле единым жив человек – государь жалует двадцать восемь тысяч десятин полуденной аккерманскои земли. Старый боевой товарищ, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, берет на себя устройство нового имения Бенкендорфа. И вот уж пишет из Одессы князь Воронцов: прикажу купить кошары овец и баранов; есть удобное место для устройства корчмы (план прилагаю); на твоей же земле, близ почтовой станции сам Бог велит иметь питейный дом: на сей счет заключи контракт с купцом Ушеровичем, пусть пользуется, а как только оправдает затраты, – твой доход… Тут Башуцкий как бы приотстал от размышлений Бенкендорфа, пытаясь решить, кто же в конце концов спаивал народ – русский ли Воронцов, еврей ли Ушерович или немец Бенкендорф? – не найдя концы концов, поспешил к Александру Христофоровичу.
Тот благодарил бойца с седою головой: дружба, мол, как вера, без дел мертва, сердечно признателен, Михаила Семенович, все это прекрасно, посылаю на первоначальное обзаведение двадцать пять тысяч ассигнациями.
Да, все это прекрасно, но когда дышишь балтийским воздухом, когда видишь поселян, увы, бедных, но с восемьсот семнадцатого года свободных от рабства, в коем обретается народ-победитель, тогда прямо говоришь государю: эстляндское дворянство, душою преданное трону, надеется на улучшение своей финансовой системы и торговли.
На монарха надейся, да сам-то не плошай. Сыновей Господь не дал, однако дочери на выданье. Частная инициатива! Россия – он, Бенкендорф, этого не таит от государя – Россия ждет перемен, благонамеренные люди не устают повторять: если вы не преобразуете Россию, никто не остановит ее падения. Где же ключ, способный завести машину? Промышленность и законность. Правосудие в загребущих руках феклисовых, но свобода частной инициативы, обуздав бюрократию, прижмет подлецам хвост.
Здесь, в «деревне», он просыпался рано и, прежде чем взять заводной ключ, расхаживал нагишом, махал руками и приседал, исполняя гигиеническую инструкцию дерптских медиков. Это началось еще в Петербурге, слуги нередко заставали его сиятельство нагишом, он их не замечал, как римские матроны, обнажаясь, не замечали двуногую собственность. Нужно признать, телеса Александра Христофоровича утратили манежную, кавалерийскую упругость. Впору было посетовать, как сетовала одна распутная француженка, встретив старого любовника: «О-о, я уже не та; ты помнишь, какой у меня был живот? Гладкий, как суворовский сапог». Остается, правда, загадкой, откуда ей было знать особенность суворовских сапог, но это уж мелочь.
Выполнив один параграф инструкции, он, не манкируя другим, спускался к морю. Принимая морские ванны, не требовал горячей воды. (Предметом его постоянных острот была родственница, экспансивная красавица Лили. Она обожала купания, но Фалле не в Италии, Лили боялась холодной воды. Вскрикивая: «Ой, батюшки… Ой, батюшки», она окуналась, облаченная в салоп, а горничные окатывали барыню горячей водой из больших кувшинов.)
После купания, чувствуя себя молодцом, Александр Христофорович кушал кофий и, отправ-ляясь «заводить машину индустрии», пересекал залы и покои своего замка; они иллюстрировали эпоху феодализма в свете эстляндского погожего утра. Покойная императрица Мария Федоровна, тая улыбку в уголках губ, смотрела на тезку своего старшего сына Александра Благословенного. Портретист изобразил ее совсем еще молодой, тех лет, когда она ездила с матушкой Бенкендорфа в Версаль, в гости к Людовику XVI, королева подарила маман темно-зеленую чашку севрского фарфора, чашка здесь, в Фалле, как символ чаши, которую пришлось испить и несчастному королю, и несчастной Марии Антуанетте.
Фалльский кабинет был меньше и строже петербургских – прежнего, на Морской, и теперешнего, на Фонтанке. Господствующую позицию занимало в этом кабинете огромное бюро красного дерева с бронзовыми инкрустациями – здесь хранились ключи, способные завести машину.
Вздев очки, Бенкендорф приступал к занятиям; они требовали куда большего интеллектуаль-ного напряжения, нежели входящие-исходящие и Третьего отделения, и штаба Отдельного корпуса жандармов, и Главной императорской квартиры, и канцелярии Собственного его величества конвоя.
Не река Кейле мелодично пенилась рядом – нет, брякала камешками, вторя кандалам, таежная Мамона, и Бенкендорф, замамоненный сибирской речкой, цепкими конвойными глазами проверял цифирь своих золотых приисков Благовещенского и Петропавловского.
Не казенный пироскаф лениво поплевывал длинной трубой близ замка клубили пар коммерческие суда Балтийского акционерного общества, эти ломовые извозчики на постоялом дворе бога торговли. Не кочан капусты на эполетных плечах инженера генерала Шильдера – он учредитель общества. Губа не дура у генерала от кавалерии Бенкендорфа – он крупный пайщик.
Не зефир шуршал за окном в каштанах и акациях – неумолчно жужжали веретена на фабрике Нарвской мануфактурной компании. А ежели твоим компаньоном такой жох, как граф Нессельроде, держи ухо востро – министр иностранных дел на хитрости повадлив и в делах внутренних.
Так отчего ж заскучал Милий Алексеевич? А для него, видите ли, политическая экономия за семью печатями. Безразлично, как государство богатеет и почему не нужно золото ему, а Бенкендорфу нужно. Вот он и бежит гешефтов и гроссбухов.
Башуцкий подчинился ласковому зову Природы, и это понятно каждому, чей взор истомлен брандмауэрной стеной и дворовой помойкой, а грудь, полную миазмов Города, надрывает табачный кашель.
Если фалльский замок украшал горельеф – молодой Бенкендорф освобождает Голландию от Наполеонова ярма; если в фалльском парке вращала крыльями голландская мельница, не копия праздной старопетергофской, а точь-в-точь такая же, что прощально махала молодому Бенкендорфу, намеренному сразиться… ну, понятно, где, с кем и с чем, то как же, спрашивается, не разбить в Фалле голландский сад. И цвели там великолепные цветы, дар Старому Свету султана Сулеймана Великолепного. Тюльпаны, тюльпаны очаровали некогда Антверпен, и началась тюльпаномания. Тюльпаны, тюльпаны очаровали в Антверпене молодого генерала Бенкендорфа, осознавшего смысл и назначение синих тюльпанов. И цвели тюльпаны, все больше синие, из году в год цвели в Фалле.
Да вот беда, печаль, недоумение обер-садовника в войлочной шляпе с высокой тульей и вислыми полями; все реже и реже любуется его сиятельство голландским садом. Михель, обиженный, оскорбленный, черствой ладонью потирает бритый плоский подбородок: а не уйти ли к другому хозяину, наперебой приглашают и на мызу Тишерт, к барону Будбергу, и в имение Вимс, к графу Буксгевдену, и к барону Унгерну, на четырнадцатой версте от Ревеля. Ей-Богу, переменил бы хозяина Михель Якобсон, да жаль ему бросить тюльпаны без надлежащего присмотра.
Минуя голландский сад, Милий Алексеевич опять подумал, что нелюдимость без нужды, если жить среди надежных, хмуро замкнутых эстонцев. Не выбирая дорогу, шел он парком мимо бюста Воронцова, мимо чугунных скамеек с княжескими и графскими родовыми щитами, эдакий гербовник, хоть сейчас тащи в герольдию чугунные подарки знатных гостей Фалле. Шел и дышал воздухом слабосоленого моря и холмистой нетучной земли, где чуть привяла боровая трава первой сенокосной страды, где лиственницы, плавно качаясь, неспешно узорничают на солнечных бликах аллеи, а какие-то мелкие цветики испещряют своими розовыми метелками край кювета, и осколками радуги зависают стрекозы, опознавая, кто есть кто, и ты понимаешь, как глупо разминулся с жизнью, что надо было сразу после лагеря поселиться на лоне (ужасно торжественно, вроде «юбилей» или «мавзолей»), да, на лоне, наняться сторожем сельмага и читать не монографии об институтах крепостнического самодержавия, а журнал «Юный натуралист».
Задумчиво-разомлевший Милий Алексеевич поднимался закругленными изворотами на высокий холм. Справа и слева размахнулись луга, слабо желтея вершенными копнами. Кучевые облака эскадренно дрейфовали к морю. Звучная фалльская тишина с ее пестрыми запахами клумб и оранжерей сменилась другой, нездешней. При известной силе воображения можно было бы услышать тишину вселенскую, но она представлялась Милию Алексеевичу мерцающе-черной, какофонически бушующей в «Спидоле», когда экономист Мудряк ловит забугорное вещание, а глушители – Милий Алексеевич несколько старомодно называл их джазом НКВД – работают вовсю. И все же Башуцкому, вероятно, удалось бы возвыситься до философического осмысления этой тишины, если бы он не увидел старца в темной крылатке.
Белобородый, рослый, с длинными, до плеч, седыми волосами старец отер платком потный лоб, постоял, обмахиваясь серой мягкой шляпой, и продолжил путь свой к широкому уступу на холме – там, в полуденном мареве, в зыбких струях воздуха, воспарял, как в невесомости, огромный деревянный крест.
Шел старец не торопясь и не замедленно, шел мерным шагом, свойственным людям, привычным к неблизким пешим переходам и неспешным размышлениям.
Бывший государственный преступник, зек Алексеевского равелина и сибирских острогов уже осмотрелся в Фалле. Конечно, майораты следовало бы урезать, уменьшить размерами, но сам по себе принцип – не дробить хозяйство, а передавать старшему в роде – важен. Пустошь и ту можно превратить в цветущий сад, если она наследственная; а бесхозный цветущий сад – превратится в пустошь. Дожив до воли, обрадовался, как амнистированный. Дожив до мужицкой воли, радовался, как реабилитированный полностью. Но счастлив будешь, если сподобишься увидеть вольного мужика на земле наследственной. Быть тогда России ветроградом Господним.
Осмотревшись в Фалле, сказал он: совет да любовь. Его сын, сын декабриста, женился на внучке шефа жандармов. Нашему очеркисту казалось чудовищным обручение дочери Пушкина с отпрыском жандармского генерала Дубельта, того самого Леонтия Васильевича Дубельта, который послал Достоевского на Семеновский плац. Ну, а он, Сергей Григорьевич, князь Волконский, сказал: совет да любовь.
Огромный деревянный крест не чудился ему парящим, не Голгофа здесь, а фамильное, семейное кладбище.
Сергею Григорьевичу, князю Волконскому, не надо напрягать память. Многие тюремные помещения призабыл, но темницу, четвертый нумер Алексеевского равелина не забудешь. Его, ветерана пятидесяти восьми сражений, кавалера георгиевского, Анны с алмазами и еще, и еще, его, командира дивизии, привезли в Зимний в январе двадцать шестого. Николай приблизился стремительно, задыхаясь от гнева, погрозил пальцем крупным, белым, как у старого каленого зека Кости Сидненкова, учившегося играть на баяне. Из дворца отравили в крепость. В равелинном коридоре, выстуженном крещенскими холодами, шаркали на каменных плитах сторожа, задубелые солдаты крепостною гарнизона; у них, у них была шаркающая походка, а не у римского прокуратора… В четвертом нумере Алексеевского равелина слышались куранты; из четвертого нумера ничего не слышалось. Жена написала Бенкендорфу, просила свидания; Александр Христофорович ответил сердечным соболезнованием, о свидании промолчал. Свиданию противились родственники, озабоченные здоровьем недавней роженицы. Вот и промолчал Бенкендорф. Но жена упросила государыню, государыня – государя… А потом, все в том же каземате… Он очень любил Алину, Аленьку, племянницу. Ее привел Бенкендорф. И глаза у Александра Христофоровича были говорящие. В последний раз виделись, говорящие глаза были. Не лубяные, не бесстыжие, прибавил Милий Алексеевич.
Сняв мягкую шляпу, в крылатке распахнутой, высокий старик, белобородый и седовласый, стоял у могилы Бенкендорфа. Место вечного упокоения выбрал Александр Христофорович загодя. «Dort oben, auf dem Berge…» – сказал он однажды: «Там наверху, на горе…» И это же произнес коснеющим языком в каюте «Геркулеса». Кавалькада неслась над поверженным генералом, белый снег, черные копыта, и он умер, умер без причастия, и что-то рассыпалось со звоном, но не тогдашним, не каютным, стеклянным и звонким, а бубенчатым, дорожным, взахлеб… Игра воображения? Ничуть! У изножья холма пыль клубила махорная тройка.
Как все чиновники, военные и невоенные, посещавшие Фалле, майор Озерецковский остановился в трактире села Сосновка, привел себя в порядок, и вот уж личный адъютант его сиятельства тычет кулаком в загорбок ямщика: «Гони!»
26
Черт бы побрал майора! Благостная закругленность сюжета рассыпалась вместе с бубенча-тым звоном. Но, пардон, при чем тут майор? Не тебя ли, Милий Алексеевич, угораздило всучить Бенкендорфу носовой платок с монограммой «Л. Л. Г.»? Да-с, платок, улику убийства графини, оказавшейся княгиней. И не ты ли измыслил этот пошлый трюк: «Инициалы полностью!» глас, раздавшийся в церкви. Да-с, пошлый и дурацкий, ибо ты и сам не знаешь имени-отчества пушкинского Германна. Ну, так что же было делать Александру Христофоровичу? Усердный читатель теософа Сведенборга, клонясь к мистике, которая отнюдь не препона ни промышлен-ности, ни коммерции, а высшему надзору прямо-таки необходима, он и подумал: чем черт не шутит? Вот ты и дошутился, гражданин Башуцкий, реабилитированный за отсутствием состава преступления. В конце концов, можешь плюнуть, взятки гладки. Тебя лишь позабавило уныние личного адъютанта. Бедняга не смел последовать за принципалом в идиллическое фалльское уединение, где он, бывало, уживал рыбку. Конечно, сотрудник органов, а все ж нехорошо лишать права на отдых.
Досадуя – заварил кашу, – Милий Алексеевич все же не стал бы расхлебывать ее, избегая сюжетной дисгармонии. Но, во-первых, он еще не приступил вплотную к «Синим тюльпанам». Во-вторых, испытывал тщеславный позыв обогатить пушкинистику никому доселе не известными сведениями об инженерном офицере из «Пиковой дамы». Ни Натану Эйдельману, ни Якову Гордину, ни Валентину Непомнящему.
Милий Алексеевич колебался, пока не сверкнуло соображение чрезвычайно серьезное, не имеющее отношения ни к будущему очерку, ни к пушкинистике. Майор Озерецковский, спущенный с цепи Бенкендорфом, выслуживаясь, мужик ражий, оправдывая надежды шефа, возведет на кого-либо напраслину – «отыщет» владельца носового платка с монограммой, и тогда… тогда погибнет некто, ни в чем не повинный. Сколько бы ни занимался Башуцкий историческими экзерсисами, никогда не попадал в такой сугубо реалистический переплет. Теперь, когда розыск, что называется, был в ходу, майор не зависел от желаний или нежеланий очеркиста Башуцкого.
Фалльская идиллия рассеялась. Брандмауэр и ларь с помоями – такова была эта действительность; другая, с нею единая, не сулила ничего хорошего. Милий Алексеевич насупился и помрачнел, как барсук в капкане.
Но и сотрудник органов не веселился. Огорчала не только невозможность оказаться в Фалле – какой личный адъютант не остерегается выпускать из поля зрения шефа? Угнетали препятствия на путях розыска. Озерецковский и улику-то в глаза не видел, хотя и перерыл кабинет Александра Христофоровича. Хуже всего был строжайший приказ держать язык за зубами, даже и Дубельту не открываться. Отчего гак, майор в толк взять не умел. Милий Алексеевич, конечно, понимал Бенкендорфа. Главный синий тюльпан и верил и не верил в то, что было и не было. Он опасался попасть на зуб пeтербургcким зубоскалам, страсть не хотелось быть ridicule, смешным.
Запрет на консультации вселял бы надежду на нолевой результат усилий майора, если бы Милий Алексеевич не предполагал в Озерсцковском огонь честолюбия, присущего, по мнению Башуцкого, любому синему тюльпану. К тому же то было первое поручение особливого рода. Разумеется, вопрос не торчал ребром либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Однако энергия майора доказывала, что он решительно предпочитает кресты.
Он начал на Малой Морской, в доме усопшей, или убиенной, княгини. Так поступил бы каждый, даже не будучи знатоком розыскного ремесла. Майор ведь знал: платок с монограммой обнаружен в спальной. Кем обнаружен, Бенкендорф не сказал.
Осмотр дома не дал ничего. Майор отметил отсутствие богатого убранства. Княгиня была скуповата, это так. Но ежели принимаешь весь Петербург, ежели на твоих именинах неизменно пребывать изволит все августейшее семейство? А тут единственное украшение парадной гостиной желтые штофные занавески, да и то полинялые. Майор был дворянином; дворянину случается думать плебейски; он не догадывался об аристократизме высшего разбора – без показного роскошества. Зато предположил воровство челяди. Подтверждение тому он нашел бы у Пушкина: слуги наперерыв обкрадывали умирающую старуху. Майор читал «Пиковую даму», но не соотносил сюжет с домом Голицыной на Малой Морской.
Правда, карты остановили его внимание. Он увидел на ломберном столике початую колоду, а рядом, друг за другом – тройку, семерку, туза. Вероятно, покойная княгиня начала пасьянс да бросила. Внимание остановило не это. Карты были очень большого формата. Таких майор не видывал ни у кого, нигде… Как раз поэтому, мелькнуло Милию Алексеевичу, Пушкин и не отметил, избегая чрезмерною сходства… Лизавета Ивановна объяснила майору покойница была близорука, она заказывала карты большого формата.
Заказывала, конечно, в Воспитательном доме, главным доходом и привилегией которого было изготовление игральных карт. Это было так. Но все показания следует проверять. Майор, однако, пропустил мимо ушей. Лизавета Ивановна произвела на него сильное впечатление. Майор был женат, впечатление было непозволительное. Лизавета Ивановна прихмурилась, она обожглась на Германне. Милий же Алексеевич подумал, что у барышни была весомая причина для сдержанности: она назначила Германну рандеву и, стало быть, сознавала пусть и невольную причастность к скоропостижной смерти старухи.
Озерецковский повел глазами: комод, зеркальце, кровать, свеча в медном шандале. Лизавета Ивановна молчала. Майор, вконец смешавшись, откланялся.
Он сел на лошадь, он любил ездить верхом. Каурую покрывал чепрак густo-синего цвета. Из этого всякий бы, не один Милий Алексеевич, заключил, что конь принадлежит жандармскому дивизиону. Он поехал шагом. Из этого Милий Алексеевич заключил, что майор все еще под впечатлением от Лизаветы Ивановны. Он не замечал уличной обыденности. Не потому только, что думал о барышне, а потому, что уличную обыденность замечают беллетристы. Ну, кучера в ливреях, ну, форейторы, ну, разносчики с лотками, ну, театральные афиши в деревянных рамках за проволочной решеткой… Милий Алексеевич тоже не замечал. Не по нутру ему был маршрут, взятый майором. Ужель решился нарушить запрет Бенкендорфа?
Майор ехал в Третье отделение. Он пришпорил каурую. Из этого нетрудно было заключить, что служебная забота одолела давешнее впечатление.
В ведомстве синих тюльпанов все были знакомы с личным адъютантом его высокопревосхо-дительства, он, понятно, был знаком со всеми. И в первой экспедиции – дела политические, включая дипломатию; обзоры состояния империи, сведения о тех, кто заслуживал сведений. И во второй, ведавшей противозаконными раскольничьими сектами, уголовными убийствами, наблюдением за податными сословиями и местами заключения. И в третьей экспедиции, озабоченной иностранцами. И в четвертой – личный состав ведомства, пожалования, продвижение по табельной лестнице, награды и прочие весьма приятные вещи. И даже в пятой – цензурной… И ни хрена нового они не выдумали, саркастически подумал Милий Алексеевич, не расшифровывая, кто такие эти «они», но адресуясь отнюдь не к синим тюльпанам.
Майор удивил господ чиновников. Обычно заявлялся веселым, бодрым, с тем переливом некоторой надменности и товарищества, какие присущи именно личным адъютантам. Да и понятно, состоять под рукой такого доброго начальника одно удовольствие. А нынче, гляди, экая хмурая озабоченность. Видать, добрая рука от времени до времени намыливает шею. Синие тюльпаны хихикнули.
Все эти титулярные, коллежские советники, губернские секретари, чиновники по особым поручениям, те, что в штатном расписании значились «не имеющий чина» или «без ранга», все они с утра до трех-четырех пополудни осуществляли высший надзор.
Они писали и переписывали мириады бумаг; и в этих служебных комнатах с ординарными департаментскими мебелями возникали и исчезали, словно китайские тени, разномастные фигуры повседневной, как всегда, быстротекущей жизни. Включенная в монографии об институтах крепостнического самодержавия, она издавала дурной запах профессорских обобщений.
А Милий Алексеевич собрал нечто вроде гербария или коллекции бабочек, пришпиленных и накрытых стеклом. Тут были и сведения о постыдном поведении княгини Багратиони; и дело о путешествии по России англичанина Стокса; и донос дворовых на дворового Матвея Кудинова, хулившего государя; и письмо некоего фон Боля об опасностях, угрожающих монарху; и определения, из каких сумм оплачивать труды вора-арестанта Степана Карелина, исполняющего в городской тюрьме обязанности заплечного мастера; и следствие о крамольном «Французском парламенте», возникшем в Петрозаводске; и о наблюдении, устроенном заграницей, к коему примыкало сообщение государственной важности – о получении aгeнтом Третьего отделения неким Польтом премии лондонского клуба за игру на бильярде.
Был тут и список 93 лиц, «обративших на себя внимание высшей полиции по предосудитель-ному поведению», список вдвойне оригинальный как по аттестациям, так и по резолюциям:
«Подполковник Эринациус поведения нетрезвого, ходит по домам и просит подаяния – выслать из Петербурга»; «Отставной офицер Оникин копия государственного преступника Никиты Муравьева – выслать на родину», «Поручик Дирин поведения сомнительного. Не из л-гв. ли Уланского?»; «Подпоручик Бедарев распутен, проводит время с цыганами» (резолюции нет); «Отставной офицер Очкин дурак» (резолюции нет); «Полковник Калошин либерал. – Где служит?»
Перебирая экспонаты своей коллекции, Милий Алексеевич без горечи размышлял о том, что и Бенкендорф, и ближние помощники, и все синие тюльпаны зависели от агентуры, от «шпионских забав», как говаривал пионер русского марксизма, надеясь, что забавники переведутся после победы социализма. И Бенкендорф, и фон Фок, и Дубельт, надворные и титулярные, управлявшие экспедициями, могли быть семи пядей во лбу (а некоторые и были), могли проверять и перепроверять, а все равно бултыхались, как рыбины, в мелкоячеистых сетях шпионщины. И, бултыхаясь, полагали, что они-то руководительствуют, направляют, определяют.
Майор Озерецковский, на ходу раскланиваясь, прямиком направился к надворному советнику Тупицыну. Потому и направился, что умственный багаж Сергея Ардальоновича решительно опровергал его фамилию. Он быстро объял мыслью просьбу майора. Речь шла вовсе не о личной докуке личного адъютанта. Дело претонкое. Касающееся, весьма возможно, кого-либо из особ августейших. Тут и болван сообразил бы: приобщение к розыску сулит бо-ольшой служебный профит. Увы, приобщением не пахло. Майор лишь просил предоставить в его распоряжение трех смекалистых агентов. Почему именно трех? Майор ушел от ответа. Право, смешно было бы толковать о трех картах на ломберном столе в доме покойной графини – тройке, семерке, тузе. А между тем майору примерещилось, что вот он заимеет трех ловкачей, да и разложит пасьянс.
Тупицын, поразмыслив, обещал завтра же отрядить на Шестилавочную столько агентов, сколько нужно майору; время назначит разное, чтобы не встречались, а уж он, господин майор, пусть потрудится не отлучаться. «Тертые калачи?» – спросил Озерецковский. «О-о, левой ногой не сморкаются», – улыбнулся Тупицын.
Первый визит нанесла дамочка неопределенного возраста. Она назвалась Хотяинцевой, супружницей петербургского актера. Милий Алексеевич читал в архиве ее письмо: Хотяинцева предлагала услуги по части розыска врагов престола-отечества. Какие у нее ноги, определить не представлялось возможным – вороха юбок, линялых еще пуще, чем штофные занавески у покойной княгини. Зато востроносая физиономия давала понять, что левой ногой мадам не сморкается. А майор остался недоволен: знай, баба, свое кривое веретено. Не было секретом майору существование салонною сыска; в этой отрасли успешно подвизался слабый пол. Правда, кто-то из барынь не без ехидства сообщил скверный анекдотец: «Скажите, какая разница между жандармом и женщиной в интересном положении?» – «Женщина может и не доносить, а жандарм не доносить не может». Дура! И все же светскому сыску не обойтись без прекрасного пола, а тут дело совсем, совсем другое, не до болтовни. Но органы есть органы, задание она получила. И хотя мысленно майор уничижительно назвал ее «актеркой», однако выпроводил вежливо, как принято у синих тюльпанов.
Засим визит отдал Дирин. Тот самый, что в перечне 93-х значился поручиком сомнительного поведения. Сомневаться в этом не приходилось ферт, румяный, как яблочко, припахивал «вчерашним». Но малый, видать, не промах, глазки-угольки так и юрят. Органы есть органы, получил задание и Дирин.
Если «актерку» можно было счесть «тройкой», а поручика «семеркой», то уж этого, который через слово подсударивал – «нет-с», «да-с», «как-с изволите-с», – тузом не сочтешь: всего-то-навсего сиделец кондитерской лавки. Но вот в чем вся штука – лавку держал как раз насупротив дома покойной княгини на Малой Морской.
Тут вышла промашка, бывшему лагернику непростительная. Причиной следует признать пагубность слишком детального знания исторических подробностей. В данном случае это могло приблизить изобличение владельца носового платка с монограммой «Л. Л. Г.».
Детальное же знание состояло вот в чем.
После коронации Николай пожаловал старой княгине большой крест ордена Св. Екатерины первого класса. Тем самым царь благородно игнорировал ее заступничество за декабристов Захара Чернышева и Никиту Муравьева: первый приходился ей внучатым племянником; за второго вышла племянница Александра, та, что начала отъезды жен государственных преступ-ников в Сибирь. Казалось бы, большой крест ставил крест на княгинину фронду? Ничуть. Пристукивая клюкой, она не упускала случая выразить сочувствие изгнанникам. (Разумеется, не политическое, а родственное, в эпоху Лютого столь же невозможное, как и политическое.) Однажды в Зимнем кто-то из великих князей подвел к ней военного министра графа Чернышева. Тот был приближен к императору на дистанцию, равную дистанции Бенкендорфа. Не отвечая на поклон, она гневно и громко отрезала: «Я знаю только одного графа Чернышева – он в Сибири». Бенкендорф не терпел «несибирского» Чернышева с тех дней, когда они оба заседали в комитете по делу 14 декабря. Александр Христофорович мысленно ухмыльнулся: «Изволь, братец, атанде! И от кого слышишь? От внучки знаменитого Ушакова, прозванного истязателем! От вдовы того, кто доставил в Москву клетку с Емелькой Пугачевым!» Злорадство свое Александр Христофорович не выдал ни малейшим движением лицевых мускулов, но государь глянул на него весьма и весьма выразительно. Последствия не замедлили. Коль скоро «салонный сыск», так сказать, общий и повсеместный, уже действовал, Бенкендорф нашел нужным учредить наружное наблюдение за домом княгини – кто знает, нет ли у кавалерственной старухи тайных связей с государственными преступниками?
Вот это наружное наблюдение и осуществлял Коноплев, сиделец кондитерской. Княгиня, впрочем, не страшилась ни внутреннего, ни наружного наблюдения. Она и Бенкендорфа принимала, как прочих, сидя в вольтеровских креслах. А вот инженерный офицер Германн… Германн, если верить автору «Пиковой дамы», не верить которому нет решительно никаких оснований, Германн бывал в кондитерской: читал там записочки от Лизаветы Ивановны.
Дальше – хуже.
Рядом с кондитерской, пишет Пушкин, была модная лавка. Шустрая мамзель носила записочки от Германна. Его любовные признания были слово в слово заимствованы из немецкого романа. Пусть так. Но зачем же, как плагиатор, подписывать своим именем? А Германн, мимоходом роняет Пушкин, подписывал. А мамзели, известно, чертовски любознательны. Непременно запустила глазища в цидулю Германна. И конечно, запомнила бледного офицера с профилем Наполеона.
Дальше не то чтобы хуже, нет – горячо.
Этот, из кондитерской, амурничал с модисткой. Милия Алексеевича едва потом не прошибло. Он допустил промашку, лагернику непростительную. На след навел. Увы, дело было сделано: смазливый раскудрявый Коноплев подсударивал майору Озерецковскому.
Теперь личному адъютанту, а равно и Башуцкому, мрачному, как барсук, оставалось ждать, пока «актерка» что-либо выудит у бедной Лизавет Ивановны, сиделец – у кучеров и величавого швейцара, а фертик Дирин – у трех горничных. Да-да, автор «Пиковой дамы» в энный раз указывает на тройку.
Александр Христофорович все еще пребывал в Фалле, а адъютант, свободный от обязаннос-тей, не умел занять себя. Мысль о носовом платке жужжала в его лобовых пазухах. И если Германн в психушке, расхаживая по 17-му нумеру, беспрестанно называл три карты, то майор курил трубку и бубнил в усы три литеры, обозначенные на таинственном носовом платке: «Люди… Люди… Глаголь…»
День ото дня терпение его истощалось. В сердцах бранил он Бенкендорфа. Хорошо, что предоставилась возможность рассеяться: на Мойке, в Демутовом трактире остановился жандармский штаб-офицер из Симбирска.
27
Увидев приезжего, Милий Алексеевич попятился. Жив! Не погиб при Наварине, живехонек. Прикатил с Волги, взял комнаты у Демута, денщик с поклажей возится, а он что-то марает, насвистывая сквозь зубы и посмеиваясь.
В одном из опусов черт догадал нашего очеркиста упомянуть лейтенанта Стогова в числе убитых в Наваринском сражении восемьсот двадцать седьмого года. А лейтенант Стогов отродясь не бороздил Средиземного моря. Вот тебе и фунт!
Но что верно, то верно: Стогов кончил Морской кадетский корпус, двадцать лет прослужил в Сибири, паруса носили его на Курилы, на Камчатку, видывал он, каково живется-можется якутам и чукчам, в Охотске подпали под его команду ссыльно-каторжные, народ забубенный, режь ухо – кровь не капнет, ничего, управлялся. Был он отважный мореход и дельный береговой начальник. А потом подался в корпус жандармов. Что за притча?
Мемуарист Вигель, желчевик и мизантроп, утверждал: жандармский мундир производил отвращение даже в тех, кто его надевал. Генерал Скобелев, прослышав, что его бывший подчиненный облачился в этот мундир, побагровел: «Не говорите мне о нем… Храбрый офицер – и так кончить!» Завидное жалование? Синие тюльпаны, как и предлагал в своем давнем проекте Пестель, получали большое содержание. Бенкендорфу не пришлось бить челом, Николай решил без обиняков: самое большое в сравнении с чинами прочих ведомств, включая военное и военно-морское. И все же – храбрый офицер и так кончить?
Милию Алексеевичу не хотелось худо думать о Стогове. Не потому только, что думалось и об Анне Андреевне, а и потому, что избегал он стричь всех под одну гребенку. Верно сказано: не обязательно, имея лавочку, иметь натуру лавочника. К тому же он располагал источниками, которые в известной (ему, Башуцкому, известной) степени опровергали Вигеля и Скобелева. Да вот взять Дубельта. Как начинал?
Жена отговаривала: не ходи в корпус жандармов. Леонтий Васильевич отвечал: ежели сделаюсь доносчиком, наушником, то, без сомнения, запятнаю свое имя; а ежели буду наблюдать за торжеством справедливости, чтобы угнетенных не преследовали (так и сказал: «угнетенных»! Ей-ей, «пролетарии всех стран…»), чтобы не нарушалась законность, тогда кем меня назовешь? И отвечала жена: «Всеобщим благодетелем».
В службе Стогова звучал тот же мотив. Желание блага, не оно ли до восстания на Сенатской подвигло и Пушкина, и Рылеева служить в судебном присутствии?.. Но был у Милия Алексее-вича, был некий психологический стереотип. Вникая в архивные фонды синих тюльпанов, ему страсть как не хотелось обнаружить в их числе кого-либо из Башуцких. Ему это было бы неприятно. А вот Анна Андреевна вдруг да и повстречает на Фонтанке Эразма Ивановича Стогова-Можайского. Выйдет из своего Фонтанного дома, да и повстречает: рукой подать до Цепного моста, до Третьего отделения и штаба жандармского корпуса, а ведь туда часто станет наведываться Эразм Иванович – нового назначения ждет. Да, дед умер лет за десять до ее появления на свет Божий. В том-то и суть – Божий, у Бога мертвых нет… Была у Стогова дочь – Инна Эразмовна. Родила она дочь Анну, Анну Андреевну Ахматову… Но чего ты, Милий Алексеевич, так уж пригорюнился? Инна Эразмовна примкнула к народовольцам. Неутешите-льно: для органов революционеры хуже жандармов. Однако радуйся, радуйся, Милий Алексеевич: оплошали при Лютом органы и товарищ Жданов не дознался, хотя и поносил Ахматову, как позже Семичастный Пастернака. И Милий Алексеевич порадовался оплошке органов. Тихо, хорошо порадовался, не подозревая, какой гром вот-вот грянет.
Но гром покамест не грянул – майор Озерецковский хохотал.
Сидели они с Эразмом Ивановичем во флигеле дома Меняева, что в конце Шестилавочной, окнами на Невский. Приятели. Спознались они, когда завернул Озерецковский в город Симбирск: личный адъютант сопровождал его сиятельство в ревизионном обозрении губернии, а его сиятельство сопровождал его величество. Спознались, пришлись друг другу по сердцу. Отчего, почему? А черт знает почему, да ведь лучше беспричинного дружества не дано человекам.
Ну-с, и водки выпили и закусили, теперь вино пили и курили. Эразм Иванович живописнейший рассказчик – голос меняет и жестом дорисовывает. А на крепком, загорелом, открытом лице хранит невозмутимость, только вот в серых глазах искорки разгораются.
Привелось, говорил, давешним летом усмирять мужичков. Взял воинскую команду. Труба: «ту-ру-ру». Трубой и обошлось, выпороли и шабаш. Приспела жатва. Глядь-поглядь и мужики и бабы валом валят в мое имение. Хотим-де, барин, хлеба твои жать. Удивился: да я ж вас побил?! Побил, вздохнули мужики; побил, всплакнули бабы. Спрашиваю: так чего же вы? Объяснили: порка – что, порка – так, пустое, а ты ж нас от тюрьмы избавил, тюрьма-то раззор… Нет, продолжал Эразм Иванович рассудительно, от такой теплой взятки не откажешься. Вот русский человек: сквозь наказание доброту видит. Порка нипочем, штука краткая, только не выдай пиявкам полицейским и судейским… А положение мужиков на дворцовых землях? Хуже некуда. Бывало, говорят, раз в году наедет исправник, сейчас это ты барана на плечи, да и прешь подарок. А теперь набегут эти господа удельные, возьмешь хворостину, да и гонишь живность, что есть на дворе. Теперь нам несравненно легче, скоро и вовсе портков лишимся.
Так они сумерничали. Невский стихал, полицейский конный патруль о два коня отцокал под окнами. Вечер был поздний, светлый. Пили вино, курили, оба без сюртуков, в белых рубашках. Эразм Иванович, отирая усы, продолжал.
Иду, брат, по городу, вижу старушку, подаю копейку, спрашиваю, на что тебе, старая, деньги, у тебя котомка хлебом полна? Платить надоть, родименькой, а то – в острог. Что врешь, кому платить? Полицмерскому все платят, ну, и я. Опять врешь, карга ты эдакая, где ему упомнить, вас же много. Э, батюшка, у него книжка такая, там кажный на счету… Ну, думаю, ужель не врет? А надобно сказать, полицмейстером у нас щеголь, бонвиван, ротмистр по кавалерии. Подумал, подумал, да и напустил своего ваньку-каина: разбейся в лепешку, а книжку добудь. Добыл. Ба-а-атюшки, святых вон. Вообрази: несколько сот нищих, реестр – каков летами, какое качество, какова еженедельная подать… А на полях nota bene – такой-то не доплатил три копейки, возместит тогда-то… Вот завтра же рапортую по команде: так, мол, и так, обязанность русского патриота обнаруживать на пользу государства гениев; так, мол, и так, открыл я удивительного финансиста… И так далее, а книжку расчетную привез, никуда кавалерия не ускачет…
Майор со смеху покатился, бока сжал, закачался. Эразм Иванович доволен был произведен-ным эффектом. Пили вино, курили трубки. А потом Эразм Иванович и говорит майору: чего же мы, брат, вдвоем, надо бы и соседа угостить, у меня, прости, такое уж давнее, еще сибирское обыкновение. Лето, говорит майор, все разъехались. Ну нет, настаивал Стогов, зови. Майор послал денщика за Лукой Лукичом.
28
Хотя Милий Алексеевич еще и не приступил всерьез к очерку о синих тюльпанах, но указанная выше агентура иллюстрировала тезис о повседневной зависимости высшего надзора от нравственного уровня шушеры. А штаб-офицер Стогов, пусть и не типически, представлял один из жандармских округов. Но приглашение к выпивке, к заурядному препровождению времени какого-то Луки Лукича? Неудовольствие Милия Алексеевича объяснялось вовсе не тем, что этот приглашенный был «какой-то».
Башуцкий не испытывал холопского пристрастия (слова Пушкина) к царям и фаворитам и не заглядывал под альковные одеяла цариц. Последнее, как признак тихой женофобии, можно извинить. Oтсутствиe холопского пристрастия извинять не должно.
Материализуясь романно, оно, во-первых, взбадриваeт национальную гордость исторически вчерашних дворовых. Во-вторых, шибко тиражируясь, натурально возмещает нехватку ширпотреба. В-третьих, yгощает культурным досугом и премьер-министров, и золотой фонд Вооруженных Сил, и сотрудников НИИ, и работников прилавка, и… и… и… Так что Башуцкий, презирая всенародное увлечение царями, царицами, фаворитами, как бы заместившее всенародное восхищение Лютым, повинен был в преступной нелюбви к величию России. А сверх того в тайной чуждости принципу, согласно которому литература есть часть общепартийного дела.
Нет, приглашение во флигель на Шестилавочной какого-то Луки Лукича вызвало неудоволь-ствие Башуцкого вовсе не потому, что тот был «какой-то». Это приглашениe мешало взяться наконец за «Синих тюльпанов». Неприятно, нет, неприемлемо было и то, что этот Лука Лукич, ни единой черно-белой строчкой не документированный, означал сползание к беллетристике. Но следовало бы признать правоту старинного автора. Клонясь к критическому реализму, сочинитель полагал, что жизнь, она, судари мои, предвосхищает вымыслы писателей романов.
И верно, предвосхитила.
Жил Лука Лукич тоже в доме Меняева, но через двор от Озерецковского. Занимал квартиру покойного тестя, корректора. Жена Луки Лукича, Шарлотта, родила – вот странность – трех дочек, а недавно подарила сына. В книге судеб указывалось: быть Николеньке полковником лейб-гвардии Измайловского полка. В том, что книги судеб не врут, Милий Алексеевич впоследствии убедился, побывав на Смоленском евангелическом кладбище, безобразно порушенном. Там же, в восемьсот шестьдесят первом году, похоронили и Луку Лукича, он был ровесником Пушкина.
Служил Лука Лукич в Главном инженерном училище. Преподавал математику в верхних, то есть старших, юнкерских классах и в классах офицерских. Он не считался, а был отличным преподавателем.
Обруселый немец. Опять странность: Лука Лукич – и немец. Тогда, впрочем, это не казалось подозрительным, как нынешним кадровикам подозрителен чей-нибудь дед Наум Моисеевич, великорусский крестьянин, а выпускникам истфака – министр царского правительства Норов по имени Абрам или убийца Лермонтова, дворянин, по отчеству Соломоныч. Что поделаешь, в мирное время Библию читали не ради эпиграфов, якобы придающих притчевый смысл любому плоскому сочинению. Эх, притча, короче носа птичья…
Так вот, Лука Лукич не принадлежал к тем остзейским офицерам, которые называли друг друга «mein lieber Bruder» и тащили один другого вверх по служебной лестнице. Вторая черта была и вовсе уникальная: заканчивая лекции за три минуты до срока, Лука Лукич производил мелодекламацию из книжки неизменно таскал в кармане сюртука – «Пагубные следствия игры в карты». Надо было видеть его огорчение, когда кто-то из воспитанников забыл на столе то ли просветительную брошюру «Новейший русский карточный игрок», то ли полумистичес-кий и полуматематический «Календарь для игроков».
Но вообще-то если мистику можно было усмотреть в Михайловском замке, то разве лишь в многоугольниках внутренних покоев. Впрочем, на эту архитектурную геометрию смотрели здесь как на воплощенную сущность училища.
Иную сущность подозревали синие тюльпаны. Не потому, что в Михайловском замке в оны годы зверски расправились с Павлом, отцом благополучно царствующего Николая, а потому, что некоторые преподаватели-инженеры, если верить агентуре, верили в возможность управлять Россией посредством конституции. Ах, технократы, пребывающие в стерильных сферах точных наук. А синие тюльпаны дальше арифметики не ходили, вот и опасались даже очень и очень слабеньких конституционных веяний.
Любопытно: это не помешало Бенкендорфу взять одного из выпускников училища в Отдельный корпус жандармов. Прапорщик Роман Дрейер был учеником Луки Лукича. А сам он, нисколько не помышляя об изменениях государственных конфигураций, разделял общеучилищ-ный постулатум – заслужить, репутацию шпиона, погубишь себя в глазах товарищей-сослуживцев. Очевидно, эта заповедь и не позволила выпестовать в Михайловском замке когорту наушников, полицию из лучших воспитанников.
В этом смысле тут все были худшие. Разумеется, и Федор Достоевский, тоже ученик Луки Лукича. Честно сказать. Лука Лукич не подозревал в нем гения. Видел сумрачного юношу, вдруг охваченною нервным воодушевлением электрического свойства; слышал его глуховатый голос, словно бы придавленный страданием, непонятным Луке Лукичу. Не раз замечал, как юнкер Достоевский преследует по пятам своего вечного оппонента юнкера Бережецкого. Тот бежал, заткнув уши, а юнкер Достоевский, настигая, метал, как дротик: «Шиллер! Шиллер!» Что он этим жаждал доказать, Лука Лукич сообразить не умел. Его удел ограничивался доказательством теорем и недоказуемостью аксиом. А гением он почитал, и притом справедливо, Остроградско-го, читавшего курс дифференциального и интегрального исчисления.
Капитан служил, а не выслуживался, никому не завидовал и никому не льстил. К нему относились почтительно: по-нынешнему сказать, ценили. Две точки в пространстве – Михайловский замок и флигель в Шестилавочной, он соединял прямой линией. Поговаривали, что его замкнутость – следствие какого-то глубокого душевного переживания. Люди сугубо прозаические возражали: он расчетлив, как все немцы. Не трогает маленький капиталец, завещанный фатером, умершим, когда Луке Лукичу было лет восемь от роду, вот и замкнут, ножки по одежке.
Если немцы расчетливы, то немки домовиты. Шарлотта командовала горничной и кухаркой. Мужской прислуги, как все питерские немцы, она не держала. Шарлотта была добра. Настолько добра, что ни словечком не возразила, когда супруг велел привечать какого-то юродивого. Это было разнесчастное существо, похожее на черепаху, в казенном халате мышино-никотинного цвета. Существо выдавало себя за испанского короля в изгнании; утверждало, что напечатало «Записки», а гонорар отдало на борьбу с масонами. Оно пивало на кухне чай с калачом, ворова-тым, сорочьим движением упрятывало за пачуху гривенник и просило передавать нижайшую, почтительнейшую благодарность императору французов. Шарлотта предполагала, что старика отпускают христарадничать из какой-то богадельни. Она не ошибалась, если Обуховскую больницу на Загородном принимать за богадельню. Что до «императора французов», то Шарлома, искоса взглядывая на Луку Лукича, стала замечать профиль Наполеона. И теперь черепаха-король получал уже 2 (два) калача…
В тот поздний летний вечер, когда «пишу, читаю без лампады». Лука Лукич, отужинав – 2 (два) горячих блюда и 1 (одна) бутылка умеренно холодного портера, – аккуратно заносил в тетрадь дневную лекцию, чтобы завтра же ученики могли исправить свои записи или дополнить нерадиво пропущенное.
Денщик майора Озерецковского нецеремонно бухнул в парадную дверь денщик злился на барина за прерванную дрему. Увидев жандарма, Лука Лукич, человек здоровый, никогда ничем не болевший, почувствовал слабость во всех членах.
Капитан, разумеется, имел представление, кто такой сосед-майор. Не ведая за собой ничего предосудительного, Лука Лукич все же избегал встреч с ним – береженого Бог бережет. Выслушав денщика, он сохранил внешнюю невозмутимость, но, следуя двором и напряженно прислушиваясь к шагам жандарма, ощущал какое-то запупочное томление.
Капитан застал Озерецковского и Стогова в состоянии, что называется, «свободной ногой топнем по земле» – они изрядно подгуляли. Майор любезно усадил капитана и высказался в том же духе, в каком намедни экономист Мудряк: дескать, что же это такое, живем чуть ли не стена в стену, а ни вы ко мне, ни я к вам. Лука Лукич тотчас вспотел и, выпростав свежий батистовый платок, стал отирать лицо. Подняв глаза, он не узнал майора: тот был трезв, но так, словно приложился к пузырьку с нашатырем, то есть в некотором обалдении. Сердце у Луки Лукича захолонуло. «Позвольте, господин капитан, платок ваш», – с расстановкой произнес личный адъютант графа Бенкендорфа, немигающим взглядом испепеляя преступника, как напалмом.
Смесь восторга и досады уже вытеснила обалдение майора. Ведь знал, знал же – здесь, во флигеле, жительствует корпуса военных инженеров капитан ГЕРМАНН. Знал и не подумал об этом, прах его возьми. И вот он, носовой платок с монограммой «Л. Л. Г.» – Лука Лукич Германн.
Выпятив подбородок, майор, торжествуя, оглянулся на Стогова. Эразм Иванович, откинувшись в креслах, спал молодецким сном, взяла свое дальняя дорога.
А до Цепного моста дорога недальняя. Тяжелая казенная карета катила гром. Гром был мягок и светел, как эта влажная полночь. Молча сидел в карете капитан Германн, руки скрестив и опустив голову. Майор выдыхал винные пары. Сквозь них, невидимые, видел майор профиль Наполеона.
29
Пушкин признавал в княгине Голицыной прототип старухи графини. О прототипе Германна он ничего не сказал. Пушкинисты возопят: «Дилетантизм в науке!» Не довольно ль с тебя, Милий Алексеевич, разноса, учиненного Рассадиным?.. (Это было не совсем так. Критик Ст. Рассадин и разноса-то не учинял, а лишь вскользь задел очерки М. Башуцкого: добросовестны, но, увы, нехудожественны; есть материал, нет изобразительных средств. Короче, муж большого прилежания, но малого дарования. Критик, в сущности, был прав. Да ведь и очеркисты не лишены острейшего из самолюбий – авторского.)
И помалкивай в тряпочку. А посидеть в библиотеке никто тебе не запрещает. Первый ход уподобился пресловутому е-2 – е-4. Милий Алексеевич отыскал в каталоге «Исторический очерк Главного Инженерного училища», СПб., 1869 год. Библиотекарь Капитолина Игоревна давно знала Башуцкого. Только такие женщины, как Капитолина Игоревна, понимают святое нетерпение таких перепуганных интеллигентиков, как Башуцкий. Она сокрылась в недрах библиотеки.
Башуцкий спустился вниз. Эту курительную он помнил с послевоенного времени. Курительная была двойником душегубки. Не спасала форточка, постоянно распахнутая в дворовый закут, куда солнце стыдилось заглядывать. В курилке витийствовали вчерашние солдаты, поступившие в университет, или те, кто продолжал учение, прерванное лихой годиной. Витийствуя, сводили знакомства. Блокадные девушки уже не были изможденными. Многие располнели нездоровой, искусственной полнотой – из пивных кружек пили тогда жидкие дрожжи… Проходя иногда по Литейному, Милий Алексеевич всякий раз смотрел на заколочен-ный подвальчик с надписью: «Дрожжи», и всякий раз становилось грустно оттого, что нынче уж редкий поймет, в чем дело. Вот надпись настенную – эта сторона улицы опасна при артобстре-ле – понимают, да и то… Витийствовали и теперь в курительной, и сводили знакомства, и назначали свидания, но это уж было племя молодое, а Милий-то Алексеевич очень хорошо знал, что и в курительной есть уши, как и в бане. При Бенкендорфе пошучивали: только, дескать, в бане нет всеслышащих ушей. Недостаток этот давным-давно устранили.
Истребив сигарету, Башуцкий вернулся в читальный зал. Толстая книга М. Максимовского ждала М. Башуцкого. Он почувствовал знакомую спиритическую дрожь пальцев, то обостренное осязание подушечек, которое, вероятно, чувствуют лишь вдохновенные криминалисты. «Терпение… терпение… терпение», – повторял Милий Алексеевич.
«Нельзя, – читал он, – не обратить внимания на скромную и высокопочтенную личность Луки Лукича Германна… В нем было много оригинального и ничего тривиального… Воспитанники называли его Лукой… Он любил воспитанников…»
Милий Алексеевич зажмурился и притаил дыхание, страшась утратить чувство блаженства. Ему мелькнули Пушкин и Данзас, но Милий Алексеевич, как бы удерживая равновесие, подумал: «Он любил воспитанников», – и стал думать о юнкере Достоевском, то есть не то чтобы о юнкере, а о том, есть ли в романах Федора Михайловича какие-то отблески, отзвуки Луки Лукича? Германн не поляк и не еврей, отчего бы Федору Михайловичу не помянуть добрым словом обруселого немца… Надо, обязательно надо сообщить Карякину, Карякин пишет о Достоевском недиссертабельное. «Дарю тему!» – в порыве великодушия решил очеркист. Порыв этот вернул Башуцкому силы, он уже мог поразмыслить о Пушкине, о лицеисте Данзасе, служившем в корпусе военных инженеров. Но в Инженерном училище не был, даже и в верхних офицерских классах не был… Терпение… терпение… терпение… Капитолина Игоревна видела его согбенным, ей захотелось напоить его чаем, она вздохнула… Башуцкий листал номера «Инженерного журнала»: циркуляры генерал-инспектора по инженерной части, чертеж американското понтонного моста, рапорт о способе обжигания извести, план сестрорецкого оружейного завода (ныне, разумеется, засекреченный) и еще статьи, еще извлечения, что-то о гидравлическом таране – всё это неслось, как полустанки за окном курьерскою, вдруг резко затормозившего: «Воспоминания о Л. Л. Германне».
Милий Алексеевич перевел дух Закрыл журнал, оглаживал ладонью картонный переплет под мрамор. И наконец принялся читать. Читал медленно, вдумчиво, как дегустатор.
Нет, Данзаса не встретил. Однако прочел, что Лука Лукич Германн был известен всем военным инженерам. А Данзас, простреленный турецкой пулей, рука на перевязи, походка развалистая, эдакий симпатичный медведь, Данзас как раз в тот год, когда Пушкин замыслил «Пиковую даму», служил в Петербурге, в строительном департаменте. «Возмо-о-ожно, возмо-о-ожно», тихо пропел себе под нос Милий Алексеевич. Студенточки, сидевшие напротив, прыснули, одна из них покрутила пальчиком у виска. Милий Алексеевич, не отрывая глаз от журнала, сказал: «Да-да, очень и очень возможно». Полнота чувств требовала паузы, он нашарил в кармане сигареты. Проходя у кафедры, счастливо улыбнулся Капитолине Игоревне, она ответила понимающей улыбкой.
В курительной он продолжал думать о Пушкине и Германне, то есть о том же, о чем на Фонтанке, в Третьем отделении, думали Попов, бывший учитель Белинского, и Миллер, бывший лицеист. Вот ведь какие бывали сотрудники органов.
30
Ажитацию Башуцкого нельзя признать нравственной. Строил гипотезы: Пушкин – Данзас – Германн, а Лука Лукич сидел в камере внутренней тюрьмы. Несколько извиняет очеркиста то, что он вскоре спохватился.
Несмотря на трагизм положения, не удержал улыбки: камера? Диван, кровать, стол, кресло и… рояль. Честное слово, рояль. Окно без решетки. Лука Лукич облачен в чистый канифасовый халат. И все-таки камера. Любая комната превращается в арестантское помещение, если не ты, а кто-то другой повертывает ключ в дверях с внешней стороны.
Этот «кто-то» был сутул и сед, губы сжимал плотно, будто отродясь не молвил и словечка. Этот «кто-то» был смотрителем секретных арестантов, ибо каждый арестант в логовище синих тюльпанов обращался в секретного.
Будучи коллежским асессором, по-военному сказать, капитаном, он не побрезговал своеручно принести ночную посудину. Ну что ж, капитан капитану – друг, товарищ и брат. Принес и утвердил под кроватью. Все это произвел беззвучно, но засим выяснилось, что смотритель не лишен дара речи. Он сказал благостно, как в исповедальне: «Леонтий Васильевич осведомляются, не прикажете ли сигар, книг, журналов?»
Теперь уж Милий Алексеевич не улыбнулся, а изумился. И не поверил своим ушам, когда Лука Лукич, поблагодарив его превосходительство за милость, спросил еще и медок… Господи, Боже ты мой, вот уж точно, распалась связь времен, подумал он, французского вина подайте-ка арестованному… А синий сюртук с красным воротником невозмутимо ответствовал: «Тотчас доложу Леонтию Васильевичу».
Опять же не произведя ни малейшего звука, он ласковым поворотом ключа запер снаружи дверь, что-то приказал часовому и пошел к генералу Дубельту.
В Третьем отделении, как и в корпусе жандармов, Бенкендорф княжил, а Дубельт правил. А с того дня, как пироскаф «Богатырь» увез Александра Христофоровича в благословенный Фалле, и правил и княжил. Он тоже был боевым генералом. В Бородинском бою ранен, всю кампанию проделал в корпусе Дохтурова и в корпусе Раевского. В послевоенной карьере Леонтия Васильевича случилась пренеприятная заминка: по доносу угодил Дубельт под следствие в связи с делом 14 декабря. Дело, к счастью, прекратили из-за отсутствия второго свидетеля. Вот ведь какие помехи возникали тогда в делах чрезвычайной государственной важности. Чудеса! Да-с, Леонтия Васильевича все же внесли в «Алфавит» декабристов, что не помешало Бенкендорфу четыре года спустя назначить полковника дежурным штаб-офицером корпуса жандармов. Непостижимо!
Чудеса, непостижимо? Еще бы! Реабилитированного зачислили в органы, и притом в центральный аппарат. Где это видано, где это слыхано? К тому ж еще и масона, пусть и в далекой молодости, но ведь масона. И, поговаривали, жида. Мерзавцы! Отец, исконный русский дворянин, живал за границей, исхитрился похитить принцессу, увез, как увозят цыганок, женился, жизнь прожил. Не какой-то титулярный советник Поприщин мог претендовать на корону, а он, генерал Дубельт, в жилах которого текла голубая кровь испанских Бурбонов. Ну нет, он не променял бы Россию на весь Пиренейский полуостров с заокеанскими владениями впридачу.
И верно, его любовь к России не подлежит ни малейшему сомнению. Дома, на Захарьинской, хранил Дубельт «философические письма», свои заветные записки. Писал для себя, адресовал потомкам, провидел Лютого и лютых: вся сила России в самобытности; права человека ни с чем несообразный вздор; дай крестьянину пачпорт, он бросит родной кров и пойдет шататься.
Да, Бенкендорф, надо признать, был либеральнее Дубельта. И проницательнее: он ратовал за личное освобождение крестьян, иначе взрыв, и чем позднее придет отмена крепостной зависимости, тем сильнее будет взрыв. Однако не Бенкендорфа, а именно Дубельта называл Герцен самым умным человеком в Третьем отделении. Правда, Герцен не читал его записок, а видел и говорил с ним за несколько лет до Луки Лукича.
Лука же Лукич незамедлительно получил сигары и медок. Вино разбавил водой, пил, пил, пил, утоляя жажду, всегдашнее следствие арестовации. И, утолив, счел его превосходительство, как и поэт Жуковский, человеком добрым, честным, благородным. Отсюда непреложной формулой вывел, что недоразумение аннулируют нынче же. «Терпение… Терпение… Терпение…» сказал он себе, как и Милий Алексеевич в библиотечном зале.
Час спустя Германна повели к Дубельту.
Луку Лукича не обрили наголо, как уголовного, штаны держались, он был в своем офицерском сюртуке. И знал, что сейчас все разъяснится, он выйдет из подъезда, свернет направо, сразу же налево, пересечет мост, легонько вздрагивающий на цепях, приятно пахнёт росной свежестью Летнего сада, и вот уж Михайловский замок; как ни в чем не бывало он поздоровается с воспитанниками, жаль, тетрадь со вчерашней лекцией осталась дома… Дома! По лицу Германна, как говорится, пробежала тень. Так лишь говорится, тень не пробежала, но брови сошлись к переносице. Он подумал о Шарлотте, о детях…
Леонтий Васильевич Дубельт, как всегда, приехал с Захарьинской рано. Он уже выслушал майора Озерецковского. Тот изобразил розыск как нечто, равное взятию Варшавы, и Дубельт понял, что майор врет… Леонтий Васильевич не скупился на затрещины дуракам доносчикам и вральманам агентам. Он и Булгарина однажды поставил в угол. Дубельт покровительствовал издателю «Северной пчелы», но презрительно. А в угол поставил брюхастого Фаддея с рожей бурой, как заветренный окорок, в наказание: Булгарин написал, будто в Санкт-Петербурге бывает плохая погода, а плохая погода быть не может там, где изволит жить государь император, солнце России… Отвесить плюху майору Дубельт не мог, поскольку тот был майором. И в угол поставить не мог, поскольку адъютант выполнил личное поручение Александра Христофоровича.
Выслушал генерал и надворного советника Тупицына. Да, тот отрядил в распоряжение майора тех, кто левой ногой не сморкается – и жену актера, и прапорщика, и сидельца кондитерской. И разумеется, приказал сперва доносить ему, Тупицыну, а то, что он дозволит, доносить майору. По краткости времени надворный советник никакими разведданными не располагал, а майор уже поспешил арестованием.
Так-то оно так, да годить не годилось: поручение Александра Христофоровича! Шепотом молвить, Дубельт не равнял Бенкендорфа с царем Соломоном, но и не забывал, кто оказал ему, Дубельту, честь и указал место.
Войдя в большую, роскошно убранную комнату, Германн увидел то, что и должен был увидеть глазами Милия Алексеевича, а тот глазами Герцена и еще двух-трех очевидцев.
Леонтий Васильевич был в генеральском сюртуке с таким же красным воротом, как у смотрителя секретных арестантов. Усы то ли светлые, то ли седеющие, были длинные, вислые, лицо изможденное, лоб бугристый. Все находили в нем то волка, то лисицу, есть такой хищник, волколисом зовут. И все же Лука Лукич глазами, повлажневшими от виноградного вина, хотя и сильно разбавленного, видел не совсем то, что Милий Алексеевич. Обруселые немцы часто думают русскими пословицами, пастухи воруют, подумал Германн, а на волка поклеп.
Сесть генерал не предложил, сам не сидел, похаживал, как-то наискось выставив эполетное плечо, прихрамывал – бородинская пуля. Он задал обычные вопросы, голос был сиповатый, усталый. Германн отвечал, когда и где родился, где кончил курс наук. Дубельг одобрительно кивнул: ученость в России следует отпускать только по рецепту правительства, этот капитан получил по рецепту, математики нужны.
«А вот с ним знакомы?» – Дубельг отдернул занавес рытого бархата, прозвенели бронзовые кольца. В задних дверях комнаты стоял смазливый, раскудрявый малый из кондитерской. Той, что напротив дома покойной княгини в Малой Морской. Коноплев смотрел на капитана и улыбался. «Не имею чести быть знакомым», – покачал головой Лука Лукич. «Помилуйте, – рассмеялся Коноплев, – вы изволили заходить-с, записочку писали-с, как же-с, вспомните». – «Ваше превосходительство, – отнесся Германн к Дубельту, – ни в каких кондитерских не бывал, тем паче записочек там не пишу». Дубельт, заложив руки за спину, щелкнул пальцами. Коноплев исчез. Наступила пауза. Генерал ждал вопроса, и вопрос последовал: «Ваше превосходительство, Бога ради, в чем меня обвиняют?» – «Погодите, – сказал генерал. – А это ваш?» – и потряс носовым платком. «Мо-о-ой, – протянул Германн. – Но, простите, ваше превосходительство, не возьму в толк…» И тут всеобщий благодетель нанес зубодробительный удар: «Вы обвиняетесь в принадлежности к тайному обществу, посягающему на жизнь государя императора».
Лука Лукич явственно почувствовал, как он укорачивается ростом и теряет вес, обращаясь в величину бесконечно малую.
«Успокойтесь, – сказал Дубельт, магически соединяя суровость с мягким участием, – успокойтесь. Михаила Максимович представит вам вопросные пункты. А сейчас извольте: вот перо, бумага, пишите домашним. У вас, чай, детишки? Ну-с, пишите, пусть не тревожатся». Дубельт позвонил, явился унтер.
В этот день Германну не вручили «пункты». Он провел этот день в комнате-камере.
Его разбудил барабанный бой. Неблизкий, но отчетливо знакомый. По ту сторону Фонтанки, в Инженерном училище, пробили вечернюю зарю. Из глаз Германна брызнули слезы.
Не упомяни Дубельт о Михаиле Максимовиче Попове, очеркист решил бы, что Германна нарочито не призывают к следователю; метода известная: вымотают жилы – скорее рухнет на допросе; переменят ужасное обвинение на менее ужасное – примет последнее, как Божий дар, и на радостях выложит все как на духу. Решив именно так, а не иначе, Милий Алексеевич совершил бы ошибку, почти поголовную для авторов, иллюстрирующих исторические сюжеты: он полез бы в прошлое, не расставаясь с тяжелым багажом своих впечатлений и опытов жизни. Но мерки Сегодняшнего отнюдь не всегда соответствуют меркам Вчерашнего. Цепь времен не только распадается: она состоит из звеньев разной величины и разного металла. Упомянутый Дубельтом статский советник Попов, как и не упомянутый Павел Иванович, окончательно убедили Башуцкого в том, что в высшем надзоре служили люди с душой и талантом, а не сплошь винтики-исполнители.
В канцелярии синетюльпанных занятий, на столе статского советника Попова лежали «вопросные пункты» – тетрадь большого формата, почерк крупный и не то чтобы ясный, хотя и ясный, а гулкий, как железная рельса. Отвечая на «пункты», Германн либо подтвердил бы свою причастность к тайному обществу, либо, запираясь, подтвердил бы закоренелость в преступных замыслах.
Облокотившись на стол, подперев пухлую белую щеку ладонью, статский советник Попов смотрел сквозь очки мимо тетради большого формата.
Михаил Максимович уже навел справки. В Инженерном училище отзывались о капитане Германне превосходно. Удивительно! Милий Алексеевич ни разу не слыхал, чтобы администра-ция или парторганизация высказались хоть мало-мальски прилично о друге-товарище-брате, изъятом из обращения, как фальшивая монета. Засим Михаил Максимович дознался, откуда пошло дело капитана Германна. Тут-то и ожидало нечто малоприятное, ибо статский советник, сперва невнятно, потом все отчетливее, ощутил веяние Гофмана. Эрнста Теодора Амадея Гофмана; его романы и повести статский советник почитывал-перечитывал. Веяние это еще куда ни шло. Он почувствовал в истории капитана что-то искусственное, натянутое, нарочитое – нынче сказали бы, что Попов отличал литературу от литературщины.
И сказали бы верно. Казанским студентом Попов кончил курс историко-филологического факультета. Потом учительствовал в пензенской губернской гимназии. Его ученик – известный критик – называл Михаила Максимовича «лучезарным явлением». Наш очеркист, уязвленный проницательностью статского советника, лишь усмехнулся бы, но столь восторженно оценивал Попова не кто иной, как неистовый Виссарион. И вот ведь примечательно: Белинского ничуть не смущало, что «лучезарное явление» с начала тридцатых годов подвизалось в ведомстве Бенкендорфа.
Ладно, подумал обиженный Милий Алексеевич, поглядим, как это «лучезарное явление» скажется на судьбе капитана Германна.
Башуцкий не предполагал, сколь сильного союзника найдет его обидчик в Павле Ивановиче Миллере, секретаре шефа жандармов.
Они были дружны, бывший казанский студент и бывший царскосельский лицеист. Дружны, несмотря на значительную разницу в летах. Миллер вышел из лицея в тридцать втором. Его дядюшка, московский жандармский генерал, радея племяннику, пристроил Павлушу к Александру Христофоровичу. Подобно многим лицеистам не только первого, но и последующих выпусков, Миллер благоговел перед солнцем русской поэзии. Был в знакомстве с Пушкиным, хранил автографы Пушкина, не упускал случая замолвить словечко шефу.
Вот к этому Миллеру и зашел вечерком статский советник Попов. Миллер жил на Малой Морской, в доме, сейчас опустелом – Бенкендорф с семейством все еще отдыхал в Фалле.
Подали чай. Полнотелый, пухлолицый Попов, опустив очки на нос, близоруко поглядывая на Павла Ивановича, беложавого и румяного, рассказывал о деле капитана Германна. Обстоятельно рассказывал, не упуская подробностей. И чем дальше рассказывал, тем чаще улыбался Павел Иванович. Он, понятно, склонялся к той же мысли, что и Попов, чрезвычайно обидной для нашего очеркиста.
Покойный Александр Сергеевич, сказал Миллер, никогда бы не дал имя Германна герою «Пиковой дамы», если бы знавал, пусть и мельком, этого Германна, существующего вживе офицера корпуса Военных Инженеров. Нет, нет, пушкинский Германн вовсе не Лука Лукич Германн.
Статский советник согласно кивал Миллеру. Но… но… И статский советник высказался в том смысле, что такое умозаключение все же не объясняет пассаж с носовым платком. Павел Иванович, подергивая мочку правого уха, что всегда было признаком некоторого смущения, высказался в том смысле, что его добрый начальник (Миллер в частных разговорах только так называл Бенкендорфа), да, его добрый начальник, пожалуй, слишком сильно увлекается шведским теософом Сведенборгом, на что Михаил Максимович резонно возразил: платок с монограммой «Л. Л. Г.», увы, не мистика, а улика, предмет из батиста, каковой добрый начальник держал в руках и каковой оказался не в единственном экземпляре у капитана Германна.
Собеседники попали в тупик. Оба сознавали невиновность несчастного капитана, и оба готовы были вступиться за него, однако не умели сообразить, как же всю эту чертовщину объяснить доброму начальнику.
«В поле бес нас водит, видно», – процитировал Миллер уже без улыбки, чем и доставил удовольствие Милию Алексеевичу. «А между тем бедный капитан…» – вздохнул Попов.
А между тем в судьбе Луки Лукича начался стремительный поворот. Уж тут не пахло литературщиной, да и литературой не пахло, потому что на авансцену явился Факт Исторический.
На седьмой день заключения из комнаты-камеры с молчаливым роялем повели Луку Лукича к Дубельту. В душе Германна мгновенно и сильно возгорелась надежда. Следуя за смотрителем, он проходил через канцелярию, где уже занимались делом синие тюльпаны, Лука Лукич увидел бывшего своего ученика Романа Дрейера, того самого, что Бенкендорф взял в Третье отделение из гвардейского саперного батальона. Лука Лукич обрадовался, как родному, но «родной» поспешно отвернулся. Сердце у Лукича упало; давешняя надежда обратилась в холодную золу.
С этой вот холодной золой на сердце и предстал он перед генералом Дубельтом. Серые, как свинец на срезе, глаза волколиса смерили капитана с головы до ног. «Вы, – сказал Дубельт, – чистым вошли сюда, чистым и выйдете отсюда. В вас принял участие великий князь».
Лука Лукич незряче смотрел на генерала. Ни Лука Лукич, ни Милий Алексеевич ни-че-гo не понимали. Секунду спустя капитаном Германном завладело поразительное спокойствие. Поразительно и то, что Лука Лукич внезапно и совершенно точно определил, на сколько ступенек он поднялся, прежде чем из коридора вошел в приемную Дубельта: двенадцать, ни на одну больше, ни на одну меньше, двенадцать.
«Успокойтесь, – сказал Дубельт совершенно спокойному Германну. – Вам уже привезена из дому парадная форма. Брадобрей ждет. Соберитесь, и поедем».
Лука Лукич вышел. На лестнице с двенадцатью ступеньками его поддержал за локоток смотритель секретных арестантов в сюртуке с красным воротом.
Генерал Дубельт, прихрамывая – бородинская пуля, – измерил по диагонали кабинет и сел писать рапорт Бенкендорфу. Запечатал своей печаткой, позвонил и велел, не мешкая, командировать в Фалле майора Озерецковского.
Заключение
Лизавета Ивановна вышла замуж за молодого человека с порядочным состоянием.
Майора Озерецковского отправили в Вену постигать передовой опыт австрийского высшего надзора.
Томского произвели в ротмистры, он женился на княжне Полине.
Экономиста Ленэнерго назначили старшим экономистом, но на Вере Касаткиной товарищ Мудряк не женился.
Лука Лукич продолжал службу в Инженерном училище. Заканчивая лекции, по обыкнове-нию, декламировал юнкерам страницу из книжки «Пагубные следствия игры». Однако то уж была чистая педагогика, ибо дома, во флигеле на Шестилавочной, Лука Лукич, случалось, бостонил по копеечке с коллежским регистратором Башуцким.
Главнейшие достоинства архивариуса заключались, во-первых, в том, что тот никогда не предлагал пароле, то есть увеличения ставки в игре, а во-вторых, с неизменным вниманием выслушивал историю освобождения Луки Лукича из узилища. Историю достоверную от альфы до омеги.
К слушанию призывалось все семейство – приятно располневшая Шарлотта, дочери, сын Николенька; будущий полковник лейб-гвардии ловко выкидывал деревянным ружьецом уставные артикулы.
Лука Лукич не был, что называется, реабилитированным – получи справку и валяй к мурластому за штампиком: «Паспорт выдан». О нет, были восстановлены честь и достоинство.
Подполковник (да-да, уже подполковник) Германн хотел, чтобы эта история, сохранившись в роду как предания у эскимосов, свидетельствовала о том, что за царем служба не пропадет. К тому же, переживая ее в сотый раз, он испытывал очистительное умиление, столь необходимое в прозаической обыденности.
«В вас принял участие великий князь», – сказал Дубельт, имея в виду Михаила Павловича, младшего брата государя. Будучи генерал-инспектором корпуса Военных Инженеров, великий князь не терпел посягательств даже Отдельного корпуса жандармов. Он счел, что носовой платок с монограммой «Л. Л. Г.» не уличает его обладателя ни в чем, кроме опрятности. И повторил неоднократно сказанное: «У меня в корпусе есть шалуны, но либералов нет!» И пожаловался на синих тюльпанов старшему брату: дескать, воспользовались отсутствием Александра Христофоровича…
Великий князь принял Германна в Михайловском дворце, в том огромном кабинете, что позади Штыковой залы. Дубельта не пригласил, адъютанты отсутствовали. Они были одни. Привстав на цыпочки, великий князь поцеловал пылающую голову капитана. Рассмеялся: «Тот не офицер, кто раз пять у меня на гауптвахте не сиживал». Германн, сколь ни удивительно, нашелся ответом: «То у вас, ваше императорское высочество; у них одного раза с лихвой». «Ну, не сердись, – опять рассмеялся великий князь. – Отдыхай неделю. Я пришлю тебе тысячу рублей». Лука Лукич и тут не оплошал: «Благодарю, я и жалованьем доволен». Полчаса спустя он обнимал Шарлотту и целовал детей.
Свершив творенье, сказал Господь: «Хорошо весьма». На слух Башуцкого в этом «весьма» таилась сдержанность истинного художника, не отвергающего критику. А наш очеркист, прикончив сюжетец… Он, слепленный из праха, покаянно вздохнул: «Ты думал только о себе».
Сменив лагерь усиленного режима на соседний, сине-тюльпанный, умилялся слюнтяй, бесстыдно не замечая ни забайкальских каторжан, ни польских повстанцев, ни бунтовщиков военных поселений, ни московских студентов с забритыми лбами, ни похабного надзора за Поэтом.
О себе, лишь о себе думал. Сопоставлял, сравнивал да и пленялся, как бывало в полупод-вальных низках. Увы, мираж, расточаясь, мстит пудовым копытом Медного Всадника, угрюмым рыком Броневика. Застит небо бурый брандмауэр, белесо дымится щелистый ларь.
Но Тот, кто сказал: «Хорошо весьма», сказал: «Не хорошо человеку быть одному», – и вот во тьме над бездною лучатся глаза Капитолины Игоревны, библиотекарши.
Каждый день наш марьяжный король ходил в библиотеку. Походка его переменилась. Вспомнив Тынянова, он рассмеялся: романист наделил прыгающей походкой свободолюбцев декабристской поры, и мы доверчиво восхитились проникновением в образ. А прыгающая походка была у Марата, романист прочитал об этом в мемуарах. Да-с, у друга народа Жана-Поля Марата, а теперь у него, врага народа Милия Башуцкого, ха-ха.
1988–1989
Примечания
1
Я. А. Гордин – петербургский писатель, историк, пушкинист. Насколько известно, М. А. Башуцкий к нему не обращался, что свидетельствует о ревнивой подозрительности нашего очеркиста.
(обратно)2
Долой, прочь (фр.).
(обратно)3
От яйца, с самого начала (лат.).
(обратно)

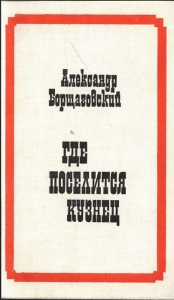
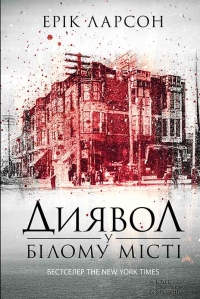


Комментарии к книге «Синие тюльпаны», Юрий Владимирович Давыдов
Всего 0 комментариев