Леонид Дайнеко МЕЧ КНЯЗЯ ВЯЧКИ
Глава первая (часть I)
В ночном мраке тревожно шумела река. Пахло гнилыми водорослями, рыбой, жженым древесным углем, который раз в год выбрасывали в Двину из кузницы, стоявшей на самом берегу.
Бесшумно, как привидение, вынырнул из воды человек. Держась левой рукой за бревно (это был изъеденный водой и временем ствол когда-то могучей липы), он плыл, широко и сильно подгребая правой. К спине его были привязаны щит и короткое копье-сулица.
Человек опасался луны, которая вот-вот должна была выкатиться из-за туч на темно-синюю прогалину ночного неба. Человек хотел быть невидимым для всех, кроме бога.
И все же луна засияла над землей, как серебряная гривна. Молочно-золотистый свет разлился по темной реке. Резко выступили из тьмы гребешки волн, и сразу стали ощутимыми могучая сила реки и бесконечность ночи. Вода неудержимо неслась вдаль. Она и человека с его бревном могла бы подхватить и, как щепку, затянуть прямо в Варяжское море, но человеку во что бы то ни стало надо было прибиться к берегу. Он крепче впился пальцами в осклизлое, тряское на волнах бревно, напряг все силы.
Лунный свет коснулся металлического наконечника сулицы, и он засветился, как уголек. Человек не мог этого видеть, но догадался, мягко перевернулся в воде и поплыл на спине. Теплая вода ласково щекотала щеки, и ему вспомнились руки матери. Давным-давно ему, совсем еще маленькому, мать гладила щеки своими мягкими пальцами…
Человеку стало тоскливо и одиноко. Молчаливое небо опрокинулось над ним. Таинственная сила зажигала в небе звезды. «Видно, это моя последняя ночь, и я не доживу до утра», – подумал человек.
Бревно с легким сухим шорохом воткнулось в прибрежный песок, и человек нетерпеливо и радостно сдернул руку с осклизлой размякшей коры – ему все время почему-то казалось, что он держит в руке противную скользкую жабу. Он даже нащупал дно и, растопырив пальцы, начал яростно тереть рукою о песок, будто смывал с ладони бог знает какую грязь. Потом неподвижно, как огромная обессиленная рыба, лежал на самой границе воды и берега, умерял дыхание, давал отдых телу, поджидая своего спутника. Тот выплыл из тьмы, тоже держась за бревно.
Некоторое время они молча лежали рядом, и только шумела черная, как деготь, речная вода. А может, это шумела в ушах кровь от пережитого напряжения?
Прямо перед ними, в нескольких саженях от берега Двины, на высоком холме щетинились дубовыми кольями укрепления грозного замка. Наступило время второй стражи. Дружинники на заборолах светили факелами-походнями, сонно, вяло перекликались между собой:
«Полоцк!.. Менск!.. Друтеск!.. Рша!..»
Тот, что приплыл позже, поправил на поясе меч, сощурил глаза и произнес тихо, медленно, словно про себя:
– Вот он, Кукейнос, гнездо мерзкого Вячки. Мы раздавим этот проклятый город, как куриное яйцо. Мы уничтожим князя и княжеских слуг. Птицы болотные и гады ползучие совьют гнезда в их черепах. И ты поможешь святому божьему войску, Братило.
В словах его была такая жгучая ненависть, что Братило невольно вздрогнул. Каждое слово казалось каплей яда. Упади такое слово на прибрежный песок, и песок (Братило не сомневался) зашипит, расплавится.
Все то время, пока они, ожидая наступления темноты, отлеживались в зарослях на противоположном берегу Двины, Братило боялся глянуть в лицо своему спутнику. Какая-то неведомая сила отводила его взгляд в сторону. Братило уже давно, еще с детства, знал за собой такое – хоть убей, не мог смотреть человеку прямо в глаза. Казалось, в глубине, на дне тех глаз, таился смертный приговор ему, Братиле.
Теперь же, воспользовавшись темнотой, осмелевший в предчувствии опасности (она всегда горячила его, растапливала льдинки в крови), Братило краем глаза взглянул на товарища по риску и, возможно, по смерти. Тевтон из Риги (Братило не знал его имени) был высокий, тонкий в талии, но широкоплечий. Солнцеворотов двадцать, а может, немного меньше жил он на земле. Буйно вились его длинные льняные волосы, перехваченные на лбу и затылке тонким кожаным ремешком. Капли речной воды сияли густыми звездочками на оголенных смуглых руках и ногах. В руке тевтон держал стальной нож с желтой костяной ручкой. В отличие от Братилы он не взял с собой щит и копье, но тяжелый широкий меч, из тех, что куют на Готском берегу, висел у тевтона вдоль левого бедра.
Тонко звенела речная вода. Река была сплетена, соткана из множества тоненьких струек, и каждая, даже самая крошечная, старалась подать свой голос. Густо, как всегда в серпене, падали в небе звезды. «Души грешников летят в ад», – холодея спиной, думал Братило. Неумолимо бежало время, вскоре на стены Кукейноса должна была выйти третья стража, а в нее (Братило знал это хорошо, сам ведь был когда-то кукейносским муралем) отбирались самые стойкие и бдительные, самые отважные вои с боевыми собаками-волкодавами.
Тевтон, затаив дыхание, словно окаменел рядом. Во тьме он казался Братиле деревянным идолом-болваном, что стоят, прячась от попов и князей, на одичавших лесных капищах Полоцкой земли.
– Пора, – наконец выдохнул тевтон, переложил нож из правой руки в левую и широко перекрестился.
– С нами бог и святая дева Мария.
Потом приблизил лицо к Братиле, почти коснувшись его щеки, прошептал:
– Ты помнишь клятву, которую мы дали епископу Альберту?
Тевтон был белолицый, с глазами острыми, маленькими, как недозрелые лесные орешки.
– Помню, – сказал Братило.
– Повтори нашу клятву.
– Именем апостольской римской церкви, именем ее младшей дочери – церкви рижской клянемся пойти
в Кукейнос, взять душу лиходея Вячки, где бы он от нас ни скрывался, и вручить эту слепую и дикую душу в наисправедливейшие руки бога.
– Хорошо, – одними губами улыбнулся тевтон. – Вячка должен погибнуть. Такова воля всевышнего. Аминь.
Братило согласно кивнул головой, молча вглядываясь во тьму прямо перед собою. У него было очень острое зрение, как у рыси, что водится в лесах у стольного Полоцка, и впереди, за несколько саженей, там, где начинался оборонительный ров, он заметил кустики какой-то странной травы. Длинная, прямая, с колючими упругими метелками на самом верху, она напоминала стрелы из лука, впившиеся в землю. «Плохой знак», – подумал Братило.
А тевтон страстно, как молитву, шептал рядом:
– Нас нельзя остановить, как нельзя остановить морской прибой и восход солнца. Мы несем свет веры, нетленный крест господний.
«Боится», – подумал Братило. Он, Братило, не боялся. Страх остался позади, за спиной, в Риге, куда он прошлым летом прибежал из Кукейноса, спасаясь от дружинников князя Вячки. В Кукейносе он строил церковь из серого твердого камня-плитняка, который добывали в окрестностях города, – вместе со своим отцом и дедом. Но работать не хотелось. Тяжелый камень отрывал руки, а молодое здоровое тело жаждало любовных ласк. Он убежал со скоморохами, водил медведя, играл на гудке, миловался с бесстыдными молодицами, пил мед, а потом вместе с дружками убил богатого латгала из-за десятка гривен.
Головник, проклятый своей семьей и городом, стоял он перед стенами Кукейноса и слушал, как перекликаются вои, как звенят их мечи. Давно не слышал он звуков родной речи. Это была единственная радость, оставшаяся у него, – стоять возле городского вала, во тьме, и слушать знакомые с детства слова.
– Полоцк! Менск! Друтеск! – доносилось сверху. А ему казалось – это плачет его мать, распустила седые от горя волосы, посыпала их песком-дресвяником и зовет, кличет: «Братило! Братило!»
Тевтон легонько толкнул его в бок, подал что-то круглое, небольшое.
Пей, – сказал властно.
Это была бронзовая баклажка, выкованная в форме гусиного яйца. Братило нерешительно взял баклажку.
– Пей, – повторил тевтон. – Мы выпьем этот святой эликсир и станем прозрачными, как ночной туман. Нас не заметит стража на городском валу. Пей.
Братило недоверчиво держал в руках баклажку, украшенную выкованными цветами, звездами, птицами. Она была теплая.
– Мы превратимся в туман. Проплывем над валом. Этот эликсир дал мне аббат цистерцианского монастыря в Риге Теодорих, брат епископа Альберта, – страстью горели во тьме глаза тевтона.
Братило осторожно поднес баклажку к губам. Подумалось со страхом: а не отраву ли дает тевтон? Они, божьи бояре из Риги, все могут сделать с человеком, осмелившимся пойти против их воли. Тевтонский бог сильнее царьградского, русского бога. Рига, совсем недавно выросшая в устье Двины, сильнее стольного Полоцка, который стоит с седой древности, с времен святого Рогволода, а рижский епископ Альберт намного хитрее и могущественнее великого князя полоцкого Владимира. Где уж Вячке, этому молодому князю-жеребчику, что заперся в Кукейносе с полоцкой дружиной и латгальскими старейшинами, поднимать десницу на тевтонов? Поймают его, как зайца в тенета, и зарежут.
Братило маленьким глоточком выпил холодной кисловато-горькой жидкости из баклажки. Стоял и раздумывал: смерть или святую божью силу впустил в сокровенные уголки тела своего?
Резко просвистела крыльями ночная, невидимая глазу птица, полетела над волнистой, взъерошенной ветром Двиной. Ему вдруг захотелось стать этой птицей, счастливой, вольной птицей, которой не надо лезть на страшные заборолы. вокруг княжеского замка, где подстерегают копья и мечи кукейносских воев.
Неожиданно пошел дождь, густой, шумливый.
– Хорошо, что начался дождь, – тихо сказал Братило тевтону. Тот понимал язык полоцких кривичей и в знак согласия кивнул головой.
Дождь потушил факелы, которые жгла стража. Могильная тьма окутала землю. Братило не видел тевтона, хотя слышал его дыхание всего за два-три локтя от себя. «Питье из баклажки и вправду сделало нас невидимыми», – подумал он. Это его обрадовало. Он ущипнул себя за руку, чтобы ощутить свою плоть, убедиться, что она не исчезла.
– Не подавив пчел, меду не съешь, – решительно выдохнул из тьмы тевтон. – Пошли, Братило. Иисус и дева Мария защитят нас.
Братило пошел первым, тевтон за ним. Они пригнулись, почти на четвереньках шли-ползли по мокрой скользкой земле. Эту землю Братило знал хорошо, и она знала, помнила его. Отец его родился тут, в Кукейносе. Мать была из местных латгалок. Мальчишкой вместе с друзьями он выгонял за городской вал в зеленые луга лошадей и коров. В жару купался в Двине и чувствовал себя в стремительно бегущей прозрачной воде рыбой. Он знал, что деды их дедов называли Двину Рубоном и теперь еще яростный боевой клич полочан «Рубон!» наводит страх и на тевтонов, и на литовцев, и на литовских союзников селов. Он ужом полз по этой земле, вжимаясь в нее всем телом, чтобы под покровом ночи пробраться в Кукейнос и убить князя Вячку.
По горло в воде перешли ров. Шумел дождь. Ветер дул с реки, ударялся о земляной вал, о дубовые колья городских укреплений и отскакивал, заплевывая глаза дождем.
Тевтон словно прилип к Братиле – крался сзади шаг в шаг. «Идет Вячкина смерть», – думал Братило.
Вышли как раз в то место городского вала, куда и намеревался попасть Братило. Тут каркас из сосновых бревен немного осел – видимо, подточили подземные ключи.
Братило остановился, и за его спиной сразу же затих тевтон. Неутомимо шумел дождь. Плакало черное небо.
Братило перекрестился, широкой ладонью старательно вытер мокрое лицо. Потом отцепил от кожаного пояса просмоленную пеньковую веревку, к которой была привязана стальная трехрогая «кошка». Размахнувшись, он кинул эту «кошку» вверх, в темноту, и она, глухо стукнувшись о дубовый частокол, впилась, вцепилась в дерево. Братило легонько потянул на себя веревку, потом дернул сильнее, проверяя, надежно ли держится веревка. Какое-то мгновение постоял в нерешительности, потом поплевал на руки и, ловко и быстро упираясь ногами в скользкие бревна, рывками подтягивая вверх крупное тело, полез наверх. Это было привычное для него дело – дело – ночной тать, он не раз перелезал так через самые высокие стены.
Стена в этом месте была высотой около четырех маховых саженей. Братило еще с тех пор, когда вместе с отцом строил церковь, знал и малую пядь, и большую пядь, и маховую сажень, и косую сажень. Взрослый мужчина разводил в стороны руки, и расстояние между кончиками пальцев левой и правой руки было маховой саженью.
Да ему уж не бывать муралем. Никогда не бывать. Кто попробовал кровавого мяса, не захочет есть вареную репу. Бродяга-ярыжка не станет в Полоцкой Софии отбивать поклоны всевышнему.
Очутившись на самом верху кукейносского вала, Братило замер, затаил дыхание. Перед ним в глухой кромешной тьме спал Кукейнос. Ни огонька, ни искры не замечал глаз. Плотными темными кучками стояли усадьбы купцов и ремесленников. Посада, как в Полоцке или Герцике, тут не было: два года назад его сожгли литовцы. Маленький воинственный Кукейнос всех своих жителей собрал в один кулак – поселил на большом дворе. Дубовый терем князя Вячки возвышался рядом с православной церковью.
«Спи, Вячка, – с мстительной радостью подумал Братило. – Сегодня ночью ты заснешь навеки».
В этом городе он знал все ходы-выходы. Завяжи ему глаза, выколи их, он все равно пройдет, как по нитке, по узким, вымощенным сосновыми и дубовыми плахами улочкам, не собьется, не заблудится. И княжеские хоромы знает, выучил, как свои пять пальцев.
Резко и отрывисто, захлебываясь от злости, залаял сторожевой пес. Вои, прятавшиеся от дождя под щитами, сразу всполошились, начали перекликаться. Зазвенели мечи.
Братило припал к дубовому частоколу, щекой вжимаясь в мокрую холодную шероховатость дерева. По спине пробежали ледяные мурашки.
Но пес затих. Постепенно улеглось волнение воев. Дождь барабанил по щиту Братилы.
Конец веревки Братило бросил вниз, тевтону. Через несколько минут тевтон, тяжело дыша, взобрался наверх. Коснулся плечом Братилы и замер, молчаливый, бесшумный, как ночная сова.
Братило поправил за спиной щит и сулицу. Надо было спускаться во тьму, в неизвестность, на землю Кукейноса.
Он ловко спрыгнул, стал на эту землю. И все топтался, переступал с ноги на ногу, будто стоял на раскаленном железе.
«Братило! Что ты хочешь делать, сынок?» – вдруг прозвучал в его душе голос матери. Столько слез, столько муки было в этом голосе!
Он стоял, не отваживаясь сделать первый шаг. Он вспомнил себя ребенком.
«Не иди на черное дело. Не проливай кровь», – звенел в душе материнский голос, звенел широко и неотступно, как церковный колокол.
Братило стоял, молчал. Глухая ночь плыла над Кукейносом. До утра еще было далеко. Еще спал князь петухов Будимир, которого так чтят смерды Полоцкой земли. Ветер свистел, завывал в высоком частоколе городского вала.
– Ну что ты стал? – со злостью прошипел сзади тевтон.
– Темно… Не видно ничего, – нерешительно ответил Братило.
– Не считай меня дураком, – тевтон легонько кольнул Братилу острием меча между лопатками. – Ты поклялся. И наша церковь хорошо заплатила. Епископ Альберт дал тебе сорок гривен серебра. Если ты предашь, паршивый пес, я отрублю тебе голову. Во имя Иисуса Христа, сына божьего, пошел вперед!
Братило вытащил из-за спины щит, взял его в левую руку, правой сжал сулицу, пригнулся и бесшумно нырнул во тьму. Тевтон, как лисий хвост, сразу же шмыгнул следом.
Узкие улочки Кукейноса, казалось, тонули в грязи. Грязь хлюпала по сосновым и дубовым плахам, которыми они были вымощены. В такой тьме в проливной дождь Братило и тевтон каждую секунду могли свернуть себе шею, но они упорно и неумолимо направлялись вперед, в самое сердце княжеского двора.
Усадьбы кукейносцев теснились вплотную друг к другу – локоть не просунешь. Не раз огонь голодной красной птицей налетал на эти хатки, на город, слизывая его дотла.
В хатках, черневших вдоль улиц, спали вместе со своими женами и детьми шорники и бронники, кузнецы и кожемяки, плотники и скрынники, каменщики и ткачи. А еще – дымари, плавильщики железа. И гапличники, те, что из кости и дерева изготавливают пуговицы и крючки для одежды. И консвиссеры – отливщики церковных колоколов. Тысячи снов сплетались в один огромный, всеобъемлющий, глубокий и в то же время тревожный сон – разве можно было спать спокойно в самом начале тринадцатого столетия, на самой границе Полоцкой земли и владений рижского епископа Альберта?
Братило и тевтон с трудом пробивались сквозь дождь, и казалось, никогда не будет конца ни этому дождю, ни этой тьме. Тевтон, хоть и не был трусом, уже не раз с легкой дрожью в теле вспоминал Вельзевула, библейского князя злых духов и мрака. Братило же старался ни о чем не думать и с холодной злостью гнал из своей души материнский голос, который еще во время его блужданий по Риге начал напоминать о себе, рваться из самого нутра на волю.
Вдруг он поскользнулся и упал. Он разбил бы себе голову, как воронье яйцо, но в самый последний миг успел, выпустив копье и щит, встретить невидимую землю руками. Только холодной грязью забрызгало все лицо.
Тевтону показалось, что это засада, что Братило упал, пробитый стрелой княжеского воя, и он тяжело и отчаянно рубанул темноту мечом. Но меч встретил пустоту.
– Новожил, это ты? – послышался вдруг тихий и печальный женский голос. Белая тонкая фигура мелькнула за высоким деревянным забором, которым был обнесен один из дворов. Для Братилы с тевтоном этот неожиданный женский голос прозвучал как гром небесный.
– Новожил, где ты ходишь? Иди сюда. Я не сплю… Я жду тебя.
Женщина, прикрывая рукой грудь, уже выходила на улицу.
– Я не Новожил. Я – Семидол, отрок князя Вячеслава Борисовича, – растерянно отозвался Братило, поднимаясь с земли и отряхивая с рук липкую грязь. – Иди спать, женщина. Я Семидол.
Женщина остановилась. Была она (жаль, что Братило с тевтоном не видели в темноте) в белом льняном платье, перехваченном красным пояском. Витые серебряные колты сияли на висках. Она стояла в двух шагах от Братилы с тевтоном и плакала.
– Ты Семидол? А где мой Новожил? Вторую ночь мое ложе пустует… Новожил уплыл в ладье и обещал до сумерек вернуться… Пресвятая богородица, где мой муж?
– Я убью ее, – шепнул тевтон, напрягая мускулистую руку с мечом, – стража услышит разговор и придет сюда.
– Не надо, – остановил руку тевтона Братило. Голос родной матери снова проснулся в нем, угольком прожигая сердце. Слабость воцарилась в его душе, слабость и мягкость. Хотелось слез, и не чужих, а своих. Но своих слез у него уже давно не было.
– Иди спать, женщина, – строго сказал он. – Иди, согревай ложе для своего Новожила.
Он взял женщину за теплое плечо и слабо оттолкнул от себя. Она, как белое привидение, растворилась во тьме, а Братило с тевтоном легким спорым шагом, настороженно вглядываясь во мрак, направились к княжеским хоромам.
Густым буйным дождем плакала ночь о грехах человеческих…
Чем глубже проникали они в Кукейнос, тем все больше красивых высоких палат встречалось вдоль улицы. Тут жили богатые купцы, которые серебро отмеряют горшками, а раковины каури, что на всем побережье Двины до самого Варяжского моря служат и деньгами и украшениями, мерят мешками. Жили тут и бояре: полоцкие и местные, латгальские. Было на что дивиться, да глаза Братилы и тевтона туманила жажда крови, и была эта жажда слепой, как бычий пузырь, которым затянуты окошки в лачугах смердов. Только вперед стремились они, только к княжескому двору. Будто ждало их там величайшее счастье, которое может встретиться смертному человеку только в раю под тенистой смоковницей.
Улица поднималась вверх, на самую вершину большого острова, с незапамятных времен грузно возвышавшегося в месте слияния Двины и реки Кокны, на котором уже несколько столетий шумел, строился, крепнул Кукейнос. Братиле даже показалось, что по левую руку блеснула Кокна, словно узкий холодный меч вытащил кто-то из ножен и бросил в ночную черноту. Кокна – несущая деревья. Так называют реку латгалы. И в самом деле, начинаясь в глухих лесах, наливаясь там силой, река приносит к стенам Кукейноса, особенно весной и в грозу, вырванные с корнем деревья. Латгалы говорят, что это Хозяева Лесных Чащ, сердитые духи, пугают людей, напоминая им о своем существовании.
Наконец подкрались к княжескому терему. Он был высокий, двухъярусный, срубленный из толстых дубовых бревен. В первый ярус князь, дружина и слуги входили прямо со двора через высокое крыльцо, украшенное блестящими серебряными бляшками, на которых были выбиты головы разных заморских зверей, невиданные птицы, рыбы и звезды. Ход со двора вел в просторную гридницу, вдоль стен которой стояли широкие дубовые лавки. Стены гридницы были обиты белоснежным льняным полотном, шкурами туров, медведей и волков. Их украшали отполированные до медового блеска ветвистые рога оленей и лосей. Пол гридницы был натерт воском, и когда через узкие, в оловянных рамах окна врывалось солнце, гридни, бояре и купцы, ожидавшие княжеского выхода, сидя на лавках, жмурились.
На первом ярусе была княжеская трапезная. Тут тоже были прибиты к стенам оленьи и лосиные рога, но, опиленные на концах, превращены в подсвечники. Длинный широкий стол, покрытый златотканой скатертью, занимал почти всю трапезную. В стене напротив стола была сделана огромная ниша, выложенная серым полевым камнем. В этой нише, особенно зимними и осенними вечерами, всегда горел огонь. Для него в тереме еще с весны запасались дровами, больше всего осиновыми, потому что горят они ровным белым пламенем, не дымят, не дают сажи.
На второй ярус, на «верх», можно было пройти по широкой лестнице с обитыми серебром и медью перилами. Там были княжеские покои, там князь Вячка принимал самых близких своих людей, а также послов из Риги, из Литвы, от эстов и ливов. Там же, в угловом покое, была его спальня, у дверей которой и днем и ночью стояли на страже вооруженные мечами и боевыми секирами вои-дружинники. Муха и та не могла тут пролететь незамеченной, но у Братилы, который хорошо знал жизнь и обычаи терема, был свой хитрый план проникновения в святая святых. Печником и водовозом в тереме был его приятель латгал Стегис. С этим Стегисом они дружили еще с детства: пасли лошадей за городским валом, купались, выслеживали пчелиные борти в окрестных лесах, переплыв на челне Двину, крали в селах гусей и овец, а возмужав, вместе обхаживали красивых девушек. Стегис, полагал Братило, и должен был ему помочь.
У самой стены терема в густую мокрую траву Братило спрятал щит и сулицу, дал знак тевтону замереть, а сам, затаив дыхание, подкрался к окошку каморки, в которой обитал латгал, осторожно постучал в узенькое окно. Некоторое время никто не отзывался. Но вот в окошке затрепетал золотистый мотылек свечки. Стегис, держа свечку в высоко поднятой руке, припал лицом к стеклу.
– Стегис, открой, – попросил Братило.
– Кто ты? – донесся глухой голос латгала.
– Братило. Мураль.
– Сгинь, нечистая сила, – рукой со свечкой перекрестился Стегис. – Братилу еще прошлым летом убил Холодок, старший вой князя.
– Я – Братило. Могу поклясться на кресте. Братило засунул руку за пазуху, вытащил нагрудный каменный крестик, перекрестился им, потом поцеловал. После некоторого раздумья латгал, стукнув засовом, отпер низкую дверь своей каморки, настороженно застыл на пороге со свечкой в руке. У него были пшеничные веселые брови.
– От страха язык примерз к зубам? – легонько стукнул его по плечу Братило. – Да не дрожи, не дрожи. Я тебя не съем. Можешь меня пощупать – я совсем не из дыма и сажи.
Стегис и вправду протянул вперед худую костистую руку, дотронулся до ночного гостя длинными прозрачными пальцами.
– Не обжегся? – Братило уже сел на осиновый чурбанчик, которыми был завален пол каморки. Видно, Стегис с вечера наносил дров, чтобы на рассвете, когда надо будет растапливать печь, они были под рукой.
Латгал наконец поверил, что перед ним не упырь-оборотень, а его давнишний приятель. В маленьких серых глазах его вспыхнули искры удивления и даже радости, но сразу же потухли.
– Ты убил Дотэ, купца из Прейльской округи, – тихо сказал Стегис. – Князь Вячка приказал покарать тебя смертью, но ты сбежал…
– Я действительно сбежал в Ригу. Ты говоришь правду, Стегис.
В Ригу? К этим псоголовым, что отбирают у нас земли и опоганивают могилы наших предков?
Глаза Стегиса загорелись холодным огнем. Братило неожиданно бросился перед ним на колени, широко перекрестился, заплакал, торопливо заговорил, глотая колючие слезы:
– Я проклял тот день, когда убил Дотэ и сбежал к тевтонам. Справедливы слова милосердного господа: «Превращу праздники ваши в плач и песни ваши в рыдания». Сколько слез я пролил, Стегис! А ты же помнишь – я был такой веселый. Помнишь, Стегис?
Он снизу вверх неотрывно, пристально глядел на латгала, взглядом своим, словно копьем, пронзая мягкое сердце Стегиса.
– Помню… Встань, Братило… Я же не князь и не боярин.
– А помнишь, как мы с тобой убегали с того берега Двины от селов и литовцев и в наш челн впилось целых семь стрел? И как меня ранило?
– Помню. Но зачем ты вернулся, Братило? Вернулся, как пес на свою блевотину.
– Не мог я там… Среди тевтонов… Ни вера их, ни речь, ни женщины – ничто мне не грело душу. Мать свою хочу увидеть.
– Мать твоя жива, – сказал Стегис. – Весь Кукейнос травами лечит. Травами, сухими и зелеными, дымом, водой, заговором… И словом божьим…
Братило порывисто поднялся с коленей.
– Скажи, Стегис, а Софья, дочь князя, здорова? Латгал помрачнел.
– Неладно с ней. Хворь поселилась в Софье. Горит, как в лютом огне, не спит, плачет ночи напролет. Видать, бог хочет взять к себе княжну. Князь Вячеслав говорил перед боярами и купцами: «Кто вылечит дочь, того щедро отблагодарю. Хвала тому будет вечная и от живых людей, и от отцовских костей».
– Так вот, знай, Стегис, – радостно и торжественно объявил Братило, – я вылечу княжну Софью. Я! Ради этого я и от тевтонов сбежал.
– Ты вылечишь?
Латгал от удивления раскрыл рот, и ярко, красиво блеснули его чесночно-белые мелкие зубы.
– А разве ты забыл, что я родной сын знахарки-травницы Домны? Она мне все свои секреты открыла.
Силой я владею волшебной, таинственной. И траву из Риги привез от лекарей тевтонских. А трава эта из самого Рима. На горе Везувий растет, из которой огонь и смрад подземный вырываются. Кто истолчет эту траву, потом смелет, в кипяток бросит…
– Где трава? – прервал его Стегис. Лицо латгала стало бледным, взволнованным. Ему не терпелось скорее увидеть удивительную заморскую траву, имеющую необыкновенную силу. Он любил маленькую светловолосую княжну, которая прожила на земле всего пять солнцеворотов и вскоре из-за неизлечимой болезни должна была навсегда отплыть в Ладье Смерти туда, где печально блуждают одинокие тени мертвых. Он и сам всегда боялся смерти. Увидит молнию – спрячется под обрывистый берег Двины, или в лес, или просто в какую-нибудь яму и шепчет: «Бог меня ищет, наказать хочет».
– Вот эта трава, – сказал Братило, доставая из-за пазухи небольшой мешочек. Не спеша, нахмурив темные брови, развязал его, осторожно, двумя пальцами, достал тонкие светло-зеленые стебельки.
Латгал, кажется, и дышать перестал. Протянул руку – взять травинку, понюхать ее, но Братило не позволил, спрятал свое чудо назад в мешочек, пояснив:
– Нельзя ее в чужие руки отдавать. Силу свою теряет от чужих рук. Только меня она слушается, трава эта заморская. И только ночью может пить ее больной человек, потому что она боится солнца.
– Так пойдем в опочивальню княжны Софьи… Скорее пойдем! Я провожу, – взволнованно воскликнул Стегис.
«Что ты делаешь, сынок? – неожиданно, в который уж раз, опалил душу Братилы голос матери. – Ты же сорвал эту траву на том берегу Двины. Это наша трава, не заморская. Нет у нее такой силы. Остановись, сынок».
Братило словно споткнулся на ровном месте, остановился. Сердце колотилось в груди, как пойманный в силки воробей. Стало тяжело дышать.
– Со мной пришел еще один человек. Я не могу лечить без него. Он, только он должен приготовить из травы чудодейственный эликсир, – сказал Братило. – Позови этого человека со двора. Там дождь, а он стоит, мокнет.
Латгал снял дубовый засов, открыл дверь. Густой шум дождя ворвался в каморку. Затрепетала и потухла свечка. Тевтон, как холодный ночной ветер, стремительно вошел во тьму.
– Сейчас я зажгу свечку, – волновался, неуверенно чувствуя себя в темноте, Стегис. – Только найду кресало.
Он начал шарить руками, чем-то стучать, что-то передвигать. Тевтон тем временем отдал Братиле щит и сулицу, которые тот оставил на улице.
Наконец латгал выбил искру, зажег свечку. Настороженно глянув на тевтона, спросил у Братилы:
– Кто этот человек?
– Это божий пилигрим из Риги. Хочет принять полоцкую веру, – солгал Братило. Латгал, казалось, поверил.
– Веди нас к княжне Софье, – приказал Братило. – Тебе же одному князь Вячка доверяет ключи и запоры.
Стегис двинулся было к двери, но вдруг остановился, показал рукой на меч тевтона и копье Братилы:
– Нельзя со смертоносным железом идти отведывать невинную душу. Можно напугать ангелов, ее охраняющих. Оставьте оружие тут.
При этих словах тевтон бросил молниеносный взгляд на Братилу, ждал его решения, сжимая рукоять меча.
– Нам можно, – уверенно сказал Братило. – Мы богово воинство, и наше железо никому не приносит зла. Веди, Стегис, если хочешь спасти княжну.
Они вышли из каморки латгала, прошли через княжескую трапезную, где пахло жареным мясом, по узкой каменной лестнице спустились в мрачное холодное подземелье. Капли воды, срываясь с невидимого потолка, часто падали сверху на лоб, на щеки. Латгал быстро шагал впереди, держа в руках свечку. Огонек свечки, слабый, неуверенный, вырывал из тьмы только небольшой кружок, в котором можно было увидеть под ногами стертые от времени каменные плиты.
«Идет твоя смерть, Вячка, – думал Братило, сжимая острую сулицу. – До тебя нам не добраться. Тебя, как псы, стерегут день и ночь верные вои. Но мы возьмем твою дочь, единственную твою радость. Мы переплывем с ней на тот берег Двины, в кустарник и камыши, и ты завтра же прибежишь туда, прибежишь один, без дружины, ведь ты любишь свою дочь. Я знаю, как ты любишь ее. И там, в зарослях, встретит тебя смерть».
Он, Братило, даже не знал, если бы у него спросили, за что он так люто ненавидел Вячку. Он уже привык к мысли, что обязательно должен убить его. Но за что? За то, что Вячка князь? Князей много, и Вячка не из худших. Из корня Рогволода, из полоцкого дома. За то, что Вячка молодой и красивый? Возможно. За то, что он удачливый, смелый? Тоже возможно. «Был бы свет, а мотыльки прилетят», – говорила когда-то мать Братилы. Пробираясь по мрачному подземелью, Братило, как ему казалось, начал понимать непростой смысл этих услышанных в детстве слов. Он был мотыльком и летел на свет, чтобы потушить его, этот свет, который всегда резал глаз, раздражал, портил кровь.
Вдруг латгал остановился, да так неожиданно, что Братило, отдавшись своим мыслям, налетел на него. Потухла свечка.
– Ты что, Стегис? – растерялся Братило.
– Значит, княжну хочешь вылечить? – вопросом на вопрос ответил латгал.
– Хочу.
– Траву заморскую привез?
– Привез. Ты же видел ее, Стегис.
– А богу в глаза не побоишься глянуть, когда твой час пробьет?
– Не побоюсь. Ты же меня знаешь. Зажги свечку, а то шею сломаем.
– Идти уже недалеко, – почему-то шепотом ответил латгал.
Они снова шагнули в темноту, снова звонко падали над ними капли воды, и вдруг Стегис резко рванулся в сторону, в нишу, которую знал лишь он один. Братило с тевтоном сделали шаг-другой вперед, и огромная каменная плита поплыла у них из-под ног, перевернулась. Даже не успев испугаться, ойкнуть, они полетели вниз, в колодец-западню.
Глава первая (часть II)
Князь Вячка плохо спал в эту ночь. Немного вздремнул, словно молодой волк под кустом, и снова тревога подняла с ложа упругое крепкое тело. Он встал, до хруста в плечах потянулся, взял со стола серебряную баклагу с водой, отпил глоток, остальную воду вылил себе на руки, ополоснул ею лицо. Сон сразу же покинул его.
Последние ночи он спал очень мало. Болела дочь, пятилетняя Софья. С запада, от устья Двины, доходили плохие вести. Рижский епископ Альберт со своими пилигримами и рыцарями, судя по всему, сломил сопротивление ливов, крестил их старейшин, а сыновей тех старейшин взял в заложники. Тевтоны в нижнем течении Двины лихорадочно строили крепости, каменные замки. Альберт, правда, еще не собирает дань и церковную десятину с ливов. Ливы пока считаются данниками великого князя полоцкого Владимира Володаровича. Но что будет завтра? Что принесет новый рассвет?
Вячка подошел к окну опочивальни. Тысячами невидимых угрожающих глаз смотрела на него тьма. Где-то там текла Двина, широкая, стремительная. И тяжко было ему представить себе, что за несколько поприщ от Кукейноса тевтонские рыцари поят из нее лошадей.
Вчера с заборолов вои видели в небе огненное облако. Тихо проплыло оно над Кукейносом. Тихо, но неудержимо. Плохой знак для города, для дружины, для него, князя.
Он задумчиво погладил рукой холодное, блестящее от дождевых капель стекло, подошел к дочери. Софья спала в красивой, вырезанной из мореного дуба колыбели, привязанной белыми пеньковыми веревками к серебряному кольцу в потолке опочивальни. Светлые волосы рассыпались по алой подушке. На Софье была желтая шелковая сорочка, на правой руке, тонкой и смуглой, поблескивал браслет киевского синего стекла с золотыми прожилками. Лицо у девочки горело.
На полу опочивальни, прямо под колыбелью, лежа на медвежьей шкуре, спала кормилица Софьи холопка Тодора. Ее сухое пожелтевшее личико было блаженно-счастливо. Она тоненько посапывала носом.
Вячке не понравилось, что холопка видит счастливые мирные сны в то время, как маленькая хозяйка страдает от болезни. Носком зеленого сафьянового сапога он легонько наступил на руку холопки. Кормилица испуганно вскочила, отвесила Вячке поясной поклон, пропела надтреснутым сухим голоском:
– Многая лета тебе, князь-батюшка. И снова низко поклонилась.
– Смотри княжну, старая, – нестрого сказал ей Вячка. Он не сомневался в том, что кормилица, которая когда-то вынянчила и его, скорее умрет, чем допустит, чтобы Софью хоть на мизинец кто-нибудь обидел. Послушная верная рабыня. День и ночь молится за князя Христу, не забывая, однако, про Перуна и Дажьбога.
Вячка стоял посреди опочивальни, глубоко задумавшись. Старая Тодора, поправляя подушку под головой Софьи, краем глаза поглядывала на него.
Он был высокий, десяти вершков росту, гибкий в поясе, светло-русый, с короткой курчавой бородкой. Кости он был не широкой, но крепкой, упругой, созданной для тяжелого меча и походного седла. Одет в просторную зеленую рубашку из узорчатого шелка. Золотая гривна, знак княжеского рода, блестела на смуглой шее. «Телом – человек, 'душой – ангел», – думала о молодом князе старая рабыня. Она искренне чтила его, даже по-своему любила, но было в этой любви что-то от той, которой умная покорная собака любит своего хозяина.
– Не тревожься, князь, – еще раз поклонившись, сказала кормилица. – Травами и молитвами выгоним хворь из твоей дочки. А ты иди, иди в свою светлицу белодубовую.
Но тут проснулась, заплакала княжна Софья. Кормилица взяла ее на руки, прижала к груди, начала тихо напевать песню, которая звучала и звучит в черных избах смердов над рекой Полотой, над Двиной и Друтью:
Люли-люли, баю-бай, Усни, моя зорька. Если детка не уснет, Буду плакать горько. Люли-люли, надо спать, Засыпайте, глазки. Стану детку я качать, Рассказывать сказки. Люли-люли, надо спать, – Шепчет ветер волглый, Будут деточку качать Бабочки и пчелки.Княжна успокоилась, но вскоре снова заплакала.
– Кормилица, позови знахарку Домну, – приказал Вячка.
Старая Тодора торопливо вышла из опочивальни, положив Софью в колыбель. Князь наклонился над дочерью, долго и внимательно всматривался в измученное хворью личико. Темные пушистые ресницы девочки слабо вздрагивали, трепетали. Как она похожа на свою мать, покойную княгиню Звениславу! Те же глаза, голубые и гордые, тот же нос с легкой горбинкой, только совсем маленький – еще не вырос. Звенислава, родив Софью, через три дня умерла от горячки. Всех знахарей-шептунов из Кукейносского княжества собрал Вячка, из Полоцка приезжали, даже ученый ромей был из Царьграда. Ничего не помогло, угасла молодая княгиня, как свечка. Знахарка Домна перед самой смертью давала ей пить троянку – горячее вино, смешанное с красной глиной, медом и коровьим маслом. Не помогло. Положили княгиню Звениславу в дубовый гроб-корсту, на шкуте под черным парусом повезли по Двине в Полоцк, в Бельчицы, там и похоронили.
Дочь напряженно глядела на отца снизу вверх затуманенными от болезни глазами.
– Хочешь, как и вчера, почитаю тебе «Александрию»? – тихо спросил Вячка.
– Читай, – ответила Софья.
Вячка взял со стола желто-коричневый пергамент. Красивые прямые буквы, старательно выведенные уставом, были как живые. Тяжелые страницы пахли мятой, на которой настаивали киноварь. Вячка начал читать, медленно выговаривая каждое слово:
– И послал Дарий Александру со своими послами грамоту, мячик, кнут, шутовской колпак и ларец с золотом. И было в той царской грамоте написано: «Я, Дарий, царь царей, родня богам и сам бог, сияя вместе с солнцем, повелеваю тебе, Александр, рабу своему, возвращаться в лоно матери твоей Олимпиады, ибо следует тебе еще учиться и сосать сиську, потому и посылаю тебе мячик, кнут и шутовской колпак. Выбирай что хочешь. Мячик означает, что тебе надо еще играть с ровесниками, кнут, – что ты должен учиться, а шутовской колпак посылаю затем, чтобы забавлял ты подобных тебе разбойников, когда они вернутся на родину. А не подчинишься мне, прикажу своим воинам взять тебя и распять».
– Что сделали с Александром? – вдруг спросила дочь.
– Он победил Дария и завоевал полмира.
– А что сделали с Дарием?
– Его убили. Убили собственные слуги.
– Жалко Дария, – горько вздохнула Софья. – Скажи, а тебя могут убить твои слуги?
Вячка усмехнулся:
– Плох тот князь, на которого поднимают десницу его же холопы. Слуг надо держать в послушании, Софьюшка.
– Ты хороший, – сказала дочь. – И мне с тобой хорошо. Мы будем с тобой дружить. Не бери в жены Добронегу.
Молодой князь вздрогнул, внимательно посмотрел на девочку. Откуда она знает о Добронеге? Недетские мысли у нее, недетские слова.
– Княжество не может быть без княгини, – наконец нарушил он молчание. – Где ты видела пчелиный рой без матки? Бояре требуют, чтобы я женился. Добронега будет хорошей хозяйкой Кукейноса. Она из менских Глебовичей, а они теперь в силе, в чести. Великий князь полоцкий Владимир Володарович тоже из их рода.
– Князь Владимир не любит тебя.
– Никогда и никому не говори таких слов, дочка. Слышишь? Никогда и никому.
– Зачем же он сделал чернецом твоего брата, князя Васильку?
В это время в опочивальню вошла знахарка Домна, низко поклонилась князю и начала поить княжну своим зельем из серебряной баклажки, шепча святые заговоры. Старая латгалка была в длинной туникообразной сорочке с вышивкой вокруг шеи, в клетчатой юбке, кожаных лаптях. На груди у нее была большая красивая брошь-сакта, на голове – льняная шапочка.
Значит, дочь не хочет иметь мачеху. Что ж, он понимал ее, очень хорошо понимал. Сам изведал холод сиротской жизни, когда на месте родной матери, на месте солнца, которое должно согревать детскую душу, оказалась чужая, непонятно жестокая женщина, как ледяная звезда в морозном зимнем небе. Он никогда не видел улыбки на красивом лице своей мачехи Святохны, дочери князя Болеслава Поморского. Она, конечно, улыбалась. Улыбалась своему мужу, отцу Вячки, князю Борису Давыдовичу, улыбалась полоцким боярам и купцам, которым хотела нравиться, улыбалась, хоть и очень редко, своим слугам и служанкам. А вот Вячку и его старшего брата Васильку она просто не замечала. Они были для нее хуже тех многочисленных собачек, что обитали в княжеском тереме в Бельчицах. Она почему-то очень любила собак. Завязывала им розовые и голубые бантики на шеях и хвостиках, сама варила для них особые лакомства. Латинянка, она приняла православную веру, чтобы успокоить мужей-вечников, но в душе смеялась над своим новым богом, почитая только одного бога, римского. Вячка, которому было лет семь, хотел однажды приласкаться к ней, но она строго глянула черными ледяными глазами, сухо спросила: «Что тебе надо, волчонок?» Этим холодным равнодушным вопросом она словно убрала, приняла его со своей дороги, как ненужную вещь. Когда полоцкое вече ударило в Великий колокол и черный посадский люд ворвался в княжеские покои, она молча встретила смерть, только одно крикнула отчаянно, страстно: «Сына, сына моего Владимира пожалейте!» Но и сына убили вместе с ней, швырнули маленький трупик ей на грудь.
Прицепив к поясу меч, накинув на плечи багряное корзно, Вячка вышел из опочивальни. При его появлении молодой рында-телохранитель Нездил, стоявший на карауле у двери опочивальни, стукнув об пол древком копья, выдохнул приветствие, боевой клич полочан:
– Рубон!
– Рубон, – тихо ответил Вячка. – Что слышно, Нездил?
– Все хорошо, княже, – облизал пунцовые, как у девушки, губы Нездил. – В подземелье терема, в каменном мешке, сидят два рижских лазутчика. Их отправил туда латгал Стегис.
– Из Риги? – переспросил Вячка. – Зачем шли к нам?
– Неизвестно, княже. Старший вой Холодок будет вести допрос огнем и железом.
– Что ж, пусть попробуют огня тевтоны, – после некоторого раздумья сказал Вячка. – Сами свили веревку своей жизни.
– Там один нашей веры. Мураль Братило из Кукейноса.
– Братило? – удивился Вячка. – Попал наконец в западню оборотень. Этого особенно строго надо допрашивать, огня не жалеть.
Нездил склонил голову в знак согласия, и отблеск от факела, горевшего неподалеку, в длинном турьем роге, вспыхнул на мисюрке – железном шлеме с кольчужной сеткой.
Вячка хотел было спуститься на первый ярус терема, но, идя длинным затемненным проходом, увидел желтую полоску света, падавшую из неплотно прикрытой двери каморки переписчика пергаментов Климяты. Он вошел в каморку. Климята сидел спиной к двери и маленьким бронзовым ножиком соскребал буквы со старого пергамента, готовил место для новых букв.
– Кто? – тихо спросил Климята, не оглядываясь.
– Твоя смерть, – зловещим шепотом ответил Вячка.
– Тогда подожди, еще не время. Я должен закончить историю Полоцкой земли. – Климята, занятый своим делом, даже не оглянулся.
Вячка не выдержал, засмеялся. Только тогда Климята повернул голову, увидев князя, встал и поклонился.
– Будь здоров, князь Вячеслав. Он был щуплый, невысокий, с длинными светлыми волосами, без левой руки – потерял в сечи.
– Значит, не боишься смерти, Климята? – весело сказал Вячка.
– Смерть – немая тайна. В своих руках держим и меч свой, и судьбу свою.
Они были одногодками и дружили, хоть один держал кукейносский престол, а второй, убежав от отца, богатого боярина, поклялся написать Полоцкую летопись. Климята верил в бессмертную силу слова – и сказанного мудрым мужем, таким, как Иоанн Златоуст или Кирила Туровский, и написанного киноварью или золотом на пергаменте.
– Садись, князь, – Климята подвинул к Вячке небольшую дубовую скамеечку. – Тесно и смрадно в моей каморке, но знай, что это святой смрад – запах телячьей кожи и киновари. Ты воюешь, ты все время в седле, но сила, князь, не в мече, а в мудрости. Запомни это.
– Пергаментами, Климята, не остановишь тевтонов. Нужен меч, острый, закаленный меч, который не боится вражеской крови.
– Правду говоришь, князь, – согласился Климята, встряхнув льняными волосами, – но одного меча мало. Я тоже был неплохим воем, бился, ты же помнишь, – с аукштайтами и селами, пока железо не откусило мне руку. И все-таки мудрое слово сильнее меча. Меч короток. А слово живет долго в людских поколениях.
– Пусть будет по-твоему. Вы, книгочеи, ближе к небу и божьему престолу. Вам лучше видна дорога жизни и мудрости. Скажи мне, Климята, о чем ты теперь пишешь?
Вячка встал, взял в руки тяжелую трубку свернутого пергамента, подержал его на ладонях, как бы взвешивая. Глаза Климяты загорелись. Он тоже дотронулся рукой до пергамента, и это прикосновение согрело его душу.
– О чем пишу? Я уже закончил описание жизни Рогволода, Рогнеды и сына ее Изяслава. Про Всеслава теперь пишу, которого народ прозвал Чародеем. О том, как сидел он в стольном Киеве в порубе и как освободили его из темницы и великим князем Киевским нарекли.
– Про мой род пишешь, – тихо сказал Вячка.
– Не только про твой род. Про всю землю славянскую. И про нашу Полоцкую землю, ведь она дочь земли славянской. Хочу, чтобы не только в стольных Киеве и Полоцке своя летопись была, но чтобы и Кукейнос ее имел.
– Чем я могу тебе помочь, Климята? – спросил Вячка, намереваясь выйти из каморки.
– А мне ничего и не надо, – Климята уже размешивал киноварь тонкой костяной пластинкой-мастихином. – Благодарствую, князь, за хлеб, за воду и мед, за все, что приносит твоя челядь. Только об одном хочу просить…
– О чем же? – остановился на пороге Вячка.
– Твои люди, бывает, выкапывают из земли священные камни, идолов, дедовское оружие, скелеты неизвестных животных. Не истреблять, не портить, а сберегать, хранить все это надо, чтобы знать, что было на нашей земле до нас. Глаза живых не должны быть затянуты паутиной. Нам нужно видеть и глубоко и далеко, любить, почитать родную землю. Помни, князь: дорог уголок, где резали пупок. Кто ответит за нас перед богом, если не мы сами? Так что вели собирать найденное в земле.
– Хорошо, – пообещал Вячка. – Об этом будет сказано старостам, тиунам и родовичам. Будь здоров, Климята.
– Многая лета тебе, князь, – поклонился Вячке переписчик пергаментов.
Вячка, плотнее завернувшись в корзно, спустился на первый ярус терема, затем вышел во двор. Никого из дружинников он не взял с собой, не надел на голову боевой шлем – любил, когда холодный суровый ветер расчесывал его волосы. Уже не впервые до горькой слюны во рту захотелось ему побыть одному, наедине с нелегкими мыслями. Он чувствовал, что смертельно устал за последние лето и весну. Усталость камнем лежала на сердце, но нельзя было дать заметить ее ни дружине, ни боярам, ни посадскому люду. Средь шумной суеты жизни, средь звона мечей, средь голосов походных труб постепенно вызревала, наливалась болью и тоской звонкая и незаметная, как скупая мужская слеза, тишина. И он стоял посреди этой тревожной тишины, как песчаный безлюдный остров посреди двинских волн. Он был один. Один как перст. Только старший вой Холодок, только Климята, только дочь Софья остались у него. Да оставалась надежда еще на одну сострадающую душу – на княжну Добронегу, златокосую сероглазую красавицу, что живет в княжеской усадьбе Свислочь, в густых дремучих лесах при слиянии рек Свислочи и Березины.
Дочь Софья, чуть что не по ней, чуть не угодишь чем, плачет и говорит ему, отцу: «Не буду с тобой дружить». Будто ее дружба, будто внимание пятилетнего неразумного человечка – самая высокая награда отцу на этой земле! А может, так оно и есть?
Вячка один стоял в темноте, напряженно прислушивался к всхлипыванию дождя. Это был уже осенний дождь, мертвый. Он не мог дать силу ни зерну, ни траве. Уже ничто не росло под этим дождем, только камни. О том, что камни растут, рассказывал Вячке его отец, князь Борис Давыдович. И Вячка верил, что камни растут – и молоденькие камешки величиной с орех, и многопудовые валуны, которым не одна тысяча лет. «Превратиться бы в камень, – подумалось вдруг ему, – чтобы все стало каменным, для врагов недоступным. Только сердце живое. Я бы сбросил тевтонов в море и вернул бы Полоцку Двину, наш Рубон».
Черная громадина церкви врезалась в небо рядом с княжеским теремом. И Вячка, словно припомнив что-то, зашагал к церкви. Он разбудил дьяка, спавшего в церковном притворе.
– Где отец Степан? – спросил Вячка у дьяка, сухонького, согбенного, как серпок, старика.
– Святой отец два дня назад поехал верхов в Полоцк к владыке Дионисию, – испуганно ответил дьяк. Он с детства боялся вооруженных людей.
– Отвори церковь и зажги три свечки, – повелел Вячка.
Дьяк еще больше согнулся, хотел было что-то сказать, да только пожевал сухими губами и покорно загремел связкой ключей.
Тишина и мрак объяли молодого князя в ночной церкви. Он зажег свечки, стал на колени. По старинному обычаю князь хотел попросить совета у предков.
Замирало сердце. В висках звенела кровь.
Порыв ветра ворвался в открытую дверь. Погасла свечка.
– Ты пришел, Всеслав? Я слышу тебя, – дрогнувшим голосом сказал Вячка. Погасла вторая свеча.
– Ты видишь меня? Помоги. Освети мой разум и мой путь.
Погасла третья свеча.
– Благодарю тебя. Ты одобрил мое решение. Я знал, что будет именно так, что ты поймешь меня. Наш разговор не могли подслушать чужие уши, ведь мы говорили сердцами. Спасибо тебе, приснопамятный князь.
Легким шагом вышел Вячка из церкви. Ворон тревоги слетел с его души, вольнее вздохнулось, будущее стало светлее и веселее. Сквозь сырой ночной мрак он поспешил на городской вал, к своим воям. Сейчас он должен быть с ними, только с ними.
– Рубон! – строго окликнули его из тьмы.
– Рубон! – ответил князь. – Кто на страже?
– Старший дружинник Мстибог со всем своим стягом. И стяг Холодка.
Вячке спустили лестницу, и он ловко взобрался на заборолы. На самом верху земляного вала возле дубового частокола была выложена из камня узкая тропинка – по ней ходили дозорные.
– Что слышно? – спросил Вячка у Мстибога, одетого поверх кольчуги в лисий тулуп.
– Все спокойно, князь. Ветер и дождь идут с Двины. Ночь промозглая, и я разрешил людям надеть тулупы. Прикажу и тебе принести.
– Не надо, – остановил его Вячка. – Говоришь, все спокойно? Ты, Мстибог, спишь тут со своими воями. Только что в тереме поймали двух псоголовых из Риги.
Мстибог, казалось, онемел. И не от страха – от удивления. Он считал себя мудрым и зорким, как ночная сова, хвалился, что за несколько поприщ может услышать свист стрелы.
– Князь, наверное, они были с крыльями и перелетели в город по воздуху, – наконец проговорил он растерянным голосом. – Хорошо, что их хоть всего двое.
– И один камень много горшков разбивает, – недовольно сказал Вячка. Держась рукой за мокрые скользкие колья, он пошел по каменной тропинке, оставив Мстибога посрамленным и встревоженным. И все время глаза его смотрели в густой мрак, на запад. Туда, на запад, текла Двина. Туда неслись беспокойные мысли молодого князя.
Если бы он теперь сел на шкут или лайбу, в которых купцы плавают по Двине, то уже на рассвете по правую руку от себя увидел бы замок Ашераден. А немного ниже – Леневарден. А потом – Икесколь, Гольм и, наконец, Ригу. И всюду сидят тевтоны. Все эти замки – гнезда ненасытных коршунов. Отсюда божьи пилигримы с крестом и мечом ходят в походы на эстов Сакалы, на латгалов Таловы. Сюда они, возвращаясь, гонят пленных женщин и детей, лошадей, коров и овец, везут награбленное добро. В самом устье они наступили на горло Двине, славному полоцкому Рубону, и Вячке иногда кажется, что любимая река задыхается, бьется в судорогах, чернеет и вот-вот пропадет под землей, растворится в песках и болотах, только бы не видеть глумление и издевательства, поселившиеся на ее берегах.
Издревле Двина была полоцким водным путем в Варяжское море, на Готский берег и к северным людям – урманам. Латгалы, селы и ливы селились вдоль нее. Они еще были язычниками и платили дань полоцким князьям. Их старейшины и купцы все чаще принимали православную веру, не забывая, правда, и своих, местных богов и божков. Каким же злым ветром пригнало сюда корабли тевтонов?
Тевтоны приплыли с крестами, спрятав сначала мечи под сутаны. И на этих берегах, в этих полях и лесах римский крест столкнулся с крестом славянским.
Вячка медленно шел вдоль заборолов. Вои узнавали его, почтительно приветствовали. Большинство из них Вячка знал в лицо, помнил по имени, и дружинникам приятно было слышать свои имена из уст самого князя. Он любил свою дружину, гордился ею – ведь дружина давала ему и славу, и силу, и власть в Кукейносском княжестве. Пока у него есть дружина, с ним будут считаться и рижский епископ Альберт, и князь Герцике Всеволод, и великий полоцкий князь Владимир. Но сегодняшней ночью печаль завладела сердцем Вячки, и он сухо и сдержанно здоровался с дружинниками.
Смертный час наступил для Кукейноса. Ливень, огонь и серу готовы пролить небеса. Неужели сгорит терем, в котором умерла княгиня Звенислава, в котором живет маленькая Софья? Неужели безжалостный серп войны сожнет и рожь на кукейносских нивах, и людей, посеявших эту рожь? С тревогой и волнением глядел Вячка на запад, и дождь с ветром били ему в лицо, срывали с плечей багряное корзно.
С горечью думал молодой князь о том, какие глубокие корни успели пустить тевтоны не только в Риге, но и в нескольких поприщах от Кукейноса. Сначала приплыли в устье Двины бременские купцы. Потом священник ордена блаженного Августина Мейнард с кучкой клириков начал строить церковь для ливов в Икесколе. Потом стал возводить каменный замок. Да пришли ливы и семигалы с длиннющими корабельными канатами и попытались стащить этот замок в Двину, чтобы он уплыл в море. Ливы верили и верят в святую силу двинской воды. Они приняли крещение от Мейнарда, но сразу же смыли это крещение речной водой. Мейнард скончался, основав епископскую кафедру в Икесколе и возведя еще один замок – Гольм.
Тевтонам везет. Ливы из Торейды хотели монаха цистерцианского ордена Теодориха принести в жертву своим богам. Однако священный конь, на которого посадили монаха, переступил воткнутые в землю копья ногой жизни, правой ногой. И Теодориху, хитрой заморской лисе, сохранили жизнь, хотя ливский колдун-предсказатель старательно протер конскую спину мокрым песком – смыл, сбросил с нее христианского бога. Почему так везет тевтонам?
Правда, второго епископа – Бертольда, которого в этот сан посвятил архиепископ бременский Гартвин, лив Имавт во время отчаянной сечи пробил навылет копьем. Но приплыл из-за моря на двадцати трех кораблях Альберт, новый епископ, набравший людей на Готском берегу, в Дании, Саксонии, получивший благословение папы Иннокентия III и поддержку короля Филиппа Швабского. Ливы покорились, приняли в свои замки тевтонских священников и назначили ежегодно на содержание каждого полталанта ржи с плуга. Почему же так везет тевтонам?
Полоцкий князь Владимир Володарович, видя, что у ливов появился новый хозяин, собрал рать и в лето 6714-е спустился на стругах, шкутах и плотах вниз по Двине, вызвал епископа Альберта для переговоров на реку Вогу, что течет недалеко от Икесколы. Но Альберт и не подумал выйти из Риги, решил отсидеться за ее стенами. Тогда Владимир окружил замок Гольм. Вячка был там со своей дружиной, помогал Владимиру, и с болью вспоминаются ему те дни.
Тевтонские арбалетчики со стен Гольма пробивали щиты и кольчуги полочан тяжелыми железными болтами. Вои Владимира и Вячки стреляли из луков. И хотя правду говорят, что стрелы у полочан летают быстро, да ничего не смогли поделать лучники, даже ранив многих тевтонов.
Тогда решили поджечь замок. Вместе с ливами, пришедшими на помощь, вырубали в окрестных лесах деревья, складывая их в огромные кучи. Но каменный град из тевтонских камнеметов раскидал, потушил костры. Камень попал в колено князю Владимиру, и вои с трудом отнесли его в безопасное место, чтобы передать лекарям.
Небо в те дни было против полочан. Одиннадцать дней держали они в осаде Гольм, но со стен замка смертоносным дождем летели камни и железные болты. Новость же, принесенная ливами-разведчиками, доконала всех. Оказывается, все поля и дороги вокруг Риги епископ Альберт приказал, как семенами, засеять металлическими трезубцами. Как ни кинь тот зубец, как ни поверни, все равно хоть один рог да будет торчать вверх. Ливы покалечили там своих боевых коней и, бросив их, хромая – и сами не миновали трезубцев, – вернулись в лагерь полочан. Владимир Володарович, лежа на походных носилках, натянутых между двумя лошадьми, сразу помрачнел, начал молиться и, посоветовавшись с тысяцким Илларионом и с боярами, дал сигнал к отступлению. Сипло заревели трубы, загремели бубны. Боевые лодки-насады с воями поплыли вверх по Двине, борясь с сильным встречным течением. Конница пошла правым берегом реки. На стенах Гольма тевтоны, в мыслях уже встречавшиеся с адом, радостно закричали и запели «Богородицу».
Почему же удача сопутствует тевтонам?
Вячка стоял на заборолах, а дождь не утихал, и ветер шумел, и река в своем извечном движении к морю пела дикую торжественно-унылую песню. Какие-то голоса, земные и небесные, мерещились князю. Кто-то звал его, кто-то стонал и плакал, и такими близкими, такими родными были все эти звуки-зыки, что затрепетало сердце, огонь побежал по жилам, захотелось, как в ребяческих снах, оттолкнуться ногами от земли и поплыть-полететь под самые облака, разводя руками сладостно холодный ветер, и закричать там, в ночных небесах, вольной быстрокрылой птицей, чтобы крик твой, отразившись от сонных туч, упал на молчаливую землю и чтобы кто-нибудь услышал его и с надеждой взглянул на небо.
Ночь шагала по болотным пустошам, по лознякам и ракитникам, по сыпучим пескам дюн… Обессилев, лениво брел в Варяжское море дождь. Да ночь не вечна, даже самая темная и длинная. И вот уже вместо слепой сажи на небосклоне замерцало черненое серебро. Потом стальной отсвет появился в небесах, он светлел, становился ярче и звонче, будто сталь нагревали в огне. Потом послышался легкий неуловимый хруст, словно кто-то невидимый разломил, как хлебный каравай, над еще сонной землей огромную дождевую тучу. И дождь вдруг перестал. И тишина была такая густая, такая плотная и бесконечная, так пахла мокрой травой, мокрым деревом, мокрыми лисьими тулупами, что Вячка зажмурил глаза и слегка покачнулся. Он долго стоял так – то ли дремал, то ли думал о чем-то. Все тело было легкое, послушное, невесомо молодое. В глазах, казалось, летали мягкие зеленые мотыльки и медно-золотые пчелы. И мелькал пестрый круговорот ярких солнечных лучей.
Когда он открыл глаза, дождя не было, не было ночного мрака. Занималось утро… Набухало багрянцем небо…
Вернувшись в терем, Вячка позавтракал. Ел он, как всегда, мало. Кусочек черного ржаного хлеба с жареной щукой, несколько ложек пареного гороха и кружку густого светлого пива, которое литовцы называют «алус».
Постельничий Иван снял с князя мокрое корзно, осторожно накинул ему на плечи голубую, прошитую золотыми тонкими шнурками свитку – размахайку.
– Позови старшего воя Холодка, – велел Вячка. Через мгновение в светлицу вошел Холодок, поклонился, снял с головы шлем с прилобком из волчьего меха. Он был в длинной кольчуге из плоских кованых колец, в блестящих железных наколенниках. На ногах поршни – мягкие кожаные сапоги без каблуков, завязанные на щиколотках узким ремешком. Как и Вячке, было ему двадцать три солнцеворота, был он такого же высокого роста, крепкого телосложения, синеглазый. Только волосы из-под шлема выбивались не светло-русые, как у князя, а червленые, рыжие.
– Что говорят ночные гости? – сразу спросил Вячка. Он вплотную подошел к старшему вою, глянул ему прямо в глаза.
– Говорят, что заблудились, шли в Герцике к князю Всеволоду.
– И ты, Холодок, им поверил? Их, конечно, святой дух перенес через городской вал и они этого совсем не заметили?
– Нет, князь, я им не поверил, – скупо усмехнулся Холодок. – И люди мои не поверили. Мураля Братилу раздели догола, на левую ногу накинули веревочную петлю и вниз головой подтянули на дыбе под потолок. После третьего удара кнутом он закричал, что они с тевтоном должны были украсть твою дочь, а потом убить тебя самого, князь.
При этих словах старшего воя Вячка побледнел, сжал серебряную рукоять меча. Тонкие ноздри затрепетали, глаза вспыхнули ненавистью.
– Снова пришли к нам из Риги ржа и моль, – гневно бросил князь. – Я же ездил прошлым летом к епископу Альберту, был в его палатах, и епископ крестом господним поклялся, что не таит никакого зла против Кукейноса, что только безбожных ливов крестить будет. Отпил со мной из одного кубка… Не человек – жало змеиное! Ну почему только один бог должен быть? И только их – тевтонский? Почему мы не можем иметь своего бога, жить своей державой?
Холодок молчал. Лицо его казалось бесстрастным, замкнутым, хоть, как огонь под пеплом, бушевали в его душе слова, пылкие, веские, да молчал он – раб должен проглотить язык, когда говорит хозяин. Знал – князь выговорится, выкричится, а потом и ему слово даст, его мнением поинтересуется.
– Что молчишь, Холодок? – как и ожидал вой, спросил наконец Вячка.
– Слушаю тебя, твои мудрые слова, – спокойным голосом ответил Холодок.
– Что же нам делать? На что надеяться, на что уповать?
– Вся надежда у человека на лук, меч и быстроногого коня. На свои руки надейся, князь, и на свою дружину. Думается мне, что из Полоцка нам большой подмоги не будет.
– Отчего? – вздрогнул Вячка.
– Альберт через твою голову, минуя Кукейнос, ведет переговоры с великим князем Владимиром. Гонцы вверх-вниз по Двине то и дело шныряют. Кое-кого мои дружинники подстрелили из луков, но иные просочились, как песок меж пальцев.
Холодок растопырил пальцы на правой руке. Пальцы были сильные, шероховатые, как дубовые сучья. Вячка задумчиво смотрел на эту ладонь, и ему почему-то вспоминался однорукий переписчик пергаментов Климята. О чем теперь пишет Климята? Напишет ли он когда-нибудь о нем, Вячке, о Кукейносе?
– Ты думаешь, князь Владимир меня не поддержит? – тихо спросил он у Холодка и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Мы же оба Рогволодовичи. Кровь Рогнеды течет в наших жилах. За Полоцкую землю, за Русь мы должны костьми лечь, а не пустить заморских псов на Двину. Хоть не все так думают, не все… Полоцким купцам и боярам во что бы то ни стало надо свое жито, свой воск везти на Готский берег, а то и дальше. Серебро им дороже родной веры и земли. Что им Вячка и Кукейнос? Они уже сегодня готовы целоваться с меченосцами, с Альбертом. Князь Владимир не смог сокрушить Ригу и теперь будет хитрить, выкручиваться, как лис. Я слышал, что епископ Альберт пообещал ему платить дань за ливов, ту, что раньше мы собирали. Зачем же тогда Кукейнос, зачем я, неразумный князь Кукейноса?
Вячка умолк. Где-то за стенами терема вставало яркое солнце, и ночные птицы прятались в дупла.
– Но есть же сила, которая должна нам помочь, – неожиданно нарушил тишину Холодок. Вячка с недоумением взглянул на старшего воя.
– Я о церкви, князь, говорю, – пригладил широкой ладонью свои червленые волосы Холодок. – Не может православная вера отступить перед верой римской. Помолись богу, святой пречистой богородице и Михаилу, архангелу божьему, князь. Съезди в Полоцк к владыке Дионисию, а если нужно, и к киевскому митрополиту. Пусть ударят в колокола. Пусть все услышат про беду нашу: и Киев, и Новгород, и Псков. Стеной станем на Двине.
– Отец Степан уже там, в Полоцке, – сказал Вячка. – Он будет говорить с владыкой.
– Поезжай сам, князь. Сам.
Холодок выговорил эти слова с такой решительностью, таким вдохновением горели его глаза, что Вячка растерялся. Не ожидал он такой прыти от старшего воя. Холодок мечом умеет говорить, а не словами, но тут…
– Хочешь меня в Полоцк отправить, а сам Кукейносом завладеть? – пронзительным взглядом, раня душу, впился он в Холодка. Холодок побледнел, потом побагровел, прикусил губу и рухнул на колени, покорно склонив рыжеволосую голову. Широкие, обвитые кольчугой плечи его дрожали. В светлице наступила тишина, и эта гнетущая тишина, чувствовал Вячка, с каждым мгновением отдаляла его от верного воя.
– Встань, Холодок, – сказал он, – не к лицу полочанину стоять на коленях. Только перед богом мы на коленях стоим.
– Князь, отпусти в Полоцк, – хрипло попросил Холодок, не поднимая головы. – В монастырь пойду. Чернецом стану. За тебя и за Кукейнос буду молиться.
– Встань, – будто не слышал его слов Вячка. – Не годится князю раба своего просить, но я прошу. Забудь мои слова. Не подумавши сказал. Как воробей, вылетело слово, и не поймаешь его. Я знаю, ты верен мне.
Холодок медленно поднялся. Бледный, ни кровинки в лице. Он все еще не отваживался глянуть в глаза князю.
– Пошли драть перья с тевтонских гусей, – решительно и даже, казалось, весело промолвил Вячка, широко распахнув дверь светлицы. Они спустились на первый ярус терема, прошли по длинному узкому коридору, где на стенах днем и ночью горели факелы. На пол от них ложились черные страшные тени, переломленные посередине. Гулкое эхо перекатывалось под мрачными сводами. В самом конце коридора Вячка вытащил факел из турьего рога, прибитого к стене, и стал спускаться по неровным каменным ступеням в подземелье. Воздух тут был спертый и очень холодный. Ощущалась близость реки – вода крупными блестящими каплями сочилась по стенам подземного хода. Вячке вдруг подумалось, что это плачут жалобными слезами глаза людей, много лет назад встретивших смерть в этой кромешной тьме. Вячка ударил ногой в низенькую дубовую дверцу и вместе с Холодком вошел в застенок.
Это был локтей на пятнадцать в длину и ширину склеп с каменным скользким полом, очень высоким потолком. В потолок был вбит массивный железный крюк, через который пропущены многочисленные ремни и веревки дыбы. Печка, сложенная из круглого полевого камня, ютилась в самом углу склепа. Там на огненно-красных головнях добела раскалялись клещи, ножи, тонкие острые спицы.
Вспотевший палач в высоких черных кожаных сапогах, в красном переднике отдыхал, сидя возле печки с кнутом в руках. Его подручный, широкоплечий светловолосый здоровяк, крутил ручку коловорота, натягивая ремни дыбы, на которой трещали кости Братилы. Тевтон с окровавленной спиной лежал на охапке желтой соломы и тихо стонал. Палачи, заметив Вячку с Холодком, встали, поклонились им в пояс.
Жестокий был век. Жестокий и кровавый. Людей десятками и сотнями сжигали в огромных деревянных клетках. Женщин и грудных детей сажали на кол. Живое человеческое тело рвали клещами, протыкали спицами, распиливали пилами, расплющивали дубовыми брусами и камнями. В Германии отрезали языки крепостным крестьянам, в Византии вырывали глаза порфироносным императорам. «Оставим им только глаза, чтобы оплакивать свои беды!» – такую надпись приказал выбить на скале о своих врагах дохристианский царь Навуходоносор. В христианский век не оставляли и глаз.
– Что выпытали? – строго глянул на палачей Вячка.
Старший палач, кивнув головой в сторону Братилы, хрипевшего на дыбе, сказал низким простуженным голосом:
– Мураль признался, что хотел убить тебя, князь. И княжну Софью украсть.
– А тевтон?
– Молчит. У тевтона шкура крепкая. Вячка подошел к пленному, сел перед ним на корточки, спросил:
– Кто ты?
Тевтон глянул на него мутным взором, тихо ответил:
– Граф Гадескальк Пирмонт, божий пилигрим. Служу апостольской церкви, рижскому епископу Альберту фон Буксвагену.
Голова его упала на грудь, в горле заклокотало, и он прохрипел, словно в забытьи:
– Недосягаемая мечта мужчины – умереть там, где родился.
– За что ты хотел убить меня? Я князь этого города, король, по-вашему.
– Ты не король. Ты королек. Король Владимир сидит в Полоцке. Ты – бельмо на глазу нашей церкви, а у церкви должно быть орлиное зрение, ведь только ей дано увидеть будущее этого края.
Вячка прищурился, сжал зубы, подошел к дыбе, на которой корчился Братило.
– Из-за чего, мураль, оделся в собачью шкуру? Хлеба и меда было мало? Отвечай, пес.
– Грешен, – простонал Братило и зашептал окровавленными губами: – Боже, не оставь меня… Укрепи душу мою… Дай силу…
– Ты умрешь, – сказал ему Вячка. – Ты это знаешь. Очисти душу перед смертью. Скажи, кто прошлым летом предупредил тевтонов о том, что князь Владимир пойдет на Ригу? Кто?
Палач начал медленно вытаскивать из печки раскаленную острую спицу. Братило глянул на палача, на эту спицу. Он вспомнил пальцы матери, нежные, ласковые. Когда, совсем маленький, он просыпался, мягкие пальцы матери гладили ему щеки. Вся обессиленная плоть Братилы затрепетала перед новым мучением, он каждой клеточкой тела ощутил, что дошел до последней черты, после которой не выдержит, лопнет, как глиняный горшок, сердце. Он глухо выдохнул:
– Боярин Долбня из Полоцка.
– Снимите мураля с дыбы, – приказал Вячка. – Пусть ночью дьяк исповедует его, приготовит к смерти.
Палачи засуетились, начали сматывать, скручивать, как пауки паутину, свои смертоносные снасти.
– Что будем делать с тевтоном? – спросил у Вячки Холодок.
При этих словах граф Пирмонт встрепенулся, открыл глаза и неожиданно для всех засмеялся. То был не смех сумасшедшего, у которого от страха или боли душа сбивается со светлой тропы. Тевтон смеялся весело, широко, и глаза его сияли разумом и непреодолимой силой. Палачи и Холодок с недоумением и растерянностью поглядывали на Вячку.
– Смеешься? – прикусил губу князь. – Неужто тебе, граф, так весело умирать? Неужто не хочется дожить до старости, до белого волоса и черного зуба?
Тевтон с презрением посмотрел на молодого князя. Потом приподнялся, сел на окровавленной соломе, обхватив колени сильными загорелыми руками.
– Я не боюсь смерти, – твердо сказал Пирмонт. – Убей меня, чтобы я скорее предстал перед божьим престолом. Убей меня, грязный трусливый королек.
Он снова засмеялся.
– И боли я не боюсь. Плюю на твоих кровавых шкуродеров. Я из ордена «Братьев рыцарства Христова». На своем белом плаще под вышитым красным крестом я ношу красный меч.
– Меченосец, значит? – с ненавистью глянул на тевтона Холодок.
– Меченосец. Я владею мечом так, как ты не владеешь своей грязной ложкой, хлебая свинячью похлебку.
– Князь, повели, и я отрублю ему голову, – потемнев лицом, умоляюще глянул на Вячку Холодок.
Но Вячка молчал. Что-то сдерживало его. За свою недолгую, но суровую жизнь он понемногу научился обуздывать свой гнев. Так твердой сильной рукой на всем скаку осаживают горячего боевого коня, стальными удилами разрывая ему губы. Вячка слушал похвальбу тевтона и молчал.
– Трусливые черви, – плевался кровавой слюной Пирмонт.
– Прикажи, князь, – просил Холодок, медленно вытаскивая из ножен меч.
– Я попал в западню. Я проиграл не в рыцарском поединке, не в чистом поле, а в подземной мышеловке, – продолжал тевтон. – Мне не повезло. Но я умру героем и получу небесный венец от Христа.
– Твоя судьба в твоих руках, – с холодной усмешкой ответил наконец Вячка. – Если ты не пустозвон, а отважный воин, если в жилах твоих красная кровь, а не тухлая болотная вода, через три дня я скрещу с тобой меч и копье. Мы сойдемся с тобой в поединке. Кто кого выбьет из седла, того и верх. Так сказал я, князь Кукейноса. Молись своему латинскому богу, тевтон.
Вячка ударил ладонью по рукояти своего меча, упрямо, как перед прыжком, наклонил голову и, не глядя ни на кого, стремительно вышел из подземелья.
Глава первая (часть III)
Утреннее солнце несмело вставало над землей, накалываясь на зубцы заречного леса. Первые его лучи упали на колокольню православной церкви, потом на княжеский терем. Осмелев, набравшись силы, они пошли гулять по узким улочкам Кукейноса. Многоголосый и бодрый, просыпался город. Звонко постукивали в кузнице тяжелые молотки. С двинского берега, где густо стояли купеческие струги, слышались голоса артельщиков, скрипели сходни, по которым полуголые загорелые грузчики носили огромные серо-желтые глыбы воска, кипы звериных шкур, крицы свежеплавленного железа, амфоры с заморским вином, лубяные корзины со свежей рыбой, зерном, солью. Опустили подъемный мост, и пастухи погнали на пастбище коров, свиней, коз и овец. Мелкий стук копыт, звон нашейных колокольчиков на какое-то мгновение заглушили все остальные утренние голоса и звуки. Ремесленники раздували свои горны, бессчетное множество дымков заструилось в голубое бездонное небо, вкусно запахло свежим хлебом. Бегали, смеясь и крича, дети. Уныло, тягуче гнусавили нищие, странствующие калики. Хозяйки спешили к соседкам: всегда интересно узнать, что варится в чужом горшке. Боярские дочки, вздыхая о женихах, терпеливо устраивались за веретенами с пряслицами из красивого розового шифера.
В этот час князь Вячка садился на своего боевого коня Печенега. Смоляно-черный с рыжинкой конь сердито грыз удила. Багровое солнце заглянуло на княжеский двор, и медные отблески пробежали по гладкой конской спине. Предков Печенега пригнали в свои табуны полоцкие князья, когда вместе с русскими князьями ходили в полуденные степи воевать с безбожными торками.
На Вячке сверкала кольчуга, сплетенная из толстых кованых колец. Под кольчугу он надел синюю, до колен рубаху. На голове – высокий железный шлем с наносником, с вырезами для глаз, с кольчужной сеткой-бармицей, защищавшей шею и плечи. В левой руке князь держал ярко-красный щит с изображением святого Георгия, полоцкого заступника. Щит был не круглый, а миндалевидный, со срезанным верхом. Он прикрывал князя от подбородка до колен. На ноги были натянуты кольчужные чулки и остроносые сапоги из твердой турьей кожи со шпорами-шипами. В правой руке Вячка сжимал копье с четырехгранным бронебойным лезвием. Копье – оружие первого удара, и Вячка, как и все полочане, хорошо владел им. На поясе у князя висел длинный прямой меч в красивых, инкрустированных желтым металлом ножнах. Этим мечом можно было и рубить, и колоть, и пробивать наборные доспехи, которые с недавних пор вместо кольчуг стали надевать тевтонские латники.
Вячка вскочил в высокое седло, почувствовав, как напрягся, затанцевал под ним Печенег. Хорошая примета, если танцует, рвется в сечу боевой конь. Круп коня старательно укрыт кожаной попоной, на груди и на шее звенят разноцветные металлические пластинки.
Ристалище, место для поединка, было выбрано во дворе княжеского терема. Вячка видел мышиную возню слуг, строгие лица своих воев, густые лохматые бороды бояр и простолюдинов.
Напротив Вячки, на другом конце двора, нетерпеливо привставал в седле граф Гадескальк Пирмонт. Жизнь снова светила тевтону всеми своими звездами. Он не сомневался в своей победе над этим аборигеном. Отец его, граф Годфрид, в детстве съел волчье сердце, влив в кровь своих потомков силу, хитрость и жестокость. «С мечом я играл еще в колыбели», – гордо думал молодой тевтон, и ярость бушевала в нем, как буйная майская гроза над Рейном. Ему вернули его меч, верный острый меч, на клинке которого немного ниже рукояти были выбиты мастером-оружейником два магических слова: «Пей кровь».
Чем не рыцарский турнир ждет его? Есть противник, есть стремя под ногой, есть меч в руке, есть зрители, – они шумят, волнуются, как серое беспокойное море. (Почему от этого народа так несет прокисшей овчиной?) Есть даже герольд, юный, совсем мальчишка. Вот-вот затрубит в охотничий рог, даст сигнал. Нет только Дамы сердца. Нет той, к чьим легким ножкам кладут сладкий груз победы. Скорей же, скорее труби, герольд! В рай идут по лезвию меча.
Граф Пирмонт был одет в кольчугу с длинными рукавами, с капюшоном, прикрывающим голову, поверх которого он натянул мягкую шерстяную шапку с толстым валиком. Шапку венчал стальной шлем, похожий на ведро, с отверстиями для глаз, с дырочками для дыхания. Эти доспехи вои князя Вячки сняли три дня назад с убитого тевтонского латника, когда тевтоны пробовали отбить и угнать в замок Ашераден кукейносское стадо коров и коз.
Запел, вскрикнул рог. Граф Пирмонт ударил коня шпорами, поднял его на дыбы, твердой рукой направил навстречу противнику. Комья влажной темно-рыжей земли брызнули из-под тяжелых копыт. Покачнулось, заскрипело седло с высокой передней лукой, оберегающей живот от таранных ударов копья.
Пригнувшись, выставив вперед копья, прикрыв голову и сердце щитами, Вячка и тевтон рванулись навстречу друг другу. Будто два смертоносных страшных единорога столкнулись меж собой. Стон металла разрезал тишину. Это было первое столкновение, первая сшибка, во время которой проверяется мощь рыцарского оружия и рыцарского плеча. Оба не покачнулись. Только кони от страшного удара присели на задние ноги.
Тевтон готов был запеть. Боец, который никогда не был избит до синяков, не может, гордый духом, вступить в единоборство. Кто видел свою кровь, чьи зубы скрипели под кулаками противника, кто, распластанный на земле, втоптанный в нее врагом, не терял мужества, кто поднимался еще более непоколебимый, как бы его ни сбивали с ног, тот идет в бой с великой надеждой. Награду за терпение получают в храмах победы.
Так думал граф Пирмонт, поворачивая коня, чтобы снова ринуться на Вячку. Казалось, все миннезингеры Саксонии, Тевтонии и Швабии пели сейчас ему.
Он нанес мощный удар копьем. Так бьет в дубы яростный разряд молнии. Но князь Вячка, еще юношей игравший с камнями-жерновиками, поднимая их на грудь и бросая на пятнадцать локтей, встретил удар щитом. Щит был из трех слоев бычьих шкур, стянутых металлическими пластинами, и все-таки копье пробило его, прошило насквозь, словно яичную скорлупу.
Этот удар, в который тевтон вложил столько силы и страсти, дорого стоил ему – копье застряло в щите, как в пасти дракона.
Вячка размашисто, в упор бросил свое копье в тевтона. Копье сбило шлем, и тевтон покачнулся в седле. Правой рукой Вячка в мгновение ока выхватил из ножен меч, ударил по копью противника, перерубил древко. Тогда и тевтон схватился за меч. Столкнулись лезвие с лезвием, искры посыпались красным дождем. Ярость всадников передалась коням. Белая пена клубилась у них в ноздрях. Они ржали, храпели, кусали друг друга.
Улучив момент, Вячка пробитым щитом ударил тевтона по голове, одновременно пырнув его в грудь клинком меча. Кольчуга спасла тевтона, но он сбил дыхание, стал судорожно глотать ртом воздух. Глаза заливал густой липкий пот, который не было времени вытирать – руки заняты оружием, противник атакует.
И все-таки граф Пирмонт не сомневался в победе. От отца он знал, что их род начался с викинга Конрада, некогда захватившего Сицилию и штурмовавшего Неаполь. Конрад был берсерком. Перед битвой берсерки находили красные мухоморы и ели их. Жгучий грибной сок пьянил их, возбуждал, доводил до бешенства. Они кричали, выли, танцевали с мечами в руках, кусали щиты и с дикой неодолимой силой бросались в атаку. Один берсерк, не чувствуя ран, мог уложить десятки врагов. В сердце Пирмонта кипела кровь берсерка, и он бил и бил мечом, не замечая усталости, горького пота, заливавшего глаза.
Однако он недооценивал Вячку, как и вообще всех местных жителей: полочан, латгалов и селов, которых пренебрежительно называл сыроедами. Не знал он, что кривичи вместе с полянами, вятичами, древлянами еще за несколько столетий до его рождения в боевых ладьях переплыли бурный Понт, заставили греческого императора выйти из столицы с золотым венком мира в руках и прибили свой боевой щит к воротам Царьграда. Это было племя земледельцев, племя пахарей, но гордое, нетрусливое, ибо в часы смертельной опасности за оружие вместе с мужчинами брались и женщины.
Уже в десять лет Вячка – он жил тогда в Друтеске – учился драться на длинных дубовых шестах, а потом на копьях с тупыми наконечниками. Не один шрам носил он на теле и всегда помнил отцовскую заповедь: «Сын, никогда не подставляй под удар спину».
Солнце тем временем выстрелило из своего золотого лука, залив густыми лучами терем, церковь, ристалище, вокруг которого то радостно шумела, то напряженно замирала огромная толпа. Все желали победы своему молодому князю, все волновались за него. А в холодном подземелье Братило, доживающий свои последние минуты, жадно вслушивался, ловил все эти голоса, этот людской гомон. Шум ристалища, шум боя был тем единственным ручейком, который проникал во тьму заключения и связывал его с жизнью. Ему хотелось, чтобы поединок длился бесконечно.
– Дева Мария, помоги мне! – неистово вскричал тевтон и снова ударил мечом. И в эту минуту кормилица Тодора вынесла из терема княжну Софью. Вячка увидел маленькое бледное личико, темные шелковистые бровки. Дочь испуганно смотрела на него, она казалась мягкой беззащитной белочкой, которая осторожно высовывает головку из своего дупла и которой так хочется, так не терпится глянуть на широкий непонятный мир, где ее могут убить, снять и бросить на землю теплую шкурку.
Разгоряченные взмыленные кони сталкивались грудью, тяжело, со стоном и хрипом, дышали. Печенег заржал, он словно просил помощи. Вячка уклонился от удара тевтона, – меч глухо просвистел в пяди от головы – и острием своего меча кольнул в узкую загорелую полоску шеи, которая на миг мелькнула перед ним. Тевтон взмахнул руками, выпустил меч и упал с коня лицом вниз. Нога зацепилась в стремени. Конь сразу же остановился, осторожным виноватым взглядом уставился на хозяина.
Вячка соскочил с Печенега, правой ногой наступил тевтону на грудь и занес над ним меч. Светлые усталые глаза без страха смотрели на князя. Только на миг блеснули в них удивление и холодная печаль.
– Бей, – тихо сказал тевтон.
Радостно загудела, закричала толпа, воины взмахнули мечами, тевтон сжался, съежился на вспаханной конскими копытами земле, и тут Вячка услышал слово. Одно-единственное слово из моря слов:
– Батюшка!
Это вскрикнула дочь Софья.
Он оглянулся, и меч дрогнул в его руке. Ему расхотелось обрывать нить чужого дыхания.
– Княжна Софья дарит тебе жизнь, – сказал он Пирмонту. – Молись за нее, тевтон.
Пирмонт молчал. Он был похож на человека, только что снятого с креста. Ему казалось, что с небес, из-за белых облаков, смотрят предки-рыцари и проклинают его за свою растоптанную честь. Почему не гремит, не скрежещет зубами гром?
Кукейносцы ликовали, славя на все голоса своего князя. Толпа любит тех, кто побеждает. Самый слабый, самый маленький и ничтожный из толпы чувствует себя в такие минуты победителем.
– Слава! Слава! – гремело вокруг.
– Рубон! – потрясали мечами дружинники князя.
– Рубен! – торжествующе поддерживала толпа. И все-таки большинство кукейносцев были недовольны тем, что князь не прикончил чужака. Они имели право на кровавое зрелище, все эти ремесленники и купцы, боярская челядь и смерды из окрестных поселений. Они требовали крови, потому что слышали от ливов, что в устье Двины тевтоны проливают человеческую кровь реками.
– Князь, возьми его живот! – яростно требовала толпа. – Убей тевтона!
Вячка снял с головы шлем, встряхнул слипшимися волосами. Постепенно успокаивалась разгоряченная поединком кровь. Он сорвал пучок травы, вытер ею меч, со скрежетом загнал меч в ножны.
– Убей! Убей! – ревела толпа.
Он поднял вверх десницу в боевой перчатке.
– Убей! – кричала женщина, державшая на руках ребенка.
– Убить легко, – сказал Вячка, и сразу смолкла, словно онемела, толпа. – Жизнь отлетает от человека, как птичье перышко. Человеческую выю можно перещипнуть двумя пальцами. Я не жалею его, – глянул князь на тевтона, который сидел на песке, обхватив голову руками. – Он шел убить меня. А сейчас он словно червяк, на которого могучим копытом наступил зубр. Он лежит у моих ног, а хотел сидеть на моей груди и обрезать мне уши. Там, – резко взмахнув рукой, Вячка указал на запад, – его братья точат ножи, чтобы отрубить нашим воям головы, вьют веревки, чтобы связать и угнать в неволю наших жен и детей. Там насыпают в лари зерно, чтобы засеять им могилы наших предков. Я, князь Кукейноса Вячеслав, говорю: отпустим его, сохраним жизнь кровавому татю, чтобы там, в Риге, услышали наши слова. А слова такие: мы не хотим войны ни с рижской церковью, ни с орденом тевтонов. Не мы к ним, а они приплыли к нам. Пусть глянут на небо, пусть увидят божий престол. И бог скажет им: остановитесь! Остановитесь, ибо анафема ждет вас и геенна огненная. Я отпускаю тевтона, – махнул десницей Вячка.
– Слава! – закричала толпа.
– Пусть увидит тевтон, как мы умеем мстить. Приведите сюда мураля Братилу, – повелел воям князь.
Обессиленного, искалеченного Братилу вытащили, словно бревно, из подземелья, поставили перед онемевшей толпой. Он с трудом держался на ногах. И тут, расталкивая людей, выбежала вперед знахарка Домна.
– Светлый наш князь, – упала она в песок перед Вячкой, – не губи моего сына. Пожалей меня, твою черную рабыню. У тебя тоже есть дитя. Пожалей моего Братилу. Я ж твою доченьку лечила и еще лечить буду. Вечно за тебя, светлый князь, богу молиться буду. Пожалей!..
– Твой сын – тать и убийца. Он хотел убить меня, князя, – строго ответил Вячка. – Иди в терем, женщина. Домна подползла к сыну, обвила руками его ноги.
– Зернышко мое… Солнышко мое… А как же ты маленький был и зубик у тебя первый вырос, да потом выпал, завернула я тот зубик в полотно, бросила за печь и сказала: «Мышка, мышка, на тебе лубяной, дай мне костяной…» Истлеют теперь твои зубки в сырой земле…
Она заголосила, забилась в отчаянии, хватая горстями серо-желтый песок и посыпая им седую голову. Братило глядел на нее и, казалось, не узнавал ту, чей голос пугал его ночью, когда он вместе с тевтоном лез через кукейносские заборолы. Голос пропал. Легко было душе без того голоса.
– Палач, – решительно сказал Вячка, – верши суд и дело.
Палач со своими помощниками связал Братиле руки и ноги веревкой, сплетенной из конского хвоста. Потом Братилу всунули в большой кожаный мешок.
– Тевтону дарят жизнь, а моего сына убивают?! – вскрикнула старая знахарка, разъяренной волчицей вскакивая на ноги. Казалось, горе омолодило ее, – дико заблестели глаза, смелыми и уверенными сделались движения. С головой, посыпанной песком, она подбежала к Вячке, став напротив него, гневно заговорила: – Зашивай в мешок обоих. И тевтона зашивай. Пусть река берет две души, а не одну. Слышишь, князь?
Вячка молчал. С удивлением смотрел на свою рабыню. Заговорил камень! Заговорила сама земля. Старая воробьиха замахнулась слабым общипанным крылышком на льва. Чудеса! Да он сейчас же прикажет вытрясти душу из этих старых желтых мощей. Раб должен молчать, склонив шею, когда говорит или думает хозяин.
– Слышишь, князь? – не отступала Домна. Он видел серый мох бровей, в которых желтели песчинки.
– Нездил, – сказал Вячка вою, первым попавшемуся на глаза, – этой женщине тут не место. Отведи ее в терем.
Нездил был молодой, широкоплечий и послушный. Он поднял знахарку на руки и понес в терем. Женщина заливалась горькими слезами.
Братилу вот-вот должны были зашить в мешок. Последние минуты сияло над ним небо. В последний раз шевелил волосы ветер, вольно взмывающий над Двиной, над Кукейносом. В толпе Братило заметил латгала Стегиса. Латгал стоял с охапкой дров в руках, худые щеки его нетерпеливо подергивались – видно, спешил затопить вовремя все печи в княжеском тереме.
– Благослови, отче, – сказал Братило дьяку, который в отсутствие иерея Степана вел службу в кукейносской церкви.
– Бог благословит, – хмуро выдохнул дьяк, однако перекрестил Братилу сухой щепотью.
Когда длинный нескладный мешок несли к реке, людям показалось, что из него, из тьмы предсмертной, доносилось тихое всхлипыванье…
Тевтона же отпустили в Ригу, только не верхом и даже не пешком. Соорудили небольшой плотик с шестом посередине, посадили на него и крепко привязали к шесту графа Пирмонта. Он только сопел, опустив голову.
– Плыви к епископу Альберту, – сказал ему Вячка. – Если бог за вас, тевтонов, то небо напоит тебя водой, а чайки не выклюют глаза. Если бог за вас, река не затянет тебя в водоворот и ливы из прибрежных кустов не всадят в бок копье. Скажи рижской церкви, что тут, в Кукейносе, живут христиане, такие же, как вы, и негоже вам проливать христианскую кровь.
Вячка с дружиной взошли на заборолы и долго глядели на реку, по которой плыл тевтон. Плот покачивала стремительная двинская волна, он отдалялся, уменьшался, вот превратился в щепку, в комара, исчез…
Переночевав в Кукейносе, Вячка на рассвете со стягом Холодка, с пятнадцатью латгальскими лучниками старейшины Ницина отправился верхом в стольный град Полоцк. Перед самым отъездом вместе с переписчиком пергаментов Климятой он взобрался на песчаный, поросший березняком откос, круто подымавшийся над Двиной. Тут артель каменотесов трудилась над огромным камнем-писаником.
Много камней с незапамятных времен дремало на этой земле. Их вырвал из объятий суровых северных гор ледник, приволок сюда и, обессилев, бросил в дремучих лесах, на зеленых лугах. Большинство из них стерлось на орех, на горох, но некоторые, великаны из великанов, пугали людей своими необычайными размерами. На этих камнях полоцкие князья, начиная с Рогволода, повелевали вырезать свои имена. Смерды и ремесленники писали на бересте, князья – на камнях.
Камень, перед которым в почтительном молчании остановились Вячка и Климята, был похож на огромного старого тура, дремлющего в тени под несмолкаемый шум берез. Серо-рыжими клочьями свисал с него мох. Сколько человеческих жизней весенними ручьями отзвенело возле него! Сколько еще отзвенит!
Вячка с волнением смотрел на молчаливую громадину. На камне был выбит большой шестиконечный крест и под ним слова: «В лето 6714-е, в серпеня десятый день возведен этот крест. Боже, помоги рабу своему Вячке».
С сегодняшнего дня, как венок, брошенный в реку времени, поплывет вдаль его имя. С этого дня он уже не властен над своим именем. Разрушится, исчезнет грешная плоть, сотрутся следы на земле, а этот камень будет возвышаться над рекой, над вольной синей дорогой. И когда-нибудь в какой-нибудь недосягаемо далекий день поплывет тут под смелым белым парусом молодой вой или молодой купец. О чем он подумает, увидев этот камень, прочитав надпись? Хоть бы на миг отодвинуть черную завесу лет, заглянуть бы в тот день…
Путь их лежал на восток, по правому берегу Двины, где меж лесов и болот пролегала старая дорога, по которой полоцкие князья со своими дружинами ходили собирать дань с латгалов и ливов. Вячка вел воев с большой осторожностью, боясь нападения литовцев и их союзников-селов, которые в этих местах переправляются через Двину, чтобы совершать набеги на земли эстов. Через три дня на противоположном берегу реки увидели высокий земляной вал Селпилса, главного городища селов. Над ним поднимались столбы черного дыма, наверное, селы жгли сигнальные огни. Несколько челнов с вооруженными селами погнались по реке за дружиной Вячки, но вскоре отстали.
За Селпилсом начались владения герцикского князя Всеволода. На герцикской земле было пятьдесят замков, множество укрепленных пригорков, за стенами и валами которых люди прятались во время опасности. Наиболее мощным, богатым и красивым был Герцике, шумный людный город с двумя православными церквами, с грозным княжеским теремом, с роскошными усадьбами бояр и купцов. Герцике нельзя было обойти, да Вячка и сам давно хотел встретиться с князем Всеволодом.
Ночевали под открытым небом. Холодок и старейшина латгалов Ницин поставили дозорных, приказали разжечь костры, готовить ужин. Засыпали леса. Свернувшись в клубок, засыпало в темени лесов зверье. Небо смотрело вниз бессчетными золотыми глазами.
Нелегкие думы тяготили Вячку, когда, подложив под голову седло, он старался уснуть на лосиной шкуре, которую всегда брал с собой в дорогу. Не обрадуется его приезду великий князь полоцкий Владимир Володарович. Скажет: «Зачем оставил свой удел? Что ты все бегаешь, князь? Сиди спокойно в Кукейносе, с тевтонами не задирайся, пропускай их купцов по Двине. Полоцку пока рано воевать с Ригой. Если б только Рига стояла против Полоцка. Сам Рим стоит с папой Иннокентием, латинский мир стоит со своим рыцарством, Священная Римская империя стоит. Задушат, глазом моргнуть не успеем… Сиди спокойно в Кукейносе». Будто он, Вячка, пугливый слепой крот. Будто не течет в его жилах кровь неукротимого Всеслава, меч которого знала вся Русь от Новгорода до Тмутаракани. Да что может сделать он один, удельный князь, младший князь, слуга великого князя?
Только под утро заснул Вячка. Из унылых торфяных болот, из темных, залитых росой лесов медленно выплывало солнце, словно красный, обожженный пламенем бесконечных битв щит грозного бога Сварога. Багряный отсвет перекатывался по речной и болотной воде, по деревьям, по траве. Табуны серн бежали на водопой, а потом купались в голубых лесных озерах, разбрызгивая во все стороны блестящие ночные звезды, спавшие на дне озер. Могучие туры неторопливо брели в молчании утренних лесов, терлись выпуклыми лбами о стволы деревьев. Первые птицы поднимались на крыло.
И снова звенело стремя, скрипело седло, мягко билась о колено седельная сума. Под алыми плащами у воинов поблескивали кольчуги. На красных щитах, на железных нагрудниках, налокотниках, наколенниках, на мечах и боевых секирах горело солнце.
Латгальские лучники старейшины Ницина были в круглых рысьих шапках, окаймленных медными бляшками. Сине-черные плащи были застегнуты у каждого из них на плече пряжкой-сактой.
По правую руку искрились воды утренней Двины. Суетливые чайки купались в солнечных лучах. Лось, горделиво подняв крылатую корону рогов, спокойно плыл поперек реки, разрезая широкой грудью бурное течение.
Вышел из воды, стряхнул со шкуры холодные капли, постоял немного и медленно двинулся в глубь латгальских лесов.
Под самый полдень, когда устали кони, когда у всадников от зноя и долгой тряской дороги начало звенеть в висках, донесся острый пьянящий запах горячего дыма. Он густел, забивал коням ноздри. Вои начали тереть кулаками глаза, кашлять.
– Князь, что это?! – вскрикнул Холодок. Впереди, из заросшего чахлыми травами болота, прямо из недр земли, вырывался широкими желто-синими клубами дым.
– Подземные черти еду себе варят, – тихим испуганным голосом, но так, что услышал Вячка, прошептал младший дружинник Грикша.
Дружина остановилась. Все глядели на Вячку, ждали его слов.
– Это земля горит, – помолчав минуту-другую, сказал Вячка. – Только вот кто поджег ее?
– Селы, – убежденно заговорил старейшина латгалов Ницин. – Не хотят пустить нас в Полоцк. Им надо, чтобы мы повернули назад. Только селы могли зажечь эти проклятые болота…
Вячка бросил взгляд на Ницина, спросил:
– Что же у селов против Кукейноса?
– Они союзники литовцев.
– Ну и что?
– А Литва, как тебе известно, князь, в последнее время поднимает голову, хочет владеть всей Даугавой. Литовские кунигасы растят в лесах свои дубины.
Это Вячка знал. И про дубины литовские слышал. Идет литовец в лес, выбирает себе молодой дубок. Осторожно, чтобы не ранить, очищает от сучьев сверху до самого низа. Потом рассекает кору, втыкает в расщелины острые ребристые кремни, которые постепенно врастают в дерево, да так врастают, что кажется – дуб таким вырос прямо из желудя. Через некоторое время готова боевая дубина, которую литовцы называют мачугой. Не один тевтонский череп хрустнул, как гнилой орех, под литовской мачугой.
– Литва поднимает голову, это правда, – после некоторого молчания сказал Вячка. – Однако нам надо, чтобы ее дубины били не по нас, а по меченосцам. Скоро мы будем в Герцике, Ницин. А там держит власть Всеволод, вассал Полоцка. В жены он взял дочь литовского кунигаса Довгерута. Всеволод – верный друг литовцев, и они не нападают на его княжество. А почему? Только потому, что он зять Довгерута? Нет, Ницин.
Вячка погладил по длинной черной гриве Печенега, который нервно перебирал ногами, принюхиваясь к тяжелому смрадному запаху горелой болотной земли.
– Слышал я от своего отца, князя Бориса Давыдовича, про византийский плен полоцких князей. Когда умер великий князь киевский Владимир Мономах, тот, что от гречанки византийской был рожден, Полоцк взбунтовался против его сыновей, не принял их. Тогда Мстислав, сын Мономаха, с большой силой и лютым гневом пошел на Полоцк. Шли с ним кияне и куряне, торки и новгородцы, Ростислав Мстиславович из Смоленска, Всеволод из Городни, Вячеслав из Клецка. Со всех сторон шли. Сожгли Логожеск, взяли в плен князя Брячислава Логожеского. Потом разрушили Изяслав, обложили Полоцк. Кончилось тем, что на полоцкий престол посадили Рогволода Друцкого, киевского угодника, а полоцких князей с женами, с чадами малыми выслали в Византию, в Царьград. Да не весь, как рассказывал мне отец, полоцкий княжеский дом был уничтожен. Несколько младших удельных князей с дружинами подались в Литву, в леса и болота, осели там, силы набрались, с Литвой породнились. И теперь в лесах литовских есть такие кунигасы – полоцкой кости-крови. Крепок полоцкий корень – огнем не сожжешь, мечом не вырубишь, не вырвешь.
Вячка внезапно умолк – прямо на него мчался охваченный пламенем могучий дикий вепрь. Видно, зверь ослеп от огня и дыма. На нем тлела щетина, он визжал от боли, и боль его превращалась в яростный, неудержимый гнев.
– Берегись, князь! – раздались крики воев. Несколько копий полетели навстречу вепрю.
Вячка резко повернул Печенега, и огненный вепрь, вспарывая страшными клыками воздух, промчался рядом со стременем.
Холодок с плеча ударил зверя копьем в ухо, свалил на траву.
Вои спешились, бросились свежевать неожиданную добычу. А Вячка только теперь почувствовал проступившие на переносице капли холодного пота. Визг смертельно раненного зверя стоял в ушах.
– Славно у тебя получилось, славно, – сказал Вячка, подъехав к Холодку, который отчищал в песке от крови широкий наконечник копья. Холодок глянул на Вячку яркими синими глазами, радостно улыбнулся.
Передохнули, порезали, посолили мясо, набили им переметные сумы и двинулись дальше. Дым застилал все вокруг. Из едкой мглы доносился мелкий перестук копыт – лесное зверье спасалось от смерти. Где-то в лесу скрипело надломанное дерево, словно звало на помощь. Совсем недалеко грузно вошел в воду, тяжело и неловко поплыл огромный тур. Сажа летала черными хлопьями, оседая на конских головах.
Вдруг Холодок, который ехал по левую руку от Вячки, с шумом и треском провалился вместе с конем в огненную яму. Огонь выел сухой торф на несколько локтей вглубь, а сверху остался только тонкий слой вытоптанной желтой травы. В эту западню и рухнул обеими передними ногами конь Холодка, сломав себе шею.
Вои растерянно остановились, начали поворачивать коней назад. Да кони и сами не ступили б ни на пядь вперед – ведь там, в дыму, в огне, страшно храпел, погибая, их четвероногий товарищ.
– Холодка забрал Жижель, властелин подземного огня! Спасаемся! – испуганно закричал тонкий юношеский голос. Это снова был Грикша.
Вои, нещадно пришпоривая коней, толпой хлынули назад. Возле ямы, в которую провалился Холодок, остались Вячка, Ницин и почему-то Грикша. Наверное, младший дружинник так испугался, что руки и ноги перестали его слушаться.
Вячка сначала остолбенел от неожиданности. Но спустя мгновение он соскочил с Печенега, сжимая в руке копье. Щуря глаза от искр и дыма, не побежал и не пошел, а пополз к яме. Так он не раз делал ранней зимой, когда лед был тонкий и легкий, как дыхание, и когда вместе с дружиной надо было неожиданно для селов и литовцев совершить набег на их берег.
Он дополз до ямы, протянул Холодку конец копья. Вой схватился за копье, высунулся по пояс из дымящейся западни, и в эту минуту бросили аркан, смоляной пеньковой веревкой обвили грудь и вытащили его на безопасное место.
Холодок лежал с закрытыми глазами и, казалось, не дышал. На лицо ему лили, приводя в чувство, холодную двинскую воду, принесенную воями в шеломах.
Когда Вячка наклонился над ним, Холодок с трудом поднял короткие обгоревшие ресницы и прошептал:
– Я тебя, князь, копьем спас, а ты меня… Мы – братья по копью. Спасибо тебе…
И обессилено опустил веки, погасил синее пламя глаз. Веснушки на его красивом прямом носу напомнили о желтых звездочках меда на белом молоке.
Вячка почувствовал, как радость и непонятная нежность мягко окутывают его сердце. Он всегда любил отважных, красивых людей, ибо сам был из их семени, и потому сказал, легонько похлопывая, словно гладя, воя по плечу:
– Мы – братья по копью.
Смастерили походные носилки – перевитые еловыми лапками ремни натянули между двумя конями – и, спустившись к самой Двине, направились в сторону Герцике. Река покорно лизала пахнувшие дымом копыта.
На третий день дороги миновали Осоцкое городище, где сидели вои герцикского князя Всеволода, или Висвальда, как называл его Ницин со своими латгалами, и наконец увидели Герцике. Город, хотел бы это признать Вячка или не хотел, был и красивее, и больше Кукейноса. Он величественно возвышался на крутом берегу, сияя золотом церковных куполов, шумел богатым людным торжищем. Посад был опоясан высоким земляным валом с дубовыми заборолами. На посаде одна возле другой теснились усадьбы ремесленников и торговых людей, весело дымили их бани. Церковь прокляла бани, назвав их поганской забавой, так как в них не только греховную плоть свою обмывают. В святые дни простые люди приносят в бани, прячась от попов, яйца и масло и оставляют своим покойникам. Съедят мыши приношения, не оставив ни крошки, а все думают, что в бане предки ужинали, потомков своих хвалили. Как бы там ни было, а бани в Герцике дымили весело, и всем было видно, что живет тут веселый здоровый народ, ведь только веселых любит горячая баня.
Для дружины князя Вячки опустили подъемный мост, затрубили в боевые трубы на городском валу. На высокой надворотной башне, охраняющей вход в город, взвился стяг Всеволода и Герцике – красный, с белым крестом. Не очень понравилось это Вячке. Он подумал: «Свой стяг завел князь Всеволод, хоть, как и я, подданный Полоцка. А я своих воев веду в сечу под древним полоцким стягом – белым, с храбрым всадником, поднявшим десницу с мечом».
Князь Всеволод с княгиней-аукштайткой, молодой, красивой, светловолосой, встретили Вячку на высоком крыльце своего терема. Возле князя толпились бояре, в богатом платье, в собольих шапках, несмотря на жаркое солнце.
Вячка, оставив коня воям, пошел к крыльцу, и холопы князя Всеволода раскатывали, расстилали перед ним роскошный ромейский ковер, на котором золотом были вытканы львы и орлы. «Богато живет Всеволод», – думал Вячка, твердо ступая запыленными походными постолами по заморским узорам. Ему вспоминались деревянный терем в Кукейносе, больная Софья, дикие глаза побежденного тевтона и ненависть в тех глазах. «Отсюда далеко до Риги, – думал Вячка, – но не настолько, чтобы на позолоченную крышу этого терема не упали искры от тевтонских костров».
Князь Всеволод спустился с крыльца навстречу Вячке, обнял, поцеловал в щеку, сказал хрипловатым голосом:
– Приветствую тебя, брат мой. Хлеб и мед Герцике будут твоими.
У князя были серые усталые глаза, помятое бессонницей лицо. Зато ярко сияла на нем наборная сталь – подарок епископа Альберта. Она составлялась из нескольких десятков прямоугольных и квадратных пластин, соединенных между собой ремешками. Грудь закрывала стальная круглая пластина, которую тевтоны называют умбоном. У тевтонов в Риге есть уже целый отряд воинов, одетых в наборную броню. Имя им – железоносцы.
– Мир тебе, князь, – сказал Вячка Всеволоду, потом повернулся к красавице-княгине, склонил перед ней колено:
– Мир тебе, княгиня Юрга. Поклонился боярам:
– Мир вам, люди вятшие.
Рукой в боевой перчатке широко повел вокруг себя:
– Мир тебе, славный град Герцике.
Как только он кончил, в княжеской церкви ударили в колокола. С почестями принимал князь Всеволод князя Вячку.
Надворные челядники отвели коней в конюшню, а кукейносских воев пригласили в малую трапезную отведать меда, сыграть в кости. Князя Вячку и латгальского старейшину Ницина потчевал в большой трапезной сам Всеволод. Перед этим княгиня Юрга полила им на руки из золотого ковша, поднесла льняные рушники.
Княгиня была одета в белое шелковое платье с вышитым серебряным узором. Плечи облегало голубое, затканное золотом корзно. Большая золотая гривна блестела на тонкой нежной шее – Вячка заметил синюю жилку, пульсирующую на ней. Обута была княгиня в красные сафьяновые сапожки. На светлые, слегка вьющиеся волосы она повязала белую полотняную повязку, которую литовцы называют нуаметас. «Скучает по родине», – подумалось Вячке. Однако за столом княгиня Юрга была весела, пригубила хмельного меду, разрумянилась, как летнее яблочко. Вячка нет-нет да ловил влюбленные взгляды, которые князь Всеволод, суровый грубоватый воин, бросал на свою красавицу-жену.
Да, он любил ее, любил больше всего на свете. И когда епископу Альберту, вероломной лисе, удастся схватить княгиню Юргу вместе с ее детьми и служанками, бросить в холодную темницу, князь Всеволод, как раненый журавль, прилетит в Ригу, отдаст Альберту свое княжество, богатство, честь, откажется от прадедовской православной веры, станет рабом епископа, – только бы спасти свою жену, только бы видеть любимые печальные зеленые глаза. Но это будет позже, а в этот серпеньский вечер, в лето 6715-е, княгиня Юрга, весело смеясь («Ее голос как ручеек», – думал Вячка), наливала из кувшина хмельной густой мед.
– От пришлых тевтонов все наши беды, – сказал Вячка.
Ярко горели витые свечи в серебряных подсвечниках. Со слабым треском оплывал воск. У князя Всеволода было доброе раскрасневшееся лицо.
– Что же будем делать, князь Вячеслав? – спросил он. – Мы с тобой вассалы. А вассал, если жизнь прижмет, может найти себе нового хозяина.
– Не то говоришь, князь Всеволод, – вспыхнул Вячка. – Мы Полоцку служим, а не Владимиру Володаровичу. Своей земле служим. Она не простит нам слабости, хитрости, криводушия. Я на краю сижу, своей шкурой чувствую тевтонский огонь.
– Что же делать? – глянув на жену, переспросил Всеволод.
– Меч на меч, кость на кость надо идти.
– Дружина у меня слабая. Железа и хлеба мало, – пожаловался Всеволод. Потрескивая, пуская синий дымок, гасли свечи.
– В литовских лесах думаешь отсидеться? – отодвинул от себя корчагу Вячка.
Всеволод не обиделся. Он был человек осторожный, рассудительный, жизнь на литовском пограничье научила его осмотрительности и терпению. Слово у него всегда шло прежде меча. Он был старше Вячки на пятнадцать солнцеворотов и в душе слегка посмеивался над щенячьей горячностью молодого князя.
– Я в Полоцк иду, – не дождавшись ответа, страстно заговорил Вячка. – К князю Владимиру. Новый поход против тевтонов надо поднимать. Про поход буду с великим князем вести разговор. Готовься и ты, князь Всеволод. Все знают мужество твоих воев, силу твоих мечей харалужных. Если же не пойдешь на Ригу – погибнешь. Сначала Кукейнос растопчут тевтоны, а потом и до Герцике их кони доскачут. Готовься, князь. И тестя своего Довгерута зови со всей Литвою.
Всеволод снова, как мудрый лис, увильнул от ответа. Вместо этого сказал княгине Юрге:
– Княгинюшка, прикажи, чтобы пришли сюда гу-дошники, дудари и гусляры. Пусть потешат нас своей игрой.
Вошли музыканты, сели на лавках, обитых звериными шкурами. Седоголовый старик легко вскинул к плечу трехструнный гудок, ударил по струнам смычком. Смычок был сделан из ивового прутика и конского волоса, натертого смолой-живицей. Пронзительный голос гудка подхватили дудка и гусли, подхватили мягко, но слаженно и надежно – так широкая река принимает в свои объятия озорной ручеек.
И словно поле открылось взору Вячки. Свежий ветер вспорхнул с того безграничного туманного поля. И такая ширь, такой простор вокруг… Маленькие глазки озер тревожно блестят на далеком горизонте. Дикие гуси кричат под тучами. Костер, жаркий, искристо золотой, подмигивает из тьмы. И чья-то фигура мерещится у костра… Женщина… Мать… У нее бледное заплаканное лицо и тонкие крылатые брови… Зачем ты так рано ушла от нас, мама?
– Хочу я тебя, князь Вячеслав, к кунигасу Довгеруту пригласить, – сказал как бы между прочим Всеволод. При этих словах княгиня Юрга вскочила со своего места, весело захлопала в ладоши:
– К отцу едем! К батюшке! И поцеловала Всеволода в щеку. На следующий день пять шкутов переправились на южный берег Двины и словно в полынью провалились, затерялись в бесконечных дремучих лесах. В Герцике остался Холодок, которого начал лечить от ожогов местный знахарь, да латгальские лучники. Латгалов князь Всеволод не захотел взять с собой.
Княгиня Юрга, как и все, ехала на боевом коне. На светлых волосах красиво сидел маленький позолоченный шлем с длинным пером серой цапли. Княгиня смеялась, шутила, лицо ее светилось счастьем.
У Довгерута не было постоянного города или замка, где бы он сидел с дружиной. Неутомимый кунигас, как быстроногий олень, бегал по безграничным пущам и болотам – сегодня тут, завтра там. Только следы походных костров оставлял за собою.
Однако князь Всеволод, судя по всему, неплохо знал тропки своего беспокойного тестя, и уже на третий день, словно привидения, выскочили из леса на лохматых сильных конях аукштайты, взяли, как они обычно это делают, в кольцо воев Всеволода и Вячки. Целясь из луков, размахивая мачугами и боевыми секирами, они носились на конях взад и вперед, все туже сжимая кольцо, и дело могло бы кончиться плохо, если бы литовцы не узнали княгиню Юргу, свою Юргу.
Довгерут, с тяжелой стальной секирой в руке, с копной светлых, как у дочери, волос был опечален. Дня четыре назад у Гольма тевтонские арбалетчики подстрелили его верного воеводу, и вот теперь он умирал, захлебываясь собственной кровью, которая текла и текла у него из горла.
Из светлицы, в которой лежал воевода, вынесли все запасы семян – жита, гороха: семена, побывшие около покойника, погибнут, никогда не взойдут. Воевода умирал, и никто на всем белом свете, даже сам Перкунас и Крива-Кривейта, не мог сделать так, чтобы снова зажглось солнце его жизни.
После кончины тело воеводы обмыли в бане, одели в длинную белую рубаху, посадили на высокое деревянное кресло. Кунигас Довгерут с кубком пива в руках, взволнованный, грустный, обратился к покойнику:
– Пью за тебя, незабвенный друг. Помнишь, как славно мы били тевтонов, как ходили на эстов? Помнишь, как по несколько ночей не слезали с седла, как спали на снегу и под дождем? Помнишь, как ты заслонил меня от стрелы? Ты – счастливец. О тебе будут петь потомкам голосистые вайделоты.
Мертвый воевода сидел на кресле, и, казалось, очень внимательно слушал слова своего друга. Голос кунигаса зазвенел:
– Зачем ты покинул всех нас? У тебя была верная жена, дети, хорошие друзья. Было много скота и одежды… Кланяйся на том свете своему и моему деду, своему и моему отцу, нашим воинам, что полегли в битвах. Живи с ними в согласии.
Покойнику завязали на шею рушник, в который бросили несколько монет, к поясу прикрепили боевую секиру. В могилу положили хлеб с солью и пиво, чтобы воевода после жестоких битв на небесных дорогах (и в небе случаются битвы!) мог подкрепиться дарами родной зеленой Литвы.
На жертвенном костре сожгли коня и собаку, верно служивших воеводе при жизни, лук, колчан со стрелами, меч.
Потом положили в могилу рысьи и медвежьи когти, чтобы покойнику было легче взбираться на гору, где сидит Тот, кто судит мертвых.
Только после похорон воеводы кунигас Довгерут улыбнулся своей дочери и зятю, улыбнулся Вячке. И оказалось, что у него очень красивая улыбка и что он умеет хорошо встречать гостей.
– Гость в доме – бог в доме, – сказал он Вячке. – Мы с Полоцким княжеством соседи и стараемся жить с ним в мире.
– Спасибо на добром слове, кунигас, – улыбнулся Довгеруту и Вячка. – Под одним небом мы живем, из одних рек боевых коней поим, одни пущи нам шумят. И так будет до скончания века. Пусть будут сильными Полоцк и Литва. Однако всем нам пора глянуть на запад. Из моря вылез вурдалак, который хочет сожрать наши нивы и борти, проглотить наших детей. Пора браться за меч, кунигас.
При этих словах Довгерут посуровел, надолго задумался.
– Что же ты молчишь, кунигас?
– Четыре солнцеворота тому назад вместе с Всеволодом ходил я на Ригу, – наконец нарушил молчание Довгерут. – Коней тевтонских, что паслись за валом, захватил. Рыцарей рижских побил, которые рыбу в реке ловили. А четыре дня назад уже тевтоны на мою землю пришли, воеводу моего на тот свет отправили.
– Так отомсти за воеводу! – воскликнул Вячка.
– За воеводу я им отомщу, но попозже. Раны надо залечить, силы собрать в один кулак.
Вячка нахмурился, сказал решительно и резко:
– Слышал я, кунигас, что снова хочешь идти на чудь, на эстов. Слышал еще, что богатый урожай думают собрать в свои закрома эсты.
Довгерут сердито блеснул темными глазами.
– Но ведь и ты, князь Вячка, берешь дань с ливов. Разве я попрекнул тебя этой данью? Бери, если бог за тебя и если силы есть. У каждого свой корм.
– У каждого свой корм, – согласился Вячка. – Еще прадеды мои, полоцкие князья, ходили по Двине собирать дань. Ливы и дань платили, и войско в помощь, когда Полоцк воевал, выставляли.
– Чего же ты от меня хочешь? – бросил Довгерут на Вячку острый взгляд.
– Не ходи теперь на эстов. Вместе с Полоцким княжеством, вместе с Новгородом, вместе с зятем своим Всеволодом, со мной и с эстами иди на Ригу. Сбросим псов в море!
– Не могу. Рига подождет, не взлетит в небо.
– Кунигас, кунигас, не такие слова хотел я от тебя услышать. Постарел ты, кунигас.
– Я постарел?
Довгерут вытащил из ножен широкий литовский меч и, сказав Вячке: «Иди за мной», вышел из светлицы. Возле дубового тына росла березка. Довгерут сжал зубы, прищурил темные глаза и, с шумом выдохнув, широко взмахнул мечом, одним ударом срубил березу под корень.
– И все равно ты постарел, – сказал упрямо Вячка. – Сердцем постарел. Отвагой своей постарел.
Под вечер того же дня Вячка, не возвращаясь в Герцике, через леса и болота двинулся на Полоцк. Тревожно блестели в свете молодого месяца щиты и шлемы воев. Глухо стучали конские копыта по корням вековечных деревьев. В трухлявых пнях клубком свивались гадюки. Прятались в дуплах совы и филины.
Глава вторая (часть I)
Мальчик гонялся за бабочкой. Бабочка была большая, необыкновенно красивая, с широкими темно-красными крылышками, на которых виден был удивительный рисунок – синие и зеленые черточки переплетались, и будто человеческое лицо проступало из этого хитро сплетенного узла. За свои десять солнцеворотов мальчик впервые встретил такую бабочку и потому очень хотел поймать ее, спрятать в домик, сложенный из ладоней, поиграть с ней, побаловаться, а потом показать матери.
Они резвились на теплом солнечном лугу, среди травы и цветов. Бабочка будто дразнила мальчика. То высоко взвивалась вверх искоркой от костра, то, делая широкие плавные круги, вдруг садилась на облюбованную головку цветка и сама становилась цветком, и уже трудно было ее разглядеть.
Мальчик то припадал к земле, замирая и чувствуя, как взволнованно трепещет разогретое веселой охотой сердце, то бросался на цветок, сжимая его головку в ладонях, но в самый последний миг, из-под самого носа, бабочка вырывалась на волю.
Жарко светило солнце. Был яркий полдень с мягкими белыми облачками в синем небе, с легким ветерком. Луг, на котором играли мальчик и бабочка, находился на невысоком травянистом островке, в самом слиянии двух рек. Как раз тут золотая от солнца Свислочь вливалась в серебряную Березину. Слышался плеск воды. Летало множество красивых стрекоз. Но бабочка была одна, одна на всем свете, и только за ней радостно следили настороженные карие глаза мальчика.
Мать шла неподалеку, несла в белой полотняной постилке целую охапку луговых и речных цветов, душистой сочной травы. Дома она разберет всю эту красоту на тоненькие пучки, будет сушить до самых морозов, и тогда их небольшая хатка вся пропахнет таким густым, хмельным ароматом, что даже бычий пузырь, которым затянуто окно, раздует свои толстые щеки и словно бы засмеется.
Порой мать останавливалась, опускала на землю узел, низко наклонившись, что-то искала в траве. Потом поднимала голову, прикрыв глаза ладонью от солнца, звала сына:
– Мирошка!
– Я тут, – тихо отзывался мальчик, чтобы не испугать бабочку, снова усевшуюся на залитый солнцем цветок.
Наконец Мирошке повезло. Он бросился в траву, упал лицом в разомлевшие цветы и схватил, поймал бабочку. Радость переполняла его сердце. Мальчик перевернулся на спину, увидел над собой сияющую голубизну – и захлебнулся от счастья.
– Мама, посмотри! – закричал он. – Я поймал! Мать удивленно оглянулась, держа в руках пучок
зеленой травы. Серебряная горошина пота катилась по
смуглому лбу сына.
– Я поймал! – кричал Мирошка.
Голос сына, казалось ей, парил над Свислочью и Березиной, над синими заречными лугами и лесами, надо всем белым светом. Голос этот, казалось ей, долетел до самых облаков.
– Ты что, сынок? – тихо спросила мать. А он уже бежал к ней, босой, русоголовый, в расхристанной полотняной рубахе. Медный крестик поблескивал на загорелой груди.
– Глянь, мама…
Он осторожно, узенькой щелочкой открыл тесно сплетенные ладони, будто нес в них воду и боялся пролить хоть каплю.
– Она живая, – дыша прерывисто и часто, сказал Мирошка и заглянул матери в глаза: – Красивая?
Но глаза матери, такие добрые, такие светлые, вмиг потемнели, испугались, стали колючими и некрасивыми. Мирошку страшно поразила такая внезапная перемена.
– Что ты наделал, сынок? – побелевшими губами прошептала мать. – Ты погубил душу предка. Ой-ой… У меня холод по спине пошел. Ты ведь душу предка убил.
Узел соскользнул с ее спины. Плечи поникли. Глаза потухли. Мирошка, как оглушенный громом, непонимающе смотрел на мать. Ощущение чего-то страшного, не подвластного рассудку сделало слабыми, словно чужими, ноги. Ладони вспотели, и он раскрыл их, выпустив бабочку, которая, неловко взмахивая крылышками, будто прихрамывая, полетела в сторону реки.
– Ты покалечил душу предка. Но, слава богу, она жива.
Мать истово перекрестилась, схватила Мирошку за руку, вскинула на плечо узел с травой и почти бегом поспешила домой, в Горелую Весь.
Они быстро шли через лес. Из густого кустарника, хлопая крыльями, испуганно рванулась сова – большая зыбкая тень метнулась над ними. Мирошка с матерью присели от страха. Сова пролетела низко над тропинкой.
По верхушкам прошелся ветер. Темный лес ожил, загудел, замахал руками-ветками. «Ты покалечил душу предка», – слышалось Мирошке в этом густом сердитом гуле, и мальчик вздрогнул, еще крепче схватился за мамину руку, еще живее замелькали его черные твердые пятки. «Скорей бы домой добраться, – думалось ему. Скорее бы увидеть отца и братика с сестричкой».
Тропинка продиралась сквозь еловую и осиновую чащобу. Могучие деревья заслоняли солнце, и в лесу царил серебристо-серый полумрак. Мать не говорила ни слова, молча шагала вперед. Сердце у Мирошки колотилось от страха и усталости.
Наконец запахло теплым дымом, залаяли собаки, заблеяли овцы – из-за деревьев показалась Горелая Весь. Пятнадцать – двадцать дворов размещались полукругом на поросшей травой возвышенности посреди еловых и березовых лесов. Давным-давно бросил Перун огненную стрелу с неба, и весь занялась пламенем, сгорела дотла. Долго люди, предки Мирошки, воевали с огнем – забрасывали его землей, хлестали еловыми лапками, выгоняли из старых пней, из дуплистых деревьев. Заново отстроили весь и назвали ее Горелой.
Дремучий лес, окружавший весь со всех сторон, сильно пострадал от огненной бури. Огонь слизал с деревьев кору – еще и теперь кое-где увидишь черный дуб или черную березу.
Испокон веков жили в Горелой Веси общиной по уставам и урокам князей свислочских смерды-пахари. Медом, воском, бобрами и куницами расплачивались они с князьями, поставляли коней для княжеских походов. Зато ни одна соседняя община, боясь князя, не трогала их межевые знаки, топорами вырубленные на деревьях, и сидели смерды спокойно на прадедовской земле, которая их кормила.
Три, четыре, пять лет родила земля, но постепенно сила ее слабела, словно замирала. И тогда всей общиной наступали на лес, вырубали, жгли его, корчевали пни, готовя новую пашню. А оставленное поле постепенно зарастало кустарником.
Хаты в Горелой Веси были срублены из осиновых кругляков, четырьмя углами опирались на камни-роговики. Крыли их дранкой, но после того великого пожара некоторые семьи вынуждены были по бедности использовать солому или камыш.
– Где это ты была так долго, Настасья? – спросил Ратибор, отец Мирошки. Сидя на замшелом валуне, он выбирал из большой кучи нарезанной лозы длинные гибкие прутья и плел дверцы для еза, которым перегораживают реку во время ловли рыбы. Отец был в такой же, как и Мирошка, белой полотняной рубахе, с рыжими от пота пятнами под мышками.
– На Звонком берегу травы рвала, – ответила Настасья и потянула Мирошку за рукав. – Иди в хату, стань на колени перед иконой и проси у бога, чтобы простил тебе грех.
Мирошка, холодея сердцем, ступил в полумрак хаты. Пол в ней был вымощен широкими осиновыми досками. Пахло вымытыми дубовыми лавками, стоявшими возле стен, льняными рушниками. Под закопченным потолком висела люлька, в которой спал маленький братик Мирошки Доможир. Печь занимала почти четверть хаты. Напротив печи в стене было прорублено волоковое окошко для выхода дыма, оно задвигалось широкой доской. Другое окно – красное – было больше и веселее, сквозь него в хату попадал солнечный свет. Светец с обожженной лучиной торчал из-под балки. От печи до глухой стены были настелены полати, на которых так славно спится, когда снаружи воет осенняя стужа. На стенах и потолке мать развесила веночки из васильков и ромашек, букетики сушеных трав, они пахли сладко и дурманяще.
Мирошка, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить братика, прошел в красный угол, стал на колени перед иконой. Мать зажгла желтую тоненькую свечку, она освещала божий лик. У бога были большие строгие глаза, пронизывающие душу насквозь, словно стрелы воев князя Рогволода Свислочского. Мирошка осторожно стукнулся лбом об пол.
«Боже, спаси душу прадеда. Зачем ты превратил ее в бабочку? Бабочка такая слабая и беззащитная. Ее может бросить в реку ветер, может склевать птица. А град? А снег? Куда прячутся зимой бабочки и мотыльки? Боже, сделай дедову душу лесным голубем или медведем. Лучше медведем, люди его уважают и боятся».
Мирошка говорил с богом, и неожиданные, непонятные ему самому мысли всплывали в его голове. Он боялся этих мыслей, но они накатывались, как волны на берег, и не было от них спасения.
Какой бог главный? Этот – в хате, на иконах, или тот, что прячется в лесу и вырезан из высокого дубового кругляка? Мать молится этому богу, боится его, но иногда ходит и к тому, лесному. Ходит украдкой, подарки ему носит. Как он, Мирошка, ни просился, мать ни разу не взяла его с собой к лесному богу. Все-таки, наверное, этот, домашний, бог главнее, ведь лесной стоит под дождем и снегом, с непокрытой головой, стоит днем и ночью, и никто не зажигает перед ним свечку. На лесного бога, конечно же, заползают муравьи, садятся стрекозы… А домашнему богу всегда тепло и уютно.
Вдруг за спиной у Мирошки что-то стукнуло. Он испуганно обернулся – показалось, что из-под печи вылезает домовой Чур, дух мертвых предков. Мирошка никогда не видел его, но говорят, что у Чура на голове рожки, на руках и ногах не пальцы, а копыта.
Но вместо Чура перед Мирошкой стоял стрый Яков, держа в руках лук. На поясе у Якова висел кожаный тул со стрелами. Яков был на шесть солнцеворотов старше Мирошки, но они дружили. Не было между ними секретов. Мирошка обрадовался Якову – страшно было одному в сумрачной тихой хате.
– Кто-то трогал наши борти, – сказал ему Яков. – То ли человек лихой, то ли медведь. Хочешь, Мирошка, меду попробовать? Пошли со мной – проверим, кто в наши борти повадился.
– Пошли, Яков, – не скрывая радости, воскликнул Мирошка. Боги – и домашний, и лесной – уже немного наскучили ему, он боялся их обоих и потому решил скорее уйти в лес, чтобы забыть про богов, не дожидаться их гнева.
Мирошка любил Якова и завидовал ему. Хотел скорее вырасти таким же ловким, сильным, отважным и веселым.
Они вышли во двор. Ярко-белые мелкие щепки валялись на земле. Мирошкин отец все мастерил ез. Бледно-золотой шар солнца, достигнув высшей точки в небе, начал скатываться вниз. Гудели шмели и пчелы.
Яков шел впереди, высокий, гибкий, быстрый. Мирошка чуть поспевал за ним. Зазвенели, запищали, чуя вечер, комары.
Яков, хоть и приходился дядей Мирошке, братом его отцу, жил в их семье. Родители его погибли во время большого пожара, своей семьи он еще не завел, вот и приходилось мыкаться по чужим углам. Мирошкин отец все чаще хмурился, все глубже вздыхал, но пока молчал.
Они шли по лесу, и Яков говорил Мирошке:
– Хочешь, вон в то деревце попаду стрелой? Хочешь, с елки шишку собью?
И стрелял, и попадал в деревце, и шишку сбивал, и весело смеялся. Мирошка вслух восхищался его ловкостью и завидовал ему.
Наконец дошли до бортных деревьев. Жители Горелой Веси ставили на бортных деревьях, каждый на своем, «знамена» – знаки, сообщавшие всем людям в округе, кому принадлежит то или иное пчелиное гнездо. Мирошкин отец обычно вырубал на деревьях две перекрещивающиеся стрелы.
Непростое дело – заманить пчел, этих вольных беспокойных тружениц, в свой улей. Надо немало постараться: обрызгать свою борть настоями пахучих трав и цветов, медом, уксусом. Осторожные пчелы высылают во все стороны разведчиков, которым нужно отыскать для пчелиной семьи жилье. Поселятся пчелы в борти, начнут носить мед, набирать силу, да вдруг придет большой лакомка – медведь со своей загребущей лапой. Против медведя делают подкуры – вкапывают возле дерева острые толстые колья, навешивают вблизи ульев гладкие тяжелые бревна. Тронет медведь бревно лапой, чтобы отбросить его в сторону, а оно возвращается и больно бьет зверя по голове. Ревет медведь, колотит разъяренно лапами по бревну, да бревно, словно живое, отвечает ударом на удар.
Мирошка с Яковом как раз и повстречали такого сластену. С грозным ревом лез он на подкур. С дерева незадолго до этого сняли кору, лапы медведя скользили по голому стволу, но зверь (и кто только научил его?) рвал лапами лесную землю, набирал на когти хвои и песка и снова пробовал взобраться на дерево.
Яков натянул тетиву лука, и стрела со свистом впилась медведю в стегно. Он яростно заревел, свалился с подкура, поднялся во весь рост, угрожающе помахал лапами, но все-таки, забыв про мед, торопливо побежал прочь.
– Будешь знать, как ходить за чужим медом, – смеясь, сказал Яков. – Медведь умнее некоторых людей. Лезет, лезет на дерево – бух! – свалился. Ни стона, ни рева – сам виноват. А вот идет по лесу, шишка с елки упадет, стукнет по лбу – как подскочит медведь, как заревет, как разозлится! Смех, да и только.
Подошли к лесному ручью. Мирошка припал губами к струйке воды, напился. Розовые лучи заходящего солнца мягко освещали полянку, на которой остановились Яков и Мирошка.
По берегу шумливого ручья, продираясь сквозь заросли, добрались до Свислочи. Множество бобров трудилось тут: спиливали деревца, сплавляли их вниз по течению.
– Смотри, – вдруг зашептал Яков и рукой, в которой держал лук, показал на реку. С противоположного берега сюда плыл челн. Светловолосый юноша, стоя на левом колене, сильно и часто греб широким веслом. За спиной у юноши сидели двое мужчин в высоких магерках из белой шерсти, настороженно вглядываясь в приречный кустарник, где затаились Яков и Мирошка.
Челн врезался узким носом в шуршащую осоку. Незнакомцы выпрыгнули на берег, воровато оглянулись, вытащили из челна труп человека и, ломая зеленый камыш, проваливаясь по колено в болотную жижу, торопливо понесли его в глубь леса. Гребец остался возле челна. Через несколько минут мужчины в белых магерках вернулись, оставив труп в лесу. Челн понесся туда, откуда только что приплыл.
Мертвый старик с большой лысой головой лежал на песчаном пригорке. Зеленая муха ползала по морщинистой щеке. Стрела с обломанным оперением торчала в груди.
– Кто его убил? – шепотом спросил Мирошка.
– Люди с того берега, – не сводя глаз со старика, тоже шепотом ответил Яков. – Видал, они привезли труп сюда, на землю нашей общины. Они хотят, чтобы наша община заплатила князю Рогволоду Свислочскому дикую виру. Бежим в весь, Мирошка!
«Дикая вира! Дикая вира!» – понеслось по Горелой Веси после того, как туда прибежали Яков с Мирошкой. Это были страшные слова. Столетние деды вместе с малышами, только что научившимися ходить, услышав эти слова, крепче запирали двери, с опаской поглядывая на потемневшие окна. Из окрестных лесов и болот ползла в весь тревога, казалось, сам воздух был пронизан ею. Голосили женщины. Никто не мог заснуть. Самые смелые мужчины, взяв топоры и рогатины, с которыми ходят на медведя, зажгли возле дубового креста на окраине Горелой Веси костер и уселись вокруг него.
Чем же так напугала всех дикая вира? Не гривнами, которые каждая семья, каждый дым должны были заплатить за то, что на земле общины найдено мертвое тело, а убийца неизвестен. Гривны, как бы ни было трудно, можно отыскать. Страшно было то, что покойник нес проклятие общине и земле, на которой лежал. Коснувшись земли Горелой Веси, покойник как бы отравлял всю эту землю, ее воду и траву. Обычно после этого черный мор валит скотину и людей. Что ни делай: закапывай труп, сжигай, бросай в речку, вези на чужое поле – печать проклятия остается. Раньше, когда еще не было греческого бога, а люди молились деревянным идолам на капищах, в таких случаях приносили в жертву человека и теплая человеческая кровь смывала проклятие. А новый бог, Христос, запрещает лишать человека жизни.
– Надо зарезать черного козла, кровь его разлить в окрестностях веси, а рога закопать под святым крестом, – посоветовал общинникам самый старый житель веси Гнездило. Его дед когда-то слыл колдуном.
Нашли черного козла, при свете костра отрезали ему голову, все сделали так, как научил Гнездило. Тревога немного улеглась.
Выдолбили из толстого дубового ствола гроб, и под покровом ночи самые храбрые из мужчин, среди них и Яков, взяли покойника, положили в гроб, как в челн, и отдали волнам Свислочи, сказав: «Вода дает, вода берет».
Мирошка, затаившись на полатях, никак не мог заснуть. Давно заснули отец с матерью; похныкав, как обычно, заснули братик Доможир и сестричка Текля, а он, лежа в ночной тиши, снова и снова вспоминал лицо старика, каким он его увидел с Яковом. Зеленая муха, которая ползла по щеке покойника, безотвязно мелькала в глазах, и, как он ни зажмуривался, как ни ворочался с боку на бок, не было от нее спасения. «Неужели я тоже умру? – думал мальчик. – Неужели и меня когда-нибудь засыплют землей? Как же это? Я же так люблю маму и отца, и Доможира, и Теклю. И стрыя Якова люблю. Люблю слушать говорливые волны Свислочи и Березины, гомон леса весной и осенью. Люблю на дождь смотреть. Если дятлы сильно стучат, будет дождь. Сыч кричит по ночам тоже на дождь. Я все это знаю, от отца знаю. Так неужели я умру?»
С трепетом в душе, с острым чувством страха и таким же острым любопытством он обращался в мыслях к тому, кто держит в своих руках все живое, кто дает и отбирает жизнь, кому молится мать. «Сделай, чтобы мы все жили и никогда не умирали, – просил он. – Сделай, чтобы душа прадеда, которую я сегодня нечаянно покалечил, не прокляла меня. Если ты все можешь, заведи дикую виру в топь, в болото, в песок-плывун, чтобы она не нашла дорогу в Горелую Весь».
Мирошка начал уже было засыпать, уже и мысли его обрывались, путались в голове, как паутина под свежим ветром. Но вдруг снаружи послышались шаги, легкие, быстрые. «Это Яков возвращается из леса, оттуда, где отдавали реке покойника», – сразу же оживился Мирошка. Он торопливо, но бесшумно спустился с полатей, откинул дубовый засов и вышел под ночное небо. Путь Перуна сиял над Горелой Весью. Обступая со всех сторон, шумел лес.
– Стрый, – тихо позвал Мирошка, – Яков! И вдруг ему стало так страшно, что мороз по спине пробежал и показалось: волосы встали дыбом и начали тоненько потрескивать на голове. Он понял, что это не Яков, что Яков еще на реке, а в трех-четырех саженях от него темнеют немые фигуры чужих людей, будто привидения встали из древних, заросших дерном курганов. Мирошка хотел вскрикнуть, рвануться назад, в хату, но неодолимая слабость сковала ноги, приклеила их к земле.
– Бери мальчишку, – чуть слышно прозвучал старческий голос, и Мирошке накинули на голову что-то мягкое, холодное, плотное (наверное, мешок), подняли на плечо и понесли, как волк овцу. Все произошло мгновенно, не успел он и глазом моргнуть.
– Принесем требу дикой вире, и она пожалеет весь, – донесся до Мирошки все тот же голос.
Так вот что хотят с ним сделать?! Затянут его в глубь леса, к лесному богу, там убьют и его кровью помажут сухие уста деревянному идолу. А где же настоящий бог, небесный бог, почему он не приходит на помощь?
– Скорей, скорей, – торопил того, кто нес Мирошку, все тот же омерзительный голос.
Мирошка через мешок со всем отчаянием, со всей злостью впился зубами в чужое ненавистное плечо, крутнулся телом. Сила, изгнанная из него страхом, снова вернулась.
Незнакомец ойкнул от боли, Мирошка с мешком на голове плюхнулся наземь. Он мгновенно вскочил на ноги, содрал мешок и закричал пронзительно, истошно:
– Мама! Яков!
И бросился во тьму, на миг опередив злые страшные руки, готовые снова схватить его.
– Держи мальца! – закричал старик, и Мирошке показалось, что это был голос Гнездилы.
Да разве можно было удержать Мирошку! Как на крыльях мчался он к родной хате, стрела из лука не смогла бы догнать его. Добежал, долетел до дома, ввалился в низкую дверь и на пороге столкнулся с матерью.
– Мама! – только и крикнул Мирошка, и земля поплыла у него из-под ног, опрокинулся, почернел серебряный Путь Перуна и погас, будто и не было его на небе.
Долго болел Мирошка. Черная лихорадка поселилась в нем. Ни травами, ни заговором, ни святой водой нельзя было ее выгнать. И никто не знал, что будет с ним, – ведь не дано человеку знать свой удел. Рыбы попадают в невод, птицы запутываются в тенетах, сыновья человеческие становятся жертвой своих весен и зим. Тот, кто родился, должен умереть. Таков нерушимый закон природы, но Мирошке было всего десять солнцеворотов. И однажды он почувствовал, как снова наливаются силой руки и ноги, как глаза, привыкшие к полумраку, пытаются глянуть за горизонт, вобрать в себя солнечные лучи, ночные звезды.
– Сынок, – счастливыми слезами заплакала мать, – а мы уже думали, что ты могилой пахнешь. Живи, сынок.
И крепко поцеловала Мирошку.
За время болезни мальчика в Горелую Весь приезжал княжеский вирник со своим помощником. Стали они на постой к бортнику Червону. И заплатила весь дикую виру, ибо, как говорится в уставах князей свислочских, «в их земле, в их верви голова лежала». Кроме того, заплатили смерды за красную рану тридцать гривен и за синюю рану пятнадцать гривен. А еще дала весь вирнику и помощнику его еды на всю седмицу: семь ведер солоду, сыру, хлеба – сколько могут съесть, кур по две в день, овса для четырех коней, и рыбы великое множество, и меду. Чесали затылки смерды.
Зима уже хозяйничала в пуще, когда Мирошка поднялся на ноги. Ядреный мороз сковал землю. Снег завалил все дороги, все самые узкие тропинки. Плохо стало зверью большому и малому – земля уже не могла укрыть их следы. Медведи, накопив жиру за лето, укладывались спать. Волки бегали стаями, в которых верховодили лютые голодные волчицы.
Мать сидела за прялкой возле маленького, закованного прозрачным льдом окошка и пела:
А на том дворе да стоят горы, Да стоят горы высокие; А на тех горах да лежат брусы, Да лежат брусы тесовые; А на тех брусах да стоят столбы, Да стоят столбы дубовые; А на тех столбах да висят котлы, Да висят котлы чугунные; А под теми котлами да горят огни, Да горят огни пурпурные, Да идут дымы косматые, Там сидят деды бородатые…Мирошке не терпелось узнать, где находится тот двор, где можно увидеть те горы, брусы, столбы и котлы. Но мать сказала только:
– Так моя бабка пела.
Пришел Яков, весело улыбнулся Мирошке, скинул с плеча молодую убитую косулю. У косули были красивые маслянисто-темные глаза.
– На Звонком берегу подстрелил, – похвалился Яков. – Идем, Мирошка, покажу тебе что-то.
Мирошка надел толстую коричневую свитку, шапку-ушанку из волчьего меха, поршни с теплыми портянками натянул на ноги.
Зима выбелила Горелую Весь. Все вокруг было застлано снегом, да каким – пушистым, мягким, невесомым! Если присмотреться, снег был соткан из малюсеньких белых звездочек. Мирошка брал эти звездочки на ладонь, и на теплой ладони они потихоньку начинали плавать, как свиной жир на разогретой сковороде, а потом исчезали – только блестящая капелька воды оставалась от них.
– Я тебе конек сделал, – сообщил Яков. – Хороший конек, костяной. Из бычьей кости выточил. На Свислочи будем кататься, там уже лед пластом лежит.
Мирошка с радостью схватил конек, прикрутил его к ноге воловьими жилами. Так и побежал к речке по снегу с коньком на правой ноге.
В месте слияния Свислочи и Березины нашли место, где почти не было снега, и Мирошка, оттолкнувшись левой ногой, ездил на коньке от берега к берегу, вырезая на льду запутанные узоры. Яков лепил снежки и бросал ими в Мирошку. Весело и жарко было обоим.
Вдруг на крутом берегу Березины, густо засыпанном снегом, Мирошка заметил тонкую струйку дыма. Он остановился, пригляделся внимательнее. Дым выходил будто бы из-под земли, из какой-то высоко поднятой над рекой норы, издалека казавшейся маленькой черной точкой.
– Что там такое? – удивленно спросил Мирошка у Якова.
– Дым.
– Я вижу, что дым. А кто там и что жжет?
– Там человек живет.
– Человек? В снегу?
– Там живет отшельник. Пришел на этот берег, когда я еще сиську сосал, выкопал себе нору и живет.
– А что же он ест?
– Когда рыбу голыми руками поймает, когда корешок сладкий из земли выроет. А летом ящериц ловит. Ящерицы любят на горячем песке греться.
– Ящериц?
Мирошка аж рот разинул от удивления. Никогда не слышал о таком и видеть не видывал. В норах живут лисы, кроты, барсуки, но чтобы человек, да еще зимой…
– Обманываешь ты, наверное, стрый, – недоверчиво сказал Мирошка.
– Я никогда не обманываю, – обиделся Яков. – Буду я тебе врать… Гляди – вон он из норы вылезает.
И действительно – какое-то странное существо выползло на четвереньках из-под земли. Видимо, отшельник привыкал к дневному свету – некоторое время, опустив голову, он стоял на четвереньках в глубоком снегу. Вот он выпрямил спину, прикрытую звериными шкурами, поднял голову с длинной гривой грязно-серых волос.
– Он босой, – сказал Яков.
– Так ведь снег, мороз…
– Прошлой зимой я видел там следы босых ног. Сказывают, был он когда-то княжичем в черниговских землях. Да с князем-отцом поспорил, и князь проклял его. Так он стал изгоем и оказался в наших местах. Предсказатель он. Поганскому Перуну молится.
– Может, поднимемся к нему? – несмело предложил Мирошка.
– Не надо. Он не любит людей. Прячется, когда их увидит. Он только с богом говорит, а не с людьми.
Мирошке сразу расхотелось кататься. Он отвязал конек, засунул его в карман свитки. Снова глянул вверх, но отшельника уже не было. И дыма не было.
– Давай, Яков, хлеба ему краюху принесем. Он ведь давно хлеба не пробовал.
– Давно, – согласился Яков. – А ты, Мирошка, славный. Сердце у тебя доброе. Я и сам хотел отшельнику этому чего-нибудь принести. Жалко его. Да не возьмет он хлеба.
– Не возьмет? – поник, опечалился Мирошка.
– Не возьмет. Он же от людей, от белого света, от хлеба и меда сбежал. Навсегда сбежал.
– Как это можно от хлеба сбежать, жить без хлеба? – искренне удивлялся Мирошка.
– Ну и что, звери ведь живут без хлеба.
– То звери, а он человек.
Они замолчали, занятый каждый своими мыслями. А длинноволосый худой человек, сжавшись в комок, сидел в своей норе, глядя на черную золу, оставшуюся от небольшого костерка, хукал на руки и постепенно словно деревенел, засыпал, чтобы снова увидеть во сне зеленую весну, знойное лето, золотооких быстрых ящериц на сыпучем солнечном песке. Во сне он сам превращался в вертлявую ящерицу, ввинчивался в сухой, такой мягкий и такой теплый песок.
Прошло несколько дней. Выли метели, кружился снег; внезапно, словно птица с мокрыми крыльями, налетела оттепель. Приближались коляды. Мирошке, чем бы он ни занимался, все вспоминался, заплывал в мысли и сны отшельник в своей холодной неуютной норе. Как он там живет? О чем мечтает, сидя у маленького огонька? И Мирошка не утерпел – украдкой взял у матери полбуханки хлеба, горсть серой соли, которую привозят из Галича, и пошел к отшельнику. Даже Якову не сказал ни слова.
Держа узелок с хлебом и солью, он поднимался по заснеженной круче, и сердце его трепетало от высоты и страха. Как встретит его таинственный отшельник? Что скажет?
Вот и нора. Снег у входа притоптан босыми ногами. Валяются клочки сухой травы, мелкие веточки. От тишины звенит в ушах. Мирошка растерянно остановился.
Отшельник вынырнул из норы неожиданно. Он совсем не удивился, увидев Мирошку, сел на снег, подложив под себя сосновый чурбанчик. Тело его было прикрыто лохматой турьей шкурой, которая держалась на широком кожаном ремне, охватывавшем шею. Длинные серые волосы падали на спину, на лицо, и глаза горели из-под волос синими угольками. Отшельник был босой, но даже пальцы не поджимал от холода – широкие темные ступни стояли на снегу спокойно, не шевелясь.
Мирошка развязал узелок, положил на снег перед отшельником хлеб с солью. Искра удивления зажглась в синих спокойных глазах.
– Ты кто? – тихо спросил отшельник, не дотрагиваясь до еды.
– Я Мирошка, сын Ратибора из Горелой Веси.
– Чего ты хочешь?
– Я принес тебе хлеб. И соль. Ешь.
– Хлеб? – Отшельник глянул на узелок, потом на Мирошку. – Я раздам его птицам. Зимой птицы голодные.
– Ешь сам.
Но отшельник умолк, словно не расслышал слова мальчика. Видно, мысли его витали далеко и от Мирошки, и от этого берега, и от норы, в которой он зимовал. Он глядел на небо, на слоистые ледяные облака. И сам он казался Мирошке одиноким серым облаком, приплывшим с холодного неба. Упало оно на эту снежную кручу, и нет у него больше сил, чтобы снова взвиться в небо.
– Хочешь знать, что тут будет через десять солнцеворотов? – отшельник наконец взглянул на Мирошку. – Свислочь потечет вспять, к своему истоку потечет. Земля перевернется. И на месте нашей земли станет ромейская земля, а на месте ромейской – наша. Деревья будут расти корнями вверх. Звери покроются перьями, а птицы – шерстью.
Мирошке стало страшно. Он понял, что бог лишил отшельника разума. Он уже хотел было спускаться с кручи вниз, но отшельник с неожиданной поспешностью схватил его за руку, снова заговорил:
– И на лугу вырастут железные цветы. И будут сыновья пить мед из черепов отцов своих.
– Дяденька, пусти, – всхлипнул Мирошка. – Меня мамка ждет. Помолись, дяденька, за Горелую Весь, чтобы не пришла в нее дикая вира.
Но глаза отшельника горели неземным искристым светом. Он все сильнее сжимал руку мальчика и говорил, говорил:
– Черепаха родит петуха. У волка вырастет пятая нога. В колодцах будет не вода, а молоко. Людоед с железными пальцами и огненным глазом на затылке будет ходить по городам и весям.
Отшельник вдруг захохотал, закинув назад большую длинноволосую голову. Мирошка рванулся, кувырком покатился вниз. А вслед ему хохотал и кричал отшельник:
– Солнце будет всходить ночью, а луна днем. И будет человек искать человека.
Мирошка побежал по застывшей реке. Пронзительно скрипел под ногами снег, словно смеялся вместе с отшельником. Страх подгонял Мирошку, не давал остановиться.
– Стой! – крикнули вдруг за спиной. Мирошка упал в снег от неожиданности. Когда он поднял голову, то увидел двух всадников, ехавших через реку на взмыленных, серых от пота конях. За каждым из всадников бежали сменные кони, тоже изнуренные. Седельные сумы были почти пусты – видимо, не один день сидели путники в седлах.
Они догнали Мирошку, и синеглазый рыжеволосый вой спросил его:
– Откуда ты, хлопчик?
Он глядел на Мирошку с сочувственной улыбкой. Поверх кольчуги у него был накинут теплый бобровый тулуп. Сияло под холодным солнцем копье.
Мирошка молчал. Как и все жители Горелой Веси, он не привык радоваться встрече с вооруженными людьми. Но верховой по-своему понял его молчание.
– Гордый… Нос крючком не достать. Коту по пяту, а гордый…
– Да он испугался, Холодок, – вмешался в разговор его спутник, молоденький, светловолосый.
– Молчи, Грикша, когда старший говорит, – прервал его Холодок. Он спрыгнул с коня, подошел к Мирошке.
– Не бойся нас, малыш.
– Я не малыш, – одним духом выпалил Мирошка и смело глянул в глаза Холодку.
– Ого! – засмеялся тот. – Так, может, ты местный князь? Может, ты – Рогволод Свислочский? Тогда мы к тебе и к твоей красавице-дочке княжне Добронеге. Бересту везем от князя Вячки.
Мирошке сразу же понравился Холодок. Хороших людей, кто бы они ни были, всегда нетрудно распознать. Добрые люди не хитрят, не заливаются соловьями, не шипят гадюками. Они всегда такие, какие есть на самом деле.
– Значит, ты не князь? – обветренными пальцами Холодок крутил на Мирошкиной свитке деревянную пуговицу-бирюльку. – Так, может, ты богатый боярин? Или княжеский тиун?
– Я Мирошка, – вдруг застеснявшись, опустил глаза и тихо ответил Мирошка.
– Мирошка? А я – Холодок. Скажи, Мирошка, где вашего князя найти, где его усадьба?
– В Княжьем сельце, – шмыгнул красным от холода носом Мирошка.
– А где ж это Княжье сельцо?
– Неужто не знаешь? – удивился Мирошка. – За Гремучим бором. Я и то знаю. Мы с отцом сомов как-то в Свислочи поймали, так возили туда в челне. Большущие были сомы, длинные, хвосты за челном по воде волочились.
– Ого, ты и сомов ловить умеешь? – хлопнул себя ладонью по колену Холодок. – Так что ж ты на печке у батьки сидишь? Ты же настоящий вой. Бери меч и айда в дружину князя Вячки.
– Я б в дружину пошел, – охотно согласился Мирошка, – да мать не пустит.
Тут Холодок с Грикшей не выдержали, рассмеялись. Засмеялся и сам Мирошка, но сразу же нахмурился, почувствовав подвох.
– Так в какой стороне Гремучий бор и Княжье сельцо? – кончив смеяться, спросил Холодок.
– Там, – махнул рукой Мирошка.
– Ну, спасибо тебе, Мирошка, – сказал веселый вой. – Беги к матери, а то нос на морозе отвалится. Будем возвращаться назад, заберем тебя в дружину князя Вячки. Князь у нас хоробрый, как лев. Пойдешь в дружину?
Мирошка ничего не ответил, но сердце его встрепенулось, словно быстрокрылый стриж над речной кручей. Вои, веселые, красивые, молодые, ударили коней шпорами, гикнули, пригнулись и помчались в сторону Гремучего бора. Снежные облачка вырывались из-под копыт. Мирошка смотрел им вслед, пока не исчезли. И отшельник со своей кручи тоже провожал их взглядом.
Глава вторая (часть II)
На княжий двор Рогволода Свислочского приполз, пробившись сквозь сугробы, большой обоз зимних гостей – киевских купцов. Три десятка тяжело нагруженных саней, запряженных лошадьми и волами, одолели длинную и опасную дорогу и остановились наконец возле княжеского терема. Бороды у купцов заледенели на морозе. Купцы слезали с коней, отдавали их своим слугам и неуверенным шагом – ноги в стременах отвыкают от земли – шли к высокому дубовому крыльцу, на котором уже стоял, взволнованный и радостный, князь Рогволод.
Обоз, особенно в зимнее время, всегда радость для мелких удельных князей, их бояр и челяди. Утром еще выла метель, серый колючий снег носился тучами над теремом, сердито шумел пустынный черно-белый бор, собаки и надворные холопы прятались от разъяренного ледяного ветра, у князя тупо ныл гнилой зуб, и вдруг – этот обоз!
Купцы поклонились князю. Хотелось скорее в тепло, в тишину.
– Что привезли, гости дорогие? – стараясь не выдать своей радости, нараспев спросил князь.
Купцы поклонились еще раз. Старейшина обоза, пошлый купец Нажир, вышел вперед:
– Челом бьем тебе, князь-христолюбец. Мы люди русские, киевские, купцы низовские. Везем соль и вино ромейское, олово и медь для рукодельных людей, красный шифер из Овруча, ткани богатые, ленты парчовые, браслеты стеклянные для молодых красавиц.
– А чего взамен хотите? – чмыхнул в седой ус князь.
– Хотим серебра твоего княжеского. Хлеба, меда, воска. Шкур бобровых и собольих. А я, купец Нажир, хочу рабыню молодую, красивую, чтоб мой старческий сон берегла-охраняла.
– Отоприте ворота! – приказал надворной челяди князь Рогволод Свислочский. – Впустите обоз, накормите лошадей, а гостей я сам потчевать буду.
Нажир поставил на ночь возле обоза стражу, а сам с купцами пошел в княжескую трапезную. До самого утра лилось из больших глиняных амфор хмельное вино, опьяневшие купцы рассказывали князю про дальнюю опасную дорогу, про санный путь по заснеженному Днепру, про грозные непроходимые пущи, в которых свирепствуют лютые волчьи стаи, про заледеневшие звезды в черном зимнем небе, про огненные столбы и кресты, вспыхивающие в глухую полночь над землей…
А в это время княжне Добронеге снился странный радостный сон. Виделось ей, что вместе с кормилицами и служанками сидит она в своей белой светлице. Кормилицы прядут кудель, служанки сказки сказывают. И вдруг словно ветер ударил в слюдяное окно светлицы. Такой ветер весной со Свислочи налетает. Распахнулось окно, а за ним не ветер, а сокол златокрылый. Каждое перышко жаром горит, искрится. И были у этого сокола человечьи глаза и человечий голос, а когти острые, цепкие. Подлетел сокол к княжне. Кормилицы и служанки со страху на пол попадали, уши заткнули, глаза зажмурили. Схватил сокол княжну Добронегу, схватил мягко, да не вырвешься, и вынырнул в окно, помчался в ночное небо над пущами и болотами. Страшно Добронеге, от ужаса горло перехватило. Хочет крикнуть, да теплые соколиные перья крикнуть не дают, рот закрывают. Быстро-быстро мчится сокол, морозный ветер свистит и разбивается о крылья, звезды, как золотые кольца, катятся и катятся по гладкому небу. И вот начинает светлеть. Розовые лучи солнца зажгли небесный мрак. И видит Добронега, что на огромной золотой туче стоит-плывет золотой дворец. Не темный, не дубовый, как отчий, а золотой, ослепляющий блеском. Ударился сокол белой грудью о золотую тучу, аж искры из тучи посыпались, и превратился в высокого синеглазого юношу необыкновенной красоты. Крепко обнял он правой рукой Добронегу, засмеялся, хотел поцеловать, да тут княжна и проснулась.
Стояло серое зимнее утро. За слюдяным окном, плотно закрытым на зиму, выла голодным волком вьюга. Опершись на локоть, Добронега окинула нетерпеливым взглядом свою опочивальню, пол, кровать. Золотых соколиных перьев нигде не было. Выл ветер за холодным слюдяным окном. Она грустно вздохнула, позвала кормилицу:
– Параскева!
Служанки, молчаливые простоволосые девки, одели ее, заплели косу. Она надела на шею желто-коричневые янтарные бусы, на тонкие запястья рук – серебряные браслеты. Приказала служанке, и та принесла золотой веночек, украшенный драгоценными камнями, – отцов подарок. Служанка, стоя на коленях, держала в руках зеркало, остальные дохнуть не смели – смотрели, как их хозяйка любуется собой. Вдруг тень набежала на светлый лик Добронеги, не понравилось ей что-то в своем лице, и она ударила служанку по щеке. За слюдяным окном несмело занималась заря.
С самого утра ожило, зашумело, загомонило Княжье сельцо. Бегала, суетилась челядь с багровыми от мороза и хлопот лицами. Лаяли собаки, ржали кони. Звенело железо. На всю зиму делал запасы князь Рогволод Свислочский, надо было накупить всякого добра, чтоб хватило до самой весны, до чистой теплой воды, когда поплывут по Свислочи и Березине караваны купеческих стругов. Не жалел князь серебра, но каждую вещь, каждую амфору с вином, каждый локоть заморской ткани ощупал собственными руками.
Среди этой суматохи только старейшина Нажир сохранял спокойствие. В каких только краях не побывал он за свою долгую купеческую жизнь! Был в Новгороде, в Смоленске, в Литве и Пруссии, Полоцке и Менске. И вот таких медвежьих уголков, как это Княжье сельцо, немало повидал, посчитать – пальцев на руках не хватит. Он стоял в бобровом, до пят тулупе, на поясе висел кожаный футляр с дорожными весами и гирьками. Серебро без веса не идет. Каждую гривну купцы взвешивают, отрубают, если надо, куски матово-белого металла. Для расчета есть у купцов и гривны, и мотки серебряной проволоки, и дирхемы, и динары.
Из княжеских погребов выкатывали слуги дубовые кадки с густым, тягучим, светло-желтым, как летнее солнце, липовым медом. Выносили вязанки сушеной рыбы, грибов. Выбрасывали свернутые в рулоны звериные шкуры – черные, седые, рыжие, бурые. Вместо этого добра на самое дно погребов оседали амфоры с вином, а в амбары, которых у князя было множество, складывался тяжелый товар – железо, медь, олово.
Когда наконец закончился обмен и обе стороны остались им довольны, Нажир, поклонившись князю, подарил ему широкий золотой браслет-оберег, сплетенный в виде гибкой змеи с двумя головами. Льстиво улыбаясь, сказал:
– Слышал я, князь, что есть у тебя красавица-дочка. Надень ей на руку этот браслет. Он защитит княжну от дурного глаза, от бессонницы и бесплодия, от горячечных мыслей и черной тоски.
Рогволод Свислочский, обрадованный подарком, тут же приказал холопке позвать из светлицы княжну Добронегу. Русоволосая темноглазая Добронега поклонилась гостю, поднесла ему чару с медом, настоенным на кореньях и травах окрестных лесов. Потом еще пили вино и мед, слушали игру дударей, катались на санях с речного обрывистого берега.
Долго не могла заснуть в ту ночь Добронега. В сумраке опочивальни сиял на запястье золотой браслет. Купец сказал, что браслет защитит ее от горячечных мыслей. Правду сказал купец или обманул? Знать бы. Она тихонько встала с мягкой кровати, подошла на цыпочках к окну. Зимняя бесприютность, мороз и снег… На десятки поприщ вокруг Княжьего сельца – леса и леса… Теперь они мертвы, недвижимы, страшны. Ветер, как злой дух, угрожающе воет в деревьях, колючим снежным клубком катится по ледяной Свислочи. Все сметает на своем пути ветер. Кустики мерзлой осоки, торчащие из-под снега, жалобно шепчут о чем-то, горестно вздыхают. Какая бесконечная ночь! Как таинственно и невыносимо страшно гудят леса!
Добронега глянула в ночное небо, и холод пронзил ее сердце. Из-за обрывков туч то появлялась, то снова исчезала луна. Она казалась желтым человеческим черепом, который, выкопав из могилы, черти закинули в безграничное черное небо. Добронега вздрогнула, отошла от окна, спряталась под теплую перину.
Купец обещал, что браслет защитит от горячечных мыслей… Неправда! Что может сделать этот желтый холодный металл? Разве он услышит, как, сладко замирая, горячо и бессонно бьется ее сердце? Разве он поймет ее, Добронегу, которой недавно уже исполнилось шестнадцать солнцеворотов?
Где же тот единственный, прекрасный, кто должен прийти или приехать, забрать ее с собой? Почему его так долго нет? Может, конь сбился с пути, может, зимний ветер ослепил, повел не в ту сторону?
Холопки, черные простолюдинки живут веселее, счастливее, чем она, княжна. Много работают, мало спят, живут впроголодь, а лишь выпадет вольная минутка – как поют, как пляшут! У каждой более-менее красивой девушки есть свой парень, и они (видела Добро-нега в купальскую ночь) милуются-целуются. Парни расплетают косы девушкам, а девушки вьют любимым венки. Где тот, что расплетет косу ей, Добронеге? Князь-батюшка все поджидает сватов из Полоцка, Друцка. И в Литву бы дочь отдал, только бы за княжескую кровь. Почему она, Добронега, не служанка? Так хочется сладкого греха, так хочется, чтобы мужчина дрался за нее с другим мужчиной.
Но нет, нет! Она – княжна! Все ее бабки и деды – род по кудели и род по мечу – все с княжеской кровью в жилах. Не найдется жениха – идти ей черницей в святой монастырь. Не одна княжна угасла за глухими монастырскими стенами, растаяла, как свечка… Смилуйся, боже, не карай, не хочется Добронеге быть черницей, божьей невестой. Хочет она родить сына, а потом дочку. Где же ты, суженый?
Наступили долгожданные коляды, после которых солнце наконец поворачивает на лето. За долгую зиму голод по солнцу иссушает душу человека.
Праздники начались кутьей. Старательно мылись в бане, после захода солнца сели за стол в углу трапезной. На голые доски постелили сено, закрыли его белой скатертью, на скатерть поставили кутью из гречки и ячменя и медовую сыту.
Князь Рогволод окинул радостным взором свою княгиню, дочь, всех домочадцев, дал всем кутьи с сытой, поздравил живых с божьим праздником, помянул покойников, из большой деревянной ложки сыпнул кутьи в угол – угостил снежноволосого Зюзю, бога морозов. Все дружно позвали: «Деды-прадеды, идите кутью есть!»
Добронега, накинув шубейку на плечи, выбежала на темный двор, испуганно оглядываясь, поставила глиняную миску с кутьей возле глухой стены терема. Звезды смотрели с неба, словно чьи-то грустные глаза. Вдруг издалека послышался хруст снега. Жаром обдало Добро-негу. Это деды идут из страны мертвых. Дед Судислав, убитый утрами, дед Василек, утонувший в Березине. Все ближе и ближе хрустит снег… Ужо доносятся легкие шаги… Добронега стремительно рванулась в терем, заперла дверь на дубовый засов.
Князь Рогволод вытащил из-под скатерти пучок сена, внимательно разглядывая, покрутил в руках каждую травинку и удовлетворенно сказал:
– Добрый лен уродится.
А потом шумной гурьбой высыпали во двор, стали все разглядывать да разгадывать. Много тропок протоптано во дворе – богатая гречиха вырастет. Много звезд в небе – хорошо скотина расплодится. Густой иней на ветки лег – от яблок, груш деревья до земли будут гнуться.
Добронега со служанкой Кулиной – одной боязно – забежала за терем, прислушалась, с какой стороны собаки лают. Но собаки почему-то молчали, и никак не узнать, откуда жених приедет. Тогда девушки, прячась от чужого глаза, начали бегать под окнами темных курных хат, в которых жила дворовая челядь. Острый слух и чуткое сердце нужны в таком деле. Каждая девушка радуется, если услышит, что в хате провожают позднего гостя: «Ну иди, иди, брат, хватит сидеть-полуночничать». Значит, и она не засидится, выйдет замуж в скором времени. Отчаивается девушка, если слышит, что гостя упрашивают посидеть еще. И совсем жутко, если говорят в хате о досках, свечах и попах – смерть, как ни прячься, подкосит.
Но в этот вечер ничего не услышали Добронега с Кулиной. Ветер свистел, лес шумел, сердца от волнения громко стучали.
Грустная возвращалась Добронега в терем. Шла медленно, глубоко задумавшись, даже забыла, что надо дедов бояться. Да и кто сказал, что их надо бояться? Дед Судислав, как помнится Добронеге, был добрый, ласковый к ней, единственной внучке. Однажды зайчика в лесу поймал, принес в походном шлеме.
– Иди спать, – строго приказала Добронега Кулине.
Девка поклонилась княжне, бесшумно исчезла. Это смердово племя живет неприметно и тихо, как мыши, как поникшая трава при дороге. «Неужели она так же, как я, может любить, ждать, волноваться?» – думала о Кулине Добронега.
Вдруг в темноте залаяла собака. Сколько их всегда лает! Целая стая собак носится по усадьбе. Но сегодня особенный день, особенная ночь, сейчас этот лай был святым знамением, сигналом – готовься, девичья душа, наступает твой заветный миг.
Добронега сначала подумала, что ей показалось. Да снова донесся лай. Судя по тонкому, визгливому голосу, лаяла совсем маленькая собачка, щенок.
Добронега почувствовала, как все ее тело, от кончиков пальцев ног до глаз и ушей, заливает тревожная и в то же время щемяще сладостная волна. Такого с ней еще не было. Княжна обессиленно прислонилась, припала к морозной дубовой стене терема и все глядела, глядела в ту сторону, откуда должна была прийти ее судьба.
Тишина повисла над Княжьим сельцом, над всем миром. Казалось, слышно было, как вверху, в небе, дрожат звезды. Пугливая мышь остренькими зубками осторожно, с оглядкой, точила дерево. Тишина стояла глубокая, как колодец, как девичья тоска.
Неужто не было собачьего лая? Неужто еще целый солнцеворот ждать, тая слезы? Неужто не будет белой фаты, а только черный клобук монахини?
Топот донесся из тьмы. Зафыркали кони. Зазвенели удила. Кто-то сказал тихо, с облегчением:
– Приехали.
У Добронеги подкосились ноги. Она упала в снег, потеряв сознание.
Очнулась в своей светлице. Заплаканная мать-княгиня натирала ей виски каким-то остро пахнущим жгучим снадобьем. Князь Рогволод, растерянный, топтался возле кровати. Перепуганные челядницы сновали взад-вперед, приносили теплую воду, примочки, припарки. Одна из них держалась за покрасневшую щеку – видимо, княгиня отвела на ней душу, а рука у матушки-княгини тяжелая.
– Где он? – сразу же спросила Добронега.
– Кто? – не понимая, почему-то испугалась мать. (Когда княгиня пугается, она становится удивительно некрасивой.)
– Он… – обессиленно прошептала Добронега, и князь Рогволод понял дочку.
Позовите кукейносских воев, – приказал князь челядницам.
Вошли вои. Один высокий, синеглазый, с рыжеватыми волосами, другой пониже ростом, светлоголовый. Не было на них походных доспехов, лица были свежие, умытые, но все равно пахло от них снегом, дымом, дорогой.
– Как зовут вас, вои? – приподнявшись на локте, спросила Добронега.
– Я – Холодок, – весело ответил рыжеволосый. А он – Грикша. Занедужила, княжна? От нашего господина, князя Вячки Борисовича, что держит престол в Кукейносе на двинском пограничье, поклон тебе, княжна Добронега, поклон твоим отцу с матерью. Слава князей свислочских докатилась до Кукейноса. Меч крепок плечом, а плечо у князей свислочских, как мы слышали и знаем, всегда было крепкое. За землю полоцкую, за веру предков наших нерушимо стоят они на южных границах, как мы, люди кукейносские, стоим на западе.
Эти слова явно понравились князю Рогволоду Свислочскому – он заулыбался, раздувая седые усы. Любил он сечу, любил хмельной мед, а еще любил слово мягкое, лестное.
– Бересту мы привезли от князя Вячки, – продолжал Холодок, и глаза его весело поблескивали. – Низко кланяется он твоим родителям, – тут вои поклонились в пояс, – и просит их, чтобы согласие дали, не перечили его желанию взять тебя в жены, княжна. Если будет твоих родителей и твое согласие, то наш князь на крещенье сватов пришлет. Сам он теперь в Полоцке, с великим князем Владимиром переговоры ведет.
Холодок умолк, и в светлице наступила тишина. Все смотрели на Добронегу. А у Добронеги душа пела, глаза светились, какой-то неведомый, но желанный, сладостный голос звал ее. Только она слышала этот голос, только она.
– Я знаю князя Вячку, – сказал князь Рогволод. – И отца его, великого князя полоцкого Бориса Давыдовича, знал. Крепкое племя. Доброе семя. Но ответь мне, вой, а где же княгиня Звенислава, жена князя Вячки?
– Бог позвал ее, – тихо проговорил, склонив голову, Холодок. – Умерла княгиня Звенислава, оставив в горе князя и дочь Софью. Пять солнцеворотов молодой князь сердце и уста отдавал печали, на свет белый глядел без улыбки. Но живому – жить, солнцу – светить, дереву – расти, сердцу – надеяться. И потому князь Вячеслав Борисович, или Вячка, как зовет его весь люд кукейносский, повеселев сердцем, глянул, словно молодой голубь, словно месяц ясный, в вашу сторону. За горами, за лесами говорили нам, что есть у вас голубица. Так нельзя ли соединить наших голубков? Сколько бы от них пошло голубочков, белых, золотых, алмазных! Если будет ваше согласие, князь Вячка готов святой крест целовать на сыновнюю верность вашему дому, на верность, до сырой земли и гробовой доски, княжне Добронеге. Решай, князь Рогволод Свислочский. А пока что прими дар от славного города Кукейноса. Наше море янтарем плачет. И шлет тебе князь Вячка янтарь – морские слезы. Грикша, неси подарок.
Грикша внес в светлицу большой кожаный мешок, развязал его, высыпал у ног Рогволода Свислочского и княгини Марьи целую гору янтаря. Все онемели от удивления и восторга. Желто-коричневое лучистое сияние мягко ударило в глаза. Был тут и медовый цвет, и красновато-бурый, и огненный, как осенняя кленовая листва. Янтарь переливался самыми неожиданными оттенками, он впитывал дневной свет и хранил его в самой глубине. Не холод, не подводную грусть излучал янтарь. Тепло смолы, бегущей блестящим живым ручейком по разомлевшей от солнца сосновой коре, было заключено в нем.
Добронега осторожно взяла круглую розовато-золотистую горошину, поднесла к глазам. Внутри прозрачной горошины, в самой сердцевине, был навек замурован зеленый усатенький жучок. Казалось даже, что таинственно поблескивает его глаз – малюсенькая капелька, искринка солнечного света, сиявшего над землей еще до всемирного потопа. Сколько поколений людей исчезло, сгорело в пламени времен, а маленький жучок, спрятавшись в кусок янтаря, смотрит оттуда на людей, словно стараясь что-то сообщить им.
«Богато живут в Кукейносе», – думал князь Рогволод Свислочский, не отрывая глаз от искристого янтаря. И, того не желая, увидел мысленно неурожайные песчаные земли своего княжества, недовольных хитрых бояр, перешептывающихся о чем-то за его спиной, ободранную дружину, которую можно удержать в послушании только вином и мясом.
– Знаю князя Вячку. И отца его, великого князя полоцкого Бориса Давыдовича, знал, – после некоторого раздумья повторил князь Рогволод слова, которые уже все слышали. Все ждали новых слов, и князь твердым голосом произнес их: – О тебе, дочь моя, думаю. О твоем счастье пекусь. Хочешь за князя Вячку? Хочешь быть княгиней кукейносской?
Все взгляды скрестились на Добронеге. Кукейносские вои затаили дыхание. У княжны загорелись щеки. Она вспомнила, как сердито и тоскливо шумит зимний ночной ветер, как быстро катятся дни. Снова глянула на розовато-золотистую горошину. Зеленый усатенький жучок вечным сном спал внутри горошины. И была эта горошина красивой блестящей тюрьмой.
– Хочу за князя Вячку, – дрожащим голосом сказала Добронега и стала перед отцом и матерью на колени. Княгиня Марья всхлипнула, бархатным рукавом смахнула слезу с глаз. Рогволод Свислочский радостно и широко, будто зерна в пашню кинул, перекрестил дочь.
– Вот вам мое слово, вои, – торжественно провозгласил он, обращаясь к Холодку и Грикше, – княжна Добронега согласна стать женой вашего князя. Я и княгиня Марья даем свое отеческое благословение. Все в воле божьей. Аминь.
Слово было сказано. Все с облегчением вздохнули, как будто камень с души сбросили. Добронега, опустив русую косу, все еще стояла на коленях. Челядницы, перехватив нетерпеливый взгляд князя, торопливо собирали в мешок янтарь. Князь Рогволод весело похлопал Холодка по плечу:
– Я щедро тебя награжу. Князья свислочские друзей никогда не забывают.
– Будь, князь, здоровый и ладный, как лед колядный, – поклонился Холодок.
Великая радость пришла в Княжье сельцо. Радовался князь Рогволод Свислочский с княгиней Марьей, радовались бояре, дружинники, челядь надворная, смерды из окрестных селений. Хотя почти никто не видывал князя Вячку, все говорили, что Рогволод Свислочский нашел себе очень хорошего, славного зятя, что даст Вячка за Добронегу богатое вено.
В княжеском тереме до глубокой ночи играли музыканты, слуги еле успевали вскрывать запечатанные сургучом амфоры с вином, на длинных рожнах жарились телята, барашки, кабаны, зайцы. Все выпивалось, все съедалось, и застолье начиналось наново. Давно не было так шумно и весело в Княжьем сельце.
Счастьем сияли глаза Добронеги. С серебряным веночком на голове, в платье из прозрачного ромейского шелка, она подливала вино и мед Холодку и Грикше, выспрашивая у них:
– А красивый ли ваш князь?
– Наш князь – слиток чистого золота, – горделиво и весело отвечал Холодок. – Наш князь что олень быстроногий. Летит на горячем коне, и пуща ему в пояс кланяется. Затрубит в охотничий рог – листва с деревьев осыпается.
– А Кукейнос ваш красивый?
– Святой Рубон течет у нас – Двина. Леса у нас без конца и без краю. Луга зеленые. У нас весной столько птиц поет, сколько капель у самого частого дождя.
– А небо у вас какое? – допытывалась Добронега.
– Небо у нас не выше, не красивее, чем тут, но все же не такое, как у всех, – медовой рекой разливался Холодок. – Небо у нас что голубое стекло твоего браслета, княжна. Небо у нас…
– У нас дожди часто идут, – вмешался вдруг в разговор Грикша. Холодок глянул на него непонимающе да так и остался с открытым ртом. Сбились мысли у Холодка. Добронега до слез на глазах рассмеялась.
– Какие дожди? – наконец нашелся Холодок. – Ты что плетешь, Грикша? Ну и пусть себе идут. Земле божий дождик нужен. Только зачем княжне об этом говорить?
– Не боюсь я дождя, вои, – налила меду в серебряные чары Добронега. – Сама в дождь родилась.
– Не слишком ли много ты, Грикша, зубами звенишь? – не унимался обиженный Холодок, хоть Грикша больше не проронил ни слова.
Под вечер в Княжье сельцо примчался на взмыленном коне старший конюх Коноплич, упал на колени перед теремом, кинул в снег шапку, закричал-заголосил:
– Беда, князь! Беда великая!
Седая борода Коноплича была в крови, а с левой стороны еще, похоже, и выдрана.
Рогволод Свислочский прытко выкатился из-за хмельного стола, выбежал во двор, грузный, с обвисшим животом под белой полотняной рубахой, грозно встал перед конюхом.
– Беда, – говорил, боясь поднять глаза на князя, Коноплич. – Отшельник из норы вылез. Смердов, чернь взбунтовал. Всем тайный знак показывает, ведет народ сюда.
– Какой тайный знак? – схватил князь старшего конюха за бороду.
– На левом плече у отшельника большое коричневое пятно, заросшее седыми волосами. Он говорит смердам, что это знак Перуна и что ему в самую полночь был голос таинственный. С неба прогремел тот голос, объявил, что через седмицу настанет конец света, хлынет вода на твердь земную, рыбы морские, гадюки болотные в хаты к людям заплывут, выи им перегрызут. Небо рухнет, и придет конец всему живому.
Коноплич наконец отважился глянуть на князя, зачерпнул горсть снега, вытер им кровь с бороды.
– Говори, собака! – нетерпеливо пнул его острым носком сафьянового сапога князь.
– Сказывают, у отшельника этого изо рта огонь вырывается, – приглушая голос, боязливо глядел на Рогволода Свислочского конюх.
– Огонь? – удивился князь. – Какой огонь?
– Красный. С искрами.
При этих словах Коноплича князь Рогволод побледнел, растерянно оглянулся на своих бояр, на Холодка с Грикшей, стоявших рядом. Хмель оставил его. А как было бы хорошо сидеть сейчас за широким веселым столом, пить мед со сватами!
– Ты сам огонь видел? – наклонился он к конюху, снова намереваясь схватить его за бороду.
– Своими глазами. Искры изо рта роем летят. Смерды с ума сходят. Теперь толпой пошли на Старый курган. Отшельник всех повел.
– Что им делать на Старом кургане? – недоуменно оглянулся, как бы прося поддержки и подсказки, Рогволод Свислочский. Но все молчали, и князь, опять ударив конюха, закричал: – Трубите в трубы! Созывайте дружину!
А тем временем черный людской поток затопил Старый курган, поднимавшийся издревле в двух поприщах от Княжьего сельца. Некогда тут размещалось поганское капище, да еще дед Рогволода Свислочского порубил, пожег деревянных идолов, а тех вещунов, что служили этим идолам, зеленой дерезой их украшали, приказал утопить в болоте. Летом и весной тут все зеленело, ветер, налетавший со Свислочи, кудрявил молоденькие березки. Осенью и особенно зимою какая-то тоска, непонятная тревога нависали над Старым курганом, и тогда никто из окрестных смердов не отваживался подняться на него – подкашивались у смельчаков ноги, начинали слезиться глаза, сердце билось, как воробей в тенетах. Только волкам было тут раздолье. И теперь, заметив на синеватом снегу цепочку глубоких волчьих следов, смерды в страхе остановились, начали креститься, шаг за шагом подаваться назад, словно сдувало их сильным ветром.
– Слышу Перуна! – пронзительно закричал отшельник и, выпустив изо рта клубок искр, отважно взошел на самую вершину Старого кургана, сел прямо на снег. Был он, как всегда, босой, тело прикрыто звериными шкурами. Грива грязно-серых волос поднялась от порыва ветра. Отшельник сорвал с руки проволочный браслет, высоко поднял его над собой, сверкая ярко-синими глазами, с воодушевлением закричал онемевшей толпе:
– Перун сказал: возьмите свое! Перун сказал:
никчемные рабы, станьте хозяевами! О, громовержец всесильный! Дыхание твое проливается на все живое, как влага небесная на сухую траву.
Одним рывком, как раненый тур, он вскочил со снега, властно приказал всем:
– Собирайте сухой хворост, коряги!
Люди, старики и дети, бросились во все стороны, начали ломать сухие ветки, выдирать из земли трухлявые пни, и через несколько минут на самой вершине кургана громоздилась целая гора дров.
Отшельник чиркнул огнивом о кремень, но искра не высекалась. Тогда он широко, до посинения, надул щеки, резко выдохнул, и пучок огненных искр вылетел у него изо рта. И сразу же запылал костер. Люди попадали на колени. Женщина в черном тулупе забилась, задергалась в истерике.
– Перун! – завыла толпа.
Они были из разных селений, разных общин, впервые встретились, и собрал их в один кулак, сделал единой неудержимой рекой страшный длинноволосый человек, который теперь сидел на снегу перед ярким огнем и острым твердым взглядом, казалось, проникал в глубь пламени. Женщина в черном тулупе подползла к отшельнику, начала целовать его босые холодные ноги. Он даже не глянул на нее, продолжая шептать какие-то заклинания. Казалось, душа его была теперь там, в пламени, корчилась вместе с языками багрового огня в величайших муках и величайшем наслаждении.
Ждали, пока догорит костер. И вот он обессилел, погас, умер, и тогда отшельник цепкими бледными пальцами с длиннющими ногтями впился в оттаявшую землю, начал лихорадочно копать ее. Так раненая лиса, спасаясь от смертельной опасности, роет себе нору.
Возбуждение толпы возрастало с каждой минутой. Все не отрываясь смотрели на узкую спину отшельника, на его руки, торопливо выгребающие на белый снег желто-бурый песок. Глаза его заливало едким потом, и он морщился, мотал головой, даже изредка взвизгивал, но не прекращал копать. Наконец задымилась от пота спина. Отшельник в изнеможении глотнул воздух широко раскрытым черным ртом, на какое-то мгновение остановился.
Стон разочарования прошел по толпе. Все так ждали, так надеялись, что вот-вот произойдет чудо, а чуда не было. Некоторые даже заплакали. Женщины высоко поднимали своих детей, худых, грязных, и дети со всех сторон смотрели на отшельника, в глазах их светился немой укор.
– Тише! – вдруг пронзительно закричал отшельник. – Тише! Иначе Перун превратит ваши смоковницы в сухие жерди.
Он припал ухом к земле, долго внимательно вслушивался, потом радостно, как дитя, засмеялся, крикнул: «Есть!» – и снова с еще большей скоростью начал рыть землю. Толпа снова окаменела.
– Есть! – вскричал отшельник, вскочил на ноги, поднял над головой, держа обеими руками, каменный топор. Потемневший от времени и тьмы, он не одно столетие пролежал в могиле неизвестного, забытого богом и людьми воя. Отшельник выкопал и череп этого воя. Одна из женщин надела череп на длинный шест, высоко подняла его над толпой.
– Перунов топор! Перунов топор! – зашумела, заволновалась толпа. – Боевой топор предков!
Глаза людей сияли счастьем, лица помолодели. Каменный топор, выкопанный отшельником, всех разом наделил силой.
– Веди нас, умрем за тебя! – закричала, завыла толпа.
Люди хлынули вниз со Старого кургана, и впереди всех, пуская искры изо рта, пританцовывая, размахивая каменным топором, легкой походкой шел отшельник, в прошлом княжич из Черниговских земель.
В Княжьем сельце уже поджидали эту черную рать. Рогволод Свислочский приказал закрыть ворота, дружину и всю дворовую челядь, вооружив, поставил на вал. Челядники без устали поливали вал водой, пока на нем не заблестел голый скользкий лед. Напротив княжеского терема на большом костре кипятили в черных бронзовых котлах смолу.
Холодок с Грикшей, надев боевые доспехи, тоже встали на вал. Дул порывистый ветер. Снежный лес топорщился заледеневшими сучьями. Тучи воронья, предчувствуя кровавую сечу, со зловещим криком слетались к Княжьему сельцу. Рогволод Свислочский, глянув на беспокойных крикливых ворон, сказал своим боярам:
– Разум помутился у смердов. Ну погодите, сыроеды, – мерзлой землей досыта накормлю.
Огромная шумная толпа вылилась черной рекой на широкий заснеженный луг перед Княжьим сельцом. Смерды шли с дубинами, вилами, косами. Но у большинства были одни кулаки. Много шло женщин и детей.
Толпа приближалась. Тогда княжеские дружинники начали стрелять в нее из луков. Стрелы летели с тонким свистом, впивались в черную человеческую стену. Несколько смердов упали. Толпа, словно споткнувшись, приостановилась.
– Чего вы хотите, люди ротайные? – крикнул с вала сам князь Рогволод Свислочский.
Он стоял, закрывшись от бороды до пят большим красным щитом.
– Житницы открой! Отопри житницы! – угрожающе заголосила толпа.
Камни полетели в князя, один тяжело стукнулся о щит. Князь покачнулся.
– Отопри житницы! – неслось со всех сторон. Тогда князь поднял лук, который подал ему дружинник, натянул тетиву и пустил стрелу, целясь в отшельника. Но тот уклонился от стрелы, закричал, злорадно засмеявшись:
– Меня железо не берет!
Смерды снова пошли на приступ, прячась за щитами, сколоченными из досок, но, потеряв не один десяток людей, откатились от вала. Громко стонали раненые, голосили женщины. На валу упал один вой – камень попал в висок.
И тут Рогволод Свислочский схитрил. Самые голосистые вои начали кричать с вала смердам, что житницы будут открыты, только сначала надо провести переговоры. Из Княжьего сельца на переговоры вышли Холодок с четырьмя дружинниками. Шли безоружные, но Холодок спрятал под зипун шестопер – небольшую железную булаву с острыми шипами. Смерды отрядили для переговоров тоже пятерых, среди них был и отшельник.
Встретились в пятидесяти саженях от вала. Отшельник положил в снег свой каменный топор и, выпуская изо рта искры, смело подошел к Холодку.
– Ты кто? – спросил у него Холодок.
– Вещун. Сын Перуна, – не моргнув глазом, ответил отшельник.
– Почему огонь во рту носишь?
– Когда несмышленышем был, проглотил кусок солнца. Солнце во мне и горит.
– Правду ли говорят, что ты все наперед видишь?
– Правду.
– Что с тобой будет завтра?
– Завтра я буду носить золотые порты князя Рогволода Свислочского.
– А что будет с тобой теперь?
– Теперь я собью замок с княжеской житницы и дам им, – бледной худой рукою отшельник показал на смердов, – хлеба.
Тут Холодок выхватил из-под зипуна шестопер и со всего маху ударил отшельника по голове. Брызнула теплая кровь. Отшельник упал, душа его отлетела в тот же миг.
Смерды онемели от неожиданности и ужаса. Тот, кого они считали чуть ли не богом, кто похвалялся своим бессмертием, беспомощно лежал на снегу, как дохлая кошка. Изо рта его выкатился большой орех с просверленными в скорлупе отверстиями. Вместо ядра в орехе краснел уголек. Холодок наступил на орех, раздавил его.
Увидев, что отшельника больше нет, дружина князя Рогволода открыла ворота и с яростным криком врезалась в толпу смердов. Смерды бросились врассыпную, на мечах дружинников заалела кровь. Несколько поприщ гнались знузники за смердами, кололи их длинными дидами, топтали конями. Стоны и крики стояли над Свислочью и Березиной.
Один из смердов, спасаясь от знузника, полез в старую барсучью нору. Его заметили, вытащили за ноги. Обливаясь холодным потом, глядел он круглыми испуганными глазами на занесенную над ним диду, однако молчал, не молил о помощи. Дида ударила в худую, красную от холода шею, и смерд упал в снег, захлебнувшись кровью. Это был отец Мирошки Ратибор.
Глава вторая (часть III)
Стрый Яков на маленьких саночках привез мертвого Ратибора в Горелую Весь. Правая рука, закоченевшая от смерти и мороза, волочилась по земле, вспарывая снег, словно дубовое орало, которым пашут весной. Настасья с причитаниями кинулась к санкам, взяла эту руку, хотела положить ее мужу на грудь, но рука, тяжело качнувшись, снова упала в снег.
Мирошка, маленький Доможир и Текля стояли возле саночек, на которых лежал их отец.
– Почему он не встает? – шепотом спросила Текля. – Холодно тут лежать…
– Он не встанет, доченька, – заголосила Настасья. – Помер кормилец наш.
Вместе с ней заплакали Текля и Доможир. Мирошка пока держался, но что-то очень печальное, очень холодное расправляло крылья внутри него, там, где бьется сердце. Стало трудно дышать. Ноги подкашивались. «Это дикая вира забрала отца, – думал Мирошка. – Она хотела схватить меня, да я сбежал – у меня ноги легче. Неужели никогда больше не будет его с нами?»
Тут слезы ручьем полились из глаз. Он плакал и вспоминал, как однажды, давным-давно, разразилась страшная гроза. Перун стрелял из огненного лука, трещали деревья над черной вспененной Свислочью, переламываясь в стволах; птицы, подхваченные бурей, камнем падали вниз, разбиваясь о деревья, о землю. Отец с Мирошкой спрятались тогда в большую яму, вырытую на крутом берегу реки. Желтый влажный песок тек с краев ямы, постепенно засыпая ноги, и когда наконец затих гром и унялся дождь, ноги у них были по колено в песке. Отец, крепко прижав сына к груди, понес его домой, и мальчик слышал, как стучит, бьется отцовское сердце. «Так-так-так…» – долетало из отцовой груди.
Мирошка стал на колени, приложил ухо, начал, затаив дыхание, вслушиваться там, где должно было жить сердце. Но глухой тишиной была заполнена отцовская грудь, и мальчик, окончательно поняв все, горько заплакал.
В Горелой Веси не было своего попа. Раньше при нужде приезжал из Княжьего сельца отец Семен в парчовой златотканой ризе, а теперь свежей кровью было отрезано Княжье сельцо от селений смердов, и Ратибора, не отпевая, предали сырой земле.
Похоронили его на елани, там, где уже были могилы общинников из Горелой Веси. Срезали лопатами дерн, положили Ратибора на песок, головой на запад, туда, куда спешит солнце. Возле правого плеча оставили покойнику железный нож, у левого бедра – кресало и куски кремня. В ногах поставили глиняный горшок с горохом и житом. Насыпали над Ратибором сажень мерзлого песка, и все – как и не было у Мирошки отца.
Трудная жизнь началась у Настасьи. Надо было без кормильца поднимать на ноги троих ребятишек. Хорошо еще, что Яков помогал, да и Мирошка с каждым днем все больше втягивался в работу, которой у тех, что живут с земли, никогда не переводится. Зимой, пока земля отдыхает, дожидаясь нового семени, дел тоже хватает. Гнут смерды полозья, дуги, ободья, готовят оси, оглобли. Мастерят из дерева ведра, крючья, грабли, ковши, миски, украшая их замысловатой резьбой. Ходят на замерзшие реки, озера и, стуча по льду дубовыми долбнями, глушат рыбу. Охотятся на туров, лосей, кабанов, барсуков, зайцев…
Человек как бы растворяется в круговороте нескончаемых дней. Только сделает одно, как наваливается другое. Но на всей Полоцкой земле солнцеворот для смердов начинается с коляд. А там он уже твердо знает, что от рождества до благовещенья – 12 седмиц, до Юрия – 16, до Миколы – 20, до Купалы – 26 и до следующих коляд еще 26 седмиц. Вот и весь клубок времени, в который короткой нитью вплетена человеческая жизнь.
Человек особенно и не задумывается, ради чего он рождается. Не он первый, не он последний. Были деды-прадеды, будут правнуки. Точно так, как люди, рождаются и через некоторое время исчезают навсегда поколения птиц, деревьев, грибов… Все соединено, связано, совмещено друг с другом. Попробуй хоть один корешок вырвать из этой безбрежной величественной пущи!
Но все же зимой больше выпадает свободного времени. Закружит на несколько дней метель, занесет пушистым снегом все тропинки, выстрелит в комлях деревьев ядреный мороз – и забьются люди в тесные теплые хаты, а какой-нибудь крещенный в Княжьем сельце дед с белой бородой, сидя на печке, держась слабой рукой за «коня», начнет баять про рай и ад, про святых людей и покойников. Волосы у слушающих дыбом встают, мурашки по спине бегают. А дед говорит и говорит, изредка кашляя в сухой кулак, словно сам он свидетель всех этих страхов и чудес.
Мирошка в такие вечера садился на дубовую лавку подальше от окна, сжимался в комочек и, с жадностью внимая каждому слову, замирал… Горит под закопченным потолком сухая лучина. Тень бородатого деда, огромная и страшная, чернеет на стене, и когда дед, закашлявшись, подносит кулак ко рту, кажется, какое-то чудовище замахивается на Мирошку тяжелой когтистой лапой.
Чего только не наслушался Мирошка! Да особенно поразило, ожгло сердце сказание о том, как богородица вместе с архангелом Михаилом спускались в ад, чтобы глянуть на муки грешников. Там навек заключены те, кто не верил в троицу и богородицу, чтил поганских богов, нарушал крестную клятву, а также проклятые родителями, блудницы, людоеды, воры. Одни вынуждены стоять в огненной реке – кто по колени, кто по шею. Другие лежат в кроватях, объятых пламенем. Третьи подвешены на железных деревьях – за зуб, за язык, за то, что мужчины от посторонних глаз скрывают. Вечный стон, вечный крик стоит в аду. Негасимый огонь горит там.
Ночью Мирошка вскрикивал, вскакивал с полатей. Казалось, со всех сторон уставились на него зловещие огненные очи, страшные когти и зубы тянутся к нему. Хотелось убежать от этого кошмара, да ноги были словно чужие – то путались в высоченной жгучей траве, то засасывало их противное хлюпкое болото. Подходила мать с ковшом холодной воды, осторожно расталкивала сына за плечо. Мирошка просыпался, пил воду, просил мать, чтобы посидела рядом, и только тогда сон брал его под свое крыло, снова мальчик бродил по таинственным волшебным тропкам, но они уже были добрые, веселые. Там играли доверчивые зайцы. Там могучие волосатые туры спокойно брали Мирошку к себе на спину, и он мчался в бесконечные леса, в луга, горевшие яркими цветами.
– Ты, брат, чего кричишь по ночам? – смеялся утром Яков. – Ты днем иди в пущу, откричись и ночью будешь спать как у бога за пазухой.
Они и в самом деле шли на Свислочь, в засыпанную снегом пущу и кричали во всю силу молодой груди:
– Ого-го-го-го! Э-ге-ге-гей!
Белый-белый снег тонкими струйками срывался с косматых елей. Перепуганные белки стремительными стайками разбегались по верхушкам деревьев. Однажды что-то угрожающе заревело, гневно закряхтело под еловым выворотнем.
– Бежим, Мирошка! Медведь проснулся! – весело закричал Яков. Они так припустили, что ветер свистел в ушах.
Во время таких вот лесных походов попали как-то Яков и Мирошка на поганское капище. В центре круглой лесной поляны стоял высокий, почти в три сажени ростом, дубовый бог (попы зовут его идолом), украшенный разноцветными лентами, бусами из желудей, орехов и сушеных ягод. Вокруг главного бога размещались маленькие божки. Их было, как посчитал Яков, двенадцать – столько, сколько в солнцевороте чертогов – месяцев.
Со всех сторон к капищу вели густо протоптанные тропинки. Снег с болвана и болванчиков был старательно сметен.
– Ходят сюда люди, – сказал Яков. – И твоя мать ходит.
«Так вот ты какой, лесной бог», – думал Мирошка, осторожно приближаясь к главному идолу, вглядываясь в темные, грубо вырезанные из дерева черты загадочного сурового лица. У идола не было ни ног, ни рук – только голова на толстом дубовом стволе. «Тут молятся моя мать, соседка Прасковья. Сюда под покровом ночи, чтобы никто не заметил, крадутся люди изо всех окрестных общин. Чем ты влечешь их, лесной бог? Что даешь? Тебя давно бы порубили на мелкие кусочки и сожгли князь с попом, если бы только нашли. Скажи, лесной бог, как живет на том свете мой отец Ратибор? Хорошо ли ему там? Вспоминает ли он меня?»
Яков, судя по всему, тоже был взволнован неожиданной встречей с лесным богом. Сняв шапку, стоял молча, смотрел на темнолицего дубового идола.
Вдруг луч солнца, пробив снеговые тучи, упал на лицо идола. И произошло чудо – ярко и весело засияли, засветились, как у живого человека, его глаза. Мирошка с Яковом так и оцепенели, застыли, затаив дыхание.
Они могли поклясться на кресте, что за минуту до этого у идола не было никаких глаз, лицо было темное, плоское, мертвое, слепое. И вдруг – эти глаза! Солнечные лучи, как золотые нити, затрепетали на щеках у идола. Казалось, он одновременно и смеется и плачет.
Скрылось за тучами солнце, погас луч, идол снова стал идолом – темным неподвижным мертвым куском дерева.
– Что это было? – ухватившись за руку Якова, испуганно прошептал Мирошка.
– Глаза… Глаза глядели на нас, – тихим голосом ответил Яков.
– А где они теперь?
– Бог их закрыл. Он увидел нас, благословил и снова сомкнул веки. Не хочет он долго смотреть на людей, ведь люди предали его, поменяли на греческого бога, которого попы обкуривают сладким дымом из кадильниц. Пойдем отсюда, Мирошка.
Осторожно, по одной из тропинок, чтобы не оставлять лишних следов, они пошли в глубь зимнего леса, а Мирошка все еще видел перед собой таинственные яркие глаза. Они глядели на него со снега, с темно-зеленых еловых лапок, с неба, даже со спины Якова, шагавшего впереди.
«Что это было? – мучительно думал мальчик. – Почему молчит Яков? Он же так любит обо всем рассказывать, все объяснять, учить, где надо и где не надо».
А Яков и в самом деле знал, что произошло. В глазницах у идола было по маленькому драгоценному камешку. Их привезли издалека, с теплого моря, до которого, наверное, только птицы долетают. Целый лашт меда и воска отдали за них купцам люди с берегов Свислочи и Березины. Яков знал об этом, да почему-то не захотел рассказывать Мирошке – пусть помнятся мальчику не камни, а глаза, живые, нестерпимо блестящие.
Зима все больше выстуживала землю и пущу. Потом повалил снег, да такой густой, такой обильный, что за несколько дней Свислочь замело по самые берега. Горелая Весь спряталась вся под снегом, только редкие дымки, как звериные хвосты, медленно колыхались в холодном небе.
Ямы, в которых прятали зерно, замуровало снегом, к ним невозможно было пробиться, и голод подкрался к людям. Звери и птицы куда-то исчезли – то ли попрятались от лютой зимы, то ли перебежали и перелетели в более безопасные места. Охотники возвращались из тихой пущи с тулами, полными стрел, с рогатиной, так и не впившейся в теплый звериный бок. В силки, в западни, в звериные ямы попадали только снег да прошлогодняя мерзлая листва.
Одной особенно лютой морозной ночью в небе вспыхнул большой серебристо-белый крест. Он грозно сиял над землей. Все проснулись в Горелой Веси – старые и малые. Все со страхом вглядывались в ледяную высь, ожидая конца света.
Наутро черная ниточка людей потянулась из Горелой Веси в Княжье сельцо. Шли покорно, с тихим плачем и вздохами. Слезы на глазах женщин на ходу замерзали, превращаясь в блестящие холодные горошины.
Рогволод Свислочский встретил измученных смердов миром и ласковым словом, как отец встречает своих блудных детей.
– Князь-христолюбец, князь милосердный, дай хлеба, – сняв шапки, бухнулись на колени люди. – В глазах темно… Дети пухнут… Хоть на конском хвосте вешайся…
– А вы лошадей своих порежьте, – сыто загоготал с вала старший конюший Коноплич, не забывший, как эти смиренные овцы еще недавно по волоску вырывали ему бороду.
– Не то говоришь, раб, – сердито глянул на Коноплича Рогволод Свислочский. – Что за смерд без коня? Туча без неба. Подует ветер – и нет тучи. – И снова повернулся к немой толпе, стоявшей на коленях. – Сосновую кору едите?
– Едим, княже, едим. И мох едим…
– Плохо. Христиане должны есть божий хлеб, а не траву подножную. Я дам вам хлеба. Отворю житницу. Сказано в «Слове о богатом и бедном Лазаре»: «Ты же, когда войдешь в палаты, когда ляжешь на ложе и поставят перед тобой большую и полную трапезу, вспомни того бедного, что бродит, как пес, по улицам в сумерках и грязи и оттуда идет не на ложе, не к жене, а на соломе, словно пес, всю ночь воет».
– Кланяемся тебе в ноги, князь-заступник, – слабо отозвалась, зашелестела толпа.
– Я дам вам хлеба, а вы моему огнищанину Некрасу отдадите заречный луг, на котором пасется общинный скот.
Подумали смерды, что уже не первому огнищанину отдают они кусок своей земли, да не хватило силы перечить – голодные дети исходили нескончаемым плачем.
Княжеский хлеб спас Горелую Весь. Перебились, перетерпели, а там и зима отпустила, и солнышко начало с неба улыбаться, и тот, кто не умер в лютую стужу, уже верил, что как-то доживет до весны, до дня Бориса и Глеба, когда зерно в борозды бросают с песней:
Святой Борис ляда сушит, Землю греет, ячмень сеет. Из пол-лукошечка, из правой горстки. Бросишь редко – даст Бог густо.Да рано радовалась Горелая Весь. Глубокий снег, заваливший ее перед этим, принес не только беду и муки. Он еще и отрезал ее от всего мира, а значит, и от врагов, от татей-живодеров, у которых загребущие руки, ненасытные животы и злые мечи. А как только стало поменьше снега в пуще и на реках, как только смог боевой конь, не провалившись в снег по самый живот, добежать до Горелой Веси, пришла в Свислочское княжество дружина друцких князей. Говорят же: куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Рогволод Свислочский не ожидал такой прыти от соседей. Сам он в наезды ходил, когда зима со льдинами по рекам сплывала, когда снегу становилось тесно на теплой земле. Заперся Рогволод в Княжьем сельце, дружину на вал поставил, челядь вооружил – решил отсидеться до лучших времен. Каждую ночь молился богу в церкви, дедам-прадедам своим молился, на помощь звал. И думал то ли со злостью, то ли с отчаянием:
«Они-то, деды-прадеды, успели, поумирали. Им – хорошо. А тут еще придется умирать». Ставил свечки всем святым: и Ефросинье Полоцкой, и братьям Борису и Глебу, и Феодосию Печерскому. Да все равно легче князю не стало.
Дручане полезли было на вал, но встретил их Рогволод стрелами калеными, смолой и огнем, каменным дождем из камнестрельной машины, которую после бунта смердов во дворе поставил. Крик и плач до неба долетали.
Хлебнув лиха, дручане рассыпались, как тати, по всей округе, начали грабить смердов, не снимая, однако, осады с Княжьего сельца, правильно решив, что не только смелость города берет – голод тоже берет. Сидел князь, как раненый вепрь, за валом, глядел на дым и огонь, что заслоняли небосклон, и плакать хотелось – ведь это его богатство, его сила дымом в небо шли, врагу доставались.
Горелая Весь, уже не раз на своем веку повидавшая разбой, готовилась к новому разбою. Люди загоняли скот в лесные чащи, складывали в мешки, прятали в дуплах деревьев, в ямах зерно, справную одежду, посуду, золото и серебро, что у кого было.
Настасья с Мирошкой тоже нагрузились и поспешили в пущу, Доможир с Теклей остались дома. И Яков остался – ногу подвернул на охоте, за соболем бегая.
– Скорей, скорей, сынок, – подгоняла мать. Они тянули санки с нехитрыми пожитками, то и дело проваливаясь в липкий подтаявший снег. Из-за Гремучего бора, оттуда, где находилось Княжье сельцо, плыли тучи черного дыма. Там гремел и гремел, захлебываясь, церковный колокол.
– Что ж это деется? – шептала мать. – За что напасть такая?
Мирошку охватывал ужас. Плохо, что рядом нет стрыя Якова. С Яковом и страх меньше, и дорога короче – он все лесные тропинки знает.
– Скорей, сынок, скорей, – все повторяла мать. Наконец они нашли свое дерево с дуплом-тайником. Каждая семья из Горелой Веси имела такое. Найдя в чащобе дуплистое дерево, сначала выкуривали из него пчел, потом чистили, расширяли дупло, и вот лесной сундучок готов.
– Отдохнем немного, – когда все было сделано, сказала мать.
Они присели на санки, притихли.
Беспокойно шумела пуща. Деревья жили предчувствием недалекой весны, и хотя вместо бурлящего сока в их жилах стыл еще холодный лед, хотя корни их дремали в мерзлой земле, как оцепеневшие черные ужи, что-то в них изменилось, и Мирошка сразу же заметил эту перемену. Голос у деревьев стал мягче, веселее. Деревья глядели со своей недосягаемой высоты на Мирошку и будто узнавали его, будто улыбались ему.
«Эге-ге-гей, Мирошка, – чудилось мальчику в лесном гуле, – мал ты еще, мал. А посмотри, какие мы огромные, крепкие, сильные, как обросли мы зеленым мхом, словно вои Рогволода Свислочского бородами. Мы стоим стеной. Никого не пропустим в вековую чащу – ноги корнями переплетем, глаза ветками выколем. А в чаще той золотая избушка стоит. Серебряный дымок из медной трубы вьется. Там старичок-лесовичок живет. У него глазки что бруснички, брови – мягкий желтый мох. А в бровях золотые пчелки ползают, копошатся. Ему и белки служат, и куницы, и волки. Ежик старичку-лесовичку на острых иголках кислые лесные яблоки носит. Откусит лесовик яблоко, сморщится, чихнет, и сразу потемнеет, зашумит, застонет пуща. Совы закугукают. Филины-пугачи заухают. Гнилой зеленый туман над болотом повиснет, и в том тумане, как присмотришься, люди какие-то плавают. Руки у них на груди сложены. Это утопленники, которых засосало болото. Не ходи на болотный мох… Не ходи на болотный мох…»
– Мирошка, – окликнула его мать, – ты что, заснул?
Она потрясла сына за плечо. Мирошка вскочил, прогоняя сон.
– Пойдем, мама, домой, – попросил мальчик. Уж так одиноко и грустно ему почему-то стало, так захотелось скорее увидеть стрыя и Доможира с Теклей, что сердце сжалось. Он потянул пустые санки и глянул на огромные деревья, подпиравшие небо вершинами. «Кто же мне шептал? Чей голос я слышал? – мучительно раздумывал он. – А мать, слышала ли она этот голос?» У матери он не отважился спросить – сразу же заставит, как вернутся домой, стать на колени перед строгим домашним богом и молиться.
– Дымом пахнет, – вдруг сказала мать и остановилась. Стал и Мирошка с санками.
Они уже почти добрались до Горелой Веси, осталось только подняться на поросший молодым сосняком пригорок.
– Не наш дым, – осторожно втянула воздух, принюхалась мать. Мирошка удивился: как это она может отличить, наш дым или нет? Дым всегда одинаковый. Но мать, побледневшая, с остановившимся взглядом, ступила несколько шагов вперед и тяжело осела прямо в снег.
– Сынок, Мирошка, – вдруг сорвала она с головы тяжелый домотканый платок, – нет нашей веси.
Мирошка, вздрогнув, удивленно уставился на мать. Что она говорит? Как это – нет? Весь не листок с березы, не улетит в небо.
Не бросая санок, он взбежал на пригорок и онемел. Не хаты соседей-общинников увидел он, а костры. Вместо каждой хаты пылал костер. И так по всей Горелой Веси. Столбы огня и дыма поднимались в небо. Он глянул туда, где должна была стоять их хата, и увидел острые багровые языки пламени. Мальчик растерянно повернулся к матери:
– Мама, что это?
Мать не отвечала. Она словно окаменела. Блестящие белые глаза с ужасом смотрели куда-то мимо Мирошки, сквозь него.
– Доможир… Теклечка… – шептала мать. Мирошка заплакал. Но мать не увидела – не увидела! – его слез. Это было впервые. Обычно она, чуть чихнет сын, чуть пустит слезу, сразу прибежит, приголубит, приласкает…
– Доможир! Текля! Детки мои золотые! – закричала мать и побежала, проваливаясь в снег, к деревне.
– Мамочка! – еще сильнее заплакал Мирошка, не зная – бежать за ней или нет, бросать санки или нет.
Горелой Веси не было. Она снова сгорела, сгорела дотла. Коров и овец, которых не могли погнать с собой, вои друцкого князя зарезали, а мясо бросили своим собакам. Голодные псы, объевшись, опьянев от горячей крови и жира, вповалку лежали вдоль улицы, а потом, когда могли подниматься, сбивались в стаю и бежали по следам друцкой дружины – от Горелой Веси через лес к Свислочи и там, по речному льду, на север.
Такого разбоя давно не видали на берегах Свислочи. И не печенеги напали, не угры, не орда бродячая, а свои, единокровные, единоверцы. Да, видно, так оно и ведется издавна, что свои бьют сильнее, знают, куда ударить, как ударить, знают все больные места.
Дручане, хоть их и опасались общинники, напали на Горелую Весь неожиданно. Вывалили из лесу, как черная туча из-за горы. Обчистили каждую хату, взломали каждый сундук. Забрали все, что можно было забрать. А нельзя было забрать только землю, небо и хаты. И тогда они подожгли хаты, отравив небо и землю горьким дымом.
Яков был как раз во дворе, отгребал подтаявший снег от амбара. Хотел спрятаться, да нога подвела. Друцкие вои накинули ему на шею деревянное ярмо и погнали вместе с другими молодыми мужчинами и парнями перед собой. А чтобы сила зря не пропадала, впрягли их в сани, нагруженные боевой добычей. Шел Яков, кусая губы от отчаяния и обиды. Он, вольный смерд, должен стать челядином, рабочей скотиной, умеющей говорить. Доможира и маленькой Текли нет – сгорели в хате, задохнувшись от дыма. А Настасья с Мирошкой и знать не будут, куда делся он, Яков. Будут пепел разгребать, кости искать.
Прощай, сторонка родная. Увидимся ли когда-нибудь? Прощай, река быстротечная. Прощай, бор златоглавый. Прощай, тропинка лесная, извилистая. Загрустят, заплачут по тебе мои ноги далеко от дома. …А Настасья с Мирошкой, если б немного пораньше вышли из пущи, могли бы столкнуться с Яковом и его товарищами по несчастью. Да больно глубок был снег, ноги в нем увязали, путались, и увидели они не толпу невольников, а только следы этой толпы. Сытые собаки, равнодушно глянув на Настасью с Мирошкой, цепочкой бежали вслед за друцкой дружиной. Собаки то и дело останавливались, отрыгивали под каким-нибудь кустом большие куски непереваренного мяса и трусцой бежали дальше.
Безрадостным было возвращение. Только черный пепел, только дым и ярко-красные пятна крови на снегу увидели Настасья с Мирошкой. Жизнь в Горелой Веси остановилась надолго, может, и навсегда. Когда еще нарожают новые матери новых сыновей, когда еще эти новые сыновья придут сюда, чтобы дубовой двузубой сохой вспахать, поднять онемевший дерн?!
Мать голосила, заламывала руки, искала в золе косточки своих детей. Бог забрал у нее рассудок. Она забыла о Мирошке и все копалась, копалась в золе до самых сумерек.
Надвигалась ночь. Надо было думать о ночлеге. Мать, раздавленная горем, не помнила ни о чем, и Мирошка сам обошел Горелую Весь, нашел более-менее уцелевшую хибарку, в которой до наезда друцкой дружины жил кузнец-сыродутник Чухома. Кузнеца погнали в неволю, детей у него не было, и Мирошка – а что делать? – решил обосноваться в его хибарке.
Первым делом он тряпьем, попавшимся под руку, заткнул окошко, в котором был разорван бычий пузырь. Потом насобирал щепок, досок, обломков бревен, которых после погрома полным-полно валялось на улице, бросил все это в остывшую печь. С пепелища принес в бересте угольков, развел огонь. Через несколько минут весело зашумела печь, пламя осветило углы убогого жилища. На божнице Мирошка не увидел разрисованных досок с изображением домашнего бога – видно, забрали друцкие вои – и обрадовался. Не будут лезть в душу суровые всевидящие глаза, не надо будет, боясь их, сидеть молчком, опасаясь прогневать строгого бога.
Надо было идти на свой двор, чтобы привести оттуда мать в хибарку Чухомы. Тоненько скрипел под ногами темный снег – темный от сумерек, пепла, сажи… Кое-где на пепелищах еще светились, догорая, угольки.
Мать копалась в золе.
– Мама! – тихо позвал ее Мирошка.
Она резко оглянулась, и он увидел страшные блестящие глаза.
– Доможир! – закричала мать. – Ты вернулся, сынок!
– Я не Доможир, – еще тише ответил Мирошка. – Пойдем отсюда, мама.
– Кто же ты? – встрепенулась, а потом сжалась, как бы в ожидании удара, мать.
– Я твой сын, – заплакал Мирошка.
– Ты мой сын?
Мать осторожно поднялась, наклонив голову, подошла на цыпочках к Мирошке, начала внимательно вглядываться в его лицо. Она даже дышать перестала. Ее лицо почти касалось лица сына, и мальчик увидел, увидел впервые, седые волосы у матери на висках, тоненькие морщинки возле рта.
– Ты мой сын? – переспросила мать и дотронулась легкими холодными пальцами до Мирошкиной щеки. – Я знаю тебя! – вдруг вскричала она. – Ты убил душу нашего предка! Зачем ты убил ее?
Мать, сжавшись в черный пугливый комок, упала на землю, в пепел. Мирошка наклонился над ней, горько плача, стал гладить ее волосы, целовать руки. Он все же упросил, уговорил мать пойти ночевать в хибарку Чухомы.
Впервые Мирошка ощутил, что зависит сам от себя, что некому его защитить. Остался он, как деревце в чистом поле. Раньше думалось примерно так: вот живем мы, наша семья, долго-долго жить будем, потом умрет отец, потом мать, за ними Яков, а за Яковом уже я, Мирошка. Жизнь казалось вечной. Как стеной, он был отгорожен от смерти родителями, другими немолодыми людьми. Смерть представлялась страшной сказкой, сном, у которого будет обязательно счастливый конец – он, Мирошка, проснется. Теперь же, впервые за свою недолгую жизнь, мальчик понял, что люди живут и умирают не по очереди, что бог может позвать к себе молодого раньше, чем старого.
Наутро мать откопала на пепелище два маленьких черепа – Доможира и Текли. И это, к удивлению Мирошки, ее сразу же успокоило. Она перестала плакать, прятаться в темные уголки, глаза ее потеплели. И Мирошку она узнала.
– Вот и вся наша семейка, – улыбаясь своим мыслям, мягко сказала мать и поставила черепа на божницу. – Вернется Яков, и заживем мы, Мирошка, как и раньше жили. Летом на Звонком берегу цветы и травы собирать будем.
Подперев щеку тонкой рукой, она застыла, вглядываясь в маленькие закопченные черепа, и они казались ей детьми, живыми, веселыми, ясноглазыми. Мирошка же ни разу не отважился глянуть на божницу, даже не ходил в тот угол. «Мать забудет о них, – думал мальчик, – тогда я их закопаю там, где отец лежит».
Так и начали жить Мирошка с матерью, ветром битые, небом крытые. А до весны еще было далеко. Снова налетели на пущу и на Горелую Весь злобные вьюги. Снова бог морозов Зюзя постреливал в комлях деревьев.
Мать ничего не делала, все сидела у божницы, глядя на черепа детей. Мирошка отыскал у Чухомы немного гороха и репы, наловчился варить какую-то похлебку. Он был весь перемазан сажей, руки в царапинах и ожогах. Так тянулись день за днем. Мирошка потерял счет этим дням, чувствуя, как постепенно притупляется, смиряется душа, как становится неинтересно вглядываться в багровое на закате небо, в серебристые от легкого снега ветки деревьев, в замысловатые следы зверей, подходивших ночью к их хибарке. Хотелось одного – закрыть глаза и спать, спать, свернувшись клубком.
Но вот однажды мать словно сбросила с себя злое заклятие. Это было утром. Мать слабо ойкнула, странным просветленным взглядом обвела хату, Мирошку, божницу, где стояли черепа. Завернув черепа в постилку, она понесла их на елань и там закопала. Вернувшись, чисто подмела в хате, растопила печь, нагрела воды, налила в дубовые ночвы, искупала Мирошку, натерла его пахучими травами, вытерла досуха, расчесала волосы.
– Встала я, сынок, с божьей постели, – радостно сказала мать Мирошке. – Думала уж, помру, тебя одного брошу. Да вернул мне бог память. Помолимся, сынок.
Они опустились на колени, и, может, впервые за последнее время Мирошка молился искренне и горячо, со светлыми слезами на глазах.
Хорошо, когда есть мать! Боже, как хорошо! Человек, особенно маленький, не может без матери. Как солнце, появляется она над постелью сына. Как светлый месяц, осторожно стоит над ним ночь напролет, глядя, не жестко ли ему спать, не хочет ли он испить холодной воды, тепло ли укрыты его ноги мягкой барсучьей шкурой.
«Расскажи мне, мама, сказку. Пусть воет за стеной ветер, сотрясая стены нашей хибарки, пусть нас только двое, двое перед этой ночью и перед всей жизнью. Мы – одна кровь, одна душа, одна слеза, одно дыхание. Расскажи мне, мама, сказку».
Мать убирала в хате, варила еду, а Мирошка, с покрасневшими от холода руками, бродил по лесу, приглядывался к звериным следам, наблюдал за дуплами, откуда в любой миг могла показаться пушистая мордочка какого-нибудь зверька. Тяжелый лук Чухомы носил он на правом плече.
Однажды из невысокого, засыпанного снегом осинника выскочил, выкатился беленький зайчик, стал на длинные задние лапы, помахал коротенькими передними, будто погрозил кому-то – как озорной ребенок.
Мирошка, сдерживая волнение, натянул тетиву из упругих бычьих жил. Засвистела тяжелая кленовая стрела с оловянным наконечником, и заяц, раза два перевернувшись, упал, подергивая лапами, затих. Мирошка, кинув от радости лук, подбежал к зайцу, нетерпеливо схватил первую в своей жизни добычу. Как хотелось ему, чтобы увидел его в этот миг стрый Яков!
Но в последующие дни охотничье счастье отвернулось от Мирошки. Как ни старался, как ни бегал по зимней пуще, ни птичьего перышка, ни звериного хвостика не удалось ему добыть. Словно заколдовал кто-то его лук. Стрелы почему-то летели мимо зверья, бессильно впивались в снег. Мальчик даже заплакал от досады.
Пошла на охоту мать, но и она вернулась из леса с пустыми руками. Голод постучал в их жилище, властно открыл дверь да так и поселился вместе с Настасьей и Мирошкой.
Однажды, в глухую полночь, завыли в пуще волки. Мирошка спал, а мать проснулась, лежала, с содроганием в сердце вслушиваясь в угрожающий переливчатый вой. Казалось, волки тоже жалуются небу на голод и холод. Высокие и низкие волчьи голоса неслись над бескрайней пущей, над застывшей Свислочью, и все живое замирало, глубже пряталось в норы и дупла.
Утром Мирошка увидел возле хибарки большие глубокие следы и понял, что за незваные гости нашли дорогу в Горелую Весь. Прячась от матери, он начал готовить стрелы – их надо наделать как можно больше, чтобы защитить жилье от волков. Как он будет воевать с волками, он пока не знал, одно его утешало – у него есть оружие, чтобы постоять за мать и за себя. Мать, заметив его приготовления, грустно улыбнулась.
Волки, которых тоже мучил голод, поселились в Горелой Веси, устроили логово, потом еще одно на пепелищах, под развалинами хат. Они чувствовали себя хозяевами веси. Сначала, опасаясь Настасьи и Мирошки, показывались на улице только ночью, но вскоре, поняв, что из людей тут живут только женщина и маленький мальчик, волки настолько осмелели, что стали ходить всюду средь бела дня.
В хате кончилась вода. Настасья взяла дубовое ведро, отперла дверь, чтобы сходить к роднику. У порога сидел волк, худой, светло-серый, и голодными застывшими глазами смотрел на нее. Настасья вскрикнула, махнула ведром. Волк отбежал на несколько шагов, снова сел. Глаза его горели нестерпимым голодом. И женщина поняла, что это волк-людоед и что все волки, поселившиеся в Горелой Веси, – людоеды. Она закричала сильнее, отчаяннее. Выскочил из хаты Мирошка, пустил в волка стрелу. Волк поджал хвост, отскочил в сторону, оскалил зубы, внимательно глянул на Настасью с Мирошкой, потом, припадая к земле, подкрался к стреле и понюхал ее. Прибежали еще три волка, один крупный, рыжеватый, без левого уха – то ли отморозил, то ли в драке с сородичами потерял. Волки сели полукругом, перегородив тропинку, ведущую к роднику.
Очень хотелось пить, и. Мирошка, вытащив из окошка ком смерзшегося тряпья, которым сам когда-то заткнул его, высунул руку, наскреб горсть снега, потом еще и еще… Снег растопили в печке и пили теплую невкусную воду. Но однажды, когда Мирошка снова хотел таким же способом добыть снегу, в окошке показалась огромная волчья морда. Из ноздрей волка вырывался теплый пар, он оскалил пасть, щелкнул зубами, глянул, пронизывая взглядом насквозь, на Мирошку. Мальчик схватил возле печки березовое полено, запустил в волка. Морда сразу исчезла. На улице послышался угрожающе недовольный визг.
Волки обложили хибарку со всех сторон. Забирались даже на крышу, засыпанную толстым слоем снега. Сначала ночью, а потом и днем там слышался топот, скрипел снег под сильными когтистыми лапами. Настасья и Мирошка, подняв головы, со страхом прислушивались к тому, что делалось наверху. Волки в любой миг могли начать разрывать лапами и зубами ветхую кровлю.
Так прошло несколько тревожных дней. Не было больше сил терпеть голод и жажду. Настасья, взяв в руки топор, решилась идти в пущу, поискать чего-нибудь из еды в дуплах деревьев. Через щелку в окошке Мирошка видел, как мать, оглядываясь, быстро шла по занесенной снегом тропинке. Казалось, повезло ей, казалось, прошла, как вдруг словно из-под земли появилась стая волков во главе с одноухим. Настасья отчаянно взмахнула топором, но одноухий покатился клубком ей под ноги, ударил, свалил. Только руку увидел Мирошка в мелькании серых волчьих спин и голов, да и рука в тот же миг исчезла…
Так он остался один. Ни души не было рядом. Не было спасения. Все слезы были выплаканы, и Мирошка больше не плакал.
Волки ходили по крыше, выли под стенами. Один из них всегда сидел на страже, как раз напротив двери. Волки поджидали, когда же и Мирошка выйдет из хаты. Они были уверены, что мальчик выйдет.
Мирошка совсем ослабел. Иногда доставал через окошко горсть снега, сосал его. Шумело в ушах. Он думал сначала, что это шумит лес… Холодное безразличие было разлито по всему телу, безразличие и страшная усталость. Он садился на пол, прислонившись спиной к еще теплой печке, и словно проваливался в темную бездну, долго летел, падал вниз. Все чаще его начал одолевать сон. Однажды показалось, что лицо матери мелькнуло над божницей. Мирошка приподнялся, с трудом добрел до божницы, даже стену рукой потрогал. Никого нигде не было…
Все чаще в глазах начали вспыхивать золотые искорки. Сначала они сразу же пропадали, но постепенно все дольше прыгали в глазах. И он привык к ним. Они были красивые, меленькие, как блестящие мошки. Он уже ждал их.
Было трудно дышать застоявшимся воздухом, и Мирошка вытащил тряпье из окошка да так и оставил его незаткнутым. Свежий ветер ворвался в хату. На улице было солнечно. Мирошка припал к окну, жадно начал глядеть на белый свет, который был от него в двух шагах и в то же время недосягаемо далеко. Сиял снег. Капли воды искрились на нем. Даже кусочек неба увидел Мирошка. Веселые розовые облака медленно плыли по голубому небу.
Еще он увидел тропинку, бегущую к Гремучему бору, а на тропинке – воя на коне. Но он не обрадовался. Он хорошо знал, что это ему кажется, что вой вот-вот исчезнет, как исчезло материно лицо над божницей.
Вой держал в правой руке копье и вез над собой, наколов на острие, большое светлое облако; оно вздрагивало, слегка покачивалось. «Зачем вою облако? – подумал Мирошка. – Сейчас и вой, и облако исчезнут».
Он зажмурил глаза и в дрожащей тьме увидел отца и мать, Доможира и Теклю. «Иди к нам, – сказала Текля. – Тут хорошо». Остальные молчали, только загадочно улыбались про себя.
Не было сил открыть глаза, и Мирошка сидел ослепший. «Что делается с глазами людей в могиле? – вдруг подумалось ему. – Мама говорила, что они превращаются в росу. И правда, утром, как глянешь на луг, человечьи глаза светятся из травы и цветов».
Он сидел с зажмуренными глазами и ждал смерти. Легкость была в руках и ногах. Если б съел хоть крошечный кусочек хлеба, птицей полетел бы под облака.
Вдруг неподалеку послышался конский топот. Мирошка вздрогнул, открыл глаза. Держа в руке копье, перед хатой гарцевал на коне вой. Облака на копье не было, но вой был тот самый, рыжеволосый, которого Мирошка встретил на реке.
И тут острый страх пронзил Мирошку. Вой может исчезнуть, уехать навсегда. Какое ему дело до развалюхи-хибарки? Вот пришпорит сейчас коня, и поминай как звали. Напрягая последние силы, Мирошка крикнул. Только слабый свист вырвался из груди, какое-то шипение. Но вой все же услышал. Глянул на окошко, заметил мальчика, легко соскочил с коня. А по улице, мимо пепелищ, мимо разрушенных усадеб, ехали и ехали дружинники в блестящих шлемах, с красными щитами.
Глава третья (часть I)
В Полоцк пришла весна, пришла дружно и нежданно. Сначала лопнул, взорвался лед на Полоте. Мутно-молочная вода с шипением, грохотом и треском понесла зеленоватые льдины в Двину. Было это как раз в день сорока мучеников севостийских, или на сороки, как говорят смерды.
Двина еще дремала, закованная в ледяной панцирь, но солнечные лучи и теплый мягкий ветер уже во многих местах проточили лед, наделали в нем малюсеньких круглых дырочек. Лед был похож на сито. Он еще держался за берега, но уже где-то в таинственной глубине реки зарождались могучие широкие волны, готовые сломать лед, понести его на своем хребте в Варяжское море.
Льдины с Полоты со всего размаха ударили в ледяной панцирь на Двине, давно ожидавший такого удара. Двина только ради приличия вроде бы обиделась на свою младшую сестру Полоту, но силы, дремавшие в ней до этого дня, вдруг пробудились, взбунтовались разом. Глубокие трещины побежали во все стороны по Двине. Лед начал разламываться на куски, эти куски, в свою очередь, крошились, разбивались, превращаясь в искристые звонкоголосые осколки. Послышался густой неумолчный шум воды. С самого дна и до верху река будто закипела. Подледные течения, водовороты, всегда жившие в ней, сейчас, в миг освобождения, заревели, затрубили, запели. На многие поприща разлетелось это ликование, этот радостный крик счастливой реки. И в поддержку ему во все колокола ударил звонарь Богородицкой церкви, стоявшей на острове посреди Двины. Пусть наложат на него завтра эпитимию, пусть прикажут двадцать дней и ночей стоять на покаянной молитве, но сегодня он звонил и звонил, делился своей радостью со всеми людьми.
И Полоцк, старший город, Рогволодово гнездо, услышал его. Услышали на площади, где семиглавая София свечой взлетала в прозрачное весеннее небо. Собор, заложенный и построенный князем Всеславом Брячиславичем, был хорошо виден с реки. Стены собора были выложены из широких плоских кирпичей – плинфы и больших необработанных камней – булыг. Плинфа и булыги чередовались между собой. Зодчие не штукатурили собор, и София осталась красновато-пестрой.
Звонаря островной церкви услышали на Великом посаде, где жил и трудился ремесленный люд. Шерсть и кость, железо и олово, янтарь и самшит, глина и дерево, звериные шкуры и лен, серебро и медь – все проходит через руки обитателей Великого посада, чтобы стать тем, без чего нельзя жить человеку.
Голос Богородицкой церкви долетел до торжища, где полоцкие купцы держали важницу для взвешивания своих и заморских грузов и топницу для перегонки воска.
Веселого звонаря услышали монашки-черноризницы в Спасском девичьем монастыре, который стоит на север от Полоцка в излучине Полоты и который основала Ефросинья, дочь князя Георгия Всеславича, а потом подарила монастырю святой крест с частичкой «древа господнего». Монашки, все как одна, подняли грустные прекрасные лица к небу, и свет, не святой, а земной, весенний, загорелся в их глазах. Недалек от истины был тот человек, что сказал однажды: «Не будь высоких монастырских стен, все монашки давно разбежались бы».
И в Бельчицы, в светлицу великого князя полоцкого Владимира Володаровича, долетел перезвон. У князя болела спина – застудил на охоте, гоняясь за оленями. Уже несколько дней лекари, полоцкие и ромейские, натирали ему спину медвежьим салом и кровью красного петуха, соком серой жгучей крапивы и ядом из зуба черной гадюки. Боль немного утихла. Сегодня князю прикладывали к простуженному месту разогретые камни. Князь морщился, но терпел, ведь завтра-послезавтра надо будет стоять на вече у собора святой Софии.
Владимиру Володаровичу перевалило уже за пятьдесят солнцеворотов. Широкая русая борода, пересыпанная сединой, тонкое бледное лицо, цепкие светло-карие глаза, крепкая мужественная фигура – все в нем было от крови Рогволодовичей, и ему не хотелось горбиться и морщиться от боли во время веча. Пусть бояре и купцы, все полочане видят своего князя бодрым, веселым, уверенным.
Отворилась высокая, обтянутая рысьей шкурой, обитая серебряными бляшками дверь, и в светлицу вошел тысяцкий Жирослав. Под Гольм, на тевтонов, тысяцким ходил еще Илларион, но недавно внезапно умер после укусов своего же дворового пса. Вече выбрало тысяцким Жирослава, и теперь Владимир Володарович, вглядываясь в суровое бесстрастное лицо нового военачальника полоцкого городского ополчения, думал:
«За кого он будет стоять на вече? За меня или за боярских крикунов-подхалимов?» Вошел слуга, объявил:
– Великий князь, владыко полоцкий Дионисий приехал.
Дионисий был невысок ростом, щуплый, в белом клобуке на голове, в дорожной рясе, поверх которой на кованой серебряной цепи висел большой шестиконечный золотой крест. В руке у Дионисия гордо плыл длинный, темного дерева посох с серебряным набалдашником. Епископ сухой рукой очертил над князем святой крест, спросил:
– Все страждет плоть твоя, князь?
– Страждет, владыко, – приподнялся с набитых гусиным и тетеревиным пухом подушек Владимир. – Не нахожу покоя.
Епископ Дионисий бесшумно сел на мягкий, с гнутыми ножками топчан, снял с головы клобук, положил его рядом с собой, сказал:
– Все люди рабы. Один – раб утех плотских, другой – жадности, третий – славолюбия, а все вместе – рабы надежды, и все – рабы страха.
Тысяцкий Жирослав тоже сел, но шлем с головы не снял. Толстыми загрубевшими пальцами перебирал по рукояти своего меча. Это не понравилось Владимиру.
– С какими новостями пришел, владыко? – спросил князь у Дионисия.
– Все новости от бога, – осторожно дотронулся до своего сверкающего креста, погладил его епископ. – Хотят тевтонские купцы на полоцком торжище свою латинскую церковь построить. Рядом с нашей, православной. Их старейшина Конрад ко мне приходил.
– Осиное гнездо хотят в Полоцке свить! – воскликнул Жирослав и стукнул ладонью по рукояти меча. Однако великий князь был невозмутим.
– И что ты, владыко, ответил Конраду? – внимательно взглянул он на Дионисия. Теперь и Жирослав впился в лицо епископу нетерпеливым взглядом.
– Нельзя строить, – звонко и твердо сказал Дионисий. – Наш крест не может соседствовать с крестом латинским.
В это время послышался яростный гул ледохода. Двина, протекавшая совсем недалеко от Бельчиц, где была загородная резиденция полоцких князей, застонала, заскрежетала льдинами. Епископ Дионисий живо вскочил с топчана, подбежал к большому окну, ухватился за оловянную раму и стал вглядываться в реку. Лицо его осветило солнце, и он сладко зажмурился, став похожим на разомлевшего от теплой печки котенка, мурлыкающего с поднятым трубой хвостом.
Тысяцкий Жирослав тоже подошел к окну. Только Владимир из-за больной, обожженной горячими камнями спины не мог сделать этого, и злость вспыхнула в нем – горячая, неожиданная. Даже в ушах зазвенело. Но он, задохнувшись, прикусив губу, прогнал, выкинул из души эту злость, как хорошая хозяйка выбрасывает из-под наседки яйцо-болтун. Ему надо быть осторожным и терпеливым. Особенно теперь, когда полочане на вече подымают головы, когда, как доносят ему верные люди, все чаще и громче говорят в Полоцке про тридцать старейшин, готовых взять власть в свои руки. О, знает он этих «старейшин»! Некоторые из них моложе его – боярские сынки, богатей, горлопаны, все эти Витановичи, Щепановичи, Мокриничи…
Он с трудом захватил власть – приходилось хитрить, выжидать, терпеть удары, чтобы потом нанести удар сильнее и раньше противника. Скинул князя Бориса Давыдовича, его сыновей Васильку и Вячку взял под стражу, потом Васильку заставил постричься в монахи. Вячку, младшего, не удалось запереть в монастырской келье. Сидит Вячка удельным князем в Кукейносе, шлет оттуда дань, которую берет с ливов и латгалов, прикидывается голубком, да видит Владимир, что не послушный голубок, а боевой сокол распростер крылья над Двиной. Теперь Вячка в Полоцке, дважды приезжал в Бельчицы, лестными словами подговаривал идти войной на рижских тевтонов. Когда же увидел, что лесть не помогает, закричал, забывшись, про славу полоцкую, про веру православную, которую надо беречь от чужаков. Хочет лбами столкнуть его, великого князя Владимира, с епископом рижским Альбертом, а через епископа – с папой римским. Проклятый род князей друцких! Никак не угомонятся, все жаждут захватить полоцкий столец, спихнуть с него менских Глебовичей.
Так думал Владимир, а владыко Дионисий и тысяцкий Жирослав все глядели на Двину, все слушали гул ледохода, забыв о больном князе.
Вот она, судьба князей полоцких! На большом дворе, у самой Софии, стоят палаты каменные, богатые. Злато и серебро там, дорогие уборы и вино заморское. А он, князь Владимир, должен сидеть в Бельчицах и смотреть на город – свой город! – через реку, как смотрит мокрая курица на богатый огород через частокол. И видишь, а не клюнешь. Чудеса в решете, да и только!
После Всеслава началось это. Умирая, поделил он Полоцкую землю между своими шестью сыновьями на шесть уделов: Полоцкий, Менский, Друцкий, Витебский, Изяс-лаво-Логожский и Лукомский. Сыновья и внуки его с большим трудом смогли расширить границы, создав уделы Себежский, Слуцкий и Борисовский. Вот на сегодняшний день и вся земля Полоцкая, разве еще Кукейнос и Герцике на Двине.
Трудно быть князем, а хочется. Привык он княжить. Когда бояре перед тобой толстые выи склоняют в поклоне, когда народ кричит, тебя славит, когда идешь Двиной дань собирать, – будто поет что-то в душе, будто огненная рука с неба на тебя указывает и неземной заоблачный глас возвещает земле, воде и всему люду:
«Он – князь! Он – князь!» Еще мальчишкой-княжичем он почувствовал сладкий хмель власти и однажды даже нарочно порезал палец, чтобы глянуть, какого цвета у него кровь – голубая или красная.
Песочные часы, стоящие на столе, сыплют и сыплют в пузатый, синего стекла сосуд тоненькую струйку песка. Течет песок… Течет жизнь…
Владимир смотрел на узкую спину епископа, погасив в сердце злобу, он знал одно: как только снова окрепнет, возьмет в свои руки Полоцк, сразу же вытурит этого пса из епископов. Не такие духовники нужны ему, великому князю.
– Пусть ставят латиняне церковь, пусть строят, – зычно сказал Владимир.
Епископ Дионисий и тысяцкий Жирослав сразу же перестали смотреть в окно, повернулись к князю, и он с радостью заметил в их глазах удивление и растерянность.
– Пусть строят, – повторил Владимир. – Крест наш от соседства с крестом латинским плесенью не покроется. А выше Софии тевтонам храм все равно не возвести.
– Выше Софии? – задохнулся Дионисий и сразу надел свой клобук. – Да как ты можешь такое говорить, князь?
– Полоцкие князья говорят то, что думают, – спокойно глянул на него Владимир. – Пусть построят свой храм за поприще от нашей церкви. А ты что кричишь, отче? Забыл, как под Гольмом нас тевтоны камнями угостили? Хочешь снова лоб под каменья подставить?
Епископ слушал князя, бледнел, задыхаясь от гнева, но Владимир, мстя за все, не давал ему рта раскрыть:
– Двину все равно не перегородишь. Будет течь, как и текла. А ко мне вчера гонец приехал из Суздаля, от великого князя. И просит князь суздальский, наш с тобой брат по вере, чтобы дали мы вольную дорогу его ячменю, воску и салу, которые люди суздальские в Ригу везут и дальше, за море Варяжское, в Любек и Бремен.
Произнеся это, Владимир почувствовал такую силу и бодрость во всех членах, что встал без посторонней помощи, дошел до окна, возле которого несколько минут назад стояли епископ с тысяцким. «Пусть теперь они на мою спину поглядят», – мстительно думал князь.
На Двине гудел ледоход. Река, словно торопясь забыть про долгие месяцы зимнего молчания, трещала льдинами, зловеще шумела зеленовато-белой водой.
Через окно Владимир видел высокие красные стены Борисоглебского монастыря, построенного в Бельчицах зодчим Иоанном. Там же возвышалась церковь Параскевы-Пятницы, там были и могилы князей полоцких.
– Ваше преосвященство, – за спиной у князя обратился к епископу тысяцкий Жирослав, – мужи-полочане завтра вече созывают. Там и про латинскую церковь решать будут.
– Я приеду на вече, – ответил Дионисий. Как и многие священнослужители того времени, он не любил ходить пешком, а ездил верхом на коне.
«Не за меня тысяцкий, – понял Владимир. – Не мой человек. Пес боярский. Надо его остерегаться».
Вече! Снова – вече. Как бельмо на княжеском глазу. Руки князю связывает, воле его крылья подрезает.
Терпи, князь. Улыбайся боярам, но не забывай о купцах и ремесленниках. Они – твоя опора. Им надо торговать, в моря теплые и ледяные плавать. Им надо свой товар продавать, вот и пойдут они с тобой против боярства, которое сидит в своих вотчинах, отгородившись от всего света, гноит хлеб в амбарах.
С тевтонами надо мириться. Епископ Альберт пообещал платить Полоцку дань за ливов. Пусть платит. Тевтоны умеют дань выколачивать. Главное – мир с ними. Будет мир с Ригой – будешь ты, князь, на златоседлом коне сидеть. Пойдешь воевать, послушавшись горлопана Вячку из Кукейноса, – потеряешь и власть, и голову.
– О латинской церкви надо хорошенько подумать, князь, – примирительно, миролюбиво сказал Дионисий.
Ага, этот ощипанный петух понял, что бояре и с него могут клобук сорвать, в монастыре свечки лепить заставят. Ну что ж, епископ из тех храбрецов, что только в своей постели могут кулаками махать, а чуть прижмет, у них сразу заячьи ноги вырастают.
– Мыто тевтоны платят? – спросил у епископа Владимир.
– Исправно платят, – ответил за епископа тысяцкий Жирослав.
– Храмы святые пустуют, – с горечью вздохнул Дионисий. – На игрища собирается больше народу, чем в храмы. Пойдешь иной раз туда и видишь: одни на дудках играют, другие пляшут, третьи силой меряются. А в иных еще больший дьявол поселился – сидят, знаки друг другу подают, перемигиваются…
– Так ты, святой отче, на игрища ходишь? – сделал вид, что удивился, Владимир. Епископ слегка покраснел, засопел маленьким носом.
Как только Дионисий и Жирослав выехали из Бельчиц, в светлицу князя Владимира вошел его верный холоп-соглядатай Станимир. У Станимира не было носа – князь отрезал в минуту гнева. Холоп низко поклонился, застыл на пороге.
– Что слышно о князе Вячке, безносый? – пронизывая жестким взглядом Станимира, спросил Владимир.
– Вячка с малой дружиной и с молодой женой Добронегой остановился на подворье боярина Твердохлеба, родича Рогволода Свислочского, отца Добронеги.
– И что же делает Вячка?
– Не пьет. С мужами-вечниками ведет переговоры.
– О чем переговоры? Тут Станимир задрожал всем телом:
– Пока неизвестно, великий князь.
– Смотри у меня! – злобно топнул ногой князь. – Можешь и безухим стать. Чтоб все выследил, вынюхал. Пошел прочь, пес!
Станимир бесшумно исчез, а князь Владимир приказал позвать к себе ученого ромея, уже давно жившего в Полоцке. Составляя гороскопы, ромей предсказывал князю будущее. Был он смуглолицый, черноволосый, с широкими черными, сросшимися на переносице бровями. На голове носил круглую красную шапочку, на ногах – позолоченные сандалии с острыми загнутыми носами.
Князь, конечно же, ничего не понимал в гороскопах. Ромей, как только появился в Полоцке, долго объяснял ему свою мудрую науку. Гороскопы, их составление требуют хотя бы небольшого знакомства с небом, с астрономией. Надо знать, что есть эклиптика – большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое глазу годовое движение Солнца. Человек рождается в конкретный месяц, конкретный день, и астролог, составляя гороскоп, устанавливает точку эклиптики этого человека на небосклоне. Начиная от этой точки, все небо делится на двенадцать «домов» – дом счастья, богатства, братьев, родни и т. д. Всегда надо учитывать положение главных планет по отношению ко всем «домам». Каждая из планет считается «хозяином» того или иного дома. И близость или, наоборот, удаленность планеты от своего «дома» влияют на человеческую судьбу. Одним словом, можно не только ногу – выю сломать на всем этом, но Владимиру нравилась таинственность смуглолицего астролога, нравилось держать в руках и листать потемневшие от времени толстые книги, в которых были нарисованы звезды и солнце, какие-то круги, большие и совсем маленькие. Беседуя с астрологом, князь отдыхал душой. Отодвигались куда-то бояре и их крикливое вече, тевтоны, литовцы, Вячка из Кукейноса. На миг Владимир снова становился мальчишкой, любопытным, озорным, казалось, с деревянных стен менского замка он снова смотрел на залитую лунным светом Свислочь, слушал шум окрестных лесов. Он не верил астрологу, но и сегодня, как всегда, спросил:
– Долго ли мне быть князем?
Тот хитровато усмехнулся, послюнявил указательный палец и начал листать книгу. Уже не первый год они с князем, не признаваясь друг другу, играли в понятную и приятную только им двоим игру. Что-то детское было в этом.
– Планеты на сфере разместились благосклонно к тебе, князь, – сказал ромей и добавил: – Твой епископ ненавидит меня.
– Что епископу до тебя? – слегка приподнял брови Владимир.
– Епископ не любит умных людей, ибо…
– Ибо глуп, как необожженный горшок, – договорил за него князь.
Оба засмеялись, а потом астролог, посерьезнев, сказал:
– У нас в Константинополе императора берегут, как бога. Император – солнце на земле.
Он знал, на какую мозоль наступить князю. Владимир сразу же помрачнел, глаза стали холодными, заблестели. Князь порывисто схватил астролога за плечо:
– В моих жилах тоже течет кровь ромейских порфироносцев. Я – князь! У меня дружина! Вече разгоню, особо вредных бояр живьем сожгу. Полоцк будет моим. Слышишь? Моим!
– Слышу, – тихо ответил астролог. – Планеты за тебя, князь.
Владимир впился остро заблестевшими глазами в лицо предсказателя.
Астролог ушел, забрав свои книги, а князь, поднявшись с ложа, забыв о болезни, подбежал к окну, стал жадно разглядывать златоглавую Софию, большой двор, каменные палаты за рекой. Там он должен находиться, там ему сидеть великим князем. Стон вырвался из груди Владимира.
Неслышно отворилась дверь, и в светлицу вошла княгиня Ульяна с тоненькой свечкой в руках. Владимир глянул на нее, и на сердце стало легко и светло.
– Почему не лежишь, князь мой? – с лаской в голосе сказала Ульяна. – Ты же болен. Ложись, князь.
Владимир припал головой к ее плечу, спросил:
– Что это ты со свечкой ходишь, Ульянушка? Вечер еще не наступил.
– Злой дух от тебя отгоняю, болезни, – слабо улыбнулась княгиня. – Тяжко тебе, плохо. Я все вижу. Ночи не спишь, все о чем-то думаешь. Знаю, о чем.
Владимир приподнял голову, вопрошающе взглянул на жену. Лицо ее будто светилось, глаза глядели с любовью и в то же время с жалостью.
– Не думай, князь, о большой власти. Бог – единственный властелин всего. Есть мы с тобой. Есть дети наши. Дети нас любят. Чего же нам еще желать?
– Ты что? – зашептал Владимир, отодвигаясь от жены. Словно адским жаром обдало его с головы до пят. – Ты что?
– Пожалей себя, мой князь, – умоляюще глядела прямо в глаза ему Ульяна. – Все на земле преходяще. Власть, сила, богатство – все пройдет. О душе думай. Обо мне думай и о детях своих. Мы – душа твоя, князь.
– Ты с ума сошла, – почти оттолкнул ее от себя Владимир. – Разве я не о вас думаю? Разве не ради вас муки мои, бессонница моя?
Он смотрел на жену с ненавистью, но княгиня знала, что он любит ее, и спокойно, как на мальчишку-бедокура, глядела на великого князя. Она погладила его по голове и почувствовала, как снова эта гордая голова склоняется на ее плечо. Осторожно погладила его шею, и крепкая, налитая силой мужская шея сделалась мягкой, покорной.
– Чего же ты хочешь, Ульянушка? – прошептал Владимир, и голос его задрожал.
– Не нужна тебе великая власть, князь, – тихо ответила Ульяна. – Сломает она тебя, сокрушит. Железное сердце, железные руки и ноги для власти нужны. А ты слабенький. Ты что журавль в небе. Все стрелы в тебя попадают.
Эти слова она говорила про высокого широкоплечего мужчину, про богатыря, который на вытянутых руках отрывал от земли кадь, полную зерна. Но она хорошо знала его, знала, что права, когда говорила эти слова. Он был камнем и был воском.
– Чего же ты хочешь? – снова повторил свой вопрос дрожащим голосом Владимир.
– Наш сын Яков – княжич. Дочь наша Красава за хорошим мужем, боярыня. А мы с тобой, князь, давай пойдем в монастырь, за детей наших молиться.
Не успела она кончить, как Владимир вырвал у нее из рук свечку, сломал, смял, растоптал ногами. Казалось, и ее растоптал бы.
– В монастырь захотела? – наливаясь горячей кровью, закричал князь. – А Полоцк? Кому я Полоцк отдам? Им? – рукой, сжатой в кулак, он тяжело махнул в сторону Софии. – Или, может, рижскому Альберту? Или сосунку Вячке?
Княгиня спокойно встретила извержение этого вулкана.
– Мужчины думают о том, чтобы была крепость, а женщины – чтобы лепость, – сказала она и, нагнувшись, начала собирать с дубового пола комочки воска от растоптанной князем свечки. – Зачем святую свечку погубил? – с укором говорила она князю. – Бог не простит.
– Бог? – задохнулся Владимир. – А где был твои бог, когда полоцкое вече прогнало меня из княжеских палат? Где он был, когда меня на полоцких улицах грязью закидывали?
Красивое худощавое лицо княгини побледнело, она перекрестилась, положила мужу руки на плечи, страстно зашептала:
– Проси у бога прощения за свои слова неразумные. На колени стань. Бей челом, чтобы простил тебе дерзость твою!
Владимир с испугом, как мальчишка, глянул на княгиню, вздрогнул, грузно опустился на колени. Княгиня подошла к стене, сняла с нее большой крест-складень, с крестом в руках опустилась на колени рядом с мужем.
– Святой боже, – тихо заговорила она, – в тиши небесного Иерусалима услышь меня, рабу свою. Дан счастье роду моему. Дай силу мужу моему. Дай, боже, чтобы не увидела я смерть детей моих дорогих, пепелище на месте дома своего.
Они стояли на коленях, князь и княгиня, а за широким окном бурлила освобожденная Двина, мокрые льдины трещали, звенели, налезали друг на друга, и не было льду никакого спасения – под огненным взглядом солнца он крошился на маленькие кусочки, выпрыгивал, как живой, на берег и там плавился, исчезал, превращался в сверкающие серебряные лужицы.
Князь Владимир плохо спал всю ночь. Слезы душили его, холодный страх обволакивал сердце. Снилось ему, что святая София на огромной красной льдине – не от крови ли? – отплывает от него по Двине. Бежал князь берегом реки за Софией, руки к небу протягивал, спотыкался, а София растворялась в тумане, отдалялась, и князь не выдержал, упал, а когда поднял от земли голову, взгляд его натолкнулся на рижского епископа Альберта. Альберт стоял по колено в воде, руки распростер, смеется, ждет, пока София к нему подплывет.
А утром на большом дворе ударил вечевой колокол. Выходили из своих палат бояре, спешили с торжища купцы, ремесленники гасили огонь в горнах, откладывали в сторону молотки, клещи, стамески. Все шли на площадь перед Софийским собором. Уличные мальчишки тоже мчались туда, но стража из городского ополчения отгоняла их от Софии длинными ореховыми палками. Детские уши, как и женские, как и уши холопов, не должны слышать, о чем говорят и спорят мужи-вечники. Детям, женщинам и холопам не дана мудрость, их слабые души блуждают в потемках.
Князь Владимир с биричом Алексеем, с небольшой стражей на двух челнах переплыли через Двину из Бельчиц в Полоцк. Вои длинными шестами отталкивали серебристо-серые льдины. София глядела на князя со своей недосягаемой высоты.
Князь шел к помосту в центре площади, и народ расступался перед ним. Кое-кто кричал здравицу, иные ж, их было немало, смеялись над князем и биричом, чуть пальцами на них не показывали. Площадь гудела. Вороны каркали, кружились над ней, словно у них, ворон, тоже собиралось свое птичье вече.
Князь взошел на невысокий деревянный помост, застеленный дорогими опонами, поклонился сначала Софии, потом, на четыре стороны, вечу. На помосте уже стояли епископ Дионисий, посадник Ратша, тысяцкий Жирослав, наиболее влиятельные и богатые бояре.
Справа от помоста, в нескольких шагах от себя, Владимир увидел плотную стену бояр – густые бороды, высокие собольи шапки, длинные, расшитые золотом и серебром шубы. Слева стояли ремесленники, рукодельные люди. Одежда у них была беднее, но гонору не меньше, чем у бояр.
– Мужи-полочане, – громко сказал посадник Ратша, – по призыву колокола мы собрались сегодня перед святой Софией. Пусть мудрыми будут наши слова, твердыми – наши души. По закону предков мы будем делать все, что потребуют от нас бог и стольный город Полоцк.
Владимир смотрел на посадника и думал, что он, как и Жирослав, и епископ Дионисий, мягкой травицей стелется перед боярами. А недавно же боялся в глаза взглянуть ему, князю.
Между тем посадник продолжал, повышая голос, чтобы все услышали:
– Тевтонские купцы, купцы с Готского берега, Любека и Бремена просят мужей-полочан позволить им построить на нашей земле, в городе Полоцке свою латинскую церковь. Хотят они своему богу молиться в этой церкви. Казна у них есть, зодчие и каменотесы – тоже. Что скажете, мужи-полочане?
Посадник умолк. Владимир напряженно замер, почувствовал, как сильнее начало биться сердце. Епископ Дионисий, конечно же, успел рассказать всем, кому счел нужным, что он, князь Владимир, не против латинской церкви в городе. Сейчас выяснится, что думает на этот счет вече. Посмотрим, сколько врагов у него, князя.
– Прочь тевтонов! Прочь! – закричало сразу несколько сотен голосов.
– Пусть строят! – дружно крикнуло левое крыло веча – ремесленные люди и купцы.
Поднялся крик, шум. Вечники махали руками, палками, бросали вверх шапки.
– Прочь тевтонов! – гремело на площади.
– Пусть строят! – с неменьшей силой громыхало в ответ.
Казалось, два водоворота, два бурных весенних течения столкнулись на вечевой площади, и каждое хотело победить, одолеть противника. Бояре справа молчали, да князь знал, что теперь не они кричат, а кричат их гривни, их серебро, которое они щедро, не скупясь, раздают тем, кто дерет за них глотку на вече.
– Прочь тевтонов и их заступника Владимира! Хотим для Полоцка тридцать старейшин! – вдруг прокатилось по площади.
Сначала эти слова крикнули несколько человек, однако подобно тому, как ветер, залетевший с поля в лес, раскачивает все больше и больше деревьев, так и этот крик постепенно завладел всей площадью.
– Хотим тридцать старейшин! Долой князя! – бушевало вече.
Владимир побледнел, глянул на бирича, молодого рослого парня. Тот заметно растерялся – то расстегивал, то снова застегивал свое красное корзно. Тогда князь поднял вверх десницу в боевой перчатке. Князь просил, требовал слова. Вече смотрело на эту руку и постепенно успокаивалось.
– Мужи-полочане, – сказал Владимир, – когда в последний раз горел Полоцк?
Этим, казалось бы, простым вопросом он ошеломил вечников. Вече еще не понимало, куда гнет князь. Самые отъявленные крикуны на миг притихли.
– Когда враг жег и грабил ваши усадьбы? Когда плакала София?
Князь кинул взгляд на собор, перекрестился. И все вече глянуло на Софию. Золотые облака плыли над семью ее главами.
– Не было пепла и крови? – допытывался князь. – Не тащили ваших жен, дочерей на позор? А почему? Почему, скажите! Потому что я и моя дружина стоим на страже Полоцка и Полоцкой земли. Знаете, сколько на моем теле ран? Я бился с ятвягами и уграми, тевтонами и свеями. Я топил коня в жемайтских болотах. Клянусь могуществом нашей матери-церкви, что никто не переломит копье о святую Софию!
– Слава князю! Слава Владимиру! – дружно зашумела площадь.
– Долой бояр-многоимцев! – закричали слева, где стояли рукодельные люди и купцы.
Вече заволновалось, забурлило. Замелькали палки, пошли в ход кулаки. Уже драли друг другу бороды, уже боярская челядь спешила вступить в драку за своих хозяев.
Владимир чувствовал, что победа близка, что еще минута-другая и он снова будет на белом коне. София со своей высоты уже улыбалась ему, и он, в глубине души, вырастал под облака, становился вровень с нею. За такой миг можно отдать полжизни.
Вдруг площадь затихла, и эта тишина была столь неожиданной, что князь вздрогнул. Разрезая толпу, к помосту в центре площади шло несколько человек – три или четыре. Вече расступалось перед ними.
Они подошли к помосту, и все увидели разорванную одежду, окровавленные лица. Главный из них, седобородый старик, поднялся на помост, поклонился в пояс собравшимся.
– Я Доброслав из Кривичского ста, – сказал старик, покачнувшись. – Мы плыли на Готский берег. У Земгальской гавани на нас напали тевтоны. Убили корабельщиков и кормчего, забрали товар. Смотри, Полоцк, на раны сыновей своих! Смотри, София!
Старый купец крестился на Софийский собор и плакал. Сыновья его, израненные, окровавленные, стояли возле помоста, глядя на отца.
Владимир понял, что неожиданное появление купца может испортить ему все дело. Снова белый конь убегал от князя, насмешливо ржал издалека.
Но это был еще не самый болезненный удар. Главное испытание ждало князя впереди. Только стало успокаиваться вече, выслушав ограбленных купцов, как на площади появился князь Вячка с десятком своих воев. Светло-русые его волосы развевал ветер. Темные брови были строго сведены на переносице.
«Что тут надо этому сосунку? – в бешенстве подумал Владимир. – Давно надо было замуровать его в монастыре, как брата. Боже, клянусь тебе, как только развеются черные тучи, как только снова укреплюсь на полоцком престоле, сразу же выгоню его из Кукейноса, выброшу в Новгород, в Псков, к эстам, куда смогу, только бы не было его рядом».
Вячка подошел к помосту, но подниматься на него не стал. Поклонился князю Владимиру, посаднику, тысяцкому и епископу, потом поклонился всем вечникам. Высокая его фигура была видна всем.
– Мужи-полочане, – волнуясь, начал речь кукейносский князь, – как вы можете спокойно глядеть на обиды ваших людей? Почему не ослепнете от стыда? Где ваш гнев? Где сила ваша? Кто вы – мокрые воробьи или вольные соколы?
Вячка повернулся лицом к собору, встал на колени, заговорил громче, и голос его услышала вся площадь, хотя не все уже видели его.
– Святая София! Где меч Всеслава? Дай мне его, и я пойду на тевтонов, освобожу Двину, наш извечный Рубон, проложу дорогу к морю.
«Скоморох, – думал про Вячку князь Владимир. – Одичал там в своем Кукейносе. Стал язычником, молится рогатой сосне, а тут вон как запел. Скоморох!»
Князь сплюнул, правда, осторожно, чтобы, не дай бог, вече не заметило.
А Вячка, не поднимаясь с колен, вдруг простер к нему руки, заговорил, обращаясь только к нему, Владимиру:
– Великий князь! Отчего не седлаешь коня? Веди дружину на Ригу, ударь копьем в огненную пасть дракона. Ты мудрый и храбрый, ты уже водил нас на Альберта. Пойдем еще, князь!
Все вече замерло, глядя на Владимира, сотни глаз, как невидимые стрелы, пронзали его насквозь. Глядели бояре и купцы, ремесленники и вои. И все ждали.
«Что делать?» – мучительно раздумывал Владимир. Впервые в душе его шевельнулась жалость, непонятная ему самому. Кого он жалел? Себя? Свою недосягаемую мечту? Княгиню Ульяну? Жалость такая приходила к нему и раньше, но только дома, в своей семье, рядом с княгиней. На площади же, перед народом, сердце у него всегда было словно из железа. А сегодня впервые железо дало тоненькую трещину.
«Что делать?» – думал князь. Он сошел с помоста, поднял Вячку с земли, трижды поцеловал его и сказал так, чтобы до всех ушей долетело:
– Встань, брат. Одна у нас отчизна – Полоцк. И будем биться за него, своего живота не жалея.
Вячка, легко поднявшись на ноги, тоже поцеловал Владимира.
– Слава! – гремело на площади. – Слава князьям Вячеславу и Владимиру!
Владимир с Вячкой, взявшись за руки, взошли на помост, и всеобщий радостный крик приветствовал их появление.
Владимир стоял рядом с Вячкой, улыбаясь ему и вечу, а сам вспоминал о страшной, нелепой смерти своего родича, брата жены Артемия. Богатым, хлебосольным боярином был Артемий, меду и доброго слова гостям не жалел. Много было у него друзей, но и враги, как водится, имелись. Любил Артемий разных зверюшек, разную пушистую хвостатую живность. По усадьбе у него прирученные белки бегали, на плечи гостям прыгали. Выдра в пруду плавала, медведь по двору бродил без цепи. И вот однажды из Киева привезли Артемию хомячка – теплый светло-русый комочек, глазки – как капельки степной воды. Такой был ласковый, такой мягкий, на руках у боярина дремал. Не мог натешиться им Артемий. И однажды особенно ласково гладил зверька, к груди прижимал. Да в тот самый миг, когда хотел что-то приказать слугам, раскрыл рот, хомячок скользнул ему в самое горло. То ли рот боярина норой ему показался, то ли научили этому те, кто подарил его боярину, – только перегрыз хомяк все кишки Артемию, вмиг в могилу свел.
Пожимал Владимир руку Вячке, улыбался ему, а сам думал: «И этот только прикидывается ручным. А разинешь рот – выгрызет нутро».
Всеми колоколами гремела София. Бушевало вече.
– Слава! – кричали мужи-полочане.
«Кричите себе, кричите, – думал Владимир, улыбаясь вечникам. – Дружину к Риге я не поведу, а если и поведу, то не скоро. Мне не с Альбертом драться надо, а с вами. Княжескую власть я вам не отдам».
Князю остро, до горькой слюны во рту, захотелось как можно скорее вернуться в Бельчицы, в свою светлицу, увидеть княгиню Ульяну, почитать пергаменты. Больше всего любил он читать поучения святого Ефрема, великого Иоанна Златоуста и Феодосия Печерского, тех, что, словно старательные пчелы, кормились словом божьим.
А вече уже кричало здравицу только одному Вячке, будто его, Владимира, на помосте и не было.
– Слава князю кукейносскому! – подбрасывали шапки вверх вечники.
– Слава Вячке! Веди на тевтонов, князь! И вдруг небогатый купец Василь из Заполоцкого ста пронзительно закричал:
– Меч Всеслава – Вячке!
Площадь словно ждала этого, сразу подхватила:
– Меч Всеслава – Вячке! И пошло-покатилось:
– Меч Всеслава – Вячке!
Владимир, стоя рядом с Вячкой, вымученно улыбался, а у самого пот катился по вискам. Тяжело было ему слышать это. Только самому достойному воеводе вручает полоцкое вече Всеславов меч, и освящают его в самом Софийском соборе.
Накричавшись, мужи-полочане решили: за седмицу выковать меч, освятить его и вручить прилюдно князю Вячеславу Борисовичу Кукейносскому. Меч вызвался выковать на своем подворье боярин Иван, у него были знатные мастера кузнечного дела. На том вече и разошлось, растеклось с площади, и только вороны все не могли успокоиться, все летали над Софией.
Глава третья (часть II)
Вместе со всеми пленными Якова гнали на север от Княжьего сельца, от Горелой Веси в Друцкую землю. Сначала шли по льду Березины, и тащить сани с награбленным добром, в которые впрягли Якова вместе с другими молодыми невольниками, было не очень тяжело. Но через десяток поприщ друцкий воевода Зернько приказал повернуть с Березины на восток, в направлении Друтеска. Тут уже надо было идти по целине, по заснеженным лесам и болотам, и сани сразу прибавили в весе, будто были нагружены железными крицами.
Пленных, как подсчитал Яков, было сотни полторы, в большинстве – молодые мужчины и парни.
Рядом с Яковом, обливаясь потом, тянул сани кузнец Чухома. Он все учил Якова, шептал ему:
– Ты спокойно тяни, не дергай, а то жилы надорвешь. Нам с тобой еще жить надо.
Он был старше Якова на семь или восемь солнцеворотов – в самом расцвете мужской силы – и славился кузнечным мастерством по оба берега Свислочи. Его даже побаивались немного – смерды всегда боялись людей, имеющих дело с огнем и железом. Простой человек, считали в весях, не может размягчить металл так, чтобы тот начал литься, как вода. Только колдуну под силу такие чудеса! Да только никаким колдуном Чухома не был. Добрые синие глаза были у него, мягкие пшеничные усы.
– А что же князь Рогволод нас не оборонил? – спросил однажды Яков.
Чухома глянул на него, горько улыбнулся:
– Князь Рогволод себя берег, терем свой… А мы?.. Что мы ему? Он посидит немного в Княжьем сельце, окрепнет и сам пойдет набегом. На Туров или на Слуцк. Оттуда себе смердов пригонит. Гоняют нас, брат, как скотину, от князя к князю. И никуда не спрячешься. Слышал я, правда, что в полуденных степях, далеко за Киевом, живут вольные бродники и воеводой у них какой-то Пласкиня. Да это далеко, до них – как до неба.
Привалы были нечастые. Когда останавливались, друцкие вои приказывали невольникам собирать в лесу хворост, разжигать костры. Есть давали только хлеб и воду.
На одном из привалов Яков увидел ворожбу самого пожилого из невольников – Творимира. Когда принесли хлеб, Творимир взял кусок, понюхал его, пошептал что-то, покрутил в руках, разломил и вытащил из хлеба, под удивленные, испуганные вздохи соседей, длинную прядь человеческих волос.
Воевода Зернько спешил – могла быть погоня. Старались оставить меньше следов, затаптывали костры, снова шли через леса, по глубокому снегу.
Яков все еще никак не мог поверить в то, что он раб. Все, что происходило с ним, с Чухомой, казалось страшным, горячечным сном. Вот-вот придет кто-нибудь или приедет, разбудит всех, растолкает, и проснется Яков в Горелой Веси, и Настасья будет топить печь, и, перекусив, пойдут они с утра в пущу распутывать узлы звериных следов. Возьмет Яков свой топор, чтобы нарубить можжевельника коптить лосятину. Смачно хрустнет под топором дерево… Подбежит Мирошка, засмеется, запустит в него, Якова, снежком…
Промозглый холод добрался до ног. Друцкий вой, молодой, синеглазый, взмахнул кнутом, ударил по ногам, бросил со злобой:
– Пошевеливайся, вол подъяремный.
Яков прикусил губу от боли, но успел удивиться:
«Почему это он меня волом называет?»
– Ты что ж, православный, своих людей хвощешь? Мы ведь не чудь, не печенеги, – сказал Чухома.
Вой глянул на кузнеца, хотел и его огреть кнутом, да вместо этого сморкнулся, прижав к ноздре большой, посиневший на морозе палец. Только тут окончательно понял Яков, что не сон все это, не лихорадка-трясуха, и от обиды и горя заплакал.
– Терпи, Яков, – подбадривал его Чухома. – Быть не может, чтобы загнали нас в оглобли. Как-нибудь выкрутимся.
Яков, застыдившись своих слез, улыбнулся товарищу по несчастью.
Через день-два дознались друцкие вои, что Чухома – кузнец, и высвободили его из ярма. Чухома подозвал воеводу Зернько и, смело глядя тому в глаза, назвал Якова своим унотом, водоносом и молотобойцем, потребовав, чтобы парню тоже дали вольней вздохнуть.
Яков шел рядом с Чухомой и радовался, что бог свел с таким человеком. А над лесом щедро рассыпало лучи солнце. Деревья тянули к нему обмороженные ветви, готовились встречать весну. На небольшой полянке, на солнцепеке, увидели высокий муравейник. Выбежав из своих темных нор, муравьи замерли, сбившись в блестящие желто-коричневые комки. Казалось, они о чем-то договариваются, оглядываясь, чтобы люди не услышали.
Весна съедала снег. Там-сям обнажались темные мокрые лысины. Санные полозья прилипали к земле.
Воевода Зернько не рассчитал. Он думал добежать до Друтеска по твердому гладкому снегу, но весна догнала его. Воевода был зол, как медведь-шатун, которого неожиданно подняли из берлоги. Он ругал своих воев, бил невольников.
Сани воевода приказал порубить и сжечь. Запылали огромные костры. Пленники глядели на них с затаенной радостью.
Воевода, мрачный, насупившийся, ехал впереди своих воев и невольников. Он уже понял, что набег на Свислочь не прибавит ему богатства. Таял снег… Таяли силы пленников… Несколько умерло, иные убегали, дождавшись ночной тьмы. Те же, которые еще шли, были худые, измученные, оборванные.
Ночью зашумел теплый южный ветер, нагнал тучи на все небо. Воеводу, спавшего в походном шатре, разбудило странное всхлипыванье. Схватившись за меч, он высунул голову из шатра. С неба лил непроглядный дождь. Весь лес был наполнен неясными шорохами, шепотом – это оживали, распрямлялись под благодатным дождем окаменевшие от стужи деревья.
Не дойдя несколько поприщ до Друтеска, воевода Зернько продал большую часть пленных полоцким купцам, с караваном которых столкнулся в лесу. Полочане ехали на возах, весело перетирали колесами снег с грязью. Яков с Чухомой попали к полочанам и, надо сказать, вздохнули с облегчением – хватит, наслушались на привалах, как опьяневший от вина и медовухи воевода кричал, что прикажет своим воям порубить мечами всех свислочских пленников.
Полочане посадили их на возы, накормили на привале пареной репой и зайчатиной.
– Откуда ж вас гонят? – поинтересовался у Якова молодой белолицый купец с рыжей бородой.
– Мы свислочские. Вольные смерды князя Рогволода Свислочского, – ответил Яков. За всю долгую дорогу он только изредка перекидывался словом-другим с кузнецом Чухомой, и ему не терпелось поговорить со свежим человеком.
– Теперь будете невольниками, – вздохнул купец. – Продадут вас на какой-нибудь боярский двор. Челядью боярской станете, – казалось, он сочувствовал Якову и Чухоме.
– Вот если бы вас в Полоцк отвезли, – продолжал купец, помолчав, – там уже легче. Город большой, людей море… А церкви какие! А палаты боярские и княжеские! Там было бы легче… Сам воздух полоцкий человека вольным делает.
Он хотел еще что-то добавить, но пожилой купец, может, его отец, крикнул с соседнего воза:
– Прикуси язык, Михалка! – и сердито глянул на Якова.
Купцы везли из Киева железный товар, женские украшения, амфоры с ромейским вином. На одном из привалов они даже угостили вином Якова и Чухому.
«И все равно они нас продадут, – потерянно раздумывал Яков. – Как продают браслеты и конские подковы… Эти купцы, и Михалка тоже, будут ездить в Киев, в дальние края, даже за море, а я высохну, сгорблюсь на подневольной постылой работе. Зачем мне жизнь? Зачем такая жизнь? Лучше б мне было птицей на свет родиться. Однако ж и птицу ловят в силки и сети… До конца дней своих буду работать, как вол, до черных мозолей и Свислочи с Березиной никогда больше не увижу».
Он опустил голову на грудь, и слезы невольно полились из глаз. Молодой рыжебородый Михалка с сочувствием поглядывал на него.
– Ты что это, Яков? – хлопнул его рукой по плечу Чухома. – Негоже тебе слезы лить. Ты же хлопец-сорвиголова, палец в рот не клади. Я же тебя знаю. От слез только болотный туман густеет. Не плачь. Все, даст бог, образуется.
И Михалка сказал Якову:
– Не плачь.
Яков утер слезы рукавом свитки, начал глядеть на лес, на дорогу, на небо, что все больше яснело, наливалось весенней голубизной, и потихоньку успокаивалось растревоженное сердце. Он вспомнил о Мирошке с Настасьей. Где они теперь? Может, и их кто-нибудь гонит сейчас в чужую сторону? А может, пересидели беду в лесу, спрятались и теперь греются у костерка, сухой хворост в огонь подбрасывают?
Яков с Чухомой и еще десяток невольников попали в конце концов на подворье боярина Ивана, огороженное высоким дубовым забором, грязное, в глубоких ямах, в коровьих лепешках.
Боярин Иван вел хозяйство с размахом. Топил и клеймил комья воска, жег лес на золу для варки мыла, выделки кож и окраски сукна, гнал деготь. Все это богатство на стругах и лайбах вез по Двине на Готский берег и дальше. Но пришли тевтоны, захватили устье Двины, и стало трудно, а потом и совсем невозможно его корабельщикам прорываться в Варяжское море. Вот почему на вече боярин Иван поддержал князя Вячку и даже вызвался из своей руды и своими руками (то есть руками своих челядников) выковать князю Всеславов меч. «Беда заставила нас пересесть из челна на боевого коня», – говорил он родовитым боярам, которые далеко не все хотели идти войной на тевтонов.
Боярин Иван сам встретил своих новых работников, захотел взглянуть на каждого из них. Он знал всех коров в своем большом стаде, тем более должен был знать челядь. Новые челядины стояли, сбившись в кучку, посреди широкого двора. Они были исхудавшие, обессилевшие, и это сразу отметил своим хозяйским оком боярин. «Нелегко мне будет их откормить, – подумал он. – Кожа да кости… Да с божьей помощью за седмицу поставлю бедняг на ноги, дам хлеба и репы вдоволь, а тем, кто пойдет на особо трудную работу, и мяса дам».
С этой минуты боярин стал для челядников отцом родным: кормил и поил их, одевал-обувал, приют давал, старанию и упорству в труде учил, за лень наказывал. Как за каменной стеной были слуги за своим боярином. Мог челядин ударить вольного человека и укрыться в боярских хоромах. Боярин же, если хотел, не выдавал своего работника, а платил тому, кого ударили, за обиду, за понесенный стыд.
Боярин был пчелиной маткой, а челядин – маленькой пчелой. Боярин был могучим кряжистым дубом, а челядин – былинкой.
Боярин был отцом заботливым – чуть что не так сделал челядин, сразу ухо отрезали ему под самый корень.
Так и начали жить Яков с Чухомой на боярском подворье. Весна уже вовсю хозяйничала: снег сошел, ручьи отголосили. Уже и калужница желтая, стыдливая, по лугам-болотам побежала.
Боярин Иван помнил свое обещание, данное полоцкому вечу, – за седмицу выковать меч для князя Вячки. Лучше б ему было не давать такого обещания! Сделали его кузнецы меч, а когда боярин решил испытать и ударил им по варяжскому мечу, только рукоять с крестовиной в боярской руке осталась. Клинок же со свистом отлетел, мальчонку, гнавшего гусей на луг, поранил.
Тогда Иван, втайне от мужей-вечников, из Полоцка тевтона Фердинанда пригласил. Фердинанд тот уже второй солнцеворот жил на торжище, скупал полоцкую пеньку для рижских корабельщиков. Ходили о нем слухи, что он искусный мастер по железу – что хочешь сделает.
Фердинанд приехал на повозке с полотняным верхом, был одет в плетенную из стальной проволоки кольчугу – видно, побаивался нападения в дороге. В боярском тереме он с большой радостью и облегчением стянул с себя тесную кольчугу, оставшись в мягкой атласной рубахе. Крупные капли пота выступили у него на лбу и на висках.
Боярин Иван сразу же усадил гостя за стол с богатым угощением. После третьего кубка меда Фердинанд повеселел, заулыбался, шепнул боярину в заросшее седым волосом ухо, что он, Фердинанд, очень хороший человек, что дома, за Варяжским морем, к нему относились с почтением и что он (ха-ха!) совсем не прочь ущипнуть мягонькое женское бедро.
Боярин Иван слушал его внимательно, согласно кивая головой, не забывал подливать меду. Оба были веселые, довольные, раскрасневшиеся.
Наконец боярин заговорил про меч. Фердинанд сказал, что у них, в Саксонии, каждому мечу, как новорожденному сыну, дают имя. Есть меч «Лев», меч «Рудольф», меч «Карл»…
– Мне нужен меч «Всеслав», – перебил Фердинанда боярин Иван.
– Всеслав? – наморщил Фердинанд загорелый низкий лоб. – А кто это такой? Чем прославился этот человек, чтобы его именем назвали рыцарский меч?
– Всеслав был великим князем полоцким и киевским, – терпеливо начал объяснять боярин. – Хоробрым князем. Он родился в сорочке…
– В сорочке? – удивился Фердинанд. – Ага-ага, понимаю. Бывают дети, которых бог отправляет на белый свет из материнского лона одетыми. – Он засмеялся своей догадливости.
– И вот эту «сорочку» Всеслав всю жизнь носил с собой. Она оберегала его от врагов. Он сделал Полоцк могучим.
– Да-да, Полоцк – могущественный город, – согласился саксонец. – Иначе я не жил бы в нем. – Он громко рассмеялся. За ним мелким заливистым горошком рассыпался боярин Иван.
– Ты должен выковать меч. Самый лучший в Полоцке, – трезвея, сказал боярин. – Я хорошо заплачу тебе.
Тут и Фердинанд начал трезветь. Делать-то мечи он делал, но давно. Рука и глаз с тех пор могли отвыкнуть. Ему нужны помощники, много помощников. Нужен хороший металл. Нужны мед, пиво, мясо, мягкий хлеб…
– Будет, будет… Все будет, – хотел прервать его боярин.
Но Фердинанд словно не слышал и не видел боярина. Ему, Фердинанду, кроме всего этого нужна молодка, чтобы подавала на стол, когда он проголодается, мед, пиво, мягкий хлеб…
При этих словах боярин поморщился, буркнул, будто про себя:
– Жаба заморская.
– Какая баба? – насторожился, недослышав, Фердинанд.
– Будет, говорю, тебе баба, – мрачно пообещал боярин.
– А теперь, боярин, – сказал Фердинанд, напоследок еще раз отпив из кубка, – отпусти меня на три дня в Полоцк. Инструмент свой кузнечный привезу, книгу ученую о горячих и холодных металлах. Жди меня через три дня.
В это же время Чухоме и Якову как будущим подручным Фердинанда был дан строгий приказ искать болотную руду, варить и ковать из нее железо. Возле Полоцка такой руды не было, и они вынуждены были пойти на плоту вверх по Двине, потом с Двины спуститься до истоков реки Уллы. Их сторожили, следили за каждым шагом и движением боярские тиуны, так что сбежать в пути не было никакой возможности.
Суровая величественная природа открывала им свое неповторимое лицо. Бесчисленные озера были рассыпаны в этой глухой лесной стороне. Они сверкали под солнцем, как осколки голубого стекла. Налетал ветер, шумел в молодой зеленой осоке, накатывал на низкие песчаные берега сине-черные волны. Валуны грели на полянах свои замшелые бока. Там-сям поднимались могучие ели, как островерхие воинские шатры. Синицы оживленно бегали и звонко тинькали в густом мраке колючих еловых лапок. Холодные пенистые ручьи прорезали равнину торфяников и лугов. Желтел мох, а под ним мертвым сном спала гнилая болотная вода.
На берегу Уллы Чухома нашел залежи темно-красной руды, она податливо липла к пальцам.
Срезали заступами дерн, начали копать руду. Из глины, привезенной с собой на плоту, смастерили две небольшие печи-домницы. Глину, чтобы не трескалась от большого огня, смешивали с песком и дресвой. У самого дна печей Яков под наблюдением Чухомы сделал отверстия, вставил в них глиняные трубки-сопла, через которые внутрь печей нагнетался воздух. Засыпали в домницы древесный уголь вперемешку с кусками руды, подожгли…
Яков трудился с охотой, с большим интересом к делу, с которым столкнулся впервые. Пот заливал глаза, но он, не обращая внимания, делал все, что приказывал Чухома. Только работа, тяжелая, до изнеможения, могла хоть на миг дать отдых израненной пленом душе.
– Молодчина, Яков, – хвалил его Чухома. – Быть тебе кузнецом. Запомни: без кузнеца земля безрадостна. Радость мы даем рудой своей, железом своим.
– Из руды и мечи выкованы, которыми нас пленили, – тихо возразил Яков.
– Тут не кузнецов вина, – усмехнулся Чухома. – Птицы небесные не виноваты, что с неба Перун в людей стреляет. Так и мы. Слышал я, что меч, для которого мы руду плавим, на доброе святое дело пойдет.
– Для князя Вячки, против тевтонов воевать, – подсказал один из боярских тиунов.
– Вот видишь, Яков? Не только зло от железа. Зло от злых людей, а не от железа.
Огонь и сырой воздух делали в домницах свое таинственное, непонятное многим людям, в том числе и боярским надсмотрщикам, и Якову, дело. Чухома загадочно и торжественно улыбался. Один он знал, что в этот самый час душа огня и душа руды сплетались в один неразрывный клубок, в одно целое, чтобы породить звонкоголосое желанное дитя – железо. Правда, это еще не чистое железо, это крица, в ней еще много шлака. Крицу надо будет докрасна раскалить в горне, кинуть на наковальню и бить, бить, расплющивать могучими молотами, чтобы выгнать из нее больной болотный дух.
Подождали, пока остынут домницы, разбили, разломали их, теплые крицы погрузили на плот. Темно-вишневая заря горела над землей. Всхлипывала вода в осоке. Звезды трепетали во мраке, как золотые небесные слезы.
Яков стоял на плоту, отталкиваясь от топкого дна длинным березовым шестом. Болела спина, но душа была ясной и спокойной. «Я молодой, – думалось ему. – Мне еще жить да жить. Я сильный. Никогда я не буду рабом. Никогда». Он вспомнил слова молодого купца Михалки, что сам полоцкий воздух делает человека вольным, и радость, давно забытая птица, запела в его душе. Он уже знал, как спастись, – надо бежать в Полоцк, в город, затеряться среди людей. Надо убежать, а там – что будет, то будет.
Как только они прибыли на боярское подворье, сразу же, с согласия боярина Ивана, их взял под свою опеку саксонец Фердинанд. Он выпытал у боярина, кто из его людей пригоден для кузнечной работы, и вместе с Чухомой в кузнецы попал и Яков.
Фердинанд, в новеньком кожаном переднике, в новых, только что сшитых сапогах, собрал всех своих подручных – и молотобойцев, и горновых, и водоносов – в кузнице, сказал, как и все тевтоны, медленно, смешно выговаривая чужие слова:
– Вместе работать будем. Я не вашей земли человек, но я хороший человек. Я люблю есть, пить вино, люблю много спать, люблю женщин. Вы, наверное, тоже все это любите? Но еще я люблю и умею работать.
Он на минуту умолк, глянул на своих помощников – понимают ли его? Понимали. Слушали внимательно. Это еще больше вдохновило Фердинанда. Возбужденно махая руками, он продолжил разговор:
– Нам надо выковать меч «Всеслав». Правильно я называю имя? Так вот. Из той руды, из того железа, которое вы привезли откуда-то из болот, нельзя сделать меч «Всеслав». Можно серп женщине смастерить… А меч… Ваше болотное железо мягкое, слабое. Меч из такого железа согнется, как соломинка, в первом же поединке. За боярские гривны на торжище в Полоцке я купил свейского железа. Из такого железа куются мечи для победителей, для героев. А из вашего мы наделаем боярину ключей и замков.
Из-под кожаного передника Фердинанд вытащил пожелтевший, свернутый в трубку пергамент.
– Знаете, как закаляется кричное железо? Вот что пишет Теофилус Пресбрайтер в своем трактате «Схема разнообразных искусств». Тут написано не вашими буквами, я вам буду пересказывать, объяснять.
Он начал читать, изредка отрывая взгляд от пергамента, чтобы глянуть на своих слушателей:
– Закалка железа ведется таким же образом, как режется стекло и размягчаются камни. Возьми трехлетнего черного козла и держи его под замком на привязи трое суток без корма. На четвертый день накорми папоротником. После того как он два дня поест папоротника, на следующую ночь помести его в бочку с решетчатым дном. Под бочку поставь сосуд для сбора козлиной мочи. Набрав за двое или трое суток достаточное количество жидкости, выпусти козла на волю, а в этой жидкости закаливай свое железо.
Фердинанд спрятал пергамент, глянул строго на своих помощников.
– Несите.
– Кого? Черного козла? – удивился Чухома.
– Несите сюда амфору с вином, которую я спрятал в куче угля.
Начали ковать меч «Всеслав». Свейское железо и в самом деле было хорошее, податливо ковалось, чувствовались в нем сила и упругость, цвет имело серый с синеватым оттенком. Чухома причмокнул языком:
– Мне бы в Горелую Весь такое.
Фердинанд сразу же распознал в Чухоме самого способного и самого умелого своего помощника. Давал ему ковать меч, сначала изредка, потом все чаще.
Меч делали длинный, двуручный, чтобы во время боя вой мог взять его за рукоять обеими руками. Лезвия у клинка с двух сторон были острые, заточенные. Крестовину и рукоять обложили черненым серебром, серебро легло шероховато, – не будет скользить ладонь. Верх рукояти сделали в форме красного яблока, дорогой заморский камень, сеявший в полумраке вокруг себя таинственные лучи, вставили, утопили в это яблоко. Немного ниже рукояти на одной стороне клинка выбили изображение святого Юрия, а с другой стороны написали на железе полоцкими письменами «Всеслав».
Последние дни все больше Чухома занимался мечом, а Яков ему помогал. Фердинанд же пил вино, прячась от боярина. Пропала у него охота к кузнечному делу, и частенько говаривал он Чухоме:
– Уеду в Саксонию, стану виноделом. Через две весны уеду в Саксонию. Опротивело мечи ковать.
Боярин Иван, доверившись Фердинанду, не часто заходил в кузницу, да и смрад, дым, жар кузнечный плохо выносил. Иной раз прибегали от боярина посыльные, спрашивали:
– Боярин Иван знать желает, скоро ли меч будет готов?
Фердинанд, которого заранее предупреждали, что ожидается гонец от боярина, хлопоча у наковальни, сердито жмурил глаза:
– А дитя скоро рождается?
Мальчишки-посыльные этого не знали и бежали назад, в боярские палаты. Но однажды сам боярин заглянул в кузницу. Был он в длинном, по колено, красном кафтане, в руке держал белый вышитый платок – нос от гари затыкать. Он осторожно остановился на пороге, окидывая подозрительным взглядом Фердинанда, Чухому и Якова. Яков поклонился боярину.
– Приезжали мужи-вечники из Полоцка, – сказал боярин, – спрашивали про меч.
– Меч готов, боярин, – улыбнулся Фердинанд. – Лежит, на холодке остывает, на утренней росе. Яков, принеси боярину Ивану меч.
Яков торопливо вышел из кузницы, принес меч, который незадолго до этого положили на песок, на сырую землю, чтобы всю силу земную в себя вобрал. На клинке сверкала роса.
Боярин взял в руки тяжелый светлый меч, покрутил его и так и этак, взмахнул над головой, внимательно разглядел крестовину, изображение святого Юрия, рукоять с дорогим заморским камнем. Казалось, если бы не Фердинанд с помощниками, он попробовал бы меч и на зуб.
– Хорошо, – сказал наконец боярин. – Важнецкий меч получился. Ты, мастер, – обратился он к Фердинанду, – получишь плату, как мы и договаривались, и сверх платы еще добавлю. А вы, – внимательный взгляд боярина, казалось, насквозь буравил Чухому с Яковом, – выпьете в святой день ведро меда. Мне нужны люди по железному ремеслу.
– Кланяемся тебе в ноги, боярин Иван, – поклонился Чухома.
– Ножны для меча уже сделали в Полоцке, – продолжал боярин. – И еще говорили вечники, что в рукоять меча надо обязательно вложить мощи святой Ефросиньи Полоцкой, умершей в святой земле, в Иерусалиме.
– Где же мы возьмем те мощи? – растерялся Фердинанд и взглянул на Чухому и Якова. – Да еще – ведь чтобы положить их в рукоять, надо камень оттуда вынуть.
– Камень надо вынуть, – сразу согласился боярин. – Не заморскими каменьями воюют, а святыми мощами. Вынь камень, мастер, и отдай его мне.
Он растопырил пальцы чуть ли не перед носом у Фердинанда.
– Не сразу, боярин, – отвел в сторону его руку Фердинанд. – Нелегко было вложить камень в рукоять, а доставать его будет еще труднее. Два дня нам на это.
– Два дня? – поморщился боярин. – Пусть будет по-твоему. К тому времени и мощи святой Ефросиньи привезут из Киева, из Печерской лавры.
Когда боярин ушел, Чухома улыбнулся:
– Пожалел камень, старый гриб.
– Свое добро надо жалеть, – сухо сказал Фердинанд.
Чухома с Яковом ничего ему не ответили, только переглянулись между собой.
«Как же сбежать отсюда? – мучительно раздумывал Яков. – Неужто вся жизнь так и пройдет вот в этой кузнице, среди этих черных закопченных стен?»
За частоколом боярской усадьбы однажды он разглядел поросшую поникшим кустарником пустошь. Какие-то одинокие бугорки виднелись там, какие-то холмики.
– А что это? – поинтересовался Яков у старого челядина, который, задыхаясь, тащил на горбу камень-жерновик.
– Могилы, – не остановился, даже не поднял на Якова взгляд старик. – И ты там лежать будешь.
Что-то оборвалось в душе Якова, когда он услышал эти слова. Какая-то тоненькая струна в сердце лопнула. Звенела до сих пор, пела, черные мысли прочь отгоняла, а в этот миг лопнула. Навсегда умолкла.
Не в полетники взяли их на работу, не до покровов, а на всю жизнь. Да если б знал человек, сколько жить доведется, сколько весен над головой прошумит…
Через два дня приехали мужи-вечники, привезли в золотой баклаге мощи Ефросиньи Полоцкой. Фердинанд в присутствии полоцких бояр и боярина Ивана вынул заморский камень из рукояти, положил на его место святые мощи. Чухому и Якова на это время выгнали из кузницы. Челядину запрещалось лицезреть такое таинство.
Под церковный перезвон торжественная процессия двинулась к Полоцку. Впереди на богато убранных конях ехали бояре. За ними шли двенадцать мальчиков, одетые в белые полотняные рубашки и красные, из крашеной лосиной кожи, штаны. Мальчики играли в позолоченные дудки. За ними медленно ехала обвитая свежими луговыми цветами, обтянутая блестящими ромейскими покрывалами колесница. Ее везли три белых коня с выкрашенными золотой краской копытами, с расчесанными гривами, в которые были вплетены медные колокольцы и разноцветные ленты. На колеснице в вырезанном из темно-коричневого мореного дуба футляре сверкал под лучами солнца меч. По правую и левую руку от меча расположились на мягких сиденьях боярин Иван и саксонец Фердинанд. Боярин по такому торжественному поводу надел свою самую богатую горностаевую шубу и теперь обливался соленым потом. За колесницей шли Яков и Чухома. Яков держал в руках большие кузнечные клещи, Чухома – тяжелый молот. Боярин Иван сначала и слышать не хотел, чтобы его челядины вместе с ним отправились в город разделить его славу и благодарность полоцкого люда. Но Фердинанд настоял на своем, уговорил боярина. «Пусть посмотрит стольный Полоцк, какие у тебя мастера, – сказал, хитро улыбаясь, саксонец. – Пусть позавидует». Эти слова и решили дело – боярин Иван любил, чтобы ему завидовали.
Яков шел с клещами в руках. Сзади слышался звонкий топот коней – это ехали боярские вои, держа в руках обвитые мягкой зеленой дерезой копья.
С каждым шагом Яков все ближе подходил к городу, о котором столько слышал, о котором мечтал, лежа темными ночами на тесных грязных полатях вместе с другими челядинами. Воздух этого города делает людей свободными. Земля этого города, едва ступишь на нее, дает силу и радость. Вот он уже выплывает куполами Софии, которые, будто семь красно-золотых лепестков, рвутся в небо. Вот уже показались церкви в золоте, серебре и меди, серые нерушимые крепостные стены монастырей. Яркой голубизной ослепила глаза Двина, а на ней бесчисленное множество парусов – красных, синих, зеленых. Кипит, как муравейник, торжище. Все, что растет в поле, что шумит в лесу, что плавает в реке, что лежит в земле, – все продается тут. Бдительно следят за своим товаром купцы. Готовят к неблизкой дороге свои лайбы, струги и шкуты корабельщики – забивают пазы между дубовыми досками белой куделью, заливают днища тягучей смолой, медными гвоздями прибивают к палубе тюленьи шкуры. Крутятся гончарные круги, глина поет под пальцами, а на донце свежих горшков и жбанов, корчаг и крынок каждый гончар щепкой или соломинкой выводит свой знак, свою печать. Плотники ловко стучат топорами. Ярко-белыми стружками засыпаны их ноги. Каменотесы обрубают, обглаживают валуны, только искры летят из диких камней. Кожемяки и чеботари разминают, чистят, режут шкуры. Оружейники точат рогатины и копья. Степняки танцуют с бубнами в смуглых руках. Евреи продают вареное мясо и баранки с маком. Крошится камень. Звенит металл. Блестит, льется вода. Шумят улицы. Площадь перед Софией заполнена солнцем и ветром. И всюду – народ, храбрый, мужественный народ. О Полоцк могучий! Светлое око на лике земном!
Дружными криками приветствовали полочане меч Всеслава, который тройка белых коней везла по Пробойной улице, потом по Великому посаду. С Великого посада через ворота Кривичской башни меч въехал на площадь.
Епископ Дионисий вместе со всем клиром вышел навстречу процессии из Софийского собора. Божьи служки, распевая псалмы, несли кресты, иконы, хоругви.
Епископ освятил меч. Посадник Ратша вынул меч из футляра и, прижав его лезвием к правому плечу, обошел вокруг Софии. Все в полном молчании, не трогаясь с места, смотрели, как сверкает в лучах весеннего солнца меч.
– Слава мечу Всеслава! – кричала толпа.
Среди мужей-вечников не было князя Владимира. Не приехал князь из Бельчиц. То ли дела неотложные задержали, то ли болезнь – никто не знал. Кое-кто говорил, правда, потихоньку, с опаской, что князь поехал со своими ловчими на бобровую охоту.
И боярства было немного на площади. Сидели в своих палатах, пили мед, выжидали. Тот крик на вече, когда бояре требовали от князя Владимира вести Полоцк походом на Ригу, был уже забыт. Епископ Альберт не дремал – засылал к боярам тайных гонцов с подарками, с клятвенными заверениями в христианской любви и мире.
Только купцы из Кривичского ста, ремесленники да черный люд радостно встречали меч Всеслава. Понимали: будет сильной Полоцкая земля, будут сильны и они. Им нужна была торговля, хотелось возить свои товары по Двине и Варяжскому морю без страха, не выплачивая мыто незваным тевтонам.
Князя Вячку ждали из Кукейноса только завтра. Завтра же должно было собраться и вече, чтобы вручить князю меч. С согласия епископа и посадника Ратши боярин Иван забрал меч на ночь в свои городские палаты, стоявшие тут же, неподалеку от Кривичской башни.
Яков все это время места себе не находил. Рядом была свобода, казалось, можно было потрогать ее рукой. Вот эти купцы, бородатые, загорелые, – свобода. Прибиться бы к ним, как к журавлиной стае, и можно поплыть в далекие моря, в сказочно неведомые страны, где тают камни от горячего солнца, где текут реки птичьего молока, где живут люди с песьими головами.
Вот эти ремесленники, жилистые, веселые, говорливые, – свобода. Они знают секреты железа и камня, держат за огненную бороду огонь, бушующий в горнах и печах-домницах. Быть бы у них унотом, учеником, носить воду, убирать мусор – лишь бы свободным.
Да неотступно следили за Яковом и Чухомой боярские дружинники. Как собачьи хвосты, тащились вслед за ними. Где уж тут убежишь! Всадят копье между лопатками и бросят в помойную яму. Или еще хуже – поймают, живого места на теле не оставят, а потом на железном ошейнике, на цепи бросят в подземелье под боярскими палатами, где глаз человеческий слепнет от вечного мрака, где крысы по рукам человечьим бегают.
Боярин Иван остановился на ночлег в своих городских палатах. Ждали его богатый стол, баня, мягкая пуховая постель, молодые красивые челядницы – те, чтобы спал боярин сладко, гусиными перьями пятки ему щекотали. Крепко спал боярин той ночью.
Яков с Чухомой легли в малой гриднице, где обычно живет и столуется черная боярская челядь – дровосеки, ночные сторожа, возчики. Тут же, как повелось исстари, обитали клопы и тараканы.
Вскоре сон, как тяжелый надмогильный камень, навалился на гридницу. Челядь, намаявшись за день, спала с храпом и бормотанием. Спал и Чухома. Только Яков, лежа на спине с заложенными под голову руками, никак не мог заснуть. Душа его, все мысли были на площади перед Софией, там, где совсем недавно щедро светило солнце, где шумел полоцкий люд. Неужели он, Яков, молодой, сильный, так и умрет невольником?
Ночные звезды сияли над Полоцком. Светила луна. Серебряные облачка легко плыли в тишине прозрачного неба.
Вдруг сосед Якова по полатям, молодой высокий худощавый челядин, вскочил, будто ужаленный, со своего места. Несколько минут он сидел с закрытыми глазами, с тихой грустью на лице. Лунный свет сквозь щель в окне, затянутом бычьим пузырем, упал на высокий бледный лоб.
Казалось, челядин только и ждал этого. Казалось, тонкий лунный луч был той рукой, что подняла его и отдала только одному ему понятный приказ.
Он сидел рядом с Яковом, спал и не спал, так трепетали его ресницы и брови, в уголках губ теплилась легкая улыбка. Он был похож на цветок, бледный и слабый. Цветы утром поворачивают свои головки навстречу солнцу. У него же хозяевами были ночная луна и мрак.
Вот он вздрогнул. Судорога пробежала по лицу. Челядин легко, бесшумно слез, не открывая глаз, с полатей, пошел к двери, тихо отпер ее и исчез, растворился в ночной тьме. Никто в гриднице даже не шевельнулся, все спали как убитые.
Яков, пораженный неожиданным зрелищем, лежал на полатях не дыша. Неужто этот парень каждую ночь так ходит? А что, если ему вздумается передушить всех? Сам сонный, подушит сонных, и никто ничего знать не будет. Но куда же он пошел, зачем?
Яков тоже бесшумно спрыгнул с полатей, осторожно вышел во двор. Белой птицей плыла над городом луна. Туманились окрестности. Ни огонька, ни звука… Казалось, город никогда не пробудится от крепкого сна. Где же тот молодой челядин?
Как ни напрягал Яков зрение и слух, нигде никого не видел. Не провалился же он сквозь землю! И через островерхий дубовый частокол не мог он перебраться – там стража боярская стоит с колотушками, да и частокол слишком высок.
И вдруг, подняв глаза, Яков заметил челядина и остолбенел от неожиданности и страха. Челядин с закрытыми глазами шел по осиновым тесинам кровли гридницы. Вот взобрался на самый верх и направился к коньку. Он был в серой нижней рубахе и казался вылепленным из потемневшего мартовского снега. Шел легко, ровно, будто держался за лунные лучи, будто привязан был к ним. Какая сила вела его? Что заставляло вставать ночью и, повернув к луне сонное лицо, ходить по крышам? Неужто это нужно богу, богу, который охраняет все живое? Если бог ни при чем, то парня водил под луною дьявол.
Спрятавшись в тень молоденькой березки, Яков не отрывал глаз от челядина. Вот он дошел до самого конька. Еще шаг – и оборвется, полетит вниз тяжелое сонное тело. Но над самой пропастью юноша остановился, словно кто-то придержал его за локоть. Он стоял, залитый лунным светом, и был похож на идола-болвана, которого когда-то Яков вместе с Мирошкой нашел в лесной чаще возле Горелой Веси.
Вдруг на противоположной стороне двора послышался взволнованный человеческий голос, потом шепот:
– Тише, тише… Ты его разбудишь, боярин, и он разобьется.
Значит, не один Яков наблюдал эту удивительную сцену.
Яков еще больше затаился, даже присел и начал вглядываться туда, где должны были стоять незнакомцы. Кто-то обращался к боярину. Неужели боярин Иван не спит? Быть этого не может – имея таких красивых, таких ласковых челядинок, спит боярин теперь как у бога за пазухой, а не бродит по ночному двору.
Между тем юноша постоял на коньке, повернулся и пошел назад по крыше, затем ловко, как кот, спустился по углу гридницы вниз на землю, открыл дверь и вошел в гридницу. Он прошел шагах в пяти от Якова, как привидение. Глаза его были закрыты. Брови и губы вздрагивали. Если бы захотел, Яков мог схватить его за полу рубахи.
Незнакомцы, следившие за челядином, приблизились к Якову. Их было двое.
– Пошел, – сказал один глуховатым голосом. – Теперь будет спать до утра, а завтра и не вспомнит, что бегал по крыше, как мартовский кот.
– Неужели не вспомнит? – удивился второй, и Яков узнал его по голосу – Фердинанд! Тевтон Фердинанд почему-то не спал, а, закутавшись в черный плащ, чтобы быть незаметным, шепотом разговаривал на ночном дворе с каким-то человеком, которого Яков видел впервые. Яков притаился за деревом.
– Не вспомнит, – подтвердил тот, кого Фердинанд называл боярином. – У меня тоже был такой. Холоп Аксюта. Чуть луна на небо, на крышу лез. Челядь пугал. Ну я и приказал тиуну, как пойдет Аксюта с зажмуренными глазами, крикнуть у него над самым ухом. Тот и крикнул.
– Крикнул?! – переспросил Фердинанд.
– Ага. Свалился Аксюта с терема, и костей не собрали.
Они умолкли. Видно, прислушивались к ночной тьме. Спряталась за тучу луна, и сразу все стало мрачным, тревожным. Хоть бы собака голос подала. Но собаки, как и большинство людей, спали.
– Так что ты хотел мне сказать, боярин Долбня? – тихо спросил после длительного молчания Фердинанд.
– Нетерпеливые вы люди, латиняне, – кашлянул Долбня. – Все хотите знать раньше всех… Ты слышал, Вячка из Кукейноса на меня наговаривает?
– Не слышал.
– Говорил великому князю Владимиру, что я, боярин Долбня, тевтонам служу, что предупредил их, когда полочане на Ригу шли.
– А ты, боярин, и в самом деле служишь Альберту?
– Молчи, тевтон. Не твоего ума дело. Я не спрашиваю у тебя, кому ты служишь.
– Я служу себе и богу, – ответил Фердинанд. – На старость, на болезни старческие серебро зарабатываю.
– Так слушай, – резко перебил его Долбня. – Ты с помощниками выковал меч для Вячки. Правда это?
– Святая правда. И больше полочане тот меч ковали, чем я. Я только наблюдал.
– Ты выковал меч, которым будут срубать головы твоим единоверцам. Кровь римской церкви будет на твоих руках.
– Кровь римской церкви? – вздрогнул, ослабел голос Фердинанда.
– Кровь. Анафема папы Иннокентия III ждет тебя, отступник.
Они замолчали. Яков замер, боясь выдать себя движением или звуком, – это было бы концом. Как только эти двое узнают, что чужие уши слышат их разговор, сразу можно заказывать свечку – при первой возможности они убьют его.
– Где меч? – спросил Долбня.
– У боярина Ивана в светлице.
– Ты можешь сегодня утром взять меч, как только боярин проснется?
– Зачем? – испугался Фердинанд. – Меч все равно уже сделан, его не переплавишь, не перекуешь. Слушай, боярин, не будем вспоминать про этот проклятый меч. Сребролюбие сживет меня со света, сребролюбие, – почти простонал латинянин. – Много гривен пообещали, я и согласился.
– Меч не надо уничтожать, – решительно сказал Долбня. – Его уже не уничтожишь. Его видели мужи-полочане, епископ освятил. Надо только лишить меч силы. Мощи святой Ефросиньи ты закладывал в рукоять?
– Закладывал, – уныло выдохнул Фердинанд.
– Достанешь их оттуда и отдашь мне. Пусть моему дому святая Ефросинья помогает. А вместо мощей… На, держи.
– Что это? – удивился Фердинанд.
– Барсучья косточка. Сам барсука добыл, – засмеялся Долбня. – Положи эту косточку в рукоять. Подрежь, подпили ее, чтобы никто ничего не заметил. Ты же умеешь, – он снова засмеялся. – И будет этот меч тянуть князя Вячку в барсучью нору, в землю. Там ему и место. Понял?
– Понял. Сделаю.
– Постарайся, не то… Сам Альберт в Риге о тебе знает. Или венец небесный от Христа получишь, или с перерезанным горлом по Двине поплывешь.
Они молча разошлись в разные стороны. Яков еще долго стоял под деревом, долго вслушивался в ночную тьму, и только убедившись, что кругом все спокойно и никто за ним не следит, быстро юркнул в гридницу, взобрался на полати. Челядь спала. Тот, что ходил по крыше, тоже спал, изредка всхлипывая во сне.
Выплыло на голубую небесную прогалину солнце, улыбнулось Полоцку и полочанам, и торжественная процессия с подворья боярина Ивана снова двинулась в путь к Софийскому собору, на площадь, где уже шумели мужи-вечники, где князь Вячка, взволнованный и радостный, стоял на помосте, ожидая, когда вече вручит ему меч.
Яков, держа в руках клещи, шел рядом с Чухомой за колесницей, на которой везли меч. «Заменил ли Фердинанд мощи? – не давала ему покоя тревожная мысль. – Если заменил, если барсучью кость подсунул, меч потеряет чудодейственную силу. И побьют полочан тевтоны в Кукейносе».
Радостным гулом встретила меч площадь. Шапки птицами взлетели в небо. Глаза горели воодушевлением.
– Рубон! – прокатился по всей площади боевой клич полочан. И не было ни одной души, которая б не поддержала этот клич.
– Рубон! – кричали седоголовые старики, добывавшие копьем славу Полоцку во многих сечах.
– Рубон! – дружно поддерживала их молодежь, еще не битая вражьим железом, без единого шрама, но горячая, смелая.
– Рубон! – выкрикнули вои боярина Ивана, ехавшие конным строем за колесницей, ощетинившись дидами. Однако боярин, восседавший на мягком сиденье возле футляра с мечом, грозно оглянулся, лицо его налилось кровью. Вои сразу же прикусили языки, замолчали.
Знатные бояре встречали меч, епископ с посадником, весь клир Софии. Только князя Владимира, как и вчера, не было. «Прихворнул князь», – сообщил вечу бирич Алексей.
Епископ Дионисий взял меч в обе руки, на вытянутых руках понес его к помосту, где стоял князь Вячка. Люди вставали на цыпочки, вытягивали шеи, взбирались друг другу на плечи, чтобы не пропустить этот миг. Тишина воцарилась на площади, слышны были только медленные шаги епископа.
Кусая от волнения губы, епископ подошел к помосту. Князь Вячка снял с головы шлем, отдал его своему дружиннику, опустился на колени. Лицо его порозовело.
– Князь Вячеслав, – во весь голос возвестил епископ, – святая София, стольный Полоцк, все мужи-полочане вручают тебе меч Всеслава. Прими меч, князь.
Вячка, не поднимаясь с колен, взял меч, трижды поцеловав светлое лезвие.
– За что меч из ножен вынешь, князь? – громко спросил епископ.
– За святую Софию и Полоцк, – ответил Вячка.
– Встань, князь. София и Полоцк услышали тебя. Вячка поднялся с колен, надел на голову шлем, поклонился вечу:
– Кланяюсь вам, мужи-полочане. Умру за землю нашу, но святой меч позором не покрою. Беда идет с Варяжского моря. Тевтоны идут. Встанем стеной! Перекуем серпы на копья! Защитим дедовскую и отцовскую землю!
– Рубон! – загремело на площади. – Рубон! Рубон!
Трижды крикнуло вече, и это означало, что всем пришлись по душе слова князя Вячки.
– А теперь, князь, взгляни на мастеров, выковавших тебе этот меч, – сказал епископ и легонько подтолкнул к помосту растерявшихся Чухому и Якова. Фердинанд спрятался в толпе, побоялся показываться вечу, ведь на площади не могло не быть лазутчиков из Риги, не считая Долбню.
– Вы меч сделали? – обняв Чухому и Якова за плечи, широко улыбнулся Вячка.
– Мы, – ответил Чухома. – Для тебя старались, князь. Гони тевтонов в море.
– Хорошо говоришь, кузнец.
Вячка поцеловал Чухому, потом Якова, спросил:
– Как же кличут вас, мастера?
– Меня Чухомой, а его Яковом.
– Запомню, – блеснул острыми синими глазами Вячка.
У Якова голова кругом шла. Столько волнений выпало на его долю, что он в изнеможении стоял рядом с Чухомой и думал только об одном: как бы не упасть. Разве мог он когда-то в Горелой Веси даже мечтать или сны видеть о таком – что окажется в Полоцке, что будет стоять на площади возле самой Софии и Вячка, отважный красивый князь, при людях поцелует его. В Полоцк привели Якова неволя, плен, но поцеловал его Вячка как мастера, единоверца, сына Полоцкой земли. Это окрыляло душу. Он чувствовал, как слезы, теплые и мягкие, наворачиваются на глаза.
Отшумело вече, разошлось кто куда, и только София осталась на своем извечном месте. Стоять ей над речными волнами, глядеть за небосклон, следить, как стражу, кто на Полоцкую землю железную десницу поднимает.
Великие бояре в своих палатах позапирались. У них вече никогда не кончается. Перед народом они одни слова говорят, а в своих палатах – совсем другие. Будут сидеть до поздней ночи, мед пить, совет держать, спорить, готовые друг другу носы пооткусывать да глаза повыцарапать.
Якову же оставалось быть в Полоцке всего один день. Завтра по боярскому приказу они с Чухомой должны в кузнице железные лемеха для сох ковать. Попробовал, глотнул Яков сладкого полоцкого воздуха, и снова в неволю, в тюрьму постылую надо возвращаться. Обо всем этом он сказал Чухоме, тоскливо спросив:
– Что же делать, дядька Чухома? Тот задумчиво поскреб затылок.
– А что тут сделаешь, сынок. Бояр много. От одного сбежишь, другой на шею сядет. Как воронья их всюду. Такая уж наша доля, видать, – терпеть.
Говорил он эти слова, а в глазах – ни огонька, ни искры. Холодный пепел видел в глазах его Яков. «Помер Чухома, – с горечью подумалось Якову. – Плоть еще живая, а души нет. Померла душа».
Тогда он бросился к Фердинанду. Саксонец – человек по-своему неплохой, все-таки вместе меч Всеслава ковали, – может, поймет, подскажет, что делать.
– Фердинанд, помоги мне отсюда сбежать, – без долгих объяснений попросил он латинянина.
Фердинанд внимательно поглядел на него маленькими коричневыми глазками, поморщился.
– Помоги, – не отступал Яков. – Ты же тут все знаешь, все ходы-выходы тебе знакомы. Я отплачу. Работником у тебя буду три солнцеворота или больше – сколько скажешь…
– Все равны перед Христом, – наконец, отводя взгляд в сторону, сказал Фердинанд. – Даже у Александра Македонского всего одна голова была и две руки. Но не равную юдоль готовит бог детям своим земным. И не можем мы сломать ту клетку, в которую с самого рождения жизнь наша заключена.
– Помоги, – прервал его Яков.
– Не могу, я у боярина Ивана гость. Он меня хлебом-солью встречает…
– Ну и пес же ты, Фердинанд, – сплюнул под ноги Яков.
– Пес? – удивился саксонец. – Ладно, пусть пес. Но добрый, никого не укусил.
Все отвернулись от Якова. У всех были свои заботы, свои беды, и он, захотев вернуть себе волю, только мешал людям жить размеренной, пусть тяжелой, но привычной жизнью. Люди эти были согласны терпеть, страдать и дальше, их пугала непонятная решимость Якова вырваться из предопределенного судьбой русла, в котором человек должен плыть до самой смерти.
Боярин Иван, до которого дошли слухи о непокорности Якова, приказал всыпать челядину розог. Били крепко, со свистом. Все вытерпел Яков, только рукав сорочки съел, зубами перетер.
Боярин, стоя рядом, приговаривал:
– Так ему! Так ему, псу смердючему! Будешь слушаться своего хозяина. Скажет хозяин: «Целуй бич, которым разрывали плоть твою» – и поцелуешь бич.
В тот же день Якова и Чухому увезли из Полоцка в боярскую вотчину.
После наказания Яков не мог работать молотобойцем, и его, дав в руки большую метлу на длинной ореховой палке, заставили подметать боярский двор. Яков чуть держался на ногах. Солнце нещадно палило, и вскоре по его окровавленной спине потек солеными ручейками пот, от острой боли потемнело в глазах.
«Лучше бы я умер, – думал Яков. – Почему бог не забирает меня?»
Во двор, обнесенный высоким частоколом, влетела черно-красная бабочка, начала плавно кружиться над Яковом. Как завороженный, смотрел на нее Яков. Вот для кого нет ни запоров, ни заборов. Летит куда хочет, каждый цветок – дом родной.
Покружившись в солнечных лучах, бабочка села на ореховую палку метлы, прямо перед глазами Якова. Тот онемел, стоял не дыша. Выпуклые темные глазки спокойно глядели на него и весь окружающий мир. Длинные мягкие усики, словно посыпанные серо-золотистой пыльцой, чуть заметно шевелились.
Взмахнув крылышками, бабочка взвилась в воздух, быстро полетела за частокол боярской усадьбы, словно показывая дорогу Якову. «Душа предка! – осенило Якова, и ему вдруг стало нестерпимо жарко. – Душа предка зовет меня за собой!»
И будто утихла боль. Уверенность вернулась в душу. «Я убегу в город, – мысленно поклялся себе Яков. – Стану вольным человеком, Яковом Полочанином».
Чтобы убежать, нужны были здоровье и сила. Яков попросил в гриднице девушек-челядниц полечить ему исполосованную спину. Челядницы мазали спину холодным зеленым снадобьем. Было больно, но Яков терпел.
Подметая боярский двор, Яков старался держаться ближе к забору – может, щель обнаружится, может, вои боярские заснут. Однако вои не спали, и один из них с угрозой в голосе сказал Якову:
– Если еще раз подойдешь к частоколу, проткну копьем, как облезлую ворону.
Вои дружно засмеялись. Яков отошел, проклиная судьбу и злых людей, которых так много на белом свете.
Ночью он не сомкнул глаз. Горечь разъедала душу.
Молодой челядин, спавший рядом, несколько раз вставал, спускался с полатей, бесшумно выходил во двор, поднимался на крышу гридницы. Но это уже не удивляло Якова. Он жалел парня, но ничем не мог ему помочь. Ему и самому нужна была человеческая помощь, да Чухома в последнее время не заговаривал с ним, а Фердинанд вообще пропал – наверное, уехал в Полоцк.
Отчаяние охватывало душу. Якову казалось, что еще немного и он сойдет с ума. У боярина Ивана уже сидел на цепи в подземелье один сумасшедший челядин, которому все чудилось, что его родила волчица и сам он волк. В темные ночи из подземелья глухо доносился жуткий вой. Боярин Иван смеялся, объясняя гостям: «Подержу до филипповки, а там – выпущу в лес. Пусть бежит к своим родичам».
В таких душевных муках и невеселых мыслях прошла не одна ночь. Яков с ужасом чувствовал, что чем дольше живет он в неволе, тем холоднее и спокойнее становится сердце. Еще неделя-другая, и превратится он, как и все соседи по полатям, в немую терпеливую скотину, привыкшую много и тяжело работать, мало есть, испуганно вздрагивать под ударами кнута или палки.
И вот однажды будто огонь небесный вспыхнул в его душе, будто кто-то, невидимый и грозный, крикнул в самое ухо: «Беги отсюда! Беги сегодня, завтра ты уже не захочешь убегать!» Яков содрогнулся всем телом, сел на полатях. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Каменно-тяжелый сон объял гридницу. Яков сидел, уставившись невидящим взглядом во мрак перед собой. Время шло, а он все сидел не двигаясь, стараясь дышать как можно тише. Уже ночь собиралась повернуться на другой бок, уже стало светлеть за окном. Густая, как смола, ночная тьма стояла в гриднице, но и она начала отходить в углы. Первая искра рассвета слабо и несмело зажглась в кромешной темноте. Протяжно вздохнул, начал медленно подниматься молодой челядин. Неведомая сила снова срывала его с места, звала под лунный свет. И тут Яков бросился к челядину, бечевкой, которой подпоясывал свою свитку, связал ему ноги. Он делал все это быстро, бесшумно, осторожно и все приговаривал, как в лихорадке:
– Прости, браток… Полежи… Полежи… Поспи… А я за тебя пойду… Пусть дозорные подумают, что я – это ты…
Руки у него тряслись, сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Казалось, не он, а какой-то посторонний человек делает все это, а он, Яков, наблюдает за ним со стороны. Только бы не проснулся челядин – закричит со страху, весь боярский двор поднимет на ноги. Но челядин спал, тяжело вздыхая, всхлипывая во сне.
Яков осторожно вышел из гридницы, немного постоял у холодной дубовой стены, припав к ней щекой. Потом, стараясь всеми движениями походить на молодого челядина, двинулся через двор к частоколу. Он не сомневался, что стража уже заметила его. «Остановят меня вои или нет?» – думал он.
Возле забора росла толстая, старая, дуплистая, как гнилой зуб, липа. Яков погладил ладонью темную влажную кору. «Спаси меня, липа», – проговорил он про себя, как заклинание. Яков вырос в пуще, с детства научился взбираться на самые высокие деревья легко и быстро, как белка.
– Что-то наш ночной ходок сегодня не туда полез, – послышалось вдруг совсем неподалеку от Якова, и вой-дозорный, поблескивая кольчугой, неторопливо направился к липе. Оказывается, все это время он стоял в нескольких саженях от Якова возле забора и внимательно следил за ним.
– Надоело по крыше бегать, вот и полез на дерево, – донесся голос второго стражника, сонный и вялый. – Не спится же человеку. Я бы на его месте такого храпака давал… Погоди, Андрей, не подходи к нему, а то он загремит с липы, и утром боярин прикажет нам с тобой его косточки собирать. И что он каждую ночь ходит?
– Бешеная муха укусила за ухо, – ответил первый, и дозорные тихонько засмеялись.
Яков тем временем все выше взбирался на дерево, хватаясь руками за упругие, скользкие от росы ветки, натыкаясь лицом на мокрую прохладную листву. Спускаться на землю было уже нельзя – там поджидали дозорные, – и он лез вверх, словно липа была волшебной лестницей, ведущей на самое небо. Наконец он добрался до толстого длинного сука, который старая липа, словно руку, протягивала над частоколом с боярского двора. По этому суку пополз, лежа на животе, ожидая, что сук вот-вот затрещит, обломится. «Спаси меня, липа», – снова взмолился он. Вои, не отрывая взгляда, следили за ним снизу.
– Что этот дурень задумал? – испуганно спросил один из дозорных.
Сук от тяжести человеческого тела заходил ходуном, закачался. Еще миг – и не выдержит, затрещит… А внизу ждут острые, как железные зубья, колья.
Яков прикусил губу, соскользнул вниз и, уцепившись за сук обеими руками, повис на страшной высоте над землей. Перебирая руками, извиваясь всем телом, он медленно отдалялся от частокола. Упадешь на частокол – сразу богу душу отдашь.
– А не собирается ли этот лунатик от боярина Ивана сбежать? – вдруг громко сказал, словно проснувшись, вой в блестящей кольчуге. Его напарник рот раскрыл от неожиданности и начал вытаскивать из-за спины лук.
– Сейчас я его стрелой собью, как куропатку… Сейчас… – бормотал он, и в голосе не было уверенности.
Сук треснул, обломался, и вместе с ним, не размыкая рук, Яков полетел вниз. Ударился оземь, на мгновение показалось, что душа оставила его тело, но тут же упруго вскочил на ноги, рванулся от боярской усадьбы в серый предрассветный туман…
Воля! До чего же ты сладка, до чего светла и прекрасна! Бывают люди, которым нравится быть рабами. Зачем, земля, ты рождаешь таких людей?
Он бежал и бежал. Ветер забивал горло… На глаза налипал туман… От изнеможения кололо в груди. Он упал на землю, в мокрый кустарник, забился в мягкую траву и заснул…
Проснулся Яков от скрипа и тарахтенья колес. Оказывается, он заснул неподалеку от дороги, ведущей в Полоцк, и на этой дороге, за несколько шагов от болотца, в котором он лежал, остановился купеческий обоз. Молчаливые озабоченные купцы пошли к неширокой речушке ополоснуться. Они обивали на берегу грязь и песок с сапог, а Яков, чувствуя, как тревожно стучало сердце, подкрался к возам. В них лежали звериные шкуры, много шкур, еще не обработанных, влажных и красноватых. Остро, пьяняще пахло диким лесным зверем. «Только с купцами я смогу пробраться в Полоцк, – подумал он. – Одного меня схватит городская стража, и будет моя голова висеть на колу у боярина Ивана, как пустой горшок».
Яков начал лихорадочно разгребать шкуры на одном возу, делать нору-укрытие. Обливаясь потом, ломая ногти, он вырыл среди тесно сложенных шкур место для себя, небольшое гнездо, в котором можно было бы лечь, свернувшись клубком. «Сейчас или никогда», – решил он.
Он втиснулся, вжался в мокрые шкуры, чувствуя лицом их неприятную противную слизь. Потом, повернувшись на правый бок, согнув ноги в коленях, левой рукой начал закрывать, затягивать себя сверху шкурами, стараясь сделать все как можно лучше, чтобы ничем не насторожить купцов.
«Тебе, боже, вручаю душу свою», – думал он и закрывал глаза, затыкал уши, чтобы не увидеть вдруг неба над головой, не услышать разъяренное: «А ну, вылезай, пес!» Если найдут, его сразу же прикончат. Он знал это и готовился к самому худшему.
Приближаясь к возам, раздались тяжелые решительные шаги. Шло несколько человек. Яков перестал дышать.
– Тут крутился какой-то челядин, – сказал злой низкий голос. – Где же он?
– Много меду ты вчера выпил, Доброслав, – послышалось в ответ.
Повисла тишина. Доброслав недовольно пробурчал:
– А может, он в какой-нибудь воз спрятался?
– Ищи, – мирно ответили ему. – Мне хоть десять гривен заплати – я в эти вонючие шкуры не полезу. Доброслав, не дашь ли мне трут? Я свой потерял.
– Что я тебе, из колена выломаю? – выругался недовольно Доброслав, и купцы отошли от возов.
Ополоснув свежей речной водой лица, вернулись купцы. На воз, в котором спрятался Яков, сели три, а то и четыре человека. С тяжелым скрипом воз тронулся с места, покачиваясь на колдобинах.
Яков задыхался в своем укрытии. Все силы забрало волнение, а тут еще в ноздри лез гнилой запах протухших звериных шкур. Но он терпел, помня, что пути назад нет, что, вернувшись к боярину, он умрет под беспощадными ударами палок.
Он старался думать о своем будущем. Если повезет, если он станет Яковом Полочанином, то пойдет служить к какому-нибудь богатому ремесленнику. Он смекалистый, сильный, справится с любой работой. А хорошо бы ловчим стать, зверя на охоте выслеживать… Какая это радость, какое счастье – идти, бежать по тайным лесным тропкам, известным только тебе, где все засыпано снегом или золотыми осенними листьями, поднимать из логова зверя, кричать ему вслед, слышать, как он испуганно убегает, продираясь сквозь ельник и заросли кустов. Как хорошо сидеть потом возле освежеванной туши. Отдыхают утомленные от беготни ноги… Вечерняя заря опускает на лес широкое алое крыло… Собаки с сердитым визгом лижут горячую звериную кровь… Лесной вольный ветер трубит в костяной охотничий рог…
Отдавшись мечтам, обессилев от невыносимой вони, Яков, зажатый со всех сторон, погружался в глубокую жгучую темень, где ярко вспыхивали маленькие искрящиеся звездочки и густо звенела в висках кровь. В последний миг ему почудилось растерянное, испуганное лицо Мирошки. Мальчик, наклонившись над Яковом, протягивал ему руку. Хотел было Яков ухватиться за эту ручонку, да сил не хватило, слабость, вялость сковали все его тело, и он провалился во что-то мрачное, страшное, пошел на самое дно…
– Глянь, кого мы привезли, – прозвучало над самым ухом, и Яков с огромным усилием открыл глаза. Пожилой купец со свалявшейся серой бородой внимательно глядел на него. Купец только что поднял шкуры, в которые завернулся Яков.
Подошли другие купцы. С любопытством глядели они на неожиданного гостя. Яков чувствовал, как холодеет сердце.
– Кто ты? – спросил купец с серой бородой. Яков молчал.
– Ты что, не видишь? Холоп боярский. Эти слова принадлежали маленькому вертлявому купчику с массивным золотым перстнем-печаткой на пальце. Он крутил перстень, подышав, тер о полу своего красного кафтана и все время не сводил глаз с Якова.
– Надо отвезти его к хозяину, – раздумчиво предложил серобородый. – Боярин хорошо заплатит.
– А откуда известно, что он холоп боярский? – вмешался в разговор еще один купец, высокий, сухой, с глубоким рваным шрамом на правой щеке. Видно, копьем когда-то щеку задело. – Людей на свете всяких много. Не один Гаврила в Полоцке. Бородатый с ним не согласился.
– Ярун, – повернулся он к купчику с золотым перстнем на пальце, – сходи к переднему возу, принеси веревку. Свяжем этого воробья. Боярин хорошо заплатит.
Ярун, хихикнув, побежал за веревкой. Яков наконец слез с воза и стоял теперь в окружении купцов. Снова неволя раскрывала свою пасть, снова делался черным белый свет.
– Купцы, – взмолился он, – отпустите меня. Что я вам плохого сделал?
– Нельзя убегать от хозяина, – строго сказал серобородый. – Что, если все начнут бегать?
Ярун весело нес веревку. Яков, прикусив губу, вдруг рванулся с места, сбил с ног бородатого и помчался изо всех сил к раскрытым воротам.
Он вылетел за ворота, побежал по узкой, тесно застроенной низкими деревянными избами улице. Земля Полоцка была под его ногами. Ветер Полоцка бил ему в грудь. София высоко сияла над городом. Он бежал, глядя на ее купола. Кто ждал его? Кого он знал в этом огромном городе?
У первого же встречного, гончара с красными от глины руками, он спросил:
– Где найти князя Вячку с дружиной?
– Вячку? – удивленно глянул на запыхавшегося Якова гончар. – На подворье у боярина Твердохлеба остановился князь.
После долгого хождения по шумному городу Яков нашел наконец подворье боярина Твердохлеба и сразу же увидел Вячку, собиравшегося идти в светлицу.
– Князь! – в отчаянии закричал Яков.
Вячка замедлил шаг, вопрошающе взглянул на Якова:
– Кузнец?
Яков бросился на колени:
Спаси, князь. Дай пристанище.
Глава третья (часть III)
Княгиня Добронега плакала в своей опочивальне. Это были первые ее слезы с той поры, как оставила она родное Княжье сельцо, простилась с отцом-матерью, уехала в Полоцк, оттуда в Кукейнос, где кукейносский поп Степан обвенчал ее с Вячкой в церкви при всем народе. Челядница Кулина, которая с самого Княжьего сельца не расставалась с Добронегой, расчесывая ей красивым самшитовым гребнем волосы, уговаривала:
– Не плачь, княгинюшка, не плачь, кукушечка. Из-за чего басу-красу губишь, молодость сушишь? Что Софья – она же еще дитя малое! В куклы играет. Откуда ей знать, кто ей счастья желает. Родную мать, конечно, не заменишь – одну ее бог на весь век дает. Да с твоим золотым сердцем, княгинюшка, ты кого хочешь полюбить себя заставишь. Нельзя тебя не любить.
Добронега подняла заплаканные глаза на Кулину, тихо спросила:
– А может, напрасно я вышла за князя Вячеслава? Кулина руками всплеснула:
– И не говори так, княгинюшка, и не думай. Как две звезды вы в небе. Где лучше вас пару найти? Полюбит тебя Софья, родной считать будет. Попомнишь мои слова.
Добронега понемногу успокаивалась. Вообще-то была она неплаксивой породы, в отца удалась. Тот, когда еще мальчонкой был, только разгневанно сопел носом и густо краснел, исподлобья глядя на обидчика. И столько было в том детском взгляде недетского гневного укора, столько суровой силы, которая все знает, все понимает, светилось в глубине глаз, что взрослые люди отводили глаза.
Такой взгляд был и у маленькой Софьи, падчерицы Добронеги. Когда после венчания Добронега вместе с князем Вячкой вернулась из церкви в терем, Софья, красиво одетая, гладко причесанная кормилицей Тодорой, встречала их на крыльце. Бояре научили ее взять в руки крест-складень и благословить отца и новую мать в такой радостный для них день.
Вокруг крыльца стояли бояре, чуть подальше толпились челядь, простолюдины из города, латгалы и селы. При появлении Вячки и Добронеги дружинники высоко вскинули щиты, ударили по ним мечами. Бояре, а за ними и челядь крикнули здравицу.
Добронега, волнуясь до дрожи в коленях, ждала, как встретит ее Софья. Маленькая красивая княжна с чистым, удивительно серьезным личиком, с маленькой дорогой коронкой на светлых волосах, крепко сжимая крест тонкими пальцами, глянула на отца, потом на свою новую мать и осенила их крестом. Губы у нее задрожали, казалось, она вот-вот заплачет, однако Софья, как истинная наследница полоцких князей, побледнев, только проглотила горький комок и сказала звонким голоском:
– Пусть будет над вами бог. Аминь.
Старший дружинник Холодок разбил о крыльцо большой, специально сделанный для этого дня гончаром Володшей глиняный горшок, и все беды-напасти рассыпались, когда рассыпался, разлетелся на мелкие кусочки горшок, на котором были написаны имена всех врагов Вячки и Кукейноса.
Потом князь с княгиней наступили на самом пороге терема на корчагу, прикрытую льняной скатертью. Звонко треснула корчага, и это тоже было добрым знаком.
И вот тогда перехватила Добронега взгляд своей падчерицы Софьи. Столько муки, столько боли было в этом взгляде! Словно прощалась с чем-то падчерица, словно теряла что-то навсегда. И самое страшное, что слез не было в ее глазах. Сухи были глаза, как морозный колядный снег.
– Иди, Кулина. Я хочу побыть одна, – сказала челяднице Добронега. Челядница, поклонившись, вышла из светлицы.
В князе Вячке Добронега нашла того, о ком не раз мечтала в бессонные весенние ночи, когда темно-голубое небо недвижно стоит над землей, а ясные угольки звезд, кажется, прожигают насквозь душу. Она сберегла себя, сохранила для этого дня, для этого мгновения. Сама удивлялась тем светлым высоким волнам, что бились в ее сердце, когда они с Вячкой оставались вдвоем, когда только для них существовал весь этот бескрайний мир от самой далекой звездочки-крошки в небе до кусочка теплого янтаря в холодной морской черно-синей бездне.
Молодая княгиня чувствовала, что ее сразу же признали в Кукейносе, и это ей, конечно же, нравилось. Она понимала, что любят ее кукейносцы как жену своего князя, но в мыслях она залетала в тот день, когда будут уважать не просто жену Вячки, а княгиню Добронегу.
Лишь Софья не любила ее. Она видела в Добронеге только мачеху, а мачеха для чувствительной детской души – всегда что-то холодное, хитрое, жестокое, одним словом, чужое. Бывают мачехи и добрые, и ласковые, да все равно ребенок помнит свою родную мать, помнит особой памятью сердца. В природе человеческой от Адама и Евы это заложено, и ничего тут не поделаешь.
Вместе с Вячкой и Добронегой ходила Софья на молебен в церковь, опускалась на колени рядом со своей новой матерью, страстно молилась богу.
В такие мгновения Добронега украдкой глядела, на Софью. Неужели не прольются слезы из холодного мрамора?
Отец Степан, положив на аналой Евангелие, читал о жизненных бурях, ожидающих сыновей человеческих. В каждой руке огненным цветком трепетала свечка. Начинал песнопение хор, и будто взлетала церковь над землей, плыла над ней – в таком единстве, такой гармонии жили души верующих.
«Дай боже, чтобы она поняла меня, – молилась Добронега, поглядывая на маленькую светловолосую головку падчерицы. – Я буду ей доброй матерью. Вячка очень любит ее, и если увидит, что дочь переменилась ко мне, поняла меня, будет счастлив. А счастье Вячки – мое счастье».
– Почему ты не моя мама? – спросила однажды Софья у Добронеги, когда они гуляли по двору терема.
– Я твоя мама, Софьюшка. Я люблю тебя, – тихо ответила Добронега и почувствовала, как горячо загорелись щеки.
– Нет. Ты моя новая мама. А почему ты не княгиня Звенислава?
– Я княгиня Добронега. Разве я виновата, что твоя мама умерла?
– Не виновата, – немного подумав, глянула на мачеху пронзительно-синими глазами Софья. – Моя мама была красивее тебя.
Жизнь тем временем шла своим чередом. Что было жизни до того, любит или не любит Софья Добронегу? Вставали над теремом, надо всем городом огромные темные тучи. Огненный меч молний разрубал их на куски. Все затихало, тревожно затаившись, потом с Двины, с речного простора, подкрадывался ветер. Он был сначала ласковым, мягким зверьком, все выглядывал, все обнюхивал. Потом начинал своевольничать, озоровать, буянить – там челядницу за платок дернет, там пустой жбан, стоящий в раскрытом окне светлицы, опрокинет… Отлетал ветер, и вот уже на крыльце терема меленько стучал дождь…
Добронега любила дожди, а этим летом они шли очень часто.
Под густой шум дождя раскрывала Добронега окна терема, смотрела, как танцуют светлые струйки, как распластывается трава под их ударами, как разноцветные брызги рассыпаются во все стороны от гладких досок крыльца.
Вячка почти все время проводил в разъездах – мчался с дружиной к эстам, ездил к литовцам, курам и земгалам, гостил в Пскове и Новгороде. И всюду уговаривал местных князей и старейшин выступить против тевтонов. Одна была у него заветная мечта – сбросить тевтонов в Варяжское море.
Добронега грустила без Вячки. Да что сделаешь? Глаза видали, что выбирали. Еще до замужества слышала она от людей и от отца, Рогволода Свислочского, о гордом неуступчивом характере Вячки, о его смелости и воинственности. Шептуха, гадавшая ей перед свадьбой на топленом воске и на богемском зеркале, сказала: «Как тур, смелый и остророгий, муж твой будет. Часто спать тебе одной на холодном одре, княжна».
«Один у меня муж. Как одно у меня тело и одна жизнь», – часто думала Добронега, особенно в дни, когда князь Вячка с дружиной исчезал на несколько седмиц и ей приходилось оставаться в тереме одной. Вслушиваясь в суровый гул лесов, обступавших со всех сторон Кукейнос и готовых, казалось, поглотить его, навеки похоронить в своих недрах, молодая княгиня чувствовала, как сжимает сердце тревога. Тогда она зажигала свечки перед иконами и молилась долго и страстно. На меже дня и ночи, когда светлеет небо и души предков возвращаются в свои могилы, она наконец засыпала. Но сон был тяжелый, черный от печали. Снились болота, они засасывали Вячку, зловещие вороны выклевывали глаза его коню Печенегу.
Вячка любил ее, и она это знала. Женщину не обманешь. Есть у женщины таинственный внутренний голос, который может до поры до времени спать, убаюканный мужской лаской и вниманием, быть беззаботным, как весенний мотылек или ручеек, но стоит мужчине в слове, движении, жесте хоть чуть-чуть стать холоднее, суше, дать почувствовать, что он разочаровался в избраннице или устал от нее, как голос этот начинает бить во все колокола женской души – тревога! тревога! тревога! И тогда тихая женщина становится яростной львицей, смелой орлицей.
Однажды осенью, глядя в окно терема, Добронега грустно сказала:
– Листва облетает с деревьев… Дождь… Холод… Вон тот кленик был такой красивый вчера. Листья светились на солнце, как золотые. А сегодня…
Она поморщилась, передернула плечами. Вячка, который наутро собирался отправиться с дружиной к князю Владимиру Полоцкому, обнял жену, прижал ее к груди и спросил:
– А ты бы хотела, чтобы на деревьях всегда листья были?
– Хотела и хочу, – улыбнулась Добронега. – С листьями дерево живое, теплое…
Вячка крепко поцеловал ее, а под утро, когда она крепко спала, повел дружину к Полоцку. Грустная проснулась Добронега, невеселая. Снова одиночество, молчаливые слуги, огромный неуютный терем, серые осенние тучи над ним. Чуть не плача, подошла она к окну и вскрикнула от удивления – на кленике, о котором она вчера говорила Вячке, была листва! Добронега стремглав выскочила из терема, подбежала к деревцу и глазам своим не поверила – тоненькими серебряными проволочками к кленовым веточкам были прикручены, привязаны красивые листочки, выкованные из железа, меди, а на самом верху – из чистого золота и серебра. Налетел ветерок, всколыхнул листочки, и они затрепетали, тоненько запели.
«Вячка! – задохнулась от нежности и благодарности Добронега. – Муж мой любимый!»
А дни текли, как течет вода в Двине. Вячкины листочки, так Добронега назвала про себя необыкновенное одеяние клена, звенели на дереве. Обмывал их дождь, играл с ними ночной ветер… Птицы слетались на деревце, и однажды Добронега увидела, как любопытная лесная синичка вспорхнула на ветку и осторожно, пугливо клюнула золотой листок.
Да как-то Вячка, вернувшийся с далекой дороги, с недоумением спросил у Добронеги:
– Где это листья с нашего клена?
– Какие листья? – словно не поняв, о чем речь, удивилась княгиня. – Ах, ты о тех, что висели на деревце? Я велела их снять. Лежат в сундуке, в том, что подарил мне князь Всеволод из Герцике. Если хочешь, я покажу тебе.
– Не надо, – остановил жену Вячка. – Зачем же ты приказала снять листья?
– Их могли украсть с дерева челядины или смерды из окрестных весей.
– Но я велел Холодку сторожить дерево. Днем и ночью. Зачем ты сказала снять листья, Добронега?
В голосе Вячки зазвучали суровые нотки. Так он еще никогда не говорил с Добронегой. Однако молодая княгиня нисколько не испугалась этой суровости, с вызовом глянула на мужа.
– Мне нужен ты, а не эти листья!
– Добронегушка, – взял ее за руки Вячка, – что с тобой, хозяюшка моя золотая?
– Ты все время на коне, в седле. Я уже и не верю, что у меня есть муж. Я стану столетней бабкой в твоем Кукейносе, а ты так и будешь ездить к своим эстам, к семигалам, к жемайтам… Боже мой, куда ты только не ездишь?! Зачем, зачем тебе все это?
Она глянула на мужа с мукой в глазах, с отчаянием.
– Я хочу не пустить тевтонов на Двину, в наш край, – тихо, но твердо ответил Вячка.
– Разве ты один живешь на Двине? Зачем тебе, князь мой, все взваливать на свои плечи? Ты же совсем забросил свои борти, пашни, свои леса, свой терем. Счастье земное в том, чтоб муж жил с женой, чтоб зерно в мягкую землю бросал.
– Правильно говоришь, – согласился Вячка. – Но пойми, в грозное время привел нас бог на этот свет, на эту землю. Надо жертвовать, жертвовать многим, чтобы завтрашние люди мирно жили на нашей земле.
– Завтрашние люди, – горько усмехнулась Добронега, – что им будет до нас? Они тебя, князь, и не вспомнят.
– Неправда. Когда-нибудь вспомнят. Должны вспомнить, ведь добро не забывается. У тех, кто забывает добро, кто забывает родителей, предков, бог иссушает сердца, и это уже не люди, а болотный тростник. Нельзя забывать свой род, свою землю, свой язык. Прости меня, моя золотая княгинюшка, но иным я быть не могу.
Он попытался обнять Добронегу, но она, упершись руками ему в грудь, сказала:
– Я не из тех, что привязывают мужчин к своей юбке, делают их прирученными соколами. Ты орел, князь мой. А вольный орел мух не ловит. Орел обязан под высокими облаками парить, но оттуда, со своей высоты, глянь на жену свою, пойми, как тяжело ей.
Она заплакала и пошла в свою опочивальню. Шла под неровным тревожным светом факелов, постоянно горевших в тереме, и Вячке, который глядел ей вслед, было жаль, нестерпимо жаль ее. Жена казалась ему чайкой с перебитым крылом…
Молодая княгиня решительно взялась за хозяйство, за терем, пришедший в запустение после смерти Звениславы. Нескольких челядинов и челядниц выгнала из Кукейноса в загородную княжескую усадьбу, других велела строго наказать лозой, чтобы не ленились, для князя своего больше старались. Свечи для комнат и мясо для кухни, вино для дружинников и домотканое полотно для холопов – все проходило теперь через руки Добронеги.
Особенно круто княгиня начала воспитывать молодых челядниц, которых в тереме было много и которые, как и все девчата в их возрасте, любили поплясать на игрище, с парнями погулять. Немало девичьих слез пролилось в это лето. Некоторым княгиня собственноручно отрезала косы, других на всю ночь голыми коленками на твердый горох ставила. Увидев одну беременную челядницу с кухни, немедленно учинила ей суровый допрос:
– Кто отец твоего ребенка? Признавайся. Челядница, пряча глаза, покраснела, упала на колени перед княгиней и заголосила:
– Матушка-княгинюшка, золотая наша, и знать не знаю, и ведать не ведаю. Святой крест – не знаю. Пусть дитятко родится. Верным рабом тебе будет.
– Не надо мне безотцовщины! – гневно топнула ногой Добронега. И в тот же день был отдан строгий приказ: распутной девке, на страх и науку другим, целую седмицу есть жабью икру, чтобы дух болотный убил, заглушил жизнь, которая готовится появиться на белый свет и от которой никому не будет радости.
Каждый день Добронега вместе с верной Кулиной совершала обход терема и всего княжеского двора. Челядь спозаранку подметала, чистила, мыла все уголки. Страх и трепет царили всюду.
Однажды княгиня заглянула в каморку переписчика пергаментов Климяты. Челядь называла его Климятой Одноруком. Климята, как обычно, сидел на низкой скамеечке, свертки пергаментов желтели перед ним. Но переписчик был не один. Рядом с ним стоял тоненький русоволосый парнишка в белой льняной сорочке и с большим интересом смотрел на все, что делал Климята. Климята, не заметивший прихода княгини, обратился к мальчику:
– Хочешь, Мирошка, загадаю тебе загадку?
– Загадывай, – оживился мальчик и даже губу прикусил от нетерпения.
– Слушай. Ходит по двору, на ногах когти, белые камни несет. Кто это?
Мирошка наморщил лоб, задумался, да так, что казалось, уши от напряжения шевелятся. Климята Однорук с хитрой усмешкой поглядывал на своего юного собеседника.
– Какие камни? – переспросил мальчик.
– Белые.
Мирошка подумал-подумал, грустно вздохнул и признался:
– Не знаю.
– Эх ты, Нестор-летописец! – Климята, весело улыбаясь, встал со скамеечки. – А еще хочешь со мной вместе историю Полоцкой земли писать? Хочешь ведь? Признайся.
– Хочу, если научишь и позволишь, – кивнул головой Мирошка.
– Так вот – белые камушки курица несет. Понял? Курица. А на пасху эти белые камушки люди красными делают.
– Как Иисусова кровь, – быстренько вставил Мирошка, которому не хотелось, чтобы Климята посчитал его круглым невеждой.
Тут только Добронега зашелестела небесно-голубой накидкой, кашлянула в кулак. Переписчик пергаментов сразу повернулся к ней, поклонился, сказав Мирошке:
– Кланяйся княгине кукейносской.
Мирошка неумело, испуганно поклонился. Губы у него задрожали. От дворовой челяди он слышал про крутой нрав княгини, ее строгость и боялся, что, если не так скажет, не так ступит, придется ему отведать лозы. «Обходи владык земных за поприще», – вспомнил он отцовские слова.
– Кто это? – внимательно взглянув на Мирошку, спросила Добронега у переписчика пергаментов.
– Это Мирошка, сын смерда из Горелой Веси. Еще в ту пору, когда ездили за тебя свататься, княгиня, Холодок нашел его в сожженной хате, спас от волков и привез в Кукейнос. Живет у меня.
– Что умеешь делать? – подошла Добронега к мальчику, глянула на него в упор. Тот, как испуганный воробей, втянул голову в плечи.
– В работу смердову надо тебя отдать, – холодно сказала княгиня. – Чтоб не ел даром княжеский хлеб. Сначала будешь коров пасти, потом косить научишься, пахать…
– Позволь слово молвить, княгиня, – побледнел Климята Однорук.
– Говори, – кивнула Добронега. Климята подошел к Мирошке, погладил его по голове.
– Нельзя этого мальчика в пастухи отдавать. Не одни пастухи и пахари нужны Полоцкой земле. Ей и вои требуются. И не меньше – люди книжные, мудрые, чтобы грамоту греков и римлян знали, чтоб свое, родное слово до потомков донесли.
– Разве смерды способны на это? – прервала Климяту княгиня.
Щеки у переписчика пергаментов вспыхнули. Твердо глядя прямо в глаза Добронеге, он сказал:
– Бог не обделил умом наш народ. В том числе и простых людей, смердов. Стыдно нам будет перед потомками, перед будущими поколениями, если мы те цветы, что к солнцу, к свету тянутся, растопчем, уничтожим. Если мы хотим, чтобы наша история не закончилась вместе с нами, не ушла в землю с нашей смертью, мы должны каждый день, не жалея сил, наполнять книжной премудростью ребячьи головы, как наполняют амфоры зерном и вином. – Он умолк на мгновение, перевел дыхание и продолжил: – С согласия князя Вячки думаю я, княгиня, школу в Кукейносе открыть. Чтобы в школу ту дети боярские, дети купцов и людей рукодельных ходили, учились читать и писать, про знаменитых философов и пророков узнавали. И самых способных из малолетних смердов тоже можно было б в той школе обучать. Нужны же тебе, княгиня, грамотные тиуны и старосты. Думаю, что и княжне Софье стоит в такую школу походить.
Добронега задумалась. Странные слова говорит этот переписчик. Не сошел ли он с ума, сидя в своей каморке днем и ночью? Деды-прадеды ни в какую науку особенно не вдавались – и жили. Женщина должна была кудель прясть, детей рожать да растить, мужчина – зверя дикого бить, женщину от злодеев защищать. Но князь Вячка горой стоит за этого переписчика…
– Я поговорю с князем, – пообещала Добронега и вместе с молчаливой Кулиной вышла из каморки.
Она не забыла свое обещание, и когда князь Вячка на несколько дней вернулся в Кукейнос из Леденца, рассказала мужу о разговоре с Климятой Одноруком. Вячка сразу согласился.
– Пусть учит детей переписчик. Не хуже дети наши, чем у тевтонов и свеев, надо знать им письмо и счет. И Софью отведи к Климяте.
Учил детей Климята сначала в своей каморке, а потом, с позволения отца Степана, на хорах в церкви. Собралось пять мальчиков, среди них и Мирошка, и две девочки. Вместе с княжной Софьей пришла учиться боярская дочка Агриппина.
Дети сидели за длинным широким столом на скамьях. Каждому Климята дал липовую дощечку, на одной стороне которой была вырезана азбука, на другой сделана выемка. Выемку дети заполняли воском, разглаживали его и писали.
Кроме дощечки, каждый ученик получил писало – железный стержень. Один конец стержня был острый – им выцарапывали слова и буквы на бересте, писали на воске. Второй конец писала был плоский, формой походил на маленькое весло. Этим концом стирали с воска написанное, ровняли, готовили воск для новых слов.
Дети настороженно смотрели на Климяту. Все они знали, что у него нет одной руки, и переписчик нет-нет да ловил испуганные взгляды, направленные на пустой рукав его рубахи, заткнутый за красный поясной шнур.
– Отгадайте, дети, загадку, – начал Климята, улыбаясь. – Стоит город между небом и землей, а к нему посол спешит, без пути-дороги, сам немой, везет грамоту неписаную.
Дети замерли на своих скамьях. Их друзья-товарищи, которые не пошли в школу и теперь играли на улице в пикора, пугали их учебой, говорили, что от науки можно с ума сойти, мозги могут потечь из головы через уши. Если судить по первой загадке, и правда, из этой школы здоровым не выйдешь.
– Ну что же вы? – с улыбкой поторапливал детей Климята. – Не догадались еще? Это же так просто. Город между небом и землей – это ковчег, на котором Ной спасался во время потопа. Немой посол – голубь, которого выпустили узнать, не показалась ли земля. А грамота неписаная – это ветка оливкового дерева, которую голубь несет в клюве, чтобы дать знать, что земля уже близка.
Дети с облегчением и радостью вздохнули. Будто все они разом увидели голубя, белого, с сильными крыльями, что летит над разбушевавшейся черной пучиной, крепко сжимая в клюве зеленую веточку. Вот-вот ослабеет голубь и упадет веточка в морскую бездну.
– Начнем с азбуки, дети, – посерьезнел Климята. – Голубь в загадке несет неписаную грамоту, ветку. Почему?
– Потому что он писать не умеет, – робко сказала боярская дочка Агриппина.
– Правильно, Агриппина, – обрадовался Климята. – А вы будете учиться, чтоб писаные грамоты составлять, чтоб ваши мысли люди за сотни поприщ от вас могли понять в тот самый миг, как прочитают вашу грамоту.
Дети охотно взялись за учебу. Дьяк Анфим принес тонкие трубки бересты, которую по указке Климяты заготавливали в роще, раскинувшейся неподалеку от Кукейноса. Вскоре железные писала заскрипели по мягкой бересте, первые буквы, как смешные неуклюжие зверята, побежали по белому полю.
Добронега, живущая каждодневными заботами своего большого хозяйства, не забывала об учебе Софьи. Проверяла исписанные ею бересты, следила, чтобы железное писало всегда было в маленьком кожаном мешочке, специально сшитом для этого.
Падчерица расценила внимание мачехи к своей учебе по-своему. Ей казалось, что Добронега так строго следит за ней потому, что не любит неродную дочь. Челядницы (Добронега так и не дозналась – кто) нашептали Софье, что у княгини скоро будет ребенок, мальчик, а ее, нелюбимую Софью, отправят в Полоцк, в Спасский монастырь.
«Чем же привлечь ее к себе?» – думала Добронега.
Однажды, приведя Софью на хоры к Климяте, княгиня заметила, что маленькая княжна и смерд Мирошка дружат. Когда у Софьи упала на пол дощечка для письма, Мирошка поднял дощечку, сдул с нее пыль и подал Софье. Потом помог развернуть и разгладить бересту. Софья засмеялась, и вместе с ней засмеялся мальчик.
– Крапивное семя, – задохнулась от гнева Добронега. – Как смеет этот грязный смерд приближаться к княжеской дочери? Вот к чему приводит школа – дети бегают гурьбой, как котята, сразу и не поймешь, где боярин, а где холоп». Первым желанием княгини было схватить Мирошку за ухо да постучать лбом о стенку, чтоб наперед знал свое место.
Однако, поостынув, Добронега подумала, что если эта дружба нравится Софье, пусть она продолжается. Может, потеплеет падчерица душой и хоть частичку этого тепла передаст ей, Добронеге. Будет веселой Софья – повеселеет и Вячка. А это главное для Добронеги. Смерду же всегда можно будет напомнить, кто он такой, из какого навоза вышел. Ничего, пригладится, причешется, отряхнет с ушей солому и со временем неплохим слугой будет для той же Софьи.
– Ты можешь привести его в терем, – разрешила Добронега падчерице. Вспыхнули радостью, засветились глаза девочки. Может, впервые за все последнее время она глянула на княгиню без хмурой подозрительности.
Несколько раз приходил Мирошка в Софьину светлицу. Сначала очень боялся, стоял как вкопанный, шагу боялся ступить по гладким блестящим половицам. Маленькая княжна весело смеялась.
– Ну что ты боишься? Беги за мной! Под присмотром кормилицы Тодоры дети начинали бегать, играть в прятки или разглядывали старые желтые пергаменты и даже пробовали читать их. Потом Софью вели обедать, а Мирошка шел к переписчику Климяте, вместе с которым он жил в его каморке. Климята варил в глиняном горшке горох с мясом. Они брали деревянные ложки и начинали обедать.
– Ешь, Мирошка, – заставлял мальчика Климята. – Тебе надо сил набираться, расти быстрей. Когда я умру, ты Полоцкую летопись дописывать будешь.
В тихие летние ночи, когда небо на всю необъятную ширь было засеяно золотыми зернами звезд, Климята с Мирошкой взбирались на колокольню кукейносской церкви. Затихал город, замолкали людские голоса, лишь изредка перекликались вои, стоявшие на заборолах, и постепенно глубокий сон, словно теплый мягкий воск, склеивал веки. Только небо оставалось бессонным, живым.
– Гляди, Мирошка, – переходя на шепот, говорил Климята, – гляди, сколько звезд горит над нами. Знать бы, что там, наверху, делается. Помру, а не узнаю. Жаль… Страшно мне. Порой чудится, что чей-то глаз глядит с небес прямо в душу, и не спрятаться от него ни за какими стенами.
Он ненадолго умолкал, потом шепот раздавался дальше:
– Кто зажег этот вечный огонь? В пергаменте эфесца Гераклита Темного написано: «Этот космос, один и тот же для всего сущего, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, то загорающимся, то потухающим».
Климята крестился, и Мирошка видел страдание на его лице. Так не похож был ночной переписчик пергаментов на того веселого, улыбчивого, уверенного Климяту, который утром учил детей в школе.
– Страшно мне от мыслей таких, – признавался Климята Мирошке. – Не в божьей церкви, не на святой колокольне мысли такие греховные, дьявольские должны приходить, а в аду, в огненной смоле. Гераклит Темный давно, видать, в аду…
Всплывал над Кукейносом, над рекой и туманными лесами легкий месяц – небесный челн. Сначала он был ярко-красный, потом желтел и в конце концов становился серебристо-белым, как снег.
– А почему месяц такой белый? – допытывался Мирошка у Климяты и, не дождавшись ответа, сам объяснял переписчику пергаментов: – Туда дикие гуси летят, как холода наступают. От их перьев и месяц белый. Так мне отец говорил.
– Не верю Гераклиту Темному, – страстно молился, исступленно шептал Климята. – В троицу верю – в бога-отца, бога-сына и в святого духа. Верю тебе, слышишь, боже?!
Он обессиленно, с мокрым от пота лбом вглядывался в ночной мрак, глаза его блестели, под ними трепетали суровые тени. Ответа ждал он, таинственного знака, какого-нибудь слова, но молчало небо, молчала ночь…
Мирошке нравилось играть с маленькой княжной. Желтый песок, из которого возводится неприступная крепость, мотылек, превращенный воображением в страшного огнедышащего дракона, делают равными всех детей, где бы они ни родились – в богатом тереме или в крытой соломой землянке. Софье, чувствовал мальчик, тоже было интересно играть с ним. Она не знала многого из того, что знал Мирошка. Она была комнатным цветком, который боится холода и ветра, зноя и дождя.
Мирошка учил княжну понимать язык природы, который он хорошо выучил в Горелой Веси, когда почти ежедневно бывал с Яковом в пуще. Земляные черви выползают наружу – к непогоде. Конь летом ложится наземь – перед мокрой погодой, зимой – перед вьюгой. В какую сторону спиной укладывается скотина, оттуда ветер дуть будет.
Он не задумывался над тем, надо ли это все знать княжне или нет. Ему нравилось учить. Сам того не подозревая, он хотел быть похожим на Климяту, своего учителя.
Добронега внимательно следила за играми детей. Каждый их шаг доносили ей челядницы. Княгиня с радостью отметила, что падчерица стала более веселой и ласковой.
Вячка бывал в Кукейносе наездами. Брови его были подпалены возле походных костров, кожа на лице посмуглела, обветрилась.
Узнав от жены, что дочь подружилась с мальчиком-смердом, князь велел привести Мирошку к себе в светлицу.
– Ты кто? – спросил он мальчика.
Мирошка от волнения словно язык проглотил. До этого времени князя Вячку ему приходилось видеть только издалека.
Вячка сидел, не сняв с себя походного красного плаща. Кожаные сапоги его были запыленные, стоптанные.
– Ты учишься у переписчика пергаментов Климяты? – встав, подошел вплотную к Мирошке князь. Мирошка несмело кивнул головой, ответил:
– Учусь.
– Какой же ты, брат, полочанин, если слово сказать боишься? – скупо усмехнулся Вячка.
– А я не полочанин, – поднял глаза на князя Мирошка. – Я из Горелой Веси.
– Откуда? Из Горелой Веси? Погоди-погоди… Это над Свислочью, в вотчине князя Рогволода? Так это тебя мой дружинник от волков спас?
– Меня, – с облегчением выдохнул Мирошка.
– Вон оно что, – засмеялся Вячка. – А у меня твой земляк есть. Сам тоже из Горелой Веси, а всем говорит, чтобы называли его Яковом Полочанином. В ловчие напросился.
– Яков в Кукейносе? – не веря своему счастью, чуть не присел от удивления Мирошка. – Его же друцкие вои убили.
– Жив твой Яков Полочанин. Таких, как он, ловких да быстроногих, убить непросто. Беги на конюшню к старшему конюшему Амельяну. Там они с Яковом коней готовят к завтрашней охоте.
Отвесив князю низкий поклон, Мирошка стремглав бросился из терема. Ему хотелось петь, кувыркаться через голову. Яков нашелся! Яков рядом с ним, тут, в Кукейносе! По дороге в конюшню Мирошка чуть не сбил с ног седельничего Михаила и получил от него добрый подзатыльник.
Яков с конюшим Амельяном заливали воском трещину на конском копыте. Конь был подвязан, подтянут веревкой к высокому столбу с перекладиной, и передние его ноги свисали, не касаясь земли. В больших конских глазах трепетал страх.
– Яков! – крикнул Мирошка. Яков оглянулся и в один прыжок очутился возле мальчика, обнял его за плечи, крепко прижал к себе.
– Братец ты мой… живой, – задыхаясь от волнения, говорил Яков. – Вот мы и встретились. А я думал, что один остался, что всех вас убили или в плен угнали. А где же мамка твоя?
– Мамку волки загрызли, – печально ответил Мирошка, и слезы покатились по его загорелым щекам.
– Ну, не плачь, не плачь, – начал успокаивать его Яков, готовый и сам расплакаться. – Будем вместе жить. Не бросим друг друга. Правда?
– Правда, стрый, – кивнул головой Мирошка. Ему все никак не верилось в то, что он нашел Якова, что стоит рядом с ним. Возмужал, вырос Яков за это время. Плечи широко развернулись, руки и ноги налились силой, над верхней губой проклюнулся темный пушок.
– Амельян, отпусти меня сегодня, – попросил Яков конюшего. – С брательником хочу поговорить. Брательник нашелся.
Высокий длинноволосый Амельян окинул Мирошку ласковым синим взглядом, хитро подмигнул ему и сказал
Якову:
– Ладно, иди. Я уж как-нибудь один справлюсь. Только не забудь, что завтра на охоту едем.
– Помню, Амельян, – радостно блеснул белыми зубами Яков.
Они подошли к городскому валу, сели возле него, прислонившись спинами к твердой, как камень, потрескавшейся глине. Солнце хорошо разогрело ее.
– Досталось нам с тобой, – кусая травинку, задумчиво сказал Яков. – Ты какую работу в Кукейносе делаешь? Кухаркам дрова подносишь?
– Нет, Яков. Я в учениках у переписчика пергаментов Климяты Однорука. Помогаю ему. А он чтению, письму и счету меня учит.
– Чтению? – удивился Яков. – Надо же… Повезло тебе, Мирошка. Ну-ка почитай, что у меня на спине написано.
Он поднял полотняную рубаху. Спина была исполосована темно-синими рубцами.
– Что это? – вздрогнул Мирошка.
– Розги, – хмуро сказал Яков, опуская рубаху. – Боярин Иван, вошь ненасытная, угостил. В рабстве я был, Мирошка, волом подъяремным был. Страшно вспомнить…
Лицо Якова побледнело, он сидел сгорбившись, кусал губы.
– А помнишь нашу пущу, Мирошка? – тихо спросил он, и глаза его посветлели. – Как ветер в ней шумел… Как дождь лил… Как снег падал… Помнишь?
– Помню, – тоже чуть слышно ответил Мирошка и погладил руку стрыя. Кожа на руке была загрубевшая, шершавая.
– Не вернуться нам туда… Не увидеть больше пущу – с грустью глядел на высокий городской вал Яков. – Часто я в мыслях возвращался домой, особенно по ночам, когда вся челядь боярская засыпала. Дедам и отцам нашим легче было. Они знали, что, если умрут, их закопают в родной земле – в Горелой Веси. А нам и знать не суждено, кто и где наши кости в землю бросит… Да что это я разнюнился? – Яков мотнул головой, вскочил с бревна, подхватил, закружил Мирошку. – Вместе мы, брательничек. Вместе!
Глаза Якова снова искрились весельем. Он высоко подбросил Мирошку, поймал, снова подбросил. Солнце плыло над Кукейносом. Белые облачка бежали друг за другом по синему небу. Высокий русоволосый вой поглядывал с заборолов на Якова и Мирошку, улыбаясь им. Он был молод, и ему, наверное, тоже хотелось побегать, побороться с кем-нибудь на мягкой зеленой траве. Но он только глубже надел, надвинув на самые брови, шлем и крикнул, встряхнув копьем:
– Полоцк!
И покатилось по всем укреплениям Кукейноса:
– Менск! Друтеск! Рша!
Мирошка с Яковом еще долго, видно, вспоминали бы Горелую Весь, но прибежала девчушка-челядница, запыхавшись, спросила:
– Ты Мирошка, что у Климяты Однорука живет? Княгиня приказала найти тебя и привести к ней в светлицу. Пошли быстрее.
Со страхом спешил Мирошка вслед за челядницей. Что нужно от него суровой княгине?
Добронега сидела на мягкой зеленой кушетке, держа в руках белую пушистую кошку.
– Вот ты какой, маленький смерд, – сказала княгиня. – Подойди ближе.
Мирошка несмело сделал несколько шагов. При его приближении белая кошка выгнула дугой спину, угрожающе сузила зеленые глаза.
– Ты не грязный? Не больной? – строго допытывалась княгиня. – С тобой почему-то любит играть княжна Софья. Я не запрещаю ей, но ты должен помнить, кто ты и кто она. Ты всегда должен об этом помнить.
Она выпустила из рук кошку, встала с кушетки.
– Сегодня княжне Софье захотелось сходить за городской вал, грибов поискать. С ней пойдут дружинники и ты тоже. Иди собирайся и помни, о чем я тебе говорила.
Не хотелось Мирошке идти в лес – с Яковом еще не наговорился, да попробуй не выполни княгинин приказ. Взял он у Климяты Однорука плетеную корзину и ножик с желтой костяной ручкой. Софья и три вооруженных воя ждали его у городских ворот.
Задумчиво шумел еловый лес, переговариваясь с ветром. Грибов было немного. Княжна нашла-таки один боровик, гордо показала его воям и Мирошке. Вои для приличия удивлялись находке, но по лицам их было видно, что нужны им эти грибы как собаке пятая нога. Если б не каприз княжны, сидели бы они теперь в гриднице, играли б в кости.
Мирошка же, очутившись в лесу, вспомнил свою пущу, и так радостно забилось его сердце, что хоть песню запой. Он шел рядом с Софьей, учил ее, как надо искать грибы.
– Каждому грибку надо поклониться, княжна, – говорил он слова, слышанные когда-то от отца. – Гриб прятаться любит. Под куст, под мох, под опавшую хвою забирается. Сидит там и посматривает на людей – найдут или нет? Спешки гриб не любит.
На узкой тропинке увидел Мирошка битву рыжих лесных муравьев с синими жуками. Жуков было три, а муравьев неисчислимое множество. Они облепили ноги жуков, крылышки, не давая взлететь. Одного перевернули на спину и тянули в свой муравейник. Обессиленный жук только слабо шевелил усиками и уже не сопротивлялся.
Мирошка, встав на колени, тихо позвал княжну Софью понаблюдать за борьбой.
– Спаси жука, – сразу попросила Софья. – Муравьи съедят его. Спаси быстрее.
Мирошка взял еловую лапку, начал осторожно смахивать, сметать муравьев с синего жука. Но не так-то просто было это сделать, рыжие разбойники мертвой хваткой вцепились в него.
– Как у людей война, – сказал седоусый вой, тоже наблюдавший за этим неравным поединком.
Княжна Софья устала, и дружинники решили сделать привал на лесной поляне. Седоусый разжег костер, срезал палочку, наколол на нее гриб, испек в огне, посолил и съел, достав соль из мягкой белой тряпочки. Он сидел, вытирая ладонью усы, как вдруг просвистела стрела и впилась ему в грудь. Дружинник упал лицом в костер.
– Засада! – крикнул его напарник, схватившись за меч. Да и у него между лопатками уже торчала стрела.
Княжна в ужасе закричала. Мирошка вскочил на ноги, испуганно озираясь. С десяток незнакомых людей в длинных белых плащах, на которые были нашиты красные кресты и мечи, окружали поляну. Один из них снова целился из арбалета. «Меченосцы», – догадался Мирошка и крикнул Софье:
– Бежим, княжна!
Софья побежала за Мирошкой, но меченосцы бросили веревочную петлю, подсекли княжне ноги. Она упала. Оставшийся в живых вой мужественно защищал княжну, отбивая удары многочисленных врагов боевой секирой, ремнем крепившейся к руке. Трех или четырех меченосцев он уложил на лесную траву, разбив им черепа, но вскоре и сам упал, обливаясь кровью. Ногой, обутой в железный башмак, меченосец наступил вою на грудь, широко взмахнул мечом.
Онемевшая от страха, сжавшаяся в комочек княжна видела, как приближаются к ней враги. Желтобородый меченосец схватил княжну на руки, понес к коню, который стоял, оседланный, в глубине леса.
– Бог послал нам дочь властителя Кукейноса, – сказал он своим друзьям. – Скорее в Ригу. Епископ Альберт ждет нас.
Спастись удалось одному Мирошке. Он и принес в город страшную весть.
А через день вернулся из Пскова князь Вячка, веселый, шумный, привез княжне подарок – маленького бурого медвежонка, умеющего бить в бубен. Добронега, вся в черном, вышла князю навстречу с поникшей головой, припала к походному стремени, заплакала.
Вячка, не сходя с коня, с недоумением глянул на княгиню:
– Почему ты плачешь, Добронега? Княгиня стала на колени в горячий от солнца, сыпучий песок.
– Далеко ты летал, князь, как чайка за море. Прости, если сможешь… Беда пришла в твой дом, беда великая. Нет твоей перепелочки ясноглазой.
– Где Софья?! – побледнев, вскрикнул Вячка. В мгновение ока он соскочил с коня, обеими руками взял княгиню за плечи, повернул ее заплаканное лицо к себе.
– У меченосцев… в Риге, – прошептала княгиня.
– Эх ты! – Вячка оттолкнул от себя жену, и она упала на спину. – Не сберегла… Эх ты!
Он выхватил меч, глубоко, по самую крестовину рукояти, всадил его в песок.
На несколько дней словно онемел Кукейнос. Даже церковный колокол звучал слабо и неуверенно. Челядницы в тереме переговаривались шепотом.
Однажды под вечер бесшумно опустился подъемный мост и двое всадников в черных дорожных плащах, без оружия, если не считать кордов, засунутых за голенища сапог, отправились в сторону Риги. Лесная тьма поглотила их сразу же за Кукейносом. Тучи огромным серым щитом закрывали все небо. Пошел дождь, сначала мелкий, как маковые зерна, потом все чаще, гуще, и вскоре море воды обрушилось на лес, на болота, на всадников, нещадно подгонявших колючими шпорами своих коней.
– Скорее, – только одно слово повторял передний всадник, врезаясь в мрак, в дождь. Спутник его молчал, сосредоточенно закусив мокрый рыжеватый ус. Это были Вячка и Холодок, и спешили они к епископу Альберту.
Глава четвертая (часть I)
В Риге, на площади перед церковью святого Петра, разыгрывалась мистерия. Епископ Альберт со всем своим капитулом сидел в просторной крытой галерее возле церковной стены. Рядом с ним сидели граф Генрих из Штумпенгаузена, граф Кона из Изенбурга, много рыцарей-пилигримов из Вестфалии и Саксонии, а также родной брат епископа Ротмар, который до прибытия в Ливонию был монахом Зегебергского монастыря под Бременом.
Уже трех своих братьев – Германа, Энгельберта и Ротмара – привез Альберт в Ригу. Род Буксвагенов твердой ногой ступил на землю Ливонии, землю пресвятой девы. Удача пока сопутствовала братьям. Все это, безусловно, шло от щедрот божьих, от неустанных молитв, с которыми Алейдис фон Буксваген, почтенная их матушка, обращалась к богу, выпрашивая у него счастья для своих беспокойных сыновей.
На мистерию Альберт пригласил и самых первых христиан из местных жителей. Это были почти столетние Ила и Виэца из Икескалы. Их крестил еще сам Мейнард, апостол Ливонии. Седоголовые, сухонькие, сморщенные, они сидели рядом, как два яблока, прихваченные неожиданным морозцем.
Не забыл епископ и верных рижской церкви старейшин ливов и земгалов. Самым видным и самым богатым среди них был Каупа из турайдских ливов. Рослый, с копной густых волос и твердым взглядом серых усталых глаз, Каупа первым из местной знати стал на сторону римской церкви, добровольно отдал сына заложником в Тевтонию. Вместе с монахом Теодерихом Каупа ездил к папе Иннокентию III в Рим и получил от наместника бога сто золотых за верную службу церкви, а епископу Альберту привез подарок от папы – Библию, писанную рукой святого Григория.
Были среди приглашенной ливской и земгальской знати христиане и язычники. В первую очередь для некрещеных язычников ставил Альберт мистерию – хотел посеять в слепых душах евангельское семя.
Мистерию играли рыцари из епископской дружины, монахи Динамюндского монастыря и монастыря святой девы Марии, рижские купцы и ремесленники. Были показаны сцены из войн Давида, Гедеона и лицемерного царя иудейского Ирода.
– Восславьте бога, – сказал актерам епископ.
– Восславим, святой отец, – дружно ответили актеры.
Перед самым началом мистерии лив Каупа спросил у Альберта:
– Святой отец, правда ли, что в христианском раю нет тьмы?
– Нет, – улыбнулся одними уголками губ епископ.
– Только свет? Только день? – допытывался Каупа. – А хорошо ли это – жить без тьмы?
Теперь Каупа во все глаза глядел на бой Гедеонова войска с филистимлянами. Воины Гедеона были в тяжелых металлических латах, высоких блестящих шлемах, украшенных яркими павлиньими перьями. Они кололи врагов трезубцами и мечами, накинув на свои жертвы сплетенные из медной проволоки сети. У филистимлян были только веревочные пращи, в которые они закладывали камни. Гедеоновы воины, а они символизировали мощь римской церкви, уничтожили филистимлян, как стадо диких зверей. Альберт был доволен мистерией.
– Генрих, – подозвал он молодого светловолосого клирика, переводившего ливам слова Гедеона и его воинов с латыни на местный язык. Клирик подбежал к креслу, в котором сидел епископ, склонил в легком поклоне голову:
– Слушаю, монсиньор.
Красивое белое лицо его покрылось ярким девичьим румянцем. «Юность – счастливая пора», – подумал епископ, которому было уже под пятьдесят.
– Генрих, сын мой, – сказал он клирику, – мистерия идет прекрасно. Я рад за наших актеров и очень рад за тебя.
– Благодарю, монсиньор, – вспыхнул Генрих.
– Когда закончится мистерия и наши гости, ливы и земгалы, покинут Ригу, зайди ко мне.
– Обязательно зайду, монсиньор, – еще раз поклонился Генрих.
Генриху было двадцать лет. В шестнадцатилетнем возрасте епископ Альберт привез его из Бремена в Ригу, чтобы посвятить в сан пастыря и дать ему церковный приход. Но священником можно стать лишь по исполнении двадцати одного года. Еще год, и Генрих, его любимый Генрих наденет сутану и понесет в эти дикие края негасимый свет проповеди ради Иисуса Христа и его любимой матери, пресвятой девы Марии.
«Хорошим будет пастырем, – думал Альберт, любуясь стройной фигурой Генриха, вслушиваясь, как разговаривает он с ливами и земгалами. – Я не ошибся, я не мог ошибиться. Этот юноша с течением времени станет ценным бриллиантом в короне рижской церкви».
Все, что делал в своей жизни епископ Альберт, он делал не спеша, хорошенько обдумав и взвесив возможные результаты того, что должно произойти. Когда его, бременского каноника, решили посвятить в рижские епископы, он испросил себе на обдумывание три дня, долго советовался с матерью, братьями. Он знал, что до него на Двине несли крест римской церкви Мейнард и Бертольд, епископы-неудачники, как мысленно называл их он. Оба лежат в мраморных гробницах в Икескальской церкви. Одной ногой ступили они на двинский берег, другая нога – пока что в Варяжском море. Он, епископ Альберт, ступит на эту землю двумя ногами, твердо ступит, врастет в нее.
Посвящение его в епископы совпало со смертью папы римского Целестина III. Папа мучительно отдавал богу душу, не хотел умирать. Четыре дня лежал без движения, без единого слова, только глаза горели, как жар. И все-таки погасли глаза, и в окружении всей римской курии один из кардиналов священной коллегии встал перед его телом, трижды легонько постучал по лбу серебряным молоточком, трижды спросил: «Ты спишь?» Ответа не было, и папу Целестина объявили покойником, а на его место кардиналы избрали папой Иннокентия III и вручили ему символ папской власти, которым издревле считается тройная корона, или тиара. И сразу же неведомый до того миру Иннокентий стал единоначальником католической церкви, а еще епископом Рима, викарием Иисуса Христа, преемником князя апостолов, верховным священником католической церкви, патриархом западным, примасом итальянским, митрополитом-архиепископом римским, рабом рабов божьих. С его согласия, с его благословения и поехал Альберт в Ливонию, взял в руки меч духовный.
Первое, что он сделал, – заложил город Ригу и перенес в нее из Икескалы епископскую кафедру. Ему просто необходимо было чувствовать за спиной море, всегда быть рядом с морем, ведь по морю каждую весну плыли к нему пилигримы, на которых он возлагал знак креста господнего.
В Висбю, главном городе острова Готланда, за большие деньги он нанял каменотесов и кладчиков, и там, где речка Ридиня впадает в Двину, они построили торговые ряды.
Он, епископ Альберт, понимал, что надо быть не только хорошим воином, но и хорошим купцом, и выпросил у папы Иннокентия III интердикт на земгальскую гавань, которая могла стать соперницей рижской гавани. Земгальской гавани заткнули рот, обрубили руки, и она вскоре зачахла, погибла, как дерево, лишенное земли.
Шумела, весенним паводком бушевала мистерия. Столько страсти, столько ярких красок было в ней, столько божественного огня, что не только дикие язычники, но и христиане, и сам епископ были увлечены необыкновенным действом, разворачивающимся под хмурым рижским небом. На глазах у некоторых зрителей блестели слезы. Лив Каупа часто, взволнованно дышал, потом правой рукой схватил свой нашейный крест и, не отрывая взгляда от мистерии, поцеловал его.
«Что может сравниться с нашей церковью? – расчувствованно думал епископ. – Она как негасимая звезда в слепой тьме, как скала среди океана. Разве в силах церковь православная, несущая учение византийских лжепророков, встать на пути римской церкви? Нет. Мы растопчем их еретические иконы, а их церковь-рабыня будет мыть ноги своей великой госпоже – католической апостольской церкви».
Воины Гедеона подняли трезубцы и с боевым кличем ринулись на филистимлян. И тут ливы и земгалы в ужасе вскочили со своих мест и бросились врассыпную. Им показалось, что сейчас и их, язычников, начнут колоть и рубить беспощадные воины.
– Остановитесь! – кричал Генрих. – Остановитесь! Вам не сделают ничего плохого! Куда же вы?!
Однако только горстка язычников, и среди них Каупа, осталась на галерее. Остальные словно обезумели – бежали к городским воротам, пробовали перелезть через стену, прятались кто куда. Мистерия неожиданно и бесславно закончилась. Епископ был расстроен и рассержен.
– Генрих, распускай актеров, – сухо приказал он молодому клирику.
Как живуча поганская сила в этих людях! У них, наверное, не одна, а две души. Одна внешняя, видимая постороннему глазу. С ней, этой душой-маской, они едут в Ригу, приходят к нему, епископу, принимают крещение, молятся Христу. И глаза тогда у них, как у доверчивых маленьких детей. Тогда их глаза, как весенние ручейки, чистые, светлые, мягкие.
Но живет в них еще одна душа, глубоко запрятанная, тайная, недоступная чужому глазу. Она словно обросла диким лесным мхом, звериным волосом. Она пахнет холодным дождем, снегом, болотом… Что на дне той души?
От своих людей, от Каупы епископ знает, что, возвратившись из Риги домой, по старинному обычаю они собираются вместе, варят мед, пьют, а потом смывают с себя в Двине тевтонское крещение. Когда умирает кто-либо из близких, они с плачем хоронят его, говоря при этом: «Иди, несчастный, с этого печального света в лучший, где не хитрые тевтоны будут властвовать над тобой, а ты над ними». Они шлют гонцов в Кукейнос, в Полоцк, в Псков, к литовцам.
Епископ подошел к Каупе. Старейшина ливов поцеловал ему руку. Епископ начертал над ним святой крест.
– Как поживает твой сын в Тевтонии? – спросил Альберт.
– Хорошо, – радостно ответил Каупа. – Богу каждый день молится, латынь учит, на лютне играет…
Серые глаза лива вдруг потемнели, он тихо, словно у самого себя, спросил:
– Скажи, святой отец, скоро ли вернутся домой наши сыновья?
Такой поворот разговора не понравился епископу. Он подумал, что не стоило интересоваться сыном Каупы. У язычников, как и у детей, чувствительные души.
– Ваших детей увезли за море, чтобы вы научились быть верными, – с расстановкой, глядя прямо в глаза опечаленному ливу, сказал Альберт. – Не все научились верности святому апостольскому престолу, а ты, Каупа, научился. И ты увидишь своего сына.
– Скоро? – с надеждой, с болью вырвалось у Каупы.
– Я поплыву набирать новых пилигримов и привезу твоего сына, – успокоил лива епископ и сразу же перевел разговор на другое: – Это правда, что двинских ливов называют вейналами?
– Правда. Но я из турайдских ливов, – невесело ответил Каупа и отошел к своим соотечественникам.
В глубоком раздумье смотрел епископ вслед ливу. Он думал о том, что ошибка его предшественников, епископов Мейнарда и Бертольда, заключалась в высокомерной тевтонской слепоте, не позволившей им в грозной, на первый взгляд, ливской стене разглядеть множество трещин и трещинок. Ливов много, это так. Но ливы ливам рознь. Есть вейналы и турайдские ливы. Есть Каупа, который верно служит Риму. И был Ако, фанатичный враг всего тевтонского племени. При одном воспоминании о нем епископ всегда задыхается от гнева.
Ако был гольмским старейшиной, он тайно созывал всех ливов на реку Вогу, чтобы оттуда, дождавшись полоцкого войска, ударить по Риге. Тысячи вооруженных ливов шли к нему. Двое из недавно крещенных туземцев, Кириян и Лаян, захотели помочь тевтонам и отпросились у рыцаря Конрада, который, запершись, сидел в Икескале, чтобы он отпустил их на Вогу. Они поклялись подслушать все планы заговорщиков. Конрад отпустил их, но видел своих неофитов в последний раз. Ако, словно трехглавый змей, пронюхал, выведал об измене и приказал жестоко наказать отступников. Родные Кирияна и Лаяна отвернулись от них, и несчастным лазутчикам смоляными веревками оторвали руки и ноги.
Закачалась Рига, но снова устояла. С копьями и арбалетами вышли тевтоны навстречу неверным ливам. На небольшом корабле они подплыли к тому месту, где толпы разъяренных бунтовщиков уже поджидали их. Под градом камней и копий, по горло в холодной двинской воде они начали высадку на берег. Речная вода заалела от тевтонской крови. Но бог, как и всегда, защитил своих. Баллистарии неустанно били из смертоносных арбалетов, а у ливов не было ни щитов, ни панцирей, и они не выдержали, бросились бежать. Испили тогда тевтоны нектар победы, изведали весеннюю радость меча…
Отслужив с клириком мессу, епископ с тревогой ждал гонцов. Уже корабль расправлял паруса в устье Двины. Неужели будет вырван с корнем тевтонский дуб и вероломные ливы порубят его на щепки для своих поганских костров? Издалека, чуть заметный на серых волнах Двины, показался челн. Епископ и клирики затаили дыхание. Что приближалось к ним – жизнь или смерть? Молоденький клирик ойкнул, побледнел и сполз к ногам епископа – страх разорвал ему сердце. И тут раненый баллистарий поднялся в челне во весь рост, и челн покачнулся. Держа за длинные окровавленные волосы, баллистарий поднял голову Ако. Клирики запели.
– Давид убил Голиафа, – радостно сказал тогда епископ…
И сегодня при воспоминании о том дне у него взволнованно забилось сердце. Он неторопливо пошел по залитой солнечными лучами площади к своему дому. Сзади почтительно семенили молчаливые клирики. Он шел по городу, созданному, возведенному им самим. Он страстно верил, что с божьей помощью этот город тысячу лет будет стоять над Двиной, подставляя грудь тревожному морскому ветру, и поколения тевтонов с большой благодарностью будут вспоминать его, епископа Альберта.
– Бог испытывает своих избранников, как золото в огне, – весело сказал он клирикам. Те поняли, что у монсиньора хорошее настроение – он всегда в таких случаях начинал говорить цитатами из Библии.
Альберт жил неподалеку от церкви Иоанна, на втором этаже просторного каменного дома, который готландские зодчие построили по его собственным чертежам. Прислуживал ему немой безухий монах из Динамюндского монастыря Иммануил. Этот монах участвовал в четвертом крестовом походе, когда под ударами европейских рыцарей рухнул златоглавый богатый Константинополь. Те незабываемые дни были наполнены дымом, огнем и золотом. Золото лежало всюду: на площадях, на улицах, на небольших тенистых двориках, на городском ипподроме. Им набивали седельные сумы. Рыцари, покорившие Константинополь, чувствовали себя хозяевами всего мира и создали, избрав императором Болдуина Фландрского, Латинскую империю. Потом, когда отправились на юг к Иерусалиму освобождать гроб господний, Иммануилу и его друзьям не повезло. Сарацины, как злые духи пустыни, налетели с кривыми саблями со всех сторон на бледнокожих латинян. Иммануил попал в плен. Многих его друзей, насильно обрезав им крайнюю плоть, сделали мусульманами. От страха он потерял дар речи. Потом сбежал, шел, полз по пескам, видел полузасыпанные рыжим песком скелеты рыцарей, в которых прятались от зноя ящерицы, слышал гневный голос пустыни, когда она начинает петь под порывами раскаленного ветра. От голода чуть не потерял рассудок, отрезал свои уши и съел их…
Альберт поднялся по винтовой лестнице на второй этаж, вошел в свой кабинет, который служил еще и домашней молельней. Иммануил снял с епископа плащ, митру, принес медный сосуд с водой. Ополаскивая пальцы, осторожно протирая холодной водой лоб и щеки, Альберт с легкой улыбкой спросил у немого:
– Иммануил, тебе не снились сегодня сарацины? Погляди внимательнее – может, у тебя еще что-нибудь, кроме ушей, обрезано?
Так шутил епископ. Будучи целыми днями на людях, под пристальными взглядами, он уставал, каменел душой, и эти грубые шутки над молчаливым слугой стали ему необходимы – они хоть немного снимали груз бесконечных забот.
Иммануил привык к таким вопросам, и они его не смущали, как поначалу. Он спокойно держал в загорелых руках медный сосуд, ждал, пока епископ смоет с себя тленную пыль суетных жизненных дорог. Он испытывал наслаждение от такого терпеливого ожидания. «Этот немой монах своим высокомерным спокойствием напоминает аравийского верблюда, – думал, вытирая мягким льняным полотенцем лицо и руки, Альберт. – Не каждый умеет так держаться, даже я».
Иммануил с полотенцем, сосудом и плащом вышел. Теперь он в своей каморке чистит епископский плащ.
Альберт сел на мягкий, фландрской работы пуф, зажмурил глаза, расслабил руки и ноги. Нелегко быть разодетой куклой, которая должна каждый день являться народу. Кто может сказать, что у епископа легкий хлеб?
Он сидел в абсолютной тишине. С души слетала усталость. Она наполнялась мягким светом, небесная музыка, серебряная, чистая, пробуждалась в ней. Это были, пожалуй, самые приятные мгновения в его беспокойной, нервной жизни. Тихо звучала небесная музыка, словно пение жаворонка. Бог входил в душу.
Епископ открыл глаза. Сквозь цветное венецианское стекло узких окон пробивалось вечернее солнце, освещая алтарь, где лежала Библия, переписанная рукой святого папы Григория. В кабинете было множество серебряных подсвечников с тяжелыми и длинными восковыми свечами. На глухой стене висело черное распятие Христа в терновом венце. На стене напротив поблескивали копье, меч и щит с католическим крестом – оружие епископа.
Альберт подошел к алтарю, осторожно, почтительно взял Библию, стоя начал читать, словно крошечными глотками пил мед. Жизнь становилась ясной и понятной. Кровь, пот, слабость, неверие – все оставалось позади. Он словно видел огромный золотой престол Христа, сияющий в небесной голубизне, слепивший глаза искристыми лучами, как солнце. «Кто я? – умиротворенно замирая, думал епископ. – Ничтожный раб веры. Песчинка. Но мне хорошо, мне приятно быть рабом и песчинкой».
Он подошел к окну, глянул на улицу. Только маленькую полоску земли увидел он, лужок, который не вытоптали и не скосили – он, епископ, запретил. Детские головки одуванчиков белели под солнцем. Мир, тишина и благость были там, где росли одуванчики.
Он снова углубился в Библию, снова поплыл по широкой бездонной реке, которая течет сквозь вечность. Приятно было читать – неторопливо, смакуя слова и предложения, примеривая все написанное в святой книге к себе, к своей особе.
«Ты – скала, на которой я построю свою церковь», – сказал Иисус Христос апостолу Петру. Когда Христос позовет его, епископа Альберта фон Буксвагена, к себе, то скажет, обязательно скажет, что он, епископ, скала, на которой построена рижская церковь.
Нет, он, епископ Альберт, не песчинка. Он только перед богом песчинка, а для всех остальных, для тех, кто смотрит на него снизу вверх, кто готов поцеловать его сандалию, он – скала, само солнце. Как хорошо быть песчинкой и чувствовать каждое мгновение, что ты – солнце.
Вошел Иммануил, знаками, понятными одному епископу, доложил, что аудиенции ждет клирик Генрих.
– Пусти его, – велел Альберт. Вот с кем ему обязательно надо поговорить сегодня.
Генрих, склонив красивую светловолосую голову, поцеловал епископа в плечо, смиренно, покорно остановился на пороге.
– Проходи, сын мой, садись, – епископ подвинул к Генриху пуф с гнутыми ножками. – Я всегда рад тебя видеть.
– Благодарю вас, монсиньор, – скромно ответил Генрих и сел.
– У меня сегодня прекрасное настроение, – доверительно улыбаясь, положил ему руку на плечо Альберт. – Мистерия прошла хорошо. Сердца туземцев размягчились, и семя нашей христианской проповеди упадет не на сухую землю, не на дьявольский камень. Я люблю тебя, Генрих. Да-да, люблю как верного сына нашей церкви, как честного, чистого душой христианина. Я не слепой, я вижу, да и ты видишь, Генрих, что не только воины веры приплыли в Ливонию, – приплыло много грязи человеческой, навоза, от которого задыхалась Европа. Навоз воняет всюду. Особенно мерзко воняет он у нас, в Ливонии, ибо тут, на берегах Двины, еще сохранился неиспорченный, чистый воздух. Ты понимаешь меня?
– Понимаю, монсиньор, – кивнул головой Генрих.
– Я привез тебя сюда из Бремена, чтобы ты написал историю рижской церкви, хронику наших великих усилий и наших побед. – Епископ встал с пуфа, лицо его загорелось внутренним светом и волнением. – Я давно искал такого человека. Я заглядывал во все уголки Европы. И я увидел тебя, Генрих. Ты, один ты в состоянии и в силах сделать это. Ты молод, образован, предан римской церкви, у тебя прекрасная латынь – язык мудрости. И в то же время ты хорошо знаешь этот край, его обычаи, язык. Ты ведь из латгалов, или, как их еще называют, леттов. Не так ли?
– Да, монсиньор, – вспыхнув, встал и Генрих. – Я из леттов, которые живут на реке Имере. Когда мне было шесть лет, мои родители отдали меня заложником в Тевтонию, а сами вскоре умерли. Я – тевтон.
Он твердо, даже с каким-то вызовом смотрел на Альберта.
– Садись, – мягко похлопал его по плечу епископ. – Что ты уже написал, сын мой?
– Я не спешу сразу писать свою хронику, монсиньор. Я беседую с людьми, с тевтонами и местными жителями, много езжу по Ливонии. Мне надо увидеть все своими глазами. Так делал знаменитый Геродот. И всегда при мне пергамент, все интересное я заношу на него. Я еще не шью шубу, я только выкраиваю рукава и хлястик.
– А когда же ты начнешь, сын мой, шить саму шубу? – засмеявшись, спросил Альберт, которому понравилось красноречие Генриха.
– Я начну писать хронику тогда, когда мы, люди, стеной ставшие за бога, обратим к римской церкви ливов и леттов, земгалов и куров, селов и эстов.
– Ты верный сын церкви, Генрих, – воскликнул епископ. – Обещаю: если ты получишь сан священника, я сделаю тебя каноником, членом капитула. Мне нужны умные преданные люди. Видишь мой алтарь? – он показал в глубину комнаты. – Здесь я ежедневно отправляю мессы, вечерни и читаю на ночь молитвы. Клянусь этим святым алтарем, что я не забуду о твоей верности рижской церкви и мне.
– Монсиньор, – взволнованно проговорил, поднявшись, Генрих, – я отдам жизнь за святое дело.
– Хорошо, сын мой, – отечески улыбнулся ему епископ. – Я верю тебе. А теперь ответь мне, Генрих, ответь, как на святой исповеди: кого ты считаешь главным врагом римской церкви?
Он внимательно, не спуская глаз, смотрел на Генриха, пронизывая его серо-стальным взглядом.
– Местные племена, конечно, особой склонности к нам не питают, – после некоторого раздумья заговорил Генрих, – они считают, что мы пришли сюда из-за нашей бедности, чтобы тут, на берегах Двины, обогатиться, набить карманы золотом. Однако святая церковь сможет справиться с ними, поскольку они разрозненны, постоянно воюют, грызутся между собой. Они нас не любят, это правда, но вынуждены будут со временем покориться. Их старейшины, такие как, например, Каупа, уже сегодня наши союзники. Главные наши враги, монсиньор, это – Полоцк, Новгород и… Он на минуту умолк.
– И кто еще? – крепко сжал его плечо епископ.
– И Орден братьев святой Марии, или, как они себя называют, меченосцы, во главе с магистром Венна.
– Меченосцы! Меченосцы! – гневно воскликнул Альберт, сжав кулаки. – Осиное гнездо, которое я когда-то согрел своим дыханием. Клубок гадюк. Ночные хищные птицы, норовящие каждый удобный момент выклевать мне глаз. А ведь я, Генрих, сам, да, сам упрашивал в Риме папу Иннокентия, чтобы он разрешил создать этот проклятый орден. Я думал получить сильного союзника, единомышленника в войне против язычников, а что получил? Магистр Венна со своей бандитской шайкой почти каждую неделю шлет на меня доносы в Рим. Он потребовал одну треть всех завоеванных земель. Я дал ему одну треть, я разрешил ему брать всевозможные доходы с этих земель. Он построил замок Венден, в котором восседает, как император Священной Римской империи. И что же? Где благодарность? Сегодня меченосцы кричат, чтобы рижская церковь выделила им треть еще не завоеванных земель. Понимаешь? Еще не завоеванных! Так можно поделить все: солнечные лучи, воздух, гром небесный, луну, плывущую над головой…
Тяжело дыша, он замолчал, потом обессиленно прошептал:
– На одной земле жить рядом с этими выродками… Какая мука, сын мой…
И столько стальной злобы, столько гневной боли было в его глазах, что Генрих невольно вздрогнул. Двух совсем разных людей, двух Альбертов фон Буксвагенов только что видел он перед собой. Один – тихий, с ласковой улыбкой, с теплотой в голубином взгляде. Смотришь – и кажется, золотой нимб искрится над тонзурой. Второй – страстный в ненависти, суровый, как адское пламя, с пузырьками пены в уголках губ.
«Когда же он настоящий, епископ Альберт?» – подумалось Генриху, но он со страхом отогнал от себя эту греховную мысль.
– Купцы и все горожане за нас, монсиньор, – осторожно сказал Генрих. – Им надоели волчьи аппетиты меченосцев, они хотят свободно торговать, хотят покоя и мира в Ливонии. Я осмелюсь посоветовать на землях, принадлежащих рижской церкви, немного ослабить церковную десятину, заменить ее более легким оброком. Местные племена, их старейшины будут нам благодарны, поймут нас, и если вдруг настанет время делать выбор, на чью сторону стать, они станут на нашу, ибо магистр меченосцев Венна на своих землях дерет с туземцев по три шкуры.
– Я подумаю, сын мой, – пообещал епископ. В эту минуту вошел Иммануил, знаками, непонятными для Генриха, начал что-то объяснять епископу. Радость вспыхнула на лице Альберта, и он не таил ее.
– Король кукейносский Вячка просит у меня аудиенции, – с улыбкой сообщил он Генриху. – Я был уверен, что он прибежит ко мне.
– Вячка в Риге? – удивленно поднял брови Генрих. – Лютый враг церкви просит у вас аудиенции? Я ничего не понимаю, монсиньор.
– Ты хочешь его увидеть? – вместо ответа спросил Альберт.
– Очень хочу. Я никогда не видел дьяволов.
– Позови Вячку, – приказал Иммануилу епископ. – И пусть вместе с ним войдет толмач.
Через несколько минут вошел толмач Фредерик, который часто плавал в Полоцк и знал язык полоцких кривичей, а за ним и Вячка. Князь Кукейноса был одет в черный дорожный плащ, под которым сверкала кольчуга. Голова была не покрыта, и густая волна светлых волос падала на высокий смуглый лоб.
– Чего хочет от меня король Кукейноса? – погасив радость во взгляде, строгим холодным голосом спросил Альберт. Все тевтоны, в том числе и рижский епископ, называли полоцких князей королями.
«Вот он каков, – думал тем временем Генрих. – Он почти ровесник мне. Такие же, как у меня, светлые волосы, такого же цвета глаза. Он враг нашей церкви, а значит, и мой враг. Но ничего дьявольского в его облике нет. Обыкновенный человек. Красивый. Полочане – красивый народ. Было бы лучше, если бы этот Вячка имел дьявольские рога или гадкий хвост. Некрасивых людей легче ненавидеть».
– Епископ, твои люди схватили мою дочь, княжну Софью, и привезли ее в Ригу, – сказал Вячка. В голосе его чувствовалось волнение. – Верни мне дочь.
Он склонил голову перед Альбертом.
– Я слышал о княжне, – после некоторого молчания проговорил епископ. – Она теперь в монастырской келье под присмотром аббатисы Марты.
– Верни мне дочь, святой отец, – снова тихим голосом попросил Вячка.
– Княжна нездорова, – епископ словно не слышал слов князя. – За все, король Кукейноса, надо платить. Ты знаешь об этом.
– Какую ты хочешь плату? – побледнев, спросил Вячка.
Альберт испытующе глянул на него. Холодной сталью отсвечивал его взгляд.
– Ты враг церкви, которой я отдаю все силы, – сказал епископ. – Ты в моих руках. Я могу уничтожить тебя.
– Я пришел добровольно и без оружия. Бог, если он видит всех нас, не простит тебе этой крови, – скупо, сурово улыбнулся Вячка.
– Мне не нужны ни твоя кровь, ни твоя плоть, – епископ взял с алтаря Библию. – О церкви я пекусь, только о ней. Если хочешь вернуть дочь, отдай рижской церкви половину своей земли, своей воды и своего города, впусти в Кукейнос наших купцов и воинов. Вот тебе мое епископское слово, король.
Толмач перевел Вячке все, что сказал Альберт. Все это время Генрих неотрывно следил за Вячкой. Он заметил, как вздрогнул, потемнел лицом кукейносский князь. Величайшая мука разрывала его душу. Загорелой рукой он провел по виску, словно хотел этим жестом отогнать от себя какое-то страшное, ему одному открывшееся видение.
– Что же ты молчишь, король? – с холодной усмешкой спросил его Альберт. – Я слышал от своих людей, что ты очень любишь дочь.
– Вы, тевтоны, умеете бить в самое сердце, – глухо сказал Вячка. – Да, я люблю свою дочь… Как и должен любить единокровное дитя каждый отец… Но по нашему древнему славянскому обычаю, прежде чем что-то совершить, я обязан посоветоваться с народом. С городским вечем. Дай мне время, епископ.
– Княжна Софья вернется в Кукейнос, как только ты впустишь туда моих воинов.
– Я понял твои слова, епископ. А сегодня позволь мне увидеться с дочерью, – склонил голову Вячка.
– Она нездорова, ей нужен покой. Поэтому ты взглянешь на нее издалека.
«Он держится очень мужественно, с достоинством, хотя сейчас у него, без сомнения, кровь кипит, – думал о Вячке Генрих. – Как бы хотел епископ, чтобы этот туземец встал перед ним на колени. Да и я хочу того же. Но такие гордые головы сгибает только меч».
Альберт, Генрих, Вячка и несколько латников из епископской дружины пришли к монастырскому саду, остановились перед дубовыми, окованными темным железом воротами. Один из латников дернул за шнур звонка. Открылось окошко, прорезанное в воротах, из него высунулась голова в черном капюшоне, будто ночная сова осторожно выглянула из дупла.
Монастырский привратник повел всех в глубину сада узенькой, слабо протоптанной тропинкой – видно было, что по ней нечасто ходят люди. Глухо шумели деревья. Трава под ними росла густая, сочно-зеленая.
Остановившись, привратник поднял руку – подал знак. И тут же, по другой тропке, в шагах тридцати от Вячки, аббатиса Марта неторопливо провела княжну Софью. На Софье был грубый черный плащ с откинутым капюшоном. Аббатиса держала княжну за руку и что-то рассказывала ей. Генрих увидел, как побелело лицо кукейносского князя, как резко обозначились на нем морщины, выступили желваки.
– Твоя дочь, король, как истинная христианка, находится под опекой рижской церкви, – сказал Альберт. – Ни один волос не упадет с ее головы.
– Волос? – словно очнувшись от тяжелого сна, переспросил Вячка. – Ты говоришь, волос не упадет… Позволь мне, епископ, взять на память прядь волос моей дочери.
Тевтоны переглянулись между собой. Неожиданная просьба кукейносского князя всех обескуражила.
– Разрешите ему, монсиньор, – вдруг попросил за Вячку Генрих. Альберт удивленно взглянул на своего любимого клирика. «Мягкое сердце у Генриха, – подумал епископ, – слишком мягкое. Сердце надо закалять зрелищем слез и крови. Не мягкое, как сыр, а твердое, как камень, нужно иметь сердце в Ливонии».
Епископ дал знак латнику, и тот, подойдя к княжне, вытащил из ножен меч, отрезал у испуганной девочки прядь волос. Аббатиса Марта сразу увела Софью за собой, и они скрылись в глубине сада.
Вячка держал на ладони прядь шелковистых, светлых, как лен, волос дочери. Он понюхал их, поцеловал побелевшими губами и, достав из-за пазухи малюсенький, тканный из серебряных ниток мешочек, спрятал их туда.
«Бог испытывает своих рабов горем, – думал Генрих, шагая рядом с Вячкой. – Только наглотавшись до слез едкого дыма костров, в которых сгорают самые светлые надежды, человек может оценить, может понять, что такое счастье. В своей земной жизни мы все время словно бредем по торфянику, который горит, тлеет под ногами. Нет у нас выбора. Или провалишься, оступившись, в огонь, или засосет гнилое болото».
Над Ригой в выцветшем небе плыли серебряные льдины туч. Вот одна туча на какой-то миг заслонила солнце, и тень ее, мрачная, стремительная, побежала по земле. «Смерть бежит, кого-то ищет», – с замирающим сердцем подумал Генрих. Они как раз вышли на пустынную городскую площадь. Тень тучи, как хищный зверь, бежала навстречу, перерезая им путь.
– Стойте, – побледнев, попросил Генрих и остановился. Но все остальные, не обратив внимания на его просьбу или не услышав ее, пошли дальше. Тень накрыла их с головы до ног, как черный саван. Только Генриха не затронула она своим холодным крылом, проскользнув в двух шагах от него. Генрих стоял, освещенный ярким солнцем. «Все они умрут раньше меня, – подумалось ему. – Они истлеют в могилах, а я еще буду жить, дышать, видеть солнце, молиться Христу». Острая печаль пронзила сердце. С детства Генрих любил все живое – людей, зверей, птиц. Все, что дышит, наделено частичкой святой божьей силы, и больно осознавать, что все это в конце концов станет тленом.
Епископ Альберт улыбался. Он был доволен тем, как хитро удалось ему приручить кукейносского князя. Крупное, полное лицо епископа расплывалось в улыбке, а Генрих, украдкой поглядывая на него, видел оскал безносого черепа, ловил страшный взгляд смерти. «Боже, выжги из меня каленым железом такие греховные мысли, – страстно молил он Христа. – Огненным жезлом пасешь ты народы, не дай же мне сбиться со святой дороги».
Через толмача он обратился к Вячке, сказал, чтобы не волновался кукейносский король за дочь – в монастыре под присмотром духовных наставников окрепнет она душою, испытает сладость истинной веры.
– Я сам обучу ее латыни, – пообещал он. Вячка глянул на Генриха, сухо спросил:
– А разве наша вера не истинная? А разве язык кривичей не истинный?
Генрих ответил уверенно:
– На земле должен быть один бог-властелин, один божий наместник, один гнев и одна милость, один язык. Все иное – от дьявола.
Ничего не ответил ему на это кукейносский князь, лишь отвернулся. Генрих был задет – он считал, что умеет находить в каждой душе человеческой, даже самой темной, окошко, щель, через которую можно заглянуть в нее. Он и в священники пошел от уверенности, что имеет право поучать людей, что есть в нем какой-то лучик божьего света, который всегда привлекает людей. Но вот идет рядом с ним человек, его ровесник, и не понимает, не хочет понимать его. Невыносимо обидно для самолюбия. «Он угнетен бедой, беда ослепила его, – утешал себя Генрих. – О если б смог я поговорить с ним один день и одну ночь, всего только один день и одну ночь, я сокрушил бы стену его неверия. Он стал бы моим братом во Христе».
Вера, был убежден Генрих, приходит в человеческую душу раз и навсегда. Это похоже на удар грома. Римский военачальник Евстафий Плакида, упрямый, твердый, как кремень, язычник, со смехом бросавший первых христиан в клетки со львами, увидел на охоте оленя с искрящимся золотым крестом между рогами и в тот же миг стал христианином.
«Сведи меня, боже, с этим кукейносским королем, и я сделаю так, что его меч будет служить тебе, только тебе, – мысленно взмолился Генрих. – И я опишу это в своей хронике, чтобы восславить твое всемогущество и силу».
Они молча шли рядом. Князь Вячка достал из-за пазухи малюсенький, сотканный из серебряных нитей мешочек, вытащил из него светлую прядь дочкиных волос, сплел из них кольцо, надел кольцо на палец, вскочил в седло и вместе со своим старшим дружинником Холодком, ни разу не оглянувшись на Ригу, поскакал в Кукейнос.
Глава четвертая (часть II)
Наконец Генриху исполнился двадцать один год. С большим успехом он закончил курс богословских наук, блестяще выдержал публичный диспут, и епископ Альберт, радуясь за своего любимого ученика, рукоположил его в сан священника и в бенефиций ему назначил приход в землях имерских латгалов. Приход был далеко от Риги, но Генриха это нисколько не беспокоило – он давно рвался туда, где только восходил свет христианской веры, где в самой гуще язычников можно было своими руками посадить плодоносящий сад Христа.
Со старым клириком Алебрандом, который помнил еще епископа Мейнарда, в повозке с полотняным верхом ехал молодой пастырь Генрих на реку Имеру, на родину своих предков. Везли с собой дароносицу, святую воду и святые книги, пастырскую ризу и распятие.
Генрих, искренне веруя в неодолимую мощь Христа, хотел ехать без охраны, но старый Алебранд, которому язычники хорошенько посчитали ребра еще при Мейнарде, даже и слышать об этом не захотел.
– Нас утопят в первом же болоте или поджарят, как рыбу, на костре, – сказал он Генриху.
Епископ Альберт, хорошо зная, как беспокойно на дорогах, выделил для эскорта двадцать своих конных латников, сказав на прощание Генриху:
– Не отпускай, сын мой, охрану. Пусть она всегда будет с тобой, иначе не избежать тебе могильного червя, – и уже обращаясь одновременно к Генриху и Алебранду, дал такой наказ: – Любите врагов своих, благословляйте тех, кто проклинает вас.
…Ехали сначала вдоль моря, опасаясь турайдских ливов, живших над рекой Гауей. Морской берег был низкий, песчаный, чахлые сосны росли на нем небольшими островками, чайки тоскливо кричали о чем-то. На душе у Генриха, чем дальше отъезжали они от Риги, становилось все неспокойнее, порою – он сам не понимал почему – хотелось плакать. Успокаивали святые книги и толстый свиток пергамента, который он взял с собой для будущей хроники.
На третий день переправились на правый берег реки Гауи, причем Генрих неожиданно для себя упал с повозки в воду и чуть не уронил Библию, которую держал в руках. «Плохой знак», – подумал Генрих.
Заехав в лес, разложили костер. С помощью старого Алебранда Генрих снял с себя мокрую одежду, развесил ее сушиться на рогатках над огнем. Сам сидел, закутавшись в темную сутану, подобрав под себя босые ноги.
Алебранд, как выяснилось, уже несколько раз ездил этой дорогой, которая вела правым берегом Гауи на реку Имеру, впадающую в озеро Остигерве.
– Там живут имерские латгалы. И там мы всегда собирались после походов на язычников-эстов, чтобы помолиться и поделить добычу, – сказал Алебранд, хмуря от вертких горячих искр седые брови.
«Там моя родина, – думал Генрих, вслушиваясь в ровный глуховатый шум леса, вглядываясь в гребешки пламени. – Подумать только – я там родился. Не в Тевтонии, не в Риме и не в Бремене, а там, на берегу озера, которое не помню, среди людей, которых тоже не помню. Каким я был, когда мне было четыре-пять лет? Наверное, бегал босиком, как и все дети ливов и леттов, встретившиеся нам по пути… На носу, наверное, были веснушки… Я молился богам, которых почитали мои родители… А кто же были мои родители? Я их тоже не помню… Я родился среди язычников, во тьме, в грязи… Что ж, и Христос родился не в золотых палатах, а в стойле, на сене».
– Что же ты умолк, Генрих? – спросил Алебранд. – В долгой дороге надо все время говорить друг с другом, не то можно с ума сойти от молчания. Я поездил на своем веку немало, – он широко зевнул и сразу же перекрестился, чтобы не влетела в рот дьявольская сила. – В первый раз, помню, поехал я к эстам в их Унганию, чтобы отобрать добро, которое они захватили у наших купцов. Купцы шли санным обозом из Риги к Пскову, а эсты вместе с ливами напали на них, забрали товаров марок на девятьсот. Но не отдали язычники добро, чуть меня самого не прикончили. Дикари все, что эсты, что летты, – он сердито сплюнул в огонь.
«Я родился от дикарей, – думал Генрих, – на земле, забытой богом, спящей мертвым сном, не слыша святых псалмов, не зная всемогущей волшебной латыни. Неужели я мог не знать латынь, этот язык богов, музыку небес? Латынь – сама гармония, само совершенство. Неужели я мог говорить на каком-то ином языке и у меня язык не присох к гортани? Как одно солнце светит в небе, так должен быть и один язык. Один! Святая латынь! Все другие языки – мусор, пыль под ногами. Разве это языки?»
Он поднялся, встал у самого костра, закутавшись в сутану, которая стала горячей. Однако он совсем не чувствовал этого кожей, телом – такой жгучей болью горела душа.
– А назад от эстов возвращался, – продолжал свои бесконечные воспоминания Алебранд, – и попал на реку Имеру к леттам. Слово божье они встретили с радостью, но бросили жребий – принять крещение от Пскова, от русской церкви, как сделали таловские летты, или от латинян. Повезло нам, латинянам.
«Мои родители, мои родственники по жребию выбирали себе веру, – чуть не плача от обиды и злости, думал Генрих. – Будто вера – новая рубашка или новая корова. Будто есть на свете что-либо более мудрое и светлое, чем римская вера. И я родился от таких людей!»
– Да садись ты, Генрих, – мягко предложил старый Алебранд. – Садись вот тут, возле меня… Дорога еще долгая, надо беречь ноги. Давай налью тебе вина. Я всегда вино в дорогу беру. Не пьешь? Совсем не пьешь? Святой… А я без вина не могу.
Алебранд, задрав бело-желтую пеструю бороду, пил вино из медной кружки. Пил долго, смачно, потом вытер кулаком губы и сказал:
– Ты на меня, старика, не смотри. Я свое отъездил и отслужил. Человек я безобидный. Ищу, где тепло, сытно и котел не пуст. Вот отвезу тебя на Имеру, помогу церковь обжить и вернусь в Ригу. Там и умирать буду.
«Без Алебранда мне будет нелегко, – сидя у костра, думал Генрих. – Но со мною бог и святая дева Мария. Они помогут мне, укрепят душу. Я так хотел быть пастырем!»
Ему вспомнились долгие годы учебы в Бремене, Риме, а потом в Риге. Он всегда был одним из лучших студиозусов. Его друзья по богословской семинарии тайком ухаживали за девушками, пили вино и пиво, лоботрясничали, оправдывая все это тем, что, сам Христос, когда учился в школе, во время уроков лепил из мокрой земли птиц, оживлял их, и те птицы летали по классу.
Он всегда считал себя тевтоном, сыном того могущественного народа, который когда-то сокрушил, поставил на колени Римскую империю, который на боевых взмыленных конях ворвался в мраморные дворцы, в огромные роскошные бани, где в диких фантастических оргиях, в непосильных для слабой человеческой души грезах доживало последние дни худосочное племя пигмеев, бывших некогда гигантами. Но его родители были леттами, значит, и он был летт.
Однажды семинарист, спавший с ним рядом, утром удивленно сказал ему:
– Генрих, я не знал, что ты такой Цицерон – разговариваешь даже во сне.
– Я разговариваю во сне? – удивился и Генрих.
– Да. Но это еще не все. Ты разговариваешь не на латыни, не по-тевтонски, не по-свейски, а на каком-то странном непонятном языке.
Кровь ударила в виски. Генрих покраснел как рак, с которым студиозусы любили пить пиво. Оказывается, во сне он говорит по-леттски! Не благородные розы святой латыни расцветают в его душе, а остро колется болотная осока языка, который никто никогда не слышал и, конечно же, не услышит на берегах Рейна. Он вырывал, выкорчевывал его из себя, однако, оказывается, корешки остались.
На следующий вечер, перед сном, он долго и искренне молился, просил:
– Боже, сделай, чтобы не возвращались ко мне эти ненужные, мертвые слова. Я – сын твоей латыни. Боже, я верный раб твоей святой латыни.
А чтобы быть абсолютно уверенным в том, что леттский язык не вернется к нему ночью, он завязал себе рот шелковым платком и так заснул – дышать-то дышалось, но вместо слов из груди вырывалось какое-то бормотание.
Он изгонял из себя язык предков, как из святого, украшенного золотом храма изгоняют шумных, вечно голодных воробьев. Язык умирал. Он больше не возвращался в сны. Во сне Генрих говорил теперь на латыни. В Риге, на исповеди, Генрих рассказал епископу Альберту, своему любимому наставнику, обо всем, что тревожило его.
– Что ты делаешь, сын мой?! – воскликнул Альберт. – Да, латынь – божий язык, язык языков. Но она пока еще не может быть единственным ключом, отмыкающим все сердца. Нам, рижской церкви, нужны люди, знающие языки ливов и эстов, полочан и леттов.
Так снова ожил в душе Генриха язык предков.
Обсушились, отдохнули, и небольшой обоз двинулся дальше. После вынужденного купания в холодной воде настроение у Генриха улучшилось, не так мрачно глядел он теперь на все, что происходило вокруг. Ливы и летты целыми семьями убегают в леса, прячутся при их появлении? Ибо неразумные язычники. Не озарил их еще свет господний? У них очень бедные избы, усадьбы? Значит, ленятся работать.
Много рек и речушек текло на этой земле. И все текли с востока на запад, туда, где заходит солнце. Море притягивало их к себе.
При переправе через одну из таких речушек из лесу, что рос на самом берегу, выскочило около тридцати всадников, в белых длинных плащах с нашитыми на них красными крестами и мечами, в шлемах, похожих на горшки. Подняв копья, они ринулись на обоз.
– Венденские рыцари, – сказал старый Алебранд, – меченосцы. – И закричал всадникам, готовым смять, растоптать их обоз: – Именем Христа, остановитесь! Мы из Риги! Люди епископа Альберта!
Но стальная конная лавина неслась, не обращая внимания на отчаянный крик старого клирика, и тогда Генрих схватил святое распятие, высоко поднял его над головой и во всю силу своего голоса крикнул:
– Остановитесь, вы, спрятавшие лица за железо! Кони взвились на дыбы перед самой повозкой, в которой сидели Генрих и Алебранд. На них были металлические попоны и нагрудники. Головы покрывала кольчужная сетка. Прямо перед собой Генрих увидел блестящие от воды тяжелые копыта.
– Стой! – широко взмахнул рукой в металлической перчатке комтур, на длинном копье которого трепетал белый флажок с красным крестом. Команду эту он отдал и своим разгоряченным рыцарям, и напуганному церковному обозу.
Комтур, широкоплечий, смуглолицый, подъехал к Генриху и Алебранду. На нем были перевязь, рыцарский пояс, золотые шпоры – все, что должен иметь благородный отважный рыцарь.
– Мы думали, что вы – эсты, – сказал комтур, взглянув на Генриха суровыми глазами. – Кто же вы?
– А если бы мы оказались леттами? – вопросом на вопрос ответил Генрих, у которого сердце все еще глухо стучало в груди.
– Летты – подданные нашего ордена, – скупо улыбнулся закованный в железо комтур. – Какой смысл убивать рабов, которые кормят и поят нас? Правда, случается, что мы рубим и топчем конями и леттов, приняв их за эстов. Эти туземцы все на одно лицо.
– Я еду со своими людьми на реку Имеру, чтобы построить там церковь и провести святое крещение, – сообщил комтуру Генрих. Его обоз все еще стоял в реке, там, где на него напали меченосцы. Кони, пока шел разговор, пили речную воду. Слепни и оводы сразу же облепили потные конские спины. Генрих увидел этих серых крылатых кровососов, и злость вспыхнула в его душе. Он гневно кинул возчику:
– Погоняй! Пока мы стоим, слепни всю кровь выпьют из наших лошадей.
– Вы поедете в замок Венден к братьям-рыцарям и магистру Венна, – спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал комтур.
– Я спешу на Имеру, – возразил Генрих.
– Язычники подождут. А вы поедете в Венден, – уже решительно повернул коня комтур.
– Поедем, Генрих, к рыцарям, – сразу согласился старый Алебранд. – Слыхал я, что у них в подвалах хранится прекрасное вино.
Замок меченосцев стоял на обрывистом берегу реки Гауи. Камень, из которого совсем недавно возвели стены и башни, еще не потемнел от дождя и дыма.
Подъехали к заполненному мутной водой рву. Комтур несколько раз протрубил в боевой рог, подавая находившимся в замке условный сигнал, и через широкий ров с грохотом лег подъемный мост.
Замок был застроен тесно, с узкими улочками, с небольшим, утоптанным копытами внутренним двориком, где размещались казарма братьев-рыцарей и орденская капелла.
Юноша-оруженосец придержал стремя, когда комтур соскочил с коня, взял у него копье и щит. Генрих и Алебранд, оставив обоз и всю свою охрану, пошли вслед за комтуром. «Тесно живут рыцари, – думал по дороге Генрих. – Не замок, а гнездо – сокола или коршуна».
Они видели, как учатся меченосцы рукопашному бою – разделившись на десятки, рыцари, вооруженные мечами и копьями, атаковали друг друга. Звон мечей, крики сливались с ржанием лошадей и отрывистыми командами седого рыцаря в черном плаще, стоявшего на специально построенном помосте и оттуда внимательно следившего за действиями воинов. Правда, на наконечники копий, как заметил Генрих, были надеты небольшие деревянные шары.
По лабиринту улочек, а потом по темному извилистому коридору главной цитадели замка комтур привел их наконец в просторный, с высоким потолком зал, где ярко горело множество свечей. На стене, напротив входа, висели большой меч и большое копье – символы верховной власти великого магистра, или, как его называли, гроссмейстера Ордена Меченосцев.
Высокий белолицый мужчина с расцарапанной копьем щекой маленькими щипцами осторожно снимал нагар с фитиля свечи. Казалось, он хочет сорвать красный трепещущий цветок. Услышав шаги за своей спиной, он резко оглянулся, крепко сжал щипцы, даже косточки пальцев побелели. Это был гроссмейстер Венна, которого на эту должность пожизненно избрали рыцари ордена, а папа Иннокентий III утвердил их выбор.
– Люди епископа Альберта, – сказал гроссмейстеру, глянув на Генриха и Алебранда, комтур. Между собой меченосцы привыкли разговаривать лаконично.
– Ваш епископ – глупый жирный каплун! Собака! – сразу же закричал гроссмейстер Венна. Он швырнул щипцы, и они, ударившись о стену, зазвенели. Комтур нагнулся, поднял щипцы, сдул с них сажу.
– Он завел торг с орденом из-за трети Ливонии! – кричал Венна. – Из нашей крови он хочет печь пироги! Рыцарская кровь – не вода! Не вода! Я заключу союз с датским королем Вальдемаром и возьму все, что завоюет мой меч!
Гроссмейстер в один прыжок оказался у стены, сорвал с нее меч. Глаза у него блестели, и Генриху на миг показалось, что наступил конец, что сейчас Венна порубит его и Алебранда на куски, как капусту.
Но приступ гнева очень скоро прошел. Гроссмейстер аккуратно повесил меч на стену, спокойно взглянул на гостей, сказал:
– Мы – корни одного дерева. Приглашаю гостей поужинать с братьями-рыцарями.
Трапезная меченосцев размещалась как раз под комнатой, в которой жил гроссмейстер. Венна с комтуром, Генрих и Алебранд спустились по винтовой лестнице в полумрак трапезной. Как огненная пасть дракона, краснел, трещал в углу трапезной камин, в котором сгорали огромные смолистые бревна. Порой оттуда выскакивали яркие угольки, с писком крутились по каменному полу.
Меченосцев было человек пятьдесят. Капеллан прочитал молитву, все стоя выслушали ее, потом сели, каждый на свое навечно закрепленное за ним место. По правую руку от гроссмейстера сел рыцарь, который особенно отличился в последнем бою. Каждый меченосец взял свой золоченый кубок, на котором было написано:
«Восславим бога». Паж-виночерпий серебряным ковшом налил всем вина из дубового бочонка.
Только один человек в трапезной не пил, не имел сегодня права пить. В черном плаще – а все меченосцы были в белых плащах – он сидел на охапке соломы на полу и черпал из деревянной миски деревянной ложкой гороховую кашу. Горох не лез ему в горло – он сидел печальный, растоптанный всеобщим презрением, с набитым едой ртом.
– Кто это? – тихо спросил у комтура Генрих.
– Рыцарь Викберт. Во время боя с эстами он испугался, покинул боевой строй, – объяснил комтур. – Трусость карается в нашем ордене очень строго. Тот, кто во время боя показал себя зайцем, должен после боя, в трапезной, почувствовать себя червяком.
Генрих внимательно взглянул на Викберта. Ни за что в жизни не хотел бы он оказаться на его месте, ибо стыд, сжигающий душу, особенно страшен, просто невыносим, если ты страдаешь от него на глазах у своих друзей. Плечи у Викберта были опущены, руки, державшие ложку и миску, дрожали. Но не только укоры судьбы увидел во взгляде и всей фигуре несчастного рыцаря Генрих. В какой-то момент Викберт поднял голову и глазами, полными ненависти, кажется, насквозь просверлил гроссмейстера Венна. Такой взгляд может разрушить даже крепостную стену, но Венна, опьяневший от вина и горячего мяса, поднялся с кубком над рыцарским столом и сказал зычным голосом:
– Издревле повелось у нас, латинян: народ должен работать, рыцари воевать, а духовенство молиться. Выпьем, братья-рыцари, за наших гостей, божьих слуг Генриха и Алебранда. Мы своим мечом вырубаем, корчуем дикий лес язычества, а они идут за нами и со святой молитвой на устах засевают отвоеванные у тьмы просторы Христовым зерном.
Рыцари как один выпили, только Викберт, сидевший на полу, у ног своих товарищей, еще глубже втянул голову в плечи.
После ужина комтур решил показать гостям цитадель. Старый Алебранд, до отвала набив живот жареным мясом, отказался и вскоре уже храпел в рыцарской казарме. Пошел один Генрих.
Цитадель, словно каменный меч, врезалась в вечернюю синеву. Внутри нее одно над другим были расположены, как пчелиные соты, небольшие помещения, в которых рыцари могут выдержать долгую многомесячную осаду. В подвале был выкопан колодец, там же хранились запасы продовольствия. Винтовая лестница была хитро спрятана в стене. По этой лестнице можно быстро пройти в подземный ход, ведущий на берег Гауи.
Потом спустились на самое дно цитадели, в вечный мрак и холод. Капли воды с тихим шелестом падали за спиной у Генриха. Это были последние звуки белого света, ибо то, что он увидел, было адом.
Комтур зажег факел, и на Генриха глянули, вырванные из тьмы, желтые человеческие черепа, скелеты. Давно скончались в страшных муках люди, навек замурованные в этой могильной мгле, давно разрушилась, исчезла их плоть, а кости и теперь были прикованы к каменной стене цепями. Один скелет был прикован за ногу, другой – за шею…
Но оказалось, в этом ужасном аду еще тлела жизнь. В темном углу подземной темницы что-то дышало, слабо шевелилось.
Комтур шагнул туда, высоко подняв факел, и Генрих увидел двух мужчин, вернее стариков, – длинные седые бороды выросли у них чуть ли не по пояс. Они были прикованы короткими цепями за шеи к темной от подземной сырости стене.
Комтур снял с крюка, вбитого в стену, плеть, висевшую, видимо, тут постоянно, угрожающе взмахнул ей и спросил у одного из невольников:
– Как твое имя, пес?
– У меня нет имени. Я раб ордена, – задрожав всем телом, ответил невольник.
– Поумнел, – засмеялся комтур. – Целуй плеть. Невольник, зазвенев цепью, торопливо поцеловал плеть, красную от его крови и крови соседа по несчастью.
– Смотри у меня, – пригрозил комтур. – Чуть что – сам с себя шкуру снимешь и вот на этот крюк повесишь. Ну а твое имя? – подступил он с плетью ко второй жертве.
– Я – Варидот, старейшина имерских леттов, – слабым голосом ответил обессилевший невольник.
– Ты раб ордена! Ты раб ордена! – разъяренно закричал комтур и начал со всего плеча хлестать плетью леттского старейшину.
– Я – Варидот, – прошептал невольник и потерял сознание.
У Генриха подкашивались ноги, тошнота подступала к горлу. Он не выдержал и стрелой вылетел из камеры, во тьму – только бы дальше от стонов и крови.
– Жалеешь язычников? – удивился комтур, когда они возвращались из-под земли на поверхность. – Их много, а бог один. Запомни: нанося раны язычникам, мы охраняем святые раны бога.
Проведя в Вендене еще день, Генрих и Алебранд с обозом двинулись дальше, на реку Имеру. Генриху все вспоминался несгибаемый леттский старейшина, который, как собака, сидит на цепи, но не забывает свое человеческое имя. Вместе с гордым леттом он вспоминал кукейносского князя Вячку, неуступчивого, с железной душой, которая, может, и даст трещины, но сломать ее невозможно. «Однолюбы, – думал про летта и Вячку Генрих. – Свой род не забывают, свой корень. У того же Вячки украли дочь, и он с мольбой на устах примчался в Ригу, пообещал отдать епископу половину своего города, он не пожалеет ее, эту половину, и все равно мы не одолели его, он вечный наш враг до последнего своего вздоха. В чем сила таких людей? Неужели в слепой верности маленькому уголку земли, на котором они родились? Так в этом они похожи на кротов, которые всю жизнь копаются-ковыряются на лесной поляне, где пустили их на свет божий, и ничего им не надо, ничего их не манит – была бы только своя поляна. А я чайкой хочу быть! Сегодня тут, завтра перелетел через море, и совсем иной ветер гладит перья, совсем иное солнце греет, и надо всем этим огромным разным светом – один бог, один, не леттский, не полоцкий, а римский».
В эту же ночь под шум ветра, под однообразный скрип колес приснился Генриху сон. Увидел он нетленный божий престол в ярких, празднично васильковых небесах. Мягкий золотой свет, на который бы глядел не отрываясь вечно, струился от престола. Музыкой звенел безграничный простор, заполненный ангелами с льняными волосами, сидящими на маленьких искристо-бриллиантовых звездочках (по ангелу на звездочку!). Они качались, летали вверх-вниз, словно на качелях. Генрих увидел бога и покорно опустил счастливый взгляд. И услышал он, как встретились, столкнулись у божьего престола две молитвы – одна прилетела из Риги, другая – из Полоцка. «Боже, – слезно просила рижская молитва, – укрепи, научи, помоги одолеть язычников». «Боже, – заголосила молитва полоцкая, – ты наш отец. Смилуйся, помоги одолеть тевтонов». Молитвы были две, а бог один, и бог мучительно задумался. Звезды погасли в темных небесах, ангелы заплакали и легли спать, укрывшись холодными облаками, гром хотел было загреметь, да сорвал голос, захрипел, закашлял, а бог все думал. И тогда не выдержал, закричал Генрих: «О чем ты раздумываешь, господи? Одни мы дети твои – пилигримы из Риги. Гони прочь иных!» Но бог печальным взглядом окинул Генриха и тихо сказал: «Я слышал две молитвы, две… Я не знаю, что мне делать». И заткнул пальцами уши, чтобы не слышать больше никого.
В тревоге и непонятной тоске встретил рассвет Генрих и, проснувшись, сразу же начал молиться. Солнце еще не взошло, только там, где оно должно подняться, чуть-чуть кровавился краешек неба. Сонный ночной ветер пахнул мокрой травой и, казалось, ладаном. Алебранд, сыто отвесив нижнюю губу, спал рядом, посвистывая носом.
Наконец добрались до назначенного места и там, где река Имера вливается в озеро Остигерве, начали строить божий храм. Работали все, в том числе Генрих и Алебранд. Церковь ставили деревянную, чтобы потом, когда латинская церковь пустит в этом краю крепкие корни, заменить ее каменной. Генрих с воодушевлением стучал топором и нетерпеливо поджидал, когда подойдут к рижским пилигримам местные жители. Но они пока не подходили – видимо, прятались в лесах.
Наконец появился откуда-то седовласый и синеглазый старичок, сел на бревно, закинув ногу за ногу.
– Мир тебе, божий человек, – сказал Генрих старичку на леттском языке.
Старичок поднялся с бревна, подошел к Генриху, поглядывая на церковь, где хлопотал вместе с пилигримами Алебранд, дал совет:
– Зарежь красного петуха и смажь стены и двери свежей кровью.
– Зачем? – почтительно улыбнулся первому из своих будущих прихожан Генрих.
– Пламя не возьмет бозницу.
Старого летта звали Вардеке. На ногах у него были белые онучи, обвитые крест-накрест кожаными ремешками, на худой шее – клетчатый шарф. Он спросил у Генриха:
– Откуда наш язык знаешь, латинянин?
– Я из леттов, родился тут, – ответил Генрих. Вардеке чуть не упал с бревна. Вскочил, схватил Генриха за руку, возбужденно заговорил:
– А я, дурень, гляжу на тебя и думаю… Так я же тебя
знаю! Ты – Пайке.
– Я – Генрих, – с достоинством возразил молодой пастырь. Тевтонская кровь взбунтовалась в нем.
– Может, для кого-нибудь ты и Генрих, но для меня ты – Пайке, наш Пайке, – радостно твердил Вардеке со слезами на глазах.
Так Генрих стал приходским священником – вел службы, принимал исповеди, крестил и понемногу писал свою хронику. Жил он в небольшой комнатке рядом с церковной ризницей, жил очень скромно, как и надлежит тому, кто вручил свою душу Христу.
«Хроника Ливонии» – единственное дитя всей моей жизни, – вдохновенно думал Генрих, просиживая ночи напролет над пергаментом. – Я сдержу слово, данное епископу Альберту. Поколения людей, которые придут на землю после нас, прочтут о бессмертных подвигах рижских пилигримов».
Налетал на озеро ночной ветер, стеной поднимал свинцовые волны, с сухим отрывистым треском пробегал по камышу, горстями сыпал песок в окно комнатушки. Стекло помутнело от пыли.
«Как мне назвать себя? – размышлял молодой летописец. – Генрихом Имерским? Или Генрихом из Леттии? Да, пожалуй, не это самое главное. Главное, что я прославлю избранных богом тевтонов, которые зажгли на этой земле свет истинной веры. Жестокую войну ведут они с язычниками, и я буду писать об этой войне, о бесконечной войне».
Он хорошо знал стиль тевтонских войн, ведь и сам не раз участвовал в походах. Все обычно начиналось так:
припомнив обиды, которые нанесло или думало нанести рижской церкви какое-нибудь местное племя, епископ Альберт или кто-либо из его людей собирал накануне рождества, когда снег покроет землю, а лед скует реки, сильное войско. Ядром этого войска были тевтоны, но шли и ливы во главе с Каупой, шли некоторые леттские старейшины. Двигались быстро, без привалов, без передышки, ибо только стремительность нападения могла принести успех. Вблизи земель того племени, которое надо было наказать, разбивались на более мелкие отряды, и начинал петь свою грозную песню беспощадный тевтонский меч. Мужчин убивали, женщин, детей и скот уводили с собой, избы и селения сжигали дотла. Потом в заранее условленном месте снова собирались вместе, смывали с рук кровь и грязь, молились Христу, пославшему победу над язычниками, делили добычу. После одного-двух таких набегов непокорное племя посылало своих старейшин в Ригу просить мира и, признав мощь и величие бога, соглашалось принять крещение.
Все это не раз своими глазами видел Генрих, об этом он писал и в хронике. Твердо ложились буквы на пергамент, тверда была рука хрониста, твердо было его сердце. «Время не знает пути назад. Солнце не меняет свой вечный путь в небе, – думал Генрих. – Так и наша церковь не может оставить эти племена во тьме язычества. Нас, тевтонов, избрал бог, чтобы возвести свое тысячелетнее царство».
Так он думал, так писал, а совсем рядом с церковью на высоком песчаном холме предков, в священной березовой роще, огороженной дубовым частоколом, покоились останки его отца и матери, летта и леттки. Отец и мать жили и умерли язычниками, а сын, христианин, даже не знал, где их могилы.
Так он думал, так писал, а за десятки поприщ от реки Имеры в ночном Кукейносе Климята Однорук писал летопись Полоцкой земли. Тускло горела свеча… Тени предков стояли за спиной Климяты…
Однажды вместо Вардеке привезла в церковь свежее молоко и рыбу красивая светловолосая девушка. Ловко подгребая широким кленовым веслом, она пригнала челн к берегу, смело прыгнула в воду, привязала челн веревкой к корням старого ясеня (летты называли этот старый ясень святым деревом) и, осторожно ступая маленькими босыми ногами по колючему прибрежному песку, подошла к Генриху. Молодой священник как раз выбивал пыль из своей темно-синей сутаны, повесив ее на нижний сук ясеня.
Красивая юная леттка поклонилась Генриху, поставила возле его ног сплетенный из упругих сосновых корешков короб, в котором были молоко и рыба, и сказала:
– Старик Вардеке прислал. Сам он заболел и не мог приплыть.
На голове у нее красовался кожаный, вышитый блестящими медными бусинками веночек, белое льняное платье украшала большая серебряная брошка-сакта. Уставшая от тяжести весла, девушка глубоко, часто дышала, и сакта на ее груди поднималась и опускалась в такт ее неровному дыханию.
– Как тебя зовут, дочь моя? – спросил ее Генрих. Юная леттка весело рассмеялась.
– Разве ты можешь быть мне отцом? Ты же совсем молодой.
Генрих растерялся от такого простодушия, давно не виданной им наивности.
– Я твой духовный отец, – попробовал он объяснить ей. – Все люди вашей округи, которые ходят молиться в этот святой храм, – показал он на церковь, – мои духовные дети. Даже старый Вардеке – мой духовный сын. Так повелел Христос, – и он истово перекрестился.
– Вардеке – мой дед. А меня зовут Убеле. Я живу за озером, – сказала леттка и сразу же спросила: – Это правда, что тевтонские священники не могут жениться?
Голубые глаза, как две весенние звездочки, не отрываясь смотрели на Генриха. Тут уж молодой священник совсем потерял уверенность.
– Да, мы не можем вступать в брак, – тихим голосом ответил он наконец. – Мы даем обет всю жизнь служить одному Христу и только ему приносим свою любовь.
Убеле внимательно взглянула на Генриха. Нескрываемое любопытство увидел он в больших чистых глазах язычницы и еще что-то, непонятное, пока недоступное ему. «Она язычница. Я ни разу не встречал ее в святом храме», – сокрушенно подумал Генрих.
– Жаль мне тевтонских священников, – сказала между тем Убеле, стройной босой ногой подбрасывая песок. Пошевелила загорелыми маленькими пальцами ноги, пропуская между ними теплый песок, и прибавила: – У тевтонских священников никогда не будет детей. Будут духовные – старые, лысые, морщинистые, а своих, кровных, маленьких, не будет. Разве это хорошо? Разве это правильно? А что, если бы все люди были вашими священниками? Человеческий род перевелся бы на земле.
Никогда еще Генрих не слышал таких слов. Он привык, что его самого, его духовный сан глубоко уважают, чтут. Он привык, что ему завидуют, а тут…
– Твоими устами, дочь моя, говорит дьявол, – сухо и строго сказал Генрих. – И это все оттого, что ты не ходишь в святой храм, что ты – язычница. Не о греховной плоти думай – о бессмертном духе, о спасении своей души, и тогда милосердный бог направит тебя на истинный путь, путь святой веры.
Убеле уплыла на челне, ее веночек поблескивал на солнце, а Генрих все стоял под старым ясенем и, вслушиваясь в легкий шум дерева, с удивлением и тревогой чувствовал, как странная печаль охватывает сердце, непонятный холод, словно в летний зной сердце покрывалось белым колючим инеем.
Всю ночь он молился, а перед самым рассветом, когда бледно-розовый туман лег над озером, сел писать свою хронику. В окрестных лесах просыпались птицы, дятлы неутомимо простукивали деревья, выбивая на них знак святого креста. А Генрих работал, неутомимо, одержимо, он писал и писал, помня, ни на миг не забывая, что «сначала было слово. И слово было бог». На столе перед ним аккуратно разложены стопки свежего пергамента, стояли горшочки с краской, лежали острые металлические писала, кисти из конского волоса, щипцы, чтобы снимать нагар со свечей. Все было привычно, неизменно, вечно, как сама святая римская церковь.
Усталый, он заснул, сидя за столом, когда солнце, как золотой корабль, выплыло из холодной синевы озера. Светлые лучи упали на пергамент. Сгорела дотла, погасла свеча, от нее остался только маленький теплый комочек желтого воска и ниточка синего дыма. Генрих спал, и ему снилась Убеле, плывущая в челне, она смеялась и призывно махала рукой. «Боже, почему мне снится Убеле?» – жаловался он во сне Христу, но молчали небеса, не раздавалось никакого ответа, и снова плыл просмоленный челн по бурному серо-зеленому, а потом, спустя мгновение, голубому озеру и улыбалась, звала Генриха к себе молодая загорелая язычница.
Он проснулся в неясной тревоге, как от толчка. Усмешливое лицо Убеле стояло у него в глазах. Он протер их ладонями, словно стирал ее облик, но Убеле уже проникла в его душу, в глубину сердца, властвуя там. И вдруг с ужасом, с дрожью в каждой жилке Генрих понял, что это память леттов зовет его к себе. Он думал, что она оставила его навеки, сгорела в нем, как сгорает в толще болот сухой, прожженный солнцем торф.
Генрих рывком раскрыл дверь молельни, выбежал под синие небеса, под шум старого ясеня. «Ветер, возьми в холодные ладони мое лицо, остуди мой мозг, – страстно молил, просил он, не произнося ни одного слова. – Я хочу быть, хочу остаться христианином, тевтоном… Я не хочу сойти с ума…»
Озерные берега были усыпаны цветами, синими, зелеными, серо-желтыми, как мед… «Глаза леттов», – будто шепнул ему кто-то.
Пчела, нагруженная сладким тягучим нектаром, перепачканная мягкой оранжевой пыльцой, шевелилась, ползала, жила в самом зрачке цветка. «Пчела памяти», – прошелестел над ухом старый ясень, который летты называли святым деревом.
Генрих в какой-то горячке, в необъяснимом бешенстве хотел наступить на пчелу ногой, раздавить ее, но поскользнулся на мокрых от утреннего тумана цветах, упал и потерял сознание.
– Ну и напугал ты меня, Генрих, – донесся очень знакомый, теплый, взволнованный голос. До этого голоса, до этих слов над землей проплыла, как показалось Генриху, целая вечность молчания. Он осторожно открыл глаза и с радостью разглядел старого Алебранда, низко склонившегося над ним.
– Алебранд! – вскочив на ноги, Генрих крепко обнял старика за плечи. – Тебя сам бог послал!
– Меня послал епископ Альберт, – как всегда, добродушно ответил Алебранд. – Глянь-ка, кого я привез.
Из повозки, той самой, в которой когда-то они с Генрихом приехали сюда, Алебранд вывел за руку красивую печальную девочку и спросил:
– Угадаешь, кто это?
Большими синими глазами девочка испуганно оглядывала церковь, озеро, Генриха.
– Если не ошибаюсь, это дочь кукейносского князя, – после некоторого молчания неуверенно ответил Генрих.
– Правильно, – рассмеялся Алебранд, и толстый живот его заколыхался. – Это Софья, наследница из Кукейноса. Славная девочка, сущий ангел… Вези ее на Имеру, к Генриху, приказал мне епископ, и пусть Генрих из этого душистого мягкого воска, из этого пшеничного белого и теплого хлеба вылепит тевтонскую душу. Понял? Тевтонскую душу. Он умеет, сказал о тебе Альберт. С ней я привез и монахиню Эльзу.
Из повозки с трудом вылезала толстая краснолицая женщина, вся в черном.
– Епископ, конечно, мог бы подобрать и более приятную молодку, – с хитрой усмешкой шепнул Генриху Алебранд.
Но Генриху было не до шуток. «Вот мое спасение, – озарило его при виде кукейносской княжны. – Я буду лепить ее душу, как приказал епископ Альберт, и сам очищусь от грязи язычества, которое липнет ко мне со всех сторон, тянет назад, в болото и тьму. Я знаю, с чего начинать. Первым делом надо убить в душе княжны язык кривичей, который она слышала с детства».
С большим усердием и воодушевлением взялся Генрих задело. Монахиня Эльза, церковные служители и сам он разговаривали с Софьей только по-тевтонски. С утра до вечера, от мессы до мессы, во время богослужений, в трапезной, на прогулке перед сном юная княжна слышала только тевтонское слово и святую латынь.
Кроме Софьи, Алебранд доставил из Риги пергамент от епископа Альберта. «Сын мой, – писал епископ Генриху, – помню тебя, каждый день молюсь за тебя. В суровом горниле борьбы с язычеством закаляй свою душу, не жалей тех, кто в слепой ненависти готов утопить, уничтожить золотой ковчег нашей веры. Дабы засеять божью ниву, надо выкорчевать, беспощадно уничтожить содомский виноградник. Вручаю тебе Софью Кукейносскую, чтобы росла и воспитывалась она вдали от Риги, в пустынном краю, куда не догадаются проникнуть лазутчики князя Вячки. Тут, в Риге, по нашим сведениям, они уже предпринимали попытку выкрасть ее. Воспитай княжну в верности римской церкви, и это будет одним из тех ключиков, которыми мы отомкнем плотно запертую славянством дверь на Двину.
Еще одну новость сообщу тебе. Из Вендена приезжал ко мне рыцарь Викберт со своими оруженосцами и конюхами, приезжал тайно, под большим секретом. Этот Викберт, как я понял, неглупый человек, отважный рыцарь и, что самое главное для нас, люто ненавидит гроссмейстера меченосцев Венна. Они, сын мой, похожи на пауков, которым не место в одной банке – кто-то из них обязательно сожрет другого. Ты знаешь, сколько зла причинил рижской церкви гроссмейстер Венна, этот никчемный трусливый человечишка, эта подвальная крыса. Только слепой случай дал ему в руки крест и меч магистра.
Учит нас жизнь: «Чтобы взойти к святой вершине, столкнем неловких и неуклюжих в бездну». Викберт признался мне, что хочет свергнуть Венна и стать гроссмейстером меченосцев. Что ж, это было бы на руку нашей церкви, ибо изменник Венна договаривается за нашей спиной с папой Иннокентием, с датчанами, со шведами, одним словом, со всеми, кто любым способом мечтает навредить нам. Я сказал Викберту, что рижская церковь готова благословить его меч – меч, который свергнет Венна. К тебе, сын мой, могут в любое время дня и ночи обратиться люди Викберта. Мои к тебе просьба и приказ:
ласково встреть их, помоги божьим словом и делом.
На этом оканчиваю свое послание. Прочитав, немедленно сожги пергамент. Благословляю тебя, сын мой. С нами бог!»
Генрих долго жег пергамент на язычке свечи, глядя, как он чернеет, скручивается, рассыпается пеплом. Потом щипцами, которыми держал пергамент, растолок, растер этот пепел, сдул его со стола.
Алебранд, попив вволю имерского вина, вскоре уехал в Ригу, и Генрих снова остался один, если не считать монахиню Эльзу, княжну Софью и двух церковных служек. Осень зажигала над притихшим озером печальные костры багряных лесов.
Однажды на челне приплыл старый летт Вардеке. Спеша к церкви, он взволнованно, с непонятным испугом на ходу закричал Генриху:
– Морана идет!
Часто, шумно дыша, Вардеке как мог объяснил молодому священнику, что вчера неподалеку отсюда на болотах имерские летты увидели Морану, или Мору, женщину огромного роста, в одной руке она держала человеческий череп, в другой – острый серп с красным лезвием и махала окровавленным платком. Обычно перед войной, перед великой бедой откуда-то появляется эта ужасная Морана, идет по дорогам, по нивам, по леттским селениям, разбрызгивая кровь с серпа, разгоняя людей, словно ничтожных, смертельно напуганных козявок. Ничего с ней не сделаешь, никуда не спрячешься от ее гнева.
Генриха не очень удивила эта весть. Старый опытный Алебранд, хорошо знающий этот край, предупреждал его, что время от времени на леттов и их соседей ливов находит непонятный ужас и они со своими семьями и всем скарбом убегают в глухие леса, в болота, прячутся там, забиваясь в земляные норы, под выворотни, даже в дупла деревьев.
Генрих и сам заметил странности в поведении здешних жителей. Бурный ветер, который, поднимая клубы серой вонючей пыли, налетает внезапно с поля, они всегда называют «тевтонским послом». Он, этот мерзкий ветер, выглядывает, вынюхивает, каков урожай у леттов, чтобы потом вернуться в Ригу и все рассказать своим хозяевам. Желая оскорбить, унизить человека, люди, живущие на Имере, говорят: «Обманул, как тевтон из Риги».
Генрих понимал, откуда берется страх у леттов. Раньше на них совершали набеги эсты и литва, теперь в этот край проложили широкие тропки меченосцы из Вендена, латники Альберта из Риги.
Заметно изменился за это время молодой пастырь. В семинарии, искренне и навсегда поверив богу, он думал:
«Разве можно Христову веру засевать на земле огнем и мечом? Как дыхание ветра, как солнечный луч, она сама собой должна вливаться в человеческую душу».
Сегодня он уже не таков. Он убедился, увидел своими глазами, что язычество не умирает, не хочет умирать своей смертью, цепляется за человеческие души, поэтому всегда надо держать наготове острый меч.
«Бейте всех. Бог на том свете разберет своих…» Слова эти прозвучали не в Ливонии, а далеко отсюда, в Южной Франции, когда там, как диких зверей, убивали альбигойцев воины папы. Но это же мог сказать и рижский епископ Альберт и – надо ли удивляться? – его верный любимый ученик, добросовестный и тихий пастырь, вдохновенный и одержимый хронист Генрих.
Выслушав старого Вардеке, Генрих не изменился в лице, не показал леттам, что он чего-либо боится, и все же тайком от них послал верховых в Венден и Ригу с просьбой о помощи. Он запретил монахине Эльзе и княжне Софье выходить из своей комнаты, сам только раз в день прогуливался по берегу озера, не удаляясь, однако, более чем на двести шагов от церкви.
Откуда же могла прийти опасность? Со стороны эстов? Из Литвы? От короля датского Вальдемара? Или, может, из Полоцка? Тревога нависла над озером и деревянной церковью на его берегу. Генрих не спал, ожидая беды, писал хронику…
Наутро снова приплыл Вардеке, еще более напуганный.
– Где же твоя М орана? – спросил его Генрих.
– Ее видели уже на той стороне озера, – настороженно, даже испытующе глянул на пастыря Вардеке. Раз-другой он обошел вокруг церкви, потом молча сел в челн и поплыл.
Ночью зашумел дождь. На противоположном берегу озера вспыхнули, затанцевали огни. Заплакала княжна Софья. «Боже, помоги», – думал Генрих и все писал, писал хронику.
Сверкнула молния. Казалось, божий меч рассек черное небо. Не к добру это – гроза осенью.
Генрих потушил свечу, затаился во тьме. Дождь лил из небесного мрака, обрушиваясь на церковь. Шипела вода. Стонал всей своей листвой мокрый старый ясень.
«Что же ждет меня и всех нас?» – думал Генрих. Отвратительное чувство страха, которое он долго старался спрятать, затаить в сердце, раздавило его, превратив в беззащитного червяка, одного из тех, что выползают после дождя из земляных нор-укрытий.
Генрих стал на колени, начал горячо молиться деве Марии.
– Защити… Укрепи мой слабый дух… Отведи беду… Но этих слов, чувствовал он, не хватало; тогда он вскочил на ноги, страстно протянул руки к небу и закричал, срывая голос:
– Покажи, что ты мать! Покажи, что ты мать! В молельню вбежали перепуганные служки, монахиня Эльза с княжной Софьей.
– Надевайте боевые доспехи, берите в руки мечи и ждите моего сигнала, – приказал служкам Генрих. Сам он поверх сутаны надел пластинчатый панцирь – подарок Альберта.
Постепенно стихал дождь, но ветер загудел с еще большей силой. Вздрагивала маленькая церковь – казалось, еще один-другой напор ветра и она, словно соломинка или птичье перышко, взовьется в ночное небо.
Генрих осторожно вышел из церкви, подкрался к старому ясеню, замер, затаился возле него, сжимая в руке меч. Озеро вздыбилось громадными волнами. Странные огоньки вдруг заметил на нем Генрих. Ночные огоньки росли, приближались, и он понял, что это плывут челны, в которых ярко горят факелы. «Как только они не перевернутся, не пойдут на дно в такую непогоду?» – холодея от ужаса, думал Генрих.
Первый челн пристал к берегу. Легкая фигура, окутанная чем-то белым, начала приближаться к ясеню, за которым укрылся Генрих.
– Пайке! – послышался то ли крик, то ли стон. – Пайке, где ты?!
Столько непонятной боли и тревоги, столько первобытной языческой страсти было в этом приглушенном ночными звуками голосе! Казалось, кричала чайка. Казалось, кричала сама земля.
Генрих задрожал, затрепетал всем телом; он вдруг осознал, что это его зовет к себе незнакомое существо. «Ты – Пайке. Ты наш Пайке», – вспомнил он слова старого Вардеке.
– Пайке! – долетало из глухого мрака. – Где ты? Не прячься от меня. Зачем ты хочешь пролить тевтонскую воду на могилы наших предков?
«Этот ночной голос все знает, – обливался холодным потом Генрих. – Ведь я в самом деле хотел завтра освятить леттское кладбище, чтобы язычники, похороненные там, получили божье благословение, чтобы хоть на каплю уменьшились муки в аду. Там, если верить Вардеке, лежат и мои родители…»
Горячая злость неожиданно вспыхнула в его мозгу, веревочной петлей перехватила дыхание. «Мои родители… Моя мать – римская церковь! Только она! Я не знаю и не хочу знать иной матери!»
Он до хруста в пальцах сжал рукоять меча.
– Пайке! – снова прозвучало во мраке. Белая фигура была совсем близко.
«Это происки леттов, – вдруг осенила его догадка. – Они хотят обвить меня своей дьявольской паутиной».
Он почувствовал облегчение и даже тихонько засмеялся, смахнув левой рукой со лба дождевые капли. Дева Мария увидела его в этой кромешной тьме и бросила с небес спасительный золотой луч, за который он сразу же ухватился.
– Пайке, – прошелестело в нескольких шагах от него.
– Я здесь, дети дьявола, – громко сказал Генрих. – Я здесь, грязные, лживые летты.
Он решительно вышел из своего укрытия и направился к церкви. Белая фигура бросилась к нему, и тогда Генрих ударил ее мечом. Закаленное тевтонское железо насквозь пронзило чью-то слабую мягкую плоть.
И сразу, как показалось, утих ветер, замолкло бурлящее озеро. Десятки людей ринулись из тьмы на Генриха, повалили его. Губами, всем лицом ощутил он ледяную сырость земли.
Убеле! – донесся до Генриха отчаянный крик. – Убеле, девочка моя! Неужели он убил тебя?!
Глава четвертая (часть III)
Он стоял, привязанный крепкими смоляными веревками к ясеню, и ждал своего конца. С разбитого лица капала кровь. Разодранная сутана превратилась в лохмотья.
Занимался рассвет. Отшумела ночь, улегся ветер, и озеро Остигерве было удивительно спокойное, лучистое и неподвижное, как венецианское зеркало. Не верилось, что ночью бушевала такая страшная буря, что волны на озере были высотой с церковь.
Генрих в последний раз глядел на свою церковь, на свое дитя, которое вынянчил, выпестовал в этом диком краю и которое должно было погибнуть у него на глазах. Со всех сторон летты тянули к церкви сухой хворост, коряги, бревна, старательно обкладывая ее стены этим лесным добром. Словно муравьи, они стаскивали все в одну кучу, только муравьи строят, создают, а эти готовились уничтожить.
Ждали огня, который посланец должен был принести с кладбища. Там, на кладбище предков, на поминальном костре сейчас сжигали юную Убеле. Потом ее останки закопают в землю – по обычаю леттов плоть того, кто уходит из жизни, надо вернуть Хозяйке Земли. Кем бы ни был покойник, его обязательно возвращают земле: мужчину кладут головой на восток, женщину – головой на запад. И непременно в могилу, вырытую лопатой, или ножом, или дубовым суком, или, если ничего нет, голыми руками.
Ждали огня. Генрих ждал смерти.
«Почему она взялась сыграть роль кровавой Мораны? – думал об Убеле Генрих. – Заставили старейшины? Заставил Вардеке? А может, она согласилась сама, по своей охоте? Если бы я знал, что это она, я бы не поднял меч».
Только об этом раздумывал он, ибо надежды на спасение не было никакой, смерть была неминуема, а смерти он не боялся. Он боялся только мучений, боялся короткого мгновения перехода с этого света на тот, а там, на небесах, он был твердо убежден, его сразу же встретит дева Мария, возложит ему на голову золотой венец героя.
Показался светловолосый загорелый юноша. Он бежал, держа высоко в руках глиняный горшок с огнем. Летты взволнованно, радостно зашумели.
Старый Вардеке взял горшок с огнем, подошел к куче хвороста, облитого смолой, и разбил горшок о стену церкви. Пламя занялось сразу, как огнекрылый голодный дракон.
– Славно горит дом тевтонских псов! – закричал Вардеке. Летты, мужчины, женщины и дети, взялись за руки и, распевая песни, начали танцевать напротив церкви. Пламя освещало их возбужденные лица.
Потом шумной гурьбой они побежали к озеру, бросались в воду, с головой погружаясь в ее чистую голубизну.
– Смывайте тевтонское крещение! – неистовствовал старый Вардеке, черпая воду ладонями и поливая свою седую голову.
«Боже, почему ты не ударишь сейчас с небес огненной стрелой? – кусая губы, почти теряя сознание, думал Генрих. – Почему не превратишь озерную воду в серу и кипящую смолу?»
Жар от огромного костра был такой нестерпимый, что у Генриха на щеках вскочили пузыри, затрещали волосы. Он зажмурил глаза, боясь, что они лопнут, вытекут от близости огня, – не хотел, отправившись на тот свет, встретить там деву Марию слепым.
Летты, отойдя от костра, обсуждали, как наказать заморского священника.
– В нем – нечистая сила, – показывая пальцем на Генриха, корчившегося от жара, говорил старый лысый летт. – Таких убивают рябиновым колом. Надо вырубить в лесу кол в рост безвременно умершего мальчика и бить нечистика перед самым наступлением поры привидений, когда куры садятся на насест.
– Я знаю, как наказать его, – с глубокой печалью в голосе проговорил Вардеке. Все обернулись к нему. После смерти любимой внучки он резко постарел – волосы совсем побелели, щеки запали, трясущиеся руки не находили места, и только в глазах оставалась прежняя сила. Глаза были словно твердые острые кремни.
Вардеке подошел к Генриху, отвязал его от дерева и продолжил свою речь:
– Он – летт, его родители были леттами. Несмышленым сосунком его увезли за море, научили чужому языку, чужой вере. Потом он вернулся, чтобы и нас, земляков своих, перевести в тевтонскую веру, заставить кланяться своему богу, будто у нас, леттов, нет Праматери Жизни и Смерти, Праматери Земли и Воды.
Летты одобрительно зашумели. Мечи и копья поднялись над головами.
– Но в каждой речке, высыхающей от зноя, на дне остается хоть капелька воды. В душе каждого вероотступника, изменившего памяти своих предков, остается хоть одна жгучая слеза, которой он тайком от всех, даже от самого себя, оплакивает свой грех.
Вардеке испытующе глянул на Генриха и продолжал:
– Ты – Пайке. Голосом Мораны мы думали разбудить струны твоей души. Но там, в Тевтонии, ты оглох.
И все-таки ты Пайке. Запомни это. Сейчас я покажу тебе могилы твоих родителей, и там, у этих могил, ты умрешь. Мы закопаем тебя рядом с твоими отцом и матерью – и ты вернешься к ним. Огромное счастье – после пыли и пота земных суровых дорог вернуться к своим.
– Не хочу! – закричал Генрих по-латыни, но его не поняли, и он закричал по-леттски: – Не хочу! Я – тевтон! Я – Генрих, а не Пайке!
Он упал на землю, впился пальцами в сухие комья. Множество сильных мужских рук схватило и подняло его, и летты понесли его на могильник предков.
Небо плыло над Генрихом. Тучи и облака, птицы и солнечные лучи, дым от горящей церкви – все сплелось, связалось в один клубок, все двигалось, текло, летело. Не было спасения от этого неба. Он зажмурил глаза, но они сами открывались, и снова он видел беспощадно-бесконечную синеву.
– Вот могилы твоих родителей… Смотри на них, – сказал старый Вардеке.
Генриха поставили на ноги. Шумело в голове. Саднили обожженные щеки.
Два маленьких травянистых холмика увидел он. Два холмика… И все…
– Твой отец был отважным воином, – сухим голосом говорил старый Вардеке. – Твоя мать так хорошо пела наши песни…
«Боже, – молил Генрих, – преврати в пепел, в горькую пыль всех этих людей… Я – твой раб. Тебе вручаю свою душу».
Могильник был на высоком песчаном пригорке. Рядом густо шумела священная березовая роща. Всюду чернели следы поминальных костров.
Генрих в отчаянии бросил последний взгляд на небо, на недосягаемый горизонт, прощаясь с жизнью, и вдруг горячая волна ударила в сердце, перехватило дыхание, мягкими стали ноги. Из реденького соснового леска, росшего неподалеку, выкатывался, поблескивая на солнце, неутомимо приближался тяжелый кавалерийский гуф. Рыцарские кони шли рысью. «Меченосцы!»
Жажда жизни, которая, казалось, уже угасла в Генрихе, с необыкновенной силой вспыхнула в крови. «Жить! Только жить! Бог услышал и послал спасение!»
Летты еще не видели меченосцев. Их взгляды были направлены на могилы, и Генрих понял, что ему надо делать, чтобы спасти жизнь. Он упал на колени, схватил с могилы горсть песка, посыпал голову. Это, конечно же, понравилось леттам – вероотступник на глазах у них раскаивался, карал сам себя. Они плотнее сгрудились вокруг Генриха. «Только смотрите на меня… На меня», – как молитву, как заклинание, повторял он одно и то же в горячечных мыслях.
Он посыпал песком голову, а меченосцы тем временем приближались. Гуф раскололся, разломался на две половины, охватившие, словно железные крылья, могильник с двух сторон.
– Праматерь Жизни и Памяти вернулась к отступнику, – мягким голосом начал было свою речь старый Вардеке и вдруг закричал: – Тевтоны!
Будто вихрь налетел на могильник. Летты бросились врассыпную. Некоторые прятались между холмиками. Страх туманил всем головы.
– Бегите в священную рощу! В священную рощу! – крикнул Вардеке. – Кони не пройдут между деревьями, и меченосцам придется спешиться!
Однако нападение было таким внезапным, рыцари неслись такой лавиной, так грозно всхрапывали их укрытые кольчугами кони, что летты не смогли оказать никакого сопротивления. Большинство из тех, что хотели спастись в священной роще, не добежали до нее. Все они полегли на зеленом лугу перед рощей под тяжелыми пиками рыцарей, под ударами конских копыт.
Меченосцы рубили, кололи и топтали леттов молча. Слышался только острый свист мечей, глухо звенело железо, кто-то слабо ойкал и затихал навеки, да время от времени взлетал над кровавым побоищем трубный клич комтура:
– Братья, с нами бог!
И меченосцы с еще большей яростью начинали взмахивать мечами. Их белые плащи были забрызганы кровью, а они все рубили и рубили…
Не жалели ни того, кто бился против них, как тур, ни того, кто былинкой падал на колени, целовал конские копыта, просил сохранить, не отнимать жизнь. Это был кровавый танец смерти, где, как орех, раскалывались черепа, где глаза выскакивали из глазниц, где через разодранную рубаху и разрубленную грудную клетку можно было увидеть, как все еще бьется, все еще трепещет красной птицей сердце убитого.
Старый Вардеке и несколько молодых леттов все-таки прорвались в священную рощу. Там, где березы росли особенно тесно, они стали кольцом и встретили спешившихся меченосцев ударами коротких копий и ножей, дубинами и камнями. Рыцарям трудно было развернуться в чаще. Они привыкли нападать в чистом поле, где можно маневрировать на конях, а тут надо было драться между деревьями и в пешем строю. Неохотно пошли меченосцы в атаку и сразу же потеряли Иоганна и Филиппа Желтого, которым летты вспороли животы.
Комтур внимательно следил за поединком в священной роще. Как только начался бой, комтур отобрал пять рыцарей и приказал им окружить воткнутое в землю рыцарское знамя и охранять его. Как бы ни складывался бой, их долг – стоять у знамени. Сам комтур держал в руках обернутое вокруг копья запасное знамя.
Боевое знамя – рыцарская святыня. Даже тяжело раненный рыцарь не имеет права покинуть знамя. Пока вьется знамя, рыцарь должен находиться на поле боя, а если утеряно свое знамя, он обязан примкнуть сразу же к другому христианскому знамени.
Упал еще один меченосец. Вардеке проломил ему переносицу камнем из веревочной пращи.
– Слишком много рыцарской крови, – недовольный, отметил комтур и скомандовал: – Трубачи, сыграйте рыцарям отход!
Запели серебряные трубы, и рыцари отхлынули из священной рощи. Их место заняли кнехты-арбалетчики. Окружив леттов, они начали расстреливать их в упор длинными бронебойными стрелами. Напрасно пытались летты спрятаться за священными березами – стрелы, летевшие со всех сторон смертоносным роем, находили их повсюду.
– Мы победили, комтур! Язычники уничтожены! – весело крикнул рыцарь Викберт, вытирая меч о зеленую траву.
Все это время Генрих стоял на коленях, страстно молился богу, благодаря его за счастливое избавление от неизбежной, казалось, смерти. Еще он молился покровителю всех рыцарских орденов святому Георгию. Если бы не меченосцы, братья святой Марии, шел бы он теперь по небесам, но поскольку он был молод, в жилах его текла горячая кровь, ему хотелось побродить еще по этой грешной земле, и он благодарил в своей молитве меченосцев, совсем забыв, что они враги рижской церкви и епископа Альберта.
Наконец Генриха заметил рыцарь Викберт. Сначала он решил, что это один из леттов прячется от божьей кары, и вытащил из ножен меч, старательно вычищенный о траву и песок, чтобы снова дать ему работу. Викберт на тяжелом боевом коне подъехал вплотную к Генриху, хмуря светлые брови, с ненавистью взглянул на него, но вдруг узнал имерского священника и радостно воскликнул:
– Ты жив, святой отец? Язычники не поджарили тебя?
– Жив, – ответил Генрих и вскочил на ноги.
Комтур ласково встретил Генриха, приказал накормить его, угостить вином. В это время рыцари носились на конях по всем окрестностям за женщинами и детьми, сгоняя их к церковному пепелищу. Сюда же гнали и скот. Комтур был доволен – немалая добыча попала в руки ордену.
С радостью и облегчением Генрих узнал, что монахиня Эльза, княжна Софья и церковные служки живы. Бесстрашной монахине удалось вывести их в лес, и они переждали беду под огромным выворотнем старой сосны.
Генриху не терпелось взглянуть на кукейносскую княжну. Ее привели. Бледная, испуганная, она снизу вверх посмотрела на Генриха и вдруг всхлипнула, прижалась к нему. Монахиня Эльза окинула всех многозначительным взглядом, улыбнувшись уголками сухих губ.
– Дитя мое, – взволнованно сказал Генрих, – бог вырвал тебя из кровавых лап язычников. Молись богу. Молись нашей всесильной церкви.
Он легонько нажал на худенькие плечи княжны, и она послушно опустилась на колени, ломким от волнения голоском начала молиться. «Одно мое дитя, имерская церковь, сгорело, превратилось в пепел, – думал Генрих, глядя на склоненную светловолосую головку. – Но у меня осталось еще одно дитя, духовное, вот эта кукейносская княжна. Она вырастет настоящей тевтонкой, верной дочерью римской церкви. Я вырву чертополох из этой юной доверчивой души и посажу в ней цветущий божий сад».
Меченосцы подожгли все окрестные леттские селения, согнали в огромное стадо пленных и скот и двинулись с богатой добычей в Венден. Генрих в последний раз взглянул на тлеющие остатки церкви, на берег озера, где торчал пень от срубленного священного ясеня, и сердце его печально встрепенулось. Тут прошла частичка его жизни, которая уже никогда не повторится. Он вспоминал грозовую ночь, бурю на озере, огни во тьме, легкую белую фигурку и крик-плач: «Пайке! Пайке!» Неужели это было с ним? Неужели это он, а не кто-то другой стоял в глухом мраке, прижавшись к ясеню, сжимая меч, а белая фигура подплывала все ближе?
Вспомнились ему и небольшие травянистые холмики на могильнике леттов – могилы его родителей. Какой была с лица его мать? Серые или синие глаза были у нее? Неужели она любила петь леттские песни?
Судорога пробежала по его лицу, глаза заблестели. Он глухо вскрикнул и вдруг… укусил себя за руку. На белой коже остались следы зубов. Монахиня Эльза, сидевшая рядом в повозке, испуганно спросила:
– Что с тобой, святой отец?
– Злых духов отгоняю, – попробовал улыбнуться Генрих, но улыбка вышла вымученная, грустная и растерянная.
Между тем комтур приказал устроить привал, и не ради рыцарей – они ехали на конях, – а ради пленных леттских женщин с детьми, идущих пешком, некоторые падали от нечеловеческой усталости. Комтур жалел не их, он жалел товар, которым они были.
Наконец попалось удобное место для походного лагеря – по широкому зеленому лугу протекал чистый звонкий ручей, рядом был небольшой лесок, где можно было заготовить дрова для костров. В первую очередь огородили веревками место для молельни, потом поставили палатку для комтура и палатку для трапез. Когда это было сделано, раздался голос комтура:
– Размещайтесь, братья, во имя господа! Рыцари вместе с кнехтами и оруженосцами начали ставить палатки для себя. Никто не имел права удаляться от лагеря на такое расстояние, откуда не был слышен его голос. Из двух оруженосцев, имевшихся у каждого рыцаря, один должен был всегда находиться рядом с рыцарем, в то время как другой обязан был искать топливо и фураж для коня.
Во время дальних походов рыцари придерживались строжайшей дисциплины. Никто не имел права брать с собой женщин. У нарушителя отбирали походную амуницию. Женщин же вообще не жалели – обрезали им носы.
Оруженосцы и кнехты, случалось, дрались между собой за лучшие места для палаток. Рыцари, увидев такую драку, обязаны были надеть латы и разогнать забияк, но не мечами, а длинными палками.
Капеллан отправил вечернюю мессу. Походный колокол, висевший на месте рядом с палаткой комтура, дал сигнал – три коротких удара, – чтобы братья-рыцари вместе со всем войском ложились спать. Лагерь затихал. Тихо было и там, где сидели или лежали на голой земле пленные женщины и дети. Но нет-нет да слышался оттуда плач, безутешный, горький. Полоска вечерней зари, словно красный кровавый меч, алела над землей.
Комтур выделил для Генриха и его людей две палатки. В одной разместился сам Генрих с тремя церковными служками, в другой улеглись монахиня Эльза с княжной Софьей.
Генрих никак не мог успокоиться после всех ужасов минувшей ночи, после леттского могильника, где он чуть не распрощался с жизнью. Во всем теле он ощущал противную нервную дрожь. Дрожали пальцы рук и даже ног. «Не дай бог начнутся пляски святого Витта», – испугался Генрих.
Служки, заметив, что молодой священник почернел, как земля, побежали в лагерь рыцарей искать лекаря. Найти лекаря им не удалось, но вместе с ними пришел рыцарь Викберт. Он сел на край медвежьей шкуры, где лежал Генрих, и приказал служкам:
– Пойдите на улицу, посмотрите на звезды. Недовольные служки хотели было что-то возразить, но Викберт сжал кулаки и рявкнул:
– Вон отсюда, черви!
Тех словно ветром выдуло из палатки. Генрих, закашлявшись, хотел вступиться за служек, да не было сил на споры, и он лежал молча, глядел на Викберта, на его крепкую обветренную шею. Еще совсем недавно в трапезной меченосцев видел Генрих униженного, ничтожного, слабого Викберта. Тот Викберт сидел в черном плаще на охапке грязной соломы и ел деревянной ложкой из деревянной миски постную гороховую кашу – пищу трусов. Сегодняшний Викберт отличался от того, который ютился на соломе, как небо от земли. На Викберте был богатый, из синего сукна, камзол с украшенными фестонами воротником и манжетами. На голове – заломленная набекрень бархатная шапочка с серым журавлиным пером. Черные глаза Викберта смотрели твердо и решительно.
– Не хотел гроссмейстер Венна посылать рыцарей на Имеру, – не понижая голоса, говорил с мрачной улыбкой Викберт. – Но братья-рыцари не согласились с ним. И я выступил против. Тогда он послал комтура Бертольда, а сам все равно в поход не пошел.
Викберт помолчал, видимо, ожидая ответа Генриха. Но тот бессильно лежал на старой медвежьей шкуре, и тогда Викберт порывисто схватил его за руку, забубнил ему на ухо:
– Поддержит ли меня рижская церковь, если я убью паршивого пса Венна? Скажи – поддержит?
– Наша церковь всегда поддерживает человеческие дела, идущие на пользу господу, – уклоняясь от прямого ответа, тихо проговорил Генрих. Жизнь уже научила его не спешить в словах. «Опережай врага в делах, а не в словах», – вспомнил он предостережение епископа Альберта.
– У меня есть люди, – решительно продолжал Викберт. – Много людей. – Он крепко сжал боевой топор, который всегда носил на поясе.
– Терпение, сын мой, и осторожность – вот что всегда кует победу, – мягким голосом сказал Генрих. – А теперь иди спать. И я лягу, силы совсем оставили меня.
– Я должен победить! – сорвал с головы бархатную шапочку Викберт. – Победить или погибнуть!
Подхваченный пьянящей и яростной силой, Викберт выбежал из палатки. Сгустившийся мрак обступал его со всех сторон. Недалеко от палатки смирными покорными овцами толпились служки Генриха.
– Идите спать, – весело бросил им Викберт и стремительно зашагал по лагерю. Желание действовать, что-нибудь ломать, разрушать, а может, и что-нибудь строить обжигало душу. Казалось, он смог бы подпрыгнуть высоко-высоко над лагерем, дотронуться до звезды, теплой и шероховатой, повесить эту звезду себе на пояс и оттуда, с овеянной ветром головокружительной высоты, вернуться назад, удариться о землю и войти в нее по самые колени. Сила бушевала в нем, наполняла теплом и светом каждую жилку, каждую косточку, требовала и искала выхода.
Викберт остановился. Из маленького шелкового мешочка, всегда висевшего на серебряной цепочке у него на груди рядом с нательным крестом, он достал круглую теплую горошинку, положил ее себе на ладонь. Горошинка светилась, будто наполненная солнечными искристыми лучами. Он взял ее в рот, подержал на языке, чувствуя приятную горечь, и проглотил.
Такие горошинки давали силу и радость. Их продавал ему за серебряные динарии рижский купец Карл; с шестью своими сыновьями он плавал в дальние теплые моря, привозил оттуда перец и слоновьи бивни, много всякого удивительного добра и таинственные горошины, которые там, в жарких странах, делают из белого сока неведомых трав. «Травы те растут в раю, – пояснял Карл. – Сам бог посеял их там, чтобы истинные христиане, попав в рай, могли, попробовав их волшебного сока, хоть на миг почувствовать себя всемогущими богами».
.Викберт не пошел в свою палатку, а, прокравшись между часовыми, оказался в темном пустынном поле. Он даже полз по земле, чтобы стража не заметила его. Да как она могла его заметить, если в эти мгновения он чувствовал себя мудрой ловкой змеей, способной пробраться в малейшую щель?
Огромный валун белел в сумраке. Викберт присел на него, подставил ветру лицо, глянул на широкое безбрежное небо и замер. Небо казалось ласковым черным бархатом, с нашитыми на него бессчетными бриллиантами и бриллиантиками. Небо казалось большим крылатым парусом. Какая сила движет, гонит вперед сквозь года и столетия этот парус?
Под плавное течение ночи, под серебряное мерцание звезд хорошо думалось, хорошо вспоминалось. Викберт вспомнил свою родину – маленький городок Зест в Вестфалий. Отец его был обедневшим рыцарем, в крестовом походе потерял ногу. До семи лет маленький Викберт воспитывался дома, потом, как и всех рыцарских детей, его привезли в замок сеньора, где до четырнадцати лет он был пажем. Каждый день его учили верности религии, светскому этикету и семи рыцарским добродетелям:
верховой езде, фехтованию, умению владеть копьем, плаванью, охоте, игре в шашки, сложению стихов и пению их в честь Дамы сердца.
Потом, когда ему исполнилось двадцать лет, произошла церемония «рыцарского удара» – день посвящения в рыцари. Он стоял на коленях рядом со своими друзьями, а красавица-королева, жена Филиппа Швабского, взяла в белые руки меч, легонько стукнула им каждого по плечу и сказала: «Стерпи этот удар ради господа бога и святой Марии, но больше никому и никогда не прощай ни одного удара». Им повязали рыцарские пояса, вручили золотые шпоры, и они стали рыцарями. Надев латы, вскочив на закованных в сталь коней, они сразу же ринулись на ристалище перед королевским дворцом, где шумел и гремел турнирный бой.
Тогда он думал, что рыцари – это венец природы. Они казались ему солью всего живого. Бог захотел создать настоящего мужчину, властелина мира, и создал рыцаря. Недаром все юноши, даже сыновья крестьян и ремесленников, так стремятся стать рыцарями. Но того, кто, будто дождевой червь, всю жизнь ковыряется в земле, нельзя посвятить в рыцари, как нельзя в светлое воскресенье освятить вместо барана козлятину, ибо сразу же превратится его щит в отвал плуга, меч – в лемех, рыцарский шелковый кошелек – в лубяной короб, а галун на поясе – в льняной мешок, из которого кормят лошадей.
Меч на перевязи может носить только рыцарь. Купцы же и горожане должны подвешивать его к седлу.
Главное, что вело Викберта по жизненной дороге, – это поиски приключений. Если бы он не был рыцарем, он обязательно стал бы вагантом, которые ходят из города в город, поют на площадях, во дворцах баронов и графов, в сельских корчмах. Сколько хмельной радости в их песнях, как славят они женщину, ее красоту!
В конце концов судьба привела Викберта в Ливонию, в войско меченосцев, братьев святой девы Марии. Хватало работы его мечу, хватало и приключений, но сразу же не сложились отношения у Викберта с гроссмейстером Венна. Бывают люди, с которыми тяжело, невозможно дышать одним воздухом. Бог для каждого человека создает не только друзей, но и врагов. Такими врагами стали Викберт и Венна.
Все началось с похода на эстов. Поход был удачный, сожгли пять селений, «осеков», как называют их сами эсты, взяли много пленных и скота. Пленных обычно продавали в Ригу – нельзя божьему ордену иметь рабов, а тем более молодых рабынь. Но Венна оставил себе трех самых красивых эсток, и Викберт случайно увидел, как перед сном одна невольница чесала гроссмейстеру голову, другая пятки, а третья, стоя перед своим властелином на коленях, кормила его из серебряной ложечки шмелиным медом.
Злость затуманила Викберту голову. Чем он, Викберт, хуже гроссмейстера? Этому еловому чурбану позволено все, а они, братья-рыцари, должны поститься? Он начал подговаривать меченосцев против гроссмейстера, но не рассчитал свои силы. Венна донесли верные ему люди, и гроссмейстер, обвинив Викберта в трусости, отобрал у него белый рыцарский плащ, посадил в орденскую тюрьму. В тюрьме его, правда, продержали недолго, но с того времени началась между ним и гроссмейстером настоящая война.
Во все походы начал гнать гроссмейстер Викберта с тайной надеждой, что тот напорется на меч или копье язычников. Смерть пока обходила Викберта, и тогда Венна решил выгнать его из ордена, лишив рыцарского звания. За большие деньги нашлись люди, которые показали, что Викберт никакой не рыцарь, что его отец торговал в Саксонии зерном. Оскорбительное, страшное наказание ждало Викберта. Как только вернутся меченосцы в Венден, его посадят на кучу мусора и палач собьет с него золотые шпоры – знак принадлежности к рыцарству. А разве можно жить на свете и не быть рыцарем?
В глухом ночном мраке Викберт сидел на холодном валуне и сам был похож на валун. О, как хочется мстить! Вся надежда на Ригу, на епископа Альберта. Он, как и Викберт, лютый враг Венна, он должен помочь. Имерский священник Генрих тоже может понадобиться, как узнал Викберт, он любимый ученик епископа. Надо ждать. Надо терпеливо приближать день отмщения.
Викберт поднялся с валуна, глухо рассмеялся. Смех его был похож на крик ночной совы. «Я убью Венна, – подумал он, – и сам стану великим магистром. Я поведу братьев-рыцарей к великим победам, которых еще не знал Орден».
Из шелкового мешочка Викберт осторожно достал еще одну горошинку, проглотил ее, начал ждать, когда в сердце вернутся радость и бодрость. Они всегда приходят внезапно, словно в душе зажигается негасимая божья свеча. Вот сейчас… Сейчас…
– Слушайте, небеса! – закричал он, вскочив на валун и простирая в сумрак руки. – Я – гроссмейстер Викберт!
В эти самые минуты Генрих, лежа в своей палатке, думал о Викберте. Бог или дьявол руководит им? В этом рыцаре чувствуется сила, дикая, неотшлифованная, разрушительная. Хорошо, что Викберт – враг Венна, очень хорошо…
Через три дня похода увидели башни Вендена. Меченосцы обрадованно пришпорили своих коней, с воодушевлением запели святые псалмы.
Генрих чуть-чуть передохнул с дороги и сразу же отправился в Ригу. Как он успел узнать, великого магистра Венна не было в Вендене – простудившись в предыдущем походе, он лечился в своем рижском доме.
Под вечер вместе со своими спутниками Генрих подъехал к Риге. Перед самыми городскими воротами, подняв облако серой пыли, его обогнал Викберт в сопровождении двух оруженосцев. Глаза у рыцаря были сурово прищурены, словно их обжигал, слепил беспощадный огонь.
Альберт встретил Генриха, как родного сына. Обнял, поцеловал.
– С плохими новостями вернулся я к тебе, монсиньор, – покорно и печально склонил голову Генрих. – На месте моей церкви белеет горький пепел. Язычники в слепом бешенстве сожгли ее.
– Крепись, сын мой, – ровным голосом ответил епископ. – Мы выбьем ядовитый зуб у дьявола, выломаем его с большой кровью. Пока – отдыхай. И не забывай про хронику Ливонии.
Снова Генрих оказался в Риге, снова он жил в доме епископа, ночи напролет отдавая заветному пергаменту. Это было величайшим наслаждением – сидеть в густой ночной тишине, писать и писать, забыв об усталости, чувствуя свое единение с богом и вечностью.
После ночных трудов Генрих спал чуть ли не до обеда, потом вставал, молился богу и шел на встречу с кукейносской княжной Софьей, которая жила с монахиней Эльзой в небольшой комнатке на втором этаже. Тут ожидала его мягкая детская душа, засеваемая им с большим терпением и усердием зернами истинной веры. Душа кукейносской княжны была тем полем, на котором он, не жалея себя, воевал с ее отцом, упрямым врагом рижской церкви Вячкой, и надеялся одержать победу в этом поединке.
Однажды, когда Генрих был в читальне Альберта и вел беседу с епископом, вошел немой Иммануил и знаками передал Альберту какую-то новость, поразившую епископа. Не дожидаясь, пока слуга выйдет из читальни, Альберт взволнованно сообщил Генриху:
– Викберт сдержал слово – он только что убил великого магистра Венна и священника Иоанна. Топором отрубил им головы.
Альберт опустился на колени перед распятием, начал молиться.
– Монсиньор, где же теперь рыцарь Викберт? – почувствовав, как тревожно встрепенулось сердце, спросил Генрих. Ему вспомнилась ночная палатка, бледное, перекошенное ненавистью лицо венденского рыцаря, когда тот вспоминал имя гроссмейстера Венна.
– Он укрылся в рыцарской капелле и через своих людей просит у нас помощи. Но вскоре меченосцы ворвутся в капеллу, схватят его, будут судить и четвертуют, – ответил Альберт.
Генрих вопрошающе взглянул на епископа.
– Так надо, сын мой, – выдержал его взгляд епископ. – Давай помолимся за душу раба божьего Викберта.
Глава пятая (часть I)
Над Кукейносом загоралось весеннее утро. Тот, кто не спал в этот час (а не спали вои-дозорные на заборолах), видел, как темное небо на востоке постепенно набухает капельками, крупицами света. Сначала это можно было принять за обман зрения, мелькание в глазах, появляющееся после бессонной ночи, когда долго и напряженно всматриваешься во тьму. Но край неба все больше розовел, наливался трепетным золотом цвета спелых ячменных колосьев. Выступали из мрака леса. Ночью они пугали, казались огромным черным войском, со всех сторон молчаливо подползающим к городскому валу. Но вот первый луч зари упал на макушку старой сосны – и засветились, запылали ветки, потом разбудил маленькую синеперую птичку, спавшую в глубоком уютном дупле. Когда-то в стволе был сук, да выпал, выкрошился, и птичка, склевывая тут жуков-короедов, обнаружила это дупло, свила в нем гнездо. Разбуженная лучом, птаха удивленно и радостно пискнула.
Где-то в глубине лесов проснулся ветер. Он сразу же рванулся ввысь, в небо, поднял над землей коричнево-желтые слоистые тучи, смешал их, сбил в кучу. Вспыхнула молния, чиркнуло в тучах кресало грома. Казалось, вот-вот прольется один из первых весенних дождей, но у туч не хватило сил на такую работу. Только несколько крупных и холодных капель сорвалось, слетело с небес.
Капля ударила Холодку, стоявшему на заборолах, по брови, потом мягко сползла на ресницы, но он даже не моргнул, только качнул головой, стряхивая каплю с ресниц. И с еще большим вниманием стал вглядываться в то, что мгновенье-другое назад его насторожило. Холодок со своим стягом стоял в третьей страже. В последнее время князь Вячка только ему доверял самые ответственные поручения.
Что же насторожило старшего дружинника? Ему показалось, что между деревьями, которыми густо поросли берега Двины там, где в нее впадает Кокна, мелькнули какие-то тени. Утро было еще такое несмелое, такое темное, что даже он, при его остром зрении, не смог определить, шевельнулись ли это ветки деревьев под порывом ветра, пробежал ли пугливый зверь или, может, промчались вооруженные всадники в черных плащах.
Холодок, не отрывая взгляда от леса, поднял руку в боевой перчатке, подзывая к себе кого-нибудь из дружинников. Подбежал светловолосый Грикша.
– Что ты видишь вон там, где над самой Двиной растет кривостволая сосна? – спросил у Грикши Холодок.
Младший дружинник Грикша внимательно глянул в ту сторону, долго присматривался, высунув кончик влажного розового языка, наконец покачал головой:
– Ничего. Один туман вижу.
– Зажги походню, – приказал Холодок. Стуча сапогами по вымощенной камнем дорожке, Грикша побежал на свое дозорное место, выбил из кремня искру и зажег скрученные в клубок, облитые смолой сухие сосновые ветки, насаженные на длинный ореховый шест. Вспыхнуло яркое пламя, отблески от него заплясали на кольчуге Холодка, рядом с которым стоял, держа высоко в руке походню, Грикша.
– Меченосцы! – воскликнул Грикша и от неожиданности выпустил из руки факел. Тот упал с вала, внизу послышался всплеск воды. Снова стало темно, еще темнее, чем было до этого. Но и Холодок уже успел заметить большой отряд конных меченосцев, который неторопливо выезжал из леса, выливаясь на луг напротив подъемного моста Кукейноса.
– Рубон! – крикнул Холодок, со звоном выхватывая меч из ножен. И сразу ожила, застучала десятками ног, зазвенела мечами и копьями предрассветная мгла. Яростно залаяли сторожевые собаки. Повсюду вспыхнули факелы-походни. Грикша ударил в колокол.
– Всем на заборолы! – приказал Холодок, и те из дозорных, что спали в боевых отсеках, оборудованных в толще городского вала, просыпались, хватали оружие и щиты, по лестницам, по стволам суковатых деревьев, прислоненных к валу, взбирались наверх, туда, где гремел, созывая всех, тревожный голос колокола.
Кукейносские лучники уже натягивали тетивы своих луков, сделанных из рогов тура и тисового дерева. Закаленные стрелы со свистом полетели навстречу меченосцам. И тут вырвался вперед меченосец-герольд на белом коне, протрубил в серебряный рог и закричал:
– Слушайте, люди Кукейноса! Слушайте, отважные люди Кукейноса! Дочь вашего князя княжна Софья прибыла в свой город!
К герольду подъехал еще один меченосец в черной епанче, резким движением распахнул ее, и все, кто стоял на заборолах, увидели светловолосую девочку, сидевшую впереди меченосца, крепко ухватившись тонкими руками за конскую гриву. Она зажмурилась от неожиданности – свет ударил ей в глаза после тьмы, в которой она была под епанчой. На высоком городском валу громко вразнобой закричали люди, захлебываясь, залаяли собаки, зазвенели мечи.
– Софья, – удивленно и одновременно растерянно сказал Холодок, взглянув, словно ожидая помощи, на Грикшу. – Наша княжна. Что делать?
Кукейносские лучники перестали стрелять, хотя никто не отдавал такого приказа. Боялись попасть в княжну. Маленькая Софья была тем шитом, за которым прятался весь отряд меченосцев.
– Побегу к князю, а ты оставайся за меня, – строго сказал Грикше Холодок. – Подъемный мост не опускать, ворота не открывать. Полезут тевтоны на вал – бить, как псов.
Забросив за спину щит и засунув меч в ножны, Холодок торопливо спустился с вала. Тут, в городе, было темнее, чем на заборолах, – лучи солнца, выкатывавшегося из леса, еще не долетали сюда. Холодок побежал по узкой извилистой улочке к княжескому терему. «Беда подступила, – думал он, спеша сообщить князю новость. – Из-за дочери князь Вячка словно переродился. Не улыбнется, не поговорит толком с дружиной, меч Всеслава на стену повесил. Жалко, конечно, дочку. Родная кровь, родная душа. Да, взяли тевтоны князя за горло».
Холодок спешил к терему и не знал, что уже вторую ночь не спит Вячка, жжет в церкви свечи, один, без чужого глаза, молится, навсегда прощается с дочерью. Или дочь, или меч Всеслава – третьего пути не было. Захочет князь вернуть себе дочь, должен будет спрятать меч в ножны, смириться с тевтонами, пустить их на Двину, подставить шею под чужой хомут, а нет…
Вторую ночь князь прощался с Софьей. Трепетали огоньки свечей, будто настороженные желтые глаза глядели на него, пронизывая насквозь. Мрак, падая из-под купола церкви, наваливался на князя, давил, пригибал к каменным плитам. Князь стоял на коленях.
«Прости меня, доченька, прости, ласточка моя. Прости своему отцу, что не может освободить тебя из клетки злодея. Ножки и ручки твои целую. Прости».
Когда-то он ждал наследника, но родилась дочь, и он сразу же забыл про сына – такой светленькой, такой синеглазой, такой улыбчивой была дочка. Он брал на руки маленький теплый комочек, и руки, привыкшие к мечу и копью, делались мягкими, легкими.
«Прости меня, – прощался с дочерью Вячка. – Я твой отец, но ведь я и князь полоцкого рода. Землю, полученную в наследство от предков, надо от врагов защищать, веру нашу отстаивать. Прости, что выбрал землю и веру, а не тебя».
– Князь! – позвали вдруг его. – Князь! Вячка вскочил, как разъяренный тур, тяжело топнув ногой, закричал:
– Кто посмел нарушить мой разговор с богом? Шумно дыша, он искал рукой меч на поясе.
– Это я – твой старший дружинник, – дрогнувшим голосом сказал Холодок, приближаясь из тьмы.
– Пес! Голову отрублю! – взмахнул кулаком взбешенный Вячка.
– Бери мою голову, но сначала выслушай меня. – Холодок остановился напротив Вячки, глянул ему в лицо. – У городских ворот ждут твоего слова меченосцы. Они привезли княжну Софью.
– Привезли дочь? – Вячка недоумевающе смотрел на старшего дружинника. Лицо то бледнело, то краснело, словно то заходило, то всходило в душе его солнце. – Говоришь, привезли Софью? – еще раз переспросил он, потом левой рукой схватил старшего дружинника за ворот, сверкая глазами, прошептал: – Ну, Холодок, смотри, – если не к добру твоя весть, заберет тебя Карачун.
– Не боюсь я Карачуна, – тихо ответил Холодок и с каким-то сожалением взглянул на Вячку, будто прощался с ним навсегда.
Они выбежали из церкви на улицу, где уже ярко синело утреннее небо. Вячка бежал первым, придерживая рукой ножны с мечом.
– Я – князь Кукейноса Вячеслав Борисович! Что надо вам, люди из Риги?! – зычным голосом закричал Вячка, вскочив на самую высокую площадку надворотной башни. Ветер сразу же ударил ему в грудь, распахнул красное корзно, наброшенное на плечи. Сбоку казалось, что фигура князя охвачена пламенем.
Герольд-меченосец на белом коне снова затрубил в рог, рыцарь в епанче развел полы плаща, и все, в том числе и Вячка, увидели Софью.
– Я – рыцарь Даниил из Леневардена! – крикнул меченосец, положив руку на плечо девочки. – Привет тебе, князь Вячка из Кукейноса, от епископа Альберта!
Открой ворота, впусти нас в город и возьми свою дочь!
Взгляды всех – и меченосцев и воев-дозорных – скрестились на Вячке. Все ждали его слова. Ждали, как поступит князь.
Он снял с головы шлем, длинными смуглыми пальцами погладил лоб, закрыл глаза. Он мучительно раздумывал. Две силы, два чувства яростно боролись в нем.
Вдруг на площадку, где стоял князь, взбежал Холодок, бросился перед князем на колени, заговорил:
– Прикажи, князь, калеными стрелами заткнуть рты врагам нашим. Прикажи лить смолу на тевтонских псов. Слышишь – святая София в Полоцке колоколами гремит! Это наши прадеды в могилах переворачиваются, мечи ищут, чтобы ударить в грудь заморскому чуду-юду…
– Встань, Холодок, – тихо прервал его Вячка. Старший дружинник встал, с надеждой глядя на князя.
– Есть у тебя дети, Холодок? Нет? А у меня дочь. Вон она, – Вячка снял боевую перчатку, показал рукой вниз, туда, где рыцарь Даниил настороженно ждал ответа. – Иди, Холодок, к Климяте. Он пишет Полоцкую летопись. Пусть напишет там, что я, кукейносский князь, люблю свою землю, очень крепко люблю, голову за нее не раздумывая сложу. И пусть напишет еще, что я люблю также свою дочь. Земля, Холодок, будет пустой, ледяной, если нет на ней родной души. Пусть напишет в летописи, что я буду отвечать перед богом за все, что произойдет… Откройте ворота! Опустите мост!
Откинули железные брусья-засовы. С тяжелым скрипом опустился подъемный мост. Рыцарь Даниил смело направил на него коня. Холодок с глухим стоном вытащил из ножен меч и снова загнал его в ножны.
Тевтоны вереницей въезжали в город. Вои князя Вячки с ненавистью глядели на белые плащи с красными мечами и крестами, но молчали. Слышался только глухой перестук копыт.
Даниил подъехал к Вячке, слез с коня, сказал, поклонившись:
– Приветствую тебя и твой город, князь, от имени рижской церкви.
– Приветствую тебя, благородный рыцарь, – ровным спокойным голосом ответил Вячка. – Где же моя дочь?
– Княжна Софья под надежной охраной графа Пирмонта, – сообщил Даниил. Перед тем как въехать в Кукейнос, он передал девочку в руки графа.
– Не тот ли это Пирмонт, которого я отпустил живым, хотя мог бросить в Двину вместе с Братилой? – спросил Вячка.
– Тот самый, князь, – издалека поклонился князю Пирмонт.
– Не боишься в кожаном мешке, как Братило, на речное дно лечь?
– Не боюсь.
Вячка пристально взглянул на Пирмонта, потом повернулся к рыцарю Даниилу:
– Отдай мне дочь.
– Дочь я тебе отдам, князь, – снова поклонился рыцарь Даниил. – Но епископ Альберт желает, чтобы на том месте, где соседствуют наши земли, мы с тобой поцеловали на верность и дружбу святой крест.
– Ну что ж, тевтон, – согласился Вячка. – Поехали на то место. Пусть бог примирит нас.
– Не надо, князь! – сразу же раздался крик среди воев. – Не верь псам! Заманят тебя в клетку, как сокола, и сложишь голову в тевтонской темнице!
– Не надо ехать, князь Вячеслав, – со слезами на глазах попросил Холодок и стал на колени перед Вячкой. Его широкая, обвитая кольчугой спина вздрагивала.
Вячка молчал, глядел на своих воев, на город. Потом спросил рыцаря Даниила:
– Скажи, тевтон, а бог ваш хороший?
– Наш бог хороший, справедливый, – с достоинством ответил Даниил. – За нас, рабов своих, он принял святые раны.
Глаза у Даниила были большие, светлые, с колючей искринкой. Вячка посмотрел в эти глаза и приказал Холодку:
– Пусть отец Степан вынесет из церкви святой крест.
Пришел заспанный поп с крестом. Растерянно глядел он на князя, на меченосцев.
– Можешь ли ты, рыцарь, поцеловать святой крест и поклясться святым именем, что меня и мою дочь Софью сразу же отпустят назад после того, как на границе владений Риги и Кукейноса мы скрепим нашу дружбу и наше перемирие? – спросил Вячка у Даниила.
– Целую крест. Клянусь, – ответил Даниил и поцеловал крест.
– Все видели? Все слышали? – громко сказал Вячка. – И небо тоже видело. И небо тоже слышало. И бог знает обо всем. А вам, вои, – он низко поклонился, – спасибо за заботу обо мне. Всюду я бывал, из семи печей хлеб ел, много чего повидал и с божьей помощью думаю вернуться назад. Едем.
Стало так тихо, что слышно было, как на песок падают капли воды. Это скатывалась с крыш, с веток деревьев утренняя роса. Вячка легко сел на Печенега и, взяв с собой трех воев (первых, что попались на глаза), а также отца Степана с крестом, поехал впереди меченосцев навстречу своей судьбе. Никто из людей – ни те, что когда-то жили, ни те, что живут сегодня, – не знают, что сулит им судьба…
На берегу пограничной речушки слезли с коней. Рыцарь Даниил и князь Вячка опустились на колени. Клялись землей, водой и кровью. В костер, который быстро разложили меченосцы, бросили слепленные из земли небольшие шары. Перед этим поп Степан коротким кордом сделал надрез на большом пальце левой руки у князя и у рыцаря, каплями их крови окропил земляные шары.
– Мир земле, воде и человеческим душам, – сказал Вячка.
– Мир земле, воде и человеческим душам, – повторил Даниил.
И в этот же миг граф Пирмонт с перекошенным от ненависти лицом схватил заранее подготовленную полотняную торбу, в которую насыпают овес лошадям, подбежал сзади к Вячке, набросил ему на голову торбу и резким движением повалил князя на спину.
– Измена! – закричали кукейносские вои и тут же упали под ударами тевтонских мечей.
– Молодец, граф, – сказал Пирмонту Даниил, поднимаясь с земли. – Легко же мы с тобой поймали такого зверя.
Поп Степан стоял рядом. Крест дрожал в его руках. Глаза заливало холодным липким потом.
– Клятвоотступник! – тонким голосом вскричал поп. – Ты же целовал святой крест! Бог покарает тебя страшной карой!
Он замахнулся крестом на Даниила, но рыцарь ловким движением заломил ему руку.
– Где это ты видишь святой крест? Эти две железки, которые ты связал конским волосом? Он наступил ногой на крест, засмеялся:
– Вот и все. И нет твоего креста, дикарь. Истинный крест, единственный – в Риме. Запомни это навсегда. А сейчас я, рыцарь Даниил, дарю тебе жизнь. Иди, возвращайся в свой Кукейнос.
И тут Даниил вздрогнул, невольно сделал шаг назад – на его глазах длинные темные волосы отца Степана стали белыми, как январский снег.
Вячка лежал с торбой на голове. Руки и ноги его уже заковывали в кандалы.
Даниил, наступив на грудь князя правой ногой, торжественно объявил:
– Король Кукейноса, я, рыцарь Даниил из Леневардена, объявляю тебя своим пленником.
…Это уже когда-то было… Нога на груди… Лапа на груди… Это было так давно, что трудно поверить… Ему было семь солнцеворотов, он был еще не Вячка, а Вячечка. «Вячечка, – любуясь им, весело говорила мать-княгиня. – Вячечка! Солнышко ты мое!» Она выглядывала в окно терема, красивая, синеглазая, а он бегал по весеннему лугу, и каждый цветок, каждый мотылек были необыкновенной острой радостью, сладкой тайной. Из говорливых зеленых лесов, обступавших терем и луг, доносился неутомимый голос кокошки.
А потом была ночь, тишина… И вдруг дикий крик послышался в темном еловом лесу.
– Кто это? – вздрогнув, прижался к кормилице Маланке Вячка.
– Спи, детка. Это – оборотень.
Оборотень! Зверечеловек. Сын тьмы. Волчье лохматое туловище и человечья голова с пронзительными тоскливыми глазами. У него зелено-синяя шкура. Искры сыплются с этой шкуры, когда оборотень бешено мчится в ночном мраке. Мелькают черные леса, туманные болота. Там, где крепко стукнет о землю когтистая лапа, за ночь вырастут волчьи ягоды – черные, горько-кислые, с тягучей слизистой влагой, с маленькими камешками-зернышками внутри. До третьих петухов, до солнечного света может бегать оборотень. И он бежит, вспарывая ночную темень своим диким криком. Куда бежит? Зачем?
– Мне страшно, Маланка, – шептал мальчик.
– Спи, детка, – целовала, успокаивая его, кормилица. – Хочешь, сказку тебе расскажу? Слушай.
За бором высоким, За лесом далеким, В зеленой тине, В желтой глине Сидит черт-болотюк.Сколько страшных сказок знает старая кормилица! Сколько иголок впивается в сердце, когда слушаешь ее!
А потом снова была ночь и дикий крик в лесу. Вячка спал в светлице и вдруг проснулся. Поставив лапу ему на грудь, на него прямо в упор глядел оборотень. Искры сыпались со шкуры, пронзительно и тоскливо глядели большие умные глаза.
– Мама! – закричал мальчик и потерял сознание.
– Это же твоя собака была, твой Вьюн, – огорченно говорила наутро ему Маланка. – Приласкаться хотел к тебе… Камень на шею, и утопили собаку в Друти.
Нога на груди… Лапа на груди… Это уже было когда-то…
«Как я мог поверить им? – думал Вячка, лежа на земле с торбой на голове, в то время как меченосцы со смехом подкреплялись. – Видно, устал я. Решил немного передохнуть, собраться с силами, заключив перемирие. Помощи из Полоцка нет, князь Владимир Володарович никак не может примириться с вечем, которое то выгоняет его, то снова зовет на престол. Ливов епископ Альберт поставил на колени, платят ливы Риге церковную десятину. Старейшины леттов ждут, кто победит в борьбе за Двину. Новгород и Псков тоже ждут. Их купечеству даже выгодно, что тевтоны заткнули устье Двины. Они и без Двины могут обойтись – плывут по реке Великой, по Чудскому озеру, по реке Омовже, или, как ее называют эсты, Эмайыги – Матери Вод, и дальше, до самого Варяжского моря.
А Рига все крепнет. Плывут и плывут в нее пилигримы со всей Европы. На войну, в бой идут, как на праздник, распевая святые псалмы, надев самую дорогую одежду. За их спиной – Рим, папа Иннокентий, князья, бюргеры, купцы…»
В то же самое время, когда рыцарь Даниил, нарушив крестное целование, заковывал князя Вячку в кандалы, на одном из ливских городищ, чудом уцелевших в дремучих лесах, седой столетний старейшина гадал на огне и воде о судьбе, о будущем своего народа. «Вижу большую черную курицу, – шептал он пустым беззубым ртом. – Она выходит из морских волн. Она выше самой высокой сосны наших лесов. Вот приостановилась, села в песок, закудахтала… И несется… Не яйца выкатываются на песок, а тевтонские рыцари. Их не сосчитать! Их как песка на морском берегу! Горе ливам! Где наши боги? Где наши герои? Вижу берег… Туман… Чайки плачут… Шуршит песок в дюнах… Вижу мужчину и женщину… Детей нет… Кто это? Это – ливы. Это все, что осталось от многочисленного могучего народа. Горе ливам!» И седой старейшина потушил святой огонь, вылил святую воду и заплакал.
Князь Вячка не знал о гадании старого лива. Князь Вячка не плакал. На руках и ногах у него были железные кандалы. Он сидел в повозке на охапке мокрой травы. Его везли в Ригу.
Серое мокрое небо плыло над головой. Блестели латы и мечи кнехтов рыцаря Даниила, охранявших пленного. На мокром коне к Вячке подъехал граф Пирмонт, спросил:
– Может, князь хочет попить воды?
– Братило, твой сообщник, выпил всю воду в Двине, – ответил Вячка и умолк до самой Риги.
Его, закованного в цепи, везли по той самой земле, где он еще недавно с мечом в руке мчался на быстроногом боевом коне штурмовать Гольм и Ригу. «Почему тут, на этих берегах, много янтаря? – подумал вдруг пленник. – А, это слезы людей, иссушенных ветром и солнцем».
Снова ему припомнилось детство. Воспоминаниями о нем он защищал свою душу, отгораживал ее от скорби и унижения плена.
…Страшные сказки рассказывала кормилица Маланка. Склонялась над постелью мальчика и начинала, приглушая голос:
Придет Кокоть — Борода с локоть, А глаза по яблоку.– Кто такой Кокоть? – испуганно спрашивал шепотом Вячка, и сердце, казалось, вот-вот разорвется от предчувствия чего-то необычного, страшного, о чем он сейчас узнает.
– Спи… Не знаю, – тихо отвечала ему Маланка. – А завтра мы с тобой махалку сделаем, чтобы оборотень к терему не подбегал.
И утром, как только просыпался княжич, она находила старый треснувший горшок, насыпала в него горячих углей. Вячка привязывал к горшку веревку, и они, маленький мальчик и старая кормилица, ждали, как заговорщики, вечера, темноты. Потом Вячка, вздрагивая от нетерпения и волнения, выходил на темный пустынный двор, крепко сжимал в руке веревку и начинал широко размахивать своей махалкой-жаровней. Казалось, над землей со свистом проносится огненный лик страшилища. Однажды их за этим занятием застал князь Борис.
– Терем сжечь хотите? – грозно закричал он, крепкой отцовской рукой схватив Вячку за ухо.
– Мы оборотня отгоняем, – сморщился от боли Вячка.
– Оборотня? Какого еще оборотня? Это ты, трухлявая колода, учишь дитя?!
И князь не раздумывая отвесил старой кормилице звонкую оплеуху. Всю ночь Маланка проплакала, а потом выпила из небольшой баклажки хмельного меда с маком, разрумянилась, повеселела и доверчиво сказала Вячке:
– Хороший мед. Выпила, и словно святой боженька босиком по душе пробежал…
– Никакого оборотня нет, – на следующий день, смягчившись, учил князь Борис сына. – Не годится князю слушать байки смердов. Это они, темные смерды, выдумали оборотня.
Но Вячка твердо знал – оборотень есть! Это князь Всеслав Полоцкий, Всеслав Чародей, который некогда жил и воевал на этой земле, принимает облик оборотня и бегает всю ночь от Полоцка до Киева, от Двины до Варяжского моря, охраняет свою державу от чужаков. Пока бегает, пока не спит, пока кричит под небом оборотень – будут стоять на земле и Полоцк, и Друтеск, и Менск.
Однажды старший брат Вячки княжич Василько начал всем говорить, что его укусил в лесу оборотень.
Выскочил из-за куста, свалил с ног и хватанул зубами за левую пятку.
– Не верите? – спрашивал Василько у боярских дочек Василины и Доброславы. – Сейчас покажу.
Он показал девочкам пятку – на ней и в самом деле была небольшая кровавая ранка. Василина и Доброслава бледнели от страха.
– На меня теперь иной раз что-то находит, – таинственно шептал Василько. – Иду по терему или по лесу и вдруг чувствую, будто клыки у меня во рту вырастают, длиннющие когти на пальцах проклевываются, и так хочется завыть, закричать, кого-нибудь укусить…
Они шли луговой тропинкой недалеко от городского вала. Звенели пчелы, гудели шмели… Порхали стрекозы… После недавнего дождя по лугу были рассыпаны небольшие лужицы, словно кусочки голубого стекла…
Вдруг Василько грозно оскалил зубы, упал на землю и, став на четвереньки, залаял, завыл. Василина с Доброславой обомлели. Потом их отливали водой, а князь Борис собственноручно сек сына лозой по голому телу и приговаривал:
– Будешь врать? Будешь пугать боярских дочек? Признавайся – кто тебя укусил?
– Ой, тата, никто меня не кусал, – просил-молил Василько. – Это я на деревянный колышек пяткой наступил.
Шло лето за летом, подрастал Вячка и больше не боялся оборотня. Напротив – искал с ним встречи. Любил вскочить на коня и без седла мчаться в луга, на лесные поляны. Мрак стучался в грудь. Летучие мыши взвивались над головой. Испуганные зайцы и косули спасались кто как мог. Кипела над головой небесная синь. Вздрагивала земля. Слышалось, как бушует ветер в далеких лесах. А он мчался и мчался.
Он рос и начинал понимать свою землю, свой край, людей этого края. Трудолюбивый, мужественный, твердый народ видел он вокруг себя. Человек к человеку подбирался тут, как камешек к камешку. Нерушимой стеной вставал полоцкий люд на пути хищных тевтонов, пытавшихся черными гадюками проползти на восток по берегам Двины. И когда Вячке исполнилось шестнадцать солнцеворотов, поклялся он в Полоцке, в святой Софии, что до последнего дыхания будет защищать свою землю…
В Риге закованного Вячку повезли на епископское подворье. Вышли из капеллы Альберт и Генрих, и Альберт, внезапно побагровев, закричал кнехтам:
– Расковать!
Подбежал к князю, сам попробовал снять с него цепи, да железо есть железо, пришлось ждать кузнеца. Толстый неторопливый кузнец принес весь свой инструмент, мягким кулаком вытер блестевший от пота лоб и, ни разу не взглянув на Вячку, расковал его.
Кукейносского князя повели в епископские хоромы. Вячка растирал онемевшие от холодного железа руки, в которых, казалось, остановилась кровь. Он шел как во сне, как сквозь туман видел людей, винтовую лестницу перед собой, видел высокую дверь, на которой были вырезаны кресты и ангелы. Он видел, как немой слуга епископа неловко споткнулся на пороге, чуть не упал, и епископ так глянул на него, что тот побелел, пригнул голову.
Вячка сел на мягкий пуф. Альберт, Генрих и толмач Фредерик стояли напротив. Свечей не зажигали, яркий дневной свет широкими потоками врывался в комнату через окна, застекленные цветным венецианским стеклом. Только там, где на глухой стене висело распятие Христа в терновом венце, было мрачновато, туда не долетали солнечные лучи, расцвечивающие натертый воском до блеска дубовый пол.
– Рыцарь Даниил хуже язычника, – сказал епископ. – Он нарушил клятву, данную на святом кресте. Наш капитул накажет его. Мы отберем его лен, который вручила ему рижская церковь.
Генрих и Фредерик согласно кивнули головами. Вячка молчал.
– Король Кукейноса, видимо, устал? – подошел к Вячке Альберт и позвал: – Иммануил! На пороге появился немой служка.
– Где моя дочь? – глянул в серо-стальные глаза епископа Вячка. Это были первые его слова за долгое время плена.
– Пусть монахиня Эльза приведет княжну, – приказал Альберт Иммануилу.
Теперь уже Генрих почувствовал, как подступает к сердцу нестерпимое волнение. Скоро должны были привести Софью. Как она встретится с отцом? Как глянет на него? Что скажет?
Больше года выкорчевывал он, Генрих, из детской незрелой души валуны язычества, святым словом сдирал, выжигал из нее коросту кривичской речи. Не только о Софье думал, отдавая ей столько сил, времени, крови. О себе думал. Думал о том маленьком глупеньком летте, которого когда-то отвезли в Тевтонию и бросили, как в море, в иную жизнь, в иной язык. Слава богу, он не утонул, выплыл на поверхность, хоть и наглотался на первых порах горькой воды. Только нужно ли было спасаться в том море? Нужно ли было выплывать? Вот какие мысли терзали его в последнее время. Голоса мертвых леттов кричали в нем по ночам. Голос юной Убеле, погибшей от его меча, голос Вардеке. Надо ли было тогда выплывать? А не лучше ли было бы пойти на дно, навсегда оставшись маленьким леттом?
«Есть один бог, одна дева Мария, один язык – латынь, – горячо молился он, когда бессонница холодными пальцами хватала его за горло. – Все остальное – ненужное. Все остальное – от дьявола. Род людской только ослабляет себя, разбиваясь на племена, народы, языки. Только римский народ должен жить под солнцем, великий, неделимый римский народ».
Будет Софья такой, какую лепил он в своих ежедневных делах и мыслях, забудет язык кривичей, повернется всей душой, всем сердцем к римской церкви, как цветок к солнцу, – будет счастлив и он, Генрих из Леттии, и будет это оправданием его жизни, непростой и нелегкой.
Ввели Софью. Монахиня Эльза и аббатиса Марта стояли рядом с девочкой.
– Доченька моя, – порывисто поднялся Вячка. Софья взглянула на него, потом на аббатису Марту, на Генриха.
– Я твой отец, – подошел к ней, погладил мягкие светлые волосы Вячка. – Неужели ты не узнала меня? Неужели не помнишь?
Он с такой надеждой, с такой болью глядел на дочку, что у аббатисы Марты неожиданно увлажнились глаза. Генрих что-то шепнул Софье, и маленькая княжна, глядя мимо отца в узкое, освещенное желтыми солнечными лучами окно, сказала несколько непонятных слов.
Голос был ровный и сухой, будто деревянный.
– Что она говорит? – растерянно глянул на тевтона Вячка.
– Княжна Софья сказала, что она дочь апостольской римской церкви, – перевел Фредерик.
– Римской церкви? – удивился, побледнев, Вячка и даже отступил назад. – Но ведь она моя дочь. Моя! И покойницы княгини Звениславы. Может, она больна? Софья, Софьюшка! Я пришел за тобой. Вспомнила меня?
Он схватил бледную и тонкую ручку девочки, погладил ее, поцеловал. Княжна вдруг заплакала, серебряные ручейки слез неудержимо полились из глаз. Вздрагивая от рыданий, она заговорила:
– Тата, таточка, вот эта Эльза заставляет меня говорить так… Бьет меня…
– Я сверну тебе шею, черная сова! – рванулся Вячка к монахине.
Монахиню с аббатисой словно ветром вымело из епископских апартаментов.
– Выведите княжну! – закричал служкам Альберт, топая ногами. Те испуганно подхватили под руки Софью и исчезли за дверью. Воцарилась тишина, холодная, гневная. И вдруг раздался веселый смех. Епископ недоумевающе оглянулся и спросил у Генриха:
– Что с тобой, сын мой?
Генрих продолжал смеяться, не в силах справиться с собой. Он подошел к окну, оперся о свинцовый подоконник, и было видно, как ходят ходуном плечи, как судорожно закидывается голова. Мучительная болезненность ощущалась во всем этом.
– Иммануил, принеси воды! – вконец подавленный происшедшим, приказал епископ.
Вторую седмицу был Вячка в Риге. На пасху Альберт щедро угощал кукейносского князя. Через день к Вячке приводили дочь, но только на одно мгновенье и сразу же забирали в монастырь. Чаще встречался с князем Генрих. Приходил, вел беседы о любви к ближнему, о великих милостях, которыми бог осыпает своих верных сыновей. Вячка молча смотрел, как он размеренными шагами без устали расхаживает по светлице.
«Как я мог поверить им? – думал Вячка бессонными ночами. – Попал, как пчела в клюв к желне».
Про желну он вспомнил только теперь, в плену. В хвойных лесах, в дуплах, высоко над землей гнездится этот лютый враг трудолюбивых бортных пчел. Оперение У желны черное, только верх головки ярко-красный. Резко, отрывисто кричит она в лесном мраке: «Кнай-кнай-кнай!» – и летает, ищет дупла доверчивых пчел. Цветом перьев, хищной повадкой и голосом желна всегда напоминала Вячке меченосцев. Мальчонкой он бродил по лесу с самодельным луком, хотел подстеречь желну, когда она нападет на пчел, и убить ее. «Не подбил я за свою жизнь ни одной желны», – с тоской думал теперь князь.
Прошла пасха, и Альберт повел свое войско на юг от Риги. Вскоре в город пригнали толпу измученных дорогой пленных пруссов. Это были высокие светловолосые люди с крупными прямыми носами. Их сразу же заставили работать на строительстве городской стены. Под присмотром епископских латников пруссы копали ямы, разбивали валуны, месили глину, сплавляли по Двине плоты. Один из них, свалившись со стены, сломал ногу. Ногу ему вылечили, и Альберт приставил прусса слугой к пленному кукейносскому князю.
Сначала они никак не могли понять друг друга – пленный полочанин и пленный прусс. Молчали, раздумывая каждый о своем. Но неволя сближает даже самых разных людей, и постепенно они открылись друг другу, и оказалось, что в речи прусса и полочанина немало похожих слов.
– Я жил на берегу моря, – медленно, чтобы Вячка его понял, говорил прусс. – Имя мое тебе, князь, знать не нужно. Зови меня Пруссом. У меня были жена Дануте и трое детей. Пришли псы из Риги, и моя семья, как и все наши соседи, спряталась в земляной пещере, под корнями священного дуба. Но рижские псы разожгли огромный костер у входа в пещеру. Они бросали в огонь еловые лапки, мухоморы, шишки, мох… Дым убил всех. Я даже не увидел трупы своих детей и жены… Боже, как я хочу отомстить тевтонам!
– Я тоже этого хочу, Прусс, – доверился ему Вячка. – Давай вместе думать, как нам быть.
– Хорошо, князь, – сразу же согласился Прусс. – Мы не сможем справиться с тевтонами силой. Нас только двое, и мы в плену… Только ум и хитрость нам помогут. А хитрости будем учиться у врагов.
После этого разговора Вячка долго не мог заснуть. Он целиком был согласен с Пруссом. Да, тевтоны берут хитростью. А еще – своей дисциплиной, организованностью. Уж как, казалось бы, враждуют меченосцы с епископом Альбертом, готовы сожрать его, как пожирают друг друга пауки в банке, а увидели, догадались, что князь Кукейноса точит на них меч, и сразу отбросили свои обиды, объединились с Альбертом, и вот он, Вячка, гниет в тевтонской темнице. Как не хватает полочанам, новгородцам, эстам, ливам, пруссам такого согласия, единения в смертный час. Каждый князь, каждый боярин и старейшина дальше своего терема, своей усадьбы ничего не хотят видеть, только о власти, о казне думают. «Я – князь. Ни один листок в моих лесах не шелохнется без моего разрешения». Вот о чем думают, о чем мечтают они и днем и ночью. А надо объединять силы. Надо, чтобы на Двине встретил тевтонов могучий железный кулак, иначе наделают тевтоны дудок из наших костей.
Как слуга пленного кукейносского князя Прусс мог выходить из темницы в город. Он прислушивался, о чем говорят между собой тевтоны, выслеживал, выглядывал все вокруг. Особенно интересовала его городская стена, те ее места, где она еще достраивалась, была не такой высокой.
– Как же ты за городскую стену вырвешься? – спрашивал Вячка. – Крыльев же у тебя нет, стену не перелетишь.
– Думать надо, князь… Думать… – мрачнел Прусс. Однажды он спросил князя:
– Ты, князь, не собираешься менять православную веру на римскую?
– Нет, – твердо ответил Вячка.
– Тогда тевтоны не отдадут тебе дочь. Никогда. Понимаешь меня? Не дочь твою они надумались украсть, а душу твою.
Князь Вячка молчал. Казалось, все чувства, все страсти умерли в его сердце. Те, кто видел князя вблизи и издалека, так и думали. Но если бы их взгляды могли проникнуть в самую сокровенную глубину этого сердца, открылось бы, что сердце князя не мертвое, не пустое. В нем кипела, полнила его до краев ненависть.
Вячка словно окаменел за эти дни, а Прусс все больше возбуждался, стучал кулаками о стены темницы, громко кричал. Он был из тех людей, у которых часто и резко меняется настроение. Однажды за буйство, за крики латники Альберта долго били его древками копий. Но как только они вышли, Прусс весело рассмеялся.
– Ну и человек ты, – удивился Вячка. – Терпеливый, как кремень. Неужели не больно?
– Открою тебе свою тайну, князь, – понизил голос Прусс. – Я не знаю, что такое боль, не чувствую ее. С самого детства не чувствую. Случалось, так стукнусь пальцем о камень или о корягу какую-нибудь – другой клубком крутился бы на земле от боли. А я бегу дальше смеясь. Не дал бог моему телу боль. Не знаю я, что это такое. Великую милость оказал мне всевышний.
Вячка ничего не сказал, но подумал: «Это тебя и погубит, Прусс. И тело человеческое, и душа должны чувствовать боль. Без боли нет жизни».
А через два дня Прусс пошел в город, схватил камень, которыми пленные укрепляли подножье стены, ударом в висок убил латника, попытался убить рыцаря Макса, чтобы завладеть его конем и вырваться за городские ворота. Ворота как раз были распахнуты – в Ригу въезжал купеческий обоз. Однако рыцарь Макс не растерялся – ударом железного башмака сломал Пруссу нос, соскочил с коня, повалил Прусса на землю, крепко связал ему руки веревкой и пригнал на епископское подворье.
Били Прусса без пощады, кровь брызгала во все стороны. Вячка думал, что Альберт прикажет повесить или четвертовать пленного. Но епископ решил сохранить Пруссу жизнь и даже отпустить на родину, выколов глаза.
– Ветер приведет тебя в Пруссию, – сказал он несчастному пленнику, – а глаза ты оставишь в Риге. Иди к соплеменникам. Пусть дрожат они от страха в своих лесах и болотах. Пусть увидят, какими безжалостными мы бываем к врагам. В последний раз взгляни на солнце, простись с ним навсегда.
Прусс вздрогнул, поднял к небу большие синие глаза, потом заметил Вячку, крикнул ему:
– Прощай, кукейносский князь! Никогда больше не увижу тебя!
– Ты обо мне услышишь, Прусс, – тихо ответил Вячка, но и до Прусса, и до тевтонов долетели эти слова князя.
Он долго не мог уснуть в ту ночь, лежал в темноте, вспоминал Прусса. Погорячился Прусс. Договаривались же вместе бежать из плена, но увидел раскрытые городские ворота и не выдержал… Правду говорят: «На горячих лошадях глину месят».
Надо выжидать… Надо терпеть… Надо, чтобы тевтоны поверили, что он, князь Вячка, изменился, стал мягкой луговой травой, которую топчут их кони. «Дай мне терпение, святая София», – молил Вячка, вглядываясь в суровый ночной мрак.
Мальчонкой он боялся ночной тьмы, но отец и мать не разрешали зажигать в опочивальне свечку. И он искал в поле, на лугу прозрачные белые камешки, клал их на солнце. Лежа на солнце целый день, они вбирали в себя солнечные лучи. А ночью мальчику казалось, что камни светятся, и он засыпал, спокойный и счастливый.
Ночь плыла над Ригой. Не спал князь Вячка, думал о своей судьбе, о своей дочери, о родной земле. Наконец задремал под утро и сразу же проснулся – почудилось ему, что далеко-далеко отсюда, от этой ненавистной темницы, в светлых полоцких лесах радостно и призывно кричит оборотень.
Епископ Альберт был доволен – еще одно усилие, и лютый враг рижской церкви превратится в послушную овцу, которая будет щипать травку под присмотром святых пастырей. А там можно будет вручить ему ленные стяги, двери на Двину распахнутся, и ветер над ней начнет дуть только с запада на восток – в одном направлении.
– Ты мудр, сын мой, – сказал он Генриху. – Ты умеешь подбирать ключи к сердцам людей.
– Стараюсь для нашей церкви, монсиньор, – скромно опустил глаза Генрих.
Князь Вячка с каждым днем становился все тише, все смиреннее. Глаза его смягчились, стерся с них холодный металлический отблеск. Однажды князь даже попросил послушать мессу, и святые песни, видимо, поразили его. Несколько дней он ходил под их впечатлением, задумчивый, тихий, только слабая усмешка порой набегала на лицо. Ему разрешили выходить на подворье, и он подолгу бродил возле серых каменных стен, разглядывал щели в них и мох, выросший в этих щелях. Попал на лужок с бархатисто-зеленой травой, сел, опустил руки, потом, оглянувшись вокруг – не следят ли чужие глаза, – по самую шею спрятал в траву голову, долго нюхал что-то, к чему-то прислушивался, и, когда снова поднял / лицо, в глазах стояли слезы.
«Истинный бог входит в окаменевшую душу», – думал Генрих, который все время украдкой следил за князем через узкое окно епископской читальни. Его радовали изменения, происходившие с князем Кукейноса. Князь на глазах становился спокойным, покладистым, ручным.
Когда минули две седмицы, Вячка попросил позвать епископа и объявил Альберту, что отдает рижской церкви половину своих владений, принимает ленные стяги и готов пустить в Кукейнос зодчих и рыцарей Альберта, чтобы они возвели каменный храм. Сразу же собрали капитул, на котором сам епископ вручил Вячке ленные стяги, обнял его, поцеловал, подарил десять боевых коней и десять стальных рыцарских доспехов. Произошло это в Риге на погосте святого Петра, во времена пребывания на апостольском престоле папы Иннокентия III, во времена царствования императора Оттона.
Отслужили мессу, и Вячка, простившись с дочерью, Альбертом и Генрихом, в сопровождении двадцати рыцарей епископа направился в Кукейнос. Над Ригой плавали невесомые пушистые облачка.
Всю дорогу князь молчал, чему-то улыбался, на привалах часто и долго молился. «Неужели это тот самый Вячка, отважный князь, о котором нам рассказывали столько ужасов? – удивлялись рыцари. – Да это же безобидный монашек, воробей, выпущенный из клетки». Некоторые из рыцарей начали поглядывать на князя с презрением, посмеивались над ним. Когда на привале Вячка хотел сесть у костра, рыцарь Готфрид, опередив, занял его место и, хихикая, смотрел, как князь рвет траву и садится на эту траву в стороне от костра.
– Травяной король! – показав на Вячку пальцем, с издевкой засмеялся Готфрид. И покатилось меж рыцарей:
– Травяной король! Травяной король! В замке Леневарден их встретил рыцарь Даниил. Увидев Вячку, смиренного, покорно принимающего всеобщее презрение, радостно сказал:
– Ну что, поджал хвост, королек?
Он щедро угостил рыцарей вином и мясом, Вячку же не пригласил даже в трапезную. Долго пили и веселились тевтоны.
Наконец показался Кукейнос. Готфрид внимательно взглянул на Вячку, но лицо и глаза у князя оставались бесстрастными, ничто, казалось, сейчас его не волновало. Князь уныло сидел на коне, безучастно жевал травинку.
«В самом деле травяной король», – успокоился Готфрид.
Радостными возгласами встретил Кукейнос князя. Почти все вои и горожане высыпали на вал. Поп Степан приказал ударить в колокол. Но лица у кукейносцев помрачнели и потемнели, когда они увидели своего князя вблизи. Нет, это был не их князь! Усталый человек с сонными глазами сидел на забрызганном грязью коне и равнодушно смотрел на заборолы, на подъемный мост, который опускали перед ним.
– Подменили нам князя, – растерянно сказал старший дружинник Холодок, глядя, как тяжело, по-старчески слезает Вячка с коня. – Он же птицей вылетал из седла.
– А может, мухоморами отравили князя тевтоны? – тихо, испуганно спросил у стрыя Якова Мирошка. В Горелой Веси, слышал Мирошка, невестка так отравила свекра – целый солнцеворот подливала ему в еду отвар из мухоморов.
Яков и Мирошка глядели сквозь щели в заборолах, как медленно, будто неохотно въехал князь на мост, как, не поднимая головы, слушал радостные крики кукейносцев. Казалось, невидимый камень-жерновик висит у князя на шее. Яков прикусил губу, задумчиво разглядывая князя, потом сказал:
– Не мухоморами отравили нашего князя, Мирошка. Зачем тевтонам его травить? Они, если б захотели, мечами его зарубили бы. Горем-бедой князя отравили.
В этот миг перед городскими воротами показалась княгиня Добронега в сопровождении челядницы Кулины. Яков спустился с вала, пробрался сквозь толпу кукейносцев ближе к Кулине – уж больно нравилась ему русокосая челядница. Кулина, увидев его, улыбнулась, радостным румянцем вспыхнули смуглые щеки.
– Здравствуй, князь, здравствуй, господин мой, – склонилась в поклоне, а потом поцеловала стремя Добро-нега. – Хорошо, что прилетел, голубь ясный, на свой двор.
Все умолкли, ожидая, что ответит князь. Какое слово произнесет он на родной земле? Но ничего не сказал Вячка, медленно слез с коня, подошел к княгине, трижды поцеловал ее и вместе с ней молча направился в терем. Кукейносцев это поразило и обидело.
Со всех сторон слышалось:
– Язык проглотил наш князь в Риге!
– Хвостом тевтонским стал!
– Крепкой веревкой привязал Вячку Альберт к своему седлу!
Самые нетерпеливые и горячие предлагали отправить гонцов в Полоцк и Литву, чтобы скорей присылали помощь против тевтонов – на князя Вячку нечего уже надеяться.
– Заснул наш князь, – с горечью сказал Климята Однорук Мирошке, когда все дети, которых он учил, собрались на хорах в церкви. – И кто бы мог подумать?.. Но пойдем, дети, дальше в нашем учении. Запомните:
от болгарцев наш дух и слово…
А князь Вячка действительно спал. Спал уже второй день. Затих, как вымер, терем, челядницы и холопы ходили на цыпочках; большого жука, залетевшего откуда-то с Двины в терем и поднявшего шум в покоях, ловили целой гурьбой. В конце концов поймали, хотели раздавить, но дворовый мальчонка Анисим захныкал и унес с собой жука, как живую игрушку.
Странные сны снились князю. То стоял он посреди ржаного поля, вздыбившегося крутыми желтыми волнами, и они закрывали князя с головой, только васильки, как холодные синие звездочки, мелькали изредка в горячей желтизне. То взбирался на высокую старую липу, и чем выше лез, тем моложе становилась липа, а на самом верху, на самой макушке дерева, он увидел нежный темно-зеленый листок, трепетавший, вздрагивавший на тоненькой коричневой ножке. Захотелось князю сорвать этот лист, чтобы ощутить пальцами клейкую липкость зелени, да загудела, зашумела, человеческим голосом закричала старая липа: «Это мой сынок! Это мой сынок!», взмахнула всеми своими толстыми шероховатыми сучьями, напряглась морщинистым стволом и сбросила беднягу-князя на землю. Крепко стукнулся он о корни и проснулся.
Он лежал на жестких досках своего походного ложа и еще чувствовал боль от падения, от удара о твердые камни. Вячка поднял над собой руки, сжал их в кулаки, со страхом ожидая, что не ощутит прежней силы в кулаках. Но сила была, бурная, хмельная, прежняя. Тогда он рывком сбросил с себя покрывало, упруго вскочил на ноги, подбежал к окну взглянуть, ночь или день на улице. Был самый полдень. Солнце маленькой разогретой гривной стояло высоко-высоко в небе, и лучи его, словно острые золотые мечи, рассекали густую от зноя синеву.
Вячка рассмеялся. Он смеялся долго, беззвучно. Было легко и ясно. «Я вернулся!» – кричал в душе звонкий ликующий голос.
Он приказал молодой челяднице позвать княгиню Добронегу. Вскоре в опочивальню вошла Добронега, грустная, испуганная. Глаза заплаканные, на шее повязан черный, прошитый золотой ниткой платок.
Вячка поцеловал княгиню, снял с ее шеи черный платок, отбросил его подальше и спросил:
– Где моя кольчуга? Где меч Все слава?
– Ой, князь, – прошептала Добронега, засветившись от радости.
– А ты думала, что я в Риге стал монахом? – прижал ее к горячей крепкой груди Вячка. – Зови сюда Холодка. Только так, чтобы чужие глаза не увидели, чтоб уши чужие не услышали.
Вскоре прибежал старший дружинник Холодок, стал на пороге опочивальни.
– Посылай гонцов к кунигасу Довгеруту, к аукштайтам, – сказал ему Вячка.
Холодок с загоревшимися радостью глазами бросился было выполнять приказ, но Вячка знаком остановил его.
– Что делали тевтоны?
– Вчера пили вино и задирались с полоцкими купцами.
– А сегодня что делают?
– Режут камень-плитняк за городским валом, хотят строить рядом с твоим теремом крепость. Рыцарь Готфрид у них старший.
– Оружие взяли с собой?
– Они всегда ходят с оружием. И пьют, и работают с мечами на поясе. Но сегодня жарко – они могут раздеться и быть без кольчуг и мечей.
Выслушав Холодка, Вячка повеселел.
– Пришли ко мне двух ловких, смекалистых хлопцев. Надо проследить, чем занимаются тевтоны, как они вооружены. А сам готовь меч и посылай человека к аукштайтам. Пусть передаст: ждем их.
– Все сделаю, князь. Пришлю Якова Полочанина и Мирошку, и к Довгеруту немедля человек помчится. – Холодок поклонился и не мешкая вышел.
Казалось, порыв майского ветра залетел в терем.
Дружинники надевали кольчуги, шлемы, стараясь быть бесшумными, разбирали щиты, мечи, копья и луки. Вячке принесли кольчугу, шлем и меч Всеслава. Добронега с поклоном подала мужу тяжелый меч, сказала:
– Будь крепок душой и мечом, мой княже. Святая София смотрит на тебя и ждет победы.
– Ты на меня смотришь, Добронега, – скупо улыбнулся Вячка. – Умру, но честь полочан не отдам на поругание. Славная будет валка!
Он решительно поднял меч.
В эту минуту в опочивальню вбежали Яков Полочанин и Мирошка, оба вспотевшие, раскрасневшиеся.
– Тевтоны рубят камень в большой яме, – выдохнул Яков, – мечи и кольчуги свалили на край. Мокрые от пота, как болотные жабы.
– Рубон, – тихо произнес Вячка и вытащил из ножен меч.
– Рубон, – как порыв ветра, пронеслось по дружине, сгрудившейся во всех переходах терема.
– Князь, позволь слово молвить, – вдруг сказал Яков.
– Говори, Яков Полочанин. – Вячка остановился на пороге.
– В рукоять твоего меча вложены мощи?
– Мастера, делавшие меч, вложили в рукоять мощи святой Ефросиньи. – Вячка с недоумением глядел на Якова, не понимая, куда тот клонит.
– Неправда. В рукояти лежат барсучьи кости. И Яков торопливо, сбивчиво пересказал князю весь разговор, который слышал он лунной ночью на дворе боярина Ивана. Добронега и Холодок, стоявшие рядом с князем, растерянно глядели на Вячку. Князь покрутил в руке меч, подумал, решительно поджал губы.
– Валка ждет. Много работы будет мечу. Откуда мне знать, чьи мощи лежат в рукояти? Что ж, пусть барсук. Веди меня, Святой Барсук!
Городские ворота были открыты заранее, и дружина Вячки стремительно и внезапно атаковала тевтонов. Вячка видел белые испуганные лица врагов. Хрустела под ногами дресва, пахло свежевскопанной землей. Биться в яме было тесно, не хватало размаха руке, и князь только колол мечом. Несколько тевтонов успели схватить оружие и старались отдать жизнь как можно дороже. Они были голые, белокожие, скользкие от пота, как рыбы. Остро пахло потом, и этот ненавистный запах разъярил Вячку. Он закричал:
– Никого не выпускайте из ямы! Рубите всех! Софью Альберт мне все равно не отдаст. Тобой жертвую, дочка!
Дружинники с новой силой яростно ринулись на тевтонов. Горстка врагов, оставшихся в живых, была порублена на куски. Только Готфрид, высокий, рыжеволосый, сжимая в одной руке меч, в другой – копье, прислонился спиной к куче острых красно-бурых камней и, не обращая внимания на раны, на кровь, струящуюся по груди, мужественно отбивал все удары дружинников.
– Дайте я его из лука возьму! – в бешенстве закричал Холодок воям, мешавшим ему пустить стрелу. Да всех опередил Вячка. В один прыжок он очутился перед Готфридом:
Узнал, тевтон, травяного короля? Защищайся!
Готфрид, оскалив зубы в смертельном отчаянии, собрал остатки последних сил и ударил мечом. Это был страшный удар. Но в тот миг, когда меч обрушивался на князя, Вячка резко повернул щит, и меч вырвался из руки Готфрида. Тевтон взвыл от злости:
– Ты – травяной король, а наша церковь из железа! На кого ты поднял руку? Ложкой не вычерпаешь океан! Все равно будешь лежать у ног нашей церкви!
– Береги силы, не кричи, – спокойно ответил Вячка. – Умри достойно, тевтон, как умирают мужи.
Готфрид ткнул копьем, но Вячка поймал, зажал древко его копья под мышкой левой руки. Напрасно Готфрид пытался вырвать копье назад.
– А из железа ли твоя выя, тевтон?! – крикнул Вячка и косо рубанул Готфрида там, где шея входит в плечи. Голова надломилась, и все увидели жилы – как перерубленные красные корни.
Валка закончилась. Лесные пчелы гудели над мертвыми тевтонами. Печальный крик чаек несся над Двиной. Вячка хмуро глядел на дело рук своих.
– Кто из наших богу душу отдал? – спросил он наконец.
– Грикшу убили, – ответили ему.
– Добрый был вой. Красиво погиб, – тихо сказал Вячка. – Позовите отца Степана и холопов из терема. Надо похоронить всех мертвых.
Он присел на теплый от солнца камень, закрыл глаза. Непонятно – радость или тоска была у него на душе.
– Князь, литва подходит! – весело закричал Холодок.
Вячка вскочил. Земля дрожала от конских копыт. Пять сотен привел с собой Кунас, младший сын Довгерута. Литовцы были высокорослые, светловолосые, со звериными шкурами на плечах, с луками, копьями и мачугами.
– Приветствую тебя, Кунас, – обнял и поцеловал молодого кунигаса Вячка. – Хочешь своим копьем пробить железные ворота Леневардена?
– Давно хочу, князь, – широко улыбнулся голубоглазый загорелый Кунас.
– Конюшие и седельничие, готовьте коней, – приказал Вячка.
Подбежал ловчий Яков, поклонился:
– Позволь слово молвить, князь.
– Опять про барсука будешь говорить? – разозлился Вячка. – Слишком часто ты, Яков Полочанин, мою дорогу переходишь.
– Одна у нас дорога, – выдержал его взгляд Яков. – Убили младшего дружинника, князь…
– Знаю, что убили, – резко прервал его Вячка.
– Позволь взять его коня боевого и меч.
– Вон оно что! Дружинником моим хочешь стать?
– Хочу, князь.
– А ты знаешь, что вои мои не только мед пьют, но и животы кладут?
Взгляд у Вячки был суровый, пронзительный.
– Знаю и не боюсь, – ответил Яков.
– Молодец! Хвалю на добром слове, – улыбнулся Вячка и крикнул: – Дать коня Якову Полочанину!
Подвели коней Вячке и Якову. Вячка в мгновение ока вскочил в седло. Яков сел на коня не так ловко, но все же в седле сидел как влитый, казалось, весь век на боевых конях ездил. И снова обратился к князю:
– Позволь, князь, еще одно слово молвить.
– А ты разговорчивый, – засмеялся Вячка. – Не успел перьями обрасти, а уже два слова у князя просишь. Ну, говори свое второе слово, только побыстрее, а то нам пора на рыцаря Даниила выступать, на Леневарден.
– Позволь, князь, жениться на челяднице Кулине, что у княгини Добронеги в служанках.
Тут Вячка от удивления присвистнул, но, сразу же посерьезнев, сказал с расстановкой:
– Приведешь ко мне рыцаря Даниила за бороду – женишься на челяднице. Такова моя княжеская воля.
Северным берегом Двины двинулись на Леневарден. Когда-то тут проходили древние торговые пути, но с появлением тевтонов земля заросла лесом, дороги – травой. Вслед за знузниками на больших подводах везли пороки. В лиственном лесу, наступавшем с обеих сторон, начался спорый дождь. Густой многослойный шум, от которого было и тревожно, и радостно, покрыл все другие звуки. На зеленых листьях ярко сияли дождевые капли.
Вячка и Кунас решили взять Леневарден внезапным ударом, но на случай затяжного штурма, осады везли легкие лестницы с железными крючьями на концах, примет – связки хвороста, которыми забрасывают ров. Порочные мастера взяли с собой большой запас тяжелых камней и бочки со смолой и паклей.
Напасть на Леневарден внезапно не удалось. Рыцари успели укрыться в замке за каменной стеной и начали яростную стрельбу из арбалетов. Однако Вячка был готов к этому – его люди мгновенно построили укрытия из бревен, за ними поставили пороки. Первый камень весом в три пуда с грохотом врезался в городские ворота. Другой смел со стены часть дубовой оборонной галереи и заодно четверых арбалетчиков. Потом в замок полетели огненные бочки со смолой.
Лучники Вячки и литовские лучники неустанно били по стенам, не давая тевтонским арбалетчикам высунуть голову. Стрелы с пронзительным сухим свистом тучей неслись на Леневарден. Кроме того, литовцы метали свои боевые дубины-мачуги, каждый из них имел по пять-шесть таких дубин.
В замке начались пожары. Черный дым закрыл солнце. Под плотной завесой дыма кукейносские дружинники подкрались ко рву с водой и начали бросать в него примет.
Порочные мастера тем временем беспрестанно били камнями по воротам. Огромные валуны со свистом неслись сквозь дым, грохот от ударов был такой, что закладывало уши. Наконец дубовые, окованные свейским железом ворота не выдержали.
– Выбили зубы у вурдалака! – радостно вскрикнул Вячка и выхватил меч: – Рубон!
Вои, дружно подхватив боевой клич, ринулись в дымную мглу. Закачался, захрустел под ногами примет, однако выдержал, вынес железный поток прямо на городские ворота, на огромный пролом, зиявший в стене.
Стараясь не отставать от Холодка, Яков прыгнул в пролом и сразу же увидел перед собой тевтона. Тот натягивал коловорот арбалета, глаза его были прищурены, свалявшаяся рыжеватая борода тлела от горящей смолы. Яков со всего размаха ударил копьем в широкую выпуклую грудь и, почувствовав, как заваливается, падает на спину враг, побежал вперед.
– Рубон! – гремело кругом. Звенело железо. Раскалывались от ударов щиты. Кто-то стонал, придавленный воротами, что наконец рухнули, подняв огромный столб дыма и пыли.
Перед цитаделью замка кипел жестокий бой. Рыцари и кнехты, обожженные огнем, отравленные дымом, стали в каре, посреди которого махал крестом, выкрикивая молитвы, высокий худой капеллан. Он смотрел на закрытое густым дымом небо, откуда призывал на помощь деву Марию. Стрела ударила в неприкрытую латами грудь капеллана, и он рухнул с коротким стоном. Рыцари и кнехты бросились кто куда, спасаясь от безжалостного металла.
– Даниил убегает! – раздался вдруг крик из дымовой завесы. Прямо на Якова налетел Холодок, чуть не ударил мечом, но узнал в последнее мгновение и хлопнул тяжелой рукой по плечу:
– Хорошо свалил тевтона. Будешь дружинником. И сразу же приказал отрывистым сиплым голосом:
– Аида за мной! Даниила надо поймать. Вместе со стягом Холодка Яков выбежал из города. Отроки-коневоды держали наготове свежих коней, прячась от искр и дыма под сенью молодых березок. Вои Холодка и вместе с ними Яков вскочили в горячие седла, и началась погоня.
«Приведешь ко мне рыцаря Даниила за бороду – женишься на челяднице», – вспоминались Якову слова князя. Невесело было на душе. «Где ж его найдешь, того Даниила? Он теперь, как уж, до Двины дополз, в ладью сел и в Ригу помчался. И почему так повелось: хочешь жениться, семью свою завести – проси разрешения у князя или боярина?»
По заболоченному лугу кони вынесли их на сухой пригорок, откуда хорошо просматривалась окрестная ширь. Синими зубчатыми стенами стояли на небосклоне сосновые и березовые леса. Нигде – ни души.
– В эту же сторону они бежали. Пешком, без коней, – хмуро сказал Холодок. – Я сам видел. Еще Даниила чуть ли не на спине тащили. В ногу его ранило.
Он слез с коня, подошел к ручью, звеневшему в ольшанике, сложил ковшиком ладони, набрал воды, напился. За ним направились и остальные вои. Яков же одиноко сидел на пригорке, подперев подбородок ладонями. Горько было у него на душе, словно отравили ее дымом пожары, бушевавшие теперь в Леневардене. Мало у него, Якова, друзей. Если не считать Мирошку, так и совсем нет. Нравится ему Холодок, но он – старший дружинник, правая рука князя. Захочет ли он с Яковом и говорить? И с Кулиной ничего не получается. Любят друг друга, да только взглядами горячими перекидываются, а увидеться нельзя, приказано Кулине день и ночь быть возле злой княгини Добронеги.
Яков тяжело вздохнул. И вдруг почудился ему какой-то тихий приглушенный свист, какое-то шипение. Гадюка! Якова будто ветром сдуло с земли. Не хватало еще, чтобы жгнуло в мягкое место противное холодное создание. Много он повидал в пуще змей, особенно когда припекает солнце, даже целые клубки видел, копошащиеся под теплыми солнечными лучами. Яков всегда обходил их стороной.
Отойдя на несколько шагов, Яков начал настороженно вглядываться в холмик, на котором сидел. Сейчас мелькнет в траве серебристо-серая упругая полоска, и он увидит маленькую, словно расплющенную головку с раздвоенным трепещущим язычком. Но ничего не было видно. Легкий ветерок пробегал по траве, запуская мягкие пальцы в зеленые пряди, расчесывал, приглаживая, их. «Наверное, показалось, – подумал Яков. – В ушах шумит после валки». Он снова сел – и снова услышал свист и шипение. Да на этот раз уже не так испугался, не отпрыгнул, а начал внимательно разглядывать траву и в двух-трех локтях от себя заметил малюсенькую сухую дудочку-камышинку, торчавшую из земли. Вот из нее-то и вылетал свист с шипением. Живая дудочка, да и только!
Яков осторожно положил на нее ладонь, плотно прикрыл дудочку и начал ждать, что же будет. Прошло немного времени, и вдруг земля возле Якова зашевелилась, расползлись во все стороны куски зеленого дерна, разлетелись охапки травы, и из-под земли показалась человеческая голова с седыми, засыпанными песком волосами. Голова открыла глаза, кашлянула, чихнула, начала жадно, захлебываясь, дышать. Яков мог схватить незнакомца за нос, так близко была от него голова, но он окаменел от ужаса. И вдруг от резкого толчка Яков отлетел в сторону, а седоголовый рыцарь в блестящих латах выскочил из своего укрытия и, прихрамывая, побежал по густому ольшанику. С лат стремительными ручейками стекал бледно-желтый песок.
– Даниил! – пронзительно закричал Яков. – Ловите Даниила!
Он все понял – рыцарям не хватило сил тащить на себе раненого Даниила, тем более что приближалась погоня, и они решили спрятать его, чтобы потом, когда все уляжется, вернуться. А где спрячешь на ровном, как стол, месте? И они присыпали его землей, воткнув в рот камышовую дудочку. Обычно люди в воде прячутся, а этот, как червяк, в землю зарылся.
Несмотря на раненую ногу, Даниил бежал быстро, но его догнали, повалив, связали веревкой, перекинули, как бревно, через седло и повезли к Вячке. Яков ехал вслед, ему было видно, как морщится рыцарь – тот самый Даниил, о котором говорили, что он пил вино из человеческого черепа.
Вячка только взглянул на Даниила и отвернулся, сказав:
– Отдаю рыцаря литовцам. Пусть приносят в жертву своему богу Перкунасу.
Графа Пирмонта, которого взяли в плен в замке, он тоже отдал литовцам. Пирмонт начал было просить-молить о пощаде, но Вячка мрачно улыбнулся:
– Я тебя уже раз отпустил с миром. А ты, граф, снова пришел. Второй раз я своих гостей не отпускаю. Якова же князь похвалил, припомнил:
– Ты хотел жениться на моей челяднице, Яков Полочанин? Женись. Разрешаю. Привел все-таки рыцаря Даниила за бороду.
– Рыцарь Даниил без бороды, – только и сказал Яков.
Тем временем аукштайты вкопали глубоко в землю два дубовых столба с перекладиной, крепко привязали к ним коня под богатым седлом, да так привязали, что бедное животное чуть могло хвостом пошевелить, испуганно моргало большими коричневыми глазами. На седло во всех рыцарских доспехах посадили Даниила. Он был похож на большую беспомощную куклу – весь перекрещенный, перевязанный веревками, разевал рот, как рыба, выброшенная в горячий песок. Затем рыцаря Даниила по самый пояс обложили смоляными корягами, сухим хворостом, сучьями. Такая же участь ждала и графа Пирмонта. Граф, не выдержав приближения смерти, беззвучно плакал, крупные прозрачные слезы медленно текли по щекам.
Старый вайделот зажег от кресала трут, потом раздул огонек, зажег сосновую ветку и эту ветку не спеша положил в огромную кучу дров, которой был обложен рыцарь. Занялось пламя. Вайделот взял маленькую головешку и сунул ее в дрова у ног Пирмонта. Пирмонт зарыдал.
– Идемте отсюда, – сказал своим воям Вячка. Последнее, что запомнилось Якову, – блестящие слезы в больших лошадиных глазах. Пламя гудело, с ревом бросалось к макушкам деревьев, трещала трава, плавился песок, и из этого ада вдруг донесся резкий скрипучий голос – рыцарь Даниил запел «Богородицу».
Из Кукейноса Вячка сразу же послал богатые дары великому князю полоцкому Владимиру Володаровичу:
рыцарских коней и оружие, рыцарские доспехи. Владимир поблагодарил за подарки, и все, затих в своем Полоцке. А из окрестностей Риги вижи каждый день доносили, что епископ Альберт собирает огромное войско для похода на Кукейнос, что, кроме тевтонов, в том войске есть свей и фризы, датчане и бургундцы. «Аж земля дрожит – столько войска у епископа», – бледнея, сообщали лазутчики.
Под вечер, когда багровое солнце садилось в леса, Вячка позвал к себе старого седобородого челядина Алексея, который когда-то был прорицателем.
– Знаешь, где горит святой Знич? – спросил у Алексея Вячка.
– Служил святому огню. Знаю, – ответил Алексей, и бесцветные глаза его загорелись.
– Даю тебе лучшего своего воя, старшего дружинника Холодка. Сможешь через два дня и две ночи привезти святой огонь в Кукейнос?
– Смогу, но путь неблизкий, – уголек радости по-прежнему горел во взгляде Алексея.
На следующий день кукейносцы собрались на вече, и князь Вячка, трижды поклонившись всем, сказал:
– Славно погуляли мы в Леневардене. Надолго запомнят тевтоны кукейносский меч и поймут, что за каждую нашу слезу надо платить своею слезою. Только так! Мы не трава и не песок, которые можно топтать безнаказанно. У нас есть своя земля, свой бог, свой язык. Только так! Из Риги идет Альберт. Владимир спит в Полоцке. Мы – одни. Альберт уже искупался в крови ливов и эстов, теперь он хочет искупаться и в нашей крови. Он думает и надеется, что мы склоним свои выи, наденем на них ярмо и, стоя на коленях, будем встречать тевтонов. Никогда полочане не стояли на коленях! Никогда не стояли на коленях славные сыновья леттов и селов! – Он поднял кулак, и все глядели на этот крепко сжатый кулак в потертой боевой перчатке. – Из дремучей пущи спешит к нам святой огонь предков, Знич. Завтра он будет в Кукейносе. И завтра же мы сожжем Кукейнос, оставим Альберту только черный пепел. Только так! Бояре, собирайте свой скарб и своих холопов, идите в Полоцк и Литву. Купцы и люди рукодельные, идите вслед за боярами. А я со своей дружиной тоже уйду, стану князем-изгоем, буду тут, на берегах Двины, сыпать тевтонам угли за пазуху, не дам им ни спать, ни пить, буду готовить осиновые колья для их могил, не пущу псов на Двину, на наш Рубон. Только так!
Когда разошлись мужи-вечники, Вячка позвал Климяту Однорука с Мирошкой, спросил их:
– Готовы ли в путь-дорогу ваши пергаменты, ваши летописи?
– Все готово, князь, – поклонился Климята. – Наше серебро – пергаменты. А то, что любишь, нести нетрудно.
Потом позвал Вячка Якова и Кулину, сказал им:
– Я помню свое слово, Яков Полочанин. Завтра кукейносской церкви не будет – сгорит. И пока цел божий дом, пусть повенчает вас отец Степан, а я выпью доброго вина за ваше счастье.
Последний же приказ, который отдал Вячка Мирошке и Якову, многих удивил.
– Идите в лес, выкопайте молодой дубок и принесите мне, – велел князь.
Долго искали Яков с Мирошкой хорошее деревце, наконец нашли, осторожно выкопали, принесли в Кукейнос. У городских ворот их ждал Вячка. Взял дубок и понес, держа на руках, как сына. Отойдя саженей на двести от Кукейноса, спросил у Якова:
– Не обожжет ли завтрашний пожар наш дубок, если мы его на этом месте посадим?
– Не должен жар досюда докатиться, – ответил Яков, прикинув на глаз расстояние до городских ворот.
Вячка взял лопату, сам выкопал яму, сам посадил деревце, старательно засыпал корни землей, слегка притоптал.
– Расти, – сказал дубку. – Помни о нас. Придут чужаки, все на свой лад тут повернут, а ты нас помни. Не мы вернемся, так наши потомки, – и поцеловал холодную упругую ветку.
Люди прощались с городом, с жильем, с могилами. Не обошлось без слез, как и всегда, когда нежданная беда поднимет народ с обжитого места, когда сдается, что горе безмерно, и вот-вот рухнет на голову небо, и земля разверзнется под ногами. Седобородые старики собирали весь свой род, и слышалось извечное:
– Садитесь рядком, говорите ладком…
И садились, и говорили, и молчали…
Последний свой день доживал Кукейнос. Люди со всем скарбом, со скотом уже вышли за городские стены. Только несколько дружинников остались в городе. Они должны были по знаку князя зажечь факелы и бросить их в заранее подготовленные, облитые смолой кучи дров, которыми были обложены терем, церковь, боярские и купеческие дома.
Вячка с дружиной взошел на вал. Князь глядел туда, откуда ждали святой Знич. Теплое утро серебряной росой промывало глаза цветам. Лучи солнца разбивались о кристальную гладь реки. Даже наверху было слышно, как стрекочут в густой траве непоседы-кузнечики.
– Едут! Едут! – закричали вои. Три маленькие точки – две черные и одна красная.
Глава пятая (часть II)
Прошел не один солнцеворот… Много раз менялся лед на Двине и летели весною гуси на далекие лесные озера. Рождались дети. Умирали старики. Текла жизнь – краткий миг, огонек бытия меж ночных берегов вечности.
В знойном Риме отдал богу душу папа Иннокентий III и сразу же началась борьба между кардиналами за папскую тиару, за право быть «рабом рабов божьих». Лив Каупа, преданнейший Каупа, как называл его в своей хронике Генрих, был пробит навылет копьем эста. Исповедовавшись, он испустил дух, завещав все свое богатство рижской церкви. Литовский князь Довгерут умер на холодной соломе в тевтонской тюрьме. Его подстерегли и схватили, когда он возвращался с немногочисленной дружиной в свои леса из Новгорода.
Тевтоны приручили великого князя полоцкого Владимира Володаровича обещанием «вечного мира». Так бортники заманивают пчелу на тарелочку с медом. Во время переговоров о мире Альберт заставил Владимира отказаться от сбора дани с ливов. Ливы начали платить дань рижской церкви. Хоть и поздно, но Владимир понял свою ошибку, и когда к нему пришли Вячка со старейшиной эстов Лембиту и предложили объединенными силами выступить против Риги, он согласился, стал собирать войско. Теплой весенней порой войска сошлись в стольном Полоцке. Владимир, веселый и решительный, надел боевую кольчугу, шлем, опоясался мечом, взбежал на богатый княжеский струг под радостные крики всего войска, и вдруг из горла у него хлынула кровь. Князь упал и тут же умер. Войско, уже растянувшееся красно-синим ужом на правом берегу Двины, остановилось, онемело.
Звон великого колокола сеял тревогу в Полоцке. Всех тевтонов и латинян, найденных в тот день в городе, убили. Боярина Долбню схватили в Пятницкой церкви и посадили на кол. Однако в смерти князя увидели недобрый знак небес, и войско разошлось, растаяло, как мартовский снег.
Неожиданная смерть князя надолго выбила из седла и Вячку. Никогда не были они друзьями с Владимиром Володаровичем, наоборот, враждовали. Владимир сбросил с полоцкого престола его отца, постриг в чернецы старшего брата Вячки. Какая уж тут дружба? И вот впервые за долгие годы они поняли, что должны стать под одно знамя, бить общего врага, а великий князь взял да умер. Казалось, и теперь не захотел стать союзником Вячки.
За время, пролетевшее с того дня, как Вячка сжег Кукейнос и стал князем-изгоем, седина пробилась у него на висках, резкие морщины пролегли на лбу. С дружиной в две сотни воев, с княгиней Добронегой и тремя ее челядницами, с Климятой Одноруком и Мирошкой, которого уже давно звали Мироном, с Яковом Полочанином и Кулиной, у которых уже родилось двое мальчиков, кочевал князь по лесам и болотам, то убегал в Литву, то выходил на Двину и в тевтонских ладьях прорубал днища, то шел к земгалам и вместе с ними выслеживал рыцарей-меченосцев.
Тевтоны прозвали Вячку бешеным королем и тоже старались подстеречь его, несколько раз подсылали убийц. Однажды в гнилом болоте на левом берегу Двины Холодок с воями вытащили из трясины изможденного, обессиленного, чуть живого человека. По седой бороде его прыгали синие болотные жучки. Он лежал с закрытыми глазами и дрожал от холода под ярким горячим солнцем. «Живые мощи», – сказал о нем Холодок. И вот когда Вячка пришел взглянуть на несчастного, наклонился над ним, эти «мощи» вдруг выхватили из-под грязной рубахи нож, и только крест-складень, висевший на груди, спас князя от неминуемой смерти.
– Кто тебя послал? – спросил Вячка у незнакомца, когда того уводили, чтобы утопить в болоте.
– Все равно умирать, – остановился, равнодушно взглянув на князя, незнакомец. – Скажу. Меня послал клирик Генрих из Риги. Знаешь такого? Он почему-то очень ненавидит тебя.
Генрих… Снова Генрих… Вячка не забыл о нем, хорошо помнил Ригу, напряженный выжидательный взгляд молодого светловолосого священника, помнил дочь Софью, заговорившую вдруг на чужом языке. Как обрадовался тогда Генрих, каким счастьем засияло его лицо!
Теперь Вячка понимал, что самый главный и самый лютый его противник – Генрих. Меченосцы и Альберт хотят забрать у покоренных туземцев землю и волю, Генриху же этого мало – он хочет забрать душу. «Душу я тебе не отдам, – с холодной решимостью думал Вячка. – Душа у меня одна и до конца дней моих будет принадлежать земле, которая меня взрастила. Я знаю, почему ты так ненавидишь меня и всех подобных мне. Потому что ты отрекся от своего корня, от своей веры, от своего языка и хотел жить спокойно и счастливо, но вдруг увидел, что есть на свете люди – и таких людей немало! – для которых дороже жизни, дороже всех земных богатств верность отчему краю. Пусть беден этот край, пусть туманы и дожди часто заслоняют в нем солнце, но он родной – и этим сказано все. У тебя же нет этого края, ты потерял его, ты хотел навсегда забыть о нем, но есть неумолимый голос памяти, голос предков, голос крови. И он будит тебя ночью, заставляет смотреть на темное небо, на неясные контуры облаков, плывущих, как молчаливые корабли, над сонной землей. Что это? Кто это? Облака? Души предков? Душа твоей матери, о которой ты забыл, старался забыть? Несчастный человек! Ты сам ослеп и хочешь, чтобы все вокруг ослепли. Но так не бывает, глаза даны людям, чтобы смотреть и видеть. Видеть свою мать, свою землю, видеть тропинку, которая сквозь горе и радость неизменно ведет к своей матери и своей земле».
После внезапной смерти Владимира Володаровича Вячка с дружиной окончательно перешел на земли эстов. Было несколько причин, заставивших его сделать такой выбор. Во-первых, тевтоны, со всего маху стукнувшиеся о железный полоцкий щит, поняли, что на Двине пройти на восток им не удастся; слава богу, что хотя бы удалось закрепиться в низовье Двины. Всю силу своего напора Альберт и меченосцы перенесли на эстов, воинственных, отважных, но разрозненных. Запылал огонь жестокой кровавой войны в Сакале, Унгании, Виронии, Сантагане и других маакондах. А где были тевтоны, где шла война, там появлялся и Вячка, – недаром же в Риге и в Риме его объявили самым страшным своим врагом, бешеным королем. Во-вторых, очень близко сошелся, подружился князь со старейшиной эстов Лембиту и его сыном Меелисом, которые вели упорную беспощадную борьбу с тевтонами. Малево эстов вместе с дружиной Вячки не раз разбивало и меченосцев, и рыцарей епископа Альберта. Но они, казалось, были многоголовой гидрой – на месте отрубленной головы сразу же вырастала новая, даже две головы вырастали, и железные щупальцы упрямо лезли вперед, кроша все, что попадалось по дороге.
В том самом бою, где пробили копьем Каупу, погиб и Лембиту. В порыве радости тевтоны отрубили эсту голову и в кожаном мешке повезли ее в Ригу епископу Альберту. У мертвой головы глаза были открыты, и когда ее показали всему капитулу, клирики вздрогнули – такая ярость, такая ненависть светилась в мертвом взгляде. Альберт приказал тайком от всех закопать голову Лембиту в монастырском саду.
Вячка уже не мог остановиться. Пути к примирению с тевтонами не было, да он и не искал его, не хотел искать. А тевтоны искали. Несколько раз приезжали к нему гонцы от Альберта и Генриха с предложением заключить почетный мир. Альберт обещал Вячке, если тот сложит оружие, вернуть Кукейносское княжество.
Кукейнос назывался уже Кокенгаузеном, тевтоны построили в нем каменную цитадель.
«Растет ли там мой дубок?» – не раз думал Вячка, когда ночь опускалась на походный лагерь, когда звезды, как строгие неотступные глаза, начинали смотреть с темного неба на темную землю. Князь чувствовал и понимал, что тевтоны с каждым годом все крепче врастают в Ливонию, становясь тем валуном, который не столкнуть, не свалить в одиночку. Мало одного плеча. И он поехал в Новгород.
Дорога заняла почти месяц. Князь плыл в ладье по неторопливым рекам и глубоким озерам. Под присмотром волоцкого тиуна полочане на волоках вытаскивали ладью из воды на берег, подложив под нее дубовые катки. Потом ставили ладью на большую повозку, в которую были впряжены тягловые лошади, и везли к следующей реке. Тяжело скрипели колеса. Мотая головами, медленно ступали лошади, и тучи слепней кружились над ними.
Чем дальше пробирались они на север, тем холоднее становились небо и вода, более пушистыми и высокими делались белые, позолоченные солнцем облака. Вместе с Вячкой плыли Холодок, Яков Полочанин, Климята Однорук, Мирон – да, тот самый Мирошка, но уже с красивой темной бородкой – и десять воев.
Где-то посреди дороги прибились они к каравану полоцких купцов, где было шесть стругов, нагруженных большими серо-желтыми комьями воска, из которого новгородские умельцы – золотых дел мастера – делают модели-отливки для своих будущих изделий, известных даже в Саксонии и на Готском берегу.
Мягко и неустанно катила река свои спокойные волны, делая петли в заливных лугах, в сосновых борах, поднимавшихся на песчаных бледно-золотых кручах. Приближаясь к такой петле, рулевой переднего струга прикладывал к губам сурму, и тревожные, светло-печальные звуки неслись вперед, чтобы предупредить того, кто мог выплыть из-за поворота, что навстречу ему идет большой караван. Вячка любил слушать голос бессонной сурмы. Было в нем что-то от протяжного крика мокрой осенней птицы, которая отбилась от стаи и кружится, мечется в холодном, леденеющем небе, теряет перья, и перья эти невесомо падают на землю, как первый несмелый снег.
Земля, вода, свет и ветер плыли навстречу, и не было им конца – земле, воде, свету, ветру. Вдоль реки на низких влажных берегах порой встречались курганы-волотовки, поросшие кустарником и травой. В тех курганах, рассказывают люди, похоронены вои-богатыри, огромного роста вблоты, жившие на свете еще тогда, когда земля была из чистого серебра, а реки из хмельного меда.
Наконец приплыли в Новгород. На Городище, там, где Волхов вытекает из озера Ильмень, Вячка встретился с новгородским князем Ярославом Всеволодовичем, сыном Всеволода Великое Гнездо, братом князя владимирского Юрия Всеволодовича. «И тут, как и в Полоцке, князья сидят за городом», – подумал с горечью Вячка.
Ярослав был на четыре солнцеворота моложе Вячки, высокий, худощавый, с цепким взглядом небольших серых глаз. Он княжил в Переяславле, Рязани, Галиче и всюду ссорился с боярами, отовсюду его изгоняли, но потом снова звали на престол, так как был он князем отважным, решительным, живота своего в сечи никогда не жалел. Новгородцы тоже то приглашали, то изгоняли Ярослава. Он свыкся с этим и весело сказал Вячке при встрече:
– Всего несколько седмиц сижу с дружиной в Городище. Аида ко мне, князь.
– Не могу, – отказался Вячка. – Хочу сесть в Юрьеве, который еще Ярослав Мудрый, сын Рогнеды Полоцкой, заложил на землях эстов. Эсты называют его Тарпату, а тевтоны – Дорпат. Из-за этого и в Новгород приплыл – просить у тебя, князь, и у веча новгородского помощи. Тевтоны укореняются на запад от Чудского озера, а мы делаем туда только набеги. Надо садиться там, пускать свои корни, а то тевтоны с датчанами завтра и на Новгород полезут. Эсты поднялись на островах и на материке, и я хочу пойти к ним на помощь, но у меня силы маловато.
– Без силы тевтонов с ног не свалишь, – внимательно взглянул на Вячку Ярослав.
– Вот и прошу у тебя, князь, силы и оружия.
– Оружие дам и дружинников своих дам, но немного – сам на Колывань иду, – ответил Ярослав. – А теперь пойдем, князь, в Спас-Нередицу, помолимся, чтобы даровал нам бог победу.
Церковь Спас-Нередица словно плыла в солнечных лучах, стоя на невысоком холме, отделенном от Городища рекой Спасовкой. Стены, столбы, арки, купол – все было покрыто фресками. Пророк Давид стоял в полный рост, сжимая в левой руке свитки пергаментов. Над головой его сиял золотистый нимб. Ангелы летали над Вячкой. Сорок мучеников глядели на него темными страдальческими глазами. Князь почувствовал невыразимое волнение. Взяв свечу, он опустился рядом с Ярославом на колени, с мольбой обратился к богу:
– Дай Полоцку и Новгороду победу.
А наутро он стоял на вече, кланяясь великому Новгороду, и сияла над ним и над вечниками Новгородская София, бронзовые ворота которой вои-новгородцы привезли из-за моря, когда внезапным страшным ударом в один день уничтожили столицу свеев Сигтуну. На воротах были выбиты фигуры мастеров-литейщиков с клещами и весами в руках и написано: «Риквин меня сделал».
С помощью Новгорода Вячка занял Юрьев. Город стоял на высоком песчаном пригорке посреди заболоченного луга над рекой Змайыги, что на языке эстов означает – Матерь Вод. Князь Ярослав сдержал слово – дал Вячке пятьдесят своих воев. Три сотни эстов привел юный Меелис, который всегда и всюду ходил с легким арбалетом и кожаным колчаном, набитым стрелами.
Из Сакалы и Унгании, из леттских земель в Юрьеве сошлись тысячи две шумного голодного люда, большей частью женщин и детей. Спали они прямо на земле, подослав охапку соломы, луговой травы или еловые лапки. Повсюду дымились костры, от их дыма у воев, день и ночь стоявших у заборолов, слезились глаза.
В первые месяцы Вячка с дружиной совершал походы в глубь эстонских земель, собирал зерно, заготавливал соленую и вяленую дичь – главную пищу войны, брал дань вайпой – грубым прочным полотном. И все время он чувствовал, что со всех сторон наступает на Юрьев огромная неодолимая сила. Тевтоны потихоньку подбирались к городу. Альберт сделал епископом Эстонии своего брата Германа, кафедру новой церкви открыл в Оденпе, на Медвежьей Горе. Чтобы развязать себе руки, тевтоны помирились с датчанами. Граф Генрих, Шверинский взял в плен датского короля Вальдемара, и датчане сразу присмирели, прислали на помощь епископу Альберту свое войско. Огненная западня вот-вот должна была замкнуться.
Ярослав Всеволодович почти четыре седмицы простоял у стен Колывани, сложенных из твердого ракушечника. Несколько раз ходил на приступ, но только зубы сломал о Колывань. Злой, уставший, он излил весь гнев на своих извечных врагов, новгородских бояр, бросил войско, бросил Новгород и уехал в неизвестном направлении искать свое княжеское счастье.
Вячка остался один. Под его властью был небольшой кусок земли с Юрьевом, все же остальные мааконды эстов были присоединены к Риге, к рижской церкви Альбертом.
Ночное августовское небо то и дело прорезали метеориты, особенно часто падающие в эту пору. Вячка не спал, не мог спать. Он остался в одиночестве. Начиналась его лебединая песня.
В сопровождении Холодка и Якова Полочанина князь поднимался на вал, вглядывался в застывшую ночную тьму, прислушивался. Гнетущая тишина стояла вокруг. Вячке все время казалось, что у этой тишины тонкие глиняные ноги – вот-вот подломятся.
Однажды на вал пришел Климята Однорук.
– Ну что, пишешь летопись? – спросил его Вячка.
– Пишу, – ответил Климята. – Кто же за нас напишет наши летописи?
– За нас никто не напишет, – согласился Вячка. Помолчали. Небольшое яркое облачко бежало по темному ночному небу, и все глядели на него.
– В какой стороне Полоцк? – вдруг спросил у Климяты Вячка.
Книжник вздрогнул от неожиданного вопроса, подумав, махнул рукой:
– Там.
Вячка повернулся лицом в ту сторону, куда показывал Климята, и долго всматривался в тьму. Где-то за валом глухо крикнула неизвестная птица, сидевшая на кочке посреди заболоченного луга. Одинокий крик упал во мрак, как тяжелый камень.
«О чем они сейчас думают? – глядел на своих соратников Вячка. – Я же веду их на смерть. Догадываются ли они об этом?»
– Князь, – тихо сказал Холодок, – вчера пришла семья леттов из Кукейноса. Они говорят, что твоя дочь Софья обвенчалась с графом Дитрихом фон Кокенгаузеном.
Будто взлетел Вячка под облака и сразу же начал стремительно падать вниз… Закружилась голова, оборвалось сердце… Он снял с десницы боевую перчатку, осторожно погладил на пальце колечко, сплетенное из светлых детских волос. «За это время волосы у Софьи должны были потемнеть», – подумал Вячка.
Дочь вышла замуж, вышла за тевтона. Теперь и сама станет, если уже не стала, тевтонкой. И дети будут… тевтончики.
Вячка стиснул зубы. Это, конечно, Генрих старается, мстит ему как можно больнее. За что он мстит ему, Вячке? За себя? За то, что сам сменил кожу, сменил душу, стал тевтоном?
– Нет у меня дочери, – сказал Вячка Холодку. – Моя дочь умерла, когда ей было пять солнцеворотов.
Каждый день по приказу Вячки вои укрепляли городской вал глиной, речным илом, бревнами, ветвями. Женщины и дети собирали камни в окрестных лугах и полях. Целые горы камней лежали вдоль заборолов. Оружейники точили мечи, копьи, боевые секиры, нашивали на щиты новые слои бычьей кожи, смазывали барсучьим жиром кольчуги, делали тысячи новых стрел.
В перерывах между этой нелегкой работой БОЯМ почти не удавалось отдохнуть – Вячка вместе со старейшиной эстов молодым молчаливым Меелисом учили их рукопашному бою, учили отрубать концы штурмовых лестниц, сбрасывать на головы наступающих бревна, огромные валуны, горшки со смолой и огнем. Лучники и арбалетчики через прорезанные в заборолах стрелковые щели учились простреливать каждую сажень земли перед Юрьевом. Крики людей и гул железа перекатывались над городом.
Только в маленькой холодной каморке, где Климята Однорук писал Полоцкую летопись, как всегда, было тихо. Климята спешил, он хотел до подхода тевтонов написать о тридцати полоцких старцах, которые много раз управляли городом, – если начнется битва, будет не до писания. Мирона уже давно не было рядом – отпросился на вал, взял копье, надел кольчугу и стал воем. Климята завидовал своему младшему другу, он тоже взял бы копье, но какой же из него вояка с одной рукой? И он писал, писал почти без отдыха, сжигая свечку за свечкой, которые из княжеских покоев приносила Кулина…
В середине августа, в день Успения пресвятой богородицы, огромные тучи серой пыли заклубились в окрестностях Юрьева – епископ Альберт привел из Риги своих пилигримов. Вместе с Альбертом пришли рижские купцы, бюргеры, меченосцы из Вендена, датчане, отряды крещеных ливов и леттов. Множество красивых просторных шатров появилось вокруг Юрьева, как раз на таком расстоянии от города, где падает, устав, стрела.
Начиналась лебединая песня Вячки…
Почти все жители Юрьева сбежались на городской вал, глядя с тревогой в ту сторону, откуда шла к ним беда. Вячка стоял вместе со всеми, слушая, о чем говорят люди, и слова их резали его, как ножи:
– Божье войско пришло…
– Тевтонов что дождевых капель – не сосчитаешь…
– Нашим стрелам не пробить их броню…
– Надо открывать ворота и принимать крещение из Риги…
– Пусть язык распухнет и станет затычкой во рту того, кто сказал эти слова, – громко произнес Вячка.
Люди замолчали.
Начиналась лебединая песня Вячки.
Он уже забыл, когда спал. Ночь и день превратились в один бесконечно длинный отрезок времени, наполненный грохотом железа, дымом костров, пылью, потом, криками воев, вечерними молитвами тевтонов, доносящимися из-за вала, ржанием боевых коней, плачем детей, свечением высокого палящего солнца, стреляющего с раскаленного неба белыми тяжелыми лучами. Потом ко всему прибавились глухие удары топоров – тевтоны валили сосны и строили из них осадную башню.
Начиналась лебединая песня Вячки.
Каким-то чудом прорвался в Юрьев сквозь тевтонские шатры гонец из Суздаля от великого князя Юрия Всеволодовича. Был он мал, остронос, но с оглушительно резким, как удар грома, голосом.
– Как медведя тебя, князь, обложили со всех сторон, – сказал гонец. – Устоишь?
– Не сдамся тевтонам, буду ждать подмоги из Новгорода и Суздаля, – глянул на него усталыми глазами Вячка.
– Надейся на бога и на правду, князь, – сказал гонец.
Восемь дней строили тевтоны осадную башню из толстых высоких сосен, повернутых корнями вверх. Под укрытием башни поставили камнеметные машины и начали обстрел городского вала. С грохотом ударили о заборолы первые камни. Часть дубовых кольев была вмиг снесена. Воям, оборонявшим заборолы, песком засыпало глаза; одному эсту камень сломал ногу. Вои Вячки ответили яростной стрельбой из луков и арбалетов. С вала на тевтонов посыпались камни, горшки с огнем.
– Что будет с нами завтра, князь? – спросил у Вячки Яков, вместе со всеми отбивавший наступление тевтонов. Вячка глянул на него, строго нахмурив темные брови:
– Живи тем, что есть. Подгоняя завтрашний день, мы приближаем к себе могильный мрак.
Князь сжимал боевую секиру, закрепленную на руке кожаной петлей.
Начиналась лебединая песня Вячки.
На заборолах был настоящий ад. Тевтоны яростно лезли на вал. Казалось, еще усилие, еще один взмах меча, и рухнет оборона. Но окруженный город стоял твердо, мужественно, стоял до конца.
Солнце нещадно палило, жгло с высоты. Вои обливались потом, потрескавшимися губами молили, с надеждой глядя на небо, – хоть бы капельку воды послало оно. Но небо светилось, пламенело горячей голубизной, и ни одной тучки не было над землей.
Вячка тоже страдал от жары, от жажды. Остро и неотступно вспоминалось ему детство. Кормилица Маланка (бабой-неумирухой называла она себя) выводила маленького княжича из терема на дождь, под гремучую грозу. Он стоял с большим деревянным кубком в руках и ждал, пока этот кубок до краев наполнится дождевой водой.
– Пей грозовую воду и будешь сильным, отважным, ловким, как Всеслав Чародей, – учила Вячку Маланка.
Дождь хлестал по спине, по лицу. Деревья, росшие во дворе терема, купались в ливне. Маленький Вячка терпеливо стоял под грохочущим небом, под молниями, а потом до самого дна пил из кубка холодную грозовую воду, пил большими мужскими глотками. Он чувствовал, как сила и твердость вливаются в каждую жилку.
«Полжизни отдал бы за глоток грозовой воды», – подумал Вячка и спустился с заборолов вниз, туда, где в нише городской стены лежали раненые вои. Почти все женщины Юрьева были тут – перевязывали, поили водой, утешали раненых. Была тут и княгиня Добронега. Вячка улыбнулся ей издалека, но подошел не к ней, а к седобородому вою, у которого по самое оперение засела в груди стрела. Вой тяжело, с натугой дышал.
– Болит? – спросил у него Вячка.
– Болит, – пересохшими губами выдохнул вой. – Но вытаскивать стрелу нельзя. Вытащишь – сразу богу душу отдам.
– Терпи, вой, – сказал Вячка, наклонился и погладил его по щеке. Глаза у раненого вспыхнули, засветились, он хотел что-то сказать, но не смог, только сжал руку в кулак и вырвал из земли несколько тонких зеленых травинок.
«Я веду их на смерть», – думал Вячка, слушая стоны своих раненых воев. Они заметили князя. Со всех сторон потянулись к нему, как к свече, руки, глаза.
– Вячка! Князь Вячеслав! – слышалось вокруг.
Он стоял среди них, и сердце трепетало от печали и радости. «Если б я мог, – думал он, – грозовую воду всех небес я отдал бы им, своим храбрым, своим верным воям. Я напоил бы грозовой водой весь свой народ. Мой народ! Какая сила, какая отвага и терпение живут в нем!»
Он ходил между ранеными, заглядывая каждому в лицо, кому-то улыбнулся, кого-то утешил. Он почти физически ощущал, как снова наполняется силой среди этих искалеченных, беспомощных людей.
«Каким словом вспомнят потомки меня, моих воев? – думал Вячка. – Что скажут о нас? Я, как и весь мой народ, жил в вечных сражениях. На удар мы отвечали ударом, никому не покорились, ни перед кем не склонили голову. Такой народ не умирает. Я счастлив, что жив и живу с таким народом. Счастлив, потому что слышал крик оборотня над Двиной».
Он подошел к умирающему седобородому вою, тихо сказал ему:
– Давай побратаемся с тобой. Снял свой нательный крест, повесил на шею вою, а его – на шею себе.
– Вот мы и братаничи с тобой, – улыбнулся князь. – Теперь и умирать не страшно.
В это самое время Генрих сидел в шатре Альберта, слушал шум боя и писал в своей хронике: «И собрались в замок Дорпат к королю Вячке все лиходеи из соседних земель и Сакалы, изменники, братоубийцы, убийцы братьев-рыцарей и купцов, злостные заговорщики против латинской церкви. Головой и мозгом их был все тот же король Вячка, который давно стал корнем всяческого зла в Ливонии».
Генрих встал, начал нервно расхаживать по шатру. Звуки боя усиливались, угрожающе надвигались, наплывали на шатер. «Кто победит – я или он? – думал о Вячке Генрих. – Я или он?» Разболелась голова. Так случалось уже не раз, но сегодня боль была особенно сильной, нестерпимой, острой, словно капли расплавленного свинца лились прямо на мозг. Конечно, он устал, слишком устал, надо было бы отдохнуть от писания хроники, но ее ждет Альберт, ждет вся рижская церковь. Разве можно не оправдать их ожиданий?
В шатер вошел монах в темной ризе с капюшоном. Генрих, устремившись к нему, взволнованно спросил:
– Ты видел Вячку? Говорил с ним?
– Видел и говорил, как вижу и слышу тебя, – ответил монах. – Король отказывается покинуть Дорпат. Он даже слушать меня не стал и пригрозил, что прикажет своим слугам сбросить меня с вала вниз головой.
– Ты говорил королю, что мы сохраним ему жизнь, щедро вознаградим, если только он оставит этих отступников-эстов вместе с Меелисом? Что мы дадим ему коней на дорогу до Полоцка или Новгорода – куда сам захочет.
– Король сказал, что эсты – его братья, а братьев в беде не бросают.
– Бешеный король, – растерянно пробормотал Генрих. – Бешеный король…
Он сжал виски, снова почувствовав нестерпимую боль в голове.
– Тебе плохо, святой отец? – почтительно осведомился монах.
– Иди, – вяло махнул рукой Генрих. Когда монах вышел, он лег прямо на затоптанное грубое полотно, которым был устлан шатер. Боль постепенно отступала, слабела. Уже только горошинка боли перекатывалась в голове, но вот и она успокоилась. «Боже, не дай мне сойти с ума, – молил Генрих. – Пусть сходит с ума Вячка, твой и мой враг». Он поднялся, снова позвал монаха и, когда тот вошел, спросил:
– Готовы ли княжеские стрелы?
– Готовы. Мы сделали десять штук.
– Покажи.
Монах поспешно вышел из шатра и, вскоре вернувшись со стрелой в руках, осторожно подал ее Генриху. Это была обычная тевтонская стрела с железным наконечником, сотни таких стрел летели сейчас на заборолы Дорпата. Только возле оперения была привязана короткая красная ленточка. Но Генрих знал, что эта стрела особенная – наконечник у нее был густо смазан ядом.
. – Отдай стрелы нашим самым метким арбалетчикам, пусть они стреляют ими только по Вячке, – приказал монаху Генрих. Он помолчал и снова повторил: – Только по Вячке. Если его не берет божье слово, возьмет божий гнев. Он ведь не слишком прячется?
– Король Вячка – отважный рыцарь, – сказал монах. – Он не прячется за спины своего войска.
В этих словах Генрих уловил скрытую насмешку над самим собой, сидящим в шатре в то время, когда истинные сыновья латинской церкви под градом камней и стрел, под потоками горящей смолы идут на штурм вражеского вала.
– Убейте Вячку! – вдруг закричал Генрих. – Убейте и принесите мне его голову!
Злоба, которую он тщательно прятал от посторонних глаз, казалось, разламывала его грудную клетку, разрывала на куски сердце. Он и сам удивился – сколько, оказывается, живет в нем злости!
Епископ Альберт собрал в своем шатре всех военачальников. Пришли Фридрих и Фредегельм, судья пилигримов Герберт, брат Альберта Иоанн. Все только что участвовали в штурме Дорпата, еще горячий пот блестел на висках, еще пахли дымом белые плащи, а у Фредегельма смолой, которую дружинники Вячки лили с вала, была обожжена щека, и он от боли кусал губы.
– Сыновья латинской церкви погибают от рук вероотступников, от рук слуг сатаны, – сокрушался Альберт. – Давайте помолимся за упокой их душ.
Все опустились на колени, начали молиться, потом судья пилигримов Герберт воскликнул:
– Надо взять замок приступом, с боя. Отомстим злодеям на страх всем другим. Каждого из наших, кто первым взойдет на вал, мы прославим, дадим ему награду – лучшего коня и лучшего пленного из тех, что возьмем в замке, кроме, конечно, короля Вячки, которого надо вознести над всеми, повесив на самом высоком дереве.
Все, кто был в шатре, одобрительно закивали. Начиналась лебединая песня Вячки.
Осадную башню, возвышающуюся вровень с городским валом, тевтоны надвинули на ров и под ее прикрытием начали делать подкоп. Половину войска бросил Альберт на подкоп. Врезались в твердую холодную землю днем и ночью. Одни копали, другие в плащах, в кожаных мешках, ивовых корзинах ползком выносили землю.
В Юрьеве было слышно, как скрежещут тевтонские лопаты в толще городского вала. Казалось, скрипит зубами сама смерть.
– Проклятая башня! – воскликнул Меелис и выстрелил из арбалета.
– Надо поджечь ее, – сказал Вячка. – Позовите сюда Холодка и Якова Полочанина.
Сделали большие деревянные колеса, заполнили их паклей, смолой, подожгли и пустили с вала прямо на башню, все время бросая сверху в огонь сухие поленья, которые подносили женщины и дети. Башня начала загораться, но тевтоны в латах, жертвуя собой, кинулись к подножью башни, разломали, порубили колеса и потушили огонь. Град камней и стрел полетел на тевтонов, несколько десятков их погибло, но башня уцелела и, как беспощадный Голиаф, стояла рядом с городским валом.
– Погоди, мы тебя все-таки поджарим, – кулаком погрозил Холодок башне и налег плечом, вместе с Яковом, Мироном и несколькими эстами сталкивая с вала еще одно колесо. Заскрипел горячий обугленный песок, взвился белесый пепел. Вот колесо начало набирать ход, и вдруг Холодок то ли поскользнулся, то ли потерял равновесие от жары и высоты, и случилось ужасное и непоправимое – колесо схватило старшего дружинника за полу обгорелого плаща, подмяло под себя и покатилось вниз, в огонь, в смрадный дым.
– Холодок! – закричал Мирон. – Холодок! Он почувствовал, как подкашиваются колени, и опустился на вал возле разбитых тевтонскими камнями заборолов. Ему вспомнился далекий-далекий день, хибарка, в которой он прятался от волков, умирая с голоду, и веселый синеглазый вой, подъезжавший к хибарке с наколотым на копье облаком.
– Холодок! – снова крикнул Мирон и горько заплакал.
Подбежал Вячка. В руке – меч, шлем съехал набок, и прядь потных светлых волос приклеилась к смуглому лбу.
– Где Холодок? – спросил у Мирона Вячка. Мирон вскочил с земли, вытирая слезы, показал рукой вниз, в пламя и дым:
– Там.
– Э-эх… – только и сказал Вячка. Послышался оглушительный грохот. Это тевтоны шли на приступ, ударяя в литавры, стуча мечами о щиты.
– Рубон! – закричал Вячка. – Все на вал! Но в тот день смерть обошла Холодка. Все, кто защищал Юрьев, думали, что старший дружинник погиб, сгорел у подножья тевтонской башни, а он уцелел, попал в плен к Альберту. Утром тевтоны привязали Холодка цепями к самому верху штурмовой башни и, прячась за его спиной, стреляли в защитников городского вала из арбалетов. Так они делали со всеми пленными во время осады городов.
Раненой обессиленной птицей Холодок медленно подплывал вместе с тевтонской башней к валу, который защищали его боевые друзья. Полочане, новгородцы и эсты прекратили стрельбу, глядя с сочувствием и сожалением на своего несчастного побратима, окровавленного и обожженного. Некоторые не могли сдержать слез. Великая мука была в том, что рядом, в нескольких десятках локтей от тебя, погибал соотечественник, брат, и нельзя было ему помочь. Холодок не захотел, чтобы его смерть посеяла печаль и слабость, он громко, напрягая остаток сил, рассмеялся.
– Братья! – закричал в свой последний миг Холодок. – Высоко я летаю и далеко вижу! Стоит наш Полоцк и вечно стоять будет! И никогда не переведется наш род! И солнце будет целовать нашу землю! Прощайте, Мирошка и Климята! Бейте из луков – не жалейте меня! Скорее бейте!
Тевтон размашисто всадил ему между лопатками острый горячий корд.
– Бейте… – прошептал Холодок, и голова его упала на грудь.
Снова закипела лютая сеча. Никто себя не жалел – ни полочане с новгородцами и эстами, ни тевтоны. Дым выедал глаза. Мертвые падали с вала в огонь и там сгорали. Длинную лестницу, которую тевтоны, взбираясь вверх, обвили своими телами, Яков, Мирон и Меелис, собрав последние силы, оттолкнули от вала, и она, встав на какое-то мгновение дыбом, тяжело рухнула, исчезла в огне. Только багровые угли брызнули во все стороны.
Тевтоны, как обезумевшие, лезли на вал, но там их встречали мечи и копья, рогатины и шестоперы, камни и дубины, секиры и кистени. На них лили смолу, бросали горшки с огнем, бревна, трупы их же рыцарей, которые взобрались на вал, но сразу же были там убиты. Крики, стоны, предсмертные хрипы, резкие звуки тевтонских литавр, шум огня, свист мечей и стрел сплелись в огромный огненный клубок, наполненный болью, мукой и смертью. Напор тевтонов крепчал, казалось, еще миг – и они сломят сопротивление защитников вала, но вдруг над оглушительной неумолчной разноголосицей боя взвилась песня:
Веди нас на сечу, святая София! Будь с нами в бою, наших пращуров вера. Архангелы стрелы дадут золотые, Чтоб в сердце ударить кровавого зверя.Звонкий мужской голос полетел над валом, где обливались кровью раненые, где мертвецы все еще сжимали в руках горячие мечи.
Святая София, крепи своих воев. О тех, кто погибнет, плакать не нужно. Пускай Полота наши раны омоет, Когда упадем от мечей харалужных.– Кто это поет? Кто поет? – слушая песню, спрашивали друг у друга вои.
– Климята Однорук поет, – весело сказал Яков и крикнул Климяте, стоявшему с непокрытой головой возле заборолов: – Далеко наша Полота, Климята!
Климята издалека заметил его, сильнее ударил смычком по струнам гудка, на котором подыгрывал себе, и ответил:
– Неправда, Яков Полочанин. Где мы стоим, там и наша Полота течет.
И на этот раз не хватило тевтонам сил, покатились они с вала. На том и утих бой, только облако черного дыма осталось висеть над Юрьевом. Луговые цветы, затоптанные ногами пилигримов и меченосцев, боязливо поднимали головки с земли, оглядывались вокруг, будто хотели узнать, долго ли еще люди будут убивать людей.
Ночь опустилась на Юрьев. За валом и возле вала горели костры. Никто не мог уснуть. Разве можно было спать, когда за спиной каждого стояла смерть, когда звезды густым дождем падали с неба? И тогда заиграли полочане на гудках и цимбалах, а тевтоны ударили в литавры, загудели в дудки. И начали танцевать измученные люди возле костров, чтобы подбодрить себя.
Вячка стоял, прислонившись спиной к обгоревшим кольям заборолов, сняв тяжелый шлем. Глухо прокричала за валом неведомая ночная птица, словно позвала его. Каждую ночь он слышал ее тревожный одинокий голос, хотя вокруг вовсю играли гудки и дудки. Казалось, она кричит только ему. Где живет эта птица? Какое гнездо у нее? Побежать бы за ней, скатившись с вала, в ночной туман, в луга и леса и снова стать мальчишкой, чтобы росистый ивовый куст пугливо дотронулся до щеки, обжег ее трепетным холодом. Полететь бы, как эта птица, далеко-далеко отсюда, от крови и смерти, и опуститься на тихом лесном озерке возле Друтеска, где светлые волны раскачивают сонный камыш и лунные лучи ночуют в еловой чаще. Не полетишь!.. Нельзя. Он пойдет со своей дружиной до конца, до самого конца…
Вячка задремал, сжимая в руке меч, и через вал перелетела светлоперая огненноокая птица, села ему на грудь и спросила нежным ласковым голосом:
– Где ты, князь мой?
Он снял боевую перчатку, осторожно, с замирающим сердцем погладил осыпанные блестящими каплями росы перья. Птица вздрогнула, сжалась в комочек, снова спросила:
– Где ты, князь мой?
Вячка очнулся, оттолкнулся спиной от заборолов, стряхивая остатки сна, напряг зрение. Добронега ласково гладила его руку, сжимающую меч. Звездная бездна, словно крылья, распростерлась у нее за спиной.
– Где ты, князь мой? – шептала княгиня. – Забыл обо мне… Днюешь и ночуешь тут… Пойдем со мной в светлицу… Отдохнешь… Пойдем…
Она взяла его за руку, как маленького, повела за собой, и он послушно пошел за женой.
Вои, плясавшие у костров, приветствовали его одобрительными криками, но в этих криках он слышал печаль и усталость.
– Спите. Хватит плясать, – сказал им Вячка. – Берегите силы для завтрашнего боя.
Вошли в светлицу. Огромная медвежья шкура лежала на полу. Луна осторожно заглядывала в окошко. Казалось, все вокруг заполнено, залито голубой и серебристо-зеленой водой, и они поплыли в этой воде, как плывут рядом в бесконечном небе две ночные звезды.
– Люблю тебя, – шептала Добронега. – Люблю тебя, Вячка… Помнишь ту весну в Кукейносе, когда ты поплыл ночью по Двине, чтобы сорвать для меня белые лилии? Помнишь, ладо мой?
– Помню, – тихо ответил Вячка. – Никогда не забуду…
– А помнишь, как мы на лугу попали с тобой под дождь, как сушились у костра, а потом забрались в стог сена?.. Так пахла медуница…
– Помню… Никогда не забуду. Ночь плыла над Юрьевом. Последняя их ночь. Лунная, лучистая, юная…
– Дай мне свежую сорочку, – сказал Вячка Добронеге, когда они проснулись на медвежьей шкуре и луч солнца дремал на щеке у Добронеги.
Княгиня заплакала.
– Не плачь, – попросил Вячка. – Ты не должна плакать…
– Неужели Новгород не пришлет нам подмогу? – с надеждой глянула на мужа Добронега.
– Не знаю… Поздно… Мы остались одни… Но не будем думать об этом. Дай мне нательную рубаху… А теперь попрощаемся с тобой – там, среди людей, нам не удастся это сделать.
Он крепко обнял и трижды поцеловал Добронегу.
– Я был счастлив с тобой в этой жизни. Спасибо тебе за все. Дай бог, чтобы мы встретились с тобой еще раз на небесах… Спасибо тебе… И прощай… Навсегда прощай…
– Князь, – зарыдала Добронега, – князь мой… Я люблю тебя… Я боюсь… Не оставляй меня… не оставляй одну…
– Пойдем со мной на вал, – положил ей руку на плечо Вячка.
Снова тевтоны ударили в литавры, снова начали бить камнеметы пудовыми валунами по городским воротам, снова с осадной башни летели в Юрьев стрелы арбалетчиков, бочки со смолой и огнем. Это был страшный бой. Никто не отступал. Никто не просил пощады. Погиб юный эст Меелис, разрубленный от правой ключицы до пояса острой секирой меченосца Фредегельма. Но и самого Фредегельма насквозь пронзил копьем Яков Полочанин.
У заборолов, в огне и дыму, скрестились железо с железом, рука с рукой, сила с силой, отвага с отвагой. И снова не выдержали тевтоны – в который уже раз откатились вниз, а вслед им, на их головы и спины, полетели бревна, камни, горшки с огнем. И неслась в просторы песня Климяты Однорука:
Веди нас на сечу, святая София…
Все это время Климята был на городском валу. С обожженными щеками, в разодранной рубахе, но с радостным блеском в глазах, он искал Мирона. Увидев его, закричал сорванным хриплым голосом:
– Мирошка, иди сюда!
Мирон подбежал к нему и стал напротив, опершись на копье.
– Неплохо воюешь, – сказал ему Климята. – Но все же побереги себя, ведь отдаю тебе Полоцкую летопись, жизнь свою отдаю. Понял?
И он надел на плечо Мирону тяжелую кожаную торбу, прошитую по краям блестящей проволокой.
– Там летопись? – задохнулся от волнения Мирон.
– Летопись. Береги ее, как сердце берегут, как глаз свой. Моя и твоя жизнь в ней. И жизнь всех их, – широким жестом он обвел Вячку, Якова, залитых потом, засыпанных сажей воев, готовящихся отбивать еще один – шестой за день! – приступ тевтонов.
Снова пошли на штурм тевтоны. Арбалетчики беспрестанно обстреливали вал, не давая никому высунуть голову. Стрела попала Климяте Одноруку в шею, пробила горло, и он упал, захлебываясь кровью. И в тот же миг брат епископа Альберта Иоанн и его слуга Петр с факелами в руках вскочили на вал, и Петр, наступив ногой, растоптал гудок Климяты. Вячка взмахнул мечом, и голова Петра покатилась с вала.
– Рубон! – крикнул Вячка. Полочане, новгородцы и эсты, женщины и подростки, все, кто еще был жив, яростно ринулись на тевтонов. Иоанна порубили на куски. Та же участь ждала троих меченосцев, что, взбежав на вал, начали махать секирами, делая проходы в заборолах.
А в эти минуты в шатре метался Генрих. Наконец не выдержал, выбежал из шатра, возле самого вала увидел монаха, которому он дал отравленные стрелы, молча вырвал у него лук и выстрелил в Вячку. Стрела пролетела рядом с князем, рубившим мечом окружавших его врагов. Генрих бросил лук и, закрыв лицо горячими ладонями, побежал назад, в шатер.
Вячке отрубили левую руку. Он покачнулся, побледнел. К нему подскочил Яков, закричал:
– Князь, давай я отнесу тебя с вала! Травники остановят тебе кровь.
– У меня есть еще одна рука, Яков Полочанин, – стиснув зубы, ответил Вячка и со всего размаха ударил мечом кнехта, бежавшего со штурмовой лестницей. Они упали вместе – кнехт и князь. Вячка успел прошептать Якову:
– Меч… Мой меч возьми!..
Яков схватил меч, а вокруг гремела лютая сеча, свистели стрелы, пылали заборолы, и чей-то тонкий, почти детский голос крикнул с безмерным отчаянием и болью:
– Ой, мамочка!
…Епископ Альберт вошел в походную капеллу, стал на колени перед распятием Христа и начал горячо молиться. Плащ у епископа был разорван, прожжен в нескольких местах. Епископ увидел Генриха, встал и радостно сообщил ему:
– Дорпат лежит у наших ног. Слышишь, сын мой? Мы победили. Эстония наша!
– А где король Вячка? Привели его сюда с веревкой на шее? – прервав епископа, спросил побледневший Генрих.
– Вячка погиб, – широко улыбнулся Альберт и перекрестился. – Вячка лежит у заборолов. Мы победили.
– Он победил! Он победил! – вдруг закричал Генрих и с лихорадочным блеском в глазах забегал вокруг алтаря. Альберт с недоумением глядел на своего любимого ученика, потом подошел и, положив ему руку на лоб, сказал с отеческой теплотой:
– Тебе плохо, сын мой? Иди отдохни и продолжай писать хронику. Пусть потомки узнают о нашей победе и восславят нас.
Глава пятая (часть III)
Черный дым, словно грозовая туча, стоял над Юрьевом. Казалось, у природы не хватает сил, не хватает ветра, чтобы столкнуть эту тучу с места. Природа, как и люди, обессилела и оглохла после месяца лютой сечи. Невероятная тишина заполнила небо и землю. Но вот тихо застучал по обгорелой траве, по черным бревнам неторопливый осенний дождь. Первые капли упали на реку, чьи волны вот уже несколько дней подряд несли убитых.
На речной круче, густо поросшей орешником и молодыми березами, зашелестела трава, сверху вниз потекли песчаные струйки. Пробивая дорогу руками, плечом, всем телом, из звериной норы, которой заканчивался подземный ход, осторожно выполз Яков, волоча за спиной меч Всеслава. Отдышался, отряхнул песок и, наклонившись, крикнул в нору:
– Мирон, давай руку!
Вскоре из норы вылез на белый свет и Мирон, крепко прижимая к груди большую кожаную торбу с Полоцкой летописью. Сел на траву, закрыл глаза, потом снова открыл их и удивленно пробормотал:
– Дождь на реке шумит…
– Меч Всеслава живет. Слово наше живет. Пойдем, – сурово сказал Яков, и они двинулись туда, где сквозь тучи пробивалось солнце – на восток.
Слово на прощание
Поклон вам, пращуры! Вот и пришла пора проститься с вами. Вы ушли, вы исчезли вдали, а я остался…
Светлым солнечным днем стою возле Полоцкой Софии. Недавно в соборе поселилась музыка. Возвышенно и благородно звучит «Полоцкая тетрадь», которую триста лет назад слушали и любили наши предки. Только недавно нотные записи нашли в Кракове, и музыка вернулась на родину.
С волнением и гордостью я думаю о том, что не опозорили меч Всеслава дети нашей земли. Беспощадно бил он врагов на реке Неман и на Чудском озере, на Куликовом поле и под Грюнвальдом. Поднимали его и Давыд Городенский, и Андрей Полоцкий, и другие белорусские герои. Поклон им!
Подхожу к стене Софии, осторожно трогаю ее рукой, словно хочу испытать стену на прочность и устойчивость.
Когда-то к этой стене бежал из боярской неволи Яков Полочанин. Когда-то князь Вячка просил у нее силы и твердости духа.
Вечная стена… Вечны люди, жившие и живущие в этом городе, на этой земле. Прислоняюсь спиной к стене, ощущаю ее шероховатость. Впереди – безграничные просторы Двины, чайки, человеческие улыбки. За спиной – стены, история, предки…
Поклон тебе, родная земля!






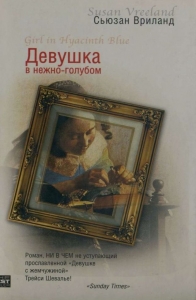

Комментарии к книге «Меч князя Вячки», Леонид Мартынович Дайнеко
Всего 0 комментариев