А. Сахаров (редактор) ПЁТР ВЕЛИКИЙ (Том 1) (Романовы. Династия в романах — 4)
Пётр I Алексеевич Великий — первый император всероссийский, родился 30 мая 1672 года, от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной, воспитанницей боярина А.С. Матвеева. Вопреки легендарным рассказам Крекшина, обучение малолетнего Петра шло довольно медленно. Предание заставляет трехлетнего ребёнка рапортовать отцу, в чине полковника; в действительности, двух с половиной лет он ещё не был отнят от груди. Мы не знаем, когда началось обучение его грамоте Н.М. Зотовым, но известно, что в 1683 г . Пётр ещё не кончил учиться азбуке. До конца жизни он продолжал игнорировать грамматику и орфографию. В детстве он знакомится с «экзерцициями солдатского строя» и перенимает искусство бить в барабан; этим и ограничиваются его военные познания до военных упражнений в с. Воробьёве (1683). Осенью этого года Пётр ещё играет в деревянных коней. Все это не выходило из шаблона тогдашних обычных «потех» царской семьи. Отклонения начинаются лишь тогда, когда политические обстоятельства выбрасывают Петра из колеи. Со смертью царя Федора Алексеевича глухая борьба Милославских и Нарышкиных переходит в открытое столкновение. 27 апреля толпа, собравшаяся перед красным крыльцом Кремлёвского дворца, выкрикнула царём Петра, обойдя его старшего брата Иоанна; 15 мая на том же крыльце Пётр стоял перед другой толпой, сбросившей Матвеева и Долгорукого на стрелецкие копья. Легенда изображает Петра спокойным в этот день бунта; вероятнее, что впечатление было сильное и что отсюда ведут начало и известная нервность Петра, и его ненависть к стрельцам.
Через неделю после начала бунта (23 мая) победители потребовали от правительства, чтобы царями были назначены оба брата; ещё неделю спустя (29-го), по новому требованию стрельцов, за молодостью царей правление вручено было царевне Софье. Партия Петра отстранена была от всякого участия в государственных делах. Наталья Кирилловна во всё время регентства Софьи приезжала в Москву лишь на несколько зимних месяцев, проводя остальное время в подмосковном селе Преображенском. Около молодого двора группировалась значительная часть знатных фамилий, не решавшихся связать свою судьбу с временным правительством Софьи. Предоставленный самому себе, Пётр отучился переносить какие-либо стеснения, отказывать себе в исполнении какого бы то ни было желания. Царица Наталья, женщина «ума малого», по выражению её родственника князя Куракина, заботилась, по-видимому, исключительно о физической стороне воспитания своего сына. С самого начала мы видим Петра окружённым «молодыми ребятами народу простого» и «молодыми людьми первых домов»; первые в конце концов взяли верх, а «знатные персоны» были отдалены. Весьма вероятно, что и простые и знатные приятели детских игр Петра одинаково заслуживали кличку «озорников», данную им Софьей.
В 1683-1685 гг. из приятелей и добровольцев организуются два полка, поселённые в сёлах Преображенском и соседнем Семеновском. Мало-помалу в Петре развивается интерес к технической стороне военного дела, заставивший его искать новых учителей и новых познаний. «Для математики, фортификации, токарного мастерства и огней артифициальных» является при Петре учитель-иностранец, Франц Тиммерман. Сохранившиеся (от 1688 г .?) учебные тетради Петра свидетельствуют о настойчивых его усилиях усвоить прикладную сторону арифметической, астрономической и артиллерийской премудрости; те же тетради показывают, что основания всей этой премудрости так и остались для Петра тайной. Зато токарное искусство и пиротехника всегда были любимыми занятиями Петра.
Единственным крупным, и неудачным, вмешательством матери в личную жизнь юноши была женитьба его на Е.Ф. Лопухиной 27 января 1689 г ., раньше достижения Петром семнадцати лет. Это была, впрочем, скорее политическая, чем педагогическая мера. Софья женила царя Иоанна тоже тотчас по достижении семнадцати лет; но у него рождались только дочери. Сам выбор невесты для Петра был продуктом партийной борьбы: знатные приверженцы его матери предлагали невесту княжеского рода, но победили Нарышкины, с Т. Стрешневым во главе, и выбрана была дочь мелкопоместного дворянина. Вслед за ней потянулись ко двору многочисленные родственники («более 30 персон», говорит Куракин). Такая масса новых искателей мест, не знавших притом «обращения дворового», вызвала против Лопухиных общее раздражение при дворе; царица Наталья скоро «невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем её в несогласии, нежели в любви» (Куракин).
Этим, так же как и несходством характеров, объясняется, что «изрядная любовь» Петра к жене «продолжилась разве токмо год», а затем Пётр стал предпочитать семейной жизни — походную, в полковой избе Преображенского полка. Новое занятие — судостроение — отвлекло его ещё дальше; с Яузы он переселился со своими кораблями на Переяславское озеро и весело проводил там время даже зимой.
Участие Петра в государственных делах ограничивалось, во время регентства Софьи, присутствием при торжественных церемониях. По мере того как Пётр подрастал и расширял свои военные забавы, Софья начинала все более тревожиться за свою власть и стала принимать меры для её сохранения. В ночь на 8 августа 1689 г . Пётр был разбужен в Преображенском стрельцами, принёсшими весть о действительной или мнимой опасности со стороны Кремля. Пётр бежал к Троице; его приверженцы распорядились созвать дворянское ополчение, потребовали к себе начальников и депутатов от московских войск и учинили короткую расправу с главными приверженцами Софьи (кн. В.В. Голицын, Сильвестр, Шакловитый). Софья была поселена в монастырь, Иоанн правил лишь номинально; фактически власть перешла к партии Петра. На первых порах, однако, «царское величестве оставил своё правление матери своей, а сам препровождал время своё в забавах экзерциций военных».
Правление царицы Натальи представлялось современникам эпохой реакции против реформационных стремлений Софьи. Пётр воспользовался переменой своего положения только для того, чтобы расширить до грандиозных размеров свои увеселения. Так, манёвры новых полков кончились в 1694 г . Кожуховскими походами, в которых «царь Федор Плешбурской» (Ромодановский) разбил «царя Ивана Семеновского» (Бутурлина), оставив на поле потешной битвы 24 настоящих убитых и 50 раненых.
Расширение морских забав побудило Петра дважды совершить путешествие на Белое море, причём он подвергался серьёзной опасности во время поездки на Соловецкие острова. За эти годы центром разгульной жизни Петра становится дом нового его любимца, Лефорта, в Немецкой слободе. «Тут началось дебошство, пьянство такое великое, что невозможно описать, что по три дни, запершись в том доме, бывали пьяны и что многим случалось оттого и умирать» (Куракин). В доме Лефорта Пётр «начал с домами иноземскими обходиться и амур начал первый быть к одной дочери купеческой» (А. Монс). «С практики», на балах Лефорта, Пётр «научился танцевать по-польски»; сын датского комиссара Бутенант учил его фехтованию и верховой езде, голландец Виниус — практике голландского языка; во время поездки в Архангельск Пётр переоделся в матросский голландский костюм. Параллельно с этим усвоением европейской внешности шло быстрое разрушение старого придворного этикета; выходили из употребления торжественные выходы в соборную церковь, публичные аудиенции и другие «дворовые церемонии». «Ругательства знатным персонам» от царских любимцев и придворных шутов, так же как и учреждение «всешутейшего и всепьянейшего собора», берут своё начало в той же эпохе.
В 1694 г . умерла мать Петра. Хотя теперь Пётр «сам понужден был вступить в управление, однако ж труда того не хотел понести и оставил все своего государства правление — министрам своим» (Куракин). Ему было трудно отказаться от той свободы, к которой его приучили годы невольного удаления от дел; и впоследствии он не любил связывать себя официальными обязанностями, поручая их другим лицам (например, «князю-кесарю» Ромодановскому, перед которым Пётр играет роль верноподданного), сам оставаясь на втором плане. Правительственная машина в первые годы собственного правления Петра продолжает идти своим ходом. Пётр вмешивается в этот ход лишь тогда и постольку, когда это оказывается необходимым для его военно-морских забав. Очень скоро, однако же, «младенческое играние» в солдаты и корабли приводит Петра к серьёзным затруднениям, для устранения которых оказывается необходимым существенно потревожить старый государственный порядок. «Шутили под Кожуховым, а теперь под Азов играть едем» — так сообщает Пётр Ф. М. Апраксину в начале 1695 г . об Азовском походе.
Уже в предыдущем году, познакомившись с неудобствами Белого моря, Пётр начал думать о перенесении своих морских занятий на какое-нибудь другое море. Он колебался между Балтийским и Каспийским; ход русской дипломатии побудил его предпочесть войну с Турцией и Крымом, и тайной целью похода назначен был Азов — первый шаг к выходу в Чёрное море. Шутливый тон скоро исчезает; письма Петра становятся лаконичнее, по мере того как обнаруживается неподготовленность войска и генералов к серьёзным действиям. Неудача первого похода заставляет Петра сделать новые усилия. Флотилия, построенная в Воронеже, оказывается, однако, малопригодной для военных действий; выписанные Петром иностранные инженеры опаздывают; Азов сдаётся в 1696 г . «на договор, а не военным промыслом». Пётр шумно празднует победу, но хорошо чувствует незначительность успеха и недостаточность сил для продолжения борьбы. Он предлагает боярам схватить «фортуну за власы» и изыскать средства для постройки флота, чтобы продолжать войну с «неверными» на море. Бояре возложили постройку кораблей на «кумпанства» светских и духовных землевладельцев, имевших не меньше ста дворов. Остальное население должно было помогать деньгами. Построенные «кумпанствами» корабли оказались позднее никуда не годными, и весь этот первый флот, стоивший населению около 900 тыс. тогдашних рублей, не мог быть употреблён ни для каких практических целей.
Одновременно с устройством «кумпанств» и ввиду той же цели, то есть войны с Турцией, решено было снарядить посольство за границу для закрепления союза против «неверных». «Бомбардир» в начале Азовского похода и «капитан» в конце, Пётр теперь примыкает к посольству в качестве «волонтёра Петра Михайлова» с целью ближайшего изучения кораблестроения. 9 марта 1697 г . посольство двинулось из Москвы с намерением посетить Вену, королей английского и датского, папу, голландские штаты, курфюрста бранденбургского и Венецию. Первые заграничные впечатления Петра были, по его выражению, «малоприятны»: рижский комендант Дальберг слишком буквально понял инкогнито царя и не позволил ему осмотреть укрепления; позднее Пётр сделал из этого инцидента casus belli.
Пышная встреча в Митаве и дружественный приём курфюрста бранденбургекого в Кенигсберге поправили дело. Из Кольберга Пётр поехал морем вперёд, на Любек и Гамбург, стремясь скорее достигнуть своей цели — второстепенной голландской верфи в Саардаме, рекомендованной ему одним из московских знакомцев. Здесь Пётр пробыл восемь дней, удивляя население маленького городка своим экстравагантным поведением. Посольство прибыло в Амстердам в середине августа и осталось там до середины мая 1698 г ., хотя переговоры были кончены уже в ноябре 1697 г . В январе 1698 г . Пётр поехал в Англию для расширения своих морских познаний и оставался там три с половиной месяца, работая преимущественно на верфи в Дептфорде. Главная цель посольства не была достигнута, так как штаты решительно отказались помогать России в войне с Турцией; зато Пётр употребил время пребывания в Голландии и в Англии для приобретения новых знаний, а посольство занималось закупками оружия и всевозможных корабельных припасов, наймом моряков, ремесленников и т. п. На европейских наблюдателей Пётр произвёл впечатление любознательного дикаря, заинтересованного преимущественно ремёслами, прикладными знаниями и всевозможными диковинками и недостаточно развитого, чтобы интересоваться существенными чертами европейской политической и культурной жизни. Его изображают человеком крайне вспыльчивым и нервным, быстро меняющим настроение и планы и не умеющим владеть собой в минуты гнева, особенно под влиянием вина. Обратный путь посольства лежал через Вену. Пётр испытал здесь новую дипломатическую неудачу, так как Европа готовилась к войне за испанское наследство и хлопотала о примирении Австрии с Турцией, а не о войне между ними. Стеснённый в своих привычках строгим этикетом венского двора, не находя и новых приманок для любознательности, Пётр спешил покинуть Вену для Венеции, где надеялся изучить строение галер. Известие о стрелецком бунте вызвало его в Россию; по дороге он успел лишь повидаться с польским королём Августом, и здесь, среди трехдневного непрерывного веселья, мелькнула первая идея заменить неудавшийся план союза против турок другим планом, предметом которого, взамен ускользнувшего из рук Чёрного моря, было бы Балтийское.
Прежде всего предстояло покончить со стрельцами и со старым порядком вообще. Прямо с дороги, не повидавшись с семьёй, Пётр проехал к Анне Монс, потом на свой Преображенский двор. На следующее утро, 26 августа 1698 г ., он собственноручно начал стричь бороды у первых сановников государства. Стрельцы были уже разбиты Шеиным под Воскресенским монастырём и зачинщики бунта наказаны. Пётр возобновил следствие о бунте, стараясь отыскать следы влияния на стрельцов царевны Софьи. Найдя доказательства скорее взаимных симпатий, чем определённых планов и действий, Пётр тем не менее заставил постричься Софью и её сестру Марфу. Этим же моментом Пётр воспользовался, чтобы насильственно постричь свою жену, не обвинявшуюся в прикосновенности к бунту. Брат царя Иоанн умер ещё в 1696 г .; никакие связи со старым не сдерживают больше Петра, и он предаётся со своими новыми любимцами, среди которых выдвигается на первое место Меншиков, какой-то непрерывной вакханалии, картину которой рисует Корб. Пиры и попойки сменяются казнями, в которых царь сам играет иногда роль палача. С конца сентября по конец октября 1698 г . было казнено более тысячи стрельцов. В феврале 1699 г . опять казнили стрельцов сотнями. Московское стрелецкое войско прекратило своё существование.
Указ от 20 декабря 1699 г . о новом летосчислении формально провёл черту между старым и новым временем. 11 ноября 1699 г . был заключён между Петром и Августом тайный договор, которым Пётр обязывался вступить в Ингрию и Карелию тотчас по заключении мира с Турцией, не позже апреля 1700 г .; Лифляндию и Эстляндию, согласно плану Паткуля, Август предоставлял себе. Мир с Турцией удалось заключить лишь в августе. Этим промежутком времени Пётр воспользовался для создания новой армии, так как «по распущении стрельцов никакой пехоты сие государство не имело». 17 ноября 1699 г . был объявлен набор новых 27 полков, разделённых на 3 дивизии, во главе которых стали командиры полков Преображенского, Лефортовского и Бутырского. Первые две дивизии (Головина и Вейде) были вполне сформированы к середине июня 1700 г .; вместе с некоторыми другими войсками, всего до 49 тыс., они были двинуты в шведские пределы на другой день по обнародовании мира с Турцией (19 августа). К неудовольствию союзников, Пётр направил свои войска к Нарве, взяв которую он мог угрожать Лифляндии и Эстляндии. Только к концу сентября войска собрались у Нарвы; только в конце октября был открыт огонь по городу. Карл ХII успел за это время покончить с Данией и неожиданно для Петра высадился в Эстляндии. Ночью с 17 на 18 ноября русские узнали, что Карл XII приближается к Нарве. Пётр уехал из лагеря, оставив командование принцу де Круа, незнакомому с солдатами и неизвестному им — и восьмитысячная армия Карла XII, усталая и голодная, разбила без всякого труда сорокатыcячное войско Петра.
Надежды, возбуждённые в Петре путешествием по Европе, сменяются разочарованием. Карл XII не считает нужным преследовать далее такого слабого противника и обращается против Польши. Сам Пётр характеризует своё впечатление словами: «тогда неволя леность отогнала и ко трудолюбию и искусству день и ночь принудила». Действительно, с этого момента Пётр преображается. Потребность деятельности остаётся прежняя, но она находит себе иное, лучшее приложение; все помыслы Петра устремлены теперь на то, чтобы одолеть соперника и укрепиться на Балтийском море. За восемь лет он набирает около 200 тыс. солдат и, несмотря на потери от войны и от военных порядков, доводит численность армии с 40 до 100 тыс. Стоимость этой армии обходится ему в 1709 г . почти вдвое дороже, чем в 1701 г .: 1 810 000 руб. вместо 982 000. За первые шесть лет войны уплачено было сверх того субсидий королю польскому около полутора миллиона. Если прибавить сюда расходы на флот, на артиллерию, на содержание дипломатов, то общий расход, вызванный войной, окажется 2,3 млн в 1701 г ., 2,7 млн в 1706 г . и 3,2 млн в 1710 г . Уже первая из этих цифр была слишком велика в сравнении с теми средствами, которые до Петра доставлялись государству населением (около 1,5 млн). Надо было искать дополнительных источников дохода. Первое время Пётр мало заботится об этом и просто берет для своих целей из старых государственных учреждений не только их свободные остатки, но даже и те их суммы, которые расходовались прежде на другое назначение; этим расстраивается правильный ход государственной машины. И всё-таки крупные статьи новых расходов не могли покрываться старыми средствами, и Пётр для каждой из них принуждён был создать особый государственный налог. Армия содержалась из главных доходов государства — таможенных и кабацких пошлин, сбор которых передан был в новое центральное учреждение — ратушу. Для содержания новой кавалерии, набранной в 1701 г ., понадобилось назначить новый налог («драгунские деньги»); точно так же — и на поддержание флота («корабельные»). Потом сюда присоединяется налог на содержание рабочих для постройки Петербурга («рекрутные», «подводные»); а когда все эти налоги становятся уже привычными и сливаются в общую сумму постоянных («окладных»), к ним присоединяются новые экстренные сборы («запросные», «неокладные»). И этих прямых налогов, однако, скоро оказалось недостаточно, тем более что собирались они довольно медленно и значительная часть оставалась в недоимке. Рядом с ними придумывались поэтому другие источники дохода. Самая ранняя выдумка этого рода — введённая по совету Курбатова гербовая бумага — не дала ожидавшихся от неё барышей. Тем большее значение имела порча монеты. Перечеканка серебряной монеты в монету низшего достоинства, но прежней номинальной цены дала по 946 тыс. в первые три года (1701-1703), по 313 тыс. — в следующие три; отсюда были выплачены иностранные субсидии. Однако скоро весь металл был переделан в новую монету, а стоимость её в обращении упала наполовину; таким образом, польза от порчи монеты была временная и сопровождалась огромным вредом, роняя стоимость всех вообще поступлений казны (вместе с упадком стоимости монеты). Новой мерой для повышения казённых доходов была переоброчка в 1704 г . старых оброчных статей и отдача на оброк новых; все владельческие рыбные ловли, домашние бани, мельницы, постоялые дворы обложены были оброком, и общая цифра казённых поступлений по этой статье поднялась к 1708 г . с 300 до 670 тыс. ежегодно. Далее, казна взяла в свои руки продажу соли, принёсшую ей до 300 тыс. ежегодного дохода, табака (это предприятие оказалось неудачным) и ряда других сырых продуктов, дававших до 100 тыс. ежегодно. Все эти частные мероприятия удовлетворяли главной задаче — пережить как-нибудь трудное время.
Систематической реформе государственных учреждений Пётр не мог в эти годы уделить ни минуты внимания, так как приготовление средств борьбы занимало все его время и требовало его присутствия во всех концах государства. В старую столицу Пётр стал приезжать только на святки; здесь возобновлялась обычная разгульная жизнь, но вместе с тем обсуждались и решались наиболее неотложные государственные дела. Полтавская победа дала Петру впервые после нарвского поражения возможность вздохнуть свободно. Необходимость разобраться в массе отдельных распоряжений первых годов войны становилась все настоятельнее; и платёжные средства населения, и ресурсы казны сильно оскудели, а впереди предвиделось дальнейшее увеличение военных расходов. Из этого положения Пётр нашёл привычный уже для него исход: если средств не хватало на все, они должны были быть употреблены на самое главное, то есть на военное дело. Следуя этому правилу, Пётр и раньше упрощал финансовое управление страною, передавая сборы с отдельных местностей прямо в руки генералов, на их расходы, и минуя центральные учреждения, куда деньги должны были поступать по старому порядку. Всего удобнее было применить этот способ в новозавоеванной стране — в Ингерманландии, отданной в «губернацию» Меншикову. Тот же способ был распространён на Киев и Смоленск — для приведения их в оборонительное положение против нашествия Карла XII, на Казань — для усмирения волнений, на Воронеж и Азов — для постройки флота. Пётр только суммирует эти частичные распоряжения, когда приказывает (18 декабря 1707 г .) «росписать города частьми, кроме тех, которые в 100 в. от Москвы, — к Киеву, Смоленску, Азову, Казани, Архангельскому».
После полтавской победы эта неясная мысль о новом административно-финансовом устройстве России получила дальнейшее развитие. Приписка городов к центральным пунктам для взимания с них всяких сборов предполагала предварительное выяснение, кто и что должен платить в каждом городе. Для приведения в известность плательщиков назначена была повсеместная перепись; для приведения в известность платежей велено было собрать сведения из прежних финансовых учреждений. Результаты этих предварительных работ обнаружили, что государство переживает серьезный кризис. Перепись 1710 г . показала, что, вследствие беспрерывных наборов и побегов от податей, платежное население государства сильно уменьшилось: вместо 791 тыс. дворов, числившихся по переписи 1678 г ., новая перепись насчитала только 637 тыс; на всем севере России, несшем до Петра главную часть финансовой тягости, убыль достигала даже 40 процентов. Ввиду такого неожиданного факта правительство решило игнорировать цифры новой переписи, за исключением мест, где они показывали прибыль населения (например, в Сибири); по всем остальным местностям решено было взимать подати сообразно со старыми, фиктивными цифрами плательщиков. И при этом условии, однако, оказывалось, что платежи не покрывают расходов: первых было 3134 тыс., последних — 3834 тыс. руб. Около 200. тыс. могло быть покрыто из соляного дохода; остальные полмиллиона составляли постоянный дефицит. Во время рождественских съездов генералов Петра в 1709 и 1710 г . города России были окончательно распределены между 8 губернаторами; каждый в своей «губернии» собирал все подати и направлял их прежде всего на содержание армии, флота, артиллерии и дипломатии. Эти «четыре места» поглощали весь констатированный доход государства; как будут покрывать губернии другие расходы, и прежде всего свои, местные — этот вопрос оставался открытым. Дефицит был устранен просто сокращением на соответственную сумму государственных расходов. Так как содержание армии было главной целью при введении губерний, то дальнейший шаг этого нового устройства состоял в том, что на каждую губернию возложено было содержание определенных полков. Для постоянных сношений с ними губернии назначили к полкам своих «комиссаров». Самым существенным недостатком такого устройства, введенного в действие с 1712 г ., было то, что оно фактически упраздняло старые центральные учреждения, но не заменяло их никакими другими. Губернии непосредственно сносились с армией и с высшими военными учреждениями, но над ними не было никакого высшего присутственного места, которое бы могло контролировать и соглашать их функционирование. Потребность в таком центральном учреждении почувствовалась уже в 1711 г ., когда Петр должен был покинуть Россию для прутского похода. «Для отлучек своих» Петр создал сенат. Губернии должны были назначить в сенат своих комиссаров, «для спроса и принимания указов». Но все это не определяло с точностью взаимного отношения сената и губерний. Все попытки сената организовать над губерниями такой же контроль, какой над приказами имела учрежденная в 1701 г . «Ближняя канцелярия», кончились совершенной неудачей. Безответственность губернаторов являлась необходимым последствием того, что правительство само постоянно нарушало установленные в 1710-1712 гг. порядки губернского хозяйства, брало у губернатора деньги не на те цели, на которые он должен был платить их по бюджету, свободно распоряжалось наличными губернскими суммами и требовало от губернаторов все новых и новых «приборов», то есть увеличения дохода, хотя бы ценой угнетения населения. Основная причина всех этих нарушений заведенного порядка была та, что бюджет 1710 г . фиксировал цифры необходимых расходов, в действительности же они продолжали расти и не умещались более в рамках бюджета. Рост армии теперь, правда, несколько приостановился; зато быстро увеличивались расходы на балтийский флот, на постройки в новой столице (куда правительство в 1714 г . окончательно перенесло свою резиденцию), на оборону южной границы. Приходилось опять изыскивать новые, сверхбюджетные ресурсы. Назначать новые прямые налоги было почти бесполезно, так как и старые платились все хуже и хуже по мере обеднения населения. Перечеканка монеты, казенные монополии также не могли дать больше того, что уже дали. На смену губернской системе возникает сам собою вопрос о восстановлении центральных учреждений; хаос старых и новых налогов, «окладных», «повсегодных» и «запросных», вызывает необходимость консолидации прямой подати; безуспешное взыскание налогов по фиктивным цифрам 1678 г . приводит к вопросу о новой переписи и об изменении податной единицы; наконец, злоупотребление системой казённых монополий выдвигает вопрос о пользе для государства свободной торговли и промышленности. Реформа вступает в свой третий, и последний, фазис: до 1710 г . она сводилась к накоплению случайных распоряжений, продиктованных потребностью минуты; в 1708-1712 гг. были сделаны попытки привести эти распоряжения в некоторую чисто внешнюю, механическую связь; теперь возникает сознательное, систематическое стремление воздвигнуть на теоретических основаниях вполне новую государственную постройку. Вопрос, в какой степени сам Пётр лично участвовал в реформах последнего периода, остаётся до сих пор ещё спорным. Архивное изучение истории Петра обнаружило в последнее время целую массу «доношений» и проектов, в которых обсуждалось почти все содержание правительственных мероприятий Петра. В этих докладах, представленных русскими и особенно иностранными советниками Петра добровольно или по прямому вызову правительства, положение дел в государстве и важнейшие меры, необходимые для его улучшения, рассмотрены очень обстоятельно, хотя и не всегда на основании достаточного знакомства с условиями русской действительности. Пётр сам читал многие из этих проектов и брал из них все то, что прямо отвечало интересовавшим его в данную минуту вопросам — особенно вопросу об увеличении государственных доходов и о разработке природных богатств России. Для решения более сложных государственных задач, например, о торговой политике, финансовой и административной реформе, Пётр не обладал необходимой подготовкой; его участие ограничивалось здесь постановкой вопроса, большею частью на основании словесных советов кого-либо из окружающих, и выработкой окончательной редакции закона; вся промежуточная работа — собирание материалов, разработка их и проектирование соответствующих мер — возлагалась на более сведущих лиц. В частности, по отношению к торговой политике Пётр сам «не раз жаловался, что из всех государственных дел для него ничего нет труднее коммерции и что он никогда не мог составить себе ясного понятия об этом деле во всей его связи» (Фокеродт). Однако государственная необходимость заставила его изменить прежнее направление русской торговой политики — и важную роль при этом сыграли советы знающих людей. Уже в 1711-1713 гг. правительству был представлен ряд проектов, в которых доказывалось, что монополизация торговли и промышленности в руках казны вредит, в конце концов, самому фиску и что единственный способ увеличить казённые доходы от торговли — восстановление свободы торгово-промышленной деятельности. Около 1715 г . содержание проектов становится шире; в обсуждении вопросов принимают участие иностранцы, словесно и письменно внушающие царю и правительству идеи европейского меркантилизма — о необходимости для страны выгодного торгового баланса и о способе достигнуть его систематическим покровительством национальной промышленности и торговле путём открытия фабрик и заводов, заключения торговых договоров и учреждения тортовых консульств за границей.
Раз усвоив эту точку зрения, Пётр со своей обычной энергией проводит её во множестве отдельных распоряжений. Он создаёт новый торговый порт (Петербург) и насильственно переводит туда торговлю из старого (Архангельск), начинает строить первые искусственные водяные пути сообщения, чтобы связать Петербург с Центральной Россией, усиленно заботится о расширении активной торговли с Востоком (после того как на Западе его попытки в этом направлении оказались малоуспешными), даёт привилегии устроителям новых заводов, выписывает из-за границы мастеров, лучшие орудия, лучшие породы скота и т. д. Менее внимательно он относится к идее финансовой реформы. Хотя и в этом отношении сама жизнь показывает неудовлетворительность действовавшей практики, а ряд представленных правительству проектов обсуждает разные возможные реформы, тем не менее Пётр интересуется здесь лишь вопросом о том, как разложить на население содержание новой, постоянной армии. Уже при учреждении губерний, ожидая после полтавской победы скорого мира, Пётр предполагал распределить полки между губерниями по образцу шведской системы. Эта мысль снова всплывает в 1715 г .; Пётр приказывает сенату рассчитать, во что обойдётся содержание солдата и офицера, предоставляя самому сенату решить, должен ли быть покрыт этот расход с помощью подворного налога, как было раньше, или с помощью подушного, как советовали разные «доносители». Техническая сторона будущей податной реформы разрабатывается правительством Петра, а затем он со всей энергией настаивает на скорейшем окончании необходимой для реформы подушной переписи и на возможно скорой реализации нового налога. Действительно, подушная подать увеличивает цифру прямых налогов с 1,8 до 4,6 миллионов, составляя более половины бюджетного прихода (8,5 миллиона). Вопрос об административной реформе интересует Петра ещё меньше: здесь и сама мысль, и разработка её, и приведение в исполнение принадлежит советникам-иностранцам (особенно Генриху Фику), предложившим Петру восполнить недостаток центральных учреждений в России посредством введения шведских коллегий.
На вопрос, что преимущественно интересовало Петра в его реформационной деятельности, уже Фокеродт дал ответ весьма близкий к истине: «он особенно и со всей ревностью старался улучшить свои военные силы». Действительно, в своём письме к сыну Пётр подчёркивает мысль, что воинским делом «мы от тьмы к свету вышли, и (нас), которых не знали в свете, ныне почитают». «Войны, занимавшие Петра всю жизнь, — продолжает Фокеродт, — и заключаемые по поводу этих войн договоры с иностранными державами заставляли его обращать внимание также и на иностранные дела, хотя он полагался тут большею частью на своих министров и любимцев… Самым его любимым и приятным занятием было кораблестроение и другие дела, относящиеся к мореходству. Оно развлекало его каждый день, и ему должны были уступать даже самые важные государственные дела… О внутренних улучшениях в государстве — о судопроизводстве, хозяйстве, доходах и торговле — он мало или вовсе не заботился в первые тридцать лет своего царствования и бывал доволен, если только его адмиралтейство и войско достаточным образом снабжались деньгами, дровами, рекрутами, матросами, провиантом и амуницией».
Тотчас после полтавской победы поднялся престиж России за границей. Из Полтавы Пётр идёт прямо на свидание с польским и прусским королями; в середине декабря 1709 г . он возвращается в Москву, но в середине февраля 1710 г . снова её покидает. Половину лета, до взятия Выборга, он проводит на взморье, остальную часть года — в Петербурге, занимаясь его обстройкой и брачными союзами племянницы Анны Иоанновны с герцогом Курляндским и сына Алексея с принцессой Вольфенбюттельской. 17 января 1711 г . Пётр выехал из Петербурга в прутский поход, затем прямо проехал в Карлсбад, для леченья водами, и в Торгау, для присутствия при браке царевича Алексея. В Петербург он вернулся лишь к новому году. В июне 1712 г . Пётр опять покидает Петербург почти на год; он едет к русским войскам в Померанию, в октябре лечится в Карлсбаде и Теплице, в ноябре, побывав в Дрездене и Берлине, возвращается к войскам в Мекленбург, в начале следующего 1713 г . посещает Гамбург и Рендсбург, проезжает в феврале через Ганновер и Вольфенбюттель в Берлин, для свидания с новым королём Фридрихом-Вильгельмом, потом возвращается в С.-Петербург. Через месяц он уже в Финляндском походе и, вернувшись в середине августа, продолжает до конца ноября предпринимать морские поездки. В середине января 1714 г . Пётр на месяц уезжает в Ревель и Ригу; 9 мая он опять отправляется к флоту, одерживает с ним победу при Гангуте и возвращается в Петербург 9 сентября. В 1715 г . с начала июля до конца августа Пётр находится с флотом на Балтийском море. В начале 1716 г . Пётр покидает Россию почти на два года; 24 января он уезжает в Данциг, на свадьбу племянницы Екатерины Ивановны с герцогом Мекленбургским; оттуда через Штеттин едет в Пирмонт для леченья; в июне отправляется в Росток к галерной эскадре, с которою в июле появляется у Копенгагена; в октябре Пётр едет в Мекленбург, оттуда в Гавельсберг, для свидания с прусским королём, в ноябре — в Гамбург, в декабре — в Амстердам, в конце марта следующего 1717 г . — во Францию. В июне мы видим его в Спа, на водах, в середине июля — в Амстердаме, в сентябре — в Берлине и Данциге; 10 октября он возвращается в Петербург. Следующие два месяца Пётр ведёт довольно регулярную жизнь, посвящая утро работам в адмиралтействе и разъезжая затем по петербургским постройкам. 15 декабря он едет в Москву, дожидается там привоза сына Алексея из-за границы и 18 марта 1718 г . выезжает обратно в Петербург. 30 июня хоронили, в присутствии Петра, Алексея Петровича; в первых числах июля Пётр выехал уже к флоту и после демонстрации у Аландских островов, где велись мирные переговоры, возвратился 3 сентября в Петербург, после чего ещё трижды ездил на взморье и раз в Шлиссельбург. В следующем 1719 г . Пётр выехал 19 января на Олонецкие воды, откуда вернулся 3 марта. 1 мая он вышел в море и в Петербург вернулся только 30 августа. В 1720 г . Пётр пробыл март месяц на Олонецких водах и на заводах; с 20 июля до 4 августа плавал к финляндским берегам. В 1721 г . он совершил поездку морем в Ригу и Ревель (11 марта — 19 июня). В сентябре и октябре Пётр праздновал Ништадтский мир в С.-Петербурге, в декабре — в Москве. В 1722 г . 15 мая Пётр выехал из Москвы в Нижний Новгород, Казань и Астрахань; 18 июля он отправился из Астрахани в Персидский поход (до Дербента), из которого вернулся в Москву только 11 декабря. Возвратившись в С.-Петербург 3 марта 1723 г ., Пётр уже 30 марта выехал на новую финляндскую границу; в мае и июне он занимался снаряжением флота и затем на месяц отправился в Ревель и Рогервик, где строил новую гавань.
В 1724 г . Пётр сильно страдал от нездоровья, но оно не заставило его отказаться от привычек кочевой жизни, что и ускорило его кончину. В феврале он едет в третий раз на Олонецкие воды; в конце марта отправляется в Москву для коронования императрицы, оттуда совершает поездку на Миллеровы воды и 16 июня выезжает в С.-Петербург; осенью ездит в Шлиссельбург, на Ладожский канал и Олонецкие заводы, затем в Новгород и в Старую Руссу для осмотра соляных заводов; только когда осенняя погода решительно мешает плавать по Ильменю, Пётр возвращается (27 октября) в С.-Петербург. 28 октября он едет с обеда у Ягужинского на пожар, случившийся на Васильевском острове; 29-го отправляется водой в Сестербек и, встретив по дороге севшую на мель шлюпку, по пояс в воде помогает снимать с неё солдат. Лихорадка и жар мешают ему ехать дальше; он ночует на месте и 2 ноября возвращается в С.-Петербург. 5-го он сам себя приглашает на свадьбу немецкого булочника, 16-го казнит Монса, 24-го празднует обручение дочери Анны с герцогом Голштинским. Увеселения возобновляются по поводу выбора нового князя-папы 3-го и 4 января 1725 г . Суетливая жизнь идёт своим чередом до конца января, когда наконец приходится прибегнуть к врачам, которых Пётр до того времени не хотел слушать. Но время оказывается пропущенным и болезнь — неисцелимой; 22 января воздвигают алтарь возле комнаты больного и причащают его, 26-го «для здравия» его выпускают из тюрем колодников, а 28 января, в четверть шестого утра, Пётр умирает, не успев распорядиться судьбой государства.
Простой перечень всех передвижений Петра за последние 15 лет его жизни даёт уже прочувствовать, как распределялось время Петра и его внимание между занятиями разного рода. После флота, армии и иностранной политики наибольшую часть своей энергии и своих забот Пётр посвящал Петербургу. Петербург — личное дело Петра, осуществлённое им вопреки препятствиям природы и сопротивлению окружающих. С природой боролись и гибли в этой борьбе десятки тысяч русских рабочих, вызванных на пустынную, заселённую инородцами окраину; с сопротивлением окружающих справился сам Пётр приказаниями и угрозами. Суждения современников Петра об этой его затее можно прочесть у Фокеродта.
Мнения о реформе Петра чрезвычайно расходились уже при его жизни. Небольшая кучка ближайших сотрудников держалась мнения, которое впоследствии Ломоносов формулировал словами: «он Бог твой, Бог твой был, Россия». Народная масса, напротив, готова была согласиться с утверждением раскольников, что Пётр был антихрист. Те и другие исходили из того общего представления, что Пётр совершил радикальный переворот и создал новую Россию, не похожую на прежнюю. Новая армия, флот, сношения с Европой, наконец, европейская внешность и европейская техника — все это были факты, бросавшиеся в глаза; их признавали все, расходясь лишь коренным образом в их оценке. То, что одни считали полезным, другие признавали вредным для русских интересов; что одни считали великой заслугой перед отечеством, в том другие видели измену родным преданиям; наконец, где одни видели необходимый шаг вперёд по пути прогресса, другие признавали простое отклонение, вызванное прихотью деспота. Оба взгляда могли приводить фактические доказательства в свою пользу, так как в реформе Петра перемешаны были оба элемента — и необходимости, и случайности. Элемент случайности больше выступал наружу, пока изучение истории Петра ограничивалось внешней стороной реформы и личной деятельности преобразователя. Написанная по его указам история реформы должна была казаться исключительно личным делом Петра. Другие результаты должно было дать изучение той же реформы в связи с её прецедентами, а также в связи с условиями современной ей действительности. Изучение прецедентов Петровской реформы показало, что во всех областях общественной и государственной жизни — в развитии учреждений и сословий, в развитии образования, в обстановке частного быта — задолго до Петра обнаруживаются те самые тенденции, которым даёт торжество Петровская реформа. Являясь, таким образом, подготовленной всем прошлым развитием России и составляя логический результат этого развития, реформа Петра, с другой стороны, и при нём ещё не находит достаточной почвы в русской действительности, а потому и после Петра во многом надолго остаётся формальной и видимой. Новое платье и «ассамблеи» не ведут к усвоению европейских общественных привычек и приличий; точно так же новые, заимствованные из Швеции учреждения не опираются на соответственное экономическое и правовое развитие массы. Россия входит в число европейских держав, но на первый раз только для того, чтобы почти на полвека сделаться орудием в руках европейской политики. Из 42 цифирных провинциальных школ, открытых в 1716-1722 гг., только 8 доживают до середины века; из 2000 навербованных, большею частью силой, учеников действительно выучиваются к 1727 году только 300 на всю Россию. Высшее образование, несмотря на проект «Академии», и низшее, несмотря на все приказания Петра, остаются надолго мечтой.
Для библиографии Петра Великого см. «Отечественные Записки», 1856, CIV: «Несколько редких и малоизвестных иноязычных сочинений, относящихся до Петра Великого и его века» (стр. 345-395); Minzloff, «Pierre le Grand dans la litterature etrangere» (СПб., 1873, стр. 691) и его же, «Supplement» (СПб., 1872, стр. 692-721); В. И. Межов, «Юбилей Петра Великого» (СПб., 1881, стр. 230); Е. Ф. Шмурло, «Пётр Великий в русской литературе» (СПб., 1889, стр. 136, оттиск из «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1889). Важнейшие источники и сочинения о Петре: «Журнал или подённая записка Петра Великого с 1698 г . до заключения Нейштатского мира» (СПб., 1770— 1772 г .; составлено кабинет-секретарём Петра, Макаровым, многократно исправлено самим государем и издано историком Щербатовым); И, Кириллов, «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привёл и оставил неизречёнными трудами Пётр Великий, отец отечествия» М, 1831); Голиков, «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (М., 1788-1789, 12 частей) и «Дополнения к деяниям Петра Великого» (М., 1790-1797, 18 частей); второе издание трудов Голикова, в котором «Дополнения» перепечатаны после соответствующих годов «Деяний» и в конце прибавлен Указатель, издано в 15 томах (М., 1837-1843). Главным образом на материале Голикова основаны: «Жизнь Петра Великого», описанная Галеном (пер. с нем., СПб., 1812— 1813), и «История Петра Великого» В. Бергмана (пер. с нем., СПб., 1833; 2-е изд., 1840-1841); «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом» (М., 1872; преимущественно выписки из бумаг дворцовых и др. приказов, а также кабинета); «Письма и бумаги Петра Великого», капитальное издание, исчерпывающее материал «писем» и помещающее в примечаниях массу данных (до сих пор вышло три части, СПб., 1887-1893; доведено до 1705 года); «Доклады и приговоры, состоявшиеся в правительствующем сенате в царствование Петра Великого» (СПб., 1880-1892; обнимает 1711-1715 годы; драгоценный материал для истории административной и финансовой реформы, извлечённый из московского архива министерства юстиции); «Архив кн. Ф. В. Куракина» (села Надеждина), кн. 1-5 (СПб., 1890-1894). Описания архивов: сенатского (П. И. Баранова), синодского (первые пять томов), морского министерства. Полное Собрание Законов Российской Империи, т. II-VII, и Полное Собрание Постановлений и Распоряжений по Ведомству Православного Исповедания Российской Империи, первые четыре тома (с 1721 г .). Н. Устрялов, «История царствования Петра Великого» (СПб., 1859-1863; доведена до конца 1706 г .; отдельно изложено дело царевича Алексея); Соловьёв, «История России с древнейших времён», т. XIII-XVIII (III и IV в изд. «Обществ. Пользы»).
Энциклопедический словарь. Издание Брокгауза и Ефрона, Т . XXII Б, СПб., 1858Л. Жданов ПЁТР И СОФЬЯ (РОМАН)
От автора (ко второму изданию)
История человечества — это почти сплошной «чёрный свиток» ошибок, преступлений и грехов целых народов и отдельных выдающихся лиц.
Но иногда гений истории как бы для утешения записывает свои самые яркие, светлые страницы на бесконечном свитке бытия человеческого. Создаёт «великих вождей» народа.
И таким «великим господином» народа явился у нас Пётр.
Бармы[1] Мономаха оказались ему не только по плечу; венец царства Московского не только пришёлся впору юному «работнику на троне», победителю Карла XII, первого вождя той эпохи. Нет!
Все священные одежды могущества земного и власти всенародной оказались малы истинно великому. И он из царства создал Российскую империю, сковал так прочно и разумно её основы, что ни последующие преемники, ни злоба соседей-врагов, ни самый рок, порою словно восстающий на Русь, — никто и ничто не могли разрушить, не в силах были даже задержать, не то что остановить гигантский рост стройного создания Великого Петра.
Правда, этот гигант превосходил своё окружение не только в творческих замыслах и великих проникновениях в судьбы родины, но и в страстях и пороках.
Сын своего века, Пётр не знал удержу ни в чём.
Но даже такой поступок, как казнь родного сына, поражает своей сложностью. И трудно сказать: дикое ли это безрассудство или нечеловеческий подвиг?!
Кровавые расправы со стрелецкой буйной силою, с сестрой, царевной Софьей, с женою, со всеми, кто смел стать ему на пути, заставляют наш дух трепетать от жалости и ужаса…
Однако не одни казни и кровь служили связующим началом для смелых начинаний крутого реформатора, свершившего, подобного Гераклу, огромную работу по очищению русла русской народно-государственной жизни от заносов косной татарщины, от суеверно-бездушных начал приказно-патриархального строя, от духовно-боярского византизма, представители которого по-старому стремились владеть «людишками подлыми» и Русской землёю, править ею самовольно от имени государя московского и всея Руси.
Заточив Софью, разгромив силу стрелецкую при помощи новых преторианцев[2] — преображенцев и семеновцев, Пётр на деле стал единым, самодержавным главою царства, которое принял в виде «затейливых и душных деревянных хором Московии», а оставил каменным, величавым, хотя и напоминавшим казармы, храмом, мировой империей Российской.
Кто знает, что ждало ещё Русь, не умри Пётр так сравнительно рано? Как проявился бы он вообще, что свершил бы этот титан духа и мощный телом человек, не будь омрачено его детство трагической тенью Софьи, властной «царь-девицы»? Не будь ступени кремлёвского крыльца орошены кровью мученика Матвеева[3], кровью Нарышкиных, дядей юного Петра? Не будь этих буйных пьяных громад стрелецких, грозивших гибелью мальчику-царю и матери его царице Наталье?..
Но и эти тёмные переживания не сломили светлой мысли царя воителя и работника. Даже больше чем полководцем — был он преобразователем Московского царства, широким ясным умом улавливая стремления и судьбы своего народа.
Это именно и обеспечило Петру поддержку и сочувствие со стороны лучшей части тогдашнего просвещённого общества, какое существовало в России, хотя и в зачаточном состоянии.
Самодержавное правление Петра служило как бы переходной ступенью к тем новым, «коллегиальным», закономерным рамкам общежития государственного, о которых не ведали при Тишайшем царе, поспешившем дать сумбурное «Соборное уложение» бессудной и бесправной дотоле Русской земле. И полное завершение этих начал увидели мы только в наши дни.
В этой именно работе Великого преобразователя кроется залог народных упований и до последних дней. В этом залог неиссякаемых сил, дающих право России на мировое место не только по численности её сынов, но и по вечному стремлению народа к совершенствованию; кто бы ни стоял на пути, ничто не помешает этому неудержимому стремлению вперёд, вечно к лучшему, к наиболее высокому и славному что доступно людям на земле.
В настоящей книге старался я наметить и нарисовать главнейшие мгновения тяжёлых переживаний юного Петра, его первых выступлений на сцену Истории, закончившихся разгромом стрелецких громад.
Борьба с Карлом XII, создание империи, прутская неудача[4], казнь Алексея и смерть самого Петра Великого послужат содержанием следующих двух книг, которые выйдут после настоящей.
И если хотя немного помогу я читателю проникнуть взором в то Былое, из которого возникло наше Настоящее, — буду глубоко порадован.
Л. Ж. Март, 1940 г .
Часть 1
Глава I. ПАДЕНИЕ МАТВЕЕВА
Не успели замуровать склеп, где положено было тело Алексея, Тишайшего царя, как тёмные слухи, неясные и сбивчивые, пошли по всей земле Московской.
Пускай указы дворцовые говорят только одно угодное боярам и дьякам, приказным сочинителям; пускай Симеон Полоцкий[5] и иные придворные пииты и риторы пишут и выпускают в свет свои элегии и оды… Народ узнает настоящую правду гораздо скорее, чем хотелось бы этого захребетникам дворцовым, населявшим Кремль и самый дворец царский.
Кроме господ, толпа челяди, мужиков и баб ютится по людским избам на царском дворе. И тысячью путей эта тысячеустая толпа разносит по Москве вести обо всём, что ни творится самого тайного в Кремле, за его высокой каменной оградою.
Спрятаться можно от друзей и врагов, укрыть тайну от ближайшей родни, но не от слуг, которые слышат, не слушая, видят все, не глядя кругом…
Собственных интересов у челяди так мало. И не сложны они.
Сыт, обут да пьян порой, и ладно. А пустоту в душе и уме раб пополняет наблюдениями над жизнью господ, обсуждая каждый их поступок с особенным вниманием и строгостью.
А как в широкий мир проникают вести из-за стен кремлёвских, тоже не трудно угадать.
Вот из нижних, Портомойных ворот[6] Кремля выкатились большие, тяжёлые пошевни[7], окружённые гурьбой прачек, молодых бабёнок.
Важно шествует за ними старая, толстая боярыня-надзирательница. Это везут царское бельё полоскать на реку.
У воды, где много других, посадских баб полощет свой цветной и белый скарб, — сани остановились. Снимают сукно, под которым стоит большой простой сундук, срывают с замка печать, которой он был припечатан. Начинают добывать из середины груды белья и лёгких платьев царя, царицы, всей семьи царской. Полоскать принимаются бабёнки, вальками стучать портомойницы царские, а языками ещё проворней, чем руками, работают. И о чём толкуют между собою и со знакомыми посадскими бабами — разве может уловить боярыня, которая поёживается от холоду речного в своей шубе.
Ей только и заботы: все бы в целости вернулось в сундук царский; не ушло бы что под воду из рук неловкой мастерицы-прачки.
А то конюхи выведут коней поить к реке или уйдёт с очередного дежурства толпа дворовых людей царских, да по пути в свои слободы отдельные — забредёт иной к знакомым и родным на посадах.
И никто не знает в Кремле, о чём толкует с посадскими по душам, иной челядинец дворцовый.
А на Москве и наезжего люду много всегда найдётся, даже и зарубежных, не только из своих, дальних городов.
Иностранные послы и купцы пишут за грань московскую, близким людям и государям своим обо всём, что творится за крепкими, хотя и начинающими ветшать, стенами Кремля, за его башнями и воротами тройными, тяжёлыми, за опускными решётками железными…
По обителям местным и дальним летописцы-иноки в свои тетради заносят летучие вести все, правдивые и ложные.
А по кружалам[8] да площадям простой люд на лету ловит каждую весточку, от себя прибавит немало да и пустит гулять по свету кремлёвскую тайну глубокую, ставшую общим достоянием людской молвы…
Самые осторожные, недоверчивые люди, прислушавшись к разноречивым толкам, видят их нелепость и несоответствие между собою; но всё-таки, покачивая головою, говорят:
— Нет дыму без огня… Вон, как помирал царь Михайло, все загодя знали: государить царю Алексею опосля него… И бояре смирно сидели, и стрельцы в царские дела не мешалися, знали службишку свою немудрёную да торговый обиход… А ныне — вона, ждали, што молодший, Петра-царевич, отца любимчик, здоровенький, и в цари попадёт, хошь бы не один, а с братом… Да на мест тово… Воинством ратным, стрельцами да пешими стали бояре друг дружку пужать… Не бывать добру… Не миновать худа… Царь-то новый, Федор Алексеевич, юный и хворый… Вестимо, не сам загосударит, а ближние его: Милославские да Хитрово… А их мы ведаем, повадки ихние знаем… Ох, што-то будет?..
Так гадали и думали самые осторожные, не легкомысленные люди. И эти предчувствия скоро сбылись.
Но сначала гладко на вид, все по-старому шло. Вертелись старые колёса налаженной государственной машины, все делалось по-бывалому, как по-писаному.
Федор занемог в самый день смерти отца, поправлялся очень медленно и не скоро получил возможность лично участвовать в управлении царством. Да и поправясь, принялся за дело неуверенно, осторожно.
От природы он был нерешителен, хотя и упрям порою. А печальная ночь кончины отца наложила тяжёлую печать на юношу-государя.
— Што с тобой, государь-братец, аль от недуга стал такой ты, Федюшка? — спрашивала его порой Софья, с которой царь стал ещё дружнее, чем был раньше, словно желая набраться сил от этой крепкой духом и телом, порывистой и умной девушки.
— Нет, сестричка… Так… И сказать не умею… Вот и лучше мне, телесам-то, а на серце ровно бы тяжеле, ничем и в скорбные дни, как хворый я лежал… Да, слышь, Софьюшка, все мне одно вспоминается… Из ума нейдёт. Вот ровно вижу наяву… А давно было… Года с три, почитай, минуло.
— Што там тебе ещё мерещится? Ну-ко, поведай, чудовой ты… Пра, чудной.
— Да, слышь, батюшка-покойник на охоту меня взял однова… На сохатых, в лес заповедный, в Лосиный бор… И матка с телёнком выскочила. Псы кругом. Лосиха и бежать не бежит, телёночка ей жаль. Охота ей, видно, чтобы он в чащу ушёл. А тот, глупый, к ей все жмётся, под ноги кидается, мешает ей.
— Глупый…
— Побежит-побежит она с им рядом и обернётся, собак рогами отмахивает. Псы — от них подале. Она и сызнова с телёночком на уход. И под конец, видно, выразумел он: от матки в кусты и бежит. Псы не глядят на телёнка, матку обступили… Она их рогами бьёт, раскидывает… А как увидала, что детёныша не видать, сама за им пустилася… Я уж стою и не бью сам и людям не велю.. Ушла бы, думаю… А псы — за маткой, и не отозвать их. Хватают, рвут её сзади… Она отмахнётся — и наутёк… Да, слышь, — спотыкнулась ли, али с наскоку псы её спрокинули, — свалилась на миг матка-то… Тут псы разом, куды и страх делся… Накинулись, за горло… за бока… Тут уж подскакал я — пристрелил сам, жалеючи… Вот и думается: не спотыкнись она… не пади на землю — не посмели бы псы рвать… А упала…
— И пропала, — договорила Софья, охотница до созвучий и сама, по примеру Симеона, сочинительница стихов. — Так уж во всём, Федя. «Лежачего не бьют», — оно так ранней было… Ныне и стоячего с ног свалят, коли надобно… Не хуже твоих псов… А ты крепче стой, не давайся… Слышь, Федя… А ещё поведай: к чему ты сказал про лося-то… да про псов?.. Не разумею… Али?..
— Нет, так… само припомнилось… Вот я…
— Не вешай головы, царь ты мой, всея Руси государь самодержавный… Хто тебе страшен?.. А и не один ты. Вон дядя, Иван Михалыч теперь при нас… Нешто он нас выдаст?.. Нарышкины пускай… Злобятся…
— Што Нарышкины?.. И окромя их есть люди. Вон они единым часом в землю нам челом бьют, а в тот же час могут…
— Што? И главу нам прошибить, коли им надо? Не посмеют. Только, слышь, коли я сдогадалась, про кого это ты… Сам, гляди, не больно на них вставай… Всех можно помаленьку обратать, в узде повести… Верь ты мне! Не разом, а так, знаешь, полегоньку… Стравить их одного с другим.. Кого казной купить, кого почётом. А там…
— Эх, не по мне все это!. Знаю я, видел, как батюшка государил… И читывал не раз, как московские цари и в иных землях государи людей крепко да умненько держали… Да неохота мне так-то… Душой лукавить, в цепи сажать алибо, храни Господь, кровь проливать… Куды мне! Подумаю, сердце мрёт…
— Не говори. Знаю. А ты, слышь, мне державу сдай. Я бы управилась, гляди.
— Ты?! Ты управишься. Ишь, какая ты… Смехом говоришь, а на тебя поглядеть, так душа мрёт. В очах у тебя ровно свет загорается… Инда[9] жутко… Да, слышь, не ведётся того на Руси, штобы царицы…
— А Ольга… а Елена Глинских?
— Так то давно было. И не за себя они, за сыновей княжили… А я и не сын тебе, да и летами вышел… Не мели пустого, Софка… Буде.
— И то молчу. Вон ты повеселее стал от моих речей от глупых, от девичьих. Мне и ладно… Одначе пора мне. Богомолье ныне с сёстрами да с тётками… Ох, да и тошно же в терему… Вон по обителям, по храмам побродить — и то радость… У вас, у царевичей, и пиры, и охота, и оженят тебя… И на войну, и в думу… Куды хошь… А мы… Ровно проклятые — и людей-то не видим по своей вольной волюшке… Замурованы, ровно колодницы, без вины безо всякой… И хто так приказал?!
— Ну не причитай… Пожди… И то уж живётся вам не по-старому… А там, помаленьку, гляди… и у нас все станет, как у европейских потентатов[10]: будет вам, девкам-царевнам, воля и замуж, и в мир ходить… Пожди, сестра… Сделаем…
— Жди ещё, што да когда… Вон мне уж без мала двадцать годов… Годков на семь, гляди, всего и помоложе я, ничем матушка — царица наша названная… А все перед ей, словно перед иконой, гнись да кланяйся… А она — фыррр да фыр!.. Величается… Слышь, Блохина, у меня в терему — родня казначеи царицыной, Блохиной же… И, слышь, лютует царица-матушка; все у них с Матвеевым толки идут, как бы свово Петрушу в перво место, в цари бы… А тебя бы…
— Ну, буде, Софья. Тебе бабы в уши несут, а ты пересказываешь… Всё будет, как Господь захочет… Вон и батюшка желал, чтоб Петруша был со мною вместях…
— Ничего не желал… Думал — да раздумал. Ты — царь, о чём и толковать ей?.. Все с Матвеевым… Лукавый он… С лекарями водится… Изведут они тебя и нас всех, помяни моё слово… Посадят на царство слюнявого мальчонку. Уж понатешутся над нами…
— Софья, буде… Да сама ж ты толковала: за нас-де люди станут, не дадут нас в обиду, коли бы и на деле… задумал бы хто…
— Ну, право, с тобой што толковать… Ты — как день вешний… То солнышко, то тучами все пойдёт… Не понять тебя, Федя… Ты не думай, не страх напускаю я на тебя. На ум взбрело, вот и сказалося. А ты царствуй… Тебе много лет ещё государить. Вон тут есть одна бабёнка верная… я у ей пытала, так она…
— Што, што?.. Ворожейка или знахарка? Хто такая?..
— А ты не велишь её казнить?.. Чево вздумается тебе, ты в те поры…
— Ну вот!.. Коли она не с чёрной силой ведается, за што ж казнить бабу?.. Вон и отче Симеон наш прорицает… И иные — хто по звёздам, хто по цифири, по книгам… Он же батюшке гадал…
— Нагадал, да… Братца Петрушеньку…
— За што ты, сестра, так на братца? Што он тебе?..
— Ничего. Матушка-царица, свет Наталья Кирилловна, сильна да горда сынком… А сам он… што ж, пускай бы жил… Ну, Бог с им… Вот и гадала бабка о тебе… «Поживёт, говорит, всем на радость..: Долго поживёт. Детей народит… Из роду в род помнить будут цареньку…» Это тебя…
— Будут помнить?! Хорошо бы… Поминали бы, да не злом. Все я думаю: неужто телесная мощь одна и славу даёт?.. Хворый я… Слабый я… Может, и не проживу долго… Уж чуется мне… Што там ни толкуй… И как бы это подеять, штобы память по мне надолго была? Добром поминали бы люди… Москва… Земля вся! Я потужу… Я надумаю… А то помрёшь, камнем прикроют склеп… Один камень той с записью и станет помнить, што был ты, што землёй правил… Што царём прозывался. А люди забудут… Нет, неладно так!.. Я надумаю…
— Да уж надумаешь… А пока женись, вот первое дело. Дети пойдут, сыновья. Им царство перейдёт, в наш род, Милославских[11], не в Нарышкинский… Вот и память по тебе. Ну, буди здрав пока… Недосужно, слышь, Господь с тобою, царь-братец…
— И с тобой Господь! За меня помолись, сестрица…
Ушла Софья. А Федор задумался. Ищет, чем бы след оставить по себе…
И вот нашёл. Лицо вспыхнуло, озарилось тихой радостью.
Сел он у стола, где лежат груды бумаг, достал чистый лист, прибор чертёжный, стал чертить план какого-то храма… И совсем ушёл в работу…
По этому чертежу потом стали перестраивать обветшалую церковь во имя святого Алексия в Чудовом монастыре, со всеми примыкающими палатами, трапезами и монастырскими службами…
Тотчас же принялся Федор за достройку новых больших зданий для всех московских приказов, поднятых на три этажа.
Ряд церквей понизить и заново выстроить наметил юный царь, сам принимая деятельное участие, пока нездоровье не приковывало его к постели. А это часто случалось. Но и больной он больше всего думал о своих постройках, которыми как будто хотел оставить добрую память по себе.
Конечно, такую страсть к зодчеству скоро заметили ближние к царю лица.
Зашла об этом речь и на совете бояр, собравшихся во дворце, по обыкновению, рано утром обсудить текущие дела.
Царю нездоровилось. Оба доктора, Костериус и Стефан, дежурили при больном. Матвеев, пришедший с докладом посольским, был тут же. Это очень не понравилось Ивану Михайловичу Милославскому, который явился спросить, можно ли начать совет без Федора.
И вот, по окончании совета, когда «чужие» разошлись, кучка приближённых бояр осталась потолковать о делах дворцовых.
Были здесь Богдан Хитрово[12], Иван Максимович Языков[13], оба брата Толстых, князь Лобанов-Ростовский, сестра которого была мамкой царевны Софьи. Федор Куракин, Василий Голицын и Волынский с боярином Троекуровым дополняли компанию.
— В дедушку, видно, пошёл наш юный государь, — заметил, снисходительно улыбаясь, Хитрово. — Град свой стольный приукрасить желает, штобы супротив иных стольных градов зарубежных не стыдно было… Што ж, оно и то не худо. Дорогонько стоит. Да авось хватит казны ево царской. Не зря рубли кинуты. Да и дело юному государю. Пока он ещё к царскому правлению приобыкнет, всё время не пустое. Хуже было бы, коли стал бы всюды сам входить, мешать тому, што без него многи годы налаживалось да настраивалось…
— Оно бы и так, — с недовольным видом отозвался Милославский, — коли бы казна была побогаче. И я бы сказал: чем парень ни тешится, да делу не мешает… А и то скажем: иному от затей царёвых и польза бывает. При каждом огне можно руки греть. Стройка идёт, так и кирпич, и лес надобен… Мало ль што ещё. От поставщиков барышок-то и набежит. А коли хто этим не завёлся, тому и нет корысти от затей ото всяких. Есть поважнее дела. Вон турки, татаре грозят, с запада тучи надвигаются… А у нас всюды дыры… И заткнуть нечем. Тут бы и надо поудерживать государя. Вон ты, Иван Максимыч, частенько-таки при ево милости пребываешь. И толковал бы о том помаленьку.
Богдан Хитрово весь побагровел было при намёке Милославского на участие боярина в поставках. Конечно, для дворцовых людей не было тайною, что боярин оружничий[14] и дворецкий царский имеет барышок и от поставщиков, и от подрядчиков дворцовых. Он же вместе с племянником Александром, заведуя приказом Большого дворца, умел из дворцовых сел и волостей переводить в свои вотчины немало добра.
Дворцовые крестьяне работали на них обоих без всякого вознаграждения. Даже кладовые и амбары обоих Хитрово в Москве наполнялись запасами и вещами из московских царских дворов: Кормового, Сытного и Хлебного.
Но приближённые царя молчали об этих явных хищениях, потому что сами пользовались в тех приказах, где сидели. Языков, ещё не причастный к расхищению царского и государственного добра, всё-таки счёл нужным вступиться за Хитрово, оказавшего ему поддержку и помощь при его вступлении на службу к царю.
— Чего не видал, того не знаю, боярин. А ежли люди сказывают? Так сам ведаешь, про ково толков не идёт? Вон и про нас с тобой немало трезвонят. А душа наша чиста, нам и не в обиду. Толковать же мне про дела государские — невместно. Особливо неспрошенному. Тово и гляди, царь али хто иной на ум возьмёт: «Ишь, Языков-де спихнуть ково хочет, сам на ево место норовит…» Чево далеко ходить: сам боярин Богдан Матвеич ладит мне своё оружейничество сдать. Трудно ему со всем управиться. А уж толки пошли, что я под ево милость подкопы веду… За чином гонюся… Уж лучче нам дружно да мирно жить. Вернее дело будет.
Хитрово, довольный этой мягкой, но внушительной отповедью Языкова, так и не высказал всего, что сгоряча хотел было отпеть Милославскому. Шумно передохнув, словно облегчая грудь, стеснённую раньше приливом гнева, он только одобрительно кивал на слова Языкова. Но Милославский не унимался.
— Ну, може, на ково инова и помыслят, да не на Ивана Милославского. Меня обносили. Меня в ссылку гоняли, подводили под опалу… А я ещё в доводчиках, в наушниках не бывал… А уж коли говорю, так не скрываючись. Обиняком не закидываю, с чёрного крылечка не забегиваю… Божией милостью да своей заслугой в люди вышел, а не нахлебничеством, хоша бы и у дядек царских…
Такой прямой укол, направленный против Хитрово, выведенного в люди боярином Морозовым, дядькой покойного Алексея, был слишком нестерпим для Богдана Матвеича.
Но не успел он заговорить, как его предупредил Пётр Толстой[15].
Умный интриган видел, какая ссора готова разгореться среди людей, соединённых временно и не взаимным расположением, а необходимостью справиться с родом Нарышкиных. Поэтому, не позволяя разгневанному Хитрово сказать чего-либо такого, что разладит весь заговор, Толстой поспешно вмешался сам:
— Вот-вот, о том, бояре, и потолковать надобно. Всем ведомо, как некие люди и на боярина Богдана, и на тебя, Иван Михалыч, клепали зря царю в уши несли небылицы разные… Все вон такое, про што и боярин Иван Михалыч сказывать изволит, и многое иное. Так нешто государь сам несмышлёнок? Не видит, што правда, што нет? И нам невместно теми обносами да поклепами сердце своё тревожить. Мало ли што пообсудить надо? И женитьба царская не за горами. Дело немалое. И иное многое… Што ж нам, бояре, промеж себя свару заводить. Буде… Давайте што-либо иное затеем… Право.
Все поняли, что Толстой намекает на Матвеева.
Милославский был убеждён, что по навету Артемона он был сослан покойным Алексеем в почётную ссылку, воеводой в Астрахань. Богдану Хитрово Федор уже намекнул, какие недобрые слухи ходят по Москве насчёт хозяйничанья боярина в царских вотчинах и кладовых.
— Ты, боярин, коли тебе надо чево — мне прямо говори. Я не откажу. Так оно и лучче буде… Не зазорно…
Только и сказал Федор самолюбивому, хотя и жадному боярину.
При мысли, что один Матвеев мог шепнуть юному государю о хищениях Хитрово, последний пылал неукротимой злобой и ненавистью к Артемону.
Эта жгучая общая ненависть сразу успокоила раздражение спорящих, примирила их на одной мысли: как насолить общему опасному врагу Матвееву?
Первый одумался Милославский.
— Правда твоя, боярин. Не время нам свару заводить. Надо бы тех на чистую воду повывести, хто наветами да чародейством всяким и покойного государя ровно в кабале у себя держал, и юному царю света видеть не даёт, коли не ихними очами… Слышь, Богдан Матвеич, не серчай. Я и на уме не держал задевать тебя… И впрямь, вон теперь царю пора закон принять. Царевича Петра час приспел от мамок отымать, учить чему — ничему. Артемошка, гляди, и Федора оженит на ком захочет, как покойного Алексея оженил… А к Петру, слышь, и то уже своих приставил людей. Тот ево дедушкой зовёт. Видимое дело: неспроста оно. Чарами опутал всю царскую семью… Вот о чём нам потужить бы надо: как избыться нашего ворога?
— Што ж, подумаем, померекаем, как на первых порах ево избыть, — угрюмо, все ещё не успокоенный вполне, отозвался Хитрово.
— Видимое дело, — заговорил Куракин, — што снюхался Артемошка и с дохтурами ево царсково величества. Вон намеднись изволил государь лекарство принимать, что Стефанка готовил ради немощи ево царской. И черёд был Матвееву подносить снадобье. Сам он небось от чарки не отведал, остатки ж выплеснул поскореича. Я сам видел… Чем ни есть дурманят государя. Уж как Бог свят. А мы глядим да молчим…
— Да ведь и не скажешь так, без верных послухов. Он отбрешется, Артемошка проклятый: язык у нево добре привешен…
— И послухи найдутся, — опять вмешался Толстой. — Есть на дворе у нево карло потешный[16], Захаркой зовут. Тот карло моим людям и жалился: побил-де ево без милости Матвеев, чуть до смерти не убил. «А за што?» — пытают наши. Тут карло таки речи повёл, што коли правда — и казни мало ведуну[17] окаянному…
— Да што? Да ну?.. Скажи, пожалуй, — всполошились бояре, ближе подвигаясь с мест к Толстому.
— Слышь, толкует карло: заперлись вдвоём они, Артемошка со Стефанком, в покое одном. А карло раней в нём был. Знобко ему стало, он за печкой и прикорнул, погреться. А как увидал, что боярин с лекарем пришли сюды, и вовсе притаился, не досталось бы ему, что в боярску казенку забрался. Артемошка всем наказывает настрого: в те покои не входить. Притаился Захарка и видит: приходит в покой и Николка Спафарий толмач Посольского приказу, с сынишкой матвеевским, с Андрюшкой. Достали книжицу невелику да толстую, «Чёрною книгой» рекомую, и почали читати. Все покойницу жену Артемошки поминали сперва, которая скончалась вот незадолго. А потом и про царское здоровье поминали. И набралося в палату нечистых духов многое множество… Только стали их пытать Артемошка с лекарем, а те и говорят: «У вас-де в избе — сторонний человек есть. Повыгнать ево надо». Кинулся за печь Артемошка, взял за шиворот, сгрёб Захарку, так о землю и ударил… Инда шубейка свалилась с ево… И ногами топтал от гнева, и вон выкинул, не подглядывал бы за ими… Захворал карло, и лечить ево позвали Давыдку Берлова, лекаришку плохова. Карло все и поведал Давыдке… Лекарь, не будь глуп, ко мне… Я уж вызнал после сам от Захарки, вот што вам сказываю. На допросе все то же обещал карло сказывать. Даже и не плат ему, и пытку снесёт. Злые они, карлы, хто их обидит. Долгопамятливые. Уж он себя не пожалеет, а Артемошке удружит…
— Это ладно. А все же ещё послуха надо бы… Все лучче, вернее дело буде…
— Што же, и лекаришко той, Берлов Давыдка, не откажется… Да недорого и возьмёт за послугу, толковал я уж с ним, — невольно понижая голос заявил Толстой.
— Што ж, давай Бог, час добрый… А, слышьте, бояре, кому же к царю с докладом про то воровское дело явиться надо? Тоже не единым разом все и сказать можно. И пору выбрать следует. И человеку бы царь веровал…
— А што, коли жеребий метнуть, — предложил Троекуров. — Кому выпадет, тому и начать надо…
— Жеребий… Слышь, боярин, пословка есть: дуракам удача, где мечут жеребий. А при нашем деле — умного пустить вперёд надобно…
— Ну, коли так — я вперёд не суюся, — не обижаясь на намёк, отмахнулся рукой Троекуров. — Меня уж выбирайте, коли надо буде чару потяжеле поднять да осушить… Вот я тогда и пригожуся…
— Буде балагурить, бояре, — оборвал его раздражительный Куракин, недолюбливавший вечные кривлянья придворного забавника Троекурова. — Дело кончать надо. Тебе, Иван Михалыч, не сказать ли?
— Што ж, я скажу— ежели все хотят, штобы я… Да не помыслит ли царь, по злобе-де я на Матвеева наговариваю. Как всем ведомо, што от ево поклепов меня и на воеводство на край земли услали…
— И то верно. Как же быть-то?
Невольно глаза всех обратились к Языкову. Он ещё недавно попал в силу и в милость к юному царю, не был запутан в дворцовых интригах и происках. Ему, конечно, скорей всего поверит царь.
Понимая молчаливый вопрос, осторожный, уклончивый Языков мягко заговорил:
— Я бы рад радостью, бояре. В друзьях мне не бывал боярин Матвеев, а и врагом не числится. Да таку речь от государя мне слышать довелося, вчерась ещё: «За то ты мне мил, Ванюшка, что ни на ково ничего не наносишь. Зла ни к кому не таишь. За то и верю тебе…» Гляди, стану и я доводить царю про лихие дела боярские — и мне веры не будет у государя. А так об этом деле уж он спросит меня, уж тово не миновать. Я и скажу, коли иной хто ранней доведёт все до ево царской милости. Так все лучче наладится.
Переглянулись бояре. Особенно внимательно прислушивались оба Милославских к этому скромному заявлению Языкова.
Словно глаза у них раскрылись.
« Пройдёт немного времени — и этот худородный, незначительный дворянчик, так быстро преуспевший при юном царе, умной повадкой займёт первое место. Но об этом — после надо подумать. Теперь — Матвеев на череду».
И Хитрово решительно заявил:
— Ну, пущай про меня думает, как поволит государь, а я правду скажу, не смолчу. Потому — берегу ево же государское здоровье… Нынче ж повечеру и доведу все до царя. Послухи у вас были б готовы. Я раней сам поспрошаю их…
— Да хоть в сей час… У меня на дворе они. Я к тебе их и пришлю, — сказал Толстой. — Только, бояре, што ещё скажу. Стрелецкий полк, петровцы, гляди, за него, за Артемошку, вступятся… Да иноземные ратники с ними. Дела надо умненько повести.
— Ну, не учи нас, боярин, Сами с усами. Все наладим. Только бы почать.
— Почнем. В час добрый. А теперя ещё иные дела на череду… Про свадьбу про царёву подумать надо.
И кучка самовластных правителей земли, тайная камарилья, стала толковать: кого бы лучше всего выбрать в жёны Федору из числа дочерей или сродниц своих?
Долго тянулись разговоры и споры об этом. Немало взаимных обид и угроз вырвалось у собеседников. И, ничего не решив пока, разошлись по домам.
А вечером, когда царь укладывался на покой, прослушав обычный доклад Хитрово, тот сдержал слово и подробно передал царю все, в чём обвиняли Матвеева.
— Пустое, слышь, — было первое слово Федора.
Но он тут же задумался.
Правда, ни в чём дурном нельзя было укорить Матвеева, но кто же не знал, что он с царицей Натальей уговаривали Алексея назначить царём Петра, мимо царевича Федора… Может быть, осторожный Матвеев только прикидывается таким усердным и честным слугой. А сам питает в душе честолюбивые замыслы… Что же касается чар… Все может быть на свете. Самые учёные, умные люди — и те не отрицают, что можно иметь сообщение с мертвецами, с разными духами.
И задумался Федор.
Хитрово, словно читая мысли юноши, сдержанно заговорил:
— Оно што говорить, веры дать нельзя без доказу… А слышь, государь, и в Библии же сказано, как царь Саул ходил к волшебнице Аэндора, Самуила-пророка дух вызывал…[18] Иные бывали же примеры достоверные… Поразузнать бы надо.. Это первое дело… Второе: уж коли начали на Артемона Сергеевича такие поклепы возводить, значит, многим он поперёк пути стал. Уж тебе покою не дадут. Народ мутить почнут. Редкий из бояр не на Матвеева. Не стать же тебе, государь, со всем своим боярством свару вести из-за него одново… Легше одним поступиться.. Как-никак — доведётся услать от очей своих царских. Так оно лучче, коли за вину ушлёшь. От матушки-царицы, Натальи Кирилловны, меней досады тебе буде. Скажешь. «Не я, мол, караю. Вина на ём…» Так мне сдаётся.
Молчит Федор.
Он понимает, что Хитрово хотя и руководим ненавистью, но говорит правду. Знает, что не сумеет выдержать общего натиска, не решится поссориться с влиятельными боярами своими из-за Матвеева, которого не особенно и любит, только уважает как честного и бескорыстного слугу…
Вот почему ни словом не откликается царь на речь Хитрово, не говорит ни да, ни нет.
Умный боярин видит, что происходит с юношей. И не стал больше толковать об деле. Начало сделано. А там — все само собой придёт. Особенно когда примется за дело боярыня, Анна Петровна Хитрово, тоже ненавидящая Матвеева и Нарышкиных.
Хитрово рассчитал очень верно. Месяца не прошло, как Матвеев получил указ: сдать все посольские дела и дела по стрелецкому полку, а самому сбираться на воеводство в Верхотурье.
Конечно, и сам Матвеев понимал, и все видели, что это — опала царская, тем более тяжкая, что не было объявлено, за какую вину карают боярина.
Но спорить нельзя открыто. Воеводство — все же не ссылка.
Только криво усмехнулся Милославский, когда объявил врагу:
— Слышь, и тебе, как мне же, честь выпала на воеводстве посидеть. А государю челом бить не ходи. Недужен государь. Не до чужих ему…
— Храни Господь государя со своими, со всей роднёй ево, — с достоинством, спокойно ответил Матвеев, не желая обнаружить перед Милославским своего огорчения и обиды. — Послужу ему и в дальнем краю, как на очах служил.
— Послужи, послужи. Царь спасибо скажет, — зловещим тоном отозвался Милославский.
Матвеев и раньше понимал, что это не все. А слова боярина только подтвердили его догадки. Но поправить дело, очевидно, нельзя было. Враги одолели.
Мрачно, но сдержанно прощались стрельцы со своим любимым начальником.
Скажи он им слово — так легко не выпустили бы они Матвеева из Москвы.
Но Матвеев видел, что делается в душе у этих людей, и твёрдым, решительным приказом звучали его слова, обращённые к стрельцам:
— Слышьте, детушки, службу свою верно правьте царю и государю со всем родом его. Будет у вас новый полковник на моё место. Ево слушайте, как меня слушали. Царя и землю бороните от недругов, хто б они ни были. И вам Бог воздаст, и царь вас не забудет…
Слезы текли по щекам у многих из старых стрельцов. Но молчали, как в строю полагается.
Только как уж уходить стал Матвеев — кинулись, расстроили ряды, благословляют его. Иной крест снял с себя, тянет с ним руку к Матвееву.
— Храни тебя Господь… Застени[19] Матерь Божия. Возьми на путь Спаса моего… На память бери… Счастливого пути, боярин…
Едва выбрался Матвеев из толпы, сел на коня и уехал. В июле 1676 года был объявлен Матвееву указ о назначении воеводой верхотурским, а в октябре, когда он с десятилетним сыном Андреем, со всеми своими людьми и вещами, взятыми из московской усадьбы, успел добраться до Лаишева, здесь его остановил царский гонец с приказом — дожидаться дальнейших распоряжений из Москвы.
«Вот оно когда приспело, время моё», — подумал Матвеев и распорядился, чтобы для него с сыном, с семью племянниками сняли в городке самый обширный двор. Там и расположился он, с учителем мальчика, мелким шляхтичем Поборским, со священником Василием Чернцовым и ближними слугами, всего человек тридцать.
Остальная многочисленная челядь, которая не разместилась в этом доме, была поселена по соседству.
Невесело, в пути, в тёмных домишках захолустных посёлков встречал Матвеев с сыном новый, 1677 год, наступивший месяц тому назад, 1 сентября.
А теперь ещё безрадостней потянулись дни благородного изгнанника в ожидании недобрых вестей из Москвы.
Ждать пришлось почти два месяца. Только 25 ноября, когда прошла распутица, явился полуголова стрелецкий Алексей Лужин и потребовал от Матвеева выдать ему «лечебник, писанный цифирью».
— Слышь, боярин, толкуют: та книга, рекомая «Чёрная», у тебя для чародейства всякого. А про ту книгу сыск у нас идёт, и довод на тебя был. Да ещё, слышь, двоих людишек своих мне выдай: Захарку-карла, да Ивашку-еврея. Им про ту книгу ведомо.
Стал расспрашивать Матвеев Лужина. Тот, расположенный к опальному, рассказал ему все, что сам знал.
— Слышь, на тебя извет есть. А принёс ево лекарь Давыдко Берлов, одноглазый черт. Сам он теперь в колодки посажен, за приставы. А на тебя клеплет…
И Лужин повторил, что слышно о «чародействе» Матвеева, о злых умыслах его на жизнь государя. Матвеева словно громом пришибло.
— Я задумал на здоровье на царское!.. И государь веру дал?
— Уж о том — не ведаю. Как мне приказано, так и творю. Не посетуй, боярин.
— Што сетовать? Не по своей ты воле. Вот бери: у меня тетрадка есть словенского письма. А в ней писаны приёмы да снадобья от всяких болезней. И подмечены те статьи словами цифирными для прииску лекарства. Може, о ней приказ тебе дан. Так бери её. И холопей моих, Ивашку да Захарку, вези же.
Поглядел Лужин, повертел тетрадку в руках — и назад её отдал:
— Нет, боярин, видать, не то мне надобно. Вернусь да откажу: ничего-де не сыскал. А людишек заберу, не посетуй…
— Бери, бери… Да, слышь: сделай милость, сам поищи, поройся и в дому этом, где стоим мы, и во всей рухлядишке моей… Штоб речей не было, будто укрывал я што от тебя. Богом прошу, поищи…
— Не стану, боярин. Душа не велит. Да и приказу мне такова не дано: искать бы, тебя перетряхивать…
И, не глядя в глаза Матвееву, словно виноватый, ударил челом, поспешил уйти скорее, назад поехал. Карлик Захарка, и Ивашка, крещёный еврей, с ним же покатили.
Ждёт опять Матвеев.
Двадцать второго декабря, чуть не в самый сочельник, — новые гости из Москвы приехали: дворянин думный Федор Прокофьевич Соковнин, заведомый недруг Матвеева, и думный дьяк Василий Семёнов.
Эти не стали церемониться. Переглядели и книги, и письма все, какие были с Матвеевым. Немало грамот царя Алексея, писем и записок было между бумагами. Письма иностранных министров и владык, полученные Матвеевым во время управления Посольским приказом, наказы царские, какие давались боярину, когда он отправлялся сам послом в чужие края, — все это внимательно было осмотрено и переписано.
Рукописный лечебник, не взятый Лужиным, они отложили. Потом принялись за осмотр вещей, всей рухлядишки боярской.
Матвеев глядел на это с внешним спокойствием, уговаривая сына, который весь дрожал от негодования и страха:
— Небось, Андрюшенька. Ничево плохова не будет. Как велено, так люди те и творят. А у нас совесть чиста, так и страху нам быть не может, и обиды нет от того сыску… Уйди в покойчик лучче к Ивану Лаврентьеву… С им побудь али к отцу Василию ступай.
И отослал сына с учителем к отцу Чернцову в его светёлку.
Утром нагрянули обыщики, а вечером ещё гости из Казани наехали: тот же Лужин со стрельцами казанскими, с думным дворянином Гаврилой Нормицким.
Прочтён был указ государя, по которому оставлено было Матвееву немного дворовой челяди, а остальных пришлось отпустить обратно по деревням, а кабальных безземельных и просто на волю. Самому же Матвееву указано ехать в Казань не то под охраной, не то под конвоем и караулом наехавших приставов и стрельцов.
В Казани новая обида ждала боярина. Враги словно потешались издали над низверженным временщиком. Хотели не сразу, а постепенно заставить его пережить все унижения и муки.
Явился приказный дьяк, Иван Горохов, и прочитал новый указ от имени царя: отобрать у Матвеева все письма и грамоты Алексея, все официальные документы и бумаги, а также и крепостные акты на вотчины и родовые поместья, принадлежащие ему.
Велено было отобрать и все лучшее имущество, оставив боярину с сыном только самое необходимое. Тут уж боярин не выдержал.
— Да за што, за што же все это!.. Кому я теперь помехой, што и достальнова лишить приказано? — вырвалось у Матвеева.
— Не ведаю, боярин, — с кривой усмешечкой отвечал Горохов. — Как в указе стоит — так и повершить мне надо… А ещё, чай, помнишь, сам ответ держал перед Фёдором Прокофьичем, перед Соковниным, про дела особые, про здоровье про государское. Вот о том, слышь, на Москве и суд идёт.
— Без меня суд обо мне же. Нешто так водится?.. И ни слова единого про вину мою мне не сказано, а кару терплю безвинно… Ну, видно, Господь испытует раба своего.
Сказал и умолк. Пошёл к себе в опочивальню, вынес две тетрадки в переплётах кожаных и две просто сшитые из листов бумаги.
— Вот, слышь, Иван Овдевич, дам я тебе тетрадки. Все тута написано, што есть лучшево пожитишка моево, и отцова наследства, и женина, што сыну жена покойница оставила, што на Москве оставлено в усадьбе в моей… Переписывай знай. Ничево я не потаю. Моей рукой все писано. Не для тебя, для себя писал, ещё опалы не ожидаючи. Сам видишь, не хочу тебя в обман вводить. Как царь приказал — так и творить стану. Слышь, скажи тамо на Москве. Не ослушник — де я воли царской.
— Скажу, скажу уж, — быстро хватая тетрадки, ответил приказный крючкотвор и стал пробегать глазами записи.
Про Матвеева ходили слухи на Москве, что за всю долгую службу успел он собрать неисчислимые богатства. Их в свои руки заполучить, на Москву представить — немалую награду за это можно получить!
И два дня подряд переглядывал да наново переписывал Горохов все добро, какое было взято с собой Матвеевым. Немало нашлось всего. А на Москве, судя по описям, столько же, если не больше, осталось. И диковинные вещи заморские, часы с боем, дорогие, редкие; золотые, серебряные вещи, картины, меха, ковры восточные… Мало ли чего… Целый обоз доставил в Москву Горохов, словно с караваном вернулся из далёкой Индии. И за это пожаловали его сейчас же в думные дьяки, отписали на Горохова одну из нижегородских вотчин матвеевских…
Боярину оставлено было только носильное платье, бельё, меховые вещи, не из лучших, часть, повозки, утварь… Все самое недорогое.
Когда уехал Горохов, полгода ещё прожил Матвеев в Казани, ожидая, какие новые распоряжения будут сделаны на муку ему…
Одиннадцатого июня 1677 года явился стрелецкий голова Иван Садилов и объявил Матвееву последний приговор:
— «От боярина Ивана Михаиловича Милославского со товарищи приказ даден: по указу царя-государя, великого князя Федора Алексиевича, всея Великий и Малыя и Белыя Руси самодержца, у холопа государского Артемона Матвеева за все великие вины и неправды его честь его боярскую отнять и написать по московскому списку рядовому. А поместья и вотчины его все подмосковные и в городах, и московский дворишко и загородный, и животишки все, и рухлядишку всякую отписать на его, великого государя, и приписать ко дворцовым сёлам. А людишек его, Артемона, и сына его, Андрея, — отпустить на волю с отпускными. А вины его, холопа царского, и неправды все таковы, что в сказке его, Матвеева, какову он дал в Лаишеве думному дворянину Федору Прокофьеву Соковнину да думному дьяку Василию Семёнову за его, Матвеева, рукою, сказано было, что про его, великого государя, лекарства во время скорби[20] государской составлялися, а составляли их докторы Стефан да Костериус. И те-де лекарства он, Матвеев, надкушивал прежде а потом и дядьки государевы бояре князь Федор Куракин да Иван Богданыч Хитрово. И лекарства те самые действительные. А дядьки его царского величества против тех слов твоих показали, что тех лекарств ты, Артемон, не выкушивал и в сказке своей написал все ложно. Да ещё холопы его, Матвеева. Ивашка-еврей да карла Захарка, показали, что чел ты книгу, рекомую «Чёрная», запершись с сыном своим, Андреем, с Николкой Спафарием да с доктором Стефаном. И нечистых духов вызывали-де вы. А карлу Захарку, который за печью заснул и храпеть стал, ты из-за печи вытащил и смертным боем бил. Так с пытки они, холопи твои, показали. А с ними и лекарь Давидка то же показывал».
— Холопу побитому да лекарю продажному веру дал государь против меня… Заглазно осудили меня за вины небывалые… Что же, видно, так Господу угодно… Его да царская воля, — проговорил с тяжёлым вздохом Матвеев. — А далей что?
И уж спокойно дослушал конец указа, которым присуждён был на ссылку в далёкий, холодный Пустозерск.
Заброшен в тундрах этот посад. И хлеба туда не привозят порою в достаточном количестве. Четыре долгих года промаялся там Матвеев, посылая челобитную за челобитной в Москву и царю, и главным боярам. Но все напрасно…
Глава II. ПЕРВЫЕ УРОКИ
Словно перелом какой произошёл при дворе с отъездом Матвеева.
Совсем присмирели Нарышкины, чувствуя, что одолевают их враги.
Царица Наталья почти и не выходила из терема, разве куда на богомолье.
Петра с глаз не спускала. Словно ждала, что какая-нибудь беда разразится над мальчиком.
Сам Федор совсем в себя ушёл. Только с Софьей и мог ещё говорить свободно, по душам. Её одной не опасался.
— Ладно, ничего, — толковали между собой первосоветники. — Люби не люби, чаще поглядывай… Шло бы дело в Царстве по-нашему А там все пустое…
— Слышь, что наново задумал наш государь? — сообщал Дядька Федора, Иван Богданыч Хитрово, своему родичу, — На царьградскую стать весь московский Верх переиначить мыслит. Ишь, по нраву ему пришлося, как оно, чин чином, у государей у византийских устроено. Раней с Полоцким Симеоном якшался. А ныне — все боле с Лихудами, с братьями водится. В школу ихню часто заглядывает и один, и с царевной, с Софьюшкой. И ей, слышь, стали греки по сердцу… Ровно бы подменили царевну. На старую стать стала все в терему налаживать… Вот и толкует царь, наши бы чины переиначить. Царьградское старшинство завести ладит. На тридесять и на четыре степени боярство и служилый люд постановить. Вот дворецкий ты, слышь, а станут тебя доместиком величать… А который печатник — тот дикеофилаксом наименуется, да ещё тамо: севастократор, да стратопедархис, да как там ещё и не упомнить всево. Не больно-то эллинской премудрости я обучен… Вон и ноне, сказывают, после выходу на стройку на новую, к приказам да ко храму новому, что в Чудове, сбирается и в школу к грекам заглянуть[21]… Да с царевной. Гляди, всех нас перекрестит наново царенька наш молодой… Как и звали нас раней — позабудем… Хе-хе-хе…
И, забавляясь новой, полудетской затеей Федора, боярин раскатился своим густым, жирным хохотом.
— Ладно, ништо… Мало ль мы от нево затей видели? Да все не к делу. Как ты меня ни зови, только мово не бери… А наше у нас крепко… Пускай же забавляется юный государь наш. Охоты не любит он, как покойный царь Алексей. Зато до книг охотник да разны службы церковные правит. Вон и Вербная неделя[22] не за горами. Святейшего отца патриарха на осляти поведёт государь. Там — Светлое Христово Воскресенье. Глядишь и тепло настанет. Пора к летней утехе готовиться. Так и пойдёт колесом время. А мы уж за него, за болезного, чёрную работу всякую по царству правим, так што ли, Ивашенька?..
И старый мудрец тоже рассмеялся самодовольным негромким смехом.
Не замечая даже того, Федор все выполнял, на что наводили его окружающие бояре.
Видела это Софья, но ещё не решила, как ей самой поступать. Соединиться ли с вельможами или самостоятельно влиять на брата в своих интересах? А у царевны все чаще и чаще являлись самые смелые грёзы о той роли, которую она, подобно греческой Пульхерии[23], могла бы играть при слабом, безвольном брате.
Но одно твёрдо задумала и неуклонно выполняла Софья: старалась всюду бывать с братом, где только можно было это сделать без особого нарушения обычаев и этикета царской жизни.
И сегодня, узнав, что после осмотра новых приказов и церкви во имя Алексия в Чудовой обители Федор сбирается посетить школу братьев Лихудов, греков, иеромонахов, Иоанникия и Софрония, царевна стала уговаривать брата взять и её с собою.
— Государь, братец, миленькой, покуль ты не женат, возьми уж сестричку свою с собою. Дозволь поглядеть на дела на людские, услыхать речь иную, не здешние нашепты да наговоры теремные наши… Оно ровно богомолье будет… Храм погляжу новый да школу эллинскую… Занятно, вишь, как…
И вместе с Фёдором побывала царевна на постройке возобновлённого храма во имя святителя Алексия, что в Чудовом монастыре. Оттуда проехали к Ивановской площади, где высились почти законченные высокие каменные палаты новых московских приказов.
Нижнее «житьё», или этаж, всего двадцать восемь обширных, высоких палат, были выведены ещё при жизни Алексея. Лицом глядели они на Архангельский собор и тянулись вдоль нагорного кремлёвского Взруба, всего на сто десять аршин не доходя до Фроловских[24] ворот. Задней стеной здание выходило к Тайницкой башне. Над воротами приказов была заложена небольшая церковь взамен старой, стоявшей тут же, когда это место принадлежало князьям Мстиславским.
Федор приказал надстроить второе, верхнее, «житьё», почти такой же величины, как нижний этаж. Во всём новом здании должны были разместиться шесть приказов: Посольский, Разрядный, Большой казны вместе с Новогородским, Поместный, Стрелецкий приказ и Казанский дворец. В последнем, в одной из палат, находился глубокий колодец с хорошей водой, нарочно не засыпанный при постройке.
Большая лестница с перилами, в десять саженей длиной, выдвигалась от середины здания и вела с верхнего «житья» на шумную Ивановскую площадь. Справа от этой лестницы, против Архангельского собора, темнели большие ворота, ведущие под сводами во внутренний двор приказов. По обеим сторонам средней лестницы выходило на площадь ещё шесть лестниц покороче и поуже, чем главная. Почти на шестьдесят саженей растянулся фронтон этих новых приказов.
Здесь целый день толпятся челобитчики, снуют приказные. Тут же творят и расправу над уличёнными ворами и злодеями, причём указы и приговоры от имени государя дьяки читают вслух прямо со своего крыльца.
Когда Федор со всем поездом прибыл на место стройки, работа так и кипела. Сотни людей поднимались и опускались по лесам, принося туда кирпичи, известь в растворе, балки, железные скрепы и доски.
Десятники хлопотливо сновали между народом, наблюдая за порядком, покрикивая на ленивых, налаживая всю кипучую жизнь в этом людском муравейнике.
Зная о посещении царя, тут же находились и главные строители со своими чертежами, планами.
Раскинув листы на обломках досок, на кучах брёвен или тёса, они толковали между собою, порою призывая десятников и отдавая им новые приказания.
Федор, осмотрев работу, заметил, что дело подвигается быстро вперёд, и остался доволен.
— К руке изволит жаловать тебя государь, — объявил Языков, сопровождающий повсюду царя, зодчему мастеру Ивану Калмыкову, который вызвался по итальянским чертежам, доставленным из Посольского приказа, соорудить целиком новое большое здание.
Благоговейно облобызал Иван царскую руку и бил челом Федору, приказавшему выдать награду главному строителю и всем рабочим, чтобы приохотить их больше к делу.
Оттуда весь царский поезд тронулся к Благовещенскому монастырю, что за Ветошным рядом.
Здесь в деревянном, старом и не особенно обширном доме давно уже приютилась греко-славянская школа иеромонахов, выходцев из Эллады, братьев Лихудов, Софрония и Иоанникия, или Аники, как прозвали его на Москве.
Особенное покровительство оказывал Лихудам патриарх Иоаким[25]. И не без причины.
Когда на Москве появился Самуил Ситианович-Петровский, именуемый Симеоном Полоцким, московский патриарх дружелюбно отнёсся к белорусу-иеромонаху, как к единоверному своему, да к тому же попавшему в большую милость к царю Алексею. Даровитому иеромонаху от лица всего российского духовенства было поручено написать книгу для увещания раскольников, и в 1667 году был отпечатан труд Симеона, озаглавленный «Жезл правления».
Но скоро милость царя Алексея к Полоцкому проявилась так ярко, что стала вызывать и опасения, и зависть у московского высшего духовенства. А Симеон, не желая считаться ни с кем, не соблюдал благоразумной осторожности при введении тех новшеств, какие задумал осуществить, конечно, по уговору с самим Алексеем.
Не одни только увлекательные устные проповеди приезжего монаха не понравились московскому духовенству, и книги его сочинения вызывали нежелательные толки.
В Псалтири и многих догматических, как рукописных, так и печатных, сочинениях Полоцкого сумели найти прямые признаки ереси.
И патриарх постепенно стал в недружелюбные, чуть ли не враждебные отношения с хитрым, отважным и умным инородцем.
Уклончивый, мягкий характер Иоакима мешал ему вступить в открытую, личную борьбу с Симеоном. Да и победа была бы вряд ли на его стороне. Это выяснилось особенно в 1676 году, когда Алексей разрешил Симеону открыть в Кремлёвском дворце Печатных дел мастерскую, и здесь выпускались сочинения и иные книги с пометкою, что оные печатаны с благословения святейшего отца патриарха, хотя этого благословения Иоаким и не думал давать.
Воспитанники византийского благочестия, братья Лихуды, строго правоверные, с точки зрения патриарха и всей старой Москвы, и по взглядам, и по личным интересам, могли лучше всего противодействовать влиянию «польского выходца». Им помогали серьёзные учёные познания и весь их домашний обиход, далеко не похожий на тот свободный, весёлый, только что не греховный род жизни, какой вёл сам Симеон, какой, по его примеру, стали вести царь, царица и царевны, исключая тёток Алексея, слишком закоренелых в старом быту теремов.
Если в Андреевском монастыре собраны были, как в академии, малоросские и белорусские учёные монахи, наставники и книжники, сеющие в государстве семена западничества, — в Богоявленском монастыре школа Лихудов старалась удержать на прежней высоте учение Византии и Домостроя.
Таким образом, Симеон, сначала призванный было не особенно учёным московским патриархом как бы в помощь для искоренения вредного церковного раскола, сам внёс в царство раскол, ещё более опасный, могучий и соблазнительный, чем прежнее упорство староверов-аввакумовцев.
Вот почему Иоаким с особенным вниманием и любовью стал относиться к греко-славянской школе Лихудов, заглядывая в Богоявленский монастырь не менее часто, чем в свою собственную школу, устроенную на Дворе книгопечатного дела, у Никольских ворот, где иеромонах патриарха, Тимофей, также обучал мальчиков, юношей и взрослых из духовенства, дьяконов, даже священников славянскому книжному писанию и эллинской премудрости.
С воцарением Федора на Лихудов посыпались милости и со стороны юного государя, не слишком расположенного к новшеству в том виде, как оно проводилось Полоцким. Да и советники царя были далеко не из друзей белоруса.
Под их давлением Федор стал довольно часто навещать школу обоих братьев. Нередко вместе с Иоакимом. Иногда они здесь встречались. Это было вполне естественно: у царя и патриарха занятые, служебные дни были почти одни и те же, значит, и свободные минуты, когда можно было заглянуть в школу, выпадали почти одновременно.
И на этот раз не успел поезд царя остановиться у Богоявленского монастыря, как туда же прибыл Иоаким в сопровождении своей духовной свиты и бояр.
День был тёплый, весенний, и в небольшом классе, где ещё не раскрыли окон, тяжело было дышать, хотя кроме царя с Софьей, патриарха и нескольких ближайших лиц из свиты в покое были только оба Лихуды и ученики греческого отделения.
На простых, тёмных скамьях, перед столиками вроде современных парт, ученики сидели по росту. Впереди — маленькие, самые младшие, больше дети духовного звания. Но было немало сыновей приказных и думских дьяков, даже боярские сынки, как, например, княжичи Пётр, Михайло и Юрий Юрьевичи Одоевские, княжич Алексей, сын просвещённого вельможи, кравчего Бориса Алексеевича Голицына[26].
Монахи разных обителей, дьяконы и даже священники, явившиеся в эту маленькую «академию» поучиться греческому языку, необходимому для более глубокого изучения Слова Божия, сидели тут же, но на задних скамьях, и с трогательным старанием долбили греческие правила, отвечая уроки наравне с малышами.
Пока Иоаким задавал вопросы ученикам, вызванным Софронием, царь, не занимая приготовленного для него сиденья, подошёл к первой скамье, сел рядом с самым маленьким из учеников, усадил его, смущённого, раскрасневшегося, почти к себе на колени и спросил:
— А ты чей? Не видал я тебя раней. Как звать?
— Петя я… Петей зовут. Васильев сын… дьяка твово, государь, Василия Посникова.
— Ишь, какой бойкой. А много ль годков тебе?
— Девять годов. Десятый уж пошёл, государь великий.
— А что ж ты больно мал. И не дашь тебе стольких годков. В ково это ты? Родитель твой — куды не мал… В мамку, што ли?
— Сказывают, с матушкой схож, государь. А вон сестрёнка у меня, Глашуткой звать. Та в тятеньку… Куды долговяза…— совсем осмелев, объявил мальчик, осчастливленный вниманием царя.
— Ну ладно. Скажи родителю, добро задумал, што учит тебя с малых лет… А вон тебе Иван Максимыч даст на гостинцы… Ступай к нему.
И Федор слегка толкнул мальчика к Языкову, который достал из заранее заготовленного кошеля с мелкой монетой серебряную гривну и отдал мальчику. Тот только хлопал сверкавшими глазками и отвешивал низкие поклоны.
Царевна Софья тоже подозвала его знаком, погладила по голове, сказала что-то боярыне, стоящей за её стулом. Та, порывшись в глубоком кармане, нашла монетку и сунула школьнику.
После ответов на вопросы школьники стройными голосами пропели один из тех «кантиков», с которыми на большие праздники ходили к царю, к патриарху, к боярам, славить рождение Христа или воспевать воскресение Его.
И царь, и патриарх, уходя, вызвали старост, которые избирались обыкновенно в каждом классе из самых успешных и благонравных учеников, допустили их к руке, так же как и обоих Лихудов, и приказали выдать свои дары: от патриарха — по калачу на ученика; в греческом классе — по двухденежному, в славянском классе — в денежку[27] каждый калач. Старостам по рублю серебром. От царя — всем ученикам по алтыну, старостам — по два рубля.
При общих возгласах радости и привета, окружённые детьми и взрослыми учениками, уселись высокие гости в свои колымаги и, провожаемые настоятелем с братией, тронулись с монастырского двора.
В тот же день, под вечер, Федор отправился на женскую половину дворца, в терем Натальи Кирилловны, где она проживала с Петром, царевной Натальей и младшими падчерицами: Евдокией и Федосьей.
За всё время, год с небольшим, сколько прошло со смерти Алексея, вдова его как-то сразу сошла со сцены дворцовой жизни, хотя и жила бок о бок с пасынком-царём.
Федор сначала долго хворал, затем, вступив в управление царством, был очень захвачен всеми докладами, советами, какие не могли пройти без его участия. И потому редко заглядывал на половину царицы-вдовы, как равно и к сёстрам, и к тёткам-царевнам.
Все лето Наталья с сыном и младшими детьми провела Преображенском, с которым было у неё связано столько дорогих воспоминаний.
Федор, когда был здоров, проживал поочерёдно в Измайлове, в Коломенском, в Красном селе на Воробьёвых горах и в других подмосковных дворцах, заглядывал и в Преображенское, но не надолго. Приласкает братьев, особенно Петра, потолкует с мачехой и снова возвращается к себе.
А в Преображенском; на короткое время оживающем при появлении царского поезда, снова жизнь затихает, напоминая собой большую богомольную обитель, а не двор хотя и вдовствующей, но ещё молодой, полной жизни, ума и сил московской царицы.
Как летом в деревне, так и зимой, во дворце, одинаково проходят дни Натальи: заботы по обширному хозяйству, советы и толки со своими ближними боярынями по вопросам, касающимся мастерских, кладовых и запасных дворов. Что нужно заготовить наново, что продать за излишеством, чего закупить или из старого, заношенного подарить. Разбираются домашние споры и нелады между лицами, составляющими двор и дворню Натальи, для чего даже существует особая «боярыня-судья». Молитва, еда, отдых днём, а главным образом, работы по «обещанью» в храмы и шитьё разных вещей и белья для бедных — вот чем заполняется всё время.
Ложатся рано, рано встают на половине царицы. И так — круглый год.
Сейчас, заглянув к мачехе, Федор нашёл её за работой.
Когда он с почтительным поцелуем склонился к руке Натальи, она губами коснулась его лба и сейчас же заботливо, с искренней тревогой спросила:
— Што это ты, государь? Што с тобой, Фёдорушко? Али нездоровится? Головушка, ишь какая, горяча больно Слышно, выезжал ноне. Не прознобил ли своё царское здоровье?
— И нет. государыня-матушка. Теплынь, благодать, слышь, настала. Ровно бы и весна близко. Так, с воздуху, должно… Сидишь все в стенах в четырех и стынешь. А как поездишь да походишь — и согреешься. Благодарствуй, родимая Ну, ты как, Петруша?
И он обратился к брату который при появлении Федора так и бросился навстречу: прижался сбоку к царю и ждёт, когда на него обратят внимание.
Помня наставления мамок и матери, мальчик прежде всего поцеловал руку старшему брату, который ответил ему тёплым поцелуем в голову.
— Благодарствуй, государь-братец. Живы твоей милостью Как ты, государь-братец, в здоровье своём?
И при этом обязательном вопросе царевич отвесил положенный поклон.
— Да уж ладно. Вижу, научен ты всему, как след. Иди сюды. Садись. Послушай, што скажу вам с матушкой. Занятно больно…
Усевшись у окна против мачехи, он дал знак садиться нескольким ближним боярам царицы: Ивану Нарышкину, Тихону Стрешневу и тем, с которыми пришёл: Языкову, Федору Соковнину, дядьке своему, Куракину, дядьке царевича Ивана князю Прозоровскому[28], который поспешно явился сюда на поклон царю; боярыням Натальи, находившимся в покое при появлении царя. Сейчас они стояли, не зная, прикажут им остаться или уходить.
Пётр сел на небольшую скамеечку у ног матери, отодвинувшей в сторону пяльцы с вышиваньем, чтобы они не мешали царю.
Своими живыми, блестящими глазами царевич так и перебегает по лицам всех сидящих кругом, словно его занимают не только их речи, а и то, что творится у каждого в уме.
По врождённому чувству пытливости, по неясному ещё чутью мальчик не удовлетворялся внешними проявлениями людей. Он видел не раз, как мать, отирая слезы, с улыбкой и лаской принимала лиц, которых надо видеть, и говорила с ними так, как будто не у неё сейчас побледнелое лицо было искажено тоской и мукой. Зачастую невольно коробили ребёнка льстивые, притворные ласки, которые расточали царевичу боярыни и бояре в то самое время, когда глаза их загорались искрами ненависти…
Ещё при жизни отца трехлетний Пётр подмечал, что не всегда люди думают и чувствуют то, о чём говорят. А какое-то врождённое сознание подсказывало ему, что это очень дурно. За последний же год и по рассказам окружающих, не считавших нужным стесняться при ребёнке, и на собственном опыте царевич узнал, как редко в людских отношениях все бывает правдиво и хорошо. Ещё не умея разобраться в этих наблюдениях и выводах, мальчик был очень недоволен подобным явлением. Но он ни с кем не делился своими наблюдениями… Они были для него чем-то вроде тайной и приятной забавы.
Когда новое лицо в первый раз приближалось к царевичу, у мальчика почему-то являлось желание представить себе этого человека не в его пышном дворцовом наряде, не с заученной, выработанной обычаем и этикетом, речью. Пётр представлял себе нового знакомца в иной обстановке. Ему чудилось, как тот говорит и поступает у себя дома, искренне, а не для виду… Так ли добра эта старуха боярыня, какой хочет казаться? Такой ли храбрый в бою этот князь, как он выглядит сейчас, с выпяченной грудью, с поднятой головой? А этот дьяк, пришедший с докладом и челобитной к матушке. Он теперь совсем приниженный, еле говорит, глаз не подымает. Но отчего такая жёсткая складка залегла у рта? Отчего порою огоньками загораются его опущенные глаза, вот словно у лисы, которую недавно подарили на забаву царевичу? Всегда ли дьяк-челобитчик такой робкий, тихий и говорит так ладно, вкрадчиво?.. Нет, должно быть, не всегда…
Чутьё редко обманывало мальчика, который уже с детства искал правды и прямоты в отношениях людских.
Находясь в самой кипени дворцовых хитросплетений и интриг, царевич рано почуял сложный переплёт, тёмную, причудливо запутанную основу окружающей его жизни и, одарённый от природы, развивался особенно быстро благодаря таким многосложным впечатлениям и влияниям среды.
Вот почему и сейчас царевич не только слушает, о чём толкуют кругом, но и вглядывается внимательно, как ведётся беседа.
— А што ж ты один, Петруша, встречаешь меня? Иванушка где же? Здоров ли царевич?
И Федор обратился в сторону князя Прозоровского.
— Спать завалился братец. С курами на нашест… Нешто ты не знаешь, государь-братец? — с лукавой улыбкой ответил Пётр.
Прозоровский степенно доложил:
— В своём добром здоровье царевич, челом тебе бьёт, государь. Уж не погневайся: почивает в сей час. Дохтура же приказывали не раз: больше бы спал царевич. Мы волю в том и даём царевичу.
— А Ваня и рад, — опять подхватил Пётр. — Вот уж соня. Он и не спит — а ровно спячий… Так вот…
И мальчик, сощурив глаза, удлинив свою мордочку, стал удивительно похож на болезненного, подслеповатого, слабого умом и телом Ивана-царевича, которому шёл одиннадцатый год.
Всех насмешила выходка, но царица сейчас же, осилив улыбку, строго заметила.
— Грех так, Петруша, брата на смех подымать да рожи строить. Хворый он, вот и слаб от той причины. Да он покорный, слушает и меня, и всех старших. Не то што меньшой сынок мой… С этим и сладу нет. Гляди, милей было бы, коли бы и он спал поболе. Тогда, и в покоях потише, и целее все… Никово-то не обижает Ваня, порой и от тебя стерпит, коли што… И выходит: смеётся батог над кнутовищем, а сам и похуже.
Смущённый выговором, мальчик весь зарделся, зарылся лицом в колени той же матери, которая пожурила его, и всё-таки, не унимаясь, проговорил:
— Он злой. Он карлицу Дуньку защипал… Кошку бил… А я ж не обижаю ево… Мне же он люб, братец Иванушка…
— Ну, вестимо, вестимо, — протягивая руку и гладя по шелковистым кудрям братишку, вмешался Федор. — Я знаю, ты добрый у нас… А смех — не грех… Сядь ровненько. Послухай, што сказывать стану. Где был я нынче, што видел.
Сразу выпрямился мальчик и с любопытством обратился рдеющим личиком к царю:
— В зверинце был, государь-братец? Зверьё новое глядел? Али послы подносили што из чужой земли? Али…
— Да стой. Пожди. Скажу — и узнаешь. Зверьё не зверьё, а сходно с тем. Пареньков не похуже тебя видал полны покои. Только они не творят из лица подобия братнево на потеху. Не досаждают родительнице и всем иным присным. В науке дни проводят… Стихири всякие согласно поют.
И Федор рассказал о посещении школы Лихудов. Не успел докончить царь рассказа, как мальчик вскочил и выбежал из комнаты.
Одна из мамушек поспешила за ним
— Экой огонь-малый, — не то с удовольствием, не то с оттенком грусти заметил царь. И даже словно зависть затуманила его лицо…
Федор вспомнил своё детство Он не был таким расслабленным, полуидиотом, как брат Иван, но всё-таки почти до десяти лет больше сидел на руках у мамушек, почти никогда не бегал, не резвился, хворал часто, питался больше снадобьями из дворцового Аптекарского приказа, чем обычным царским столом… Вот почему лёгкая, невольная зависть омрачила душу юноши-царя. Он подумал, что и его дети, пожалуй, когда он женится, никогда не будут такими сильными, рослыми и бойкими, как этот мальчик, уже и теперь на голову превосходящий ростом своих сверстников.
Не успел Федор обменяться несколькими фразами с царицей, как мальчик появился снова, держа в ручонках не сколько больших, довольно тяжёлых томов.
Мамушка шла за ним, тоже нагруженная книгами.
— Я тоже умею, государь-братец, — громко объявил царевич, сваливая на скамью свою ношу и подвигая к брату табурет. — Вот гляди…
Из груды книг он достал две-три в кожаных переплётах и перенёс на табурет.
— Вот гляди: «История царства Московского»… Про царей. Мне все читали… Хто был когда, как государствовал… Эту книгу дедушка Артемон складывал… Вон и лики царские. Вот дедушка, царь Михайло… Вот тятя. Вот царь Иван Васильевич — грозной да злой который был… Вот князь великий с калитой[29]… Мне все ведомы… И скажу тебе про них… Про ково хочешь?
Живо перебирал мальчик пухлыми пальчиками листы тяжёлого тома «История в лицах государей московских», прекрасный, многолетний труд недавно сосланного боярина Матвеева.
Неловкая тишина воцарилась в палате.
Глаза Натальи потемнели и наполнились слезами. Скрывая их, царица отвернулась к окну, словно разглядывала что-то во дворе.
Федор вспыхнул и невольно опустил глаза. У Нарышкина и Стрешнева сумрачны стали лица, а провожатые царя приняли сразу угрюмый, вызывающий вид, словно приготовились к стычке с врагами.
— Про ково же сказывать, государь-братец? — повторил вопрос мальчик и огляделся кругом, не понимая: отчего нет ответа, что значит внезапно наступившее молчание? Потом, как будто сообразив что-то, закрыл тихонько книгу, отодвинулся к матери и негромко спросил:
— А што, государь-братец, скоро с воеводства дедушка воротится? Приказал бы ему сызнова на Москву. Скушно без нево. Вон и матушка скучает. Он здесь ещё про царей будет складывать… И про тебя, и про меня, как я царём стану.. Слышь, братец, пошли инова на воеводство ково.
Опять не последовало ответа ребёнку.
— Княгинюшка, возьми Петрушу, веди в опочивальню. Молочком напоить, гляди, не пора ли? А там и на опочив.
— Уж не рано… Да свету бы нам, — обратилась, овладев собой, Наталья к мамке Петра, княгине Голицыной. — Ишь, темнеть стало… А может, государь, и потрапезовать с нами поизволишь? Готово у нас, гляди, все…
Федор, отгоняя смущение, провёл рукой по лицу и даже встряхнулся весь:
— Нет, нет, благодарствую, государыня-матушка… Так, побеседовать зашёл.. Ну, братишко, ступай, коли пора… Доброй ночи. Послушен будь. Вон какой ты большой стал… Пятый годок, без малого.. И тебе за науку пора… Хочешь ли? Станешь ли?
— А коли я ладно знать буду, ты и мне чего дашь, государь-братец?
— Дам, дам, милый. Што захочешь, все дам…
— Вот любо. Ну я стану слушать. Я пойду с мамушкой. Слышь, княгинюшка, свет Ульяна Ивановна, веди меня. Я и баловать не стану. Тихо, слышь.. Во-о как ладно…
И, захватив свою любимую дедушкину «Историю», он стал кланяться поочерёдно:
— Доброй ночи, матушка… Доброй ночи, государь-братец… Бояре, ночь добрая…
Мать порывисто прижала мальчика к своей груди и отпустила его с долгим поцелуем.
Федор тоже привлёк, поцеловал и перекрестил брата-крестника:
— Храни тебя Господь… Расти; здоровый будь духом и телом… Ступай с Богом…
Мальчика увели. Ушла за ним и вторая мамка его, боярыня Матрёна Романовна Леонтьева.
— Пора, пора учить Петю, — после недолгого молчания повторил Федор. — Сдадим дядькам на руки малого. А там и учителей пристойных сыскать надобно. Как мыслишь, государыня-матушка?
— Твоя воля, государь. Приспела пора. Так уж у вас, у государей оно водится. Не все же ему с нами, с женским полом быть. И не рада, а надо… Сама вижу пора дядькам сына сдавать… А ково изберёшь, государь, не скажешь ли?
И с затаённой тревогой она глядела на царя, ожидая, кого он назовёт. Не поручит ли охрану ребёнка кому-либо из заведомых недругов её семьи, одному из Милославских, Хитрово или иному из ихней компании?
Чуткий Федор угадал тревогу мачехи, поспешил успокоить Наталью:
— Мне ли избирать? Кабы родитель был жив, помяни Господи душу его, он бы и выбрал. Он же и боярам приказал, коим в охрану вручил брата Петрушу. Из них сама и выбирай. Твоя воля родительская, государыня-матушка.
— Челом бью на милости, сынок-государь. Поздоровь, Боже, твою царскую милость. Коли поизволишь, потолкуем о том ещё, — вздыхая свободно, сказала Наталья — А можно бы в дядьки и князя Бориса Голицына позвать. Сам знаешь, повидал он немало. Учен много и нравом тих.
— Как соизволишь, государыня-матушка. Ево так ево. Ещё про кого надумаешь — скажи мне.
— Да вот не дозволишь ли, царица-матушка, и ты, государь, про учителя слово молвить? — вставая с поклоном заговорил Соковнин.
— Сказывай, што знаешь, боярин.
— Да вот коли надобно, знаю я человека, в грамоте сведущий и смирной, как овца. Моих пареньков учивал. Озорные они. А с им — ровно иные стали. Сами за науку берутся. Знает, видно, как заохотить ребяток. Попытать бы ево, как водится. Може, и в пригоду станет вашим государским милостям. Могу сказать: смиренник, добродетельный муж и Божественное писание добре знает. Не хуже попа иного.
— Поглядим, што же… Коли знаешь человека — и хорошо оно. Как звать-то ево?
— Никиткой звать, Моисеев сын, прозвищем Зотов, из Большого приказу, из твоих писцов государевых, московский же сам. И родню тут имеет не малую. Небогатый люд, да худого про них не слыхать. А для первой учёбы царевичу и не сыскать другого. Так думается мне, государь.
— Ладно, поглядим, боярин. Покажи его мне… Да и матушке-государыне. Как ей покажется. Вот хоть утречком же, как ко мне поедешь, и вези тово Никитку с собой. А в сей час — прости, государыня-матушка. Недосуг. Посидел бы долей, дела неволят… Челом тебе бью.
И снова Федор поклонился мачехе, целуя ей руку и принимая ответный поцелуй.
С низкими поклонами проводили все царя: Наталья — до порога, свита её — до самых сеней.
На другое же утро Соковнин явился во дворец с Зотовым, оставил его в передней, где столпилось немало своих и приезжих людей в ожидании приёма у царя, а сам прошёл к Федору.
Коренастый, худощавый, лет двадцати пяти, писец Посольского приказа Зотов совсем растерялся, когда Соковнин объявил ему, что берет с собой во дворец, представить царю.
— Пошто, боярин, помилосердствуй… Где мне на очи его царского величества предстать убогому, рабу последнему… И чего для-ради?
— Там узнаешь, — отрезал боярин.
Пополняя своё скудное казённое жалованье обучением боярских детей, смышлёный, но робкий Зотов и мечтать не смел о счастье стать учителем царевича. Он, правда, знал, что Петру через два месяца, тридцатого мая, исполнится пять лет, пора, когда царских детей начинают учить письму и чтению. Но обычно в дворцовые учителя попадали люди, заручившиеся сильной протекцией. А Соковнин никогда не пользовался особым влиянием. И только случай, конечно, доставил такое счастье Зотову.
Но Никита знал и то, как трудно ужиться при дворе, сколько там интриг, сколько опасностей для каждого, кто приближается к государю и его семье…
Между радостью и страхом трепетала душа бедняка, пока он, стоя в стороне, шептал про себя молитвы и поминал «царя Давида и всю кротость его».
Иногда Зотов готов был убежать из этой прихожей, где толпилось так много знатного люда. Каждая минута тянулась бесконечно и походила на пытку. Холодный пот покрывал побледнелое лицо и лоб приказного. Ноги подгибались.
Вдруг из внутренних покоев показался комнатный стольник[30], молодой Пётр Матвеевич Апраксин.
— Кто здесь Никита Зотов?
— Твой раб, государь мой. Тут я, милостивец. Что поизволишь?
— Государь изволит тебя спрашивать. Ступай скорее. Да ты, никак, с места не можешь двинуться. Али ноги не несут? Не бойся, парень. Не кары — милости ради зовёт тебя государь. Ну, иди, не бабься…
И Апраксин взял за руку совсем оробелого приказного.
Все обратили внимание на них. Удивлялись и спрашивали негромко, что за нужда государю звать к себе безусого, плохо одетого писца?
— Ох, милостивец… Пожди, государь мой, — взмолился между тем Зотов, — к сердцу подступило, дух перехватило, ноги не идут… Дай хоть малость опамятоваться…
— Ну, переводи дух… Видно, труслив больно, парень.
Зотов не слушал, что говорит Апраксин, не видел никого кругом. Постояв немного, он зашептал снова молитву и стал быстро креститься. Потом, набравшись храбрости, заявил:
— Веди, государь милостивый…
Не помня себя, дошёл вслед за Апраксиным до порога царской опочивальни и сам не знал, как переступил порог.
Тут так и повалился в ноги Федору, который в утреннем наряде сидел за столом; на столе лежали книги и письменный прибор.
— Вставай, Никитушка. Ну-ка, покажись, каков ты есть?
И он стал вглядываться в Зотова, который поднялся и стоял, не решаясь взглянуть на царя.
— Ничего, видать, прямой, не лукавый парень. Смирен, говорят. А каков в письме да грамоте? Поглядим, послушаем. Вот с отцом Симеоном мы и помытарим тебя, — кивая головой входящему Полоцкому, которого тоже пригласил к этому экзамену, сказал царь.
Испытание Зотов выдержал хорошо.
— Пристойно и неошибочно читает и пишет сей муж. И в писании Священном сведущ, — поглядев написанное тут же Никитой, прослушав чтение и объяснение отрывков из Библии, заявил Полоцкий.
— Добро, коли так. И мне сдаётся, правду ты толковал, боярин, — обратясь к Соковнину, заметил царь. — Пристойный будет наставник Петруше. К государыне-матушке теперь отвёл бы его. Как ей покажется? Ступай, Никита. Гляди, учи хорошенько братца Петрушу. И наша милость будет тебе.
Благоговейно прикоснулся губами Зотов к протянутой ему руке и вышел за Соковниным.
Внутренними переходами проводил его боярин на половину Натальи.
Окружённая боярынями, сидела Наталья на кресле вроде трона. Царевич стоял подле, держась за руку матери, и внимательно вглядывался в нового учителя.
Дедушка, Кирила Полуэхтович, дядька царевича, князь Борис Алексеевич Голицын, молодые братья Натальи и сестра её, Авдотья, — все были тут же. Всем хотелось взглянуть на учителя Петруши.
Царевичу не удалось хорошо разглядеть лица Зотова. Тот как ударил челом в землю перед царицей, так и не поднимался.
Величественная осанка Натальи, её проницательные, тёмные глаза, которыми мать так и впилась в Зотова, словно сразу желала проникнуть в душу того, кому придётся поручить сына, — все это повлияло на робкого приказного даже сильнее, чем лицезрение царя. Тем более что Федор принял его совсем запросто.
— Встань, слышь, Никитушка. Сказывали мне, благочинно живёшь ты, писанию Божественному обучен. Волим вручить тебе сына моего, царевича. Блюди за ним, прилежно научай божественной премудрости, страху Господню, благочинному житию и писанию. Чтению малость приучен Петруша. Мастерица[31] царевен и ему азы казала. А то и сам наглядывал… Да встань, слышь. Что за охота тебе пластом так лежать?
Ласковый голос Натальи, которым заговорила эта величественная и суровая на первый взгляд государыня, почему-то растрогал, потряс душу Зотова. Все волнения этого утра разрешились слезами.
Стараясь подавить непрошеные рыдания, не поднимая головы, Зотов, всхлипывая по-бабьи, тонким, рвущимся голосом ответил:
— Помилуй, государыня. Недостоин я хранити и оберегати толикое сокровище. Страхом душа исполнена. Ей, помилуй, царица-матушка Отпусти холопа своего.
— Ну, пустое толкуешь Говорю, встань. Вот так… Наутро перевозись сюды, в терем. Покойчик тебе отведут, светёлку особую. Да и с Богом, за ученье. А теперь — иди… И впрямь, ровно не в себе ты, Мосеич. Ступай с Богом.
Как ко святому причастию, прикоснулся Зотов к мягкой, холёной руке царицыной, милостиво протянутой ему для поцелуя, ударил челом Наталье, царевичу и, пятясь, вышел из покоя.
Не помня себя от радости, Зотов не заметил, как и домой попал. Весь день словно в угаре проходил, был нем, не отвечал на вопросы домашних. Всю ночь почти провёл перед иконами в молитве.
На другое утро, 12 марта 1677 года, едва Никита огляделся в комнатёнке, которую ему отвели по приказанию Натальи в её тереме, пришли звать учителя к царице.
— Только раней, Никита Мосеич, вот принарядись-ка малость. Жалует тебе государыня-царица весь убор, верхнее да исподнее платье. И сапоги с шапкой. Вот, все тута. Давай помогу тебе, — объявил юноша-стольник Натальи, развязывая большой узел, который принёс с собою.
Четверти часа не прошло, как Зотов сам себя не узнал, наряжённый в новый богатый, тёмного цвета, кафтан с опушкой, в шёлковую рубаху, в сапоги мягкого сафьяна с острыми носками вместо старых стоптанных чоботьев, в каких ходил он раньше.
Сердце так сильно билось от восторга и страха в груди Зотова, что вздрагивала шуршавшая при малейшем движении шёлковая ткань его рубашки.
Наталья была не одна. Царь с ближними боярами, святейший патриарх, царевны, сестры Федора и тётки его собрались, как на семейное торжество, на первый урок любимого всеми царевича.
Все только и ждали Зотова. Не успел он добить им челом, как сам патриарх с духовником царицы начал править краткую обедню, окропил святой водой царевича, всех остальных и, благословляя ребёнка, сказал:
— Ныне, чадо моё любимое, новой жизни, духовной причастен станешь. Укрипляйся в ней и трудись благоуспешно, як тилом цветёшь та крепнешь час от часу, матери-царице, государю-брату и мини во утешение, земле усей на радисть. А ты, сыну, прими отрока, ветвь древа царственного. Надели его свитом знания та блюди строго чистоту дитяти духовную и телесную. Аминь!
Вторично с благословением возложил он руки на голову царевичу.
Зотов поцеловал руку патриарху, принял от него ребёнка, повёл к столу, где лежали приготовленные книги, тетрадки, стоял прекрасный письменный прибор, и в присутствии царственных свидетелей состоялся первый урок Петра с Зотовым.
Усадив царевича, учитель отдал ему земной поклон, уселся рядом на самый край скамьи, достал указку, развернул букварь и приступил к ученью.
— Се реки, царевич: аз.
— Аз! — напряжённым, звонким голоском повторял ребёнок.
Пробный урок длился недолго. Патриарх первый поднялся, похвалил ученика и обратился к учителю:
— Изрядно ведёшь дило. Видно, благословленье Божие почиет на тэбэ. Жалуем тэбэ казною нашей патриаршей, во сто рублив… Выдай ему, брат Арсений, — приказал Иоаким своему казначею, стоявшему поодаль.
Приготовленный заранее тяжёлый кошель с рублевиками перешёл сейчас же в руки осчастливленного Никиты. По тому времени такие деньги составляли большой капитал.
— И от нас тебе пожалованье будет. Семейка, сказывают, у тебя немалая. Так для прожитья, чтобы угол свой был, жалуем тебе двор наш у Никольских ворот… Боярин Иван Максимыч, — Федор указал на Языкова, — и купчие крепости тебе передаст, коли готовы…
Только молчит Зотов, земные поклоны отдаёт, прижав руки к груди и ловя воздух пересохшими от волнения губами.
— А это тебе от нас с Петрушей, — говорит Наталья и указывает на полный, очень богатый наряд, который в это самое время подал на подносе стольник, приходивший одевать Зотова.
Слезы снова брызнули из глаз бедняка, на которого, как во сне, посыпались все блага мира.
— Спаси вас… Челом вам…— пытается говорить он. Но от волнения сжимается горло и звуки не выходят из груди.
— Добре! Потим покланяешься, — успокоительно произнёс старец Иоаким. — Ступай, трохи очухайся, сыну. Ишь, як тэбэ расшатало. Ничого, приобыкнешь. Не усе горьке пить. Ино и сладенького хлебнуты можно Ступай, сыну.
Молча откланявшись, вышел Зотов из покоя, действительно, без вина шатаясь, как пьяный, от радости и сильных волнений, только что пережитых.
А царевич, такой же серьёзный, затихший, каким был все это время, долго глядел вслед учителю и вдруг решительно объявил:
— Я с им стану учиться. Он знает грамоту. Он любит меня.
Общая улыбка была ответом на деловитое замечание ребёнка.
С этого дня Федор особенно часто стал появляться и в покоях, отведённых теперь Петру, и присутствовать на уроках мальчика. Как будто вспыхнула в царе прежняя нежность, какую он питал к меньшому брату когда и сам ещё был мальчиком двенадцатилетним, при жизни царя Алексея.
Конечно, об этом сейчас же толки пошли по всему дворцу. Заговорила о том же и царевна Софья с боярыней Анной Хитрово, когда старуха пришла проведать царевен.
— Откуда добыл Соковнин учителя? Мудрует тот с братцем Петрушей, что и сказать не можно. Вишь, подольстился к матушке нашей наречённой, к Натальюшке. Уж так-то Петрушу расхвалил, и-и-и!.. «И смышлён-то, и разумен-то… И такое, и иное…» Мало-де малышу грамоте да Святое писание знать да письму помаленьку обучиться. Куды… Учителей иных ещё набрали. Никитка старшой над ними. Истории обучать стали несмышлёного, землеописанию, мало ещё чему… И про бои ему толкуют, про ратное строение, и про взятие городов крепких… и… Да мало ль про што? Счёту учить починают. Чертежи кажут и самому толкуют, как их чертить… А то ещё мастеров назвал да красками разными расписать научил все покои в палатах брата. Там и грады, и палаты знаменитые, дела военные, корабли великие, ровно в яви бывают. Про царей истории разные изображены и прописью чётко подписано про все, что оно значит… Да не столько по книгам учит отрока, как водит из покоя в покой, басни ему сказывает. Особливо, слышно, про государей прежних воинствующих. Про Димитрия Донского, про Александра Невского. А особливо про царя Ивана Васильевича. Мальчонка и то, бывало, с другими парнишками дни целые ратным строем тешился. А ныне — и впрямь от воинских дел без ума… Подрастёт, гляди, всё будет искать, с кем бы повоевать? А братец-государь вот как рад. Не выходит, почитай, из покоев Петрушиных. Только что сам с им не тешится. Да уж так того Зотова нахваливает. Отколь, слышь, набрался ярыжка[32] всякой затеи да выдумки?.. И в толк не возьму, боярыня.
— Отколь?.. Ты не знаешь, Софьюшка, так я сведала, — ответила мамка царевны. — Матвеевского гнёзда пташка той Зотов. Ещё как в Посольском приказе он служил, бывал Никитка в дому у Артемона. И ради письма своего красного, и ради послуги всякой, какую боярину оказывал. Тогда Никитка особливо к ученью Андрюшки Матвеева приглядывался. А теперь и сам ту же канитель заводит, что у разумника нашего заведена была. Уразумела теперь. А дядьками Петруше, окромя Голицына, двое Стрешневых приставлены: Родион Матвеич да Тихон Никитыч, заведомые Дружки Натальи, потатчики нарышкинские… Ишь, с кем они подружились, нас бы выжить… И нет Матвеева, а все дух его не выдохся. Нарышкины и без него как при нём живут, одно думают: Федора бы, как Алёшу, родителя твоего покойного, к рукам поприбрать… Вас повыселить из дворца… А там, помаленьку, и поставить Петрушу своего, смышлёного да наученного, на царство…
— Ох, правда все, что ты говоришь, матушка… Как же быть-то?.. Дядю Ивана упредить бы… Он бы што али боярин Богдан Матвеич…
— Ничего. Заспокойся, Софьюшка. Им уж все ведомо. Знаешь, у меня тута все вести-весточки, словно касаточки, слетаются. Отсель куды надо летят… Дело просто. Оженить Федю надо. Свои детки пойдут, о брате меньше думать станет А уж в цари сажать и не подумает. А там, с роднёй новой с царицыной соединясь, авось, с Божьей помощью и одолеем Нарышкиных… Одного же поизбавились, самого злобного… Артемона свет Сергеича… Так их всех изживём… Потерпи малость.
Софья привыкла верить старухе, знала, как та прозорлива и умна, и, успокоенная, простилась с боярыней.
Слова старухи сбылись, хотя и не скоро.
Худосочный, хилый Федор, которому ещё не свершилось и шестнадцати лет, по общему мнению врачей, не мог теперь вступить в брак без ущерба для своего здоровья.
— Годок-другой повременить надо, когда окрепнет государь от своей скорби, рекомой morbus scorbuticus, тогда и надежды будет больше, что не угаснет род царский. А преждевременная женитьба может нанести ущерб его царскому величеству.
Не совсем доверяли нетерпеливые советники Федора таким речам. Обычно наследники и цари московские очень рано вступали в брак, и не бывало ничего плохого от этого.
Но юный царь в течение почти двух лет большую часть времени хворал, и только к концу 1678 года можно было собрать невест, из которых должен был себе избрать Федор царицу.
Сильнейшие из вельмож, по примеру Матвеева, думали было до всяких смотрин сблизить Федора со своими дочерьми. Легче всего было это делать при помощи царевен, тёток и сестёр царя, когда привозили боярышень на поклон, зная, что Федору здесь легко приглядеться к девушке. И через Анну Хитрово добивались того же. Но тут интересы сильнейших бояр столкнулись, и каждый употребил крайние усилия, только бы не дать другому добиться заветной цели.
Стоит взглянуть на список отвергнутых девиц, после смотрин возвращённых по домам, и станет ясно, кто старался провести в царицы своих дочерей.
Обычные подарки для отвергнутых девиц были розданы двум дочерям Федора Куракина, Марфе и Анне Федоровнам. Как дядька царя, он уж, конечно, имел случай похлопотать за своих дочерей — и всё-таки дело не выгорело. Затем идёт дочь второго дядьки, Ивана Хитрово, — Василиса; дочь окольничего[33], князя Данилы Великого — Галина; дочь стольника, князя Никиты Ростовского; две дочери князей Семена и Алексея Звенигородских; дочери князей Семена Львова, Володимира Волконского.
Тогда, словно по уговору, бояре предоставили самому Федору избрать себе подругу. И когда он остановился на миловидной и скромной девушке, Агафье Грушецкой, из простого дворянского рода, — бояре не стали восставать против этого выбора, только поставили условие:
— Пускай царь для радости своей берет кого хочет. Да родня бы незнатная новой царицы в знать не лезла. И без того тесно во дворцах и теремах от новой знати: Стрешневых род, Милославские все, Нарышкины опять! Одних братьев царицыных боле двадцати в Верху живёт, родных и двоюродных… Скоро и казны всей царской не хватит кормить-поить их… И мест по царству не буде царску родню сажать. Прямой урон земле и царству от того.
Не стал спорить об этом Федор.
Он понимал, что дела царства плохо пойдут, если он возьмётся за управление своими слабыми, неопытными руками. И только где возникал вопрос о его личной, внутренней жизни, там ещё мог кое-как отстоять юный царь свои желания, свою волю.
Осенью 1679 года обвенчался царь с Агафьей Семёновной Грушецкой и свадьбу отпраздновал без всякого чина, даже скромнее, чем это было при женитьбе Алексея на Наталье. Только Симеон Полоцкий и новый придворный пиит и ученик белоруса, монах Сильвестр Медведев[34], сложили широковещательные оды на это «великое и радостное для всей земли Русской торжество».
Словно на счастье, у новой царицы оказалось немного мужской родни. И те, кто был, не тянулись в знать. Дядя её со стороны матери Семён Заборовский ограничился желанием попасть в число думных дворян. Отцу было дано боярство. Только две красивые, скромные девушки, Анна и Фёкла, сестры Агафьи, были выданы за знатных женихов. Первая за сибирского царевича Василия, вторая стала княгиней Урусовой, и щедрое приданое получили обе по милости царя и сестры-царицы.
А молодые родичи, Грушецкие, были всего лишь «жильцами», младшим чином при дворе.
Быстро шли дни за днями.
Весёлая, живая первое время, молодая царица скоро изменилась.
Нежное, полудетское личико её побледнело. Глаза то загорались нездоровым огнём, то потухали надолго.
И постоянное нездоровье Федора удручало царицу, и сама она тосковала, видя, что судьба не даёт ей радости быть матерью, подарить наследника московскому престолу.
Ни мольбы, ни богатые дары, посылаемые в разные обители и храмы, ни щедрая милостыня — ничего не помогало. Призывались врачи, знахарки и знахари… Но прошло больше году, прежде чем у царицы явилась надежда на исполнение её самой заветной, дорогой мечты.
Обрадовался и Федор, узнав, что скоро станет отцом. Только врачи, ничего не говоря своим державным пациентам, переглядывались между собою и сомнительно покачивали головами.
Воспрянувшая было духом, радостная, словно обновлённая Агафья таяла на глазах у всех. И сами врачи не могли и не смели добраться до причин этой телесной немощи.
Конечно, она могла быть временной, могла зависеть от особого состояния молодой царевны… Но кто поручится, что тут не замешаны те же тёмные силы, которые сводили с трона немало невест и жён царских?
Вот почему врачи только покачивают головами и ждут, что будет.
Но Милославские и их друзья, не настолько опасливые, как врачи, совсем воспрянули духом.
— Вот дал наконец Господь. Подарит царица молодая наследника на царство. Можно теперя и Нарышкиных с их царевичем черномазым с рук сбыть… Свой буде прямой царевич у нас, не брат младший, а сын единородный…
Однако, видя искреннее расположение Федора к Петру, стали действовать очень осторожно.
Наталья чувствовала, как наглеют недруги, стараясь сделать для неё нестерпимой жизнь вблизи царя. Но все сносила терпеливо.
— Слышь, матушка, — говорила она порой Анне Леонтьевне. — Сказывал на днях Языков мне: теснота-де в старом дворце настала; нам-де с Петрушей царь новый двор строить хочет… Тута остаться, все терпеть — мочи моей нету. А и уйти прочь боюся. Бок о бок с царём — все же спокойнее мне и Петруше. Коли што, гляди, и защита будет… Все на глазах. Не больно строг Федор с боярами, да не посмеют же они Петрушу, как Димитрия в Угличе, на глазах на братних зарезать.
Сказала — и вздрогнула сама, словно увидела наяву ненаглядного своего Петрушу с зияющей на шее раной, облитого кровью…
— Ох, доченька, и я уж про то же мерекаю… Молюсь святым угодникам… Не попустит Господь!
Толкуют обе женщины, а сами и забыли, что тут же, тихо прикорнув в углу за книгой, сидит царевич, их радость, их надежда.
И вдруг, поднявшись от стола, Пётр подошёл к матери, осторожно заговорил:
— Матушка, да коли обижают тебя… Уедем к себе, в Преображенское… Там нет чужих. Не тронет меня там никто… Я и вырасту… А когда вырасту…
Ему не дали досказать.
Мать закрыла детские уста поцелуем, тревожно оглядываясь, словно опасаясь, не выдадут ли самые стены её опочивальни того, что сейчас было сказано.
А старуха укоризненно покачала головой и поджала многозначительно губы.
«Вот, мол, не поостереглися — и дитя услышало, чего бы до поры ему и знать не надо».
Эту мысль прочла Наталья в глазах матери.
А сама, расправляя непокорные тёмные кудри мальчика, нежно касаясь бледными, тонкими пальцами его розовых, смуглых, покрытых пухом щёк, шепчет:
— Не толкуй пустое, дитятко. Где же зимою в лесу прожить? Там и от волков обороны мало, не то от людей… Да и помалкивай лучче. Не думай про лихо, оно пройдёт мимо. На леса, на горы, на сухие поляны… Спаси и защити, Матерь Божия, отрока Петра.
Побледнела Наталья. Губы её шепчут не то молитву, не то заклинание…
Восемь лет царевичу. Но он уж такой рослый, что и все двенадцать можно ему дать. А по уму и смелости он далеко превосходит не только однолеток, но и взрослых товарищей, каких допускают дядьки и наставники для совместной игры с Петром.
Встряхнув кудрявой головой, выпрямясь перед женщинами, словно кидая вызов кому-то, он объявил:
— Пусть кто тронет тебя, матушка… Я весь свой полк соберу… Ужо не спустим обидчику… Да и брат-государь по правде любит меня… И тебя слушает. Ты и скажи ему… Я тоже скажу… Он нас оборонит, не даст в обиду… Он…
— Да ладно… Да будет, дитятко. Глупый ты, несмышлёный ещё… Я так, пустое молвила. А ты вон уж што. Помолчи, слышь. Я велю. Гляди, и в беду нас впутаешь, — уже принимая строгий вид, стала приказывать Наталья; но не выдержала до конца роли и с новыми горячими поцелуями и ласками зашептала: — Ох, Петенька, солнышко моё ясное… Горькие мы с тобою сироты… Недруги нас обступили, кругом обложила сила вражья… Помалкивай лучче, соколик ты мой. Молю тебя Христом-Богом… Лучче, коли тише, — невольно повторяя полузабытый завет покойного, Тишайшего царя Алексея, уговаривает сына вдова-царица.
Ничего не сказал на это мальчик, повёл густыми, тёмными бровями — и отошёл опять к столу, за книжку свою уселся…
А мать с дочерью дальше ведут печальный разговор, только потише, почти шепотком теперь, чтобы опять не встревожить этого мальчика, который дороже им собственной жизни и счастья. И имя царевны Софьи изредка доносится до обострённого слуха Петра, который, весь насторожась, глядит только в книгу, а не читает её.
В тот же день, когда Зотов позвал царевича в обычный час к уроку, Пётр, учившийся постоянно внимательно, с большой охотой, был очень рассеян, даже грустен, словно иногда и не слышал объяснений и вопросов наставника.
— Да здоров ли ты, государь мой царевич? Ино оставим науку, коли што. Потолкуем налегке про кой-што. Вон хоть в ту горницу пойдём, где воинское дело представлено. Може, што новое скажу тебе, — предложил Зотов.
Больше всего любил мальчик картины в одном из покоев, предоставленных ему, на них было изображено военное вооружение, снимки с известных баталий, планы лагерей и крепостей.
Но невинная уловка не помогла.
Мальчик перешёл в «батальный» покой, слушал, что говорил ему Зотов, а выражение внутренней напряжённой думы не сходило с красивого личика.
— Да не поведаешь ли мне, Петрушенька, с чего заскучал? Может, недужен ты, светик мой, — с искренней, нежной тревогой спросил наконец Зотов. — Надо государыне сказать. Лекаря покличем. Скажи, прошу душевно.
— Не надо… Зачем матушке? Здоров я… А вот спросить хочу тебя… Да не ведаю, ладно ли будет? Матушка сказывала, молчал бы. А и молчать нет мочи. С того я…
— Вижу, сам вижу мятется душенька твоя чистая, ангельская. Да уж поведай мне. Вот тебе икона. Крест святой порукой: а ни-ни… на духу не поведаю, попу не открою, што сказать изволишь… А може, умишком моим худым и советишко дам пригодный. Не от разума, от усердия моего да от щедрой приязни…
Искренно любящий мальчика Зотов быстро-быстро крестился, а глаза его даже наполнились слезами от наплыва чувств.
— Ну уж скажу… Слышь, лишь бы никому не сказывал… Помни. Крестом поручался ты…
И, понизив голос, царевич передал наставнику весь недавний разговор свой с матерью и бабушкой.
— Мудрёную задал ты мне задачу, царевич. И не ждал я никак того, што услыхать довелося. Лучче бы и не допытыватца, и не дознаватца мне… Простого я роду, не обык к вашим царским делам да случаям… Што и сказать, совет какой дать, не знаю.
И Зотов умолк. Ничего не сказал и мальчик. Но с такой тоской глядел он мимо учителя в соседнее окно, что у того сердце сжималось от боли.
Наконец он снова заговорил.
— Да поведай уж, што ты волил знать от меня, царевич? Може, наставит Господь меня, недостойного…
— Сам подумай, чего мне надобно.. Как бы матушку оберечь? Недругов наших одолеть? Видно, боязно матушке; и меня бы, как Димитрия-царевича, со свету бы не сжили людишки подлые…
— Да неужто ж царевна встанет на брата, сестра-то родная?
— Царевна? — сразу, вздрогнув, насторожился Пётр, — Да нешто правда, што Софья на нас с матушкой… с ворогами с нашими? Мосеич, што ты?
И широко раскрылись глаза у мальчика не то от ужаса, не то от омерзения.
— Господь с тобою… Нешто я сказал такое?. Ты же мне сказывал, будто и царевны-сестрицы имя было матушкой-царицей помянуто… Я, по правде сказать, слыхал, што неспокойно в терему у царевен, особливо в покоях царевны Софьюшки. Да не на грех же подбивают её… Обычно в дому вашем царском дня не бывает без наговоров да составов разных. Друг дружке ногу каждый подставить норовит. А штобы такое дело! Храни Боже! Ежели вороги ваши плохое и задумали, так то лишь одни бояре… Ну, скажем, Языков тот же, што в ином месте поселить тебя, государь-царевич, с царицей-матушкой сбирается… Ну, Хитрово али Милославские… А штобы царевна… Храни Господь. И не поминай её.
— Ладно, ладно, не стану Слышь, што задумал я. К братцу, к царю, прямо пойти и поведать про все. Ужли ж не вступится братец? Брат же я государю. Крёстный он мне. Батюшка, слышь, помираючи, при всех сказывал мне по братце на царство сесть. Даст ли он в обиду нас?
— Не даст, не даст, царевич. Верное твоё слово. Вон Господь как умудрил тебя, младенца… Одно дело, и бояре побоятца дурное што учинить с тобой. Ещё и наследника нет у государя. А будет ли, Бог весть.. Слышь, и то они друг дружку корят порой, што сами горе земле готовят. Второе, мол, лихолетье настанет, коль корень царский изведётся. Так промеж здешних людей, промеж челяди толк идёт… Иди с Богом, скажи государю. Пред его очами — правда, как масло на воду, так и выступит. Поди, он и не знает, што умышляют злые люди… Царь даст пораду… Только, слышь, меня не называй… што совет я давал тебе… Меня-то одним махом проглонут тута… Слышь, царевич…
Воодушевление, охватившее на короткое время Зотова, сразу пропало при мысли о той опасности, какой подвергался он сам, впутываясь в игру верховных бояр и царской семьи.
— Уж ты не думай. Тебя не помяну… Уж ты верь, — успокоил Зотова мальчик.
И Зотов понял, что ребёнок действительно не выдаст его. Не слушая благодарностей наставника, Пётр снова в раздумье заговорил:
— А постой… ежели мне раней к святейшему патриарху… Ему слово молвить… Помнишь, как читали мы про Ивана Васильича… Теснили ево в юности бояре, а он у патриарха, у святого Макария и совет и помочь нашёл… Как скажешь?..
Почёсывая слегка затылок, Зотов в смущении не знал, что отвечать.
— Макарий… Так то был Макарий, — наконец негромко проговорил он. — А наш святейший кир-патриарх… Дай ему Господи многая лета… Благ он уж больно. Словно и нет для него злых людей, все хороши да милы… Станет ли он с боярами с главными, с сильными в спор вступать? То подумай, царевич. Да и не наш он. Из украинцев… Может, оттово и не мешается вовсе в дела московские. Церковь блюдёт…
Зотов словно забыл, что перед ним восьмилетний ребёнок, и толковал, как со взрослым юношей. И выражение лица царевича совсем было не детское в эту минуту.
— Правда твоя… Не такой он, старец Иоаким, как был Макарий. Не будет нам защиты от него… Да што там… Прямо — лучче… Ты сиди… я приду скоро… Я только к братцу-государю…
Не успел Зотов сказать что-нибудь, остановить ребёнка, как тот уж выбежал из покоя и знакомыми переходами поспешил на половину Федора.
Резвый мальчик-царевич и раньше, бывало, появлялся один везде во дворце, заглядывал и к брату спросить о здоровье от имени своего и царицы Натальи, выпросить гостинцев или новых книжек.
Теперь тоже никто не обратил внимание на Петра, когда тот появился в покоях Федора.
Здесь стольник объявил, что государь ещё на совете, в Грановитой палате, с ближними боярами своими.
Мальчик даже не дослушал, что говорил дежурный спальник, и поспешил дальше.
Стрельцы и привратники были удивлены появлением младшего царевича у дверей палаты, но остановить его не посмели, полагая, что без царского зова он не явился бы на совет бояр с царём.
Тут же, почти у дверей догнал царевича Зотов, который, опомнившись, кинулся следом за своим питомцем.
— Царевич, пожди… Неладно так-то, на совете на боярском… Помысли малость, — задыхаясь от поспешной ходьбы и волнения, шепнул царевичу наставник.
— Чего неладно? Я же поклониться желаю государю-брату моему, царю Федору Алексеевичу. Не видал его давно.
И с этими словами Пётр перешагнул порог. Зотов, ни жив ни мёртв, так и застыл у порога, не решаясь войти, и только сквозь полураскрытую дверь глядел, что будет дальше.
Степенно подошёл царевич к ступеням, на которых стоял трон, охраняемый по бокам двумя золочёными львами, по образцу византийских царских престолов.
Федор, как и все думные бояре, сидящие тут, был удивлён появлением брата, но сейчас же ласково закивал головой в ответ на чинный, глубокий поклон мальчика, поднялся с места и поцеловал его в голову и в лицо, пока мальчик, по обычаю, приложился к руке царской.
— Али пришёл с чем на совет наш на царский?.. Жалуй, милости прошу… Просить, што ли, хочешь о чём? Сказывай… Поди сюда, ближе.
И, снова усевшись на троне, Федор поставил перед собою брата, словно невольно залюбовавшись смущённым, покрасневшим, почти пунцовым от волнения, личиком царевича. Смелость, с какой Пётр явился сюда, вдруг покинула его. Он молчал, не зная, с чего начать… Мял в руках край своего кафтанчика и кусал пухлые, свежие губки красиво очерченного рта, чтобы не расплакаться громко.
Тут же сидели почти все, на кого мальчик хотел принести жалобу брату: боярин Языков, Хитрово, Иван Милославский…
Ребёнок не думал, конечно, делать заглазного доноса. Он знал, что каждое слово против этих бояр станет им известно. Он хотел пожаловаться, сознавая свою правоту, радуясь, что придётся стать на защиту горячо любимой матери и, может быть, даже пострадать при этом…
Но выступить хотя бы и с таким большим делом при двадцати — тридцати боярах и царевичах, таких важных, почти сплошь седобородых и седовласых… При этих думских дьяках и дворянах, сидящих поодаль и с таким вниманием кидающих взоры на малыша, словно бы они и не узнали его или приняли за какое-либо незнакомое раньше существо… Все это лишило мальчика самообладания. Он понимал, стоит ему заговорить — вместе со словами вырвутся из груди невольные, непрошеные слезы… Унизительный ребяческий плач, которого вообще не любил царевич. Даже если порой приходилось терпеть боль, Пётр старался не плакать. А тут…
И, крепко сжав губы, мальчик продолжал молчать…
— Ну, что же ты, братишко? Или забыл, с чем шёл? Забоялся при всех… Ладно. Ступай теперя. Скоро и кончим. Ко мне попозднее приходи, там потолкуем…
Ласковое предположение, что он забоялся, словно укололо царевича. Способность говорить сразу вернулась к нему.
— Без страху пришёл я, брат-государь мой, царь Федор Алексеевич. Челом тебе бью, жалобу приношу слёзную… От себя да и от матушки-государыни нашей, Наталии Кирилловны.
Сразу лица бояр приняли удивлённо-встревоженное выражение. Послышались и подавленные возгласы. Некоторые, как Языков и другие, чутьём догадались, о чём будет речь, и побледнели.
Царевич при вспоминании о матери ощутил, как слезы клубком снова подкатываются к самому горлу. Но ещё крепился.
— Жалобу? Што приключилось? Сказывай скорее… Поди сюда… Садись…
И царь усадил его рядом с собою на широкое сиденье трона, где раньше худощавая фигура Федора выглядела так беспомощно.
— Што ж молчишь? Обидел-то хто тебя и матушку? Говори. Видно, дело не малое, што здесь нашёл меня. Я слушаю.
— Обидел хто?.. Ещё нет. А задумано… Вот он, — указывая на Языкова, звенящим голосом начал снова царевич, — матушке сказывал: из терема её, из твоего дворца царского нас переселить задумали… Тесно-де тута. В новы хоромы нас… А то и вовсе с глаз твоих… А там… матушка сказывала: без твоей охраны царской хто ведает, што учинить могут люди злые?! Не похуже, чем в Угличе было от Бориса Годунова на царевича Димитрия, вот как в истории писано… Я не за себя, за матушку боюся… Сироты мы, да брат же ты мне, государь, не чужой. Ужли не вступишься? Ужли и угла нам с матушкой нету в доме родительском…
Слезы снова так и брызнули из глаз царевича. Чтобы громко не разрыдаться, он умолк.
И всё смолкло кругом.
Федор, прижав к груди голову брата, ласково отирал ему слезы и сам словно раздумывал о чём-то. Потом взглянул прямо в глаза Языкову, сидящему недалеко от трона, и спросил:
— Што значат речи царевича? Ну, буде, брат милый… Да, не плачь же, негоже… На людях плакать невместно царевичу… Слышишь?..
Ласки, поцелуи и уговоры брата успокоили мальчика. Он затих.
А Федор снова обратился к Языкову:
— Слышь, Иван Максимыч, сказывал ты: сама государыня-матушка, утеснения ради, толковала тебе: прибавить бы покоев в её терему али иное место дать для житья. А тут што слышно стало? Растолкуй, боярин.
То багровея, то бледнея, едва выдавливая слова из пересохшего горла, Языков поднялся и заговорил:
— Царь-государь, Господом распятым клянусь: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Может, я одно толковал, а государыня инако принять изволила. Её государское дело. А мне ли от тебя, государь, твоего царского величества родню отлучать. И в уме того не было. Хоть на пытку вели. Все то же скажу…
Неловко стало всем и от клятвы, и от этих слов боярина. Наглость и злоба уживались в их грубых, тёмных душах, но худородный выскочка Языков прибавил к этому и холопьей низости.
Снова наступило тяжёлое молчание.
— Так, ин пусть оно так; верю тебе, боярин. Слышал, родимый, слышал, Петруша? Знай и матушке скажи: никто не посмеет матушку али, храни Бог, тебя обидеть — меня обидеть, мне зло сотворить. А бояре наши не станут царям своим, коим крест целовали, худо чинить. Верим мы. Иди с Богом, Петруша… Дела у нас ещё…
С просветлевшим лицом встал ребёнок, снова отдал обычный поклон царю, долгим, признательным, не обрядовым, от сердца поцелуем ответил на поцелуй Федора и вышел из палаты.
Снова едва поспеть мог Зотов за своим питомцем, когда тот кинулся обратно к матери, чтобы скорей рассказать ей все, порадовать родимую.
А Языков, заметя сквозь распахнувшуюся дверь фигуру Зотова, только губы закусил и спустя немного шепнул соседу своему, Хитрово:
— Знаешь, боярин, хто все сие лицедейство настроил?
— Хто? Уж не Полоцкий ли? Он на эти дела мастер. Да, слышь, помирает он.
— Нету… Иной, не столь полёту высокого. Ярыжка приказная, Зотов, учитель Петрушеньки нашего. Видать, тоже в люди захотелось. На шутки пошёл… к царице подбивается, ко вдовице неутешной… Хе-хе-хе. Ладно, я ему удружу…
— Да, удружить надоть, коли так.. Ты помолчи покуда… Вон царь в нашу сторону поглядывает. Потолкуем ещё…
Они потолковали в тот же день. И решили судьбу Никиты Моисеича.
На Рождество того же 1680 года пришлось снаряжать чрезвычайное посольство для подписания мира на двадцать лет с крымским ханом. Во главе стоял наместник переяславский, думный дьяк Тяпкин.
Расхвалив Зотова, как знающего дело и умного человека, уговорили царя присоединить и его к важному посольству.
— А брата кто же учить станет? — спросил было Федор.
— Мало ль кроме Зотова у царевича учителей? Чему и учил Никитка его царское величество? Вон царевич, Бог дал, не то Псалтирь — Апостол весь наизусть сказывать изволит И пишет преизрядно. И счёту всякому обучен… Иные учителя потребны государю-царевичу… А Зотов не только школярить может кого, а боле добра принесёт, коли в послах поедет.
Уговорили Федора, и Зотов со слезами на глазах узнал весть о своём «повышении», под которым скрывалось несомненное желание недругов царицы Натальи удалить от неё и от царевича преданного человека.
Пётр и Наталья поняли хитрый ход бояр. Но делать было нечего. И немало плакал, долго скучал потом царевич по своему наставнику. Вспоминала его и царица.
Прошла зима; весна и лето наступили своим чередом.
Одиннадцатого июля 1681 года сбылось то, о чём горячо мечтал юный царь, чего с нетерпением просили у Бога врага Нарышкиных, чего последние ожидали с тревогою, чуть ли не со страхом.
Царица Агафья подарила Федору малютку-сына, наречённого Ильёй в память деда, Ильи Милославского.
Однако эта радость оказалась слишком мимолётной.
Четырнадцатого июля не стало царицы Агафьи, и те же люди, которые сообщили Федору эту тяжёлую весть, несмело добавили:
— А и про царевича Илью дохтура довести приказывали твоему царскому величеству: больно скорбен младенец, ангел Божий… Кабы и его не призвал к себе Господь… Больно ненадёжен, слышь…
Только за голову схватился царь и застонал, как раненый, выслушав зловещие слова.
Ещё больше врачей и сведущих баб-повитух было собрано во дворец… Чего ни делали, только бы поддержать еле тлеющую жизнь в слабом, болезненном младенце, стоившем жизни своей матери. Ребёнок словно не захотел остаться здесь без неё — и царевича Ильи не стало 21 июля, через десять дней после рождения.
Мучительным, тяжёлым кошмаром, без сна и без еды почти, пронеслись эти десять дней для юного вдовца, потерявшего разом и молодую жену и надежду царства, первенца-сына…
В иные минуты окружающим казалось, что царь начинает говорить необычно дико и глядеть так же тупо и бессмысленно, как царевич Иван. Ещё хватило сил у страдальца проводить до могилы тело жены. Но когда хоронили её ребёнка, Федор сам лежал в жару, без памяти. И эта болезнь, должно быть, спасла его от чего-нибудь худшего, вроде безумия…
Глава III. ПЕЧАЛЬНЫЙ БРАК
Тяжек был удар, способный сломить и более сильного человека. Но слабый, болезненный Федор перенёс его. Смирение и глубокая вера царя помокли ему в этом.
Поднявшись после болезни, бледный, исхудалый, почти восковой, он, вспоминая о жене и ребёнке, только шептал своими бескровными губами:
— Воля Божья. Он один ведает, што творит…
Тётки и старшие сестры царя, запуганные, робкие, совсем застывшие в своём теремном полузаточении, жадно ловили каждую весть, долетающую через высокие стены, окружившие их жилище, но сами не решались впутываться во события.
Одна царевна Софья и ухаживала за больным братом, и старалась чаще быть при нём, когда он поправился немного.
Удар, поразивший царя, больно задел и весь род Милославских. Все понимали это.
— Вот, чай, теперь кадык подняли Нарышкины… Братец Ванюшка хворый у нас. Все знают. Сызнова Натальин Петруша на череду на царство, коли…
Царевна Екатерина, толковавшая с Софьей, не договорила, словно из боязни накликать смерть Федора напоминанием о ней…
Но Софья решительно качнула головой, которая так глубоко и крепко сидела на её пышных, даже чересчур развившихся теперь плечах.
— Не бывать тому. Не больно порадуются. Пускай тешатся покуда. Одно дело, брат Федор не в могилу сбирается. Ещё и вдругорядь оженитца может. А коли бы, милуй Бог, не стало его… Все едино, не дадут нарышкинскому отродью землю во власть… Мало хто и стоит за них. Наши горой подымутся… Народ за нас… стрельцы за нами пойдут. Василь Василич Голицын, князь — над всею ратью поставлен. А он ли не за нас? Своё возьмём. Нечего нам перед Натальей шею гнуть, да я… Вот не пущу да не пущу её с отродьем на трон… И не будет того.
Такой силой, такой уверенностью звучали слова царевны, таким недобрым огнём горели её глаза, что каждый невольно поверил бы, не только двадцатидвухлетняя девушка-царевна, сама желающая того же, о чём говорила Софья.
Даже жутко немного стало Екатерине от слов сестры.
— Как же ты надумала, Софьюшка?.. Неужли?.. Грех-то ведь тяжкий… Не от одной матери, да брат же он нам… Подумай…
— Я думала. А тебе, гляди, поучитца надобно. Будет грех, так не на нас. А и то, што ты мыслишь, — ни к чему оно… И без того можно с пути поубрать, ежели кто помехой станет…
И, словно видя перед собой эту досадную помеху, Софья сильнее сдвинула свои тёмные густые брови.
Федора тоже покоряла силой своего духа старшая сестра, как бы решившая заменить ему мать.
Постоянно и настойчиво твердили царю все окружающие о необходимости вступить снова в брак.
Но Федор больше отмалчивался или ссылался на трауре на своё нездоровье, на советы врачей: раньше, мол, надо окрепнуть ему, а потом думать о женитьбе.
И только Софье не возражал. Он понимал: не мелкие личные расчёты двигают ею, а родовая гордость. Он верил той горячей любви, которую постоянно проявляла сестра в своих заботах, в неусыпном уходе за братом во время частых недугов Федора.
И всё-таки порою слова замирали на губах царевны, она прекращала уговоры, встретив робкий, как бы умоляющий взгляд брата.
Ей казалось, что так глядели в старину мученики, о которых она читала в разных книгах.
Новая женитьба была чем-то вроде мучительного, но неизбежного подвига. И Федор, зная всю его неизбежность, молча как бы молил:
«Потерпи немного. Дай собраться с духом… Я всё сделаю для царства, для нашего рода… Но не сейчас… Отдохнуть надо душе и телу перед новым испытанием».
Так понимала взгляды царя Софья. И она не ошибалась.
Нередко Софья толковала обо всём этом с Василием Голицыным, с которым очень подружилась за последние годы.
Умный, образованный, боярин-воевода превосходил многих из окружающих его вельмож и быстро составил себе карьеру.
Честолюбивый и решительный, князь сумел разгадать душу Софьи и пришёл ей на помощь во всех делах и планах.
Раньше, конечно, немыслимо было никакое сближение или дружба между затворницами-царевнами и людьми даже самыми близкими к царю, кроме ближайшей родни самой царицы.
Теперь же, когда и общий ход событий, и постоянные болезни царя выбили из колеи размеренную жизнь в московских дворцах и теремах, никого не удивляло, если царевны чаще обыкновенного появлялись и на народе, и на мужской половине Кремля. Не удивляло и то, что бояре, духовные лица и даже стрелецкие головы появлялись в пределах теремов не только во время редких, торжественных событий и выходов царских, но даже в неурочные дни, под предлогом деловых докладов, челобитья или посещения родственниц, постоянно живущих при теремах цариц и царевен.
Конечно, старухи, строгие блюстительницы древних нравов и обычаев, покачивали с сокрушением головой и потихоньку судачили между собой.
Но так как всё происходило в пределах приличий, они не решались громко огласить свои сетования.
Так понемногу распадались запоры, наглухо замыкавшие двери старого русского дворцового терема, осторожно надрывалась вдоль и поперёк густая фата, закрывающая от мира лицо и душу женской половины царских дворцов.
Слабоволие, вечное нездоровье царя, родовая распря, хотя незаметно, глухо, но упорно и грозно клокочущая в стенах дворца, яркая личность умной, настойчивой и осторожной при всём этом царевны Софьи — вот что заронило некоторым смелым, дальновидным честолюбцам мысль о новом государственном порядке, возможном на Руси.
С помощью одной из враждующих сторон удалить другую, объявить слабоумного, но довольно крепкого, живучем Ивана царём по смерти Федора, жениться на одной из царевен, стать опекуном царя, посаженного для виду на престол… Потом постепенно приучить народ к мысли, что дети царевны-сестры могут наследовать власть после дяди… Регентство… и вдали, кто знает, может быть, по примеру Бориса Годунова, даже царские бармы… Почему бы нет?
Царство сиротеет. Умный и смелый человек разве не вправе поднять то, что может оказаться в один прекрасный день ничьим?
Только Пётр мешает… Но он пока ребёнок, трудно ли обойти это препятствие.
Вот какие планы в числе многих лелеял в душе Василий Васильевич Голицын и сошёлся на них с царевной Софьей. И, как бы подготовляя почву для новых событий, для новых людей, он со многими другими боярами уговорил царя на важный, решительный шаг. Задумано все дело было ещё царём Алексеем.
Древний обычай местничества, родового и служебного старшинства, отголосок дружинного строя, во многом связывал руки московским государям и на пути их к самовластию, и при введении новых начал в народную жизнь. Алексей не решился докончить дело, начатое ещё тяжкой рукой Ивана Грозного.
И вот при слабом, податливом Федоре недавнее, неродовитое боярство, считая, что принижение древних родов возвеличит их самих, добилось большого и важного решения. На торжественном собрании всех государственных чинов с участием патриарха и духовных владык 12 января 1682 года прозвучала речь Федора о вреде местничества. Тут же было составлено и подписано «соборное деяние», постановление, об уничтожении местничества на Руси. Из Разрядного приказа вынесли все списки и книги, на которые опирались бояре при спорах о первенстве и о местах. Грудой свалили их на площади и сожгли!
Василий Голицын был одним из главных лиц, склонивших царя на такой решительный шаг.
Теперь, призванный на совет, слушая Софью, более нетерпеливый, чем сама царевна, не связанный с Фёдором ни родством, ни привычкой детства, Голицын не мог разделить добрых порывов, которыми озарялась порою душа девушки, такая мужественная и непреклонная всегда.
— Што же, оно и подождать не беда, — с притворным смирением выслушав царевну, заявил князь. — Ево воля царская, што станешь делать. Мы все — рабы царя… Тут не поспоришь. Оно, скажем, и то… Завтра умри государь — и всядет на трон царевич юнейший… Матушка его, царица, первой станет. Припомнит она в ту пору всем, от ково што плохое видела али к кому недружбу питает. Это одно. А другое… Нешто царям можно жить, как нам, простым людям? Над ними милость Господня. Я женат, нет ли, с меня не спросится. А государю Федору Алексеичу, коли суждено помереть, он и не женатый помрёт. Судил Господь ему оставить наследника царству, так и женитьба станет не на вред, а на исцеленье ему. Верить в Господа надо и нам, смердам, а царям наипаче. На то и Божии помазанники они… Уж коли ты сказываешь, свет государыня-царевна, так в вере окреп государь, по моим словам и толковала бы с ним. Вреда не будет.
Слушает вдумчиво Софья, молчит.
Ловко построенная, вкрадчивая, умная речь Голицына навела её на новые мысли.
Конечно, колебаться не следует. Если только все готово, надо скорее ставить последнюю ставку. Будет жив Федор, явится у него наследник, всё-таки главная цель осуществится. Наталья Нарышкина со всем её родом отойдёт далеко-далеко на задний план. Она, Софья, будет первой и по близости к царю Федору, и потом по малолетству наследника…
Если же правда, что женитьба может ускорить смерть брата… Воля Божия! Тогда…
Софья не захотела довести до конца цепь соображений и картин, зарождающихся у неё в душе.
— Добро, боярин… Твоя правда, Васильюшко. Не время ждать да откладывать. И сама потолкую с братцем, и боярыню Анну наведу. Он её слушает… А на ком бы оженитца царю? Неужели сызнова невест собирать? Стоит ли? Сам сказываешь, нельзя тратить часу напрасно. Кого ж бы посватать?.. Штоб с нами царица заодно была и родня вся её… Не скажешь ли? Может, было уж на уме у тебя…
— Думалось… Не потаю. Как ты скажешь, государыня-царевна? А у Апраксиных сестрица подросла, пятнадцатый годок пошёл девице. Тихая, богобоязная девица, собой куда хороша. Ино и царь на неё поглядывал, чай, ведаешь. Ровно распукалка[35] вешняя боярышня.
— Да уж не расписывай… Знаю её. На моих глазах, почитай, и росла Марфуша… Не перехвали гляди.
— Мне што… Мне она в дочки годится, — поймав на себе ревнивый взгляд Софьи, заметил Голицын. — А братовья Апраксины нам люди верные И сам старик из наших же рук глядит. Вот чево бы лучче.
— А Языкова позабыл? Слыхать, Иван Максимыч сам присватывается к боярышне. Тоже давно знакомы они. Соседи и дружбу ведут старинную. Как он скажет?
— Што ж, што Языков? «Ау, брат», — только и скажем. Неужто царю не уступит? Мало ли боярышень на Москве? И познатнее и побогаче… Утешится.
— Да может, князь, люба ему девица, всех дороже.
— Потерпит. Мало кому што любо. Ино дело, близок локоть, да не укусишь. Не так живи, как хочется, — со вздохом, печальным голосом произнёс этот воин, такой суровый, строгий на вид, никогда почти не меняющий выражения своего красивого лица, на котором заметён почётный знак — след от вражеской сабли.
Вспыхнула и Софья. Помолчав, она только и сказала:
— Добро. Так и дело поведём. А теперя — не взыщи. К государю-брату пора. Звал он меня на богомолье с им ехать… Родителей помянуть.
— Вот и ему ты помяни, царевна, о чём мы толковали с тобой.
— Да уж сказано. Своё не забуду. С Богом, князь!
Они расстались.
Решение, принятое обоими, было поддержано и остальными вожаками партии Милославских. Работа закипела.
Сумели уговорить и патриарха принять участие в благом деле.
Федор часто видал и ласкал, как сестру, как ребёнка, боярышню Апраксину, весёлую, красивую, пышущую здоровьем девушку.
И когда ему предложили взять её в царицы, он не стал долго отговариваться. Покойная царица Агафья успела пробудить в душе царя чистую, тёплую привязанность к себе. И даже после её смерти Федор не мог отрешиться от этого первого чувства, пережитого им.
Так не все ли равно, кого избрать теперь, кто займёт место на троне и в терему, но не в душе царя?
Когда согласие было получено и о нём узнал Языков, он ничего не сказал. Только усмешка недобрая, как судорога, проскользнула у него по лицу.
И в тот же день, вечером, боярин-оружничий, появившись на половине царицы Натальи, долго наедине беседовал с ней.
О чём? Никто не мог узнать, хотя и проведали Милославские и Хитрово о таком необычном свидании Языкова с Нарышкиной.
Когда Богдан Матвеич Хитрово прямо задал вопрос Языкову, тот нисколько не смутился.
— Да ужли ж ты и сам не догадался, боярин? Время подошло горячее. Бог един знает, што наутро всех ждёт. Заявился я к государыне-царице, ровно бы её руку держать собираюсь. А сам повызнать надумал: што там, у Нарышкиных, деется? Што затеяно сейчас всей ихней стороною? Им тоже ведомо, что государю, тово и гляди, смертный час приспеть может… Чай, готовят нам отпор, штобы молодшего царевича на трон посадить… Вот и толковали…
— И… што же… столковалися?
— Нету покуда. Не верит мне государыня Наталья Кирилловна. «Все-де врагом нам был. С чего дружба одолела?» Так сказывает.
— Гм, правда-то оно правда… Умён ты, боярин. И в слове, видно, твёрд. За нас стоишь, — выслушав объяснения Языкова, где правда перемешалась с ложью, проговорил Хитрово. — А ныне и больше можешь нам помочь подать. Слышно, задумал царь и женитьбы не ждать, а про всяк случай — наречи наследника, Петра-царевича. С чево — не знаю, а остыл ко мне государь. Ровно бы гневен стал. Ты у него в милости. Потолкуй о затее об новой. Да не мешкая. Ежели правда — поотговорить надо. Сказать ему… Да што тебя учить. Сам других поучишь… Как скажешь, Иван Максимыч, идёшь ли на то?
Пытливо стал всматриваться Хитрово в лицо Языкову. Тот снова и бровью не повёл.
— Добро, што упредил меня. Нынче же о деле таком царя спрошу. Мой черёд быть при нём…
— Ладно. Бог на помочь! Да ответ дай скорей…
— Не замедлю, боярин. Не ты ли меня и к царю приставил? Заместо отца родного мне был. Уж тебе ли я не послужу, боярин Богдан Матвеич?
Слушает Хитрово: так правдиво и открыто звучит речь Языкова. Не может, в самом деле, быть предателем этот человек.
И приветливо распростились они.
Языков сдержал обещание, в тот же день завёл разговор с Фёдором о разных вестях, какие ходят на Москве, особенно при дворе.
— Какие вести, Иванушка? — отрываясь от чертежа нового храма, который задумал построить, спросил царь.
— Да, слышь, што не дожидаючи радости своей государевой, венца честного, волишь меньшего царевича Петра Алексеевича нарещи наследником на престол Всероссийского царства.
— Што ж, коли бы и так. Кому оно помехой?
— Помехи никому. Лишь б толков не было. А их уж немало пошло по царству…
— Сказывай, какие ещё толки там? Мне бы знать их надобно.
— Скажу, государь. Первое дело, молод царевич. Так рано не нарекали вы, государи, и сыновей, не то братьев ваших на царство. Другое, понимают, середний брат есть у тебя — царевич Иван Алексеич. Не то что одново отца, а единой матери. Уж коли нарекать, ему первое место подобает по тебе.
— Да, слышь, хворый, почитай што благой брат Иван у меня. Хто тово не знает? Ево ли над землёй поставить могу? А Петруша гляди какой. Родитель покойный, помираючи, его же приказывал мне наречи. Видимо, благословение Господне почиет на отроке. Кого же поставить иначе!
— И никого ставить не надобно. Земля потерпит, пока свой у тебя, государя нашево, наследник будет. А народу ж всево не втолкуешь. Скажут: «Молодшего перед старшим нарекают. Дело неспроста». И смута, гляди, настанет сызнова. Мало ль и бояр, и воевод, и люду чёрного, и стрельцов, кои… уж надо прямо сказать… Многим не любы Нарышкины. Вон сам давно ль ты Ивана Кириллыча от очей своих в опалу удалил, что озорной да горденя он… И немало недругов у них… Земли всей не пожалеют, твоей воли не послушают, смуту заведут. Помяни моё слово… Не нарекай пока царевича. Может, оно посля помаленьку и сладится. А то… храни Господь, и малолетнему царевичу станут зла желать. Не так, как на меня он челом тебе бил, государю… А младенцу много ли надо…
Побледнел даже Федор. Он понял, что Языков прав, хотя и трудно разгадать: оберегая Петра, говорит так боярин или просто хочет помешать решению царя?
— Ин правда твоя, Максимыч… Погодить с тем лучче, — наконец усталым голосом проговорил Федор.
И, очевидно желая покончить тяжёлый разговор, снова погрузился в разглядывание чертежей.
Когда Иван Максимыч передал Хитрово и Ивану Милославскому решение Федора отказаться от немедленного всенародного признания Петра своим наследником, у обоих старых заговорщиков исчезло всякое сомнение насчёт Языкова.
А Языков прямо от них прошёл снова к царице Наталье и так же прямо и верно передал не только свой разговор с царём, но и всю беседу с боярами-первосоветниками.
Ни слова не сказала Наталья. Только с вопросом подняла на него свои большие, тёмные глаза, в которых набежали слезы.
— Што, али невдомёк тебе: чего ради я так? Потерпи малость, послушай, што скажу, — все выразумеешь. Только раней то подумай: не прошу и не ищу я ничего от тебя. Они в силе. А я к тебе пришёл. Неволит ли хто меня? Нет. Сердцем загорелся я против них. Мало ль девиц-боярышень на Москве, на ком бы хворого царя оженить можно. Так нет, мою суженую взяли. Я же у них в отместку много што отыму… Лишь бы не сдогадались они, откуда грому ждать… Дал я тебе клятву великую и сызнова скажу тебе: послужу с твоим царевичем, не им, идолам. Да умненько надо. Научен я от Богдана, как под людей подкопы вести. Все они теперя изготовились. И Софья-царевна, и советчик её первый, дружок мой, воевода преславный, Голицын-князь… И другие с ними… Пусть же думают, што все на их лад пошло. Скажу тебе тайну великую: мало жить осталось царю. Да не пугайся. Не то што изведут ево. Сам на ладан дышит Свадьба да пиры, гляди, к худу, не к добру повершатся… Вот до той поры и поберегай царевича своего. Штобы раней царя хворого не «отпели» бы твоего младенца злодеи. Да с отцом патриархом столкуемся ладком. Опаслив старец не в меру. Да душой кривить не станет. Не потатчик будет злодеям, когда час придёт. Слухи давно по земле идут, что Петру отец царство отказал, коли не станет царя Федора. Тогда и поглядим, што они поделают, царевны все со своим Иваном-царевичем, што и на людей мало походит… А двинут они стрельцов своих, так и у нас есть рать иноземная и своя, московская… Вот живу мне не быть, а им, окаянным, тебя с царевичем не выдадим!..
Теперь неподдельной, глубокой ненавистью звучал голос боярина. И Наталья невольно также доверилась ему, как сделали это и более опытные, седые интриганы дворцовые.
И только сам Языков, как бы со стороны наблюдая за собой, думал в глубине души: «Кажется, теперь моё дело крепко стоит. Кто ни станет у власти — я своего не потеряю, а ещё и выгадать могу».
Успокоив царицу, пришёл боярин к патриарху Иоакиму и успел уговорить осторожного, умного малоросса принять участие в делах Натальи и царевича Петра и, как бы в подтверждение своих планов, подробно перечислил и подсчитал все роты и полки, на которые могут положиться нарышкинцы и сильная кучка бояр, желающая выставить наследником царевича Петра, если Федор умрёт, не имея сына.
Наступило Рождество. Миновали Святки. И Масленицу проводили в Кремле без обычного шума и веселья. Федор себя почувствовал немного лучше.
Двенадцатого февраля 1682 года патриарх в полном облачении явился в покои царя, где застал уже духовника царского, трех братьев Апраксиных, тёток и старших сестёр царя, главнейших первосоветчиков и Марфу Матвеевну Апраксину в полном царском облачении.
Красивое полудетское личико девушки пылало от волнения, от невольной гордости, а в то же время открытые, светлые глаза её были затуманены не то грустью, не то воспоминанием о чём-то утраченном, но дорогом. Языкова не было Он сказался больным. Совершив обычное наречение в царевны, патриарх благословил царскую невесту.
Монах Сильвестр Медведев, новый учёный друг Федора, заменивший скончавшегося недавно Симеона Полоцкого, в качестве придворного пиита[36] поднёс витиеватое поздравление в стихах, начертанное на пергаменте, украшенное заставками, рисунками…
Иоаким вышел затем в Переднюю палату, где были собраны все думные бояре, духовные власти, иностранные послы. Осенив всех благословением, первосвятитель объявил о желании государя вступить во вторичный брак.
— А того ради нарекли мы государыню-царевну и великую княжну Марфу, дочь Матвея Апраксина, в невесты государю, великому князю Федору Алексеевичу, самодержцу и царю всея Великой, Белой и Малой России. Да подаст им Господь многолетнего и благоденственного жития и чадородия, на радость земле и царству.
Челом ударили бояре патриарху, а потом царю, и принесли обычные подарки. Но во дворце мало кто был оставлен вопреки обычаю.
Не было устроено предсвадьбишных столов. И самая свадьба, совершившаяся пятнадцатого февраля, состоялась «без всякого чину».
Никаких торжеств не было после венчанья, которое совершил духовник Федора здесь же, в домашней, дворцовой церкви во имя Воскресения.
Как и во время свадьбы царей Михаила и Алексея, наглухо были заперты все ворота в Кремле, и только свои могли пробраться домой за его высокие стены.
А в пределы дворца и вовсе нельзя было проникнуть без особого зова.
— Не свадьба, а похороны свершаются, — не выдержав, шепнула царевна Екатерина Софье во время большого стола.
Софья только плечом повела и кинула взгляд на сестру, словно напоминая о неуместности таких замечаний.
Но и ей самой казалось, что глубокие синие тени под глазами и землистый цвет лица служат плохим предзнаменованием для Федора.
Сам же он словно воспрянул духом. Был весел, шутил с родными, осушил два-три кубка вина, чего обыкновенно не делал никогда.
И два ярких розовых пятна под конец пира выступили на исхудалом лице младенца-царя, ещё больше оттеняя худобу и прозрачность этих щёк.
Ещё не окончился пир, когда новобрачных отвели на покой, так как болезненный Федор был непривычен долго сидеть по вечерам.
Чужие тоже, посидев немного, откланялись и разошлись.
За столом остались только свои тётки и сестры царя, Иван Милославский с дочерью и с женой, Анна Хитрово, двое Апраксиных, а в углу, в кресле, дремала почтённая старуха, Анна Ивановна, выкормившая Федора. Так и осталась она потом во дворце, не то приживалкой, не то на положении дальней родни.
Около полуночи, когда собирались уже расходиться на покой, громкий, протяжный крик донёсся из опочивальни царя. Все вздрогнули, кинулись на крик.
Навстречу им показался испуганный, бледный Федор Матвеич Апраксин, дежуривший в покое рядом с опочивальней царской.
— Лекаря, скорее! Отходит государь…— только и мог он крикнуть, а сам снова кинулся назад.
После мгновенного оцепенения все поспешили туда же, в опочивальню. Только второй Апраксин, Андрей Матвеич, бросился за лекарем, который дежурил тут же, неподалёку, из-за постоянных недомоганий царя.
В опочивальне было мало свету. Пока из соседних покоев принесли огня, пока здесь зажгли все канделябры и свечи, можно было только разглядеть царя, который без движения лежал на самом краю постели.
Юная царица, обезумев от ужаса, соскочив с пуховиков, забилась в угол, с распущенными чудными волосами, совсем неодетая, и только судорожно куталась в парчовое покрывало, наброшенное на плечи при появлении людей.
— Водицы бы, скорее, — первая распорядилась Анна Хитрово. — Не помер он… Так это… Обмер малость. Ивановна, давай-ка уложим его повыше, — обратилась она к старухе кормилице.
И обе бережно приподняли голову Федора, уложили повыше, поудобнее, отёрли липкий, холодный пот со лба, лёгкую кровавую пену, выступившую на устах.
Прибежали фон Гаден и второй лекарь, Костериус.
— Зачем так тревожить и государя, и себя? И разве нужно так боятца? Это же теперь бывает с государем. От сердечной тоски — обмирание. Может, вина пил государь али настойки какой. Ему не надо… И покой теперь надо ево царскому величеству… Наутро всё пройдёт…
Так успокоил лекарь родных, обступивших ложе больного. А сам стал приводить в чувство Марфу Матвеевну, которая вся трепетала и билась теперь от неудержимых рыданий и рвала на себе сарафан, заботливо накинутый на царицу руками боярынь.
Софья глядела вокруг, слушала, что говорит врач. Но в глазах её так и застыл один вопрос, одна мучительная мысль: «Конец скоро. Что ждёт теперь её, весь род Милославских, все Русское царство, над которым словно навис какой-то мрак, насылаемый злым, прихотливым роком?..»
Несколько дней ещё плохо чувствовали себя оба: и царь и царица.
Потом Федор поправился. А Марфа Матвеевна и вовсе порозовела, как раньше, до свадьбы была.
Только часто выходила она из своей опочивальни с усталыми, как будто заплаканными глазами. Словно потемнела такая ясная прежде их глубокая синева.
И, безучастная ко всему, что творилось кругом, только в одном проявляла всю душу свою Марфа: в желании облегчить участь всех несчастных, о ком только могла услышать или узнать от окружающих.
Кроме обычной милостыни, которую раздаёт новобрачная царица, Марфа Матвеевна щедро одарила главнейшие обители московские и другие, чем-либо прославленные в молве народной. Добилась освобождения заключённых за провинности и за долги казне государя, хлопотала за опальных. Когда Наталья, узнав об этом, явилась к молодой царице, рассказала ей о невиновности сосланного Артемона Матвеева, Марфа упросила царя, и боярину, недавно переведённому из Пустозерска в Мезень, Федор позволил поселиться в городе Лухе, лежащем в четырехстах верстах от Москвы, вернул ему разорённый, опустелый дом в столице, а взамен отнятых пожитков и вотчин пожаловал дворцовое село Ландех с деревнями и угодьями, всего в семьсот дворов.
Как только Языков доложил Наталье о такой милости Федора и добавил, что главным образом упросила государя молодая царица, Наталья сейчас же позвала царевича:
— Пойдём поскорее, Петруша, надо царицу Марфу Матвеевну навестить, челом ей ударить. Слышь, выручила она дедушку Артемона. Он к нам скоро с Мезени повернёт. В Лухе житьё ему указано. Увидишь его. Не забыл, чай.
— Где забыть, матушка. И Андрюша с дедушкой же? Правда? Я в Москву возьму его, в генералы сразу поставлю в своём полку Я помню: он храбрый… Чай, велик ноне стал…
— Должно, што не мал… Вон ты у меня как вытянулся… А ещё и одиннадцати годков тебе нету. Андрюшеньке же нашему, гляди, семнадесять пошло… Сравнишь ли? Да не болтай зря. Принарядися… ступай. Ишь, какой растрёпа ты у меня…
Взгляд матери с любовью и гордостью остановился на Петре, который ещё больше подрос и выровнялся за последние два года.
Тряхнув кудрявыми волосами, обняв с налёту мать, царевич звонко поцеловал её и выбежал из покоя.
Пошла и Наталья одеться понарядней, чтобы в пристойном виде явиться к молодой царице.
Марфу Матвеевну нежданные гости застали в большом, просторном покое, в передних тёплых сенях царского терема. Скучно ей стало со старыми, чопорными боярынями, и, окружённая молодыми боярышнями, сенными девушками, по прозвищу «игрицами», Марфа вышла в эти сени, где в ненастную и холодную пору тешились разными играми и водили хороводы царевны. Дурки, карлицы и потешные девки, наследие покойной царицы Агафьи, высыпали сюда же, но держались поодаль, ожидая приказаний государыни.
Уселась царица на обитую бархатом скамью, на качели, устроенные тут же, среди покоев, и приказала раскачивать себя и песни петь разные, протяжные, подблюдные и простые, народные, то заунывные, то весёлые, подмывающие. Порою сама царица подхватывала знакомый напев и негромко подпевала. И, против воли, самые весёлые песни вызывали слезы у неё на ясных, почти детских глазах.
Увидя Наталью с Петром, Марфа Матвеевна поспешила им радостно навстречу.
— Вот гости дорогие… Милости прошу в покои… Не взыщите, што не в уборе уж я… Так вот, с сенными позабавитца надумала… Пожалуй, государыня-матушка…
— И, государыня-царица, доченька моя богоданная, свет ты мой сердешный… Не труди себя… Сиди, как сидела. Забавляйся. А я вот тута присяду, погляжу, на тебя порадуюсь… Уж давно я не слыхивала голосу весёлого у нас на Верху, не видала лица благого, радостного. Дай на тебя полюбуюсь… Ишь, ты, ровно маков цвет, цветёшь. Храни тебя Господь на многие годы… Я и не надолго, слышь… Челом тебе бить пришла. Спасибо сказать великое, што выручила душу безвинную, боярина Артемона Матвеича. Зачтётся тебе, верь, царица-доченька, радость ты моя.
Застыдилась по-детски Марфа от слов и похвал свекрови. Бросилась целовать её, спрятала голову на груди Натальи и тихо повторяла:
— Молчи уж, матушка… Не надо… Што же я… Не кланяйся. Мне стыдно.
— И в ноги поклонюсь, вот при всех, душенька ты моя ангельская, зоренька ясная. И не за то, што родня он мне. Нет. Дело великое ты сделала. Безвинного страдальца ровно из гробу оживила, честь оберегла… Воздаст тебе Господь. Бей челом, Петруша, государыне-царице да к руке приложись.
Неловко, угловато ударил челом Пётр и двинулся взять руку Марфы, чтобы поцеловать.
Но та решительно отдёрнула руку.
— И не дам… Што ты, братец.Так целуй, коли хочешь. А то руку… Нешто ты не брат государю-свету, господину нашему Так и мне же братцем доводишься!
И крепко, звонко расцеловала царица красивого мальчика, своего деверя.
Совсем пунцовым стал от этой неожиданной ласки царевич и ещё прелестнее показался всем.
— Ой, и я бы похристосовалась с царевичем, — вдруг громко заявила одна из бойких прислужниц молодой царицы, — да уж Светла Христова Воскресенья погожу. Оно не за горами…
Сдержанный хохот прокатился среди остальных сенных.
Подталкивая друг дружку, они зашептались, зашушукались невнятно и звонко в то же время, вот как камыши под ветром шепчут порою на тихом пруду.
— Будет вам, хохотушки, — стараясь принять строгий вид, приказала Марфа. — Вот мы сядем с братцем. А вы покачайте нас лучче… Да хорошенько. Можно ли, как скажешь, матушка-царица, Наталья Кирилловна?
— Да коли тешит тебя, и качайся, государыня-доченька, светик ты мой. А он и рад, поди. Куды охоч на все забавы. На ученье на книжное небось не так охотитца…
И, подперев рукой подбородок, задумалась Наталья, любуясь сыном и невесткой. Теперь рядом они сидели на доске и плавно подымались и опускались вместе с нею под толчками сильных девичьих рук.
И тут же снова грянули-полились звуки разгульной хоровой песни, которую оборвали было сенные с приходом Натальи и Петра.
Захваченная весёлым напевом, довольная близостью такого симпатичного, красивого юноши-брата, забыла и недавнюю грусть свою молодая царица. Щебечет, болтает с Петром, то вторит звонким своим голосом общему хору…
А Наталья сидит пригорюнясь. И рада она, что не врага, друга нашла в новой жене Федора. И горько ей, что скоро судьба подсечёт все радости, каких может ждать и требовать от жизни беззаботная, молодая царица, и по годам и по душе почти ещё дитя.
Умрёт Федор… Что ждёт Марфу?
Да почти то же, что выпало на долю самой Натальи. Вечное одиночество, если не вражда окружающих, новых господ во дворце… И придётся ей, такой юной, уйти в монастырь или затвориться в своих покоях зимой, летом — проживать где-нибудь в подгородном дворце, вот как сама Наталья проводит в Преображенском долгие летние месяцы уж шестой год подряд…
Любуется Наталья молодой парой: царицей-невесткой, которой не минуло ещё и шестнадцати, и своим ненаглядным Петрушей, который тоже выглядит ровесником невестки, хоть и моложе её на целых пять лет…
А весёлая песня сменяется новой, протяжной…
И в лад этой песне плавно подымается и опускается нарядная, бархатом и сукном обвитая доска качелей…
Глава IV. СМЕРТЬ ФЕДОРА
Радостно, ярко разгоралась утренняя зорька на 9 апреля 1682 года.
Едва первые лучи солнца ударили в слюдяные оконницы домов — вся Москва зашевелилась, из посадов и ближних деревень конные, пешие и на подводах потянулись люди по направлению к Кремлю, к Пожару, как звали в народе Лобную площадь.
Сегодня — Вербное Воскресенье. Народу предстоит прекрасное зрелище: сам царь совершит «вождение осляти», на котором патриарх объезжает Кремль в намять вошествия Христа в Иерусалим.
Ещё снега лежат кругом, на полях и особенно в лесах, подбегающих со всех сторон почти к самой столице царства. Но в городе и на посадах грязный, истоптанный снег обратился в жидкое месиво, по-вешнему парит, прелью несёт от земли, большие прогалины чернеют в обширных садах и на огородах, которыми перемежаются жилые гнёзда огромного человеческого посёлка, раскинутого вокруг высокого Кремля.
Не сразу город принял такой прихотливый, разбросанный, обширный вид. Постепенно, с веками он разрастался, захватывая в свои пределы не только ближние к кремлёвским стенам пригороды, но сливаясь с посадами и слободами, с деревнями, с большими сёлами, которые с самого начала тугим кольцом обернулись вокруг «крепости», Кремлева-града, и городов Китая и Белого, как назывались три части древней, в незапамятные годы основанной Москвы.
Несмотря на грязь, радуясь ясному солнечному дню, сменившему мартовские дожди и ненастье, люди живым, шумливым роем высыпали из жилищ своих. И непрерывными, многоцветными ручьями и потоками стремятся к Кремлю.
В самом Кремле, особенно на Ивановской площади и у Лобного места, уже заканчивались приготовления к торжеству, начатые ночью, задолго до рассвета.
Колодники, тюремные сидельцы метут грязные переходы и бревенчатую мостовую на всех улицах и площадях, где пройдёт шествие. Лобное место покрыто красным сукном и коврами. Вокруг него кольцом расставлены стрельцы, чтобы народ очень близко не подходил, не загораживал дороги для процессии.
Между церковью Василия Блаженного и Кремлём стучат топоры, молотки, десятки плотников достраивают обширный, довольно высокий помост, откуда иностранные послы со своими семьями и иноземные торговые гости познатнее будут любоваться процессией.
Большая «татарская» пушка, стоящая за Лобным местом, направлена жерлом прямо туда, к дороге, на которой показываются татары при набегах на Москву. Вокруг неё устроена временная деревянная решётка, покрашенная в красный цвет, и поставлен отряд пушкарей, пищальников и стрельцов.
Ещё больше затей видно на Ивановской площади, куда выходят все соборы, семь лестниц от приказов, лестница Посольского двора и дворцовое Красное крыльцо.
По краям всей этой обширной площади расставлены «галанские и полковые» пищали, лёгкие орудия. Вокруг устроены резные и точёные, причудливо раскрашенные решётки. Пушкарские головы и пищальники, с развёрнутыми знамёнами, в цветных нарядах стоят каждый при своём орудии.
Против Посольского приказа устроен второй помост, устланный сукном. Цветные ткани и ковры свешиваются с перил на каждом из семи крылец новых приказов и с навесов, устроенных над папертями церквей, над Красным крыльцом и над другими входами в дома, и дворцы кремлёвские.
Паперть Благовещенского собора, откуда начиналось шествие, тоже устлана красным сукном, которое тянется дорожкой и дальше, к самому Красному крыльцу, сейчас вполне оправдывающему своё название: ни одного вершка камня не было видно из-под алого сукна.
Ещё раньше, чем толпы народа успели сплошной, многоцветной волной залить Ивановскую площадь, соседние улицы и переулки, разлиться целым морем на обширном пространстве у Фроловских ворот, стройными рядами потянулись отряды стрельцов, пушкарей, рейтар[37], иноземных ратников и заняли указанные места, особенно по сторонам пути, по которому должно проходить торжественное шествие.
Развернув знамёна, с барабанами, со всем ратным строем, в нарядных цветных кафтанах, каждый полк — иного цвета, стояли ряды стрельцов, представляя красивое и внушительное зрелище.
Богатые кафтаны и оружие, насечённое золотом, выделяло стольников дворцовых, стрелецких полковников, занимающих места у самых знамён.
Полукафтанья и шляпы иноземных майоров, полковников и солдат, их вооружение и выправка выделялись особым пятном на общем фоне цветистой, шумной, многокрасочной толпы.
Солнце взошло уж довольно высоко и стало пригревать толпу одетую ещё по-зимнему. Быстро пустели жбаны с квасом и другими напитками, которые ухитрялись удерживать на голове или на плече разносчики, с трудом пробираясь между тесными рядами глазеющего народа.
Огромные груды и целые возы пушистой вербы, связанной пучками, приготовленные во многих местах, были живо разобраны; все запаслись ими вместо пальмовых ветвей.
Подростки и даже взрослые, согласно обычаю, хлестали встречных, приговаривая: «Не я бью, верба бьёт.. Вербохлест, бей до слёз…»
Смех, брань, шутки и перекоры стоном стояли над толпой.
Особенно тесно и шумно перед Торговыми рядами, которые тянутся между Лобным местом и Неглининским монастырём, отделённые от последнего Никольской улицей.
Здесь вырос за ночь целый городок ларей, лавчонок и столиков, на которых разложены и лакомства, и мелочные товары, и съестные припасы, мелкие украшения, крестики, детские игрушки, домашняя утварь, домотканые холсты и бумажные ткани. Словом, все, что могло найти сбыт у этой многотысячной, шумливой толпы.
Немало также народу сгрудилось в другом конце Красной площади, у самого Фроловского моста, перекинутого через широкий проточный ров, соединяющий воды Неглинки с Москвой-рекой.
Здесь стояло здание Вивлиофики[38], единственного и главного склада в Москве, где каждый мог купить всякие печатные и рукописные сочинения, бывшие в обращении тогда. Но толпу, конечно, привлекали не книги.
У стен Кремля и вокруг Вивлиофики раскинулись лёгкие лавчонки и лари, где ярко пестрели, вывешенные напоказ, картинки, раскрашенные от руки красной, зелёной, голубой краской, тиснутые тоже самым простым способом, что называется, с лубка.
Но содержание этих картинок, по большей части сатирического или сказочного характера, надписи к рисункам, приправленные грубой, но едкой солью, присущей народному остроумию и юмору — вот что создавало прекрасный сбыт лубочным картинкам у Фроловских ворот.
Гулкий, мощный удар колокола, покрывая все голоса и звуки, пронёсся в высоте.
Единым махом обнажились сразу все головы, замелькали руки, совершая крёстное знамение. Гул и говор на мгновение затих. Только дрожали в воздухе отголоски колокольного удара, слышно было воркованье голубиных стай, ютящихся под крышами домов и колоколен, да от Ногайского конного рынка доносилось ржание коней и перекличка пастухов.
За первым второй, третий удар пророкотал в высоте. Как будто звонко, протяжно вздохнула сама небесная глубина.
Полился, посыпался со всех сторон перекрёстными трелями и перебоями серебристый, малиновый перезвон всех бесчисленных московских колоколен, со всех сорока сороков храмов первопрестольной столицы.
И, не переставая, время от времени прорезал эти задорные, весёлые голоса, схожие с голосами стаи весёлых детей, густой, протяжный удар «Бойца» — колокола с высокой Ивановской колокольни, как привет патриарха-великана малюткам — внучатам и правнукам.
Под гул и немолчный перезвон колоколов, под клики и приветствия многотысячной толпы показалось из Благовещенского собора давно ожидаемое шествие.
Стоящий наготове Стремянной стрелецкий полк развернулся шпалерами от паперти до самых Фроловских ворот, по обе стороны пути, оставленного для крёстного хода. Полковники и старшины стрелецкие, занявшие тут же свои места, обнажили головы. Их бархатные или из объяри ферези[39] горели на солнце яркими пятнами, как и кафтаны из турской шёлковой ткани. Оружие рядовых стрельцов, пищали, бердыши, чеканы сверкали золотой насечкой. Синие суконные кафтаны и жёлтые сапоги ярко выделялись на красной полосе сукна, брошенного по всему пути, где должен двигаться кортеж.
Тяжёлые знамёна и хоругви, шитые золотом на них лики святых и орлы Византии, принятые в герб московских царей, трепетали над головами богато разодетых в бархат и шёлк стрелецких рядов.
Высыпал из собора и стал вытягиваться и строиться весь в одну ленту выход царский и патриарший.
Впереди, по три в ряд, — нижние чины, жильцы дворцовые, ближние дьяки, дворяне, стряпчие, наконец стольники и дворецкие царя и обеих цариц. За ними — думные бояре, окольничие, воеводы приказов.
На всех горели под лучами солнца богатые парчовые шубы и кафтаны, золочёное оружие, поблёскивали парчовые верхушки высоких горлатных[40] шапок.
Чаще, сильнее затрезвонили колокола, как будто хотели раздаться их бронзовые пасти и груди, готовились оторваться их тяжёлые языки.
Густая кучка служилых царевичей и родни царской, высыпавшая в этот миг на паперть, раздалась, пропуская царя и патриарха.
К паперти подвели смирного, рослого коня; на голове у него были надеты длинные «уши» из сукна, для сходства с осликом, на котором Христос вступил в Иерусалим.
Белый клобук патриарха, усыпанный крупными жемчугами, был ещё украшен золотой короной, которая широким кольцом обогнула тиару московского первосвященника. Большой золотой крест, горящий бриллиантами и сапфирами, с вложенной внутри частицей Древа Господня, был у Иоакима в правой руке вместо обычного посоха.
Боком сел он на «осля», покрытого вместо попоны дорогими шалями и мехами, и осенил благословением весь народ.
Боярин Хитрово взял шёлковый повод поближе к узде. Конец его подали царю, тоже наряжённому в самые лучшие ризы.
Сибирский царевич, князь Ромодановский, Иван Милославский и Языков поочерёдно «поддерживали», по чину, вели под руки царя.
Из-за собора выехала особая, очень широкая, большая телега, вроде помоста на деревянных низеньких колёсах, покрытая коврами и тканями.
Посредине этого движущегося помоста было укреплено довольно большое дерево с толстыми ветвями и листьями.
Ветви его были густо увешаны яблоками, винной ягодой (фигами) и кистями сушёного винограда.
Здесь же, на ветвях, уселись четыре мальчика в белых стихирях — дисканты и альты из патриарших певчих. Они громко воспевали «Осанна» и по данному им знаку должны были раздавать фрукты, висящие на ветвях.
Колесница тронулась вперёд. За ней царь и патриарх, окружённые свитой и царевичами восточными.
Сейчас же из собора потянулся белой, сверкающей лентой, в серебряных парчовых ризах весь духовный клир, с образами, с Евангелиями в тяжёлых золотых «досках», с блестящими кадильницами, кидая ими клубы синеватого ароматного дыма в тихий тёплый воздух, откуда он струйками подымался к синеющим, ясным небесам. Здесь чинно шли все митрополиты, протопопы, иереи кремлёвские и наехавшие в Москву к этому торжеству.
Все семь станиц[41] царских и восемь станиц патриарха в светлых нарядах, слившись в один громадный хор, выводили стройными голосами ликующие церковные напевы под гул кремлёвских колоколов.
Московские именитые купцы, также разряженные в парчовые кафтаны и шубы, в собольих шапках шли за духовенством.
Шествие замыкалось снова рядами стольников, дворцовых стряпчих, дворян и «верховых жильцов».
А за ними — опять ряды ратников.
Громкие приветствия, которыми встречали толпы царя и патриарха, заглушали дробь барабанов, покрывали пение многоголосого клира и гул всех московских колоколов.
Только затихли народные клики в самом Кремле, не успела голова шествия показаться из ворот на Фроловском мосту, как новые приветственные клики словно переплеснулись через высокие каменные стены, ударились в бесчисленную толпу, сгрудившуюся тут, отпрянули от этой толпы с удесятерённой мощью и ширью и покатились дальше, дальше, вдоль берегов Неглинной и Москвы-реки, перебросились на другие её берега и понеслись дальше над темнеющими вершинами окрестных рощ и лесов.
Около полусотни юношей из числа дворцовых «жильцов» шли впереди царя и постилали на дорогу верхние свои плащи и куски цветного сукна, по которым и ступал Федор, ведя за собою патриарха на «осляти».
Часть народа хлынула из Кремля за шествием, чтобы видеть и то, что произойдёт на Красной площади.
Но стрельцы, стоявшие у ворот, с неимоверными усилиями погнали толпу обратно. Послышались крики, стоны, проклятья. В гуще и давке многие были сбиты с ног и измяты до полусмерти.
Счастливцы, имевшие возможность взобраться на кремлёвские стены, глядели сверху, как из огромной ложи, на все, что происходило и в Кремле, и на Красной площади.
Такую же выгодную позицию представляла собой колокольня Ивановская и другие. Все выступы, ведущие к семи лестницам новых приказов, крыши соседних зданий тоже были покрыты зрителями.
Никто не вспоминал, что минет ночь — и у этих самых приказов на крыльце появится дьяк, станет читать приговоры. И внизу, у этих самых лестниц, засвищут палки и батоги, оставляя кровавые следы и полосы на спинах истязуемых бедняков, зачастую виновных только в том, что не могли откупиться от напрасного доноса, от мздоимца-судьи.
Ничего печального не вспоминал народ московский. Он забыл все обиды и притеснения, какие терпел на каждом шагу от бояр, не боявшихся кары со стороны царя, больного, безвольного, помышляющего о небе, а не о скорбной земле с теми несчастными, кто осуждён жить на ней, вынося угнетение и нужду…
Ярко сияет весеннее солнышко. Звонят колокола, поют детские голоса: «Осанна… Осанна…»
Исхудалый, тщедушный, слегка сгибаясь под тяжестью царских риз, идёт Федор, смиренно ведя в поводу «осляти» с духовным владыкой… Жарко, душно в короне и бармах. Лицо раскраснелось. Он часто отирает пот, выступающий у него на лбу и на шее крупными каплями.
Глядит народ — и умиление охватывает людей.
— Ишь, какой он… царь-то, — негромко говорит товарищу какой-то мужичонко из толпы. — Тощой да неказистой… Все, слышь, хворает. А ликом вот — ровно на иконах пишут… Очи-то, очи погляди… Простой, видно. Боярам ли ево не обойти? Вот и дурят, окаянные… Соки из нас сосут, свою мошну ростят… Соль, брат ты мой… Сольца, на што уж?.. А и к той ноне приступу нет. И с неё дерут, ироды…
— Со всево дерут… Да ладно. Их пора тоже не минет… А што ты про него толкуешь…— и сосед ткнул в сторону Федора, — так за то не берись, коли чего не можешь. Царь, так он знать должен, что для земли надо… Вон у нас толкуют: молодшего, Петра-царевича, волил покойный государь постановить на царство. Да бояре не дали… А тот, слышь, бают — куды помозговитей энтого, хоть и молодший.. О-хо-хо… Грехи наши тяжкие… А што богомольный царь… Энто што же… Энто — ему же лучче. Грехи свои отмолит, в рай попадёт. Чай, нам не легше от того, что богомольный он. Больше бы царскими делами займался, и часу бы не стало на богомолье… Энто уж верно…
Какой-то юркий человечек, снующий в толпе, не столько глазея на шествие, сколько ловя общие речи и разговоры, стал было и тут прислушиваться к толкам двух приятелей.
Но в это самое время особое движение, крики и даже брань долетели от Фроловского моста и привлекли общее внимание.
Перед помостом, устроенным для иностранных послов, сгрудилось слишком много народу, и послы ничего не могли видеть, хотя некоторые сидящие на конях даже вставали в стременах!
Между тем царь остановил «осля» Как раз перед этим местом и, подозвав из свиты своей главного переводчика, приказал ему что-то.
Толмач передал приказание ближайшим стрельцам, те построились в небольшое каре и врезались в народную гущу освобождая проход, по которому толмач и двинулся к посольскому помосту.
Развёртывая каре, стрельцы успели оттеснить на довольно большом пространстве народ от помоста, и оттуда теперь было прекрасно видно всю процессию с царём и патриархом посредине.
Сейчас же все послы отвесили глубокий поклон государю. Подойдя поближе, толмач снял шляпу и отдал низкий поклон стоящим на помосте иноземцам.
— Государь, великий князь и царь всея Великой, Малой и Белой России, самодержец Федор Алексеевич о здравии послов и резидентов всех спрашивать изволит: каковы они во здравии своём?
Сейчас же выступил вперёд польский посол, как старший по годам, и снова отвесил поклон в сторону царя.
— Передай его величеству, что все послы и резиденты челом бьют на приветствии его царском и молят Бога: послал бы он здоровья и радостей царю и государю московскому на многие годы.
Толмач вернулся к Федору, передал ему ответ, и шествие тронулось дальше, к Лобному месту.
Только раньше патриарх, обернувшись к Фроловским воротам, отдал поклон чудотворному образу Богоматери со Спасом, висящему над самой аркой, и сотворил краткую молитву.
На Лобном месте был совершён обряд освящения и раздачи вайи[42].
После короткой службы, совершённой в церкви Василия Блаженного, патриарх снова воссел на «осля».
От духоты храма и тяжёлых одежд теперь не только Федор, но и Иоаким изнемогал.
Выйдя на паперть, чтобы вернуться обратно в Кремль, оба они были порадованы переменой, происшедшей во время богослужения.
Подул порывистый, холодный ветер. От Сокольничьей рощи показалась тёмная туча и стала быстро-быстро надвигаться и расти. Не успели от паперти дойти и до Фроловских ворот, как упали первые капли дождя; затем они становились чаще, сильнее с каждой минутой. Ветер подул яростно, порывами… Дождь сменился серебристыми, круглыми, полуоледенелыми снежинками, «крупой», как зовут её… И сразу, неожиданно, надвинулась сплошная туча. Кругом потемнело. Крупными, влажными хлопьями посыпал густой снег…
Народные толпы стали быстро редеть. Только торжественное шествие таким же размеренным, медленным ходом продолжало подвигаться вперёд.
На патриарха и на царя накинули меховые плащи. Но Федор чувствовал, что его уже пронизало холодом до костей. Ни движение, ни тёплый плащ не согревали иззябшего царя, озноб и дрожь все сильней и сильней одолевали его.
Врачи, которым пожаловался царь на нездоровье, приказали истопить баню, чтобы Федор мог выпариться там и натереться горячительной мазью, во избежание серьёзной простуды.
С тяжёлой головой, с горечью во рту поднялся на другое утро Федор. Спину ломит, жар так и пышет от него.
— Полежал бы, светик, покуль полегче станет, — решилась было заметить царица Марфа.
— Пустое, Марфушенька. Недосуг лежать. Страстную перемогуся, Бог даст. Светло Христово Воскресенье встречу. А то и всем будет праздник не в праздник, коли —царь хворым в постелю заляжет.. Сама знаешь… Да и лучче на ногах. С недугом надо не сдавать, наперекор ему идти. Тогда хворь сама слабеет. Ты гляди и не сказывай никому, прошу тебя… Докучать станут… А мне тошней, как пристают ко мне…
— Твоя воля… Я молчу… Как сам знаешь, — печально ответила кроткая молодая царица.
Страстная неделя настала.
Будничная жизнь овладела Москвой. Только в храмах идут особенно долгие моления. Но торговому и трудовому люду даже помолиться порядком некогда.
Перед праздником особенно бойко идёт торговля, усиленно работают всякие мастера и ремесленники.
После такого чудесного утра, как минувшее Вербное воскресенье, завершившееся снежной бурей, погода сразу потеплела. Потянулись серенькие, туманные дни. Тучи не сбегали с неба, сея частым, мелким, совсем не весенним дождём.
Как будто убрали красивую картину, озарённую ярким светом, и обнажилась обычная, грустная действительность.
Скинули свои нарядные цветные кафтаны и стрельцы, стянули пояса на тёмных расхожих чекменях и полукафтаньях, вздели армяки и уселись торговать в лавчонках и лавках, вместо пищали и бердыша взяв в руки аршин и весы.
Пользуясь издавна дарованными правами беспошлинного торга, большинство служилых стрельцов, их жены и дети постарше занялись торговыми делами, сначала просто чтобы увеличить скудное казённое жалованье, а потом заманили всех и те большие барыши, какие стало приносить новое занятие.
Торгует, молится, всякими рукомеслами занимается московский люд. Готовится к Светлому празднику.
Готовится к нему и царь московский и всея Руси Федор Алексеевич. Отстаивает долгие службы, принимает патриарха и духовную власть, приказывает, какую милостыню раздавать в эти великие дни покаяния и скорби, сам ходит по колодникам, деньги, калачи им раздаёт, выпускает на волю, кого можно…
Но на очах у окружающих тает он, как воск от пламени.
И правда: пламя постоянно горит в груди, в голове, во всём теле царя.
Врачи, видя упорное, болезненное нежелание Федора лечь в постель, стараются разными снадобьями уменьшить разрушительную лихорадку, утушить предательское, убивающее жизнь внутреннее пламя.
И после приёмов разных снадобий на короткое время лучше чувствует себя больной.
Тогда он объявляет радостно:
— Вот сказывал я: перемогуся, все и пройдёт. А коля слягу в постелю — не встану боле… Сердцем чую, што не встану… Так уж лучче не ложитца. Рано помирать… Хошь и плохой я государь, а все же порядок при царе какой ни на есть… Наследника нету своего… Братья?.. Один — и вовсе без разума… Петруша — куды мал… Не хотелось бы теперь помирать… Рано…
Царица Марфа начинает плакать, ничего не отвечая не такие слова.
Софья нахмуривает брови и тоже молчит. Разве скажет изредка:
— Што ж, государь-братец, коли охота тебе и свой милость печалить, и нас сокрушать, твоя воля. А мы уж сказывали твоему царскому величеству… И врачи, и прорицатели — все в одно толкуют: долгое житьё суждено тебе, государь. Разве што иные… ближние недруги, Бога позабыв, извести задумают. Да авось не допустит Господь до этого.
С первой минуты, когда проявилось нездоровье царя, Софья почти не уходит из его покоев. И он рад этому. Своей духовной силой, подъёмом и энергией она отрадно влияет на Федора, помогает ему справляться с собственной телесной немощью и слабостью духовной.
В одном только не сходятся они.
Стоит заговорить царю, что он хотел бы видеть своим преемником царевича Петра, как и покойный отец завещал, — Софья темнела лицом, обрывала всякий разговор, напоминая, что у Нарышкиных и так одна забота: извести его, Федора, посадить на трон Петра. Нередко после этого Софья удалялась на некоторое время к себе в терем. Но затем снова появлялась и ревниво следила за всем, что касалось брата: за приёмом лекарств, за его сном и отдыхом, за его выходами и приёмами царскими и домашними.
Как-то незаметно и окружающие привыкли, что у царя есть двойник, только в женском, пышном наряде с фатой — царевна Софья.
Отлучалась порою от брата в своей терем Софья и без всякой особой причины, стоило прибежать любимой постельнице царевны, Родимице. По-настоящему звали её Федора Семёновна. Родом хохлушка, из украинских казачек, это была хитрая, отважная бабёнка. Царевна, пошептавшись с Родимицей, сейчас же спешила к себе.
Здесь уже ждал её Василий Голицын, часто заходивший к матери, боярыне Ульяне, бывшей прежде мамкой царевича Петра.
С Голицыным делилась Софья всеми думами, опасениями и надеждами своими.
От него черпала советы и указания в тех случаях, когда сама не могла принять какого-нибудь важного решения.
Встревоженный встретил царевну Голицын, навестивший её в самую Страстную пятницу.
— Што с тобой, Василь Василич? Али беда какая? — торопливо спросила Софья, умевшая читать малейший оттенок мысли на выразительном красивом лице князя.
—Пока — ничево. Плохого нету, да и доброго не слыхать же. Ты лучше поведай: как царское здоровье?
Софья молча и безнадёжно покачала головой.
— Так, так, — раздумчиво, негромко произнёс Голицын, поглаживая и почёсывая свою волнистую холёную бороду, поглаживая длинный вьющийся ус. — Так как же быть-то? Дело плохое заваривается. Как был я последний раз у государя — прямо толковал он про Петра… Ево-де на трон надо… Матвееву, слышь, милость послана. На Москву ворочается главный недруг вашего роду… Надёжная опора Нарышкиных… Не нынче-завтра и сам буде здесь. Уж эта старая лиса живо дело скрутит. И помереть не даст государю — Петрушу постановит на царство. И то уж Нарышкины да все ихние мутить народ стали. Не то своих нахлебников московских собирают… Из городов съезжатца к им дружки стали… По кружалам, по дворам, по торговым местам ихние люди шмыгают, вести всякие разносят… К стрельцам подбираютца… Особливо в тех полках, кои и к Милославских роду склоняютца. Деньги сулят, толки толкуют всякие: «Бояре-де, советники нонешние царские вас грабят и ворам ведомым, полковникам вашим, тысяцким и десятникам мирволят грабить же… Налоги налагают не по приказу царскому, не по думскому решению, а по вольной своей волюшке, для своей корысти и наживы…» Вот што толкуют окаянные…
— Эки аспиды… Ну уж, коли бы только воля мне…— до боли сжав крепкие, белые зубы, глубоко втиснув пальцы в ладони, злобно проговорила Софья…— А, слышь, што ж наши-то? Али не знают… Они-то што же?.. Сам-то ты как попускаешь, князь? Али не веришь: што нам — то и тебе будет. И почёту, и казны — не пожалеем. А от Нарышкиных — не то казны, казни дождёшься… Сам знаешь…
— Эх, не из почёту я… Тебе добра желаю… А уж ты не толкуй. Што можно, все налажено… Да, слышь, — раскололся народ… Да ещё…
Досадливо дёрнув плечом, он не досказал.
— Што уж там?.. Не тяни. Не терплю. Што бы ни худое, да знать поскорей. Што там, сказывай?
— В полку у Грибоедова, да и в иных полках, большие нелады пошли… Сызнова челобитную сбираютца подать, вон как о Рождестве на Богдана Пыжева жалобились. Ныне, по скорби царской, смекают, не допустят их на очи к государю. Так они писать челобитную приказывают. Не нынче — так заутро и подадут…
— Пускай. Боярин Языков сызнова разберёт их, как и раней разобрал… Ково — казни предаст, ково — сошлёт, иных в батоги поставит. Дружков себе, крамольник, лукавый, предатель, Иуда ведомый, приготовит. От них и награду приимет, как ему час придёт.
— Так-то оно так. Да сама, царевна, ведаешь: чернь на Москве какова? Словно море бурливое. Расколышется — не уймёшь в те поры. Заодно с виноватым и правых пожрёт утроба их мятежная, несытая… Сами службы не правят воинской, живут — богатеют, брюхо ростят, не службу несут воинскую. А туды же: стрельцы, оборона царству!.. Эх, кабы не нужда в их теперя, я б им показал…
— То-то, боярин, што нужда… Потерпи, все своим чередом. С их бы помочью нам Нарышкиных сбыть, стаю окаянную… А тамо и на стрельцов батоги найдутся… От стрельцов от тех народ московский немало обид видел. Поболе, гляди, чем сами стрельцы неугомонные от своих начальников… Народ и натравим на их, как час придёт. А теперя пускай мятутся. Мы мятеж их подхватим, на ково надо и наведём… Што задумался? Али не так я сказала? Научи сам, князенька. По-твоему сделаем.
— Чево учить? Все верно, что надумала. Так, гляди, и будет. Да жаль: много крови прольетца… Невинного люду сколько загублено будет.
— На все воля Божия, Васенька. Без воли Божией — и волос с главы не падёт. Али забыл заповеди святые?
— Ох, не забыл… Не та одна заповедь… Иные тоже есть… Ты вот…
Начал Голицын и не досказал… Только в раздумье поник своей красивой головой.
Не часто, но просыпалась в нём совесть, врождённая мягкость души. И жгучее честолюбие уступало тогда место другим, более прекрасным чувствам.
Вспыхнуло яркой краской смугловатое лицо царевны. Она умела понимать мысли своего любимца, словно невольным укором прозвучали теперь его слова. Но самая эта нерешительность в таком отважном, умном человеке нравилась проницательной девушке.
Если князь желал быть добросовестным даже с врагами, то уж в дружбе можно, конечно, положиться на него, как на каменную гору.
Теперь, желая развеять печальное, нерешительное настроение Голицына, Софья тихо, задушевно проговорила:
— Што ж, правда твоя, князенька. Тяжко и моей душе стало притворство да пронырство всякое… Сдадимся на волю Божию. Я и то надумала: не уйти ли в обитель, вон как сестра Марфуша. Видно, рука Божия на наш род, Милославских, налегла. Батюшка до времени помер… Федор и вовсе юным покинуть нас сбирается… Иванушка-братец и живой не лучше мёртвого. Очами скорбен, разумом слаб… он не хуже «леженки» того, нищего последнего, што на мосту на Неглиненском лежит, милосердием людским жив и одеян… Ходить по терему — и то не ходит без помочи людской, злосчастный Иванушко… Нас, сестёр-царевен, Господь здоровьем не обидел и разумом, слышь, как порой толкуют те же вороги наши. Да к чему и разум, и здоровье, и юность текучая, коли в терему век вековать суждено, по горькой доле нашей девичьей… А там, гляди, у них… у ворогов… Один царевич, да двоих стоит… И воцаритца… Матушку свою, свет Наталью Кирилловну, возвеличит… Стрешневы в гору пойдут… Особливо — Тихон-тихонюшка, да Нарышкиных стая, да Матвеевы, да Одоевские… Перебежчик Языков да… Мало ль хто?! И нам — все едино. Нам дал бы Бог до смерти дожить, в скаредном уделе дни скоротать… И забудется все скоро… И блеск царский, и думы гордые, и почёт, и воля… Другим место, кто посильнее, поупрямее. Как в лесу, в бурю бывает: трухлявые вязы сразу валит… А дубки коренастые, крепкие растут да ширятся, над истлелыми пнями — только краше зеленеютца…
Едва хватило выдержки у Голицына, чтобы не перебить царевну.
Каждое слово её, простое, безобидное на вид, острым уколом вонзалось в гордую душу князя. Ярко нарисовала Софья картину, полного ничтожества, какое ожидало его, если не доведёт он с другими до конца затеянного давно заговора.
Слишком явно стоял Василий Васильевич на стороне Софьи и Милославских, чтобы когда-нибудь Нарышкины простили ему это.
И личная распря с Иваном Нарышкиным, таким же заносчивым, как бывал порой Голицын, только более невоспитанным и грубым, — эта тяжёлая рознь больше всего толкала князя на борьбу с родом царицы Натальи.
Уступая шурину царя, брату, царицы, Голицын не раз молча сносил надменное, обидное отношение к себе. Но в душе поклялся отомстить за поруганную честь. И только при общей смуте, при бесповоротном падении Нарышкиных могла свершиться затаённая мечта. Знала и Софья о вражде князя с Иваном Кирилловичем. И недаром нарисовала картину величия всего рода царицы Натальи.
Выслушав Софью, молча поднялся Голицын, тряхнув головой, и почтительно поклонился царевне.
— Не обессудь, государыня Софья Алексеевна… А не пора ли нам и оставить байки те, сказки ребяческие? За дело приниматца. Там пускай грибоедовцы как хотят. А мы и в иных полках потолкуем… К Ивану Михайлычу нынче же побываю… Наших всех созовём… Ковать надо полосу, пока не остыла. Да покрепче хватим молотом… Пусть дробитца, што дряблое… А крепкое — крепше станет. И такое, слышь, читывал я… У латинян пишут ещё: «Fortes fortuna juvat». А по-русски, по-нашему: «Отваге Фортуна служит». Так отваги хватит и у нас. Бог бы счастья послал… Как все покончим, в те поры и попомню я тебе, царевна, все печальные речи твои. Небось сама посмеёшься над ними. Челом тебе бью, государыня-царевна Софья свет Алексеевна.
Сказал и быстро вышел.
«В обиду принял. Ничево… Шпору дать коню — шибче поскачет», — подумала царевна.
Подошла к окну и стала смотреть на Кремлёвскую площадь, на соборы, на высокие, покатые крыши дворцовых строений, на дальние улицы и переулки, какие были видны из теремного окна.
Велика Москва. Велик весь край, царство Русское. И вот она, слабая девушка, держит, хоть и потаённо, всю судьбу этого города, этого царства в своих руках.
Потаённо — пока… Но что-то говорит ей, что и открыто, при звоне всех колоколов выступит она, царевна Софья, перед народом, перед лицом всей земли… И земля признает её повелительницей, как некогда в Византии — Пульхерию, как Елизавету Английскую… Народ явно поклонится ей, и, не таясь, она будет держать бразды правления, всю судьбу царства в своих девических руках.
«Будет ли так? — вдруг шевельнулось сомнение в душе царевны. — Да, будет! Верю, што будет. А по вере и даётся… По вере и сбудется оно».
Вслух почти повторяет гордая, властолюбивая девушка одно заветное слово:
— Будет… будет…
А сумерки все гуще и гуще ложатся на затихающий город, на кремлёвские соборы, на дворцовые и теремные сады, где ветви деревьев, опушённые светло-зелёными почками, тихо шелестят и колышутся под налётами ветерка.
В ночь на шестнадцатое апреля, через силу перемогая себя, вышел Федор к пасхальной заутрене в Успенский собор. Но, стоя на царском месте, он тяжело налегал на руки Апраксиных и Одоевского с Милославским, которые поочерёдно поддерживали царя.
Бледнее смерти был он и потом, принимая поздравления патриарха, духовенства и бояр.
Порою невнятный стон слетал с его посинелых, пересохших губ. Жадно проглотил он глоток вина с водой из кубка, поданного догадливым Языковым. Кое-как был докончен торжественный обряд, чтобы не смутить тысячи молящихся во храме, которые ловили каждое движение царя.
И из храма внутренними переходами почти на руках донесли Федора до его опочивальни, раздели и уложили в жару, почти в беспамятстве.
Врачи, Софья, царица Марфа и ближние бояре всю ночь попеременно стерегли больного, который то впадал в забытьё, то начинал метаться, стонать и хриплым голосом бормотать невнятные слова.
Печально встречен был Светлый праздник Воскресенья в царской семье. Заливались перезвоном пасхальным колокола, горели смоляные бочки на площадях и улицах. Ликовало от мала до велика все население Москвы. То и дело всюду слышались радостные слова:
— Христос воскресе!.. Воистину воскресе!..
И даже недруги, встречаясь, на этот миг позабывали вражду, обменивались троекратным братским поцелуем.
А там, в кремлёвских покоях, где так торжественно и пышно встречали всегда пасхальный рассвет, где милости и дары в великую ночь лились рекой, теперь было тихо, печально.
Только на чёрных дворах, у конюшен, в жилищах дворцовой челяди горели огни, звучали струны домры и балалаек, откликалось эхо топоту пляски, громким песням и смеху…
Здесь ещё не знали, как плохо царю. Здесь пока не реял своим чёрным крылом призрак смерти, низко-низко пролетающий в этот миг над кровлею кремлёвского дворца.
Всю ночь до утра светился огонь и в покоях Натальи.
Придя от заутрени, она послала людей на половину Федора с приказанием, разузнать, что с царём.
Печальные вести приносили со всех сторон к Наталье. Отпустив всех, стала она молиться. Потом сидела в кресле и думала о чём-то… И снова молилась — и так до самого утра.
Кто знает: чего просила у Бога, о чём так упорно думала царица?
Постепенно стихала, замирала на улицах и площадях необычно шумная ночная жизнь, разошлась по своим углам толпа, встретив любимый великий праздник.
Только в стрелецких людных слободах, в пяти — шести гнёздах, какими широко раскинулись вокруг Кремля посёлки стрельцов, не умолкая кипело буйное веселье.
Ночная оргия перешла в буйное утреннее бесчинство.
Кружала и кабаки так и не запирали своих дверей.
У стрелецких сборных изб, осенённых высокими деревянными вышками, «каланчами», толпились стрельцы со своими жёнами, такими же нетрезвыми и буйными зачастую, как их мужья.
Больше всего стрелецких полков, до восьми, проживало одним ядром в Замоскворечье, на юг от Кремля.
Целые посады, потом ставшие улицами, были застроены жилищами стрельцов.
Большие, богатые храмы высились тут, построенные на пожертвования разгульных, но набожных и щедрых ратников-купцов.
Вешняки, Калужская площадь у самых ворот и вся нынешняя Калужская улица были сплошь заселены стрельцами.
В Земляном городе, у Пимена, что в Воротах, у святого Сергия в Пушкарях, у Троицы, где поднялась потом Сухарева башня, в память верного Петру Сухаревского полка, наконец, у святого Николая в Воробине и за Яузой, на Чигасах, — везде раскинулись стрелецкие слободы. Из Чигиринского похода двадцать две тысячи человек вернулось в Москву.
А теперь всего девятнадцать полков считалось стрелецкого войска в Москве, то есть пятнадцать тысяч мушкетов. В каждом полку находилось от восьмисот до тысячи строевых. А сто тридцать лет назад, к концу царствования Грозного, их насчитывалось меньше двух тысяч воинов.
В разных областных городах: в Астрахани, Казани, Курске, Владимире, Галиче, Белеве — были свои стрельцы, но главную роль играло московское войско.
Всякую службу служили государям стрельцы.
Пока не явились на Руси иностранцы, которых особенно много выписал Алексей; пока не было рейтар и пеших солдат, набранных Михаилом и сыном его, Тишайшим царём, — стрельцы отважно и стойко дрались и дома и в чужих пределах, куда приходилось идти под царскими знамёнами.
Но постепенно выправка и отвага их пропадала. Больше была им по душе домашняя, городовая служба, охрана царских выходов, прислуживание послам иноземным, сторожка на площадях, у рогаток, при городских воротах и у проезжих застав, где, кроме вороватых лихих людишек, не было других врагов, а выгоды набегало немало.
Ещё больше распустилось это войско, когда, пользуясь заслуженными раньше вольностями и льготой стрелецкой, те, кто посмышленее из них, принялись за торговое дело, втягивая понемногу и остальных товарищей в свои интересы и купецкие дела.
Покупая большие, богатые лавки в гостиных рядах, стрельцы умело наживались сами и давали наживаться товарищам.
Привольная, безбедная жизнь, отсутствие постоянных учений, как это было принято в пехотных солдатских и иноземных полках, дружное, стойкое единение — все это создало особый нрав у московских стрельцов.
Чванные, наряжённые как напоказ, незнакомые с новой боевой наукой, отвыкшие от железной дисциплины, обычной в регулярном войске, стрельцы являли собой нечто среднее между преторианцами древнего мира и наёмными воинами, наводнявшими Европу, особенно после Тридцатилетней войны.
И раньше было трудно полковникам, пятисотенным и пятидесятникам стрелецким справляться со своими подчинёнными. А тут, после бунта Стеньки Разина, в 1672 году были свезены в Москву и причислены к городовым стрельцам все самые опасные бездельники и шатуны из астраханского войска.
Расчёт на то, что московские, более спокойные товарищи хорошо повлияют на астраханцев, не оправдался. Напротив, астраханцы быстро заразили своим вольнолюбием и бунтарством сдержанные до тех пор стрелецкие полки.
Ещё при Алексее бояре, правившие Стрелецким приказом, умели кое-как справляться с этим буйным народом. А при кротком, не любящем крутых расправ Федоре князь Юрий Алексеевич Долгорукий и сын его, Михаил, не знали, как и управляться с распущенными ратниками.
Только Стремянный полк, приближённый к царю, выезжавший на его охрану верхом, на конях из конюшен государя, и сохранял ещё кой-какой порядок в службе.
Но и он, заражаясь общим недовольством, открыто нередко роптал на обиды и притеснения, какие терпит от своих полковников и голов.
Сейчас стрельцы бурлили особенно.
И Софья со всеми сторонниками и роднёй незаметно, но постоянно старалась подливать масла в огонь.
Не раз уже и раньше стрельцы вызывали к сборным избам тех из ближайших начальников, десятников и выборных своих, лихоимство или строгость которых не нравились толпе.
Здесь, как в войсковых кругах казацких, совершался разбор дела, произносился приговор и зачастую немедленно приводился в исполнение. Если обвинённый не догадывался откупиться вовремя, его подымали на каланчу и, раскачав, кидали вниз, под крик и рёв почти всегда опьянелой толпы:
— Любо!.. Любо!.. Любо!..
И оставляли искалеченного, полумёртвого на земле.
Далеко разносились эти крики, нагоняя страх на соседей, мирных горожан, заставляя вздрагивать от тяжёлых предчувствий даже надменных бояр в далёком Кремле.
Но явиться в буйное гнездо, покарать виновных, завести порядок и тишину — на это ни времени, ни сил не было у правителей царства, занятых сейчас иными делами и заботами.
Все Светлое Воскресенье и следующий день стрельцы провели в диком, бесшабашном веселье.
Но уже со вторника какие-то чужие люди показались на затихших улицах в стрелецких слободах, заглядывали в домишки, где мёртвым сном отсыпались после кутежа стрельцы и стрельчихи.
Хозяева подымались с тяжёлыми, одурелыми от похмельного угара, головами, толковали с незваными, но желанными гостями, потому что те не только сулили журавля в небе, но давали и синицу в руки…
Звонкие рублевики и полтинники вынимались из кошелей и исчезали в цепких руках стрельчих, в корявых пальцах их мужей.
И нисколько не удивляло хозяев, что такой тугой, тяжёлый кошель появлялся порою из кармана и складок рубища какого-нибудь нищего старика или калеки-побирушки, заглянувшей в слободу под предлогом сбора милостыни.
Стрельцы знают, что во дворце, особенно в теремах, у царевен и цариц всегда призревается много нищих, юродивых и бездомных людей Христа ради. И нередко обитательницы терема, не имея возможности выходить за пределы позолоченной темницы, пользуются услугами этих «убогих» людей в качестве передатчиков и пособников в своих делах и сношениях с внешним миром.
Особенно часто, одевшись совсем попросту, навещала постельница Родимица двух подполковников стрелецких: Озерова и Цыклера. Первый из них считался даже женихом красивой, умной девушки.
Толковала она с ними от имени царевны Софьи, сперва наедине, а потом стали звать на беседу и несколько человек «староверов» из выборных стрелецких, которые открыто выражали недовольство новыми порядками во дворце и слыли коноводами при всяком волнении, возникавшем в буйных военных слободах, раскинутых по Замоскворечью.
Эти выборные приставы, или урядники: Бориско Одинцов, Обросим Петров, Кузька Чермной, Алёшка Стрижов, Никитка Гладкой и другие — в свою очередь вербовали союзников из рядовых товарищей своих.
И заговор рос быстро, не по дням, а по часам. Душою заговора, незримою, но властной, кроме Софьи, явился и опытный дворцовый «составщик» Иван Михайлович Милославский.
Правда, напуганный недавней опалой, старый хитрец стоял как будто в стороне от всех дворцовых и стрелецких волнений и интриг. Он даже, подобно другому ученику Макиавелли, кардиналу Ришелье, вечно притворялся больным, лечил припарками и всякими мазями свои поражённые будто бы ревматизмом и подагрой ноги. Из дому почти не выезжал, открыто никого не принимал.
Зато боярыня Александра Кузьминишна с дочкой Авдотьюшкой, любимицей отца, каждый день, под предлогом родства, навещали царевен, тёток и сестёр Федора.
А по ночам преданные люди особыми путями, через садовую калитку и задними ходами, пропускали к боярину каких-то таинственных гостей, с которыми Милославский толковал порою подолгу, отпуская от себя, как только начинало светлеть тёмное ночное небо, предвещая близкий рассвет.
Вместе с недовольными стрельцами собирались сюда по ночам бояре — враги Нарышкиных: оба брата Толстые, Александр Милославский, Волынский, Троекуров — словом, все те, которые после смерти Алексея не допустили сесть на трон царевича Петра.
Конечно, Нарышкины знали многое, если не все, относительно нового заговора. И у них были приняты свои меры, как это мы видели из предыдущих страниц нашей правдивой повести.
Но, зная многое, никто не решался принять каких-нибудь жестоких мер против открытого брожения в слободах. Первый сильный натиск на стрельцов мог явиться началом междоусобной войны. А этого опасались больше всего разжирелые, нерешительные бояре-правители. Потерять они могли очень много, не выигрывая ничего.
И потому с тупой покорностью судьбе глядели на возникающую бурю даже люди, которые искренно желали добра и царству, и народу.
Общее недоверие друг к другу ещё больше порождало смуту и тревогу при дворе умирающего Федора.
Кто знает, может быть, человек, которому надо предложить действовать против одной из партий: Милославских или Нарышкиных — продался и тем и другим или предаст доверчивого приятеля, только бы выслужиться у сильных людей.
А сомнения в том, что Федор умирает, не было больше ни у кого из лиц, хоть как-то связанных с дворцовой жизнью.
Знала это почти вся Москва, особенно хорошо знали стрельцы.
Но всё-таки 23 апреля, в самое воскресенье, на Фоминой в Стрелецкий приказ явился выборный от всего стрелецкого полка с челобитной на своего полковника Семена Грибоедова.
— Никого из бояр и в приказе нету. Нешто не знаешь, голова с мозгами, какой нынче день. Али не проспался после праздничка, — сонным, сиплым голосом проговорил «очередной» приказный дьяк, Павел Языков, сам ещё не пришедший в себя от недавних угощений. — Черти бы побрали вас, стрельцов. Ни часу покою нету от окаянных. Одни вы и шляетесь, времени не знаючи…
И дьяк громко, протяжно зевнул, недовольный, что разбудили его, спокойно спавшего перед этим на скамье в прохладных сенях приказа.
— Ну, не разевай глотки, душа чернильная. Леший вскочит. Ишь, каку утробу отрастил на нашей крови, на казённых харчах… Не надобно мне и бояр твоих, и тебя самово. К царю-батюшке челобитная… Веди во дворец. Там доложи боярину, какому следует: допустили бы меня на очи его государевы. Ему и подам челобитье.
Дьяк даже глаза раскрыл на такие дерзостные речи. Наконец присвистнул и ответил:
— Ну, видимое дело: ума ты лишился, миленький. Вязать тебя надо да на съезжую вашу… Не пускали бы таких по городу бегать… Коли ты видал али слыхал, чтобы вашу братью так, поодиночке, и здоровые государи пускали на очи на свои. А не то к скорбному царю, которого и близким видеть не мочно, тебя, дуболома, допустить… Прочь поди и с челобитной своею. Заутра приходи, коли вправду велено тебе бумагу подать. Проваливай, слышь…
И дьяк уже собрался вернуться на свою нагретую лежаньем, широкую скамью.
— Ой, гляди не пожалей, што гонишь… Дело немалое… У нас, слышь, пока тысяча рук подписалась. Да за нами ещё не один десяток тыщ стоит… Гляди, наутро не поздно ли будет?
Обернулся снова дьяк.
Он знал, как и все, что большое брожение идёт в стрелецких полках. Никого не устрашил пример стрельцов, жестоко наказанных знатным родичем этого самого дьяка, Иваном Максимычем Языковым, за жалобу на полковника Пыжова, поданную два месяца тому назад.
Окинув снова более внимательным взглядом необычайного челобитчика, Языков медленно протянул руку за бумагой.
— Ну, давай уж… Небось, я сам нынче ж передам боярам… Ивану Максимычу да Юрью Алексеичу, князю Долгорукому со товарищи… Може, коли и важное што, они ноне же к царю заявятца, доведут о просьбе вашей, о челобитье смиренном…
— Да, уж тамо пускай сами разбирают по пятницам: смиренство али несмиренство нашло на нас… А правый суд должен нам быть произведён. Уж боле терпеть и мочи не стало.. Так и скажи…
— Скажу, скажу, молодец… не знаю, как звать тебя… Дьяк остановился, выжидая ответа.
— Зовут Зовуткой, величают Дудкой… А когда же нам ответ буде, сказывай, семя крапивное, а…
— Отве-ет… Да хошь завтра пожалуй, господин стрелец… Коли дело твоё такое неотложное, как сказываешь… да не одново тебя, а мирское, слышь, круговое ваше…
— Так, верно… Всем кругом писали… Тута вот сказано… Все прописано.
Он ткнул пальцем в челобитную, которую дьяк уже успел развернуть и теперь читал про себя.
— Так, так… Знакомы дела. Видать, жох у вас полковник ваш, Грибоед энтот самый. Ишь, поборы берет тяжкие…
— Совсем разорил…
— Жалованье царское не сполна выдаёт…
— Ворует, собака. Уж писари наши знают… Прямо говорят: ворует, аспид, денежки наши кровные, заслуженные…
— Да, ещё и работать на себя задарма неволит… Ахти-хти…
— Измаял работишкой дармовой. Мало, што под Москвою в усадьбе домишко ему постановили… И сараи рубили, и чёрные избы… Идол, на самый праздник, на Светло Христово Воскресенье, отдыху не дал. Кончай ему, да и все тут… Хуже нехристя… Поработил православных, как турецкий султан какой. И управы на него не найдём. Погибаем от ево мучительства от немилостивого. Неистово затиранил весь полк…
— Ах, батюшки… Прямой он разбойник… И всех так, сказываешь, замытарил?
— Ну, всех не всех… Которы урядники с им, да пятидесятники, да маеоры, начальство там главное — тем хорошо. И они по следам тово скареда на нашей шее уселись. А ещё из наших такие, кто богаче: вон, коли лавки в рядах имеет али на торгу. Не гляди, што рядовой стрелец, наш Грибоед с им не брезгует и хлеб-соль водит… И посулы берет немалые… Им хорошо…
— Што же, богатеи-то ваши и не подписали челобитной, видно. Не от всево полка она подана, стало быть…
— Ну-у… Не подписали! Смели бы они… Так мы бы из них тоже кишки все повыпустили бы… От свово брата отшибатца никак не можно… Купец не купец, а родовой стрелец. Так со всеми и руку тяни… Энто у нас уже так завсегда, спокон веку… А другое сказать, сами наши богатеи и подбивали нас… Толкуют, ихня толста мошна и то трещит от нахрапу от полковничьево. Знаешь, дьяк, как приговорка есть: «Злющему борову все не по норову…» Так и Грибоед наш. Нам ево не избытца добром, прогоним силом… В те поры хуже буде. Так ты и скажи…
— Ладно, ладно, скажу… Уж будь покоен, — повызнав все, что казалось ему интересным, торопливо ответил дьяк. — Ты с Богом поезжай себе. А я твою челобитную в ту же пору и боярам понесу казать… Как они там?..
— Ладно, неси… Пущай они. Слыхали и мы на слободах: помирает царенька, подай ему Господи доброе здравие… Што ж, пущай бояре примут от нас душегуба, кровопивца Сеньку-полковника… Али новый царь наступит — он пущай разберёт. Только бы нам Грибоеда к лешему… Так, слышь, и скажи боярам…
Тяжело взобравшись на костлявого, высокого коня, привязанного тут же, в низу лестницы, стрелец ещё раз обернулся, кивнул головой в спину дьяку, который был уже у двери приказа, выходящей на площадку, и потрусил рысцой по площади, даже затянув какую-то песенку от удовольствия, что так легко и удачно выполнил поручение товарищей…
Когда старик князь Долгорукий прочёл челобитную, переданную ему в тот же день, под вечер, дьяком, он спросил:
— Што так спешно припожаловал с челобитьем, на дом ко мне заявился? Али не терпелося, пока я наутро сам загляну в приказы?
— Не по своей воле-то, боярин, князь Юрья Лексеич… Я было к Ивану Максимычу раней побывал. Он меня к тебе и послал. Уж больно грозился стрелец, всяки беды сулил, коли задержу челобитье.
— Грозил стрелец?.. Тебе?! Да што он, шалой али пьяный? В царский приказ заявился, да с угрозою!
— Не потаю греха, так уж пьян, что и лыка не вязал! А супротив ваших боярских милостей: Ивана Максимыча, да твоей, да сынка твово, Михаила Юрича, князеньки, — такое городил и прибирал… и-и… язык не повернётся и вымолвить…
— Ла-адно… Зажирели собаки стрелецкие… Мало им батогов, которыми недавно их велел потчевать… Ещё прибавлю. Как звать-то нашего челобитчика? Знаешь ли? Я ему покажу…
— Не сказывал, как ево зовут… Я уж и то пытал. Сдогадался — не дал ответу. Да он наутро за ответом быть хотел…
— За ответом… Получит ответ… Ступай. Я утром буду пораней. Сам все разберу.
На другой день, хотя и рано явился за ответом выборный стрелец, но ему пришлось недолго ждать… К приказам подъехал со своей свитой старик Долгорукий, поднялся наверх и первым делом спросил:
— А што, от грибоедовского полку посланец тут ли?
— Тут, уж давненько ждёт.
— Покажьте мне его.
Позвали стрельца.
С шапкой в руке, отдав поклон важному боярину, стоит выборный, ждёт, что у него будут спрашивать.
— А, так энто ты тут неподобные речи в царских приказах ведёшь, — вдруг, багровея от гнева, закричал князь. — Узнаешь, пройдоха, как на нас, на слуг государевых, лаю непотребную изрыгать… Эй, берите его…
Приказные служители двинулись вперёд, сразу скрутили опешившего стрельца. Он даже не стал особенно сопротивляться.
По приказу князя немедленно был написан и подписан приговор. Дьяк сел на коня. Несколько сильных приказных сторожей, обычно выполнявших приговоры над обвинёнными, потащили стрельца прямо в слободу, к съезжей избе грибоедовского полка.
Ударили в било. Барабаны забили сбор. Двадцать минут не прошло, больше половины полка стояло уже на площади перед «каланчой».
Дьяк, не слезая с лошади, откашлялся и стал читать приказ:
— «По указу… и прочая, мы, думной боярин, начальник-воевода Стрелецкого приказу, князь Юрий Алексеевич Долгорукий со товарищи приказали: стрельца, имярек…»
Тут дьяк остановился.
— Как звать-то тебя?
Угрюмо стоявший со связанными назад руками стрелец недоуменно посмотрел на приказного.
— Ондреем зовут, по отцу Васильевым. А кличут — Щука.
— Так. Выходит, карась — не дремай. Добро.
И, крякнув, дьяк продолжал читать указ, словно так и было написано в бумаге:
— «Стрельца Грибоедова полка, Ондрюшку, сына Васильева, Щуку кнутом наказать за его облыжные, наносные речи и всякую лаю, всего дать двадесять ударов. А для примеру — сечь его на полковом кругу у съезжей избы, штобы иным было неповадно».
Подписи прочёл, число и год.
Говор смутного недовольства пробежал между стрельцами, кучками обступившими дьяка и связанного товарища, которого держали приказные каты-прислужники.
Но никто не решился первый сказать что-нибудь. С утра не успели ещё охмелеть иные, способные на безрассудство в пьяном виде. И сильна ещё была в них привычка к повиновению.
Но стоило дать самый лёгкий толчок — и эта напряжённая толпа могла стать неукротимо-опасной.
И толчок был дан.
Как только по знаку дьяка два прислужника стали валить на землю стрельца, чтобы исполнить приговор, тот вырвался у них из рук и кинулся прямо в толпу:
— Братцы… Да што же… За што же, родимые… За вас же, товарищи, за весь полк муку принимать должен… Застойте, заступите, товарищи. Вашу волю творил, подавал челобитную… А ноне даёте на поругание посланца своего. Грех, товарищи… Стыд головушке, коли дадите меня на истязание…
Кинулся на колени бедняк и, не имея возможности шевельнуть связанными руками, припадал головой к ногам стрельцов, губами ловил руки товарищей.
Дрогнула сильнее, зашевелилась, зашумела вся громада стрельцов.
Но ещё не знали, что делать. Одно оставалось: прогнать дьяка с палачами. Но за этим должно последовать нечто бесповоротное.
Не пройдёт такая дерзость безнаказанно. Как ни слаба теперь царская власть, как ни идут вразброд бояре, вступая вечно в свару из-за доходов и выгод, в ущерб общему делу, — подобной дерзости стрельцам они не простят.
Пользуясь замешательством толпы, палачи снова схватили Щуку и стали валить его на землю, тут же срывая одежду, чтобы обнажить до пояса приговорённого к истязанию бедняка.
— Выручайте, братцы, — прерывистым, отчаянным воплем прорезал воздух Щука.
Палачи изловчились и сейчас же заглушили крик, заткнули чем-то глотку стрельцу.
Но нервы больше не могли выдержать у окружающих. Всякие благоразумные соображения были забыты.
Приземистый, широкоплечий стрелец, из бывших астраханцев, откинув палку, которую держал в руках, как будто она мешала ему, подскочил молча к приказным, схватил одного, оторвал от товарища, толкнул его так, что тот кубарем полетел прочь.
С размаху налетел палач на другого стрельца. Тот наотмашь ударил приказного, свалил его с ног, а сам кинулся туда, где другие приказные служители стояли, не решаясь: отпустить стрельца или продолжать своё дело.
— Прочь, идолы… Пока живы, уходите, — замахиваясь тяжёлой палкой, крикнул второй стрелец.
И, не ожидая даже, пока палач исполнит приказание, пустил ему на голову удар, сам даже крякнув при этом:
— Э-х… Получай, аспид…
Бледные, окружённые десятками озлобленных лиц, видя над собой занесённые кулаки и палки, палачи оглянулись, ожидая, что дьяк заступится за них или скажет, что им делать.
Но тот при первом же ударе, нанесённом служителю, быстро повернул своего коня, и теперь только насмешки и гиканье стрельцов неслись ему вдогонку.
Пустились следом за дьяком и все прислужники, нагнув головы, подобрав полы кафтанов, только покряхтывая при каждом ударе, который получали на бегу от кого-нибудь из стрельцов.
Расправляя затёкшие, натёртые верёвкою руки, которые кто-то поспешил развязать узнику, Щука заговорил возбуждённым, визгливым от озлобления голосом.
— Убегли, кровопийцы… Деру задали, собачьи прихвостни… За подмогой пошли. Верьте слову, братцы, — за подмогой пошли… Приведут драгун, солдат да рейтар… Всех нас изведут… Я сам в городу слышал: рать стрелецкую извести порешили бояре, так потачки мы им не дадим. Постоим за себя, братцы… Не дадим в обиду себя, и жён, и детей своих… Начальство покличем… Куды подевались они, грабители… Как нужно, и нету их… Полный круг созывайте… Другие полки повестить надо. Нынче нас обратают. А посля и за их примутся… Солдатам сказать надо. Им тоже солоно пришлося от командеров… Сами знаете: не раз подсылы были к нам и от бутырцев, и от иных полков… Бейте сбор… В колокол вдарим, братцы… Не дадим себя в обиду… Царь помирает. Так бояре и рады измываться над нами. Защиты-де мы не сыщем. Врут… Сыщем… Звони, робя… Бей в барабаны…
И, невольно заражаясь исступлённым настроением товарища, большинство стрельцов кинулось бить в набат, затрещали барабаны, зазвонили колокола на соседней колокольне.
Напрасно более опасливые и благоразумные старые стрельцы пытались осторожно уговорить толпу, остеречь её от того, что ждёт бунтовщиков в случае неудачи.
— Не слушайте их… Это предатели, подкупни боярские… На каланчу их — да вниз кидайте… Мы тута примем окаянных… За оружие беритесь… Теперь по домам, за мушкетами, за пиками… Всем с припасом воинским идти на сход…— Так кричали зачинщики.
Напуганные угрозой, смолкли те, кто думал удержать живую лавину без вина опьянелых, обездоленных людей.
Всю ночь почти длился сход грибоедовцев. Поскакали отсюда гонцы в другие полки. Везде почва была готова и товарищам обещали немедленную помощь против притеснителей: начальников и приказных бояр…
Наутро первосоветникам-боярам сообщили очень тревожную весть:
— Шпыня доносят: шестнадцать полков согласились с грибоедовскими стрельцами. Да к им же пристал солдацкий Бутырский полк… И заставили приставов своих заодно идти, а попы ихние, все больше — староверские, кресты и Евангелие выносили. На том Евангелии да на кресте все присягали: друг за дружку стоять до самой смерти. Всех-де не казнят. Москву без стрельцов не оставят… И коли бояре полковников на правеж не поставят, иску стрелецкаво не выполнят, самим надо начать расправу с кровопийцами, со мздоимцами-начальниками… А починая с перваго Ивана Языкова, ворам потатчика, да кончая князем Михайлой Долгоруким, што и сам правды стрельцам не даёт, и отца-старика с пути сбивает…
Так доносили шпионы, подосланные в слободы, где разгорелся полный мятеж. Теперь все полки решили составить одну общую челобитную и подать её самому царю, выступая на это дело целым скопом. И только не решили: с оружием собираться им перед Красным крыльцом или на первый раз прийти безоружными и выслушать, какой ответ будет на челобитье.
— Как же нам теперя? — невольно бледнея от только что сообщённых вестей, спросил Языков у Долгорукого, с которым съехался утром, двадцать пятого апреля, в Стрелецком приказе. — Крутая заварилася каша. Оно, положим, и половины правды тово нету, што в жалобе на Грибоеда написано. Не хуже других полковник. Может, и пользовался малость от своих людей. Так один Бог без греха… А не миновать тово, што разобрать придётся челобитную да для заспокоения горланов — как-либо покарать полковника.
— Покарать? Да статочное ли дело? Будь начальник и втрое виновен, не можно по жалобе каждой холопской все творить, как они желают Ныне — на полковника челобитная. Там — на тебя али на меня подымутся. «Не хотим-де, штобы Приказом нашим боярин Языков правил али князь Долгорукий. Сеньку Шелудивца в начальники волим». Так на кругу загалдят. И надо творить по-ихнему? Моя дума такая: войско собрать, которое не замутилось, окружить слободы. Попугать пищалями, две-три избы разнести ядрами. А тамо — и крикнуть: «Несите оружье все сюды. Сдавайтеся на нашу милость». Разборку сделать как надобно. Зачинщиков — перевешать али башку долой безразумную. Ково — в колодки… Иных повыслать… Вот останные-то ровно из шёлку тканные станут. Так я мыслю.
— Да и я бы не прочь. Не пора, слышь, боярин… Сам знаешь: царь, почитай, одной ногой в гробу стоит… Помрёт — кабы смута иная, куды грозней стрелецкой, не загорелася. Ратные люди в пригоде станут, все до последнего. Эй, боярин, давай поступимся на короткий час и подержим недолго полковника под стражей, а там ево на волю пустим. Стрельцов бы замирить. А пройдёт смута — разочтёмся с ими своим чередом. Будут помнить, как челобитные писать, властям грозить, мутить по царству.
— Што же, пусть так, коли так, — неохотно согласился гордый старик, сознавая, что Языков в данном случае прав.
Грибоедов, заглянувший тоже в Приказ, чтобы вызнать, в каком положении его дело, немедленно был взят под арест. В слободу послали извещение, что жалоба стрелецкая рассмотрена и полковник-лихоимец арестован.
Обрадовались, зашумели стрельцы.
— Вон, братцы, наша взяла!.. Слышали?!
— Любо!.. Пускай и от нас грабителей-полковников уберут, — отозвались на это стрельцы других полков.
И быстрее заскрипели перья полковых писцов, выкладывая на бумагу все обиды, настоящие и мнимые, какие терпели ратники от жадного и распущенного начальства.
Когда же через день стрелецкая громада узнала, что Грибоедов был арестован для виду и на другое же утро потихоньку отпущен домой, ослабевшее было озлобление вспыхнуло с новой силой.
— Эки проныры, обманщики. Морочат только нас… Время тянут. А там и пожалуют с иноземцами да рейтарскими полками, перебьют нас или зашлют на край света, — как бы угадывая тайные планы бояр, толковали на сходках стрельцы.
И одно общее решение постановили почти единогласно:
— Взять челобитную и к самому царю идти. Пусть он казнит и милует, пусть по правде рассудит своих верных слуг — стрельцов с лихоимцами-начальниками да с боярами, которые тех воров покрывают, дружбы и корысти ради.
Решение состоялось двадцать шестого числа. Тут же начали подписывать челобитную почти того же содержания, как и первая, поданная грибоедовцами.
Между прочим там было так написано:
«На наших полковых землях на наши деньги сборные выстроили себе полковники загородные дома; жён и детей наших посылают в деревни свои подмосковные: пруды им копай, плотины, мельницы строй, и сено коси, и дрова секи. Нас самих гонят тоже им служить, не то чистую работу делать, а иное што. И по дому, и по двору, ровно скот тяглый, работаем, что людям ратным и не подобает. И принуждают нас побоями и батожьём за наш счёт покупать себе цветные кафтаны с нашивками золотыми и всякими и папки бархатные и желтики[43], штоб от других богатых полков без отлички. А из государева жалованья нашево вычитают себе и хлебные запасы, и деньгами немало. И за многие годы нам окладных и жалованных кормов не плачено. А тем воровством полковники те безмерно побогатели. А не будет нам дано суда и правды, так хоть самим доведётся тех ведомых воров-лиходеев перебить, а домы их по бревну разнести».
Так заканчивалось челобитье.
Тут же был приложен список полковников, которых обвиняли стрельцы, и бесконечные списки — счёт всего, что, по их расчёту, недополучили челобитчики из своего оклада деньгами и припасами всякими или сукном, холстами, которые тоже отпускались им по известной росписи.
Подать на другой день этой обширной челобитной не удалось.
Вечером царь отпустил Иоакима, с которым часто и подолгу толковал наедине всю эту неделю. Полежал немного спокойно и вдруг слабо застонал.
— Где Стефан? Плохо мне вдруг… темно в очах штой-то…
Врачи поспешили к больному.
Очевидно, очень плохо стало Федору Силы быстро иссякали. Приходилось чуть не каждый час давать укрепляющие средства, чтобы сердце не остановилось. Царь то впадал в лёгкое забытьё, то приходил в сознание и, с трудом дыша, наконец приказал:
— Всех зовите скорее… Помираю… Хочу видеть братьев… Сестёр… Святителя просите. Матушку-государыню… Петра… Петрушу…
Эти слова, угасающий голос, искажённое смертной тоской лицо так повлияли на царицу Марфу, которая с Софьей была в опочивальне больного, что она лишилась сознания.
Перенесли её в соседний покой, отдали на попечение старухи Клушиной и другой постельницы, дежурившей там.
Рано на рассвете поскакали и побежали гонцы в Чудов монастырь, к патриарху, к первым боярам, во все концы московские.
Искрой пронеслась печальная весть по городу и по его посадам: «Царь умирает…»
Вместе с теми, кто был зван во дворец, толпы разного люду стали подходить, наполнять пределы Кремля, и все жадно ловили слухи, долетающие сюда из покоев царских, из царицыных теремов.
Быстро наполнилась людьми самая опочивальня Федора и соседние покои.
У постели столпилась вся семья: тётки, сестры, царица Наталья с Петром, Иван-царевич со своим дядькой, князем Петром Ивановичем Прозоровским, не отходящим никуда от питомца.
Несколько раз в течение долгой агонии, тянувшейся до четырех часов дня, Федор пытался что-то сказать, делал движение головой, слабо шевелил пальцами, словно подзывая кого-то.
Патриарх и Наталья, царевна Софья и боярин Милославский поочерёдно наклоняли ухо к самым губам умирающего.
Но только невнятный, прерывистый лепет срывался с посинелых губ.
Можно было различить отдельные слова:
— Матушка… Петруша… брата Ваню… Батюшка царство… Петруша…
И даже от такого слабого шёпота, от этих несвязных фраз силы его истощались. Он закрывал глаза, сильно вздрагивал, хрипло, тяжело дышал.
И не помогали ему самые сильные средства, какие решились дать умирающему Гаден и другой врач, чтобы поднять на короткое время силы, дать возможность хотя бы на словах объявить свою волю по царству, так как письменного завещания Федор сделать не успел; а бояре, случайно или умышленно, не торопили его с этим.
Садилось солнце, клонился к вечеру, догорал уже день так тихо, так печально, одевая пурпуром и золотом закат, затканный дымкой весенних облаков.
И тихо угас Федор, догорела молодая жизнь, всё время бледным, неровным огнём горевшая в слабом, подточенном болезнью организме.
— Душно… окошко… брата на царство… Господи… Пресвятая… Душно!..
Прозвучали последние слова… Несколько судорожных движений… И не стало на Москве царя Федора Алексеевича. А новый царь не был назван умирающим.
Часть II
Глава I. ДВА ЦАРЕНКА
Как только патриарх смежил мёртвые очи царю Федору, первою мыслью у святителя и у всех был тревожный вопрос:
«Кто займёт трон? Иван, из рода Милославских, или Пётр, из Нарышкиного гнёзда? Или оба вместе, как толковали ещё и при жизни Федора иные бояре, думая этим примирить обе враждующие партии?»
Первым патриарх совершил последнее целование. Пока остальные прощались с усопшим, омывали и облачали тело в царские ризы поверх савана, Иоаким, приказав трижды ударить в «вестник»-колокол, прошёл в свою Крестовую палату, куда за ним последовало все духовенство.
Помолчав, он обратился к попам:
— Там — плач и рыдание у тела государя почившего. Но на мене Господь возложив тяжку заботу устроиты престол и землю, штоб не сиротило царство, як сиротиет ныне царская семья. Звестно вам, отцы и братие, шо остался по усопшем другый брат, и совершённого по царским звычаям возрасту бо шесть на десять лет исполнилося Яну-царевичу. Та только ж не нарекав его при жисти царь Хвеодор, бо ведомо нам усим: скорбен телом и духом той царевич. Другий у нас есть отпрыск древа царского. Юный Пётр, коему десять рокив исполняеца лишь в сём року. Но цветущего здравия, редкого разума отрок, скорище на такого похож, кому вже и шесть на десять годов минуло. А ещё к тому — матерь-государыня великая княгиня Наталья Кирилловна жива у цого царевича, што буде на пользу царству. Ибо может избрать благое правление, доколе отрок-царь придёт в его совершённые годы. Как мыслите, обсудя все сие: кого наречи на царство?
Первый по старшинству чудовский настоятель Адриан, потом занявший престол патриарха, опросив остальных иерархов, ответил Иоакиму так, как и можно было ожидать:
— По воле Божией надо быть царём государю, великому князю Петру Алексеевичу. Да подаст ему Господь сил и мудрости на подвиг царства.
— Аминь. Теперь прошу вас, не забувайте: глас народа — глас Божий. Я к боярам выду, к царевичам, ко всим ближним вящшим людям. Алибо к себе их покличу. Они пусть обсудять и решають… А вы — грядить на дворы дворцовые и на площади кремлёвские, оде уж собрался народ. И ще собирайте людей. Нехай стануть на обычном мисти уси: от гостей та гостиных чёрных сотен люди и от купцов та от разных чинов, та от стрелецьких слобожан, от слобод хамовных — Кадашевских и иных… Единым словом, ото всево люду московского шоб стали лучшие люди… И скажите им, как вам Господь на ум послал избрати. И выйду я, вопрошу их: ково они нарекуть? Чин надо исполнить всенародный, штобы потом помихи и неладов не було на царстви, ково ни укажет нам Господь. Воистину — помазанник земли и Бога будет той избранный… Идить.
Разошлись по всем площадям иереи, стали на крыльце дворцовом владыки, послали бирючей[44] кликать и звать народ к Красному крыльцу.
Скоро пройти уж нельзя было от толпы.
И духовенство пересказывало народу, что им говорил Иоаким. Повестило, что ими, духовными лицами, избран Пётр, один, без Иоанна, так как последний здоровьем слаб.
— Выйдет святейший патриарх, вас, люди московские, большие и малые, пытать станет: ково хотите на царство? Дайте ответ по душе, как Бог вас наставит…
Так заключило свои речи духовенство. Как рокот волны или далёкого грома, имя Петра прокатилось по толпе.
Поднялись было отдельные голоса:
— Ивана бы… Старшой тот царевич…
— Обоим бы государить… Оно бы лучче…
Но этих несогласных с общей волной вынуждали молчать.
В то же время патриарх прошёл снова к царевичам, к боярам-первосоветникам, к думским и ратным, служилым людям.
Здесь ясно обозначилось два течения.
Друзья Милославских с отчаяньем видели, что власть уходит из рук. Стрельцы, ещё не подготовленные к делу, сейчас заняты личными вопросами. Партия родовитых бояр, иноземные войска, влиятельное поместное дворянство, подчиняясь авторитету патриарха, его выбору, о котором узнали сейчас во дворце, решили стоять за Петра.
Ближайшие к Нарышкиным лица даже явились сюда в кольчугах под шёлковыми кафтанами, с оружием, спрятанным под одеждой, готовые на смертельный бой, только бы отстоять своё дело.
И тогда патриарх, повторив почти все те же доводы, какие приводил духовенству, задал вопрос:
— Государи-царевичи, думные бояре, окольничие, воеводы, служилые и верховые люди, Христом заклинаю вас распятым, по чистой совести скажить, кого на царство волите?
— Петра… Царевича Петра Алексеича… Ево государем…— почти единодушно ответили бояре, наполнявшие обширный передний покой дворца и сени перед этим покоем.
Как и в народе, так и здесь — один — два голоса несмело прозвучали вразрез другим сотням голосов:
— Ивана Алексеича на царство. Ево волим… Старшова царевича, роду Милославских… Единоутробново почившему государю…
Окриком, бранью были встречены эти слова. Но Иоаким усмирил бояр из партии Нарышкиных, которые уже собирались кинуться на расправу со смельчаками:
— Стойте, чада мои. Господним именем молю вас: воздержитесь вид насилия. Здесь — вольно кажному своё слово сказати. Тем святее и твёрже будет обще избрание ваше. Нехай выступить, хто казав, шо не Петра на царство. Нехай изложить мнение своё.
Из толпы недругов Нарышкиных, очевидно ободряемый своими, вышел простой, небогатый дворянин Максим Исаич Сумбулов и торопливо, запинаясь от волнения, заговорил:
— А как я помышляю: царевичу Иоанну Алексеичу, как он старший есть и летами совершён, и подобает быть единым государем, царём-самодержцем всея Руси…
Сказал и умолк. А на лице, на лбу выступила испарина.
Понимает захудалый дворянчик, что сильные покровители выставили его застрельщиком, чтобы посмотреть, не пристанет ли ещё кто к этому заявлению… Но неодобрительный гул был ответом на быструю, сбивчивую речь Сумбулова.
Старец Иоаким добродушно улыбнулся, погладил свою редковатую бороду и начал наставительно и кротко:
— Чадо моё. Не ведаю, як звати тебе, як величати… Добре, шо старость чтишь и ей первенство желаешь. Но спрошу я тебя: слыхал ли, што тут мною объявлено було о двух царевичах? И ещё спрошу вот два древа, росле, но бесплодие ветла чи вязь там подорожный… А вот — невелика вишенка, молода, кудрява, вся не тильки цветом, но и плодами обременённая. Што изберёшь? Кого из двух почтишь?.. То ли древо, што старей и без пользы, или плодовитое, хотя и молоде? Так и оба ти брата-царевичи. И знову пытаю тебе, ково изберёшь?
— А как я помышляю: царевичу Иоанну Алексеичу, как он старший есть и летами совершён, и подобает быть единым государем всея Руси, — только и мог повторить, как заученный урок, обескураженный Сумбулов.
Но его уж и слушать не стали. Патриарху со всех сторон кричали:
— Петра… Ево, вот ево… Царевича Петра на царство…
И все глаза и руки обратились к Петру, которого сторонники догадались в эту минуту вывести из спальни почившего брата.
Милославские с друзьями пытались было заговорить. Но Иоаким поспешно возгласил:
— Аминь, и я реку, как уж единожды сказал. Теперь ще народ испытаты треба. Народа воля повершить наш выбор. Як Москва желае, тако и мы сотворим. Ходимте, царевичи, князья та бояре… А ты, государь-царевич, тут помедли с государыней-матушкой да с присными твоими. Я позову, як треба буде.
Пётр и вся семья Нарышкиных остались в палате, а патриарх, окружённый всеми боярами, властями, вышел на площадь, что у церкви Нерукотворного Спаса за оградой.
Едва задал Иоаким свой вопрос, одним кликом, одним именем ответила многоголовая, густая толпа.
— Петра на царство. Хотим царевича Петра!
— Единого его ли? Алибо оба да обще царствують, с братом Яном Алексеичем? — для большей ясности повторил вопрос патриарх, твёрдо уверенный в том, как ответит народ, заранее умно подогретый и настроенный посланцами самого патриарха и Нарышкиных.
— Петра одново… Ему одному государем быть… Не надо Ивана… Петра на царство!..
И без конца гремел, повторялся этот же народный приказ…
— Так буде воля Божия!.. Иду нарекати царя. А вы уси — и прости люди, и ратни — идить во храмы кремлёвские. Там усе приуготовано. Примить присягу царю и государю, великому князю Петру Алексеичу, самодержцу всея Великия, Малыя и Белыя России. Аминь… Хай живе на многия лета!..
— На многия ле-ееета…
Восторженный клич потряс окна дворца и долетел до царевичей и царевен, до семьи Нарышкиных, до всего гнёзда Милославских, которые здесь в одном покое стояли и ждали как разрешит судьба их многолетний спор?
Услышав эти крики, вздрогнула, вскинула головой царевна Софья и вышла из покоя, а за ней и все царевны, старшие и меньшие.
Радостью засветилось лицо Натальи, когда она с молчаливым благословеньем опустила руки на голову царевича-сына, в этот самый миг призванного на престол голосом народа. Вернулся патриарх. С ним вместе все прошли в Крестовую палату. Грянул хор: «Аксиос..», «Осанна!»
И совершилось наречение на царство царя Петра Алексеевича, первого императора и Великого в грядущем…
Всю ночь толпы народа, переходя из одного собора в другой, совершали поклонение перед телом усопшего Федора и присягали новому царю-отроку Петру Алексеевичу и всему роду его. Везде на посадах, в стрелецких слободах, на окраинах столицы, как и в Кремле, разосланные гонцы собирали стрельцов и народ во храмы — и все приносили присягу новому государю, а священство служило панихиды по усопшем Федоре.
Крупными, быстрыми шагами, совсем не по-девичьи, ходит взад и вперёд по своему покою царевна Софья.
Остальные сестры уселись тут же, теснятся на скамье, словно опасаясь чего-то или взаимно защищая одна другую. Самая старшая, Евдокия, которой пошёл тридцать третий год, рыхлая, почти совсем увядшая, сидит в углу, прислонясь к стене, уронив на колени пухлые, белые, унизанные перстнями руки и тупо глядит перед собой глазами без выражения, словно и не видит ничего: ни Софьи, мятущейся по тесному покою, ни сестёр Марфы, Марии и Федосьи, прижавшихся к ней с обеих сторон.
Порою слезы набегают на глаза царевны, собираются в их неподвижно уставленных маленьких глазках, выкатываются из-под опухших век и падают, скатываясь по щекам, высокую, ожирелую, медленно вздымающуюся грудь. Екатерина, самая миловидная из сестёр, но тоже тучная, двадцатичетырехлетняя девушка, кажется много старше. Она сидит чуть в стороне, облокотясь на стол, и перелистывает большой том «Символ Веры», сочинение Симеона Полоцкого, на первом листе которого красивым, чётким почерком с разноцветными украшениями было написано посвящение от автора царевне Софье.
Придвинув поближе канделябр со свечами, слабо освещающий покой, довольно медленно разбирает царевна писаные строки, испещрённые замысловатыми завитушками и росчерками искусного каллиграфа.
Тоскливые думы одолевают Екатерину, как и остальных царевен. Но она не любит печального, грустного в жизни. И чтобы отогнать чёрные мысли, вчитывается девушка в давно знакомые ей размеренные строки, которыми как-то не интересовалась раньше:
О, благороднейшая царевна София. Ищеши премудрости выну (вне) небесные. По имени тому (Мудрость) жизнь свою ведеши, Мудрая глаголеши, мудрая дееши. Ты церковны книги обыкла читати, В отеческих свитцех мудрости искати…Дальше пиит говорит, как царевна, узнав о новой книге Симеона, «возжелала сама её созерцати и, ещё вчерне бывшу, прилежно читати»… И как ей понравилась книга, почему и приказала переписать сочинение начисто, как его поднёс Софье Полоцкий. Вместе с книгой и себя поручает он вниманию и милостям царевны и кончает льстивой, витиеватой похвалой:
Мудрейшая ты в девах, убо подобает, Да светильник серца ти светлее сияет. Обилуя елеем милости к убогим, Сию спряжа доброту к иним твоим многим. Но и сопрягла еси, ибо сребро, злато — Все обратила еси милостивне на то, Да нищим расточиши, инокам даеши, Молитв о отце твоём тёплых требуеши. И аз грешный многажды сподобился взяти, Юже ты милостыню веле щедро дати…Почти вслух дочитывает Екатерина напыщенную оду, а сама думает: «Вот какие люди хвалили сестру. Умела же добиться. И все мы ей верили, что сделает она по-своему, не пустит на трон отродье Нарышкиной… А тут…»
И тёмной, беспросветной тучей рисуется ей будущая жизнь, какая предстоит им, сёстрам-царевнам. Так же заглохнут, завянут они, как их старухи тётки, вековечные девули, больные, обезличенные, вздорные, доживающие век в молитвах, в постах, в среде своих сенных девок, шутих, дурок и юродивых…
Не в такой ясной, отчётливой форме, но эти мысли теснятся в душе царевны.
И свою тоску, своё предчувствие печального будущего она связывает с сестрой Софьей, её винит во всём. Уж если ей все верили, она должна была дойти до цели, не останавливаясь ни перед чем… Мало ли есть средств? Можно проникнуть и в терем Натальи, и в покои Петра… Не бессмертные же они… Грех, правда, великий грех… Так всякий грех замолить можно. И, наконец, расплата за грех ещё не скоро будет, там, в иной жизни. А прожить так, как теперь, придётся ещё много лет… Это же хуже ада… И во всём Софья виновата…
А Софья, она думает почти то же, что и сестра, тоже винит себя теперь в нерешительности, и молча шагает мимо сестёр. Все больнее сжимает, ломает себе пальцы; порой подносит их к зубам, схватывает и зажимает почти до крови, чтобы не дать вырваться бешеному, злобному рыданию, подступающему к самому горлу, от которого грудь так и ходит ходуном.
За дверью послышались шаги и голоса.
Вздрогнули царевны. Неужели это идут за ними от Нарышкиных? Узнали, конечно, о сношениях со стрельцами, с боярами. И, пользуясь удачей, властью, попавшей к ним в руки, отвезут всех в монастырь, заставят насильно постричься…
Это опасение сразу охватило всех сестёр. Шесть сердец забилось с тревогой и страхом, широко раскрылись шесть пар глаз.
Софья остановилась, Екатерина даже книгу уронила, вздрогнув. Остальные застыли на своих местах.
Но тут прозвучал знакомый голос Анны Хитрово, творящей входную молитву. Вошла она и Иван Милославский.
Пока вошедшие закрывали за собою невысокую, тяжёлую дверь, в полуосвещённой комнате рядом обрисовались ещё и другие фигуры, женские и мужские. Но те остались за порогом.
— Што пригорюнились, касатки мои, царевны-государыни? Али жалко брата-государя, в бозе почившего Федора, света нашего Алексеевича, — запричитала протяжным, плаксивым голосом Хитрово. — Смирение подобает во скорбях. Не тужите, не печальте душеньку святую, новопреставленую. Чай, ведаете, до сорочин[45] до самых круг нас летает чистая душенька. Скорбь нашу видит и сама скорбить почнет… Не надо, Божья воля творитца. Грех роптать на неё. Горе то поручь[46] с радостью шествует. Вот новый государь у нас есть… Юный царь, Пётр Алексеевич. Только што Господь привёл: здоровали мы ево, красавчика милаво, на царстве. А там, слышь, толкуют: вам, государыни, и поспеть не довелося челом ударить брату-государю на ево новом царстве. Я сказываю: в горести по брате, в слезах царевны-государыни… Може, пошли себя обрядить; достойно бы, с ясным лицом, не в обыденном наряде государю бы кланятца. А злые люди зло и толкуют. «Гордени-де царевны… Не по сердцу им, што их единоутробный брат Иван не воцарился… И ушли потому…» Эки люди-завистники. Адовы смутители. Ссорить бы им только родных, смуту заводить в семье царской… Ну, слыханное ли дело. Как скажешь, Софьюшка? Ты у нас самая разумница слывёшь. Такое делать и говорить можно ли?.. На рожон чево прати, коли не мочно ево сломати? Верно ли?..
Софья, как и все царевны, хорошо поняла смысл причитаний Хитрово. Они ясно сознавали, что поступили неосторожно. И за это были наказаны минутою панического страха, сейчас пережитого сёстрами.
Кроме Софьи, остальные царевны поспешно двинулись к дверям.
— Ахти мне… Правда твоя, Петровна… Наряд скорее бы сменить… Идём, сестрички, поклонимся… Воздадим кесарево — кесареви, — первая откликнулась Евдокия.
Но Софья, сделав движение, как бы желая удержать сестёр, заговорила напряжённым, нервным голосом:
— Поспеем, куды спешить. Минули годы наши, штобы в жмурки играть. И там знают, каково легко нам челом им добить… И нам ведомо: милее было бы роденьке нашей царской и вовсе нас не видать, ничем челобитья примать наши… Не из камня мы тёсанные, не малеванные. Люди живые, душа у нас есть… Куклу, вон, ребячью за тесьму дёрни — она руками замашет, ногами запляшет… Али и нас ты, Петровна, так наладить сбираешься?.. Пожди, поклонимся идолам… В себя дай прийти. Скажи вот лучче, старая ты, разумная… И ты, дядя… Правда есть ли на земле? Закон людской да Божий не то подлым людям, черни всей, а и нам, царям, вам, боярам, исполнять надо ли? А закон што говорит?.. Молодшему поперёд старшова на трон сесть — вместно ли то? Собрались горла широкие перед Красным крыльцом, крикнули: «Петра волим царём…» Што ж, он и царь?! А крикнули б они: «Тереньку-конюха царём?..» Так сотворить надо боярству всему московскому, преславному, патриарху и клиру духовному, пресветлому?.. Скажи, боярыня?.. Ответ дай, дядя!
Злобой, негодованием горели глаза девушки. Она выкрикивала каждое слово, так что всё было слышно в соседнем покое.
— Нишкни ты… Там — чужих много, — прошептала Хитрово, поплотнее прикрывая дверь и опуская суконную портьеру.
— Нешто же можно государя-брата единокровного к конюху Тереньке приравнять? — только и нашёлся возразить царевне Милославский, недоуменно разводя руками.
Софья ничего не возразила больше. Выкрикнув всё, что накопилось у неё в груди, она сразу ослабела, рыданья, которые долго накипали и рвались наружу, так и хлынули потоком.
— Петровна, милая… Да как же?.. Да можно ли?.. Где же правда?.. — с плачем приникая к плечу старухи, запричитала Софья. И рыданья долго колотили её, как в лихорадке, долго лились давно невыплаканные слезы, пока царевна не стала постепенно затихать.
Хитрово даже не пыталась словами утешить это бурное горе, этот неукротимый взрыв отчаянья. Она только отирала, как могла, глаза и щеки девушке, залитые слезами, и порой тихо проводила рукой по волосам, не то приводя в порядок их разметавшиеся пряди, не то проявляя любовную старушечью ласку.
Милославский, тоже молчавший, пока рыдала Софья, подошёл к ней поближе, когда рыданья стали умолкать.
— Слышь, Софьюшка… Нишкни… Послушай меня, девушка… Пождать — не совсем отменить. А и так бывает: ныне ликует, а наутро тоскует… Слышь, заспокой свою душеньку горячую, неоглядчивую… Наше нас не минет, а ворог сгинет… Верь ты слову моему. Али уж и разум затмился у моей Софиюшки?.. Помни, как звать-то тебя… Мудрость… А ты причитаешь в запале, слезы точишь без толку… Всему пора. Вон, настанет утро. Понесут государя хоронить — и вопи, што вздумаешь… Сестра брата хоронит, нихто не осудит… А ноне — помолчи… Только вот, помяни меня и слова мои: трех деньков не минет, может, иные хто волком взвоют… Потерпи. А на поклон государю пойди — это надобно. Может, и недолго ему государить… А все, чин-чином выполнить надо… Иди, девушка. Сестёр веди и сама ступай…
— Правду кажуть тоби, государыня-царевна, родимица ты моя, — вдруг прозвучал за спиной Софьи чей-то женский голос. — Треба челом вдарить государю… Щоб в людях толкив лишних не було…
Все оглянулись в испуге.
Говорила спальница Софьи, любимая подруга и наперсница, пресловутая Федосья Семёновна, незаметно для всех вошедшая в покой во время рыданий царевны.
— Ух, напужала даже. Откуда ты? — спросила хохлушку Хитрово.
— Де була, там вже немае!.. Посля скажу… А лышень, родимица, государыня ты моя, — добре казалы, их мосць[47]. — Бабёнка кивнула на Милославского. — Не довго ждаты… Таган кипить. Скоро и пину зниматы… Идыть же, государыня-царевна, родимица вы моя…
—.Правда? — с загоревшейся, порывистой надеждой, вставая и овладевая собой, спросила царевна. — Добро. И то правда, с чего нашло на меня?.. Не ушло наше дело… Поглядим, што потом Бог пошлёт… И нынче бы, не вмешайся старец-святитель… Нет, Аким-то наш… Аким простота… Кир-патриарх блаженный… Лукавый старик, хохол… Не ждал нихто от нево прыти такой…
— Ужли так и не ждали?.. Не зря же усопший все с им, глаз на глаз, беседу вёл…
— Беседу… У брата одна беседа была вечно: о души своей спасении… Вот и думалось, исповедует старец брата, грехи с нево сымает, каких и не творил он… А вышло…
— Ничево не вышло, верь, Софьюшка. Што мы выведем, то и выйдет… Ну, буде. Не мешкай. Эй ты, Родимица… Зови сенных, ково там. Принарядить царевен надо. И с Богом идите… Не спят, поди, тамо…
— Куды спать… В единый миг в уборе выйдем… Уж поглядишь, боярин… Ступай, не мешай нам…
И Хитрово, проводив Милославского, с помощью Родимицы и других прислужниц, быстро привела в порядок царевен.
Было около полуночи. Палата, переполненная весь вечер всякого звания и чина людьми, стала пустеть. Не только Наталья сидела смертельно измученная, даже крепкий, живой отрок-царь едва мог заставить себя прямо сидеть и принимать поздравления, держа руку на поручне трона, для обычного целования. Глаза у Петра посоловели, личико побледнело. Он подавлял зевоту и мечтал: как сладко будет вытянуться в своей постельке, в которую ещё никогда не укладывался так поздно, разве кроме пасхальных ночей.
Но тогда в воздухе веяло весной. Мальчик высыпался с вечера и уходил на всенощную бодрый, ликующий… В храме стоял и молился, а не вынужден был сидеть, как теперь, целые часы неподвижно, кланяясь каждому поздравителю, отвечая хоть словом на поздравления более знатных и почтённых царевичей, бояр, воевод и князей…
Борис Голицын, Родион Матвеич и Тихон Никитич Стрешневы стараются по возможности облегчить своему питомцу первое всенародное выполнение царских обязанностей, нелёгких даже для взрослого человека, не только для резвого мальчика, каким был Пётр.
Во время коротких перерывов между поздравлениями они отирают лоб, лицо и шею мальчику влажным холстом, дают ему пить, негромко повторяя:
— Уж и как любо глядеть нам на тебя, государь. И где ты выучился так говорить и делать все сладко… Гляди, матушка-государыня души не чует от радости, видя такова сынка-государя… Потерпи ещё малость… Скоро и конец… Не три глазки… Да не усни гляди. А то зазорно будет. Скажут люди: на трон посадили государя, а он и уснул, ровно дитя в колыбели…
— Ну, где уснуть, — отвечает Пётр.
И, правда, глаза его, потускнелые было, сразу загорелись от похвал дядек, от сознания, что мать может гордиться им.
И величаво, как это делал когда-то отец, кивает боярам мальчик-царь. Даёт руку целовать, приветливо говорит:
— Благодарствую на здорованьи. Пусть Господь пошлёт мне сил на царстве, тебе, боярин, служить и прямить нам, государю и всему роду нашему.
Умиляются люди:
—Уж и разумен же отрок-государь. Иному старому так не сказать, как он подберёт. Благодать Божия над отроком.
И сразу встревоженным, подозрительным взглядом окинул Пётр группу, которая показалась в палате.
По три в ряд, вошли все старшие его сестры, сопровождаемые несколькими ближними боярынями, и направились к месту, где сидел мальчик.
— Поздравляю тебя, государь-братец Петрушенька, на государстве твоём самодержавном на многая лета, — первая по старшинству подошла Евдокия и склонилась к руке брата, чтобы поцеловать её по обычаю.
Но Пётр весь вспыхнул и, слегка заикаясь, как это бывало с ним в минуты смущенья, сказал:
— Благодарствуй, сестрица-душенька… Дай поцелуемся.
И, вместо обрядового лобзанья в лоб, с тёплым, братским поцелуем коснулся её бледных, полных губ.
Затем подошла Марфа. За ней настал черёд Софьи. Но царевна незаметно отступила, и выдвинулась на очередь Екатерина. С нею, с Марией и Федосьей поцеловался Пётр, но царевны всё-таки приложились и к руке брата-царя.
Когда уж все пять сестёр отступили от трона и стали отдавать поклоны царице-мачехе, Наталье, — подошла к трону Софья.
Все насторожились, ожидая чего-то.
Занялся дух и у мальчика-царя.
Странное ощущение испытывал он сейчас. В нём проснулась способность не то читать в чужой душе, не то переживать те самые настроения, какие испытывают окружающие мальчика люди.
Дух перехватило у Петра. Холодок побежал по спине, как бывает, когда глядишь вниз с высокой колокольни или предчувствуешь скрытую опасность. Так, должно быть, испытываешь на поле настоящих боев, а не тех потешных сражений, какие устраивает мальчик у себя в Преображенском порой. Врага почуял перед собой Пётр. И это было тем страшнее, тем тяжелее мальчику, что этот непримиримый враг — родная сестра. Все говорит, что не обманывает его догадка. Красные, воспалённые от слез глаза горят холодной, немою ненавистью, и даже не пытается скрыть царевна выражения своих глаз, не опускает их перед внимательным взором прозорливого ребёнка.
Как из камня вытесанное лицо, сжатые губы, напряжённый постав головы, опущенные вниз и плотно прижатые к телу руки со стиснутыми пальцами, — все это напоминает хищного зверя, которому что-то мешает броситься на врага.
И против воли — тёмное, злое враждебное чувство просыпается в душе ребёнка. Он весь насторожился, как бы готовясь отразить вражеское нападение. Но в то же время ему невыразимо жаль сестру. Он словно переживает все унижение, всю муку зависти и боль униженной, гордой души, какая выглядывает из воспалённых, заплаканных глаз царевны. Он даже готов оправдать её ненависть и вражду по отношению к себе самому.
Ребёнок годами, но вдумчивый и чуткий, Пётр давно на собственном опыте понял, как тяжело переносить унижение, заслуженное или незаслуженное — все равно.
А теперь, с возвеличением его рода, рода Нарышкиных, неизбежно падёт и будет унижен род Милославских… Только царь Алексей при жизни и мог кое-как сглаживать роковую рознь. При Федоре страдали Нарышкины, страдал он сам, Пётр. И за себя и, больше всего, за мать, за бабушку. Анну Леонтьевну, за дедушку Кирилла, за другого деда, Артемона Матвеича.
Всех теперь он возвеличит. Постарается, чтобы они забыли печальные дни унижений и гнёта. И, разумеется, всё будет неизбежно куплено падением Милославских, обезличением этих самых сестёр, особенно Софьи, игравшей такую большую роль при Федоре.
Вот почему, сознавая, какой опасный враг стоит перед ним, мальчик в то же время жалеет, любит… да, любит, несмотря ни на что, эту надменную, гордую девушку, стоящую перед ним, царём, не с притворным смиреньем других сестёр, а с немым, но открытым, гордым вызовом.
Эта отвага, этот открытый вызов — по душе Петру, полному такой же гордой и безрассудной отваги. Он ценит её в девушке, в царевне и чувствует, что, даже враждуя, Софья остаётся ему более близкой, родной по душе, чем остальные, неяркие, заглохшие в терему царевны-сестры…
Ждёт юный царь: что скажет сестра? Наверное, что-нибудь особенное, не тот заученный привет, какой он слышал сегодня из сотен и сотен уст… Важное что-нибудь; такое, что проникнет в самую глубину сознания и заставит дать ответ… И боится больше всего мальчик, что не найдёт настоящего ответа, не подберёт слов, таких же режущих и важных, тяжкозвучных, какие сейчас вот произнесёт учёная, мудрая старшая сестра.
И сразу всем станет ясно: не зря добивалась царевна поставления царём Ивана, слабоумного, больного, вместо которого, конечно, правила бы царством она, Софья. Увидят все, что рано было отдавать трон ребёнку, за которого другие должны говорить: да и нет…
Боится всего этого Пётр. До лихорадочной дрожи, до скрытого трепета боится.
И потемнели его большие, блестящие глаза. Как мрамор, побледнело лицо. Губы, нежные, сжались также сильно, как и у царевны. И, всегда не похожие, они оба стали походить лицом друг на друга, эта некрасивая, чересчур тучная, начинающая расплываться двадцатипятилетняя девушка и этот красавец-мальчик, полный детской прелести, несмотря на крупное сложение и строгое сейчас выражение глаз.
Выдержав небольшое молчание, металлическим, громким голосом, медленно и раздельно начала царевна:
— Челом бью царю-государю, великому князю Петру Алексеевичу, московскому и киевскому, володимирскому, новогородскому, царю казанскому, царю астраханскому, царю сибирскому, царю псковскому и великому князю смоленскому, тверскому, югорскому, пермскому, вятскому, болгарскому и иных земель, царю и великому князю Новагорода низовые земли, черниговскому, рязанскому, ростовскому, ярославскому, белозерскому, обдорскому, кондийскому и всех северных стран повелителю и государю иверские земли карталинских и грузинских царей, кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных, и северных отчичю и дедичю и наследнику государю и обладателю, — ево царскому величеству, царю и самодержцу всея Великия и Малыя, и Белыя России на многие лета… В законе тя, благочестивого государя, Бог да утвердит!..
С каждым новым титулом все больше и больше крепнул голос царевны, она и сама будто вырастала, и окружающим казалось, что развёртывается перед ними какой-то огромный, древний свиток, на котором золотом, огнём и кровью начертаны не только эти названия, а все события, все битвы, усилия и жертвы, какими ковали, звено за звеном, государи московские этот бесконечный, громкий свой царский титул, словно тяжёлым плащом одевающий каждого русского повелителя, вступающего на трон его предков, на трон Рюрика, Владимира Мономаха, Дмитрия Донского, Александра Невского, Ивана IV и других…
Так казалось всем, потому что и сама Софья, вызывая из груди каждый титул, перед собою видела всё, что хотела внушить окружающим.
И особенно ярко представилась Петру вся необъятность и тягота царского бремени, возложенного на его детские плечи сегодня вместе с бесконечным, грозным и блестящим титулом…
Окружающим и самому Петру казалось, что его детская, но такая значительная перед этим, фигура делалась все меньше, меньше, стала ничтожной до жалости по сравнению с пышной царственной мантией, с бесконечными звеньями царских титулов, которые так почтительно на первый взгляд, перечислила царевна своим металлически-звучным, выразительным голосом.
И не величаньем впивались слова сестры в душу и сознание ребёнка-царя, а острыми стрелами, жгучей обидой, тем более тяжкой, что глумливая насмешка была слишком глубоко и хорошо прикрыта под золотом внешне почтительных речей… А последний намёк об утверждении в законе был слишком явным упрёком младшему брату, который не вполне законно получил наследье старшего.
Величие, тяжесть венца и власти, которую случайно кинула судьба в его детские руки, так подавила в этот миг Петра, что он всею грудью глубоко, протяжно втянул несколько раз воздух, как будто начал задыхаться в этом обширном, наполовину опустелом покое.
«Ничтожество, посаженное на трон великого царства… Незаконно сидящее на нём!»
Так переводил на обычный язык мальчик-царь притворно-хвалебные слова сестры-царевны.
Не одна обида сдавила грудь Петру. Он угадывал, что Софья не посмела бы так говорить, бросать подобный вызов, не будь у неё за спиной какой-нибудь надёжной опоры, могучей, ратной силы, вот хотя бы вроде тех стрельцов, о мятеже которых донеслись и до мальчика вести как раз сегодня утром.
Пётр сам читал много книг по истории России и западных царств; немало рассказов слышал о том же. И уже понимал, что решают судьбу царств не слова, не желания отдельных людей, как бы высоко они ни стояли над всеми, а столкновение двух или нескольких сил, вооружённых ратей. Кровью и железом куют властелины новые царства, отымают старые друг у друга.
Сомнения нет: сестра решила отнять у него царство. Она думает, что на это хватит у неё ратных людей, сторонников и слуг… А у него, у Петра, неужели их меньше?.. Нет. Быть не может. Иначе не он, а брат Иван сидел бы сейчас на троне. Не царица Наталья, а Софья принимала бы поздравления и низкие-низкие поклоны всех, до старших царевен, сестёр Алексея-царя, включительно.
И эта мысль влила силу и бодрость в грудь мальчику. Он почуял как бы дуновенье какой-то незримой силы над собою.
Все эти ощущения, все мысли быстрее молнии, пробежали одна за другой в душе Петра.
Не успела Софья выпрямить свой бесформенный, чуть ли не уродливый по толщине, грузный стан, склонившийся в поясном поклоне, как поднялся с места Пётр.
В первое мгновенье ему хотелось сказать что-нибудь такое же жгучее, как все, что сейчас сорвалось с уст царевны. Но тут же сознание величия сана, возложенного на него, уверенность в себе, откуда-то прилетевшая, и наполняющая душу жалость к сестре-сопернице, но близкой в то же время, — все это заставило его заговорить спокойно и твёрдо, не с вызовом, как Софья, а примирительно и властно в то же время.
— Сестра-царевна… Благодарствую на челобитьи. Пошли Господь и тебе много власти и радости. Хорошо ведь сказала ты… Про закон, вот… Я не умею так… А все же скажу… Все государи преславные были, кто по закону правил. А я и не хотел царства. Как стал отец-патриарх мне сказывать… Я говорю: «Иван, он старший царевич. Ему и на трон». А патриарх мне на ответ: «Тебя Бог избрал»…
При этих слова вытянулся во весь рост мальчик, словно вырос на глазах у всех. Его речь, не совсем свободная и ровная вначале, сразу окрепла, стала плавной, связной, как будто демон Сократа овладел Петром. Он продолжал:
— Верю в Господа моего и послушал святителя. Помнить надо, сестра, что сказано: «Послушание воле Господней — возвеличит человеков»… Смирение моё и полагаю во славу себе. А без веры, без смирения страстей своих — счастья быть не может, государыня-царевна. Не раз сказывали мне: велика слава и власть — своей волей и душой, злобой и любовию владети. Нет выше той власти. Памятовать о том, сестрица, всегда надо. Тогда Господь и власть, и счастье на земле пошлёт…
Умолкнул Пётр и смотрит: поняла ли Софья его слова? Готова ли смириться, протянуть ему руку и примириться навсегда так же охотно, как он сам готов? Но на Софью слова брата произвели странное действие.
Она несколько мгновений вглядывалась в брата, как будто в первый раз в жизни видела его, слышала его голос.
Слова о смирении, о подвиге, об умении властвовать над собой и над своими страстями, — конечно, это прямо говорится для неё, для Софьи. Не может не знать Пётр, чего желает так пламенно и сильно душа сестры.
И как он сумел оправдать своё возведение на трон. «Воля Божья»… Конечно.
О той же воле Божьей ей говорили сейчас и Хитрово, и дядя… Но совсем в ином смысле…
Да не в этом сила. Откуда у мальчика этот прожигающий душу, властный и, в то же время, сострадательный взгляд? Как смеет он жалеть её, Софью?.. Враждовать с ней он может. А жалеть — не сметь…
И резкое, непоправимое слово готово было сорваться с губ царевны.
Но она не выдержала открытого взгляда больших, тёмных глаз брата, ничего не сказала, опустила голову и, резко повернувшись, вышла из покоев.
На другой день, рано утром, Софья послала к патриарху, просила заглянуть к ней на короткое время для важного разговора.
С неохотой пошёл святитель на половину царевен. Он предвидел, о чём пойдёт речь. Тут уж нельзя будет уклониться от решительного ответа, как он обычно делал в важных случаях, угрожавших его высокому властному положению. Отговориться нездоровьем нельзя. Все равно придётся столкнуться с царевной и со всей семьёй Милославских сегодня же, на похоронах Федора.
И потому со своим постоянным, ясным и кротким выражением лица, подавляя недовольство, двинулся святитель внутренними переходами в терем к царевне. Здесь он застал уже немало духовных владык, царевичей и бояр.
— К тебе прибегаю, святый владыко, — после первых приветствий сразу заговорила о деле Софья. — Вести недобрые стали ко мне доходить. Может, и ты о них извещён. Давно идут толки. А ныне — и вовсе вслух заводят речи… Любо иным по старому обычаю — старшему бы брату на трон сесть… Ивану Алексеевичу. А не будет того — и мятежом грозят людишки безразумные. О царстве, о люде христианском сожалея, прибегаю к вам. Не можно ли отменить, што постановили вечор… Мир тем упрочите.
Говорит, волнуется царевна. Видно, всю ночь не спала. До утра ходила по опочивальне и решила сделать последнюю попытку: миром, без крови кончить последний спор между двумя родами — Нарышкиных и Милославских. Её словно отравило наивное, бессознательное величие души, какое вчера проявил мальчик-брат. Ей как будто больно и стыдно стало перед самой собою, что не попыталась она так же открыто добиваться своего, как открыто предложил ей Пётр дружбу и примирение.
И, пользуясь тем, что с утра дворец снова переполнился важнейшими в царстве людьми, царевна, убедив и Милославского, и Хитрово, созвала бояр, пригласила патриарха и открыто дала понять, что междоусобица неизбежна, если только не будет посажен на трон царевич из рода Милославских. Молча бояре выслушали Софью.
Иоаким обвёл всех взглядом и, убедясь, что никому не по душе желание Софьи, мягко проговорил:
— От имени Господнего и народным хотением, купно со властьми духовными и боярами поставлен государь Пётр Алексеевич на царство. И нема власти, коею низринуты либо низвесты можно государя того. Милостию Божиею, не людским хотеньем царём наречён. Так воно и пребудеть. Напрасно, государыня-царевна, трудишь себе.
— Ин так… Твоя правда, владыко. Соблазна не след заводить… О другом тогда прошу. Не чести рода своего ради… Жалея людей и землю, молю и заклинаю: постановите, пока не поздно… Не было ещё венчания царского. Тебя молю, святейший отец: изволь, наречи и царевича Ивана купно с Петром в государи, да купно воссядут на престол всероссийский и вместе царствуют.
С досадой поднялся с места патриарх, опасаясь, что такое предложение может быть принято боярами, ради избежания грозящей распри. И торопливо заговорил:
— Всуе тревожишь себе и нас, царевна. Сама знаешь: многоначалие — зло для царства. Един царь да буде у нас яко Бог изволил…
Благословил царевну, всех окружающих — и вышел из покоя.
Молча, отдав поклон, разошлись и бояре, кроме Милославских с друзьями.
Совсем потемнело лицо у Софьи.
— Не примают мира. Так стану воевать! — кусая губы, объявила громко царевна.
И в тот же день показала, что не отступит ни на шаг.
Закончились над телом Федора все обряды, какие полагалось совершить во дворце.
Гроб был поднят на плечи, и его в торжественном шествии понесли в Архангельский собор. За гробом по строго установленному чину мог следовать только наследник престола и вся мужская родня покойного государя.
Но в этом выходе, кроме Петра, приняла участие и Наталья, так как царь был ещё слишком молод. И мать его являлась, естественным образом, временной соправительницей царства.
В небольших, обтянутых чёрным сукном санях несли Наталью стольники её. В других санях сидела, окутанная траурной фатой, юная вдова, царица Марфа. Старуха Нарышкина шла сзади с некоторыми важнейшими боярынями, с жёнами царевичей и князей.
На Красном крыльце шествие на короткое время остановилось.
Стольники передали с рук на руки свою царственную ношу молодым дворянам, которые должны были донести сани до самого собора.
Вдруг говор прошёл по всем рядам похоронного шествия и, как зыбь на воде, докатилось смущение до обеих цариц.
Наталья оглянулась и глазам не поверила.
Царевна Софья в траурном наряде, в сопровождении трех-четырех женщин, показалась в дверях, выходящих на дворцовое крыльцо, вошла в ряды провожающих и, пользуясь тем, что все ей давали дорогу, быстро приближалась к голове шествия; минуя обеих цариц, все духовенство, она шла прямо туда, где на плечах бояр колыхался гроб с останками Федора.
Вся кровь кинулась в лицо Наталье.
Не одно негодование на дерзкую выходку взволновало царицу. Ей стало до боли стыдно за Софью. Поступок царевны не имел себе примера. Это было такой же позорной выходкой, как если бы она, Наталья, полуодетая, явилась в мужское общество, да ещё состоящее из чужих людей.
Послать кого-нибудь, остановить царевну. Но посланный от Натальи, конечно, не будет иметь успеха. Софья пойдёт наперекор, устроит что-нибудь, более нехорошее.
Знаком подозвала Наталья свою мать, когда шествие остановилось на одном из поворотов.
— Матушка… иди скорее… Бей от меня челом царице Марфе. Отрядила бы к Софьюшке ково. Ну, статочное ли дело. Видно, себя не помнит девушка. Вишь, што надумала. Стыд-то какой… Сором и стыд головушке… На нас укор и позор. Явно, на очах всех бояр, на очах всего народа — плюёт в лицо нам царевна. Вперёд царицы-матери, вперёд вдовы-царицы затесалась. Никто-де так не любит усопшего, как сестрица-девица… Да пешая, гляди… Царевна московская… Плечо в плечо с чёрным людом идёт… Не бывало… не слыхано… Ступай, скорее, матушка… Пусть в разум придёт, коли не вовсе отнял его Господь… Коли стыда хоть малость есть у девицы…
Все пересказала царице Марфе старуха, что говорила ей дочь.
Марфа сейчас же поручила боярыне Прозоровской подойти к царевне, уговорить её вернуться в терем.
Степенно приблизилась боярыня к царевне, пошла с ней рядом, и, наклоняясь к Софье, ласково, мягко передала все доводы, какие приводила Наталья, закончив просьбой скорее вернуться в терем.
Но Софья тихо, в ногу со всеми, шла вперёд, словно и не слыхала речей Прозоровской. Только время от времени сдержанные рыданья, глухие стоны вырывались у неё из-под фаты…
И чем ближе к собору подвигалось шествие, тем громче, резче и жалобнее звучали эти вопли… Очевидно, сначала царевна опасалась, что её силой принудят немедленно удалиться в терем. Но чем дальше от дворца, чем ближе к собору, где все черно вокруг от толпы московского люду, — тем сильнее крепла уверенность царевны, что не будет затеяно резкого столкновения на глазах народа.
Прозоровская только покачала головой и поспешно вернулась к саням царицы Марфы.
Вся дрожа от негодования, стыда и гнева, вышла Наталья своих саней на паперть, где её поджидали оба брата — Пётр и Иван.
— Видел, Петруша, что Софьюшка-то делает? — задыхаясь, едва могла прошептать царица сыну.
— Уж видел… Так зазорно, и глаза бы не глядели. Ровно не в себе сестрица. Как мыслишь, матушка?..
— Ну, тово и разбирать не стану… Идём, простись скорее с усопшим государем-братом… Да во дворец вернёмся… Не вместно нам быть с тобой и во храме, коли озорничает старшая сестра… На нас покоры пойдут… Идём же скорее…
— Твоя воля, матушка… Как люди сказывали, до конца мне, царю, стоять тут пристало, пока усопшего погребут… А не приказываешь, родная, так я тебя послушаю…
И вслед за матерью мальчик подошёл к останкам брата, уже возложенным на возвышении, посреди храма.
Слезы брызнули из глаз Петра, когда он с благоговением прикоснулся к оледенелым рукам и челу мертвеца своими горячими губами.
Быстро отерев слезы, творя частое крёстное знамение, сошёл с возвышения Пётр и, следуя за матерью, боковыми вратами покинул храм.
Этот поспешный уход, нарушающий старый, веками установленный уклад, весь обиход церковной и дворцовой жизни, поразил окружающих не меньше, чем присутствие царевны-девушки при гробе брата-царя.
И даже Иоаким как-то нервно, быстрее обыкновенного докончил служение, как будто и он был выведен из равновесия тем, что произошло на его усталых от жизни глазах. Ещё больше поразила всех царевна, когда гроб был опущен под своды склепа и шествие в том же порядке двинулось обратно во дворец на поминальную трапезу.
Искуснее любой наёмной плакальщицы, «вопленницы» проявляла своё безутешное горе царевна. Волосы выбивались прядями из-под головного убора… Она ломала руки, хваталась за голову, горестно раскачивалась на ходу и громко, крикливо, с рыданьями и воплями причитала нараспев:
— Государь ты наш, батюшка… Федор свет Алексеевич… И на ково ты нас, сирот, сестёр своих пооставил? Извели покойного брата-государя лихие, злые люди… Осталися мы теперя круглыми сиротами… Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни родни какой верной да приязненной… Нету никакова заступника… Брата нашево Ивана на царство не выбрали… Из чужова роду-племени, не от матушки нашей царь-государь… Помилосердуйте над нами, сиротами, люди добрые, весь народ московский… Коли в чём провинились мы перед вами, и братец Иван, и мы, сестры-царевны, и род наш Милославских, — отпустите нас живых во чужие края к королям христианским. Не дайте извести до корня род весь царский…
На вопли царевны, на её жалобы и мольбы о спасении, громко и всенародно оглашённые почти над гробом брата, невольно стал откликаться весь окружающий народ.
Люди прислушивались, качали головами, шептали друг другу слова, после которых сами пугливо озирались, словно опасались, не подслушивает ли кто из окружающей толпы.
Все знали, что бояре повсюду рассылают своих шпыней[48].
Шнырят те в народе и подводят под батоги и палки ни за что ни про что порой…
Только и могла отвести свою душу Софья, пока шествие не достигло дворцовых ворот. Но здесь почти насильно её взяли посланные Натальей боярыни и проводили в покои царевен.
И в самой Софье наступил перелом. После недавнего исступления и такого резкого вызова решимость ослабела, отчаянная отвага исчерпала все душевные силы. Медленней стала работать мысль, труднее воспринимала ощущения усталая женская душа.
Зато другие союзники затеянного дела работали вовсю, хотя не так напоказ, как Софья.
Через день после похорон, — в воскресенье, 30 апреля, около полудня — большие толпы стрельцов разных знамён, а с ними и солдаты-бутырцы появились в Кремле и прошли к самому Красному крыльцу.
— Царя нам видеть надо, — решительно заявили незваные гости.
В руках у передовых забелели челобитные. Семнадцать человек выступило с просьбами из толпы тех шестисот — семисот стрельцов и солдат, которые постепенно собрались перед золочёной решёткой заветного царского крыльца.
В другое время сразу бы появились иноземные пешие и конные роты, вызваны были бы рейтары или иное войско и смельчаков разогнали бы очень скоро.
Но теперь не та пора. Пожалуй, и вызванные перейдут на сторону буянов, сольют с ними свои ряды, и только больший соблазн и урон будет для авторитета власти.
Вот почему царь не заставил себя долго ждать и вышел к челобитчикам в сопровождении начальников Стрелецкого приказа, обоих Долгоруких, Ивана Языкова и приказного дьяка.
Царица Наталья и дядьки отрока были тут же, как бы желая оградить его от всякой возможной опасности.Но личная опасность пока не угрожала Петру.
Ударили в землю челом стрельцы, едва увидали ребёнка-царя, которому с полной охотой присягнули на верность всего два дня тому назад.
— Здорово, верные стрельцы мои. Бог в помочь, ребята. С чем пришли, говорите. Слышно, челобитные у вас… И вы с ими, бутырские… Как будто и не одново полёту птицы, а летаете стаей… Ну, што тамо у вас… Я слушаю.
Сказал Пётр и ждёт стоит: что дальше будет?
Сверху, с площадки, не очень-то ясно долетает до стрельцов хотя и звонкий, но не особенно сильный голос отрока-государя.
Однако все поняли вопрос и, как один человек, заголосили:
— Не казни, дай слово молвить… Заступись, царь-государь, солнышко ты наше… Светик ясный… Ишь, какой ласковый… Не серчает…
— Тише вы… Не галдите все… И не слыхать, чай, царю, — окрикнул своих один выборный из стрельцов постарше и посановитей, держащий в руке челобитную.
И, подойдя совсем близко к крыльцу, поднял бумагу над головой, громко объявя:
— Челобитную приносим… Вели принять, отец ты наш… Солнышко красное…
Воину-старику невольно при виде мальчика-государя вместо избитых обычаем величаний шли на язык более тёплые и простые слова почти отеческой ласки.
Эту ласку, это невольное расположение сейчас же почуял стоящий наверху Пётр.
И сразу исчезло неясное опасение, с которым он появился на крыльце, заражаемый, конечно, тем ощущением страха, какое отразилось на лицах окружающих царя при докладе, что его хотят видеть буйные, очевидно, нетрезвые, озорные стрельцы.
— Давайте мне сюды… Вон боярин возьмёт… Разберу вас… Велю разобрать… По правде вам всё будет сделано… Уж верьте мне!.. — так же просто, тепло заговорил со стрельцами Пётр, как и они обратились к царю.
По знаку мальчика Апраксин сошёл, принял все челобитные у стрельцов и у солдат Бутырского полка, которым командовал полковник Матвей Кравков.
— А теперь с Богом, по домам. Коли охота, дадут вам по чарке. Выпейте за наше царское здоровье, — снова крикнул стрельцам Пётр.
Кивнул головой на их земные поклоны — и вместе с боярами покинул Красное крыльцо.
Долгорукие и Языков заранее знали, что написано в жалобах, знали и то, что сегодня они будут поданы. Но не имели возможности помешать этому. И уж наперёд решили многое выполнить по просьбе стрельцов. Всё-таки они уселись с царём и стали внимательно просматривать поданные листы, которые Пётр вручил им тут же, на крыльце.
— Што за челобитье? Чево просют? Сделать можно ли?.. Как скажете, бояре? — спросил царь, видя, что бояре успели прочитать челобитную.
— Да, што, государь? Старые дрожжи поднять горланы затеяли. Дела не новые, стародавние, позабытые, почитай. Ишь, сметили, подлые смерды, што пора для них хороша. И завели своё… Обиды, вишь, от полковников. Недодачи ищут за много лет. Оно бы не след начальников позорить. Так все и раней велося… Полковники по-старому же дело вели… Да не та пора… Доведётся и покарать для виду полковников, на ково челом били молодцы. С жиру бесятся, стрельцы-собаки!.. Добро. Придёт и на них череда…
— Для виду покарать?.. Да можно ли, бояре? Нет, уж лучче не надо так… Виновен хто, с тово и взыщите, как закон велит. А нет вины на человеке — как и покараешь ево? Можно ли, бояре?
И прямо своими живыми, ясными глазами, как олицетворение совести, смотрит в глаза постарелым дельцам ребёнок-государь.
— Так-то оно так, свет государь, — тепло заговорил старик Долгорукий. — Вина есть, как не быть. Без вины люди бы не пришли на начальников челом бить… Да вина вине рознь. И кара разная за каждую вину… А расправу учинят ратники. Хуже потерпеть доведётся полковничкам-господам… Вот о чём толк…
— Так… Разумею… А все же дай мне одну челобитну, боярин, сам погляжу: што в ей?
И мальчик внимательно стал вчитываться в строки, неровно выведенные плохими чернилами на синеватой бумаге.
— Да неужто ж все правда, што пишут стрельцы? И вы, бояре, знали и не казнили воров-лихоимцев? Тати на большой дороге коли грабят, казнят же их. А тут наших ратников полковники грабили… И кары не было им… Да как же, бояре?.. Да почему? Али неведомо было вам?.. Вон сколько этих воров тут прописано.
Пётр стал пробегать по челобитным имена обвиняемых полковников — все хорошо знакомые имена. Генерал-майор Бутырского полка Матвей Кравков, полковники Грибоедов, Полтев, Иван Колобов, Карандеев, Титов, Григорий Дохтуров, Воробьин, богомольный Матвей Вешняков, Глебов, Борисов, Нелидов, Щенин, Перхуров, Конищев, Танеев и иноземный полковник Конрад Кромэ.
Всех их видел не раз Пётр, говорил со многими. Знает, что эти весёлые, ласковые, бравые люди, к которым окружающие, даже государь и главные бояре, относятся с уважением.
А теперь на этих же людей, имеющих за собой не только мирную, но и боевую заслугу, возводится обвинение в воровстве, в казнокрадстве, в бесчеловечном отношении к подчинённым.
Это ошеломило Петра.
Вызванный для принятия челобитной, он сразу столкнулся с таким печальным явлением, которое иначе и не дошло бы до мальчика-царя, а если б и дошло через приказы, то раньше бояре хорошо сумели бы подготовить Петра, по-своему истолковав челобитье.
И вот в первые же дни своего вступленья на трон, силой роковой случайности, мальчик узнал самую опасную язву, которая разъедала строй всего Московского государства.
Лихоимство, воровство, угнетение слабых сильными.
Смотрит на бояр отрок-повелитель своими ясными глазами, в которых и недоумение, и уже загорается гнев.
— Неладно оно, што тебе в руки, государь, подали эти смутьяны челобитную свою. Вон как смутили душу юную, — мягко заговорил Языков. — Тебе знать бы надо раней, што святых да некорыстных людей куды как мало. А царству слуги нужны надёжные, дело бы своё понимали. Оно и в жилом дому случается: дворецкий — и вор, и пьяница, да дело блюдёт, порядки знает, холопов, челядь домашнюю в руках держит, ровно в ежовой рукавице. Так хозяин и видит плутни дворецкого, бражничанье ево, а ровно не видит. Другова возьмёшь, пить, тянуть не станет — так хуже будет. И порядок весь в дому вверх дном пойдёт. Так оно и по царству… Служат ладно те полковники. Смелые все, дело своё знают. А што там нелады какие у них со стрельцами домашние — нам бы и знать не надо, и вам, государям, в то не мешатца бы… Да вот пришлося… Зашатались стрельцы, ради твоево малолетства, ради двухдневного на трон вступления… А ещё скажу…
Языков огляделся и стал говорить потише.
— Может, и люди такие есть, и очень велемочные[49], которым по душе стрелецкое шатание да бунтарство. Они, может, всю бучу и сбили… Да это погодя разобрать можно. Теперя помыслим, как с челобитной быть?
— Ужли холопей послушать?.. Выдать им головой столько славных начальников? — не выдержав, спросил Долгорукий.
— Ужли не послушать?.. Штоб у них смелости прибыло самосуд учинить, как вон тут писано? — спросил старика Языков.
Наступило молчание.
У Петра от усиленной работы мысли даже слёзы проступили на глазах.
Все что он услышал, было ему понятно. Но в то же время не испорченная привычкой к власти, не затуманенная государственной мудростью мысль не могла мириться с необходимостью закрывать глаза на преступления и пороки людские, отказывая в правосудии тем, кто нуждается в защите.
Если бы ему ещё сказали о всепрощении, о том, что и сами угнетатели-полковники не виновны в своём грехе, что они так росли, так воспитались… Если бы ему дали надежду, что зло можно исправить постепенно, просветив и господ, и рабов, причём последние не допустят даже до того, чтобы их смел кто-нибудь угнетать… Это могло бы успокоить царя-отрока.
Но ни Языков, ни Долгорукие, сами выросшие в растлевающей атмосфере насилия и лжи, не умели найти слов для успокоения смятенной детской, чистой совести.
Помолчав, робко, неуверенно задал мальчик новый вопрос:
— А если правы стрельцы?.. Как же им не жалобиться? И наветов, поди, они бы ничьих не послушали, не стали бы бунтовать, коли самим бы плохо не было… Так я мыслю.
С удивлением поглядел Языков на мальчика.
— Вон оно што, государь… Ну и видать, што мало тебе дела московские, стрелецкие ведомы. Живут они, подлые, как дай Бог всему люду хрещеному на Руси. Сыты, пьяны от казны твоей царской. Земля им дадена и всякое пособление… Торгом богатеют, почитай, все, хто не вовсе пропил душу свою. Лодырничают, службу не несут, почитай, как иные ратники твои царские… Не то в сборных избах — каждый с семьёй своей в просторном дому живёт, с детьми, с родителями… У редкого бывает, што своей челяди нет. Старых да хворых на твой же, государев, кошт примают, по обителям их кормят-поют… Повинностей городовых да посадских не несут, как прочие люди земские; торгом да промыслом займаться могут безданно-беспошлинно. Бывают тяжбы али сделки у них и промеж себя, и с иными людьми — пошлины на том не дают твоей, государевой, суды-расправы дармовые для их. Бывает радость у вас, у государей, — им же милости да жалованье идёт, не в пример прочим. Окромя разбоя и татьбы, ведают они все дела и проступки стрелецкие по своим приказам… А знаешь ли, как другие ратные полки на Руси скаредно живут? Казна куды не богата… На чёрных людях и так тягло тяжёлое лежит. Сами люди чёрные, ровно скоты, грязи мрут… Повидаешь царство своё, тогда узнаешь… Где же им больше дать, собакам, стрельцам этим буйным, зажирелым?.. И жалеть-то их грех. Вот дума моя какая…
Кончил речь Языков. Легче стало всем. И бояре, и сам Пётр как будто нашли оправдание той несправедливости которая творилась издавна и которую им пришлось прощать теперь.
— Да коли так, на што и стрельцы нам, государям? — снова задал вдруг вопрос мальчик, очевидно, глубоко заинтересованный всем, что сказал Языков.
— А ни на што, почитай… Раней — нужда в них была, пока солдацких да иноземных полков не было. А ныне и сами они поиспортились, обленилися. Да и войско иное у нас завелося, вот по примеру зарубежных царств. Посылали стрельцов на войну, и недавно, слышь… Так сам знаешь: посрамили себя бабьи ратники… Не с поляками, не с турками али с казаками астраханскими им воевать, а со свиньями да с курами али со своим братом, землеробом, пока дреколья нет у мужика в руке… И надо бы их разогнать… Да сразу — опасно. Они тоже так легко куска жирного не упустят. Скажут: «Все одно помирать, не в бою, так с голоду». И совсем забунтуют. Хлопот тогда наделают, и-и!.. А их мы помаленьку почнем сокращать… Разошлём по окраинам али куды иначе… На их место добрые войска и рати заведём… Вот и не станет смутьянов этих…
— Так, слышь, боярин… Може, и не след карать полковников тех, на ково они челом бьют? — опять нерешительно задал вопрос Пётр.
— И не след бы, а надо. Вишь, обнаглели стрельцы… Засилье взяли в сей час, ироды. Говорю ж тебе, Пётр Алексеевич, государь ты мой милый, мутят их люди сильные… Поди и деньгой наделяют… И… Ну, да не время об этом… Как ни крути, а не миновать тех начальников им головой выдавать… На их разбойный суд и расправу. Обычай, слышь, таков.
— Ох, не надо, бояре… Коли стрельцы — людишки подлые… и суд станут не по правде творить, и кару дадут не по вине… Не надо давать, слышь, Максимыч. Тебя прошу, князь, Юрья Алексеич. Не придумаю я… Не знаю по государству, как што надо?.. Сам не скажешь ли?.. Жалко мне этих. Особливо — Кравкова да немчина Кромэ… Я их видел, знаю. Какие молодцы!.. Как быть, бояре?
— Да, одно и есть, — отозвался старик Долгорукий, — отца патриарха просить… Как полковников под караул возьмём — послал бы к стрельцам из духовенства людей повиднее. Просили бы те окаянных, пусть не своим судом судят. Здеся, в твоих государских приказах, в разряде Стрелецком суд дадим. Все лучче, ничем на ихнем сходе оголтелом. Тамо — с каланчей станут кидать людей, на куски рвать станут, хто им не по нраву пришёлся. Видали мы расправу стрелецкую…
— Да неужто?.. — всплеснув с ужасом руками, спросил Пётр. — Такое творица… А што же вы, бояре?.. Как не закажете…
— Э-эх, царенька… Дите ты, так и спрашивать с тебя нечего… Поживёшь — узнаешь. Поди сунься к ним. Не однова было, что и полковников они своих с круга палками гнали в три шеи. Одно на них и есть: пищали полевые навести, перебить половину, другая половина повинитца…
— Ну, и так бы ладно, коли иначе нет способу, — сразу меняя выражение лица, сверкнув глазами, совсем как делает порою Софья, сказал Пётр.
— Эко легко это, думаешь. Своих на своих повести. Первое дело — междоусобица. По всей Европе говор пойдёт: не стало страху в войсках царских. Расшаталась сила русская. И набросятся соседи, ровно коршуны, на окраины царства… Да и домашним соблазн великий. Вот-де не сумели бояре с царём и войска своего в.порядке содержать… А смуты и свары по земле и без тово немало. Раскол растёт… С югу — казаки буйные, Астрахань неспокойная… На закат солнца — Польша да Литва спит и видит: у нас што-ништо урвать… На Поморье — немцы подбираются к нашим исконным вотчинам да областям вековечным… Время ли усобицу подымать?..
— Правда ваша, бояре. Я, слышь, пытаю только. Нешто не вижу, что ещё не моя пора входить в дела государские. А знать охота. Челом вам бью за все, что по чести да по совести растолковали мне, бояре. Вижу, служите вы по правде мне и царству. Не позабуду. А ныне делайте, как получше. Отца патриарха я и сам попрошу.
— Уж того не миновать. Да и боярам думным доложить надо, о чём с тобою, государь, толковано было. Без их немочно дела вершить. Таков обычай.
— Толкуйте… Скорее лишь бы. А то и впрямь мятеж пойдёт по царству. С Богом, идите к делам своим, бояре…
И отрок поспешил к матери, чтобы ей рассказать про первый тяжкий урок государственной мудрости, полученный сегодня.
Глава II. СТРЕЛЕЦКАЯ РАСПРАВА
Все помянутые в челобитных полковники и Кравков немедленно были взяты под караул. Обвинённые полковники поспешили и, кто сколько мог, внесли деньги, на раздачу стрельцам по челобитной. Но уже третьего мая явилась к царю вторая толпа стрельцов с требованием передать виновных в их распоряжение.
— Приказная правда нам ведома. Кто богат, тот и прав, — кричали, обнаглев, стрельцы. — Откупиться думают, кровопийцы! Ты больно юн государь. Твои бояре и тебя морочат, и нас хотят навек закабалить.
С трудом удалось патриарху успокоить мятежных. Митрополиты, архиереи, священники и монахи, даже придворный пиит и любимец Сильвестр Медведев в том числе, в Кремле и в слободах увещевали стрельцов, заклинали, порою со слезами, об одном:
— Сделано по-вашему, дети Христовы. Слыхали указ государя милостивый, по коему головой выданы вам все ваши обидчики. Одно молим, не имайте тех полковников, не берите в ваши приказы стрелецкие. Негоже так. Перед всей землёй непристойно так делать: словно суда нет царского на злодеев. Челом добейте государю, детки, он бы их судить приказал по закону. Верьте Богу, чада: не будет потачки злодеям вашим. И сами при том станьте, видеть будете, какая кара постигнет лихоимцев. Сам кир-патриарх, святейший Иоаким послал нас. Ужли для нево не сделаете, для богомольца, заступника нашего перед престолом Божиим?
Буйные, но набожные стрельцы, особенно те, кто постарше, согласились на увещания духовенства.
Это было так ново для воинов-слобожан. К ним, к ихним плохоньким съезжим избам, к «приказам» приезжали и приходили властители духовные, князья церкви, и священники и проповедники, просили, уговаривали, не угрожая ничем, а призывая к милосердию, поминая о правде Божьей, о благе государства, о таких вещах, которые никогда здесь не поминались.
— Волим так, как желает святейший отец патриарх, — отвечали повсюду стрельцы…
И арестованные полковники, после разбора их дела, были приведены и поставлены перед Стрелецким приказом, на Ивановской площади.
Тяжёлая получилась картина.
Выборные от всех шестнадцати полков и от бутырцев, не совсем трезвые, но сосредоточенные, суровые, стояли у самого крыльца Стрелецкого приказа, как стоят на похоронах. И любопытствующие, рядовые стрельцы, плотными рядами теснились за этими выборными. Дальше кучками и небольшими группами толпился люд московский…
И чем дальше от места наказаний, от Приказного крыльца, тем больше толпился народ, окружив, по обыкновению, все выступы зданий, взбираясь на колокольни и звонницы соседних церквей.
Кипучая площадная жизнь шла своим чередом. Площадные приказные, стряпчие и писцы строчили простому, тёмному люду кабалы и челобитные, продажные и торговые записи. Разносчики всякого товара и напитков, стригуны-цирюльники, забегающие сюда со Вшивого рынка, барышники продавцы из ларьков — все они уделяли порой внимание печальному событию, которое сейчас происходило у Стрелецкого приказа. Но, привыкнув к ежедневным казням, совершаемым здесь же, скоро опять принимались за свои дела. У самой лестницы Стрелецкого приказа, под охраной стрельцов, стояли в грязных, изодранных местами, но дорогих нарядных кафтанах полковники, выданные стрельцам головой, то есть на полную волю челобитчикам, как было принято тогда на Руси.
Все шестнадцать обвинённых стояли, разбившись на три-четыре кучки. У самых ступеней, опустясь на выступ лестницы, сидел раздавленный горем и стыдом седой, грузный генерал-майор Бутырского полка Матвей Кравков. Он опустил голову на руки, словно закрывая лицо от людей, и только большие, ещё не совсем поседелые усы свисали длинными концами наружу из-под рук боевого начальника, отданного теперь во власть его собственным солдатам. Плакать он не мог, не умел. Глаза, воспалённые и сухие, жмурились даже под прикрытием рук. Как будто свет майского весёлого дня, пробиваясь сквозь пальцы, резал их нестерпимо. Порою только широкая, мощная грудь старого бойца судорожно вздымалась высокой волной и сразу опадала. Он напоминал огромную, обомшелую от старости рыбу, выброшенную на сушу и задыхающуюся в чуждой среде.
Рядом с ним сидел всегда спокойный, невозмутимый Кромэ. Высокий, костлявый, но тоже крепкий человек, он и квадратной головой, и таким же угловато-прямолинейным телом производил впечатление вытесанной из дерева фигуры.
Рыжеватые усы, не особенно длинные, но жёсткие, всегда торчали у него прямо, задорно. Так и сейчас они топорщились, придавая ему сходство с разозлённым котом.
Он тоже старался не видеть всего, что делается кругом, пытался своё лицо укрыть за мощным плечом Кравкова. И только сжимал и разжимал кулаки, выдавая этими движениями всю затаённую, сдержанную работу сильной, неукротимой души.
Со стороны жутко становилось при мысли: что может произойти с тем, кто сейчас попался бы в тиски этих бессознательно сжимающихся и разжимающихся пальцев.
Краснощёкий, вечно принаряженный и весёлый Перхуров, красавец и общий баловень, и Григорий Титов, напоминающий своими гладко причёсанными волосами и мужицким лицом раскольничьего попа, а не стрелецкого полковника, — эти оба тоже почти обернулись лицом к стене, у которой стояли. Только боязнь насмешки со стороны толпы удерживала Перхурова от слез, даже больше: от бурных воплей и рыданий. Он не сделал ничего, что не было обычным в среде равных ему начальников. Он знал, что и в других полках, во всём войске московском, даже у строгих иноземных генералов, принято пользоваться услугами солдат, принято не очень церемониться с казной.
Высшее начальство глядело сквозь пальцы на это и само принимало долю, какую считали нужным принести своим генералам полковники.
И вдруг им, шестнадцати случайным несчастливцам, приходится быть искупительной жертвой из-за общего застарелого греха.
Вон недалеко Посольский двор, где не раз, и по службе, и по дружбе с наезжими послами, бывал красивый, бойкий, неглупый Василий Перхуров. Жены и дочери послов нередко заглядывались на весёлого московита.
А теперь они же могут видеть со своего крыльца, как он, полковник, не раз шедший рядом с царём, охраняя особу государя, словно уличённый вор, со связанными ногами, на площади, у приказов ожидает своего приговора и казни батогами наравне с последним смердом, стянувшим каравай с лотка.
Порою он готов был кинуться на окружающих стрельцов, вступить с ними в драку, чтобы тут же пасть под ударами, нанося удары.
Но одна мысль останавливала его:
«Все стерплю… перенесу все. А потом… потом — отомщу…»
Он ясно ещё и не знал: кому будет мстить? Порой казалось, что виною его позора и гибели были ненавистные стрельцы, ради которых верховные бояре привели на площадь и будут казнить батогами своего верного слугу.
Перхуров знал, что царю и правителям он служил верно. Земли не предавал. Но тут же являлась новая мысль.
«Если бы не струсили бояре, будь на троне настоящий царь, а не ребёнок, который может только глядеть из чужих рук?! О, тогда и пикнуть не смели бы собаки-стрельцы… Эти трусы в сущности, наглеющие, когда видят, что их боятся, убегающие без оглядки, чуть перед ними явится настоящий, серьёзный противник и враг».
И месть себялюбивым, глупым, жадным боярам казалась ему и справедливее и слаще, чем месть грубым, тёмным, вечно пьяным мужикам с пищалями и бердышами в руках, какими, в сущности, были стрельцы.
Мечта о мести заслоняет собой в душе Перхурова даже весь ужас того, что вот-вот сейчас разразится над ним здесь, на людной площади, в глазах всего народа…
Почти такие же думы одолевают Титова, и его лицо покрывается пятнами от тех же тяжёлых переживаний. Но утешается Титов иначе:
«Ково не казнили у нас на Руси? Бывало, и царским родичам не то батогов всыпали, а до смерти забивали, душили, топили, глаза выжигали… Не я первый, не я последний… Вон Христос куды святее нас, окаянных… Сын Божий, а боле терпел. И нам велел. Зачтётся это. Бог видит правду, хоша и не скоро скажет. Он заплатит гонителям, еретикам, никоновцам…»
Утешает себя так Титов. А всё-таки совсем в угол уткнулся лицом. Зазорно ему, властному, общему наставнику, чьё слово было законом не для одной сотни и тысячи людей, стоять здесь и ждать торговой унизительной казни…
Шарообразный, ожирелый, совсем омертвелый Грибоедов и сесть не может. Прислонился плечом к лестнице, опустил короткие, заплывшие жиром, волосатые руки на свой необъятный живот и стоит в оцепенении. Ему все равно сейчас, что скажут люди, что ждёт его. Вся жизнь сломлена, опрокинута, смята… Но и эта мысль тупо, сонно проползает в утомлённом мозгу.
И только что-то сосёт под ложечкой. Сейчас время, когда обычно этот обжора садился за трапезу. Голод, мучительный, сверлящий внутренности и вызывающий ломоту в костях, — вот что ощущает сейчас полковник. И отдал бы сотню червонцев за сочный кусок мяса, за хороший, жирный пирог или звено свежей рыбы.
Худенький, востроносый, юркий Глебов стоит, бегая вокруг своими сверлящими глазками. Не то он соображает: нельзя ли убежать? Не то думает: как бы и кого подкупить, чтобы отвертеться от кары, от грозящего неизбежного разорения? А может быть, раскидывает умом: за что приняться после, как повыгоднее пристроить деньги, припрятанные при появлении людей, посланных арестовать его? Чем после казни можно будет вернуть и потеряные богатства, и положение? Думает это Глебов и всё-таки, волей-неволей, кидает изредка взгляды на зловещие приготовления, которые делаются тут же, у Приказного крыльца.
Видит, как приносят связки тонких, гибких прутьев, батогов, как сходятся сторожа, заменяющие палачей… Как пробегают наверх из одних дверей в другие писцы и дьяки приказные…
Глядит на это и полковник Нелидов, угловатый, костлявый, рябой человек лет пятидесяти. Тупой и жестокий от природы, он не был жаден до денег. И только копил излишки для дочери, единственной своей наследницы, желая выдать её получше замуж.
Жесток он был со стрельцами по убеждению, видя в них лентяев и мятежников. А свои вымогательства не считал преступлением или грехом. Так уж заведено было. И нежданно-негаданно его, усердного, верного служаку, безупречного начальника, отдали на позор, клеймят названием вора, лиходея.
Этого никак не могла уяснить себе исполнительная, но тёмная, ограниченная голова Нелидова. И, словно во сне, сидит он тут, глядит на все и ничего не видит или видит сон, который не имеет реального значения, который рассеется при первом движении спящего…
Почти то же думают и остальные преступники, те девять человек, которые стоят, растерянные, поруганные, понуря голову, на этом позорном месте суда и казни…
Сон, правда, скоро рассеялся, но не так, как бы хотели обвинённые.
Движение усилилось наверху, на крыльце приказа. С вышины лестницы послышался сипловатый голос:
— Тута ли все полковники, маеоры? Указ им государев объявить надо.
Сразу встрепенулись обвинённые. У них мелькнула надежда: не милость ли это приходит с неба.
Надежда могла явиться. За последние два дня — полковники знали — все их близкие и приятели, люди влиятельные, богатые, хлопотали, бегали, ездили, сулили богатые взятки; матери и жены плакали и валялись в ногах у дворцовых боярынь, у царевен…
Правда, везде был один ответ:
— Против воли, а придётся покарать всех… Мятежом грозят стрельцы. А смирять их нет сейчас средств и возможности…
Но всё-таки надежда теплилась ещё у всех в груди.
И, кроме Кромэ, за которого некому было хлопотать, все обвинённые живо сомкнулись и стали лицом к лестнице, с высоты которой тот же сиплый голос начал обычную перекличку:
— Семён Грибоедов.
Толстяк с трудом отдал поклон и отступил на шаг от товарищей, влево.
Один за другим были вызваны остальные пятнадцать человек.
Затем дьяк развернул длинный свиток-указ и стал однозвучно читать:
— Великой государь и великой князь Пётр Алексеевич, Великия и Малыя и Белыя России самодержец, велел сказать тебе, Семёну Грибоедову:
«В нынешнем, 7190 (1682) году, апреля в 30-й день били челом великому государю на тебя пятидесятники и десятники и рядовые стрельцы того полкового приказа, у которого ты был. Будучи-де ты того приказа, им, стрельцам, налоги обиды и всякие утеснения чинил. И, приметывался[50] к ним для взятков своих и для работ, бил их жестоким боем. И для своих же взятков, по наговорам пятисотников и приставов, многих из стрельцов бил нещадно, взяв по два и по три батога в руки и по четыре. И на их, стрелецких землях, которые им отведены под дворы, и на вымороченных местах построил загородные огороды и всякие овощные семена для тех огородов своих велел стрельцам покупать за сборные, полковые деньги. А для строения и на работы, на те огороды жён и детей стрелецких же посылал. И в деревни свои прудов копати, плотин и мельниц делати, лес чистить, сено косить и дров сечь. К Москве все то на их, стрелецких подводах возить заставлял. Для тех же своих работ велел покупать им лошадей неволею, бил батогами. Кафтаны цветные с золотыми нашивками, шапки бархатные и сапоги жёлтые неволею же делать им велел. А из государского жалованья вычитал ты у них многие деньги и хлеб и теми сборными, полковыми, и остаточными деньгами и хлебом корыстовался. Да из караулов: стенных и прибылых[51], из недельных, и в слободах, со съезжих караулов, отпускал стрельцов очередных в отпуск по тридцати, и по сороку, и по пятидесяти человек и больше отпускал.
А за то имал ты с человека по четыре и по пяти алтын и по две гривны, и больше. А с недельных — по десять алтын, и по четыре гривны, и по полтине. И теми деньгами корыстовался.
Да ты же, стоя в Кремле на стенных караулах, получал на них, на стрельцов государева жалованья как полагается: деньги и запасы с дворцов. И то имал себе, а им не давал. Велел припасы продавать и теми деньгами корыстовался ты сам.
И на дворовое своё строение лес и всякие запасы подать им велел на сборные деньги, и тем чинил ты им тесноты и разоренье.
И на двор себе, сверх денщиков, гонял на караул многих стрельцов и тех заставлял всякую работу работать и навоз чистить.
А как ты с приказом бывал на государской службе[52] — с тех, кто хотел на Москве оставатца, имал ты великие взятки с боем да многих из тех, кто на Москве оставался на свой двор гонял караулом и для работы. А будучи на государской службе, в походах, в полках и в малороссийских городах, и в дорогах — чинил стрельцам всякие тягости, на их подводах свои запасы возил и добро всякое.
А блаженные памяти брата его, государева, великого государя, царя и великого князя Федора Алексеевича указом тебе с великим подтверждением о том обо всём было сказано: чтобы никаких взяток со стрельцов не имать и на Москве работать на себя не заставлять, в деревни свои и к друзьям и свойственникам ни для каких работ стрельцов не посылать.
А для того тебе на пополненье дана была великого государя жалованная деревня в поместье, чтоб у полкового приказу твоего быти тебе бескорыстно. А ты, забыв такую великого государя милость и жалованье, твоего приказа стрельцам обиды и тесноты и взятки чинил и налоги всякие и бил их напрасно.
И великий государь, царь и великий князь Пётр Алексеевич указал и бояре приговорили[53]: за ту твою вину к стрельцам, за такие налоги и обиды и за многие взятки тебя от приказа отставить и полковничий чин у тебя отнять, и деревни, что даны тебе, к Стрелецкому приказу отписать, а у приказу быть на твоё место иному полковнику.
А за то, что, будучи у того полкового приказа, у съезжей избы от пятидесятников имал сборные их стрелецкие деньги и вычеты делал из денежных сборов, и хлебных и иных, взятков ради, — то все на тебе доправить[54] и отдать челобитчикам против их росписей и челобитья.
А что ты имал в неволю мастеровых, работных, конных и пеших людей и в деревню к себе их, и к свойственникам, и к знакомцам своим для работы посылал, — за то все доправить на тебе деньги и отдать челобитчикам.
Да за те же твои вины, что ты, будучи у приказа, чинил им, стрельцам, всякую тесноту и обиды ради своей корысти, великий государь указал: учинити тебе наказанье, бить тебя батоги».
Тихо стало после прочтения этих слов и на площадке, наверху, и внизу, где стояли стрельцы и осуждённые полковники.
Совсем помертвело лицо Грибоедова.
Исказились лица и у остальных его товарищей. Надежды, значит, нет…
А дьяк уже начал своим сиплым, безучастным голосом читать и второй такой же указ, и третий, и все шестнадцать прочёл.
С небольшими изменениями, они все слово в слово одинаковы, эти указы.
И лучше бы уж сразу, покороче сказали несчастным приговор. А это протяжное, медлительное чтение приносит лишние муки. Ожидание казни гораздо тяжелей, чем самая казнь.
Кончено чтение.
Начинают обнажать до пояса первым Грибоедова… Вот повалили побагровевшего, близкого к удару толстяка на землю.
Пухлая, жирная спина, похожая на пуховую подушку, обтянутую красным глянцевитым шёлком, ещё ярче краснеет под яркими лучами солнца.
Один из катов сел на голову полковнику, другой тяжело опустился на короткие, пухлые ноги. С двух сторон стали два прислужника-палача.
Свист издала гибкая лоза, опускаясь на спину… Багрово-тёмный рубец прорезал глянцевитую поверхность кожи. Вторая полоса легла на перекрест…
Визгливый, бабий вопль вырвался у Грибоедова.
— Помилосердуйте… Все уплачу сполна… Последнее отдам… Помилосердуйте… Застойте за меня, ребятушки… Ой-ой-ой… Не могу… помилосердуйте…
Визг становился все пронзительнее, перешёл в какие-то нечеловеческие, животные вопли.
— Полно, — отсчитав известное количество ударов, сказал было сверху дьяк.
Палачи остановили в воздухе занесённые над несчастным батоги.
— Сыпь!.. Мало собаке этой… Самый окаянный был у нас… Въедчивый, как клещ… Ишь как разнесло ево. Нашей кровью налился, ирод… Сыпь ещё, — властно приказали стрельцы, выборные грибоедовского полка.
Остальные поддержали товарищей:
— Жарь ево! Спина толстая. Вынесет… Катай, продажная твоя душа! Не то самово под батоги подведём…
Палачи не стали и ждать приказаний дьяка-начальника.
Снова засвистала лоза, которая после двух-трех ударов ломалась в руках. Быстро отбрасывали её служители и брали свежую. Ещё минут десять тянулась отвратительная, гнусная казнь.
— Полно, — крикнули наконец стрельцы.
Подняли Грибоедова, уже переставшего и вопить под конец.
Лицо у него было багрово-тёмное, как у задушенного все перекосилось. Он не мог издать ни звука, только раскрывал рот, и что-то хрипело, клокотало в горле, в груди.
Вода стояла наготове. Целым ведром обдали толстяка.
Он затрепыхался и понемногу пришёл в себя.
Вдруг, полуодетый, избитый, с лицом в грязи, в крови, — упал он на колени, повалился ниц перед стрельцами и заголосил:
— Отпустите, братцы. Отцы родные.. Все верну, что на мне ищете Вдвое прибавлю… Отпустите.. В обитель уйду… Душу только отпустите на покаянье… Христом заклинаю… Христом распятым, Пречистой Матерью Ево!..
Потолковали стрельцы между собою, и один объявил:
— Ладно, поглядим. Коли наутро внесёшь все, што ищем с тебя, — иди к чёрту на все четыре стороны.
Пока толстяк стал поспешно одеваться с помощью тех же палачей, другие подошли к угрюмому, мертвенно-бледному Кромэ. Полковник стоял неподвижно, стараясь не видеть отвратительного наказания товарища своего. Палачи схватились за кафтан, чтобы раздеть Кромэ.
Но в тот же миг здоровяк сразу встряхнулся, быстрым ударом сбил с ног одного палача, оттолкнул другого и угрюмо озирался кругом, выглядывая, с какой стороны ждать нападения, чтобы дать такой же отпор.
— Свини погани, — прорычал он. — У нас нет можно бить официр… Я — эдельман. Убить, вешить можна. Бить пальки неможна… Свини… свини… русськи свини… свини…
Так с пеной у рта, яростно выкрикивал без конца Кромэ.
Палачи, сперва оторопелые от неожиданности, разозлённые сопротивлением, разом, с нескольких сторон кинулись на басурмана.
— Ловко, немчин треклятый… Наших бьёт, да ещё лается… Ах, аспид…
Это закричали стрельцы, которым и понравился поступок отважного человека, и в то же время было обидно, что бьют исполнителей их собственной воли.
Несколько дюжих стрельцов кинулись на помощь палачам.
Завязалась почти молчаливая, отчаянная борьба.
Как бульдог, оскалив зубы, рыча порою глухо и отрывисто, Кромэ руками и ногами отбивался от нападающих. Чтобы не могли его обойти, он прислонился спиной к выступу крыльца и раздавал удары, пинки, кусал тех, кто вплотную подходил и обхватывал его… Ловкий, опытный в боксе, полковник долго бы не сдался палачам, но один из них подполз сбоку и потянул его неожиданно за ноги. Сразу во весь большой свой рост рухнул Кромэ, сейчас полуподнялся, но уже на него навалилось несколько дюжих озверелых людей.
Началась новая схватка.
Вся одежда была почти оборвана на Кромэ и висела лохмотьями.
Лицо, шея — исцарапаны, избиты, покрыты струйками крови.
— Ломи… вали, вяжи ево, — хрипло, отрывисто кидали друг другу нападающие.
Рычание вырывалось из груди жертвы. Долго шла отвратительная свалка. И неожиданно все стихло.
Силач перестал сопротивляться, сразу повалился навзничь, потеряв сознание.
— Ишь, прикидывается, как барсук на охоте, — подымаясь и отряхаясь от пыли, решил пожилой стрелец, тоже порядком потерпевший в драке. — Бери ево. Сыпь, сколько надо. Собака немецкая…
И он, пнув ногой полковника, разом перевернул его кверху спиной.
Над бесчувственным человеком засвистали гибкие батоги.
Стрельцы глядели, пьянея от жестокой расправы.
Народ, хотя и роптавший открыто против обнаглевших стрельцов, зачастую обижающих мирных москвичей, сейчас тоже с каким-то болезненным вниманием следил за мерзкой сценой, и все были словно недовольны в душе, когда около вечерни[55] дьяк заявил:
— Буде на сей день. Заутра — сызнова начнём разборку… Кончено сидение приказное. И по домам пора…
Унесли Кромэ, так и не пришедшего в себя до конца истязания…
Грибоедова и всех других увели под караул, который держали те же стрельцы.
Совершенно растерянные шли полковники, не понимая, как ещё могут они ходить.
То, что прошло у них перед глазами, окончательно ошеломило их, спутало все мысли, стёрло все желания и ощущения.
Одна мысль сверлила всем умы:
«Как избегнуть позорного, мучительного наказания?..»
На другой же день при помощи родных, которых допустили к полковникам, они собрали все деньги, какие могли достать. Заложили, продали свои деревни и дома те, кто имел их. И всё это было внесено в уплату начетов, указанных в челобитной.
Но стрельцы не расстались так легко со своими обидчиками.
Кто не мог уплатить всего сразу или кого особенно ненавидели, как Грибоедова, Нелидова, Глебова, Полтева, — таких ставили в батоги по два раза в день.
Не наказывали вовсе, по предложению стрельцов, тех полковников, которые успели заслать в слободы родных и закупить главных вожаков стрелецких.
Пощадили и начальников более человечных, как Перхуров, Кравков, за которыми была к тому же боевая слава.
Но всё-таки дней шесть выбивали из остальных все недоборы, которые в самых широких размерах насчитали стрельцы за полковниками.
В то же время новые грозные вести стали доходить до слуха царя, бояр и Натальи, которая являлась как бы необъявленной правительницей при малолетнем сыне-царе…
Стрельцы, опьянённые первой большой удачей, совершенно потеряли голову. Мало им показалось, что с осуждённых полковников взыскали с каждого почти по две-три тысячи червонных в пользу стрельцов.
Пока на Ивановской площади истязали главных ненавистных полкам начальников, у съезжих изб шла своя расправа.
Там с раската, с вершины каланчей сбрасывали пятисотников, сотников и приставов, которых обвиняли в пособничестве лихоимцам-полковникам. И не давали убирать исковерканные трупы.
Потом пошли и дальше: царю была принесена жалоба на самого боярина Языкова. Его обвиняли в укрывательстве и потачке лихоимцам. И эту челобитную подкрепили самой наглой угрозой.
Прежде сотоварищи Языкова, Долгорукие и Милославские, которым стало очевидно, чью руку решил держать оружничий царский, были довольны этим требованием мятежников. Милославские, без сомнения, сами дали толчок новой просьбе.
Наталья, успевшая уже вызвать из опалы брата Ивана, посадила его на место Языкова.
Тут же было объявлено стрельцам, что царь исполнил их желание: убрал воеводу.
Но когда появился указ о возведении в бояре Ивана Кирилловича Нарышкина, сразу награждённого званием оружничего и поставленного наряду с Долгорукими во главе Стрелецкого приказа, — недовольство вспыхнуло среди всех бояр, не только Милославских.
— Ого, быстро шагает молокосос Ивашка, — злобно хихикая, заговорил Милославский, лёжа у себя и охая от воображаемых болей в ногах. — Надо скорей укоротить побежку молодецкую. Гляди, поспеют всюду рассовать своих Нарышкины, возьмут засилье. Тогда и не выкурить их.
И послал старик Александра Севастьяновича созывать на беседу главнейших руководителей давно налаженного переворота.
Понеслись гонцы и к Софье. Милославские долго шептались с царевной, призвав на совет юркую Родимицу.
Вечером постельница оставила дворец, но вышла не пешком, а выехала в колымаге, объявив, что собирается на денёк-другой в Новодевичий, погостить у знакомой инокини да помолиться.
Несколько простых, небольших, но очень тяжёлых сундучков и укладок было поставлено под сиденье и в ноги Федоре Ивановне.
— И грузны же укладки, — заметил истопник, выносивший их.
— Как не быть тяжёлыми? Серебром набиты, рублевиками, — не то в шутку, не то серьёзно ответила Родимица.
— Ладно. Толкуй по пятницам. Середа ныне… Помрёшь — эстольких рублевиков не зацепишь. И в казне царской не набрать их эстолько.
— Вестимо, не набрать, родимец ты мой, шучу я. Полотна везу. Чай, знаешь — полотна куды серебра тяжеле, коли они добротные. А мне царевна приказывала — матушке игуменье дар отвезти при случае… Вот и тяжело…
С каким-то ликующим смехом уселась в колымагу женщина и уехала.
Но не попала в Новодевичий Родимица, а очутилась у Озерова, где и оставила свою кладь. А сама пошла по избам, к стрельцам и стрельчихам, с которыми давно вела тайные переговоры.
Озеров до полуночи сидел у Милославского. Там ему и всем другим главарям стрелецких мятежников роздали клочки бумаги: списки тридцати человек, обречённых на смерть, если только удастся поднять полки и повести их уже не против своих обидчиков-полковников, а прямо в Кремль, на пагубу рода Нарышкиных, для возвеличения имени Милославских. Во главе списка стояло имя Артемона Сергеевича Матвеева.
— Дело нелёгкое, — в один голос толковали вожаки из стрельцов. — Ишь, по душе пришёлся нашим царь юный, Петра Лексеич. Ровно обвёл всех. Петру, хошь ты режь их, нихто худа не сделает.
— Да и не рушьте ево, — досадливо поводя плечом, откликнулся поспешно Милославский. — Бог с им. Ивана царём просите. А там — все образуется само помаленьку. Вторым царём Ивана бы…
— Так можно… Хоша и много есть такова дубья, што не уломаешь. «Есть-де царь один, — толкуют. — Патриархом постановлен. Народом назван… Чево ещё царей?» Слышь, Стремянной весь полк, с им весь полтевский, да ещё Жукова стрельцы. А про сухаревских и толковать неча. Все за Петра. Вот как тут быть, не скажешь ли?
— Как быть? А так и быть, што толковать надо: родичи царя ихнего желанного, малеванного сбираютца-де за все помстить стрельцам, чево те добились ныне. «Отольютца-де волку овечьи слёзки». Так толкуют Нарышкины. Окружить все слободы хотят. Ково — перерезать, ково — сослать. Не один Языков так царю порадил. И Нарышкины. Особливо Ивашка, боярин новоставленный… Вот и оповести своих. Што на это скажут? Да ещё — новый-де царь, Иван — вперёд лет за десять оклады дать стрельцам велит. Вот.
— Это… да… это — не шутка… Это… гляди, и вкрутую каша заваритца, коли уверуют.
— Уж это ваша забота, штоб мужики веру дали… Орудуйте. А вот вам и помогатые.
И тяжёлые кошели из рук скаредного боярина перешли в руки стрелецких полуголов.
Гримаса, как от мучительной зубной боли, исказила лицо дающего. И улыбкой радости озарились лица принявших дар.
— Твои слуги, боярин. Да коли Бог даст доброму делу быть — не забудь в те поры своих верных рабов. Места-то полковничьи — за нами штобы…
— Не то полковниками — и выше станете… Дал бы Бог час да удачу. Только, слышь: торопить дела нечево. Покуль не приедет Артемошка — и ни-ни. Ево нам надо первей всего. Он жить будет — и нам несдобровать.
Разошлись по своим слободам, разъехались смутьяны: Озеров с товарищами. И всю ночь вместе с Родимицей сеяли слухи, толки да деньги и в избах, и на ночных сходках стрелецких.
Трудно было разобрать, что больше поджигает толпу, что даёт отвагу, будит злобу: вести ли тревожные, деньги ли, раздаваемые щедрой рукой, или чарки и полные стаканы пенного вина, зачерпнутого из бочек, выставленных для бесплатного, широкого угощения стрельцов и стрельчих.
— Изведём Нарышкиных… Всех ворогов царевича Ивана изведём! — не стесняясь, орали здесь и там пьяные, хриплые голоса. — Ведите нас… Бери, хватай оружие… Бей сбор…
— Тише вы, оголтелые, — стали уже сдерживать коноводы слишком ретивых пособников своих. — Али не слыхали: приезду Матвеева надоть ждать. Хоша всех изведёшь лиходеев, а он уцелеет, — нам добра не видать. Один всех стоит… Без ево — што без головы змия вся порода нарышкинская… Вот и пождем. Голову прочь — и змий подохнет… Помните это, братцы…
— Ладно. Повременить можно. Над нами не каплет. Путай злодеи готовятца…
Открыто повели речи об этом в кружалах слободских, в торговых банях, везде, где только бывало собрание стрельцов. Конечно, Нарышкины скоро узнали про все. Узнал и сам Матвеев.
На другой же день смерти Федора, по воцарении Петра, поскакал к опальному в город Лух стольник Натальи, Семён Ерофеич Алмазов с поклоном от всей царской семьи и просьбой поскорей ехать в Москву.
Только один Матвеев мог объединить те силы, на которые опирались и новый царь, и вся родня его.
— Не даст себя Артемон Сергеич стрельцам в обиду, — решили братья Нарышкины, выслушав опасения Натальи по поводу заговора стрельцов, покушавшихся на его жизнь. — Он ли стрельцов боитца? Он ли их не знает? Вся крамола сгинет, только боярин ногою ступит в Москву.
Поверила им Наталья.
Алмазов не был хорошо осведомлён обо всём, что делается в стрелецких слободах.
Но не добрался ещё Матвеев со своим обширным поездом до Москвы, как на одной из ночёвок застал боярин семерых стрельцов, выехавших по торговым делам из Москвы, как они всем объявляли.
Матвеев, постарелый, больной, измученный годами тяжёлого изгнания, лишениями и нуждой, которую приходилось выносить, рано ушёл на покой в горенку, отведённую ему хозяином постоялой избы.
Улуча минутку, один из семерых ратников-купцов осторожно вызвал за хату Алмазова и тут, в тени, озираясь, не следит ли кто за ними, стал шептать:
— Слышь, боярин… Не погневайся, имени-отечества твоего не ведаю, чину не знаю. Дело великое сказать надо. Самому бы Артемону Сергеичу… Да как к ему подойдёшь, штоб люди не видали… Гляди, и среди челяди боярской шпыни есть, от ваших недругов поставленные. Мне своя голова тоже дорога. А дело важное…
— Што за тайность? Сказывай. Я боярину передам. Одно мне дивно: какая тебе забота о боярине? Што он тебе?
— Што?.. Не признал он меня… А я с им не раз и в походы хаживал, и в бой выступал. Доселе люб он мне… И Бога я боюся… Неохота душу лукавому в кабалу отдать, как и тем шестерым товарищам. А дело учиняется адово.
— Говори ж, коли так, да живее. Сметят нас…
— Сметят, сметят… Я живо… На Москве вороги ваши да Нарышкиных мятеж подымают, стрельцов мутят. Списки пошли по рукам. Гляди: один и у меня есть… Вот… ково извести надо, как резня пойдёт. Их сперва было имён тридцать прислано. А стрельцы на сходах ещё с полсотни прибавили. И бояриново имя в первое место постановлено… Чтобы в том злом деле не быть — мы все семеро прочь от Москвы едем подале.
Сразу изменился Алмазов.
Взял список, свернул и поспешно спрятал за обшлаг рукава.
— Ну, спаси тебя Бог, коли ты от сердца… Иди в избу. Я боярину скажу. Може, тебя покличет. А уж награды жди изрядной… Ступай.
И Алмазов кинулся к Матвееву.
Грустно улыбнулся старик, пробежав список, и сейчас же перевёл взгляд на сына, бледного, но красивого юношу семнадцати лет, спавшего тут же на другой скамье крепким сном молодости.
— Што же, боярин? Ужли-таки назад не повернёшь? — спросил негромко Алмазов, не замечая, чтобы весть о гибели встревожила старика.
— Видать, што молод ты ещё, Ерофеич, и меня не знаешь. Помирать-то мне уж давно пора. Неохота было там гнить, в тайге, в бору медвежьем, ни себе, ни людям добра не сделавши… А про бунт той я давно сведал. И все затеи Милославских не зная — знал. Старые мы приятели… Привёл бы Бог до Москвы доехать. Уж там — Божья воля. Либо я тот бунт, все составы их злодейские порушу, либо там и голову сложу за Петрушеньку, за государя мово… Оно и лучче, коли старые очи мои скорее сырая земля покроет. Не увижу горя семьи царской, не увижу земли родной поругание и печаль…
Наутро дальше тронулся Матвеев, торопя всех больше прежнего.
Только у Троицы Сергия сделал привал на короткое время, чтобы поклониться мощам святителя.
Здесь явился к нему второй посол от царя, думный дворянин Юрий Петрович Лопухин, и прочёл указ, которым опальному возвращались все его чины, боярство, все отобранные именья и пожитки.
Ещё ближе к Москве, в селе Братовщине бил челом старцу от имени Натальи брат её, Афанасий, юноша лет девятнадцати, необыкновенно гордый и довольный тем, что был так рано возведён царём-племянником в чин комнатного стольника.
Бедняк не чуял, что это возвышение было для него смертным приговором.
Одиннадцатого мая довольно торжественно въехал Матвеев в столицу. Встреченный Нарышкиными, проехал в свой дом, заранее наскоро устроенный и приведённый по возможности в жилой вид.
Невольно слезы выступили на глазах у отца и сына, когда оба они, безмолвные, печальные, обошли давно знакомые, теперь опустелые, запущенные покои, оглядели стены, на которых грубые людские руки и беспощадная рука времени оставили следы разрушения.
Здесь, по этим комнатам, так уютно обставленным, с тикающими и звонко бьющими порою курантами по углам, ходила когда-то кроткая, весёлая женщина, которую оба так горячо и нежно любили: жена Артемона, мать Андрея…
Она давно лежит в родовой усыпальнице.
И почему-то обоим сразу пришло на ум: скоро ли им придётся лечь рядом с нею, незабытой, дорогой и доныне?
Каждый прочёл мысли другого — и оба торопливо заговорили о чём-то постороннем, чтобы отвлечься от печальных предчувствий и ожиданий.
На другое утро пришлось принять много незваных гостей, и бояр, и стрелецких пятисотенных и пятидесятников, навестивших с хлебом-солью Матвеева, как своего бывшего начальника и покровителя. Потом отец и сын поехали во дворец.
Пётр с почётом, как деда, как старшего в роду, принял Матвеева.
После парадного приёма семья царская удалилась на половину Натальи — и там не было конца расспросам, рассказам, ласкам и слезам.
Когда же Андрей помянул про стрелецких полуголов и пятисотенных, утром навестивших отца, и назвал имена Озерова, Цыклера, Гладкого, Чермного, помянул братьев Толстых, Василия Голицына и Волынского с Троекуровым да Ивана Хованского, — Нарышкины переглянулись с негодованием.
— Вот уж воистину: «Целованием Иудиным предаст мя…» Первыми заявились Шарпенки-браты оба… И Тараруй-Хованский… А Подорванный ужли не был?
— Иван Михалыч Милославский? Не порадовал. Присыла от себя не удостоил. Был родич, Александра. «Дядя, мол, без ног лежит… Котору неделю… А челом-де бьёт заглазно…» Я и мыслю: не мне ли ноги подшибить сбирается?..
— Давно сбирается, — живо отозвался порывистый Иван Кириллыч. — Эх, жаль, ево не пришлось мне за бороду потаскать, как трепал я анамчясь[56] тово же племянника, Сашку-плюгавца. Недаром не любят они меня.
— Буде спесивиться, — остановила брата Наталья. — Слышь, родимый, горя много. Для тово и торопили мы тебя-скорей бы к нам поспешал… Сократить бы надо лукавого боярина и со присными ево.
— Сократим, сократим, хоть и не сразу…
И Матвеев стал совещаться со всей семьёй, что делать? Какие меры принять для подавления бунта, готового вспыхнуть каждую минуту?
— За царя бояться нечего, — в один голос объявил семейный совет — Царь наш миленькой, Петруша-светик, даже тем извергам по душе пришёлся. Одно только хорошее и слышно про Петрушу. Вот роду нашему прочему — конец, коли им уверовать — всех изведут…
— Вот оно как дело, Аремон Матвеич. Чай, и к тебе уж попали списки окаянные. Нас — под топоры всех. Матушку с батюшкой по кельям, под клобук да под кукуль[57]… Сестру Наталью — туды же… Ванюшку-братца — царём, не одним, так с Петрушей разом. А Софьюшку — шкодливую да трусливую кошку злобную, — ту на место охраны обоим государям дать. Таковы их помыслы. Денег кучу роздали. Посулов — и больше сулят… Вина — море разливанное… А толки такие лихие идут и про нас, и про все боярство, что не веря — душа не стерпит слушать их. Стрельцы как ошалелые стали… И бутырские с ими… Вот и порадь[58] теперя: как быть? — задал вопрос Иван Нарышкин.
— Как есть — так пусть и будет. Не трогать их луче пока. Орут они там, а сюды не сразу кинутся… Мы же им и от себя вести дадим. Даров пока пошлём, милостей, льгот ли каких посулим. А тем часом — иноземное войско да пищали изготовим, по городам весть дадим, спешили б дворяне и ратные люди всякие сюда, от обнаглелых дармоедов, от стрельцов стать на защиту всему вашему роду-племени царскому. Да изготовитца поскорее, к Троице уехать хоша бы. Там поспокойне, ничем здеся, для всех для вас…
Общее одобрение вызвали слова Матвеева. Камень свалился с души. Что-то светлое зареяло в том безысходном мраке, которым были словно окутаны уж несколько дней Нарышкины в своём высоком дворце.
Пётр, молча, внимательно слушавший все разговоры из уголка, куда он засел вместе с девятилетней черноглазой, хорошенькой сестрой Натальей, держа за руку малютку, быстро подошёл к старику.
— Слышь, дедушка. Я и раней не боялся… А как тебя послушал — и совсем покойно стало мне… Уж нет, с тобой ничево не поделают мятежники. Велю я наутро плахи готовить… И колодки для них мастерить… Узнают теперя, крамольники…
И снова что-то придающее мальчику сходство с сестрою Софьей проглянуло на миловидном личике отрока.
Улыбнулся Матвеев и другие за ним.
— Не томашись. Всево на них хватит… Дал бы Бог изымать медведя, а шкуру содрать сумеем. А то, слышь, гишпанцы[59] и так толкуют: не побивши зверя, не дели шкуры. Помни это, внучек-государь, светик ты мой, Петрушенька…
И нежно, любовно притянул он к себе на колени отрока, стал гладить по шелковистым тёмным кудрям, целовал полные, румяные щеки, и ясные глаза, и пунцовые губы.
— Совсем вылитая Наташенька… Капля в каплю… И огонёк таков же. Где што, а он уж — вяжи их… И загорелся. Ничево. Обладится. Хороший, истовый будет государь, земли держатель и охрана… Подай Господь, как чается мне…
— Аминь, — общим окликом, словно эхо далёкое, отозвались все на слова деда, такие таинственные, пророчески звучащие в этом тихом покое в этот важный, решительный миг.
Потолковали ещё немного и разошлись.
А когда покой опустел и в соседних горницах стало тихо, раскрылся футляр больших стоячих часов, оттуда быстро выюркнула фигурка уродца, карла царицы Натальи, Хомяка, и ужом выскользнула из комнаты.
Через какой-нибудь час тот же Хомяк вышел из дворца и, пропутавшись, точно заяц на угонках, по разным кривым улочкам и переулкам Москвы, так же незаметно, по-змеиному, прибрался на двор и в хоромы Ивана Милославского, потолковал с ним довольно долго. А потом с Александром в закрытом возке выехал из ворот, прямо к Замоскворечью, в кипень мятежа, в гульливые, бесшабашные стрелецкие слободы.
Злобные, мстительные крики, проклятия и брань слышались всюду на сходах, как только сообщали стрельцам, что Нарышкины послали за помощью по городам, и даже в Черкассы, к гетману Самойловичу[60].
Многие с места готовы были схватить оружие, бежать в Кремль, на расправу с правителями и роднёй Петра.
Пришлось сдержать этот поток, готовый ринуться вперёд раньше времени.
Заговорили некоторые из стрельцов постарше, поблагоразумнее:
— Ну, можно ль всему, што скажут, веру давать? Сколько годов мы жили, никто из царей и бояр не трогал наши слободы. Одни милости видели мы с Верху. А и то подумайте, братцы: какая власть у бояр на нас, коли царь не пожелает. А царя мы видели. Говорил он с нами. Што обещал — так и сделано. Ужли царю юному, кроткому не поверите?.. Без его воли и Нарышкины засилья не возьмут.
— Не возьмут? — вдруг пискливым, птичьим своим голоском снова затараторил карлик, ненавидевший особенно Ивана Нарышкина за постоянные насмешки и обиды. — А вот слушайте, ратнички Божии, народ православный, што надысь[61] учинил антихрист ходячий, Ивашка Нарышкин, ворог ваш главный. Только поспел из опалы воротиться, оболокся во весь убор царский, державу и посох и корону взял. На троне прародительском расселся да и кочевряжитца: «Ни к кому-де так корона не пристала, как мне одному…» И кудри свои неподобные, длинные поглаживает. А тут вошла царица Марфа с царевной-государыней Софьей Алексеевной. И почали они корить нечестивца: «Как-де смеешь бармы царские, ризы помазанника и венец государев на свои грешные плечи возлагать? Да ещё при царевиче старшем, при свет Иване Лексеиче». А Ивашка Нарышкин как вскочит, как заорёт: «Всех вас изведу, а ево — первого…» Как зверь дикий, кинулся, за грудки царевича взял — и давай душить. Известно, пьяный озорник… Ему што! Уж через силу и отняли царевича у разбойника. Вот он каков. Вас ли пожалеет?..
Слушают пискливую речь стрельцы и не знают, верить или нет?
Крестится, клянётся со слезами карлик. Что за нужда ему врать? И с новой силой крики и проклятия Нарышкиным прозвучали в теплом весеннем воздухе.
Только к вечеру вернулся предатель-уродец домой и снова, как мышь, как ящерица, заскользил по тёмным углам дворцовых покоев, ловя толки и речи, приказы и распоряжения дворцовые…
Ураганом понеслись события, начиная с субботы тринадцатого мая.
Сходки в слободах происходили и днём и ночью. Сменялись попеременно боевая тревога, набат колокольный и барабанный треск.
Каждую минуту можно было ждать, что мятежники, рассчитывая на слабую охрану Кремля, двинутся в город. Но они не приходили. И во дворце уж привыкли к слухам и толкам о том, что «стрельцы выступают из своих гнёзд с оружием и пушками».
Сначала у всех ворот кремлёвских были поставлены усиленные караулы с приказанием: при первой тревоге запирать тяжёлые ворота, опускать крепкие железные решётки. Несколько раз так и делалось; но тревога оказывалась ложной — и снова скрипели ржавые блоки и цепи, завывали на штырях крепостные стопудовые створы ворот, распахиваясь настежь по-старому.
Особенно насторожились в Кремле в воскресенье, четырнадцатого мая. Обычно в воскресный день являлись уж которой раз незваные, буйные гости в пределах Кремля, у решёток и лестниц дворцовых.
Все иноземцы-ратники, какие сейчас нашлись налицо, были стянуты в Кремль. У Красного крыльца стояли полевые орудия. Фитили дымились у пушкарей. Но какое-то зловещее затишье сошло в этот день на Кремль.
Ни одного стрельца не показалось ни с какой стороны.
Одних во дворце успокоило это затишье.
Другие толковали:
— Ой, быть худу. Кот так же пригибается, дыханье таит, а потом и прядает на свой кус… Гляди, и они, окаянные, притихли перед наскоком наглым.
Матвеев также склонялся к последнему мнению, но ничего не говорил.
— Мы готовы. Што можно — сделано. А там — воля Божия.
Ночью, как и днём, особенно напряжённой жизнью жила охрана Кремля.
Но и ночь тихо истаяла.
Только к рассвету пришли вести из разных слобод:
— Изловили каких-то гонцов стрельцы. Будто за подмогой послали Нарышкины по городам: стрельцов бы извести вконец… Вот и пытали их до свету…
Думные бояре, съехавшиеся уже во дворец на большой совет, послали проверить слухи.
Вести оказались верные.
По указанию Хомяка стрельцы успели перехватить двух — трех из верных людей, посланных по городам с царскими грамотами.
Это явилось последней каплей, переполнившей сосуд.
Только что разошлись на короткий отдых отряды, сторожившие целые сутки у городских ворот, охраняя дворец и Кремль, как от стрелецких слобод двинулись передовые отряды мятежников, вооружённые одними копьями. Стрельцы толковали:
— Пищали неспособны в тесном бою. И тово убьёшь ково не хочешь. Бердышами драться — тоже места нету в покоях да в переходах узеньких… А копьё лучче всего. Надёжная рогатина. И на медведя годится, не то на боярина…
Мятежники валили потоком, толпа за толпой, со всех концов, со всех посадов, где были раскинуты гнёзда стрелецкие.
Не по своему почину двинулись в путь стрельцы.
В девятом часу утра, в понедельник, пятнадцатого мая, к сборным избам мятежных полков прискакало несколько всадников на взмыленных кровных жеребцах.
Это были Александр Милославский, братья Толстые, Василий Голицын, ещё и другие с ними.
Каждый из вестников гибели направился к заранее намеченной съезжей избе, где стрельцы, согласно уговору, стояли уже под ружьём, в походном строю, с барабанами, знамёнами, с полковыми орудиями наготове.
И везде громко объявляли всадники одну ложь:
— Нарышкины царевича Ивана задушили. На царевен посягают, на старших, из роду Милославских. Спешите, ратные люди, как вы крест целовали, — выручайте род царский, племя царя Алексея… Нарышкин и Петра заточить хочет, сам на трон умыслил воссесть…
Гул набата слился с треском барабанов, призывающих выступить в поход.
Опытные в боевом деле люди, Василий Голицын и Пётр Толстой, сейчас же приметили, что слишком тяжело вооружены стрельцы.
— Стой, ребята. Не с кем, почитай, и дратца во Кремле. Вести есть, што караулы там сняты крепкие. Оставьте пищали, бердыши. Кидайте мушкеты. И копья на них, собак, на Нарышкиных, с Артемошкой-чародеем, и тово хватит… Ни одна душа за их и не заступитца…
Послушали стрельцы. А чтобы совсем удобно было идти в рукопашный бой, обломили об колено длинные древка у своих старых, испытанных копий.
Вот почему с короткими рогатинами прихлынули и первые, и прочие отряды стрельцов к заветному месту, к дворцовым стенам в Кремле, к его крепким мостам и воротам.
Боярин Матвеев, ночевавший во дворце, около десяти часов утра собрался ехать домой. Только что окончился обычный боярский совет, начавший обсуждение дел, как всегда, ещё на рассвете. И остальные бояре домой собрались. К так называемому Спешному дворцовому крыльцу уже подали карету Матвеева и других думных бояр и царевичей.
От этого крыльца отъезжали обычно, кого спешно отсылали за чем-нибудь из царских хором, и сюда же подъезжали все гонцы, чтобы не спешиваться на самой площади Ивановской, как того требовал дворцовый обычай.
Старик Матвеев неторопливо спускался по лестнице, опираясь на руку сына, когда за ним раздался тревожный оклик:
— Пожди маленько, боярин Артемон Сергеич.
Отец и сын остановились и невольно оглянулись назад.
Их звал князь Федор Семеныч Урусов, видимо, чем-то сильно напуганный и угнетённый.
— Што приключилось, боярин? — спросил Матвеев.
— Идут… идут… все полки, до единого… Изо всех слобод выступили. Земляной город миновали. В Белом городу показались… А отряды передовые уж и тут, у ворот кремлёвских… Слышь, боярин… Што буде теперь?..
— Э, как не приелось, князенька, труса праздновать. Который раз уж приходят крамольные… А все их не видать. И ныне, видно, так…
— Ну нет уж… Глянь сам… Видно сверху-то… Сам погляди…
Не говоря ни слова, повернул назад Матвеев и стал взбираться на лестницу быстрее, чем этого можно было ожидать от старика, хотя бы и с помощью юноши-сына.
Пока они втроём дошли до хором Натальи, несколько человек подтвердили справедливость сообщения Урусова.
У Натальи собрались многие из бояр, бывших на совете.
— Ворота припереть надо скорее кремлёвские. Беда, что не солдаты, не иноземные роты ныне на карауле, а стрельцы те же, полку Стремянного. Гляди, предадут нас ради товарищей. Да на все воля Божья. Зовите полуполковника сюды, который с караулом, — приказал Матвеев.
— Да отца бы патриарха просить надо… Все с им покойней, с молитвенником Господа Иисуса Христа нашево… Слышь, государь, Артемон Матвеич, — предложила Наталья.
— Как не позвать, покличем. Оно и для народа — препона. Не посмеют озорничать без оглядки, коли сам патриарх тут будет… Святейшего зовите скорее.
Появился Григорий Горюшкин, полуполковник Стремянного полка, отдал всем поклон, стал у дверей, ждёт приказания.
— Поближе подойди, Григорьюшко, — ласково позвала Наталья. — Вот слушай, што бояре тебе станут сказывать, выручай государей своих. На тебя вся надёжа. А мы тебя век не забудем.
Снова поклонился и подошёл поближе Горюшкин. Смотрят на него все, особенно царь Пётр. Хочется узнать отроку: что думает стрелецкий голова? За кого он станет? Чью сторону будет держать: товарищей с Милославскими или их, царя с Нарышкиными?
Но у Горюшкина лицо какое-то деревянное, непроницаемое. Не видно ни злобы на нём, ни сочувствия к тем, кто просит о защите. Только затаённое любопытство. Словно он любуется на очень редкое, занимательное зрелище и ждёт:какой исход будет из всего, что сейчас происходит пред его глазами?
— Первей всево — ворота загородить, запереть надо. Решётки спустить, рогатки поставить. За воротами, на мостах малость людей оставить, а больше — на стены. И ни единой души ни в город, ни из городу не пропущать. Да ещё…
Горюшкин сделал движение, словно желая заговорить.
— Што, Гришенька? Али сказать што собираешься?
— Доложить думал. Сам вот с докладом шёл, когда позвали меня перед ваши, государей, царские величества. Прибежали от ворот кремлёвских, от караулов стрельцы мои. Толкуют: ко многим-де воротам приступили шайки невеликие стрельцов и бутырцев. Зла пока не чинят никакова. А, гляди, станем ворота закрывать — тут и помешают. Так как нам быть? В бой идти с ими до смерти али как иначе?
В тяжёлом раздумье опустились боярские головы. Теребят выхоленными руками свои седые и тёмные бороды, усы потрогивают.
За всем наблюдает, подмечает всякое движение, ловит каждое слово царь-ребёнок. Ждёт: что скажут бояре?
Потолковал негромко с ними Матвеев и снова обратился к Горюшкину:
— Тяжкое дело — кровь проливать. Особливо ежели первому быть. Не надо крови. Смуты кровью не зальёшь, сильнее разгоритца, гляди. Вас, поди, больше у ворот, чем их, покуда. Скорее и делай дело… Станут мешать — потеснить малость вели. У них тоже рука на своих не подымется, драка — не кровавый бой. И дело своё сделаете, и масла в огонь не плеснёте. Беги скорее, не поздно бы стало.
Вышел Горюшкин, послал ко всем воротам приказ, как ему Матвеев сказал.
Но посылать стрельцов же пришлось. Иные честно исполнили приказание.
А многие тогда только добрались до отрядов у ворот, когда и здесь стояли целые отряды бунтующих, и у самого Красного крыльца уже плескались волны мятежа.
Вся площадь между Успенским и Благовещенским соборами кипела котлом.
Отряды Стремянного полка, поставленные для охраны у входов во дворец, стояли безучастно, как будто ждали минуты, когда можно будет присоединиться к бунтовщикам. А перед ними, лицом к лицу, все нарастая, сплошными рядами теснились стрельцы и солдаты, возбуждённые, иные без кафтанов, в одних рубахах, и, поджидая отсталых товарищей перекликались друг с другом, слушали, что говорили разных местах подстрекатели — попы раскольничьи и посланцы Милославских, шнырявшие везде и всюду.
Крики, угрозы, брань сливались в нестройный, но зловещий шум. На Ивановской площади, где стояли кареты бояр, окружённые челядью и вершниками, особенно громко гикали и кричали стрельцы. Разогнав холопей, они в щепы ломали экипажи, калечили лошадей, ломали им ноги и орали:
— Не убежать боярам от наших рук! Все попались.
Не медля нимало, заняли мятежники караулы у всех кремлёвских ворот, у городских рогаток.
Бояре не показывались, хотя толпа и кричала не раз:
— Бояр к нам сюды… Нарышкиных нам, Матвеева Артемона… Ответ держать должны. Бояр подавайте!
Во дворце ждали патриарха, одно присутствие которого должно было сдержать немного эту буйную, пьяную толпу.
Пока патриарх облачался и собирался выйти из своих покоев, вся царская семья, окружённая кучкой бояр, сбилась в страхе в одном покое, в окна которого так и ударяли неистовые крики стрельцов.
Особенно часто долетало два имени:
— Ивашку долгогривого с братьями сюды подавайте… Артемошку чернокнижника… К нам их сюды.
При этих криках Иван Нарышкин безотчётно подбирал, словно спрятать хотел свои волнистые, длинные волосы, которыми гордился как лучшим украшением.
Он, как и братья его, по примеру западных принцев, в отличие от бояр, довольно коротко носивших волосы, не стриг кудрей, и многие дети боярские переняли эту моду у Нарышкиных.
— Слышь, Кирюша, и ты, Левушка, подите сюда… И всех зовите. Андрюша, и ты с нами, — каким-то необычным для него, мягким, заботливым голосом позвал Андрея Матвеева и всех родных и двоюродных братьев Иван Нарышкин.
Привычной надменности и задора теперь не осталось ни капли у этого гордеца.
Отойдя подальше от других, он стал шептать братьям и Матвееву:
— Слышали: все про волоса про наши кричат. Ворвутся если звери эти — так сейчас и признают нас. Не срезать ли кудри поскорее?
— Э, пустое, — отмахнулся от брата Афанасий и вернулся к матери и отцу, которые молились в углу перед иконами, обливаясь слезами.
Набожный юноша опустился с ними рядом на колени и стал также творить молитву.
Пришёл наконец патриарх Иоаким с несколькими митрополитами и духовенством кремлёвским.
Чудотворный крест, литый из золота, с частицей древа Господня, блестел у него в руке.
Потолковав немного, кому выйти к народу, старец двинулся из покоя, а за ним князь Михаил Юрьевич Долгорукий, как начальник Стрелецкого приказа.
— И я пойду туды… Меня зовут, спрошу, чево им? — твёрдо объявил Матвеев.
— Помилуй, не ходи, — обнимая старика, торопливо заговорила Наталья. — Слышь, тебя ищут изверги. На тебя натравили псов этих несытых. Тебя не станет, кто нам защитой будет?
— Господь! Пусти, Наташа. Може, наша трусость нам только и страшна. Нет на моей душе греха. Знают стрельцы Артемона Матвеева. Чист я перед ими. А коли оболгали и меня, и род ваш нарышкинский, так я открою им глаза.
— Нешто сговоришься с извергами? Пьяные, безумные, поди… И слушать не станут.
— А коли правда твоя — и сюда их дождёмся. И в покоях отыщут. Не пристало мне от смерти хоронитца за женской душегреей… Пусти, Наташа… Андрюшу моего побереги, гляди, коли…
Он не досказал и вышел за патриархом и Долгоруким. В этот самый миг новая волна гула покрыла прежние крики и ропот, долетавший до напуганной царской семьи. Зловещий набат, тревожный, пугающий, заставляющий сильнее биться самые смелые сердца, сгоняющий краску с самых розовых щёк, заметался короткими, частыми звуками в высоте над Кремлём, здесь, над кровлями царских покоев, над древними стенами и башнями твердыни московских царей. Этот наглый, вызывающий набат, до сих пор гудевший только в слободах, в гнёздах мятежа, властно звучит сейчас со всех кремлёвских колоколен.
Напуганная уж и без того, Москва сразу дрогнула: во всех углах и жилищах в страхе переглянулись люди, заслышав этот растущий, все более зловещий и пугающий набатный звон кремлёвских колоколов…
А семье Нарышкиных и Петру, даже слабоумному Ивану-царевичу, показалось, что каждый удар набата не только врывается в окна покоя, где сидят они, затихшие, оцепенелые… Нет, они точно видели, как выбивают эти звуки из стены кирпич за кирпичом, мнут, ломают все, что встречается им на пути… Рвут тело и душу на мелкие части… Необъяснимый, панический страх охватил и мальчика-царя.
Но в то же время он не перестаёт наблюдать и за окружающими, и за самим собой. Словно два существа сидят в его груди: одно — страдающее наравне со всеми, другое — всему безучастное, не знающее страха и радости, только зорко наблюдающее мысли и дела людей.
Вдруг так же неожиданно, как возник, умолк этот колокольный вопль, вихрь медных звуков и стонов, судорожные вздохи и угрозы, мятежные оклики, вылетающие из груди незримого, но рядом, совсем близко стоящего гиганта.
Яркое солнце, как одинокий глаз, заглядывающее в окно, казалось оком этого загадочного чудовища, которое наклонилось над дворцом, выглядывая, кого бы избрать первой жертвой?
Не один набат замолк в Кремле: как-то разом стихли все голоса и клики, потрясавшие раньше воздух.
«Должно быть, кир-патриарх с мятежными говорит», — подумали все в покое и не ошиблись.
Кроме Анны Леонтьевны, кончившей молиться и державшей на руках внучку Наталью, и царевича Ивана, все кинулись к окнам, приоткрыли их и стали прислушиваться.
Иван во своей обычной неподвижности сидел на скамье, в одном из углов, и забавлялся ручной белочкой, любимым своим зверьком. Она возилась и бегала по рукам, по плечам, по голове юноши, а он даже закрывал от удовольствия глаза, когда когтистые, крошечные лапки проворно скользили по его волосам и шее.
Но едва приоткрыли окна Наталья и Нарышкины — сейчас же все откинулись назад.
А тяжёлые рамы, как будто дёрнутые снаружи кем-нибудь сильным, большим, с шумом распахнулись настежь, впустили в покой тучу пыли и сору.
Не ветер — настоящий ураган налетел на Москву так же неожиданно сверху, как внизу разыгралась буря людских страстей.
Заклубились тяжёлые, свинцово-синие, с багровым оттенком, тучи. Они быстро затягивали небо. Не успели передовые звенья этих воздушных драконов коснуться края солнца, как через минуту все оно было закрыто тучами, потонуло в них, и ясный майский день сменился вечерней печальной мглою.
Гуще и гуще наплывали тучи, сильнее становились порывы ветра, бросающего новые тучи пыли туда, к небу, навстречу клубистым облакам.
Но дождь не начинался. А между тем ливень был бы так отраден. Он освежил бы сгущённый, полный зноя воздух; охладил бы, может быть, и воспалённые головы мятежников, снова поднявших шум там, у Золотой решётка широкого крыльца.
Прокатился удар грома, далеко-далеко… Другой, третий уже поближе.
Раскаты его на миг заглушали ропот толпы. Но дождь всё-таки не начинался.
Сухая гроза, подбираясь все ближе и ближе, опаляла молниями совсем почернелые тучи, грозно ударял гром… И ни одной капли дождя не упало с разгневанного неба на разъярённую толпу людей.
Отойдя от окон, все уселись в тоскливом ожидании.
— А ведь нынче память царевича Дмитрия-отрока, во Угличе-граде убиенного злодеями, — вдруг почему-то негромко проговорила Максимовна, нянька царицы Натальи, доживающая свой век при своей питомице, богомольная начётчица-старушка[62].
Пугливо переглянулись сидящие в покое.
Одна мысль пробежала у всех:
«Что это: случай или печальное предзнаменование?»
Но раздумывать было некогда.
Поспешно вошёл митрополит Адриан:
— Государыня-царица, изволь, послушай, что возвещу тебе. Такие речи воровские злодеи ведут, што и слушать не подобно. Видимо, враг лукавый смущает души людские, князь тьмы уловляет рабов и слуг своих в яви и…
— Батюшко, отец митрополит, буде про души-то, — впервые подняла голос Анна Леонтьевна. — Ты про дело-то нам скажи. Про речи мятежные. Што несут они? Чево им надоть, окаянным? Денег, што ли ча? Казны али водки?..
Снисходительно поматывая головой, как бы давая понять, что он извиняет старуху, охваченную волнением, Адриан заговорил не так витиевато и поживее:
— Все не то, государыня-матушка ты моя, Анна Левонтьевна. В одну душу орут: «Извели, удушили-де лиходеи-изменники, Нарышкины и другие лихоимцы, царевича Ивана. И Петра-государя извести-де хотят, сами сесть на царство…» А многие тут же Матвеева-боярина да Языкова поминали… Да на крик кричат: «Подавай-де нам изменников, губителей царских, Нарышкиных. А не выдадите — всех вас смерти предадим…» Господи, сколь велико озлобление и слепота человеческая, — снова впадая в русло проповеди, заключил Адриан.
Никто не успел ему ничего ответить.
Быстро вошли Матвеев и сам патриарх.
— Слышь, бояре? Што скажешь, государыня-царица, Наталья Кирилловна? Может, Бог дал, все и обойдётся, — торопливо, почти радостно заговорил Матвеев. — Омманули нагло всех вороги наши. Може, и на свою погибель. Теперь, гляди, как бы на их голову не пала гора, нам на пагубу воздвигнутая. Покажем народу Ивана. Жив-де он. И государь-де, Петруша — дал Господь милости — жив, целёхонек. А тамо — потолкуем с ними, со всеми, шалыми… а тамо… Идём поскорее.
Пётр первый двинулся было к Матвееву и патриарху, стоявшим ближе к дверям.
Но Наталья даже не поднялась с кресла, в котором сидела, роняя беззвучно и часто слезу за слезой.
— Што же молчишь, государыня? Поведай што-либо. Тебе подобает к народу вывести детей своих, государей, царя и царевича. Слово своё скажи царское — и заспокоишь мятеж. Верь ты мне, Натальюшка.
— Государыня, помилуй! Изволь выйти. Ворвутся — всех перебьют! Скажи им: жив-де царевич старшой… Вот он… Покажи его народу, — молил растерявшийся совсем Языков.
— Выйди, государыня, — просили все другие: Салтыков, Григорий Романовский, Нарышкин.
— Мне… вести сына… туда?..
Только и спросила с тоской, заламывая руки Наталья. Встала во весь рост перед патриархом и боярами, быстро притянула к себе Петра и прижала к своей груди.
Такая сила, такая мука и заразительный страх был в этих словах матери, которой предлагают вывести ребёнка-сына к бунтующей, озверелой, пьяной стрелецкой толпе, что ни у кого ни единого звука не сорвалось с губ.
А крики и вопли стрельцов вместе с порывами бушующего ветра все громче и наглее врывались в распахнутые окна.
От этих криков ещё глубже, ещё зловещее казалась тишина, наступившая в покое. Как будто все к смерти готовились и молились в душе или исповедовались перед своей душою.
— Белоцька, проць, больно! — неожиданно нарушил тишину глухой, сюсюкающий голос царевича Ивана.
И он с тихим, глуповатым смешком стал добывать из-за шиворота зверька, который забрался туда вниз головой и теперь, чувствуя неловкость, пятился задом из-под ворота рубахи царевича, шевеля торчащим кверху пушистым хвостом.
На миг оглянулись все на бедного недоумка и сейчас же снова обратились к царице, ожидая, не скажет ли она чего, не изменит ли решения?
Толпы мятежников росли. Видимо, ими руководили искусные руки… И, конечно, долго они не будут стоять и кричать там, внизу у крыльца… Сюда ворвётся вся буйная ватага. И уж поздно будет уверять их в чем-нибудь, призывать к благоразумию, молить о пощаде.
Понимали это все, как понимала и сама Наталья.
Но никто не решался первый приступить к матери, требовать, чтобы ради общего спасения она подвергла опасности своё дитя, царя-отрока.
Стрельцы его не тронут. В этом все убеждены. А как знать, не стоит ли уже за порогом несколько подговоренных злодеев, вроде Битяговского? Не будет ли нанесён удар с той стороны, откуда никто и не ожидает?
Понимают это все. Видят грозящую гибель — и молчат.
— Уйти отсель… Бежать, ужли не можно? — опять с тоской вырвалось у Натальи.
Никто ей не ответил.
Только Матвеев молча, безнадёжно покачал головой.
Он уж успел узнать, что все пути отрезаны. Везде стрелецкие караулы. Коней стерегут в конюшнях мятежные стрельцы… Бежать невозможно.
— Наташенька, дочушка моя, а пошто ж и не выйти тебе со внученьком?
Этот вопрос негромко, но внятно задала царице Анна Леонтьевна, подойдя и слегка касаясь рукой плеча дочери. Рослая, красивая, женщина лет сорока шести, она казалась старшей сестрой царицы.
— Слышь, милая: чево боишься? Не грозят же внучонку мому, Петруше-голубчику. И, словно бы добрые люди, толкуют: пришли-де за брата ево, за Иванушку, постоять. Милая, доченька, чево ж боишься? Бог с тобой и с Петрушенькой с нашим… Ждать, слышь, хуже. Смерть — не там, куда человек не идёт. Она там, где сам стоишь. Вот она, здесь, со мной рядом… и с тобой… и с ним, с младенцем, рядышком. И так все ходит она, все ходит, покуль Господь не скажет: «Пора приспела…» И скосит она всякого, кому пора придёт. Петруше — так ево, младенца, унесёт ко Господу… И глаза мои от слез затуманятся, солнышко видеть перестанут… А все жить буду, хошь и старая, дряхлая стану, никому не нужная. Што же боишься, доченька? Господь с тобой. Он, Петруша, — царь. Ево зовут, слышь… Дети зовут. Старые, буйные, пьяные… Да все же дети ему, отроку, помазаннику Божию. Надо пойти. Може, выйдет он, слово-другое скажет — и души их спасёт. От греха удержит. Падут ковы адовы. Хто знает? Слышь, Наташенька? Скрепи сердечушко. На Бога положись. Иди. Не там смерть. С нами, тут она… везде она… Не бойся смерти, доченька. Так и внучка учи. Ступай с Богом!
От этих простых, но таких значительных и по смыслу, и по неожиданности своей слов чем-то новым пахнуло всем в душу. Стал бледнеть, исчезать животный, ослепляющий разум страх, в котором цепенели здесь люди раньше.
Словно себя нашли эти люди, с безмолвной мольбою окружающие сейчас Наталью и Петра.
Им уж как будто и все равно стало: выйдет ли царица, выведет обоих братьев или не успеет этого сделать. И они падут под ударами озверелой толпы, когда, потеряв терпение стрельцы ворвутся сюда, в покои.
Что-то всем защекотало горло, как будто слезы подступили. Но не прежние слезы ужаса и бессильного гнева, от которого только что задыхались.
Нет. Стоит хлынуть этим новым слезам, и наверно, сразу хорошо, легко станет на душе, как после покойного, крепкого сна…
И у первой хлынули эти слезы у Натальи.
Тихо плача, не говоря ни слова, взяла она за руку обоих братьев и пошла к дверям.
Обливаясь слезами, двинулись за нею и Нарышкины, и бояре, и боярыни, бывшие при царице в покое.
Только не пошла мамка с царевной Натальей, горько, неутешно рыдая и отирая глазки девочке, которая тоже плакала, хотя и плохо сознавала, отчего ей так хочется плакать.
По приказанию царицы мамка отнесла царевну в её покои, в терем. Туда же увели трех братьев Натальи: Мартемьяна, Льва и Федора, которым было — четырнадцать, одиннадцать и шесть лет от роду.
Чем ближе подходили все к той части дворца, где стояла Грановитая палата, и широкое Красное крыльцо вело к соборам, тем слышнее стали крики мятежных ратников.
Страх снова прокрался в более робкие сердца, особенно тех, кто чувствовал за собой грехи.
Незаметно отстал Афанасий Нарышкин и прошёл в церковь Воскресения Христова, что на Сенях государева дворца. Там он распростёрся ниц перед престолом, в алтаре и молился о спасении своём и всей семьи.
Иван Кириллыч с братьями тоже отстал от других, повернул к царицыным хоромам и заперся там, в светёлке маленькой царевны Натальи, приказав прислужницам не говорить, что он здесь. Вскоре к ним пришёл старик Нарышкин с Андрюшей Матвеевым, которых Наталья и бояре послали сюда как в более безопасное место.
Как только Наталья с сыном и пасынком показалась на площадке крыльца, их так и шатнуло назад ударами ветра, кидающего тучами пыли в лицо. Но царица словно и не замечала ничего. Только зажмурила глаза и направилась прямо к каменному барьеру, который невысокой, но довольно широкой стеной обошёл всю площадку.
На этой стенке, доходившей до половины роста человеческого, обычно устанавливали полковой барабан дежурных полков при особом часовом для подачи сигналов всем караульным во дворце.
Ветром барабан давно снесло вниз. Часовой отошёл к дверям Грановитой палаты, укрываясь от бури.
Как раз в то время, когда Наталья с сыновьями появилась на крыльце, на площади пронеслась весть:
— Царевна Софья у Аптекарской лестницы угощенье поставила гостям… Три бочки пенного вина поставлены. Пей, сколь много душа просит…
Самые бесшабашные головы кинулись на зов. Задние ряды поредели. Остались впереди люди, убеждённые, что во дворце действительно совершилось преступление, и желающие произвести суд и расправу со злодеями царскими.
Поэтому, как только показалось большое шествие на верху Красного крыльца, стрельцы сами стали укрощать друг друга:
— Тише, не галдите… Идут… Бояре, кажись, нос показали…
Гляди, никак, и святейший сызнова с ими… Да и царица сама…
— Не обманули бояре. Сказали, что выйдет… царя-де приведёт с братом… Вот и есть она.
Хотя было довольно темно от бури, но кто из стрельцов не знал платья государыни-царицы? И все невольно притихли.
Когда же по сторонам Натальи обрисовалось два детских облика — удивление стрельцов выразилось новыми криками:
— Гляди, никак, сам царь тута… И царевич с им… Гляди, братцы… Глаза отводят… Удушен царевич… А энто другой хто…
— Молчите… Царица говорит, никак. Не галди, ребята… Слушать дайте.
Как можно больше напрягая голос, чтобы её услышали внизу, несмотря на шум ветра, Наталья заговорила со стрельцами:
— С чево мятеж затеяли, стрельцы государевы? Вам ли так делать надо? Пошто крамолу сеете по земле, врагам царства радость даёте? Ложные вести поведали вам. Вот оба они, государи, живы и здравствуют. И Пётр Алексеич, царь-государь, и брат ево, царевич Иван Алексеевич. Глядите, коли не верите… Вот…
По знаку Натальи Михаил Алегукович Черкасский и Борис Голицын поставили обоих братьев на самый каменный барьер, так что со всей площади стало видно.
— Царь… Это царь наш малолетний, Петра Лексеич… Видим, знаем… Гляди, братцы, он! — закричали передние стрельцы остальным.
И даже в этом мглистом освещении издалека все узнали своеобразную фигуру, поступь и стать отрока-царя.
— А вот другой хто — не знаем, — опять закричали вожаки. — Може, он и не он. Не часто видали батюшку-царевича Ивана… Попытать бы надо…
— Попытайте, попытайте, — подтвердили отовсюду голоса.
А в это время какой-то дюжий стрелец при помощи товарища уже тащил высокую лестницу, стоявшую у Благовещенского собора, где делались какие-то поправки.
Приставленная к крыльцу лестница достала до самой стены, на которой стояли Иван и Пётр.
Два стрельца постарше, видавшие царевича во время торжественных выходов, живо взобрались на самый верх лестницы и, обнажив головы, пристально разглядывали Ивана.
— Ты, слышь, государь, ты Иван ли царевич? Не извели тебя Нарышкины? Не удушил Ивашко Нарышкин? Ты сам и есть он?
— Вестимо, я царевич. Кем же мне быть-то? Мужик ты. Я бы тебя! Ишь, напужали у нас всех… Чучелы… Станет дядя Иван душить меня. Пошто?
И царевич носком сапога сбирался ткнуть в лицо бородачу, но тот уже стал спускаться к товарищам вместе со вторым стрельцом.
— Царевич энто, сам он сказал. Облаял меня государь. Никому быть, как он. Може, ещё хто попытает, ребята…
Ещё несколько стрельцов поднимались один за другим. Иван уж и отвечать не мог спокойно на их вопросы.
— Провалитесь вы, идолы. Слепы, што ли? Я вон плохо вижу… А то бы уж ткнул вас…
— Он, он… И слепой, почитай, вовсе… Никому иному быть, как царевич старшой…— кричали люди, побывавшие на лестнице. — Нет обману. Напраслину сказали нам.
В настроении мятежников наступил перелом. И страшно, и стыдно было им бесчинств, какие натворили они сгоряча. Раздались голоса:
— Помилуйте нас, государи наши, и ты, государыня… Налгано нам. Шли не для мятежу. Ваши царские величества хотели застоять… От изменников оберечь. Помилуй царь-государь, светик ты наш… Земно тебе бьём челом… Не казни рабов своих…
— Христос с вами, люди добрые, — необычайно звонким, девическим каким-то голосом далеко в толпу крикнула Наталья, чувствуя, что её, как на крыльях, поднимает сознание минувшей огромной беды и опасности. — Идите с Богом. Другим скажите, кто ещё не знает. Нет на вас вины. Вот сам царь то же скажет…
— Идите с Господом, — звонко, тоже свободным теперь, радостным голосом крикнул Пётр. — Нет вины на вас. Хто обманул — те с виною…
— Ништо… Мы и сами с ими разведаемся, — раздались кое-где голоса.
И с поклонами толпа собиралась уже отхлынуть от крыльца, очистить площадь.
Но тут случилось что-то неожиданное.
Братья Толстые, Александр Милославский, Василий Голицын, Куракин и другие сторонники Милославских поспешно прошли на Красное крыльцо, как только узнали, что Наталья повела туда Петра с братом.
Увидев, что стрельцы, стоящие тут, склонны к мирной развязке бунта, часть заговорщиков-бояр двинулась к Софье, в покоях которой сидел и Милославский. Другие, помоложе-попроворней, прямо кинулись обходом на площадь, чтобы подобрать людей порешительнее и не упустить удобной минуты. Не суждено было этому бурному дню закончиться добром. У бочек с вином, выставленных по приказанию Софьи, под предлогом, что это успокоит горланов, подручные царевны нашли больше народу, чем было его перед Красным крыльцом.
Кто полупьяным дошёл до Кремля, теперь совсем был пьян. Трезвых здесь не было.
Немало завзятых питухов и опилось тут же даровым вином.
Они лежали на земле, страшные, противные, грязные, потеряв сознание.
А остальные уж не разбирали, что они делают, где они сейчас.
— Што ж так загостились, ребятушки, — обратился Пётр Толстой к тем, кто был пободрее. — На площадь поспешайте. Покончат там без вас все дело дружки ваши. И награды им достанется больше…
Кинулись гурьбою стрельцы к Красному крыльцу.
Их громкие возгласы, брань и угрозы заронили новую тревогу в душу Натальи и бояр.
Матвеев быстро, настойчиво заговорил:
— Пройди, государыня-царица, хотя сюды, в Грановиту палату, поблизости, на всяк случай. И со святейшим патриархом, с господином нашим. А мы уж тут с князем авось образумим и тех, што бегут, как прежних образумили.
— Нет, уж я здеся, с вами побуду, — сказал Иоаким.
Наталья же беспрекословно исполнила совет Матвеева.
Она чувствовала, что последние силы покидают её.
В Грановитой палате все уселись как попало, обессиленные, напуганные. Пётр и царевич Иван рядышком взобрались на большой, широкий царский трон, стоящий под навесом, в царском углу, отдыхая от пережитых волнений.
В это время Матвеев бесстрашно спустился с крыльца; громко, взволнованно обратился к тем стрельцам, которые кучками стали подбегать к дверям золочёной решётки, замыкающей собою вход на Красное крыльцо.
— Здоровы живёте, ратники Божии, доблестное православное воинство. Давно не видался с вами. Узнаете ли?
— Куды не узнать… Боярин Матвеев, Артемон Сергеич… Хозяин наш старый… Тебя нам и надо… Сказывай, как покойного государя извёл? Как нового извести сбираешься? Говори, старый грешник, куды подевали Ивана-царевича, заступу нашу? А…
Крики, злобные, пьяные голоса и угрожающие взгляды буянов не смутили старика.
— Снова здорово. Где были до сих пор? Вон у дружков спросили бы. Они не токмо что видели царя и царевича — говорить с ими изволили государи. Нет в царском дому изменников…
— Были здесь оба… Видели мы… Толковали с ими! — раздались голоса тех, кто раньше тут был при появлении царской семьи.
— Ладно. А все же вы по городам посылать надумали… Твои все козни. На нас, на стрельцов, служилых людей иноземных да дворян городовых, всю земскую рать собираете. Стереть нас с лица земли норовите… И ты — первый… Иди, иди сюды… Поспешай, Варвара, на расправу. Не кройся за решёткою. Мы и сломать её умудримся, коли сам не придёшь…
— Не придётся ломать вам затворов во дворце царском… Вот видите, раскрываю дверь: не боюся я вас. Потому — совесть моя чиста… А вы земской силы боитесь, про иноземные рати толкуете. Видно, за собой што плохое знаете! Болит душа моя. Так ли встретить чаял войско своё любимое? Царскую охрану самую ближнюю. Што дурнова вы от нас да от роду царского видели? А теперь… Вон сидит во палате царица-матушка. Вам она не родная ли мать была? И птенчики при ей, сыны царя Алексея, кой не то отцом — другом, слугою вашим был… Да и Федор тоже.. И вот расплата стрелецкая… Стыд и горе. Плачут они там: и мать-государыня, и царь-отрок, и брат ево недужный. А стрельцы, страмные, буйные, пьяные, инова дела не знают, сбираютца двери в жильё царском ломать, убивать хотят не токмо что верных слуг царских, а родню самую близкую?! За што?.. Виновен хто из нас, хоть бы самый ближний к трону — жалобьтесь, челом бейте. Будет дана вам правда. Не попустит государыня и юный царь с боярами никому, даже брату родному вину или грех какой. Видели, как начальникам вашим было по челобитью вашему. А вы все забыли… Наущения злобные слушаете… Все заслуги свои былые в грязь затоптали.. Так уж и меня скорей убейте, старика, не видал бы я позора в войске моем, не слыхал бы про горе и позор всей земли Русской… Убивайте меня скорее…
И прямо в толпу шагнул Матвеев.
Как от чего-то грозного, страшного отхлынула пьяная бесшабашная толпа от этого беззащитного старика, покорившего их тёмные, смущённые души силой, величием духа, красотой подвига.
— Што ты, Господь с тобой… Ступай с Богом, боярин. Не медведи мы дикие. Не кровь пить пришли… Смутили нас… Прости уж… Коли жив Иван-царевич, коли все благополучно в терему вашем царском… Уж мы по домам тогда…
Нерешительно, с каким-то детским, наивным и грубоватым смирением звучат голоса стрельцов. Переминаются с ноги на ногу они, не знают, как им и уйти теперь отсюда.
— Ну ладно. Бог простит. Идите с Богом. Товарищам скажите скорее, сбирались бы в место в одно да шли по домам… Идите…
И, поклонившись толпе, Матвеев стал подниматься наверх мимо Михаила Юрьича Долгорукого, который стоял тут же, как бы наготове защитить старца в случае беды.
Князь дал пройти мимо себя Матвееву и остался внизу, с тёмным, нахмуренным лицом, словно не зная, на что ему решиться.
Как начальник Стрелецкого приказа, Долгорукий считал и себя виновным в том, что допустил разыграться мятежу.
Мягкие, душевные речи Матвеева достигли цели. Но они не нравились Долгорукому. Не так бы он поговорил с этими скотами…
Но начинать без повода — тоже нельзя было.
Долгорукий уже стал было подниматься за Матвеевым, который скрылся в дверях, ведущих в Грановитую палату.
Исход речей Матвеева не понравился не одному Долгорукому.
Оскалили зубы, как волки, Толстые и младший Милославский, которые уже, не стесняясь, появились на самой площади перед соборами, чтобы подогревать толпу, подстрекать её к буйству и резне.
Новую волну пьяной черни, стрельцов и солдат толкнули они на площадь к концу речи Матвеева.
Но Долгорукий не дал долго шуметь этим крикунам.
Нагнувшись через ограду крыльца туда, к новым буянам, он властно и зло крикнул:
— Не сметь горло драть, ироды… Собачье племя… Холопы безглуздые[63]. Мало вам, скотам, толковано было? Все не заспокоитесь. Так уж будет! Иначе я с вами, с крамольниками, потолкую. Жалели вас, кровь проливать не хотели. А вы и стыда не знаете. И вправду, видать, на расправу к мастерам заплечным захотелось. Вот я кликну челядь… Прочь по логовам по вашим по грязным, пока целы… Не то в топоры да в плети вас… Ах вы… висельники…
И вспыльчивый, несдержанный князь разразился грубой бранью, грозя кулаком пьяной толпе, наглость которой окончательно лишила его самообладания.
— Слышь, братцы, — закричал из толпы стрельцов Александр Милославский, который, пользуясь мглою, вмешался туда без опасения, что его узнают с крыльца. — Прислушайтесь, как лаетца мучитель наш, боярин князь Долгорукий, да ещё петлёй и плетью грозит… Потерпите ли, братцы…
Но и без этих подстрекательств в стрельцах проснулся зверь, которого смирили, успокоили речи царицы и Матвеева.
— Што!.. Нас в топоры?! Лаетца ещё, окаянный… Буде зря время терять… За работу, ребята… Починайте с ево первого… Заткнём глотку боярскую, ненасытную, широкую… Гайда, кверху вали…
Патриарх, сообразив, что дело кончится плохо из-за одного неосторожного поступка князя Михайлы, поспешил навстречу толпе разозлённых стрельцов, взбегающих на крыльцо, и, высоко поднимая крест в руке, молил:
— Христом распятым заклинаю.. Стойте, чада.. Послухайте мэнэ…
— Ступай с Богом, святый отче… Не надо нам теперя уветов твоих… Не пора. Время приспело разобрать, кто нам надобен, кто нет… Бери ево, князька, ребята. Тащи к Пожару[64]… На Лобном месте — тамо всех наших недругов судить станем… Всех их туды приведём.
Но не успели стрельцы, оттолкнув Иоакима, схватить Долгорукого, как блеснула сабля в его руке и один за другим двое упали, обливаясь кровью. Голова одного была разрублена пополам, как будто нарочно изловчился князь, нанося страшный удар.
— Кроши, руби ево на месте, коли так! — заревели стрельцы.
Два-три бердыша засверкали у князя над головой и опустились, с глухим треском раскалывая череп. Князь повалился мёртвым.
— Гляди, да он в кольчуге… То-то и копьё ево не берет, — орал какой-то приземистый парень, нанося с размаху копьём своим удар по телу, прямо в живот.
От первого удара по кольчуге загнулось жало копья. Но при втором все железо до древка вошло в живот, и, вынимая изогнутое острие, стрелец разворотил внутренности мертвеца.
— Подымай ево, робята… Вниз кидай… Гей, становите копья, примайте князя честь честью… Любо ли, гей, робя… Михаила Юрьева Долгорукова, князя, миром встречай… Любо ль?
— Любо, любо… Ох, любо! — кричали в ответ стрельцы, стоявшие внизу и окончательно разнуздавшиеся при виде первой крови.
Грузный, тяжёлый труп, с которого была сорвана почти вся богатая одежда, очутился в руках двух злодеев.
Взобравшись на стенку крыльца, они раскачали князя и бросили его вниз, прямо на подставленные копья.
Кровь так и хлынула из ран, пробитых остриями этих копий. И сейчас же тело рухнуло на землю.
— Пусти, я ему тоже поднесу гостинчика, — расталкивая других, орал совсем пьяный, на мясника похожий стрелец. — Он меня надысь под батоги ставил… Так вот же тебе, окаянный…
Ударом секиры он отсек у трупа руку, которая легла на отлёте, когда князь рухнул на землю.
— Мой черёд… Я…— раздались голоса — Я теперь!
Засверкали секиры. И только тогда оставили злодеи свою гнусную работу, когда на земле вместо человека лежали куски чего-то бесформенного, кровавого, как те куски мяса, которые лежат на ларях у мясников.
— Любо, ребята… Лихо! — снова выдвинулся Александр Милославский, рядом с которым теперь стоял и Толстой. — Теперь, благо почин сделан, — за других берися… Матвеева изловить надо… Он главный ваш ворог!
— Врёшь, боярин. Али не слыхал, што тута сказывали цари да Артемон Сергеич? Сам-то ты проваливай, пока не влетело, — крикнули подстрекателю стрельцы, ещё не позабывшие гордых и благородных слов Матвеева.
Зубами заскрипел Милославский.
— Шут их возьми, Сашка, — увлекая его за собой, сказал Толстой. — Идём, иных поищем, посговорчивей… Видишь, началась потеха. Теперь наша взяла…
Пётр Толстой не ошибся.
У того же Аптекарского крыльца нашли они новую кучку мятежников, допивавших подонки из бочек.
Эти не слыхали речей Матвеева. Они недавно появились в Кремле, куда не решались по трусости прийти первыми, а уж нагрянули потом, едва дошли к ним вести, что отпору мятежникам нет и все в их власти.
Окружным путём, знакомыми ходами Толстой и Милославский повели эту шайку прямо к Грановитой палате.
Услышав шум на площадке, узнав от вбежавшего сюда патриарха о свалке стрельцов с Долгоруким, о страшной участи, постигшей князя, все сидевшие в палате снова ощутили на себе холодное дуновение смерти.
Не успел патриарх рассказать о гибели Долгорукого, со стороны дворцовых сеней ворвались убийцы, наведённые Милославским и Толстым.
— Вон он, вон где отравитель, лиходей, чернокнижник, — заорали они, увидя Матвеева, — хватай ево, робя… Волоки на крылечко. Тесно тута. Жарко, гляди, ево боярской милости…
И, как стая голодных псов на затравленного зверя, кинулись на старика.
— Прочь, изверги!.. Не дам… Не позволю… Не дам, — не помня себя, крикнула Наталья, обнимая голову Матвеева и стараясь прикрыть его от здоровых, мускулистых рук, которые протянулись к боярину.
Но две чьи-то руки грубо оттолкнули защитницу. Она в полубесчувственном состоянии упала на скамью и видела, как стали уводить любимого ею старого, беззащитного друга.
Ни кричать, ни плакать, ни молить не имела сил царица. Ужас владел её душой.
Прочь оттолкнули патриарха с дороги стрельцы, не слушая его увещаний. И старец стоял в стороне, закрыв глаза руками.
Как изваяния, вдвоём на троне сидели оба брата, крепко обняв и прижавшись друг к другу.
— Молчи, нишкни… Меня убьют, — вдруг совсем осмысленно проговорил Иван, когда Пётр сделал было движение, желая остановить стрельцов, крикнуть им, чтобы оставили Матвеева.
И, как во сне, не зная, что творится кругом, Пётр послушал того самого брата, о котором и думал не иначе как с презрительным сожалением.
— Правда убьют… Ты и не видишь, какие они… противные… страшные… Хорошо, што не видишь, — шепнул брату Пётр, и оба затихли снова, притаились в глубине обширного отцовского трона.
С глумливым хохотом, с прибаутками мимо бояр поволокли стрельцы Матвеева.
Он не сопротивлялся, но его потащили чуть не волоком, тут же срывая одежду, чтобы убедиться, нет ли панциря под нею.
—А то и топоры не возьмут, — крикнул кто-то из палачей. И тут же обратился к Наталье: — Слышь, государыня, Наталья Кирилловна, — боярина Кириллу да брата Ивана нам готовь: придём за ими. Волей-неволей отдашь.
Затем мимо трона, мимо патриарха и всех стоящих в ужасе бояр и боярынь злодеи повлекли Матвеева к выходу.
Не вытерпел старый князь Михаил Алегукович Черкасский.
— Оставьте, убийцы… Не троньте ево!.. Возьмите выкуп… Все возьмите… Не троньте ево, — стал он просить стрельцов и ухватился за плечи Матвеева, пытаясь поднять, поставить на ноги своего давнишнего друга, отданного на казнь палачей.
— Али сам с ним в разделку захотел? Прочь, старый… Мы боярами не торгуем. Довольно они торговали нами и братьями нашими… Отходи.
Но Черкасский не отошёл.
Видя, что Матвеев даже не держится на ногах, а, обессиленный, повалился на помост, Михаил Алегукович так и накрыл друга своим телом, как наседка птенцов накрывает от коршуна.
— Меня убейте… коли нет в вас души… Бога нет! Меня рубите, его не дам. Каты… звери…
— Гей, не лайся, старая собака. Моли Бога, што тебя нам не надобно, а то бы несдобровать тебе! Прочь…
Грубые руки вырвали Матвеева у старика, изорвали в борьбе одежду на князе. Его оттолкнули, а Матвеева, оглушённого, окровавленного ударом пики в голову во время схватки, потащили на Красное крыльцо.
Миг — тело старика мелькнуло в воздухе. Принятое на копья — оно уже бездыханным достигло земли… И тут Матвеева постигла та же участь, что и Долгорукого.
Ещё звучали на крыльце громкие крики радости, лихое гиканье, которому снизу стрельцы отвечали своим обычным откликом:
— Любо, любо, любо… Лихо…
А со стороны церкви Воскресения— Христова, что на Сенях, донеслись вопли, призыв на помощь, мольбы.
Знаком, близок был этот голос всем, кто сидел в палате.
Это молил о спасении Афанасий Нарышкин, которого за волосы волокли убийцы на Красное крыльцо.
От Успенского собора ворвалась во дворец новая шайка убийц. И прямо стала шарить по покоям, ища обречённых бояр и родню Нарышкиной по списку.
— Чево надо, люди добрые, ратники Божии, — вдруг пискливым голосом спросил передового карлик Хомяк, как из земли вырастая вблизи входа в церковь Воскресения на Сенях.
— Тьфу, нечистая сила! Отколь ты такой? — даже шарахнувшись в сторону, грубо спросил коновод шайки карлика, которого раньше не знал.
— Здешний я. Холоп, как и вы, боярский… Своим товарищам помочь охота… Чево ищете? Авось найду вам.
— Не чево — ково!.. Нарышкиных… Не видал ли, где они?..
— Иные попрятались… Не сметил куды… А одново — покажу вам… Близко…
И с ужимками Хомяк показал на двери домовой церкви царской, у которой они стояли.
— Тута?.. Эка шельма, — почёсывая в затылке, — пробасил стрелец…— Как ево взять, вора окаянного, из храма Господня… Чай, непристойно будет…
— Ну, баба ты, не стрелец… Твоя ли вина. Не крылся бы в таком месте… Тебе взять надо — бери, где сметил… Другим попадёт эта птица — перья и ощиплют… А пёрышки богатые… И кошель есть при парне…
— Ну, леший тебя подери. Гляди, и правду баешь… Не наша, ево вина, коли в божницу залез… Гайда, братцы…
В алтаре, под покровом престольным, нашли Афанасия и поволокли за волосы на роковое Красное крыльцо…
Услышали вопли юноши сидящие в палате: отец, мать и сестра его… Но никто не смел прийти на помощь… Двинуться не решался никто с места, где прикованы были ужасом и тоской…
Влекут Афанасия убийцы на крыльцо. А на плече у одного из них сидит, оскалив зубы, злобно ликующий карлик, напоминая собою тех выходцев из ада, которых рисует порой человеческая мысль в минуты кошмарных сновидений… Нарышкина постигла участь первых двух мучеников.
Так на плече у палача и остался Хомяк, когда повёл его с дружками по всем знакомым комнатам дворца и терема искать ненавистных Нарышкиных.
Всюду шарят шайки стрельцов, во всех покоях. Врываются и в царские опочивальни, и в домовые церкви, которых несколько есть во дворце, прокалывают копьями перины, подушки, опрокидывают пышные царские ложа для убеждения, что никого нет под ними… В церквах шарят под алтарями, повсюду… Рвут покровы, тычут остриями копий…
И постепенно находят всех, кого внесла Софья, Милославские и сами стрельцы в кровавые списки, где против каждого имени должен стоять один зловещий знак — знак креста, знак муки и гибели…
Всюду бегают и шарят во дворце стрельцы, потерявшие и страх, и совесть. Только не успели забраться они в горенки, где помещается девятилетняя царевна Наталья. И не заглядывает ни один из мятежников в терема сестёр-царевен, дочерей Алексея, к царевне Софье и к царице Марфе Матвеевне.
Самые пьяные, самые наглые палачи отступают, как только услышат от сенных девушек и старух, расставленных у всех выходов, сердитый оклик:
— Проваливай, рожа идольская. Здесь царевнин терем…
— Ладно… Нешто я што?.. Я сам понимаю, — пробурчит иной стрелец-коновод. И крикнет: — Гайда мимо, робята. Не туды попали!..
Затем с бранью, с проклятиями или с залихватской песней, с гиком бегут мимо…
Немало боярынь и бояр собралось в покоях у царевен.
Но к Софье пропускают очень немногих. С царевной сидят бояре: Милославский и Куракин. Волынский снуёт из покоя на крыльцо теремов и обратно, принимая донесения от всякого рода пособников и поджигателей бунта, разосланных отсюда не только по всем концам Кремля, но и в Бел-город, в Земляной городок и по слободам стрелецким, откуда то и дело выходят новые толпы стрельцов на помощь товарищам. Даже стрельчихи, пьяные, красные, бегут гурьбами с весёлым хохотом, с разухабистыми песнями, перекликаясь одна с другой.
— Бежим, пощупаем боярынь зажирелых, колупнем им бока толстые! Сымем с их наряды златоцветные, што из нашево поту-крови нашиты-настроены. Слышьте, наш праздник. Ишь, как на кремлёвских колоколах стрелецкие звонари нажаривают…
И новые толпы стрельчих выходят из домов, присоединяются к бегущим.
Глава III. У СОФЬИ
Набат в Кремле, то затихающий на время, то снова потрясающий воздух, словно зовёт все тёмные силы, раньше угрюмо таившиеся по своим грязным углам.
Не одни стрельцы теперь принимают участие в разгроме бояр. Лихие воровские людишки, тати, площадные дельцы-пропойцы, кабацкие заседатели тоже втираются в толпы вооружённых, грозных стрельцов, надеясь урвать для себя что-нибудь в общем пожаре. Куда ни заглянут во дворцовые покои эти шакалы — все ценное забирают с собой.
— Што же, плохо ли, коли московский люд пристал на нашу сторону, — заметила царевна, которой донесли об участии таких добровольцев в стрелецкой резне.
— Не скажи, царевна, — отозвался осторожный Милославский. — Дать волю этой шайке, она не то Нарышкиных — отца родного задушит за чарку вина.
— С чёрным людом — с опаской надо… Это первое… А второе, слышь, толкуют: Москва, почитай, вся непокойна стала. Толкуют люди мирные: «Пошто бояр режут, Нарышкиных бьют и иных…» Гляди, мешать бы нам не стали. Заспокоить надо Москву… И челядь боярская за дубьё приняться сбираетца. Толкуют: «Перебьёте бояр — кому служить будем». Тревога по Москве пошла.
— Не одна Москва — вон и на Посольском дворе присылы от всех иностранных резидентов да послов уж были, — заговорил Василий Голицын. — Что, мол, у вас делается? Как мятежа не смирите?.. Дан был ответ, што больно сила велика стрелецкая, не можно кровь проливать. И вовсе тогда царству не быть. А, мол, стрельцы государей не касаются. Ищут и изводят недругов своих да царских. Да царевича старшева на царство зовут по закону. Только и есть… Мол, один Сухарев полк не бунтует. Не пристал к тем беспорядкам. А мятеж во всех полках. Погодить-де надо… И трогать нихто их, иностранных послов, не станет…
— А они што в ответ?
— Пока — ничево. Да все же надо дело скорее кончать али как-никак оправдать всю свару нашу… С соседними землями дело ещё доведётся иметь. Надо с ими ладить.
— Как не ладить? Што же, бояре, как быть, по-вашему? С чево начать?
— Трудно и быть. Теперь взаправду не сдержать стрельцов. Себя под обух подведёшь, гляди. Нешто так вот…
Милославский остановился.
— Как? Говори, боярин.
— Нарядить как-никак, ровно бы суд. Пусть кого стрельцы изымают — не секут тут же, на месте, без оглядки… И то вон плохо одно дело вышло…
— Какое дело ещё? — нетерпеливо спросила царевна.
— Да стрельцы-то молодые. Не знали добре в лицо Афанасья Нарышкина. А Федька Салтыков и попадись им, малость схож с Афонькой-то. Его живо и прикончили… Уж потом опознали другие. Я приказал отнести тело к отцу да челом ударить хорошенько… Мол, по недоглядке дело сделано. Наш Салтыков-то боярин. Да ау! Мёртвого не подымешь…
— Плохо, плохо… Да досказывай, дядя, што начал-то.
— Вот и надо, кого из ворогов найдут, на допрос ставить… А после — казнить всенародно. Да не по углам, а на том же месте, на Лобном, ровно бы так и от государей приказ даден. Вот народ и подумает, што не зря казни… А не подумает, так просто страх ево возьмёт… Это ты ладно надумал, дядя… А с послами как быть?.. Нешто нарядить к ним дьяка Лариона Иваныча? Старый он знакомец тамо со всеми… Васенька, — обратилась Софья к Голицыну, — сделай милость, погони ково за Москву-реку, где дом ево. Мол, как начальник приказу Посольского, пускай скажет иноземным послам от имени от царского…
— Не погневися, государыня, не приведётся послать Иваныча… Побили и ево… и с сыном Ваською, — с явным смущением прервал царевну Голицын.
— Побили?.. Да за што? Не за Нарышкиных был он. Што прикажут — то и делал. А старый слуга, дело знал. И, Васенька, слышь, на листе он не стоял. Имя не было вписано. За што же? Не пойму…
— Стрельцы сами нашли да расправились, — овладевая собой, глядя прямо в глаза царевне, спокойно отвечал Голицын. — Слышь, счёты были у них со стариком. Как ещё правил Стрелецким приказом старина — обиды всем чинил… Теперя и припомнили… Да ещё — в дому у дьяка нашли чучелу сушёную, рыбу каракатицу. Австрийский посол подарил на беду ему. И сочли стрельцы её за змия чернокнижного… А сына… Как стал он отца не давать да поранил одново-двух стрельцов — тут и с ним прикончили…
— На Пожаре так и лежат обое. И рыба та, чучело, при теле Ларивоновом… Што уж тут поделать…
— Да, уж ничево не поделаешь… Ково же к послам послать?
— Кого, государыня-царевна? Да вот хоша бы князя Василия, — вмешался Милославский, во время рассказа не спускавший своих проницательных глаз с Голицына.
Тот так и вспыхнул, не то от удовольствия, не то пристыженный, что разгадали его какую-то тёмную проделку, затаённый, честолюбивый план.
— И то, — поспешно откликнулась царевна. — Не съездишь ли? Ты в тех делах сведущ. А как стихнет гроза — на место Ларионове и стать бы тебе. Как мыслишь, дядя?
— Кому лучче, коли не князю, те дела ведать посольские, — хитро, но добродушно улыбаясь, согласился Милославский. — Ишь, ровно и вытесан напоказ. Умом взял, и лицом Господь не обидел, и статью, и поступью. Не скажут послы, што замухрынца каково к им нарядили дела ведать государские. Он же и в латинской, и в эллинской, и в немецкой речи сведущ… Кому же иному и быть?
— Вот и ладно. С Богом, Васенька… Ступай.
Голицын вышел.
— Хто там ещё? — услышав за дверью новые голоса, спросила Софья. — Войди!
Вошёл князь Иван Хованский, который с сыном своим Андреем принимал самое живое участие в событиях грозного дня.
Они вдвоём с Андреем поспевали всюду, сообщая отдельным отрядам стрельцов распоряжения Софьи у Милославского и донося последним об общем ходе мятежа.
Потомок литовских князей, древнего рода, но не богатый, честолюбивый и пронырливый, старик Хованский соединял в себе замашки надменного вельможи с низкими проявлениями угодничества перед высшими и трусил в минуты опасности, особенно на войне… Поражением и бегством оканчивались все стычки русских войск с польскими и шведскими отрядами, если только начальствовал Иван Хованский, прозванный за это Тараруем[65].
Особенно не любили его воины за то, что перед битвой Тараруй громко грозил врагу, говорил пышные речи, призывая стоять за землю Русскую до последней капли крови, обещая полную победу при первом натиске, так как враг-де слаб и ничтожен, а за русское воинство стоят все силы небесные с Господом самим во главе.
И непременно служились торжественные молебны перед каждой стычкой.
А начинался бой — Хованский, теряя голову, сам уходил подальше, оставлял войско без руководителя, этим подавая сигнал к отступлению, вызывавшему неизбежный разгром.
Только там, где можно было отличиться без всякой опасности, как, например, в происходившем сейчас мятеже, — Хованский и сын его были в первых рядах.
Сохранив свой литовский тип, с длинными усами, с нерусским обличьем, в полупольском наряде, рослый, красивый Ягеллоныч, как он величал себя[66], Иван был очень привлекателен на вид. А сын его Андрей — и вовсе считался красавцем. И оба честолюбца вовремя предложили свои услуги Царевнам из рода Милославских, обещая помогать до конца.
Вот почему они попали в расположение и милость в теремах царевен, когда затеян был переворот.
Шумно-болтливый, снисходительно-фамильярный с низшими, князь в обычное время хорошо умел ладить с воинами. Потому Софья и Милославский наметили его в начальники Стрелецкого приказа.
В виде опыта они предоставили ему главное распоряжение мятежными отрядами и были довольны выбором.
Всё шло почти так, как предвидели главные руководители переворота. Возбуждённый чарками вина, которые он на ходу выпивал со стрельцами, подбадривая их, довольный своими успешными действиями и быстрым развитием мятежа, князь Иван грузною, развалистой походкой вошёл в покой царевны, как в свою горницу, и отдал всем почтительный, но в та же время полный достоинства поклон.
— Чем порадуешь, князь Иван Андреич, поборник наш и крепкая оборона? — ласково, хотя не без затаённой усмешки спросила Софья.
— Покойна будь, государыня-царевна. Я дело своё справляю. Ночь не настанет, а все недруги наши сгинут с бела света. Уж не будь я князь Хованский. Вот как дело облажу с Андрюшкой с моим. Он у меня и в сей час тамо. Приглядывает, как я ему приказал… Што за сын! Без похвальбы скажу. Такова и не сыскать другова. А уж вам, государыням, каков доброхотен… Удержу нету. Говорит: «За Софьюшку-царевну да за Катерину свет Алексеевну живот положу, души не пожалею…» Да, говорит… А я ему сказываю: «Сынаша…»
— Добро, добро, князь Иван Андреич. Хто не знает, што оба вы с сыном — витязи преславные. И не корыстно прямите нам, по доброте души своей. А не поведаешь ли, пошто заглянул сюды к нам, к сиротам печальным. Нет ли дела какова, что ты войско покинул, заявился в терем наш бедный, неукрашенный? Да испить не хочешь ли чево с устатку? Чай, жарко на площади, на вольнице тамо.
— У-х как жарко. Дело кипит. Добро, што ещё ветерок Бог послал… А то правда твоя, мудрая царевна: пересохло горло у слуги твоего покорного, у холопа верново… Чарочку медку али романеи[67] — не мешало бы… Веришь ли, от раннего утра, с восходу солнечново и по сю пору не то куска во рту, капли на губах не было…
— Ах, родимый, князь, индо жаль в сердце ударила… Мигом подадут… Садись покуда. Сказывай: пошто пришёл?
— Да запытать надо. Никово послать не мочно. Сам пришёл. Дело такое…
В это время девушка подала на подносе кубки, чарки и сулеи[68] с мёдом и романеей, которые были наготове в соседнем покое.
— Э, э, — крякнул князь, быстро взяв и осушив большую чарку. — Не осуди, коли ещё одну я… Веришь ли…
— Выкушай на доброе здравие… Хошь три… Милости прошу…
— Э-э-эх… Ладно. Кх… кх… вот и горло прочистило… Так дело, слышь, хитрое… Немчина… тьфу, жидовина искали мы, Гадена… от коево и смерть приключилась государю нашему, Федору Алексеевичу всея…
— Так, так… Што же, нашли ево?..
— Почитай, што нашли. Шпынь к нам был, знать дали мне, што на дворе у резидента датсково, Розенбуша кроются оба: лекарь-жидовин и сын ево, стольник Натальин, Михал-еретик. Послал я туды двоих — троих стрельцов, а им и сказывают: «Прочь-де идите. Место не ваше тута, не русское, а посольское. И никово нет из тех, ково ищете». Наши было в ворота ломиться стали. А там не то холопы Розенбушевы — и рейтарский караул, и ратники лесливские. Хоша и не много, да стрельцы — трусы они, государыня-царевна: коли кто им спуску не даст — сами тыл кажут… И ушли, мне сдоложилися. Я к тебе. Как быть? Не искать на посольских дворах? Али набрать силу познатнее, нагрянуть к резидентишке да задать ему такую баню, штабы до конца веку помнил московски веники. Как скажете, бояре?
И, покручивая лихо свой молодецкий, хотя и седеющий ус, Хованский выпуклыми голубыми, но помутнелыми от времени и вина глазами обвёл сидящих.
— Ишь, как распетушился резидентишка! Держава-то ихняя не больно велика, а он туды же. Им больше в нас нужды, чем нам в них. Коли уж стал Розенбуш в дела домашние московские нос совать, прячет лихих людей у себя, пусть не погневается, коли и к нему нагрянут, — вспыхнув, проговорила Софья. — Мы законное дело творим. Народ на царство желает Ивана-царевича. Вот и казнят изменников царских.
— Вестимо, государыня. Коли за обиду почтут при датском дворе — нам тоже не велика печаль. Одно лишь знать бы: правда, что там они кроются все, про ково тебе сказано? — примирительно покачивая головой, спросил осторожный Милославский.
— Слово князя Хованского. Нешто буду я… я сам зря говорить? Верный человечек мне вести подал.
— Ну, так с Богом, пошли вынуть тех лихих людей.. А резидентишка тот и другим послам не велик друг Пустой человек, бражник. Посылай наряд за теми-то. Хлопова, окольничева, с ими пошли. Не на деле он тута.
— Вот, вот, так я и сам полагал, — шумно заговорил Тараруй. — Только все же поспрошать надо. А с Бушем с этим — чево и думать! Уж как я решил, так и надо. В сей час пошлю… Выберем всю рыбу, котора там спрятана… Хе-хе-хе… Уж от меня нихто не уйдёт. Будь покойна, царевна-матушка, и вы, бояре. Все слажу, все повершу. Стрельцы у меня молодцы. Глазом мигну — черта к дьяволу спровадят и назад вытащат… Вот как у меня…
— Благодарствуй, спаси тя Бог, князь Иван Андреевич. Уж не оставь ты нас…— с поклоном отозвался Милославский. — Уж и царевна-государыня, и государь Иван Алексеевич не позабудут твоей послуги…
— Надо полагать, и про меня, холопа верново, попомнят государи, как поставлю я на трон российский ково надобно, — хитро подмигивая и самодовольно откидываясь в кресле, сказал Хованский, не замечая тонкой иронии старика.
— А Языков, что с им? Ужли не нашли? — сухо, отрывисто задала вопрос Софья, которой показался неприятен тон и слова князя. — Это опасный змий. Раней всех надо бы прикончить изменника.
— Хо-хо, не нашли… Вот он где у меня…
И, опустив руку в свой глубокий карман, он снова вынул её, держа что-то зажатое в ладони.
С невольным любопытством окружающие сделали движение посмотреть, что в ней.
— Вот, — громогласно объявил князь и раскрыл ладонь, где лежало большое кольцо с крупной бирюзой, испещрённой золотыми знаками, — талисман, который всегда носил на пальце оружничий.
— Убит? Где, в кою пору? — спросил Милославский и за ним Софья. — Не слышно было, не доводили нам о том.
— И не могли довести. Жив ещё, собака, — радуясь впечатлению, произведённому появлением кольца, забасил Хованский. — Да все равно как мёртвый… Успел сбежать из дворца, предатель… Знал, што несдобровать ему. Чуяла кошка, чьё мясо съела. И кинулся на Хлыновку, к батьке своему духовному, к попу Андрею, где церковь святителя Николая за Никицкими… Чай, знаете…
— Ну, ну…
— Укрыл ево поп… Известно, не все пастыри государей чтят. Иные врагов царя и веры хоронить готовы у себя… Корысти ради. Вот хто по старой вере живёт, те инако. А энтот, никоновец[69], и рад был…
— Дале, дале…
— Я же и сказываю. Укрыл боярина. А Господь и не дал уйти еретику. Повстречал на дворе на поповском ево холоп один, из приказу Стрелецково. Признал и челом бьёт, мол, здрав буди, боярин Иван Максимыч… А тот затрясся, ровно стена помертвел. «Нишкни, — сказывает, — вороги ищут меня. Вот тебе перстень. Все деньги роздал. Ево бери. Дорогой-де, заветный. Спасёт меня Бог, приноси перстень — много отсыплю за нево…» А холоп, не будь глуп, — и принёс ко мне колечко-то. Коли там ещё ему журавля посулят, а я шельмецу полтину целую отвалил… И повёл он стрельцов за боярином. Поди, приведут скоро Максимыча…
— Ево не убивать одним разом. Попытать надо: как он к царице Наталье перелетывал? Как тайности наши все выдавал, слышь, боярин?.. И тебя прошу, князь…
— Хо-хо… Попытаем… В застенке в Константиновском и то все налажено[70]. Стрельцы иных изменников, кои успели казну свою схоронить, туда водят, поджаривают, постегивают, правду выпытывают… Хо-хо-хо-хо…
Князь снова раскатился довольным смехом.
— Ну, добро, добро, — оборвала Софья, которую, видимо, стала тяготить шумливая кичливость и панибратство старика. — С Богом, кончай дело… Ладно бы нынче все прикончить… Ивана бы Нарышкина сыскать… и все зубы ядовитые повырваны будут у змия… Другие — помоложе. Не так опасны…
— Што же, али помиловать надо молодших Нарышкиных? — осторожно снова задал вопрос Милославский. — Али крови испужалася, царевна?
— С чево надумал! Не испужалась я. На то шла. А сказываю: Иван всех главнее. Пока ево не возьмут — пусть не отстают ребята наши… Да старика Кирилку в иноки. Вот дело, почитай, наполовину сделано.
— Да, не много довершить останется. Иди же, князь. Слышал: Языкова бери. Да сыскать Гадена-волшебника. Да Ивашку Нарышкина, да…
— Уж знаю. Сам знаю: хто стоит на списке, тово и разыщем… Ни синь-пороху не останется. Я же сказал вам. Чево ж тут ещё языком молоть? Челом бью…
И пошёл было совсем к выходу князь Хованский, но неожиданно повернул назад.
— Эка, што было позабыл… Добро, на ум пришло. Ещё боярин Иван Фомин, сын Нарышкин, долго жить приказал: в дому у нево, за Москвой-рекой изловили гадину — и дух вон… Да, ещё… Вот потеха была… Как пошёл отец патриарх из палаты из Грановитой прочь — между попами да святителями затесался и князенька, горденя, дружок матвеевский, Григорий Ромодановский[71] с сынишком Андрюшкою… Попы на патриарший двор, и те двое за ними. Да, видно, побоялись отцы духовные, не укрыли ево. Тут, промеж патриарших дворов да Чудова подворья, на улочке и пристигли стрельцы-молодцы отца с сынишком, ровно зайца на угонках. Только их и видели, вечную память им дали… Хо-хо-хо… Попомнили князю походы Чигиринские[72], как изводил он стрельцов тяжёлой службою, поборами своими… А то, слышь, вот как ты, царевна-матушка, про змия про зубастово, яд источающа, помянула — ещё одно сказать надо… Затейники же стрельцы мои… Уж им на чоботы не наступишь… Пришло их ни мало ни много на двор ко князю старому, к Юрию Долгорукому. Бердыши, копья в крови, сами — тоже. А ему — рабски челом бьют: «Не погневайся-де… Ныне поутру ненароком убили-де сынка твово, свет Михаила Юрича. Лаять нас зря стал, сердце и не стерпело… Толкуют, сами ждут: што буде? Вытерпит ли старый волк? Вытерпел. „Воля Божья!“— только и сказал. А сам стонет лежит на одре, ноги, вишь, болезнуют. И двинуть ими не может… „Бог, мол, вам простит. Сами не ведаете, што натворили… Не вами то дело затеяно! Не вы виною“. — „А коли простил от души, — бают, — не поднесёшь ли чарочку? День больно хлопотный. Да и жарко, не гляди, что буря…“ И на то пошёл, угостить приказал. Дивуются наши. Одначе с чево на старика напасть, коли так пришипился, присмирел? Да и больным-больной… Только что не подыхает. Не тронули. Пить пошли.
— Н-ну?.. — захваченная рассказом, сказала Софья, когда Хованский оборвал свою речь и тоже протянул руку к новой чарке.
— Кхм… Пить, говорю, пошли, што там выдали им. Меду, сказывают, и вина крепково дали. А в опочивальню и вбежи старуха Долгорукая. Сама не своя… Ведьма ведьмой. Седые космы рвёт на себе, вопит, голосит: «Сынок ты мой родименький, любименький, единый ты мой, ненаглядненькой… Убили тебя злые вороги, псы лютые.. Прокляты буди они и навеки…»
Хованский, увлекаясь рассказом, даже заговорил старушечьим голосом.
— А князь и цыкнул на бабу «Молчи, дура! Чай, мне не меней твоево сына жаль. Да воем беды не поправить… И им, ворам, кары не избыть. Знаешь, по пословке по старой: „Щуку съели, да зубы оставили…“ Отольютца им наши слезы. Коли Бог допоможет, будут все висеть, как Иуды на осине, — на зубцах каменных по стенам Земляного да Бела-города…» И случись тут холоп один, што не захотел боярина покрывать от товарищей, за своих руку держал. Пошёл из покоя и сказал все стрельцам… Кинулись ребята, вмиг с хитрым злодеем со старым прикончили… Руки-ноги ему обрубили… Да в кучу навозу тута же, перед воротами кинули. Да ещё… сбегал один на погреб, из бочки рыбу взял невелику солёную, с головою, и ткнул в рот князеньке: «Грызи, мол, щуку и с зубами…» Хо-хо. Да ещё…
— Ладно, князь, вдругорядь доскажешь. Не пора ли посылать к Розенбушу, как хотел?
— И то, и то… Иду, государыня-царевна.
— Слышь, а святейший отец патриарх где? У себя, што ли? Не кроет ли на дворе своём ково? — спросил торопливо Милославский.
— Нету. Все там перешарили… Сам Аким в собор прошёл. А в подворье у нево не то под алтарями — в мышиных норках копьями шарили. Никово нету… Молит Бога теперь в соборе. И домой не идёт.
— Не тронул бы хто ево. Пускай молит.
— Не, хто тронет. Я не то никоновцам, а и нашим, капитоновцам[73], сказывал да иным: пальцем бы не рушили владыку. Вестимо, не след свару подымать из-за нево, из-за Акима из-за нашево в народе… И то, слышь, боярин, холопы боярские не покойны стали. И Нарышкины, слышь, надумали их собрать, оружье им дать и на стрельцов вести. А того холопья — куды больше, чем наших наберетца. Они задавят, коли накинутся голыми руками, ослопами[74] и то одолеют… Кабы плохо не было, боярин, — сразу спадая с весёлого тона при мысли о возможной опасности, заботливо произнёс Хованский.
— Пустое несут люди. Пусть и не думают стрельцы. Где им холопей собрать? Сколько бояр на нашей стороне. Поболе, чем и за нарышкинцами… А другое дело, вот што надо: отряди-ка поболе людей в Холопий да в Судный приказы… Да малость кабальных записей, да книги старые по ветру развей, поизорвать прикажи. Вот холопи на радости и станут за стрельцов да за царя Ивана волей-неволей. У ково не лихой господин, тово холопи сами не кинут. А лихим господам — и холопей иметь не надобно… Только не все изорви, гляди. Спустя время штобы можно было и поправить беду, слышь.
— Вот-вот, и я так само сделать хотел. А все же луче спросить, думаю. Уж, небось, будет сделано. Наша Москва — и не возьмут её не то Нарышкины — сами черти из пламени адова… Одно лишь жаль, што не приспела пора и Акимку сменить. Ково из старых попов на ево бы место? Не из никоновцев проклятых… Да, сам вижу, не пора… Всево сразу не обладить.
— То-то. Сам понимаешь, князь. Разум-то у тебя орлиный. Вера — велико дело. За Нарышкиных мало кому охота под обух лезть. А трон святейшего патриарха — не то мужики, бабы все в драку полезут… Ну, с Богом…
— Челом бью… Да, вот… Одна ещё докука, царевна-государыня… Овдовела ныне жёнка дьяка Ларивона Иванова. И сына не стало. А достатки у них изрядные были… Вот кабы мне ваши милости бабу посватали… Вот бы…
— Што же, сватай, князь, поможем, — не скрывая нетерпения, ответила Софья. — Што потом скажешь?
— Да все, почитай, сказано. Челом бью.
И вышел наконец из покоя.
— А што, слышь, дядя: не учинить ли нам вправду царём князя Ивана Хованского? Ишь, и теперь ещё, ничево не видя, он ровно отец родной нам. «Я да я… да попова свинья…» А как дело завершитца, он силу у стрельцов возьмёт… Не трудененько ль нам станет тогда?..
С таким вопросом обратилась Софья к дяде, едва вышел князь.
— И не думай, царевна-матушка. Кому Тараруй вреду али страху наделает, кроме как себе? На то он и Тараруй. Ведёшь ево, а он и величаетца. Словно на крыльях летит. А руку отнять — и носом в грязь зароет. Ково ни есть, надо иметь, дело бы повершить. А с князем, — с этим, с Ягеллонычем, — все легче будет сладить потом, чем с другим, хто поумнее… Вон и сынок ево к Катюше к нашей в женихи норовит. Ужли отдадим? Не кручинься о них, Софьюшка. Ино теперь дело подумать надо… Другая забота есть.
— Какая, Иван Михалыч?
Милославский не успел ответить.
— Царица Марфа Матвеевна к тебе, государыня, жалует, — доложили Софье.
— Вот оно, моё дело, само на порог, — шепнул Софье старик, когда она поднялась навстречу царице Марфе.
Заплаканная, измученная, вошла молодая царица в покой и сразу зажмурилась от света многочисленных свечей, которые горели здесь из-за тьмы, вызванной сухой грозою и ветром.
— Челом бить пришла тебе, царевна-государыня, — напряжённо-нервно заговорила царица. — Што творитца вокруг — не скажешь ли? Как быть, не научишь ли меня, вдову бедную, беззащитную?! И в мой терем стали забегать лютые мятежники… Ищут ково-то, грозят… Твоё имя поминают да брата-государя Ивана Алексеича. Ужли от вас приказано ругательство такое чинить мне, вдове честной! Знаешь жизнь мою. Как пред Господом, так перед тобой стою, царевна-сестрица. За што же поношение терплю?.. Ещё и не отмолила я души государя-супруга усопшего. Вон в четвёрток двадцату панихиду служить надо… А я из терему выйти не смею. Как жива до тебя дошла — не знаю… Сестрица, Софьюшка, али ты не знаешь? Али не видела?.. Глянь… Што творитца, глянь… Кровь всюды… Алтари Божий — кровью залиты… Отцов при детях на куски рвут. Сынов на отчих глазах топорами секут… На папертях храмов соборных трупы нагие лежат… Я ненароком глянула… Сестрица… Страшно, страшно мне… Укрой, защити, коли можешь… Софьюшка…
И в ноги царевне повалилась напуганная, потрясённая царица Марфа, трепеща от истерических рыданий.
Пока позванные боярыни приводили в себя молодую лову. Софья сидела как изваянная, и серым цветом лица, чертами крупными, твёрдо очерченными напоминая гранитные статуи египетские.
Только в немигающих глазах то вспыхивало, то угасало пламя какой-то мучительной мысли, тяжёлого переживания.
До этой минуты царевна выслушивала с интересом все доклады об ужасах, творимых по её воле. Правда, слыша о пролитой крови, о зверских убийствах, брезгливо морщилась девушка. Но она знала, что нельзя иначе.
— И яишни не состряпать, коли яиц не поколотишь, — успокаивала себя эта властная, честолюбивая душа.
И отгоняла назойливые мысли обо всём, что творится сейчас в Москве, имея в виду одну желанную цель: посадить на трон Ивана и воцариться таким образом самой.
Но вот вошла эта слабая, юная, хрупкая женщина. Не очень умная, не очень заботливая о людях. Но она увидала ужас, пришла, сказала о нём — и в глазах, в душе Софьи вырос во всей его величине образ того несчастия, какое по её воле началось и должно ещё не скоро кончиться.
Трупы, кровь, отнятые жизни, нагие, изрубленные тела…
Раньше — это были простые звуки, ступени, может быть, и грязные, но по ним только и можно взойти на трон московский…
И вдруг по одному слову, от первого вопля царицы Марфы эти ступени получили какую-то страшную, кошмарную жизнь. Тела нагие, ободранные, конвульсивно стали изгибаться, ворошиться под ногами. Раскрылись мёртвые, залитые кровью глаза… Бледные руки поднялись с угрозой, потянулись с мольбою к небу…
Зашевелились онемелые языки, из перерезанных гортаней вырвались проклятия и крики:
— Месть… месть и тут и там… За гробом…
Спокойно сидит Софья, видит, как, приходя в себя, садится на скамью бледная царица. Видит сияние свечей, движение народа в комнате, портреты на стенах, листы в богатых рамах, исписанные хвалебными виршами в честь её, Софьи, и от Полоцкого, и от Сильвестра Медведева, его заместителя…
И так же ясно, как все это, видит девушка ту страшную картину, которая, словно блеск молнии, озарила её глаза, так и стоит, мучительно-неотвязная. И бледнеет, как мел, серое лицо царевны, зубы начинают стучать, как в лихорадке.
«Разума, што ли, я лишаюсь», — мелькнуло в голове Софьи. Вскочив, она большими глотками осушила ковш с водой, принесённый для Марфы, и снова села, стала спокойнее размышлять:
«Как же быть?! Не поверни я так дела — меня и наших всех извели бы Нарышкины. Уж они бы не пожалели… Теперь бойню остановить — тоже дела не будет. Матвеева нет — Иван Нарышкин жив. Он да и другие пометят за все. Выходит эти трупы бесцельной жертвой, камнем, незамолимым грехом лягут на душу ей, Софье. Так и не стоит назад ворочаться… Поздно теперь… Кто знает, если бы раньше ей показали ясно ярко, вот как сейчас, что значит поднять мятежных стрельцов, — она бы и не пошла на это… Но теперь — поздно…»
— Да, не пора ещё! — почти вслух проговорила царевна.
И снова спокойное выражение овладело её большим, тучным лицом, расправились густые брови, разжались зубы, стиснутые раньше до боли.
— Вестимо, не пора, — негромко отозвался Милославский. Он всё время наблюдал за племянницей и словно читал в её душе все мысли, все смятение чувств.
Ничего не ответила царевна. Не любит она, когда кто-нибудь заглядывает ей в душу, даже такой близкий, умный и необходимый человек, как старик Милославский.
И потому она обратилась к царице Марфе:
— Легше ль тебе, сестрица, голубушка?
Давно уже на половине сестёр-царевен не слыхали от Софьи подобного вопроса, сделанного таким задушевным, ласковым, любовным голосом.
Давно, когда ещё ребёнком была царевна, никогда не ладила она с братом Фёдором и сёстрами, восстающими против властолюбивой сестры, но вот родился Иван-царевич, слабый, больной, беспомощный, и Софья так и прилепилась к братишке Ване.
Как самая внимательная нянька, семилетняя девочка ухаживала за ним. Самые нежные любовные слова расточала слабому ребёнку своим звучным голосом, и необычайной нежностью дышал этот голос…
Так же заговорила Софья в этот миг с царицей Марфой.
Марфа вошла сюда в порыве отчаянья, желая отвести душу, излить тоску, негодование…
И неожиданный искренний, любовный призыв Софьи, её тёплый вопрос изменил все в душе молодой женщины.
— Ох, што я, горемычная!.. Ты тем, злосчастным, помоги… Все, слышь, толкуют, от одново слова твоево все по-иному стать может… Скажи же… Не дай!.. Ужли ты так сотворила?! Ужли ты тово желаешь? Сестрица, Софьюшка…
— Пустое толкуют… Не желаю я тово, да и поделать уж ничево не могу, — не глядя в глаза невестки, устремлённые на неё, отвечала Софья. — А што можно — сделаем, вот с боярином Иван Михалычем… Да с иными… Верь мне. Слово тебе даю. А моё слово — свято… И вот што… Ты нынче не в себе, невестушка… Иди, поотдохни. А наутро приходи ко мне. Увидишь, што делать стану. И ты в помочь станешь…
— Вот добро, Софьюшка. Господь тебе воздаст. Мы, стало, и Ивана Кириллыча им не дадим, и других, ково можно… И батюшку царицы-матушки… Отмолим у злодеев… Правда? Сестрицы же нас обеих послушают… Иванушку научим. Он просить станет. Коли они ево царём зовут, должно же им царя слушать.
— Не думаю тово, Марфушенька. Уж разошлися больно эти… люди-то все эти, которы…
Софья не находила слова, как назвать своих же сообщников.
— Ну, там што Бог даст… Приходи, увидишь… Христос с тобою…
И любовно, под руку проводила царицу Софья до самой двери, передала её провожатым боярыням.
— Прости, Иван Михалыч, уж и ты с Богом ступай… Неможетца мне. Пораней приходи наутро… Да, слышь… Вон толкуют — стали люди всякие хитить добро наше царское… и чужое… И тех, корысти ради, побивают да грабят, ково бы и не надобно… Уж порадей, штоб не было тово… И срам, и грех лишний на… нашей… на моей душе будет. Слышь, молю тебя, боярин… Поставь стрельцов особых… там уж, как ведаешь…
— Слышу, разумею, Софьюшка. Духу не теряй… Нелегко оно, што говорить… Да, слышь, вон скамью эту двинуть?.. Што сил надо? Пустое… Дело не стоящее. А трон попытайся с места тронуть… Да целу державу великую… што не одну тысячу лет нарастала, осаживалась… Тронь-ка её… Не то руки подерёшь в кровь, а и душе достанетца… Так о том надо было ранее думать, как дело мы с тобой починали… А ныне — ау, Софьюшка. И хотел бы иной раз посторониться, в крови, в грязи не обваляться… никак нельзя… Море крови кругом… Не плыть поверху, так тонуть в ней надо… Помни, Софьюшка…
После этих слов, звучащих печальным предсказанием, невольной угрозой, откланялся и ушёл старик.
А царевна всю ночь провела без сна, то кидалась на ложе, то босая, в сорочке, металась по опочивальне, подходила к распахнутому окну, за которым шумели старые тёмные деревья дворцового сада.
Ветер улёгся, буря стихла. Тучи ещё проносились тяжёлой грядою, но уже в просветы между ними кой-где проглядывало темно-синее ночное небо, трепетно выглядывали ясные звезды.
Но прохлада ночи, её спокойная красота и тишина не давали отрады царевне.
Видела она неотступно перед собою бесконечную лестницу, сложенную из окровавленных тел… Идёт она, Софья, вверх по этой лестнице. А ступени-трупы шевелятся, извиваются под ногами; лепечут проклятья мёртвые, бледные уста; глядят с укором остекленелые глаза, подымаются к небу с мольбой о мести мёртвые, закостенелые руки…
Глава IV. ПОСЛЕДНИЕ УДАРЫ
Пока в тереме Софьи намечались пути и цели дальнейших событий, резня и бойня в Кремле и по всей Москве не прекращались…
Кроме тех, о ком говорил царевне Хованский, стрельцы ещё изловили и убили в Кремле приказного дьяка Аверкия Кириллова, подполковника Григория Горюшкина, не хотевшего пристать к мятежникам. Тела их, как и других убитых, были унесены через Спасские и Никольские ворота к Лобному месту.
— Шире дорогу… Боярин Ромодановский идёт, — глумливо кричали пьяные злодеи, волоча по земле изуродованное тело…
И так величали каждого мертвеца по чину, званию, по имени его.
А там — двумя рядами по сторонам дороги — бросали трупы…
Сюда же валили и тех, кто был убит в свалках, имевших место в Земляном и Белом городе за этот день.
После полудня, пробив поход во все двести барабанов, главные стрелецкие отряды вышли из Кремля, оставив везде караулы.
Но до самой ночи отдельные отряды рыскали по дворцовым дворам и везде по Москве, разыскивая по списку осуждённых людей.
Настала тёмная, безлунная ночь.
Постепенно стали откатываться обратно в свои слободы и посады последние волны бунтующих стрельцов…
И закопошились иные тёмные силы… Убийцы, тати, рассчитывая безнаказанно поживиться в грозной суматохе, — вышли на работу.
Но тут их ждала неожиданная и быстрая кара.
Отряды стрельцов останавливали каждого, кто шёл в темноте с какой-нибудь ношей. При малейшем подозрении, что вещь украдена или взята грабежом, пойманного тут же убивали без пощады и труп относили на Красную площадь, валили в общую кучу…
До сорока таких убитых набралось за ночь…
Московский люд, слыша безумные крики о пощаде, разрезающие ночную тишину, дрожал от страха в своих жилищах, плотнее прикрывал двери и окна, жарче шептал молитвы о спасении от зла…
Порою большие отряды стрельцов с фонарями, с пылающими факелами проходили по улицам, под начальством всадников, одетых не в стрелецкое, а в «дворцовое», придворное платье.
Это искали по указаниям доносчиков людей, которые успели убежать днём от предназначенной им гибели.
Один такой отряд появился и в Немецкой слободе, у ворот дома датского резидента Бутенанта фон Розенбуша.
На громкий стук вышел сторож.
— Чево надо? Ково черти носят по ночам?
— Отворяй по приказу государя-царя Ивана Алексеича, слышишь, собака, да поскорее, пока жив…
— Царя… Ивана… откуда такой?.. Пётр-царь, сказывали… Ково надо, сказывайте. Што за люди? Не то и отпирать не стану…
— Резидента самово..: С Верху мы присланы… От царя… от царевны Софьи, слышь, собака… Отворяй…
— Ну, так бы толком и сказали, — заметил сторож, раскрывая ворота и унимая огромных датских псов, норовивших кинуться на незваных гостей.
Розенбуш, неодетый, уж был на крыльце.
— Кто там?.. Што там?.. Кафари… какой люд?.. Зашем польночни нападай?..
— Без напасти мы, Андрей Иваныч, к тебе безо всякой. От царя посланы. Обыск учинить, как весть нам подана, што кроются у тебя недруги ево царсково величества, государя Ивана Лексеича, лекарь-иноземец Данилко фон Гаден да сын ево, Михалко-стольник.
— Нет, это врот ваши шпион. В мой дом нет никакой чужой шеловек… Искайте, если надо… Но я дольжен вам сказать, я буду жаловать на мой король…
— Ну, там жалуйся… А мы оглядим, как надо, все норы твои. Вали, ребята…
Был осмотрен весь дом, перешарены сундуки, шкапы — нигде не нашлось тех, кого искали.
Ушли обыщики.
А через час снова подняли весь дом, опять вломились в ворота:
— Эй, немец, подымайся, вялая твоя душа. Изловили сына Данилина; а он толкует, што у тебя отец прятался весь день. Велено поставить вас пред очи друг друга. Бери его, ребята…
Резидент, неодетый, напуганный, стоял и не знал, что делать.
Жена его кинулась в ноги окольничему Хлопову, который вёл отряд:
— Помилуй. Дай хоть одеться мужу… Он захворает, если поведёте его так, ночью. Я именем матери твоей прошу.
Так лепетала по-немецки, обливаясь слезами, госпожа Розенбуш.
— Што она лопочет, растолкуй мне, слышь, Андрей Иваныч, — обратился Хлопов к резиденту.
Тот, сам глотая слезы, перевёл речи жены.
— Ну ладно, одевайся… Поспеем и то. Ишь, светать начинает… Всю ночь из-за вас, окаянных, в седле торчи… У, идолы…
Быстро оделся резидент. Подвели ему осёдланного коня.
— Ну вот, ещё на коня ему… С нами и так, пеш пойдёшь…
Снова пришлось жене вмешаться, упрашивать Хлопова.
Тот согласился наконец. И рядом выехали они из ворот. А стрельцы скорым шагом двинулись за ними.
Первые жертвы вчерашней бойни, которых увидал по пути резидент, наполнили душу его ужасом. Он ехал, стараясь не глядеть по сторонам.
Караульные стрельцы у Никольских ворот выбежали им навстречу.
— Изловили-таки чернокнижника-лекаря!.. Вон он, доктур Данилко!.. Давай ево сюды… Сами расправимся, и водить не стоит далеко.
— Дорогу, черти, — крикнул Хлопов. — Какой вам Данилко? Посла ведём, слышь, к государю да к царевне-государыне… К Софье Алексеевне…
Недоверчиво поглядывая на иноземца, раскрыла ворота стража. Как только отряд Хлопова миновал их, тяжёлые створы снова захлопнулись с визгом на тяжёлых, ржавых петлях…
Не успели они сделать десятка шагов по грязной бревенчатой мостовой, как им навстречу показалась густая толпа стрельцов и солдат.
Впереди шёл стрелец и тащил за волосы труп молодого человека, лет двадцати двух, совершенно нагого, избитого, изуродованного.
Несколько ран от копий зияло на груди, на животе. Раны были свежие, кровь не успела свернуться. И при толчках о выбоины бревенчатой мостовой из них сочилась и брызгала кровь.
— Шире дорогу. Стольник Михайло Данилыч Гадин шествовать изволит…
А за этим телом волокли другое, старика лекаря Гутменча, друга фон Гадена.
От ужаса и горя Розенбуш едва удержался в седле.
— Ишь, покончили с Гадиным… С кем же теперя тебя на очи постановят? — спросил у него Хлопов. — Вон и другого немца ухлопали. И за што бы это?
Розенбуш молчал, провожая взглядом дикое шествие.
Снова распахнулись ворота — и с гиком, со свистом убийцы миновали их своды, прошли по мосту и потащили дальше оба трупа, туда, к Лобному месту, где груда мертвецов росла и росла…
У Постельного крыльца, выходящего во дворцовый двор, недалеко от теремов царевен сгрудилась большая толпа стрельцов и разного служилого люду, когда подъехал сюда Розенбуш со своим провожатым.
Кое-как пробрались они вдвоём на крыльцо, при этом Хлопов то и дело возглашал:
— Пропустите скорее… Посол идёт к царю-государю да к царевне…
Вот прошли они передний покой, но на пороге второго пришлось остановиться. Дальше идти не было никакой возможности, так много народу, особенно стрелецких начальников, набилось в палату.
В глубине, на возвышении сидела царица Марфа и царевна Софья.
Кругом — ближние бояре: Милославские, Голицын, оба Хованские и прочие.
У Софьи усталый, истомлённый вид, но на лице её нельзя было подметить ни следа колебаний или той жалости, которою вчера была охвачена душа царевны. Ясно глядели её глаза. Властно держала она голову, упрямо и твёрдо сжимала свои полные, яркие губы.
Князь Иван Хованский говорил со стрельцами:
— Призвали вас государыни наши, царевна Софья Алексеевна и царица Марфа Матвеевна, чтобы благодарить за службу усердную и верную. Скоро, видно, все придёт к доброму концу. Весь народ московский, и бояре, и царевичи служебные — все склоняются Ивана-царевича на царство посадить. Надо лишь самых лютых врагов царских, Ивана Нарышкина и Кирилу Полуэхтовича, да иных немногих, разыскать и судить. А тамо — што Бог даст… Любо ли так?
— Любо. Вестимо, любо! — крикнули как один все стрельцы и дворяне. — Как ты скажешь, батюшко наш, князь Иван Андреич, так нам и любо…
Царица Марфа, когда Хованский заговорил об Иване Нарышкине, сделала движение, словно собираясь говорить. Но Софья удержала её. А крики, от которых задрожали стены покоя, совсем лишили мужества и сил царицу.
— А как ведомо всем, што той Кирила Нарышкин о царе промышлял лихое, то и надо ево в монастырь куды в дальний послать, постричь навеки. Так любо ли?
— Любо… Любо…
— А и Наталью Кирилловну, государыню вдовую, в покоях бы царских не мутила — тоже постричь надо, от Верху подале сослав. Любо ли?..
— Любо, любо… Любо… Меней свары буде промеж государей… Вестимо…
— А ещё государыни изволят: бабу бы эту, хворую, — отпустить бы ко двору, как она к лихим делам мужа непричастна.
И Хованский указал на женщину лет сорока, скромно одетую, со следами побоев на лице, всю в пыли и грязи, которая робко прижалась на полу, за креслами обеих государынь.
Это была жена Даниила фон Гадена.
Её вместе с лекарем Гутменчем приволокли в Кремль. Лекаря убили за то, что он не мог верно указать, где спрятался Гаден. Принялись и за жену Даниила. Но вышли обе государыни, и мольбы Марфы успели повлиять на мучителей. Её оставили пока, желая знать, что скажет царевна Софья, впервые открыто выходящая из своего терема к ним, верным её слугам, покорным исполнителям замыслов и планов.
От имени Софьи Хованский объявил им волю царевны.
Едва умолк Хованский, Марфа поднялась с места и заговорила:
— Люди добрые, прошу вас, не троньте её. Я и царевна вас молим о том. Што люди скажут, коли говор пойдёт, што жён изводить вы стали… Не мужское то дело… Грех и стыд… Оставьте её.
— Чево оставить?.. Мужа не крыла бы… Другой день ищем аспида, как сквозь землю провалился. Её не станем изводить… Лишь попытаем малость…
Так закричали было со всех сторон в ответ на просьбы Марфы.
Но тут случай выручил напуганную, полумёртвую от ужаса докторшу.
— Нарышкина поймали… Эй, все вали сюда… Поймали ево, изменника…
Эти громкие крики донеслись со двора до самых покоев. Мигом кинулись во двор стрельцы. Только Розенбуш с Хлоповым остались за порогом этой комнаты, не решаясь войти.
— Ну, вот и ладно, — заговорила в первый раз за все утро Софья. — Слышь, Елена Марковна, уходи скорее… Севастьяныч проводит тебя… Авось стрельцы не вспомнят… С Богом…
И, не обращая внимания на благодарность обрадованной женщины, Софья обратилась к Марфе:
— Сама теперь видела: и мы с тобой — не в своей, в ихней власти покуда… А што можно, все делаем… И поудержим, где надо. Вон слышала, как князя Ивана полюбили стрельцы. Иначе не величают, как батюшко наш…
— Ещё бы не величать, — самодовольно поглаживая усы и поправляя богато расшитый воротник своего кафтана, вмешался было Хованский.
Но Софья, словно и не слыша его голоса, продолжала:
— А попробуй тот же Хованский им што не по нраву сделать, посмей против шёрстки погладить их, безудержных… Так и от «батюшки», — одни ошмётки полетят…
— А што ты думаешь… Твоя правда, царевна, — нисколько не смущаясь невниманием Софьи, опять вставил словечко князь Тараруй и стал в раздумье крутить свой ус и поглаживать холёный жирный подбородок.
— Вот то-то и есть… Так потерпим, царица. Немного осталось. Горше было — минуло. Меньше осталось… А ещё знай…
Софья остановилась.
— Иван Андреич, погляди, хто там стоит? Никак датский резидент. Хто, пошто привёл ево сюды? И не звала я…
Хованский оглянулся, узнал Розенбуша и через весь покой крикнул ему:
— Здорово, Андрей Иваныч… Пошто ты к нам?.. Хто звал?..
— Да твоя же милость посылать изволил, на очную ставку с сыном докторовым, с Михалком требовал… А ныне мы…— стал докладывать Хлопов, выступая вперёд.
— И то, и то… Запамятовал я… Пожди…
И, обращаясь к Софье, Тараруй негромко сказал:
— Наврали все, слышь, про немчина этово. Не крыл он никово у себя. Пустить ево — и лучче. Немчин добрый. Я сам с им пировал сколько разов.
Софья только рукой махнула в знак согласия.
— Гей, слышал, Осипыч, — крикнул Хованский Хлопову, — царевна приказывает отпустить немчина. Дело уж разобрали и без ево… Да побереги сам Буша-то. Наши больно разошлися. Подвернетца кому под руку — и поминай как звали… А потом хлопот не оберёшься с им, с колбасной душой… Гайда…
Розенбуш и Хлопов, отдав поклоны, вышли.
— Пойду и гляну, матушка-государыня, какова там Нарышкина ещё изымали. Ужли Ивашку? — объявил Тараруй.
Но не успел он дойти до двери, со двора послышались громкие вопли, безумный крик, мольба о пощаде, полная тоски и боли…
Тараруй почти бегом кинулся из покоя, бормоча:
— Эх, жаль, коли без меня прикончат парня…
Марфа при первом вопле, долетевшем сюда, зажала руками уши, закрыла глаза и кинулась на высокую грудь Софьи, где её небольшая, красивая головка совсем казалась детской, маленькой.
Софья не шевельнулась, пока не вернулся Хованский.
— Ну, хто там? — спросила она князя.
— Ваську, Филимонова сына, Нарышкиных, прикончили… А Ивана все нет. Наши уж серчать стали. К Наталье много раз заглядывали, да, видно, далеко спрятан. Не нашли. Сказывали ей: не выдаст ево да Кирилу Полуэхтовича — так худо будет. Всех с корнем изведут, хто тут во дворце и есть… Придёт время — сама выведет, уж не миновать… А Наталья-то, как немая. Сидит да молчит, глазищами только водит… И где она их только запрятала? Знать бы мне… Было бы укрывальщикам…
Слова князя словно обжигали царицу Марфу. Она вздрагивала от них, как от сильных уколов. И будь Тараруй не так ограничен, он понял бы, как поняла Софья, что царица Марфа знает, где нашли убежище эти двое и другие из Нарышкиных.
Но Софье не хотелось натравливать на молодую царицу безумных палачей. Она решила действовать иначе.
— Вот так всево лучче, — обратилась царевна к Хованскому. — Сказать стрельцам, што не стоит и время терять, шарить попусту… Как пригрозить покрепче Натальюшке — сама вправду отдаст братишку Любимова, смутьяна, составщика[75] наиглавного ихнево… Я ноне и то скажу ей… Може, послушает… Только бы знала Наталья, што без тово — конца делу не будет… Поразумел, князь, али нет?
— Ну вот… Я же про то сказал тебе, да я не поразумею!.. Уж ты меня слушай, царевнушка ты моя, матушка. Все ладно будет… Чистенько станет перед троном, как вот на ладошке… И ступай… И веди царя Ивана Лексеича… А мы, ваши рабы и слуги, на вас станем радоватца да поминать, как мы вас, государей, на царство ставили. И будет нам от всей земли слава вечная…
— Будет, будет… Уж што и говорить. Я вот, князь, попытаюсь к Наталье пройти. Може, ныне все и прикончитца… А ты за своими ступай…
— Иду, иду, матушка-царевнушка… Да вот, послушай, ещё одно сказать тебе надобно. Как вот и бояре… Стрельцы мои сказывают: пожитки да домы опальных бояр, какие от побитых да от сосланных осталися, да ещё какие будут, — штобы на вольный торг пустить… По цене по самой дешёвой… А покупать бы тех пожитков нихто не смел помимо их, стрельцов же… По той причине, что обиды чинили и протори[76] стрельцам все те побитые да сосланные бояре… Да они же, стрельцы, вам, государям, службу верно правят, им-де и жалованьишко какое ни есть от вас, государей, видеть надобно… И ещё…
— Ладно, добро… Так и сделай, как просют… Бояре потолкуют с тобой… Слышь, дядя… И ты, князь Василий… А ныне то сделаем, што сказывала. К Наталье пойдём…
— Пусть ищут, пусть берут! — только и сказала Наталья Софье в ответ на все доводы царевны. И так поглядела на золовку, что даже эта твёрдая девушка почувствовала смущение.
— Как знаешь. Стрельцы до завтра сроку дали. Завтра я ещё приду, — сказала Софья и вернулась к себе.
На другое утро, около полудня, когда царевна Софья с царицей Марфой и боярами направились опять к Наталье, зазвучали набатные колокола. Новая жертва попала в руки стрельцам.
Доктор фон Гаден, одетый в нищенское рубище, два дня скрывался в Марьиной роще, не смея выйти из чащи даже для того, чтобы попросить у кого-нибудь из окрестных жителей кусок хлеба.
Его лицо и наружность были всем слишком хорошо известны, и бедняк не решался выйти, опасность была слишком велика. Но голод сломил старика.
Прикрыв, насколько было возможно, лицо, пробирался он по улицам Немецкой слободы к знакомому аптекарю-голландцу. И уже был близко от его усадьбы, как показалась кучка стрельцов.
— Стой… Што за птица?.. Не из Верху ли подослан, от лиходеев царских?.. Оттуда много таких старцев шлют… Пощупаем и этово… Не зря приказ дан: всех бродяг имать…
И один из стрельцов сбил шапку с Гадена.
— Ну-ка, разглядим, што за старец, откудова?
— Братцы, — крикнул радостно другой, пожилой бородач, — да энто ж Данилка проклятый… Знаю я ево… Как в Верху был — он и мне раз снадобья своево давал проклятова. Занедужилось мне тогда… А я при государе был… Он, он, еретик, чернокнижник, дружок матвеевский… Волоки, ребята, ево прямо к батюшке нашему ко князю Ивану… Пожалует он за такую находку… Тащи…
И старика, оглушённого, полубесчувственного, приволокли в Кремль, к Золотой решётке, где проходили в эту минуту царица и царевна по галерее Красного крыльца.
— Софьюшка, голубушка, слышь, гляди, — старика волокут… Пойди скажи им, — стала молить царица Марфа Софью.
И не хотела глядеть царица, а взоры её были прикованы к отвратительному зрелищу.
Дряхлое, худое тело моталось в руках у палачей, которые хотели допытаться у Гадена: где он крылся всё время? Требовали, чтобы сознался он в колдовстве и в том, что отравил царя Федора по наущению Нарышкиных.
— Не послушают они меня, — покачав головой, сказала Марфе царевна Софья. — Вот сама увидишь.
И двинулась со всеми окружающими туда, почти к самому месту, где палачи играли роль судей, подвергая допросу полумёртвого старика, истощённого голодом, обессиленного страхом смерти.
Хованский тут, конечно, разыгрывал главную роль и, допрашивая Гадена, пересыпал вопросы гадкой бранью и проклятиями.
— Ты, жидовин треклятый… Еретик, волшебник, семя адово. Што молчишь? Отмолчатца мыслишь… Ну уж не жди тово… Тут мы судим, а не бояре безмозглые, которых морочил ты… Видишь, какие молодцы… За веру святую, за государя-батюшку душу положим, спуску никому не дадим… Кайся же, как на духу, треклятый… Ткни ему по скуле, Сенька… Раскроет зев-то… Ишь, и губы склеил… Ровно мёртвый… Слышь, еретик? Скажешь все, не станешь покрывать Нарышкиных, объявишь народу, как они подкупали тебя: царя бы усопшего, Федора, извести… Милость тогда явим тебе, собаке. Одним разом покончим с аспидом. А молчать станешь… Ну, не взыщи тогда… Гей, огоньку несите… Да шпынечков. Мы и тут, не хуже как в застенке, с им поуправимся…
— Стой, не надо, — властно заговорила Софья, совсем приближаясь к месту пытки. — Слышь, князь, облыжно на доктора донесли… Я вот и царица Марфа Матвеевна своими очами видели: по правде службу правил Гаден… Все дни была я при брате-государе. И каждое снадобье, какое готовил, сам опробует, бывало, сперва… И остаточки допивал. Можешь мне поверовать. Чай, и вы знаете меня, люди добрые. Так пустите старца… Пусть живёт.
— Пустите, ох, пустите… Што вам от нево? Я за нево и выкуп дам, коли надо… Не повинен дохтур… Я не раз видела… Вот, на крест вам божуся, на церковь Божию… Откушивал он и питьё… И порошочки всякие пробовал… Пустите ж его. Челом вам бью… Князь, не губи старика… Люди добрые, не убивайте ево…
И до земли поклонилась стрельцам и Хованскому царица Марфа.
Палачи, державшие Гадена, против воли отпустили старика. Другие переглядывались, негромко переговаривались между собою. Задние, которым плохо было видно и слышно, что творится на месте допроса, влезали друг другу на плечи, кричали передним:
— Што же стали? Кончайте с жидовином — да на Пожарево… Али царицы сами, государыни, допрос ведут?
Передние им не отвечали. Они поглядывали на Хованского, ожидая, что скажет их батюшка Тараруй.
Гаден при первых звуках знакомых женских голосов словно ожил.
Раньше — чтобы не глядеть в глаза смерти, в лицо своим мучителям-убийцам, — он зажмурился крепко, сжал плотно бледные, тонкие губы, на которых темнела засохшая липкая пена, и только мысленно молил небо о спасении, мешая старые, полузабытые молитвы израильского народа с новыми, заученными позже, когда он, последовательно становясь католиком, протестантом, наконец принял православие, подобно своему сыну.
Костлявая, бескровная рука была прижата у него к груди, и ею он то осенял незаметно себя латинским крыжем[77], то творил безотчётно троеперстное знамение креста, то ударял слегка в грудь кулаком, как это делал ещё юношей, совершая моление в синагоге.
И голоса Софьи, царицы Марфы показались ему райскими голосами. Очевидно, Бог услышал мольбы старика, прислал спасение.
Преодолевая страх; раскрыл Даниил-Стефан старческие, воспалённые глаза, сделал осторожное движение и вдруг с раздирающим воплем кинулся прямо к ногам обеим женщинам. Он приник к их коленям, целовал их платье, жалобно выл, охал и бормотал, невнятно, прерывисто шептал своими пересохшими губами:
— Ангелы Божий… Спасли… спасли… Да воздаст вам Господь Адонаи[78]… Бог Израиля, Христос распятый и Богоматерь, Пречистая Дева и все пророки… Я же знал, што вы спасёте. Разве ж я не лечил мою царевну Софьюшку, когда она ещё вот какой девочкой была? Когда ей бо-бо было… И старый Данилко разве не помогал ей? И ночи проводил у её постельки… И царицу Марфу лечил старый Гаден… И помогал… Всем помогал. А если Бог не хотел дать веку царю Федору Алексеевичу, моему благодетелю… Чем же виноват старый лекарь?.. Он старый. Ему, Данилке, и так скоро помирать… За что же мучить ево?.. Бог увидел… Бог спас…
— Ну, буде, продажная душа… Не погневайтесь, государыни… А не жить ему, еретику. Вон и тут колдует… Глаза отводит вам, государыням, как отводил при самом государе опочившем… Вам виделося, пьёт свои снадобья да зелья пагубные жидовин-колдун. А он и не отведывал их. Глаза вам отводил… Ступайте с Богом по своим делам государским… Вон и тут он свои чары творит… Крыж латинский из руки делает да троеперстное знамение… Один конец еретику. Собаке — смерть собачья…
Так неожиданно, грубо прозвучал голос Тараруя. Князь сам рванул с земли Гадена, отбросил его от обеих заступниц — прямо к палачам, которые сейчас же снова ухватили старика.
Марфа задрожала, видя, что делают с Гаденом. Но не могла двинуться с места.
Тогда Софья, лицо которой потемнело от сдержанного гнева и ярости, охватила рукой царицу и почти насильно повела её прочь. Только взгляд, которым обменялась царевна с Милославским, не предвещал ничего доброго Хованскому. Жалобные крики старика, которого тут же стали добивать стрельцы, долго доносились до слуха женщин, торопливо покидающих место казни.
Тяжела была сцена, которая разыгралась сейчас на площади у Золотой решётки.
Но не меньше перестрадала Марфа и во время короткого свидания Софьи с Натальей, на которое почему-то сочла нужным привести её царевна.
— Как скажешь, матушка-государыня? Надумала ль, о чём я толковала вечор? Мешкать не приходитца. Слышишь, што у решётки творит народ? Видела, какую они расправу чинят с боярами и с другими, хто не по их воле делает… Пожалей себя… нас всех… бояр… И сына свово пожалей, царица. Гляди, волна хлестнёт — все слизнёт… Богом тебя молю, дай весть Ивану Кириллычу: вышел бы сам… Не ждал бы, пока дворец и терема со всех четырех концов подожгут… Тогда поневоле выйдет…
Ни звуком не отвечает Наталья. И только горящие ненавистью и презрением глаза прожигают Софью.
— Матушка-государыня, — заговорили тогда тётки царевны, которых тоже позвала Софья за собой, — смилуйся надо всеми нами… Скажи, где Иван Кириллыч. Пусть выйдет. За што нам погибать…
— Да, может, и нет ево в терему… ни во дворце… Может, бежал он… Вот и скажите вашим душегубам… Не была я Иудой и чужим людям, и своих не предам на казнь смертную, на лютое мучительство…— ответила тёткам Наталья.
А сама все не сводит глаз с Софьи.
«Иуда»… это мне она», — подумала царевна. Но не смутилась нисколько. Большую муку пережила девушка позапрошлой ночью. Теперь только взгляда царицы Натальи не может выдержать Софья. А все другое ей нипочём.
И тут же снова заговорила:
— Государыня-матушка, што уж так разом: и казнь, и пытку поминаешь. Гляди, не звери же они. Люди тоже. Увидят, што волю их сотворили, — и подобрее станут… Ну, сослать куды алибо в монастырь, в келью уйти прикажут и брату, и родителю твоему. Уж, видно, такова воля Божия. Он из праха людей подъемлет и во прах низвергает.
Сказала — и глядит: дошла ли до цели стрела? Удачно ли напомнила царевна ненавистной Наталье о низком происхождении, о бедности, из которой царь Алексей вознёс её на высоту трона.
Но Наталья словно и не слышит ничего. И не плачет даже. Теперь заплакать нельзя. Лучше пусть разорвётся грудь, только бы Софья не видела слез, не слыхала рыданий и жалоб Натальи.
— Государыня, — заговорили наперебой бояре, боярыни, тётки, все, кто тут был, — и вправду… Велика милость Божья… Под Его святым осенением… Пусть выйдут обое. Патриарха позовём… Иконы возьмём… Ужли не послушают?.. Чай, уж напилися крови изверги до горлушка… Може, не отринут слез и молений наших…
Долго слушала, не двигаясь, Наталья. Потом поднялась, обратилась к матери:
— Матушка, иди в терем к царевне Марье… Зови брата. Веди ево к Спасу Нерукотворенну… А там да буди воля Божия… Скажи… скажи брату… не предавала я ево… Скажи… Да ты сама слышала… Да Петрушу туды покличь… Пусть видит и он… Пусть помнит… пусть…
Она не досказала. Ноги подкосились, не стало голоса, померкло в глазах.
И снова безмолвная, как мёртвая, опустилась она на место, сидит, не шелохнётся.
Подняли её боярыни, повели в дворцовую небольшую Церковь на Сенях, где хранился древний чудотворный образ Нерукотворенного Спаса.
Привели и Ивана Нарышкина туда. Пока пришлось прятаться по чуланам и похоронкам в покоях доброй царевны Марьи Алексеевны, исхудал красавец Нарышкин. Обрезанные коротко волосы ещё больше сделали скорбным, страдальческим весь облик заносчивого, легкомысленного прежде юноши.
Словно отпевание над живым мертвецом совершалось в тесной, небольшой церкви. Кончилось моление. Иван исповедался, приобщился и был пособорован, как умирающий.
А глаза его горели жаждой жизни и огнём молодости… Молодая грудь вздымалась так порывисто и сильно…
Не выдержала Наталья:
— Софьюшка, доченька моя милая… Прости, за все прости, в чём виновата перед тобой… В чём мы с роднёю провинились перед вами всеми… перед сыном Иванушкой!.. Пускай… пускай он царит… Петруша хоть и погодит мой… Софьюшка… Не губи… Все от тебя идёт… Ты все можешь… Спаси… Не губи брата… Гляди: молод он… Гляди: какой он… Пожалей его… Молю тебя…
И, валяясь в ногах у Софьи, Наталья ловила её руки, целовала их, обливала слезами.
С непонятным, не детским спокойствием смотрел до сих пор Пётр на все, что творилось перед ним. Полуоскалив стиснутые зубы, сжав кулаки, мальчик боялся сделать малейшее движение, издать хотя бы один звук. Ему казалось, что тогда он станет каким-то страшным… Кинется на неё, на ненавистную сестру Софью, будет выть, кричать, вонзит свои зубы глубоко-глубоко в большие обвисающие щеки царевны, станет рвать их… А за это — будет горе и матери, и дедушке Кирилле, и всем… Вот почему стоял и молчал мальчик. Только когда упала Наталья в ноги падчерице, он с недетской силой, стараясь поднять её, отчаянно, громко зарыдал. Подбежал Куракин и почти унёс на руках Петра, потерявшего сознание.
Все стояли, потрясённые, безмолвные, не имея сил вмешаться, сказать что-нибудь, на что нибудь решиться.
— Матушка, царица-государыня, — наконец заговорила и Софья каким-то сдавленным, горловым, не своим голосом.
И сильными руками подняла Наталью, прижав её к своей рыдающей груди, только и повторяя:
— Матушка, государыня… Да што ты…
И, наконец подавив громкие рыдания, заговорила быстро, повышенным, но искренним голосом:
— Кабы могла я… Богом клянуся… Вот на сей образ чудотворный Спаса Пречистого, Христа Искупителя возлагаю руку свою… Не стала бы говорить тебе… Не искала бы погибели Ивановой… Да, слышь, нет помочи иной… Коли не сделать по прошению стрелецкому — и Ване, и Петру — братьям-государям не жить… Сама ли не слышала, какие речи вели с тобой стрельцы?.. Угрозы их помнишь ли? И совершат, как грозили… Вот и подумай: братьев ли государей на смерть отдавать нам али Ивана-дядю на крыльцо вести?.. Сама решай… сама думай…
Но Наталья все силы исчерпала в последнем порыве.
И только молча взяла под локоть брата. Софья с другой стороны держит его и говорит:
— Я попытаюся… Я скажу им… Пусть не отымают жизнь… Не страшись так уж, дядя Иван Кириллыч… Бог даст… Охранит тебя Спас Нерукотворенный…
Патриарх встал сзади с образом Одигитрии-владычицы в руках. Нарышкин обернулся к Софье:
— Челом и я тебе бью, царевна… Прости за обиды мои, вольные и невольные. Дай Господь, моей бы кровью и кончилося это смятение… Стерплю до конца… Как Бог заповедал, за нас распятый…
И трижды, по обычаю, прикоснулся к губам предательницы своей.
Силой веры вдруг словно возродился этот человек и твёрдо умел встретить минуту смерти.
Колебалась, как огонёк в лампаде, слабая надежда на спасение теплилась в душе у всех присутствующих, подогреваемая властным внушением царевны Софьи.
Как только Иван Нарышкин с Натальей и Софьей показался на крыльце в виду мятежников, заполняющих всю площадь, пьяных, возбуждённых, страшных на вид палачей в одних рубахах с обнажёнными руками, всем стало ясно, что спасенья нет.
Бессознательно вырвался Иван из рук женщин и кинулся к патриарху, под защиту образа Богоматери. А Софья и Наталья упали на колени, стали молить стрельцов о пощаде.
Затрещали барабаны, загудел набат… Однако толпа, не ожидавшая такого зрелища, колебалась.
Сердца начали смягчаться. Послышались голоса:
— В келью ево!.. Навеки заточить лиходея!..
Но тут вмешался рок.
Пьяный, с раскрытой грудью, стоял впереди других стрелец, избитый плетью по приказанию Нарышкина боярскими вершниками за то, что вовремя не свернул коня перед поездом боярина.
И теперь, не глядя ни на кого и ни на что, видя перед собой только ненавистное лицо обидчика, здоровый парень медленно, грузно взошёл по ступеням, ухватил за волосы Ивана и потащил вниз, не чувствуя, как за боярина цепляются в судорожном усилии слабые пальцы царицы Натальи.
Упала ниц головой на ступени сестра, чтобы не видеть мучений и гибели брата…
А стрельцы с гиком, с воплями радости, лавиной живых тел ринулись к Константиновскому застенку, где заранее решено было сделать допрос и пытать Нарышкина.
Недолго пытали его.
Стиснув зубы, юноша не произносил ни звука, когда ему жгли пятки, вбивали гвозди под ногти, рвали кнутами кожу и тело. Только порой, собрав немного влаги в пересыхающих, потрескавшихся губах, брызгал он слюной и пеной прямо в лицо мучителям.
— Не гнёшься, горденя? Ладно, подрубим спесь, коли так, — крикнул Хованский. — На Пожар ево. На Красную площадь ведите, ребята. Согните кадык боярский гордый, неподатливый… С головой срежьте злобу лютую…
Почти обнажённого привели Нарышкина к Лобному месту, поставили среди груды изрубленных тел и отрубили сперва руки, потом обезглавили страдальца и отсекли ему обе ноги. А в это время опьянелый стрелец громко возглашал те мнимые вины, за которые четвертуют Нарышкина. И даже эти куски ещё долго дробили ударами секир озверелые мучители. А голову, наткнув на пику, выставили здесь же, на всеобщее поругание…
В это же самое время бояре выдали другой толпе стрельцов старика Кирилу Полуэхтовича. В келье Чудовского монастыря, куда его привели, посидел он недолго, пока все изготовили для пострижения; здесь же чудовский архимандрит Адриан совершил обряд и боярин Кирила стал иноком Киприаном.
Ночь пробыл в келье старик под крепким караулом, а рано утром его повезли в Кирилловскую пустынь, далеко, на Белоозеро…
Казнь Ивана была как бы последним взрывом, последней вспышкой кровавой бури, которая целых три дня бушевала над Москвой, особенно над Кремлём и царскими палатами. Восемнадцатого мая снова пришли мятежники всей толпою в Кремль, но уже без оружия.
Да и ни к чему было оно. Одно имя стрельцов наполняло ужасом сердца. Все, чего бы они ни пожелали, исполнялось без малейшего возражения.
Входили они в дома — их принимали, словно самых дорогих гостей, поили, кормили, одаряли вещами и деньгами. В кабаках и кружалах — тоже не было ни в чём отказу «верным слугам государевым», как стали величать себя стрельцы.
В Кремлёвских палатах только место царя не было попираемо сапогами стрельцов. А то везде побывали эти незваные гости.
И потому, как только утром восемнадцатого мая выборные заявили, что хотят видеть государей, — их сейчас же привели в Грановитую палату.
Здесь уж собрались все бояре, окольничие, патриарх, духовенство. Пётр и Иван сидели, окружённые близкими и родными. Но теперь Петра охраняли только дядьки его и царица Наталья. Не видно было многочисленных Нарышкиных, которые прежде наполняли терема сестры-царицы и покои Петра.
Из царевен была только Софья, сидевшая рядом с Натальей.
Один из выборных, пожилой, краснощёкий, по виду скорей торговец, чем воин, заявил:
— Присланы мы от товарищей челом бить. Порядку на царстве стать надо. А как ево завести — о том боярин, князь Иван Андреич, батюшка наш, заступник, добре знает. Он и поведает про наше челобитье государям и всему боярству и царевичам служащим, кому ведать надлежит.
Челом ударил, отошёл.
Прежде чем кто-нибудь успел отозваться на слова выборного, Софья первая заговорила:
— Знаем мы все, и государи ведают добрую службу вашу стрелецкую. Мыслим, и новое дело, о коем челом бьёте, на добро будет. А все же — потаить нельзя — много и буйного излишества творилось в эти дни. Сказывали мне, не от старых, коренных стрельцов та смута. Ненаказные то поселяне, пришлецы подгородные грабежи да татьбу[79] творили. Да молодёжь безусая, пьяная, котора и старших не слушала и Бога не боялась. А боле штоб того не было. Вот уж и мирные люди сбираются добро своё — хоть смертным боем боронить. И град весь опустел. Суда-правды нигде не найти. Приказы опустели… Не везут и хлеба в Москву ниоткуда, убояся лихих людей. Мы и государи слушать рады. А и вы, стрельцы, мои слова послушайте. Сами замиритесь и других смиряйте. Ей-ей, лучче будет. Обещаете ли?
— Твои рабы, царевна… Разумница ты наша… Тебе и государям послужим. Бог видит: все бесчинства сократим… Себя не пожалеем… Любо ли, ребята?
— Любо, любо, — крикнули выборные своему вожаку.
— Бог слышал. Ну, сказывай, што надо, князь Иван Андреич, — обратилась к Хованскому царевна.
Князь вышел вперёд и поклонился. Сын его, Андрей, тоже занял место за плечами у отца.
— Во имя Господа всеблагого, вот што поведать должен вам, государи, Иван Алексеич да Пётр Алексеич, царица Наталья Кирилловна, да государыня-царица Марфа Матвеевна, и царевна-государыня Софья Алексеевна, да отец патриарх со всем собором, и бояре, князья, царевичи, дума царская. Многие беды нашли на землю от той причины, што царь наш, великий князь, и летами мал, и не старший в роду царевич, на трон вошёл родителя и брата своего, государей усопших. А посему челом бьют защитники трона царского, стрельцы московские и солдаты в полку, што на Бутырках, народ весь, и власти все духовные: стать бы на царство старшему брату, царевичу Ивану Алексеевичу, первым царём. А молодшему брату, Петру Алексеичу, оставатца на троне ж вторым царём. Как было во времена былые, в Царьграде, при братьях-императорах Гонории[80] и Аркадии, так же при Василье да Константине, земле во благо, людям на радость, государям на прославленье. И так тому быть мочно: придут иноземные послы — выходить к ним и принимать их царю второму, Петру, как первый царь здоровьем слаб и глазами скорбен. Войско вести на неприятеля — тому же Петру-государю. А московским государством, землёю всею править купно с боярами — первому царю, Ивану Алексеичу. Так любо ли? — обратился к выборным князь.
— Любо… Любо! А ежели хто не пожелает, воспротивитца тому, сызнова придём с оружием, и будет мятеж немалый, — не выдержав, послали угрозы выборные. И обратились прямо к царевичу Ивану:
— Што же государь сам слова не скажет нам, рабам своим? Волишь ли быть первым на царстве?
— Не молчи. Скажи своё слово! — внушительно, хотя и негромко, заметила брату царевна Софья.
— А што мне им сказывать? — щуря свои больные глаза, угрюмо заговорил Иван. — Поставили — так буду царь. Первым-то уж и не надо бы мне… А и то сказать, буди воля Божия.
— Вестимо: выборные не собою говорят, но Богом наставляемы, — перебила упрямца царевна. — Дальше что скажешь, князь Иван Андреич?
— А другое челобитье стрелецкое и земское, всенародное, такое: в пособие юным государям для многотрудности царсково управления — да помогает сестра их старейшая, премудрая царевна-государыня Софья Алексеевна на многие лета. Так, любо ль?
— Любо!.. На многие лета!..
— И нынче штобы от патриарха святейшего собор был созван и приказ был дан: присягу принимать тем обоим государям. И все бы присягою крепко стало. Любо ли?
— Любо, любо!
И один из выборных, подойдя к окну, стал махать шапкой стрельцам на площади.
— Любо, любо!.. — громовым откликом долетело сюда немедленно, и зарокотали барабаны, зазвонили колокола…
Софья выждала, когда стих шум, и в ответ на такую просьбу, похожую на приказание, с поклоном отвечала:
— Все так и повершим, как вы просите, ратники славные, пехота наша верная. Верую: не вашей то волей, Божиим хотением все объявилось. Челом бью за доброхотство ваше. Отныне не стрельцами московскими — надворной пехотой государевой именовать себя почнете. И в начальники назначается вам верный и храбрый слуга царский, князь Иван Андреич Хованский. А в подмогу ему — сын ево же, князь Андрей Иванов. Так любо ли?
— Любо, любо!..
— Да ещё за все заслуги ваши, за промыслы о царстве, о спокойствии земском — жалуем вам, полкам всем стрелецким и солдацкому, што в Бутырках, сплошь по спискам, мал, велик ли человек, все едино — по десять рублёв. Ежли в казне нашей государской враз таких денег не станет, — брать вам ту дачу с патриарших и властелинских крестьян и с монастырских и с бобыльских, также и с приказных людей по окладу, какой идёт им от казны. И с дьяков и с подьячих. Любо ли?
— Любо, любо!.. Любо, государыня-царевна!.. — восторженно отозвались выборные.
От площади снова откликнулось им тысячеголосое, мощное эхо толпы:
— Лю-юю-юбо!..
— Святейший отец патриарх, тебя вопрошаю, — только теперь задала Иоакиму вопрос царевна, — оклады те брать с крестьян твоих и властелинских дозволишь ли али инако укажешь казну собрати?
— Кесарево — кесареви, мудрая царевна-государыня, — только и ответил евангельской отповедью святитель на лукавый, фарисейский вопрос.
Но стрельцы, в большинстве — аввакумовцы, капитоновцы и никитовцы, закоренелые староверы — и внимания не обратили на смирение Иоакима.
Снова заговорил Хованский:
— Ещё челом бьют тебе и государям слуги ваши верные, надворная пехота государская. Штобы и на многие годы потом знали люди, внуки и правнуки наши: отчего настало великое побиение за дом Пресвятой Богородицы и за вас, государи; какое великое пособие оказали полки стрелецкие с солдацким Бутырским полком купно, штобы всем то было ведомо: за какие вины побиты столь многие и высокие персоны, даже царской крови близкие, — на том месте, на Красной площади, где изменников тела ныне лежат, — поставить каменный столб с надписями[81] и все действо стрелецкое, службу их верную и вины изменников начертать. И нихто да не посмеет стрельцов тех бунтовщиками либо изменниками звать. Так любо ли, товарищи?
— Любо!.. Любо!.. Столб поставить… Уж тово не миновать… Знали бы все… Столб на Пожаре… на Красной площади… Чтобы все видели… Читали бы ваши слова государские. Чтобы нас не казнили потом за вины за старые.
Софья не была предупреждена о такой затее стрельцов, вернее, Хованского с сыном, пожелавших не только оправдать зверства стрельцов, но и увековечить своё имя вместе с их именами.
Но думать было некогда.
Не умолкая звучало стрелецкое «любо…» и здесь, под сводами тронной палаты, и там, на площадях кремлёвских.
Стоило сказать — нет, кто знает, что выйдет из этого.
— Волят государи, и мы согласье даём на челобитье ваше, — сухо произнесла царевна. — Все ли теперь?
— Да, все, кажись, царевна-государыня… Челом бейте, братцы-товарищи, государям, государыням да думе всей их царской… А патриарха просите: невдолге бы и увенчал обоих государей, как искони бе[82], венцами царскими…
— Челом бьём… Венчайте государей поскореича…
Отдали поклоны — и вышли все вместе с Хованским.
На площади снова заговорил перед стрельцами Тараруй.
И на каждое его слово — громкими, дружными кликами одобрения отзывалась толпа.
— Ну, Софьюшка, вот и в цари попала ты ныне, голубушка. Челом бью на радости, — тихо в этот самый миг сказал царевне Милославский.
— Не я… тот царь ещё покуль, вон, што толкует с горланами на площади…
— И то слово твоё верное… Да слышь, сама сказала: «покуль»… Верь, недолго повеличаетца…
В раздумье, недоверчиво покачивая головой, молча поднялась царевна.
Но время показало, что старый хитрец Милославский был прав.
Глава V. СОФЬЯ У ВЛАСТИ
То, что заранее было решено в опочивальне царевны Софьи, на советах с Милославскими, Голицыным и Хованскими, что было оглашено перед боярами и царями устами выборных стрелецких и того же Хованского, — все это скоро получило торжественное, хотя и запоздалое, подтверждение обычным в государстве путём.
Собран был духовный собор и боярская дума, постановили решение, огласили указ, и на двадцать пятое июня было назначено коронование двух братьев-царей.
По случаю этого торжества новые милости были дарованы ненасытным стрельцам… И начиная с двадцать девятого мая каждый день по два стрелецких полка получали полное угощение во дворце.
На большом листе бумаги была дана им жалованная грамота за государственной печатью. Скреплял грамоту Василий Голицын, друг Софьи, объявленный главой Посольского приказа и государственной печати сберегателем, подобно тому, как назывался знаменитый московский канцлер Ордин-Нащокин[83].
Грамота была выдана шестого июня, и с торжеством, с музыкой и ликованьем, держа на голове лист, отнесли его стрельцы в свою слободу.
Когда в Успенском соборе патриарх совершил двойной обряд венчания на царство обоих юных царей, Пётр с Натальей переехали в своё любимое Преображенское. А Москва и власть остались Софье и… князьям Хованским, отцу с сыном.
Оба они окончательно потеряли голову, как это и предвидел Милославский.
Чтоб избежать столкновения с наглым временщиком, Милославский даже прибег к старому средству: не только перестал появляться при дворе, но даже уехал в одну из своих вотчин. И оттуда неусыпно следил за новым недругом своей семьи, хотя и считал его гораздо менее опасным, чем Матвеев и Нарышкины.
Князь Иван и Андрей Иваныч не захотели долго ждать и, опираясь на преданность стрельцов, решили не только из-за кулис править царством, а выступить полноправными властителями народа и всей земли Русской.
Приверженец старой «истинной» веры, друг Аввакума, который до самого сожжения своего, то есть до 1681 года, укрывался в доме князя, Хованский надеялся, что стоит заиграть на этой струнке — и вся Москва пойдёт за ним, вся Русская земля.
Успех майского мятежа, в котором Хованский, по его собственному мнению, сыграл решающую роль, опьянил князя.
Недалёкий фантазёр-честолюбец позабыл, что весь решительный переворот подготовлялся много лет сильными, умными людьми, имевшими возможность затратить огромные средства на подкуп властных лиц, на подкуп духовенства, целых полков, целых сословий, которым сулились и давались баснословные выгоды ещё до начала дела.
Забыл он, что в игру вмешали людей, интересы которых самым насущным образом были связаны с успехом или неуспехом заговора.
И переворот совершился не благодаря Хованскому, а при помощи его, и помощи не совсем толковой, даже вредной порой, потому что крайняя наглость стрельцов, порождённая угодничеством и потачками Хованских, восстанавливала против них всех других ратников и целую Москву.
Стрельцы это чуяли и потому стали вести себя осторожней. Да и просто устали от всех последних волнений. Им хотелось отдохнуть.
И уж, конечно, не станут они из-за веры снова подымать мятеж и учинять новый разбой. Ясно было как день, что все партии, все роды, стоящие у власти, забудут свою рознь и сольются, чуть вспыхнет какая-нибудь религиозная распря. Её погасят при самом возникновении, чтобы не было опасности для царства, чтобы оно не распалось в самой ужасной междоусобице — религиозной.
Все это видели и понимали, кроме Хованских да небольшой кучки фанатиков-попов, готовых, по примеру Аввакума и попа Лазаря, и на сожжение пойти, только бы хоть на миг доставить торжество «истинной вере Христовой и двоеперстному знамению креста»…
Упорно, без оглядки Хованский повёл свою игру. И не одна вера заставляла его сделать такую решительную ставку. Свергнуть патриарха, женить сына на царевне Катерине Алексеевне, поставить своего святителя на Москве, убрать обоих малолетних царей, объявить государем сына, Андрея Иваныча Хованского, из рода Гедиминов, Ягеллонов, Корибута и других литовских великих князей — вот какова была затаённая цель старика, которую поддерживал, конечно, и князь Андрей. На первых порах — где угрозой, где посулами, — Хованский успел добиться того, что в Грановитой палате 23 июня, за три дня до венчания царей, подали раскольничьи попы во главе с Никитой Пустосвятом челобитную, в которой обличали мнимую ересь правящей церкви и требовали водворения старых книг и древнего порядка богослужения.
Сначала челобитная встревожила патриарха и царей, вернее — царевну, которая думала, что снова все двадцать полков стрелецких затеяли поиграть судьбой царства. Но скоро выяснилось, что только девять полков стоят за старый крест. А остальные довольно равнодушны к этому вопросу. Ответа на челобитную решили сейчас не давать. Но всё-таки пятого июля под предводительством исступлённого изувера, расстриженного попа Никиты, прозванного Пустосвятом, большая толпа стрельцов и московских староверов так грозно на Лобной площади требовала к ответу патриарха, что во избежание вспышки народной всех крикунов позвали в Грановитую палату.
— Потому-де, — уговаривал бунтарей старик Хованский, — что и царевны и царицы волят быть при том словопрении. А на Красную площадь, на Пожар — выйти им невместно.
Сначала раскольники не решались пойти, опасаясь, что это ловушка, что во дворце их всех переловят, как мышей, посадят на цепь. Но Хованский и стрельцы обнадёжили своих наставников, расколоучителей:
— Головы за вас положим, а в обиду не дадим. Как вам — так и нам…
Имея за собой подобную поддержку, раскольники, особенно Никита, вели себя нагло. И даже в споре Пустосвят ударил по лицу архиепископа Афанасия Холмогорского. Раньше Афанасий сам был начётчиком у аввакумовцев, но потом нашёл более благоразумным и спокойным пристать к правящей церкви. Конечно, бывший раскольник особенно сильно возражал неистовому Никите, и тот собственноручно покарал отступника, который «аки Люцифер отпал от Господа»…
До вечера длились прения. Патриарх сам принял в них участие. Но, конечно, к соглашению не пришли.
И когда Софья за поздним временем распустила собор, назначив его продолжение на другое время, — раскольники кинулись к Лобному месту с криками:
— Перепрехом и посрамихом всех архиереев и патриарха самово. Тако веруйте… Тако творите…
И всему народу показывали двоеперстное крёстное знамение…
Торжественно принял своих попов-подвижников Титовский староверческий полк. Это встревожило Софью.
На другое же утро вызвала она к себе выборных от всех стрелецких полков.
Они явились. Только закоренелые титовцы не прислали ни одного человека.
Взволнованная, вышла к ним царевна и сразу стала рисовать печальную картину, какая ждёт царство, если они, опора трона, последуют за безумными изуверами, не умеющими понять того, что читают…
— Нас ли, государей ваших, и земли спокойствие променяете на шестерых чернецов-распопов? Ужли святейшего кир-патриарха им предадите на поругание? Горе мне… Не вы ли спасли и наши жизни и все царство, — со слезами уж заговорила эта лукавая и умная правительница, — кровь свою проливать за нас не щадили. И мы помним о душах ваших. Верьте, спасётесь и без тех юродов… Не слушайте и иных людишек лихих, хотя бы и высоково были звания и поставлены над вами. Как встали — так и сведены будут. А наши к вам милости не престанут притекать. Не хватит казны, государи-цари и я сама кику[84] останную в заклад отдам, продам крест золотой нательный — вам все дам, коли надо будет, коли нужду какую узнаете. Служите и нам государям, как служили, прямите по правде, по присяге святой, как во храме Господнем присягали.
Первые отозвались выборные Стремянного полка:
— Да не крушись так больно, государыня-царевна… Уж сказать по правде, мы за старую веру не стоим. И не наше это дело. То дело и власть патриарха да всего священного собора.
— И нам до веры дела нет. Верим про себя. А в дела государские да патриаршие мы не суёмся, — в один голос поддержали и остальные выборные.
Такой ответ сразу успокоил Софью. Она теперь знала, как ей поступать.
Выборные были одарены деньгами, чинами. Их тут же хорошо угостили и отпустили домой.
И везде по полкам было объявлено выборным:
— В споры о вере, какая лучче, старая, новая ли, мешаться стрельцам не надо.
Но далеко не все рядовые стрельцы согласились с таким решением. Они понимали, что выборные не даром так поддерживают волю Софьи. И им хотелось получить тоже долю в милостях двора.
А титовцы из преданности расколу грозили новым мятежом и, намекая на рокот барабанов из собачьей кожи, которые гремели в мае, толковали по кругам:
— Добром с энтими дворцовыми не разделаешься. Пора сызнова за собачьи шкуры приниматься…
Этот полный угрозы каламбур пришёлся не по душе Софье.
Она послала своих приспешников и призвала к себе рядовых стрельцов, попов слободских, вообще всяких коноводов[85], подкупала их словами и рублями, и кончилось тем, что к концу недели стихли всякие толки о «старой вере» на стрелецких сборищах.
Сейчас же царевна дала приказ; все главари раскола были переловлены и засажены за крепкие затворы на Лыковом дворе.
Недолго тянулся суд.
Никите Пустосвяту отсекли голову как раз на седьмой день после прений в Грановитой палате: 11 июля 1682 года. А остальных — кого засадили в тюрьмы, кого разослали по дальним местам. Немало из мелких участников этой короткой смуты успело, разбежаться по разным городам.
Безнаказанными остались главные виновники натиска раскольников на патриарха, на самих царей: Иван Хованский и сын его, Андрей.
Но и на них уже Софья ткала крепкую паутину. И потому раньше времени не трогала этих сильных недругов своих, чтобы не пришлось жалеть о несвоевременном выступлении.
Мятежный дух нет-нет да вспыхивал у стрельцов, старательно подогреваемый Хованскими.
Но Софья умышленно делала вид, что не замечает ничего. По совету Милославского и по своей осторожности царевна хотела, чтобы Хованский совершил целый ряд поступков, способных восстановить против наглеца не только бояр, но и всех других, до стрельцов включительно.
Ждать пришлось недолго.
Мало того, что Хованский угрожал всем, несогласным с его мнением, обещая натравить стрельцов, — он унижал самых заслуженных бояр.
— Ни один из вас, — говорил он им часто, — не служивал, подобно мне, государям моим. Куда вас ни пошлют — везде и всюду государство вред терпит от худой, неразумной, нерачительной службы вашей… Только поношение было земле Русской от вашей безумной гордости и спеси боярской… Мною лишь все царство и держится. Меня не будет — будете все вы на Москве по колено в крови бродить…
И сам же сеял князь смуту в полках.
Больше месяца прошло, пока Софья решилась действовать, и то не раньше, чем пошли толки, что Хованский готовит стрельцов к новому мятежу, поджигает умы рассказом о том, как на совете отказали выдать стрельцам в пополнение жалованья сто тысяч рублей.
— Дети мои, уж и мне за вас стали грозить бояре… Мне боле делать нечего. Как хотите, так сами и промышляйте, — открыто объявил «батюшко» своим деткам.
Немудрёно, что те снова стали точить свои бердыши и копья.
Только Стремянный полк по-прежнему не принял участия в волнениях.
И вот, когда настал чтимый Москвою праздник Донской иконы Богоматери, когда двор, окружённый стрельцами и народом, должен был совершить торжественное шествие в Донской монастырь — с крестами, с хоругвями, — оба государя и царевна в крёстном ходе участия не приняли, опасаясь убийства, как пронеслись слухи по Москве.
Вместо этого Софья и оба царевича съехались вместе в селе Коломенском, и оттуда был дан приказ Стремянному полку: явиться в полном составе на охрану царской семьи.
— Не дам полка, — заявил было Хованский. — В Киев его посылать надо…
Но стрельцы и сами возмутились против этого назначения, и от государей пришла строгая грамота: прислать немедленно Стремянный полк.
Хованский, никогда не отличавшийся твёрдой решимостью, и тут уступил.
Стрельцы были посланы.
Первого сентября, когда справлялось Новолетие, то есть первый день Нового, 1683 года, к торжественному богослужению в Успенский собор не явился никто из царской семьи, вопреки древнему обычаю.
Патриарх огорчился, а вся Москва пришла в смущение.
— Покинули нас государи. В ином месте стол поставят. Слыхать, от московских стрельцов небезопасно им тут.
Такой слух все настойчивее ходил, в народе, конечно, не без помощи людей, преданных Софье.
Смутились и стрельцы… Вся их сила была, конечно, в их близости к трону, в том, что они служили охраной, защитой царям, наподобие римских преторианских когорт…
А без этого — как воины, как войско — они никуда не годились. И самим стрельцам, и всей Москве это было слишком ясно.
Скрытое недовольство забродило в полках против Хованского.
— Из-за Тараруя-батюшки и на нас разгневались государи и царевна-матушка. А уж от ней ли нам было мало милостей…
Так толковали в слободах…
И снова появились там какие-то, неведомые прежде, люди: шептались, уговаривали, давали деньги, сулили награды, почести.
И когда, по мнению Софьи, почва была достаточно подготовлена, — на воротах Коломенского дворца появилось подмётное письмо, порешившее участь Хованских.
Это было второго сентября.
Надпись на письме была такая:
«Вручить государыне царевне Софье Алексеевне, не распечатав».
Собрав весь двор, который был там, в Коломенском, при государях и царевне, Софья велела огласить письмо.
Думный дьяк Шакловитый, с недавних пор вошедший в милость к Василию Голицыну и царевне, откашлялся и стал читать:
— «Царям, государям и великим князьям, Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцам, извещают московский стрелец да два человека посадских людей на воров и на изменников на боярина князя Ивана Андреевича Хованского да на сына его, князя Андрея Ивановича: на нынешних неделях призывали они нас к себе в дом 9 человек пехотного чина да 5 человек посадских людей и говорили, чтобы мы помогли им доступить царства Московского, и чтоб мы научили свою братию, чтоб ваш царский род извести, и чтоб прийти большим собранием, изневесть в город и называть вас, великих государей, еретическими людьми, и побить вас, государей обоих, и царицу Наталию Кирилловну, и царевну Софию Алексеевну, и патриарха, и властей; и на одной бы царевне князю Андрею жениться, а достальных царевен постричь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить: Одоевских трех, Черкасских двух, Голицыных трех, Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двух, и иных людей из бояр, из дворян, из гостей за то, что будто они старую веру не любят, а новую заводят. И как то злое дело учинят, послать смущать во все Московское государство и по городам, и по деревням, чтоб в городах посадские люди побили воевод и приказных людей; а крестьян научать, чтоб они побили бояр своих и холопей боярских; а как государство замутится, выбрать б на Московское царство его, князя Ивана, а патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые б старые книги любили; и целовали нам на том Хованские крест и образ Николы Чудотворца, и мы им целовали тот же крест, чтоб нам злое дело делать всем сообща; а дали они нам всем по двести рублей денег человеку и обещались они нам перед тем же образом, что если они Московского государства доступят, и нас, стрельцов, которые в заговоре были, пожаловать в ближние люди, а нас, посадских людей, — гостиным именем, и торговать во веки беспошлинно; а стрельцам велели наговаривать: которые будут побиты, и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им, стрельцам, на все приказы. И мы, три человека, убоясь Бога и памятуя крёстное целование и не хотя на такое злое дело дерзнуть, извещаем вас, великих государей, чтоб государское здоровье оберегли; и мы, холопи ваши, вам, государям, объявимся, и вы, государи, нас, холопей своих, за наши верные службы пожалуете; а имён нам своих написать невозможно; а приметы у нас: у одного на правом плече бородавка чёрная, а у другого на правой ноге поперёк бедра рубец — посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет».
— Пречистая Богородица, што слышать довелося! — с прекрасно разыгранным ужасом воскликнула царевна. — Где же укрыть нам себя и весь род царский от злоумышлений всяческих?..
Сейчас же, не теряя ни минуты, Голицын и Шакловитый составили окружные грамоты, чтобы разослать их по городам призывая дворян и всякого рода служилых людей с оружием и конями на защиту царской семьи и всего государства которому угрожает гибель от заговорщиков Хованских.
А затем весь двор двинулся дальше, сперва в обитель Саввы Сторожевского, что за Звенигородом, но, найдя убежище это ветхим и ненадёжным, — поспешно укрылись за высокими каменными твердынями Троице-Сергиевой лавры.
И сюда немедленно стало стекаться молодое и старое служилое дворянство, радуясь случаю послужить государям и при этом получить награды и разные выгоды, неразлучные с близостью к царскому двору.
Как громом поразило Хованского известие, что по городам посланы «призывные грамоты».
Старый хитрец понял, что все пропало. Но думал ещё выиграть и на прежних заслугах своих, и на показной покорности.
Ещё на полпути к лавре получено было письмо от Хованского.
На Москву ехал сын малороссийского гетмана Самойловича с важными поручениями. И «батюшко стрелецкий», делая вид, что не догадывается о грозящей ему опале, спрашивал, как поступить с почётным гостем. Как принимать и посылать ли его немедленно к государям в их местопребывание?
— Ишь, старый дурак, чем отыграть свою душу мыслит от секиры, — проговорила Софья, пробежав письмо. И тут же велела Шакловитому написать самый ласковый ответ от имени государей.
— Пусть-де сам пожалует к государям в Воздвиженское. Там и потолкуют.
На первое письмо Хованский не ответил и не поехал.
Тогда были написаны приказы стрелецким полкам: выслать выборных к государям. Вслед за этими грамотами сама Софья поспешно выехала в Москву.
— Очами увижу и ушами услышу: жить ли нам ещё, государям, на Москве или отойти надо в иные земли, — объявила она перед отъездом.
Первым делом повидалась царевна с Иваном Хованским.
Спокойно выслушала девушка град жестоких упрёков, какими осыпал её несдержанный гордец, и со слезами на глазах отвечала:
— Вот и вижу навет был ложный на тебя, князь. Говоришь не как лиходей и губитель, а как верный слуга и друг, коему обиду нанесли государи, сами не желая того. Да не кручинься. Дворяне, что съехались, и на войну идти пригодятся, куда ты стрельцов посылать ладил. А ты со стрельцами при нас останешься, как и был. Я сама вперёд поеду. Все скажу государям. И ты за мною следом жалуй к ним. Опаски не имей… Там — и сестра Катерина. Может, и доброе дело сделаем. Вот и роднёй станем. Не найдёшь причин губить родных своих, хоть и желал бы…
И Хованский, и стрельцы были обмануты такими речами, А тут, не успела уехать Софья, пришла вторая грамота от царей, ещё более ласковая, чем первая.
Бестолковый всю жизнь, Хованский нелепо сам сунул голову в удавку.
В Москве, среди стрельцов, князь ещё мог чувствовать себя более безопасным, мог поторговаться с Софьей, если бы даже нагрянули за ним отряды дворян.
Но, как трус, он не умел спокойно обсудить дела. Отчаяние, часто заменяющее людям трусливым отвагу, толкнуло князя на явную гибель.
С тридцатью семью стрельцами всей свиты выступил Иван Хованский из Москвы по зову царевны. Софья не верила известию о такой скромной свите. Она заподозрила, что здесь кроется какая-то хитрость, которой не могли разгадать её агенты в Москве: дьяк Горохов, Плещеев, Хлопов и Сухотин.
В виде разведочного отряда высланы были копейщики, рейтары и городовые дворяне под начальством князя Лыкова.
В Пушкине настигли они Хованского, старика, схватили и взяли под караул со всеми его стрельцами.
Молодой князь Андрей был также недалеко, в своей усадьбе, на Клязьме-реке. Его тоже взяли без сопротивления, привезли в Москву.
Не давая возможности обоим явиться перед царями-братьями, бояре во главе с Милославским нарядили скорый и безжалостный суд.
Без допроса, не вызывая свидетелей, не принимая оправданий, объявили приговор.
Семнадцатого сентября, как раз в день ангела Софьи, судили обоих князей: отца и сына приговорили к смерти — и тут же казнили.
Стрелец Стремянного полка, понаторевший в убийствах во время майских мятежей, обезглавил первым отца, так как палача при царской свите не нашлось.
— Умираю безвинным, как и отец мой, — в последний раз произнёс Хованский. — Не дали нам и сказать, кто виной тех составных действий, кои нам в вину поставлены. Или побоялись, што первые персоны от тово устыдятся. Да простит вам Бог нашу безвинную кончину, бояре. Сами не дождитесь такой же… Есть Бог на небесах…
Сказал, поцеловал труп отца, лежавший обезглавленным ничком на земле, и положил голову на плаху, которая была заранее приготовлена здесь, на Красной площади, ещё до прибытия Хованских.
И всем тридцати семи выборным, захваченным с князьями, тоже срубили головы.
Но бояре не подумали о том, не вспомнила и Софья, что на казнь отца глядел младший сын князя Хованского, Иван Иваныч, стольник царя Петра.
Ночь ещё не настала, как он прискакал в Москву, прямо в стрелецкие слободы. С ним вместе прискакал товарищ его, Григорий Языков.
— Братья, други, што поведаю вам. Слов нет от горести. Не стало моего родителя и вашего общего отца-защитника. Убили его бояре без суда, без розыска, без ведома царского, как режут пастухи овцу чужую, забеглую…
— Переведут они и вас всех в одночасье! — кричал Языков. — Одоевские да Голицыны хотят всю надворную пехоту вырубить. Едучи дорогою, мы видели: несметное множество воинов со всех сторон идёт к Москве великим боем, чтобы в слободах ваших извести всякую душу живую, до последнего младенца… И дворы пожгут… Князь Андрей с северцами — от Твери идёт. Князь Пётр Урусов от Владимира полки ведёт. Боярин воевода Шеин — на Коломенском пути с рязанцами своими. А воевода Волынский от Можайска подошёл… Конец вам приспел, коли не станете за себя, за жён, за детей ваших…
Было дело уже к полуночи. Недолго совещались стрельцы и решили: отсидеться в Москве, не пускать сюда ни друга, ни недруга.
— От татар отсиживались, и своих не пустим, коли што…
После многих дней тишины снова зазвучал набат в самую полночь.
Поднялась на ноги испуганная Москва: неужели снова мятеж? Или горит весь город?
Все высыпали на улицы…
А по ним двигались отряды стрельцов, с мушкетами, с пиками… У городских ворот ставили караулы. В Кремле заперли все входы и выходы, забрали всю артиллерию, все припасы с Пушечных дворов и развезли их по полкам.
— Пусть теперь сунутца… Встреча готова, — вызывающе толковали стрельцы. — Не холопы мы, не торгаши безоружные, сами воевать умеем…
— Да чем тут бояр ждать, гайда в Вознесенское, покуда там сила великая не собралася, — предлагали более отчаянные головы.Но их не послушали.
И у многих с первыми лучами рассвета отваги поубавилось, стали приходить более благоразумные мысли.
Часть стрельцов из начальных людей, окружённые также и рядовыми, ещё ночью ворвалась в покои самого патриарха, в его Крестовую палату, где он сидел уже облачённый, услыхав о приближении незваных гостей, старых знакомых по майским бесчинствам и разбоям.
— За нас постой, отец патриарх, — кричали все, кто проник в палату, — грамоты пиши на Украину, во все города, шли бы казаки не к государям, а сюда на Москву, тебе и нам на помочь. А не захочешь, с боярами заодно встанешь, — тебя, гляди, не помилуем. Нам своя шкура всево дороже…
— Чада мои, — взмолился Иоаким. — Хиба ж послухают мене украиньци? Давно я оттуда. И не знают, мабудь, там, шо я и сам украинець… Всуе помыслили. Лучче Бога да государей просыть, не покарали бы вас за буйство…
— Поди ты, старец… Што разумеешь?.. Гайда, братцы, упредим бояр, на Воздвиженское.
— Не спеши в петлю, сама придёт. Пождем, што от бояр, каки вести будут? — останавливали другие нетерпеливых товарищей…
Так время прошло до рассвета.
Вдруг топот коней и голоса послышались перед палатами патриарха.
— Иди, иди к святейшему. Поглядим, каки таки грамоты у тебя, — кричали возбуждённые, хриплые голоса.
Стоящие у застав караульные не спали всю ночь, но все ж перехватили посланца царского, стольника Зиновьева.
— Вот, читай на голос, отче, што пишут тебе государи, — потребовали стрельцы, подавая послание Иоакиму.
Он сломил печати и прочёл вслух извещение о казни Хованского.
Когда дошло до места, где говорилось, как старик Хованский обвинил московскую надворную пехоту в заговоре против царей, — так и всколыхнулись все, кто был здесь. Тут же прочёл патриарх приложенный к письму царей донос на Хованского.
— Неправда все то… Быть тово не может!
— Слухайте ж дале, чада мои, — остановил их патриарх. Конец послания обещал полное прощение надворной пехоте и забвение всем, если стрельцы перестанут волноваться, не станут слушать прелестных слов и лукавым письмам веры не дадут.
— Слыхали мы посулы всякие… Пока у нас спицы железные в руках — потоль мы не в дураках. А сложим свои рогатины — тут и бери нас голыми руками. Не на таких напали… Слышь, батько, пиши ты государям: смуты-де никакой нет. Служить мы им волим по-прежнему, как и родителям ихним служивали. А без опаски тоже не мочно. Вон государи силу какую — войско сбирают… Москву покинули… Пошто это? Пущай назад ворочаютца. Мы им крест целовали — и страху пусть не имут. А покуль государей на Москве не будет, все думаетца нам: против нас гневны, на нас пойти сбираютца.
— И що вы, чада мои. Хиба сами не знаете: пора осенняя, издревле-те звычай у государей шествовать во святу обитель тую к памьяти преподобного отца Сергия. А о прошении вашем им на Москву буты у скорости я писать стану царям. От архимандрит Адриан с Зиновьевым и повезуть мои грамоты.
— Ладно. Да ты нам, слышь, почитай, што писать станешь.
Быстро было составлено послание Иоакима к царям, конечно, в том смысле, как требовали стрельцы. Отдал он при выборных пакет Зиновьеву и Адриану, и те поехали в лавру. Но не знал никто, что патриарх наедине дал устный наказ посланцам своим.
— Що було тута — сами бачили, — говорил он обоим. — Так и сдоложить их царским величествам и самой царевне. А ихаты сюды пока невдобно и опасно. Як час придеть, я знать дам государям. Беречися треба стрельцов, усе помышляют, буи, о побиении невгодных им бояров…
Но и без советов осторожного старика Софья знала, как нельзя доверять обещаниям стрельцов.
А надворная пехота первый день до глубокой ночи не покидала улиц и площадей. Ожидая нападения, стрельцы загородили надолбами, прочными нагромождениями проезды к Кремлю, укрепили Земляной городок и Китай-город, семьи свои перевели в Кремль. Неумолчно на улицах раздавалась пальба из ружей и пушек, отчасти для устрашения врагов, а в то же время и для поддержания бодрости у самих стрельцов.
Привычные ходить в бой под чьим-нибудь началом, теперь стрельцы своего ближайшего начальства не слушали, не доверяли ему, друг с другом спорили из-за каждого пустяка… И только боязливо думали, что все принятые меры, конечно, не спасут, когда цари со всей земской силой пойдут на них, как на новых опричников.
Но и у Троицы было не совсем спокойно. Начинать междоусобье не хотел никто. И снова прискакал посол царский, думный дворянин Лукьян Голован, на Москву.
«Строго приказываем, — объявляла от имени царей Софья, — смирить себя. Всполоху и страхов по Москве не вчинять, за Хованских не заступаться. И тогда гнева не будет на надворную пехоту от государей. А судить изменников — им, государям, от Бога власть дана…»
Прочитав послание, патриарх от себя, по поручению царевны, объявил:
— За смятение опалы на вас не буде. Не вы, а Ивашка Хованский молодой виною в тим вашем шатании. На него и кара. А вы челом бейте государям. Пошлыть от кожнего[86] полка по двадцать хотя чоловик луччей братии, нехай повинятца за усих. От усе кинчится миром та ладом, по слову Божию.
Боярин Михаил Петрович Головин, явившийся на Москву, чтобы привести в порядок и взять в свои руки военную силу иноземную и слободских людей, не приставших к волнениям стрельцов, то же самое подтвердил.
Не сразу решились стрельцы послушать доброго совета: каждый день сбирались на свои полковые сходы. Старые стрельцы, бородачи, по-детски обливались слезами и причитали:
— Конец приходит нашим слободам, нашей вольности… Сами на смерть первых товарищей посылать сбираемся… Вон уж последние смерды, торгаши базарные, холопы боярские, слуги кабальные и те над нами потешатца стали. Толкуют: «Не вам бы, мужикам, володеть разумными почестными[87] людьми, князьями да боярами. Не вам великим государям указывать.» А давно ль то время было, не далеко ушло, когда и вся Москва нам в ноги кланялася.
Кинулись к патриарху стрелецкие головы.
— Не иначе пойдём к царям, как пошлёшь, батько, с нами владыку, какой получче. Пусть молит за нас царей:.. Не казнили бы лютою смертью А мы языком работать не горазды. Все больше саблею государям служивали. Уж ты не оставь нас, батько!
— От як нужда — и я став батькой.. А то сбиралыся распопа безумного на моё место постановить, — не удержался от упрёка патриарх. — Ну, та я зла не помню. Бог простит. А пошлю я з вами митрополита Ларивона суздальского. Зело разумен муж тай царям угодный. Вин вас отмолит…
Как на явную смерть шли выборные к лавре, окружая колымагу Иллариона. Каждый отряд войск, собранных Софьей, какой попадался на пути, стрельцы принимали за облаву, посланную на них.
Село Воздвиженское, в десяти верстах от Троицы, было полно войск.
— Тут нам и конец, — решили между собой стрельцы.
И многие из них тайно вернулись в Москву.
— Вы откуда? — спросили беглецов.
— Да с плахи сорвались, из петли ушли. А другие все — и на том свете уже…
Плач и ужас воцарились в слободах.
А посланники стрелецкие в это самое время были уже в лавре и стояли понуря головы перед разгневанной царевной Софьей.
— Не пускают вас цари на очи свои. Больно и скорбно им. Люди Божие, — сверкая глазами, заговорила она. — Как вы не убоялись Бога, подняли руку на благочестивых государей своих, на их царский дом, на синклит боярский? Али забыли своё крёстное целование многократное? Не помните милостей деда, отца и братьев наших, што выше меры на вас изливалися? Для чего возмутились? Пушки вывезли, припас военный разобрали… По Москве с ружьём ходите, круги[88] завели злосоветные по-старому. Москва — не Дон, не Астрахань. Вы — не вольница понизовая. Вот к чему привело своевольство ваше: со всех концов земли собралось воинство ратное для вашего укрощения, на защиту державы нашей. Трепещите, злодеи. Недостойны и зреть лица царского. Именуете себя слугами нашими, а где покорность и служба ваша? Мятеж и своеволие — только и видны от вас…
Ниц упали выборные, стали молить о прощенье, обещая все поправить, все вернуть, что взято из казны, и выдать злодеев, кто бы ни пытался смущать их.
Тридцатого сентября вернулись в свои слободы выборные и были встречены, как воскресшие из мёртвых.
Сейчас же все, что было захвачено в арсеналах, стрельцы вернули начальству и написали от имени всех полков слёзные покаянные грамоты.
В день Покрова Богородицы[89] стрельцы снова били челом Иоакиму:
— Будь наново нам покровом, с Пречистой Матерью Господа, — пошли с выборными и со слезницами[90] нашими владыку повиднее. Уж больно за нас хорошо заступался твой Ларивон. Из петли вытаскивал, прямо надо сказать.
Теперь поехал с ними в лавру Адриан.
Примирение совершилось. Стрельцы согласились подписать все, чего ни потребовала царевна. Кроме того, они же, конечно, по наущению бояр, били челом Софье:
— Дозволь, царевна с обоими государями, разломать той столб, што на Пожаре стоит, штоб не было от иных государств царствующему граду стольному, Москве, зазорно. Лучше и памяти не иметь о том, што было. И молодых наших охальников подбивать той столб на озорства не станет…
Конечно, позволение было дано.
Второго ноября стрельцы Ермолаева полка явились на Красную площадь и срыли до основания позорный этот столб, прославлявший мятеж и убийства, совершённые ради личных целей и по воле той же царевны Софьи, которая, когда понадобилось, умела живо справиться со своими прежними единомышленниками— стрельцами.
Так, после живых двух главных свидетелей и пособников её коварных дел, после Хованских, был уничтожен и каменный свидетель происков лукавой, властолюбивой царевны, «царь-девицы», как уже стали звать Софью и в народе.
Власть над стрельцами была передана осторожному и ловкому Шакловитому, который на деле доказал, каким умелым и непритязательным на вид пособником может служить в самых опасных и сложных положениях государственной жизни.
Шестого ноября двор торжественно вступил в Москву, и все, казалось, было забыто…
Почти полгода непрерывных волнений, убийств и мятежа утомили всех.
Казна пустовала. Люди мирные страдали от лишений и вечного страха за свою жизнь, имущество и свободу…
Доносы, подозрительность, как ядовитое море грязи, разлились по лицу земли за это время, и все задыхались в смрадном воздухе, полном испарений крови и слез.
Поэтому Софье было легко понемногу приступить к осуществлению широко задуманного плана.
Всюду на первые места в управлении царством посажены были преданные ей люди или ничтожные и безликие, слепо готовые исполнить всякий приказ свыше.
Иван Милославский ведал приказами: Судебным, Челобитным, Иноземским, Рейтарским и Пушкарским. От него зависели суд и расправа в главных русских городах, начальство над иноземными войсками, над всей артиллерией, над рейтарскими и иными полками, кроме стрелецких, и над крепостями. Василий Голицын, кроме Посольского приказа, получил в ведение Малороссию, слободские полки, Новгород, Пермь, Смоленск, Киевскую лавру и иные важнейшие монастыри, богатые казною и влиянием на народ, заведовал иноземными храмами в России и даже склонялся к католическому блеску и формам церкви, получил и Немецкую слободу в Москве, а равно и всех торговых иноземцев, в качестве верховного консула по торговым оборотам, совершаемым в чужих краях. В 1686 году умер Милославский, и все приказы, оставшиеся без начальника, Софья поручила Голицыну. Таким образом, он фактически стал главой всей правительственной машины, диктатором, без объявления о том, и сам же водил войска в походы.
Шакловитому, кроме Стрелецкого приказа, царевна поручила и Сыскной приказ, Тайную канцелярию свою.
Безродные и не особенно способные, но послушные люди занимали иные важнейшие посты. В Разряде, исполнявшем обязанности генерального штаба, сидел думный дьяк Василий Семёнов. Окольничий, худородный дворянин Алексей Ржевский ведал финансами России в качестве начальника Большой казны и Большого прихода.
Удельное ведомство, так называемый тогда Большой дворец, поручен был не одному из первых бояр, а простому окольничему из рядовых, Семёну Толочанову. Он же оберегал и всю государственную сокровищницу, Казённый двор.
Земские дела вёл думский дьяк Данило Полянский, в Поместном приказе дворянские, вотчинные дела вершил окольничий Богдан Палибин.
Если эти скорее прислужники, чем сановники большого государства, и были удобны, как послушное орудие, то, с другой стороны, положиться на них было невозможно в случае решительного столкновения с какой-нибудь опасностью.
Софья скоро узнала это на самой себе. Постепенно раскручивая пружину, туго затянутую для неё стрелецкими волнениями в малолетство царей, Софья, уже через месяц после возвращения в Москву стала всюду показываться на торжественных выходах наравне с царями.
Сильвестр Медведев и иные придворные льстецы-борзописцы не только слагали в честь царь-девицы оды и панегирики, Шакловитый постарался выполнить в Амстердаме хороший гравированный портрет её, в порфире и венце. Был прописан титул, как подобает царице-монархине: «Sophia Alexiovna, Dei gratia Augustissima». Копии портрета на Государственном орле[91] печатались и в Москве, в собственной печатне Шакловитого.
Пётр видел, как сестра посягает на царскую власть вопреки воле народа, воле покойного Федора Но что было делать? И он молчал. Только царица Наталья отводила душу у себя в терему, обличая замыслы царевны.
Однако и тут нашлись предательницы, две постельницы Натальи — Нелидова и Сенюкова. Они дословно пересказывали Софье все толки о ней, все, что слышали в теремах Натальи.
— Пускай рычит медведица. Когти да зубы надолго спилены у ней…— отвечала рассудительная девушка, но приняла все к сведению.
И только через два года, в 1685 году, решилась открыто объявить себя не помощницей в государских делах малолетним своим братьям, а равной им, полноправной правительницей земли.
И вот с тех пор на челобитных, подаваемых государям, на государственных актах и посольских грамотах повелено было ставить не прежний титул, а новый, гласящий:
«Великим государям и великим князьям, Иоанну Алексеевичу. Петру Алексеевичу, и благородной великой государыне, царевне и великой княжне, Софье Алексеевне, всея Великия и Малыя и Белыя России С а м о д е р ж ц а м…»
И на монетах с одной стороны стали чеканить её персону.
Три года после того спокойно правила царевна, хотя и смущало её поведение Петра.
И почти сразу положение круто изменилось.
Ещё до майской маеты и мятежа Наталья с Петром при каждой возможности выезжала из Москвы в Преображенское, возвращаясь лишь на короткое время в кремлёвские дворцы, когда юному царю необходимо было появляться на торжествах и выходах царских.
А после грозы, пролетевшей над этим дворцом, сразившей так много близких, дорогих людей, и мать, и сын с дрожью и затаённой тоской переступали порог этих палат, когда-то милых сердцу по светлым воспоминаниям той поры, когда был ещё жив царь Алексей.
В Преображенском, почти в одиночестве, окружённые небольшой свитой самых близких людей, в кругу родных, какие ещё не были перебиты и сосланы в опалу, тихо проводили время Наталья и Пётр.
Мать всегда за работой, ещё более сердобольная и набожная, чем прежде, только и видела теперь радости что в своём Петруше.
А отрок-царь стал особенно заботить её с недавних пор. Во время мятежа все дивились, с каким спокойствием, внешне почти равнодушно, глядел ребёнок на то, что творилось кругом.
В душу ребёнка заглянуть умели немногие. Только мать да бабушка чутьём понимали, что спокойствие это внешнее, вызванное чем-то, чего не могли понять и эти две преданные Петру женщины.
Но в Преображенском, когда смертельная опасность миновала, когда ужасы безумных дней отошли в прошлое, Пётр как-то странно стал переживать миновавшие события.
— Мама, мама, спаси… Убивают! — кричал он иногда, вскакивая ночью с постели, и мимо дежурных спальников, не слушая увещаний дядьки, спавшего тут же рядом, бежал прямо в опочивальню Натальи, взбирался на её высокую постель, зарывался в пуховики и, весь дрожа, тихо всхлипывал, невнятно жаловался на тяжёлый кошмарный сон, преследующий его вот уже который раз. — Матушка, родненькая… Знаешь… Такой высокий… страшный… Вот ровно наш конюх Исайка, когда он пьян… И рубаха нараскрыт… Глазища злые… Софкины глаза, как на тебя она глядела… Помнишь… И я на троне сижу… Икона надо мною… Я молюся… А он подходит — нож в руке… Я молюся… А он и слышать не хочет… Нож на меня так и занёс… Вот ударит… Я и проснулся тут… Уж не помню, как и к тебе. Ты скажи князю Борису, не бранил бы меня, — вспомня вдруг о дядьке, Борисе Голицыне, просит мальчик.
— Христос с тобой… Ну, где ж там?! Пошто дите бранить, коли испужался ты? Не бусурман же Петрович твой… Душа у нево… Спи тута, миленький… Лежи… А утром — и вернёшься туды…
— Ну, мамочка, што ты… Я уж пойду. На смех подымут. Ишь, скажут, махонький… К матушке все под запан… Я уж большой… Гляди, почитай, с тебя ростом…
— А хоть и вдвое. Все сын ты мне, дите моё родное… И никому дела нет, што мать сына спокоит… Не бойся, миленький… Вот оболью тебя завтра с уголька, и не станут таки страхи снитца…
— Да не думай, родимая… Не боюся я… Наяву будь, я бы не крикнул, не испужался… Сам бы ево чем. А не устоять, так убечь можно… Я не боюсь. А вот со сна и сам не пойму, ровно другой хто несёт меня по горнице, да к тебе прямо.
— Вестимо, ко мне… Куды же иначе… Себя на куски порезать дам, тебя обороню… Недаром меня сестричка твоя медведицей величает… Загрызу, хто тронет моё дитятко.
И Наталья старалась убаюкать мальчика, который понемногу успокаивался и начинал дремать.
— А што, матушка, как подрасту я, соберу рать, обложу Кремль, Софку в полон возьму, к тебе приведу. Заставлю в ноги кланятца. И потом штобы служила тебе, девкой чернавкой твоей была… Вот и будет знать, как царство мутить… Наше добро, отцовское и братнее, у нас отымать… Вот тода…
— Ну, и не в рабыни, и то бы хорошо. Смирить бы злую девку, безбожную… Да сила за ей великая. И стрельцы, и бояре… Все её знают, все величают. Всем она в помогу и в пригоду. Вот и творят по её…
— Пожди, матушка. И я подрасту — силу сберу, рать великую… И по всей земле пройду, штобы все узнали меня… И скажу: «Я царь ваш. И люблю вас. Своё хочу, не чужое. И править буду вами по совести, как Бог приказал, а не по-лукавому, как Софья вон с боярами своими, с лихоимцами». Все наши, слышь, челядь, и то в один голос толкуют: корысти ради Софка до царства добираетца… А што я мал… Ништо!.. Подрасту — и научусь государить… Про все сведаю, лучче Софьи грамоту пойму… Вот её и знать не захочет земля… и…
— Ладно, спи… Пока солнце взойдёт, роса глаза выест, так оно сказывают… Спи, родименький. Господь тебя храни…
И Пётр засыпал, овеянный лаской матери, успокоенный тем, что над ним стоит, как ангел-хранитель, эта страдалица-мать.
Наутро мальчик вставал, немного усталый, словно после трудной работы, и потом целыми днями ходил задумчивый, озабоченный.
Учился он внимательно, но порой словно и не слушал объяснений Менезиуса и других учителей своих.
— Што с тобой, царь-государь, скажи, Петрушенька? — обращался к мальчику Стрешнев или другой дядька.
— Сам не знаю. Все што-то словно вспомнить я хочу, а не могу И оттого не по себе мне. Ровно камень на груди лежит… А слышь, скажи, Тихон Никитыч, много ль всех стрельцов на Москве?
— Не мало. Девятьнадесять тыщ, а то и боле наберетца…
— О-ох, много… Хоть и не очень лихие в бою они… Больше на посацких хваты, у ково ружья нет… А все же, коли добрых воинов на их напустить, меней чем шесть либо семь тысящ не обойтися, штобы побить их вчистую.
— Ты што же, аль не собираешься?..
— Соберусь, когда пора придёт, — совсем серьёзно, глядя на воспитателя, отвечает мальчик. — Аль ты не видел, што они, собаки, на Москве понаделали? И по сей час ещё не заспокоились. Я им не забуду… Эх, кабы иноземная рать не такая была. Вон, слышь, што Гордон али иные сказывают: «Наше дело — с иноземными войсками воевать. А што у вас, в московской земле, недружба идёт, нам в то нос совать непригоже. В гостях мы у вас — и хозяевам не указ…» Слышь, Тихонушка, энто выходит, хотя убей меня на ихних глазах, им дела нет?..
— Ну, не скажи, Пётр Алексеевич… Тово они не допустят. А ино дело, и правда в их речах. Однова — они за правое дело станут. А другой раз, гляди, и ворам помогу дадут. Лучче уж их не путать нам в свои дела, в московские…
Опять задумался мальчик.
— А слышь, ежели земскую рать собрать. Её спросить: можно ли так быть, штобы девка-царевна, поправ закон всякий, рядом с братьями-царями на трон лезла? Не было тово у нас. И быть не должно…
— Погляди, мой государь, и ответ себе увидишь. Написали вы, государи, грамоты. А посланы энти грамоты по городам ею, царевною-девицей, не мужем-государем. И всё же пришли на помощь дворяне, и рейтары, и копейщики, городовые служивые… Им царство да державу надо знать, землю боронить. А хто ту державу в руках держит, почитай, им и все едино. Не больно начетисты. Правды не ищут. Было бы жито в закромах да сусло в браге…
— Вот, и то нехорошо, Тихонушка. Я сметил: што разумней, умней, ученей человек, то он учтивей и ко всему доходчивей… Как сам царить буду, повелю всем науку знать всякую… Вон как, сказывают, в чужих землях заведено. Редко хто и не книжный бывает, не то мужики, а и бабы простые. А у нас и попы, бают, есть, што Псалтири кверху пяткой читают…
— Есть, есть, што греха таить.
— Ну, добро… Я подумаю… Я уж што-либо да измыслю. Нельзя же так…— с наивной убеждённостью проговорил мальчик.
И он надумал, гениальным чутьём своим уловил, что надо делать, как создать силу, свою, русскую, преданную ему, Петру, для восстановления справедливости в семье Петра, для восстановления правды по всей земле Русской и порядка в управлении царством.
Потолковал на досуге Пётр с несколькими из мальчуганов-сверстников, с которыми по большей части играл в войну:
— А нет ли у тебя ково из родни постарше, хто охоч был бы с нами потешитца? Пришло мне на ум взаправдашнее ученье воинское наладить. Вон меня хотят, как подрасту, на войну посылать с ратниками, землю оборонить. А я ничево и знать не буду… Зови, коли знаешь, хто захочет…
— Ладно. А жалованье какое?
— Какое солдату полагаетца… Да сверх тово — от себя дам, — хватит. Уж сыт будет. А и дело будет не велико. Ты приводи. Мы столкуемся…
А сам потом к матери и к дядькам обратился, им то же повторил, что и товарищам говорил, и прибавил:
— Научусь на малом, большое буду знать. Мне так учители мои не однова сказывали.
Прослезилась Наталья.
— Господь почиет на тебе, дитятко моё роженое. Дите и забаву в дело ставит. Потешайся. Все дам, што потребуешь. Свои выложу гроши последние. Да и то сказать, — как бы нащупывая мысль сына, прибавила Наталья. — Из этих потешников, конюхов твоих, гляди, охрана добрая подровняетца для тебя же…
Так были основаны потешные полки: Преображенский и Семеновский, окончательно сформированные Петром в марте 1687 года.
Сначала на Москве не обратили внимания на затеи мальчика.
Тем более что и военные игры сменялись у Петра сплошь и рядом весёлыми песнями, детскими играми, даже плясками. А когда мальчик подрос и его парни потешные стали обрастать бородами и усами, появилось на сцене для оживления и пиво, и мёд, и винцо порою.
— Девушка — пей, да дельце разумей, — говорил молодой инструктор нового войска и не мешал забавам своих потешных, их весёлым пирушкам и посиделкам.
Зато и эти потешные, очень скоро посвящённые во все тонкости полевого и крепостного строя, готовы были душу положить по единому слову своего царя и рядового, каким вступил в полк державный его основатель.
Инструкторы из иностранцев, которых подбирал образованный, тактичный и знающий людей Борис Голицын, дали постепенно войску потешных всю выправку и военные познания, какими обладали лучшие западные войска.
Даже своя артиллерия и фейерверкерский отряд завёлся в потешных полках.
Тут Софья сразу широко открыла глаза на невинную, как сначала казалось, затею брата, постепенно вырастающую в величине и представшую перед ней как готовое ядро преданной Петру военной силы.
И, главное, устремя внимание на внешнюю политику, на военные столкновения у крымских пределов и в других местах, Софья упустила момент, когда можно было ещё все привести к нулю и запретить брату играть в такие опасные потехи… Но когда Софья оглянулась, Петру было уже пятнадцать лет, потешных насчитывалась не одна тысяча человек, с настоящими опытными начальниками… И оставалось мириться с фактом, ожидая, что будет дальше.
Ждать Софье пришлось недолго.
Хотя Пётр занимался не одним военным строительством, а волей случая, как сам о том написал, пристрастился и к воде, ездил на Переяславльское озеро, строил своими руками и спускал там галиоты[92] и корабли военные, но все, что делалось в государстве и за пределами его, не ускользало от внимания крупного юноши, каким стал в пятнадцать лет царь, выглядевший и на все двадцать.
Видя, как плохо сражаются русские воеводы и войска всюду, куда ни пошлют, даже под начальством прославленного Василия Голицына, Пётр как будто пожелал дать всем урок настоящей баталии. Кстати, и самому при этом хотелось ему узнать, какую силу имеет он в руках, да и другим, то есть Софье, не мешает показать, какой выходит посев, если, подобно Язону, сеять драконовы зубы.
На Яузе-реке был построен городок, земляная крепостца Пресбург.
Сюда призвал Пётр музыкантов-флейтщиков и барабанщиков-бутырцев.
Все войско своё Пётр разделил на две части: меньшая оборонялась, большая нападала. Сам царь-отрок шёл в рядах солдат с ручными гранатами, изготовленными из глиняных горшков, наполненных горючей смесью…
Осада и бой велись по всем правилам до решительного приступа, когда участники так разгорячились, что не на шутку стали драться, нанося серьёзные повреждения друг другу, и человек двадцать чуть не потонуло при этом, так как атакующие загнали их далеко в реку, а сдаваться они не желали.
Не только Софью, теперь и Наталью стали тревожить опасные забавы Петра, его частые отлучки в Переяславль-Залесский, где на большом озере, имеющем до десяти квадратных вёрст, Пётр сам строил небольшие корабли, ставши заправским «корабельного дела мостильщиком», не хуже приглашённых из Голландии корабельщиков. Пригляделся юноша и к «щегольному» мачтовому делу.
И вот, чтобы отвлечь сына от опасных его странствий, царица Наталья задумала его женить, так как в то время юноша семнадцати лет считался вполне женихом.
Были, как положено, собраны красивые девушки-невесты. Но мать сама выбрала подругу сыну, красивую, хотя и недалёкого ума девушку, Евдокию Лопухину, дочь боярина Федора, давнишнего друга семьи Нарышкиных.
В январе сыграли свадьбу, а в апреле царь-работник уже был на своём любимом озере, на переяславльской корабельной верфи.
Мать и молодая жена писали ему письмо за письмом, кой-как вызвали в Преображенское, на семейные панихиды по царю Федору. Но вернуться опять на озеро Петру не удалось, так как недобрые вести дошли из Москвы в тихие горницы Преображенского дворца.
С тех пор, как 19 мая 1686 года, в день святого митрополита и Чудотворца Алексия, царевна наравне с царями, в порфире и короне, появилась на торжественном царском выходе, шествуя рядом с братьями, когда стала писаться наравне с малолетними государями самодержицей российской, не было сомнения ни у кого, куда направлены планы Софьи.
Не чувствуя за собой крепкой опоры, Пётр сносил дерзкие выходки сестры.
Но в июле 1689 года в Успенском соборе наступил час, когда юный царь счёл возможным дать первый отпор притязаниям Софьи.
Оба царя и царевна прослушали литургию в честь чудотворной Казанской иконы Божьей Матери, после чего всегда совершался большой крёстный ход из Кремля на Красную площадь, в Казанский собор.
Одни цари обычно участвуют в этом шествии.
Но Софья, вопреки ритуалу, взяла образ Богоматери, именуемый «О тебе радуется», и заняла место в ряду с обоими братьями.
— Скажи царевне-государыне, негоже ей с нами, государями, вровень идти, да и вовсе нелет[93] открыто на народ с крестами ходить. Осталась бы лучче, так я прошу, — бледный, словно сам опасаясь своей отваги, сказал Прозоровскому Пётр.
Прозоровский, покачивая в недоумении головой, не смог ослушаться и передал царевне слова брата.
— Сам бы не шёл, коли ему зазорно со мной рядом быть, — громко и резко отрезала Софья.
Вспыхнуло лицо Петра. Какая-то судорога пробежала по нему.
Изредка, но появляется эта неприятная гримаса на красивом лице царя. И впервые появилась она после майских убийств.
Не говоря ни слова, Пётр поставил икону, которую должен был нести, вышел боковыми дверьми из храма и поскакал в своё Преображенское…
С той минуты поняла Софья, что Пётр рассчитал свои силы и только ждёт удобной поры, чтобы явиться и сказать: «Оставь место, которое заняла не по праву».
«Нет, — думала царевна, — лучше уж я вперёд поспею, братец любимый…»
И стал после этого быстро созревать большой, опасный заговор против Петра, против его матери, заговор против всех, кто ему предан, кто мог бы постоять за юношу-государя.
Пути и выходы в таких делах были хорошо знакомы, давно испытаны непреклонной царевной.
Подкуп, жалобы, уговоры, посулы и угрозы — всё было пущено в ход.
И вот 7 августа 1689 года, накануне дня, когда решено было привести в исполнение хитро задуманный план, по Москве пронеслись тревожные вести:
— Подмётное письмо объявилось в Верху, в царских хоромах: «В ночь на восьмое августа внезапно придут потешные конюхи царские из Преображенского на избиение царя Иоанна и всех сестёр его, царевен, с Софьей во главе…»
Сейчас же был отдан приказ: ночью кремлёвские ворота держать на запоре.
Повсюду в стрелецких слободах получен был указ от Шакловитого и Василия Голицына: посылать от каждого полка по сотне людей в Кремль для охраны царской семьи.
Были поставлены отряды и в других местах, на Лубянке, на Красной площади.
Никто не знал хорошенько, для чего собирают стрельцов в полном вооружении, против кого они должны действовать, куда их поведут.
Только самые близкие люди знали правду.
Никитка Гладкий, посредник и приспешник Софьи, полагая, что дело уже бесповоротно затеяно царевной, открыто говорил в Кремле товарищам по караулу:
— Я, гляди, уж и верёвку привязал ко спасскому набату. Как пойдём на Патриаршие палаты… Примемся за казну патриаршую богатую… А я так и зыкну громким голосом на Акимку-простоту: «Гей, из риз-то из цветных долой, никоновец… Возденут их на плечи истового пастыря Христова, не на твои, што, подобно волку, хитишь стадо Божие…»
— А ково же на место ево? — спросил другой приятель Софьи, Стрижев. — Али отца Сильвестра Медведева таки поверстают в патриархи?
— Вестимо, ево… Нет лучче попа на Москве. И учен, и приветлив, и за нашу веру стоит… А нарышкинское племя пора и вовсе выполоть из царства…
— Чево зевать, — поддержал Кузьма Чермной, и теперь ставший в первые ряды мятежников. — Хоть всех уходим, а корня не выведем, пока не убьём старой медведицы…
— Наталью-то убить?.. Гляди, сын не даст. Во как заступитца. Он — малый бравый… Всем бы царь, коли бы не никоновец…
— И ему спускать нечево… За чем дело стало… На всякова коня узду найти можно. У бердышей глаз нету. Ково хватит, тот и сватом…
И стрельцы рассмеялись в ответ на зверскую шутку…
Глава VI. ПЕРВЫЕ КАЗНИ
Сама судьба спасла Петра от гибели.
Всегда доступный простому люду, умный, решительный, прямой, он имел много искренних, даже ему неведомых друзей среди рядовых того самого Стремянного полка, на который больше всего надеялись и Софья, и Голицын, и осторожный, уверенный Шакловитый.
Главным таким приверженцем Петра был набожный и добродушный пятисотник Стремянного полка Ларион Елизарьев, которому Шакловитый без опаски раскрыл весь план нападения на царя и Наталью в Преображенском.
К Елизарьеву пристали: пятидесятник Димитрий Мелнов, десятники Ладогин, Феоктистов, Турка, Троицкий и Капранов, все приближённые денщики того же Шакловитого. Они должны были передавать приказы начальника своего во все концы, на заставы, в полки стрелецкие.
Когда протазанщик[94] Андрей Сергеев позвал всех этих людей на сборное место на Лубянке и они убедились, что «дело зачинается», сейчас же Елизарьев с товарищами вошёл в церковь святой Феодосии, стоящую по соседству с площадью, и здесь на святом кресте и Евангелии дали клятву спасти Петра.
Ладогин и Мелнов поскакали в Преображенское, а остальные решили наблюдать, что будет дальше.
В Преображенском было темно и тихо, когда около полуночи прискакали туда спасители-стрельцы. Очевидно, вести о сегодняшнем нападении преображенцев на Москву были пустою сказкой.
— К государю допустите нас. Дело тайное, слово и дело государево имеем сказать.
Только услышал Стрешнев эти речи стрельцов, стоящих на крыльце, куда и сам боярин выскочил полуодетый, испуганный ночной тревогой во дворе, сейчас же у него мелькнула тревожная мысль: «Мятеж… Не подосланы ли эти тоже?..»
— Нельзя пустить, — проговорил он. — Раней осмотреть вас надо…
— Смотри, боярин, да скорее… Поздно бы не стало…
И они скинули с себя почти все, до рубахи. Дали оглядеть карманы шаровар, сняли сапоги.
— Ну идите… Да потише. Почивает с устатку государь… Не испужать бы…
Спальник Петра тихо стукнул в дверь.
— Што там ещё, ужли вставать надо?.. Рано, кажись, — спросил звучный молодой голос.
— Государь, не все здорово в Кремле… Вести пришли… Выслушать изволь, — доложил Стрешнев.
Быстро распахнулась дверь. Царица Евдокия только успела скрыться от чужих глаз в соседнем покое.
— Што? Мятеж?.. На меня? На матушку идут? — словно угадывая события, тревожно спросил Пётр.
Он стоял на пороге в одной длинной шёлковой рубахе, с расстёгнутым воротом, и все большое, красивое тело и лицо юноши стало подёргиваться мелкой дрожью.
— Покуда нет ещё беды, а близко, — заговорили разом стрельцы.
И все рассказали, что сами знали о заговоре, что видели в Кремле и на московских площадях.
Стоя слушал их юноша, словно и плохо понимал все, что ему говорили.
Потом, вдруг закрыв лицо руками, крикнул:
— Матушка… Зовите… Дуня… Беги… Сейчас придут… убьют…
И кинулся вон из покоя, только успев захватить на бегу лёгкий охабень[95], который как раз собирался накинуть на плечи зябнущему царю спальник.
Несколько человек поспешили вслед за Петром, чтобы не потерять его из виду.
Только шагах в пятистах от дворца, в чаще деревьев, остановился Пётр.
— Хто тут бежит?.. Свои? — спросил он. — Ты, Никитыч?.. Вернись, вели сюды подать одежду… И коней сюды… И для цариц снаряжайте колымаги поскорее… В Троицу спешить надо. Едино там будет без опаски на время…
Здесь же оделся Пётр, вскочил на коня и поскакал по знакомой дороге, окружённый десятком-другим потешных, к Сергию-Троице. А через час, на самом рассвете, туда же налегке выехали и обе царицы со всем двором, выступили все потешные и немало стрельцов того же Стремянного полка, проживающие обычно при царе в Преображенском.
Поразила всех весть о бегстве царя в лавру. Денщики Шакловитого явились и доложили:
— Согнали, слышно, из Преображенского царя Петра. Ушёл он бос, только в одной сорочке, неведомо куда…
Хитрый заговорщик на это только плечами пожал.
— Вольно же ему, взбесяся, бегать. Видно, не проспался с похмелья…
Но тут же поспешил с докладом к Софье.
— Ну, теперь об головах пошла игра, — решительно, по своему обыкновению, заметила царевна.
И она не ошиблась.
Пётр был умный ученик. По примеру Софьи, с помощью образованного и сильного своим здравым смыслом князя Бориса Алексеича Голицына, юный царь теперь проделал все, что в своё время выполнила Софья.
В лавру съехалось множество ратного люду, готового стоять до смерти за юного, такого даровитого и смелого в своих начинаниях царя.
Конечно, манило многих и то, что здесь можно было сделать карьеру скорее, чем при дворе Софьи, где все места были уже разобраны.
Но и личным своим обаянием Пётр привлекал сердца.
Утром же послал Пётр запрос к царю Иоанну и к царевне Софье: для чего было такое большое собрание стрельцов ночью в Кремле? И тут-то потребовал прислать к нему полковника Стремянного полка Цыклера с пятьюдесятью стрельцами.
Этот самый Цыклер был одним из коноводов в майские дни, потом играл роль преданного слуги у Софьи. Но чуя, что звезда её близка к закату, спешно послал тайную весть в лавру: «Пусть государь позовёт меня. Я все дело злодейское раскрою».
Софья, ничего не подозревая, послала Цыклера.
За ним появились в лавре Ларион Елизарьев и все его товарищи, которых горячо принял и обласкал царь.
Все сразу выплыло наружу: подговоры Шакловитого убить Петра и Наталью, наветы Софьи на Петра, её жалобы перед стрельцами, её решение занять самой трон, а супругом своим избрать кого-нибудь из главных бояр.
— Да што ещё творили те лихие людишки, — показал капитан Ефим Сапогов из Ефимьева полка, — в июле месяце минувшего года одели в Верху у царевны её ближнево подьячего, Матюшку Шошина, в белый атласный кафтан да в шапку боярскую. И так он стал на боярина Льва Кириллыча Нарышкина схож, что мать родная не отличит. И нас взяли, тоже по-боярски одев, меня да брата Василия. И двоих рядовых с нами, ровно бы конюхов. Верхами мы и ездили по ночам по заставам, по Земляному городу. Да караульных стрельцов у Покровских да у Мясницких ворот как пристигнем, и до смерти колотит их Шошин той обухами да кистенями, а то и чеканом. Пальцы дробит, тело рвёт. Да приговаривает: «Заплачу я вам за смерть братов моих. Не то вам ещё будет». А мы и скажем при том: «Полно бить, Лев Кириллыч. И так уж помрёт, собака…» А те, побитые стрельцы, к Шакловитому ходили с жалобами, а он и сказывал им: «Птица больно велика, нарышкинская, высоко живёт, её не ухватишь, на суд не поведёшь… Вот бери лекарство. Да от меня малость в награду за бой… за увечье… А гляди, Нарышкины будут ещё таскать вас за ноги на Пожар, как их шесть лет назад таскивали вы со всей братией… Берегитесь, мол…» Так вот и поджигали стрельцов.
Пётр ушам не верил. Но те же братья Сапоговы твёрдо стояли на своём и объявили, что их подговаривали и Шакловитый и Софья убить и Петра и Наталью. За это сулили большие милости и награды…
Хотя Пётр и его советники знали, что все грамоты, посылаемые из лавры на Москву, царевна будет перехватывать, всё-таки часть этих посланий и приказов успела проникнуть куда надо; стрельцы узнали, что царь их зовёт в лавру под страхом смертной казни.
Последние колебания у стрельцов исчезли. Так писать мог только настоящий повелитель, уверенный, что располагает силой, способной привести угрозу в исполнение.
Быстро наполнилась лавра и пригороды всеми почти московскими ратными людьми. Они заявили, что готовы повиноваться только Петру. И когда Пётр стал настоятельно требовать от брата выдать ему Шакловитого, Василия Голицына и всех участников заговора, Софье, с которой через голову Иоанна говорил Пётр, ничего не оставалось больше, как выдать своего верного пособника.
Но раньше она решилась на последнее средство. Окружённая небольшой свитой, Софья сама двинулась в лавру, желая лично поговорить с братом, надеясь смягчить его гнев, отклонить подозрения.
Умная, красноречивая, отважная, она надеялась на себя. Думала и то, что стоит ей очутиться там, среди стрелецких полков, когда-то обожавших свою матушку-царевну, сразу все изменится.
Может быть, и Пётр опасался того же. И вот в селе Воздвиженском её встретил комнатный стольник царя, Иван Бутурлин, и объявил:
— Не изволит государь Пётр Алексеевич тебе, государыне в лавру прибыть. К Москве повернуть прикажи, нечего туда идти.
— Непременно, пойду и пойду! — топнув ногой, крикнула царевна, и поезд двинулся вперёд.
Скоро новый гонец, весь в пыли, остановил поезд царевны.
Впереди уже виднелись стены обители. А гонец, боярин князь Иван Троекуров, вечный прихвостень того, кто сильней, резко, почти грубо, объявил поверженной правительнице:
— Слышь, государыня Софья Алексеевна, ей, не ходи далей… А то сказать царь приказал: в случае твоего дерзновенного прихода под стены той обители будет с тобой поступлено не честно, как с ведомыми злодеями царского здоровья.
Сказал и даже глаза зажмурил от страха, видя, какая ярая злоба исказила лицо Софьи. И без того старообразная, грубая чертами и выражением лица, царевна вдруг стала похожа на одного из тех китайских или индейских богов зла и вражды, какими украшаются их мрачные храмы.
— Скажи ты ему, што он…— прохрипела сквозь зубы Софья. — Пусть у старых бояр спросит, хто он?.. Конюх, псарь потешный, не царь...
И поток грубой брани вырвался у неё из уст вместе с пеной и слюной.
Но всё-таки она повернула назад.
Вслед за Софьей прискакал в Москву Некрасов с отрядом стрельцов за Шакловитым, которого Пётр приказал взять живого или мёртвого.
Как ни старалась Софья подбить на мятеж своих приверженцев, все были угнетены страхом.
Многие из главных заговорщиков, с Сильвестром Медведевым, разбежались и попрятались по разным глухим уголкам России.
Но Шакловитого сторожили на всех путях. Ему бежать было невозможно.
И он укрылся на первых порах в покоях царевны.
Софья сначала приказала Некрасову явиться к ней и так разгневалась на посланца царского, что приказала обезглавить его в ту же минуту.
Но бояре поостереглись исполнить такое приказание. И были правы.
К вечеру Софья успокоилась и объявила Некрасову, что прощает его.
Но уступать ещё не собиралась. Напротив, приказала составить воззвание ко всей земле, которая должна-де разобрать её тяжбу с братом. И не позволила подвозить к лавре ни денег, ни съестных припасов, как приказал это Пётр.
Но второго сентября в помощь Некрасову приехал с новым большим отрядом полковник Спиридонов.
Царевна уговорила Иоанна вмешаться. Тот написал Петру, что сам приедет в лавру, а Шакловитого выдаст головой.
Но в это время все иноземные войска, раньше бывшие простыми зрителями грозных событий, уяснили себе, что дело царевны проиграно, и, вопреки её запрещению, тайно выступили в лавру, выразили свою верность и покорность молодому Петру.
Это было последней каплей. Софья осталась совершенно одинока.
И шестого сентября вечером явились к царевне выборные от стрельцов, какие остались ещё в Москве.
— Выдай, государыня, Шакловитого царю. Не миновать тово, видно. Чево тут мотчаться?[96] — заявили они.
Напрасно молила и грозила Софья.
— Брось, царевна, — раздался почти рядом с нею какой-то грубый голос. — Знаешь по-нашему: сердит, да не силён… Так и за дверь вон!.. Гляди, поднять мятеж не долга песня? Да помни, как загудет набат, многим шею свернут тода, а и Шакловитому от смерти не уйти. Што же народ мутить понапрасну?
Рыдая, кусая от бессильной злобы пальцы, выдала Софья своего пособника стрельцам, опасаясь не столько за него, сколько за себя, когда под пыткой Шакловитый все откроет Петру.
И он открыл все. Подтвердил речи Сапоговых и других…
Боярский суд постановил: окольничего Шакловитого, О6росима Петрова, Кузьку Чермного, Ивана Муромцева, пятисотенного Семена Рязанцева и полковника Дементья Лаврентьева казнить. Остальных девятерых главных зачинщиков наказать нещадно кнутом и сослать в Сибирь.
— Не стоит казнить собак тех. Не свою волю творили. Больший есть виновник, коего и не судили мы, — объявил громко Пётр. — Пусть и эти шестеро понесут с другими одну кару. И только сослать всех подале.
Встал тогда служитель Христа, Иоаким, уже давно переехавший в лавру:
— Так ли слышу? А де же правосудие людске и Божие? Не от себе глаголать надлежит тебе, государь, не от доброго серця твоего, а от розума. Хто выше стоял, кому боле дано було, с того и больше спросится. А первым тем злодеям чого не хватало? И воны не то на твою драгоценну жизнь, на матерь, родывшую тебе, посягали. То простыты смеешь ли? Да и пример треба. Вспомни, як в недавни лета на Москве кровь лилася рабов твоих. И по сей час не отмщена, вопиет к Богу. За тех простыты смеешь ли?.. Нет, глаголю во имя правды и строгой истины Господней, во имя возмездия людского и божеского. Мало — государство, воны и церковь православную хотилы смутить, поставить раскольничьего попа в патриархи. И то простыты можешь ли, яко защитник православия и веры Христовой?
Долго угрюмый, задумчивый сидел в молчании Пётр. Потом черкнул своё решение на листе, и трое: Шакловитый, Петров и Чермный — были всё-таки преданы смертной казни по воле патриарха.
Приговор совершён на площади перед лаврою, у самой московской дороги. А главной виновнице, Софье, опять через руки Иоанна, этой кукле в бармах и венце, было послано письмо, вернее, грозный указ: «Уйти навсегда со сцены русской государственной жизни».
И нельзя было ослушаться этого грозного послания, полного ума и твёрдости, где так стояло: «Теперь, государь-братец, настаёт время нашим обоим особам Богом вручённое нам царствие — править самим. Понеже пришли есми в меру возраста своего. А третьему зазорному[97] лицу, сестре нашей, с нашими двемя мужскими особами в титлах и в расправе дел быти не изволяем!»
Конечно, Иоанн дал полное согласие на все предложения брата.
Немедленно указом имя Софьи повелено было исключить из всех актов, где оно раньше поминалось вместе с именами царей. Тот же боярин Троекуров явился в Москву и передал приказ царя — поселить Софью навсегда в Новодевичьем загородном монастыре.
Не сразу, но пришлось подчиниться и этому.
В конце сентября заняла она в обители ряд обширных келий, вместе с целым штатом оставленных ей прислужниц.
Только публично не смела показываться царевна.
— А то, — заметил Пётр, — в церкви поют: «Спаси, Господи, люди твоя…» — а на паперти наёмным злодеям деньги раздают на убийство близких… И штобы нищенки ни к ей, ни во Дворовых покоях не терлися, ни юроды, ни калеки всякие тоже людишки никчёмные… Комнатные вытерки… Стены обтирают спиной, сор из избы выносят Давать им можно Деньгами, как обычай есть… А во дворцы — не пускать…
Но один из главных виновников, Василий Голицын, первый актёр во всей разыгравшейся трагикомедии, остался почти безнаказан.
Пётр по просьбе дядьки своего, Бориса Голицына, не довёл до конца следствия об участии князя в происках царевны. И только сослал его сначала в Каргополь, потом в Яренск, в деревушку верстах в семистах от Вологды.
Так кончил свою карьеру Василий Голицын, полновластный хозяин Русской земли в течение многих лет, живший по-европейски в полутатарской ещё Москве, скопивший миллионное состояние, не считая всего, что он проживал ежегодно.
Все ставленники его и Софьи были удалены, и Пётр отдал власть в руки новым людям.
Лев Нарышкин, опытный дипломат, Емельян Украинцев, князь Федор Урусов, Михайло Ромодановский, Иван Троекуров, Тихон Стрешнев, Пётр Прозоровский, Пётр Лопухин-меньшой, Таврило Головин, Пётр Шереметев Яков Долгорукой и Михайло Лыков — вот кому вручил всю власть молодой царь. А сам снова принялся за учение, за своё мастерство и работу, которую пришлось оставить на время, чтобы очистить царство от старой плесени и гнили, веками копившейся в стенах московских дворцов и теремов…
Глава VII. ИНОКИНЯ СУСАННА
Больше шести лет пронеслось после событий, описанных в предыдущей главе. Великан ростом, могучий телом, с мощным умом, неутомимый в труде, молодой царь Пётр будто нарочно был создан судьбой, чтобы поставить на новые пути Русское царство, богато одарённый, но задавленный вековым невежеством и гнётом народ.
Никогда история более зрелых народов не отмечала такой усиленной деятельности самодержавного правителя во благо своей земли, какую проявлял Пётр, разумеется, действуя по силе своего разумения не как пророк-моралист, а как деятельный государственный преобразователь и захватчик во имя будущих великих задач, достойных великого славянского племени.
Почти семь лет Пётр один волновал стоячее русло московской жизни. Но и в доме его и в царстве дела шли сравнительно спокойно.
И неожиданно в феврале 1697 года снова забродили старые дрожжи, вернее, упорное, предательски затаённое, вечное брожение пробилось наружу.
Весёлая пирушка шла в обширном, богато и со вкусом убранном жилище нового любимца государя, Франца Лефорта.
Было это 23 февраля 1697 года. На утро назначен отъезд за границу большого посольства, в котором под видом простого дворянина Петра Михайлова должен принять участие и сам царь, в это время написавший на своей печати девиз: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую».
Научиться самому лучшим порядкам жизни, чтобы потом научить родную землю, — такова была сознательная, продуманная цель настоящей поездки за море, первой, беспримерной до сих пор во всей русской истории.
Гремела музыка. Юноша-царь от души веселился, плясал с миловидными обитательницами Кукуя, или Немецкой слободы, и с русскими боярышнями, которые так забавно выглядели в своих новых нарядах.
— Петруша, тебя спрашивают — шепнул ему в разгар вечера Тихон Стрешнев. — Вон в том покое, что за столами накрытыми.
Пётр миновал столовую и увидел двух давно ему знакомых стрелецких начальников: юркого, востроносого и всегда оскаленного, словно векша, полуполковника Елизарьева и полусотенного Силина.
— Вам што? Погулять захотелось? Так сюды без зову не ходят. Ступайте в кнею[98], али куды… Да вы и не пьяны, я вижу… Ровно не в себе. Уж не беда ли какая?
И от одного предчувствия у Петра задёргалось лицо, голову стало пригибать к плечу глаза остановились.
— Да што же вы? — уж нетерпеливо окликнул их царь — Али со мной шутки шутить задумали, благо дни такие весёлые?! Ну, выкладывайте, коли што есть.
— Есть, государь Пётр Алексеевич. На твою особу злодеи помышляют.
— Хто? Где? Говори! Да потише, слышь… Идём сюды…
И Пётр отвёл обоих подальше в сторонку, за большой резной шкап, в самый угол комнаты, где и без того никого не было.
— Вот, может, через час-другой сюды нагрянут злодеи. Поджечь дом надумали. А в суматохе тебя, государь, в пять либо в шесть ножей изрезать. И за море не поехал бы ты, и земли не губил бы своими новыми затеями да порядками.
— Ага!.. Вот оно куды погнуло!.. Кто ж это?.. Говоришь, все сбираются злодеи сюда… Где же собрались они? Кто главный? Скорей говори!
— Двое поглавнее — Цыклер Ивашка да Соковнин Алёшка…
— Ага, знакомые ребята!.. Цыклер — старый дружок, прощёный вор, што конь леченый, не вывезет никогда… А иные… Из вашей же братии, из стрельцов?.. Где они?
— Стрельцы же, государь… У Цыклера и собраны теперя. Знаку ждут, поры полуночной. Да собраться бы всем получче…
— Добро. Спасибо, Силин. Тебе — сугубое спасибо, Ларивон. В другой раз ты выручаешь из беды наше здоровье. Бог Тебе воздаст, и мы не забудем. На крыльцо ступай, никому ни гугу… Ждите…
И вернулся в зал.
Весело объявил Лефорту и гостям государь:
— Не взыщи, хозяин дорогой с хозяюшкой, и вы государи, товарищи мои, что, противно обычаю, покину вас на часочек. Дельце одно неважное приключилось.
Вышел, велел двум своим денщикам ехать за собой, а другим направить к полуночи отряд, человек в сто, к дому Цыклера и по знаку царя войти в комнаты.
А сам подъехал прямо к дому полковника-предателя, недавно ещё возведённого в думные дворяне за помощь против Софьи.
Здесь тоже не спали, как и в доме Лефорта. Горели огни, пробиваясь в щели ставень. Когда вошёл Пётр, Цыклер, зять его, стольник Федор Пушкин, и донской казак Рожин пировали за столом, чтобы вином придать себе решимости и мужества для предстоящего дела. Гром с ясного неба не поразил бы их так, как появление царя.
Пушкин подумал, что за Петром войдут сейчас солдаты, и двинулся было к выходу.
— Штой-то, али я испугал вас, господа-кумпанство?.. Не желал того. Ехал мимо, вижу, не спит Ваня, не гости ли? Горло бы можно и мне промочить… Вот и угадал…
Засуетился хозяин. Из мертвенно-бледного лицо у Цыклера стало красным.
Понемногу собравшись с мыслями, он стал подмигивать остальным заговорщикам, как бы желая сказать: «Судьба сама предала жертву в наши руки».
Но иноземец Цыклер плохо понимал душу русских, способных отравить повелителя, убить его в суматохе, исподтишка, и не смеющих прямо взглянуть в лицо даже, ненавистному государю, чтобы вернее нанести удар…
— А што, не пора ли наконец? — не выдержав, шепнул одному из соучастников хозяин.
Пётр услышал.
— Давно пора, негодяй, — крикнул он. Выпрямился во весь свой нечеловеческий рост, замахнулся, и Цыклер от одного удара свалился с ног.
Вскочили остальные. Рожин кинулся к оружию, которое было снято перед тем, как сесть за стол, и стояло в углу.
Но Пётр, этого не допустил, обнажив свой тесак.
А тут же распахнулись двери и вошёл Елизарьев с верными стрельцами и солдатами. Заговорщиков связали, отвезли в Преображенское, и в ту же ночь начался допрос, потому что царь не хотел откладывать своей поездки за границу.
Злодеи не долго запирались: пытка и улики Елизарьева развязали им языки. Но они не оговорили никого больше. Царь не стал много выпытывать. Он и сам догадался о тех тайных сообщниках, которые подожгли Цыклера. И только сказал:
— Ладно, захотели воскресить мятеж да злобу стрелецкую. Подыму и я покойников из гробов.
И вот ровно через девять дней, четвёртого марта, Москва увидала странное и отвратительное, душу потрясающее зрелище.
К церкви святого Николая Стольника на Покровке рано утром подъехал небывалый поезд — двенадцать больших свиней влекли сани. Палач вёл упрямых животных. Другие помощники его и отряд стрельцов дополняли шествие.
При церкви в родовом склепе ещё одиннадцать лёг тому назад был похоронен Иван Милославский, посеявший первые семена стрелецкего бунта на Москве, долго бывший вдохновителем замыслов Софьи и всех злых начинаний, какие только были направлены против рода Нарышкиных.
Тело с гробом было вынуто из склепа, гроб был раскрыт. Останки старого заговорщика в сухом месте сохранились ещё довольно хорошо, и в село Преображенское повезли труп боярина Милославского, а палачи кричали при этом:
— Дорогу его милости, верховному боярину Ивану Михалычу Милославскому…
И крики эти, как косвенное, но грозное предостережение, должны были через десятки уст дойти и до царевны Софьи в Новодевичьем, откуда рука её незримо вложила нож и деньги в руку Цыклера.
В Преображенском гроб с телом боярина был поставлен перед самым помостом плахи. Когда палач рубил Цыклеру и Соковнину руки и ноги, когда он срезал головы двум стрельцам и казаку, их сообщникам, кровь хлестала прямо на труп Милославского, наполняя гроб до краёв.
«Глотай, старый крамольник… Любо ли, кровопийца… Доволен ли? — мысленно спрашивал Пётр, лицо которого от гнева и злобы казалось страшным. — Вот твой друг старый Цыклер, твой выученик… И Соковнин, ваше староверское семя. Тошно вам, што я Русь задумал из тьмы на свет поднять, державой сделать великою. Неохота вам выпускать меня на вольный свет, чтобы свет и волю я мог принеси, народу моему… Так пей же…»
Сестре Софье он велел только передать: «Сказал государь, сестру родную, дочь отца своего, он жалеет ещё. Одна, мол, вина — не вина. Две вины — полвины… Три вины — вина исполнится. В ту пору — пусть не посетует, горше всех ей станет…»
Кончена была казнь, и обезглавленные тела на санях, гроб Милославского на тех же свиньях — всё это было перевезено к Лобному месту, где когда-то лежали кровавые куски тел, изрубленных в майские дни.
Тут стоял высокий столб, сходный с тем, на котором были начертаны «подвиги» надворной пехоты царевны Софьи.
У вершины этого столба торчало пять острых спиц. На каждую воткнули по голове. А тела вместе с полуистлелым Милославским разложили внизу, вокруг столба.
Долго лежали и тлели здесь трупы, наполняя смрадом воздух, вызывая в душах людей ужас.
Пётр понимал, что подстрекало Цыклера, честолюбивого, хитрого иноземца, обиженного успехом кое-кого из его братии, поздней приехавших на Москву, но опережающих в карьере старого заговорщика и предателя. Царь видел, что старик Соковнин был наведён на мысль об убийстве и влиянием Софьи, и ненавистью старовера-капитоновца к царю-новоделу. Чтобы очистить воздух, он сослал подальше от Москвы всю семью Цыклера, весь почти род Соковнина и Пушкина.
И, совершив жестокое дело возмездия, уехал в чужие края учиться, чтобы просветить потом свой край.
Софья услышала угрозу, поняла намёк. Но не только отдалённые угрозы — самая опасность влекла её, как влечёт порой человека тёмная бездна, по краю которой идёшь, чуя замирание сердца.
Правда, перед отъездом Пётр позаботился, чтобы в Москве не осталось ни одного стрельца. Все полки были разосланы на службу по разным окраинам.
В слободах остались только жены и дети стрелецкие, чего не бывало никогда.
Обычно московские стрельцы несли службу только летом по городам, а на зиму почти все возвращались к своим семьям, торговым занятиям и промыслам.
Вместо стрельцов караулы в Москве несли полки: Бутырский, Лефортовский, Семеновский и Преображенский.
Вдруг постом 1698 года появилось в Москве до двухсот беглых стрельцов с Литовского рубежа, из полков Гундертмарка, Козлова, Чубарова и Чорного, из тех полков, которые особенно были недовольны новыми порядками цыгана-царя, как бранили староверы Петра до того, когда возвели его в чин антихриста.
Несмотря на крепкие караулы у ворот монастыря, где жила Софья, стрельцы сумели при помощи нищих побирушек из стрелецких баб войти в сношения с царевной. И раньше чем беглецов изловили и выгнали из Москвы, посланные от всех четырех полков успели передать Софье свою жалобу на новые, тяжёлые, мучительные порядки, вручили ей призыв снова стать во главе правления.
Ответ был получен немедленно. Вот что писала царевна:
«Вестно мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число. И вам бы быть к Москве всем четырём полкам и стать под Девичьим монастырём табором. И челом мне бить: идти к Москве против прежнего[99] на державство. А если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть. А кто бы не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».
С этим письмом поспешили стрельцы в Великие Луки, где стояли все четыре полка.
Но ещё на пути, в сорока верстах от Москвы, догнала их новая посланная, нищенка, стрелецкая жёнка Ульяна, с новым письмом; царевна писала младшим стрелецким начальникам:
«Ныне вам худо, а впредь будет и хуже. Идите к Москве. Чево вы стали? Про государя ничего не слышно».
Вот на что особенно надеялась Софья. Она понимала, она чувствовала, что грозный облик Петра нагнал трепет на самые отчаянные души. И только за его спиной, во время его отсутствия, и есть надежда достичь чего-нибудь, запугав трусливых, безвольных бояр, стоявших во главе правления.
Расчёты царевны не оправдались.
Правда, её письма подняли все четыре полка. Особенно заволновались они, когда повсюду был рассеян слух, что Петра нет больше, что он погиб там, за морями, в чужих краях. Прибавляли, что бояре собираются даже удушить царевича Алексея, мать которого, Евдокия, как и весь род Лопухиных, предана старому, «древлему благочестию» и стремится воспитать сына в духе старины…
После долгих колебаний стрельцы решились. Из Торопца, где в мае на короткое время были поставлены все четыре полка, их хотели послать опять в разные места.
Но ратники взбунтовались. Первыми подали пример те зачинщики, которые бегали в Москву, к Софье. Постепенно и остальные, всего две тысячи двести человек, решили идти прямо на Москву.
Если на них выйдет войско, уклониться от боя, засесть в Туле или Серпухове и ждать подмоги от донских казаков, тоже начавших шевелиться.
Бояре в Москве, узнав о большом бунте, потеряли голову. «Бабий страх на них нашёл», — как потом выразился Пётр.
Десятого июня всё-таки бояре-правители поручили воеводе боярину Шеину и товарищам его, генерал-поручику Гордону и князю Кольцо-Масальскому, собрать войска и выступить на Ходынку. От всех четырех верных полков, стоящих в Москве, было взято по пятисот человек. Собраны были также дворцовые ратники, недоросли, конюшенные служители в военном снаряжении и приданы строевому войску в подмогу.
Осмотрев войска, Шеин двинулся к Тушину, где стал лагерем.
У воеводы было не меньше трех тысяч семисот ратников при двадцати пяти пушках.
Восемнадцатого июня произошла встреча. Сначала Гордон, по поручению Шеина, несколько раз делал попытки образумить бунтовщиков.
— Выдайте сто сорок пять зачинщиков, тогда вины ваши будут все прощены и забыты. И вам выдадут, что по службе полагается.
Стрельцы ничего и слышать не хотели.
Гордон вернулся в московский лагерь.
У стрельцов начались приготовления к бою. Полковые попы, капитоновцы служили молебны. Ратники молились и исповедовались.
Шеин, расположив войско для боя, послал ещё раз к стрельцам Кольцо-Масальского.
Но стрельцы слушать его не стали, а только отдали челобитную, в которой были перечислены все обиды и лишения, какие перенесли стрельцы за эти последние три года в чужой стороне, голодая, холодая, не видя жён и детей.
— Што делать? Будем боем решать спор, — сказал Шеин и дал знак Гордону.
Первый залп из двадцати пяти полевых орудий был дан в воздух. Никто из стрельцов, конечно, не пострадал.
— Братцы, Господь за нас! Да, гляди, и пушкарская рука на товарищей не подымается. Пали в семеновцев да в преображенцев. Сергиев! Сергиев!
При этом кличе полетели кверху шапки стрельцов. И они стали стрелять из ружей, из пушек.
Грянули неровные залпы. У Шеина оказались раненые.
Тогда полковник Граге навёл орудия как следует, и новым залпом выкосило немало людей…
В тот же миг стрельцов охватила паника. Они дали тыл. Повсюду путь был отрезан отрядами Шеина. Грянул третий залп…
И врассыпную кинулись теперь стрельцы, кто куда. А большинство, опустив знамёна, стали молить о пощаде.
Их всех обезоружили, окружили караулом.
И часу не длилась эта «война»; пятнадцать убитых и тридцать семь тяжелораненных у стрельцов, четыре раненых у Шеина — вот все потери Тушинского боя.
Все свободные кельи соседнего Воскресенского монастыря, подвалы, амбары переполнились арестованными зачинщиками мятежа и беглецами, которых переловили до одного. Розыск делал сам Шеин, пытал, жёг огнём.
Стрельцы объяснили свой мятеж недовольством на вечные походы, на лишения и нужду. Никто ни звука не сказал о письмах царевны Софьи.
И Шеин приговорил к виселице сперва пятьдесят шесть человек зачинщиков, а потом, по приказу бояр из Москвы, приказал удавить удавкой ещё семьдесят четыре человека.
Молча, творя крёстное знамение, клали голову в петлю осуждённые стрельцы.
Сто сорок человек, менее опасных бунтарей, были наказаны жестоко кнутом и сосланы в Сибирь.
Остальные, всего тысяча девятьсот шестьдесят пять человек, разосланы по разным городам и посажены в тюрьмы.
Седьмого июля Шеин уже мог вернуться в Москву.
Но в сентябре вернулся Пётр и иначе взглянул на дело.
— Сами, толкуют, замутились, без всякой сторонней руки… Ну нет… Я допрошу их построже вашего. Дознаюсь до дела… Хоть и так вижу, откуда ветер снова подул. От монастыря от Девичья… Из-за Москвы-реки… Ну, ежели… уж теперь не прощу.
И он сам стал в Преображенском с пристрастием допрашивать стрельцов.
В Москву свезли их всех, числом тысяча семьсот четырнадцать человек, и рассадили по тюрьмам. Отсюда партиями возили в Преображенское. Всего четырнадцать застенков, или следственных камер учредил для разбора этого огромного дела Пётр. Ближние бояре и дядьки его заведовали этими застенками.
Целый месяц длился розыск. Кроме воскресений, ежедневно по шесть — восемь часов тянулся допрос, очные ставки, пытки и битьё кнутом.
Главнейших коноводов пытал и допрашивал сам царь. Семнадцатого сентября, в день именин Софьи, словно нарочно, чтобы сделать «подарок» сестре, начались допросы. На дыбу поднимали и жгли огнём трех распопов стрелецких, которые служили молебны и причащали мятежников, во время боя пели молитвы.
Главным образом Пётр хотел добиться, не было ли от Софьи писем к этим мятежным полкам. И, конечно, правда была раскрыта. Не все сумели молча переносить огонь и кнут. А жгли до трех и четырех раз. Били кнутом нещадно… Узнав про письма, царь взял на допрос и женщин царевны, чтобы узнать, кто их передавал. И это раскрылось. Обнаружилось и участие сестёр Софьи в заговоре, особенно Екатерины и Марфы. Только тихая, робкая Мария осталась непричастна.
Царь лично допрашивал и Екатерину и Марфу. Но они отпирались ото всего, зная, что их пытать брат не станет. Правда, он не решился коснуться их тела. Но душу измучил.
Когда кончилось следствие, сначала триста сорок один человек были приговорены к петле.
Тридцатого сентября у места главной казни, близ Покровских ворот, несметные толпы народа, все иноземные послы собрались, как на невиданное торжество.
Около двухсот телег под сильным конвоем потянулось из Преображенского, и на каждой сидело по два стрельца, с зажжённой восковой свечой в руках.
День был тихий, и у многих огни не гасли до самого последнего мгновения, когда казнимого передавали в руки палача.
Явился и Пётр, верхом, просто одетый, как всегда окружённый свитой иноземных и своих генералов и бояр.
Он подал знак, шум толпы умолк. Дьяк выступил вперёд и стал читать. «Воры, и изменники, и бунтовщики, Фёдорова полку Колзакова, Афонасьева полку Чубарова, Иванова полку Чорнова, Тихонова полку Гундертмарка стрельцы!..
Великий государь, царь и великий князь Пётр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, Сказал вам сказать:
В прошлом, 1698 году пошли вы без указа великого сударя, забунтовав, со службы к Москве всеми четырьмя полками, и, сшедшись под Воскресенским монастырём с боярином с Алексеем Семёновичем Шеиным, по ратным людям стреляли и в том месте вы побраны. А в расспросе и с пыток вы сказали все, что было сговорено: прийти к Москве и на Москве учиня бунт, бояр побить, и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, то вы всеми четырьмя полки ведали и умышляли.
И за то ваше воровство великий государь и прочая указал казнить смертию».
Отсюда повезли под грохот барабанов всех осуждённых к местам казни к десяти воротам в Белом городе, к трём воротам на Замоскворечье и в стрелецкие слободы.
Там и повесили двести человек. Остальным клеймили щеки, били кнутом и сослали в Сибирь.
На короткое время Пётр прервал розыски и поехал к Троице, навстречу своему первому адмиралу, Крюйсу, который через Архангельск прибыл в Россию из Голландии.
Расспрос шёл и без Петра. Было точно установлено, что царевны-сестры подбивали стрельцов к мятежу, особенно Софья.
Тогда ещё девятьсот пятьдесят шесть стрельцов было приговорено к смертной казни. Из них семьдесят два человека обезглавлены в Преображенском. Палачей не хватало, и конюхи, преображенцы, семеновцы, бояре своей рукой рубили мятежные головы…
С одиннадцатого по двадцать первое октября было повешено на Москве всего семьсот восемьдесят пять стрельцов.
И, как последняя угроза, на Девичьем поле перед кельями царевны Софьи, уже постриженной в том же монастыре под именем «смиренной инокини Сусанны», повисло сто девяносто пять трупов.
А у троих из стрельцов, которые своими неподвижными глазами глядели прямо в окна кельи Сусанны-Софьи, которые при порывах ветра раскачивались вместе с верёвкой, касаясь мёртвыми руками самого окна, у этих троих в руках белела «челобитная», призывающая царевну Софью снова на «державство», на трон московский…
И так целых полгода висели и разлагались трупы повешенных, ежедневно возобновляя бескровную пытку, которой подверг сестру возмущённый и потерявший сострадание брат.
На площадях тоже грудами валялись неубранные тела казнённых. Вдоль дорог, на телегах, лежали стрельцы, как бы говоря:
«Берегитесь! Царь долго терпит, но мстит жестоко, беспощадно…»
И ужас объял всех…
Только иноземцы толпами ходили к Новодевичьему монастырю поглядеть на «челобитчиков», позлорадствовать, чуя, какую муку терпит царевна, готовившая мятеж, чтобы вырезать всех немцев и водворить старый строй на Руси.
Опустели, обезлюдели с той поры стрелецкие шумные слободы. Жён и дочерей стрелецких разослали по дальним убогим деревням, где их разобрали холостые поселяне, не видавшие раньше таких бойких и упитанных баб.
Так сгибла навсегда бесшабашная, но грозная сила стрелецкая, немало лет вершившая судьбу Московского царства.
Юный орлёнок разогнал стаю коршунов… И расправлял уж крылья, выпуская когти, чтобы добраться и до других врагов своих и царства…
Д.П. Мордовцев ДЕРЖАВНЫЙ ПЛОТНИК. РOMAH
To академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник
А С Пушкин[100]
Часть I
1
В глубокой задумчивости царь Пётр Алексеевич представлявшему собою в одно и то же время и кабинет астронома с глобусами Земли и звёздного неба, с разной величины зрительными трубами, и мастерскую столяра или плотника и кораблестроителя, с массою топоров, долот, пил, рубанков, со всевозможными моделями судов, речных и морских, со множеством чертежей, планов и ландкарт, разложенных по столам.
Что-то нервное, пожалуй, творческое, вдохновенное светилось в выразительных глазах молодого царя.
Была глубокая ночь. Но сон бежал от взволнованной души царственного гиганта. Он часто подолгу останавливался в раздумье перед разложенными ландкартами.
— Морей нет, — шептал он, водя рукою по ландкартам. — Земли не измерить, не исходить… От Днестра и Буга до Лены, Колымы и Анадыри моя земля, вся моя!.. И у Александра Македонского, и у Цезаря, у Августа, у всего державного Рима не было столько земли, сколь оной преклонилось под мою пяту, а воды токмо нет, морей нет… Нечем дышать земле моей. Воздуху ей мало, свету мало… Так я же добуду ей воздуху и свету, и воды, воды целые океаны!
Он с силою ударил по столу так, что юный денщик его, Павлуша Ягужинский[101], приютившийся за одним из столов над какими-то бумагами, вздрогнул и с испугом посмотрел на своего державного хозяина.
Но Пётр не заметил того. Ему вспомнилось все, что он видел во время своего первого путешествия по Европе. Это был какой-то волшебный сон… Корабли, счёту нет кораблям которые бороздят воды всех океанов, гордые, величественные корабли, обременённые сокровищами всего мира… А у него только неуклюжие струги[102], да кочи[103], да допотопные ушкуи[104]…
— У махонькой Венецеи, кою всю мочно шапкой Мономаха прикрыть, и у той целые флотилии. Голландерскую землю мочно бы пядями всю вымерить, а на-поди! Кораблям счёту нет! — взволнованно шептал он, снова шагая по своему обширному покою.
Добыть моря, добыть!.. Не задыхаться же его великой земле без воздуху!.. На дыбу, духовно, поднять всю державу, весь свой народ, и добыть моря, чтоб протянуть державную руку к околдовавшей его Европе… Через Чёрное море, через Турскую землю — далеко, это не рука… А там, за Новгородом и Псковом, где его пращур, Александр Ярославич, шведскому вождю Биргеру «наложил печать на лице острым мечом своим», там, где он же на льду Чудского озера поразил наголову ливонских рыцарей в Ледовом побоище, там ближе к Европе…
— Токмо б морей добыть! — повторил царь.
А корабли будут! Лесу на корабельное строение не занимать стать, всю Европу русским лесом завалить хватит… Корабельное строение уже кипит по всем рекам… Все корабельные «кумпанства» уж к топору поставлены, горит работа! На рубку баркалон[105] в шестнадцать с лихвой саженей длины и четырех ширины ставят топор да пилу бояре да владыки казанский и вологодский… К баркалонам чугунных пушек льётся от двадцати шести до сорока четырех на каждое судно. На барбарские суда ставят топор и пилу гостинные кумпанства. А там ещё бомбардирский да галеры… А орудий хватит…
Вдруг царь как бы очнулся от всецело поработивших его государственных дум и взглянул на Ягужинского, которого, казалось, только теперь заметил, и был поражён его необыкновенной бледностью и выражением в его прекрасных чёрных глазах чего-то вроде немого ужаса.
— Что с тобой, Павел? — спросил он, останавливаясь перед юношей. — Ты болен? Дрожишь? Что с тобой? — Государь!.. Я не смею, — бормотал денщик бледными губами.
— Чего не смеешь? Я к тебе всегда милостив.
— Не смею, государь… но крёстное целованье… моя верность великому государю…
— Говори толком! Не вякай.
— Царь-государь!.. На твоё государево здоровье содеян злой умысел… хульные слова изрыгают…
— Знаю… не впервой я чать… От кого? Как узнал?
— Приходила ко мне, государь, попадья Степанида, в Китай-городе у Троицы, что на рву, попа Андрея жена, и оттай[106] сказывала, что пришед-де в дом певчего дьяка Федора Казанца зять его, Федора, Патриаршей площади подьячий Афонька Алексеев с женою своей Фёклою и сказали: живут-де они в Кисловке, у книгописца Гришки Талицкого, и слышат от него про тебя, великого государя, непристойные слова, чево и слышать невозможно.
Павлушка говорил торопливо, захлёбываясь, нервно теребя пальцы левой руки правою.
— Ну?
— Да он же, государь, Гришка, — продолжал Ягужинский, — режет неведомо какие доски, а вырезав, хочет печатать, а напечатав, бросать в народ.
— Ну?
— Да он же, государь, Гришка, те свои воровские письма, да доски, да и тетрати отдал товарищу своему, Ивашке-иконнику[107].
— Ну? И?
— И та, государь, попадья Степанида сказывала мне, что оный Гришка Талицкий составил те воровские письма для тово: будто настало-де ныне последнее время и антихрист в мир пришёл…
Ягужинский остановился, боясь продолжать.
— Досказывай! — мрачно проговорил царь.
— Антихристом, — запинался Павлушка, — он, государь, Гришка, в том своём письме ругаясь, писал тебя, великого государя…
— Так уж я и в антихристы попал, — нервно улыбнулся государь, — честь немалая.
— Да он же, государь, Гришка, также и иные многие статьи тебе, государю, воровством своим в укоризну писал: и народом от тебя, государя, отступиться велел, и слушать тебя, государя, и всяких податей тебе платить не велел.
— Вот как! — глухо засмеялся Пётр — С сумой меня пустить по миру велит! Вот тебе и «корабли». Ну?
— А велел-де, государь, тот Гришка взыскать, вместо тебя, царём князя Михаилу Алегуковича Черкасского[108]…
— Ого! Ну, ну!..
— Через того князя хочет народу нечто учинить доброе…
— Так, так… Будем теперь в ножки кланяться Михайле Алегуковичу… Ну!
— Да он же, государь, вор Гришка, для возмущения к бунту с тех своих воровских писем единомышленникам своим и друзьям давал-де письма руки своей на столбцах, а иным в тетратях, и за то у них имал-де деньги.
Теперь Пётр слушал молча, величаво-спокойно, и только нервные подёргивания мускулов энергичного лица, оставшиеся у него ещё с того времени, когда он совсем юношей, чуть не в одной сорочке и босой, ночью ускакал из Преображенского в Троицкую лавру от мятежных приспешников его властолюбивой сестрицы Софьи Алексеевны, которая давно сидела теперь в заточении тихих келий Новодевичьего монастыря.
— Все? — спросил он.
— Нет, государь. Попадья сказывала, что он же, Гришка, о «последнем времени» и об антихристе вырезал две доски, а на тех досках хотел-де печатать листы, и для возмущения же к бунту, и на твоё, государево, убийство.
— Убийство!
— Так, государь, та попадья сказывала…
— Ну?
— Он-де, государь, Гришка, писал оное для того которые стрельцы разосланы по городам, и как государь пойдёт с Москвы на войну а они, стрельцы, собрався, будут в Москве… чтоб они выбрали в правительство боярина князя Михайлу Алегуковича Черкасского, для того-де, что он человек доброй и от него-де будет народу нечто доброе.
— Так… Дай Бог, — иронически заметил Пётр — Все?
— Нет, государь! Оная попадья ещё сказывала, будто тамбовский епископ Игнатий, будучи в Москве, с Гришкой о последнем веце, и об исчислении лет, и об антихристе…
— Это обо мне-то?
— О тебе, государь, разговаривал, и плакал, и Гришку целовал.
— Так уж и архиереи… Вон куда яд досягает! А сие что? — спросил Пётр, указывая на лежавшие на столе тетради.
— Попадья тож принесла.
Царь взял тетради.
— А! «О пришествии в мир антихриста и о летех от создания мира до скончания света», — прочитал он. — Так, так… А вот и «Врата»… Вижу, вижу… Это «врата» в Преображенский приказ, в застенок, на дыбу, — качал он головой. — Все?
— Все, государь.
Заметив, что денщик от страху едва стоит на ногах, царь отрывисто сказал:
— Спасибо тебе, Павлуша, за верную службу А теперь ступай спать. А сам просмотрю сии тетрати. Да! Для чего твоя попадья к тебе заявилась с своим изветом, а не в Преображенский приказ, к князю-кесарю[109]?
— Боялась, государь
— Ну ступай…
2
Царь, оставшись один, стал просматривать обличительные тетради.
Долго в ночной тишине шуршала грубая бумага писаний фанатика. Пётр внимательно прочитывал и перечитывал некоторые места Он не мог не сознавать, что Талицкий с усердием изувера рылся в старинных книгах. Страницы пестреют ссылками на «Ефрема Сирина об антихристе», на «Апокалипсис», на «Маргерит»[110]. Фанатик всеми казуистическими изворотами старается доказать, что ожидаемый антихрист и есть Пётр Алексеевич.
— Что он все твердит об «осьмом» царе? — сам с собой рассуждал Пётр — «Осьмый царь — антихрист… А Пётр осьмый: он и есть антихрист»… По какому же исчислению я осьмой царь? А! От Грозного Царь Иван Грозный, царь Федор, царь Борис Годунов, царь Шуйский, царь Михаил Фёдорович, царь Алексей Михайлович, царь Федор Алексеевич… Да, я осьмей Что ж из сего?
И опять зашуршала бумага, долго шуршала.
— Что за безлепица! И сему бреду пустосвята верят архиереи… О, бородачи! А они — пастыри народа!
И он вспомнил случай с епископом Митрофаном.
Царь приехал в Воронеж для наблюдения за стройкою кораблей для предстоящего похода под Азов[111].
Архиерей встретил царя с крестом. Народные толпы заняли собою всю площадь у собора. Но внимание народа было, по-видимому, больше сосредоточено на маленьком, худеньком, тщедушном Митрофане.
Наскоро осмотрев корабельные работы, с которыми Пётр очень торопил, чтобы с полой водой двинуться в поход, он, возвратись во дворец, послал Павлушу Ягужинского просить к себе Митрофана для переговоров о том же кораблестроении, так как Митрофан не только жертвовал Петру значительные суммы на постройку кораблей, но сам соорудил, оснастил и вооружил роскошное судно лично для царя.
Когда Ягужинский явился к Митрофану с царским приглашением, Митрофан тотчас же пошёл ко дворцу. Народ, увидав любимого святителя, который кормил бедноту не только Воронежа, но и соседних селений, обступил своего любимца, теснясь к нему под благословение.
Пётр видел из окна, как Митрофан повернул к фасаду и к крыльцу дворца и вдруг не то с испугом, не то с гневом остановился.
Народ тоже как бы с испугом шарахнулся назад.
И Митрофан не вошёл во дворец. Он быстро, насколько позволяли ему старческие силы и слабые ноги, повернул назад. Народ за ним.
— Что случилось? Беги, Павел, узнай, в чём дело?
— Государь! Его преосвященство сказал: «Не войду во дворец православного царя, когда вход в оный дворец оскверняют поставленные там еллинские идолы, и притом обнажённые».
— А!.. Он осмелился ослушаться моего приказа!.. Так поди и скажи сему попу: если он не явится ко мне, то как преступника царской воли его ждёт казнь!
Возвратился Ягужинский бледный, растерянный.
— Что? Скоро явится ослушник?
— Нет, государь… Он сказал: приму смерть, но не оскверню сан архиерея Божия, — с дрожью в голосе отвечал Ягужинский.
— А! Так будет же смерть!
…И там так же, как теперь здесь, в Кремле, глухо простонал соборный колокол. Долго, долго стоит в воздухе медленно затихающий стон меди… За ним другой, более отдалённый, но такой же зловещий, похоронный, доносится от другой церкви… Замер и этот в ночном воздухе… Ему отвечает откуда-то третий… Стонет и этот… Ясно, звонят по мёртвому, только не по простому…
В полумраке сумерек царь видит в окно, что толпы народа, поспешно и видимо тревожно крестясь, стремятся к архиерейскому дому. Слышится смутный говор. По временам доносятся отдельные фразы.
— Ох, Господи! По мёртвому звонят…
— На отход души…
— С чего бы это с ним?.. Давно ли видели его!..
— Архиерей-батюшка помирает…
— Поди умер уж… О, Господи!
Прибежал Ягужинский, растерянный, бледный, дрожащий…
— Что там? Что случилось?
— Он в гробу, государь… в крестовой…
— Кто в гробу?
— Его преосвященство епископ Митрофан.
— Помер? Преставился?
— Нет, государь, жив…
— Как жив! А в гробу?
— В гробу, государь… Говорит: царь изрёк мне смерть, казнь… Слово царёво не мимо идёт… Сейчас буду служить себе отходную, на отход души.
— Подай шляпу и палку.
Сквозь расступившуюся толпу Пётр быстро вошёл в крестовую и невольно остановился, полный изумления и суеверного страха…
Он увидел гроб, мёртвое, бескровное лицо… Простой сосновый гроб… Голова мертвеца покоится на белых сосновых стружках…
Откуда-то слышатся стоны, плач…
Свет от зажжённых свечей и паникадил поразительно отчётливо вырисовывает мёртвое лицо и cложенные на груди бледные худые руки с чётками.
Вдруг мертвец открывает глаза…
— Государь! — силится приподняться в гробу и в изнеможении опять падает на опилки.
Пётр быстро подходит…
— Прости меня, служитель Божий!
Он осторожно берет Митрофана за руку и помогает ему приподняться.
— Прости… Я в сердцах изрёк слово непутное… На сей раз пусть мимо идёт слово царёво. Я каюсь. Благослови меня, святитель…
Все это вспомнил Пётр в уединении и тишине ночи и улыбнулся:
— Переклюкал, переклюкал меня Митрофан.
Он остановился перед подробною картою Швеции и обоих побережий Балтийского моря, внимание его особенно приковали устья Невы.
— Дельта Невы — как дельта Нила… Александр Македонский основал свою новую столицу, Александрию, в дельте Нила, а я свою новую столицу водружу в дельте Невы!
И Пётр стал по карте изучать эту дельту.
— Все острова… А коликое число рукавов!.. Сии все имеют быть дыхательными органами для моей земли.
Затем глаза его остановились на Ниеншанце, шведской крепости, стоявшей на месте нынешней Охты.
— Худо место сие выбрали для крепости... Я не тут её воздвигну…
3
Разоблачения попадьи Степаниды, доведённые Павлушей Ягужинским до сведения царя, возбудили страшное дело в царстве застенка и пыток, в Преображенском приказе, где над жизнью и смертью россиян властвовал наш отечественный Торквемада[112], свирепый князь-кесарь Ромодановский.
Одновременно с попадьёй к князю-кесарю явился и придворный певчий дьяк Федор Казанец и поведал Ромодановскому то же самое, что попадья поведала Павлуше Ягужинскому, и страшное дело началось.
Не далее как через две недели, приехав в Преображенский приказ, князь-кесарь спросил главного дьяка приказа.
— По делу Гришки Талицкого все ли воры пойманы?
— Все, княже-боярин, — ответил дьяк.
— Вычти, кто имяны, — приказал Ромодановский.
Дьяк принёс «дело» и, перелистывая его, докладывал:
— Книгописец Гришка Талицкий, иконник Ивашка Савин, мещанской слободы церкви Адриана и Наталии пономарь Артамошка Иванов да сын его Ивашко, да Варлаамьевской церкви поп Лука.
— Вишь, все одного болота кулики-пустосвяты, — презрительно пожал плечами князь-кесарь.
— Боярин князь Иван Иванович Хованской, — продолжал докладывать дьяк.
— Ну, это старая боярская отрыжка, из «тараруевцев»[113], — с улыбкой заметил князь-кесарь, — пирог на старых дрожжах… Ну?
— Церкви входа в Иерусалим, в Китай-городе у Троицы на рву, поп Андрей и попадья его Степанида, — вычитывал дьяк.
— Степаниде, по закону, первый бы кнут, да её государь не велел пытать, коли утвердится на том, о чём своею охотой донесла Ягужинскому, — заметил Ромодановский. — Чти дале.
— Кадашевец Феоктистка Константинов, — продолжал дьяк, — племянник Талицкого Мишка Талицкий, садовник Федотка Милюков, человек Стрешнева Андрюшка Семёнов, с Пресни церкви Иоанна Богослова распоп[114] Гришка…
— Кулик мечен — расстрига, — процедил сквозь зубы князь-кесарь. — Ну?
— Хлебного дворца подключник Пашка Иванов…
— Пашку я знавывал. Дале.
— Чудова монастыря чёрный поп Матвей, углицкого Покровского монастыря дьячок Мишка Денисов.
— Опять кулики пошли. Ну?
— Печатного дела батырщик[115] Митька Килиллов да ученик Талицкого Ивашка Савельев.
Дьяк кончил и ждал приказаний.
— Ныне жду я набольшого кулика, Игнашку, тамбовского архиерея… Быть ему на дыбе, — покачал головою Ромодановский.
Епископ Игнатий действительно был привезён из Тамбова в тот же день, но не в Преображенский приказ, а, по духовной подсудности, на патриарший двор.
Патриархом в то время был престарелый Адриан[116].
Прямо с дороги конвойные ввели тамбовского архиерея в патриаршую молельную келью. Дело было слишком важное, высшей государственной важности: не только хула на великого государя, но — страшно вымолвить! — проповедь о нём как об антихристе. Поэтому и расследование дела производилось с особенной спешностью и строгостью.
Когда Игнатия ввели к патриарху, Адриан встал и сделал несколько шагов к вошедшему.
— Мир святейшему патриарху и дому сему, — тихо сказал Игнатий и сделал земной поклон.
Потом он приблизился к Адриану и смиренно протянул руки под благословение.
— Благослови, отче святый.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Патриарх сел. Игнатий продолжал стоять.
— Ведомо ли тебе, архиерей, по какому «государеву слову и делу» привезён ты на Москву? — спросил Адриан.
— Не ведаю за собою, святейший патриарх, никакого государева слова и дела, — отвечал Игнатий.
— А знает ли тебя на Москве книгописец Григорий Талицкий? — снова спросил патриарх.
Вопрос был так неожидан, что Игнатий точно от удара лицо пошатнулся и побледнел. Он сразу понял весь ужас своего положения.
«Антихрист, антихрист», — трепетало в его душе. Патриарх повторил вопрос.
— Книгописца Григория Талицкого я видел, — дрожащим голосом отвечал Игнатий.
— А где?
— На Казанском подворье перед поездом моим с Москвы в Тамбов, в Великий пост.
— А о чём была твоя беседа с ним, Гришкою?
— О божественном и о писании Григорием книг…
— А что тебе, архиерей, говорил Гришка о великом государе? Не возносил ли он хулу на великого государя?
Игнатий ещё больше побледнел.
— От Гришки Талицкого хулы на великого государя я не слыхал, — почти шёпотом проговорил он.
— И ты, Игнатий, на сём утверждаешься? — строго спросил Адриан.
— Утверждаюсь, — ещё тише отвечал допрашиваемый.
Патриарх подошёл к двери, ведшей в приёмную палату, и, отворив её, сказал приставу:
— Привести сюда Гришку Талицкого.
Талицкий был уже доставлен из Преображенского приказа.
Немного погодя послышалось глухое звяканье кандалов, и Талицкий с оковами на руках и ногах предстал пред патриархом.
— Знаем тебе сей инок-епископ? — спросил колодника Адриан, указывая на Игнатия.
— Тамбовский епископ Игнатий мне ведом, — отвечал Талицкий.
— И ты, Григорий, утверждаешься на том, что показал на епископа Игнатия в расспросе с пыток? — был новый вопрос.
— Утверждаюсь.
— И поносные слова на великого государя при нём, епископе, говорил ли?
— Говорил.
Положение архиерея было безвыходным. Запирательство могло ещё более запутать и привести в застенок, на дыбу.
— Каюсь, — сказал он упавшим голосом, — те поносные слова он, Григорий, при мне точно говорил, и те слова я слышал, и к тем его, Григорьевым, словам я говорил: видим-де мы и сами, что худо делается, да что ж мне делать? Я немощен и, окромя тех тетратей, велел ему написать, чтобы мне в том деле истину познать.
Он остановился. Казалось, в груди ему недоставало воздуху. Патриарх молча перебирал чётки. Талицкий стоял невозмутимо, и только в глазах его горел огонёк не то безумия, не то фанатизма.
Архиерей как-то беспомощно поднял глаза к образам, а потом робко перевёл их на патриарха. Адриан ждал.
— И он, Григорий, тетрати мне принёс, — продолжал Игнатий с решимостью отчаяния. — Денег ему за них два рубля я дал, а увидев в тех тетратях написанную хулу на государя, те тетрати сжёг, токмо того сожжения никто у меня не видел.
Патриарх понимал, что дело слишком далеко зашло и без суда всего архиерейского синклита обойтись не может. Признание сделано. Епископ, слышавший хулу на великого государя и не заградивший уста хулителю, не отдавший его в руки правосудия, является уже сообщником хулителя. Мало того, он не только слушает хулу на словах, но велит изложить её на бумаге, а за это ещё даёт деньги тому, кто изрыгает страшную хулу на помазанника Божия.
«Антихрист, великий государь, помазанник Божий, антихрист! Экое страховитое дело, внушённое адом! — содрогается в душе патриарх. — И кто же в сём адовом деле замешан? Архиерей Божий, его ставленник!»
4
Через несколько дней князь-кесарь Ромодановский, проезжая во дворец мимо ворот патриаршей Крестовой палаты, увидел у тех ворот нескольких архиереев и остановился, чтобы спросить, по какому делу собирается синклит высших сановников церкви.
— По делу Гришки Талицкого, книгописца, купно с тамбовским епископом Игнатием, — отвечал один из архиереев.
— Добро, святые отцы, — сказал князь-кесарь, — после вашего праведного суда Игнатью, куда ни поверни, не миновать Преображенского приказу… Архиерей, епископ — на дыбе!
Эти зловещие слова привели в ужас архиереев. Но Ромодановский ничего больше не сказал и поехал во дворец.
Он застал царя и Меншикова над раскрытою картою.
Пётр водил остриём циркуля по дельте Невы. Нева и её дельта стали с некоторого времени преследовать его как кошмар.
— Великому государю здравствовати! — приветствовал царя Ромодановский.
Он видел, что государь в хорошем расположении духа.
— Эх, князюшка! — махнул рукою Пётр. — Моя песенка спета!
— Что так, государь? — притворился удивлённым князь-кесарь.
— Так… Не строить уж мне больше корабликов, не видать мне Невы, как ушей своих, — продолжал Пётр. — Снимут с меня, добра молодца, и шапочку Мономахову, и бармы и наденут на меня гуньку кабацкую да лапотки-босоходы.
— Где ж это птица такова живёт, котора б заклевала нашего орла, что о двух головах? — улыбнулся князь-кесарь.
— Да вот новый Григорий Богослов, а може, и Гришка Отрепьев…
— Что у меня в железах сидит?
— Да, может, и тамбовский, а то и вселенский патриарх Игнатий: они не велят народу ни слушаться меня, ни податей платить… Прости, матушка-Нева со кораблики!
— К слову, государь, — сказал Ромодановский, — в те поры, как я спешил к тебе, к патриаршей Крестовой палате съезжались все архиереи, чтобы судить Игнашку, «вселенского патриарха», как ты изволил молвить.
Глаза царя метнули молнии.
— И обелят пустосвята долгогривые! — гневно сказал царь. — Знаю я их!.. Один токмо Митрофан воронежский другим миром мазан, да те, что из хохлов — Стефан Яворский да Димитрий Туптало, как мне ведомо, это люди со свечой в голове… А те, что из российских, все вспоены кислым молоком от сосцов протопопа Аввакума.
— Не обелят, государь, — уверенно сказал Ромодановский, — повисит он, сей Игнашка, у меня на дыбе! Улики налицо.
— Так, говоришь, судят? — уже спокойно спросил царь.
— Судят, государь.
— Не заслоняй мне Невы, Данилыч, своими лапищами, — сказал Пётр Меншикову, снова наклоняясь над картой.
Над Игнатием действительно совершался архиерейский суд с патриархом во главе.
Адриан и все архиереи сидели на своих местах, по чинам, а перед ними стоял аналой с положенными на нём распятием и Евангелием.
Игнатий стоял, опустив глаза, и дрожащими руками перебирал чётки. Лицо его было мертвенно-бледно, и бледные, посиневшие губы, по-видимому, шептали молитву.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — тихо провозгласил маститый старец, патриарх.
— Аминь, аминь, аминь, — отвечали архиереи.
— Епископ тамбовский Игнатий, — не возвышая голоса, продолжал патриарх, — пред сонмом тебе равных служителей Бога живого, перед святым Евангелием и крестом распятого за ны говори сущую правду, как тебе на Страшном суде явиться лицу Божию.
Игнатий молчал и продолжал только шевелить бескровными губами. Было так тихо в палате, что слышно было, как где-то в углу билась муха в паутине. Где-то далеко прокричал петух…
«Петел возгласи», — бессознательно шептали бескровные губы несчастного.
— Призови на помощь Духа Свята и говори… Он научит тебя говорить, — с видимой жалостью и со вздохом проговорил Адриан.
Дрожащими руками Игнатий поправил клобук.
— Скажу, все скажу, — почти прошептал он. — Против воровских писем Григория Талицкого…
— Гришки, — поправил его патриарх.
— Против воровских писем Гришки, — постоянно запинаясь, повторил подсудимый, — в которых письмах написан от него, Гришки, великий государь с великим руганием и поношением. У меня с ним, Гришкою, совету не было; а есть ли с сего числа впредь по розыскному его, Гришкину, делу явится от кого-нибудь, что я по тем его, Тришкиным, воровским письмам великому государю в тех поносных словах был с кем-нибудь сообщник или кого знаю да укрываю, и за такую мою ложь указал бы великий государь казнить меня смертию.
Пальцы рук его так хрустнули, точно переломились кости.
— И ты, епископ тамбовский Игнатий, на сём утверждаешься? — спросил патриарх.
— Утверждаюсь, — шёпотом произнесли бескровные губы.
— Целуй крест и Евангелие.
Шатаясь, несчастный приблизился к аналою и, наверное, упал бы, если бы не ухватился за него. Перекрестясь, он с тихим стоном приложился к холодному металлу такими же холодными губами.
Тут, по знаку Адриана, патриарший пристав отворил двери, и в палату, гремя цепями, вошёл Талицкий.
Взоры всех архиереев с испугом обратились к вошедшему. Это было светило духовной эрудиции москвичей, великий учёный авторитет старой Руси. И этот твёрдый адамант[117] веры, подобно апостолу Павлу, — в оковах!
Некоторые архиереи шептали про себя молитвы…
Но когда Талицкий, уставившись взглядом в мертвенно-бледное лицо Игнатия, смело, даже дерзко отвечал на предложенные ему патриархом вопросные пункты, составленные Преображенском приказе на основании показаний прочих привлечённых к делу подсудимых, и выдал такие подробности, о которых умолчал Игнатий, архиереям подумалось что Талицкий и их обличает в том же, в чём обличал тамбовского епископа.
И многие из сидевших здесь архиереев видели уже себя в страшном застенке, потому что и они глазами Талицкого смотрели на все то, что совершалось на Руси по мановению руки того, чьё имя, называемое здесь Талицким, они и в уме боялись произносить.
Наконец, затравленный разоблачениями Талицкого до последней потери воли и сознания, Игнатий истерически зарыдал и, закрыв лицо руками, хрипло выкрикивал, почти задыхаясь:
— Да!.. Да!.. Когда он, Григорий…
— Гришка! — вновь поправил патриарх…
— Да! Да! Когда он, Гришка… те вышесказанные тетрати… «О пришествии в мир антихриста» и «Врата»… ко мне принёс… и, показав… те тетрати передо мною… чел и рассуждения у меня… просил в том… Видишь ли ты, говорил он, Григорий…
— Гришка! — строго остановил патриарх.
— Да… видишь ли-де ты, что в тех тетратях писано… что ныне уже все… сбывается…
«Воистину сбывается», — мысленно, с ужасом, согласились архиереи.
Игнатий, обессиленный, остановился, но пристав заметил, что он падает, и подхватил несчастного.
По знаку патриарха молодой послушник принёс из соседней ризницы ковш воды и поднёс к губам Игнатия. Тот жадно припал к воде.
«Жажду!» — припомнились не одному архиерею слова Христа на кресте. — «Жажду!»…
— Ободрись, владыко, — шепнул пристав несчастному, поддерживая его, — Бог милостив.
Слова эти слышали архиереи и сам патриарх. «Добер, зело добер пристав у его святейшества», — мысленно произнесли архиереи.
Игнатий понемногу пришёл в себя, перекрестился.
— Господь больше страдал, владыко, — снова шепнул пристав.
Игнатий глубоко вздохнул и, обведя глазами архиереев, увидел на лице каждого глубокое к нему сочувствие и жалость. Это ободрило несчастного.
«Они все за меня», — понял он и облегчённо перекрестился.
Теперь он заговорил твёрже:
— За те его, Григорьевы, слова и тетрати…
— Гришкины, — автоматически твердил патриарх.
Талицкий презрительно улыбнулся и переменил позу, звякнув цепями.
— И за те его, Гришкины, слова и тетрати, — продолжал Игнатий, — я похвалил его и говорил: Павловы-де твои уста…
«Воистину, воистину Павловы его уста, апостола Павла, такожде страждавшего в оковах», — повторил мысленно не один из архиереев.
— Павловы-де твои уста, — продолжал Игнатий, — пожалуй, потрудись, напиши поперечневатее.
«Именно поперечневатее, — повторил про себя простодушный пристав, — экое словечко! Поперечневатее.. Н-ну! Словечко!»
— Напиши поперечневатее, почему бы мне можно познать истину, и к тем моим словам он, Григорий.
— Гришка! Сказано, Гришка!
— И к тем моим словам он, Григорий, говорил мне: возможно ль-де тебе о сём возвестить святейшему патриарху, чтоб про то и в народе было ведомо?
Слова эти поразили патриарха. Мгновенная бледность покрыла старческие щеки верховного главы всероссийского духовенства, и он с трудом проговорил:
— Ох, чтой-то занеможилось мне, братия, не то Утин[118] во хребет, не то под сердце подкатило, смерть моя, ох!
— Помилуй Бог, помилуй Бог! — послышалось среди архиереев.
— Не отложить ли напредь дело сие? — сказал кто-то.
— Отложить, отложить! — согласились архиереи.
По знаку старшего из епископов тотчас же увели из Крестовой палаты и Игнатия, и Талицкого.
5
Патриарху Адриану не суждено было докончить допрос тамбовского епископа Игнатия.
Не «утин во хребте», или попросту прострел, был причиною его внезапной болезни, а слова Игнатия о том, что Талицкий советовал ему через патриарха провести «в народ», огласить, значит, на всю Россию вероучение Талицкого о Царе Петре Алексеевиче как об истинном антихристе. Адриан знал, что слова Игнатия дойдут до слуха царя, да, конечно, уже и дошли со стороны Преображенского приказа на основании вымученных там пытками признаний Талицкого. Старик в тот же день слёг и больше не вставал.
Пётр, конечно, знал от Ромодановского, что фанатики и поборники старины, опираясь на патриарха, могли посеять в народе уверенность, что на московском престоле сидит антихрист. А духовный авторитет патриарха в древней Руси был сильнее авторитета царского.
Пётр не забыл одного случая из своего детства. Присутствуя при церемонии «вербного действа», когда патриарх, по церковному преданию, должен был представлять собою Христа, въезжающего в Иерусалим, то есть в Кремль, «на хребяти осли», и когда царь, отец маленького Петра, Алексей Михайлович должен был вести в поводу это обрядовое «осля» с восседающим на нём патриархом, маленький Пётр слышал, как два стрельца, шпалерами стоявшие вместе с прочими по пути шествия патриарха на «осляти», перешёптывались между собою:
— Знамо, кто старше.
— А кто? Царь?
— Знамо кто: святейший патриарх.
— Ой ли? Старше царя?
— Сказано, старше: видишь, царь во место конюха служит святейшему патриарху, ведёт осля в поводу.
— Дивно мне это, брат.
— Не диви! Святейший патриарх помазал царя-то на царство, а не помажь он, и царём ему не быть.
Это перешептыванье запало в душу царевича-ребёнка, и он даже раз завёл об этом речь с «тишайшим» родителем.
— Скажи, батя, кто старше: ты или святейший патриарх?
— А как ты сам, Петрушенька, о сём полагаешь? — улыбнулся Алексей Михайлович.
— Я полагаю, батя, что святейший патриарх старше тебя, — отвечал царственный ребёнок.
— Ой ли, сынок?
— А как же намедни, в вербное действо, ты вёл в поводу осля, а святейший патриарх сидел на осляти, как сам Христос.
Теперь царь припомнил и перешептыванье стрельцов, и свой разговор с покойным родителем, когда узнал от князя-кесаря о замысле Талицкого оповестить народ о нём, как об антихристе, через патриарха.
— Нет, — сказал Пётр, — ноне песенка патриархов на Руси спета. В вербное действо я ни единожды не водил поводу осляти с патриархом на хребте, как то делал блаженной памяти родитель мой.
— Точно, государь, не важивал ты осляти, — сказал Ромодановский.
— И никому из царей его больше напредки не водить, да и патриархам на Руси напредки не быть! — строго проговорил Пётр. — Будет довольно и того, что покойный родитель мой хороводился с Никоном… Другому Никону не быть, и патриархам на Руси — не быть!
— Аминь! — разом сказали и Меншиков, и Ромодановский.
Когда происходил этот разговор, последний на Руси патриарх находился уже в безнадёжном состоянии. В бреду он часто повторял «Павловы уста, Павловы». Это были горячечные рефлексы последнего допроса тамбовского архиерея Игнатия… «Павловы уста, точно»… Старик в душе, видимо, соглашался с Игнатием, и духовное красноречие Талицкого казалось ему равным красноречию апостола Павла.
Петру недолго пришлось ждать уничтожения на Руси патриаршества: 16 октября того же 1700 года Адриана не стало.
На торжественное погребение верховного на Руси вождя православия и главы российской церкви съехались в Москву все архиереи и митрополиты, и в том числе рязанский митрополит Стефан Яворский[119], старейший из всех.
Похороны патриарха совершили в отсутствие царя, которому не до, того было Пётр с начала октября находился уже под Нарвой и готовился к осаде этого города.
После похорон Адриана Стефан Яворский, перед отъездом в Рязань, посетил в Чудовом монастыре могилу бывшего своего учителя Епифания Славинецкого[120]. С ним был и Митрофан воронежский, которого рязанский митрополит уважал более всех московских архиереев.
Оба святителя долго стояли над гробом Славинецкого.
— Святую истину вещает сие надписание надгробное, — сказал рязанский митрополит, указывая на надпись, начертанную на гробе скромного учёного.
И он медленно стал читать её вслух.
Преходяй, человече! зде став, да взиравши, Дондеже в мире сём обитавши: Зце бо лежит мудрейший отец Епифаний, Претолковник изящный священных писаний, Философ и иерей в монасех честный, Его же да вселит Господь и в рай небесный За множайшие его труды в писаниях, Тщанно-мудрословные в претолкованиях На память ему да будет Вечно и не отбудет.— Воистину умилительное надгробие, — согласился Митрофан, — и по заслугам.
— Истинно по заслугам, ибо коликую войну словесную вёл покойник с пустосвятами! — сказал Стефан Яворский. — Вот хотя бы, к примеру, о таинстве крещения: Никита Пустосвят в своей челобитной обличает Никона за то, будто бы тот не велит при крещении призывать на младенца беса, тогда как якобы церковь повелевает призывать.
— Как призывать беса на младенца? — удивился Митрофан.
— В том-то вся и срамота! В обряде крещения, как всякому попу ведомо, возглашает иерей; «Да не снидет со крещающимся, молимся Тебе, Господи, и дух лукавый, помрачение помыслов и мятеж мыслей наводяй».
— Так, так, — подтвердил Митрофан.
— А Никита кричит: подай ему беса!
— Не разумею сего, владыко, — покачал головою Митрофан.
— Никита так сие место считает: «Молимся Тебе, Господи, и дух лукавый», якобы и к «духу лукавому», к «бесу», относится сие моление. Теперь вразумительно?
— Нет, владыко, не вразумительно, — смиренно отвечал Митрофан.
Воронежский святитель не знал церковнославянской грамматики и потому не мог отличить именительного падежа «дух» от звательного, если бы слово «молимся» относилось и к «Господу» и к «духу лукавому» также, то тогда следовало бы говорить, «молимся Тебе, Господи, и душе лукавый». Этого грамматического правила воронежский святитель, к сожалению, не знал. Тогда Стефан Яворский, учившийся богословию и риторике, а следовательно, и языкам в Киево-Могилевской коллегии, и объяснил Митрофану это простое правило:
— Если бы, по толкованию Никиты Пустосвята, следовало и Господа, и духа лукавого призывать и молить при крещении, тогда подобало бы тако возглашать. «Молимся Тебе, Господи, и душе лукавый»… Вот почему Никита и требует молиться и бесу, а его якобы в новоисправленных книгах хотя оставили на месте, а не велят ему молиться.
— Теперь для меня сие стало вразумительно, — сказал Митрофан.
— У сего-то Епифания и Симеон Полоцкий сосал млеко духовное и, по кончине его, выдавал за своё молочко, но токмо оное было «снятое», — улыбнулся Стефан Яворский.
— Как, владыко, «снятое»? — удивился Митрофан. — Я творения Полоцкого — и «Жезл правления», и «Новую Скрижаль» — чел не единожды и видел в них млеко доброе, а не «снятое».
— Что у него доброе, то от Епифания, а своё молочко — жидковато… Вот хотя бы препирание сего Симеона с попом Лазарем о «палате».
— Сие я, владыко, каюсь, запамятовал, — смиренно признался воронежский святитель, — стар и немощен, потому и память мне изменяет.
— Как же! Лазарь корил церковников за то, что на ектениях[121] возглашают: «О всей палате и воинстве»… Это-де молятся о каких-то «каменных палатах»… Сие-де зазорно — молиться о камне, о кирпиче.
— Так, так… теперь припоминаю, — сказал Митрофан.
— Так и сие претолкование Симеон похитил у Епифания, — настаивал рязанский митрополит. — Сего-то ради и в зримом нами ныне надгробии Епифания сказано, что был он «претолковник изящных священных писаний» и что «труды» его были «тщанно-мудрословные в претолкованиях».
Поклонившись в последний раз гробу учёного, святители возвратились в свои подворья и в тот же день выехали из Москвы: Стефан Яворский в Рязань, а Митрофан — в Воронеж.
Они потому поспешили оставить Москву, что им не хотелось присутствовать при архиерейском расследовании дела тамбовского епископа Игнатия и книгописца Григория Талицкого. Страшное это было дело!
6
Дело Талицкого росло подобно снежной лавине.
Игнатий-епископ все ещё сидел в патриаршем дворе «за приставы», а в Преображенском приказе работали дыба и кнут.
После похорон Адриана архиереи опять собрались в патриаршей Крестовой палате и велели привести Талицкого и Игнатия.
После возглашения первоприсутствующим архиереем обычного «во имя Отца и Сына и Святаго духа» первоприсутствующий, напомнив Игнатию его показание, что Талицкий просил его донести в народ весть об антихристе через патриарха, приказал допрашиваемому продолжать своё показание.
— Когда Григорий посоветовал мне возвестить о том святейшему патриарху, — тихо заговорил Игнатий, — и я ему, Григорию, сказал: я-де один, что мне делать? И про книгу «О пришествии в мир антихриста и падении Вавилона», в которой написана на великого государя хула с поношением на словах, он, Григорий, мне говорил…
Видя, что первоприсутствующий не останавливает его при слове «Григорий», как останавливал патриарх, и не велит говорить «Гришка», Игнатий понял, что судьи относятся к нему милостивее патриарха.
И он продолжал смелее:
— И после взятья тех тетратей я с иконником Ивашком Савиным прислал к нему, Григорию, за те численные тетрати денег пять рублёв, а перед поездом моим в Тамбов за день он, Григорий, принёс ко мне на Казанское подворье написанные гетрати и отдал мне, а приняв тетрати, я дал ему. Григорию за те гетрати денег два рубля.
В это время патриарший дьяк, в стороне записывающий показания подсудимых, встав с места и поднеся исписанные столбцы к первоприсутствующему, что-то тихонько ему шепнул. Тот взглянув на столбцы и возвращая их дьяку, сказал:
— Блажени милостивии[122].
Дьяк поклонился и опять сел на своё место Игнатий понял недосказанное и продолжал:
— А прежь сего в очной ставке Григорий сказал, как-де те гетрати он, Григорий, ко мне принёс и, показав, те тетрати передо мною чел, и рассуждения у меня просил, и я, слушав тех тетратей, плакал и, приняв у него те тетрати, поцеловал.
Дьяк глянул на Талицкого, и тот утвердительно кивнул головой.
Дьяк что-то отметил на столбце.
Игнатий продолжал:
—Подлинно, те тетрати я слушал, а плакал ли и, приняв их, поцеловал ли, того не упомню.
Талицкий опять кивнул дьяку. Игнатий это заметил и, став вполоборота к Талицкому, сказал:
— Он, Талицкий, тетрати «и пришествии в мир антихриста» и «Врата» хотел, пришед в Суздаль, дать и суздальскому митрополиту. — И, обратясь к первоприсутствующему, добавил: — А в Суздаль он, Григорий, ходил ли и те тетрати дал ли, про то я не ведаю, ведает про то он, Григорий.
Теперь все обратились к Талицкому. Он смело выступил вперёд.
— В Суздаль к митрополиту Иллариону для рассуждения тех тетратей я точно хотел идти, — сказал он, — да не ходил, затем что в дороге питаться мне было нечем, денег не было, просил я денег у тамбовского епископа, да он не дал, и своих тетратей к митрополиту я не посылал. А знаком мне тот митрополит потому, что я напред сего продал ему книгу «Великое Зерцало».
Он замолчал и, звякнув кандалами, гордо отошёл в сторону.
— И ты, Григорий Талицкий, утверждаешься на всём том, что сказал? — спросил первоприсутствующий.
— Утверждаюсь! И на костре возвещу народу что настали последние времена и что на Москве.
Но пристав силою зажал рот фанатику.
— Отвести его в Преображенский, — сказал первоприсутствующий.
Талицкого увели, но с порога он успел крикнуть:
— Не потеряй венца ангельского, Игнатий! Он ждёт нас на небесах, а здесь…
Голос его ещё звучал за дверями, но слов не было слышно.
Тогда первоприсутствующий обратился к Игнатию:
— Игнатий, епископ тамбовский утверждаешься ли ты на всём том, что показал здесь?
— Утверждаюсь, троекратно утверждаюсь.
— Иди с миром, — сказал первоприсутствующий.
Увели и Игнатия. Архиереи переглянулись.
— Вина его велика… но… блаженны милующие, — тихо сказал один из них и взглянул на первоприсутствующего.
— Лишению архиерейского сана повинен, — проговорил последний.
— И лишению монашеского чина, — добавили другие.
— Обнажению ангельского лика, но не смерти, — заключил первоприсутствующий.
Прошло несколько дней.
В Преображенском приказе, в застенке, перед князь-кесарем Ромодановским и перед заплечными мастерами стоит епископ Игнатий.
Но он уже не епископ и не Игнатий.
Он — Ивашка Шалгин, и не в епископской рясе и не в клобуке, а совсем голый и с бритою головой.
— Стоишь на своём, Ивашка? — спрашивает его князь-кесарь.
— Стою.
Ромодановский глянул на палачей:
— Действуйте да чисто чтоб!
Палачи моментально схватили бывшего архиерея, скрутили и подняли на дыбу.
Послышался страшный стон, и плечевые суставы рук выскочили из своих мест.
Мученик лишился сознания.
— Жидок архиерей, — презрительно кинул князь-кесарь приказному, записывающему «застенное действо» — Снять с дыбы!
Несчастного сняли и положили на рогожу. Он казался мёртвым.
— Вправить руки в плечевые вертлюги, — приказал Ромодановский.
При ужасающем крике очнувшегося страдальца палачи, опытные хирурги, вправили то, что вывихнула дыба. Страдалец опять был в обмороке.
— Отлить водой! Оклемается.
Стали несчастному лить воду на лицо, на голову, против сердца.
Когда, немного погодя, он пришёл в себя и открыл глаза, Ромодановский сказал палачам:
— Подбодрите владыку «теплотой».
Тогда заплечные мастера силою открыли рот и влили в него целую косушку водки.
— Разрешение вина и елея[123]…— злорадствовал князь-кесарь.
Водка быстро подействовала на ослабевший организм расстриженного архиерея, и он привстал на рогоже.
— Сможешь теперь говорить? — спросил Ромодановский.
— Смогу, — был ответ.
— Говори, да токмо сущую правду, а то «копчению» предам.
Что означало в древней судебной терминологии слово «копчение», неизвестно: может быть, это и было сожжение на костре, которому был подвергнут в Пустозерске знаменитый протопоп Аввакум, самый энергичный и неустрашимый расколоучитель.
Тогда бывший епископ заговорил:
— Которые тетрати я у Гришки Талицкого взял, и те тетрати на Москве сжёг подлинно…
— Ну! — торопил князь-кесарь.
— А как те тетрати сжёг, того у меня никто не видал, и тех тетратей я никому не показывал и о них никому не говорил, и списков с них никому не давал.
Он говорил медленно, заплетающимся языком и часто останавливался для передышки.
— Все? — спросил Ромодановский.
— Нет… В совет к себе к тем воровским письмам никого я не призывал и советников его, Гришкиных, и единомышленников на такое его воровское дело никого не знаю.
Он остановился в полном изнеможении.
— Все?
— Все, — был ответ.
Но Ромодановский не удовлетворился этим.
Как он далее истязал свою жертву, отвратительно и омерзительно рассказывать; покроем эту мерзость нашего прошлого всепрощающим забвением.
7
Совершая в застенке приказа все ужасы пыток над бывшим епископом, князь-кесарь не забывал, что сегодня он должен поспеть на весёлую свадьбу.
Пользуясь отсутствием грозного царя, стоявшего с войском под Нарвою, москвичи спешили сыграть несколько пышных свадеб «по старине», чего царь при себе не позволил бы, особенно в боярских домах.
На одну из таких свадеб и должен был поспеть князь-кесарь, в угоду старой боярыне Орлениной, которая хотя и имела большую силу при дворе, но у себя дома упорно придерживалась старины. Она же своим влиянием дала ход Меншикову, а потом выдвинула и Ягужинского, благодаря его замечательной красоте.
Поэтому и князь-кесарь не смел ни в чём перечить властной старухе.
Орленина выдавала свою красавицу внучку Ксению за молодого князя Трубецкого, сына князя Ивана Юрьевича, Аркадия.
Приготовления к свадебному торжеству были покончены раньше: был уже назначен и тысяцкий — главный чин при женихе; избраны были со стороны жениха и невесты: «сидячие бояре и боярыни», «свадебные дети боярские», или «поезжане», назначены к свадебному чину из челяди «свещники», «коровайники» и «фонарщики», наконец, избран был и «ясельничий», который должен был оберегать свадьбу от колдовства и порчи.
Накануне самого бракосочетания жених, по обычаю старины и по указанию своей матери, княгини Аграфены, прислал невесте дорогой ларец, в котором находились подарки: шапка, сапоги, а в другом отделении ларца — румяна, перстни, гребешок, мыло, зеркальце и принадлежности женских работ — ножницы, иглы, нитки и лакомства — изюм, фиги и впридачу ко всему — розга, чтоб жена боялась мужа.
Утром же свадебного дня сваха невесты начала готовить брачное ложе, или «рядить свадьбу». С пучком рябины в руках, это от порчи, она обходила хоромину брачного торжества и кровать, где постилалось брачное ложе. Все относившееся к брачной хоромине, то есть к «сеннику», принесла из дома невесты многочисленная челядь её знатной бабушки. Сваха распорядилась, чтобы на потолке сенника не было земли.
— Это не могила, чтоб над ней земля была, — пояснила она, — так закон велит.
Потом сенник обили по стенам и по помосту коврами. По четырём углам сенника воткнули по стреле, на которые повесили по сороку соболей.
— А ты, Марьюшка, взоткни на стрелы по калачу, — сказала сваха подручной сидячей боярыне.
— Уж и дотошная у нас сватьюшка! — с умилением сказала сидячая боярыня, натыкая на стрелы калачи.
Затем на лавках, по углам, поставили по оловянику сыченого меду, а над дверьми и окнами прибили по кресту.
— Все по-божески, чтоб порчи не было, — пояснила сваха.
Когда в сенник вносили принадлежности брачной постели, то впереди несли образа Спаса и Богородицы, а также большой золочёный крест.
— А снопы готовы? — спрашивала сваха.
— Готовы, боярыня, — отвечали челядинцы.
— Все сорок, по закону?
— Все, боярыня, счётом.
— Так укладывайте снопы на кровать ровнёхонько…
— Знаем, боярыня.
Потом на снопы положили дорогой персидский ковёр, а на ковёр три перины. На подушки натянули шёлковые алтабасовые[124] наволоки и застлали постель шёлковою же белою простынёю.
— Чтоб на белом «доброе» виднее было, — пояснила сваха.
— Ох, дотошна ты, сватьюшка, — удивлялись сидячие боярыни, убиравшие постель.
Поверх простыни постлали холодное одеяло.
— По закону тёплого не кладут, — пояснила сваха, — да и сенник чтоб не топлен был.
— И без тёплого князю и княгине жарконько будет, — хитро улыбались сидячие боярыни.
— А шапка где?
— Вот она.
— Клади на подушку.
Тогда над постелью повесили образа и крест и задёрнули их убрусами[125], а самую постель задёрнули тафтяным пологом.
После того челядинцы внесли в сенник кади[126] с пшеницею, рожью, овсом и ячменём и поставили у изголовья постели.
— Все, кажись, наладили по закону, — сказала подручная сидячая боярыня.
— Все, Марьюшка, экое гнёздышко перепелиное!
— Не соколиное ли, полно? Женишок-ат соколом смотрит.
Между тем в доме невесты тоже вся челядь была на ногах. Под наблюдением самой боярыни-бабушки готовили все к приёму жениха в парадной хоромине: ставили столы, накрывали скатертями, уставляли уксусницами, солоницами и перечницами.
Затем на просторном рундуке[127] убрали сиденье для жениха и невесты, положили камчатные золотные изголовья, а сверху покрыли их соболями. Тут же положили и соболя для опахивания новобрачных. Перед сиденьем жениха и невесты поставили стол и накрыли его тремя дорогими скатертями, одна скатерть на другой.
На них поставили солоницу золочёную и положили калач-перепечу и сыр.
— Теперь, кажись, все по закону, — сказала боярыня-бабушка, топчась на месте. — Пора и невесту снаряжать к венцу.
Наконец всё было готово, невеста одета, а хорошенькая белокурая головка её украшена изящным маленьким золотым венцом, символом девичества.
Тогда последовало торжественное шествие невесты с женской половины в парадную хоромину, куда уже собрались родные невесты и приглашённые.
Шествие невесты в парадную хоромину открывали женщины-плясицы, которые плясали и пели обрядовые песни. За плясицами коровайники[128] несли на палках, обшитых богатыми материями, короваи. На короваях лежали золотые пенязи[129]. За коровайниками следовали «свещники» со свечами и «фонарщики» с фонарями. Так как женихова свеча, величиною с бревно, весила три пуда, а невестина два, то их несли по два свещника. На свечи были надеты золочёные обручи и подвешены атласные кошёлки. Потом, за фонарщиками, шёл «дружка» и нёс «опахало». То была большая серебряная миса, в которой на трех углах лежали: хмель, собольи меха, золотом шитые ширинки и червонцы. Справа и слева от невесты «держали путь» двое её молодых родственников, чтоб никто не перешёл дороги «княгине», а уже за ними две свахи вели невесту в венце и под густым покрывалом. За невестой следовали сидячие боярыни, две из которых держали по мисе. На одной мисе лежала «кика» — головной убор замужней женщины, с «волосником», гребешком и чаркою с мёдом, разведённым вином. На другой мисе лежали убрусы для раздачи гостям. Оба блюда — первое с «осыпалом», то есть с хмелем, ставили на стол, где уже лежала перепеча с сыром. Когда коровайники, свещники и фонарщики остановились по бокам стола, невесту свахи посадили на брачное сиденье, а рядом с нею её маленького братишку.
Тогда дружка тотчас же поехал к жениху известить, что «княгиня на посаде».
Аркадий никогда не видал своей невесты. Их сосватали строго «по старине». Старая боярыня Орленина берегла свою внучку как зеницу ока, чтоб на неё ветром не пахнуло, солнышком не обожгло её нежных щёчек. Но больше всего старуха укрывала её от глаз постороннего мужчины.
— Что хорошего, коли мужчина общупает своими зенками девушку с пят до маковки? — говорила боярыня.
Да и мать жениха блюла старину.
— Говорю тебе, что Ксенюшка — раскрасавица, видеть её до венца не моги, да и бабка её до того не допустит: змеем-горынычем она стережёт свою внучку, — говорила и княгиня Трубецкая своему сыну.
И вот-вот, может быть, он сейчас её увидит, её, свою «суженую», которую ему другие «присудили»… может быть, увидит.. Когда он и она будут сидеть «на посаде», хотя рядышком, но разделённые друг от друга тафтяным покровом, и когда её станут расчёсывать, то, может быть, когда им позволят через тафту приложиться друг к дружке щеками… Да, да! щеками через тафту, то, может, перед нею будут держать зеркальце так, что он увидит её!
Княгиня Трубецкая и, за нахождением князя при войске, под Нарвой, посажёный отец после возглашения священника «достойно есть!» благословили жениха, и торжественное шествие двинулось к дому невесты.
И здесь, как у невесты, впереди «поезда» шли коровайники с короваями, свещники со свечами и фонарщики с фонарями. За ними священник с крестом, бояре, а за ними уже жених, которого тысяцкий вёл под руки. Затем, наконец, «поезжане», иные на санях, иные верхами — на конях.
А вот и ворота невестина дома.
Вот и парадная хоромина… В глазах рябит у жениха… Он машинально молится и кланяется на все четыре стороны…
На возвышении сидит она… Такая крохотная… но личика не видать, густо закрыто… Только видно, как маленькая ручка под покрывалом украдкою делает крёстное знамение… Около неё, рядом, сидит Юша, её братишка.
«Выкупать надыть у Юши», — соображает княжич.
Дружка подводит его.
Дрожащей рукой жених кладёт на протянутую ручку Юши золото…
Он рядом с нею, на одной подушке…
«Он рядом со мною, на одной подушке!» — трепетно колотится девичье сердчишко.
И он, и она почти ничего не видят, не видят и как слуги ставят на стол «яства»…
— Отче наш, иже еси на небеси, — как будто откуда-то издали доносятся до них слова священника.
— Благословите невесту чесать и крутить.
Это они явственно слышат, и она вздрагивает.
— Благослови Бог!
8
После того, как сваха должна была начать чесать и крутить невесту, свещники последней, зажегши свадебные свечи «богоявленскими свечами» и поставив их, тотчас протянули — увы! — между женихом и невестою занавес из алой тафты.
Это делалось для того, чтобы при чесании волос сваха снимала покрывало с лица невесты, а лица её ни жених, ни его поезжане ещё не должны были видеть.
Так делалось и тут, и невеста скрылась за занавесью.
«Когда же велят приложиться нам с нею щеками к тафте?» — волновался в душе жених, посматривая на зеркальце, которое держала в руках перед невестой сидячая боярыня.
Жених чувствует, что там, за занавесью, уже распускают косу Ксении.
«А зеркальце… покажется ли она в нём?» — думает жених.
— Приложитесь щеками к тафте, — говорит сваха.
Аркадий пригибается к занавеси так, чтобы его щека — он был гораздо выше Ксении — прикоснулась непременно к её щеке.
Он приложился… Он чувствует за тафтой щеку девушки, горячее, сквозь тафту жгущее огнём лицо Ксении, её тело, её плечо… Он прижимается ещё крепче, крепче…
«И она жмётся ко мне… ох, чую, жмётся!»
Кровь у него приливает к сердцу, ударяет в голову…
И вдруг в зеркальце отражается ангельское личико!.. Ангельское!.. Ангельское!..
Но длинные иглы ресниц опущены в стыдливой скромности…
Вдруг ресницы вскинулись, и его ожгли две молнии… душу ожгли… огнём опалили его всего… и, подобно молнии, неземное видение исчезло!
Тут приблизилось к ним что-то странное, лохматое, все в шерсти, и проговорило, видимо, поддельным голосом:
— Мир да любовь князю и княгине!.. Да молодой княгинюшке народить бы деток столько, сколько шерстинок на моей шкуре!
Это был поддружье, наряжённый в вывороченную наверх шерстью шубу.
— Ах, кабы и впрямь твоя внучка нарожала столько пареньков, сколько шерсти на шубе! — шутя шепнул боярыне-бабушке князь-кесарь, сидевший с нею рядом.
— Полно тебе, старый греховодник! — накинулась на него старуха. — Это дело божеское.
— И государево, матушка, — подмигнул Ромодановский.
— Поди ты с государем твоим! — огрызнулась бабушка. — От него-то кроючись, и свадьбу торопим без женихова родителя.
Между тем, пока продолжалось укручивание невесты, сидячие боярыни и девицы пели свадебные песни:
А кто у нас холост, А кто у нас не женат?Дружка в это время резал на мелкие куски перепечу и сыр, клал все это на большое серебряное блюдо вместе с ширинками — подарками для гостей, а поддружье разносил это по гостям. Сваха же «осыпала» свадебных бояр и всех участников торжества, бросая им все, что было на «осыпале», — хмель, куски разных материй и деньги.
Наконец невесту «укрутили», надели на голову кику.
— Уж и молодайка же у нас! — любовалась юным детским личиком, выглядывавшим из-под кики, старшая сваха.
— В куклы играть, и то в пору, — шепнула Марьюшка.
Молодые встали с сиденья и пошли к родителям под благословение.
— Благослови Бог!
У молодых обменяли кольца, а отец Ксении, передавая жениху плеть, сказал:
— По этой плётке, дочушка, ты знала мою власть над тобой; теперь этой плетью будет учить тебя муж.
— Не нуждаюсь я, батюшка, в плётке, — горячо возразил жених, — а беру её, как подарок твой.
И он засунул плеть за пояс. Затем свадьба двинулась из дому.
— Птичка улетает из гнёздышка, — шепнул Ромодановский бабушке.
— Она мне роднее родной дочери! — И старушка заплакала.
Коровайники и свещники уже вышли, а за ними по устланному яркими материями полу двинулись жених и невеста. Невесту, все ещё закрытую, вели под руки обе свахи. У крыльца уже стояли невестина каптана[130] и тут же осёдланные кони для жениха и поезжан.
На седле женихова аргамака важно восседал Юша.
— Уступи мне место, Юшенька, — улыбнулся Аркадий.
— Не уступлю, я за сестрой поеду, — храбрился Юша.
— Уступи, миленький! Вот тебе золото на пряники.
Юша взял золото, и его ссадили с седла.
Жених ловко вскочил на аргамака и, сопровождаемый своими поезжанами, обогнал невестину каптану. В то время, как он поравнялся с окном каптаны, оттуда выглянуло прелестное личико, и без кики…
— До венца личиком засветила! Ах, сором какой! Ох, срамотушка!
— А ежели люди увидали! Пропали наши головушки!
Но люди не увидали. Видел только Аркадий, как «светило» для него его солнышко…
— Свадьба! Свадьба! — кричали уличные мальчишки, завидев каптану невесты. — Вот под дугою висят лисьи да волчьи хвосты.
Волчьи да лисьи хвосты под дугою действительно были обрядовые признаки старорусской свадьбы.
Но вот и жених и невеста уже в церкви, а ясельничий и его помощники остались на дворе стеречь женихова коня и невестину каптану, «чтобы лихие люди не перешли между ними дороги». А то разом напустят на новобрачных порчу.
Как долго, казалось Аркадию, тянулось венчание! Он почти ничего не видел и не слышал: он ждал только, когда с лица Ксении снимут покрывало.
Но вот его сняли!.. Аркадию показалось, что в церковь глянуло весеннее солнце. Мало того, он целует это солнце, но робко.
— Раба Божия Ксения, — говорит священник, — кланяйся мужу в ноги.
Она покорно кланяется, и Аркадий с нежностью покрывает её голову полою своего богатого кафтана — знак, что он всю жизнь будет защищать дорогое ему существо.
Тогда священник подал им деревянную чашу с вином.
— Передавайте друг дружке чашу троекратно, — говорит священник.
Когда новобрачные отпили, князь-кесарь Ромодановский, быстро подойдя к молодой, на ухо шепнул ей:
— Ксеньюшка! Живей кидай чашу об пол и топчи её ножками.
Это было поверье, что, когда кто из новобрачных первым станет на брошенную на пол чашу ногою, тот и будет главою в доме.
Ксения бросила чашу и вся зарделась, но на чашу не становилась ногою.
— Топчи, топчи, Ксеньюшка! — не отставал князь-кесарь.
Аркадий смотрел на своё сокровище и тоже не топтал чаши.
— Топчи, Ксеньюшка, — подсказала и сваха.
Тогда Ксения с улыбкой поставила ножку на чашу, но раздавить её не хватало силёнки.
— Все ж ты первая, — шепнула сваха.
Тогда Аркадий, когда Ксения сняла свою маленькую ножку с чаши, придавил её каблуком, и чаша была раздавлена.
— Пущай так будут потоптаны нашими ногами те, кои станут посевать меж нами раздор и нелюбовь, — сказал он торжественно.
— Аминь!-провозгласил князь-кесарь. — А паче чаяния ежели лихие люди дерзнут помыслить что-либо худое против моей крестницы Ксеньюшки, то быть им у меня в застенке!
После того, как поздравления кончились, сваха, при выходе из церкви, осыпала их семенами льна и конопли.
— Лён — на ребяток, конопля — на девочек, — повторила она.
— Не жалей, сватенька, льну… Льну сыпь поболе! — весело говорил Ромодановский.
Он очень легко выбрасывал из головы подробности тех ужасов, какие совершал в застенке Преображенского приказа…
Ромодановский при выходе новобрачных из церкви продолжал шутить и, лукаво подмигивая молодым поезжанам, шептал:
— Умыкайте, добрые молодцы, молодую, умыкайте!
Это был обычай: при выходе молодой из церкви её старались «умыкнуть», отбить, похитить у мужа, и молодая, боясь «умычки», теснее прижималась к мужу.
— А вот, сунься кто! — вынимал Аркадий плеть из-за пояса и энергично махал ею в воздухе.
Поезд двинулся к дому Трубецких.
При входе в дом молодых ясельничий командовал потешникам:
— В сурны[131] да бубны, потешные! Да играйте чинно, немятежно, доброгласно!
Под эту музыку молодые сели за стол. Но есть за общим столом они, по обычаю, ничего не ели.
Когда же гостям подали третью перемену — лебедя, то перед молодыми поставили жареную курицу, которую дружка тут же завернул в скатерть и обратился к матери Аркадия и к посажёному отцу:
— Благословите молодых вести опочивать.
— Благослови Бог! — отвечали те.
И молодых повели. Но прежде чем они дошли до дверей, дружка понёс впереди завёрнутую в скатерть курицу, предназначенную для ужина молодым в сеннике, а за ним пошли коровайники и свещники.
Когда молодые приблизились к дверям, то посажёный отец, взяв Ксению за руку, проговорил обрядовые слова Аркадию:
— Сын наш! Божиим повелением и благословением матери твоей велел тебе Бог сочетатися законным браком и поять в жёны отроковицу Ксению. Приемли её и держи, как человеколюбивый Бог устроил и святые апостолы и отцы предаша, в законе нашей истинной веры.
У дверей сенника молодых встретила сваха в шубе, вывороченной шерстью вверх, и снова осыпала их льняными и конопляными семенами:
— На ребяток, на девочек… на ребяток, на девочек…
А в сеннике дружка и свещники уже успели поставить венчальные свечи в кадь с пшеницею — у самого изголовья брачного ложа.
С лихорадочным трепетом вступили молодые в сенник, где их тотчас же стали раздевать: жениха — дружка, а невесту — сваха.
— Не надо! Не надо! — отбивалась бедная Ксения, закрывая вспыхнувшее лицо руками.
— Ах, мать моя! Срам какой! Не даётся! Да это по закону, по-Божьи…— возилась около неё сваха.
— Не надо! Не надо! Пусти!
— Ах, озорница! А потом сама будешь благодарить…
— Не надо! Пусти! Пусти!
Напрасно! Сваха была не такая женщина, чтоб отступить от закона.
Она сделала своё дело… и — «чулочки сняла». Дружка и сваха тотчас оставили сенник.
— В застенок повели Ксеньюшку, — сострил князь-кесарь, когда молодых повели в сенник.
В доме идёт пир горой.
Но на дворе тихо-тихо. Только безмолвные звезды с высокого неба смотрят на сенник, да ясельничий с обнажённым мечом ездит верхом около сенника для предотвращения «кого лиходейства, пока там совершается „доброе“.
Когда в доме свадебный вир был в разгаре, к дверям сенника подошёл дружка.
— Все ли в добром здоровье? — громко спросил он.
— Все в добром здоровье, — послышался ответ через дверь.
— Слава Богу! — прошептал дружка.
Через минуту он торжественно входил в пиршественную хоромину. Все воззрились на него вопросительно.
— Возвещаю! — торжественно произнёс он. — Между молодыми доброе совершилось!
9
В то время, когда на Москве, в доме Трубецких, справлялась весёлая свадьба, а в Преображенском приказе, в застенке, кнут и дыба справляли своё страшное дело, в это время Державный плотник делал первые, к несчастью, неудачные попытки царственным топором «прорубить окно в Европу».
Оставив своё тридцатипятитысячное войско у стен Нарвы под начальством герцога фон Круи для возведения укреплённого лагеря и для приготовления осады города, царь Пётр Алексеевич, в сопровождении Александра Данилыча Меншикова и неразлучного Павлуши Ягужинского, отправился на не дававшее ему спать Балтийское море «взглянуть хоть одним глазком».
— Ох, глазок у тебя, государь! — сказал Меншиков, следуя верхом рядом с царским стременем.
— А что, Данилыч, — окликнул его царь, — что мой глазок?
— Да такой, что хоть кого сглазит! Вон под Азовом салтана сглазил, а теперь, поди, и Карлу сглазит, — отвечал Меншиков.
— Помоги Бог, — задумчиво сказал Пётр, — с ним мне ещё не приходилось считаться.
— Тебе ли, батюшка-государь, с мальчишкой счёты сводить!.. Розгу покажи, тотчас за штанишки схватится… как бы не попало, — пренебрежительно заметил Меншиков.
— Не говори, Лексаша: вон и Христиан датский, и Август польский почитали его за мальчишку, а как этот мальчишка налетел орлом на Копенгаген, так и пришлось Христиану просить у мальчишки пардону, а мальчишка с него и штаны снял, — говорил Пётр, вглядываясь в даль, где уже отливала растопленным свинцом узкая полоса моря.
— Штаны, — улыбнулся Меншиков, — это Голстинию-то[132]?
— Да, Голстинию.
— Да и Александр Македонский был мальчишкой восемнадцати лет, когда при Херонее наголову разбил греков и спас отца, — проговорил как бы про себя молчавший доселе Павлуша Ягужинский.
— Ты прав, Павел! — горячо сказал царь, и глаза его загорелись. — Я плакал от зависти к этому Александру, когда в первый раз чел про дело у Херонеи: отец его Филипп и все македонское воинство уже дали тыл грекам, когда на союзников оных, фиванцев, налетел Александр с конницей, мигом смял их, а там ударил и на победителей отца и все поле уложил их трупами! Таков был оный мальчишка!
— А что потом в Афинах было! — тихо заметил Павлуша. — Я тоже, государь, чел когда-то сие описание и плакал, токмо не от зависти, где мне!.. Афин мне было жаль, государь.
— Точно, Павлуша: афиняне в те поры объяты были ужасом. Афинянки выбегали из домов и рвали на себе волосы, узнав о павших в бою отцах, мужьях, братьях, сыновьях. Старики словно безумные бродили по стенам города… Старец Исократ с отчаяния уморил себя голодом[133]… А вот и море!
Пётр с благоговением снял шляпу перед обожаемою им могучею стихией и набожно перекрестился.
Меншиков и Ягужинский, видя, что царь молчит, тоже молчали, не смея нарушить торжественность минуты.
А минута была действительно торжественная. Он продолжал стоять, как зачарованный видением, видением будущего величия России… И видение это как бы реально вставало перед его духовными очами… Ни Ассирии и Вавилонии, ни монархии Кира, ни монархиям Македонской и Римской не сравняться с тою монархиею, которая назревала теперь в великой душе.
А оттуда, справа, чуть-чуть двигались чьи-то корабли под белыми парусами, чьи?.. Конечно, его, того, который там, за этим морем, и двигались эти корабли по его же морю и из его же реки!
Бледность проступила на щеках великана, и он все молчал. «Новгородцы сим морем владели… Александр Ярославич ставил свою пяту на берег Невы[134]… А мои деды-лентяи все сие проспали…»
Теперь краска залила его щеки.
— Так я же добуду, я верну! — вдруг с страстным порывом сказал он.
— Добудешь, государь, тебе ли не добыть! — согласился Меншиков, угадав мысль Петра. — Добудешь всего. Вон Азов живой рукой добыл.
При напоминании об Азове взор царя ещё больше загорелся.
— Точно, Азов с Божьей помощью добыли… А немало в оной виктории нам помогли черкасские люди — хохлы… Жаль, что не вызвал их регимента[135] два-три под Нарву, — говорил царь, что-то ища в боковом кармане своего кафтана.
— Ты что, государь, ищешь? — спросил Меншиков.
— Да выметку из походного журнала, что прислал мне гетман Мазепа[136].
— Она у меня, государь, с письмом Кочубея.
При имени Кочубея у Ягужинского дрогнуло сердце. Он вспомнил его дочь, Мотреньку, которую видел три года тому назад в Диканьке и образ которой, прекрасный, как мечта, запечатлелся в его душе, казалось, навеки.
— Ты велел мне спрятать её, чтоб прочесть на досуге. Изволь, государь, вот она.
И Меншиков подал Петру выписку из походного журнала малороссийских казаков, участвовавших в осаде Азова. Царь развернул бумагу и стал читать вслух:
— «Року 1696 его царскаго величества силы великия двинулись под Азов землёю и водою, и сам государь выйшол зимою, и прислал указ свой царский до гетмана запорожскаго, Ивана Мазепы, жебы войска козацкого стал туда же тысячей двадцать пять, що…»
— Наш да не наш язык, — остановил себя Пётр, — год у них «рок», да эти «жебы», да «що», да «але»…
— С польским малость схоже, государь, — заметил Меншиков.
«Нет, не с польским, — думал Ягужинский, вспоминая певучий говор Мотреньки Кочубеевой. — Музыка, а не язык… А как она пела!
Ой, гаю, мий гаю, зелёный розмаю! Упустила соколонька — та вже й не пиймаю!..»Царь продолжал читать:
— «…що, на росказания его царскаго величества, гетман послал полковников, черниговского Якоба Лизогуба, прилуцкого Дмитра Лазаренка Горленка, лубенского Леона Свечку, гадячского Бороховича и компанию, и сердюков[137], жебы были сполна тысячей двадцать пять. Которые в походе том от орды мели перепону, але добрый отпор дали орде, и притянули под Азов до его царскаго величества. Где войска стояли его царскаго величества под Азовом, достаючи города и маючи потребу з войсками турецкими на море, не допускаючи турков до Азова, которых на воде побили…»
— То была первая морская виктория твоя, государь, — сказал Меншиков, — и виктория весьма знатная.
— Будут, с Божьей помощью, и более знатные, да вот здесь!..
И царь указал на море, как бы грозя рукою.
А в душе Ягужинского звучала мелодия:
«Упустила соколонька— та вже й не пиймаю!..»— «…опановали козаки вежу, которая усего города боронила, — читал Пётр, — и из тоей вежи козаки разили турков в городе, же не могли себе боронити, которые и мусели просити о милосердии, и сдали город; тилько тое себе упросили турки у его царскаго величества, жебы оным вольно у свою землю пойти, на що его царское величество зезволил, отобравши город зо всем запасом, строением градским, и оных турков обложенцев казал забрати у будари на килькадесять суден и отвезти за море Азовское, у турецкую землю». Пётр остановился и взглянул на Меншикова.
— Полагаю, запись учинена с обстоятельствами верно, — сказал он.
— Верно, государь, — отвечал Меншиков.
— У черкас, я вижу, письменное дело зело хорошо налажено.
— Черкасы, государь, ученее нас.
— Может, и так…
А Павлуша Ягужинский, прислушиваясь к разговору царя с Меншиковым о черкасах, думал о своей «черкашенке» из Диканьки, и в душе его продолжала петь дивная мелодия:
Ой, гаю, мий гаю, зелёный розмаю! Упустила соколонька — та вже й не пиймаю!..10
Между тем, пока царь на берегу «чужого моря» волновался великими государственными думами, под Нарвой его преображенцы и другие воинские люди, большею частью, кроме преображенцев и семеновцев, состоявшие из неопытных новобранцев, продолжали возводить укрепления своего лагеря, готовясь к скорой осаде.
Время стояло осеннее, ненастное. То хлестал дождь, то слепил глаза мокрый снег, и северное пасмурное небо не располагало к спорой работе. Даже любимцы царя, преображенцы, чувствовали себя как бы покинутыми своим державным вождём.
— Не любы, что ли, мы стали батюшке царю? Из царей разжаловал себя в капитаны бомбардерской роты… Простой капитан!
— Да и прозвище своё родовое переменил: стал Петром Михаиловым.
— А видели, как он намедни шанцы[138] копал да сваи тесал? Топор у него ажно звенит, щепы во каки летят!
Кто-то затянул вдали:
На Михайловский денёчек Выпал беленький снежочек.— И точно, братцы: завтра Михайлов день, и снежочек идёт…
— Какой снежочек! Просто кисель с неба немцы льют.
— Да и кисель-то не беленький, а во какой, с грязью.
Разговор переходил на то, что неладно-де… немца над войском поставили начальником. Всех удивляло, что командование войском поручено герцогу фон Круи.
— Ерцог!.. Да у нас на Руси ерцогов этих и в заводе не было.
— И точно, немец на немце у нас в войске…
— Один такой вон уже и тягу дал, в Нарву убег.
Это говорили о Гуммерте, которого обласкал царь, а он перебежал к Горну, коменданту Нарвы.
— Эй, братцы! Слышь, ты? Велят веселей работать… что бы с песеньем… пущай-де там, в Нарве, слышат… это чтоб страху на них напустить.
— А коли нет, так и запоем.
И какой-то преображенец, опираясь на заступ, визгливым фальцетом запел:
Задумал Теренька жаницца, Тётка да Дарья браницца: Куда тебя черти носили? Мы б тебя дома жанили. Или-или-или-или-или, Мы б тебя дома жанили.Дружный хохот наградил певца.
— Ну и тётка Дарья у нас!.. Жох-баба!
— А ты что ж, Терентий? — спросили добродушного богатыря, который продолжал железной лопатой выворачивать огромные глыбы сырой земли с каменьем.
— Что Терентий? Он не дурак до девок: он во как отрезал тётке Дарьюшке.
И другой преображенец, подбоченясь и скорчив рожу, запел:
Построю я келью со дверью, Стану я Богу молицца, Чтоб меня девки любили — Крашоные яйца носили. Или-или-или-или-или, Крашоные яйца носили.— Что, братцы, слышно в Нарве? — спросил певец.
— Должно, слышно: вон и вороны тамотка раскаркались на Тереху.
В это время к работавшим у шанцев подъехали князь Иван Юрьевич Трубецкой и заведовавший укреплением лагеря саксонский инженер Галларт.
— Бог в помощь, молодцы! — поздоровался Трубецкой с солдатами.
— Рады стараться, боярин! — гаркнули молодцы.
— Старайтесь, старайтесь. А завтра, ради Михайлова дня, я вас угощу большой чаркой, — сказал князь.
— Покорнейше благодарим на милостивом слове!
«Большой чарке» солдаты особенно обрадовались, потому что ненастная, сырая погода требовала чего-нибудь согревательного, бодрящего.
А князь Трубецкой тут просто придрался к случаю.
Его очень обрадовало письмо из Москвы, извещавшее о женитьбе сына на Ксении Головкиной. От жены он знал, что Ксения — редкая девушка и по красоте, и по душевным качествам. Кроме того, ему лестно было породниться с Головкиным, которого царь заметно приблизил к себе и отличал от других.
— А кто из вас так весело пел? — улыбнулся он.
Солдаты замялись, но простоватый богатырь Теренька выступил вперёд и сказал:
— Это они меня передразнивали, ваша милость.
И он указал на певцов.
— За что ж они тебя передразнивали? — засмеялся князь.
— Что я бытта хочу женитца.
— Что ж, дело доброе, добудем Нарву, тогда и женим тебя. Прощайте, молодцы, — сказал князь, удаляясь, и прибавил — Песельникам по две чарки, а жениху — три.
Солдаты были в восторге.
— Ну так, братцы, пой! Боярин похвалил, да и спорей работа пойдёт.
— Ин и вправду, заводи, Гурин.
— Какую заводить-то?
— Ивушку, чтобы горла-те мы все опрастали.
И Турин «завёл» высоко-высоко:
Ивушка, ивушка, зелёная моя!— Солдатские «горла» подхватили, голоса все более и более крепли, а когда дело дошло до «бояр, ехавших из Новагорода», всех охватило воодушевление:
Ехали бояре из Новагорода, Срубили ивушку под самый корешок, Сделали из ивушки два они весла — Два весла-весельца, третью лодочку косну, Взяли-подхватили красну девицу с собой…— Ну, братцы, в Нарве, поди, всех воробьёв распужали, — сказал, подходя, один семеновец.
— Да мы не даром поем: за пенье зелено вино жрём, — сказал Гурин.
— Ой ли! На каки таки денежки? Да тутай и кружала нету.
— Мы завтрея гуляем у самово боярина, князь Иван Юрьевича Трубецкова.
— Поддай, поддай жару, Гуря!
Гурин поддавал с высвистом:
Стали оне девицу спрашивати — Спрашивати, разговаривати: «Что же ты, девица, не весела сидишь…»— Бояре, бояре едут! Как бы не тово, — и семеновец убежал к своим.
Это ехали осматривать работы князь Яков Фёдорович Долгорукий[139], имеретинский царевич Александр и Автаном Михайлович Головин.
Вдруг среди работавших послышались голоса:
— Государь едет, государь едет!
Пётр возвращался с морского берега радостный, возбуждённый.
— Государь в духе, море видел, — улыбнулся Яков Долгорукий.
— Он хоть поглядит на море, и уж сыт по горло, — заметил Головин.
— Ну, не говори, Автаном Михалыч, — сказал царевич Александр своим слегка гортанным говором, — от гляденья на море государь пуще распаляется; он бы все моря, кажись, выпил.
Царь увидел князей и направился к ним.
11
На Москве тем временем князь-кесарь продолжал своё застеночное дело.
Одним из наиболее крупных зверей, уловленных князем-кесарем, оказался друг Талицкого, тоже из учёных светил школы знаменитого протопопа Аввакума, иконник Ивашка Савин. У него при обыске были найдены и подлинные сочинения Талицкого.
Привели Ивашку пред светлые очи князя-кесаря. Сухое лицо иконника, напоминавшее старинный закоптелый образ, и остановившийся взгляд выдавали упорство фанатика.
— С вором Гришкой Талицким в знаемости был ли? — спросил Ромодановский.
— Был, не отрекаюсь, вместе Богу служили, — отвечал иконник.
— И с оным Гришкою в единомыслии был же?
— Был и в единомыслии.
Ромодановский глянул на иконника таким взглядом, какого в Преображенском приказе никто не выдерживал. Иконник Ивашка выдержал.
— И слышал от Гришки воровские его на великого государя с поношением хульные слова?
— Слышал, — не запирался допрашиваемый.
Ромодановского поразила смелость иконника.
— И воровские его, Гришкины, тетрати чел?
— Чел.
— И усмотря в воровских его тетратях государю многие укорительные слова, государя и святейшего патриарха не известил?
— Точно, не известил.
Князь-кесарь начал терять терпение.
— И ты его, Гришку, поймав, ко мне не привёл по «слову и делу»?
— Не привёл… И то я учинил для того, чтоб он, Григорий, от меня не заплакал, и в том я перед государем виноват.
Ромодановский порывисто встал:
— С ним, я вижу, всухомятку негоже разговаривать, — обратился он к сидевшему за одним с ним столом Никите Зотову.
— Что ж, можно и маслицем сухомятку сдобрить, — улыбнулся циник Зотов.
— Все записал? — спросил князь-кесарь приказного.
— Все до единой литеры, — отвечал приказный, кладя перо за ухо.
— В исповедальню! — кивнул Ромодановский приставам на свою жертву.
Иконника увели в застенок.
— Подвесить, — сказал князь-кесарь, входя в свой «рабочий кабинет».
Заплечные мастера тотчас подняли несчастного на дыбу. Тот молчал. Палачи подтянули ещё свою жертву. Руки несчастного сразу были вывихнуты из суставов, и хилое тело его опустилось.
— Винишься в своих воровских помыслах? — спросил Ромодановский.
— Не винюсь. Оный Григорий дал мне те написанные столбцы о пришествии в мир антихриста и о летах от создания мира до скончания света для ведомства ради того что «любы Божия всему веру емлет», и он, Григорий, в тех письмах писал все правду от книг Божественного писания и не своим вымыслом, а от которых книг, и то в тех письмах написано именно.
Ромодановский презрительно пожал плечами.
— Вишь, богослов какой выискался! И про великого государя в тех книгах Божественного писания сказано именно?
— Сказано, точно.
— Так и сказано, государь-де, царь Пётр Алексеевич всея Руси?
— Нет, сказано не так, а сказано: восьмой царь и будет антихрист, а он и есть восьмой царь.
— Ну, придётся, видно, «коптить» тебя.
— Ради мученического венца и «копчение» претерплю — Христос и не то терпел.
— Добро, приравнивай себя ко Христу, — пробормотал князь-кесарь.
Далее в «розыскном деле» Преображенского приказа по делу Талицкого в «расспросных речах» записано:
«Он же, Ивашка-иконник, в расспросе и с третьей пытки говорил: кроме-де Гришки Талицкого и пономаря Артемошки Иванова иных единомышленников никого нет, и тех писем, которые у него взяты, никому он не показывал и на список за деньги и без денег никому он не давал и у иных ни у кого в доме таких писем не видывал».
Привели в застенок пономаря Артемошку. Снова в ход пошли кнут и дыба…
И приказный строчит в «расспросных речах»:
«Артемошка в расспросе и с пыток говорил:
— Про письма, которые взяты у Ивашки Савина, я ведал и в совете с Гришкою и с Ивашкою Савиным был, и разговоры у нас об антихристе бывали.
После третьей пытки пономарь Артемошка молвил:
— Он, Гришка, со мною, Артемошкою, и с Ивашкой-иконником бывал у тамбовского архиепископа (иногда он записан «епископом»), и Гришка ему, архиепископу, книги писал, и как он, Гришка, ту книгу об антихристе к нему, архиепископу, принёс, а архиепископ, приняв ту книгу, говорил: «Бог-де весть, правда ль то письмо».
Мало трех пыток! Повели к четвёртой…
Записано:
«Артемошка с четвёртой пытки говорил:
— В тех воровских письмах советников нас было трое: Гришка Талицкой, я, Артемошка, и Ивашка-иконник, и те письма толковали мы вместе, а пуще у нас в том деле, в толковании, был Гришка Талицкой, и я, по тем его словам, в том ему верю…»
— Веришь! — даже вскрикнул Ромодановский. — Веришь, что великий государь, царь Пётр Алексеевич всея Руси антихрист! Веришь!
— Верю: антихрист.
Ромодановский вышел из застенка в приказ, просмотрел допросы других привлечённых к делу и снова вернулся в застенок.
Пытаемый продолжал висеть на дыбе с вывихнутыми руками.
— Кто был твоим духовным отцом? — спросил князь-кесарь.
— Варлаамьевской церкви поп Лука, — был ответ.
— И он ведал про твоё воровство?
— Ведал… на духу я ему про антихриста исповедовал.
— И что же он?
— Он сказал: времена-де и лета положил Бог своею властию, и тебе-де и Гришке про те лета почему знать?
— А ты ему что ж на то?
— Времена и лета, говорю, исчислены в книгах.
— В каких?
— В Апокалипсисе, у Ефрема Сирина, и Талицкий все сие на свет вывел.
12
В дело об антихристе, кроме тамбовского архиепископа (или епископа) Игнатия, была замешана ещё одна видная по своему общественному положению, родовитая личность.
Это «боярин, князь Иван, княж Иванов сын, Хованской», как он записан в деле об антихристе.
Князь Иван Хованский, знаменитый Тараруй, кровавым метеором пронёсся над Москвою во время малолетства будущего творца новой России, стоя во главе стрелецких смут. Стрельцы намеревались даже возвести его на престол!
Голову этого Хованского, которая мечтала о царском венце, в последний раз Москва видела на плахе, откуда она скатилась на помост эшафота…
Теперь сын этого Хованского сидел в отдельном каземате Преображенского приказа, ожидая своей очереди.
Сидя в одиночном заключении, он невольно вспомнил страшные картины, которых был зрителем. Он видел, как подвезли отца к царскому дворцу села Воздвиженского. Несчастный, имевший притязания на царский венец, был связан. В воротах показались сановники и уселись на скамьях… Шакловитый читает обвинение. Обвиняемый что-то говорит… Но ему не дают оправдаться… Стрелец стремянного полка на полуслове отрубает ему голову… За головою отца падает под топором и голова брата…
Вспоминается узнику ещё более страшная, потрясающая картина… По Москве двигается похоронная, невиданная процессия… На санях-розвальнях, в которых вывозят из Москвы снег и сор, стоит гроб, и гроб волокут свиньи, запряжённые цугом в мочальную сбрую, с бубенчиками на шеях и в чёрных попонах с нашитыми на них белыми «адамовыми головами». Около свиней идут конюхи, в «харях»… Свиньи визжат и мечутся, и конюхи их бьют…
Это везли в Преображенское вырытый из могилы гроб Милославского, друга его отца…
Впереди процессии и рядом со свиньями в чёрных попонах идут факельщики с зажжёнными просмолёнными шестами, а вместо попов палачи с секирами на плечах… Тут и скороходы, наряжённые чертями, рога у них и хвосты, и черти погоняют визжащих свиней, а иные пляшут вокруг гроба… Вместо погребального перезвона «на вынос» черти колотят в чугунные котлы… Ко гробу, во время остановок, вместо совершения литии[140], подходил сам Асмодей[141] с кошельком Иуды в руках, позвякивая «тридесятью сребрениками» и колотя по крышке гроба жезлом с главою змия, соблазнившего Еву в раю…
Процессия приближается к Преображенскому, где уже возвышается плаха… Несколько в стороне от эшафота высится на коне великан… Это он сам… Около него Меншиков, Голицын Борис, Ромодановский, Лефорт, Шеин…
Гроб подкатывают под навес эшафота, и палачи топорами отдирают крышку… Оттуда выглядывает ужасное лицо мертвеца… К гробу подходит Цыклер, за ним — седой как лунь Соковнин, тоже друзья его отца…
Дьяк что-то читает… Мало что слышно… Кругом оцепенелая от ужаса толпа…
— Вершить!.. — прорезывает воздух голос самого…
Палачи подходят к Цыклеру, но он тихо отталкивает их и сам восходит на эшафот.
— Православные! — кричит он. — Рассудите меня…
Но дробь барабана заглушает его слова…
— Вершить!.. — пересиливая грохот барабана, как удар кнута потрясает воздух опять его голос… Палачи бросают осуждённого на плаху…
— Верши! — его страшный голос…
В воздухе сверкает топор, и голова Цыклера, страшно поводя глазами, скатывается прямо в гроб Милославского… На эшафоте и Соковнин…
— Верши!
Опять топор… опять кровь…
Все это вспоминается теперь Хованскому в его одиночном заключении…
— Господи! Камо бегу от лица его, — стонет несчастный. — Аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо рука его сыщет мя.
Он поднялся с рогожки и подошёл к тюремному окну, переплетённому железом. За окном сидел воробей и беззаботно чирикал.
— Это душа отца моего, посетившая узника в заточении, — шепчут его губы.
Под окном прошёл часовой, и испуганная птичка улетела. Узник стал на колени и поднял молитвенно руки к окну, в которое глядел кусок тусклого ноябрьского неба:
— Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил![142]
Под окном прокричал петух.
— И се петел возгласи, — бессознательно шептали губы.
Взвизгнул ключ в ржавом замке, и тюремная дверь, визжа на петлях, растворилась. Это пришёл пристав вести узника к допросу.
Едва он вошёл в приказную комнату, как дьяк, по знаку князя-кесаря, развернул допросные столбцы и стал читать:
— «На тебя, боярин князь Иван, княж Иванов сын Хованский, Гришка Талицкий показал: на Троицком подворье, что в Кремле, говорил ты, боярин, Гришке: бороды-де бреют, как у меня бороду выбреют, что мне делать? И он-де, Гришка, тебе, князь Ивану, молвил: как ты знаешь, так и делай».
— Подлинно на тебя показал Гришка? — спросил уже Ромодановский. — Не отрицаешь сего?
— Подлинно… не отрицаю, — покорно отвечал князь.
— Чти дале, — кинул Ромодановский дьяку.
— Да после того, — читал дьяк, — он же, Гришка, был у тебя, князь Ивана, в дому, и ты-де, князь Иван, говорил ему, Гришке: Бог дал было мне мученический венец, да я потерял: имали меня в Преображенское, и на генеральном дворе Никита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали для отречения столбец, и по тому письму я отрицался, а во отречении вместо «веруешь ли?» спрашивали: «пьёшь ли?» И тем своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил, и лучше б было мне мучения венец принять, нежели было такое отречение чинить[143].
— Говорил ты таковые слова? — спросил князь-кесарь.
— Говорил, — не запирался и тут Хованский.
— И все это из-за бороды?
— Из-за бороды и из-за кощунства его, Микиты Зотова: «пьёшь ли» вместо «веруешь ли».
— Да сей чин ставления сочинил сам великий государь,: и за те слова твои ты учинился перед великим государем виноват.
— Те слова я Гришке говорил для того, что он меня словами своими обольстил, — растерянно оправдывался Хованский.
Ничто не помогло.
— Приходится и сего допросить «с подъёму», — кивнул Ромодановский дьяку.
«С подъёму», «с подвесу» — это значило: поднять на дыбу и подвесить.
13
Едва Ромодановский воротился из приказа к себе, как ему доложили, что его желает видеть государев денщик.
— Проси, проси.
Князь-кесарь давно не имел вестей от царя и потому интересовался узнать о ходе дел на войне.
Денщик государев вошёл.
Это был Орлов Иван[144], великан и красавец. Что был он могуч и силач, это знала и испытала знаменитая царская дубинка, которая не раз прохаживалась по несокрушимой спине Орлова, как по деревянному брусу, не вредя ему. А красоту его хорошо ценили молоденькие «дворские девки», фрейлины. Не у одной из них глаза и сердце рвались за богатырём Иванушкой, а нередко хорошенькие глазки по ночам обливали подушки горючими слезами по изменщику. А одну из них, прелестную Марьюшку Гамонтову, или фрейлину Гамильтон, красота дворского сердцееда довела впоследствии до эшафота, когда гнусный поступок Орлова довёл бедную девушку, любимицу самого царя, до того, что она, стремясь скрыть позор, вынуждена была прибегнуть к преступлению… Громкая и страшная история о найденном тогда в Летнем саду «на огороде» мёртвом ребёнке, завёрнутом в салфетку с царской меткой, которого подняли у фонтана, и о публичной казни на эшафоте, в присутствии царя, красавицы Гамильтон, отрубленную головку которой царь поцеловал перед всем народом, эта история слишком хорошо известна всем.
— Откелева Бог принёс, Иванушка? — спросил Ромодановский.
— Из-под самой Нарвы.
— Из-под Ругодева? — поправил князь-кесарь.
— Точно так, из-под Ругодева, — поправился и Орлов.
Нарву в то время русские больше называли Ругодевом.
— В своём ли здравии обретается великий государь?
— Государь Божиею милостию здравствует
— А дубинка его стоеросовая гуляет?
— Неустанно.
— И по тебе гуляла небось?
— Гуляла намедни.
— А за что?
— За государев же грех.
— Как?
— Да рубил он себе намедни хижу, домишко: морозы-де наступают, так в палатке нетопленной зябко.
— Сам рубил?
— Сам, грелся. И стало ему от топора-то жарко. Он и сыми с себя кафтан да и дай мне подержать. В те поры один свейский немец, перебежчик, принёс ему выкраденный план Ругодева. Государь мельком взглянул на него и отдал мне. Положи, говорит, в карман моего камзола, ночью-де, говорит, рассмотрю план. Я и положил в карман. А ночью все и стряслось… Не приведи Бог что было!
— Ну? — глаза у князя-кесаря разгорелись.
— Ночью я просыпаюсь от страшного гласа государева… Я вбегаю к нему… «Где план?» — изволит неистово кричать. «В кармане твоего камзола, государь», — говорю… «Нет его там! — кричит. — Украли, продали — меня продали! Ты недоглядел!..» Да за дубинку и ну лущить, ну лущить!.. Хоша у меня спина стоеросовая, как и его палица-дубинка, одначе стало невтерпёж — сталь и то гнётся…
Глаза у Ромодановского все больше разгорались восторгом.
— Ну? Ну? — Да что ж! План-то нашёлся.
— Где? Как?
— У государя ж в камзоле… Карман сбоку по шву разошёлся, план и завалился за подкладку.
— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — радостно залился князь-кесарь.
— Да, смейся, князь… Я ж оказался виноват: зачем, говорит, ты не починил камзола? А как его починишь? Инну пору кричит: не смей по карманам лазить!
Ромодановский раскатывался и за бока брался, точно Орлов принёс ему величайшую неожиданную радость. Нахохотавшись вдоволь, князь-кесарь перешёл к делу.
— Зачем же государь прислал тебя ко мне? — спросил он, вдруг став серьёзно-деловым царедворцем.
— И к тебе, государь-князь, и к другим милостивцам, — отвечал Орлов.
— А ко мне-то с чем именно?
— По воровскому делу об антихристе.
— Сие дело у меня зело знатно налажено: все мыши в моей мышеловке… Ноне князя Хованского щунял, да ещё малость придётся, и тогда с тобой к государю выметку из дела пошлю.
— Буду ждать, — сказал Орлов. — Да надоть завернуть мне в Немецкую слободку.
— К зазнобушке государевой?
— К ей, к Аннушке Монцовой… Соскучился по ей государь.
— Али к войску хочет взять?
— Нет… по вестям от неё заскучал.
— Не диво… Молодой ещё человек, в силе…
— Да ещё в какой! — вспомнил Орлов царёву дубинку.
— А! — засмеялся опять князь-кесарь. — Ты про свою спину?
— Не про чужую, батюшка-князь.
— То-то я говорю: человек в силе, в полном соку, а жены нету… Не то он вдов, не то холост… Жена не жена, а инокиня… Вот тут и живи всухомятку… А Аннушка — девка ласкательная… Ну, а как дела под Ругодевом?
— Копаем укрепу себе, откудова б добывать город… А государь ходит ходуном от нетерпения, море ему подай!
— Что так?
— Море видел… Сам с Данилычем да Павлушей Ягужинским изволил ездить к морю. Оттеда — воротился, во каки глаза! Распалило его море-то.
— Охоч до моря, точно, — согласился Ромодановский. — А сам не командует?
— Нет: войска сдал этому немцу, фон Круи, а сам только глазами командует.
— А князь Трубецкой Иван Юрьевич что?
— Своею частью правит.
— А мы тут без него Аркашу его окрутили с Оксиньей Головкиной.
— Дошла ведомость о том и к нам.
— То-то дошла… А небось не дошло, что мы их окрутили по старине?
— Ну, за это государь не похвалит.
— Так приказала старая бабка, а она, что твой протопоп Аввакум, все: так угодно-де Владычице Небесной, Её воля… Точно она у Богородицы сбитень пила.
Когда Орлов стал прощаться, чтобы ехать в Немецкую слободку к Анне Монс, Ромодановский спросил:
— А когда к государю отъезжаешь?
— Непомедлительно; денька через два, как с делом управлюсь, — отвечал Орлов.
— Добро… К тому времени я успею передопросить князя Ивана Тараруевича и выметку из дела государю изготовлю. Так я жду тебя, — сказал на прощанье князь-кесарь.
— Буду неупустительно, — сказал Орлов.
— Ах, да! — спохватился князь-кесарь. — Я приготовил для государя такой анисовки, какой и премудрый Соломон не пивал.
— Это, чаю, государю любо будет: зело охоч до анисовки.
— Так заезжай.
— Заеду неупустительно.
14
Князь Ромодановский видел, что надо было торопиться с розыском по делу об антихристе. Дело бессмысленное! Но оно касалось имени государя. В тёмном народе и в невежественном духовенстве бродило глухое недовольство: народ удручали усиленные рекрутские наборы, купечество возмущал особый налог на бороды, которые дозволялось носить только тем, которые, уплатив особую пошлину за позволение не брить «честной брады», получали из казны особый металлический знак или медаль, на которой вычеканена была борода надписью: «Деньга за бороду взяты». Раскольники уходили в леса, в скиты и сожигали себя иногда целым гуртом. Heвежественное духовенство роптало на новшества, видело посягательство на религию и на церковь.
И вдруг в народ хотят бросить страшное слово: государь — антихрист!.. Надо немедленно затушить страшную искру, пока ещё тлевшую под землёю, в казематах и в застенке Преображенского приказа… А если эту искру, как невидимую пока головню, уже перебросило в сухую солому в хворост, легко воспламеняющийся, — в народ?..
Надо, надо спешить! Затоптать искру!
На другой же день князь Ромодановский приступил к передопросам.
Надо было свести на очную ставку Талицкого, этого «злу заводчика», с князем Хованским.
— Это семя Милославского, стрелецкая отрыжка! — говорил государь, отъезжая с войском под Нарву.
Привели в приказ Талицкого.
— Говорил тебе князь Хованский Иван: Бог-де дал было мне мученический венец, да я потерял его? — спросил князь-кесарь.
— Говорил подлинно, — отвечал таким тоном Талицкий, точно ему было все равно.
Да это и правда: он уже видел вблизи свою смерть, так ему было всё равно… Сорвалось! Не подняться ему и его делу! А как, казалось, широко и глубоко было оно задумано!.. Он чаял-видел себя спасителем народа… Народ, облагодетельствованный им, воскликнет: на руках возьмут тя, да не преткнеши о камень ногу твоею… И вот впереди Аввакумов престол, костёр да венец ангельский…
— И то Хованский говорил после первого взятья его в Преображенское по выпуске из оного? — продолжал Ромодановский.
— По выпуске, у себя на дому.
— А касательно ставленья его Микитою Зотовым в митрополиты?
— Князь Иван, будучи спрошен на ставленье: «пьёшь ли?» заместо «веришь ли», уразумел, что творил Микита Зотов надругательство и кощунство над освящённым собором… Зотов изблевал хулу на святую православную церковь.
Князь Ромодановский сам очень хорошо понимал, что сочинённый самим царём устав «всепьянейшего и всешутейшего собора» и чин ставления в «шутейшие патриархи» и в такие же митрополиты не что иное, как насмешка над идеею патриаршества в России, которое Пётр и похоронил со смертию последнего на Руси патриарха Адриана. Князь-кесарь отлично понимал, что, с точки зрения религии, это — кощунство и надругательство над церковного обрядностью, как смотрел на это и допрашиваемый и пытаемый им в застенке книгописец Талицкий, но Ромодановский также не мог не сознавать, что гениальный преобразователь России кощунствовал не для кощунства, не для забавы, а ради высших государственных интересов; князь Ромодановский видел, что царь прибегал к этим крутым и рискованным мерам для того, чтоб умалить влияние невежественного духовенства на тёмные массы. Что могло быть гибельнее для государства, как внушение народу каким-то «книгописцем», не только народу, но и епископам и архиепископам, что в России глава государства, помазанник — сам антихрист!.. И вот тот, кого называют антихристом, отвечает своим клеветникам, сочинив знаменитые «пении» и «кануны», распевающиеся на этих соборах, хотя бы «Канун Бахусов и Венерин», такого содержания:
Бахусе, пьянейший главоболения, Бахусе, мерзейший рукотрясения, Бахусе, пьяным радование, Бахусе, неистовым пляс велий, Бахусе, блудницам ликование, Бахусе, ногам подъятие, Бахусе, ледвиям поругание, Бахусе, верним тошнота, Бахусе, портов пропитие, Бахусе, пьянейший, моли Венеру о нас!Князь Ромодановский продолжал допрашивать Талицкого.
— «И тем-де своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил, и лучше было б мне мучения венец принять, нежели было такое отречение чинить…» Эти ли слова говорил князь Иван?
— Подлинно сии слова, — апатично отвечал Талицкий.
По знаку князя-кесаря ввели Хованского для очной ставки.
— Вычти последние Гришкины расспросные речи, — сказал дьяку Ромодановский.
Тот «вычел».
— Твои это речи? — спросил князь-кесарь Хованского.
— Не мои… То поклёп Гришкин, — отвечал последний, — не мои то слова.
Напрасное упорство! И Талицкого и Хованского повели в застенок.
Подняли на дыбу последнего.
В застенке на очной ставке и с подъёму князь Иван говорил:
«Теми словами Гришка поклепал на меня за то: говорил мне Гришка о дьяконе, который жил в селе Горах, чтобы его поставить в мою вотчину, в село Ильинское, в попы, и я ему в этом отказал… А что я сперва в расспросе против тех Гришкиных слов винился, и то сказал на себя напрасно, второпях».
Чуть живого сняли Хованского с подъёму. Вместо него подвесили Талицкого.
— О том диаконе, чтобы ему быть в вотчине князя Ивана в селе Ильинском, в попах, я говорил, и князь Иван его не принял.
После обморока, вспрыснутый водою, Талицкий продолжал:
— А вышесказанными словами я на князя Ивана за того диакона не клепал, а говорил на него то, что от него слышал…
Когда на другой день, утром, вошли в каземат князя Хованского, то нашли его уже мёртвым.
15
Наступило 17 ноября 1700 года. В русском лагере под Нарвой заметно особенное движение. Между солдатами из уст в уста передаётся тревожное известие:
— Сам Карла прёт к Ругодеву на выручку.
— Видимо-невидимо их валит, наши сказывали.
— Стена стеной, слышь.
— Не диво, братцы, что наш набольший, Шереметев Борис, лататы задал[145].
Действительно, в этот день боярин Борис Петрович Шереметев, посланный с частью войска к Везенбергу, поспешно воротился под Нарву и известил, что сам король спешит с войском на выручку своего города, защищаемого небольшим гарнизоном под начальством коменданта Горна.
Тогда русские тотчас приступили к усиленной канонаде Нарвы.
Но что могла сделать даже усиленная канонада из плохих орудий? Ведь бомбардирование длилось уже почти целый месяц — с 20 октября, а осада не подвинулась ни на шаг. Наши пушки напрасно тратили заряды. Пожар хотя и вспыхивал в городе, но его тушили, а стены стояли нетронутыми.
В ту же ночь царь покинул войско. Для чего? Чтобы не мешать распоряжениям опытного фон Круи? Или спешить за сбором нового войска?
Но как бы то ни было, уход Петра из-под Нарвы удручающе подействовал на русское войско, и без того не доверявшее военачальникам-немцам. Говорили даже втихомолку, будто бы государь бежал.
— Сказывают, убег государь-то.
— Ври больше! Не такой он, батюшка, чтоб бегать от деток своих.
— И впрямь не такой: вон под Азовом, словно стяг воинский, маячил перед нами, за версту его видно было.
— Точно: когда эти хохлатые черти, черкасы, добывали вежу, дак батюшка царь с ими на вежу кинулся было, да только сами черкасы не пустили его.
— Знамо, оберегаючи его царское пресветлое величество.
— А то «убег»! Ишь, како слово ляпнул!
— А что… Сказывали другие-прочие…
— Слякоть всякую болтают, новобранцы, а ты и слухачи развесил.
Однако сомнение закрадывалось в душу каждого, и воодушевление падало в рядах русских. И лица офицеров, казалось, выдавали общую тревогу.
И неудивительно: войско поневоле чувствовало себя как бы покинутым. Присутствие царя являлось большою силою для армии.
Так прошёл весь день 18 ноября. Нарва не сдавалась, хотя пожары в ней от русских брандкугелей[146] не прекращались.
Девятнадцатого ноября шведы совершили стремительное нападение на русский лагерь, который ослаблен был тем, что его растянули на семь вёрст.
Юному шведскому королю военный гений подсказал воспользоваться союзом природы, союзом стихийных сил. Шёл сильный, косой от ветра снег. Карл так расположил ряды своего, ничтожного сравнительно с русским, войска, не достигавшего двух тысяч, тогда как у нас было тридцать пять тысяч, что снег гнал его солдат в тыл, а русским залеплял глаза.
Отчаянный потомок Гаральда, этот последний «варяг», ураганом, вместе со снежною вьюгой, ворвался в русский укреплённый лагерь.
Русские с ужасом видели, что какой-то великан, весь облепленный снегом, сорвал с лафета одно полевое орудие, сделав этим бревном-пушкой целую улицу из мёртвых тел, точно так, как делал когда-то сказочный Васька Буслаев.
Это был поразительный силач Гинтерсфельд, любимец Карла Чтобы судить о его силе, напомним два случая из его жизни. Однажды в Стокгольме, въезжая вместе с другими всадниками в каменные сводчатые ворота замка, Гинтерсфельд схватился рукою за железное кольцо, вбитое в свод, и, сжав ногами бока своего коня, приподнял его вместе с собою, словно бы это была игрушечная деревянная лошадка. В другой раз, уже накануне битвы под Нарвой, он, будучи часовым у палатки короля, ночью чуть отошёл от своего поста поболтать с приятелем, а ружьё прислонил к палатке, что ли. Вдруг он к ужасу своему заметил, что король лично проверяет бдительность часовых и очутился около палатки. От неожиданности и испуга Гинтерсфельд так растерялся, что забыл даже, где поставил своё ружьё и, моментально схватив с лафета пушку, отдал ею честь королю! Пушкой на караул!
При виде такого чудовища, швыряющего осадными орудиями, как поленьями, русские пришли в ужас.
— Батюшки! Пушками лукается!
— Нечистая сила!
— С нами крест!.. Свят, свят!
Ряды наших дрогнули. К несчастью, тут находился и боярин Шереметев. Услыхав о нечистой силе, он, полный суеверия сын своего века, первым обратился в бегство, крестясь и творя молитвы. За ним ринулись ближайшие части войск.
Произошло смятение по всей линии, и паника охватила весь лагерь.
— Спасайтесь, православные! — крикнул кто-то.
Все бросились к мосту, перекинутому через Нарову. Лагерь, орудия, военные запасы, провиант, палатки, обоз — все брошено. На мосту ужасающая давка. Кто падал, того свои давили ногами. Офицеры смешались с солдатами, конные с пешими.
И вдруг рухнул мост… Безумные, нечеловеческие крики потрясли воздух.
Живые и мёртвые запрудили Нарову, так что вода вышла из берегов, поглощая и унося живых и мёртвых к морю — к тому морю, которое ещё недавно возбуждало великие, гордые думы в царственной голове того, кого постигло теперь первое великое несчастие…
Упавшие в воду, спасая себя, топили и душили других в последних предсмертных объятиях. Ржание лошадей, тоже тонувших с всадниками или топивших их в борьбе с волнами Наровы, усиливало всеобщий ужас.
А шведы были беспощадны. Одних убивали, других сталкивали с обрывистого берега в бушующие волны, третьих захватывали в плен и, лишая оружия, гнали назад.
Трубецкой, князь Иван Юрьевич, отец княжича Аркадия и тесть Ксении, князь Яков Долгорукий, Автаном Михайлович Головин и имеретинский царевич Александр отдались неприятелю, выговорив себе свободный выход на Русь.
А снежный ураган продолжал свирепствовать. Казалось, что настал конец света и небесные силы отвернулись от побеждённых.
В этом хаосе Преображенский богатырь Лобарь, тот самый силач Теренька, над простотой которого потешались товарищи, что будто бы — «задумал Теренька жаницца» — этот Теренька, колотивший кулаками направо и налево, словно гирями, вдруг нечаянно наскочил на великана Гинтерсфельда, стоявшего на своём коне недалеко от самого короля, у ног которого русские военачальники складывали своё оружие. Лобарь узнал шведского богатыря…
— А, чёртов сын! — закричал он. — Ты пушками лукаться! Вот же тебе, н-на!
И он, нагнув свою несокрушимую, точно из чугуна вылитую голову, ринулся вперёд, как стенобитный таран.
…Карл пришёл в величайшее недоумение. Его богатыря, его непобедимого Гинтерсфельда вместе с конём какое-то рассвирепевшее чудовище опрокинуло словно ударом молнии!
Шведский богатырь, сброшенный падением лошади с седла, с обнажённым палашом кинулся на своего противника. За ним и другие шведы устремились с саблями наголо на безоружного русского вепря.
— Vade! Vade! Ни шагу! — крикнул король.
Русские вожди, слагавшие оружие перед Карлом, узнали своего вепря. Он стоял, тяжело дыша, готовый снова ринуться на всех: все равно пропадать!
Но шведский король приказал пощадить «чудовище русской земли» — из любопытства.
Несчастный для России кровавый день 19 ноября 1700 года, наконец, кончился с закатом багрового солнца.
А трупы русских бурная Нарова продолжала нести в «чужое море»…
16
Поражение русских под Нарвой совершилось главным образом по вине их военачальников.
Первым обратился в постыдное бегство боярин Шереметев.
Главнокомандующий и его свита, то есть герцог фон Круи и его штаб с прочими иноземцами, сами побежали в объятия шведов и сдались. Около восьмидесяти офицеров русской службы взяты военнопленными и отправлены за море, в Швецию.
Одни преображенцы и семеновцы с генералом Адамом Вейде держались стойко, но и их поколебала паника остального войска, их осталась половина, и они сложили оружие. До шести тысяч русских погибло на пути к Новгороду из числа тех, кому удалось перебраться через Нарову: позже они погибли от голоду и холоду.
Где же в эти несчастные для России дни находился её вождь, её державный начальник?
Пётр покинул осаждаемую его войском Нарву в ночь на 18 ноября и вместе с неразлучными денщиками своими, Орловым и Ягужинским, поспешил в Новгород для подготовления возможно широких и верных средств к успешному продолжению неизбежной борьбы с сильным врагом.
Нужно было поторопиться с усиленным набором ратников, укрепить пограничные, важные в стратегическом отношении пункты, такие, как Новгород и Псков, а главное, создать артиллерию, которая стояла бы на высоте своего назначения. Под Азовом и теперь под Нарвой Пётр сам убедился, как жалки были в деле орудия его войска. Русские пушки могли пробивать бреши только в деревянных частоколах, а перед каменными стенами были бессильны: от стен Нарвы ядра отскакивали, как горох… Позор! Это царь видел и от негодования бледнел. Позор!
Из Новгорода царь немедленно разослал указы собирать новое войско со всех концов России и к весне приготовить его к военным действиям.
— За медлительность и нерадение — виселица! — велел он объявить гонцам, посылаемым с указами.
В Новгород же он вызвал думного дьяка Виниуса[147], энергия и расторопность которого были ему известны.
— Высылай незамедлительно на работу поголовно все население новгородской и псковской земель, солдат, крестьян, попов, причетников, баб! — сказал он Виниусу. — Ныне земле русской, её городам и храмам Божиим грозит нашествие иноплеменников, то я повелеваю духовенству закрыть на время церкви, прекратить служение в оных и отдать все своё время укреплению Новгорода и Пскова… Понял?
— Понимаю, государь, — отвечал Виниус.
— Землекопов, каменщиков пригнать со всей земли, слышишь?
— Слушаю, государь.
— А ты сам незамедлительно приступай к литью медных пушек нового образца. Чертежи я тебе дам.
— Медные, государь! А где взять меди?
— У меня меди с серебром хватит на триста пушек.
— А где эта медь, осмелюсь спросить, государь?
— В церквах, в монастырях, по колокольням!
— Как, государь, колокола?..
— Да, колокола! Оставь им по малому колокольцу, и того довольно, а все остальные, большие и малые, на пушки!.. Всевышний не нуждается в их трезвоне: он божественным слухом своим слышит вздох души, биение сердца, пост травы!.. На что ему колокола!.. В них ты найдёшь преотменную медь, о какой и не помышляет мой заносчивый брат Карл, медь с примесью знатной доли серебра, и пусть сия медь кричит и глаголет во славу Всевышнего Бога и для благоденствия России!
— Слушаю, великий государь!
— Монахов и черниц, сих дармоедов, попов, дьяконов и причетников заставить молиться святою молитвою — работою во славу Святой Руси, а не поклонами, в коих Вседержитель не нуждается… Ты читал когда-либо пророка Исайю[148]? — вдруг оборвал он себя, остановившись перед изумлённым Виниусом.
— Читал, государь…— недоумевал последний.
— Читал? Так помнишь, что говорит Вседержитель всем попам и архиереям устами пророка?
— Не памятую, государь… Библия так пространна…
— А я помню. «К чему мне множество жертв ваших? — говорит Вседержитель попам и архиереям. — Я пресыщен всесожжением овнов и туком откормленного скота; и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу… кадило мерзости мы есть»… Слышишь?
— Слышу, государь.
— «Кадило мерзости мы есть» — глаголет Адонай Господь; а попы только и знают, что кадят…
— Точно… только кадят, государь.
— А Бог говорит дальше попам: «Новомесячий ваших и суббот, и дне великого не потерплю, поста и праздности, и новомесячий ваших, и праздники ваши ненавидит душа Моя»…[149] Вот что Он говорит.
Виниусу, изумлённому, даже испуганному, казалось, что сам пророк гремит над ним.
— Так лопаты, заступы, кирки, топоры им в руки, а не кадила!.. И посты и праздники ненавидит душа Его, ненавидит!.. А кадила их — мерзость для Него!
Вдруг он оглянулся, услышав, что кто-то сморкается в углу. Там стояли Орлов и Ягужинский, и последний торопливо утирал слёзы.
— Ты о чём это? — спросил царь.
Павлуша потупился и конфузливо молчал.
— О чём, спрашиваю, или кто тебя обидел?
— Государь… я… я, — лепетал Павлуша, — я… от изумления…
— Какого изумления?
— От зависти, государь! — выпалил Орлов и засмеялся. — Если б, говорит, я все так знал и помнил…
— Это похвальная зависть, — серьёзно сказал государь. — И я от зависти чуть не плакал, взирая на все то, что я видел у иноземцев и чего у нас нет.
— Да он, государь, всему завидует…— продолжал улыбаться Орлов.
— А ты, чаю, завидуешь токмо красивым дворским девкам, бабник.
И государь снова обратился к Виниусу.
— Будучи под Ругодевом, я оттедова к морю ездил, — сказал он, и глаза его вновь загорелись вдохновенным огнём. — Сколько там простору и утехи для глаз! Вот коли ты мне к разливу реки изготовишь пушек добрых ста три, то мы с Божьей помощью и до моря променаж учиним.
— Пошли-то, Господи, — поклонился Виниус.
— Так долой с колоколен колокола, и переливай на пушки! А я орала все перекую в оружие, дабы возвысить Россию… А после и орала вновь заведём, и пахать станем.
— Аминь! — взволнованно проговорил Виниус.
17
Время шло, а вестей из-под Нарвы царю все ещё не было. Ни один гонец не примчал в Новгород.
Прошло и восемнадцатое, и девятнадцатое ноября, а вестей нет. Уже на исходе и день двадцатого, а все никого нет от войска.
Чего ждут эти увальни, Головин, Трубецкой, Борька Шереметев? Да и немчура этот, «фон Крой», должен знать воинские порядки. Как третий день не доносить царю, что у них там творится?
— Иван! Снаряжайся и в ночь гони под Нарву.
— Слушаю, государь… Живой рукой привезу вести… Ничего особого не изволишь приказать, государь?
— Нет… Надо допрежь того узнать, что там…
Через несколько минут Орлов уже мчался ямским трактом к выходу Наровы из Чудского озера.
Пётр тревожно провёл остаток дня двадцатого ноября и ночь на двадцать первое.
Рано же утром он вместе с Виниусом и Ягужинским отправился на работы по укреплению города.
На дороге им встретился странного вида старик, почти в лохмотьях, но в собольей шапке. Он стоял посередине улицы и, притоптывая ногами, пел старческим баском, задрав голову кверху:
А бу-бу-бу-бу-бу. Сидит ворон на дубу. Он играет во трубу, Труба точёная, Позолоченная.— Скорей, скорей летите, а то немецкие вороны да собаки все поедят и кровушку всю вылакают, — выкрикивал он, махая руками.
Этот старик обращался к летевшим по небу стаям птиц. То были целые тучи воронья.
Это заметил и царь с своими двумя спутниками.
— Куда это летит столько птицы? —дивился государь. — И все на северо-запад.
— Лети, лети, Божья птичка! — продолжал странный старик. — Боженька припас тебе там много, много ествы, человечинки.
— Я догадываюсь, государь, что сие означает, — с тревогой сказал Виниус, — птица сия чуткая… Она учуяла там корм себе… Битва была кровавая, птица проведала о том Божьим промыслом…
Слова Виниуса встревожили царя.
— Ты прав, — задумчиво проговорил он, — птица чует… Бой был; в том нет сумления… А был бой, и трупы есть… Но чьих больше?
— Будем надеяться, — нерешительно сказал Виниус, — Божиею милостью и твоим государевым счастьем…
— Но почему вестей доселе нет? Ни единого гонца!
Уже издали доносился голос странного старика.
А бу-бу-бу-бу-бу, Сидит ворон на дубу, Он играет во трубу.— Киш-киш, вороны! Киш-киш, чёрные!
Около стен ближнего монастыря копошились, словно муравьи, какие-то чёрные люди. То были монахи и монастырские служки. Они укрепляли обветшалые стены. За работами наблюдал сам престарелый игумен.
Старый инок нет-нет да и поглядывал на небо, качая головой в клобуке.
Увидев царя, он издали осенил его крёстным знамением.
—Дело государское блюдёшь, отче? — спросил царь, подходя.
— Блюду, с Божьей помощью, великий государь, — отвечал старец и взглянул на небо.
Птица продолжала лететь на северо-запад, перекликаясь гортанным карканьем.
— Удивляет тебя птица? — спросил Пётр.
— Смущает, государь… Враны сии смущают… К кровопролитью сие знамение.
— Сколько у тебя колоколов в монастыре? — спросил Пётр.
— Колоколов, государь, нечего Бога гневить, достаточно.
— Так я велю перелить их на пушки, — сказал царь.
Старый инок, казалось, не понял государя. Виниус не успел ещё сообщить ему волю царя относительно церковных колоколов.
— Все колокола велю перелить на пушки, — повторил государь, — понеже приспел час, когда пушки стали для святых церквей надобнее колоколов.
Игумен онемел от изумления и страха… «Последние времена пришли, — зароилось в его старой голове, — храмы Божьи лишать благовествования… глагола небесного…»
— Так ты, отче, распорядись приготовить все потребное для спуска колоколов на землю, — сказал Пётр, проходя дальше, — слышишь?
— Воля царёва, — уныло проговорил старик.
Он долго потом с ужасом смотрел на удалявшуюся исполинскую фигуру государя, опиравшегося на дубинку.
— Времена и лета положил Бог своею властию, — покорно пробормотал старец, подняв молитвенно глаза к небу.
Он никак не мог опомниться от слов царя.
— Святые колокола на пушки!.. Остаётся ризы с чудотворных икон ободрать… О, Господи!
Старик подозвал к себе отца эконома.
— Ты слышал, что повелел царь? — шёпотом спросил он.
— Ни, отче, за стуком не слыхал.
— Велит спущать с колоколен все колокола.
— На какую потребу, отче?
— Велю-де, сказывал, все колокола перелить на пушки.
Отец эконом не верил тому, что слышал.
— Сего не может быть! Обнажить храмы Божии от колоколов!.. Да это святотатство!
— Подлинно, страшное святотатство, какого не было на Руси, как Русь почалась.
— Как же быть, владыко?
— Уж и не придумаю… Царь он над всею землёй, и выше его один токмо Бог… К небу возопиет обида сия храмам Божиим… Тебе ведом, я чаю, его нрав жестокий: суздальского Покровского монастыря архимандрита и священников били кнутом в Преображенском приказе за то, что убоялись незаконного деяния — постричь насильно царицу Евдокию[150], жену его, голубицу невинную.
— Ох, слышал, слышал, владыко.
В это время из-за монастырской ограды послышался жалобный крик.
— Никак, это голос отца казначея? — прислушивался старый игумен.
— Его! Его!..
— Царь бьёт… Верно, согрубил ему отец казначей, строптивый инок.
— Бьёт… бьёт… Ох, Господи! И кричит: «Лентяи все, дармоеды! Я вас!»
— О, Господи!..
18
Царь показывал Виниусу чертежи и описания новых пушек, когда на дворе послышалось какое-то движение.
— Гонец примчал, — донеслось со двора.
Царь вскочил. В дверях стоял Орлов, страшный, исхудалый, весь в грязи, с искажённым лицом и трясущейся челюстью. Увидев царя, он крыжом упал к его ногам.
— Вели, государь, казнить гонца своего за недобрые вести! О! О!. — стонал он.
Лицо Петра было страшно, оно все судорожно дёргалось.
— Встань, Иван, — тихо, глухо сказал он.
— О Господи! Не родиться бы мне на свет Божий! — стонал Орлов.
— Встань! Говори все, — приказал царь. — Я не баба, не сомлею.
Орлов приподнялся. Виниус также дрожал. Ягужинский забился в угол и плакал.
— Сказывай! Я на все готов… я жив ещё! А там посмотрим.
— Великая беда постигла твоё войско, государь, под Нарвой, — начал Орлов, стараясь не сбиваться. — Уже в пути я повстречал боярина Бориса Петровича Шереметева… С ним была махонькая горстка ратных людей, да и те с голоду и холоду мало не помирали наглою смертию.
— Для чего ж он гонца не прислал ко мне?
— Некого было, государь… Которые были с ним конники, и те все в пути обезлошадели, все от бескормицы пали кони под ними.
— А фон Круи?..
— Фон Крой, государь, и все его иноземцы, как только увидали беду, все до единого убегли к королю…
— Га! — вырвалось у великана — и больше ни слова.
— Вейде Адам, государь, с преображенцами да семеновцами ещё держались, крепко бились, пяди земли не уступали.
— Молодцы! — лицо Петра просветлело. — Ну?..
— Да и те почти все полегли костьми за тебя, государь.
Пётр перекрестился, грудь его вздымалась.
— А Трубецкой Иван, Долгорукой Яков, Головин Автаном?
— Все в полон попали, государь… Взят в полон и царевич имеретинский… Мост на Нарове, государь, подломился и убечь не могли, а которые, може, тысячами, в реке потонувши…
— Кто ж из полковников остался?
— Никого, государь, все офицеры взяты.
— А артиллерия?
— Вся, государь, досталась врагу.
Пётр глянул на Виниуса. Того била лихорадка.
— Не дрожи, старик! — сказал ему царь. — У нас будет артиллерия, да не такая… А как же Шереметев уцелел?
— Он, государь, со своими полками отступил…
— Бежал Борька!
— Отступил, государь… помилуй… Отступил, чтоб спасти остатки… Опосля уж мост на Нарове подломился.
— А много у Бориса уцелело?
— Горсть одна, государь… В пути погибло тысяч до шести… Я видел, государь, по всей дороге встречаются мёртвые кучами… с голоду и холоду… Птица и зверь ими кормятся… О Господи! Таково страшно!
И Орлов, этот богатырь, заплакал.
— Вон куда птица летела, — глянул Пётр на Виниуса. — Все? — спросил он Орлова уже спокойным голосом.
— Все, государь.
— Так, поди подкрепись и отдохни.
Орлов пошёл было к двери…
— Постой, Ваня, погоди малость, — остановил его Пётр, — не слышно ли было тебе чего про короля? Собирается он на нас — или идёт уже?
— Нет, государь… Которые наши из преображенцев убегли из полону на походе, те сказывали, что король, покинув Ругодев, поворотил с войском назад и, слышно, пошёл против короля Августа.
Государь облегчённо вздохнул.
— Так мы ещё успеем приготовиться, — и он погрозил пальцем невидимому врагу. — Спасибо, Ваня, на твоих вестях… А теперь ступай отдохни.
Орлов ушёл шатаясь.
Весть о нарвском разгроме быстро облетела весь Новгород. О разгроме узнали от ямщиков, ездивших с Орловым.
Хотя весть эта и поразила новгородцев, но они считали поражение под Нарвой явлением неизбежным, естественным. По мнению новгородцев, в особенности же новгородского духовенства и монашеского сословия, это была кара Божья, грозное предостережение свыше царю за его безбожные действия, за лишение храмов их священного достояния — колоколов, за прекращение богослужения в храмах и за обращение людей «ангельского чина», то есть монахов и монахинь, в чернорабочих, в подёнщиков и подёнщиц… Не то ещё ожидает Россию за колокола!
По городу разнеслась весть страшная, неслыханная! О том, что Богородица плачет… Рассказывали, что отец казначей, которого царь накануне поучил своею дубинкой, сам видел, молясь вечером у св. Софии, — «своими глазыньками видел», передавали бабы, как с иконы Богородицы «в три ручья текли слезы».
— Так, мать моя, и льются, так и льются!
— А я, сестрички, ноне ночью, наведаючись до стельной коровушки, видела, как в трубу того дома, где остановился царь, огненный змий влетел… Вижу это я, летит он по небу, хвост так и пышет! У меня инда поджилки затряслись, и бежать не могу…
— А ты б перекстилась, голубка.
— Кстилась, ягодка… А он, змий-то, как глянет на меня, так еле-еле в коровник вползла… А он как зашумит, зашумит! Я — глядь, а он в трубу, инда искры полетели.
— То-то ноне у нас всю ноченьку собака выла, — воет, воет!
— Ох, последни, последни денёчки подошли, милые мои, о-о-хо-хо!.. Прощай, белый свет!
Но нарвскому поражению положительно радовались попы и чёрная братия.
— Сказано бо в Апокалипсисе, — ораторствовал отец казначей, почёсывая все ещё болевшую от царёвой дубинки спину: «И видех, и се конь блед, и седящий на нём, имя ему смерть, и ад идяше в следе его, и дана бысть ему область на четвёртой части земли убити оружием и гладом, и смертию, и зверьми земными»…
— И птицами небесными, — добавил отец эконом, — вон и ноне все ещё летят туда птицы, — указал он на небо.
В это время за монастырской оградой послышалось:
А бу-бу-бу-бу-бу, Сидит ворон на дубу, Он играет во трубу…— Вон и Панфилушка, человек Божий, про вороньё поёт, — пояснил отец эконом.
— А всё-таки, отцы и братия, надоть сымать колокола, — сказал отец архимандрит.
Но едва услыхали об этом бабы, плач раздался по всему городу.
19
Мрачный сидит у себя князь-кесарь. Перед ним доверенный дьяк из приказа.
— Вон пишет из Новгорода сам, — вертит в руке князь-кесарь бумажку.
— Сам государь-батюшка? — любопытствует дьяк.
— Он!
— Ну-кося, батюшка-князь?..
— Пишет мне: «Пьяная рожа! Зверь! Долго ль тебе людей жечь? Перестань знаться с Ивашкою Хмельницким…»
— Это то есть хмельным заниматься?
— Да, пьянствовать… «Перестань, пишет, знаться с Ивашкою Хмельницким: быть от него роже драной…»
— Ахти-ахти, горе какое! — испуганно говорит дьяк. — Как же это?
— Да как! Я вот и отписываю ему: «Неколи мне с Ивашкою знаться, всегда в кровях омываемся…»
— Подлинно «в кровях омываемся», — покачал головою дьяк.
— «Ваше-то дело, — продолжал читать князь-кесарь, — на досуге стало держать знакомство с Ивашкою, а нам недосуг…»
— Так, так… По всяк день в кровях омываемся, — продолжал качать головою дьяк. — Вот хуть бы сие дело, с Гришкою Талицким, во скольких кровях омывались мы!
— Побродим и ещё в кровях… На сие дело и намекает он… А скольких ещё придётся нам парить в «бане немшенной и нетопленной»[151].
— Многонько, батюшка князь.
— Так на завтрее мы с Божьей помощью и займёмся, Онисимыч.
— Добро, батюшка князь, — поклонился Онисимыч, мысленно повторяя: «Подлинно в кровях омываемся».
Итак, с утра «с Божьей помощью» и занялись.
В приказ позваны были Сергиевский поп Амбросим да церкви Дмитрия Солунского дьякон Никита и объявили в един голос:
— Когда мы по указу блаженные памяти святейшего патриарха Андрияна обыскивали в своём сороку[152] вора Гришку Талицкого и пришли в дом попа Андрея, церкви Входа в Иерусалим, что в Китае у Троицы, на рву, и попадья его Степанида нам говорила: не того ль-де Гришку ищут, который к мужу моему хаживал и говорил у нас в дому: как я скроюсь-де, и на Москве-де будет великое смятение, и казала тетрати руки его, Гришкиной.
Это та самая попадья Степанида, что первая открыла, по знакомству, Павлуше Ягужинскому о заговоре Талицкого и его преступных сочинениях.
Поставили и попадью пред очи князя-кесаря и Онисимыча.
— Тот Гришка, — смело затараторила попадья, ободрённая в своё время Ягужинским, что царь-де не даст её в обиду за донос, — тот Гришка в дом к моему мужу захаживал и, будучи у нас в доме, при муже и при мне великого государя антихристом называл, и какой-де он царь? Мучит сам. И про сына его, государева, про царевича говорил: не от доброго-де корня и отрасль недобрая, и как-де я с Москвы скроюсь, и на Москве-де будет великое смятение.
Кончила попадья и платочком утёрлась.
— Все? — спросил Ромодановский.
— Все… Я про то и денщику царёву Павлу сказывала и тетрати ему дала Гришкины… А денщик Павел мне знаем во с каких лет (попадья показала рукой не выше стола): коли просвирней[153] была, просфорами его, махонького, кармливала.
— Что же мне первому не сказала обо всём? — спросил князь-кесарь.
— Боялась тебя, батюшка князь.
Попадью отпустили и ввели её мужа.
Этот стал было запираться, но пытка вынудила признание.
— От того Гришки, слышав те слова про великого государя, — чуть слышно проговорил истязаемый, — не известил простотою своею, боясь про такие слова и говорить, да от страху, авось Гришка в тех словах запрётся.
После попа Андрея, уведённого из застенка полуживым, ввели в «баню» запиравшегося кадашевца Феоктистку Константинова.
— У Гришки Талицкого, — показывал этот, вися на дыбе, — я книгу «Хрисмологию» купил на продажу… дал три рубля… И Гришка в разговоре говорил, чтоб я продал имение своё и пошёл в монастырь потому, что пришла кончина света и нагрянул антихрист… и антихристом называл великого государя… и просил у меня себе денег на пропитание… Пришло-де время последнее, а вы живёте, что свиньи… А что я в тех словах на Гришку простотою не известил, в том пред великим государем виноват… А про воровство Гришкино и про воровские письма я не ведал.
Сегодня, после гневного царского письма (князь-кесарь никак не мог забыть «пьяной рожи» и «рожи драной»), застенок действовал особенно энергично. Долго не допрашивали, а сейчас сдавали на руки заплечных дел мастерам и на дыбу.
После кадашевца тотчас подвесили, и подвешивали три раза, племянника Талицкого, Мишку, который помогал ему писать книги.
Мишка сказал:
— Когда скрылся дядя, я на другой день, пришед к тётке, взял из чёрной избы тетрати обманом, чтоб про те тетрати известить в Преображенском приказе, только того числа известить не успел.
Затем введён был в застенок садовник Федотка Миляков. После неоднократного подвешивания и встряски на дыбе пытаемый говорил:
— Однова пришёл ко мне Гришка Талицкой с портным мастером, Сенькою зовут, а чей сын и как слывёт, не помню, и поили меня вином, и в разговоре Гришка говорил мне: хочу-де я писать книгу о последнем веце и отдать в Киев напечатать, и пустить в мир, пусть бы люди пользовались, да скудость моя, нечем питаться. И я Гришке говорил: как он такую книгу напишет, чтоб дал мне, и я-де ему за труды дам денег, и в пьянстве дал десять рублёв. И после того я Гришке говорил, чтоб мне дал ту книгу или деньги, и Гришка мне в книге отказал: нельзя-де тебе той книги дать, человек непостоянный и пьяница. А про то, что в той книге на государя написаны у Гришки хулы с поношением, не сказывал.
И этого чуть живого вынесли из застенка, окровавленного ударами кнута.
Истинно сегодня князь-кесарь и Онисимыч «в кровях омывались»… В застенок введён был оговорённый Талицким человек Стрешнева Андрюшка Семёнов и с подвеса показал:
— Тот Гришка в доме у себя дал мне тетратку в четверть, писана полууставом, о исчислении лет, и я прочёл ту тетратку, отдал Гришке назад и сказал: я-де этого познать не могу. И Гришка мне говорил: ныне-де пришли последние времена, нагрянет антихрист, а этот антихрист великий государь… И от него я пошёл домой, а про Гришкины слова не известил потому, что был болен.
Увели и этого.
Пот градом лил с дьяка от усердного записывания показаний пытаемых.
— Много ль ещё осталось допросить? — спросил Ромодановский, видя, что его неутомимый Онисимыч совершенно изнемог.
Дьяк просмотрел столбцы.
— С Пресни церкви Иоанна Богослова распоп Гришка Иванов.
— Сего распопа надоть передопросить, — сказал князь-кесарь. — Кто ещё?
— Хлебенного дворца подключник Пашка Иванов да с Углича Покровского монастыря диакон Мишка Денисов, да печатного дела батырщик Митька Кириллов, да ученик Гришки Талицкого Ивашка Савельев.
— Добро, — решил князь-кесарь, — этих мы оставим на завтра, на закуску.
…Швеция — карлик, нанёсший первый удар великану России под Нарвою, мог довести её до полного унижения и, быть может, до расчленения под Полтавой.
Пойди за предателем Мазепою и за Карлом весь малороссийский народ, и последствия для России были бы неисчислимы, в смысле её ослабления и унижения: вся Малороссия отошла бы от неё, как и порешили Карл и Мазепа, и от России отхвачена была бы целая её европейская половина; Новороссия и Крым с Чёрным морем не принадлежали бы России; Балтийское море по-прежнему осталось бы «чужим морем», Нева — «чужою рекою»… Не было бы и Петербурга.
Оттого даже такой обскурант и изувер, как книгописец Григорий Талицкий, изобретший «антихриста», видел в Малороссии «окно в Европу», там он думал напечатать свои сумасбродные сочинения, потому что в Москве вместо типографского станка и шрифта он мог найти только «две доски грушевые», на которых он «вырезал» и напечатал свои раскольничьи бредни, как печатают на вяземских пряниках вяземские Гутенберга: «француски букеброт»…
О таком же московском Гутенберге мы узнаем на пятнадцатом подъёме (пятнадцать пыток на дыбе — это ужасно. И все это Талицкий вытерпел…) Григория Талицкого. «Гутенберг» этот был «с Пресни церкви Иоанна Богослова Распоп Гришка Иванов»…
С этого пятнадцатого подъёму Талицкий вещал:
— Как я те свои воровские письма о исчислении лет и о последнем веце и о антихристе составил и, написав, купил себе две доски грушевые, чтоб на них вырезать — на одной о исчислении лет, на другой о антихристе и, вырезав, о исчислении лет хотел печатать листы и продавать. А сказали мне на площади, что тот распоп режет кресты, и я пришёл к тому распопу с неназнамененною доскою и говорил ему чтоб он на той доске о исчислении лет вырезал слова, и тот распоп мне сказал: без знамени-де резать невозможно, чтоб я ту доску принёс назнамененную.
«Знамя» на грушевой доске — это было тогда то, что ныне «печать» и разрешение духовной цензуры. «Назнамененная» доска — значит: дозволенная цензурой…
Такова была тогда, когда нас разбили под Нарвой, московская пресса — «грушевые доски», продаваемые в щепном ряду вместе с лопатами и корытами.
Итак, ловкий распоп не принял нецензурную доску. Далее, на этой же пятнадцатой пытке, Талицкий показывал:
— И распоп Гришка мне говорил, чтоб я те тетрати к нему принёс почесть, однако-де у меня будет человек те тетрати послушать. И после того к тому распопу я пришёл с подключником хлебенного дворца Пашкою Ивановым, а с собою принёс для резьбы доску назнамененную, да лист, да тетрати, и те тетрати я им чёл, и приводом[154] называл государя антихристом: в Апокалипсисе Иоанна Богослова, в семнадцатой главе, написано: антихрист будет осьмой царь, а по нашему-де счёту осьмой царь он, государь, да и лета-де сошлись…
После этого очередь дошла и до московского Гутенберга, до распопа Гришки.
— Я, — показывал он, — Гришке о том, чтоб он те тетрати ко мне принёс почесть и что будет у меня человек те тетрати послушать, не говаривал, а после того Гришка пришёл ко мне сам-друг и принёс доску назнамененную да лист, а сказал, что на том листу написано из пророчества и из бытей. Да принёс он с собою тетрати и те тетрати при мне чел, и про антихриста говорил, и приводом антихристом называл государя, и именем его не выговаривал… А в те числа у меня посадской человек в доме кто был ли и те тетрати слушал ли, того я не помню… И те тетрати Гришка оставил у меня.
А когда «Гутенберга с Пресни» спросили вообще о «воровстве» Талицкого и о его дальнейших намерениях, то он стал видимо увёртываться и настойчиво повторял:
— Про воровство Гришкино и про состав писем его, и для чего было ему те доски резать, и что на них печатать, и куда те печатные листы ему было девать, того я не ведал. и до тех мест у меня с Гришкою случая никакого не бывало. А как Гришку стали сыскивать, то я, убоясь, что у меня тетрати остались, спрятал оные у себя в избе, под печью, под полом.
Ромодановский покачал головою.
— Быть тебе второй раз на дыбе. Ты показал с первого подъёму на дыбу, будто в воровских письмах Талицкого о великом государе имянно не написано, а там же в первой тетрати, во второй главе, на седьмом листу написано: третье сложение Римской монархии царей греко-российских осьмый царь Пётр Алексеевич, сводный брат Иоанна Алексеевича, попервее избран на царство… Как же так?
Допрашиваемый так смешался, что ничего не мог ответить.
— Ну, ин быть тебе вторично в подвесе… Увести его до завтра! — закончил князь Ромодановский, вставая. Дьяк дописывал свои столбцы.
— Допишешь, — сказал ему князь-кесарь, — приходи ко мне обедать…
— Благодарствуй на твоей милости, — поклонился дьяк.
— А успеем завтра же и царю отписать?
— Надо бы успеть… Отпишем.
— Ладно… Да и послезавтра можно.
— Как прикажешь, батюшка князь.
— Ну, над нами не каплет.
— А дубинка?..
20
Князь-кесарь Ромодановский исполнил свою угрозу.
На другой день распоп Григорий, вися на дыбе, упрямо отрицал показание Талицкого о том, что антихристом он называл именно царя Петра Алексеевича и распоп это слышал.
— Как Гришка Талицкой…— почти кричал с дыбы упрямый распоп, — о последнем веце и про государя хульные слова с поношением прикрытно, осьмый-де царь — антихрист, говорил…
— Прикрытно? — переспросил Ромодановский.
— Прикрытно, — отвечал упрямец, — а именем государя не выговаривал, и я Гришке молвил: почему ты о последнем веце ведаешь? Писано-де, что ни Сын, ни ангели о последнем дне не ведают и в том я ему запрещал А в тех тетратях государь осьмым царём написан ли, того не ведаю, потому что я после Гришки тех тетратей не читал…
А что я, от Гришки такие воровские слова слыша, не известил и Гришки не поймал и не привёл, и письма его у себя держал, то учинил сие с простоты и в том пред государем виноват.
Распоп не без причины отрицал, что слышал от Талицкого имя государя, и твердил, что Талицкий говорил об имени государя будто бы «прикрытно», анонимно. Он знал, что в противном случае наказание его усугубилось бы.
Его снимают с дыбы, и опять очная ставка с Талицким.
— Сему распопу, — говорит последний, — я про последнее время и про государя хульные слова с поношением на словах прикрытно, осьмый-де царь будет антихрист, говорил, а именем государя выговаривал ли, про то не упомню…
Он вдруг остановился… «Прикрытно»… Его, вероятно, в ужас привела мысль шестнадцатый раз висеть на дыбе и испытывать терзания от палачей, и он спохватился.
— Я, — поправился он, — при распопе приводом называл государя антихристом — имянно…
Распопа в третий раз поднимают на дыбу. Но он с прежним упрямством продолжает стонать.
— Как Гришка государя антихристом и осьмым царём называл, то я сие слышал, только он, Гришка, государя именем не называл. И в тетратях, которые были у меня, где государево имя написано, я не дочел…
Поставил-таки на своём — и от четвёртой пытки, по закону, вывернулся.
Его и Талицкого увели из застенка, а туда ввели следующую жертву, подключника хлебенного дворца Пашку Иванова, который во всём запирался, пока дыба не развязала ему язык.
— От Гришки Талицкого, — сознавался он теперь, — про то — «в последнее-де время осьмой царь будет антихрист», и считал московских царей, и про государя сказал, что он осьмый царь, и антихристом его называл, то я слышал. А те слова Гришка говорил со мною один на один. А что в тех словах я на Гришку не известил, чая то, что он те слова говорил, с ума сошед, и, боясь розыску, если Гришка в тех словах запрётся, и меня запытают, да и для того не известил, что я человек простой.
Слова его были подтверждены Талицким, сказавшим, что у него «с Пашкой в его воровстве совету не было», и Пашку уже вторично не пытали.
На смену им введён был «с Углича Покровского монастыря диакон Мишка Денисов». В расспросе и с пытки говорил:
— Гришка мне чел тетрать о исчислении лет и о последнем веце, и о антихристе, и в разговоре говорил мне на словах: ныне-де последнее время пришло и антихрист народился; по их счёту, антихрист осьмой царь Пётр Алексеевич. И я Гришку от тех слов унижал: что-де ты такое великое дело затеваешь? И Гришка дал мне тетратку в четверть и говорил: посмотри-де, у меня о том имянно написано. И я, взяв у него ту тетратку, поехал в Углич и, приехав в монастырь, чел ту тетратку у себя в келье один, а силы в ней не познал, и иным никому тетрати не показывал и списывать с неё не давал. А что я, слыша от того Гришки про государя такие непристойные слова, по взятье его в Преображенский приказ, тетратки нигде не объявил и о тех его словах не известил и сам не явился, и то я учинил простотою своею, и в том я пред великим государем виноват…
И это показание Талицкий не опровергал. Пятнадцать пыток, по-видимому, разбили его непреклонную волю.
Теперь ввели к допросу печатного дела батырщика Митьку Кириллова.
— К Гришке в дом я хаживал, — показывал Митька, — и Гришка в доме у себя читал мне книги — Библию да толковое Евангелие и всякие печатные и письменные книги о последнем веце, а о пришествии антихриста разговоров у меня с Гришкою и совету не было.
Тут Талицкий, — увы! на зло себе — стал оспаривать показание батырщика.
— Митька приходил ко мне сам-друг, — утверждал он, — и я о последнем веце и о антихристе, и о исчислении лет тетрати ему читал, и осьмым царём и антихристом государя называл при них имянно, без Митькина спроса, собою. А в моём воровстве Митька мне советником не был и про воровство моё не ведал.
Снова запахло застенком и кровью… Передопрос!
— В дом к Гришке я приходил с нищим Федькою, — признался батырщик, — а словес не упомню, приходил я для покупки хором его.
Талицкий опять в застенке, шестнадцатый раз!
— Батырщику Митьке, — говорил он с пытки, — о последнем веце и о исчислении лет я говорил, и антихристом государя называл, и то Митька слышал!
— Как Гришка об оном толковал и государя антихристом называл, — признавался батырщик уже с дыбы, — то я слышал, а что не извещал, в том виноват.
Ввели, наконец, последнюю жертву дела об антихристе ученика Талицкого, Ивашку Савельева… Снова пытка!
— В том письме, — показывал Ивашка с дыбы, — что писал Гришка тамбовскому епископу, я силы не знал, а писал тетрати по Гришкину велению. Да Гришка ж мне сказывал, да и тамбовский-де епископ тех писем не хулил. А после того приходил я к Гришке на двор и сказал: патриарша-де разряду площадного подьячего Федькина жена Дунаева Феколка сказывала тёще моей: пишет Гришка неведомо какие книги про государя, и она сказала брату своему, певчему Федору Казанцу, а он, Федор, хотел по Гришку из Преображенского приказу прийти с подьячими. И я, пришед к Гришке, про то ему сказал, и Гришка с того с Москвы ушёл, и я проводил его за Москву-реку, до Кадашева, и спросил: куды ты идёшь? И он мне сказал: пойду-де я в монастырь, куда Бог благоволит…
Талицкий подтвердил это показание, и на том страшное дело кончилось.
Но долго ещё пришлось сидеть по казематам Талицкому и его жертвам, пока им не прочитали приговора.
1701 году, ноября в пятый день, по указу великого государя и по боярскому приговору велено Гришку Талицкого и единомышленников его, Ивашку Савина и пономаря Артемошку, за их воровство и за бунт, а бывших попов Луку и Андрюшку и Гришку за то, что они про то его, Гришкино, воровство и бунт, слышав от него, не известили, казнить смертию; а жён их, Гришкину и Ивашкину, и Артемошкину, и Лучкину, и с Пресни Гришкину ж, сослать в Сибирь, в дальние города, а животы их взять на великого государя; а Андрюшкину жену освободить, потому что он, Андрюшка, сыскан и в том деле винился по её улике; кадашевца Феоктиста Константинова, батырщика Митьку Кириллова, садовника Федотку Милякова, подключника хлебенного дворца Пашку Иванова, распопа Мишку Миронова, дьячка с Углича Покровского монастыря Мишку Денисова, Иванова человека Стрешнева Андрюшку Семёнова за то, что они, от того Гришки слыша бунтовые слова, не извещали, племяннику его, Гришкину, Мишке, за то, что он у тётки своей выманил воровские письма, не известил же, Гришкину ученику Ивашке Савельеву, что он тому Гришке сказал про извет на него и он с Москвы бежал, — вместо смертной казни учинить жестокое наказание — бить кнутом и, запятнав, сослать в Сибирь.
«Да по имянному великого государя указу бывшего тамбовского епископа Игнатия, что потом расстрига Ивашка, вместо смертной казни велено послать в Соловецкий монастырь, в Головленкову тюрьму, быть ему в той тюрьме за крепким караулом по его смерть неисходно, а пищу ему давать против таких же ссыльных».
Талицкого и Савина велено было казнить копчением; но во время казни они покаялись и были сняты с копчения. По преданиям раскольников, Талицкого сожгли на костре.
Одна попадья Степанида не пострадала.
Часть II
1
Прошло около двух лет после разгрома русского войска под Нарвою.
И отплатили же русские за этот разгром! Вот уже второй год Шереметев мстит за свой нарвский позор…
— Усердствует Борька, — улыбнулся государь, прочитав донесение Шереметева и обращаясь к князю-кесарю, докладывавшему ему по своей «кнутобойной» специальности, — пишет, что при Гуммельсгофе Шлиппенбах мало штаны не потерял.[155]
— За Нарву это, государь…— рассеянно пробормотал Ромодановский.
— За Нарву, точно! Это мои колокола так громко звонят там, — сказал государь и пристально посмотрел на Ромодановского…
— Что с тобой, князь? — спросил он. — Попритчилось тебе что?
— Уж и не ведаю, государь, как быть, — смущённо отвечал князь-кесарь.
— Что такое? Неладно у тебя в кнутобойне что?
— Нет, государь, твоим государевым счастьем у меня всё обстоит благополучно.
— Так что ж! Кажи.
— И ума не приложу, государь.
— Ну, так я, може, приложу.
Князь-кесарь нерешительно полез в карман и вытащил из него кожаную калиту[156]. Потом вынул из калиты несколько монет одного образца и положил перед царём.
— Что это? Монеты совсем незнакомые, таких я не видал, — говорил Пётр, рассматривая одну монету. Ромодановский внимательно наблюдал за выражением лица царя.
— Город вычеканен довольно искусно.
— Точно, государь, искусно.
— Да это в Нарву палят.
— В Нарву и есть, государь.
— Да это и я тут вычеканен… моя персона и стать…
— Твоя, государь.
— Я на огонь протягиваю руки.
— Точно… греешься, государь.
Царь вгляделся в подпись на монете и прочёл:
— «Бе же Пётр стоя и греяся»…
Государь весело рассмеялся.
— Искусно, зело искусно! Это я руки грею у Нарвы… искусно!
Он перевернул монету и стал вглядываться. Ромодановский побледнел.
— А! — протянул государь уже другим голосом. — «И исшед вон, плакася горько», — прочёл он, не отрывая глаз от монеты.
На этой её стороне было изображено: русские бегут из-под Нарвы, а впереди всех — сам царь: он потерял шпагу, и шляпа с него свалилась.
— Откуда это? — сурово спросил Пётр.
— Не наше, государь… от твоих супостатов, чаю… издёвка, — несмело отвечал Ромодановский. — Не наша чекань.
— А как к тебе они попали?
— Подметом, государь… подмётные они… Воры неведомые и ко мне подмет учинили, и к тебе, в твой государев двор.
— А кто поднял?
— Мои, государь, ребята, сыщики.
— Но кто дерзнул подметывать? — спросил царь.
— Какой ни есть неведомый вор, а може, и не один… вот и ищу их, государь, — говорил смущённо Ромодановский.
Он не мог себе простить, что до сих пор не напал на след дерзких подметчиков. Это была первая его неудача в сыскном деле. Срам какой! Всевидящий и всеслышащий князь-кесарь нагло одурачен! Под самые его ворота подкинули! И как же он драл подворотного караульного!
— Под землёй сыщу и розыск учиню, — бормотал он.
— Это Карлово действо, его, его, — говорил царь.
— Больше некому, государь, — подтверждал князь-кесарь.
— За действо — действо; за Борькино Шереметево действо — Карлово действо… Это мне за Ливонию медаль, — говорил царь, все ещё рассматривая монеты, — заслуженная медаль.
В это время Павлуша Ягужинский, исполнив одно личное поручение царя, вошёл в комнату, где находился Пётр с Ромодановским.
— Справил дело, Павел? — спросил царь.
— Справил, государь.
Ягужинский держал что-то зажатое в кулаке. Увидав на столе подмётные медали, он с изумлением воскликнул:
— И у меня, государь, такая ж… Вот, — и он положил медаль на стол.
— Где взял? — спросил царь.
— Нашёл, государь.
— Где?
— Под Фроловскими воротами.
— Давно поднял? — подступил к нему Ромодановский.
— Вот сейчас, когда возвращался в Кремль.
Князь-кесарь побагровел от гнева.
— Так воры здесь, — почти крикнул он, — всё время были на Москве… Я боле недели их ищу… Того ради долго и не докладывал тебе, государь, про сию издёвку.
Царь посмотрел на Ягужинского.
— Ты разглядел все тут? — спросил он, взяв одну медаль.
— Разглядел, государь, — смущённо отвечал молоденький денщик.
— И уразумел силу сего измышления?
— Уразумел, государь, — с вспыхнувшими щеками отвечал юноша. — Сила, значит, не берет, так хоть комаром в ухо льву жужжат.
Царь встал и подошёл к висевшей на стене большой карте Швеции и Балтийских побережий.
— Изрядно, изрядно, Борька, хвалю, — проговорил он, проводя рукой от устья Невы до Рогервика, видимо, возбуждённый донесением Шереметева, — это теперь наше, Пётр «погреет ещё руки» на ливонском костре, а токмо про кого потом скажут: «И исшед вон, плакася горько»?
2
Перенесёмся же теперь на Балтийское побережье и познакомимся с молоденькой девушкой, которой суждено было вязать своё скромное имя с грядущими судьбами России. Под разорённым Везенбергом, который усердием «Борьки» Шереметева недавно был обращён в развалины, лагерем расположился, после взятия Мариенбурга, полк русского корпуса под командою полковника Балка.
Август 1702 года. Время стоит, сверх чаяния, жаркое. Полковые портомои, или прачки, между которыми были и ливонские женщины, выстирав офицерское и солдатское бельё, развешивают его на протянутых между кольями верёвках для просушки. Одна из прачек, молодая бабёнка с подоткнутым подолом и засученными рукавами, визгливым голосом тянет монотонную песню:
Ох-и-мой сердечный друг меня не любит, Он поить-кормить меня, младешеньку, не хочет…— Да и кому охота любить-та сороку бесхвостую, — ядовито подмигнул другим портомоям проходивший мимо солдатик.
— Ах ты, охальник! Шадровитая твоя рожа! — огрызнулась певунья.
Солдатик был сильно рябой, шадровитый. Однако его ядовитое замечание лишило бабу охоты тянуть свою песню.
— Как же ты, Марта, говоришь про себя, я и в толк не возьму? — обратилась она к развешивавшей рядом с нею бельё другой портомое, миловидной девушке лет семнадцати, с нежным румянцем на пухленьких щёчках. — Ты и не девка и не молодуха, и замужня-то ты и не замужня.
— Да так, как я сказала, — улыбнулась девушка, — ни жена, ни девка.
В произношении её был заметён нерусский акцент.
— Вот заганула загадку! — развела баба руками. — Хоть убей меня, не разганю… Да ты, може, тово, без венца?
— Нет, милая, я венчана в церкви, в кирке, по-нашему.
— Стало быть, ты мужня жена.
— Нет, милая, дело было так, — серьёзно молвила та, которую баба назвала Мартой, — был у меня жених, из наших же, и был он ратный, капрал. Когда настал день нашей свадьбы, мы поехали в церковь, как водится, и пастор обвенчал нас, по нашему закону. А едва мы вышли из кирки, как тут же, около кирки, выстроилась рота моего жениха.
— Мужа! — поправила её баба. — Коли под венцом с тобой стоял, так уж, стало быть, муж.
— Добро… В те поры, как нас венчали, ваши ратные люди осадили наш город, громили из пушек… Наши спешили отбивать ваших, и мой муж прямо из кирки попал в свою роту, и в ту же ночь его убило ядром.
— Ах, матиньки! И ноченьки с ним не проспала, сердешная! — всплеснула баба руками. — Уж и подлинно ни жена, ни вдова, ни девка.
— Вдовая девка, милая, вот кто я, — вздохнула Марта.
— Ну, у нас, Бог даст, выйдешь замуж за хорошего человека: вишь какая ты смазливая, — успокаивала её баба, — Да у меня есть на примете женишок про тебя: мой кум, полковой коновал.
— А что это такое, коновал? — спросила Марта.
— Лошадиный рудомет, руду[157] лошадям пущает и холостит, — объяснила портомоя.
Но Марта всё-таки ничего не поняла.
В это время в лагерь полковника Балка вступил небольшой отряд преображенцев, прибывших из Вольмара.
Проходя мимо прачек, некоторые из преображенцев заговаривали и заигрывали с бабами. Портомои отшучивались.
— Эх, сколько тут баб и девок, вот лафа! — заметил весёлый Турин, запевала преображенцев. — Есть из кого выбирать невест. Тут мы и Тереньку женим.
Эти слова относились к тому богатырю Лобарю, который своей чугунной башкой опрокинул под Нарвой силача Гинтерсфельда вместе с конём на глазах у короля. Лобарю удалось на пути бежать из полона.
— Э! Да вот и Теренькина невеста, — указал Турин на Марту, — писаная красавица! Кабы я не был женат, сам бы женился на ней.
Марта, кончив развешивать бельё, молча удалилась с двумя полонянками, взятыми вместе с ней в Мариенбурге.
Никто, конечно, не знал, какая судьба ожидает эту девушку, с которой так смело разговаривали и заигрывали солдаты. Не знала и сама она, что по мановению её руки, теперь стирающей бельё, целые полки с их генералами пойдут на смерть во славу бывшей портомои. Да, удивительна судьба этой девушки, поистине нечто сказочное, поразительное и почти невероятное…
Произошло это совершенно случайно, как и многое очень важное совершается случайно не только в жизни отдельных людей, но и в жизни целых государств.
Царь, желая проверить донесения своих полководцев. Шереметева и Апраксина, об успехах русского оружия в Ливонии и Ингрии, отправил туда Меншикова, которому он доверял больше всех своих приближённых, и практический ум которого давно оценил. По пути из Ингрии в Ливонию Меншиков не мог миновать Везенберга. Там он на некоторое время остановился у полковника Балка. Балк предложил обед Александру Даниловичу Оказалось, то за обедом прислуживала Марта, которую старый Балк взял к себе за её скромность, немецкую чистоплотность и то, что она умела хорошо готовить, научившись этому в семействе пастора Глюка.
Меншиков внимательно вглядывался в девушку, когда она подавала на стол и ловко, умело прислуживала.
— Те-те-те! — покачал он головою, когда Марта вышла. — Ну, господин полковник, вон он как! Ай-ай!
— Что так, Александр Данилыч? — изумился старик.
— Скажу, непременно скажу твоей полковнице, как только ворочусь на Москву.
— Да о чём скажешь-то?
— Ах, старый греховодник! Он же и притворяется.
— Не пойму я тебя, Александр Данилыч, — пожимал плечами Балк, — в толк не возьму твоих слов.
— То-то, — смеялся Меншиков, — завёл себе такую девчонку, да как сыр в масле и катается.
— А, это ты про Марту?
— А её Мартой звать?
— Мартой. Она полонянка из Ливонии, полонена при взятии Борисом Петровичем Шереметевым Мариенбурга и отдана мне.
— При чём же она у тебя?
— Она состоит в портомоях, а у меня за кухарку: и чистоплотна, и скромна, и варит и жарит, как сам изволишь видеть, зело вкусно.
— И точно: рябчика так зажарила, что и на царской поварне так не сумеют. Она, кажись, и по-русски говорит.
— Зело изрядно для немки.
— Где ж она научилась этому?
— У одного пастора там али у пасторши в Мариенбурге.
— Скажу, скажу твоей полковнице, — смеялся Меншиков, запивая рябчика хорошим красным вином, добытым в погребах Мариенбурга, — вишь, Соломон какой: добыл себе царицу Савскую[158] да и в ус не дует.
В это время Марта внесла сладкое и стала убирать тарелки.
— Погоди, малая, не уходи, — ласково сказал ей Меншиков, — мне бы хотелось порасспросить тебя кое о чём.
3
Меншиков залюбовался глядевшими на него детски-наивными прелестными глазами и ясным полненьким личиком.
— Мне сказали, что тебя зовут Мартой, — сказал Меншиков.
Девушка молчала, переводя вопрошающий взор с Меншикова на Балка.
— Откуда ты родом, милая Марта? — спросил первый.
— Из Вышкиозера, господин, из Ливонии, — тихо сказала девушка, и на длинных её ресницах задрожали слезы.
Мысль её мгновенно перенеслась в родное местечко, к картинам и воспоминаниям недалёкого, но ей казалось, далёкого детства… И вот она здесь, среди чужих, в неволе, полонянка…
— Кто твой отец, милая? — ещё ласковее спросил царский любимец.
— Самуил Скавронский, — был ответ.
— Ливонец родом?
— Ливонец, господин.
— Сколько тебе лет, милая?
— Восемнадцать весной минуло.
— Ты девушка или замужняя?
Марта молчала, она взглянула на Балка, как бы ища его поддержки.
— Странная судьба сей девицы, — сказал полковник, — она замужняя, а остаётся девкой.
— Как так? — удивился Меншиков.
— Дело в том, — продолжал Балк, — что едва её обвенчал пастор с её суженым, как она тут же, около кирки, стала вдовой: ни жена она, ни девка.
— Да ты что загадками-то меня кормишь? — нетерпеливо перебил полковника царский посланец.
— Какие загадки, сударь!.. Как раз в те поры, что её венчали, мы почали добывать их город. А её жених был ратный человек, и заместо того, чтобы вести молодую жёнку к себе в опочивальню, он попал на городскую стену, где ему нашим ядром и снесло голову… Такова моя сказка, — закончил Балк, — такова её горемычная доля.
Марта плакала, закрывшись передником… Невольница, горькая сирота, на чужой стороне — ныло у неё сердце.
Горькая судьба бедной девушки тронула Меншикова. Он подошёл к ней и нежно положил ей руку на голову.
— Не горюй, бедная девочка, не убивайся,-.ласково говорил он.
От ласковых слов девушка пуще расплакалась.
— Перестань, голубка… Что делать! Не воротить уж, стало, твоего суженого, на то Божья воля. Ты молода, ещё найдёшь свою долю. А у нас тебе хорошо заживётся. И семья твоя, отец и мать, к тебе приедут, будете жить вы v нас в довольствии, я за это ручаюсь. Наш государь милостив, и особливо он добр к иноземцам, жалует их, всем наделяет, и тебя, по моему челобитью, всем пожалует… Не убивайся же, — говорил Александр Данилович, продолжая гладить наклонённую головку девушки.
Марта несколько успокоилась и открыла заплаканное личико.
— О, господин! — прошептала она и поцеловала у Меншикова руку.
Кто мог думать, что у той, которая теперь робко поцеловала руку у царского посланца, высшие сановники государства будут считать за честь и милость поцеловать царственную, самодержавную ручку!..
Портомоя! Солдатская прачка и кухарка!..
А разве мог думать и Меншиков, что та скромная девочка-полонянка, которая теперь робко целует его руку, сама впоследствии вознесёт его на такую государственную высоту, с которой до престола один шаг!..
Судьба предназначала этой бедной девочке быть не только царицей, супругой царя, но и самодержавной императрицей и дать России новых царей… Это ли не непостижимо!
— Будь же благонадёжна, милое дитя, я все для тебя сделаю, что в моих силах, — сказал, наконец, Меншиков.
Потом он обратился к Балку.
— Отселе я поеду дальше, — сказал он, — повидаюсь с Шереметевым и скажу ему, чтобы он распорядился отыскать семью этой девицы.
— И пастора, добрый господин, — робко проговорила Марта.
— Какого пастора, милая? — спросил Меншиков.
— Глюка, господин.
— Это того самого, у коего она проживала и который научил её по-русски, — объяснил Балк. — Марта привязана к нему как к отцу родному. Он человек зело достойный, много учёный, сведущ в языках восточных, изучил языки и русский, и латышский, и славянский, с коего и переводит Священное писание на простой российский язык.
— О, да это клад для нас, — обрадовался Меншиков. — Государь будет рад иметь при своей особе такого нарочито полезного человека.
Марта видимо повеселела.
— О господин! — только и могла она сказать.
— Так вот что, — снова заговорил Меншиков с Балком, — мне недосуг здесь мешкать, мне спешка великая. Я поеду теперь дале, а ты оставь, до времени, сию девицу при себе, и уж не наряжай её порты стирать.
— И то не пошлю, — сказал Балк, — у меня работных людей и баб и без неё довольно. Марта же и швея изрядная.
— Добро. Так я на возвратном пути заеду сюда, — сказал Меншиков, — и возьму девицу с собой на Москву Поедешь со мной, Марта?
— Воля ваша, господин, — отвечала девушка.
— Я не то говорю, милая, — перебил её Меншиков. — А своею ли волею поедешь на Москву, на глаза к великому государю?
Последние слова, казалось, испугали девушку
— Я простая девушка., я не достойна быть на глазах великого государя, — смущённо проговорила она.
— Твоя скромность похвальна, милая, а мне ближе знать, чего достойна ты, — успокаивал её Меншиков.
Марта снова поцеловала его руку.
Меншиков отпустил её. Судьба девушки была решена.
— Да! Запамятовал было, — спохватился Меншиков, вынимая из кармана своего камзола бумагу — Ведомо мне, что в прибывшей сюда первой роте Преображенского полка состоит некий ратный, именем Терентий Лобарь.
— Есть таковой, — отвечал Балк, — я его лично знаю.
— Так прикажи выстроиться неподалёку этой роте, и мы выйдем к ней.
Балк распорядился, и они с Меншиковым вышли. Рота стояла под ружьём.
Поздоровавшись с нею, Меншиков громко сказал:
— Великий государь изволил приказать мне: первой роте Преображенского полка за молодецкую стойку под Нарвой объявить царское спасибо!
— Ура великому государю! — загремели преображенцы.
— А который из вас Терентий Лобарь? — спросил Меншиков. — Выступи вперёд!
Товарищи выдвинули вперёд богатыря.
— Ты, Лобарь, под Нарвой, на глазах шведского короля, сбил вместе с конём его ординарца, великана Гинтерсфельда?-спросил Меншиков.
— Я малость толкнул его, — смущённо отвечал богатырь.
— 3а сие великий государь тебя милостиво похваляет и жалует чином капрала, — провозгласил Меншиков. Богатырь только хлопал глазами.
— Говори, дурак: «Рад стараться пролить кровь свою за великого государя», — шептали ему товарищи, — говори же, остолоп!
— Рад стараться пролить за великого государя…— пробормотал атлет-младенец и остановился. — Что пролить? — улыбнулся Меншиков.
— Все! — был ответ, покрытый общим хохотом.
4
Не один Север и дельта Невы поглощали внимание Державного плотника. Упорная борьба велась со всем обветшалым, косным строем внутренней жизни государства. Многое давно отжившее приходилось хоронить, и хоронить при глухом ропоте подданных старого закала, но ещё больше — создавать, создавать неустанно, не покладая рук.
От Севера, от невской дельты, взоры устремились на далёкий юг, на поэтическую, заманчивую Малороссию, на беспокойный Крым и на все могучее наследие Магомета, волосяные бунчуки которого и зелёное знамя пугали ещё всю Европу.
А сколько борьбы с этим повальным взяточничеством, с насилиями, с открытыми грабежами населения!
Вот в кабинет к царю входит старый граф Головин Федор Алексеевич, первый андреевский кавалер в обновлённой России, он же ближний боярин, посольской канцелярии начальный президент и наместник сибирский.
— Что, граф Федор Алексеевич, от Мазепы докука? — спрашивает царь входящего с бумагами старика.
— От Мазепы, государь.
— Что, опять запорожцы шалят, ограбили кого, задирают татар и поляков?
— Нет, государь, гетман жалуется на твоих государевых ратных людей.
— Все это старая закваска, перегной старины, которая аки квашня бродит! — с досадой говорит Пётр. — Садись, Федор Алексеевич. Выкладывай все, что у тебя накопилось.
— Да вот, государь, гетман Иван Степанович доносит Малороссийских дел приказу, что твой государев полуполковник Левашов, идучи с твоими государевыми ратными людьми близ Кишенки, через посланца своего приказывал оным кишенцам дабы его встретили с хлебом-солью и с дары аки победителя, и за то обещал никакого дурна жителям не чинить.
— Каков гусь! — заметил государь.
— Кишенцы и повиновались незаконному приказу, — продолжал Головин, — вышли к Левашову с хлебом-солью, вывезли навстречь твоим государевым ратным людям целый обоз с хлебом, со всякою живностью, курами, гусями, да со всякими напитками, да ещё в особую почесть поднесли твоему государеву полуполковнику пятнадцать талеров деньгами.
— А! Каков слуга России! — вспылил государь. — Я его, злодея!.. Ну? А он?
— А он, государь, не токмо обещания не исполнил, а, напротив, ввёл ратных людей в Кишенку, где оные всевозможные дурна чинили, жителей объедали, подворки и овины их наглостно сожгли, огороды разорили. Мало того, государь, давши кишенцам руку, что впредь никакого дурна им чинить не будет, однако, дойдя до Переволочны, послал к кишенцам забрать у них плуги и волов, кои кишенцы и должны были выкупать за чистые денежки. И когда один кишенец сказал полуполковнику, что великий государь так чинить не велит, то Левашов мало не проколол его копьём и кричал: «Полно вам хохлы свои вверх подымать! Уж вы у нас в мешке».
— Да это почище татарских баскаков, — гневно заметил государь. — Все это я выбью из них… Погодите!
Царь встал и начал ходить по кабинету, бросая иногда взгляд на стенную карту Швеции и на дельту Невы.
— О чём ещё Мазепа доносит? — спросил он, несколько успокоясь и опять садясь к столу.
— Гетман доносит ещё, государь, что Скотин шёл с твоими государевыми ратными людьми чрез порубежные днепровские города и его ратные люди неведомо за что черкас и по городам, и в поле наглостно били, на них с ножами бросались, иных, словно татары, в неволю брали, «в вязеню держали», как пишет гетман, а когда начальные казацкие люди пришли к Скотину с поклоном, то он велел бить барабаны, дабы слов не было слышно, а опосля того велел гнать их бердышами.
Царь глянул на сидевшего в стороне Ягужинского, по-видимому, внимательно вслушивавшегося в доклад.
— Павел! Ты слушаешь? — спросил Пётр.
— Слушаю, государь, — отвечал молодой денщик царя.
— Во все вникаешь?
— Вникаю, государь.
— Добро, — и, обратясь к Головину, царь сказал: — Изготовь, Федор Алексеевич, указ к гетману и о строжайшем дознании по сим его донесениям. С сим указом я отправлю к Мазепе, кого бы понадёжнее?
— Если изволит государь, то я бы указал на стольника Протасьева, — отвечал Головин после небольшого размышления. — Быть по-твоему, — согласился царь, — Протасьева так Протасьева. Но в помощь ему я дам мои глаза и мои уши, пошлю их к Мазепе.
Докладчик смотрел недоумевающе, ожидая объяснения непонятных слов государя.
— Я пошлю Павла, — указал царь на Ягужинского. — Это мои глаза и мои уши. Что Павел видит, то увижу и я, что услышит Павел, то и я услышу правда мимо меня не пролетит.
У Ягужинского и боязнью, и радостью дрогнуло сердце: он, восемнадцатилетний юноша, уже любил… Он опять увидит Малороссию, которая казалась ему земным раем… Эти вербы, любовно склоняющиеся над прозрачными, тихими ставками[159], эти стройные тополя, беленькие хатки, утопающие в зелени вишнёвых садочков… Он услышит эти песни, мелодии которых, и плачущие и щемящие, доселе звучат в его душе… Он увидит её, ту, образ которой запечатлелся навеки в его сердце и не отходит от него, как видение. Он увидит Мотрю, Мотреньку, эту прелестную девочку, дочь генерального судьи и стольника Кочубея. После того, как Павлуша видел её в Диканьке, в саду, и разговаривал с нею, и разговор этот был прерван приходом Мазепы, личико Мотреньки, её черненькая головка, украшенная цветами, и вся она, как только что распустившийся цветочек, заполонила его душу .. Теперь она ещё выросла. Теперь ей, вероятно, уже пятнадцатый год.
— Слышишь, Павел? — прервал его мечты голос царя.
— Слушаю, государь, — трепетно ответил Павлуша.
— Ты, кажется, боишься?
— Нет, государь, для тебя я и смерти не боюсь! — с юношеским жаром отвечал любимец Петра. «И для неё готов всякие муки претерпеть», — восторженно думал юноша.
5
Ягужинский с Протасьевым в Малороссии…
Мазепу они не застали в его столице, в Батурине.
Гетман находился в это время в Диканьке у своего генерального судьи, Кочубея, куда старый гетман частенько стал заглядывать в последнее время. И его, вождя Малороссии, опытного дипломата, ловкого интригана, отлично отполированного при дворе королей польских, его, на плечах которого лежали тяжёлые государственные заботы, его, как и юного Павлушу Ягужинского, влекло одно и то же ясное солнышко — прелестная Мотренька Кочубеева… «Любви все возрасты покорны» — повторялось и повторяется из века в век… и старый Мазепа любил! Из-за этой любви, быть может, пошёл на то страшное дело, которое погубило его (и поделом)! Мазепе хотелось великокняжескою короною украсить Мотренькину черненькую головку, головку будущей своей супруги, от которой должен был пойти царственный род… Он мечтал об этом, строя ковы[160] против Великороссии тайно от страны и народа, вождём которых он был избран…
Когда Протасьев и Ягужинский прибыли в Диканьку, Мазепа и Кочубей встретили царских посланцев с величайшими почестями. Гетман, приняв от Протасьева царский указ, почтительно поцеловал его и поклонился до земли.
Прочитав указ, Мазепа тотчас же отправил гонцами нескольких козаков, чтоб доставить в Диканьку Левашова и Скотина, а также нужных свидетелей из Кишенки и порубежных городов, где Левашов и Скотин чинили насилия, бесчинства и грабежи.
В то же время хозяйка, жена Кочубея, уже хлопотала, чтобы достойно угостить дорогих гостей.
Пир вышел на славу За обедом присутствовала и красавица Мотренька, одетая в живописный малороссийский наряд с «добрыми кораллами и золотыми дукачами» на смугленькой шейке. Пили за здоровье царя и его посланцев, а Протасьев провозгласил здравицы за ясновельможного пана гетмана, за хлебосольного хозяина и за его супругу с дочкою.
Мотренька узнала Ягужинского, который за обедом взглядывал на неё украдкой, и этот взгляд всегда перехватывал лукавый гетман и дёргал себя за седой ус.
Чтобы чем-нибудь развлечь гостей после обеда, находчивая хозяйка обратилась к традиционному в Малороссии развлечению. Как в Испании гитара и бой быков составляют национальное развлечение, так в Малороссии — бандура и кобзарь.
Пани Кочубеева велела позвать кобзаря.
Зашёл разговор о Москве и о государе.
— Бог посылает, слышно, победу за победой его пресветлому царскому величеству, — сказал Мазепа.
— Благодарите Бога, ратные государевы люди уже отвоевали у короля шведского, почитай, всю Ливонию и Ингрию, — отвечал Протасьев.
— То ему за Нарву, — улыбнулся Кочубей, — теперь он злость свою срывает на Августе, — гоня як зайца по пороше.
— A что это учинилось у вас на Москве, что великий государь подверг великой опале тамбовского епископа Игнатия? — спросил Мазепа.
— То, ясновельможный пан гетман, такое дело, что о нём и помыслить страшно, — уклонился от ответа ловкий стольник. В приёмный покой ввели кобзаря. Это был слепой благообразный старик и с ним хорошенький черноглазый мальчик «поводатырь» и «михоноша»[161].
«Хлопья голе и босе», — как говорили о нём сердобольные покиювки[162], увидевшие его на панском дворе.
Кобзарь поклонился и обвёл слепыми глазами присутствующих, точно он их видел.
— Якои ж вам, ясновельможне паньство, заиграть: чи про «Самийлу Кишку», та то дуже велыка, чи про «Олексия Поповича», чи-то про «Марусю Богуславку», чи, може, «Невольныцки плач» або «Про трех братив», що утикали з Азова с тяжкой неволи? — спросил слепец.
— Та краще, мабуть, диду, «Про трех братив», — сказал Мазепа.
— Так, так, старче, «Про трех братив», — подтвердил Кочубей, — бо теперь вже у Азови нема и николы не буде мисця для невольныкыв.
— Ото ж и я думаю, куме, — согласился Мазепа.
Кобзарь молча начал настраивать бандуру. Струны робко, жалостно заговорили, подготовляя слух к чему-то глубоко печальному… Яснее и яснее звуки, уже слышится скорбь и заглушённый плач…
Вдруг слепец поднял незрячие глаза к небу и тихо-тихо запел дрожащим старческим голосом, нежно перебирая говорливые струны:
Ой то не пили то пилили, Не туманы уставали — Як из земли турецькой,- Из виры бусурьменьской, 3 города Азова, з тяжкой неволи Три братики втикали. Ой два кинни, третий пиший-пишениця. Як би той чужий-чужениця, За кинними братами бижить вин, пидбигае, Об сири кориння, об били каминня Нижки свои козацьки посикае, кровью слили заливае, Коней за стремени бере, хапае, словами промовляе…— Гей-ей-гей-ей, — тихо, тихо вздыхает слепец, и струны бандуры тихо рыдают.
Но вдруг тихий плач переходит в какой-то» отчаянный вопль, и голос слепца все крепнет и крепнет в этом вопле:
Станьте вы, братця! Коней попасите, мене обиждите, 3 собою возьмите, до городив христяньских хочь мало пидвезити.Опять перерыв — и только треньканье говорливых струн.
Все ждут, что будет дальше. Чуется немая пока драма. Мазепа сидит насупившись. Пани Кочубеева горестно подпёрла щеку рукою. Личико Мотреньки побледнело. У Ягужинского губы дрожат от сдерживаемого волнения. Один стольник бесстрастен.
Как будто издали доносятся слова чужого голоса.
И ти брати тее зачували, словами промовляли: «Ой, братику наш менший; милый, як голубоньку сивий! Ой та ми сами не втечемо и тебе не визьмемо — Бо из города Азова буде погонь вставати, Тебе, пишого, на тернах та в байраках минати, А нас, кинних, догоняти, стреляти-рубати, Або живцем в гиршу неволю завертати».— Ой, мамо, мамо! Воны его покынулы! — громко зарыдала Мотренька и бросилась матери на шею.
6
И пани Кочубеева, и отец, и Мазепа стали успокаивать рыдавшую Мотреньку.
— Доненько моя! Та се ж воно так тильки у думи спивается, — утешала пани Кочубеева свою дочку, гладя её головку, — може, сего николы не було.
— Тай не було ж, доню, моя люба хрещеныця, — утешал и гетман свою плачущую крестницу — Не плачь, доню, вытри хусточкою очыци.
— От дурне дивча! — любовно качал головою Кочубеи. — Ото дурна дытына моя коханая!
Мотренька несколько успокоилась и только всхлипывала. Ягужинский сидел бледный и нервно сжимал тонкие пальцы. Стольник благосклонно улыбался.
— Може, мени вже годи панночку лякаты? —проговорил кобзарь. — То я с вашои ласкы, ясновельможне паньство, и пиду геть?
— Ни-ни! — остановила его пани Кочубеева. — Нехай Мотря прывыка, вона козацького роду. За козака и замиж виддамо… Вона вже й рушныки прыдбала.
Мазепа сурово сдвинул брови, увидав, что при слове «рушныки» Мотренька улыбнулась и покраснела.
— Ну, сидай коли мене та слухай, — сказала пани Кочубеева, поправляя на её только что сформировавшейся груди кораллы и дукачи. — А ты, диду, спивай дали.
— Ге-эй-гей-гей! — опять вздохнула старческая грудь, опять зарокотали струны, и полились суровые, укоряющие слова:
И тее промовляли, Одтиль побигали. А менший брат, пиший-пихотинець, За кинними братами вганяе, Словами промовляе, сльозами обливае: «Братики мои ридненьки, голубоньки сивеньки! Колы ж мене, братця, не хочете з собою брати,- Мени з плич голивоньку здиймайте, Тило моё порубайте, у чистим поли поховайте, Звиру та птици на поталу не дайте».— Видный! — тихо вздохнула Мотренька. — Ото браты!
Эта наивность и доброта девушки так глубоко трогали Павлушу Ягужинского, что он готов был броситься перед нею на колени и целовать край её спиднычки[163].
— У тебе не такый був брат, — улыбнулась дочери пани Кочубеева, — та не дав Бог.
Снова настала тишина, и слышен был только перебор струн, а за ним суровое слово порицания братьям бессердечным:
И ти браты тее зачували, Словами промовляли: «Братику милий, Голубоньку сивий! Шо ты кажешь! Мов наше серце ножем пробиваешь! Що наши мечи на тебе не здиймутся, На дванадцять частей розлетятся…»— Ох, мамо! — схватила Мотренька мать за руку. — То ж з ным буде! — жалобно шептала она, на глазах её показались опять слезы.
Ягужинский видит это, и его сердце разрывается жалостью и любовью.
7
Полная глубокого драматизма дума козацкая начала волновать душу даже холодного на вид гостя московского.
«Чем-то кончится все сие? — спрашивает себя мысленно Протасьев. — Какая духовная сила и лепота у сих хохлов, коль у самого подлого, нищего слепца слагается в душе такая дивная повесть?»
И он уже с глубоким интересом вслушивался в дальнейшие детали развёртывавшейся перед ним драмы, об одном сожалея, что нет здесь великого государя, чтоб и он прослушал козацкую думу, которая говорила устами слепца.
То брат середулыдий милосердие мае, Из своего жупана червону та жовту китайку видирае, По шляху стеле — покладае, Меншому брату примету зоставляе, Старшому брату словами промовляе: «Брате мий старший, ридненький! Прошу я тебе: Тут травы зелени, воды здорови, очереты удобни — Станьмо кони попасимо. Свого пишого брата хочь трохи пидождимо, На коней возьмимо, В городы християнськи хочь мало надвезимо, Нехай же наш найменший брат будет знати. У землю християнську до отца дохождати…»— О, хороший, хороший! — сами собой шепчут губы Мотреньки.
А кобзарь тянул:
То старший брат до середульшого брата словами промовляе: «Чи ще ж тоби каторга турецка не увирилася. Сириця у руки не вьидалася! Як будемо своего брата пишого наджидати. То буде з Азова велыка погоня вставати, Буде нас всех рубати, Або в гиршу неволю живцем завертати».— Правдиво рассудыв старший брат, пане стольнику? — спросил Протасьева Мазепа.
— Нет, пан гетман! — отрезал стольник. — За такой рассуд великий государь велел бы старшего брата бить батоги нещадно, дабы другим так чинить было неповадно.
Мотренька благодарными, растроганными глазами взглянула на Протасьева…
То як став пишеходец из тернив выходыти, Став червону китайку находыти: У руки хватае, дрибними сльозами обливае. «Це дурно, — промовляе, — червона китайка по шляху валяе. Мабуть, моих братив на свити немае!.. Мабуть, з города Азова погоня вставала, Мене в тернах мынала, Братив моих догоняла, стриляла, рубала! Колы б я мог знаты, Чи моих братив постреляно, Чи их порубано, Чи их живых у руки забрано,- Ей, то пишов бы я по тернах, по байраках блукаты Тила козацького-молодецького шукаты, Та тило козацьке-молодецьке у чистым поли поховаты, Звиру-птыци на поталу не подати»— Вишь, пан гетман, он великодушнее своих бессердечных братьев, — заметил Протасьев.
То вин на шлях Муравськый выбигае И тильки своих братив трошки ридных слиды зобачае Та побило ж меншого брата в поли Три недоли: Що одна — безводде, друга — бесхлибье, Третя — буйный витер в поли повивае. Видного козака з ниг валяе…— Ох, мамо, мамо! — не осилила своего сердца Мотренька.
А кобзарь разошёлся, ничему не внемлет:
Вовки-сироманци, орлы-чернокрыльци, Гости мои мили! Хоть мало-немного обиждите, Покиль козацька душа з тилом разлучыться, Тоди будете мени з лоба чорни очи высмыкаты, Биле тило коло жовтои кости оббыраты, Но — пид зеленими яворами ховаты И камышамы вкрываты»…Продолжение думы было внезапно прервано приходом дежурного «возного», который доложил Мазепе и Кочубею, что от короля польского к пану гетману прибыл посол.
…Кобзарь, щедро всеми награждённый, встал.
8
На другой день рано утром, когда Мазепа, Кочубей и Протасьев ещё не вставали, Ягужинский, которого царь приучил вставать с петухами, вышел в диканьский сад, уже знакомый ему с прошлого года. Тогда Кочубей приезжал в Воронеж к Петру по делам Малороссии, откуда до Диканьки провожал его Ягужинский, чтоб вручить Мазепе пожалованную ему царём саблю.
Хотя был уже август на исходе, но в Диканьке, как во всей Малороссии, этого не чувствовалось. Утро было тёплое, тихое.
Павлуша, идя по роскошному саду, вспомнил прошлогоднее в нём гулянье: был апрель и сад стоял весь в цветах, точно осыпанный розоватым снегом. Теперь все ветви плодовых деревьев были отягощены яблоками, грушами, сливами. Вспомнил Павлуша и прошлогоднюю встречу свою в этом саду с Мотренькой.
Странная была встреча, но от воспоминания о ней весна расцветала в душе Павлуши. Он тогда, как и теперь, вышел в сад и был поражён красотою всего, что представилось его взору после бесцветной и холодной Москвы. Роскошь цветения сада, весеннее пение птиц, жужжание пчёл и других насекомых, мелькавшие разноцветные бабочки — все это так подействовало на него, что он чувствовал себя oбъятым каким-то волшебством. Вспомнил он своё детство где-то в Польше, плачущую скрипку отца-музыканта, и ему сделалось так сладко и горько, что он упал на траву и заплакать, как ребёнок… В это время кто-то тихонько прикоснулся рукою к его плечу… Он поднял глаза и словно замер перед чудным видением: не то русалка, не то реальная девочка, вся в цветах, в ореоле лучезарной красоты… Она спросила его, о чём он плачет, сказала, что видела его у «татки»… Это была дочь Кочубея… Они разговорились… Ему так хорошо было слушать её чарующий голосок, смотреть в ясные невинные детские очи… И вдруг показался Мазепа, и все расхолодил своею насмешливою улыбкой, своим голосом…
И вот вчера он опять увидел её… Она выросла, расцвела… И она помнила его…
Как она вчера расплакалась от пения думы… И ему хотелось заплакать с нею…
Вспоминая теперь все это, он забрёл в отдалённый уголок сада и присел на скамейку под горевшими на солнце багрянцем кистями калины. Он долго просидел так, думая о том, что, вероятно, ему скоро придётся ехать с государем или к Белому морю, или к Неве, где воевал Апраксин, и за этими мыслями не слыхал, как кто-то лёгкими шагами подошёл к нему.
— А я вас шукала, — услышал он мелодичный голосок.
Перед ним опять стояло видение… Но он узнал его — это была Мотренька.
Он растерялся и не сразу пришёл в себя.
— Я вас шукала, — повторила девушка, — а вы он де сховалысь.
Ягужинский покраснел, не зная, что отвечать.
— Я гулял, — пробормотал он. Робость и скромность Павлуши сразу расположили к нему Мотреньку.
— Я, може, вас налякала? — спросила она.
— Налякала? Что это такое? Я такового слова не знаю, — отвечал нерешительно Павлуша, любуясь девушкой. Мотренька рассмеялась.
— О, я й забула, що вы москаль и вы нашой мовы не розумиете, — сказала она. — Так вы ж и учора не розумилы, про що спивав кобзарь.
— Нет, Мотрона Васильевна, вчера я все уразумел, хоть иных слов и не понимал, одначе догадывался, — несколько смелее заговорил Ягужинский. — А жаль, что приезд посла помешал дослушать, чем былина кончилась.
—А я знаю кинець, — похвалилась Мотренька, — такый сумный, такый сумный, що плакать, так и рвётся серце.
— Да вы и вчера плакали, — сказал Ягужинский.
Мотренька покраснела.
— О, учора я дурна була, мов мала дытына, привселюдно заголосыла, — оправдывалась она, — сором такий велыкий дивчыни плакаты при людях.
— Так вы знаете конец былины, Мотрона Васильевна?
— Не «былина», «былина» у поли росте або у садочку, а то «дума», — поправила «москаля» Мотренька.
— «Дума»… У нас «дума» токмо царская, где сидят бояре да думные дьяки, — серьёзно говорил Ягужинский.
— От чудни москали! У «думах», бачь, у их сыдят, а в нас их спивают.
Ягужинский улыбался, очарованный детской наивностью девушки и её чарующей красотой.
— Так какой же конец думы, Мотрона Васильевна? — спросил он, желая только, чтоб она дольше щебетала как птичка.
— Добро, я вам расскажу… Учора, як розигнав нас тот посол, мы з мамою закликалы кобзаря до себе, у наш покий, и вин доспивав нам усю думу… Маты Божа! Яка жалибна, — торопливо говорила Мотренька, — Ото як менший брат, пиший, ублакав вовкив-сироманцив та орлив-чернокрыльцив, щоб воны его живцем не ззилы[164], то и став вин, бидный, помирать, бо девьять днив в его, а ни крапли водицы, а ни крыхтоньки хлиба у роти не було… А як вин вмер, тоди, о, матинько моя!… тоди вовки-сироманци нахождалы, биле тило козацькое жваковалы, и орлы-чернокрыльци налиталы, у головax сидалы, на чорни кучери наступалы, из-пид лба очи высмыкалы, тоди ще й дрибна птиця налитала, коло жовтои кости тило оббирала, ще й зозули[165] налиталы, у головах сидалы, як ридни сестры куковали, ще и удруге вовки-сироманци нахождалы, жовту кость по балках, по тернах розношалы, попид зелёных яворем ховалы, и камышами вкрывалы, жалобненько квылыли-проквылялы: то ж вон козацький похорон одправлялы…
У Мотреньки вдруг дрогнули губы, и она горько-горько заплакала.
Ягужинский растерялся.
— Мотрона Васильевна! Девонька милая! Что я Наделал! — бормотал он.
А Мотренька ещё пуще, совсем по-детски, расплакалась закрывшись руками.
— Господи! Что я наделал! Что я наделал! — метался Павлуша.
Он совершенно бессознательно схватил руки девушки, чтоб отнять их от лица. И это, к. счастью, подействовало! Мотренька топнула ножкой, глотая слезы.
— О, яка ж я дурна! — силилась она улыбнуться. — И вас налякала… От дурна!
— Слава Богу, слава Богу! — радостно говорил Ягужинский. — А я так испужался.
— Ни, ничого, ничого, се я так, дурныцею… Якый сором!
Хочь у Сирка очи позычай, — храбрилась Мотренька. — Теперь я й кинец думы докажу…
— Не надо, не надо, Мотрона Васильевна! А то опять… не надо!
— Та не бийтесь… Там вже не так жалибно… Я вам коротенько скажу, — настаивала Мотренька. — Бог покарав старших братив за меншого: як воны почувалы выще рички Самаркы, то турки-янычары на их напалы, пострилялы й порубалы… От и все.
— Тэ-тэ-тэ-тэ! — вдруг они услышали за собою насмешливый голос.
Глядь, Мазепа!
«А! Старый черт! — выругался в душе Ягужинский. — Как и тогда его — нелёгкая принесла!»
— От так дивча! Вже й пидцепыла москалыка… Им, бачь, оцым дивчатам хоть з гиркою осыкою женихаться, — говорил гетман ревнивым голосом.
— Та я им, тату хрещеный, кинець думы «Про трех братив» проказала, — оправдывалась Мотренька, надув губки. — А вы казнащо…
— То-то за-для кинця думы ты их мылость, пана денщика его царського пресвитлого велычества, у яки нетри завела, — шутил старый женолюбец. — Ты их мылость вид царськои службы одрываешь… Простить, пане, дерненьку кизочку, — любезно поклонился он Ягужинскому, который стоял красный как варёный рак…
9
Следствие, произведённое стольником Протасьевым над полуполковниками Левашовым и Скотиным в присутствии гетмана, подтвердило все взведённые на них Мазепою обвинения, и по указу царя они были достойно наказаны.
По возвращении из Малороссии Ягужинский заметил какую-то перемену в государе. Он иногда подмечал в царе минутную задумчивость, иногда неопределённую улыбку, и тогда глаза Петра смотрели как-то теплее. Ещё Павлуша заметил, что царь реже отлучался теперь в Немецкую слободу, к Анне Монс, зато чаще и охотнее стал навещать Меншикова.
А от зорких глаз Павлуши редко что могло укрыться, да притом — не только глаза, но и сердце Павлуши, по возвращении из Диканьки, стало много догадливее. Он, как бы преображённый чувством к Мотреньке, понял, что и царя Петра Алексеевича преобразило, вероятно, такое же чувство… Но к кому? Надо выследить…
Прежде всего Павлуша выследил, что вместо царя в Немецкую слободку часто стал наведываться красавец Кенигсек, саксонско-польский посланник, только в этом году перешедший на русскую службу… Ради чего из попов да в дьячки?.. Ясно, ради немецкой «плениры»… Итак, ниточка довела Павлушу до клубочка…
А если другая ниточка окажется нитью Ариадны и приведёт его в пасть Минотавра[166]?.. Ох, тут надо быть осмотрительнее с этою другою ниточкой…
Однажды царь послал его по делу к Меншикову. Не застав Александра Даниловича дома, он спросил служащих при нём, куда отлучился их начальник. Но те сами не знали, где он. Ягужинского это смутило, потому что государь терпеть не мог неточного исполнения его приказаний. Пока он стоял в приёмной Александра Даниловича в нерешимости, как поступить ему, из внутренних покоев неожиданно вышла молоденькая, очень красивая девушка и с нерусским акцентом спросила:
— Вы от государя?
— От государя, сударыня, — отвечал смутившийся Павлуша.
—Вы не Ягужинский ли будете? — снова спросила незнакомка.
— Так точно, сударыня, я Павел Ягужинский, денщик его величества.
— О, я об вас, Павел Иванович, много слышала от Александра Даниловича, который говорит, что государь вас очень любит, — улыбаясь, сказала незнакомка.
— Я служу верой и правдой его величеству, — поклонился Павлуша.
— И вас зовут Павлушей, — ещё веселее улыбнулась незнакомка, — ведь вы такой ещё молоденький… Сколько вам лет?
— Восемнадцать, сударыня, — уже с нетерпением отвечал Павлуша.
— И мне столько же, — рассмеялась незнакомка.
Но, заметив, что царский посол обеспокоен и, видимо, торопится узнать, где Меншиков, поспешила сказать:
— Александр Данилович теперь у графа Головина, а от него тотчас сам явится во дворец.
— Благодарю вас, сударыня, — низко поклонился Павлуша.
Он понял: что это не простая особа, а что-то близкое к Меншикову; все знает; но кто она?..
Павлуша ещё раз поклонился, ещё ниже, и вышел озадаченный.
«Меншиков?.. Или?.. — путалось в голове у Павлуши. — Нет, не Меншиков», — решил он.
Перед ним выплыл несколько наглый, хотя красивый облик Анны Монс.
«Нет, эта прекраснее», — снова решил Павлуша.
Так вон оно что!.. Неудивительно!..
«Кто ж она? Откуда? Иноземка, это несомненно… Александр Данилыч недавно ездил к войску в Ингрию и Ливонию… Оттуда, я чаю, он привёз её… Ну, Аннушка, води за нос Кенигсека, да только концы в воду хорони, на дно океана, да с камушком, а то всплывут али рыба проглотит, а рыбу рыбаки, пожалуй, выловят да к столу государеву поднесут», — рассуждал сам с собою Павлуша.
Его что-то как бы толкнуло под сердце и ударило в голову…
«Мотренька… две капли воды… только Мотренька чернявее… Нет, Мотренька краше… для меня…»
Смущённый входил Павлуша во дворец.
«Говорить государю или не сказывать, что я её видел? Надо сказать, коли спросит. Я от государя ничего не таю. как у попа на духу…»
Ему навстречу попался Орлов.
— Александр Данилыч у государя? — спросил Павлуша.
— Нет… Да ты что такой? — вглядывался в него Орлов. — Разве дворские девки опять тебя силком целовали? Я их силком целую, а они тебя… Счастливчик!
Павлуша торопился.
— Куда ты? — остановил его Орлов.
— Пусти, к государю…
— Да он по твоей роже узнает, что тебя дворские девки девства лишили, — не унимался Орлов.
Павлуша хотел было спросить его о том, что занимало его…
«А если и Орлов ничего не знает, а я наведу его на след?»— мелькнуло у него в уме. И врождённая осторожность удержала его от вопроса.
Ещё более смущённый, вступил он в рабочий кабинет государя.
Пётр, задумчиво глядел на околдовавшее его местечко на карте, на дельту Невы.
Увидав Павлушу, государь быстро спросил:
— Что с тобой, Павел?
— Ничего, государь, — ещё более смутившись, отвечал Павлуша.
— Не лги… Я всякий твой взгляд и вздох понимаю, — ласково сказал государь. — Ну, что же?
— Орлов все меня смущает, государь, пристаёт.
— С чем?
— С дворскими, государь, девками.
— Разве и ты уже?..
— О, нет, государь! Орлов говорит, будто меня дворские девки девства лишили.
Государь весело рассмеялся.
— Бедный царский денщик! Что с ним сделали!
— Нет, государь, — бормотал несчастный Павлуша, — они раз как-то меня силком поцеловали, с того и дразнит меня Орлов.
— Так силком-таки добра молодца? — смеялся царь. — А что Меншиков?
— Он у графа Головина, государь, и сейчас прибудет.
— А от кого узнал? — спросил царь.
Ягужинский окончательно растерялся.
— Да что ноне с тобой, Павел? Ты сам не свой… Сказывай, от кого узнал, что Данилыч у Головина.
— Мне девушка сказала.
— Какая девушка?
— Там, у Александра Данилыча, государь. А кто она, не сказала.
Государь улыбнулся.
— А! Девушка… А как она показалась тебе? — спросил он.
—Красавица, государь… Я такой не видывал.. Разве…
—Что разве?
— У Кочубея дочка, государь.
— Краше этой?
— Нет, государь.
— Так приглянулась хохлушечка? — улыбнулся царь.
Ягужинский покраснел и потупился.
— Ну, так женю, женю на хохлушечке, — потрепал государь по щеке своего любимца. — Кочубей же, сказывают богат, как Крез.
В это время вошёл Меншиков.
10
По возвращении Меншикова из Ливонии вместе с Мартою Скавронскою, будущею императрицею Екатериною Алексеевною, государь, убедившись из личного доклада Данилыча, что по всему южному побережью Финского залива и по южному же побережью Невы русское дело поставлено прочно, лично хотел убедиться, что и из Белого моря нельзя ожидать нападения шведов, которые всё время гоняли Августа из конца в конец Польши.
Оказалось, что север России не требует особенных забот. Значит, можно будет подумать теперь и о Неве, и о её дельте, не дававшей спать Державному плотнику.
Но прежде чем топор его застучит у устьев Невы, надо завладеть её истоком из Ладожского озера.
— Там ключ от Невы, — говорил государь Павлуше Ягужинскому, которого он уже начал посвящать в государственные дела. — Добудем ключ и откроем ворота в Неву.
Это говорил царь, отплывая из Соловков в монастырскую деревню Пюхча, чтоб оттуда прямым путём направиться к Повенцу, а оттуда к Ладожскому озеру.
С государем было четыре тысячи войска.
Но как пройти положительно непроходимые, непроницаемые лесные чащи, болота, топи и ужасные дебри?
Он первый берет топор и начинает пролагать себе путь, рубит просеку в вековечных борах. Это была работа титана: как древние мифические титаны воевали с богами, которые олицетворяли всю природу с её таинственными силами, так Державный плотник стал воевать с природою Русского Севера.
— Данилыч, и ты, Павел, берите топоры и за мной! — сказал он и начал валить вековые сосны и берёзы.
И они первые открыли эту работу, а за ними войско и все крестьяне вотчин Соловецкого монастыря.
— Царь-то, царь, каки соснищи валит, страсть! — изумлялись крестьяне.
— По себе дерево рубит, ишь, гремит топорищем на весь бор!
— Силища-то какова, братцы!
— Знамо, царска, не простая.
— В ем одном сидит сила всей матушки-России.
— Илья Муромец, да и только.
— А паренёк-то, паренёк старается!
Это о Павлуше Ягужинском.
Ещё в сороковых годах нынешнего столетия, по свидетельству «Олонецких губернских ведомостей», держалось в народе предание, что так много было рабочих на прокладке вместе с солдатами этого титанического пути через леса, топи и болота, что на каждого человека будто бы досталось положить на протяжении всего пути одну только перекладину.
Конечно, это легенда, сказка.
От деревни Пюхча путь этот лежал к деревне Пулозер, где устроен был «ям» с крытою палаткой, где продавалось всё необходимое для войска. От Пулозера, опять лесами и болотами, путь лежал к деревне Вожмосальме на протяжении семидесяти вёрст и через Темянки выходил на Повенец. Далее по заливу Выгозерскому был проложен плавучий мост к реке Выгу.
Здесь государю доложили, что вся местность эта заселена беглыми раскольниками, а ядро их — Выговская пустынь.
— Добро, — сказал государь, а обратясь к Меншикову, добавил: — В этом краю непочатый угол железной руды, так ты не медля поезжай и выбери место для завода, а раскольникам от моего имени скажи накрепко: слышно-де его царскому величеству, что живут здесь для староверства разных городов собравшиеся в Выговской пустыни беглые и службу отправляют Богу по старопечатным книгам, а ныне-де его царскому величеству для войны шведской и для умножения оружия и всяких воинских материалов угодно-де поставить два железных завода, один близ Выговской пустыни, чтоб все раскольники в работах тем заводам были послушны и чинили бы всякое вспоможение, по возможности своей, и за то-де царское величество даст им свободу жить в той Выговской пустыни и по старопечатным книгам службы свои к Богу отправлять.
— А не будут работать, разнесу! — грозно добавил государь, «И от того времени, — записано в „Истории Выговской пустыни“, — Выговская пустынь быти нача под игом работы, и начаша людие с разных городов староверства ради от гонения собиратися и поселятися овии по блатам, овии по лесам, между горами и вертепами и между озёрами, в непроходных местах, селиться скитами и собственно келиями, где возможно».
— Не так древле Израиль стремился в обетованную землю, как я к ключу, запирающему вход в Неву, — говорил царь, стоя на берегу Онежского озера, где уже успели создать целую флотилию карбасов, на которых предполагалось пробраться в Ладогу и явиться у стен Нотебурга.
— Бог поможет тебе, государь, разрушить стены нового Иерихона[167], — сказал на это Меншиков.
— Обетованная…— произнёс задумчиво Пётр, — «обещанная». Израилю Бог Иегова обещал ту страну… А мне кто?
— Твой разум, государь, — сказал Меншиков.
— Нет, Алексаша, не один разум, который бессилен без науки, без знания… Наука, знание дают все, что есть под луною!
11
Царская флотилия в конце сентября того же 1702 года уже колышется на волнах многоводной Ладоги, точно стая бакланов. Казалось, счёту нет этим бакланам!
На передовом, самом поместительном карбасе выделяется гигантская фигура царя. Он весь — внимание. Подзорная труба, казалось, замерла в его руке.
Стекла попали на искомую точку… Вот она!
— Вижу, вижу! — с трепетом восторга говорит Пётр.
— Что видишь, государь? — спрашивает Меншиков, напрягая вдаль зрение…
— Орешек… мой будущий Шлиссельбург, — отвечает царь, не спуская взора с отысканной на западном горизонте точки.
Шведская крепость выделялась над горизонтом все явственнее и явственнее.
— А фортеца знатная, — задумчиво говорит царь, — твердыня, пожалуй, с норовом.
— Все же она, государь, дело рук человеческих, — заметил Меншиков. — А что руками сотворено, руками может и разрушено быть.
Шведская крепость все ближе и ближе. Там заметили флотилию русских, на стенах показалось движение.
Флотилия идёт прямо на крепость. Там взвился белый дымок… что-то грохнуло… и ядро с брызгами погрузилось в воду.
— Салютуют, — улыбнулся царь и замахал в воздухе шляпой. — Ждите меня!
Снова дымок в крепости, и второе ядро нашло свою холодную могилу почти там же, где и первое.
— Не доносит, — сказал Меншиков, — силы нехватка.
Третье ядро упало у самого карбаса и обдало царя брызгами.
— Руля налево! — крикнул Меншиков кормщику.
Флотилия повернула влево, уходя от выстрелов.
Выстрелы ещё повторились, но ядра уже не доносил до флотилии.
Когда флотилия приблизилась к берегу в нескольких верстах левее Нотебурга, государь приказал отделить от неё до полусотни карбасов и вытащить их на берег.
Пётр развернул карту Невы с окрестными берегами и показал её Меншикову.
— Вот тут, ниже Нотебурга, у Назьи речки, укрепился Апраксин[168] со своим отрядом, — указал он место на карте. — Понеже нам предстоит волоком перетащить туда сии карбасы под прикрытие леса, то ты, взяв несколько ратных людей с собою, сыщи волок наиболее удобный…
— Слушаю, государь, — отвечал Меншиков.
— А я останусь здесь с прочими карбасами и буду мозолить глаза крепости, чтоб отвлекать её внимание от волока.
На другой день, едва только начало светать, как за сплошным лесом, тянувшимся по левому берегу Невы против Нотебурга и далее вниз, стали раздаваться дружные, знакомые всей России бурлацкие возгласы:
Аи, дубинушка, ухнем! Аи, зелёная, подёрнем! Подёрнем, подёрнем — уу!Это ратные государевы люди тянули на лямках по болотам и топям свои карбасы. В другом месте слышалось:
Нейдёт — пойдёт — ухнем! Нейдёт — пойдёт — ухнем! Не шла — пошла — ууу!Это ратные нижегородцы пели бурлацкий гимн. А за ними тамбовцы:
Просилася Дуня спать На тясову каравать. Нацуй, нацуй, Дунюшка, Нацуй, нацуй, любушка! Уу!А за этими симбирцы да казанцы:
Раз и двааа — три — бяре! Раз и двааа — три бяре! Уууу!И над всем лесом стонало неумолкаемое эхо этих «уууу».
Эти уханья раздавались ещё дружнее, когда ратные видели, что приближается царь. А он тихо с своей небольшой свитой проезжал мимо влекомых карбасов на привезённых из Повенца карбасами выносливых лошадках, часто поощряя рабочих царским словом: «Спасибо, молодцы!»
— Ждёт нас, поди, Ворька, да и Апраксин скучает без дела за своим кронверком, — говорил государь, нетерпеливо поглядывая вперёд.
— Теперь недолго ждать, государь, — успокаивал его Меншиков.
Проезжая мимо последней группы ратных, тащивших волоком карбасы с дружным уханьем, царь сказал:
— Считайте, молодцы, за мной добрую чарку зелена вина!
— Рады стараться, государь-батюшка! — грянули хором ратные.
12
Царь с небольшой свитой, конечно, опередил тысячный отряд свой, который перетаскивал на себе карбасы и артиллерию с Ладоги в Неву, и прибыл в лагерь Шереметева и Апраксина после полудня.
Начальник и войско встретили своего государя с величайшею радостью.
— А мы дюже скучали по тебе, государь, — сказал Апраксин, — боялись, как бы не пришлось нам зимовать здесь.
— Провианту и иного чего опасались нехватки, — добавил Шереметев.
— Ну зимовать вы будете на шведских квартирах, — улыбнулся царь, — да и провианту шведы заготовили для нас, чаю, с достатком.
— Не одни сухари, — улыбнулся Меншиков.
Сентябрь в тот год стоял хороший, ясные, тёплые и сухие дни делали конец сентября похожим на лето.
Сделав некоторые предварительные распоряжения, государь направился к приготовленной для него просторной палатке с государственным гербом на флаге.
— Павел, иди за мной, — сказал он, — ты мне нужен.
— Слушаю, государь, — отвечал Ягужинский.
У входа в палатку стояли часовые. Увидя царя, они взяли на караул.
— Здорово, ребята! — молвил царь приветливо.
— Буди здрав, государь-батюшка! — был ответ.
Едва Пётр распахнул полы, палатки, как Ягужинский увидел что та хорошенькая девушка, которую он перед тем видел в Москве, в доме Меншикова, с тихим радостным криком обхватила руками великана, который поднял её как маленького ребёнка. Ягужинский отступил назад и остановился за пологом.
Он услышал тихие восклицания и шёпот:
— Здравствуй, Марфуша! Вот не ждал, не чаял.
— Здравствуй, государь, соколик мой!
— Как ты здесь очутилась?
— Александр Данилыч прислал из Повенца гонца с письмом что ты, мой сокол ясный, скучаешь по своей Марфуше, так чтоб я прибыла сюда из Москвы, и я прилетела к тебе… с «шишечкой», как ты говоришь…
— А ты почём это знаешь, глупенькая девочка?
— Мамушка-боярыня мне сказывала, что «шишечка» зачалась…
— А мальчик или девочка?
— Того не сказала.
— Мальчика бы, а то мой Алексей плесень какая-то.
Ягужинский многое, даже очень многое понял из этого беглого диалога и пришёл в ужас… Но Павлуша хорошо понимал государственную важность того, что случайно коснулось его слуха, и, как он ни был молод, умел молчать…
Это Меншиков сделал сюрприз государю, без его ведома выписав к войску Марту с её небольшой придворной свитой… У полоняночки Марты Скавронской была уже своя придворная свита из мамушки-боярыни и «дворских девок», то есть фрейлин, за которыми, однако, придворный сердцеед Орлов не смел ухаживать.
«Шишечка»… мальчика бы… мой Алексей плесень какая-то», — вспоминал Ягужинский сорвавшиеся с уст царя роковые слова, и ему стало страшно, что он их невольно подслушал… Страшные слова!.. Они обещают роковой переворот в престолонаследии… Как ни был молод Павлуша, но окружавшая его почти с детства государственная атмосфера научила его понимать всю важность того, что неизбежно должно было произойти в будущем… Молодость не помешала Ягужинскому видеть, что не такого наследника следовало бы царю-титану иметь, не такого, каков был царевич Алексей Петрович… Но за ним стояла вся старая Россия, все недовольное нововведениями сильное и богатое боярство, все озлобленное против церковных «новшеств» духовенство, озлобленное притом кощунственными издевательствами над ним этих «всешутейших и всепьянейших соборов», этих «князей-пап», «княгинь-игумений», святотатственными «канунами Бахусу и Венере»… А все раскольники? А народ, долженствовавший выносить усиленные налоги и усиленную рекрутчину?
«Алексей — плесень»… Но эта плесень равносильна кедру ливанскому, каким иногда казался Ягужинскому Державный плотник. Страшная должна предстоять борьба этих двух сил…
Павлуша поторопился отойти дальше от страшной палатки и остановился в ожидании, не позовёт ли его царь.
В это время к нему подошёл Меншиков.
— Ты что же стоишь тут, на часах, что ли, в карауле? — спросил он с улыбкой.
— Государь приказал было мне идти за собой, но там он не один, — смущённо отвечал Ягужинский. — Его встретила…
— Знаю… что ж, обрадовался государь нечаянности?
Но про «шишечку» и про «плесень» — ни гугу…
— Я знал, что обрадуется, — сказал Меншиков. — Ещё в Архангельске вспоминал, бывало, про неё: «Что-де моя Марфуша?» — «Скучает, — говорю, — по тебе, государь». — «Хоть бы одним глазком, — говорит, — а то в походе, — говорит, — мы ни обшиты, ни обмыты»… Я и спосылал в Москву к мамушке-боярыне, чтоб, будто ненароком, сама-де соскучилась, давно не видавши светлых очей государевых… Ну, я рад, что так случилось… Так рад сам-то?
— Нарочито рад, — отвечал Павлуша.
— А то я и дубинки, признаюсь, побаивался… самовольство-де…
— Сказано: близко царя, близко смерти, — тихо молвил Ягужинский.
— Смерть не смерть, а дубинка ближе, — засмеялся в кулак Александр Данилович.
Они продолжали стоять, не зная, на что решиться.
— Теперь им, може, не до нас с голодухи, — улыбнулся Меншиков. — Уйти, что ли?
— Я не смею, Александр Данилыч, позвал… А вдруг окликнет, — нерешительно проговорил Ягужинский.
— Да, неровен час, под какую руку…
В это время распахнулась пола намёта и выглянул оттуда сам государь.
— А, вы все тут? — сказал он.
— Что прикажет государь? — спросил Меншиков.
— Идите в палатку, дело есть.
Но в палатке уже никого не было: «знатная персона» ускользнула другим ходом.
13
На другой же день одна часть войска, меньшая, посажена была на привезённые сухим путём из Ладожского озера карбасы и двинулась вверх по Неве к Нотебургу; все же остальное войско шло левым берегом Невы.
Так как артиллерия не имела достаточно лошадей, то ратные люди везли пушки на себе, подобно тому, как везли они на себе и карбасы с Ладоги.
Не обходилось и здесь без «дубинушки», конечно, там, где нужно было втаскивать орудия на крутизну.
И здесь дело не обходилось без помощи силача Лобаря, который хотя и был возведён в чин капрала, однако все же оставался для простых ратных прежним добрым товарищем. Частенько слышалось:
— Эй, Терентий Фомич! Будь друг, подсоби.
— Кой ляд! Чево там ещё?
— Да «кума» заартачилась, нейдёт, да и на-поди!
«Кума» — это была одна тяжёлая пушка. Ратные люди, чтобы легче запоминать орудия, по-своему окрестили их: одна пушка была «кума», другая — «сваха», третья — «повитуха», четвёртая — «просвирня», ещё одна «тётка Дарья» и так далее…
— «Тётенька», братцы, упёрлась, и ни с места… Зовите Терентия Фомича.
Теперь уже товарищи не называли его Теренькой и Треней, а Терентием Фомичом, а то и просто дядей.
— У «просвирни» колесо в болотине застряло, чтоб ему пусто было.
— Кличь дядю живей!
— Да он с «повитухой» возится.
Между тем шведы, желая помешать русским стать и укрепиться против самого Нотебурга, поспешили возвести шанцы на левом берегу Невы.
Едва карбасы с посаженными на них двумя пятисотенными командами достигли того места на Неве, против которого находились шведские нововозведенные шанцы и откуда уже можно было обстреливать небольшую русскую флотилию, как немедленно последовал орудийный залп.
— Кстись, ребята! — раздался зычный голос пятисотенного начальника.
Все перекрестились.
— Мочи глыбче весла! Мути воду! — пронёсся по Неве голос другого пятисотенника.
— Пали во все, и на берег! Бери их голыми руками!
Последовал ответный русский залп.
— На берег! На шанцы!
И почти моментально карбасы очутились у берега, и русские стремительно лезли на шанцы, опережая друг друга. Такая смелость ошеломила шведов, и они почти не защищались.
Когда всё было покончено молодцами-преображенцами, запевала Гурин крикнул:
— Братцы! Выноси!
И он запел:
Ах, на что было огород городить! Ах, на что было капустку садить!И преображенцы «вынесли» своего запевалу, они залихватски отмахали забористую плясовую песню, которую их потомки, почти столетие спустя, весело пели, когда, под начальством Суворова, брали Варшаву…
Государь вместе с своею свитой, а равно Шереметев и Апраксин наблюдали это молодецкое дело, и Пётр сказал:
— Понеже шведы видели уже моих молодцов в деле с сею первою их фортецею, то, чаю, не захотят того же испытать на себе и на том берегу, потому станут избегать напрасного пролития крови, пошли ты, Борис Петрович, тот час же к Шлиппенбаху письмо с предложением, на каких аккордах[169] комендант Нотебурга намерен будет сдать тебе доверенную ему крепость.
— Государь! — сказал Шереметев. — Твоё письмо крепче моего на него воздействует.
— Но ты фельдмаршал, а я только бомбардирский капитан, — возразил государь, — тебе и надлежит вязать и разрешать.
Письмо было послано. В нём говорилось, что осаждённой крепости надеяться не на что и подкрепления ожидать неоткуда, все пути к ней отрезаны.
Посланный скоро воротился с ответным письмом Шлиппенбаха. Глаза царя блеснули зловещим огнём, когда он дочитал ответ коменданта.
— Что пишет он? — спросил Шереметев.
— Просит четыре дня отсрочки, — гневно отвечал Пётр.
— Какой прок ему в отсрочке?
— Не смеет-де без разрешения начальства сдать крепость.
— А где его начальство, государь, в Польше или в Швеции?
— В Нарве… Горн.
При воспоминании о Нарве Пётр пришёл в величайший гнев:
— Так не давай же им передохнуть! — сказал он Шереметеву. — Открой огонь изо всех орудий.
И канонада началась. Огонь был убийственный. Сам государь ходил по батареям, поощрял пушкарей, сам направлял орудия. Уже не раз от русских бомб загоралось в крепости, но шведы продолжали упорно держаться.
Наконец на третий день русские увидели, что на стене крепости взвилось белое полотнище и, немного спустя, от берега у крепостных ворот отделилась лодка с «барабанщиком»-парламентёром.
— Пардону просят, — улыбнулся Шереметев.
— Ну, теперь пардон вздорожал у меня на базаре, — заметил государь. — Надо было вовремя аккорды предъявить.
«Барабанщик» предстал «пред царя» и, преклонив колен . подал Петру письмо.
Государь вскрыл пакет, дав знать посланцу из крепости, чтоб он удалился.
Ироническая, довольная улыбка играла на его лице, пока он читал послание из Нотебурга.
— Видно по сему, что шведские жены знатно искусны в древней истории, а нас почитают за дикарей, — говорил царь, продолжая улыбаться, — русские-де варвары, истории и не нюхали.
— Что такое, государь? — спросили и Шереметев, и Апраксин.
— Пишет сие не Шлиппенбах, а его супруга, а купно с нею и все офицерские жены Нотебурга: слёзно просят выпустить их из горящего города.
— Жарко, знать, стало, — заметил Меншиков.
— Жарко, точно, — сказал Пётр, — из древней истории ведомо, что когда в таком же безвыходном положении, как сей Нотебург, очутился один осаждённый город, то женщины оного и просили осаждавших дозволить им выйти из города. Те дозволили. Так ловкие бабы и девки вынесли на своих спинах мужей, братьев и женихов.
Шереметев рассмеялся:
— Ай да бабы! И силища, видно, у них была знатная.
— Так и эти замыслили то же проделать? — спросил Меншиков.
— Именно, Данилыч, и я им сие позволю: я напишу им, что не хочу опечалить их разлучением с супругами, потому, покидая город, изволили бы и любезных супружников вывесть купно с собою.
Все невольно рассмеялись.
— Премудрый Соломон так не придумал бы, ха-ха-ха! — хохотал Борька.
14
Русские готовили штурмовые лестницы. Стук топоров слышен был, несмотря на пушечную пальбу.
— Смотри-ка, братцы, как сам батюшка-царь топором работает, н-ну!
— Да и Александра Данилыч не промах, ишь как садит топором-то.
…Так разговаривали между собой ратные люди, приготовляя штурмовые лестницы.
Дело в в том, что после иронического ответа госпоже Шлиппенбах и офицерским жёнам Нотебурга крепость продолжала упорно держаться.
В «Подённой записке» государь вечером приписал: «И с тем, того барабанщика потчевав, отпустил в город; но сей комплимент[170] знатно осадным людям показался досаден, потому что, по возвращению барабанщика, тотчас великою стрельбою во весь день на тое батарею из пушек докучали паче иных дней, однако ж урона в людях не учинили».
— …А мы чаяли, что ихний барабанщик покорность привёз, — продолжали разговаривать солдаты.
— Коли бы покорность, не жарили б так, а то зараз учали бухать, как только энтот отставной козы барабанщик в ворота шмыгнул…
— И впрямь — отставной козы барабанщик!
— Так для че он приходил, коли не с покорностью?
— Торговаться, стало быть. А как не выторговали ни синь-пороху, ну и осерчали и учали пуще жарить.
— А мне сказывал верный человек, что барабанщика подсылали ихние бабы, чтобы их выпустили без обиды.
— Вот чего захотели, сороки!
— То-то… А батюшка царь им в ответ: приведите-де к нам с собой муженьков своих…
— Ха-ха-ха! Вот загнул батюшка царь! Уж и загнул!
Между тем усиленная канонада продолжалась с обеих сторон.
— Ох, застанет нас тут зима, — жаловалась Марте мамушка-боярыня.
— Что ж, мамушка, нам тут холодно и зимой не будет, — утешала её девушка, — вот в палатках было бы не способно зимой… А как государь построил нам эти горницы, так по мне хоть бы и зимовать.
— Что и говорить, красавица! Тебе-то, молоденькой, все с полгоря, а старым-то костям на Москве спокойнее, — говорила Матрёна Савишна, мамушка-боярыня.
Но зимовать под Нотебургом не пришлось.
Упорство осаждённых начало выводить из себя государя.
— Не дожидаться же нам тут, как под Нарвой, прихода Карла, — сердился Пётр.
— Помилуй, государь, как ему к зиме в эку даль тащиться? — говорил Шереметев.
— Морем недалеко, а море не замерзает: надул ветер паруса, и он тут как тут, — продолжал государь.
И он решил скорей достать заколдованный «ключ».
Вночь на 11 октября он сам, в качестве капитан-бомбардира открыл такую адскую пальбу по крепости, что внутри её разом вспыхнуло во многих местах, а бреши в крепостных стенах делались все заметнее и заметнее.
— На штурм! — бесповоротно решил Пётр. — С Богом!
Работа закипела. Мигом переполненные ратными людьми карбасы с осадными лестницами, словно бесчисленные стаи воронов, обсыпали собою берега у крепости, и люди точно муравьи ползли на стены и в бреши, пробитые в башнях и в куртине[171], и завязался отчаянный бой.
Шведы геройски отстаивали свою твердыню и жизнь, но и русские жестоко остервенились, мстя за Нарву и за упорное сопротивление.
— Это вам не Ругодев! — хрипел от ярости богатырь Лобарь, прокладывая в бреши для себя и для товарищей улицу по трупам осаждённых.
В помощь русским явился пожар, который все жесточе и жесточе пожирал внутренности крепости, и шведы должны были отбиваться разом от двух беспощадных врагов: от огня и от русской ярости. Но потомки варягов не уступали.
Ожесточение с той и с другой стороны все возрастало, и отчаяние придавало невероятную силу теснимым к смерти варягам. Но их оставалось уже немного, и подкрепления не было, а к изнеможённым русским приливали свежие силы ещё не вступавших в бой товарищей.
— Это вам не Ругодев! — кричал Терентий Лобарь.
Наконец, шведы попросили пощады.
Шлиппенбах выслал к царю вестника покорности и мира, прося позволения выйти из павшей крепости остаткам гарнизона и женщинам с детьми, дабы укрыться за стенами ещё не павшей шведской твердыни Ниеншанца, этого последнего стража Невы — теперь уже для русского царя не «чужой реки»…
Пётр великодушно дозволил смирившемуся врагу удалиться неуниженным, с воинской честью: взять из крепости, как бы на память, четыре пушки и выйти из стен уже «чужой» ему крепости с распущенными знамёнами и с барабанным боем.
Что может быть больнее для сердца воина, как подобное прощание с потерянным навсегда достоянием родины!..
Радость царя была безмерна:
«Моя, моя Нева! Моя дельта! Моё море!» — колотилось у него в душе.
Но когда его приближённые поздравляли «с знатною викториею», он с улыбкой удовлетворённого желания сказал:
— Жесток зело сей орех был, однако, слава Богу, счастливо разгрызен.
«Орешек» уже не существовал для Петра, он «разгрызен», не существовал и Нотебург: в уме его был только «ключ» в Неву.
— Да будет же теперь Орешек — Шлиссельбургом, — торжественно провозгласил он и сам прибил добытый у врага ключ к крепостным воротам.
Вместе с тем царь назначил Меншикова губернатором нового русского города.
Хорошенькая Марта думала, что на радостях её господин задушит её в своих объятиях.
— Ах, какой ты сильный, Петрушенька!.. Легче, милый, — шептала она, — не задави нашу «шишечку»…
15
Вскоре после взятия Нотебурга и переименования его в Шлиссельбург государь уехал на зиму в Москву.
Прощаясь со своими военачальниками, с фельдмаршалом , Шереметевым и графом Апраксиным, царь сказал:
— Продолжайте начатое нами с Божией помощью дело, и Бог дарует нам полную викторию.
Те почтительно поклонились…
— А ты, Данилыч, — обратился Пётр к стоявшему тут же шлиссельбургскому губернатору, Меншикову, — распорядись заготовить в Лодейном Поле такое количество боевых судов, чтобы оными можно бы было запрудить всю Неву! Весною я прибуду сюда — и дельта Невы подклонится под мою пяту. Там я топором своим срублю новую столицу России и прорублю окно в Европу.
— Аминь! Аминь! Аминь! — восклицали военачальники.
Меншиков же добавил:
— И дальнейшие потомки, государь, назовут тебя… Державным плотником, а историки скажут: «Петром началась история России!..»
Зиму 1702/03 года государь провёл в Москве. Работа шла лихорадочно: радость первой победы у входа в «невские ворота», казалось, удесятеряла его силы…
Павлуша Ягужинский из-за своего рабочего стола украдкой наблюдал за ним и ликовал в душе: он боготворил эту гениальную силу.
Вдруг Павлуша заметил, что лицо царя озарилось счастливой улыбкой и губы его что-то шептали…
«Шишечка», — послышалось Ягужинскому; но что означает эта «шишечка», он даже в застенке на дыбе не выдал бы всеведущему князь-кесарю.
Значение этого слова было известно только самому царю да красавице Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I, Ягужинский же догадывался о роковом для кого-то (он знал — для кого) смысле этого таинственного слова.
— Павел, поди сюда, — позвал государь Ягужинского.
Пётр стоял в это время у одного стола, на котором лежал большой лист бумаги с чертежом, изображавшим топор.
— Видишь сей чертёж? — спросил государь.
— Вижу, ваше величество, топор.
— Так возьми сей чертёж и закажи по нём сделать топор из лучшей стали.
— Слушаю, государь.
— Знаешь в Немецкой слободе мастера Амбурха? — спросил Пётр.
— Знаю, государь.
— Так у него закажи.
В эту минуту в кабинет вошёл фельдмаршал Шереметев, наблюдавший в Москве за сбором и снаряжением войска к предстоящему весеннему походу.
— Вот топор себе заказываю, — сказал Пётр вошедшему с глубоким поклоном Шереметеву.
— Мало у тебя топоров, государь, — улыбнулся фельдмаршал, указывая глазами на столярные и плотничные инструменты царя.
— Это, Борис Петрович, особ статья, — улыбнулся Пётр, — сей топор будет всем топорам топор.
— Какой же это такой, государь, «топорный царь»? — улыбался и Шереметев.
— Этим топором я Москве голову усеку, — продолжал загадочно Пётр.
— За что такая немилость, государь? — спросил Шереметев.
— А за то, что она, как крот, в старину зарывается и от света закрывается… Сим топором я срублю для России новую столицу.
Глаза Петра вспыхнули вдохновением.
— Помоги, Господи! — поклонился боярин. — В коем же месте, государь, замыслил ты новую Москву строить?
— Не Москву, боярин, Москва Москвой и останется… А при устье Невы срублю мою столицу. И я срублю её сим топором, да и оконце в Европу прорублю.
— Дай, Господи! Одначе устье Невы надо ещё добыть.
— И добудем… Сколько ты успел собрать рати?
— Всего, государь, у меня рати тысяч двадцать: семеновцы с преображенцами, да два полка драгун, да пехоты двадцать батальонов.
— Сего за глаза достаточно… Как только грачи да жаворонки прилетят, так и выступай в поход.
— Слушаю, государь.
— А потом и я за тобой не замедлю.
С последними словами Пётр задумался. Шереметев почтительно ждал.
— Да вот что, Борис Петрович, — очнувшись от задумчивости, сказал Пётр, — возьми с собою в поход и царевича… Пора Алексею привыкать к воинскому делу… Зачисли его в Преображенский… у преображенцев есть чему поучиться.
— Слушаю, государь, — поклонился Шереметев.
Пётр опять задумался, вспомнив о царевиче.
«И в кого он уродился? — невольно думалось ему. — Точно кукушка в чужое гнездо его подбросила… Точно не моего он семени… Не по его голове будет шапка Мономахова, не по Сеньке шапка… Кабы „шишечка“…»
И лицо его опять просветлело.
Ягужинский стоял в нерешительности с чертежом в руках.
— Ты что, Павел? — спросил царь.
— Из какого дерева, государь, повелишь топорище к топору пригнать? — спросил Павлуша. — Из дуба али из ясени?
— Пальмовое… да из самой крепкой пальмы, — был ответ.
— И такой величины топор, государь, как здесь, на чертеже?
— Такой именно.
Шереметев взглянул на чертёж, и его поразили размеры топора.
— Воистину, государь, этот топор всем топорам царь, — сказал он, — ни одному плотнику с ним не справиться.
— Так и должно быть, — торжественно сказал Пётр, — слышал мои слова? Сим топором я срублю новую столицу для России и прорублю окно в Европу!
16
Петру, однако, не сиделось в Москве: вся душа его была там, где Нева вливала свои могучие струи в море.
Он прибыл в Шлиссельбург в апреле, обогнав по пути Шереметева с войском.
— Торопись, Борис Петрович, — сказал он последнему, — грачи не токмо что давно прилетели, но уж и в гнёзда засели.
— Добро им, государь, с крыльями, — почтительно возразил Шереметев. — Одначе к вскрытию Невы я беспременно буду к Шлиссельбургу.
— А что царевич? — спросил Пётр.
— Помаленьку навыкает, государь.
«Не навыкнет, — подумал Пётр. — То ли я был в его годы?..»
Царь, наконец, в Шлиссельбурге.
Он осматривает крепостные работы, производившиеся под наблюдением Виниуса, того самого, что отливал пушки из колоколов новгородских церквей.
Пётр гневен. Ягужинский, неотступно следовавший за ним с портфелем и письменными принадлежностями, с ужасом видел, что страшная дубинка царя поднялась над неприкрытою седою головою старого Виниуса… Вот-вот убьёт старика… Они стоят на крепостной стене, обращённой к Неве.
— Тебя бы стоило сбросить сюда со стены, как негодную ветошь! — раздался грозный голос царя.
— Смилуйся, великий государь, помилуй! — трепетно говорит Виниус.
— Где боевые припасы?
— Немедля придут, государь… за распутицей опоздали…
— А лекарства для войска?
— По вестям, государь, недалече уж.
— Со шведской стороны слаба защита крепости! — гремит гневный голос.
Несмотря на адский стук и лязг нескольких тысяч топоров, на визг множества пил, ужасающий скрип тачек, которыми подвозили к крепости десятки тысяч солдат и согнанных на работы со всего северо-восточного угла России крестьян, страшный голос гневного царя гремел, как труба страшного, последнего суда.
— Разносит… разносит! — с испугом шептали работавшие на крепости, и ещё громче потрясали воздух стук и лязг топоров, визг пил и скрип тачек.
— Кого разносит?
— Старого Виниуса.
— О, Господи! Спаси и помилуй.
Вдруг отчётливо выделился из всего шума звонкий юношеский голос.
— Упали в воду!.. Тонут!.. Спасите! — в ужасе кричал Ягужинский.
Все на мгновение смолкло.
— Кто упал? — прогремел голос царя. — Павел зря кричать не станет… Кто тонет?
— Кенигсек, государь, да лекарь Петелин… Вон с тех досок упали в канал… Вон видно руки… борются со смертью…
— Живей лодки! Багры! Тащите сети!
Это уже распоряжался царь. Куда и гнев девался! Его заступило царственное человеколюбие — человеколюбие, которое через двадцать с небольшим лет и унесло из мира великую душу величайшего из государей… Известна, что в конце октября 1724 года Пётр, плывя на баркасе к Систербеку для осмотра сестрорецкого литейного завода, увидел недалеко от Лахты севшее на мель судно, которое плыло из Кронштадта с солдатами и матросами, и тотчас же бросился спасать людей, потому что судно, потрясаемое волнами, видимо погибало. Великодушный государь, добрый гений и слава России, сам бросился по пояс в воду, в ледяную воду конца октября! Всю ночь работал в этой воде, спасая людей, которых не успело унести бушевавшее море: успев спасти жизнь двадцати своим подданным, он сам схватил смертельную простуду и через несколько месяцев отдал Богу душу…
Это ли не величие!
И теперь здесь, в Шлиссельбурге, забыв Виниуса, свой гнев, нашествие шведов и все на свете, Пётр, стремительно сбежав с крепостной стены, так что за ним не поспевали ни Меншиков, ни Ягужинский, моментально вскочил в первую попавшуюся лодку и, чуть не опрокинув её, начал работать багром, страшно вспенивая воду в канале.
— Не тут… спускай лодку ниже… их унесло водой, — торопливо командовал он матросам.
И опять багор пенит воду канала.
— Нет… ещё ниже двигай…
Багор не выходил из воды.
— Данилыч! Вели закидать сети ниже, на перехват утопшим…
— Сам закидаю, государь… Помоги, Господи!
Багор что-то нащупал.
— Стой! Ошвартуйте лодку вёслами… Здесь!..
И багор, поднимаясь из воды, поднимал на её поверхность что-то вроде мешка…
То была спина утопленника… Скоро показались болтавшиеся как плети руки и ноги, повисшая голова… мокрые чёрные волосы, с которых струилась вода…
— Кенигсек! Благодарение Богу… может, отойдёт.
И царь снял шляпу и перекрестился.
— Ищите других!.. Они тут, должно быть, недалече.
Из толпы солдат и рабочих, стеною стоявших вдоль канала послышались возгласы:
— Не клади на землю утопшего, государь! Не клади!
— Качать его! Качать!
— Сымай кто зипун! На зипун его! Живо, братцы!
На берег из лодки полетел кафтан.
— Сам царь-батюшка не пожалел своей государевой одёжи, — слышалось на берегу.
— Пошли ему, Господи, Царица Небесная!
Государь бережно поднимает утопленника, как малого ребёнка, тревожно смотрит в его бледное лицо, посиневшее, ещё за несколько минут такое прекрасное лицо, и так же бережно передаёт несчастного на руки подоспевшим с Меншиковым матросам.
Утопленника кладут на растянутый царский плащ.
— Качайте… качайте, дабы изверглась из него вода… А ты, Данилыч, обыщи его карманы… нет ли важных государственных бумаг…
Меншиков вынимает из карманов утопленника несколько пакетов, отчасти подмоченных.
— Отдай их Павлу… пускай отнесёт в мою ставку и запечатает моей малой печатью… на досуге я сам разберу.
Меншиков отдал пакеты Ягужинскому.
— Нащупали! — крикнули с другой лодки, что была пониже.
— Подавай на берег! Да легче!
— Вот бредень, братцы, на бредне способнее качать!
— А другого на рогожу клади, рогожа чистая.
И началось усиленное качание трех мёртвых тел.
Царь стоит около Кенигсека и не спускает глаз с его посиневшего лица, перекатывающегося с правой щеки на левую и наоборот…
«Не изрыгается вода, не изрыгается… вот печаль! Какого нужного человека лишаюсь! Новый бы Лефорт был».
Царь подходит к покачивающемуся утопленнику и осторожно дотрагивается до его высокого, мраморной белизны лба.
— Холоден, как лёд…
— Вода студена, государь, — тихо говорит Меншиков.
— От ледяной воды, поди, сердце замерло, не выдержало.
— Знамо, государь, и не от такой воды дух захватывает, а тут долго ли?
Пётр, Меншиков и два матроса сменяют прежде качавших.
— Тряси дружней, вот так: раз-два, раз-два…
Жалкое, безжизненное, беспомощное тело!..
— Наддай ещё! Тряси!..
— Эх, государь, кабы в нём была душа, давно бы вытряхнули, — тихо говорит Меншиков.
— Так думаешь, нет уже её в нём?
— Думаю, государь; она ведь из воды умчалась в ту страну, где ей быть предопределено, може, в рай светлый, може, во тьму кромешную.
Между тем Ягужинский, придя в царскую палатку (государь не хотел жить в крепости, в доме, а, предпочитая свежий воздух открытого места, велел разбить себе палатку вне крепостных стен), чтоб запечатать вынутые из карманов утопшего Кенигсека бумаги в отдельный пакет, положил их на стол и при этом нечаянно выронил из одного конверта что-то такое, от чего он со страхом отшатнулся…
— Что это? — шептал он побледневшими от страха губами. — Она сама?.. У него?..
Он дрожащими руками взял конверт, из которого выпало это что-то страшное, и вынул оттуда розовые листки, которые привели его в ещё больший ужас…
«Её почерк… Господи!»
Листки выпали из его дрожащих рук.
«Сжечь все это… уничтожить…»
Он торопливо зажёг свечу.
«Сожгу… жалеючи государя, сожгу… А того не жаль, его уже не откачать… И её не жаль».
…Листки и то страшное — у самого пламени свечи.
«Нет, не смею жечь… Пусть будет воля Бога… А я от своего государя ничего не скрывал и этого не скрою. Пусть сам рассудит».
И Ягужинский взял со стола отдельный поместительный конверт, вложил в него бумаги Кенигсека и то… страшнее с розовыми листками… и все это запечатал малой царской печатью.
17
Уже поздно ночью в сопровождении только Ягужинского возвратился царь из крепости в свою ставку.
— Какой пароль на ночь? — спросил он вытянувшегося перед ним у входа в палатку богатыря преображенца.
— «Март», государь, — шепнул преображенец.
— Не «Март», а «Марта», — поправил его царь.
Войдя в палатку и поставив в угол дубинку, он спросил Ягужинского:
— Где бумаги Кенигсека, которые я велел тебе запечатать? И не ждал, не гадал, и вот стряслось горе. Какого человека потеряли! Эх, Кенигсек, Кенигсек!
Ягужинский побледнел. Царь заметил это.
— Что с тобой, Павел? — спросил он. — Ты нездоров?
— Нет, государь, я здоров, — с трудом произнёс Павлуша.
— Простудился, может?
— Нет, государь.
— Но ты дрожишь. Может, я тебя замаял, утомил?
— Нет, государь, с тобой я никогда не утомляюсь.
— Не говори. Вон и Данилыч к ночи еле ноги таскал, а он не чета тебе, цыплёнку. Так где бумаги Кенигсека?
— Вот, государь, — подал Павлуша страшный пакет.
— А, хорошо. А теперь ступай спать, отдохни… Завтра рано разбужу… Похороним Кенигсека и Лейма с Петелиным, да и за работу… Экое горе с этим Кенигсеком!.. Ну, ступай, Павлуша, ты на ногах не стоишь.
Павлуша, взглянув на страшный пакет, медленно удалился в своё отделение палатки, откуда слышен был малейший шорох из царского отделения.
И вот слышит Павлуша: царь потянулся и громко зевнул.
«Спать хочет, видимо, хочет, а не уснуть ни за что, не просмотревши бумаг, что в проклятом пакете», — мысленно рассуждает с собой Павлуша.
Слышит, звякнула чарка о графин.
«Сейчас будет пить анисовку… Пьёт… Вторая чарка…»Слышится снова зевок…
«Ох, не уснёт, не уснёт».
Вдруг Павлуша слышит: хрустнула сургучная печать. Сердце его так и заходило…
Зашуршала бумага…
— Ба! Аннушка! — слышит Павлуша. — Анна! Как она сюда попала, к Кенигсеку? Стащил разве? Да я у неё не видел этого портрета…
Голос царя какой-то странный, не его голос. Ягужинского бьёт лихорадка.
— А! Розовые листочки… Её рука, её почерк…
«Господи! Спаси и помилуй… Увидел… Читает…»
— A! «Mein Lieber… mein Geliebter!»[172]
Голос задыхается… Слова с трудом вырываются из горла, которое, казалось, как будто кто-то сдавил рукой…
— Га!.. «deine Liebhaberin… deine Sclavin…»[173] Мне так не писала… шлюха!..
Что-то треснуло, грохнуло…
— На плаху!.. Мало — на кол!.. На железную спицу!..
Опять звякает графин о чарку…
Снова тихо. Снова шуршит бумага…
— Так… Не любила, говоришь, е г о… это меня-то… тебя-де люблю первого… «deine getreuste Anna…»[174]. И мне писала «верная до гроба». Скоро будет гроб… скоро…
Чарка снова звякает…
«Опять анисовка… которая чарка!..»
— А! Улизнул, голубчик! В воду улизнул… не испробовал ни дубинки, ни кнута… А я ещё жалел тебя… Добро!..
Слышно Павлуше, что государь встал и зашагал по палатке… «Лев в клетке, а растерзать некого… жертва далеко…»
Что-то опять треснуло, грохнуло…
«Ломает что-то с сердцов…»
— Так не любила?.. Добро! Змея… хуже змеи… Ящерица… слизняк…
Он заглянул в отделение Ягужинского. Павлуша притворился спящим и даже стал похрапывать.
— Спит… умаялся.
Воротившись к себе, государь снова зашагал по палатке…
— Видно, давно снюхались. Немка к немцу… чего лучше!.. То-то ему из саксонской службы захотелось в русскую, ко мне, чтобы быть ближе к ней… Улизнул, улизнул, голубчик… Счастлив твой Бог… А эта, Анка, не улизнёт… нет!
Опять зашуршали бумаги…
«Читает… Что-то дальше будет?» — прислушивается Ягужинский.
Долго шуршала бумага… не раз снова звякал графин о чарку… И хмель его не берет, особенно когда гневен…
— Черт с ней, этой немкой!.. У меня Марта, Марфуша… Эта невинною девочкой полюбила меня. И будет у нас «шишечка».
Голос заметно смягчился…
— Только бы добыть Ниеншанц да дельту Невы… Добуду!.. Не дам опомниться шведам… А там срублю свою столицу у моря… Вот тем топором… Я давно плотник… Недаром и Данилыч назвал меня Державным плотником… Данилыч угадывает мои мысли… И прорублю-таки окошко в Европу… А там прощай, Москва… Ты мне немало насолила… В Москве и убить меня хотели, и отнять у меня престол… Москва и в антихристы меня произвела… Экое стоячее, гнилое болото!.. Теперь эта подлая Анка рога мне наставила, и все из-за Москвы… Нет! Долой старое, заплесневелое вино… У меня будет новое вино, и я волью его в новые мехи…
Пётр имел обыкновение говорить сам с собою, особенно ночам, когда и заботы государственные волновали его, когда новые планы зарождались в его творческой, гениальной голове. Ягужинский это знал и, находясь при царе неотлучно, ранее других подслушивал тайны великого преобразователя России.
— Ну и черт с ней! Не стоит она ни плахи, ни кола… Все же была близка по плоти… В монастырь бы следовало заточить, да нельзя, не православная… А то бы вместе с моею Авдотьей пожила там… Постриг бы её в Акулины… Вот тебе и Аннета, Анхен, Акулина!
«Опять вспомнил об Анне Монс… Только уж сердце, кажется, отходит», — думает Павлуша, продолжая прислушиваться.
— Черт с ней… А за обман накажу… Запру у отца и в кирку не позволю пускать… Пусть знает, как царей обманывать… Уж Марта не обманет, чистая душенька…
Он немного помолчал и потом вновь начал ходить по палатке, но уже не такими бурными шагами.
«Отходит сердце, слава Богу, отходит», — думал про себя Ягужинский.
Пётр опять заговорил сам с собою:
— А напрасно я ноне накричал на старика и чуть с раскату не сбросил… Ну да старый Виниус знает меня, моё сердце отходчиво. К вечеру и артиллерийские снаряды прибыли, и лекарства для войска. Теперь же не мешкая и двинемся к шведскому Иерихону, к обетованной земле… Нечего мешкать… Время-то летит, его не остановишь, а дел по горло. Для меня всегда день короток… Иной раз так бы и остановил солнце, чтобы подождало, не двигалось… Токмо мне не дано силы Иисуса Навина, а то и остановил бы солнце.
Он ходил все тише и тише. Потом Ягужинский видел из своего отделения, как гигантская тень царя, заслонив собою верх палатки, спустилась вниз.
Павлуша догадался, что царь сел к письменному столу.
— Ин написать на Москву, чтоб поторопились… Понеже— («Понеже» — его любимое слово… Значит, будет писать приказы», — решил Ягужинский и моментально заснул молодым здоровым сном.)
Рано утром, когда он проснулся, то увидел, что в отделении у царя уже было освещено.
— Понеже, — доносилось из царского отделения и слышался скрип пера.
«Опять пишет… Да полно, не всю ли ночь не спал?» —. недоумевал Павлуша, входя в отделение, где за письменным столом сидел государь.
— А, Павел, — заметил он вошедшего Ягужинского. — Выспался ли вдосталь, отдохнул?
— А как государь изволил почивать? — поклонился Ягужинский.
— Малость уснул, с меня довольно, — отвечал царь.
Потом, взглянув в лицо Ягужинского, Пётр спросил:
— Вечор, когда ты запечатывал бумаги Кенигсека, видел что печатаешь?
Павлуша смутился, но тотчас же оправился и откровенно сказал:
— Ненароком, государь, увидел и, не читая, тотчас же запечатал.
— Будь же нем, как рыба.
— Знаю, государь, свой долг и крепко держу крёстное целование.
— Ладно… Поди скажи Меншикову, чтобы не ждали меня и сейчас похоронили бы утопших… Мне недосуг, спешка в работе.
Он не мог бы теперь вынести вида своего врага, даже мёртвого.
И опять перо заскрипело по бумаге.
18
В тот же день русское войско под начальством Шереметева двинулось вниз по Неве к Ниеншанцу.
Двадцать четвёртого апреля, на расстоянии пятнадцати вёрст от этой крепости, Шереметев созвал военный совет, на котором присутствовал и царевич Алексей Петрович.
Решено было сделать рекогносцировку[175].
— Кого, государь, повелишь употребить в сию разведочную кампанию? — спросил Шереметев.
— Ты главнокомандующий, Борис Петрович, и тебе подобает указать, кого употребить на сие дело, — отвечал Пётр. — Я только капитан бомбардирской роты.
— Я полагал бы, государь, послать полковника Нейдгарта, — сказал Шереметев.
— Полковника Нейдгарта я знаю с хорошей стороны, заметил Пётр. — В разведочной службе показал себя и капитан Глебовский.
— Я сам о нём думал, государь, — согласился Шереметев.
— Так пошли их с двухтысячным отрядом на больших лодках, кои уже имели дело со шведами на Ладоге, — решил государь.
Потом, обращаясь к царевичу, который, по-видимому, рассеянно слушал, о чём говорили, сказал с иронией в голосе:
— Ты тоже, Алексей, пойдёшь с сим отрядом: тебе пора учиться быть воином, а не пономарём, каковым ты был доселе.
Иногда государь называл царевича «раскольничьим начётчиком», зная его пристрастие к старине и к старопечатным книгам, которые тайно подсовывали московские враги петровских «богопротивных новшеств».
В тот же день отряд был посажен на лодки и двинулся вниз по Неве.
В число охотников вызвался и Терентий Лобарь, которого товарищи прежде дразнили женитьбой и прочили ему в жёны… Марту!
В глубочайшей тишине спускалась по Неве разведочная флотилия. Она представляла как бы огромную стаю плывущих по реке чёрных бакланов. И кругом стояла мёртвая тишина. По обоим берегам реки темнели сплошные леса, среди которых только берёзы начали чуть-чуть зеленеть первою листвою, а тёмная зелень сосен и елей придавала ландшафту какую-то суровость. Изредка раздавались первые весенние щебетанья птичек, прилетевших в этот пустынный край с далёкого юга, от тёплых морей.
Время подходило к полуночи, когда флотилия находилась уже недалеко от Ниеншанца, однако ингерманландская белесоватая ночь в конце апреля глядела на растянувшуюся стаю чёрных бакланов во все глаза.
— Экие здешние ночи: ни она ночь заправская, ни она тебе день, — говорил Нейдгарт, подходя к царевичу Алексею Петровичу, сидевшему в передовой части лодки и безучастно глядевшему на однообразные картины Невы, — как тут укроешься от вражьего ока, коли дозор в исправности!
— А шведы ожидают нас? — спросил царевич.
— Как не ожидать, государь-царевич! Чать, вести и сороки на хвостах принесли, что-де его царское пресветлое величество жалует к соседям в гости.
— Что ж, нас встретят боем?
— Знамо, коли они нас ранее дозорят, а не мы их: зато мы и крадёмся, ровно мыши к амбару.
Царевич вздохнул и стал вглядываться в дымчато-белесоватую даль.
— Теперь бы уж и недалече, — сказал Нейдгарт, взглянув на имевшийся у него набросок чертежа Невы, — Да и темнеет как будто малость. Это нам на руку.
И он велел тихонько передавать от лодки к лодке приказ чтобы вся флотилия вытянулась в линию и двигалась у правого берега Невы.
— Только бы правые весла не хватали земли. — пояснил он.
Но вот вдали показались чуть заметные признаки укреплений.
Передовая лодка тихо подплыла к наружному валу, а за нею и другие. Из тех, которые ранее пристали к берегу, в глубочайшей тишине высаживались люди, шёпотом передавая друг другу приказание Нейдгарта и Глебовского.
— Сомкнуться лавой и наверх вала!
— А там увидим, кого бить.
Передовая лава быстро влетела на вал. Шведы, не ожидавшие врага, беспечно спали на передовом посту. «Дядя Терентий», вступивший на вал в голове передовой лавы, первый наткнулся на спавшего на часах шведа…
— На бастион! За мной! — скомандовал Нейдгарт.
— Где царевич? Я его не вижу! — с тревогой искал Глебовский Алексея Петровича.
— Царевич позади, на валу он в безопасности, — успокоил Глебовского один офицер, — с ним люди.
Гарнизон бастиона, поражённый неожиданностью, также растерялся и, побросав оружие, обратился в бегство, чтоб укрыться в ближайшем редуте.
Бастион был взят.
— Спасибо, молодцы! — радостно воскликнул Нейдгарт. — Оправдали надежду на вас батюшки-царя.
В крепости теперь забили тревогу. Что оставалось делать горстке героев?
— Нам приказано только произвести разведку, сиречь рекогносцировку, — отвечал Нейдгарт на вопросительные взгляды Глебовского. — А мы взяли бастион.
— Так возьмём и крепость! — смело воскликнул Глебовский.
— Возьмём! — крикнули преображенцы.
— Голыми руками возьмём.
— Головой «дяди Терентия Фомича» добудем, как сказал батюшка-царь.
— Нет, братцы, спасибо вам за усердие, а только батюшка-царь послал нас сюда лишь для разведки, а не крепость брать, — сказал Нейдгарт. — Её возьмёт сам государь.
По этому поводу историк говорит весьма основательно:
«После такого успеха (взятие бастиона), не много б, казалось, недоставало к занятию остальных укреплений, обороняемых только 800-ми человек; но — неоказание содействия войскам, ворвавшимся в бастион, сомнительная надежда на успех и неимение приказаний на дальнейшие предприятия, кроме рекогносцировки, были причинами, что атакующие не воспользовавшись приобретёнными уже выгодами, отступили. Шведы, имев время прийти в себя от первого изумления и увидев удаление россиян, ободрились, взяли меры предосторожности на, случай нового нападения и, приготовясь, таким образом, к отпору, заставили своих неприятелей потерять неделю времени»[176].
Таким образом, победители отступили.
Когда затем разведочная флотилия возвратилась в лагерь к остальным войскам и царь узнал подробности дела, он щедро наградил храбрецов, а «дядю Терентия» горячо обнял и поцеловал.
— И чем же, государь, сей Самсон победил шведов…— сказал, улыбаясь, Шереметев.
— А чем? — спросил царь.
— Головою, да только не своею.
— Как так — не своею?..
— Шведскою, государь, — улыбнулся Шереметев. — Ворвавшись с товарищами на вал, сгрёб сонного шведина за ноги и давай его головою, словно цепом, колотить направо и налево, как когда-то Илья Муромец молотил татаровей царя Калина:
Где махнёт — там улица татаровей, А отмахнётся — с переулками…— Так их же добром да им же и челом! — рассмеялся Пётр. — Ну и молодец же ты, вижу, дядя!
Восхищённый такою силой, государь жаловал богатырю пять ефимков.
19
В тот же день, в ночь на 26 апреля, царь Пётр Алексеевич и Шереметев, поняв свою оплошность, быстро двинули все войска и флотилию к Ниеншанцу.
Перед наступлением войск у царя наедине с Шереметевым в палатке произошёл следующий разговор.
— Знаешь, старый Борька, что я тебе скажу? — промолвил царь.
— Говори, государь, приказывай, — отвечал Шереметев.
— Видишь, что там в углу?
— Вижу, государь, твоя государева дубинка.
— А знаешь, где бы ей следовало быть?
— Не ведаю, государь.
— На моей да на твоей спине.
Шереметев смутился.
— Твоя воля, государь: коли я провинился, вот моя спина, бей.
— А ты меня будешь бить?
— Помилуй, государь! На помазанника Божия поднять руку — рука отсохнет.
— То-то, Борис… И моя рука не поднимется бить тебя… Невдомёк тебе, за что?
— Мекаю, государь… Моя провинка…
— И моя… Коли б за разведчиками мы все двинулись тогда же, крепость была бы уже наша.
— Точно, государь… Маленько проворонили.
— Ну, грех пополам: ни я тебя не бью, ни ты меня… Помазанник не может творить неправду.
Утром 26 апреля русские были уже под Ниеншанцем и наскоро разбили лагерь.
Место было открытое, и шведы, опомнившись после ночного переполоха и потери бастиона, снова перешедшего в их руки, и приготовившись к отпору, тотчас же начали палить по русскому лагерю. Но снаряды не долетали.
— Не доплюнут до нас, — заметил Шереметев.
— Да и наши чугунные плевки не долетят до них, — сказал Пётр. — Надо послать главного крота с кротятами.
— Это генерала Ламберта, государь?
— Его. Пусть возведут траншею саженях в тридцати от крепости и строят батареи для мортир и пушек, что прибыли из Шлиссельбурга на судах, построенных за зиму Александром Данилычем.
Осадные работы начались…
А на другой день государь решил с достаточным отрядом отправиться на рекогносцировку к самому устью Невы, к выходу её в море. Иначе могло так случиться, что, пока шли осадные работы, шведы явятся на своих кораблях к осаждённой крепости, что они и делали каждую весну, и тогда русские очутились бы между молотом и наковальней.
— Помилуй, государь, — взмолился Шереметев, — тебе ли нести святопомазанную главу под выстрелы береговых укреплений?
— Если Бог судил мне вывести Россию из тьмы на свет Божий, меня не тронут вражеские ядра, — твёрдо решил Пётр.
— Воля твоя, государь, — покорился Шереметев.
— Возьми и меня с собою, государь, — робко сказал Ягужинский.
— Ладно… Ты мне не помешаешь, Павлуша, — согласился царь. — Притом же твои глаза рассмотрят в море все лучше и скорее подзорной трубы.
Вечером 28 апреля государь посадил четыре роты Преображенского и три — Семеновского полков на шестьдесят лодок и под самым убийственным огнём шведских береговых батарей пустился со своею флотилией вниз по Большой Неве.
«Прикрытые лесом берега, мимо которых плыла флотилия, — говорит автор „Панорамы Санкт-Петербурга“ Александр Башуцкий, — представляли любопытным взорам царя мрачную картину дикой и сиротствующей природы, коей самые живописные виды не пленяют взора, если он не встречает в них присутствия людей, оживляющего и пустыни. Не одни берега, но и все пространство, занимаемое ныне Петербургом и его красивыми окрестностями, были усеяны лесом и топким болотом; только местами, и то весьма редко, виднелись бедные, большею частью покинутые деревушки, состоявшие из полуразвалившихся хижин, где жили туземные поселяне, промышлявшие рыбною ловлею или лоцманством для провода судов, приходивших с моря в Неву».
Таковы были тогда те места, на которых раскинулась теперь шумная, с миллионным населением, с храмами и Дворцами, окутанная паутиной телеграфных и телефонных проволок, горящая электрическим светом столица Петровой России.
«Уверив пустынных жителей сего лесистого края в неприкосновенности их лиц и имущества, снабдив их охранными листами и не видя на взморье ни одного неприятельского судна, — продолжает Башуцкий, — Пётр возвратился на другой день в лагерь, оставя на острове Витц-Сари, или Прутовом, ныне Гутуевском, три гвардейские роты, для охранения, невских устий»[177].
— Я вижу, что Нарва дала нам хороший урок, — сказал царь, осмотрев осадные приготовления. — Вижу, Борис Петрович, что ты не забыл сего урока, вижу…
— В чём, государь? — спросил Шереметев.
— В том, что твой крот и кротята взрыли здесь землю не как под Нарвой, сии кротовые норы зело авантажны[178].
— Я рад, государь, за Ламберта, — поклонился Шереметев, — это дело его рук.
— Теперь сие осиное гнездо, — Пётр указал на укрепления Ниеншанца, — долго не продержится, а сикурсу[179] ожидать осам неоткуда: устье Невы я запечатал моею государскою печатью.
Уверенные в неизбежном падении последнего шведского оплота на Неве, царь и Шереметев решили: избегая напрасного пролития крови, предложить коменданту Ниеншанца, полковнику Опалеву, сдаться на честных условиях, не унизительных для шведского оружия.
Осаждённые, не зная, что они отрезаны от всего света, продолжали пальбу по русским траншеям.
— Они даром тратят наш порох и наши снаряды, — улыбнулся царь, напирая на слова «наш» и «наши».
— Да мы, государь, нашего пороху и наших снарядов ещё нисколечко не истратили, — отозвался Шереметев.
— Тугенек ты мозгами, Борис, — покачал головою государь, — не сегодня-завтра осиное гнездо будет наше, а в оном и все наше: и порох, и снаряды, и пушки… Обмозговал теперь мои слова?
— Да, государь, — улыбнулся и Шереметев, — теперь и моим старым мозгам стало вдомек.
— Так посылай скорей трубача с увещанием сдачи на аккорд.
Послали трубача.
Едва он подошёл ко рву, отделявшему крепость от места осады, и затрубил, махая белым флагом, как канонада из крепости скоро умолкла и через ров был перекинут мост-Скоро трубач скрылся за массивными воротами цитадели. Нетерпеливо ждёт государь возврата трубача. Ждёт час, ждёт два. Трубач точно в воду канул.
— Что они там?-волновался государь. — Писать, что ли, не умеют?
— Видят, государь, смерть неминучую, да не одну, а две, не знают, государь, которую из двух избрать, — сказал Шереметев.
— Какие две смерти? — спросил Пётр, гневно поглядывая на наглухо закрытые ворота цитадели, откуда, как из могилы, не доносилось ни звука.
— Как же, государь: ежели они сдадутся на наши аккорды и отворят крепость, то их ждёт позорная гражданская смерть, может быть, на плахе. Ежели же они не примут наших аккордов, то отдадут себя на наш расстрел.
— Последнее, чаю, ближе, — согласился Пётр.
— Видимо, государь, смерть неминучая; а кому ж не хочется оттянуть смертный час?
— Но мне опостылело оттягивать приговор рока, — решительно сказал государь. — Если они к шести часам не ответят согласием на наши аккорды, то я прикажу громить крепость без всякой пощады, камня на камне не оставлю.
То же нетерпение испытывали и пушкари, и «крот с кротятами».
— Что ж мы, братцы, даром рылись под землёй, словно каторжники!
— Не каторжники, а кроты: так батюшка царь назвал нас, — говорили сапёры.
Больше всего злились пушкари.
— Кажись, фитили сами просятся к затравкам.
— Да, брат, руки чешутся, а не моги.
— Да и денёк выдался на славу.
День был ясный, тихий. Над крепостью кружились голуби, не предчувствуя, что скоро их гнёзда с птенцами будет пожирать пламя от огненных шаров. Большие белые чайки, залетевшие в Неву с моря, носились над водой, оглашая воздух криками.
— А царевича не видать что-то, — заметил один из пушкарей.
— Да он у себя книжку читает.
— Поди, божественную?
— Да, царевич, сказывают, шибко охоч до божественного… в дедушку, знать, в «тишайшего» царя.
— «Тишайший»-то шибко кречетов любил. Я видел его на охоте — загляденье.
— Ну, нашему батюшке царю, Петру Алексеевичу, не до кречетов: у него охота почище соколиной.
Но пушкарям не пришлось долее беседовать о соколиной охоте.
В шесть часов терпение государя истощилось…
20
Началась канонада.
Разом грянули двадцать двадцатичетырехдюймовых орудий и двенадцать мортир. Казалось, испуганная земля дрогнула от неожиданного грома, вырвавшегося и упавшего на землю не из облаков, а из недр этой самой земли.
Из крепости отвечали тем же, и, казалось, этот ответ был грознее и внушительнее того запроса, который был предъявлен к крепости: на двадцать орудий осаждавших из крепости почти восемьдесят орудий разразились ответным огнём.
— Да у них, проклятых, вчетверо больше медных глоток, чем у нас, — говорили преображенцы, лихорадочно наблюдая за действиями артиллерии с той и другой стороны.
— Охрипнут… Вон уж к ним от нас залетел «красный петух».
Действительно, «красный петух» уже пел в крепости; там в разных местах вспыхнул пожар. Палевое ингерманландское небо окрасилось багровым заревом горевших зданий крепости, а беловатые и местами чёрные клубы дыма придавали величавой картине что-то зловещее. Страшным заревом окрасились и ближайшие сосновые боры, и чёрная флотилия осаждавших, запрудившая всю Неву, в которой отражались и багровое зарево пожара, и подвижные клубы дыма.
Всю ночь на первое мая гром грохотал без перерыва.
Гигантский силуэт царя видели то в одном, то в другом месте, и в это мгновение огненные шары, казалось, ещё с более сердитым шипением и свистом неслись в обречённую на гибель крепость.
Как тень следовал за ним Павлуша Ягужинский. Но если бы государь обратил внимание на своего любимца, то заметил бы на лице юноши какое-то смущение. Да, в душе юноши шла борьба долга и чувства. В этот роковой для России момент, когда перед глазами Ягужинского развёртывались картины ада, юноша думал не о России, не о победе, даже не о своём божестве, которое олицетворялось для него в особе царя, он думал… о Мотреньке Кочубей, о том роскошном саде, где она рассказывала думу о трех братьях, бежавших из Азова, из тяжкой турецкой неволи… Чистый, прелестный образ девушки, почти ещё девочки, носился перед ним в зареве пожара, в клубах дыма, в огненных шарах, летевших в крепость… Он вспомнил, как Мотренька, досказывая ему в саду конец думы о том, как брошенного в степи младшего брата, умершего от безводья, терзали волки, разнося по тернам да балкам обглоданные кости несчастного, как Мотренька вдруг зарыдала… А тут явился, точно подкрался, Мазепа и разрушил все видение…
— Чу! Никак, отбой! — послышалось Павлуше.
— Отбой и есть: они замолчали.
Действительно, орудия в крепости по сигналу моментально смолкли.
Государь весело глянул на Шереметева и перекрестился.
Перекрестился и Шереметев.
— Говорил я… Сколько, поди, казённого добра перевели!
— Моего добра! — сказал царь.
В это время ворота цитадели отворились и на опущенном через ров мосту показалась группа шведских офицеров.
— Пардону идут просить, — заметил государь, — давно бы пора.
— Аманаты, чаю, государь,-сказал Шереметев.
Это действительно были заложники, долженствовавшие оставаться в русском лагере до окончательной сдачи крепости.
Государь принял аманатов милостиво и приказал немедленно изготовить «неутеснительные аккорды».
Условия сдачи крепости, аккорды, написаны начерно Ягужинским под диктовку государя.
— Вычти их, Павлуша, — говорит он, окружённый всем генералитетом.
Павлуша читает, но государь почти его не слушает: думы его растут, ширятся… перед ним великая Россия… поражение гордого коронованного варяга, нанёсшего ему рану под Нарвой… Рана закрылась… До слуха его отрывками доносятся фразы из аккордов…
— …«с распущенными знамены (это гарнизон Ниеншанца выпускается из крепости), — читает Павлуша, — и с драгунским знаком, барабанным боем, со всею одеждою, с четырьмя железными полковыми пушками, с верхним и нижним ружьём, с принадлежащим к тому порохом и пулями во рту»…
«Зачем с пулями во рту?» — думает Павлуша.
Царь по-прежнему мало вслушивается в чтение: он загадывает далеко-далеко вперёд!.. Душа его провидит будущее…
Он глянул на своего сына. Апатичное, как ему показалось, лицо царевича неприятно поразило его… «Этому всё равно… Он не понимает того, что совершилось, что!.. Скорей в глазах Павлуши я вижу сие понимание…»
А Павлуша между тем думал о… Мотреньке. Но он продолжал, думая о Мотреньке, читать аккорды. Когда же он дочитал до того места, где было сказано, что выпущенный из крепости гарнизон Ниеншанца переправляется через Неву на царских карбасах, чтоб потом дорогою, проложенною к Копорью, следовать на Нарву, царь остановил его…
— Постой, Павел, — сказал государь, — будем милостивы до конца. Аманаты просили меня отправить их не к Нарве, а к Выборгу, быть по сему. Так измени и сие место в аккордах.
Ягужинский исполнил приказ царя.
— Государь милостивее Бренна, — заметил как бы про себя Ламберт, — не кладёт свой меч на весы и не говорит: «Vae victis!»
— Какой Бренн? — спросил Пётр.
— Вождь галлов, государь… Когда галлы взяли Рим в 390 году до Рождества Христова, то, по свидетельству Ливия, Бренн наложил на римлян дань, или контрибуцию, в тысячу фунтов золота, и когда римляне не хотели платить этой дани, то Бренн на чашу весов с гирями бросил ещё свой тяжёлый меч и воскликнул: «Vae victis!» — горе побеждённым!
— Я сего случая не знал, — сказал государь, — да и чему меня учили в детстве?.. Я токмо то и знаю, до чего сам дошёл своим трудом.
Государь глянул на Ягужинского, и тот продолжал читать:
— «А чтобы его царского величества войска и подъезда их не беспокоили и не вредили, конвоировать оных имеет офицер войск российских».
Само собою разумеется, что с гарнизоном выпускаются жены, дети и слуги, раненые и больные, а равно желающие того обыватели и чиновные люди.
— «Гарнизон получает со всеми офицеры на месяц провианту на пропитание, — продолжал читать Ягужинский. — Его царского величества войско не касается их пожитков, чтобы гарнизону дать сроку, пока все вещи свои вывезут».
Ропот одобрения прошёл среди собравшегося генералитета.
За приведением в исполнение аккорда прошёл весь день первого мая, и только в десятом часу вечера преображенцы, в рядах которых выступал царевич Алексей Петрович, заняли город; цитадель же заняли семеновцы.
Для приёма обнаруженных в крепости артиллерийских и других воинских запасов составлена была из офицеров особая комиссия, члены которой, по докладу счётчиков, всю ночь на второе мая составляли ведомости найденного добра.
Всю ночь в чихаузе слышалось:
— Крепостных пушек восемьдесят без двух.
— Сто девяносто пять бочек счётом.
— Запасец не маленький… этого добра нам надолго хватит.
— Рад будет государь, да и старому Виниусу дела поубавится.
— Ядер, картечи, туфл, банников, фитиля, колец, огненных люст… люст… вот и не выговорю, — слышалось у другого стола.
— Люсткугелей…
— Точно… Эко словечко!..
— Ну, дале говори.
— Гранат, канифоли, серы…
У третьего стола докладывали:
— Подъёмов, гирь медных и железных, ломов, стали, гвоздей, топоров, котлов, рогаток, свинцу, железа, цепей железных, якорей, труб медных пожарных…
— Экая прорва!.. У меня и пальцы одеревенели, записались…
Только уже утром второго мая, после торжественного благодарственного молебствия за дарованную его пресветлому царскому величеству и христолюбивому российскому воинству знатную викторию, которая оглашена была троекратной пушечной пальбой и беглым ружейным огнём, комендант Ниеншанца, теперь уже просто полковник Опалев, окружённый своими офицерами, вручил Шереметеву ключи от несчастной крепости.
— Бедные! —шепнул Нейдгарт Глебовскому. — Какие печальные лица!.. Что-то ждёт их там впереди?.. Что-то скажет король?..
— Не дай Бог из нас никому быть на их месте, — вздохнул Глебовский.
21
Вечером того же второго мая Павлуша Ягужинский, сопровождавший государя вместе с Меншиковым, Шереметевым и Ламбертом при осмотре стен только что завоёванной крепости, внезапно остановился и стал во что-то пристально всматриваться, приложив ладонь ко лбу над глазами в виде козырька.
Пётр заметил это.
— Ты на что так воззрился, Павел? — спросил он. — Я чаю, «мои глаза» заприметили что?
— Кажись, государь, наш карбас поднимается сюда с низу Невы, — отвечал Ягужинский, продолжая всматриваться.
— Дай-ка трубу, Данилыч, — сказал государь Меншикову.
Меншиков подал царю подзорную трубу. Государь, положив её на плечо своего денщика, тоже стал всматриваться в двигавшуюся по Неве по направлению к крепости чёрную точку.
— Малость придержи дух, не дыши, — приказал он. — Так и есть, наш карбас, — сказал он через минуту.
— Должно, с вестями от сторожевого отряда, — заметил Меншиков.
— Не показались ли шведские корабли на море? — сказал Пётр в волнении.
Тотчас все спустились со стены, чтоб идти навстречу приближавшемуся карбасу.
Пока государь с сопровождавшими его дошёл до мостков, где должен был пристать карбас, на мостки уже выскочил мичман, управлявший карбасом, и отдавал государю честь.
— С какими вестями? — быстро спросил Пётр.
— Имею честь доложить вашему царскому величеству, что на море от острова Реттусари показалась шведская флотилия с адмиральским кораблём во главе, — бойко отрапортовал молодой мичман, один из первых русских навигаторов, уже отведавший навигаторской мудрости в Голландии и в Венеции.
— Что ж они, идут прямо в Неву?.. — ещё торопливее спросил Пётр.
— Нет, государь; они раньше не войдут в Неву, пока из Ниеншанца не ответят им условным сигналом.
— Ты как же о сём проведал? — оживился Пётр, и глаза его радостно сверкнули.
— Проведал я о сём, ваше величество, от лоцманов, кои проводят оные корабли в Неву.
— А где ты их видел?
— Они здешние, государь, рыбаки и живут на острове Хирвисари, где имеются ихние тони[180]. Им дно Невы и все её глубины и мели ведомы, как своя ладонь.
— Спасибо, мичман! — радостно проговорил государь. — Спасибо, лейтенант!.. С сего часу я возвожу тебя в чин лейтенанта.
— Рад стараться, ваше царское величество!.. — в радостном волнении произнёс новый лейтенант.
— В чём же состоит их сигнал? — спросил Пётр.
— В двух пушечных салютах с адмиральского корабля, на каковой салют из крепости ответствуют тоже двукратными выстрелами.
Взор государя выражал нескрываемое ликование.
— Будем ждать оного салюта и отсалютуем им тем же! — весело проговорил Пётр.
Потом, несколько подумав, царь спросил:
— Для чего ж сии салюты так издалека?
— Для того, государь, чтобы прибывшие корабли ведали, что крепость обретается в благополучии и проходу кораблей к крепости Невою не угрожает неприятель.
— И мне таковая же мысль пришла в голову, — вымолвил Пётр.
Действительно, в скором времени издалека, от моря, донеслись, хотя очень глухо, два выстрела. Русский пушкарь, заблаговременно поставленный у вестовой крепостной пушки и получивший инструкцию, что ему делать в случае салюта со взморья, отвечал такими же выстрелами.
— «Поцелуй Иуды» — скажет почтённый полковник Опалев, услышав наш ответ, — злорадно улыбнулся Меншиков.
— Сей салют — плач крокодила, — как бы про себя заметил Ягужинский.
— Почему «плач крокодила»?.. — спросил Шереметев, не особенно сведущий в естественных науках.
— Я читал, что в Египте, в Ниле, крокодилы, желая привлечь свою жертву к Нилу, к камышам, жалобно кричат, подражая детскому плачу, и посему, ежели человек притворно плачет, дабы обмануть кого своими слезами, сии слезы и называются крокодиловыми слезами, — отвечал Павлуша.
— Павел у меня во всём дока, — весело сказал государь.
— И точно, государь, малый у тебя собаку съел, — добродушно рассмеялся Шереметев.
«Ниеншанцский крокодил» продолжал плакать и третьего и четвёртого мая…
Вечером пятого мая из засады, устроенной русскими в камышах у устьев Невы, увидели, что от шведского флота отделились два корабля и, войдя в устье Большой Невы, бросили якорь против самой засады: в ожидании, конечно, лоцманов. И карбас молодого лейтенанта стрелою полетел к Ниеншанцу с новою важною вестью.
Вестей с засады государь ожидал с часу на час. Его удивляло и приводило в гнев то обстоятельство, что шведская эскадра вот уже четвёртый день стояла на одном месте, не приближаясь к устью Невы. В открытом море атаковать её простыми карбасами было положительно невозможно: шведские ядра потопили бы один карбас за другим, не подпуская до абордажной схватки на ружейный выстрел.
Поэтому, когда из лагеря заметили приближение карбаса нашего лейтенанта, государь пришёл в сильное волнение.
Быстрыми шагами он направился к мосткам причала лодок.
— Должно быть, зело важные вести везёт гонец, — заметил Меншиков, — стрелой летит карбас.
— А мне сдаётся, что он стоит на месте, — возразил Пётр.
— От нетерпения сие кажется тебе, государь.
Карбас ещё не успел коснуться мостков, как бравый лейтенант перелетел на мостки и вытянулся перед государем…
— Что? — мог только сказать последний. — Короче!
— Сейчас, государь, два корабля отделились от эскадры и встали на якорь в устье Большой Невы в ожидании лоцманов.
— Какого типа и калибра корабли?
— Четырнадцатипушечная, государь, шнява «Astrel» и десятипушечный бот «Gedan».
— Спасибо, капитан-поручик Сенявин! Я эти радостные вести никогда не забуду!
И государь горячо обнял молодого навигатора.
— Скоро выскочил в капитаны, — шепнул Шереметев Меншикову.
— Поистине достойно заслужил, — ответил также шёпотом последний.
22
Нетерпение государя схватиться наконец с победителями под Нарвой в морском бою было так велико, так неудержимо влекло его к себе море, все ещё «чужое» море, что он тотчас, в тот же вечер, с разрешения главнокомандующего, генерал-фельдмаршала Шереметева, посадил на тридцать карбасов преображенцев и семеновцев и, отдав последних под команду Меншикова как поручика бомбардирской роты, пустился вниз по Неве, чтоб во что бы то ни стало добыть морские суда, залетевшие в устье его Невы из околдовавшего его душу европейского рая.
Одно, что неприятно волновало царя, — это полусвет палевой ночи…
«Нельзя будет врасплох накрыть врага… Ах, эти чухонские ночи!» — сердился в душе государь.
Но флотилия продолжала двигаться, стараясь держаться в тени, отбрасываемой береговыми лесами.
Об этом говорит и автор «Панорамы Санкт-Петербурга».
«Погода, — пишет историк Башуцкий, — сначала тихая и светлая, не благоприятствовала предприятию русского монарха, но мало-помалу ветер изменялся, тучи скоплялись и вскоре после полуночи, обложив небо непроницаемою пеленою, разразились проливным дождём.
Флотилия, достигнув входа в речку Кеме, ныне Фонтанку разделилась на два отряда. Государь со своими пятнадцатью карбасами с преображенцами вступил в Малую Неву и огибая берега острова Хирвисари — ныне Васильевский, тихо подвигался к взморью. Меншиков же с остальными пятнадцатью карбасами с семеновцами вошёл в Фонтанку».
Достигнув устьев этих рек, обе флотилии остановились, ожидая под покровом бурной ночи благоприятного для нападения времени.
«Через несколько часов ожидания, — продолжает Башуцкий, — благоприятное время настало, и посреди мрака и бури оссиановской ночи Пётр, в поте лица трудившийся для России, ударил с двух сторон на изумлённых неприятелей. Пример вождя одушевил предводимых. Под градом ядер, гранат и пуль, сыпавшихся на царскую флотилию не только с абордированных[181] судов, но и с остальной эскадры, вступившей под паруса в намерении их выручить, но остановленной мелководьем, взлетели русские на суда, где смерть являлась во всех видах. Ни губительное действие неприятельских выстрелов, ни отчаянные усилия защищавшихся не спасли сих последних от угрожающей им смерти. Царь с гранатою в руке взошёл первый на шняву[182], и через несколько минут оба судна находились в его власти. Из 77 человек, составлявших их экипаж, только 19 сохранили жизнь ценою плена».
Ночь, первая ночь после первой морской победы…
Кругом сон, сон и над завоёванною крепостью, и над лагерем войска.
Не спит один Пётр. Он тихо, чтоб не разбудить денщика, выходит из своей палатки и идёт ещё раз, без посторонних глаз, взглянуть на дорогое приобретение. Душа его ищет уединения.
Медленно приближается он к стоящим на Неве кораблям, которые в дымке палевой весенней ночи кажутся великанами в сравнении с крохотными лодками-карбасами.
Долго стоит он в задумчивости. Кажется, что в такой же тихой задумчивости и Нева спокойно и величаво катит свои многоводные струи к морю, уже окрашенному первою победною кровью.
Он не подозревает, что его юный денщик, которого он считал спящим, раздвинув немного полу палатки, следит за ним издали, и Павлуше кажется в дымке весенней ночи, что на берегу стоит исполин.
Да, это был действительно исполин…
Невольно, представляя себе этот великий момент в жизни русского исполина, поддаёшься гипнозу гениального стиха великого поэта — стиха, относящегося к этому именно великому моменту:
На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный чёлн По ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца; И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, Кругом шумел. И думал он: Отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен Назло надменному соседу. Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам.И в его возбуждённом, вдохновенном воображении здесь, на этой многоводной Неве, уже развевались флаги всего мира, величаво двигались великаны-корабли; отовсюду, со всей вселенной стекались к этим пустынным берегам, чтобы потом из этого «нового сердца России» устремиться внутрь страны по всем её водяным и сухопутным артериям движения, а к новому сердцу, обратно, притягивать живую кровь и созидательные соки и избыток их выбрасывать из сердца во все концы мира…
Творческая мысль лихорадочно работает, созидает, обновляет… Нет предела для созданий его мысли, нет конца гениальным замыслам… Его великая душа стремится объять необъятное…
«Окно в Европу!.. Нет, мало того! Все двери настежь, великие объятия великой страны — настежь!.. Я взял море, оно теперь моё, и моими станут все океаны… Никогда не будет заходить солнце в моей стране… Уже совершилось небывалое… Завтра же повелю монетному двору выбить медаль с написанием на оной: „Не бывалое бывает“…[184] Завтра же отправлюсь выбрать место для заложения крепости моей новой столицы… А там, приходи, швед, милости просим…»
Уже совсем рассветало, когда государь возвращался к своей палатке.
Проходя мимо ставки царевича Алексея Петровича, он услыхал там голоса.
«И Алексей не спит, — сказал про себя государь. — А може, встал уже».
И царь вошёл в палатку сына. Там он увидел старого полкового священника, который, сидя рядом с царевичем, показывал ему что-то в раскрытой перед ним рукописи.
При виде государя царевич и священник быстро встали.
Подойдя под благословение священника и поздоровавшись с царевичем, государь спросил:
— Что это у вас за рукописание?
— Летописец, государь, древний, — отвечал священник. — И я вот показываю благоверному царевичу знамение, его же Господь и сподоби и тебя, благоверный государь.
— Какое знамение?
— А то знамение, государь, что брезе реки сей и на море родичи твои, святые мученики Борис и Глеб, помогаша тебе одолети врага, как помогли они, во время оно, сродственнику твоему, святому благоверному князю Александру Невскому, сокрушити врагов на сих же невских берегах. И зде, в сём же летописце, оное знамение и чудо записаны.
Государь взял рукопись, раскрытую на том месте, где летопись повествовала о видении старца Пелгусия и о поражении шведов новгородским князем Александром Ярославичем на берегах Невы при чудесной помощи святых Бориса и Глеба.
— Сказание о старце Пелгусии мне ведомо, а токмо как оно записано в летописце, сего я не читал, — сказал Пётр.
— Так прочти, государь, — сказал священник, — и царевич послушает.
Заинтересованный, царь стал читать:
— «Бе некто муж, старейшина в земли Ижорской, именем Пелгусии. Поручена бе ему стража морская. Восприять же святое крещение и живеше посреде рода своего, погана суща, и наречено бысть ему имя в святом крещении Филипп. Живяше богоугодно, в среду и пяток пребывания в алчбе, там же сподоби его Бог видению страшну. Уведав силу ратных…»
— То были рати шведского короля Бергеля, государь, — пояснил священник.
— Бергера, а по другим — Биргера, — поправил его государь и продолжал чтение: — «И иде оный Пелгусии противу князя Александра, да скажет ему стани, обрете бо их. Стоящю же ему при край моря, стрегущи обои пути и пребысть всю нощь в бдении. Яко же нача выходити солнце, и услыша шум страшен по морю, и виде насад[185] един гребущ, посреди же насада стояща Бориса и Глеба в одеждах червлёных, и беста руки держаще на рамах, гребцы же седяща аки в молнию одеяны. И рече Борис: «Брате Глебе! Вели грести, да поможем сроднику своему Александру». Видев же Пелгусий таковое видение и слышав таковой глас от святую, стояще трепетень, дондеже насад отыде от очию его. Потом скоро поехал к Александру, он же видев его радостными очимы, исповеда ему единому, яко же видя и слыша. Князь же отвеща ему: «Сего не рци никому же…»
Пётр остановился в задумчивости.
— И меня, государь, сподоби Господь такова же видения, — проговорил священник.
— Как? И тебе было видение? — с недоверием спросил государь.
— Было, о царю! — торжественно воскликнул священник. — Я видел, государь, как рядом с тобою взыде на большой свейский[186] корабль святый Борис, огненным мечом поражая свеев, а Глеб стояще поруч с Александром Данилычем, на меньшем корабле, посекая огненным же мечом врагов нашей церкви.
— И ты все это видел? — с улыбкою спросил царь.
— Видех, государь, в нощи, в сонии, — смело отвечал попик.
— А! Во сне?
— В сонии, государь, духовными очима.
— А! Духовными…
Государь взглянул на царевича.
— Я верю… Без веры нет спасения… Вера — сила необоримая, — тихо сказал государь. — В Евангелии читается: «Аще имати веру яко зерно горушно, — говорил Христос ученикам, — и рече-то горе сей: „Прейди отсюда“ — тамо и прейдет…»
— Аминь, — подтвердил священник и многозначительно глянул на царевича.
23
В тот же день государь собрал военный совет для решения важного государственного дела: в каком месте при устьях Невы заложить крепость и новую столицу Российского государства?
Перед открытием совета генерал-адмирал Головин, первый в России кавалер знатнейшего ордена св. Андрея Первозванного (вторым был гетман Мазепа), торжественно возложил знаки этого ордена на главных виновников морской победы над шведами — на самого царя и его любимца, Меншикова. Таким образом, государь был третьим кавалером высшего в России ордена.
Военный совет постановил: тотчас же отправиться в полном составе для всестороннего осмотра всех устьев Невы, её дельты и всех омываемых здесь Невою островов.
Маленькая флотилия, проследовав Большою Невою на всём её протяжении, вышла на взморье.
Шведский флот все ещё стоял неподвижно против устья Большой Невы, но на таком расстоянии, что пушки его не могли достигнуть скромной флотилии русских карбасов, как бы дразнивших собою шведских великанов. С кораблей заметили царя и его приближённых. Зрительные трубы шведских капитанов направились на дерзкие лодчонки.
Меншиков снял шляпу и замахал ею в воздухе…
— Здравствуйте, друга, несолоно хлебавши! — крикнул он.
Государь весело рассмеялся. Взор его выражал вдохновенное торжество.
— Близок локоть, да не укусишь, — сказал он.
— Они грозят кулаками, государь, — заметил Ягужинский.
Зоркие глаза Павлуши заметили эту бессильную угрозу.
— Кабы мы не лишили их лоцманов, нам бы не справиться с Нумерсом, — серьёзно заметил генерал-адмирал. — Кстати же и ветер им на руку с моря.
— Да и вода поднимается, им же на руку, — сказал государь.
Головин, сам правивший рулём на царском карбасе, скомандовал гребцам, и царский карбас вместе с другими стал огибать, по взморью, остров Хирвисари, чтобы войти в Малую Неву.
— И чего они стоят в море? Чего ждут? — говорил Пётр.
— Подмоги, чаю, государь, сухопутной, либо от Выборга, либо от Нарвы, — заметил Головин.
— Добро пожаловать! — сверкнул глазами Пётр. — Мои молодцы теперь уже не те, что были под Нарвой, наука нам впрок пошла.
Долго маленькая флотилия плутала по лабиринту всех рукавов Невы. Обогнув остров Хирвисари со взморья, она проследовала Малой Невой вверх, мимо острова Койвисари, ныне Петербургской стороны, и мимо маленького острова Иенисари, где ныне крепость, и повернула в Большую Невку, следуя мимо острова Кивисари, ныне Каменного, мимо Мусмансгольма, ныне Елагина, и, обогнув остров Ристисари, ныне Крестовский, Малою Невою вошла опять в Большую Невку.
На всём останавливался взор царя, все обсуждала и взвешивала его творческая мысль, во все вникал его всеобъемлющий гений.
— Сими дыхательными путями будут дышать великие лёгкие моей России, — говорил он в каком-то творческом гипнозе.
— Отдушины знатные, — согласился Головин.
— Воды что в Ниле,-продолжал государь. У него из ума, по-видимому, не выходил Александр Македонский с его новой столицей в дельте Нила.
Меншиков, умевший отгадывать мысли царя, заметил:
— А поди, он, Александр Филиппович, не с таким тщанием, как ты, государь, изучал дельту Нила.
— Да у Александра Филиппыча, чаю, не стоял за спиной Нумерс со шведским флотом, как ноне у меня, — проговорил Пётр.
Карбасы, выйдя из Большой Невки, снова повернули вниз по Большой Неве.
— Стой! — сказал царь, когда его карбас поравнялся опять с островом Иенисари. — Осмотрим сие место.
Карбас причалил к берегу. Все вышли на островок и исследовали его со всех сторон.
— Государь! — вдруг радостно воскликнул Павлуша Ягужинский. — Изволь взглянуть наверх.
— Что там? — спросил Пётр.
— Над тобою, государь, кружит царь-птица! — с юношеской живостью говорил Павлуша. — Орёл над тобой, государь, — счастливое знамение.
— Откуда тут быть орлу? — удивился царь.
— А вон и гнездо на дереве, государь, — сказал Меншиков.
Огромная шапка, точно гнездо аиста, чернела между ветвей с начинавшими распускаться зелёными листьями.
— Знамение, знамение! — радовался Ягужинский. — Такой же орёл кружил над Цезарем, когда он переходил через Рубикон.
Государь задумчиво следил за плавными взмахами гигантских крыльев царственной птицы.
— Какой полет! — тихо заметил он.
— Твой полет, государь, — сказал Меншиков.
Исследовав островок Иенисари и его окрестности, государь остановился на решении, что лучше этого островка для сооружения крепости и быть не может.
— Кругом вода, и никаких рвов копать нет надобности, — говорил он возбуждённо. — Сие место не Ниеншанцу чета. Мимо сего островка, чаю, не токмо корабли с моря, но и рыбацкая лодка не проскользнёт. А по другим рукавам Невы большим судам ходу нет. Назло братцу моему Карлу я новую свою столицу срублю моим топором на его земле, на сей стороне Невы, на острове Койвисари, а на левой стороне Невы разведу огород на славу, сей огород украшу статуями, каковые я видел в Версале, и назову сие место «Парадизом». Самый же город расположу на острове Хирвисари. А по малом времени, чаю, с Божьей помощью, и на левую сторону Невы перекину город.
— А орёл все кружит, — не переставал радоваться Ягужинский. — Теперь я вижу, что на гнезде сидит орлица.
— Ну, Павлуша, — ласково проговорил Пётр, — не вывести уж тут ей своих орлят.
— Почему, государь?
— А потому, что завтра же мой топор учнет тут ходить по деревам, — сказал Пётр. — И будет прочна моя тут построечка: стоять ей здесь, пока земля стоять будет и солнце по небу ходит.
Окончательно было решено: на Иенисари заложить крепость, а новую столицу — там же, только за протоком, на острове Койвисари, что ныне Петербургская сторона.
Возвращаясь после этого в лагерь, государь долго погружён был в думы; но Меншиков и Ягужинский, привыкшие читать в его душе по глазам и по лицу, понимали состояние этой великой души… То, о чём он по целым дням и ночам мечтал в своём рабочем покое в Москве, к чему с неудержимою страстию рвались его думы, теперь достигнуто. Нева — это окно в Европу, — его река! «Чужое» море — теперь его море!
— Там я заложу верфь, — указывал он на левый берег Невы, где ныне Адмиралтейство. — Здесь — артиллерийский парк, — указал он на берег Выборгской стороны.
Потом, обратясь к артиллерийскому полковнику Трезини, родом итальянцу[187], Пётр сказал: — Тебе работы будет по горло.
— Рад служить великому государю, — поклонился Трезини.
— Чаю, не позабыл своей науки, живучи у московских варваров?
— Архитектуры, государь? — спросил Трезини.
— Да, стройки, да только вечной, как вечен ваш Рим.
— Думаю, государь… Но построить новый Рим — не хватит человеческой жизни, — отвечал бравый потомок Гракхов. — Даже о Коринфе старая римская пословица говорит: Alta die solo non est exstructa Corinthus.
— А сие что означает?
— И Коринф построен не в один день.
— A y нас, государь, у немцев, имеется такая же пословица о Риме, — сказал полковник Рене: — Rom ist nicht auf einmal erbaut.
Но государь, кажется, все забыл, когда карбас его поравнялся с шведскими великанами, отбитыми столь молодецки, кораблями «Астрель» и «Гедан». Глаза его сверкнули гордою радостью.
— Данилыч! — окликнул он Меншикова, сидевшего около Головина.
— Что изволишь приказать, государь? — отозвался тот.
— Сегодня же посылай гонца в Новгород к митрополиту Ионе с указом, чтоб немедля прибыл сюда для освящения мест под крепость и новую столицу.
— Слушаю, государь, а к какому дню?
— К Троице.
Так жаждала великая душа заложить первый камень на том месте, где теперь раскинулся на сотни вёрст великий город с его величественными храмами, дворцами, город с его миллионным населением, с парками, садами, всевозможными учебными заведениями, город, изрезанный стальными полосами рельсов, опутанный паутиною телеграфных и телефонных проводов, из которого исходят вести вплоть до бурных вод Тихого океана…
Как было не трепетать великой душе, провидевшей мировую миссию своего народа в будущем!
24
Настал, наконец, желанный день.
К 16 мая войска, взявшие Ниеншанц и овладевшие всею Невою и её дельтою и стоявшие лагерем — пехота по ту сторону Невы, а кавалерия — на левом её берегу, все придвинулись к месту закладки крепости и новой столицы. Невская флотилия, на которой прибыли войска к месту закладки, так запрудила берега Иенисари и ближайшие берега Койвисари, что прибывший из Новгорода владыка Иона со всем собором духовенства, с хоругвями и образами, а затем и государь с блестящею свитою только с помощью удивительной распорядительности Меншикова, уже назначенного губернатором будущей столицы, могли свободно пройти к месту молебствия и закладки.
Ярко отливали на солнце андреевские ленты новых кавалеров — самого государя, Меншикова и старого Головина. Богатые ризы духовенства из золотой парчи, украшенная драгоценными камнями митра Ионы, искрившиеся золотом и алмазами иконы, блестящее вооружение войска — все как будто говорило: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в он…»
Да, это был великий день на Руси.
Началось молебствие.
Павлуша Ягужинский, стоявший около царя, почти не спускал восторженных глаз с его лица. Никогда он не видел такого, казалось, лучезарного лица!
В руках Павлуши находился небольшой золотой ларец. Когда юный денщик все же опускал глаза на ларец, то машинально повторял шёпотом слова, начертанные на его крышке.
«От воплощения Иисуса Христа 1703, маия 16, — шептали губы Павлуши, — основан царствующий град Санкт-Питербурх великим государем, царём и великим князем Петром Алексеевичем, самодержцем Всероссийским».
По окончании молебствия митрополит окропил святою водою царя, его свиту и выстроенные полукруглыми шпалерами войска.
— Александр Данилыч, подай лопату, — сказал государь.
Меншиков, взяв железную лопату у стоявшего на фланге великана Лобаря, подал царю.
Поплевав на руки, как это делают настоящие землекопы и плотники, государь глубоко всадил заступ в землю, где должен был находиться центр закладки, разом выворотил громадную глыбу влажного грунта.
— Вишь, и на руки поплевал, и впрямь, что твой землекоп…
— Эвона, какой комище выворотил, — перешёптывались между собой преображенцы.
А Лобарь, глядя на работу царя-исполина, думал: «Поди, и я не осилил бы царя-батюшку… Вишь, как засаживает! Того и гляди заступ вдребезги…»
Меншиков, взяв другой заступ, тоже стал копать рядом с царём.
Не утерпел Лобарь, завидно; захотел помериться силою с государем и взял заступ у соседа.
Вывороченная глыба оказалась больше государевой. Последний заметил это и улыбнулся.
— А! И дядя Терентий пристал к нам, — сказал он. — Спасибо.
— Рад стараться, государь-батюшка, — отозвался Лобарь, выворачивая горы чёрного грунта.
Тогда бросились с заступами и другие преображенцы, и в несколько минут яма была готова.
— Подай ларец, Павел, — обернулся государь к Ягужинскому.
Тот подал. Между тем солдаты опустили в яму выдолбленный из гранита четырехугольный ящик, и митрополит окропил его святою водою.
Тогда государь, припав на колено, вложил ларец в ящик и, прикрыв его дёрном, тут же собственноручно вырезанным, торжественно возгласил:
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! Основан царствующий град Санкт-Питербурх!
В основу этого города положена, в золотом ларце-ковчеге, частица от апостола Андрея Первозванного.
Это — глубокий религиозно-национальный символ. Известно, что Андрей, брат апостола Петра, был «первым призван» (отсюда — Первозванный) Спасителем в Свои ученики, и он же первый принёс слово Евангелия чрез Малую Азию и Чёрное море к нам в Скифию, и, по преданию, на месте будущего Киева водрузив крест, сказал уже своим ученикам: «На сих горах воссияет благодать Божия и воздвигнется великий град». Оттуда апостол доходил даже до Ильменя.
Едва произнесены были государем последние слова, как все опять увидели в небе парящего орла и приняли его за знамение[188].
В тот же момент воздух потрясён был пушечными выстрелами с стоявшей у берега невской флотилии, и этим залпам вторили крепостные орудия со стен Ниеншанца.
Затем, под гром орудий, государь вместе со свитой, предшествуемый митрополитом и духовенством с хоругвями и образами, двинулся в глубь островка Иенисари и, остановившись у протока Иенисари от Койвисари, подозвал к себе Ягужинского, у которого теперь в руках был царский топор.
— Подай топор, — сказал государь, ища что-то горевшими вдохновением глазами.
И он нашёл. Это были две стройные, высокие берёзы.
Царь срубил их, обтесал, заострил собственноручно стволы и приказал инженер-генералу Ламберту выкопать в земле две глубокие лунки, на расстоянии нескольких сажен одна от другой.
— Ишь как ловко тешет, — переглядывались меж собой семеновцы.
— Не диво: в Галанской[189] земле, сказывают, он, батюшка, сам доски тесал и стругал, и сам корабли строил.
— Ну и дока во всём, храни его, Господи.
Тогда государь связал верхушки срубленных берёз и вставил стволы их в готовые лунки, так что берёзы образовали проход, подобие арки или триумфальных ворот.
— Это что ж буди? — переглядывались семеновцы.
— А это называется… как бишь его?
— Трухмальные порты.
— Порты! Что ты! Эко слово брякнул!.. Там, вишь, святые образа и сам владыка, а он — на! — порты!
— Порты — трухмальные порты и есть! — настаивал сведущий в этом деле семеновец. — Так, чу, за морем повелось: ежели какой праздник, так все проходят в трухмальные порты, кои бывают каменны и обвешиваются зеленью, как у нас в семик[190] либо на Трощу.
— Да у нас ноне Троица и есть.
Государь между тем снова взялся за заступ и наметил места закладки крепостного рва и ворот.
Чтобы видеть, сколько предстояло трудностей для создания новой столицы, приведём слова автора «Панорамы»:
«Поднятие низменного острова Иенисари, расчистка земли, вырубка леса, построение крепости и домов и другие работы требовали большого числа рук, и потому царь, употребив на сии работы сначала бывшие у князя Репнина[191] войска, также ингерманландцев, повелел прислать из России тысячи рабочих и мастеровых, равномерно казаков, татар и калмыков, присоединяя к ним значительное число пленных шведов, так что тою же лета сорок тысяч человек, разных племён и наречий, разделённых на две очереди, трудились над созиданием Петербурга. Казённые работники получали от казны только пищу, а вольные сверх оной и плату, по три копейки в сутки. За недостатком инструментов и землекопных орудий большая часть работы производилась голыми руками, и вырытую земли носили на себе в мешках или даже в полах платья. Если к сему прибавить, что работавшие не имели не только жилищ, но даже необходимого крова и нередко томились голодом, ибо не всегда успевали доставлять им потребное количество съестных припасов, то можно вообразить, каких неимоверных трудов и усилий стоило первоначальное обстроение Петербурга. Но того требовали обстоятельства, того требовала польза целой России».
Короче говоря, создание Петербурга Державным плотником было борьбой титана с природою и стихиями, и титан победил, положив основание городу, в котором, как в фокусе государственности, с течением времени сосредоточилась вся интеллектуальная мощь великой страны, её коллективный государственный ум, её коллективное законодательное творчество, её коллективная работа в области наук и искусств — и единодержавная воля венчанного потомка Державного плотника.
О. Н. Петров БАЛАКИРЕВ. РОМАН
К читателям
Автор хотел прежде всего представить картину русской жизни в царствование Великого Петра, начиная с первого путешествия преобразователя в Европу и далее — в разные годы его царствования. Изображённые лица, — кроме двух-трех, служащих невидимыми пружинами действий главных персонажей, — не вымышлены. Автор, желая характернее очертить ход событий, старался изобразить действующих лиц в настоящем их виде. Что же касается главных героев — отца и сына Балакиревых, — их похождения не выдуманы, и если для привыкших представлять себе Ивана Балакирева шутом Петра I, то здесь он является не таким, и в этом не вина автора, а неверность печатных известий о самом лице. Выполнил ли автор предположенную им задачу — в форме исторического романа, не уклоняясь от его требований, — судьями, конечно, могут быть лишь читатели.
Автор
Часть I. РОДСТВО НЕ В ОБРАЗЕЦ HE ЗНАЕШЬ: ГДЕ НАЙДЁШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ
Вместо пролога
— Право слово… Как слышал, так и докладаю твоей милости, государыня Лукерья Демьяновна. Разрази Бог на сём месте… коли что от себя выдумал… Все истово… Так повелевает новый-от указ[192]…
— Не может быть того, покель свету стоять… Ни в жизнь не поверю… хошь всех святых мне неси… Статочно ли дело, чтобы государь нам, дворянам, вконец погибель такую уложил по великой своей милости?.. и маломощным тянуть одиново с великопоместными. Я, к примеру, стряпческа вдова[193] — сто дворов с небольшим и моих родительских, и мужних — на Олешин пай, и мне тянуть супротив матери игуменьи Капитолины Федоровской? Да у ей во дворе скота одного — возьми ты, глупая голова, — сколько? а пашенной да сенокосной земли счёту не дать; а у нас всего шесть сот четей[194] в поле… С чего нам струг[195] выставить на Оке, что ль, баил с ей…
— Истинно так, ваша милость… Со стряпчим с Переяславля вместе ехали, он точнехоньки так и баил… С ихней игуменьей нашей деревеньке в одну версту идти. И на срок на один… на весеннего Егорья[196] судно поставить… мудрено таково назвал…
— Ну, не окаянный ли ты, лжец, беспутная голова, коли мне смеешь такие речи доводить?! С похмелья, что ль, аль совсем во хмелю, незнамо что бредишь непутно, Гаврюшко… Чигирем батьку твово звали… а я тебя чихирем[197] назову за такую неподобь… Что своей боярыне несёшь околесицу, когды дело я спрашиваю… Знатье бы, не тебя бы, пустую голову, в город засылала испроведать, что там деялось; для чего дворянам с деревень наезжать к воеводе… Всех коли требовали нас, дворян, как же игуменья-то угодила со мной в одну версту? Ну-тка, мудрец, расскажи-ко нам, как, по твоему дурацкому разуму, священство-то заколупнули?..[198]
Мы забыли предуведомить, что дело происходит в семь тысяч двести пятом году от сотворения мира, а нашего счета в 1697-м[199], во Владимирском уезде. Царь Пётр Алексеевич ещё не воротился из Голландии, а уж по его требованию сбор средств на постройку флота начался на Руси.
— Не могу знать, государыня Лукерья Демьяновна, — видя несправедливый на себя гнев помещицы, смиренно отозвался её ходатай по делам смышлёный мужик Гаврило Чигирь. — Знаю одно только, что на сей раз и посады верстают с поместьем, и гостей с властями, в одну складку… а для чего так? — не нашего холопского умишка допытать… Вот те Богородица, не лгу, и братец ваш, Елизар Демьяныч, допытывал того ж. И подьячего из избы из приказной вызывал и посулы выложил, никак, пять алтын: одно скажи, с чего и почему ноне такой наряд грозный со всего люда крещёного без различия доправлять велено… Одначь подьячий и алтыны отпихнул, и угощаться не пошёл на кабак… на одном стоит — не велено рассказывать… Да вот и сам его милость Елизар Демьяныч, никак, подкатил.
Помещица взглянула в окно, и морщин на лбу как не бывало; мало того — показалась даже улыбка.
Да и как было не улыбнуться даже самому угрюмому и хмурому, глядя на толстяка, вылезавшего из колымаги. Одной ногой он уж стоял на земле, а длинный и острый носок сапога другой запутался в мягких одеялах, наваленных ворохом на дно колымаги. Как ни топтался на месте обладатель завязшей ноги, усилия его оказались бы тщетными, если бы не помощь двух здоровых холопов, которые, схватив и подняв гостя на воздух, вытянули носок из-под одеяла. Рванули они, однако, так усердно, что тот освобождённою ногою задел об край колымаги, окованной железом, и вскричал от жгучей боли. Приезжий разразился бранью, прерываемой взвизгиваньем и стонами:
— Олухи проклятые!.. Эко медведье!.. Никак, ногу-то вывернули, злодеи!.. О-ох!
Лукерья Демьяновна не могла оставаться зрительницею невзгоды брата: она вылетела на крылечко, к которому подносили уже гостя неловкие, хотя и верные, слуги.
— Добро пожаловать!.. Сколько лет, сколько зим… Не чаяла, вдовою живучи, повидать тебя, сударь-братец, коли уж не видала при живности мужа. Ан Бог милосердый не вконец прогневался, дал ещё во здравии видеть тя!
— Не в полном, сестрица. Кабы не общее злосчастье, не поднялся бы при своих недугах, — отозвался Елизар Демьяныч, целуя с напускною горячностью сестру, с которой не ладил и не видался не меньше двадцати лет, успев состариться за это время. Гость опустился на ноги без поддержки слуги.
Сестра, забыв старинное злорадство, стала всхлипывать и вздыхать, а затем от слез перешла к расспросам:
— За коим, батюшка, к нам, говоришь, за делом Бог принёс? — наконец спросила Лукерья Демьяновна, усадив брата и приказав подать чарку. Законное любопытство овладело ею.
И глазом не успел Елизар мигнуть, как показался в дверях поднос с чарами, при виде которых на лице гостя просияла улыбка полного удовольствия. Понятно, что мысли гостя теперь не скоро придут в такое состояние, чтобы ответить на вопрос, заданный хозяйкой. Вопрос сам к тому же был такого свойства, что Елизар, не ожидавший его, должен был подумать, как и что ответить. Прямо правду-матку отколоть нельзя было хитрецу, сбиравшемуся попытать счастья: половить в мутной водице рыбки, разыгрывая благожелателя, если не благодетеля. Поэтому, занявшись питьём, Елизар думал замять ответ, им ещё сочиняемый, но нетерпение сестры не оставило его в покое.
— Зачем же Бог-от принёс тебя, сударика, к нам? Видно, дело важнеющее? — настаивала она.
Елизар мгновенно смекнул, куда направить нить повествования, чтобы усыпить недоверчивость.
— Чего спрашиваешь ещё! — пропуская проворно чару вишнёвки, ответил как бы неохотно приезжий. — Ужель, живя ближе нас, грешных, к Москве, не ведаешь, что там деется на нашу помещичью беду и сущее разорение? — докончил Елизар, пропустив другую чару.
— Да ты толком говори, — спросила Лукерья, прикинувшись непонимающею и словно ничего не знающею, дав знак глазами верному своему посыльщику Гаврюшке удалиться. В эту минуту помещице захотелось словами брата проверить доклад своего хожака по делам.
— Нече тебе, Лукерья, дуру строить, — оставшись наедине с сестрою, начал Елизар. — Гаврюшку твоего видал я сам во Владимире, значит, сама ведаешь, про что посылала… Нас пытать нече… Тем паче в таки времена… Стар становлюсь… На мировую приехал… Недоверие, значит, всякое отложи и толком поговорим… Хочу тебе, сердечной, помочь от наших достатков, — и он глазами показал в ту сторону, где положили его дорожную кису с подголовком[200] почтённых размеров. Подголовок был громоздок и нескладен, но достаточен для вмещения ценных вещей, которых не оставляли в те поры помещики без своего глаза в усадьбах. Неровен час — можно было и ничего не найти при возвращении.
Сестра вздохом одним поспешила заявить мнимую свою вдовью бедность, и на лице её вместо любопытства выразилась малоидущая к её обычно строгому выражению нежность. Как видно, и брат и сестра хотя и были доморощенные артисты по части мимики, но могли за пояс заткнуть любого комического актёра ex professo[201]. Здесь умудряла чад своих сама мать-природа, для своей собственной потехи вложив в них призванье к игре в свете. Желание перехитрить себе подобного было всегда в ходу в московском обществе, а тем более в последние годы московского царства перед эпохою преобразований. Утончённость мошенничества доведена была до nec plus ultra[202], а художники в этом роде, — к сожалению, принадлежащие к семье непризнанных гениев, — всё ещё были недовольны собою и из любви к искусству, так сказать, практиковались при всяком случае, не выключая и свиданий с родными. Елизар Демьяныч, век свой слывший кулаком, — а у недругов даже заведомо истым мошенником, — никак не ожидал встретить соперницу в сестре, при первом же свидании озадачившей его своими вопросами и видом полнейшего неведения. Слова его, сказанные напрямик, возымели, однако, своё действие. Но как знать, не было ли и продолжение родственной беседы мастерскою игрой помещицы, гениально отгадавшей тон, которого держаться следует: выказывать откровенность, душу нараспашку, коли уж братец заявил, что желает помочь?
Кто останется победителем в этом поединке, читатели сами увидят из продолжения повести, а мы здесь только вправе сказать, что Лукерья Демьяновна, женщина с умом и выдержкою, долго считала себя достигающею цели стремлений. Сами посудите, как же ей было так не думать?
— Признаюсь, братец, и не смела думать о том, чтобы тебя послал Господь Бог на помощь мне, грешной, в бедах и напастях. А беды немалые: от одного взноса полтинных на Покров[203] убереженье моё от старых лет все уйдёт разом, благо б только хватило… А как и чем придётся доплачивать верстанье по-стружному, или как там по-иноземному прозывают, прах их побери, — дело судовое, что вновь наложить, баит Гаврюшко, царь-государь велел… истинно — ума не приложу!
— Не горюй… Затем и приехал, что тебя в свой пай беру; по родству это самое можно… Я уж все разузнал… Дай, думаю, под старость хошь с сестрой в ладах поживём… Перестанет она Елизара Иудой считать…
— Никогда — Бога в свидетели беру — этого не токмя ни говаривала, и в мысли не клала, — тоном обиженного достоинства поспешила протестовать Лукерья Демьяновна.
— Верю, охотно верю… Не упрекать имел намеренье, а признаться самому в неоказывании тебе при бывших случаях родственной любви, как брат должен… Под старость…
— Ну, кто Богу не грешен!.. Пословицу знаешь: кто старое помянет, — поспешила перебить Лукерья Демьяновна, которой речь Елизара Демьяновича показалась слаще мёда, но благоразумие шепнуло, что должно всегда наблюдать умеренность.
— Стало, ты, сестра, незлопамятна и невзыскательна на кающемся, — продолжал верный своему плану Елизар Демьяныч. — Но я должон себя знать и делать, что велит Создатель, в руце которого наши дни и лета… У его, Всеблагого, дни наши изочтены суть, а мы, былие травное, коли не меньше, забываемся, кичимся, злобствуем, жадничаем. А как тут испытание пошлёт Господь Бог… и очувствуешься мало-мало… Как у меня, на Преплавленье[204], пятьдесят дворов да амбаров шесть лизнул пожар на селе — я, грешный человек, и понял: пора, Елизар, в чувствие прийти… Дай, думаю, к сестре съезжу… Еду через город, новости тем паче горшие проведал… Попервоначалу домой поворотил, да на ночлеге сон увидал — и воротился к тебе. Про тебя, слышь, сон-то привиделся. Вижу, к примеру сказать, выехал я на жнитво: народу таково много у меня на полосе… Мужики и бабы работают таково усердно. На коне будто я на чалом еду… С коня не сседая, спрашиваю: почто, народ честной, усердствуете? Угодить, говорят, хотим молодому боярину Алексею Гавриловичу… Какому, говорю, Алексею Гавриловичу?.. И проснулся с тем. Припамятовал утром сон, да и думаю: никак, это про Алёшу? Коли здоров, значит — скоро наследник мой будет! Сон — вещун правдивый.
— Бывает же, скажи, такая нелепица, братец, голубчик!.. Ну, статочно ли дело, чтоб мой Алексей твоё добро перенял у племянницы, у Анны Елизарьевны?..
— Она уж не моя, не твоя, а Божья… в монастырь ушла… Выделил ей вкладу в обитель тринадцать дворов, и того за глаза довольно… облопаются неравно честные матери, коли им отдать при родном племяннике все…
Лукерья поглядела на брата с особенным чувством, но чувство это, если говорить правду, было недоверие. Разом столько благодати не посылает судьба на долю грешных людей! Довольно бы и одной помощи при исполнении нагрянувшей как снег на голову судовой повинности, а тут и обещание помощи, и надежда на наследство сыну! Ум самый недоверчивый, впрочем, при обещании неожиданных благ теряет большую часть своей чуткости и осторожности. То же оказалось и с Лукерьей Демьяновной. «С чего Елизару, вправду, ко мне ехать, коли б не горе — дочери все едино что лишился?.. Осиротел!.. И пригреть старость некому. По себе всякому можно судить… Значит, до него пришло, коли к нам привалил и сам развёл лясы… Не я покорилась первая… А коли с добрым намерением — Бога надо только благодарить. А от милости Божией как отказаться?.. Не дуры же мы, прости, Господи!.. Век изжили, чему ни на есть выучились… Коли начал он — мне нужно до конца довести». И этот силлогизм оказался теперь самым подходящим планом действий Лукерьи Демьяновны.
Она обладала редкою способностью мигом вызывать у себя слезы на глазах, если нужно. Вот они увлажнили её густые ресницы, и, всхлипывая, начала она:
— Что ты говоришь, Елизарушко! С чегой-то Аннушке, голубушке, невзмилился Божий свет, коли она не испытала, свет наш, невзгод в сём суетном свете, ни…
— Так Богу угодно, видно… Не спрашивай только теперь… а то боли душевной не пересказать мне будет, как я бился с дочерью… Вся, знаешь, в мать-покойницу — настойчивая… Что в голову заберёт — так тому и быть. И грозил я, и миловал, — на одном упёрлась: за того не отдаёшь, за кого я хочу, — в монастырь пусти. Ну, сама суди: при чём бы мы, отцы, были, коли б своего помёта волю исполняли?.. Она упряма — я вдвое!.. Ну и ушла… и живёт…
У Лукерьи Демьяновны в глазах заискрилось пламя, но так же быстро и потухло. Воли на это хватило: злорадства и разгневанному отцу не следует дать заприметить. Мгновенный взгляд на брата успокоил Лукерью, но попасть в тон разговора стоило теперь необыкновенного усилия даже и для её изворотливого ума. Напало теперь сомнение на Дворянку Балакиреву. О ней часто говорили, что тоньше Демьяновны разве Лиса Патрикеевна; да и из лис не всякая, а разве одна из тысячи бывалых во всяких передрягах. Но звериный норов брата, его упрямство, из-за коих пожертвовал он своею дочкою, поселили, может быть, в первый раз в жизни, сомнение в себе у хитрой бабы Балакирихи. Невольный трепет охватывал её от возможности близкой наживы, но она понимала, как труден подступ к капризному самодуру, каким представлялся ей теперь Елизар.
Сына любила Лукерья по-своему, и не для себя представлялось необходимым теперь заловить в сети брата, пока у него, бедняжки, не прошёл гнев на дочь. Неожиданность событий, впрочем, мешала ей вернее рассчитать все приходившие в голову возможные подступы к верной, казалось, добыче. Мысленно сетовала Лукерья, что она одна теперь. Сына отпустила гостить на три дня к соседям, и он раньше завтрашнего обеда не может быть, а нужно ковать железо, пока горячо. Столпление мыслей, понятно, при таком напоре могло лишить слова кого угодно. Тонкий хитрец, Елизар не мог не заприметить перерыва речи, но отнёс её к своему внезапному рассказу о дочери, а затем — к высказанному запрету спрашивать о ней. Ему, в свою очередь, стало неловко, и он решил сам навести сестру на продолжение разговора, думая, что она обиделась на его оговорку.
— Не сердись, не взыскивай за отказ передать своё горе. Верь Богу —не могу… Скажи лучше, где Алёша?..
— Нет его дома, братец, — я одна… Горько мне слышать о том, что ты испытываешь на старости. Ведь с загвоздки такой я не собралась с духом калякать с тобой при твоём положении. А насчёт того, чтобы мне в обиду вломиться за поперечку, истинно, и помысла не имела… Коли хочешь знать про мои дела, всю подноготную открою. А прежде всего поведай, свет мой, о наших бедах общих, что готовят нам в городе?
— Тамо, сестрица, просто погибель нам, бедным, чинится, а напредки горшее сулят… Первое дело, наместо полтины рубль требуют на жалованье ратным с тех, кому в походе быть не довелось!.. С меня, значится, со старого, да с тебя — за племянника… Да на срок, слышь… А не внесёшь — вдвое, с разряду потребуют — как указ нам наслан с постельного крыльца[205], по примерам прошлого и запрошлого лета… И не прощён, значит, сбавку… А коли как ни на есть, неправдой вестимо, в список имя записали… с пяти-десяти дворов два рубли, подворный подавай, коли не ведаючи не попал на службу… К тебе ещё за Алешеньку брать не приходили?
— Нету, кажется, миловал Бог досель…
— А с меня так содрали, проклятые, пятьдесят шесть рублёв разом… А за что про что — и сам не ведаю… Дьяк в приказной бает одно — в походе не был!.. Да я, мол, аль не видишь? — без ног. Ничего-ста нам и ведать не велено… Твоё дело справиться и просить. А коли, говорит, не умел просить вовремя, теперятко доправим по указу… Вот какие разбои! Когда толику обиду видели?! А последний указ, что с постельного крыльца читала Ноемврия в двадцать второй день, — и того жесточае: велено всех служилых людей, и детей, и племянников переписать, кто доспел и кто не доспел на службу, поимённо… Да взять сказки за руками[206], с подкреплением: кто каких отцов дети, каковых лет, каких городов; в уездах: сколько за кем состоит в поместьях и в вотчинах дворов, и пашни, и покосу, да всяких угодий оброчных; и сколько собирается из лета в лето оброчного. И перепись эту самую теперя присланы учинить с Москвы в каждый город дворяне нарочно. К нам, в Володимер, жены покойной свойственник прислан. Видался я с им и про Алешеньку просил: нельзя ли отбыть — не везти? Баит, никак не можно, бед не оберёшься: ни мы сами, ни отписчик. Вот я и заехал, сестрица, за Алёшей… Сам его свезу… Предоставлю… Запишу. И что на чём станет, лучше самое изберём…
— Спасибо, родной, на родственном береженье… что про свою кровь радеешь… Вестимо, с тобой Олешеньке ехать повадней… А все бы лучшее, коли б отложити мало-мало, хоша до будущей-от осени?.. Дитя бы подросло… Тогда бы — буде воля Божья… уж как ему на роду написано.
— Говорят же, не можно, за распроклятым писаньем этим самым, что на утре Введенья читано[207]… Уж я как ни упрашивал… ничего нельзя… Особливо коли я, грешный, возымел намеренье Алексею отказать поместья и вотчины наши… Туто — сама рассуди — и отказчику, и наследнику самим на лицо должно… А на будущу осень кто доживёт, Бог весть… Тяжек уж я стал, на силу на великую и ногами повёртываю. Завяз было совсем у тебя на дворе, в повозке своей… Може, последние дни коротаю.
— Ну, Бог милостив к грешникам, може, и пожалеет нас с тобой. За что ему, Создателю, прогневаться над нами, сиротами, вконец, отнять скоро так у нас тебя, благодетеля?! Помолимся, даст Господь, с Олешенькой, про долготу твоего живота… Отчаиваться грех… И повременить бы немножечко просила… Вишь, справа моя теперя трудная… Дитю в город посылать — припасов нет… Как Олешеньке ехать?..
— Пропитаю племянника и своим запасом, сестрица… Теперя не в поход же прямо… А записать нужно… За день скатаем аль ночлег один в городе возьмём, не больше…
— Да и его, голубчика, нет дома… К вечеру разве завтра дома будет…
— Ну и до послезавтра побудем у тебя… давно же не видались… Может, и видимся в последнее.
— Тебя, голубчик братец, рада, что залучить довелось. Слава Создателю… И недельку прогостить, может, изволишь с пути отдохнуть… Изломало, вишь, за год тебя, сердечного… Да что ж я, бессчётная дура, речи развожу пустые, а за стол не прошу, чем Бог послал! Милости прошу в повалушку[208]!
И хозяйка захлопотала, вводя брата в лучшую горницу, где, привычные к порядкам Лукерьи Демьяновны, её дворецкий и ключница уже успели уставить столы яствами, при виде которых на лице гостя опять промелькнула улыбка. Впрочем, не то чтобы радости, а просто удовлетворения, что сможет пополнить ущерб в желудке, нанесённый долгой и тряской дорогой. Суровое лицо гостя с той минуты, как присел он к столу подле сестры-хозяйки, стало приметно терять угрюмость. Очередь говорить, как видно, перешла к хозяйке, а гость, не желая ни в чём отступать от любимых обычаев предков, принялся усердно оказывать честь всему выставленному на стол, издавая в промежутках жеванья односложные возгласы: «у-у!» или «о-ох!» — и только. Он ел так приятно, как может есть человек, знающий во всём лакомом вкус. Лукерья Демьяновна сама была лакомка и в то же время хлебосолка, а широкие обещания брата в пользу сына сделали помещицу особенно угодливой и ласковой к гостю, что называется нараспашку, истинно разливанное море. После утоления голода начались речи ещё более обильные. Гость высказал свои задушевные будто бы желания; слова хитрого старца приняты были за правду.
— На Алёшу я возлагаю большие надежды, потому что он молод и годен к выслуге, а теперя, как стрельцов переводят, — дворяне, разумеется, станут к престолу ближе[209]… В комнату попасть не в пример легко… А там известно что…
— Да какая прибыль на глаза-то сунуться такому грозному владыке, как наш, примерно? В наши дни воочию исполняется поговорка, близ царя — близ смерти. Мало ль из родовитых, к примеру сказать, в короткое время коли не животов, так честей лишилися? Только и слышишь: того-то в розыск, того-то кнутом аль батогом нещадно перед приказной избой, того-то в ссылку, в стрельцы сослать в чужу-дальню сторону… И за самые что ни есть пустячные провинности. Али с девкой неладное учинил; али вотчину, что ль, не свою за свою продал; аль поскребал в столбце[210] как ему надобно было.. Эти самые дела, братец, в старину сходили повольготнее дворянскому роду. Много-много, что посекут дворовых, что дурно сладили — господина не поберегли, а не токмо самому дворянину в казни быть…
— Ты, сестра, издали слышишь, ино что и не так. Вина и в старину не слушалась, коли дознавались до пряма… А коли все переимать, что по воде плывёт, — не жить на сём свете… А молодому парню служить нужно. Не девку держать в терему за печкой, молодчика… А я сам, хоша и стар становлюсь, коли при себе держать буду племянника, от дурна сумею уберечь не хуже домашнего твоего… А по деревням дворянам теперя сидеть не впору и без жестокого указа на утре Введеньева дня. Стало, о грозе нонешней беседу оставим; слыхали мы пословицу: где гроза — там и милость.
— Братец-голубчик, я про одно толкую, — не мне, бабе, сына удержать, конечно… Да лезть самому волку в пасть, на очи — таково моё рассужденье — своей вольной волею надо бы поудержаться: не ровен час… Мой же Олешенька — несмысленный робенок… Что ему будешь толковать, и он то же баит, ничего не разумеючи: как и что деяться может на людском совете…
— А я-то на что, позволь спросить?! Тёртые калачи — сами не дадим кому ни на есть при себе в пясть сморкаться…
Тут что ни представляла уж Лукерья Демьяновна, какие ни подводила отводы да уклоненья, сердитый гость стоял на своём: что за Алёшей приехал. Без него не уедет. Дождётся всенепременно и увезёт с собою. Его речь пересилила. Уже отходя ко сну, разбитая по всем пунктам нежная родительница Алешеньки стала про себя раскидывать умом-разумом: нельзя ли пооттянуть подольше отъезд сыновний да вымаклачить у брата — благо поддаётся — какой ни на есть подарок, а не то и денежек поспрошать, выбрав хорошую минуту.
Вот заснула она, а мысли, настроенные последними спорами с братом, начали в тысяче живых образов варьировать житейские сцены, в которых уже выступает её Алёша… И она уже не боязливо смотрит на приближение его к особе грозного государя; и Алёша, справившись с новыми порядками, оказывается привычным в деле. Вот он всюду успевает заслужить похвалу не только старших, но самого царя молодого, который для сына Лукерьи Демьяновны словно как бы переменил грозу на милость. Вот видится вдове Балакиревой большой город; церквей, церквей — не перечесть; монастыри — один другого обширнее; проходу между стен их как будто нет; одначе есть лазейки, и по ним ползёт народ православный, заслышав звон — громкий, густой, трогающий за сердце. Рука правая сама так и складывает крест, и шапки у всех с головы снимаются. Подлинно сорок сороков церквей — Москва белокаменная! Вишь, народ изо всех переулков на улицы так и льётся; толпы перемешиваются, сходятся и расходятся в разные стороны. Наряды пестреют всеми цветами; радужных и ярких кафтанов не перечесть. Вот они и сплошь красные — другого цвета не видно. Вот и женщин следа нет. Все мужики одни в красных кафтанах, и сукно на кафтанах делается гуще цветом. Вот и рожи мужицкие в кровь обращаются, толпа — не толпа, а красная река течёт; говор — не говор людской, а плачет поток. Над ним, над этим потоком, царь подымается. Серой запахло. Мрачно сверху, а поток ярче загорается. И слышится голос страшный, болезненно сдавивший сердце Лукерьи Демьяновны: «Се река огненная пред судищем течёт и печати разрешаются… Конец преступному роду людскому»…
Помещица просыпается в трепете, облитая холодным потом. Крестится в страхе и силится от ужаса скорее заснуть. Благодетельный сон милостив к человечеству, особенно удручённому скорбию иль страхом. Неприметно и бережно принял добрый сон помещицу Балакиреву в дружеские объятия, и она, сама не зная как, является перенесённою на незнакомые места, уже не в город, а в леса дремучие. Там и сям слышатся звуки тысячи топоров, ударяющих в лад, в мирной тиши отдаваясь беспрерывным: тту-тту-тту!.. Кажется Лукерье Демьяновне, что идёт она, углубляясь в чащу, и по мере углубления начинают показываться люди. Все спешат за делом, должно быть. Звуки «ту-ту» слышнее и ближе… чуть не под самым ухом. Тащат и грузят на подводы рубленый лес; что ни дерево, то мачта на расшиву. И конца нет носильщикам да подводам их. А лошади все по паре впряжены в подводу. Вот и начальство видно: приказывают, рассылают, показывают, распоряжаются. Среди хора голосов мужских, и сиплых и звонких, слышит Лукерья голос брата Елизара, теперешнего у неё ночлежника. Он словно набольший. Величают его «ваше степенство» и с почтеньем обращаются к его помощнику, молодому, в красном кафтане. Порой набольший с помощником садятся за стол… Должно полагать, судейский стол, не иное что, красным сукном покрыт; чернильницы и перья, да бумага и столбцы ворохом наворочены. И подьячие пишут прилежно… Весь этот приказ заседает в лесу. Вглядывается Лукерья, прослышав братний голос: старшой, никак, брат Елизар, а помощник — Алешенька. Только вырос и помужал; ус изрядный и бородка пробивается.
«Здравствуйте, родные!» — приветствует брата и сына помещица. Ей не отвечают Громче она выговаривает приветствие.
«Зачем баба сюда зашла? — зычно крикнул Алешенька. — Вон её…»
«Меня-то, мать-то твою?.. Да ты, Олексей, видно, обасурманился на распроклятой службе этой самой: мать не хочешь признать?! Ах ты, отверженец… Я до царя дойду…»
— Сударыня, Лукерья Демьяновна, — будит помещицу верная её ключница Афимья, — соизволь очухаться… дело спешное.
— Жива быть не хочу, пока царю-батюшке в ноги не брошусь, не пожалюсь… А ты не замай, прочь поди!…
— Осударыня… нельзя прочь… Спешное дело… соизволь отпереть оченьки! — И бережно — чувствует помещица сквозь сон — её теребят, трясут.
Открывает она наконец глаза, перервав сон.
— Что такое?
— Приехали на село описчики… Ночлега ищут. Где повелишь поставить?..
— Стоит ли будить из-за этого? Где-нибудь у соседей станут… Что мы за богачи?.. Не больше других имеем… У нас-то чего ради ставиться приказным?
— Матушка осударыня, не моги твоя честность так говорить. Ино согрубишь описчикам — дурно наведут, по грехам… Мстити начнут.. И не приведи Господи приказный люд прогневить… А коли, по милости Божией, удоволишь их братью, ино польза будет немалая: поноровят, коли в чувствие придут… Бога попомнят за хлеб-соль, на угощенье.
— Ну, ин быть так, ведите в нову избу и угощайте как знаете, а там подумаем утром.
Получив разрешение, ключница удалилась распоряжаться. Заснула Лукерья Демьяновна, и, под впечатлением обещаний ключницы на покровительство приказных, сон развил перед нею ряд утешительных представлений. Перво-наперво пригрезилось ей величанье Алешеньки «боярином честным, слугою царским» на воеводстве новом. Видимо-невидимо всякого богачества приносят в узелках и в свёрточках, а рук не видать, кто несёт.
Проснулась Лукерья Демьяновна, и самой смешно: что грезилось.
Явилась ключница; отчёт отдала, как приказных удоволила.
— Дрыхнут ещё, проклятые, с нашего угощенья.
— А брат что?
— Встал давно и уж два раза спрашивал про тебя, государыня, да… как у вас, баил, подкрепляются… с утра!
— Что ж ты?
— Сулею наливочки подала… а закусочку подать, коли изволишь, сготовили…
— Накройте же в повалуше понарядней, покуда я обволокусь.
И поспешно принялась мыться и одеваться. На молитве всего полсотни поясных поклонов, греховным делом, положила: смутил бес, глаза заслепив чаяньем мзды от братца. Поспешила видеть его светлые очи да спросить о здоровье. Да ему прямо и пересказала своё сновидение, распотешившее гостя до слёз. Он три раза принимался хохотать, как Балакириха прогневалась, когда во сне сын её прогнал! Лукерье Демьяновне даже обиден стал смех; нахмурилась. Внимательный брат тогда поворотил в другую сторону, изобразив на лице самую любящую мину, и с выражением ангельской доброты и искренности заговорил:
— Ишь ты, подумаешь, что привидится!.. В житьё не совсем так делается. Сторонние пусть не видают, кто и что несёт; а как же не усмотреть тому, кому несут? Коли дают, значит, просят о том, о сём… А рассудить, раскинувши умом-разумом, сон не к худу выходит. Перед добром, вестимо. Божья благодать ниспосылает щедроты нам, грешным, недоведомо… К тому, значит, и видишь — подают, а кто — не видать… Божью милость, стало, предвещает не в далёком времени…
— И я так смекаю…
— Само собою, так, коли люди добрые жалуют, за спиной у милостивцев ино и перепасти должно в твой кошель. А у меня, нече Бога гневить, таки есть кому пожаловать и племянника провести в люди; не осевки в поле уродились. Ты только, сестра, не перечь: Алешеньку со мной пусти — не пропадёт небось…
— Да я бы рада, коли бы дома сыскать. Ждём сей вечор… а как знать?.. Может, вздумает и ещё ночку прогостить… Не ведали мы, братец, что осчастливить вздумаешь своим посещением… А того и подавно не с чего разуметь нам, что родство восхотел ныне как есть вспомнить…
— Когда ж забывал я про родство?.. Ино недуги одолевают, ино недосуги, дела да хлопоты. А родню забывать грех и не нам, мелкой сошке, а подымай выше.
— Боярыня-осударыня! — вдруг вполголоса послышался голос из-за двери.
— Что там ещё?
— Да Оська пригонял с мельницы, баит, что у барчонка, у Алексея Гаврилыча, около плотины колёса увязли, колымагу вытащить невмочь, надоть послать пару лошадей.
— Зачем же стали? Послать… Вот, слава Богу, и Олексей тотчас дома будет!
— Ну, и давай Бог…
— И примета недурна Олешина приезда к самому столу. Готово там, братец, милости прошу.
Рассказывать, как и что ели и чем запивали гость-брат и помещица-хозяйка, теперь излишне. Потому что эта посторонняя, в сущности, картина в пересказе не представила бы ничего настолько интересного, что оправдало бы отвлечение в сторону; тогда как все наше внимание должно сосредоточиться на Алешеньке, не замедлившем приехать домой и застать ещё за столом мать с дядею, о котором знал он только понаслышке.
Дядя, в рассказах матери изображаемый не совсем привлекательно, при личном знакомстве показался Алешеньке совсем другим человеком.
Можно, конечно, объяснить частью такое мнение тем, что понятия о добре и зле ещё не совсем установились. Ещё должно принять в соображение и своенравие Алешеньки, балованного ребёнка, привыкшего с детства ставить на своём. А главное, краснобай дядя с первого слова обворожил ветреного юношу рассказами о привольном житьё на царской службе, куда намерен он, не откладывая, взять Алёшу. Цель усердия старого проходимца выкажется, конечно, скоро, но в то время побуждения его не возбуждали сомнения даже в умной сестре-помещице.
— У-у! Какой же молодчик у тебя Алёша! — воскликнул хитрец дядя, бросаясь к племяннику, как только завидел его в дверях повалуши. — Разбойник, а не парень! — повторял он, облапив его и крепко целуя в обе щеки. — Ухарь, одно слово! Девки, чай, без ума от тебя. Ась? Вылитый я!.. как четыре десятка бы с плеч долой… Да я те, Алёха, из рук не выпущу… Будь я не дядя-сирота, а отец твой, иной благодати бы да милости Божьей не желал, как своим считать такого ухаря!
Мать и сын, равно польщённые, растаяли от похвал.
Алёша сразу почувствовал к дяде влечение за одно величанье молодцом и ухарем, когда нежная родительница постоянно называла его ребёнком и обращалась как с мальчиком, говоря то и дело: «Ужо как вырастешь!» Алексей же сам давно уже считал себя взрослым. Предположение дяди, что он должен иметь успех у прекрасного пола, прозвучало в ушах матушкина сынка опять обворожительно, потому что о таком предмете, как девчата, матушка и сама не заговаривала, и никто в доме. А в гостях, откуда только что воротился Алёша, молодые дворянчики засмеяли его и язвительно прозвали младенцем, когда в беседе о проказах боярчонков с сельскими красавицами Алёша выказал полное неведение. Смех и обидные остроты возбудили страстное желание матушкина сынка разведать досконально, в чём заключается самый смак девичьей беседы. И в это время заговорил приезжий дядя словами искусителя, прожегшими сердце мальчика огнём пагубной любознательности.
Мать встала что-то приказать, а дядя в горячей беседе с племянником — в глазах его вычитавший уже успех первых своих слов — поспешил налить Алёше в материну чарку романеи и, подавая ему в руки её, скороговоркою произнёс:
— Чокнемся!
— Да мне можно ли? — робко, но таким голосом, в котором слышались обида и боязнь отказа, спросил Алёша, схватив чарку.
— Что за спрос?! Коли налил я да даю, значит — пей, как и я же, без остановки…
Хватил дядя, хватил и племянник. Сладкий огненный напиток объял мозг юноши и заставил броситься инстинктивно к дяде с крепким поцелуем, закрепившим первое питьё романеи.
— Вот и молодец! Я не люблю, чтоб от меня отставал кто. На то тебя и беру с собою, чтоб ты делал что я стану… Мы, значит, равные… Старость с юностью сходятся!..
— Ой ли! Так сходятся?.. — подхватил вне себя юноша, объятый незнакомым ему до того пылом. — И ты, дядя, со мной сойдёшься по-братски, значит?
— Теснее!.. Иной раз брат брату — сосед. А мне, старику бессемейному, ты вместо сына… На потешенье.
— И матка то же баит иной раз, а иной раз так на тебя взглянет по-волчьи, что бежал бы невесть куда… И все, слышь, что ржа железо, точит меня: и пустодом-от я, и ветреник, и за дело приняться не умею… А я…
— Молодец хоть куда! — договорил дядя с особенною какою-то далеко не доброю усмешкой, как потом рассказала подсмотревшая сенная девка помещицы Лушка, да уж поздно было. Племяннику ничего не показалось и ничего не услышалось в ответе дяди, а, наоборот, он ещё больше выиграл своей явной потачкой и поддакиваньем, которые постороннему могли показаться даже подозрительными.
Впрочем, и не такому ребёнку, как Алешенька, могла речь дяди понравиться. Все люди, мало испытавшие, бывают доверчивы, да и не было повода, чтобы возникла недоверчивость к родственнику, заявлявшему привязанность к близкому человеку, не имеющему никого из кровных, кроме сестры и её единственного сына.
Мать-помещица, в свою очередь, радовалась благоприятному впечатлению на брата, человека достаточного и бессемейного, Алешеньки. Казалось, он с первого же взгляда заслужил дядину любовь.
«Видно, впрямь кремень почуял близость расставанья с денежками… вот и пришёл в чувствие?»
Не то представилось бы чадолюбивой матери, если бы призрачная надежда на наследство брата пеленой не застила бы ей глаза. Но человечество утратило бы все человечное, если бы последствия были ему известны при начале предприятий и намерений.
Сам Алексей, как мы говорили, оказался пленённым ещё крепче матери немногими словами дяди и предательской чаркой, действие которой успело несколько рассеяться к возвращению хозяйки. Она задержалась, угощая приказных дольше, чем рассчитывала, и теперь гость уже готов был встать из-за стола.
— Приношу, сестра, поклон тебе на угощенье и челобитье об отпущенье.
— Сегодня, братец, не отпущу, как изволишь, а…
— Да я на боковую, по-христиански, хочу, сестрица, а не из избы вон…
— То-то!
— Не сомневайся… Сказал: ночую так ночую… Алёшу собрать надо время тебе… А без него не уйду и теперь. Помоги-тко, Алешенька, со скамьи подняться да до светлицы добраться.
И сам, подав руку племяннику, вышел с ним, как будто Алексей вырос на его глазах.
Мать проводила их глазами.
Поднявшись на верхнюю повалушу, гость разлёгся на пуховике и предложил на другом, против, прилечь племяннику Нужно знать, что помещица поместила гостя в Алексеевой ложне. Здесь для приезжего наскоро устроили было постель, и он уже провёл ночь, приготовляясь разыграть душевную приязнь к юноше, ещё не видя его, а увидав, хитрец дядя, как мастер своего дела, совершил мастерски задуманное. Он разгадал мгновенно, на что бить прежде всего и главнее всего, обхаживая баловня-лентяя, который был самолюбием в мать, да без её ума и проницательности. Возбудить страсти в таком недоростке легче всего одним намёком.
— Лечь-то я лягу, дядюшка, а спать не могу, как хошь…
— И я не засну .. Говорить будем.
— И ты не прогневишься, что спрашивать стану, ответишь?
— Почему не так?.. Все, что знаю.
— Баил ты, будем ровни… и испить дал… из чарки…
— Что ж, не дурно ведь — сам понял?
— Хорошо, тольки спервоначалу жарко стало, а потом отвага така, слышь… просто на стену хошь лезть готов.
— Ну, почто… пострелу! ино ушибёшься; можно в другую сторону удаль поворотить… дай срок… Поедешь со мной — увидишь свет Божий… А здеся, со старыми бабами, во тьме коптишь, сердечный… А молодому человеку хочется гульнуть нараспашку… познанье добра и зла изведать… Ведь научен ты, к примеру сказать, по Псалтыри?
— Не гораздо.
— Ну, а Часовник?
Видали и его… матушке, никак, привёз — в коже в красной — отец Дормидон из пустыни… Тольки я эту саму книгу не развёртывал, потому что не уставом[211] писан, неразборчиво таково, а Псалтырь печатну разбираем. Я больше люблю от старчества повести, как духи, змии, пустынников-старцев искушали… Ино в зверины личины оболокались, ино женским образом… всего пагубнее, говорится.
— Пустяки, брат Алексей, все это самое. Бабский обычай старцам не повелевается, а бельцам женитву закон предписывает[212], и чадорожденье похваляется… без того бы чем землю населить?.. А коли похваляется сожитие с женой, различать нече его — по закону аль так… не все ль едино?.. Ведь та же баба, что с окрутой по венечной памяти, заплатив за куницу[213], что сам, беспошлинно соизволишь… В патриарш приказ меньше ино дойдёт, а тебе все едино… На то люди и на земле, чтоб житейское творить… А без греха Бог один…
— Разумный ты человек, дядюшка… Впервой только слышу впрямь умны речи… Вон Андрей да Сенька Волокитины меня позавчера приняли, что называется, в два кнута… «Ты, — говорит Сенька, — Алёшка, младенчик, не смекашь, чего для и девки сотворены?..» Я что ж, известно, промолчал да похлопал раз-другой бельмами, а спросить было совестно у тех зубоскалов… Начал было, да запнулся, так на смех подняли. Матку, говорят, спроси… А как её спросишь? Ты — другое дело, такой милостливый… а она…
Старик расхохотался и долго не мог унять накатившую так внезапно весёлость. Заметив же, что Алёша плакать готов, подозвал его к себе и что-то долго шептал ему в ухо, делал руками разные знаки, причём юноша горел ярким румянцем и глаза его метали искры.
В заключение же, когда Алёша в порыве возбуждённой чувственности схватил дядю-рассказчика за руку, затрудняясь высказаться, последний сказал:
— Ужо самым делом научу, дай срок, как выедем отсюда, не откладываючи.
За тем следовавшие речи поддерживали в племяннике лихорадочное настроение, все больше и больше кипятя кровь юноши и доведя её к концу мнимого отдыха гостя до такого состояния, что Алёша уже не владел собою. От нетерпения вырваться из-под материнского попечения вечер до ужина ему казался бесконечным, а ночь — последним испытанием, неизбежною жертвою, окупающею свободу. Отрывистые речи, нетерпеливая походка и скучливость сына не могли остаться не примеченными матерью, и она решилась утром выспросить Алёшу, о чём говорил с ним и чего наобещал дядя.
Беспокойство матери, выражавшееся под конец вечера во взглядах на сына при каждой новой его выходке, отлично видел в свою очередь и виновник этой быстрой перемены в мальчике. И он, конечно, постарался немедленно принять свои меры, на всякий случай.
Когда улеглись они оба, в соседстве, и все замолкло, осторожный дядя, воспользовавшись невольным вздохом Алексея, завёл с ним следующие речи:
— Ты не спишь, никак?
— Да, дядюшка, — все думаю, как мы завтра поедем… как… что!
— Помни одно, Алёша: ни гугу! Узнает мать, что я тебе вольготу всякую посулил, чего ты у ней и не слыхивал, — ревновать меня почнет в любви к тебе… Да и, чего доброго, не пустит ещё… Бабы ведь с норовом… Больше их о ребёнке не заботься; молодца не балуй, не лелей. Тогда прощай надолго, коли не навсегда, воля молодецкая! И потерять её придётся за бабий же грех… за болтливость… Нишкни, одно слово… коли думаешь вырваться.
— Хорошо, что сказал, дядюшка… Хошь зарежь меня, ничего не выболтаю…
И оба заснули в этом убеждении.
Утром как Лукерья Демьяновна ни исповедовала сына, Алексей молчал и стоял, так тупо глядя, что материнская подозрительность успокоилась.
А там — сборы, окончательные. Молебен. Обед — и только звон колокольцев под дугами троек от родного села по владимирской дороге, постепенно замирая, болезненно отдался в груди матери, потерявшей сына.
Глава I. ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ ЛИ?
Мир теперь со всеми обольщениями готов поглотить Алексея. Елизар Демьянович, не тратя драгоценного времени, приступил к переделке племянника на свой лад с первых же часов знакомства. На привале, ещё до города, по совершении семидесятиверстного переезда, он устроил род паужина[214] для подкрепленья сил. В знакомом доме у батюшки на погосте[215] в несколько минут устроился стол, соблазнивший бы одним воззрением на обилие всякого съедобного самого строгого постника.
Алексей, подготовившись домашним обедом к трудностям далёкого переезда, не показывал особенного усердия разделить с дядюшкой богатства его походной трапезы. Елизар Демьянович, засев в переднем углу, потребовал, чтобы отец честной, домохозяин, благословил яствие и питие. Как видно, приглашение это для владыки дома было заобычное. Отец Герасим широким крестом осенил издали предлагаемое, присел и, словно по заранее обдуманной программе, занялся племянником своего угощателя, осведомившись:
— Для чего не касаешься, юнец, трапезы сея? Предлагаемое да едят…
— Не хочется, батюшка. Дома мы пообедали исправно и не спеша…
— Аще не алчба, жажда обдержит? — и, не спрашивая ответа, налил из плетёной сулейки чарочку, благословил и голосом, не терпящим возражений, выговорил односложное: — Пей!
Алексей было замялся, протягивая руку к чарке, но дядя на него взглянул в эту минуту как-то необычно. Взгляд этот был яр, дерзок, нахален и обольстителен. Пламя его зажгло в мальчике мгновенно новые желания необузданной воли, более обаятельные и неотвязчивые, чем те, которые уже охватили ум его накануне, когда он в отсутствие матери принял первую чарку от дяди. Рука, схватив судорожно чарку, вдруг словно приросла к столу. Будто собственная воля отказалась довершить сделанное инстинктивно движение, скованная страхом неотвратимой беды. Лицо Алексея даже побагровело от крови, бросившейся в голову, а биение сердца перехватывало дыхание. Отец Герасим свой приказ «пей» сам машинально как-то привёл, не упуская времени, в исполнение. Подняв руку Алексея, приросшую к чарке, он направил её прямо в отверстый рот сына Лукерьи Демьяновны. Как это случилось, он не помнил, и слова отца Герасима, сопровождавшие его действие: «Вся на пользу, с благословением» — отдались в его ушах, как бы одновременно повторенные невидимым хором на разные тоны.
Или напиток был крепок очень, или напор внезапных ощущений в свою очередь был силён и быстр, но только у Алексея в глазах все закружилось. Блеснула как бы молния, а за нею на мысли и на чувства лёг прозрачный туман, сквозь который все видимое представлялось в обворожительной форме приятности и новости для слуха и глаз. Каждое слово отца Герасима и дяди получало особый смысл, задирающий самолюбие и любознательность Алексея; а смысл слов обоих его собеседников был и сам по себе таков, что познание добра в нём на время уступало представлению зла в красоте, ему несвойственной. Мало того, слова «зло» и «порок» совсем не слетали с уст просветителей неопытного мальчика. Они о самом грязном выражались как об обычном и естественном порядке вещей и об узнании его на опыте — как о необходимом изучении жизни в её неизменных отправлениях.
Общность почерпнутого из застольной беседы в доме священника в незрелых понятиях Алексея Балакирева сложилась на первый раз в следующие три неизменные, как он поверил, положения жизненной практики обращения с людьми. Первое: делай все, что ты только можешь сделать безнаказанно и на что тебе укажут как на доставляющее удовольствие, второе: не высказывай — особенно перед матерью и теми, кто может довести до её сведения, — намерения проказничать, если в проказах этих видишь себе утеху. А утехи всегда больше в том, — хоть сам что придумаешь или тебе подскажут, — что отличается от общих понятий весёлости и приятности. Наконец, третье и самое главное: служба царская — буквальное и строгое выполнение возлагаемых поручений и обязанностей для дураков одних. Для людей же с умом, к числу которых поп Герасим прежде всего причислял Алексея Балакирева и Елизара Демьяныча Червякова, служба должна быть делом только видимости, а в сущности битьё баклушей и протягиванье времени, — чтобы делали другие, а мы торчали бы да глядели. Можно прикрикнуть, кстати, на тех, кто должен сносить подобные окрики, — нельзя же ничем не показать своего участия в деле! Только чтобы кстати это пришлось и, главное, вовремя…
— Куда ж, к чёрту, дворянину нос совать везде! — прибавил от себя как практикант службы Елизар Демьяныч. — Иное в башку-те просто, братец ты мой, совсем не лезет, да и понятия не имеешь… как и что?.. а стоять на деле нужно — велят. Стой, значит, и смотри.. А улучив время, крикни, к примеру сказать, только чтобы вреда ни для кого… Ино старший и намотает на ус, что, видно, толковит парень… А старшому, коли он столько ж, если не меньше твоего ещё разумеет, и молчанье твоё может иной раз не полюбиться. Молчишь, может, неспроста?.. Запримечаешь дурно, да вида не показываешь, с подвохом чтоб донос сделать, где что неладно?! А старшой, олух, не ведает и видом не видит.. И подумается: может, беда стрясётся, отколь не чаешь, коли под рукой умник. А коли крикнул подручный, — иной раз и невпопад, — старшой смекнёт это самое и спокоен: подчинённый такой же, значит, олух, как и он сам, и дальше носу не видит. Значит — не доносчик… Все и делают через пень-колоду… а дело самое — шито-крыто.
— Воистину так бывает, — умилённо возведя очи к образу, подтвердил отец Герасим. — Слушая тебя, Елизар Демьяныч, истинно, всю эту самую вашу дворянскую службу так и видишь наскрозь… как оно, значит, велось в старину, ведётся теперь, пока Господь грехи терпит, и, може, поведётся напредки, коли… молодой-от царь пообходится маленько от своей крутости, а то…
— Ну, что такое за «а то»? Сперва будет крут, а там как жар спадёт, коли подлинно спознает, что русский человек сам себе на уме, значит, проходим, — ко всему применится. Кричи и ногами топай, с кулаком подступай — он не поперечит — слушает. Спроси: «Сделаешь?» — «Сделаю», — ответит. «Понимаешь?» — «Как же не понять!» А сделает всё-таки по-своему.
Алёшу последние слова дяди привели почему-то в особенно весёлое расположение. Он принялся хохотать и хохотал до боли в боках.
Поп и дядя умильно переглядывались и как будто ожидали терпеливо, пока дитя уходится, чтобы задать ему новую долю удовольствия, с целью, разумеется, дальнейшего привития понятия о добре и зле в сём тленном свете. Не успел примолкнуть Алексей, поглаживая бока, заболевшие от смеха, как растворилась из сеней дверь, и две девушки в ярких красных сарафанах вступили в избу. Одна держала деревянный поднос, на котором стояли две очень почтённых размеров братины; а у другой девушки в руках на блюде была сахарная коврига с тмином и другими пряностями. Угощательницы подошли к столу и поклонились низко Елизару Демьянычу, как видно хорошо им знакомому, и Алексею Гаврилычу.
Отец Герасим просил Алексея взять братину и поцеловать подносившую:
— Так, государь-боярин, у нас обычай ведётся, исстари…
Алексей встал, трепещущими руками принял братину и от волнения, сообщившегося рукам, расплескал вино и ещё более потерялся от своей неловкости.
— Ничего, ничего… боярин… не имей сумленья… К добру — вино расплескать. Пророчит тебе: напредки что сыр в масле купаться будешь… между бабьем… удача. От призору только ты, Машуха, трижды поцелуй боярчонка…
Как опустилась братина на стол, как звонко чмокнула подносительница Алёшу, целуя в губы, и как из братины он машинально прихлебнул с нею, юноша уже не помнил… Сделалось ему только — чувствовал он — так хорошо и приятно, что все мысли и память внезапно словно вылетели из головы, а он утонул в приятности. Новость всего испытываемого играла, разумеется, главную роль в этом обаянии и удовольствии, возбуждая неведомую ещё мальчику жажду чего-то. Жажда эта была — чувственность, и обезумила его она не меньше вина. Оно же, в свою очередь, возбуждало если не воображение, ещё не разбуженное, то животные инстинкты. Что было далее — память Алексея не удержала в себе ничего, кроме поцелуев и питья из одной братины с очаровательницею в красном сарафане.
Очнулся наконец Алексей Балакирев от своего забвения, но уже картина была совсем другая, и прошлое припоминалось как сновидение, запутанное, причудливое и оставившее по себе тяжёлое чувство недовольства. Дядя спал, издавая храп с присвистом. Сильная тройка лошадей несла повозку сквозь лес, который, судя по светлым точкам, прорезывавшим темно-дымчатый фон чащи на полосе горизонта, должен был перемежиться. Алексею же хотелось теперь, чтобы этот скок коней и полумрак леса подольше держались. Глубокие тени и заунывность глуши лучше соответствовали мрачности его душевного настроения в эту минуту. Он, если б мог, заплакал бы, и, может быть, слезы облегчили бы сердце, занывшее как перед бедою. При взгляде на спящего дядю, голова которого раскачивалась от движения, а на полураскрывшихся губах блуждала неопределённая улыбка не то насмешки, не то нахальства, очнувшийся племянник вдруг почувствовал злость, сам не зная её подлинной причины. И чувства эти, неведомо откуда навеянные, испытывал почти ещё мальчик, который по младенчеству своему и незнанию света и людей не мог все осмыслить. Однако чем-то неведомым он был недоволен и не мог успокоиться, погружаясь вновь в забытьё. Алексей не осознавал ясно, что с ним происходит или произошло, но перемену в себе чувствовал, робел и чуть не трепетал с каждым поворотом повозки по зигзагам городских улиц. Как очутились они в городе, Алексей не заметил, занятый собою и своим недовольством. Но вот — путешествию конец, должно быть, кучер остановил лошадей и сошёл с козёл. Вот он расталкивает бережно Елизара Демьяныча, будя и повторяя громко над ухом его: «К приказу доспели!»
Спящий очнулся. Вылез из повозки, не без труда и кряхтенья, при помощи возницы, и велел Алексею выйти и следовать за ним.
Они встали перед кирпичным строением, напоминавшим больше всего монашеские кельи с выходными дверями между каждыми двумя-тремя узенькими оконцами со вставленною слюдою или с пузырём. Из дверей входил и выходил народ, торопливо о чём-то переговариваясь. И Алексей с дядею прошли за другими в одну из дверей в сени, а оттуда — в избу, полную народа. Говорила разом сотня здоровых голосов; толпы стояли около столов. К одному из крайних столов подошёл Елизар Демьяныч и тронул какого-то дельца за плечо, в то же время положив ему через плечо на бумагу сколько-то серебряных мелких монет.
Проворно куда-то смахнув их, делец со словами: «Добро пожаловать!» — взглянул вскользь на Елизара и Алёшу и лаконически выговорил, не глядя на Балакирева:
— Недоросль! Как имя и сколько от роду?
— Алексеем зовут, стряпческий сын, Балакирев.
— Куда внести? — задал вопрос делец уже дяде.
— Да нельзя ль нам с племянником в один жеребей[216], на лесосеку… поукромней.
— Лесосеки, Елизар Демьяныч, у Александра Петровича поспрошай; он велел к себе посылать. Заверни-ко в казенку, он таперя-тко отдыхает… Я тебе, родимый, как есть поноровлю, по старинному твоему неоставленью нас. И парнишку с тобой впишу, все едино… А к самому — по дружбе открою — без десятка ефимчиков[217] не подходи… коль говорить пожелаешь… Это перво-наперво… А затем он те скажет: сколько, за что и как доложить придётся…
— Тяжёленько, да делать нече… Племянник пусть у тебя побудет, Истома Фадеич.
— Пусть постоит… не прогоним… Только ты скорей: кончаем всенепременно сей вечор… Наутро пошлём списки на Воронеж, в шатёр государский[218]. По лесосекам, окромя тихососенских, все, почитай, порешены…
— Спасибо, что наставил на ум… Стой, Алёша… Я ненадолго…
И дядя скрылся в толпе, так что Алёша не заприметил, в которую сторону, только не в двери. Елизару Демьянычу пришлось сделать всего два шага к печи, занимавшей большую половину левого угла мрачной комнаты, где помещались приказные дельцы и куда приходили просители. За печью был узенький проход в казенку с красною оконницею в три шага вдоль и столько же поперёк. Но и эта клетка по условиям места и времени представлялась обширным кабинетом для особы начальника. В те времена на Руси размеры каменных жилых помещений были чересчур малы, и для одной особы девять квадратных аршин было очень обширным пространством. Тогда в палате трех саженей[219] длины и двух с половиной саженей ширины сидели по двадцати приказных за пятью-шестью столами, из которых к каждому должны были подходить люди сторонние; да под столом и около стола нужно было держать дела на столбцах в коробьях разной величины.
И в каютке начальника были книги и столбцы да висела одежда его. Единственная лавка служила не просто для сиденья за работою, но и постелью для отдыха. Стоило развалиться на полавочнике[220], и привычный к передрягам делец чувствовал себя в покое, удобно. Александр Петрович Протасьев — покуда думный дворянин[221] и затем окольничий, кончивший карьеру ссылкою за взятки, — систему поборов с просителей довёл до утончённости истинно художественной. Если он не писал, то, постоянно лёжа на лавке, принимал просителей, бесцеремонно обходясь со всеми и прямо заявляя свои условия.
Голова Елизара Демьяныча приподняла сукно, служившее завесою, скрывающею от нескромных очей внутренность казенки начальника, который, как и приказные, проводил в ней всё время от утра до вечера. Протасьев, лёжа брюхом на полавочнике, кивком головы пригласил посетителя наклониться к себе. Не спрашивая его ни о чём — потому что говоренное за печью в казенке было слышно отлично — забарабанил ему вполголоса, скороговоркой:
— У нас тихососненские ходят от шестидесят пять до восьмидесят. С сотни подвод прикладывается по три алтына, за десяток в неделю… За людьми не стоим: бери сколько хошь, и дворян такожде, окромя стряпчих… А внеси чистоганом наперёд по расчёту, да подписку отберём, что указ великого государя вычел и сведом ты, имярек, что требуется….
— Нам бы с руки была середня плата… семь десятков могим, а насчёт подвод не можно ль оттулева, с места выправить по записи, сколько брать в нашу версту.
— Не мы, голубчик, тамо правим… Коли бы нашенские участки были, мы бы… все едино… а выпускать сокола без простриги — поминай как звали… Берём сполна по сему по самому вперёд… И спускать нече… дело любовное… По расчёту на участок, в одну выть[222] — пятнадцать подвод — сорок пять алтын в неделю. Да на рубку по указу, в двадцать недель с полуседмицею, шестьдесят три ефимчика выложь. И дадим тебе наряд, как есть чистый: людей забирай и подводы, и на работы ставь, и деревья вывози как сам знаешь. И приёмщики тебе ни синя пороха, застреки не учинят; и в вашу сторону ни един рассыльный не заглянет, и все, что пришлёте, примут без запинки… Нам, значит, дал, что должно, и мы… не олухи, не бездельники, не огурщики[223]… Бога как есть помним, по-христиански.
— Так-то так, да тяжёленько за один раз, — ответил тоже шёпотом Елизар. Протасьев перевернулся на другой бок и замолчал.
Елизар попробовал шепнуть в ухо неподатливому вымогателю:
— Половинку нельзя ли теперя, а половину…
— Мараться не стоит, — сквозь зубы процедил Протасьев и ещё раз перевернулся.
— Коли все, что с собою есть, выложу… все не хватит…— с отчаянием высказал Елизар и поник головою.
— Привези из дому чего не хватит… нам все едино; а коли дома нет — чего ж суёшься?.. Намеренье есть с лихвой зашибить, а поплатиться неохота… Вот и знай проходимов!.. — словно правый, с сознанием достоинства закончил Протасьев.
— Верь Богу, милостивец, в мошне ни шелега больше сорока восьми ефимчиков… А в полсотню нельзя ль землицу с леском поставить?
— Не след бы нам в такую мелкоту пускаться… а буде вправду недохватка, так уж, жалеючи тебя, по отказной памяти два ста четьих за пятнадцать рублёв возьму… Что с тобой делать!.. Не хочется истинно тебя в затрудненье оставить…
— Не могу в точность сказать: два ста аль с лихвой, никак, ещё будет землица племянникова, от сестры отцовская часть… Балакирева Алексея… что в одну версту со мной, к себе беру его под руку.
— Почему не так, коли даёте, ты али он — нам все едино. Вели Фадеичу настрочить, а Лукаш, земской, изыщет с отказчика положенное по новоуказным статьям и справит как следует на нашу хозяйку. Федосью Протасьеву Александрову жену Петровича…
— И так можно…
— Истома! — Голова дельца показалась из-за сукна. — Елизар Демьяныч с женой моей о спорной земле и покончили на том, что ей, Федосье, владеть половиной, двумястами четьи в поле с лугами и сенными покосами, бесповоротно… Напиши, со слов отказчика.
— Ино можно и племянниково имя проставить?
— Можно… Коли он подмахнёт… Грамотей он у тебя?
— Умеет руку приложить…
— Ну и пусть… Да лесосеки пай любой на Тихой Сосне закрепи на имя его, Елизара, с племянником Алексеем и наказ один двоим дай, за рукоприкладством на памяти[224], в царский шатёр, по нашему повытью[225]…
— А на чернила да чтоб рука не изменила… сколько, Елизар Демьяныч, накинешь? — спросил Истома.
— Из балакиревских десятку четьи, голубчик, больше не могу… Надо и парню оставить отцовского, до своей заслуги, коли сможет…
— Так и быть… а, сам знаешь, маловато… письма, братец ты мой, пропасть…
Елизар промолчал и полез в карман. Протасьев насупил брови, и голова Истомы скрылась за сукном. Александр Петрович перевернулся лицом к Елизару и подался на полавочнике назад, оставив перед собою место чистое. Елизар стал класть полудюжинами немецкие талеры, называвшиеся ефимками. Выложив восемь раз по полудюжине, он вздохнул, поклонился и показал, что кошель пуст.
— Делать нечего! — с интонациею добродушного соболезнования выговорил Протасьев, смахивая кучу талеров в кису шёлковую, на вздёржках прицепленную к углу скамьи между стойками.
— Счастливо оставаться, Елизар Демьяныч! Всё будет так, как хотела твоя милость. Знай наживай, не зевай, а нами останешься доволен! — и Протасьев облапил, расцеловал и благословил даже большим крестом Елизара, отпуская на доходное дело, которого выгодность у него расчислялась по пальцам.
Елизар подошёл к столу, за которым писал дьяк Истома отказ десяти четьи для себя, видимо торопясь этою работой.
— Готов один отказ! Он подмахнёт и так? — показывая глазами на Алексея, молвил делец Елизару.
— Да! Алёша, садись и подпиши, как тебя величают, и прозванье выпиши полное…
— Не гораздо я, дядюшка, вывожу кси это непутное, — нельзя ль како с словом?
— Пиши как придётся ловчее… все едино, лишь бы прочесть можно: Алексей Балакирев, а не Андрей Бурлыкин…
— А для чего мне писать? по службе что?
— Начинать службу, Алёша, надоть, и где ни служи, везде благодарность нужна: сухая ложка рот дерёт… Я тебя делаю своим наследником, значит, моё — твоё, а твоё — моё! Понимаешь? Требуется дать на братию, что нам жеребьей лесосеки дали на царской службе: в кумпанствах[226] заготовку леса на Тихой Сосне, в борах… Там работать будут на нашем паю пятнадцать подвод да тридцать рубщиков… а мы с тобой — хозяева, набольшие. Почествовать его милость государя думного негоже малостью, вот из твоих… то есть из моих, буде бы я тебе не передавал своего поместья… и уступаю я два ста четьи в поле.. А на отказной ты подмахни: «Алексей Балакирев», — значит, моё все отныне и довеку — твоё…
— Ой ли! Ай да дядюшка!.. вот, значит, душа!.. И этот мужичок нам исправит… твоё — за меня-то?
— Как же!.. ещё бы!.. это своим чередом, а теперь пиши покамест, как я тебе говорю…
— Ужо я те покажу мужичок какой я тебе дался, щенок! — сквозь зубы процедил обидевшийся дьяк Истома, ехидно глядя на глупенького Алексея, покуда тот выводил «аз» и «люди» и задумывался над выражением звука «кс»[227].
Наконец, впрочем, он поставил проворно какой-то ни с чем не схожий выкрутас и дальше без затруднения уже проставил буквы фамилии своей.
— И здесь ещё подпись должна быть тоже, Алексей Балакирев, — внушительно твердил Истома, подсовывая свою отказную на десяток четьи.
И эта память украсилась каракулями Алексея.
Истома велел утром явиться одному Елизару за наказом и отпустил дядю и племянника, успевшего прочесть отказную жене Протасьева. Слово «двести четьи» крепко врезалось в его память, и не давали ему покою слова «из моих отцовских».
Выйдя из приказа и садясь в повозку, чтобы ехать на постоялый двор, Алексей хотел тотчас выспросить дядю, но вид дяди был не просто суров, а гневен. На бледном лице его глаза горели в полном смысле зловещим пламенем, нижняя губа судорожно подёргивалась, и весь вид его выражал бессильное бешенство. Он беспрестанно плевал и шептал какие-то угрозы; с языка старика беспрерывно срывались бранные слова: «вор, разбойник!»… и вслед за ними, шёпотом: «уничтожу… выведу на свет Божий… мошенники!»
К кому относились эти слова, понять не мог Алешенька по своей ограниченности и непониманию жизни; не мог он понять даже самых отношений к себе благодетеля, под видом благотворения отнимавшего у него последнее. В эту минуту дядя внушал племяннику безотчётный ужас, и впечатление его не скоро потом забылось. Так что страх сковывал уста Алёши, мешая ему спросить дядю — как разуметь следует отцовские земли, если он наследник его, Елизара?
На постоялом дворе вечером повторилось угощение Алёши крепким вином из братинки, и опять не обошлось без дивертисмента со вводом певиц и плясуний, позволявших себе много такого, от чего тогдашняя женщина даже не строгой добродетели сгореть могла со стыда. Но стыда не знали, кажется, или забыли о нём совсем служительницы кабацкой Терпсихоры. На этот раз увлекали они не раз Алёшу в свою живую кавалькаду, приводя его — похлопываниями да подхватываньями в бурных движениях — в какой-то неизвестный ему задор, прибавлявший отваги. Он и сам принялся откалывать коленца — избоченивался, выдвигая брюхо, притопывая каблучком, и с ухарскою бесцеремонностью хватал то ту, то другую плясунью… Дядя, как знаток дела, при каждом подобном движении расходившегося племянника возбуждал в нём ещё большее рвение на такие подвиги ободрительными возгласами: «Ай да Алёха! Ухарь!.. молодчина!.. точнёхонько как я в старину… не сдавай… забирай дальше!.. Вот так, вот так!» Даже один раз засвистал Елизар Демьяныч, выделывая совершенно птичьи трели. Густою дробью раскатывался свист, от которого мурашки забегали у Алексея по коже. Наслушавшись от няньки былин и сказок, Алексей невольно подумал вслух: «Точнёхонько Соловей-разбойник». Дядя взглянул многозначительно и улыбнулся. Но свист, должно быть, был неспроста, потому что сердце защемило у Алёши, расшевелив в нём побуждения, бросавшие в жар и холод. В глазах у малого потемнело и в ушах пошёл такой трезвон, что чудилось ему — заходил пол ходуном. Струя горячей крови бросилась к мозгу, и дыханье занялось от ускоренного биения. Инстинктивно, непроизвольным движеньем руки он силится оттолкнуть от себя плясунью и остановиться, но она хватает за другую руку, а её подруга обхватывает стан мальчика, и кружатся все ещё в более бешеном коловороте. Силы почти оставляют Алёшу; но дядя передаёт плясунье братину, и она ловко вливает в раскрывшийся рот молодого человека такое количество животворной влаги, что по жилам — чувствует он — разливается огонь. Он себя не помнит…
Дядя хлопает в ладоши и стучит по столу, словно не владея собой, а у племянника все предметы прыгают в глазах. Стол и скамьи словно кружатся, и Алексей, теряя равновесие, падает, увлекая за собою скатерть со стола и шандал с восковой свечой, освещавшей избу. Наступает мрак, и лежащий Алёша чувствует, что его покрывают поцелуями чьи-то горячие уста и жмут его руки чьи-то пламенные руки.
Дальше он утратил сознание.
Очнулся после оргии Алексей опять не рано, при дневном свете. Ощупал вокруг, не раскрывая ещё глаз, и чувствует — кто-то спит подле него на ковре. Открывает глаза и видит женскую голову на его подушке. Припоминает вчерашнюю пляску и убеждается, что подле него плясунья. Где же дядя и зачем она здесь очутилась? Страх отчего-то берет Алёшу. Ему теперь хочется уйти отсюда поскорее. Не без труда выползает он из-под груза одеяла, подбегает к двери — заперта. Он начинает кричать — дверь не отворяют; а крик его будит спящую, и она начинает его кликать дружески:
— Алёша, Алёша!..
Молодой Балакирев сел на скамью и поспешил набросить на себя кафтан, ничего не отвечая, хмурясь и совершенно теряясь в неловком своём положении.
Бесцеремонная ночлежница тоже встаёт и, в чём спала, садится подле Алёши. Начинаются непрошеные нежности, уверения, что юноша привязал её к себе ей самой неведомо как. Мальчик пятится сначала от потока нежных слов и отстраняет руки, силящиеся обнять его, но мало-помалу уступает. Вдруг растворяется дверь, и является дядя, нисколько не удивлённый сценою и словно не замечая, что племянник не один. Мальчик сперва поражён неожиданностью, потом сам начинает говорить и оправляется от смущения. Вносят угощение. Едят и пьют, как будто ничего не случилось и все в порядке.
— Подкрепимся, и ехать пора к месту. В приказе я был, пока спал ты, — объясняет Елизар Демьяныч. — Вот и наказы и памяти, — показывает он кипку мелких листков бумаги с выведенными в строку каракулями.
— А до завтра нельзя остаться? — спрашивает вдруг племянник тоскливым голосом.
— Ни! Ни часу нельзя промедлить… Воевода ведь здесь!..Город! Как дали наказ, так и пошёл…
— А домой-от когда же, к матушке?..
— После.. Прежде на работы нужно глаза показать да присмотреться, как там и что такое деется.
— А-а?! — И этим «а-а» поперхнулся словно Алёша. Он низко опустил глаза и тоскливо кивнул головой в ту сторону, где сидела ночлежница.
— Грунька после нас навестит.. Не леший её съест… Твоя же будет, — смеясь, заверил Елизар Демьяныч.
Слова его покрылись звонким смехом особы, величаемой Грунькой.
— То-то же, — прибавила она, глядя своими бойкими глазами на грустного юношу. О мыслях его самого при спросе ни она, ни дядя, как видно, не считали нужным больше осведомляться: того ли ему хотелось?
А если бы кто спросил теперь Алексея Балакирева о причине его невольного вздоха, то услышал бы совсем не подходящее к словам Елизара Демьяныча и Груньки. Этот вздох, вылетевший у юноши при словах дяди, говорил скорее о нежелании видеть подле себя почти неизвестную ему особу. И присутствие её, навязанное дядею, было для него злом неотвратимым и страшным. И он сам своим ещё детским умом не понимал, как все это сложилось, а уж тем более не способен был сам все устроить. Однако ласки навязчивой подруги и жгучий напиток сделали своё дело, и когда, подкрепившись, дядя и племянник уезжали на службу царскую. Алексей на прощанье чмокнулся не раз с Грунькой — совсем по-дружески. Ни он, ни дядя не возражали её заверениям, что она не замедлит своим посещением и намерена гостить в лесах на Тихой Сосне. Алексею, впрочем, и в голову не приходило ещё ничего подобного, просто потому, что он не успел составить никакого понятия о житьё-бытьё в лесах. Одна мысль, что там будет, заняла теперь вполне весь ум молодого человека, не оставляя в нём места ничему другому Подавленный близостью нового положения, Алексей, сидя подле дяди, с ним даже не заговаривал. Он упорно смотрел слезящимися глазами в тёмную даль и не замечал движенья повозки, прыгавшей по набросанным как попало соснам, тут же срубленным и погруженным в топкую грязь. Лошади шли неохотно, но ступали бережно по неровностям древесных стволов, выбирая твёрдую точку опоры для копыт и избегая наступать на торчащие из грязи скользкие ветви ельника. Скука перехода через топь ещё больше усилила тоску Алексея, и он не мог удержаться от плача. Услышав начавшееся хныканье, дядя не выдержал уже и сердито окликнул:
— Это что ещё? Не прикажешь ли, государь Алексей Гаврилыч, матушку кликнуть слёзки утереть? Дурень! Я ведь везу тебя на службу царскую, а не замуж отдавать, ко гневной свекрови… Нужно на деле стоять да уметь приказывать и взыскивать, а не рюмить. Воют тогда, как бьют, да и бьют — выть не велят Выбрось из головы бабьи бредни да будь дворянином, как есть молодцом! Уж не мальчик теперь, коли Груньку спознал!.. Нужно дело говорить человеку: как и что требовать на работе, а мальчишке-рюме какое дело втолкуешь, коли он раскис до того, что слез унять не может, сам не знает, за что и про что!.. Слушай! Как приедем, перво-наперво найду я наш участок и приёмом займусь, людей и того, что надо для рубки. Коли шестьдесят с лихвой ефимчиков отдал Протасьеву, значит, нужно выручить втрое и сообразить, которое дерево в нашу пользу пойдёт при рубке и сколько подвод на вывоз на свой пай лесу употребить. Да и выбрать неприметную тропку в объезде. Счёт-то ты смекаешь, к примеру сказать, за сотню?
— Чего сотню, дядюшка… ино орехом у Поликарповых с ребятами в кучки складал я попрежь других по шестидесят и по семидесят.. а дальше…— Он замялся, видимо затрудняясь, а дядя вновь ехидно засмеялся. Злость его разбирать стала теперь, уже ничем не сдерживаемая.
— Экого олуха сестричка выкормила! Бессчётный дурень!.. до семидесят чтёшь… эку вяху молвил!.. А перстов на руке сколько — решишь? Не тебе стало реветь, а мне, старому дураку, что нянчиться придётся с тобой, олухом. Заруби на носу, болван, что семьдесят да десять — восемьдесят люди называют, а к восьмидесят десяток — девяносто будет, а девяносто с десятком — сотня… Крепко это запомни… Без того пропадёшь на службе. Счёт первое дело знать… Слышал?
— Слышал, дядюшка, — ответил Алексей, уже не плача.
Счётная мудрость затронула его любознательность. Природный ум у него был неплох, да неведенье, круглое до сих пор, не давало случая изощрять врождённую сметливость.
— Баишь ты, семь десятков с десятью — восемь десять, а восемь десять с десятью — девяносто; а к девяти десяткам десять придать — сотня целая… К примеру сказать, — прибавил уже радостный от неожиданного расширения знанья своего Алексей, взявшись за большой палец левой руки пальцами правой, — это десяток, один, это два, — молвил, захватив второй палец. — Так — тридцать, к примеру, — держась за три пальца, — а так — сорок, — взяв четыре. — А вся пядень — полсотня. А так шесть десяточков, — и сам торкнул пальцем правой руки в ладонь левой, — Этак семьдесят будет, — повторил то же действие двумя пальцами, приложил три пальца к левой ладони и выговорил: — Восемьдесят уж! А эва — девяносто, — соединяя ладони, подогнув большой палец левой руки. Разогнув его, соединил обе ладони,крикнув: — Сотня целая, значит!..
Как ни сердит был Елизар, а улыбка одобрения мелькнула в углах рта его. и он прошептал, успокаиваясь:
— Сладим как-нибудь.. Смекает, так направить можно — не дерево в самом деле.
Урок счётной хитрости был сделан как нельзя более кстати, и пища для юного ума Алексея, предложенная в форме грозного наказа, дала направление мыслям молодого Балакирева в полном смысле дельное. Он уже под напором новых побуждений забыл тоску свою и стал озадачивать дядю запросами, доказывавшими, что мальчик способен быстро схватить всякую мысль. Да ещё он успевал сразу так поставить вопрос, что ответ на него давал нить для полного уразумения предмета, за минуту ему неизвестного. Путешествие, таким образом, приняло недуманно-негаданно совершенно иной характер — наставительный на дело, а не портивший, как нужно было дядюшке-наставнику, задумавшему сделать из племянника раба развратом.
В три дня, хотя и по скверным дорогам, отъехали путники от Владимира больше шестисот вёрст окольными лесными путями, направляясь через бывшее рязанское княжество. Они уже вступили в область воронежских лесов, оставив в стороне дикие поля тамбовские и реже встречая посёлки. Дороги, впрочем, оказывались более людными, чем в населённых местностях. Приходилось обгонять небольшие ватаги пешеходов, топорников, редко сталкиваясь со встрешниками. Все показывало близость случайного сгона народного на окраину. Ясно было, что не произвольно и не навсегда. Кое-где стали попадаться и обозы с домовыми запасами, сопровождаемые двумя-тремя вожаками из дворянских поместьев.
Дорога, слабо проторённая, беспрестанно меняла ширину и направление, делая колена в обход топей и наталкиваясь в конце угла на какую-нибудь естественную примету. Вот белеет издали расщеплённая осина, вырезываясь на мрачном фоне векового бора. А тут громадных размеров пень на каменистом косогоре, обросший молодым тальником, кажется прикрытою обрывками ковра травяного цвета головою великана, започивавшего в глубине леса. Вот издали несётся не то гул, не то топот, смешанный с говором громких голосов. Ближе и ближе. Можно различить голоса даже. Скачет, десятка в три, кучка всадников. Нагнали они повозку дяди с племянником и перекинулись на лету двумя-тремя возгласами. Признали Елизара служилые люди, и он опознал знакомых. Это были десятники, посланные впереди Протасьева на Воронеж.
Пропустив эту ватагу Елизар Демьяныч сказал племяннику:
— Ещё разве будет один ночлег взят до Вороны реки, где временный шатёр воеводский. Ты, Алёша, теперь знаешь, как и что… Понял?
— Как же, дядюшка!
— Сумеешь развести людей, как — я те рассказал — делается обычно?
— Не забыл, известно. Мужик от мужика в десяти шагах, а подводу от подводы — на тридцать шагов. А в ряду ставити на полтретья ста шагов больших, мерных, а…
— Ну довольно. Вижу, не запамятовал. Так точно наказ повелевает, буде препятия особенного не встретится и люди прибудут на срок, и недостачи ни в чём не окажется.
— Буде препятия особенно не встретится…
— Это не повторяй за мной, а памятуй про случай, а главное, востро гляди, изобрав десятников, чтобы не воровали и нам за огурство[228] таких воров в ответе не быть… А паче нам свой барыш наблюсти, не впротор делу да набольшему не в примету, чтоб доль ещё не давать, окроме срывки во Владимире — на приказ и на воеводу. Здесь приставники жадный народ тоже, да не в пример легче городских обирал… Известно, свой брат же… коса на камень находит, а перемочь нашего брата сквозника, что смекает по первому слову, куда ему? У меня, к примеру, ничего не усмотреть, коли бы сам везде был. Новик[229] учнет придираться к пустякам, думая горлом взять, я же ему дело говорю, а своим глазами знать даю, что делать наперёд. Все показывается шито да крыто… и на месте. Уж уговорено все, кому сколько и за сколько лесу моей рубки; в одно место везут, а в другом оставляют. А за оставленным в своё время приезжают сами и… берут. У меня рубщики и лес даровой; значит, за что ни отдашь — все мне чистый барыш; а им чем дешевле достать, тем лучше… А торговым сотням струги выставлять из своего лесу, стало, покупать приходится… Вот в чём самая суть… Вот на чём я ворочу своё, что вперёд переплачено думному да дьяку! Правда, взяли они да путь показали: как и с чего ворожить… На то с дельцом истовым и приятно дело вести. Дать-то всякому приходится, а от дельца-то с походом воротится… Это, Алёха, главное, смекай. Умный человек Александр Петрович, за то и думный теперь… и вотчин понакупил страсть… И Истома такой же; у него в посуле верная мера: чтобы двести нажить — двадцать ему подай. А сумел не двести, а триста слупить — все твоё!..
Алексей из бесед дяди во время дороги понял хорошо всю утончённую науку хапанья без страха и трепета по премудрому правилу: коли ты не возьмёшь — другие хапнут. А кто ж себе враг?.. На то и велика казна царская, что всем бывает от неё пожива и хватает на все… Хватит, значит, и на наш пай.
Царь Пётр Алексеевич задумал дело новое: флот соорудить общими жертвами со всех сословий. Посошников и топорников нагнали со всех концов обширной Руси: рубить на сооружение сотен судов из непроходимых лесных пущ — без счёту сначала и без меры. Ни сметить количества, ни приладить спервоначалу штуки длиной и шириной и обхватом, куда какая требуется, никому в новом деле и в голову не приходило. Изловчается человек примером да опытом. Советники царские, раскладку на всех судовую размечавши, одно рассудили: дворянство людей с поместьев выставить на работу, пожалуй, может; и люди эти могут отработать урок на своём хлебе, бесспорно. И деньжонок, алтынами накидывая на число дворов, собрать можно мастерам на жалованье; но — не больше. Стало быть, лес должен быть для вотчинных работников и для поместных[230] — казённый. Власти духовные в ту же статью идти могут, и с монастырями. А посадские деньги огребают со всего в торговле — могут и лес купить, и мастерам, при деньгах в кармане, переплатить больше. Да и поприжать не мешает аршинников-грабителей, благо случай есть. Раскладка утверждена. В приказы и по городам послана для исполненья. Приказные получили и смекнули: на чём, выполняя строгий наказ, поживиться можно. А затем — мы видели выше — тонкий делец по своему времени Александр Петрович Протасьев у себя и таксу завёл с дворян, вызываемых в надсмотрщики и пристава при рубке.
За посулу ловкий дьяк доброхотным давальцам, вроде Елизара Демьяныча, открывал и цель побора, и средства воротить внесённое, да ещё и с лихвою; будь только сам плутоват, расчетист да оборотлив. А все эти качества, так сказать, тонувшие в море ненасытной жадности, были основными стихиями характера Елизара Демьяныча, мгновенно сообразившего и ещё быстрее решившегося действовать. Алексей взят был им преимущественно для того, чтобы за счёт его отцовской части расплатиться с приказными, да и в случаях дальнейшей надобности прибегать к этому источнику. Это ему удобно было сделать, развратив племянника и приохотив его к наслаждениям, а для того он должен был усыпить его совесть и все чистые побуждения и выставлять пороки за обычные явления, свойственные людям, действующим по своей воле. Всякое дело представлять умел мастерски своему племяннику Елизар Демьяныч только с одной стороны: грязи и зла. Целью любого дела он видел только одно: захват в свою пользу и нераздельное владение, не гнушаясь при этом ложью и низостью. Истолковывая требования службы, он учил всеми хитрыми уловками отводить глаза от своих корыстных действий, заставляя работать земских работников прежде всего в свою пользу, а на государственное дело уделять лишь десятую долю добытого лесного материала.
Объяснение наше должно представить в настоящем свете злую науку жизни и службы. Наука эта, преподанная хитрецом дядей неопытному, несмышлёному и легко все ухватывающему Алексею, была так зловеща, что нетрудно догадаться, куда она могла привести его. Курс же превратного понимания жизни, её цели и стремлений прочитан и усвоен понятливым учеником во время пути ещё к месту будущих подвигов.
Была пора весны, согнавшей снег, но ещё не успевшей развернуть листа. В лесах, граничивших с раздольными лугами юга, вдруг наступили жары днём, а с наступлением вечера — туманы от пара оттаявшей земли. В такое время года открываются в глубине леса такие тропки, которых летом и не заприметишь за роскошным зелёным убором ветвистых дубов и ясеней. Две эти породы деревьев в обилии попадались на участке Червякова и его племянника, Алексея Балакирева. Елизар Демьяныч в зимние месяцы успел привести в исполнение почти все свои замыслы о наживе, в надежде на которую он сунул Протасьеву немалый куш вперёд. Внося же все, что выговорено, он небоязненно работал на свой пай, открыто рассылал посадским кумпанщикам казённый лес на казённых земских подводах да по расчётным биркам получал все, что причитало, без задержки. Он был такой человек, что, устроив дело, думал только о наживе, о дальнем не заботился, только по мере расширения дела ещё настойчивее повышал цены на свои услуги. Он не заботился о том, как о нём будут думать люди, вступившие с ним в сделку и видевшие только усиление поборов его и невозможность отделаться от кулака. Это, впрочем, общие невыгоды дел с кулачеством, которое, заботясь о быстрой и как можно большей наживе, вызывает неудовольствие обиженных и желание отплатить, разумеется, тою же монетою. Ещё больше озлобления возникает против кулака-монополиста, каким по случайному стечению обстоятельств и вследствие своей удивительной способности захватывать везде оказался для кумпанщиков Елизар Демьяныч Червяков. От неудовольствия дошло до открытого ропота и ожесточённой брани со стороны несчастливцев, принуждённых пользоваться его услугами. А худая молва — говорит пословица — далеко бежит, и успела она в короткое время дойти до ушей Сашки Меншикова[231], наушника царского, которому доносили — где что неладно, не служилые, конечно, люди, обделывавшие дела заодно, при общем дележе, а обираемые посадские. Узнал Сашка, что изворотливый и юркий Александр Петрович Протасьев всему злу голова, а лучший человек по его отзыву Елизар Червяков — мошенник и грабитель, каких мало, даже в то горячее, неразборчивое время. Сам же Червяков при начислении себе барышей способен был всех меньше к осторожности. Жадность в нём, однако, равносильна была животным побуждениям и жажде наслаждений в его вкусе, причём бабы и вино играли первые роли. При благоприятстве судьбы, сыпавшей в кошель щедрую и непрерывную подачу вымогаемых алтынов, совсем, можно сказать, оскотинился развернувшийся кулак. В мыслях своих он насчитывал с дерзкою отвагою тысячи и тьмы алтынов и не жалел тратить на кутёж. А тут и случай вышел раскошелиться во всю варю. Грунька выполнила обещание и привезла подругу. Они приехали гостить в лесах и радовать деятельных поборников хапанья, подвизавшихся уже тринадцатый месяц в пустыне, где с раннего утра раздавались мерные звуки топоров, крики рубщиков и команда носчикам. В самой лесной чаще, углубляясь в неё по мере вырубки, заседал распоряжавшийся делом рубки и вывоза приказ в лице Елизара с племянником. Они рассылали наказы свои через двух подьячих, имелось ещё не один десяток урядников Елизар и Алексей отдавали распоряжения словесные, дьяки писали, урядники счёт вели и наряжали из подвод обозы, вёзшие лес по назначению. Прибытие Груньки нарушило обозный деловой порядок. Неожиданным появлением на сцену бабы возбудили, разумеется, сперва удивление, а потом расспросы, шутки и балагурство очень недвусмысленного свойства. В этом оказывался неистощимый ум Елизара Демьяныча. Алексей в три месяца дядиного воспитания стал уже другим человеком: понятлив стал на плутовские штуки, а необузданным животным побуждениям дядя приучил его отдаваться без стеснений, сам подавая во всём пример.
Подьячие по случаю приезда гостей удалились сами работать на свой пай, получив наказ вести дело и доложить после, благовременно. После первых с гостьями шалостей — совсем не к лицу и не по летам — у Елизара Демьяныча в разгулявшемся воображении мелькнула мысль разом двух бобров убить, распотешить приказчика Змеевской засеки да стрелецких голов, содержавших лесной объезд. Могли ведь они, в случае неладов, захватить вывозимый лес для торговли с кумпанщиками. А промедление здесь в один только день в горячую пору могло лишить кошелёк Елизара Демьяныча недельной выручки, то есть заставить даром проработать неделю, внося за неё сборщикам Протасьева что следует. Такие нужные люди, как объездные головы, были к тому же сами хлебосолы, порой наезжали к Елизару, где угощались до отвала, а иногда сами угощали искушённого жизненным опытом старца наиболее ценимым им развлечением в пустынном лесном пребывании — песнями бродячих цыган. Разумеется, оставляли они у себя долее прекрасный пол из табора, выпроваживая мужчин да старьё заблаговременно. Как не показать таким угодникам своего радушия и готовности отплатить приглашением на пир? Здесь царицами праздника должны быть Грунька с Фенькой, героини-странствовательницы, прибывшие налегке, только на одной подводе, но не забывшие гусель да яркого гардероба. Обе обладали богатырским сложением, с развитым торсом, звонкими голосами в песнях и длинными косами, которым могла бы позавидовать любая султанша, воспеваемая восточными поэтами. К наружным прелестям во вкусе москвичей XVII века прибавьте готовность на все и вся, бесцеремонность в словах и необидчивость на выходки других, да способность пить все, что даётся, и в таком количестве, сколько предлагается. При этих добродетелях Грунька и Фенька обладали в надлежащей мере и плутоватостью: умели воспользоваться минутою утехи, чтобы извлечь для себя из приятного расположения заинтересованной особы возможно больше выгоды, правда, жертвователь, памятуя степень наслаждения, не каялся. Совместите все это в тип миловидных, в русском вкусе, молодых особ, цветущих здоровьем и беспрестанно заливающихся искренним смехом, и вы будете иметь понятие о посетительницах Червякова и Балакирева в глуши лесной трущобы. Раскаты смеха, поцелуи бесцеремонных развлекательниц, возлияние из братины — незаметно сократили весенний день, так что гостьи с хозяевами не заметили спускающихся уже сумерек.
При гаснущем же сиянии светила, когда в лесной чаще был почти мрак, приехали званые гости, успевшие выспросить у намётанных посыльщиков, для чего их зовут спешно. А узнав цель приглашения, каждый взял с собою угощенье, какое нашёл. Знали они, что наскоро в лесу ничего не найдёшь, и каждый желал своим паем вступить в кумпанство для затевающегося пира.
После обычных лобызаний приезжих с хозяевами привычные к делу жильцы наскоро накрыли стол покоем да уставили узорную скатерть всяким съедобным и лакомством: чего хочешь, того не проси уж, а сам бери своей пятернёю.
Братина заходила вокруг собеседников, и зажжённые пучки лучины, наторканной в стволы обрубленных деревьев, всей сцене кутежа придали характер шабаша ведьм на Лысой горе. Нестройные звуки там и сям заводимых пьяненькими песен, пляс грузных пировалыциков, увлекаемых беззастенчивыми гостьями, которые от вливанья живительной влаги делались все нахальнее, действительно обращали пир среди леса, ночью, при дрожащем от сотрясения воздуха освещении во что-то фантастическое. Гул от звуков на поляне в глуши леса отдавался где звонче, где глуше, и весь лес, если углубиться в него с дороги, казался оживлённым.
Приехали вовремя к началу пира три сотника, а приглашено было четверо. Начиная, впрочем, пировать, заботливый хозяин послал навстречу запоздавшему на три тропки, вводившие в лесную чащу с поля, людей своих, чтобы гость впотьмах, грехом, не попал в омут какой ещё вместо угощенья.
Проводников отослали, сетуя на запоздавшего друга-товарища, а сами — по пословице: семеро одного не ждут — решили не отсрочивая утолить скорее жажду и приняться за предложенные яства. За этим делом, разумеется, совсем забыли отсутствующего, и все были, как называется у военных, на втором взводе, то есть в состоянии неясного понимания, что вокруг происходит, когда один из посланных на тропку подбежал, запыхавшись, к столу и крикнул: «Прибыл его степенство!»
Алексей, уже готовый чокнуться полною чаркою с Грунькой, отставил руку, чтобы приветствовать запоздавшего. Один голова объяснялся в любви подруге Грунькиной, и почему-то у обоих слезы лились из очей, едва видевших. Елизар Демьяныч, который усердствовал при угощении больше всех, старался, как хозяин, пример подавать, даже дошёл до приятного усыпления. Голова его склонилась, а на полуоткрытых устах явилась странная улыбка: может быть, правда, что Морфей убаюкивал хитреца повторением житейских сцен навыворот. Сам Червяков рассказывал с похмелья, что во сне главенствовал и приказывал он людям особой породы. Они прогуливались вверх ногами и в птичьем обличье со звериными хвостами писали вместо подьячих. Двое пирующих, люди крепкие, меньше охмелевшие, вели ещё беседу с приказчиком об ожидаемых магарычах. Он же покрывал густые голоса своим звонко-серебристым дискантом, резавшим непривычный слух до болезненности:
— Врёте вы, собачьи дети! Вам не по полутрети алтына, а по полтора только, а полтрети мне подай! Наше дело, будем говорить, правое — не усмотрел!.. Проехали другой дорогой… весь бор не обрыскать… семь вёрст в едину сторону… а нашему брату — первый кнут: зачем вывозную память[232] скрепил…
— Первый, подлинно!.. сам проговорился вор, забывший суд Божий, коли душу свою продал дьяволу за корысть проклятую! — ответил громовой голос подошедшего к столу приезжего в охабне[233].
Приняв его за стрелецкого голову, посланный довёл его бережно к месту попойки. Он, как мы видели, поспешил возвестить о приезде за несколько мгновений, но его никто не слушал, а голос гневного укора, загремевший в ответ на речь хищников, произвёл магическое действие.
Стрелецкие головы вскочили и первые с криком «Великий государь, помилуй!» — грохнулись на колена.
Слова «великий государь», произнесённые узнавшими голос царя Петра, и в пьяных произвели переполох. Что касается до прислуживавших за столом — эти бедные люди просто оцепенели. Приспешник Елизара Демьяныча, Захар, явившийся из балахнинской усадьбы с первым обозом съестного, ставил перед гостями киселёк миндальный с корицей в виде острога с башнями. При громе гневных слов царя Захар своё художественное произведение не успел даже опустить из рук. Он так и замер с ним, занесши блюдо при помощи поварёнка Сеньки над лысиной Елизара Демьяныча, не чуявшего грозы в сладком сне. Дрожание рук у Сеньки и Захара скоро перешло в онемение пальцев, неспособных удержать тяжесть, и блюдо стало клониться набок, но как-то счастливо само опустилось на стол. Только разрушилось кисельное сооружение и залило грудь да нарядный кафтан Амфитриона сладкою вязкою массою.
У проливавшего слезы и у подруги его глаза широко раскрылись при звуках громового упрёка и возгласа: «Помилуй!» А Алёша по неопытности своей скорее с удивлением, чем со страхом, не поднимаясь взглянул на того, кого назвали царём испуганные, просящие пощады стрелецкие головы.
— Что это за парень? — раздался грозный вопрос царя, уже относившийся к Алексею.
— Я-то? — ребячески ответил Балакирев. — Изволишь видеть, с дядюшкой, набольшим здесь, на рубке… дворянин Балакирев.
— Знай же, с кем говоришь! — крикнул на Алексея молодой человек, в это мгновение ставший подле грозного допросчика.
Алексей поднялся с места, как и все прочие, не исключая девок, кроме спавшего Елизара.
— Говори правду, о чём буду спрашивать! — менее грозно молвил государь мальчику, как он понял, меньше всех виноватому.
— Что изволишь, милость твоя… ц-цар-ское велич-че-ство!.. — машинально и робко ответил Алексей, мгновенно отрезвлённый.
— Что вы здесь делаете?
— По наказу думного, Александра Петровича, справляем рубку, а теперя случай выпал… гости.
— Пируете?
— Изволишь видеть сам.
— Простительно было бы, коли б дело справили, и Ивашку Хмельницкого вспомнить… да вы воруете много… казну мою грабите… торгуете лесом, мерзавцы, словно он ваш, из вотчин, а не государственный… Как же смели вы корыстоваться святыней?!
— Государ-р-ское величество, я справляю что следует… дядюшка Елизар прикажет — отпускаю на Воронеж бунты дубовые[234], а воровство ль — того не знаю… А алтыны еженедельно вносим приказчикам Александра Петровича… А от его наказ: эти самые алтыны навёрстывать как знаем… да дядюшка взнёс к его милости шестьдесят рублёв да три рубля ефимчиками необрезными счётом… и воротить своё надоть… Доподлинно это знаю.
— За что шестьдесят три рубля? Это опять новое… Кикин[235], допроси про все… и доведайся… Коли вправду не солгал ты, так и быть, помилую тебя… ради…
— Крайней глупости его, — прибавил бледный молодой человек, выговоривший перед тем Алексею: «Знай, с кем говоришь». — Ему, государь, поучиться бы ещё нужно теперь.
— Какое ученье пойдёт на ум, коли с сударками спознался? — возразил Кикин.
— Сколько тебе лет? — спросил государь.
— Шестнадцатый пошёл, с Алексея Божья человека.
— А давно пьянствуешь?
— Дядюшка велит, что ж… как на службу записался.
— А какой такой дядюшка твой?
— Започивал он теперь, вона…— и перстом указал на спящего Елизара.
— Кто же он такой?
— Елизар Демьянов Червяков, стряпчий, — ответил один из стоявших на коленях стрельцов. — Он взял участок рубки… а мы, государь, стражу посланы содержать, объездом… и сюда заехали по приглашению…
— Одно слово: рука руку моет! — с гневом отозвался государь.
— Помилуй, виноваты! Нельзя нам, беднякам, вывозу остановку чинить… Приказано с билетами пропускать, а билеты Андрей Фомич, приказчик, выдаёт, вот он! — указывал на съёжившегося приказчика. — Нам, хотя бы и подлинно ведали, что на продажу, а не на работы… с ярлыками велено пропускать…
— А донести… почему не донёс?
— Донос мой к самому вору, к Протасьеву, в шатёр придёт… Он тебе, государь, доносчика вором и поставит, скрывая своё воровство!
— Встань!.. Правое слово сказал… За признанье прощаю… Вяжи всех, кроме этого малого… Челядь да девок отпустить… Приказчика и пса старого, вора… допросить и — на осину!.. С другими расправлюсь… Вы двое, Александр Меншиков да Кикин, останьтесь; вдосталь все разберите, как есть… Велик Бог правосудный… Привёл меня с вами на кару ворам бездельным…
— Виниус! Ты скачи сей же ночью на Воронеж, назад и посади за приставов вора Алексашку Протасьева, а нам медлить нечего…
И государь поворотился; приказал светить себе, взяв лучину. В это время какое-то существо, бухнув в ноги государю и всхлипывая, крепко ухватилось за них.
— Говори, что тебе надо? — спросил царь милостиво. Грозен он был, да скороотходчив.
— Прости, государь, боярчонка моего, Алексея Гаврилыча… Вор твой царский, Елизар Червяков, сгубил ребёнка… Маменька плачет, чай: кой месяц здесь держит, ворог, да в винище втравляет… да девок водит… Сам бы младенец не смыслил… Маменьке отдай, государь… была у тебя у самого матушка… Помилуй!..
— Быть по-твоему. Встань, старик. Вези мальца к матери!.. Пусть выкурит дядину злобу, коли сможет… Не хочу брать на совесть вину неразумия. Кикин! Опроси все и отпусти его с этим стариком к матери… Пусть не плачется на меня.
— Один сынок, батюшка!.. неразумен… Слезами обливался я каждодень, глядя, как спаивал старый леший — грабитель… Робенковы, слышь, четьи Протасьеву записал, во взятку, и дьяку такожде… Помилуй!.. Коли воротишь награбленное, женить позволь — исправится!
Царь махнул рукой:
— Вставай! Будет все как сказано… Черкни, Кикин, и это в прибавку… Улики сами собой открываются на казнокрадов проклятых… Корень зла надобно искоренять… Ты, Меншиков, разбери все до тонкости — подьяческие плутни… За приказчика прежде всего принимайся.
И, приходя в обычное спокойствие, молодой государь пошёл с небольшой собравшеюся свитою к выходу из леса, горящая лучина освещала им путь.
Кикин занял за столом место прощённого головы, принявшегося вязать приказчика.
Будущий страдалец за царевича сам был кутила и не последний взяточник, но никогда не терял случая угоститься, тем более на чужой счёт.
— Садись, Александр Данилыч! Добру зачем пропадать даром? И вы, птички залётные, не перечь ни в чём… Мы теперь здесь вольны распоряжаться… И ты, малец, наедайся на дорогу, да будь разговорчивее. Узнаем, что нужно, и без допросов с пристрастием.
Глава II. МОЛЕНО, ХОЛЕНО, ОБЕЗДОЛЕНО!
После обедни Лукерья Демьяновна легла маленько отдохнуть. Она, бедная, ночи напролёт не смыкала глаз в слезах об Алешеньке, увезённом Елизаром Демьянычем на день и как бы сгинувшем вместе с ним. Уж и рассылала нарочных до Нижнего и под самую Рязань, да одну привезли весточку: «Елизар Демьяныч с племянником на службу засланы, а куда — неведомо». Вот и Христов день[236] прошёл, и Фомино воскресенье, и на Радоницу к родителям на погост сходили, и уж согрешила от нестерпимой тоски Лукерья Демьяновна — чарочку выпила за Алешеньку.
«Может, не живо дитя моё?.. С того брат и не пишет… думает, легче матери не знать про потерю… Слез не достанет на век мой оплакать Алешеньку».
Приехала от обедни из монастыря, где панихиду отпела за «напрасною смертью скончавшихся», и словно от сердца отлегло… За обедом попадье Герасимовне, что всюду с помещицей ездит и живмя живёт у ней на сиротстве, поднесла рябиновки и сама испила несколько капель из чарочки по её совету… все, думает, куражней будет.
Отобедали вдвоём и полегли на успокоенье. Только смежила глаза Лукерья Демьяновна, как стала засыпать. Вот сквозь сон слышит, называют её по имени, потом кличут: «Маменька!»
Забилось сильно сердце у помещицы при звуках знакомого, казалось, голоса, и она открыла глаза. Посмотрела вокруг себя: никого нет. Вздохнула тоскливо, обманувшись в ожидании, и постаралась забыться. Сон на этот раз вступил в полные права над помещицею и не выпускал её долго из своих обольстительных объятий, рисуя ей в причудливых узорах несбыточных видений знакомые лица обоих её супругов. Да будет ведомо читателям нашим, что Лукерья Демьяновна пережила два раза улыбавшееся семейное счастье. В первый раз за Антипа Андреевича Скуридина, старца за шестьдесят лет, выдали её всего на пятнадцатом году, и с этим дедом провела она безбурных три лета, ухаживая за немощным, расточавшим ей ласки скорее родственные, чем супружеские. Бессилие в прямом смысле этого слова довело Антипа Андреевича до невозможности повернуть ни ногой, ни рукой и неприметно и для него, и для других прикрыло туманом умственного забвения тлевший огонёк жизни в бездвижном живом трупе. Освобождение от уз телесных этого страдальца было началом весёлых дней для восемнадцатилетней вдовы его, которой по завещанию, написанному на другой день свадьбы, Скуридин отказал все своё движимое и недвижимое. А он был человек не бедный для своего времени и, хотя дослужился всего до стряпчего, владел вотчиною от предков в восемьсот четьи[237] да, кроме угодьев, — ста двадцатью дворами. Божья милосердия, с венцами золотными, целый угол оставил, да монисто зёрна гурмыцкого, женино, в полтретьядцать[238] рублёв, окромя всякого другого богачества. С таким приданым присватался к молодой вдове молодец — картина, ростом девяти вершков — подразумевается сверх двух аршин; глаза насквозь пронизывали; кудри — не надо шёлку чёрного, шемаханского. От роду ему было двадцать лет и три, а на четвёртый перекатило; звался Гаврилом Никитичем из роду Балакиревых. Всяким талантом молодец не обижен, а храбростью преизлиха, паче всего. За то в чигиринском походе турка безжалостный пырнул его навылет рожном каким-то, и зачах Гаврило Никитич. Не помогло лечение знахарское. Настоев тысячи корешков перепил, а только мало-мало отходил к лету, а за осень опять гнуло в крюк. Промаялся так года два, да на самое Благовещенье сбирался в Москву поехать благодаренье принести милостивцам за пожалованье в стряпчие, а вместо этого прихватило накануне, и в праздник Богу душеньку отдал — к обедням, в колокол. Что было с женой, и сказать нельзя: водой трижды отливали. Свекровь уж с отцом духовным уговорили кое-как: жить тебе, мол, нужно для сынка, отцово подобье, для Алешеньки… И скрепилась вдова разумная, возверзив на Создателя печали свои.
Этого-то, дорогого муженька второго, увидела теперь во сне Демьяновна. Приехал словно из похода; сел на постелюшку. Глянул ясным соколом и молвил, как обычно сожительницу привечал:
— Рада ль, Луша, гостям?
— Как же не рада?.. друг сердечный мой!.. — и сама залилась слезами, стала мужу жаловаться: — Нашего Алешеньки лишилась…
А отец-от ей:
— Как лишилась? Живёхонек… здоровёхонек… Да проку-то в том что?.. — Как сказал, так словно и пропал… А Лукерья Демьяновна проснулась и раздумалась: что бы сон сей предвещал?
Да смотрит в окошко… Каких-то двое — странников, должно — во двор вошли. Некошно таково на них облаченье; пооборвались гораздо… И идут к крыльцу… Словно так им и следует. Всматривается Лукерья — знакомые лица.
Попадья встала тоже и, из-за плеча помещицы глядя на подходивших, подумала: кто бы? Вот мелькнули двое эти за крыльцом, и немного спустя голоса раздались. Распахнулась дверь, и Алешенька, подросший, похудевший, заветривший, бросился к матери и упал к ней в ноги, рыдая. Селиверст, старый слуга, стоял поодаль, осторонь. Лукерья Демьяновна, кремень-баба, теперь, под впечатлением сна вещего, дала полную волю слезам.
Уходившись немного, спрашивает она у Селиверста, не мешая плакать сыну:
— Все ль подобру-поздорову?
— Можно баять, подобру-поздорову; а можно и нет сказать.
— Как так?
— Да боярина своего я на старости лет слезами рабскими отмолил от наказанья у царя-государя… А государь, братец твоей милости, на осинке болтается… Буди воля Господня!..
— От какого наказанья?.. Как братец… на осине?
— Истинно так, государыня… Накрыл государь-царь беспутство господ наших, Елизара Демьяныча, прости ему, Господи, согрешенье за муку; по делам его хотел опалу возложить на дитя твоё милое… Не столько винен малый, разумеется, как старший, всему злу корень, государыня!..
— Какое же беспутство?.. Все по ряду, как следует скажи… Недаром сердце-то и ныло у меня изо дня в день… Ах, бедный братец!..
— Не жалей об нём, боярыня… Не было у тебя, и не дай Господи пущего ворога, как — упокой, Господи Создатель! — Елизар Демьяныч был… Спортил он твоё чадо, Алексея Гаврилыча… Вымолил я пощадить его, неразумия ради отроческого… Как будто и помиловал царь-государь… А кого он там бояр молодых поставил… дело вершить… как они найдут… Молить Бога надоть, чтоб пронесло беду горшую… Александр Васильич Кикин, отпуская нас, сказал, правда, что, даст Бог, ничего… минует зло… А как знать, что там выищется… ещё воровства…
Лукерья Демьяновна больше не слушала, залившись горькими слезами и прижав к себе сына, по словам старого вестовщика чуть не чудом ей возвращённого.
Мать пожелала услышать от сына все, как и что произошло с отъезда его из-под родительской кровли.
Можно представить себе затруднительность выполнения воли матери для героя нашей повести: благодаря развратителю дяде уж он понимал, где добро, где зло, а и утаить и отрицать все нельзя в присутствии Селиверста, старика, не способного лгать или покрывать вину боярчонка.
Сам Алексей, конечно, многое не одобрял, даже при своей неопытности, в поступках дяди. Но старый искуситель был умён и успел привить неопытной душе Алексея чёрное начало лжи. Вкусивши разврата и изведав стыда, уже отличный от детских о нём представлений, молодой Балакирев не все мог высказать, чем мучилась его совесть. Для молодости подчас злое привлекательнее доброго; доброе открыто и ясно, тогда как недосказанное, запрещённое имеет всю прелесть таинственности и подстрекает любопытство, возбуждает желание изведать сокрытое. Изведавший же сладость запрещённого плода догадывается по мукам своей совести о неприличии им совершённого и потому всегда старается представить свои деяния в более благовидном свете.
Мать, слушая о подвигах сына и действиях своего братца, наказанного судом Божиим так страшно и неожиданно, тихо плакала. Слезы эти, однако, не облегчали сердца страдалицы.
Слушая рассказ сына, она испытывала такие муки, которые знакомы только матерям при бедствии детей. Когда речь дошла до выданного обязательства на отцовское наследие Алёши, Лукерья Демьяновна схватила себя за голову и так сжала виски свои, словно в них она чувствовала невыносимую боль. Слезы ручьём полились у неё из глаз, и с рыданьями, услышанными в первый раз ещё, как знакома с нею попадья, помещица несколько раз повторила:
— Господи! за что свыше сил на мне отяготела рука Твоя! Родня была мне всегда враждебна… брат — всегда злодей и первый ненавистник, но такого зла не могла я и думать от него…
— Да это самое, маменька, дядюшка молвил — не внаклад мне… Все едино: моё — его и его — моё!
— Болвана вырастила — вот и наказанье мне от Создателя! — с сердцем ответила как бы себе Лукерья Демьяновна, не обращая и взоров на сына.
— Оно, конечно… боярыня…— ввернул в речь Алёши старик, — може, и воротят наше… детские четьи; коли хватит недвижимого покойного братца нашего… Александр Василич, Кикиным прозывается, господин хороший, обещал государю царю все как есть исписать… А царское величество у-у как памятлив и проницаньем Божеским, сдаётся, наделён… На боярчонка нашего только раз крикнул: «Говори, говори правду истинную!» А как начал резать Алексей-от Гаврилыч про всякие художества, как дяденька их милость учил, — государь смекнул сам государским своим разумом, что он, малопонятный да молодой, неопытный человек, что твой воск: что хошь с его лепи, коли совесть не зазрит пожилому, разумному… Коли б не такого разуму был покойничек, не сгубил бы себя…
Умиряющее вмешательство верного слуги в другое время, может быть, и не по нраву бы пришлось, а теперь возымело хорошее действие. Лукерья Демьяновна хотя и продолжала лить слёзные потоки, но всё же несколько ободрилась и уже с большим спокойствием спросила старика.
— Что же говорили бояре, коим государь разобрать-то велел братцевы вины да протасьевские… насчёт Алексея моего?..
— Да никак, то ись, они его… не замают и тронуть не думали, потому что юн человек, видят… Насчёт выслуги баили — не ладно, может; а может, обойдётся и оно… Только, отпускаючи, велели мне твоей милости довести: коли потребно будет, Алексея Гаврилыча на улики ворам подьячим вытребовать может… в Москву. А его не коснутся… Государь одно слово изрёк: милую. А я смелость взял, ноженьки государски обнял и зычно крикнул: «Помилуй, государь, у маменьки сынок один, не вели казнить дитя неразумное… Кто не виноват тебе аль Богу не грешен?.. А насчёт баловства, — говорю, — дозволь, государь, женить государыне-родительнице, ино истину говорят: женится — переменится… Спознает жизнь и добро — будет слуга тебе…» И царь-государь помиловал — велел женить…
Водворилось молчание. Старик пододвинулся к двери и, видя, что помещица поникла головой в раздумье, тихонько вышел. Несмотря на свою простоту и жизнь в деревне, старик понимал, что мать сыну наедине теперь, может быть, захочет сказать, а при нём, хотя и верном слуге, сдерживается, и это ей больнее — пересиливать себя.
Действительно, с уходом слуги Лукерья Демьяновна, несмотря на присутствие попадьи, которую считала своим другом, разлилась потоком упрёков сыну.
Но это уже была буря, разогнавшая тучи и кончившаяся полным прощением возвращённого блудного сына.
Наутро нарядила помещица своего ходока по делам Гаврюшку Чигиря в Москву проведать насчёт взысканья за торговлю казённым лесом с крепким наказом отписать с мужичками же, попутчиками аль земляками, как и что.
Ответ получен успокоительный, правда, но доведено до сведения, что неженатых дворян, неграмотных в дальние места рассылают. А те, которые в летах, да женаты тем паче, обложены будут, может быть, полтинными деньгами; но от службы можно им избыть аль людей своих — пятерых ребят — выставить за себя в новые полки, что, как слышно, набирают. Это известие и свои планы по поводу его Лукерья Демьяновна высказала своей неизменной советчице попадье Анфисе Герасимовне:
— Видишь, мать моя, как Бог-от милостив до нас, грешных.
— Кому же, государыня, и миловать нас, грешных, как не Создателю… Он, Батюшка, знает раньше прощений наших, елика нам потребна… Он…
— Ну… завертела поставом… Эка спешка, прости, Господи… не дала вымолвить всего, а своё завела… Исчести милость Создателя и премудрому Соломону невмочь, не токмо нам с тобой… Я не то хотела тебе поведать… Что ближе к нам, то и на уме, и на сердце… Гаврюшка испроведал, что женатому и при грозном царе-батюшке вольгота даётся… значит, пока Алексея не потребовали — обкрутить скорей, и концы в воду! Ты, мать моя, совет дай, к кому нам сходней сваху заслать? Вот у Еремеевых две дочки всего, а родни окромя ни синя пороха и вотчинка на стать… и нам по суседству… и дворы исправные… и домашество все есть, да чистоганом после матери перепадёт на сестру сотняга и больше…
— Родная, Лукерья Демьяновна… так-то так, да еремеевские девки Алексею Гаврилычу не под стать будут: Федосья, старшая, убога и недослышит, да и за тридцать, говорят. А Марфуша из себя больно невзрачна, хоша и молода. Да и глупенька… сама знаю…
— И, голубушка!.. На что в жене ум? Достаток — другое дело. Да была бы безответна, да мне была бы помощница… И красива выйдет иная, а как повалят дети, баба делается на себя не похожа… Годков десяток — мало чем от старухи отличишь… Да ещё скажу, глуповатые беззаботны, так им все как с гуся вода… А умница да раскрасавица — и в хозяйстве свои порядки начнёт заводить, и мужа под башмак заберёт ради пригожества, и свекровь ни во что не поставит…
— Одначе, родная, и пень-от, может, Алексею Гаврилычу не приглянется, а человек он молодой… Да теперь, коли дядюшка шаль[239] таку малому показал, и подавно разбирать станет, чтоб пригожа была да слюбна…
— Н-ну… Алексей теперь у меня много не пикай… Могу ему нос утереть… Мной, скажу, только ты и дышишь, коли государь царь, над матерью сжалясь, помиловал неразумного… Коли неразумен — из послушанья не выходи: лучше твоего рассудим, что тебе приличнее будет…
— Все, конечно, так, государыня… Да детки нонечка не те уж, что встарь было… Вишь, может, воспокаился и, вину свою ведая, со смиренством покорится… А все бы, мой совет, поискать поприглядней Марфушки еремеевской… Не клином же свет сошёлся? Вона, у Синцовых есть Оленушка. Одна дочь, и дадут за ей десять дворов, да усадьбу, да рыбный пруд, да бабкиных — отказанных — шесть душ, и мельница, да на Вятке три пустоши, да остров, да доля в пушном промысле. Маткина мать из купечества и внучку любила, души не слышала, все ей одной отказала… Вот так невеста Алексею Гаврилычу, не еремеевской чета.
— Да не отдадут за моего… ни за что. Наши Червяковы с Синцовыми испокон веку враждовали, а Татьяна Степановна за Дмитрия взята опять из враждебной нам семьи Климовых… Она чуть было у меня Гаврилу не отбила, да в немочь пала, а нас покрутили… Ни я к ей, ни она ко мне через порог не переступит…
— Ну, Зимнинские: есть дочери три, никак. Из себя ничего…
— Голышки… да и род худ… Дед — завзятый вор. Отец кнутом бит… Таких не приходится в родню… Да, почитай, не развязалися ещё с прошлыми грехами… Отбили кнутом, а все таскают, хоша со ссылки ворочен…
— Ну, так Макавеевы — чем не родня будут? Земля к самой Клязьме; лесу достаточно. Мужики в селе зажиточные, все яблочники. И связи есть, в родне воеводы — в люди выведут…
Лукерья Демьяновна задумалась. Макавеевых ничем нельзя было похаять.
— Пожалуй, мать моя, от макавеевских я не прочь, коли судит Бог породниться… Только Феклуша — смиренница, нече сказать — очень уж тиха и рябовата, кажись…
— Чуточку рази… А уж взгляд… смею доложить… соколиный; подлинно и песенница какая, и плясунья.
— Эка греховодница ты, матушка!.. Пристало ль невесту корить такими художествами!.. Не к чести девической… Не цыганка, прости, Господи…
И расхохотались.
— Я, государыня, не корить намерилась, а слышу, по-нонешнему, в Белокаменной у самих что ни есть выше подымай повелося, чтобы баба плясовита была да норовита к утешенью мужнему на всяку стать немецкую… Ино и плясунья, коли мужу не приглянется, так другим прочим… а мужа в люди выведет…
— Н-ну.. от этаких выводов побереги нас Господь… На то уж пусть будут, как и есть, немки непутни горазды… а наши русачки пусть в дому остаются: хозяйским глазом за добром приглядывать… А муж коли баловством, по грехам, зашибётся, жене не зазорно… А коли жена… избави, Создатель, и от слышанья о чужих, не токмя от виденья у себя…
— Прости, государыня милостивая, ты, никак, и взапрямь осердилася… Я ведь шутки ради ввернула… И наша девушка коли пляшет — загляденье, то при честном при всём народе, во девичьем хороводе, а не где-нибудь… А уж куда смышлёна и сноровлива, хоть в ушко вдевай… везде поспела…
Лукерья Демьяновна погрузилась в думу и насупилась. Слова попадьи ей казались не столько обидны, как любопытны, и намёк на возвышение мужа через жену был не с ветра взят, а с примера — в ту пору далеко не так редкого в московском мире. С конца XVII века могли иметь место в уездах о Святках и машкарады немецкие, и никак уж не новостью были слухи, что у великих бояр воротилы-дельцы выходят через жён. Один Илья Данилович Милославский, тесть царя Алексея Михайловича, немцам подражая в житьё, столько себе позволял бесчинств и захватов жён у мужей, что кроткий государь запретил даже себе рассказывать о его подвигах, чтобы даром не кипятиться. У Ильи Даниловича была ватага любимцев, и первая выслуга их перед милостивцем бывала по женской части. Взяток и приносов «поминок» он, конечно, тоже не отвергал, но и за большой куш делал меньше, чем за приглашенье навестить лебедь белую в одиночестве, поворковать с голубкой на досуге. Ну и пошло… И стало не то воевода на городе, не то в своём пашалыке — паша. Положим, эти наши московские гаремов не заводили у себя — убыточно, а досуг-недосуг проводил правитель всё время, почитай, в тихом омуте, убегая света Божьего да в свою избу глаз не показывая.
Родитель невесты-плясуньи сам получил и честь, и место по милости щедроты Ильи Данилыча и после него за Милославских держался крепко, а как царевна убралась в Новодевичий — Милославчикам жутко стало. Тогда и щедрый помещик Рюхинский, принимавший во время оно только московскую знать, спустился пониже: заискивать стал у своего воеводы. Ловкий человек скоро успел подделаться и поправил было дела свои, да вдруг смерть пригласила посетить мир неведомый… Осталась вдова — женщина с умом, матушка взрослых дочек, на которых у неё были свои виды. А правду сказать, девушки чем старше росли, тем становились пригожее, так что женихов не оберёшься. Лукерья Демьяновна с умною вдовою, рюхинскою помещицею, всегда водила хлеб-соль и готова была, не рассуждая долго, с нею породниться. Только сразу так не могла представить себе перспективы женитьбы сына на её дочери. Ей досадно было, что не она первая догадалась об этом, но досада эта скоро прошла. Попадья не раз искоса взглядывала на благодетельницу, не смея заговорить первой, хотя и замечала в чертах успокоивающейся помещицы настроение благоприятное к дальнейшему плетенью словесной канители по узору, ею предложенному. Вот дыханье Лукерьи Демьяновны сделалось порывистым, ноздри немножко начали раздуваться, и в углах рта мелькнула тонкая улыбка, давно ожидаемая наблюдавшею попадьёю. Значит — все теперь можно. В думной голове Балакирихи выгоды соображены и взвешены, и она уже мысленно считает барыши от союза сынка с дочерью рюхинской владелицы.
— Ты, мать моя, не подумай, — обратилась Лукерья Демьяновна к своей советчице, — чтобы разумные словеса твои приняла за что ни на есть неладное. Спервоначалу, конечно, показаться может — плясать будто девушке не к чести… А раздумаешь: время… люди…— она вздохнула, — все суета! Что город — то норов… Пляши, по мне; было бы не зазорно, только бы пальцами не стали показывать: эка, мол?! Не та пора теперь. А Наталья Семёновна хлебосолка, нече молвить пустого… И достаточные люди… И нам совсем под пару бы… Послать было Алексея в Рюхино за чем-нибудь… Ведь дочери все торчат в передней избе да гогочут… Увидит ненароком, — ино и смотрин не делать… Да! вот что: можно Алексею наказать, что, мол, матушка, Наталья Семёновна, тебя видеть бы желала, да недомогает — нога развилась… Ступить не может… а спор бы могли мы один на один покончить полюбовно… не тешимши приказную волокиту…
— Прераспрекрасно!.. Уж что говорить… Тебе ль ума-разума у кого занимать!
— И ведь так… ладней будет… Ни за что не понять подлинного-те подвоху… Сына, скажет Наталья Семёновна, коли засылает — почтенье отдаёт…
Позвать Алексея, и объявить свою волю скучавшему юноше: приказ ехать всенепременно, завтра же с утра, в гости в Рюхино — было делом нескольких минут.
Сын молча выслушал и принял, стало быть, к выполнению.
Перенесёмся прямо в Рюхино и мы. Алексей Гаврилыч уже в сенях, и Гаврюшка Чигирь, с ним посланный, объявляет рюхинскому дворецкому, кто приехал к его помещице, зачем и от кого.
Сени, в которых происходили переговоры, не так велики, тёплые, с лежанкой и махоньким оконцем волоковым[240], теперь открытым для света. Стало быть, хотя и в полумраке, но различать можно предметы. Полумрак этот, напротив, должен усиливать полоску света сквозь щель в дверях повалуши, не совсем плотно притворённых; а повалуша с частыми оконницами и на восток прямо. Было утро, и одно из самых очаровательных.
У средней оконницы красного дома на полавочнике сидят две дочери хозяйки, очень одна на другую похожие, но только лицо одной несколько серьёзнее, а с уст другой, кажется, совсем не сходит приветливая улыбка, сообщающая румяному лицу с неправильными чертами наивное выражение балованного дитяти.
В щель так удобно было видеть девушек Алексею, и он этим удобством воспользовался со всею бесцеремонностью человека, привыкшего действовать по первому впечатлению. Недавнее прошлое юноши, крепко засевшее в его чувствах и помыслах, мы уже хорошо знаем, и, стало быть, не может быть для нас тайною настроение ума Балакирева, знакомца Груньки. Он почему-то (не потому ли уж, что не видел других женщин?) в первую минуту нашёл в смеющейся девушке сходство со своею гостьею на Сосне. Но это было одно мгновение. Поверяя первое впечатление, Алексей решил, что здесь не та особа, но во сто раз краше и живее, без напускного веселья и излишней свободы жестов. Положим, и у этой при разговоре руки движеньем дополняли силу речи, но движение движению — рознь, здесь они выражали особенную природную живость. Нашлись и другие особенности, доказывающие несомненность превосходства боярышни рюхинской перед Грунькой. Раскаты же непринуждённого смеха были и у здешней очаровательницы те самые, которые трогали за живое страстную натуру Алексея. Слушая звуки этого смеха и глядя прямо в бойкие глаза шутницы, сын Лукерьи Демьяновны готов был в этом положении стоять сколько угодно, не замечая времени. Оно между тем не останавливалось, и много уже кануло в вечность минут со времени ухода в дверь повалуши рюхинского дворецкого с докладом. Доклад был выслушан кем следует, спокойно. Было сделано несколько вопросов докладчику. Однако рюхинский дворецкий при всей своей оборотливости не мог приподнять завесы, скрывавшей подлинную цель приезда сына помещицы Балакиревой. Неудовлетворённая его ответами боярыня решила принять посла. А для приёма нужно было одеться да явиться, не роняя своего достоинства. Политика же в этом случае подсказала наилучший исход — заставить ещё подождать приехавшего гостя. Однако всему бывает конец и должна последовать перемена декорации в повалуше: с заменою группы двух девушек, сидящих у окна, выходом из внутренних апартаментов матушки их.
Наталья Семёновна летами была помоложе Лукерьи Демьяновны и одевалась, по времени, роскошно, что твоя боярыня. Штофный, красный с зелёным отливом и цветами, обшитый широкими золотыми галунами, сарафан, в котором выступила она в свою парадную залу аудиенций, был нов и ярок; кокошник парчовый и фата — тоже чуть не с иголочки; черевики, низанные жемчугом. И в этом наряде — даже не для такого простака, как Алексей Балакирев — могла помещица показаться чуть не царицею. А если прибавить особенную заботливость о цвете лица, как понимали в то время, то и возраст боярыни был сокращён чуть не наполовину. Так что малому знатоку женских прелестей могла бы вдова показаться сестрою сидевших у окна, но сравнения нельзя было сделать из-за исчезновения дочерей при входе матери, пославшей их в светлицы свои.
Исчезновение приятного видения, приковавшего к месту любопытного Алексея, было для него сигналом приготовления к встрече со старухою, как он думал.
Каково же было удивление молодого человека, когда вошёл он в растворённые двери повалуши и встретился глазами с приветливой улыбкой красавицы-боярыни, назвавшей себя домовладелицею.
Речь по наказу, которую мать, посылая его, три раза заставила повторить, вылетела мгновенно из его головы, и он коснеющим от смятения голосом повторял только начало приветствия: «Государыня-боярыня».
Это смятение хозяйке дома особенно полюбилось, как несомненное доказательство силы её чарующих прелестей.
Наталья Семёновна сама заговорила звонким, серебряным голосом, и влюбчивый мальчик растаял.
Хозяйка в высоких выражениях выхваляла достоинства матери своего гостя, а он только глупо ей дакал и ещё глупее улыбался.
Речь между тем лилась обильною рекою из уст хозяйки, не раз, в жару разговора, бравшей юношу за руки, называя его с чего-то милым и собинным[241]. Эти слова поражённый новизною ощущений Алексей Балакирев успел удержать и сумел пересказать дома, отдавая отчёт матери о результате комиссии, на него возложенной. Теперь мог Алексей представить сам себе верность всего напророченного попом на первом привале, до Владимира ещё. Ласковая Наталья Семёновна не только заговорила, обласкала, а на прощанье чуть ли не расцеловала Алёшу, да ещё в полном и буквальном смысле закормила и запоила сластями. Продержала она Алёшу в беседе своей — больше чем родственной — до поздней ночи; предлагала даже ночевать, остерегая от опасности ночного переезда домой сына Лукерьи Демьяновны, её будто бы самой дорогой знакомки. И Алексей был не прочь принять приглашение, да Чигирь настоял и упросом выпросил отпустить боярчонка, потому, мол, что маменька изволят, чай, и без того беспокоиться.
Отпуская гостя, Наталья Семёновна просила напредки не забывать, благо дорогу узнал.
— И так доподлинно сказала? — переспросила мать у Алешеньки.
— Доподлинно, — подтвердил он.
— А ты слышал? — задала вопрос Гаврюшке.
— Слышал и я… Да что ж?.. Вестимо, так. Бабища здоровенная… Как же ей не упрашивать к себе напредки Алексея Гаврилыча, коли он, неча молвить, молодец таки из себя?! В покойного батюшку статью.
Лукерье Демьяновне не понравились ответы и замечание верного слуги. Она давала истолкование ласковому приёму в Рюхине полным согласием Натальи Семёновны отдать дочь за Алёшу… Оттого и величала она его, уж заранее, милым и собинным, подразумевая — сынком.
Попадья улыбалась и тихонько хихикала в кулак. Лукерья Демьяновна не утерпела: поехала Наталью Семёновну благодарить за приём сына, а главное — толком переговорить.
Рюхинская помещица приняла её также дружески. Все выслушала. На все согласилась, но только потребовала, чтобы молодые у неё жили.
Этот пункт не принимала, однако, ни за что Лукерья Демьяновна, и дело, начатое так блистательно, готово было перерваться на самом интересном месте, когда после долгих препирательств Наталья Семёновна предложила сделку, честно разрешающую их спор, да ещё с сохранением достоинства обеих сторон.
— Ну, так пусть живут попеременно и у меня, и у тебя… молодые… Твой сын дорог тебе, дочь моя — мне!
— Изволь… На это согласна, — поспешила решить Демьяновна, уже готовая и на более тяжёлую уступку.
Вскочили обе с мест разом, обнялись и крепким поцелуем скрепили трудный трактат.
— Когда же свадьбе быть?
— Когда хочешь… Мне всё равно… Приданое и теперя смотри.
— Насчёт этого не сомневаюсь… И отдаю на твою волю.
— По мне, чем скорее, тем лучше.
— На той неделе, коли так… Придётся в город посылать за памятью.
— И мне нужно в город съехать, закупки сделать… Да, главное, после брата наследство испроведать.
— Конечно… Что терять своё!.. Поедем вместе… Коли нужно кого о чём попросить, — поладим: народ знакомый в городу… При Иване Богданыче передо мной по струнке ходили…
И самой стало весело.
— Благодарствую, голубушка… Сама было думала просить, да ты, дай те Бог здоровья, высказала… Чего же лучше, коли ты примешь во мне, сироте, участие!
И признательная Лукерья Демьяновна рассыпалась в свою очередь в заявлениях признательности наречённой сватье за родственную любовь.
— И жениха возьмём с собой? — выговорила будто невзначай Наталья Семёновна.
— Да где его взять?.. Позавчера прислали с отпиской ходока из Москвы: потребовали Алексея, писано в отписи: не надолго… в Преображенское[242]… Допросы снять про воровство протасьевское.
Наталья Семёновна дальше слушала как-то рассеянно, видимо озадаченная.
Мать тоже насупилась сентябрём. Несколько минут продолжалось молчание.
— Ведь ты, — после невольной паузы заговорила первая Лукерья Демьяновна, — мать моя, за Алёшу Дашеньку отдашь?
— Зачем же Дашу — молоденую?.. Анфисочка невеста!.. Пригожей и поразумней ещё будет, чем та, прости Господи, хохотунья непутная!.. А что? Не все ль равно?.. Сама знаешь — обычай…
— Так-то так… да наслышались мы, что Даша-то твоя сокол ясный… козырь, а не девка!… Ухарь, одно слово…
— Ну, с чего-те, не знаючи, хаять Анфисочку?.. Пригожа… и тоже весела.
— Ну… а как там? Хороводы водить горазда… которая?
— Да все три, мать моя… Молва на целый уезд, что мои дочери первые плясуньи и песенницы… Соловьём иной раз зальётся Анфисочка… так я, уж на что кремень, сама готова всплакнуть… до того он хватает за сердце — её голос с перекатами.
— А не она у тебя… словно павушка, в круг выплывает, очами заведёт — сердце вырвет… ручкой махнёт — не надо приворотного корешка?..
— Пляшет лучше Феклуша… самая большая… Да она, может, твоему Алешеньке старенька покажется… Не одногодка ли с ним ещё? Отдать — и её отдам ему… Да как бы узнать… которая ему больше приглянется?..
— Коли ты не прочь красавушек своих Алёхе показать… Опять я ни при чём… Мотри только, баба, не накладно ль будет потом… коли злые языки испроведают, что ты по дружбе ко мне всех сестёр жениху выводила?
— Они у меня похожи и на меня и друг на дружку… Ему можно не говорить, а ты меня только не выдай… а выходить будут одна за другой, в одном цвете…
На том и решено.
Сватьи, условившись, съездили вместе до города. Новостей навезли. Пересказов на целый месяц хватит. К свадьбе все изготовлено, а от жениха весточки нет. Где он? Что он?
Лукерья Демьяновна стала беспокоиться пуще, чем тогда, как брат увёз. С Натальей Семёновной она почти неразлучно — вместе горюют.
Вот сидят они под вечерок, попивают земляничную водицу, щёлкают орешки. Девушки песни поют, величая княгиней Анфисочку.
Дверь в тёплые сени притворена. Кто-то вошёл туда и примолк. А может, и послышалось. Матери и дочери смотрят на дверь, и она в одном положении — не растворяется.
Песня, перерванная ожиданьем чего-то, раздалась снова:
Это ли Анфисушкин князь, господин, Это ли светел месяц Васильевнин. Так ли не краса Анфиса душа, Так ли не лебедь Васильевна. Эта ли Анфиса — боярская дочь, Эта ли Васильевна — княжеская. Очи — что твой яхонт с подволокою, Голос — соловьиный, нежный, ласковый. Снега белей шейка лебединая, Бровь дугой высокой соболиная. Взгляд такой вы видели ль, подруженьки, Как у молодой Анфисы-душеньки? Молод её князь с ей сравняется, Удалью, ухваткой похваляется. Есть ведь удальцов во палате у царя, Только не видали там такого ухаря, Каков я у матушки родился молодец, Как принаряжуся я с милой под венец.— А которая же, боярышни, моя милая? — вдруг растворив дверь, со смехом вбежал подлинный Алексей и задал вопрос невесте и её сёстрам.
— Шутник…— нашлась за девушек мать. — Коли же это видано, чтобы девушки отвечали на это?
Но Алексей уже стоял перед тремя сёстрами и повторил свой вопрос вторично, не слушая наречённой тёщи.
— Хоша бы и я! — залившись своим серебряным смехом, ответила, не долго думая, бойкая Даша.
— Не слышал, что ли, батюшка, кого величают княгиней твоей? Анфисушку! — решающим голосом отозвалась Лукерья Демьяновна, и лицо её приняло серьёзное выражение.
Наталья Семёновна ещё раз повторила: «Шутник!» — все обращая в шутку, чтобы не придавать подлинного значения словам, как ей казалось, у Алексея сорвавшимся с языка случайно, и необдуманному ответу младшей дочери.
Но Алексей и в третий раз повторил свой вопрос.
Лукерья Демьяновна вместо слов взяла его за руку, за другую Анфису Васильевну и, сажая её, накинула ей на голову собственную фату свою.
— Вот у нас недуманно, негаданно — и девичник вышел! — как-то неестественно, не своим голосом молвила она затем, ни к кому не относясь и садясь подле Алексея.
Жених, посаженный подле суженой, которую увидел в первый раз и голоса которой он тоже не слышал, чувствовал себя тяжело. Мало того, его ребяческое самолюбие поступком матери было задето за живое. Но мать теперь для Алексея много значила, ей предоставлено царскою волею, и лично высказанною, и в читанной ему выписи прописанною, право устроить судьбу его. Родственные же чувства к ней были убиты коварными внушениями злодея дяди, не тем он будь помянут, который воспользовался неразвитостью Алексея. Конечно, можно ещё было действовать матери на бесхарактерного юношу как на ребёнка. Но хотя в действиях Алексея было покорство дяде, все же не следует забывать, что сцены, им пережитые в короткое время, оставили в душе навсегда готовность ко злу, будь только случай.
Алексей был именно в таком теперь положении: надежды его были обмануты. Когда летел он, по письму матери, из Москвы, он думал венчаться с девушкою, образ которой оставил в душе сильное впечатление в памятный день первого приезда в дом рюхинской помещицы, а вышло напротив.
В Москве подтвердилось, что без новых открытий, обвинивших бы его в иных преступлениях, по процессу Протасьева и казнённого дяди, Елизара Червякова, он, Алексей Балакирев, был чист перед Богом и великим государем, простившим воровство по неведению, ради юности и неразумия. Получило правильный ход и дело о родовом наследстве Червякова, которое, по показаниям дьяка воеводы Протасьева, государственный грабитель думал передать племяннику от сестры. Правда, резолюция в царском шатре в Воронеже повелевала: наследнику Червякова, Балакиреву, отдать остаток, буде оный получится, за зачётом цены казённого леса, пущенного в продажу. Но личная просьба Протасьева, у которого были сильные заступники, требовала возможного уменьшения цифры ущерба казне, нанесённого им поборами в свою пользу. Кикин, производивший учёт порубки, в своё время от наказания кнутом сам избавился при заступничестве родичей царицы Марфы Матвеевны[243], а она оказывала расположение Протасьеву. Стало быть, рука Кикина должна была помочь стряхнуть лишнюю грязь с Протасьева: рука руку моет, верно сказал Пётр I, знавший свои современные порядки. Ищейка Меншиков не был в лесах, а столбцы царского шатра из Воронежа в Москву нельзя было везти — остановились бы дела. На суд достаточно было представить и выписи за скрепой. А для выписей можно было ограничиться выборкою одного счета из десяти, и то таких, которые не на большие суммы, но с дробною расценкой, — чтоб объёмом взять. Как сто коробей таких счётов отправишь, то проверятель выписи одуреет на первом же десятке и совсем в голове его перепутаются понятия: что брать следовало и чего не следовало. А там царю напомнят об ускорении решения и поневоле уж сделают так, как хотят заступники, люди, которым предписано срочно окончить дело и нет возможности просмотреть все бумаги. Самая идея повести процесс именно так внушена была кому следует Кикиным же, и в конце концов добились старатели чего нужно — ссылки да доправки, не более.
А при доправке, расчисленной так, как сказано, уличённые в казнокрадстве понесли, разумеется, меньшие ущербы. Так что добрая половина из наворованного у них осталась.
Тот же ведь Александр Васильевич Кикин, приехав в Москву, заведовал и доправкою: с кого что положено в возмещение убытков казны.
К этому милостивцу Алексей Балакирев, вытребованный в Москву, призывался три раза и в последний раз получил из уст его при разрешении ехать домой практичный совет:
— Коли хочешь, чтобы не волочили тебя долго по приказам из-за наследства дядина, поклонись тысячью четьи да двустами душ царице Марфе Матвеевне… все пойдёт как по маслу. Её величество выпросит у государя указ не в очередь, и ты своё не только не потеряешь, а ещё выгадаешь — без всяких хлопот, заметь. Делами царицы — сестры своей управляет мой приятель Андрей Матвеич Апраксин[244]. Коли согласен ты, я ему сегодня скажу, и будешь ты, молодец, ему знаем. На всякий случай у его милости защиту найдёшь и своего не утеряешь. Не меньше переплатишь подьячим, а таскать станут, все едино. И годы пройдут, а ты все будешь, несмотря на чистое дело, ни у того берега, ни у другого. А сделаешь как я говорю — об управленье не заботься: без тебя управят все вотчины и что тебе следует исправнее, чем бы ты собирал, в Москву привезут. И в приказе царицыном, домовом, во всякое время получить можешь. Даже, нужда окажется, — знают, кто ты и что ты, — вперёд дадут без слова. Коли сам управитель не решится, царице доложат, на словах, разумеется, и разрешит она, по милости своей, тут же; и выдадут. Так что, парень, знай только кати в Москву за получкой и кути, душа, в полное удовольствие!..
Сами посудите, могло ли такое предложение не прийтись по душе Алексею Балакиреву с его непониманием житейских отношений?
Нечего говорить, что он с благодарностью облобызал руку благодетеля-советчика, предоставив ему — на словах, разумеется — право, что значило здесь то же самое, как бы на письме совершено условие.
— Ну… желаю веселиться да поджидать от нас зова сюда: подмахнуть отказы и получить известие верное, сколько тебе будет следовать душ и четей, и денег, и прочего добра…
— И скажете тогда, когда получить что можно?
— Конечно… если понадобится, и в ту пору ещё дадут на издержки, да пошлют с тобой стряпчего царицы Марфы: во владенье ввести… Мотри, Алёха… выручили мы тебя, мерзавца… попомни добро и ты, когда дядиными животами поделишь.
— Батюшка, Александр Василич!.. да что мне с тобой торговаться: что изволишь — сам бери… Позволь только к твоей милости прибежище иметь… После Бога один ты, благодетель, обо мне во благое промыслил.
— Ну… коли говорить хочешь со мной по душе… дела наши с тобой между двумя чтобы были… Никому их и знать не должно… Паче всего берегись дома царицыно имя поминать… не к пути. Слыхал я, что матка твоя проходимка: с жадности, чего доброго, шуму наделает… Тебе ведь не легче будет, коли перекрепить велят на её имя — как братнино… Тогда до смерти её и гляди ей в руки… Что соизволит… А коли молчок — тебе одному всё будет… И выпьешь иной раз… и закатишься к таким же птичкам, что царь в лесу накрыл… Ну… и всякое другое, при деньгах можно…
— Оченно благодарен за остереженье… Ничего не скажу ни матке, ни…
И в такую-то пору случись же такой грех: сажают с молодцом за стол не Дашу-хохотунью, а Анфисочку, может, и впрямь красивей и умней, да на первый взгляд — ни рыба ни мясо.
Устраивает же судьба таким путём общее лихо, и за него непричастным приходится зачастую расплачиваться слезами горючими да жалобою на бездолье.
Таков, к несчастью, и выпал жеребий Анфисе Васильевне. Подвернулась Алексею Балакиреву не сама она: мать так решила. Посадила их вместе за стол свекровь наречённая не в пору и окончательно испортила дело будущих супругов ещё до венца. Люди красуются, стоя под венцом, день свадьбы называют лучшим днём в жизни девушки! Так ли это? — кто и когда спрашивает. На беду Лукерья Демьяновна словам своим о девичнике придала обязательную силу закона, благо венечная память была в руках.
Только миновали Госпожинки[245]; не успел выйти из головы угар от кубков, выпитых на именинах Натальи Семёновны, как пришлось ещё усерднее нализаться одной матери, выдавая дочь, а другой, женя сына.
Платье цветное, яркое, одело стройный стан Анфисеньки; сорочка с рукавами в косую сажень, такая тонкая, что сквозь неё чуть не сквозили плечики невесты, споря белизною с фатою золотошвейной, ничем не отличалась от бледного девичьего личика. Черты его очень миловидны, но глаза, дышавшие добротою, подёрнуты были грустью. Фигура жениха, напротив, выражала такую злость, что не заметить этого было нельзя не только своим, но и гостям, даже не подходившим близко к чете, поставленной на алую тафту подножек.
Грусть в чертах миловидной невесты, на которую, впрочем, не обращали внимания, потому что под венцом показывать веселья вовсе не полагалось, и нахально-злобное выражение лица жениха не изменялись, однако, во всё время совершения церковного чина, не изменились и при взаимном поцелуе обвенчанных и как бы замерли на лицах четы, повезённой из церкви пировать.
Положим, и на многих свадьбах того времени можно было подметить подобное же выражение у соединяемых нераздельно до гроба, но здесь находили все что-то особенное, не вязавшееся с обстоятельствами.
— Мотри, Терентьевна, чтобы нашенский Алексей Гаврилыч хвостика не показал зараз же после венца суженой-ряженой! — шепнул няньке боярчонковой кучер Панфил, вводя выпряженных из свадебного поезда коней в мыле в конюшню.
— А почто так тебе… померещилось, непутный?..
— Путны мы аль непутны… а я в заклад голову даю, что Алексей, как есть человек Божий, тягу задаст в странствия. Вот помяни моё слово…
— Да с чего ему?.. Невеста — краля писаная…
Слова провозвестника грядущего покрыты были ударом в лад чуть ли не трех десятков бубён и взвизгиваньями как бы пришедших в неистовство полдюжины мегер. В действительности это был туш в честь новобрачных наличным музыкальным оркестром, которому аккомпанировали постельные свахи, хватившие от усердия ещё раньше возглашения тоста за здравие молодых.
Затем пир пошёл своим чередом с полным, как следует при подобных случаях, разгулом. И если у бедных ставят последний алтын ребром на свадьбу, то у достаточных подавно было чем залить какую угодно жажду. От отписания явлений обыкновенных и нигде не минуемых читатели позволят нас уволить. И сами они знают, что везде, где свадьбы, даже в наши дни, там крик и гам, в городе не дают во всю ночь заснуть соседям. В помещичьем доме пировали целую неделю. Питухи вставали с отяжелелыми головами с ложа только для того, чтобы снова нагрузиться; а кто не так пить любил, как есть, тот из-за стола не выходил с утра до вечера. Роздыхом, пожалуй, были церемониальные сборы в баню молодых после каши, наутро бракосочетания, но в общем пьянстве это были явления, проскользнувшие в общей памяти едва ли не бесследно.
Неделя пиров, с переездами от матери к матери, имела в результате громадное истребление припасов у обеих хозяек да право каждой из них сказать: «Я как следует гостей удоволила на радостях».
Проявления особенной задушевности не замечено было только в молодом, к которому в полном смысле льнула пригожая супружница, заискивая с трепетом его расположения. Но угодливость её дальше выполнения долга со стороны Алексея Балакирева ничего не вызвала. Он на нежные ласки отвечал неохотно, а все больше ходил из угла в угол да посвистывал. С матерью он избегал даже разговора, как бы чего поджидая.
На самом новолетии[246] за молодым с Москвы гонец пригнал, и с этим посыльным он собрался в тот же вечер. Уехал — и след простыл. Так и сгинул словно.
Молодой в утешенье осталась одна надежда: авось новорождённый напомнит сколько-нибудь черты отца, за что про что оставившего жену — один Бог ведает.
— Родится внук — Иваном назову, Милосливым, — решила бабушка Лукерья Демьяновна, на Анфисеньку обратившая всю любовь свою.
— И, матушка, будет либо нет, далеко ещё… Рожь перемелется — мука будет, — проговорила матушка-попадья, слывшая почему-то в околотке за предсказательницу. Признанье за спорщицею этого качества заставило вдову Балакиреву не начинать бесцельного спора и ещё крепче задуматься.
«Врёшь ты, ворожея!.. — про себя думала Балакирева. — Может, даст Бог, умолить ещё удастся… Чтобы было по-моему…»
Раз забрав в голову что бы то ни было, Лукерья Демьяновна не отлагала исполненья решённого, а тотчас принималась за осуществление своего намерения.
Тут подали ужинать, и помещица принялась убирать за двоих, и все спешно таково. Это означало для домочадцев, что она не в духе и готова выкинуть какую-нибудь мудрёную штуку Основательность этого предположения объяснилась наутро, когда Лукерья Демьяновна собралась в путь-дорогу на богомолье выпрашивать… чтобы внук был Иван Милостливый!
Несмотря на то что спор попадьи вызвал прямо эту незаконную поездку, помещица взяла и её с собою — на свой счёт, разумеется, да посулила ещё по возврате подарить на шугай лятчины[247]. Объездили странницы не только все околотки своей костромской стороны, галицкие пределы и пр., но и в Ярославле побывали, и даже к Нилу Столбенскому, к Кириле Белозерскому[248] и к вологодским чудотворцам наведались. Везде Лукерья Демьяновна щедрую милостыню подавала и все молиться наказывала о внуке, Иване Милостливом…
Возвратясь домой не скоро, барыня сделала недовольную мину, узнав, что Анфиса Васильевна и не думает ещё разрешаться А день прибытия домой оказался уже днём памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прошёл между тем и не один этот день, и не одна неделя, а внук все на свет Божий не является. В ожиданье внука, по зиме ещё, решила Лукерья Демьяновна в деревне Еремкиной для житья невестки соорудить дом о двух жильях[249], на славу, со всеми затеями тогдашнего плотничьего художества, с петушками и с решёточками по краю конька да у окон, с длинными прорезными лопастями нарядных наличников. Просто на игрушечку похож стал в отделке дом безмужней жены Балакиревой.
На дом для будущего внука, а не внучки, не жалела Лукерья Демьяновна даже и черляди[250] на раскраску резных бордюров под коньком крыши. Назначить изволила она дом, так роскошно убранный, новорождённому; а он — быть так греху! — медлил, обманывая постоянно ожидания горячей и нетерпеливой бабушки.
Вот и май на исходе. Никуда не ездила Лукерья Демьяновна, и даже по ближним знакомым, дожидаясь скорого разрешения невестки, с самого богомолья. Наконец не выдержала: поехала к спорщице попадье на рожденье. Жила она в чужом приходе, вёрст шесть в сторону от дороги по просёлку.
Приехала, разумеется, и за обед тотчас. Для дорогой гостьи новорождённая принесла наливочку её любимую; просила откушать, не погневаться. Наливка понравилась. Помещица её посмаковала вдоволь и совсем развеселилась: тараторит себе да тараторит. Глядь в окошко — верховой из дома её мчится.
— Что ты, Яков?
— К вашей милости.
— Не дадут мне, право, дохнуть спокойно… Вот живые люди! Ну… зачем там понадобилась?
— Да Анфисе Васильевне…
— Бог, что ль, дал кого?
— Истинно-с.
— Ну что истинно? Говори кого, олух?!
— Ды слыхал — бают — мальчика. Иваном поп нарёк. Отец Данило, как позвали, сам это сказал: «Знаю, знаю, чего Лукерье Демьяновне требуется… Иванушку внука».
— Дай Бог ему здоровья… попомнил, голубчик, моё уваженье… Прости же, Анфиса Герасимовна… уж домой поспешу… Тебя бы прихватила.., да, боюсь, не поедешь… Гости-то, вишь, у самой…
— Ничего, буду
— Лошадку пришлю… Будь же… всенепременно, смотри!..
И помчалась помещица. Лука-кучер только и слышал во всю дорогу «Скорей да скорей!» Приехала. Бежит к родильнице. Целует Слезами обливается. Готова чуть не на голове ходить. Послала за батюшкой… Пусть, дескать, пожалует, не замедлит… Проведать боярыня желает; какой это внук будет Иванушка?
Отец Данило не замедлил. Взял палку да шляпу и лётом прибежал. Поздравляет Лукерью Демьяновну.
— Да когда, отец, именинник-то будет новорождённый?
— Сегодняшний Иван… Как следует в день рожденья на свет христианину…
— А какой он такой, святой-то, прозывается, батюшка, скажи?.. Не утай!
— Христа ради юродивый, — отрезал поп Данило словно правый.
Лукерья Демьяновна как зарыдает с горя.
— Этого только недоставало на беду мою! — говорит.
Дело в том, что в наше время можно сколько угодно глумиться над подобными — как бы сказали верно — причудами помещицы Балакиревой. Не все ли равно, какое имя дать? Да тут и ещё того меньше. Имя то самое, какое назначила бабушка, да титул святого не такой. Из-за чего бы слезы-то лить? Хорошо нам так рассуждать, живя чуть не через два века позднее. В наше время не придают никакого значения имени новорождённого; не заботятся даже узнать, какого святого память в день рождения дитяти. А в старину имя нарекалось прямо то, какое записано в святцах в самый день принесения молитвы, как бы назначенное свыше будущему христианину, и качество, отличавшее святого, считали как бы предвещанием того, что ожидает новорождённого Не все так думали — не спорим; из женщин же — очень многие, и в том числе Лукерья Демьяновна. Понятно, что при таком образе мыслей она перенесла своё недовольство с недогадливого отца Данилы и на мать новорождённого, а сама долго не могла осушить глаз, целуя внука и приговаривая «О горе, как Ваня дураком-от совсем будет! Отец негодным вышел. Думала, внуком буду утешена, а как и он-то будет фатюй[251]!О я бедная, бедная!»
Напрасно впрочем, в первые дни и месяцы после рожденья внука убивалась заботливая бабушка. Судьба, делавшая все не так, как она что заберёт себе в голову, и на этот раз подшутила над нею, может, в наказание за своеобычливость. Ребёнок оказался здоровеньким, весёленьким и очень забавным. Вместо верного признака идиотизма, неподвижности и скуки при обжорстве, — чего так опасалась Лукерья Демьяновна, — Ванечка казался младенцем очень живым. Его умные глазки всегда так приветливо обращались к бабушке. Платя за привязанность к гостинцам, чуть не отучила его совсем от пищи бабушка. Её голос — правду сказать, очень резкий — он стал рано узнавать, сперва вздрагивая, а там, заслышав её приход, обыкновенно сам тянулся к ней и подавал свои ручонки, предлагая взять его. К году младенец начал все чисто и ясно говорить. Прорезанье зубов вынес без особенной боли и всего-то повалялся да похмурился дня три. Думали, начинается у него только заправская немочь, а уж в ротике и зубочки показались. Чем больше рос, тем больше к себе всех привязывал Ванечка, оставленный отцом, неизвестно где мыкавшим горе или утопавшим в сластях.
Пора нам заняться и им.
Оставляя молодую жену, её родню и свою мать так скоро после свадебных пиров, Алексей Балакирев ещё не составил в уме своём представления: что будет дальше?
Он просто хотел показать матери, что он не ребёнок, которому можно навязывать что ни вздумается. Относительно подруги жизни, случайно брошенной ему на шею, Алексей так скоро не мог, в сущности, заявить ни малейшей претензии. Собою она была очень миловидна, ухаживала за ним с подобострастием и старалась ласками рассеять любой признак неудовольствия, выразившийся на лице мужа. Но эта предупредительность не оказывала на него почти никакого влияния, так как он принадлежал к числу таких характеров, на которых кокетство и некоторая холодность действуют более, чем ласковость и угодливость. Он только и думал, как бы вырваться из-под опеки матери и жить на своей воле. Придавая словам Кикина универсальное значение, он рассчитывал в Москве оказаться в полной безопасности от требований службы. Первым делом после разговора с Кикиным Алексей счёл нужным отправиться к Апраксину. Андрей Матвеевич Апраксин хотя ничему не учился и потому знал не более Алексея Балакирева, но годами был постарше и видел не только большой свет московский, выросши в избранном кружке царских приближённых, — но даже Европу, куда был взят царём Петром. Там, однако, Андрей Матвеевич пополнил объём знаний своих только по части оценки вин и всяких сластей да ещё развил артистические влечения к прекрасному полу. Удовлетворять благородным стремлениям и сердечным влечениям мог брат царицы, впрочем, уже не с прежнею широтой. Родительские достатки были невелики, а царица-сестра любила поить-кормить, в расходованье же денег требовала отчёта, в точности сообразуясь с приказами царствующего деверя.
Александр Васильевич Кикин был человеком с большими способностями, удивительно чуткою предприимчивостью и с верным взглядом, что не всегда характеризовало рьяных предпринимателей. Мы уже знаем, что он был в полном смысле слова то, что французы называют bon vivant[252]. Но при этом он обладал таким деятельным характером, что напоминал скорее петровское качество, чем привычки дельцов старого времени. Кикин, с своим быстрым умом, мог всегда дать разумный совет любому, а друзьям, которых у него было немного, он помогал усердно, как самому себе. Андрею Апраксину он и по совести считал нужным служить усердно, не отделяя его интересов от своих и рассчитывая на его поддержку столько же, как и на свои собственные силы. Расследование протасьевских плутней навело Кикина на мысль убить двух бобров разом, и Андрею Апраксину и себе доставить средство угощаться, а тех, которые согласятся прибегнуть под охранительную защиту царицы Марфы, поставить вне подьяческих каверз. Покладливость и вера в его, Кикина, заботливость и добросовестность здесь, разумеется, были первые условия. Алексей, как мы знаем, принял их не раздумывая и долго не имел ни малейшего повода раскаиваться.
Явившись в Москву, он сразу отыскал резиденцию Александра Васильевича Кикина. Приход нашего героя оказался больше чем не вовремя, но умный делец, не показав ему неудовольствия, прямо высказал Балакиреву, что намерен его послать к милостивцу со своим посыльным.
Милостивец был, разумеется, Андрей Матвеевич Апраксин, все уже знавший. Его всегда можно было застать, если он дома, или на пуховике, или за столом.
Первая аудиенция Алёши состоялась, когда Андрей Матвеевич сидел за столом между тремя своими штатными паразитами. Мы так позволяем себе назвать стряпчих, живших у него в доме. Они за столом занимали постоянные места и каждый день напивались усерднее хозяина.
Все четверо столовавшихся были ещё навеселе и уплели покуда три только блюда, слегка распустив на брюшке шёлковые свои опояски.
Появление в столовой светлице посыльного Кикина с новым лицом вызвало приветливую улыбку на лице хозяина.
— Мишка, потеснись, дай местечко Балакиреву! — крикнул Апраксин, привстав и рукою приглашая Алёшу сесть подле себя. Он знал все хорошо и был приготовлен другом: оказать сыну Лукерьи Демьяновны всю свою приязнь за его доверенность к ним.
Алексей начал было приветствие и чествование Андрея Матвеевича «государем милостивым, надеждою сирот, прибежищем обидимых» и т.п. — хвалебными указными эпитетами, требовавшимися по этикету представления высшей особе московского служебного мира — но лаконическое: «Полно!» — остановило его. А собеседники засыпали приговорками: «побереги напредки — бабьи привередки»; «садись-не чинись»; «не суши глотки — налей водки».
Алексею осталось выполнить последнее, как вдруг апраксинский чашник перед носом его поставил чашку со щами ленивыми, над которыми носился тёплым туманом пар.
— Я, батюшка, до вашей милости завернул, о дельце мало-мало…
— Пустое, брат, затеваешь… Дела тогда делаются, когда наешься да выспишься… У меня такой обычай… Кика ужо вечером будет, тогда про дела. А за столом — едим, пьём вперегонку… Так ведь, Лебеда?
— А то как же? — ответил сосед Алёшин по лавке Михайло Абрамыч Чернцов, малый разбитной, хотя и поживший на сём бренном свете достаточно. Другой, сидящий против, застольник апраксинский, был Евстрат Сидорыч Мухин, молодец в поре и любивший краснословить, вставляя в речь не к месту слова и выражения из церковно-служебного обихода. Он их отлично выучил наизусть в бытность в лавре Троицкой послушником и каноархом[253] даже. От сего прямого пути к Царствию небесному отвлёк молодца враг-кознодей Ивашка Хмельницкий, а орудием сего душегубителя был сам хозяин, к которому в приезды к Троице назначался новый Евстрат в келейные прислужники. В крестовой церкви Андрея Матвеевича Мухин читывал часто часы и отправлял вообще клиросную должность, если силы, сохранившиеся в схватке с Ивашкою, дозволяли. Наконец, последний застольный товарищ был Карп Пафнутьич прозванием Лыско, а на самом деле Загощин. Это был безответный во всех отношениях человек: пил усердно, только делаясь все более хмурым и не роняя ни единого слова, словно слова были у него дороже жемчуга. Он не знал, что такое опасность. Стоял, куда его поставят. Когда нужно было употреблять в дело тяжёлую его руку, Андрей Матвеевич говорил:
— Карпуша, не зудят ли у тебя кулачки?
Карпуша делал руками движение, выказывавшее стройность его прямого стана, и, как боевой конь при первом звуке литавр, потряхивал головой, но слов не ронял напрасно. Без приказа кулаков в дело не пускал и — по наружности грозный — был, наоборот, самый мирный силач, которого только видела русская земля, отличавшаяся во все времена силачами непритязательными и добрейшими. Если же нужно было постоять за друга, Карпуша оказывался лучше всякой стены и надёжнее щита. Теперь и Балакирев включался в общество приживателей Андрея Матвеевича Апраксина. Алёша в обществе Загощина, Мухина и Чернцова был в полном смысле свой. О деятельности другой, кроме питья и еды, да ещё изредка утех с слободскими девками, ни один член четверолистника и думать не мог. Но с некоторого времени прекрасное настроение кружка заменилось разладом, и виною разногласий оказался не кто иной, как Алексей Балакирев. В нём вдруг пробудилась жажда деятельности, которая открыла бы ему дорогу к служебным повышениям, хотя бы на первый случай до капрала. Алексей видел господина капрала Кузмищева у своего покровителя Александра Васильевича Кикина. Пил даже с этою важною персоною, одетою в кафтан саксонский с перевязью через плечо. Пленяли его кушак лакированной кожи, с пряжкою, туго сжимающею стан, да лакированные сапоги за колено с пребольшущим крагеном и распущенная шляпа. Воинственная наружность капрала настолько задела за живое раздобревшего, румяного Алексея Балакирева, что он обратился к Кикину с просьбою: определить его как дворянина в капралы.
— Никак невозможно это. Набирает, правда, Артамон Михайлыч теперь народ в солдатские полки, да в солдаты коли попадёшь — натерпишься горя, а в капралы не скоро угодишь… потому что, друг любезный, не погневись только, а коли у Андрюши пожил, какая, черт, наука да выправка строевая пойдёт тебе на ум? И не советую…
— Отец родной, Александр Васильевич, за что ж я сурком пролежу век свой, коли батюшка государь всех дворян на службу призывает с нехристем хочет переведаться?!
— Так-то так, да ведь ты, Алёша, и первую службу едва ли понимал. Молись Богу, что мы с Данилычем, видя твою сущую неумелость, выгородили тебя из дядина воровства. Зачем напоминать царю о себе теперь, благо с рук сошло да позабыл?
— Да я в службу пойду, а не царю о себе напоминать хочу…
— Да списки-то гвардейских солдат ведь он пересматривает сам. Прочтёт Балакирев — и вспомнит… Потребует справки… Дело может спросить… И прощай, житьё-бытьё привольное!.. Настать могут тебе и голода, и холода. Подумай!
— Да что думать… Лучше в глаза взглянуть беде, чем скрываться, коли быть ей следует…
— Разве вот что, — как бы раздумывая и соображая про себя, выговорил Кикин.
— Что такое?.. Скажи, голубчик, чего сдумал? — пристал Алексей.
— Да, думаю, так нельзя ль капральство занять и в полках не быть?.. Трудно оно, конечно, а может?..
— Как же бы?.. Надоумь! Головка ты золотая наша! — ластился Алексей.
— Да нельзя ли через Монцовну как. Одно, братец, тут неладно… Сделает — не сделает, а поминок напредки подавай, и немаленький… То же, что и Сашка Протасьев, вор…
— Это самое разлюбезное дело! — весело вскрикнул Алексей. — Начистоту, значит…
Кикин презрительно улыбнулся только.
— Да сколько, примерно, на первый случай? Рублёв полсотни… Меньше и не беспокой…
— А так нельзя?
Кикин засмеялся и смерил смельчака глазами. Алексей, улыбаясь, выдержал этот осмотр, охорашиваясь.
— Конечно… Чем черт не шутит? Ты молод и исправно сложен… Может, Анютка и позарится… без рублёв сделает…
— Пойду… попытаюсь, — самоуверенно отозвался Алексей и замолчал. Кикин не начинал. Балакирев встал и поспешил уйти, решившись во что бы то ни было добиться свидания с Анной Ивановной Монс[254], местожительство которой вся Москва знала, а тем больше знакомцы братьев Апраксиных.
Глава III. МАЕТА
Когда Балакирев возвратился к Апраксину, Андрей Матвеевич ещё не вставал со своего пухового ложа.
Он, впрочем, не спал, а грезил с закрытыми глазами. В наше время назвали бы занятие проснувшегося Андрея Матвеевича мечтами, но в конце XVII века москвич ещё не выдумал этого мудрёного слова, явившегося в проповедях придворных витий чуть не век спустя. Грезить наяву — совсем другое дело — занятие приятное представлять себе всякие утехи и лёгкое, без помех их достижение. Грёзы Андрея Матвеевича были очень недалеки и не отличались богатством и причудливостью. Он, проснувшись и чувствуя во рту гадость, как бывает с похмелья, не сплёвывал от лени только. А чтобы заглушить неприятное ощущение, обычно прогоняемое с похмелья новою выпивкою, увлёкся мысленным представлением приятности питья всласть. Представление сделало ещё неизбежнее потребность выпить, и он, не владея собою, хриплым голосом крикнул:
— Пить!
Этот приказ окружавшие его знали и несли наливку барбарисную мгновенно.
На этот раз поднесенье замедлилось. Человек, ожидавший боярского пробуждения, рассчитал, вероятно, неудачно и, полагая, что успеет, куда-то улизнул по делам своим.
Раздался крик вторично, уже с гневом.
Робко вбежал знакомец и поспешил подать стопку.
Гневный Апраксин с жадностью глотнул, сколько влилось в его широкое горло, и, закашлявшись, со злостью оттолкнул стопку, так что наливка плеснула в лицо подносившему, а затем до ушей его долетели непечатные слова.
— Не гневайся, Андрей Матвеевич! Я не скоро нашёл сулею.
По голосу узнав, что Ганимедом[255] прислужился не холоп, а Алёша Балакирев, Апраксин счёл нужным извиниться:
— Прости, Бога ради, Алексей Гаврилыч, я ведь бельмами не заметил, что ты это, а не Андрюшка… Куда его черт унёс?.. Зачем изволил трудиться?..
— Да ты зычно и жалобно таково вдругорядь крикнул, — я и поспешил… Никого не случилось окроме…
— Удружил истинно… да винность свою чем мне загладить будет?.. Ты у меня… друг, а… не…
— Не велика важность… только бы, государь, был ты благополучен да на меня не изволил серчать за безвинную провинность.
— Все готов сделать, что прикажешь, только, Бога ради, отпусти мне вину невольную! — не оправдывая себя за сбрех, заверял совсем очнувшийся Апраксин. — Проси чего желаешь — сделаю… охотно…
Лицо Балакирева просияло, но вместе с желанием, промелькнувшим в мыслях, напала и робость.
— Я бы… —начал он и замялся.
— Ну, что? Говори смелей, — подбодрил Апраксин, вошедший в свою колею доброго малого к приятелям.
— Хотел бы, да не смею просить.
— Скажи, что? чего тут?..
— Коли бы милость была… чинком бы найти нельзя ли?
— Да знаешь сам — в стряпчие теперь не производят уж…
— Я не стряпчев чин хотел бы…
— А каков чин желателен был?
— Да, коли бы можно… хоша из солдатских… сержантский, что ль?
— Служба, друг, нужна, в полках…
— Могли бы мы и послужить… не перестарел ещё…
Апраксин улыбнулся принуждённо, но промолчал. Балакирев, не слыша отказа, продолжал:
— Хоть бы у воеводы, у братца твоего, которого ни на есть, у Федора Матвеича аль у Петра Матвеича[256], при лице, как…
Апраксин вздохнул:
— Тебе, братец, Верхососенские леса помешают… Царю докладать надо, и сперва… прямо братья взять не могут… И сами докладать не решатся… Нужна заступа иная… под весёлый час… чтобы не показалось во гневе… Ты лучше… Монцовне поклонись… Что ни на есть посули… Она, известно, зубы скалит и к державному подъедет при случае, так что и отказа не случится… Вот каков мой совет! Самое короткое и верное средствие…
— А сколько ей примерно… в приносе-от?
— Ну… это, как те сказать?.. заранее… не отгадаешь… Мать её карга прежадная… торгуется пуще жида… Недёшевы у их покупаются милости…
— А дать мне, сам знаешь, не из чего много, Андрей Матвеич… Животы[257] дядины вам пошли, кои можно было бы…
— Нет ли ещё чего где?
— Есть отцовские четьи… Матери ворочены… Да она, прах её возьми, живуща и при животе своём не поступится…
— Ну, как знаешь… А Монцовне не дать нельзя… и не дойдёшь до ей с пустыми руками.
— Эко горе!.. А с тобой бы заехать, к примеру сказать?..
— Почему не завезти тебя!.. Да будет ли польза?. Твоё дело!
— Ты бы, Андрей Матвеич, только бы предоставил мне с этой самой Монцовной слова два-три перемолвить… что возьмёт, по крайности…
— Можно… а все же, смекай, там на словах одно пообещают, а на деле не то сделают.. коли поминок нет…
— А поминок[258] достать иначе не приходится, как к матери ехать… пугнуть бы… Да я один и съехать не берусь… Заклюёт… Коли бы милость была… Пустил бы ты со мною Карпушу… силачка нашего…
— Ах ты баба!.. нужна охрана к матери ехать!..
— Удержать может, а с человеком, на службу, скажу, посылают… то, что надоть…
Апраксин прошёлся по опочиваленке раз и другой, думая7
— Ин быть по-твоему — наконец сказал Андрей Матвеич, — возьми Лыску… Уж он одним кулачищем страху задаст целой деревне… Ты только сам поспрошай его: поедет ли?
Карпуша для друга с позволенья хозяйского на его троечке скатать согласился с Алёшею.
Ехали они скоро, и вот в воскресенье, тотчас после обеден, подкатили к терему Лукерьи Демьяновны.
— Никак, Алексей Гаврилыч домой пожаловал, — весело, с учащённым сердцебиением вскрикнула хозяйка Алешенькина, пестаясь со своим Ванюшкой.
Отец Герасим читал «Маргарит» вслух; приостановился. Накануне помещица причащалась и зазвала батюшку на обед да почитать — душе на спасенье.
Лукерья Демьяновна глянула в окошко сама таково неприветно и болезно. Всю душу у ей словно поворотило, и сердце защемило, и в голову ударило; холодный пот выступил.
— Что ещё будет? — молвила она едва слышно.
Попадья перекрестилась.
Всё смолкло. Словно наступило затишье перед грозой. Алексей дверь распахнул с какою-то напускною удалью и, в шапке войдя, крикнул:
— Рады ли гостям?
— Сними шапку, иконы здесь, Алексей Гаврилыч! — речисто отчеканил батюшка.
— А, и ты здесь? — как бы про себя выговорил Балакирев, сдёрнув шапку.
— Ждали, видно? — прошептал он, глядя в пол.
— Зачем, батюшка, пожаловал, аль одумался? — не без ехидства сурово спросила мать.
— Чего тут одумываться?.. В своём мы разуме завсегды, коли служим… С чего изволишь, матушка, эти загадки загадывать?
— Какая загадка — спросить у сына, зачем он явился, когда от жены и от матери бежал татски[259], не простившись… Словно погони боялся.
— Не погони боялся… а потребовали… Ну и…
— Ну и что?.. С полуночи тягу дать требовалось, скажешь?.. Беспутный, беспутный!
— Опять пошла лаяться!.. Кажется, не трогал вас… в покое оставил… Живу, не замаю ни в чём…
— То-то и есть… Обидели здесь, значит… Бедняк и скрылся… сил не стало выносить… Заели сердечного… а он, истинно сказать, ангельская душа… Думает: чем гибнуть от нападков неслыханных, дай удалюсь от зла, благо сотворю… В рай попал… окунулся в потоке благого жития и стал совсем другим. Зачем только из рая в ад ворочаться?
— Не нужно бы было, не приехал бы.
— Да в чём нужда-то? Жену повидать? Доброе дело! Вот сынок у тебя… Благослови, отец, детище!
— Почём знать, моё ли? Чьё детище, тот и благословит…
— Ах ты озорник непутный! Смеешь ещё при мне, при матери своей, обижать молодицу невинную!.. Да ты, Алексей, совсем басурман!.. ни души, ни родства, ни чести!.. Эк тебя дядюшка-то злодей каким сделал!.. Такой же изверг, как и тот ворог… И тебе, значит, придётся на осине болтаться…
— За что бы было ещё…
— За воровство твоё, известно…
— Не воруй ты, а обо мне не заботься, коли ничему не хотела научить… Тяжело служить — да служу.
— Это и видно, что тяжело… Глазищи-то вишь кровью налились — от тяготы. От самого винищем несёт, как от пса смердящего… Можно поверить, что служишь… Пьянствуешь ты да бесчинствуешь с такими же пьянчугами, как сам! — закончила Лукерья Демьяновна, искоса глядя на спутника своего сына, остановившегося у дверей в светлицу и, видимо, смущённого приёмом Алёши матерью. Загощин не знал подробностей отъезда Балакирева в Москву, и упрёки матери Алексеевой дали понять добряку, каким неказистым человеком подлинно был его товарищ. Карп понял, что Алексей, слывший в доме Апраксина добряком, с ними был тоже неискренним. В сущности он оказывался человеком грязным, неблагодарным, от которого добрые люди должны отшатнуться. Он скрыл, что имеет жену и ребёнка, выдавал себя за холостого и теснимого. Довольство общее в доме матери говорило прямо, что гуляка, пресмыкаясь у Апраксина, просто баловал, а не был принуждён обстоятельствами к проживанию на счёт благодетеля. Сравнивая свою участь с Алексеевой, Карп мгновенно осудил Балакирева за все и порешил, что он негодяй и недобрый человек. Обиды себе в словах хозяйки дома честный Загощин не признавал, совестясь только своей роли теперь.
Молодая мать с ребёнком тихо плакала, робко приближаясь к мужу, не обращавшему на неё, казалось, никакого внимания. У ног помещицы сидела старая карлица, одетая девочкою. Она держала мотки бели, которую разматывала Лукерья Демьяновна. При словах Алексея карлица невольно попятилась, потому что он в рассеянии размахивал арапником, словно сбираясь огреть им кого придётся.
Тот же смысл жеста пришёл в голову и отцу Герасиму, и тот не выдержал:
— Ты бы, Алексей Гаврилыч, арапничек отложить изволил!.. Не к месту тако со родительницею беседу вести… Не лихой человек — кого стращать вздумал?
— Я не стращаю… а дело пришёл говорить.
— Садись и говори спокойно… как у людей водится.
Алексей присел на кончик лавки против стола и, видимо, спутался.
— Какое же дело тебя привело сюда? — глядя сыну в глаза, с чувством спросила мать.
— Закрепить нужно за мной отцовские четьи… значит, ехать нам нужно, матушка, в город.
— Какая там закрепа, коли впрямь на службе ты; отцовский надел впору жену прокормить да сына… А тебе на что поместье, коли служишь?..
— Оно моё!.. Значит, моё дело им и распорядиться как я хочу.
— Ну, это я тебе не позволю… Сраму не побоюсь, сама к воеводе пошлю безобразника… Врёшь ты, что служишь… Скрываешься от службы, если ещё не хуже что…
— Не езди, пожалуй, — я и один в городе обделаю дело… Подам челобитье воеводе, что мать захватила не принадлежащее ей — не вдовью часть, а сыновнее наследство…
— Пошёл вон, щенок, если ты до такого безобразия дошёл, что своему детищу не радеешь и о семье не думаешь!.. Батюшка свидетелем будет, в каком виде явился ты, и лжёшь, что служишь, пьяница!.. Пойдёшь к воеводе — тем лучше: скорее схватят да упрячут куда стоит…
— Никто меня не смеет упрятать… Я при государынином добре приставлен управителем, при матушке, при царице Марфе Матвеевне. С её, великой государыни, веленья и сюда поехал.
— Подай-кась, боярин, наказец царицын, мы вычтем: зачем тя прислала её царское величество, матушка государыня? — спросил поп Герасим, как видно смекнувший, что Алёша выдаёт себя деловым для вида, а у него совсем другие умыслы.
— Не тебе, батька, читать царицыны наказы: молоденек… и архиерею не всякому даётся.
— Не видишь разве, батюшка, что озорник изворовался и мелет незнамо что… На пьянство, вишь, ему отказ нужен последнего детского кормленья… Да не на ту напал бабу… Мать твоя лучше тебя права знает и в указных статьях найдёт, как и что… Проваливай знай откуда пришёл…
Карп не мог дольше выносить сцены, где ему приходилось играть мазурика, сообщника в неказистом деле. Он вдруг поворотился и, хлопнув дверью, усилил и без того затруднительное положение Алёши. Поп повторил настойчивее вопрос:
— Ну, пусть архиереи чтут наказы царицы, а и нам, попам, не заказано. Да… наконец-от, пусть меня к ответу потянут, а я вычту попрежь, какое твоё, Алексей Гаврилыч, управительство… коли не облыжно назвался…
— Не дам я тебе, шалыгану, наказ царский.
— Пошёл вон — за товарищем своим! честью говорю, — возвысив уже голос, отозвалась мать. — Не заставь меня своё детище власти предавать…
— Едем в город, я сам пришёл просить тебя… Чего меня власти предавать?.. Власть должна за меня заступиться, коли мать все заграбила и выделить не хочет.
— Чего выделить?.. из чего? Никак, ты не в уме, Алексей? — более спокойно, но решительно спросила Лукерья Демьяновна.
— Из моих отцовских.
— У тебя дитя есть и жена… Начальство рассудит… Узнает про твоё огурство и то отберёт, на что пьёшь…
Для Алексея сделалось ясным, что матери известно уже то, чего, он полагал, она не знала. При сознании этого смятение овладело им вполне, и он опустил голову и руки. К нему бросилась с плачем жена с ребёнком. Алексей отвёл её легонько и, стремительно поворотясь, вышел, не оглядываясь.
Карп уже сидел в повозке. Алексей вскочил и ударил по лошадям.
— Ванечка, у тебя нет отца! — раздался отчаянный вопль жены и матери…
— Что, брат Алёша, с чем поздравить? — встретил Андрей Матвеевич Апраксин упавшего духом Балакирева, когда тот вернулся в Москву.
— Черт, а не баба — мать моя!.. Доносом грозит, вишь… что мы отлыниваем от царской службы здеся, в Москве…
— Уважила же она тебя, дружок! Ай да глазок!.. Око всевидящее… И права ведь… сам знаешь… Не в твои годы ещё ничего не делать… На то старость зашибёт…
— Ей-от что от того, что я лямку не тру в походе?
— Пьянствуешь, говорит, истинно правда! — невольно высказался данный в спутники Балакиреву простосердечный силач.
Андрей Матвеевич сам любил выпить и слова своего проживальщика принял за упрёк себе. Этот щелчок боярскому самолюбию дал другое направление решению Апраксина:
— Смалчивай, Алёша… стерпится — слюбится; за всяким тычком не гонись. Тем паче нам с тобой, пьяницам… И козырнут, ин где ни есть неожиданно — нужно проглотить да подумать только: нельзя ль непьяницам усы обтереть. По братине мне брат ты, выходит; моё дело и пристроивать будет тебя, некошного[260]. Не хотел я тебя везти на немецкие мытарства. Ан, видно, так уж и быть. Хватим для бодрости побольше и под вечерок скатаем.
Апраксин повернулся и вышел из светлицы в ложню. Алексей туда же пошёл. Силач как ни прост был, а смекнул, что с языка непутное сорвалось. Крякнул да руками развёл. А у самого слезы на глазах показались.
Вот и вечер.
Апраксин и Балакирев крепко навеселе вышли из сеней и съехали со двора.
— В Немецкую слободу! — крикнул Андрей Матвеевич кучеру на повороте из переулка. Если даже никогда не бывали в Немецкой слободе, то, въезжая с Яузы, могли бы понять, что белый дом, у которого с угла на крюке железный лист болтается, занят персоною важною. Целые ряды коней в упряжке с кучерами, только без хозяев, вытянулись у белого домка в струнку. На железном листе, положим, нарисована золотая бочка; однако трудно допустить, чтобы ехали со всех мест сюда только глотку залить винищем заморским. Пьяницы и пешочком бредут. В погребке и свету не много. Один хозяин, немец чванный Иван Абрамыч Монцов, за прилавком дремлет. И мальчишек его не видать; куда-то попрятались, коли тяги не дали. Понаехали, значит, не к погребку, а застряли над погребком, где в двух оконцах ярко свечи горят.
И Андрей Матвеевич Апраксин с Балакиревым остановились. Кучер к краю отъехал. Калитка настежь — прощенья просим: пожалуйте, значит; от калитки три шага — и на лесенке; везде чисто и опрятно. Сразу видно, что немцы живут; и в сенях огарок зажжён порядочный, в подсвечнике — не каганец какой в черепке.
Андрей Матвеевич только за кольцо взялся у дверей — они и распахнулись. Отворил красавец мальчик лет шестнадцати и ухарь, должно быть.
— Здорово, Павлуша… Рады ли гостям?..
— Оченно рады, Андрей Матвеич… давно не изволили жаловать к нам… видно, у вашей милости недосуги да болести лихие!..
— Ишь ты, бездельник, зубоскал; зубы твоё дело точить. Видно, принялся здесь вплотную, коли задираешь, к примеру сказать, нашего брата.
— А то что же спуску давать?.. Вы сами не жалуете несмелых да невострых. А здеся такие тем паче не требуются. Коли Сам глянет да видит: рохля, и пропал человек… не поправишь потом…
— А я вот хотел тебе же под масть молодца представить, Анне Ивановне на побегушки.
— Хорошее дело! — ответил красавец, озирая с ног до головы Балакирева.
— Дома?
— Кто?
— Сам знаешь.
— Они-то с сестрицей дома, а матушки нет, потому посторонним Матрёна Федоровна приказала отказывать… А вы-то… почти свои…
Мы должны объяснить тем, кто не догадывается, что Апраксин привёз спутника своего в дом к фаворитке, тогда в силе бывшей, к Монс.
Не говоря более, Андрей Матвеевич пошёл из передней, и Балакирев за ним. Пройти пришлось через две каморки в светлицу, где гости играли в немецкие игры.
Хозяйки, две дочери виноторговца, пригожие из себя, играли. Обе они вскочили разом при появлении Апраксина и его спутника.
— Топро пошаловать! — произнесла с самою праздничною улыбкою старшая сестра Модеста, по-русски Матрёна Ивановна. Анна Ивановна, младшая, самая то есть фаворитка, дружески пожала руку Апраксина и со вниманием посмотрела на Балакирева.
Сели. Хозяйки стали продолжать игру, для обеих имевшую понятный интерес, потому что перед каждою возвышалась порядочная кучка серебряных денег. Играли не по маленькой.
Апраксин присел подле Анны Ивановны и стал на ухо ей давать советы. Правда, что он был крепок пить, но, должно быть, выпито было столько, что мозг работал плохо, и советы были невпопад. Положим, ловкая Анна Ивановна не слушала внушений, но один раз машинально поставила по подсказке Андрея Матвеевича и потеряла; неудовольствие заметно для всех исказило её прекрасные черты. А Апраксин, не замечая, что он её подвёл, счёл именно это-то время лучшим, чтобы завести речь о предмете посещения. Ему показалось, что Анна Ивановна откинулась назад от жару и скучает игрою. На самом деле партия была кончена и начались расчёты. Потерянная ставка повлияла, разумеется, на уменьшение куша выигрыша, и Анна Ивановна про себя считала, а Апраксин не заметил и завёл речь.
— Вы не отгадаете, зачем мы у вас?
— Может быть! — рассеянно ответила красавица.
— А хотите знать?
— После… теперь недосуг… — И сама, сбиваясь, продолжала считать по пальцам.
«Ну, ладно… После так после. А я думал, теперь!» — про себя сказал, хмелея, Апраксин.
— Шесть рублёв осьмнадцать алтын четыре деньги вашей чести причитаются, Анна Ивановна, — выговорил занятый расчётом дьяк Автоном Иванович Иванов.
— А я читал шесть рублей тващеть тва алтин шесть тенег, — ответила, рассчитывая, хозяйка.
Автоном принялся пересчитывать.
— Да брось ты его, сутягу, Анна Ивановна, меня лучше слушай, я не четыре алтына, а целую полтину набавлю, — отрезал Апраксин.
Анна Ивановна обиделась.
— Не просит ваш польтин.
Автоном пересчитал снова и выкрикнул с досадою прежний итог.
— Он не даёт альтин; давай твой польтин! — подскочила бойкая Матрёна Ивановна к Апраксину.
— Ну, ладно, красавица… дам. Сестрёнка твоя нос дует попусту. А мы по душе поговорим.
Матрёна незастенчиво села и положила на колени ему свою разжатую руку, готовую принять подачку. Апраксин полез в шаровары. Достал кошелёк и вынул ефимок. Держа его между пальцами, он заговорил:
— Твоё не уйдёт… Слушай. Надо бы молодца устроить в полки. Попроси Адама Адамыча принять участие… Сегодня он сержант, — Апраксин кивнул головой на Балакирева. Матрёна Ивановна взглянула на него свысока, с миною покровительства, — завтра получай от меня шестьдесят рублевиков. Я ответчик.
— Мало! — ответила Матрёна, заливаясь хохотом. В хохоте слышалась ехидность, если не злоба, а частию жадность; но слова звучали высокомерно, поскольку она чувствовала свою силу и нужду в ней искателя милости.
Балакирева передёрнуло. Ему стало обидно за себя и за Апраксина, с которым, как он понял, обходилась презрительно не боярышня какая, а кабатчикова дочка, только что немка. А уж какая, не спрашивай… диво бы путная?.. Несмотря на презрительный хохот и ехидство, Матрёна вынула из пальцев Апраксина один ефимок. Поспешно вставая с места, она его положила к себе в кошелёк.
Предложение сестре слышала, разумеется, Анна Ивановна. Она соблаговолила занять её место и, очевидно, с намерением сгладить сколько-нибудь выходку Матрёны, оборотила к охмелевшему Апраксину лицо своё, освещённое самою доброю улыбкою.
— Теперь я готова слушать вас, — сказала она.
— А я уж забыл, — зевая, совсем осоловелый, медленно протянул Апраксин. — Вот разве он скажет, — и торкнул чуть не в нос Балакирева.
Анна Ивановна обратилась к нему. Алексей был гневен, но взгляд красавицы расположил его к уступке, если не к полной сдаче.
— Ви знаить Антрей Матвеич… он такий шалюн…— сказала Балакиреву Анна Ивановна ломаным языком с такою добродушною и смиренною интонацией в голосе, которую употребляла только в редких случаях, ожидая крупную поживу.
Алёша не нашёл слов и только встряхнул кудрями.
— Ваш батышка воевода… пиль? — попробовала спросить фаворитка, желая ободрить несмелого, как думала она, юношу.
— Да! — поспешил прихвастнуть Алёша. — Полковой и пребедовый. Смею заверить.
— Поместьи ваши там, — указала фаворитка рукою на восток, — должно быть?
— Да, так, пожалуй, придутся… — поспешил ответить оправившийся Балакирев, начиная пользоваться свойственным ему нахальством.
— И патишка шиф? — продолжает допрос немка, соображая, как ей заломить.
— Нет… померши… Я один, как перст… Готов твоей милости всякую службу сослужить… готов.
— Потелишься тостаток?
— Коли бы получил все, что надлежит… почему ж не так, поделимся… Нужно попрежде к полкам пристроиться… чтобы считаться хошь… да, сержантом покудова бы.
— Адам Адамыш, — вдруг произнесла Анна Ивановна, перестроив покровительственную улыбку на дружественную и вставая с места навстречу вошедшему Вейде.
Полковник Вейде[261], в недалёком будущем генерал, уже перебежал пространство от дверей до места, где сидела девица Монс, и схватил очень ловко в одну свою руку обе её ладони, не снимая своей замшевой жёсткой рукавицы.
Балакирев счёл за благо встать и отойти за стул, на котором уселся Адам Адамыч.
Это был в полном смысле живчик, человек лет тридцати с лишком, не толст, не худощав, не мал, не велик, а средственный из себя, с плутовскими, немного косившими глазами. Он умел одинаково всем угодить: с русскими пить и немцев бранить, с немцами — русских осмеивать. С купцами сетовать о худых временах.
В доме Монсов Адам Адамыч Вейде был принят на дружеской ноге, и как с другом дома с ним обращались без чинов, но тем не менее при посторонних — со всеми подобающими церемониями. Посторонними на этот раз были Апраксин со своим спутником, о котором по его ответам Анна Ивановна составила понятие, совсем расходившееся с подлинным положением Алёши.
Вейде, чванно раскланявшись с Апраксиным, с которым никогда и потом близко не сходился, по-немецки поспешил спросить девицу Монс: что за лицо, с которым она вела беседу при его приходе. Вейде показалось, что неспроста он уступил стул и удалился назад.
Анна Ивановна на ухо шепнула Вейде, что это какой-то воеводский сын, богач, явившийся искать при её посредстве милости у него, Адама Адамыча.
— Как називаешьси? — прямо задал вопрос Адам Адамыч Балакиреву.
— Балакирев.
— Де слушиль?
— По кумпанствам, у Протасьева, — неохотно ответил Алёша.
— Плют, снашит… — не долго думая, решил Адам Адамыч, не взглянув больше на говорившего и не ожидая возражений.
Алёша почувствовал себя так скверно, как только может чувствовать человек, считая для себя все потерянным и испытывая горечь обиды, но понимая, что обидеться нельзя за горькую истину. Апраксин немного ободрился. Хмель уже скатил с него, а с отрезвлением явилось сознание, для чего он приехал к фаворитке. Он попытался завести разговор с Анною Ивановною и Вейде.
— О чём, смею спросить, шептаться бы вам?
— О свой теле, — ответила девица Монс.
— О тшом немци кафарят, московски тшеловек не понят, — отрезал Вейде.
— А ну-кась, попытаем… Может, грехом, и поймём? — будто смешком, а на самом деле не думая пасовать, отозвался Апраксин.
— Невосмошна сём кафарит, — уклончиво опустив глазки, попробовала молвить успокоительным тоном девица Монс.
— Шашни разве укрывать, смалчивать, а дело безобидное почему не говорить?
— Какой шашин, каспадин Апраксин, ви знайт за мной? — горячо вступился Вейде, чувствуя своё превосходство.
— Теперь не знаю, а скажешь — буду знать.
— Ви ни снайт, что кафарит, — продолжал горячиться Вейде. — Мой не пасфолит блакоротной дивис опишать.
— Да ты, никак, Адам Адамыч, совсем белены объелся, — оправдывался Апраксин. — Какая те там обида далась.. Какой-то девице, вишь… В уме ли, сердечный?
— Мой ни кочет срам слушайт… ви русска плют… фи…
Апраксин более не слушал… Он уже сгрёб в охапку Вейде и готовился его грянуть оземь, когда девицы Монс обе бросились к гневному Андрею Матвеичу.
— Помилюй!.. — нежно заголосила Анна Ивановна.
— Путь топри! — умоляла Матрёна.
Сам Вейде перетрусил, чувствуя себя в медвежьих лапах Апраксина… Вся дерзость улетела незнамо куда, и он чуть слышно пищал:
— Не шути так, Антрей Матвеич! Ти не понималь мой слова.
Апраксин был отходчив и умён. Знал он, что Вейде дерзок, а чтобы он был труслив и нахален, никому бы не поверил. Хмель совсем прошёл у Андрея Матвеича. Он готов был расхохотаться над перепугом девиц и полковника, но, глядя на их растерявшиеся лица и пустоту в комнате, из которой все поспешили убраться, как только он сгрёб Вейде, — Андрей вздумал продлить сцену униженья его.
— Ты, голубчик, больно востёр стал, — обратился он с внушительною речью к своей жертве. — Теперь рассчитаемся с тобой за все обиды.
Говоря эти слова, Апраксин покрепче сдавил вертлявого Вейде, невольно застонавшего от боли.
— Польно, пиристань, друк мой, Андрей Матвеич. Ти напрасно сердится.
— Нет, не напрасно… Какой он дался тебе плут? — допрашивал Апраксин, кивая на Балакирева.
— Мой пашутил над каспатин… Катоф сатисфакция ему дайть… Пушай, камрат, пошалюй… О-о-ох!
— Врёшь… Отпущу — обманешь…
— Пашится маку…
— Побожись!
— Буть я нетшесна тшеловек…
— Какая же это божба? Вот те Христос — говори.
— Вот… Кристос…
— Что я, говори, сделаю за свою провинность…
— Што я делай… свой провинность…
— Все… что он меня попросит…
— Што попросит… мини…
— Проси, Алёша, что хочешь, да думай скорей, пока держу немца…
— Сержантом, да не в полке… коли бы можно.
— Сержант на польке… Карош… Тело!..
— Смотри же, Адам Адамыч, не лги… Анна Ивановна послух будет.
— Я свитетель… польста рупли мне, Антрей Матвеич, — поспешила вставить красавица Монс.
— Так и быть. Пришлю тебе с ним же, Анна Ивановна, когда в сержанты напишет его Адам Адамыч.
— Прикотит савтра на Преображенец твор… Мой делайт…
— Смотри же, Адам Адамыч… сам в мои камраты назвался… Будешь мне камрат — я те — вдвое. Поцелуемся. Мою просьбу справишь — на кафтан лундского, самого лучшего, дарю…
— Итёт.
Раздались поцелуи, и из железных объятий силача Вейде вышел, не шутя расправляя свои бока. Вейде казался весёлым. Апраксин почувствовал себя в ударе. Анна Ивановна смекнула, что лучшее закрепление дружбы и договора бывает при питьё за общее здоровье.
Светлица опять была полна. Исчезнувшие заняли свои места. Павлуша взглядом красавицы хозяйки уполномочен был внести наливки.
Вот он с подносом подходит к Вейде и Апраксину к первым, и учитель с учеником одновременно протягивают руки, берут чарки и чокаются.
Павлуша поднёс чарку и Балакиреву.
Алёша развязно подбежал и чокнулся с хозяйкой и с обидчиком.
Анне Ивановне это даже понравилось, и она, чокаясь, сделала глазки, сопровождая этот манёвр ободряющею улыбкою.
Вейде, придя совсем в себя, стерпел выходку дворянина, ищущего ранга сержантского, но, чокаясь, менторским тоном приказал:
— Савтра. Преобрашенска двор, до полден.
Поднесенье кубков через несколько минут повторилось по случаю приезда самого главы всепьянственного собора, всешутейшего Никиты Моисеевича[262] с постельничим Гаврилою Ивановичем.
Оба члены всепьянейшего собора из наиважнейших питухов по Москве не терпели, чтобы в их присутствии кто ослушником был в осушении до дна чарок.
Андрей Матвеич оказался самым доблестным последователем Ивашки Хмельницкого: готов был все вливать в широкую глотку, не чувствуя упадка сил. Храбрый полковник Вейде, наоборот, показался самым слабейшим. Он с четвёртого поднесенья, что называется, окочурился. Сжался как-то в три погибели и, покачнувшись, упал своим легковесным корпусом на здоровое плечо Алексея Балакирева. Тот бережно сложил негрузную ношу на его же стул — только поворотил тело, терявшее равновесие, к высокой стенке, а ноги подпёр своим стулом.
Никто из гостей и хозяек на все эти заботы Алёши не обратил внимания. Только всешутейший косневшим от трудов языком вопросил:
—Сей кто?
— Вейд, — говорят.
— Ишь, пусто его будь, как надёжно заправлен: никак не свалится…
Поздно последовал разъезд честной компании. Хозяйки ждали приезда старшого,.. Не улучили, видно, на тот вечер.
Прощаться стали.
— Не побудить ли Адама Адамыча? — почтительно спросил Павлуша Анну Ивановну.
— Мошно…
Будили, будили — ничего не поделаешь: спит как мёртвый.
— А мы вот что, — вдруг молвил Апраксин, — мы его с собой возьмём.
— Это сиво лютши…— в один голос отозвались сестры Монс.
— Бери же, Алёха, за ноги, а я за голову!.. Положим себе на колени и увезём.
Сказано — сделано.
Все почтительно расступились перед телом успокоенного полковника Вейде, которого, совершенно как усопших, вынесли из дома Монсов Апраксин с Балакиревым.
Апраксин, увозя с собою спящего Вейде, вздумал с ним ещё проделать штуку.
Привезя к себе Адама Адамыча, Андрей Матвеевич приказал, приготовить ему постель в отдалённой части своего дома. Несмотря на то что ставни были заперты и нисколько не пропускали света, он велел ещё полавочники плотно уложить к стёклам оконниц с внутренней стороны, а все двери, притворя их, прикрыть сукнами. Так что ни один луч света никоим образом не мог попасть в спальню гостя. Количество выпитого в доме Монсов для слабого Вейде было порциею, превышавшею его силы. При царствовавшей глубокой тишине, в тепле и полном мраке слабосильный Адам Адамыч проспал весь день и уже к ночи стал приходить в себя; но боль в голове, мрак и отсутствие, казалось, человеческого существа вблизи погрузили полковника в состояние полной неизвестности: спит он или бодрствует?
Вейде ощупью убеждается, что он в постели, но где — никак понять не может. Вот попробовал он встать — чувствует под ногами везде мягко; полы покрыты тремя коврами. Доходит до стены — на ощупь и там мягко. И стены завешаны коврами, чтобы ни окошек, ни дверей не нашёл гость.
Помучившись бесплодно и не находя выхода, несчастный Вейде, упав совершенно духом, начинает кричать.
Дали знать хозяину о крике пленника. Апраксин уже ожидал известия и приготовился. У него был натёрт мел на бумажке и подле лежал уголь, обточенный как следует. Мелом он выбелил себе лицо и вывел во всю ширину его углём соединённые вместе брови. От этой подмазки и выбелки получилось страшное видение. Особенно при слабом освещении насаженной на трость тоненькой свечки, которою как жезлом помахивал Апраксин, размалёванный и закутанный в кусок холста с ног до головы.
Представ в таком виде перед перетрусившим совсем Вейде, Апраксин глухим голосом спросил его:
— Душа заблудшая! Что требуется к твоему упокоению?.. По что стенаешь?..
— Та я рази умер? — совсем растерявшись, прошептал Адам Адамыч и невольно съёжился.
— В месте покаяния пребывавши… Попомни, зная дела твоя, осуждаемый на мучения…
— Помилюй, Коспоти!
— И прости мя за презорство, — подсказывает Апраксин.
— Присорьства прости…— машинально повторяет Вейде.
— Что я безвинного поносил у блудницы, превозносяся кичением.
— Китшени…— лепетал, не все удерживая в памяти, Вейде.
— И за то мучениям повинен, аще не заглажу с лихвою, — вещал за него Апраксин. — Предан будучи лютым демонам, иже гортань мою исполнят смолою горючею…
Язык Вейде лепетал невнятно от страха.
— Катоф… катоф.
— Балакирева удоволить по прошению и Апраксина, за отпущение вины моея, другом паче всех считати…
— Путу.
— Молись усерднее!.. Кара приближается! — грянул Апраксин сильнее и сильным движением трости погасил свечу.
В это время уже подползли двое людей Апраксина в шубах наизворот, наброшенных на голову. Они прижали к постели Вейде, и третий, поставив воронку в разжатый рот мычавшего страдальца, влил в него из сулеи крепкой водки так много, что Вейде одурел, обеспамятел и скоро заснул.
Прошло несколько часов, ещё пока он очнулся и от боли в голове начал стонать. На его стоны снова Апраксин подвязывает себе бороду, надевает дедовский белый кафтан, красный треух на голову, берет тонкую зелёную свечу и кадильницу; приказывает принести к спальне пленника кушанье, разрезанное мелко-намелко, и питьё сладкое с большим количеством спирта. Входит вдруг в спальню Вейде и начинает его уверять, что он его лечит от сумасшествия; что ему, как больному, не нужно говорить, а только употреблять яства и питьё, которое ему врач даёт.
Проголодавшийся Вейде отчасти под влиянием страха повинуется охотно. Апраксин даёт Вейде есть и пить. Его разбирает хмель очень быстро, и он засыпает крепче прежнего. Апраксин сонного Вейде перевозит в его дом и приказывает сказать, что он в обмороке найден.
Через день после попойки у Монсов очнулся наконец у себя Вейде.
Ему докладывают, что Андрей Матвеевич Апраксин, найдя его в обмороке, доставил домой и приезжал сам уже справляться о здоровье.
— Нитшего не помню… Да, ми били… вместе… кажется…
И перед мыслью Адама Адамыча прошли ещё раз представления смерти и явление волшебника… и успокоение после еды и питья. Все это сперва представлялось ему в бессвязных видениях, во сне, как ему казалось. Вслед за тем, однако, прокралось подозрение: «Неужели это сон, не более? И как я чавкал, работая, проголодавшись, челюстями… и как мне лилась в горло живительная влага, приятно утолявшая жажду совершенно и погружавшая в забвение? А может быть, и не все сон? Расспросить бы Апраксина», — подумал Вейде.
А Апраксин и сам тут как тут!
— Ну, каково тебе, Адам Адамыч, как очухался?
— Нитшево… Скверно во рту.
— Пройдёт… Подкрепиться надо.
— Я рано не принимаю пищи… В приказ Преобрашенский зъесшу, новобрантци поутшу и токта…
— А много у тебя новобранцев-то?
— Тостаточно, тафолна… Олюхи!..
— Вот возьми в капралы Балакирева — ему обузу учить спервоначалу отдашь.
— Какой Балакирев?
— А что Анна и Матрёна Ивановны просили, со мной вместях.
— А-а! Анна… Матрёна Ивановна… Снаю… Тавай, кте он?
— Здеся… Алёха, эй!
Явился Алёха и отбил чуфисы[263] полковнику.
— Слюшить кочишь… учить нада темпи…
— Слушаю-с!.. Знаем эти самые темпы, мало-маля.
— А-а! и как ти толжен бить, егда натшальник пред фронтом станет и молвить «Слю-шай!»?
— Известно — надобно в струнке стоять, мушкет круто к плечу держать да слухать…
— Карашо!.. Ню, егда натшальник мольфит: «Слюшай! Заряжай ружьё!»?
— Тогды, известно, со плеча берёшь ружьё и заряжать принимаешься и, как изготовишь, ружьё паки на плечо положишь, уже без слова командирского…
— Карашо! Только снаишь… ответшай слова самая артикуль, ни полша… А егда повелевает официр: «На карауль!»?
— Я, государь, как твоя милость учит в Преображенском, не раз слухать хаживал и запомнил в точку ту ж команду: «Перед себя! Бери за дуло. Ставь перед себя. Отмыкай штык. Снимай. Клади в ножны. Опусти руку по мушкету. Мушкет перед себя. Мушкет на караул».
— Ню… а ештше последнее?
— «Мушкет перед себя: подвысь; на плечо».
— Так… И мушкет поворачивает умеешь?
— Всеединственно што палку…— прихвастнул Алёша, только видывавший его в руках солдат. — Как есть! — повторил он без уверенности.
— Карашо, карашо… Восмем себе! Прозиваешься?
— Алексей Гаврилов Балакирев, из дворян…
— Палакирев творанин… карош гренадир будет творанин… понатна тшилофек. А плохо понимать — палька кушай тафолно…
— Ну, к чему?.. — вступил в речь Апраксин. — Я потому по самому тебя, милостивец, и просил, что думаю, толк в парне есть… Сержантом сделаешь, верно, не умедливши… А что касается меха на кафтан твоей чести… Соболей сегодня пришлём — отпущу, и с лацканом…
— Прокурат ти, Андрей Матвеич… То, может, путит всатка?
— Какая там взятка? Не покривишь ты душой перед Богом и великим государем, коли мой Алёха взаправду исправен, и ты сам видишь, что дело знает.
— Карашо… Сержант так сержант… потом мошно… А утшить рекрюти мошет карпораль!
— А в сержанты перескочить не можно с первого году?
— Царь биль карпораль, поели барабантчик.
— Ну… Ин, Алёша, делать нече… потерпи и капралом побудь… коли иначе нельзя, вишь…
Балакирев склонил голову с почтением. И в капралы, понимал он, так добряк Адам Адамыч решил по словесному испытанью милостиво. Может, с мушкетом и не то бы сказал?
Самолюбие его ослепляло, но не настолько же, чтобы он, человек, не лишённый верного понятия о вещах, не понимал, что повторять запомнившиеся чужие слова или самому держать мушкет да им вертеть — не одно и то же. Сноровка нужна… да ещё какая. Поэтому, считая и капральство призрачным до записанья чином этим в список, Алёша на ухо шепнул Апраксину:
— Андрей Матвеич, добейся, государь, теперичка, чтоб Адам Адамыч писаря призвал и меня бы капралом повелел записать… Ближе будет к делу… этак.
Апраксин придавил ему легонько ногу в знак согласия и, помолчав, спросил:
— А как у вас, Адам Адамыч, делается в полках? Ты вот, милостивец, нашёл, что капрал исправный будет Алёха Балакирев, — и въявь его в капралы повелишь вписать.
— Д-да! совершенно… И завтри, с четвертий час утра, учить пашел нових олюхов… темпи… снать… И в сторона воротить.
— И на письме со сегодняшнего дня значится Балакирев Алексей капралом коего полку? Бутырского аль твоего?
— Мой польк. Бутирски командир Пётр Иванич Гордон[264]… Я не могу бутирски карпораль писать… Да ви што, сумливаитись? Семён!
Явился дневальный в дверях.
— Посови Иван Суворов, писарь генеральни…
Через минуту вошёл статный молодой человек лет под тридцать с кудрявыми, от природы завивавшимися вверх усиками над верхнею губою.
— Напишить: Алексей Балакирев, карпорали седмой карпоральстви.
— В седьмом Тихон Суровцев, Адам Адамыч… в осьмом нет покуда…
— Ню! осьмое кариоральство Алексей Балакирев… Вот он самий…
Алёша поклонился в пояс пригожему молодцу и по знаку его вышел вместе с ним.
— Просим любить да жаловать наше недостоинство, почтённый государь-секретарь, — так титуловать прикажете? — подыскивая учтивые слова, какие только были ему известны, разразился Балакирев приветствием писарю Суворову.
Тот улыбнулся добросердечно и возразил, видимо польщённый титулом секретаря:
— Покуда писарь Преображенской гвардии; господином, коли заслужим, напредки будут величать… Все это, братец мой, для немцев — титулованья да чинности… А наше дело с тобой, коли мы двое как есть русаков, впору называть тебя Алёшей, а меня Ваней, коли хочешь. Потому что капрал в одном чине сдаётся с писарем… Чего изволишь?..
— Так милостив буди к Алёхе, коли так, без чинов, позволяешь обращаться…
— Да ведь ни какие мы с тобой не чужие. Хожу и я к Кикину и знаю, что ты за гусь у Андрея Апраксина… Чего ж тут?
— Так, голубчик, не прогневись, и по душе дай ответ, о чём попрошу. Я, вишь, команду словесно затвердил, лучше не надоть, а ружьецом бы повертеть как положено нужно теперя-тко, коли завтра учить других велит Адам Адамыч.
— Я, голубчик, не из строю… А есть у нас мушкетны мастера первой статьи, как Яшка Борзов… Он те вымуштрует как не надо лучше… Одно, может, не захочется тебе с им вожжаться — сквернослов и тяжёл на руку… Без зуботычин у его никакая наука не ведётся… Рази будешь ему глотку заливать, так он те помирволит… иной раз и придержит руку…
— Да чего тут разбирать тычки, лишь бы скоро и исправно, с толком показал… А насчёт угощенья, не стоим за винище… Хошь обливайся им, коли в глотку не полезет…
— Ну, так лучше не надо такого стервеца. Сходите-ко, робятки, по Борзова Яшку…
— Да чего ходить?.. Гляди, он со сторожем на дворе, с Якимом, перебивает… Должно, просит жажду утолить… Видно, ломает сердечного… Вишь, какой зелёный… Прикажешь кликнуть, Иван Андреич?..
— Кличь… Спешно, скажи, требуется. Коли б выучил в неделю мушкетом вертеть… распрекрасное бы дело…
— Не скоро ли, Алёша, будет? В неделю, сдаётся, немного узнаешь… Хоть бы в месяц, и то бы молодец был… Ведь Яков Борзов мастер своего дела, да захочет и подольше получать угощение.
— И первое самое дело, кстати теперь!.. — услышав своё имя в сенях и хватая на лету последние слова, ответил обрадованный Яков.
— Угощенье всякое принимаю ото всякого, и тем паче от желающего почтить нашу честь и чин… Нельзя ль учинить почин, Иван Андреич?
— Да это угощать хочет новый товарищ — Алексей Балакирев… Тебя пожелал спервоначалу отыскать и почесть воздать…
— С нашим удовольствием… Чем служить можем, рады… И кружало недалече, ото двора сзади…
— Я хотел, батюшко Яков…
— Сысоич, родной… Мы не гневливы, тем паче в кружале… Бывайте счастливы… едем.
— Нужду имею, Яков Сысоич, в твоей науке.
— Ладно, ладно… Выставляй знай, примем тя в свои руки!.. С чаркою проходите несть скуки аз и буки, говорит даже умник наш Левонтий Бунин. Я зело желаю с тобою, капрал, спознаться, чтобы нам друзьями остаться.
Алёша совсем повеселел. В мошне у него гремели пятнадцать рублей пятачками серебряными. Приглашён был запить новое знакомство и Суворов. Обещал он всенепременно завернуть и список захватить. «В кружале и передам, — говорит, — кто в твоё капральство назначен». Чего же больше?.. Судьба словно заманивать стала на удочку удачи нашего Алёху, рассыпая перед ним новые блага на выбор: чего хочешь, того просишь!..
Царское кружало, стоявшее на углу переулка и большой улицы в Преображенском, было недалеко от задних ворот полкового двора, где жил Вейде, ещё занимая должность старшего майора. Но он, с царской поездки на Запад, был уже в ранге полковничьем. Новый генерал, Автомон Михайлович Головин[265], занимал со стороны широкого двора по другую сторону входных ворот с берега Яузы такое же жильё, как Вейде. Посредине полкового двора стояла съезжая изба, где помещалась полковая канцелярия и жил Суворов, который пригласил Балакирева для написания репортиции. По задней стороне полкового двора шли одноэтажные, кое-как сколоченные жилья солдатские с навесом внутрь двора. Под этим навесом и усмотрел Семён Борзова в беседе с Якимом. Предложение Алексеево было манной небесной для жаждущего Якова. От того он так и поспешил к злачному месту винной торговли.
Храм Бахуса и Момуса в ту пору был украшен неизменною парою еловых ветвей, прибитых накрест над входом. Такие же ёлочки, вместо лавров, украшали и наличники двух волоковых окон, скупо пропускавших свет в царское кружало. Больше всего света падало на середину его через двери, днём вечно раскрытые. Стойка, видная с улицы, со входа была с одним приступком и деревянной решёткою, предохранявшею бутыли от самовольного захвата гостями. В решётке была дверка, которая открывалась при взносе денег и тут же закрывалась осторожным целовальником[266] на задвижку, чтобы предохранить от невольного греха. Все входившие в кабак крестились в передний угол, снимая шапки. Яков Сысоич и Алёша сделали то же, войдя и садясь за стол сбоку стойки.
Вместо мушкета Борзов схватил со стойки просовку[267], заложенную, должно быть, портным целовальнику, и ну с нею выделывать темпы, к немалому удивлению мирных посадских пьяниц. Он озадачил особенно честную компанию, подпевающую двум рядчикам «Как во городе было во Казани», когда вдруг рявкнул, держа на плече круто просовку: «Клади на мушкет руку!» — и сам приударил по ней с солдатским удальством. «Подвысь мушкет!» — и поставил просовку вполоборота от плеча. Команда «На караул!» была наиболее всем знакомою, а отставленье ружья к ноге сильно подзадорило любопытство зрителей, не ожидавших представления. Каждый, в свою очередь, любовался, как Борзов выполнял эволюции, вполне художественно, с оживлением командуя: «Приступи правой ногой, бери мушкет, подымай к ноге». Или, как бы готовясь дать отпор и отменяя, казалось, решённое намерение, кричал и выполнял сам: «Мушкет перед себя! Обороти с поля! Мушкет на плечо!»
Алёша Балакирев, что называется, на лету ловил штуки ловкого Якова и уж воображал себя в его роли перед шестерыми новоуками своего капральства, которых так милостиво называл Адам Адамыч: «Олюхи!» Алёша никак не допускал мысли, что он сам может попасть в число тех же «олюхов», а, напротив, представлял себя ничем не хуже Борзова.
Много ли они выпили или, лучше сказать, насколько сам себя угостил солдат-учитель, успевавший среди своих эволюции односложно отдавать приказания налить себе и выпивать духом налитое, — никому не было в примету. Но через час, когда пришёл со столбцом в кружало Суворов, Яков Сысоич был в состоянии ничем не сокрушимой храбрости. Только руки его не так охотно повиновались команде, а командные слова с неохотою и видимым коснением лезли из уст отца-командира. Алёша выпил всего две чарки тминной и был весьма весел. Радость Балакирева понятна всякому, кто бывал так же близок к заветной цели. Успех до того польстил Алёше, что все трудности представлялись ему теперь миновавшими бесследно.
Прав ли он был? — это другой вопрос. Суворов не много пил и не долго сидел. Он перед уходом пересказал обстоятельно два раза Балакиреву, как он должен принять завтра капральство:
— Нужно будет тебе со столбчиком сходить в солдатское жильё ещё с вечера, разыскать каптенармуса Евдокима Тарыева… Он те предоставит барабанщика, — сказал Суворов, — а тот будить тебя станет, твоё капральство и даст знать, что выведено… Ты их и поучишь мало-маля руку разбирать спервоначалу. А завтра, как мушкет получишь, с Яковом займись: артикул повтори… И ладно будет…
— Благодарствую и сказать как не смогу за твоё научение… Истинно, после Бога ты, государь мой милостивый, Иван Андреич… Что прикажешь… все предоставлю…
— Ну, что там за предоставление… Жить будем вместе… Спознаемся впрямь…— и вышел.
Балакирев расплатился с кабатчиком и, ещё накачав Якова на дорожку, потащил его чуть не волоком к солдатскому жилью.
Отыскать каптенармуса и при посредстве его барабанщика было дело не трудное. Передав каптенармусу столбчик, Алёха услышал, что отбор в капральство придётся отложить до понедельника, потому что был вечер субботы, а в воскресенье дела не делались.
— Да Адам Адамыч велел утром завтра приняться учить капральство.
— Видно, Адам Адамыч запамятовать изволил, а великий государь по воскресным дням учить заказал накрепко… А в понедельник милость твоя мундир примет и бородку скосит… Тогда и за дело…
Против этого возражать было нечего.
— А нельзя ль с Яковом с Борзовым мушкетом повертеть взавтрее…
— Про то про все ему знать, а не нам. Пожалуй, обеспокойся зайти к им в светлицу… Он с утра, чай, про выпивку смекать начнёт: где достать?
С этим и отправился домой Алексей, довольный всем, что случай и добрые люди устроили по его желанию: в чины произвели…
— А я только от Монцовны! — увидя своего приживальщика, не ложившегося спать, молвил, входя к себе перед утром, Андрей Матвеевич Апраксин. — Рассказывай свои похождения!
Что он в состоянии был рассказать, мы уже знаем. Выслушав рассказ Алёши, Андрей Матвеевич сообщил в свою очередь:
— Адам Адамыч был там. Матрёна Ивановна напомнить велела про пять десятков рубликов… за участие.
— Подождёт… благо устроилось дело! — ответил как бы нехотя Алёша.
— Так нельзя, смотри… Монцовны — случайный народ и своего не привыкли терять… чтобы не вышло чего дурного… лучше развязаться… достать; как не достать полсотни?.. А то могут напакостить так, что не поправишь… по дружбе говорю. Я за тебя обещанные соболи Адаму послал: он их принял и портному передал уж… Охабень новый шьёт на соболях даровых… Твоё дело полсотни отдать старшей Монцовне, Матрёне…
— Да, прости Господи, дерьму-то этому за что? — упирался Алексей. — Ведь не она что ни есть повыше с кем вожжается… то Анна, никак…
— Разумеется, Анна… А Матрёна Анной сильна… На свой пай зашибает, покуда везёт…
— Ну, так… черт бы её драл!.. Подождёт, коли не набольшая… Ну, что впрямь сказать может она?
— И все, и ничего… смотря по обстоятельствам. А обещанное которой ни на есть из этих сестриц и не в твою высоту отдают с поклоном, прося не запамятовать только да лиха не учинить.
Алексей погрузился в думу. Слова Апраксина не мог он не считать верными, но и упрямство, свойственное избалованным и капризным натурам, заставляло придерживаться принятого решения. Русское «авось» укрепляло упорство, маня возможностью провести гневных покровительниц, отыскав другую поддержку. Он был бы совершенно покорным и не думал бы увёртываться от взноса Матрёне Монс, если бы с Вейде не устроилось дело на первых порах так легко, возможность близкой неудачи даже не приходила в голову Алексею, рассчитывавшему на знакомство с Суворовым, учёбу у Якова Борзова и на собственное умение выходить из затруднений.
Апраксин после объяснений с Алёшей думал тоже раскошелиться лично: поступиться своими пятью десятками рублей, только бы не расстраивать дружбы с девицами Монс встречаться на нейтральном поле их гостиной с грозным царём Петром Алексеичем.
Прощаясь с ушедшим позднее других Адамом Адамовичем Вейде, Матрёна Ивановна будто случайно спросила его: правда ли, что он получил прекрасные соболя от Андрея Матвеича за то, что капралом приняли какого-то Балакирева?
— Нихтс, мейне фрейлен, — ответил Вейде, стараясь казаться спокойнее. — Он пашутиль… Он толщин… ню… и саплатиль мне стари толга… Я за дшинь подшиненний мой затка не возметь, — закончил он голосом оскорблённой добродетели. И, говоря последние слова, смотрел так прямо и добросердечно в глаза вопросчицы, что поселил в ней сомнение; не ослышалась ли она впрямь?
При всей приветливости, даже предупредительности в обращении с ним девиц Монс Вейде нисколько не думал открываться перед ними. Чтобы они предали его — этого, положим, он не ожидал; а в необходимости подарить им в случае своей откровенности — был убеждён. А он был человек расчётливый, всегда готовый, где удастся, уклониться от пословицы «рука руку моет». Он в глубине души был уверен, что поступил как следует, согласившись капралом записать человека, им проэкзаменованного и отвечавшего на вопросы. А Балакирева, как мы знаем, он спрашивал о разных командных терминах по части строевого ученья. Стало быть, не могли быть взяткой соболи апраксинские! Благодарность приятеля за одолжение, доказывавшая взаимную приязнь, была, по понятиям любого москвича, вещь почтённая, необходимая и составлявшая самый смак хороших отношений равных с равными. Относительно подчинённых — принос и памятки опять служили доказательством милости к ним начальства и почтения их к начальству. И это не взятки. Взятки — прямая торговля с условием выполнить заведомо преступное дело: присудить чужую собственность, давая двусмысленному закону толкование по усмотрению. Этим промышляли подьячие, оттого они и взяточники были по общей молве. Требования свои предъявляли они без всякого зазрения и лгать в глаза готовы были сколько угодно. Сестрицы Монс с их жаждою приобретения подарков, денег в действиях своих оказывались не особенно церемонными. Они в этом отношении держались скорее тактики дельцов приказных. Не спрашивали: за что, а только отдай, коли пообещал, правдою или неправдою. Твоё дело не обмолвливаться, а обмолвился — плати!
Вейде, как мы видели, увернулся счастливо. Его пришлось поневоле оставить в покое. Но Матрёна Ивановна уже считала своими полсотни рублей с Балакирева, и он должен был сделать взнос без скидки. Он, однако, насколько видно из подслушанного нами разговора с Апраксиным, был далеко не в расположении выложить денежки. Положим даже просто потому, что их у него не было в ту пору. Девица Монс старшая между тем, как и младшая, не любила, чтобы затягивали в дальние сроки уплату чего бы то ни было ей обещанного, а потому должен был последовать, очень естественно, скорый взрыв её гнева.
Балакирев, используя слабость Борзова, угощеньями его достиг на первый случай желаемого: уменья вертеть мушкетом. Это, в ту пору особенно, высоко должно было цениться, и скорое усвоение эволюции ружьём должно было, само собою, отличить капрала в глазах командиров. От природы, как мы знаем, сын Лукерьи Демьяновны был с большими способностями и удивительно чуткою восприимчивостью. Превращение его в две недели в гренадера заправского из лежебоки компании Апраксина казалось всем, знавшим Алёшу, чуть не чудом. Это мнимое чудо, однако, было просто результатом вспыхнувшей решимости, не более. Люди впечатлительные и нервные способны на короткое время проявлять необыкновенную энергию. Но она, как всякое напряжение, непродолжительна и может замениться апатией до новой вспышки.
На первых порах Алёша вошёл во вкус строевых эволюции, и «олюхи», даваемые ему на выучку, крепко терпели от строгого, придирчивого муштрователя, зато быстро усваивали солдатское ученье. Оно у Балакирева продолжалось целые дни, и голос его неустанно гремел от утра до вечера на лужайке позади полкового Преображенского двора. Сам строгий генерал Автомон Михайлович Головин, не один раз слыша похвалы ловкому капралу, заглянул раз на лужайку и остался очень доволен и учителем и методою его.
Простояв около часа, Автоном Михайлович велел отпустить на отдых новобранцев и милостиво позвал капрала.
— Из каких ты, любезный?
— Дворянин владимирских пригородов.
— Давно в службе?
— Полтора месяца… здесь, а прежде…
— В полку-то сколько?
— Полтора месяца, докладываю.
— Молодец… Я тебя буду помнить… Учи так же, как теперь я видел… в ранг произведу!
Алексей от похвал такого строгого ценителя вырос на целую голову.
Польщённый высшим начальством, Балакирев на все окружающее способен был смотреть свысока, а на все постороннее — как на не стоящее внимания его.
Он уже считал себя если не первым человеком в полку, то, во всяком случае, особою важною. Мог он, разумеется, и гордиться теперь собою: выслужился собственным усердием и умением. Что его, не знавшего службы, не так давно одним поминанием бросало в жар и в холод от страха, теперь составляет его заслугу.
Заслуга и отличие всегда между тем вызывали козни зависти. И между товарищами скоро оказалось у Балакирева множество врагов и порицателей, прежде всего не прощавших ему внимания начальства при короткой службе. Учитель Борзов, с тех пор как Алексей перестал его поить, оказался самым ядовитым распространителем клевет на него.
— Через немчуру выезжий… вишь ты, хря какая… А туда ж, петушиться умеет — мушкет подвысь… Не научать бы мне стервеца вправду, а с подвоху лгать что на ум взбредёт, — не раз каялся, думая вслух, Борзов, уже не встречаясь с Балакиревым, погрузившимся в море муштрования «олюхов».
Суворов был по-прежнему дружелюбен к Алёше, но ничего не мог сделать в его пользу при общем нерасположении к «выскочке». Так называли однополчане, старые солдаты, капрала Балакирева, не прощая ему скорой выслуги и милости начальства. Степан Суровцев, капрал, из бывших под Азовом, вхож был в Преображенское и знаком Сашке Меншикову. Этот любимец счастия не особенно милостиво слушал похвалы кому бы то ни было, кроме его персоны. Суровцев был человеком невысоко покуда поднявшимся, но любимым Сашкою за язычок. Он к тому же будущему светлейшему оказал и услугу спервоначалу: обучал его мушкетец держать. В память этого и принимался и выслушивался. Подчас и подачки получал; подносили ему и чарку. Вот сидит он да ведёт, как, что в полку делается, и видит: вдоль по слободе катят Андрей Апраксин, Кикин да Балакирев с ними.
— Эти двое неразлучны с чего-то теперь —неспроста что, — молвил дальнозоркий Сашка. — Третьего не знаю… вашего полку?
— Капралишко это, Балакиревым прозывается. Вейдовской подхалим… Слышно, через Монцовну в чин произошёл.
Меншиков при этих словах стал пристально вглядываться.
На беду, соскучась ожидать взноса пятидесяти рублей, Матрёна Ивановна послала Павлушу, бывшего у них на побегушках, разыскать капрала Балакирева в полку. Как не разыскать расторопному Павлу Ивановичу, будущему генерал-адъютанту Ягужинскому, оку государеву, капрала Преображенского на полковом дворе? Нашёл.
— Здравствуй, Алексей Гаврилыч! Что так долго не бывал у нас?
— Где то ись? — прикинувшись непонимающим, вздумал было сыграть комедию Алёша.
— Матрёна Ивановна Монс приказала тебя к нам позвать да напомнить, что не мешает добрым друзьям помнить обещания.
— Какие обещания? Какая Матрёна Ивановна?
— Ну, полно, друг сердечный, напускать дурь… неравно из капралов могут и солдатом не оставить.
— Было бы за что!
— Да за здорово живёшь, к примеру сказать…
— Ты, братец, это у себя рассказывай, а не здесь… Проваливай откуда пришёл!..
— Я-то!.. Да ты, Алексей, в своём ли уме? В свою ли голову гнёшь, полно!.. Рога-то козлиные собьют, голубчик!
— Не ты ли?
Павлуша улыбнулся презрительно, но удержался.
— С чего ты на меня-то напустился? — сказал он спокойно Балакиреву. — Я посланник, а послов, коли что и неладное передают, не оскорбляют. Мне с тобой делить нечего… Могу по дружбе тебе посоветовать, дрязг не поднимай. Коли взялся — плати. Не хочешь — твоё дело… Может, дороже обойдётся, коли не заплатишь… Не мытьём, так катаньем доедут…
Рассудок взял верх над горячностью Алексея; он простыл и подал руку Павлуше, прося извинить.
— То-то, извинить… Не ровен час… Я бы вспылил по-твоему… Мог бы тебе много зла наделать…
— Ну, друг, Павел Иваныч, рассуди, за что я экой стерве полсотни понесу? Ну при чём она? — смею спросить. Адам Адамыч к себе меня призвал. Доспросил, как и что знаю я. Нашёл — могу учить… Капралом принял… Я отдался науке, видит Бог, усердно… Теперь всякого сам выучу…
— Все так… да, говорит, обещанные… За знакомство с Адам Адамычем…
— И то устроил Андрей Матвеич, ей-Богу, право!
— Слушай, Алёша… Я не спорю, что полсотни не шутка и выдавать жалко— ни за что ни про что да сам я слыхал, как ты говорил на слова Андрея Матвеича, и он подтвердил.
Балакирев пожал плечами, припомнив.
— Ладно, — говорит, — скажи, удосужусь — приду, часть принесу… Всех теперь нет…
— Ну… хоть часть… покуда.
— А ты не уходи… пойдём, угощу.
— Какое угощенье… поди ты к Богу!
— Нет… нельзя…
И настоял-таки. Павел Иваныч пробыл с недавним чуть не оскорбителем не один час за медком барбарисовым. Расстались друзьями. Побранили его за промедление дома. Сказал: не скоро нашёл; занят был ученьем; обещал часть принести.
— Это ещё что за новость! Часть? Посмотрю я, как он посмеет не все сполна выложить!..
И ещё пуще распыхалась нетерпеливая Матрёна Ивановна.
Наступил вечер. Собрались гости обычные. Явился и Балакирев. Матрёны Ивановны нет. Подходит к нему Вилим Иваныч Монс, мальчик лет десяти, брат красавиц, не по летам смышлёный.
— Отдай мне пятьдесят рублей, должных тобою моей сестрице Матрёне Ивановне!.. Мне нужны они… Я лошадку куплю… Я…
— Я тебя знать не знаю… С чего пристал? — отрезал, не приготовившись, Алексей.
— Подай! — и все тут, кричит дерзкий мальчик.
— Что подать?
— Деньги мои!
— Где ты их взял?
— Не твоё дело! Мои — и давай!.. Обещаны…
— Я тебе ничего не обещал!
— Обещал… За то, чтобы капралом сделать тебя…
— Кто же сделал капралом? Ты?
— Не я, а через нас сделали.
Вдруг неожиданно входит царь и — прямо к Балакиреву и мальчику:
— Кого сделали капралом через вас? — спрашивает мальчугана Пётр.
— Его! — дерзко отвечал Вилим, показывая на Балакирева.
— Кто? — допрашивает Пётр.
— Я не знаю — кто… а знаю, что сделали… Он капрал теперь…
Пётр смерил глазами встревоженного Балакирева и спросил его в свою очередь.
— Давно служишь?
— Полтора месяца.
— Капралом?
— Капралом!
— А солдатом сколько?
— Я принят… знающий…
— Не служил солдатом?
— Нет… Я…
— Какой знающий?
— Артикулы… темпы… Спрашивал Адам Адамыч Вейд… Я отвечал, и за моё знанье удостоил капралом… учить других… и учу я, великий государь… сам изволь увидеть, как мной довольно начальство…
Пётр смотрит на него и припоминает Вдруг блеснули глаза — вспомнил.
— Ты был в лесах на Воронеже?..
— Был.
— А здесь зачем?
— Пригласили…
И опять погрузился Пётр в думу. Лицо его сделалось мрачно, и на нём ярко выразилась недоверчивость…
— Твоё место в полку… а не по немецким домам шляться! — сказал строго государь и ещё раз окинул Балакирева с ног до головы…
А Вилим Монс своё говорит, показывая на Балакирева.
— Он должен был сестрице деньги дать… Она мне велела получить. Он не хочет…
Но уже вбежали девицы Монс и стали шикать шалуну. Пётр молчал и делался мрачнее. Балакирев стоял как вкопанный. По знаку царя он вышел…
Что было после ухода его в доме Монсов, осталось, разумеется, неизвестным, потому что все прочие, сидевшие в светлице, с приходом державного гостя незаметно исчезли.
Балакирев, идя к себе, обеспокоенный, завернул к Апраксину.
— Ну, что? Нигде тебя не видно. Все в Преображенском полку у себя.. Как дела?
— Да что греха таить, — бояться начинаю, не было бы чего неладного… Сердце ноет…
И рассказал, как и что было.
По мере рассказа и Андрею Матвеичу стало делаться жутко. А когда кончил Алексей, он только руками развёл, и лицо приняло выражение полной безнадёжности. Затем оба молча просидели до петухов. Каждый боялся пересказать словами, что представляла ему дума.
Можно верить, что не много пришлось проспать в эту ночь Балакиреву.
Чуть свет поднялся он и вывел на лужайку своих «олюхов».
Мало-помалу свежий воздух, раннее утро и одушевление самим занятием настроили мысли Алексея бодрее. Он ожидал чего-то грустного, но уже приготовился встретить незнаемую беду бодро и с уверенностью в правоте своей.
Голос капрала получил полную силу, он речисто отдаёт команду. Топот шагов в ногу и звуки от стука мушкетов отдаются отчётливо, сменяясь голосом команды. Уже и солдаты были значительно подготовленные, и ученье ведено было хорошо. Капрал, стоя спиной к забору полкового двора, не мог видеть, как из ворот его вышла кучка офицеров. Тут были: Вейде, Головин, оба майора и сам царь. Выйдя, установились они поодаль и смотрели на ученье довольно долго. Царь внимательно следил за учителем и не нашёл ничего, что бы похаять или найти небрежным.
— Довольно… отдохните! — не видя стоящего начальства, скомандовал капрал.
— Возьми теперь ты ружьё и покажи, как сам управляешься им, капрал! — раздался голос государя.
Балакирев взял у ближайшего рядового ружьё и, отдав честь по уставу, стал, обратившись лицом к Петру, очевидно не гневному, а, напротив, довольному виденным ученьем. Раздалась команда. Сперва по порядку, потом вразбивку, по темпам выполнил мастерски капрал все эволюции.
— Хорошо! Вижу, что умеешь и капральства стоишь. Но… не здесь у нас только обучать нужно. Пусть в Азове послужит[268] и оправдает повышение в капралы без выслуги…
Подошёл Адам Адамыч Вейде и по-немецки сказал в своё оправдание — почему взял прямо в капралы.
— Пусть так! — ответил спокойно государь. — А в Азов послать немедленно!
— Лучший капрал в полку, государь! — осмелился ходатайствовать Автомон Михайлович Головин. — Я обещал ему сержантом сделать при первой возможности.
— Ну… пусть сержант будет, но — в Азове!.. Не наказанье посылка, если с повышением!
И, поворотившись, ушёл царь со свитою.
— Вот, значит, как Бог-от милостив! — узнав про назначенье в Азов Балакирева, злорадно отозвался Борзов. — Не брезгуй, значит, стервец, теми, кто дорогу показал, — прибавил он внушительно и обратился к сторожу с обычною просьбою: — Ссуди алтынчик, Якимушка.
— Изволь, так и быть, на радостях, что лиха избыли, Алёшку того самого… Мне ни в жисть на табак полушки не уволил. А деньжищами знай идёт да побрякивает.
В это время почти подбежал к Борзову и Якиму Суровцев.
— Идём. Бери и меня в складчину. А коли нет, сам угощаю вас троих; дай Боже многие лета Александру Данилычу. Слушайте, ужо я поведаю все как было по ряду.
И трилиственник поворотил к кружалу.
Решение получило полную силу и убило на первых же порах в Алексее всю прежнюю энергию. Вот он и сержант, — да к чему это повышение… в клетке?! То-то злой язык клеветника маленького! Змеёныш! Заведомо раздавить бы гадину! А не клеткою не считал никто житья в Азове, среди пустынь, в крепости, то и дело ожидая осады, а там и похуже может быть что, не ровен час…
Сегодня — как вчера, завтра — как сегодня, там проводят люди целые года. Та же участь ждёт и Алексея Балакирева.
Родные о нём, пока он жил в Москве, не получали частых уведомлений; а как услали в Азов — след простыл. Жив или мёртв, как и от кого узнаешь? Мы с ним тоже долго не встретимся.
Глава IV. ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
Об отце по-прежнему помина нет. Мы теперь должны рассказать, что делалось с сыном-сиротой.
Страдала бабушка, что поп нарёк; Иван, Христа ради юродивый: думала, проку не будет, а вышло преразумное дитя Ванечка.
У матери и у бабушки одно утешенье — подросток — не надышатся на него. Забавный был ещё — клоп клопом. А с десяти лет просто иной раз старого и бывалого озадачит. Станет присловья прибирать, все у него выходит таково складно да ладно. Начнёт пересказывать, где что увидать пришлось, да вдруг такую вяху[269] отпустит, что мать и обе бабушки головой только покачают; а попадья, что по-прежнему у Лукерьи Демьяновны гостит, невольно скажет: «Ты, малый, больно затевущ — будешь ли живущ?»
Вот и двенадцать годков минуло внуку Демьяновнину. Дьякон стал ходить — грамоте учить, да мать и бабка маху дали. Не взяли в толк, что мальчику не одно читанье нужно, а писать надо бы хоть сколько-нибудь. Да, на беду, отец дьякон сам до письма не дошёл, однако не только не говорил об этом, а ещё хвалился, как добрый: я, говорит, все произошёл!
Учился мальчик с ленцой, но его не принуждали, и почти три года дьякон таскался. Всю Псалтырь, не только Часовник, с Ванюшей прошёл, а про писанье все ни гугу! — так и промаячил время. Хвать-похвать, а молодцу пятнадцать лет, и потребовали дворянчика на смотр; в Питер куда-то, на край света, нужно везти. Царское вышло в ту пору повеленье дворянских ребят представлять государю на посмотренье[270], — что укажет. Бабушка как почуяла этакую беду, на первых порах— к воеводе, разумеется, не с пустыми руками. Дойти до воеводы тоже прямо не удастся, — известно, народ приказный вороватый, даром и пальцем никто не повернёт, не то чтобы без посулы что указать или рассказать Да на ум наставить. Как устлала помещица деньгами дорожку, так и присоветовали с воеводихой коммерцию завести: она всем принимала. Объяри[271] на сарафан было, разумеется, мало, — попросила десять рублей в долг, а порукой волк. Зато до воеводы Лукерья Демьяновна доступила, и он своё воеводское слово дал: дворянское дитя Ваню не разыскивать, буде в нетях очутится. Да, на грех, случись в воеводской избе солдату быть на ту пору, как помещица о заступничестве за внука просила. Солдат вслушался в разговор, словно соболезнуя, и имя спросил. Воевода с доброго сердца думал и ему хлеб дать — Лукерью к служивому обратил. А злодей, служба, выспросил все как есть, в свой список записал да и билет выносит: «Вот, — говорит, — тебе, бабушка, явка, в Питер внука Ивана Алексеева сына Балакирева привезть на срок к Ильину дню[272], безотменно, оберегаючи себя от конечные опалы и гнева царского величества за нарушенье его государской воли». Вот оно на какого изверга напала бедная Лукерья Демьяновна!
Она было просить службу чтобы явку эту свою взял он и детища не губил. Да куда тебе! рыкнул, словно зверь. «Мы-ста не хуже ничем и не грешней, чаю, ваших щенков-детушек, да как есть под лямку угодили, а вы увернуться хотите? — шутишь, душа!», а сам хихикает таково обидно да зло. Помещица ну со слезами умолять ворога да умасливать. Ничем не проняла этакого зелья. Даже, стыдно сказать, на колени становилась и упрашивала: «Отец родной, заставь вечно Богу молить! Одним на потеху нам с матерью Ванечка… не вынесет он ваших муштров, дитя слабое, больное..»
Солдат знай рукой машет да своё несёт: «Стерпится, слюбится!» — «Какое же слюбится, — не выдержала Лукерья Демьяновна, — и сжиться не сживется он с экими порядками опротивят они хошь кому, не токмя дитяти». — «А палка на что? — прикрикнул служба на барыню. — Вобьют и узнать заставят самую мудрёную науку».
После этого Лукерья Демьяновна уж и не посмела перечить и уехала с горем домой. Там уж и мать, и бабушка плакали-плакали над Ванюшкой, да и стали готовить его в далёкую дорогу. В Муроме Лукерья Демьяновна одно только путём наладила. Живучи в городе, взяла доброго человека, расстригу одного, немного Ванечку писать поучить. Весну-то всю да лета часть, до выезда, он и выводил с дитятей всякие разные каракули.
— Дитя, — говаривал учитель часто, — зело понятливо, а уж удали такой, что и сказать нельзя.
И подлинно, Ванечка по-всякому выходит не то, что отец; пока дяди-злодея не спознал. Алешенька, с детства был ленивчик да все больше к женскому полу льнул. Ванечка, напротив, как подрастать стал, с улицы не сходит: с мальчишками все в атаманы играет.
Бабушка с плачем поведала как-то, что недолго ему дома быть — на царскую службу, батюшка, тебя усудобят, света моего; а там, известно, не жалеючи муштровать станут.
— А ты то, бабушка, говорила, что меня, как дворянского сына, сам царь смотреть будет… Вот ужо я и увижу, каков царь-то у нас.
— Глупенький! Что ж тебе из того, что царские очи светлые удостоишься видеть, да тяжко тебе будет на службе-то царской?.. Турить будут, кому бы и не надо; тычки давать, кому бы и не довелось.
— Я, бабушка, не буду дожидать, чтоб тычок-от дали, сделаю попрежь что велят. А коли велят служить, дадут и выслужиться. Вот тятя и не много служил, как сама ты баишь, да неохочим до дому стал.
Каково это? Судит точно как человек бывалый.
Расстрига-учитель начал было про гневливость государеву россказни вести, да Ваня ножками затопал: «Перестань, — закричал, — врать! Ну, с чего царю гневаться на все и про все? Про вину да за непорядки и бабушка, коли узнает что, няньку мою, Мотрю, расхлещет как есть, а гнев пройдёт, пожалует её, на повойничек даст, али алтын подарит, али найдёт ещё какой ни есть милостью. Так и царь. Нужно — погневается, а там и помилует; ведь свои ему люди-то мы с тобой! А может, дела-то у царя много, да и важней оно, конечно, чем во дворне работы, по домашеству. Стало, и вред от порухи больше, и взыску должно больше быть».
— Вот какой у меня умница Ванюшка, как ладно рассудил. — решила мать. — А годы-то какие ещё, всего шестнадцатый годок пошёл.
Из себя же Ваня молодец молодцом, тончавый да высокенький. А уж так приветлив: всякому мужичонку норовит попрежь сам шапку снять. И духовный чин уважает отца Данилу особенно. Только мать Маремьяну, знакомую бабушке монахиню, не любит — лгуньей её называет.
Петербург в первые двенадцать лет по основании своём представлял только зачаток большого города и был страшным для большинства русских людей, поскольку при Петре I здесь было взысков, требований, строгости начальства больше и будто бы смертность сильнее. В нём кипела усиленная деятельность стройки. Проложенные покуда без большой обдуманности улицы наполнялись домами, похожими на деревенские избы; застраивались пустыри медленно и как попало. Только на городском острове поставленные в ряд на Неву домики казались значительными и глядели так приветно в праздничной, светлой, тесовой оболочке. Единственный въезд в город был с Ямской. И, достигнув новой столицы, путникам не верилась её близость; даже въехав в Ямскую, путники долго оставались в сомнении: не сбились ли они с дороги? Вытянутые в один ряд избёнки шли от убогой церкви, стоявшей посереди неогороженного кладбища на болоте, и всего ближе напоминали деревню, да и то не из богатых. Несмотря на протяжение этой слободы чуть не на версту, никак не верилось, чтобы обыватели тут как сыр в масле каталися. Три кабака, конечно, докладывали, что зелёного вина тут должно выпиваться вволю; но пьяных на улице не было видно, хотя немного попадалось и непьяных, проезжих и пешеходов. Чахлые ивки изукрашивали неказистый болотный пейзаж. Зеленело все вокруг, и на рыхлой луговой почве, и в застоявшейся воде канав для осушенья; от этого обилия зелёного цвета под ясным небом и на припёке чувствовалось своего рода утомление глаз. Недостаток разнообразия и связи чувствовался на каждом шагу. На этом новом месте всяких народностей люди сошлись спешно и подбивались всеми мерами к спешному неустанному труду. Конца и края его тоже не было видно ни работникам, ни наблюдателям за ними.
Умная старуха Балакирева, в июньский жар въезжая с внуком в Невский город из благословенного затишья Муромских лесов, вынесла такое именно заключение о парадизе Петровом[273]. Ямская слобода ей ещё показалась сколько-то похожею на Русь, все как следует и грязь есть! — без грязи нельзя же быть! И кабаки торчат — без них тоже не бывает житья человеческого. И бревенчатые связи да срубы везде на глаза попадаются, и телеги торчат поперёк проезда — все как следует, почему не взять бы в сторону? — да не ожидали ведь нас. Правда, не мы одни должны здесь проезжать. В этом-то невдомеке и есть, что называется, Русь. Убогие церковки везде на новых местах прежде видишь, поповство пообживется, тогда, глядишь, храмы на славу соорудят. То правда, что, выбравшись из Ямской, опять путники впадают в недоумение. За Ямскими слободами везде город начинается, а здесь — просека какая-то, да, кажись, и конца её нет. Бабушка со внучком все едут, а ни жилья, ни монастыря, ни храма Божия ниоткуда не видать. Что же тут такое? Лес вырублен, канавы в берегах стоят полным-полны, и души человеческой ничуть. Вот, никак, речка заблистала; перед речкой острог какой-то стоит; доносятся из него звуки топорного тюканья. А вдали, налево, за дорогой, никак, церковку, судя по крестику, видать. Чуть приметно желтелся крест между нагромождёнными почерневшими кровельками храма Божия. Ближе и ближе к нему наши путешественники — и виднее делается им необширный храм. Сбоку, подле канавы, три избы, поповские, должно быть; а левей потянулись опять убогие домишки, в два да в три оконца. Тут вдруг из крепости народ с работы повалил по троекратному звону в колокол. Помещица велела остановиться в сторонке своему вознице и стала спрашивать проходящих молодцов: «Где нам казённый двор найти?»
Так было прописано в ярлыке, данном внуку в воеводской избе в Коврове: «В Питербурхе явиться на казённом дворе».
Выискался один, солдатик, что ль? — трудно по белому балахону-то судить, что он за птица; тесак, никак, висит на чёрной перевязи, а на голове блин какой-то распущенный, краешки вперёд торчат, затеняя молодое лицо с жидкими, поднятыми вверх усиками. На немца больше похож был парень, а по-русски откликнулся: «Знаю, — говорит, — что вам требуется!»
— Надоть вам, бабушка, направо забирать, вон в тую набережную слободку! — и пальцем показал за луг к берегу. — Это будет по Неве с версту, во… до перевоза доберётесь на городской остров… а как переедете, там и есть. Должно, недоросля вам являть?
— Точно так, голубчик! А смею спросить, вы-то сами каковские?
— Я-то, государыня, блокшифмейстер, здеся, в Адмиралтействе, с работы обедать погнали.
— Дворянин, сударь?
— Как же, из помещиков в Суздальской провинции Владимирской округи.
— Землячок наш, значит… Поклонись, Ванюшка! Может, господин дворянин пригодится, как, бишь, величать-то?
— Блокшифмейстер Норов!
— Слыхали про Норовых, слыхали. Вы не близко от нас, а все же, голубчик, свой своему поневоле друг! Прошу Ванечку моего любить да жаловать… Первой ты, государь, откликнулся мне, старой бабе, здеся; дай Бог тебе здоровья, что вошёл в наше положение… может, и до вечера бы плутали.
— Зачем так?.. В Питере, голубушка, не в пустыне; здесь покажут все, что требуется. Всякий на спрос должон отвечать. А молчат коли… значит, не знают, о чём спрашиваете.
— Ишь какой господин-от Норов приветливый, кланяйся, Ванечка… понитной[274] балахончик-от, а все дворянская кровь, не мужику чета!
— Все едино, матушка, здесь… Каждый знает своё дело, и коли мужик с головой, а дворянин глуп, так и мужика поставят учить дворянчика… Знамо дело!
— Ишь ты, какой востренький! Дело-то дело, голубчик, да как это, ума не приложу, может мужик дворянину-то указывать? Ино ему мужицкое слово не покажется и не захочет он по-евонному сделать, а по-своему… Что мужик за указ?
— За упрямство здесь бьют и плакать не велят. А коли сам не дошёл — слушайся, кто знает получше тебя.
— Получше… слова нет, свово брата, коли… а мужик, сам рассуди… может ли быть получше дворянина?
— И ещё как бывает! На то государь Пётр Алексеевич и сам топором не гнушается, чтобы различия в деле не было: кто умён да знаток — тому и приказывать, а неучам да незнаям впору слушаться беспрекословно. Вот и я, как в список на смотру попал в тысяча семьсот пятом году, попервоначалу много с дурости слез пролил, все обижаясь на непочет… а как палки раз-другой отведал, — как рукой сняло… А там в немецкую сторону в науку на четыре года отбыл… Мастер был немец, аспид просто, все не по ем… одначе оттерпелся… и понял я блочное дело… сам теперь другим указываю и государю знаем стал… трудимся…
— Ишь ты, как Бог-от милосерд… Государю, говоришь, знаем… и правда это?.. понитник носит… и государю знаем!..
— Да государь и сам на работе в равендуковом бостроге[275] и в таких же исподних, так-то удобнее в Адмиралтействе то пором рубить и пластину из брёвнышка мастерить, что ахти, ну Ей-Богу, право. Не веришь, пожалуй, мне, голубушка! — заключил словоохотливый делец, заметив на лице Балакиревой выражение сомнения, очень понятного у дворянки, о личности царской не имевшей должного представления.
Норов приветливо улыбнулся, нисколько не обижаясь на выказанное недоверие. Замялся было сам немного. Да тут же нашёлся, обратившись к молодому человеку, из уважения к бабушке не вступавшему в речь, пока она говорила.
— Как вы прозываетесь? — спросил блокшифмейстер Ванечку.
— Иван Алексеев сын Балакирев, недоросль дворянский.
— Грамотный?
— Читать умею гораздо, в писанье не особенно дошёл.
— А окромя русской грамоты что?
Этот вопрос так был неожидан для Ванечки, что он только руками развёл, а на лице его, отмеченном живою мыслию, выразилось полное недоумение. Несмело как-то ответил он:
— А что там ещё есть?
— Как что? Читанье только тебе руки развязывает доступить к всякому знанию; прежде всего счётная мудрость, арихметика… без её ни шагу шагнуть не дерзай. Второе — география требуется, коли во флот к нам норовить будешь… в навигацки школьники по летам, кажись, опоздал уж. Сколько лет?
— Шестнадцать минуло!
— На семнадцатом лете, голубчик, дворян с одною грамотою в солдаты простые записывают, в ряды…— сочувственно, с грустью в голосе ответил умный Норов.
Как ножом в сердце ударили слова его Ванюшке и бабушке.
Заметив неприятное впечатление от своих слов, Норов поспешил проговорить скороговоркою:
— Прощенья, одначе, просим, коли пожелаете основательно все узнать про здешние порядки, милости прошу в воскресный день на шабаш к нам в Большой Морской слободе, спросите дом плотника Вахрамея Савина. Я, Иван Андреев Норов, стою у него в постояльцах. Недосужно…
— Вахрамея Савина дом, — выговорил, запоминая, Ванечка.
— Иван Андреич Норов, мой голубчик, ласковый дворянин! — выговорила Лукерья Демьяновна.
Грустная весть о нерадостной судьбе при теперешних порядках вслед за явкою на смотре, по словам Норова, заняла теперь все мысли и бабушки и внука. Она, впрочем, скрепилась покуда, приказывая вознице поворотить мимо крепости и взять по берегу Когда же поехал возница по прямой линии, пробираясь между начатых построек чуть не шагом, настойчивая Лукерья Демьяновна невольно отдалась горестным мыслям и не находила слов утешения для внука Он же, казалось, озадачен был только в первое мгновение и теперь, мирясь с судьбою, видел и надежду.
По указанию Норова найден за рекой казённый двор, отыскана ижорская канцелярия светлейшего[276], явлен[277] в ней недоросль Балакирев, и дан ему ярлык — ордер «стать на смотру великого государя в первый день сентября сего тысяча семьсот пятого на десять года, без всякого огурства». Оставалось до смотра тридцать шесть ден, и съезжать из Петербурга ни под каким видом не велено. Сиди у моря и жди погоды! Лукерья Демьяновна — баба денежная; уехать до смотру и сама бы не решилась: как оставить одного Ванечку? Рассудок подсказывал, что, коли беды нельзя отвратить, можно погадать да разузнать, как бы горшего зла избежать. Сблизиться с Норовым самое было лучшее — бывалый человек! Мог на пользу посоветовать кое-что.
Вот дождались воскресенья. Поместились довольно уютно Балакиревы в Посадской Большой, недалеко от казённого двора. На Адмиралтейский остров дорога знакомая; разыскали и дом Савина Вахрамея; доложились у постояльца: «Можно ли?»
Выбежал офицер бледноватый, с усиками, в тонком кафтане немецкого покроя, в паричке завитом да в ботфортах. Совсем не чета тому мастеровому в понитке, что при въезде наших горюш, идучи обедать, попался.
— Да подлинно ты ли, сударик, Иван Андреич Норов прозываешься? — не выдержала старая помещица.
— Я самый и есть. Видели вы меня на деле; теперь праздничаю, милости просим… пожалуйте!
И закуска на столе, и двое товарищей налицо, такие же бравые. Народ словоохотливый, в беседе душу не прочь отводить, речь полилась рекою. Лукерья Демьяновна поняла, что годы Ванечки ушли непоправимо… Малограмотному — хода нет. Разбиранье книг ни во что не ставится, а коли бы цифирной мудрости малую толику прихватил, иное бы было, коли умом-разумом не обидел Бог.
— Есть ли чем мастеру-то цифирному поплатиться? — спросил не без участия один из офицеров, увиденных Балакиревыми в первый раз теперь у Норова. — Я вот и сам в семьсот шестом году, как привезён, здесь, слава те Создателю, у шведа пленного и арихметикой и геометрией призанялся. К смотру не успел — в службу записали, а ходить к ему не заказали. Через два года перед флагманами экзамен сдал и в поручики угодил! На то знание, говорят, зело нужно и восприяти всякому досужно.
— И теперя здесь этот, как ты, голубчик, назвал… учитель-от твой?
— Здесь! И дворян берётся приготовлять к службе. По математике тем паче, и навигации нечто, и землеописанью, что географией прозывается. Вот бы вам к ему недоросля на месяц?
— Охотно, государь! Потрудитесь свести.
— С нашим великим удовольствием!
Большей обязательности и в наши дни представить трудно, а не только за полтора века с лишком со стороны совершенно незнакомых людей, когда у служилого люда царили, можно сказать, московские порядки: «Без приноса нет спроса!»
Угостив искреннее, чем по-родственному, Лукерью Демьяновну со внуком, Иван Андреевич Норов с товарищем Максимом Петровичем Ходеневым пошли их провожать и разыскивать учителя-шведа.
Это был швед Йозеф Текенс, математик-землемер. Взятый в плен в 1704 году, он оставлен был в Петербурге в качестве переводчика, зная по-русски, хотя и не так говоря, как русский человек. Ещё Корнилий Иваныч Крюйс[278] оценил достоинство честного Текенса и нашёл ему занятие: обучение счёту солдат морских. При главном начальстве Апраксина в толмачевстве Текенса не было нужды, и он поселился на городском острову и завёл публичную школу в довольно обширной светлице.
В воскресенье нашли школьного мастера дома, и он скоро понял, что требовалось, но долго отнекивался взять теперь ученика, несмотря, что не стояли за деньгами. Уступил учитель своему ученику неохотно; причина отнекиванья скоро сделалась понятною.
В школе у Текенса началась новая жизнь для Иванушки.
Швед обрусел настолько, что говорил по-нашему довольно внятно и имел, можно сказать, в своём роде дар втолковать даже олуху малограмотному положение, и процесс действия счётной науки. Он имел разве один недостаток: всему брался научить систематично, проходя курс годовой или полугодовой, а для вновь приходящих курса не начинал сначала. Кто учился два-три года, выходил толковым арифметчиком и геометристом. Для новичков, которые приходили в конце, курса, это было невыгодно. Что, например, недорослю нашему удастся приобрести в остающийся до смотра месяц? Теперь же учитель на него и не смотрит! Система — что машина.
Поступив в конце курса, Ваня каждый день слушал, как спрашивает учитель и как объясняет другим мудрость эту счётную, а понимать мог очень немногое, сам собою и по-своему. Между тем время крылатое летит, и ещё полмесяца как не бывало.
Слышно стало в городе, что батюшка государь приехал. Накануне сам на пожаре был и помогал тушить; собственноручно срубил и повалил навес, соединявший горевшее строение с калачными лавками. Только этим средством и удалось отстоять лавочки.
— Стоило ли из такой малости его царскому величеству себя труду подвергать да, чего доброго, ещё опасности пришиблену быть? — на слова хозяйки своей отозвалась Лукерья Демьяновна.
— И, матушка… грозен у нас царь-государь, да и милостив и рассудлив так, что сказать нельзя: сам во все входит. А чтобы утерпеть ему, когда горит где, самому не прибыть да не первому идти, где больше помощь нужна… это не в его обычае. Или, коли наводненье — здесь почасту бывает; поколь лёд Неву не скрепил — тоже первым государь: в воде иной раз по пояс бродит… А на его глядя, и генаральство, и офицерство, не токмя солдат, а либо посадской… вестимо дело, всякий из кожи лезет, усердствует.
— Оченно это хорошо, конечно, — согласилась Лукерья Демьяновна, — а все будто сдаётся, так-то поступать не царское дело. Дворянин выше челяди чиновной, али царедворец выше дворянина простого; а царь-от, царь… всех выше — земной Бог! Как же Богу с человеком одну вервь тянуть, одно бревно тащить, за одну снасть хвататься? Ума не приложу!
Наступило 19 августа. С утра задувала моряна, а по Неве большой бегали целыми стадами зайчики белоголовые. Барки да карбасы на причалах такой скрип подняли пронзительный, что тоску даже нагонять стали и на привычных к такой музыке обывателей береговых слобод в Петербурге. К ночи буруны усилились; ветер бешено завыл, и в полночь половина городского острова, чуть не весь адмиралтейский и все низменные берега выборгской стороны да московской очутились на полсажени залитыми водой. Царь Пётр Алексеевич был в городе и не сходил с своей верейки[279] во всю ночь. Сперва, распоряжаясь спасеньем на своём, на Адмиралтейском острову, в залитых частях, а потом, переплыв Неву, по Невке разъезжал он и сам подавал помощь.
Вот царственный взгляд русского сокола усмотрел на самом конце Посадской в крайнем бревенчатом доме, водою сдвинутом с кирпичного фундамента, копошится кто-то около слухового окошка на крыше.
Зычно крикнул державный кормчий-спасатель:
—Кто здесь?
— Я, дядюшка… Помоги, коли добрый человек!
— Как же помочь-то тебе?
— Да я спущусь, а ты прими только.
— Сей момент! Еду!
И всплеск весел принёс верейку к плававшей верхушке деревянного дома. Протянутые руки царственного гиганта ухватились за крышу, по которой легонько двигалось к краю, должно быть, тело человеческое.
Царь Пётр принял (для рук его очень лёгкую) ношу эту и крикнул тому, кто двигал: «Лезь и ты теперь!» Положив в шлюпку, как оказалось, бесчувственную девушку, поднялся ещё раз государь, чтобы помочь спасителю. Но державную помощь уже предупредил сам спустившийся молодец. Он свесил с края крыши ноги и легко спрыгнул, угодив в средину шлюпки, так что она даже не накренилась.
Взгляд великого царя, самый благосклонный, и улыбка одобрения были наградою сделавшему этот скачок. Спрыгнувший в шлюпку оказался знакомцем нашим, Иваном Балакиревым.
Царя он ещё ни разу не видал, поэтому узнать его в своём спасителе никак не мог, а по мундиру принял его за одного из офицеров, не более. Считая же так, он нисколько не стеснялся рассказать, что его привело в положение, из которого выручила своевременно подплывшая верейка.
— Когда я прибежал, ваше благородие, домишко этот самый сильно кряхтел от напору воды с реки. Из окошка второго жилья — теперь уж его не видать: под водой оно, вишь — кричал женский голос: «Помогите!» Я лодчонку тут подобрал да доску с собой; подплыл, подмостился, оконницу высадил и от девушки, от поповны, принял двух братишек её махоньких. Народ собрался уж. Я их на сушу доставил и добрым людям передал, а сам за поповной пустился… Позвал… Не откликнулась — уж вода окошко затопила. Кричать стал сильнее. Дала знать бедняжка, что на чердак влезла. Вдруг дом словно съехал с чего, бултыхнулся. Я хвать за край крыши и повис! Одначе уцепился что сил было; подкорчил ноги и очутился на крыше. Добежал до слухового оконца. Влез на чердак… Поповну нашёл. Довёл до оконца. Высаживать стал, да тут она, бедняжка, сомлела, со страху, должно быть… А милость твоя крикнул — я и отозвался!..
— Ты, парень, хоть куда молодец! Троих спас, а сам-то школьник, что ль?
— Недоросль Иван Балакирев, к смотру государскому привезён… учуся счётной мудрости у шведа Текина… да — не хочу лгать — ничего не понимаю покуда… тройное какое-то правило старшим толкует; херы ставят да пропорции пишут, а с чего это так, я в толк не возьму…
— Гм! — про себя молвил государь. — А что же, ты в арифметике хорошо смыслишь и понимаешь?
— Я-то?
— Да!
— Да, правду сказать… к шведу привели меня двадцать четвёртого июля минувшего, скоро месяц будет, а до того я про эту арихметику, веришь Богу, не слыхивал! Норов есть здесь у вас, в Адмиралтействе, Иван Андреевич, так, в Питер как приехали мы, на другой день Ильи Пророка, он встретился первым да и сказал бабушке, что без цифири здеся дворянину ходу нет. А меня в городе, в нашей стороне, ваше благородие, дьякон да расстрига-проходим научили всего читать да писать с трудом.
— Жаль мне тебя, молодец, и толк есть, и сила есть, и находчивости не занимать, да вот науки не дано, и не оценят человека как бы следовало.
Говоря эти слова, Великий Пётр издохнул от искреннего сочувствия.
— Коли впрямь уж такой грех до меня дошёл, государь милостивый, — отозвался Балакирев, — я должон на себя пенять, на тёмных баб: на мать да на бабушку… А им Бог простит, потому что темна вся сторона наша… не виноват я, что дворянином родился, да мало грамоты научился; хотелось бы, да не далось. Время ушло. В солдаты коли запишут — пусть будет и так, делать нече! — и в голосе его послышались слезы.
— Ну, хныкать-то зачем? и ещё такому молодцу находчивому, как ты… совсем нехорошо!.. и бабе хныкать непростительно. Из солдат государь делает генералов — нечего голову вешать, что и в солдаты запишут. Будешь служить и выслужишься… Как ты прозываешься-то?
— Иван Балакирев!
— Балакирев! — повторил про себя государь, припоминая. — А отец у тебя — капрал Преображенский?
— Не знаю, ваше благородие… Ушёл от матери моей да от бабушки в Москву… Я родившись был аль нет ещё, верно сказать не могу… Бабушка все знает, да сама не говорит и спрашивать не велит про отца… Оставил, говорит, нас и пущай себе живёт где знает… Мы ему не нужны, он — нам. Я и рос словно в сиротстве. И есть, может, отец, коли жив, да как бы словно нету его!
— Учись и забудь про сиротство про своё. У Бога нет сирот, а перед царём — все сироты.
— Да я не кручинюсь ни о чём, ваше степенство: что будет — то будет… Коли и тяжко покажется житьё в солдатах — потерпим… Привыкну, авось и не пропадём…
— Ещё раз говорю: молодец, юрок! Ещё бы тебе пропадать!
Подплыли к ближней пристани. Хотел староста с Посадской улицы крикнуть было: «Государь!» Но кивком державной головы Пётр предупредил его вовремя, и он только ус закусил, принимая бесчувственную поповну.
Иван Балакирев, выходя из шлюпки, поблагодарил за приятство и за милостивое слово своего спасителя. В ответе государь потрепал его по плечу и молвил:
— Я надеюсь, не только не пропадёшь ты, крепко надеюсь, что в тебе прок увижу… А в случае нужды помочь охотно готов. Как не помочь такому юркому!
Хваля Ивана Балакирева, государь вспомнил про отца его неспроста. Службу Алексея Балакирева помянули в представлении из Воронежа. Назначенный в Азов по царскому повелению не как ссыльный Алексей Балакирев в чине сержанта оставался на службе, без должности. При начале Северной войны[280] первые четыре-пять лет полки держали в Азове в достаточном числе. Дополняли кадры новоприбытными людьми, и ученье этих новичков лежало на Алексее Балакиреве, который в обученье строевому уставу был самым опытным и ловким наставником. Местное начальство в лице губернатора даже относилось к полезному деятелю благосклонно. Но эта благосклонность могла для него сделать очень немногое и никак не могла удовлетворить главное желание бывшего гуляки: уехать даже на самый короткий срок в Москву. Побывать там нужно было Алексею просто для снабжения себя деньжонками. В Азов доходов с дядиного наследства не высылать домашний приказ царицы Марфы Матвеевны. Пока наезжал временами граф Федор Матвеич Апраксин, у него кое-что мог получить Алёша, а с переезда в Петербург генерал-адмирала сержанту-учителю строевому, кроме оклада жалованья, ничего не стали давать. А с сержантским окладом и при дешевизне хлеба в Азове пришлось лакомке в былое время Алексею Гаврилычу питаться по-монашески. Пока дело было — магарычи кой-какие бывали, нет-нет и перепадёт… ещё сходились концы с концами. Но вот высылать в Азов новые подкрепления не для чего стало. Дела нет, службы нет, и корм стал скудный.
Сдавать, наконец, приехал туркам Азов Федор Матвеич Апраксин, по договору. Всех наших вывели в Тавров и в Воронеж. Дальше Воронежа не велено было ехать и теперь Алексею Балакиреву. Тогда он в упрос стал просить графа Федора Матвеича взять хотя его верноподданничье челобитье государю, чтобы доложить, благой час изобравши. Этим путём вот и дошло наконец челобитье сержанта Алексея Балакирева до рук монарших. А прочитал его государь накануне перед наводнением. Прописано было в челобитье все, что только мог человек сам считать невольною виною своею. Читая, припомнил государь памятный случай, и что-то неприглядное всплыло в воспоминаниях прошлого.
— За посмех услан человек, выходит. Клевета по корыстолюбию… Он правду писал… вымогательство канальское… Сами вызвали… а стал спрашивать, отперлись… бросили предлог хитрый: его шаловство… Простиранье глаз куда не следовало… Пересуды… Похвальбу извести… И все это сплесть по злости… корысти ради проклятой… Бог найдёт виновников… Обманщица сама попалась в тенётах своих.. Суд Божий над Кенигсеком раскрыл неведомые пакости.. Все прошло и забыто… Бог не хотел смерти грешника и Балакирева через наносную беду, как знать, избавил от больших преступлений… Оставь я его в Москве, чем бы могли эти люди его сделать?! Уже не воронежским шашням чета была бы в Москве…
И погрузился в глубокую думу царь Пётр Алексеевич. Долго ходил, думая, государь по своей токарной, ни на что не решаясь. Наконец сел и положил резолюцию на челобитье:
«Потребовать к полку, в Москву… майору, как явится, дать занятие по силам. Не хочет служить — не принуждать. С одного барана две шкуры не дерутся».
И опять погрузился в думу государь. Подумавши, зачеркнул первую резолюцию и написал просто: «К Москве быть по просьбе его, не мотчая. Сами увидим дальше».
Подписал так долго заставившую думать просьбу и занялся другими делами государь.
Наутро — новые текущие дела. Вечером вода прибыла и узнал государь сына просителя. Мальчик произвёл выгодное впечатление, как мы знаем, в дальнозорком государе, редко обманывавшемся в людях.
Воротясь к себе и переменяя измокшее бельё, вспомнил Пётр, что, никак, челобитье с резолюциею ещё у него лежит. Утомлённый монарх поторопился теперь же отыскать её и успокоился только, передав денщику для отсылки.
Наступило первое число сентября. Потянулись толпами дворяне на казённый двор. Это было обширное одноэтажное фахтверковое здание, с выстланным досками двором в форме правильного четвероугольника. Выходил этот двор одним фасом к стороне посадской, а другим — к Гостиному двору. Двор казённый вместить мог больше тысячи человек, а потому и выбран был местом смотра дворян, так как недорослей предстояло представить царю зараз целые сотни. По указу минувшего года не одни юноши на возрасте должны были на смотр являться, но и дети шести-семи лет. Эту мелюзгу велено являть и билеты брать для желающих на свой счёт образоваться, а у кого средств не хватало, те на царский счёт в цифирные и навигацкие школы зачислялись.
И ползли и лезли гурьбы русских дворян, одетых во всевозможные костюмы; такие даже, которые прямо годились бы на машкарады царские, где весь некрещёный люд себя другим показывал и сам других высматривал. Отслужившие дворяне выступали во всех головных уборах, от горлаток старинных до собольих новгородских шапок с затыльниками и стрелецких шлыков. Они вели по двое, а иной по трое подростков в саксонских кафтанчиках, а сами были одеты в ферязях[281] парчовых покроя времён царя Алексея или по меньшей мере Федора. А на женских головах все уборы тут были, до татарской кики и малороссийского кораблика с гасами и меховыми околышами. Были и обоего пола инородцы, кто в ермолке, а кто в калмыцкой тюбетейке. Красовались тут русские люди и в чугах[282] внакидку, в терликах[283] с опоясками и в широчайших халатах. Все эти дворяне прежде московского, а ныне Всероссийского государства самолично представляли воочию библейское смешение языков.
Немецких кафтанов, как можно догадываться, на взрослых мужчинах почти было не видно. Носили их люди, состоявшие на службе и не могшие с неё отлучаться. За них должны были являть чад своих супруги-сожительницы. Прекрасный же пол при Петре I, как известно, не выказывал враждебности новым порядкам и не отказывался надевать немецкие платья. Оттого, при обилии мужских стародавних покроев платья, сравнительно с ними женское население, кроме татарских княгинь, щеголяло современными костюмами, немецкими и французскими. Даже на двух жёнах русских генералов, правда, уроженках московской Немецкой слободы, надеты были теперь высокие фонтанжи[284]. На нескольких полковницах красовались шёлковые роброны с фижмами[285], а офицерские жены не представляли никаких отличий от бюргерш немецких из Лифляндов.
Надеясь на близость своего жилища, прибыли попозднее помещица Балакирева с внуком и уже остановились от ворот в двух шагах, дальше двинуться было нельзя. Посредине поставлен был стол большой. За ним сидели генералы, а потом прибыл и царь около полудня.
Когда раздался шёпот «царь прошёл», — бабушка, увидевшая высокого смуглого офицера в немецком кафтане, спросила Иванушку «Каков тебе показался батюшка-то государь?»
— Да где ты его видела? — пренаивно спросил внук.
— Да мимо же нас он проходил, ещё, никак, на тебя глянул, а может, и на другого кого осклабился малость!
— Не видал, бабушка, хоть убей. А глянул на меня приветливо знаю я кто. Это, знаешь, тебе я говорил, тот самый офицер, что помог в воду большую, ономнясь, спасти поповну.
— То-то и я сама подумала, какой это царь, коли для проходу ему дорогу не расчищают. Палочников не видно, идёт один-одинехонек, да, видно, запоздал; осторожно оттого и пробирается, чтоб начальству невдомёк.
И оба остались довольны своим решением.
Посередине двора между тем своё дело делается. Явленного переспрашивают о летах да учен ли чему и все в список вносят. Опросят, запишут и пропускают на другую сторону к выходу, как старшой положит резолюцию.
Передние ряды подвигаются дальше. Со своим рядом — и Балакиревы. Вот и один ряд перед ними остался всего. Видно как на ладони, что перед столом деется: как спрашивают, записывают, назначают что-то и отпускают.
«Тот офицер смуглый между генералами сидит, как персона, несмотря на то что те в лентах, а он ни с чем. Да и кафтанчик-от поношен как, у сердечного! А должно быть, много значит его слово. Другие словно предлагают, а он разом булькнет скороговоркой — и, видно, так и сделают из уваженья к нему. Кто же бы это был такой, заслуженный и ещё не стар из себя?» — думает бабушка. Ванечка совсем повеселел и, бодро опередив двух братьев, увальней каких-то, подступил к столу.
Не успел он ответить на вопрос записывавшего, как смуглый офицер и молвил:
— Балакирев Иван это. Я его знаю сам. Малый юрок. Будет прок! Не дошёл покуда в грамоте, так чтобы мог дойти, по указу в полк записать и в цифирну школу ходить приказать. Пусть поймёт по ряду все, а тогда и за тройное правило примется. — И сам улыбнулся таково приветливо.
— В какой же полк прикажете, ваше величество?
— В здешний — Невский; по соседству он с бабушкой там живёт.
Бабушка как стояла, так и грохнулась оземь. Сильно поразила её заботливость о Ванечке государя самого.
— Видно, на счастье наше сам он подлинно малому помог поповну спасти? — рассказывала она потом хозяйке, придя в себя.
На казённом дворе, пока суетились да приводили в чувство старушку, остальных дворян явили, учинили опросы, досмотры, и государь уехал.
Глава V. ХОТЬ ГОЛ — ДА ПРАВ
Об Алексее Балакиреве приказ на Воронеже получен не скоро, но выполнен немедленно по получении.
Сержант призван к губернатору, и объявлена ему царская резолюция с подорожного до Москвы.
— Не с чем мне подняться, милостивец. Нельзя ли по службе послать али в долг до Москвы на проезд выдать?
Губернатор был в нерешимости. О сержанте слышал хорошие отзывы, а сам собою послать не считал вправе. Однако, прочитавши три раза царское решение, стал понимать, что всякую милость, сержанту оказанную, примут без гнева, коли приказ дан милостивый. Вот он и склонился оказать помощь.
— Так и быть… пошлю я тебя наспех в столицу к царскому величеству, не в Москву, а в Питер сперва, с делами счётными.
— Будь отец благодетель, Родион Иваныч! Который год безвинно стражду… Может, и милость получу, как Сам увидит…
Была уже осень. Как к Москве доехал Алексей Балакирев, и снег выпал. Толкнулся в Царицын приказ в Питере, говорят, при её величестве Марфе Матвеевне на её государском дворе. В адмиралтейскую контору — тоже в Питере, говорят, при адмиралтейском дворе. Там и адмиралтеец живёт сам граф Федор Матвеич. К Кикиным во двор завернул. Только Иван Васильевич в Москве случился. И то слава Богу. Признал сразу Алексея.
— Я к братцу бы вашему, к Александру Васильичу, нужду бы имел.
— Какую?.. Готов за брата я отвечать.
— Прихватить на шубёнку думал. Студено стало. Готов, как получу за прошлые годы, с лихвою отдать.
— Что за счёты?.. Шубу свою дам, коли хошь. Любую. А подождёшь дня с три — вместе поедем. И мне по делам нужно… По старой памяти не чуждаюсь.
И отлегло от сердца у Алёши.
Накормил, напоил, успокоил по-родственному словно Иван Васильевич Кикин Алексея. Беседа пошла о старине.
— Жалели мы, Алёша, всем кумпанством тебя, а помочь, верь Господу Богу, не мори. С чего тогда Сам скрутил — никому недоведомо.
— Да, видишь, государь мой милостивый, как смекнул я, в самый вечор ещё накануне высылки меня в Азов Вилька поганец, Анютки Монцовой братишка меньшой, взвёл на меня напраслину, что я капральский чин через сестру его получил, огурством; а деньги, вишь, ему платить не хочу: Как крикнул он это самое мне — вишь, Матренка его подослала, — а царь тут и есть. И слышал эти слова. Меня тут же отослал домой. Спрашивал, зачем я здесь? А наутро… вот что… ведь Сам, как говорили солдаты мне, подкрался и простоял довольно. Все вслушивался, как учу. Не нашёл ни в чём вины. Самому велел ружьём проделать. И за то похвалил, а выслать — выслал.
— Ну, как тебе там было?
— Нелегко, конечно… И голодать иной раз приходилось… А впрочем, ничего… Тоска пуще всего. Веришь ли, Иван Васильевич, не раз братца твоего вспоминал, как отсоветовал чинов добиваться — говорил, пророчил горе грядущее… И все как есть сбылось.
— Авось в офицерство теперь полезешь?
— Ни-ни! Закажу и другу, и недругу чести этой самой, прости Господи, искушенья, добиваться. Не хотелось бы капралом быть, жил бы и теперь с Андреем Матвеичем… и разлюбезное бы дело.
— Почём знать, лучше ли было бы? Ты Андрюшку, готов об заклад биться, не узнаешь. Пьяница стал, никуда не гож. Со своим князем-папой до того уж дошли, что скверно иной раз и глядеть на него… Обрюзг, оплешивел, еле видит — бельмы жиром заплыли. Трясётся иной раз с похмелья, что старичина в восемьдесят лет, а есть ли ему пятьдесят, сомнительно. А ты — молодец хоть куда. Пахмур маленько, да, нече греха таить, и злость заметна-таки… А то хоть сейчас за стол сажай… Молодец! Обабить тебя — так робят целую избу наплодишь.
— Куда мне от живой жены жениться? Да и сын, слыхал, вырос… На смотр, никак, угодил уж… О-ох! Годы, мои годы! Много воды утекло… Опытней стал и, понятно, злее… Добром помянуть нечем мне свою молодость. И я беспутничал, и тянули меня на беспутство… Теперь не то на уме. Каюсь во зле содеянном, как подумаю, а с ворогами теми, что толкнули меня на дорогу теперешнюю, вовеки не помирюсь… Попадись мне Монцовна которая или Вилька-поганец, не знаю, как сказать, удержу ли себя, чтобы зла не наделать…
— Ещё бы… столько перенести по злости этих Монцов непутных, Филимон один из этой семейки парень был хоть куда, да Бог взял доброго человека… Под Полтавой рану получил в бою багинетом[286] шведским. И с той раны чах да чах, и года с два Богу душу отдал. А Вилька, твой обидчик, чего доброго, далеко пойдёт, ко двору царь его взял…
— Что ж, при сестрице состоит?..
— При какой?
— Известно, при Анютке…
— Э-э! Да ты, брат, сидя в Азове, ничего, видно, слыхом не слыхивал, как и что на Москве деялось.
— Да откуда же?.. Иной и знает, да в беседу с ним не вступишь. А с кем зубы приходилось точить — тёмный люд, до одного. И про Москву-то редкий слыхивал, что это за зверь.
— Анютка отсидела взаперти годков пять-шесть на покаянье за свою дурость, коли не называть художества её как бы следовало, впрямь… Да потом замуж таки вышла за пруссачка[287]… и померла уж вдовой, год с походцем будет… А Матрёна за комендантом была[288], в Эльбинке… А Вилимушку державный теперь отличает, и малый, хоть в ушко вдевай, стрёма такой и ловчак… Одно нехорошо, такой красавец из себя, а кулак хуже мужика. Облунит хоть кого и так подлезет, что просто, братец ты мой, сам не заметишь, как мошна раскроется и что в ней покрупнее Вилимушке дашь на нужды его. Хапает-хапает, а вечно жалуется, что без деньжонок. По весне вожжался с коньком, всем навязывал — купите. А кончил тем, что и конёк остался, и ещё пару рысачков прикупил, бедняжка.
— Каким же чином он… ворог мой, теперь?..
— Генерал-адъютантом от кавалерии[289].
— При Самом, говорите?
— При Самом.
— И через его допускаются к государю челобитчики, буде… кому желательно предстать Самому на очи?
— Нет… Денщик есть дневальной. Как придёт кто, он уж пойдёт скажет — пришёл такой-то и то-то просит. Выслушает государь и, коли досужно, тогда же велит пустить… А недосужно — после… А отказу челобитчикам не бывает… коли не на Сенат жалуешься, а на воеводу, что ль, аль там пониже…
— А я, может, челобитчиком явлюся на того, кто всех повыше…
Иван Васильевич Кикин расхохотался. Погрозил пальцем и примолвил:
— Только не моги сказать, что я тебя учил так далеко залетать.
— Какие мне нужны учителя?.. Слава те Христу, пятнадцать годов капральство веду.
Тут пришли незнакомые Балакиреву лица, и разговор принял другой оборот. Двое из пришедших были старые отставные дворяне. Возвращались из Питера через Белокаменную, чтобы оставить по записке, данной на смотру царском, в арифметических школах недоростков-внучат.
— Чтобы провал взял этот самый Питер непутный! — разразился старик один, передавая Ивану Васильевичу своё горе. Его обокрали на постоялом дворе, а комиссар по наряду обругал и прогнал самого потерпевшего, обозвав его и пьяницею и бродягой.
— Мудрёное дело, голубчик, с тобой учинилось, говоришь… В Питере в самом откуда взять выборного-то? Ты мне скажи… может, не в городе, а на дороге… где ни на есть около Новагорода.
— Да не все ль едино?.. Мне не легче, что в вашинском Питере, в старом аль новом городе… Знаю я, что подголовок унесли, и теперь от своих-от животов должен чуть не Христовым именем назад ворочаться. Спасибо Еремею Игнатьичу, — указывая на товарища, промолвил он, — везёт, по знаемости, на своё… за то с благодарностью, с лихвой отдам.
— А я так довольным и предовольным себя почитать должен за питерску поездку… На смотру, как внука являл, государю бедность свою без запинки высказал… как воевода вотчину мою хотел оттеребить за то единственно, что во дворе грамотки сгорели и выписи все. Одно слово — хапуга! Выслушал государь милостиво. Кормовые велел давать внуку в школе, пока не поправлюся, и наказать уж послали не трогать меня, старика, а пусть разряд выправится. А в разряде все есть. Был уж я, и показали записи тамо все; и противни[290] дали закреплённые. А про воеводу розыск начался. Истинно Божья благодать царь-от нынешний, прямой сын кротчайшего и милосливого Алексея Михайлыча. Как родитель, сам выслушивает и переспросить себя позволяет… И просить нечего тебе о допуске… Дошла очередь до тебя — о внуке да о себе все высказал. Велел в токарную зайти да наказал секретарю своему, Алексею Васильичу, со слов моих записать и доложить не мешкая.
Алексей Балакирев слушал и молчал. Только вздохнул, когда Еремей Игнатьич про доступ заговорил и про написанье бумаги для доклада его царскому величеству.
«Попробуем-ка и мы такожде! — решил он в уме своём. — Как знать, может, и часть своих наследственных после дяди ворочу и доход отдадут Апраксины за полтора десятка годов… Вот бы важно было-то! Тем паче на голые зубы».
— А коли секретарь что не может, то у царя есть зоркий генерал-адъютант, Павел Иваныч Ягужинский, — высказал Кикин.
— Не тот ли Павел Иваныч, что у Монцовых на посылках бывал? — спросил Балакирев.
— Он самый.
— Гм! Да не узнает, чай, меня… Сошлись-то мы всего единожды, как угостил я его, сердечного… Павлуша был тогда, а теперь, вишь, енарал, говорите…— с сомнением в голосе высказался Алексей Балакирев.
— Он не особенно зазнается, а впрочем… что говорить — тонкий человек.
Затем разговор перемежился. Закусывать стали. Калякали старики о прошлых временах, а слушать про времена царей Федора да Ивана, скорбного главою, Алёша не находил интересным и спать попросился устатку ради. Отвели его в светёлку с лежаночкой. И завалился служака на боковую с полным своим довольствием.
Утром он принялся хлопотать по делам и возвратился только на ночлег к Ивану Васильевичу, который и сам весь день в хлопотах был, но, слава Богу, все кончил. За вечерею сказал Алёше: «Завтра едем, коли хошь, не откладываючи».
Для человека, ломавшего такие концы, как до Азова, дорога до Питера по первопутку за пустяк показалась. Ели вволю, а сон от нечего делать к сытому сам приходит; так что проспали и Алексей Гаврилович и Иван Васильевич, почитай, чуть не всю дорогу. Как пришлось вылезать из саней с покрышкой, догадался Алёша, что, видно, уж доехали.
Так и было в самом деле.
Приехали уж темно. Зги не видать, и какая-то каша липкая сверху падает.
Обогрелись — да известно, что делать в ночь — поесть да спать лечь.
Утром Александр Васильевич Кикин ранёхонько, прослышав, что брат приехал, прискакал к нему.
Иван из-под одеяла руку подаёт.
— Здорово ли все?.. Изломало, что ль?
— Нет… ничего! — зевнул и вставать стал.
— А это кто у тебя? — спросил Александр Васильевич брата, увидев на лежанке чью-то голову.
— Отгадай! Знаком ведь тебе.
Вглядывается внимательно в спящего Кикин, припоминает:
— Знакомое, правда, лицо… Только не возьму в толк, кто бы это?
— Алексей Балакирев.
— Может ли быть? И жив и здоров! Ах он разбойник!.. Вишь, как подкрался! — и он бросился будить спящего и душить его в своих объятиях.
Нужно ли досказывать, что для приятелей пятнадцать лет были как бы вчера? После первых излияний взаимной радости начался между Кикиным и Алексеем Балакиревым разговор о деле.
— Позволено в Москву приехать, а я упросил Кошелева до Питера дать посылку и должен здеся грамоты отдать и счётные книги… Куда нести, научи, Александр Васильич.
— Счётные книги воронежского губернатора к нам, в Адмиралтейство; я сам принять могу и расписку дам. А коли посланы указы, покажи суму, скажу, куда что.
Отомкнув суму ключиком, поданным Балакиревым, Александр Васильевич одни пакеты в военную канцелярию при Сенате велел отдать, другие — светлейшему, дневальному. «А эти, — отобрав три куверта „в собственные руки“, — сам ты явись и передай государю лично».
Дневальный, присланный Кикиным, проводил Алексея во все места и довёл до крылечка царской токарной, из которой в этот день не выходил государь в Сенат из-за недомоганья. Вошёл посыльный через сенцы в переднюю сторожку и доложился денщику:
— Из Воронежа от губернатора к государю.
— Пусть войдёт сюда! — ответил из-за стенки царский голос.
Крепко забилось сердце посыльного. Вошёл, подал и упал на колени.
— К чему это?! — крикнул недовольный государь, сидя перед шахматною доскою. Играл Пётр I, по случаю нездоровья, с обычным партнёром своим попом-биткою, с Иваном Хрисанфовым.
— Я божеских почестей себе не приписываю, ты знаешь, отец Иван, а неразумные все передо мною норовят в ноги да в ноги…
— Прошу отпущенья невольной прошибности! — молвил Балакирев. — Челобитье есть у меня до милости твоей, государь… Может, и не должен бы в Питере быть, коли велел себя мне в Москве дожидать…
— В чём прошибноств; не вижу, коли наслали… Да ты кто?
— Раб твой нижайший, сержант Алексей Балакирев!
— И подавно взыскивать не должен, хотя бы и была вина… за прошлую, лишнюю тяготу…
— А та самая тягота, государь, почитай, нищим меня сделала… С посылки в Азов ни шелега не выслали мне с Москвы доходу с наследственных деревень — из домового приказа царицы Марфы Матвеевны… А я поступился одной частью её величеству, чтобы остальным владеть самому, без хлопот об управленье…
— И невестка, выходит, корыстовалась твоим? Быть не может, не такая женщина!.. Она добра и разумна.
— Послухом ставлю, что не лгу, Александра Васильича Кикина… Он про то ведает. И получал я от Андрея Матвеича Апраксина, пока был в Москве.
— Ну, так… Андрей, может, запамятовал. Он известная рохля. Да коли недодано, будь спокоен, не пропадёт твоё. Сегодня же велю, чтоб, не задерживая, рассчитались. Кроме денежных дел нет ли других?… Ты мне прямо скажи!
— Мать у меня, хоть и в совершённых я летах, да владеет имением отцовским…
— Ну… с матерью сына пусть суд рассудит, коли тебе желательно… Могу приказать… Только не советую. Какой ты будешь сын, коли матери жить, вероятно, недолго, а ты её потревожил?…
— Да моё, государь… А у ей есть своего немало, собственного… Довольно с неё будет.
— И ты не лжёшь? Смотри! Сделать справку велю… Будешь ты виноват, все можешь потерять… Лжи насмерть не терплю…
— Коли повелишь, ваше величество, разобрать моё дело с матерью, так нужно нам, мне и ей, быть вместе в Москве, потому что дело разбирать приходится в Преображенском… Случилось, что был я с дядею в Верхососенских лесосеках и помилован тобою, государь. Дело разбирала и именье дяди в известность приводила Преображенская канцелярия… там все и известно.
Государь встал. Подошёл к столу и написал на лоскутке бумаги три строки, подписав имя своё.
— Возьми и подай в Преображенском князю-кесарю моему, Федору Юрьевичу[291]. Он вас рассудит с матерью. Что я мог, то сделал для тебя. Ступай!
И вышел совсем повеселевший Алексей. От царя прямо к Кикину полетел. На самом на пороге кикинских палат толкнул он неосторожно молодого офицера.
— Как смел ты забыться до того, что не только честь не отдал мне, как офицеру, а ещё толкаешься?! — гневно крикнул на Алексея обидевшийся офицер. — Я тебя, бездельника, под арест сейчас!
Алексей молчал, а офицер все больше кипятился. На крик вышел сам хозяин Александр Васильевич и, узнав, в чём дело, принял на себя роль примирителя.
— Не погневись, Вилим Иваныч! — кротко говорил он генерал-адъютанту Монсу. — Это он ненароком… Балакирев ко мне шёл, и, вероятно, приём у государя погрузил его в думу; так что он, не думая нарушить устава, провинился, толкнувши твоё офицерство.
При слове «Балакирев» Вилим Иванович несколько опешил и после короткого молчания сказал, что он готов извинить неучтивость сержанта за то, что он приезжий из глуши.
А Алексей Балакирев чувствовал себя совсем не в таком настроении, чтобы легко забыть, как он думал, несправедливую придирку к себе того мерзавца Вильки, по милости которого прошколили его в ссылке полтора десятка лет. От вскипевшей злости он не мог говорить, но глаза его показывали гнев, готовый перейти все границы благоразумия.
Глядя на обидчика-сержанта, Монс чувствовал себя тоже далеко не спокойно, замечая, что он готов на многое решиться, если протянется ещё эта сцена, и сам поспешил уйти, не оглядываясь.
После ухода его Кикин насилу успокоил Балакирева, гнев которого разразился в угрозе:
— Ну! будь что будет… а Вильку этого, что мне при всякой встрече пакости чинит, я больше сносить не могу… Стану же и я его допекать чем придётся… А уж доеду когда-нибудь!
И при этих словах от бешенства черты лица обиженного искривились неестественно и губы задрожали как в лихорадке.
«Доехать», казалось, теперь случая не могло подыскаться. Это не успокаивало, однако, злопамятство Алексея. Он, может быть, и прежде имел в душе зачатки этих злых чувств, но пребывание в Азове развило их, конечно, ещё больше. Злопамятство ведь, а не что иное, подсказало и просьбу Алексея у царя: дать суд с матерью ему у князя-кесаря.
Мать вызвали в Москву и держали её там до окончания дела. Ваня, предоставленный самому себе, казалось, совсем забыт был бабушкою, редко к нему писавшей, еженедельно ожидавшей отпуска. А разбор протягивали да оттягивали, обещая скорое разрешение при каждом спросе. Из недель составлялись месяцы. Из месяцев сложился год, и другой, и третий почти на исходе.
Царское решение и особенно милостивое обращение в страшную ночь наводнения делали Ивана Балакирева в его собственных глазах не простым рядовым, назначенным век тянуть лямку без выслуги, как целые тысячи дворян малограмотных или совсем безграмотных. Назначение в Невский полк было в своём роде уже милостью. Полк этот, нёсший нетяжелую сравнительно гарнизонную службу в Петропавловской крепости, оставлен был бессменно в Петербурге. Солдаты-однополчане застроили четыре слободы, названные по имени бывшего полковника Колтовскими. Досугу у солдат Невского полка было много, и молодой дворянин — а их в полку приходилось две трети, — буде учиться бы пожелал, имел к тому полную возможность. Живя же близко на Городском острове, можно было найти учителей и кроме того шведа, у которого в месяц, предшествующий смотру, наш Ванюша чуть было не прошёл тройное правило, не зная сложения. Какой бы толк мог выйти из молодца, если, напрягая только слух и ум при опросах да объяснениях старшим ученикам, успел он схватить составление уравнении.
Взрослые дворяне учились у шведа почти все, не только солдаты Невского полка, но в досужное время и подьячие. Из выучившихся у шведа года через два всех царь выбрал и послал в Кенигсберг: у немцев праву учиться. Иван Балакирев был малый живой, как мы знаем, и с таким толковым умом, что, к примеру сказать, с его бы прилежностью легко он мог всю науку перенять и офицерство заслужить почти шутя. А там и в чины прошёл бы без задержки, да, на беду его, последовал отъезд бабушки: Лукерью Демьяновну потребовал князь-кесарь в Преображенское. А без неё у внука завелось товарищество. На первых порах без бабушки, вызванной в Москву для разбора претензии сына, загрустил Ванюшка не на шутку, оставшись как перст на чужой стороне. С тоски ему и в школе у шведа не сиделось; чтобы размыкать горе, пустился он с тоски шляться по городским улицам. Прогулки такие понравились. Случилось же так, что его службе учить отдали дядьке Семёну Агафонову. А этот Семён был малый на все руки: хозяйку посылал в ряды оладьями и трешневиками торговать, а на дому съестное на продажу готовил. Одиноких же да исправных солдатиков-дворян, что под началом у него были, он просто к себе на постой поставил, из найма. С соизволения начальства продовольствовал он их, разумеется, как умел. Ну, постояльцам его было, понятно, и вольготней, чем другим у прочих дядек. Агафонов поучит их дома часа три с утра, не больше. Да и учтиво, просто сказать, батога в руки не берет; а потом и шабаш на целый день. Балакирева Ивана первого Агафонов поставил к себе. Малый наутро стал проситься к шведу ходить, и за такую льготу бабушка договорилась дядьке полтину целую ежемесячно вносить. Ему и ладно.
— Изволь, сударик, и так можно; после обеда, как парни выспятся, около вечерен вас поучу; все едино — ученье! На дворе можно и за сумерки прихватить, с мушкетцем… Да все это, братец, — говорил он, — олухам только в диковину аль за премудрость невесть какую кажется. А человеку со смыслом как команды не упомнить? Али как мушкетец не обыкнуть откидывать? Ей-Богу! недели в две, коли каждый день со всяким проделать раз по тридцать, всенепременно откинешь исправно. Сама рука уж ходить приучится, так что любо, да два! Стрелять вот, нацеливаться — потрудней; да и тут сноровка одна, коли бельмы не слепы да не косят!
Мудрено действительно не согласиться с таким логическим заключением знатока, каким был дядя Семён, не забивавший в голову своим ученикам такого тумана, как аракчеевские офицеры перед французом[292]. Они вместо того чтобы растолковать, неумелому норовили прямо в зубы. Сами же зачастую в толк не брали, для чего не учить, а мучить так людей, с позволения сказать, их послали набольшие. А толк больше всего требовался при петровских порядках, и артикул военный не казался тарабарской грамотой, а необходимым знанием, чтобы в бою неприятеля бить, а себя и своих оборонить. Гусиные шаги да вытягиванье носков ещё не ухитрялись вводить немецкие теоретики шагистики, и выправка солдатская щегольством аракчеевщины, может быть, не отличалась, да зато и не делала из человека машины, двигающейся по команде под рожок али барабан. Из солдат выходили у преобразователя люди годные не на одни полковые раскомандировки или приёмы амуниции. Они везде, куда ни пошлют, честно и разумно умели комиссию исправить и иной раз выполнить, раскинув умом-разумом, кстати и на пользу дела то, что в инструкции не писалось, да на деле нужным оказалось. Ванюша у такого учителя недели в две действительно все солдатское нянченье с мушкетом вдосталь спознал. Он после повторенного два раза испытания вовсе не стал требоваться Агафоновым каждый день, а только раз в неделю — на повторение эволюции вразбивку, и не всех по ряду, а двух либо трех приёмов на выдержку. Стрельба да нацеливанье с пыжом одним самому Балакиреву сперва даже так полюбилась, что он, как праздника, дожидаться стал четверга, когда Семён своё капральство уводил с ружьями на перевоз. Высадившись с ними за Невой, учитель практиковал их в стрельбе за гошпиталями, на Адмиралтейском острову, на пересеченье трех просек. Это было на краю Глухого Ерика, что при Екатерине II вычищен, выровнен, одет в гранитную оболочку набережных и назван Екатерининским каналом. Просеки эти сходились на бывшей лужайке, довольно топкой и низменной, уходившей во мхи налево; а направо от просек была травянистая прогалина. В прогалине недавно ещё видимо-невидимо было дичи всякой. Семён для упражнений учеников своих и выбрал окрестности трех просек не без разумной цели — после пыжей в стрельбе и дробинки пошли в дело. Дробь для ученья, как и порох, дядькам давались казённые от полку. А учебными зарядами, дробью могли солдаты-ученики иной раз и в птицу угодить. Расчёт на даровую дичь был не только вероятный, но несомненный. Да и сам Семён был страстный охотник и меткий стрелок; за то его и в учителя другим поставили. Поэтому для самого Семена учебные четверги были в своём роде бенефисы охоты. Балакирев научился метче других стрелять, и с дядькой завелась у него тесная дружба, ради которой всякие вольготы ему оказывались, и дальше караула он никуда не назначался. Да и в караулы приходилось ходить не часто.
Врагов и завистников у Вани Балакирева не было, а все благоприятели скорее. Даже в полковой избе подьячие, получая подачки, готовы были сделать ему всякие одолжения. Один из них жил в доме у священника церкви Рождества Богородицы, у того самого, которому во время наводнения грозила серьёзная опасность гибели детей. К подьячему, знакомцу своему, Ваня не один раз захаживал; мельком видел и семью хозяина. Батюшка и домочадцы все уже Балакирева признали: постоялец пересказал им, за что и как Балакирев узнан был на смотру самим государем.
Случилось после этого, что раз Ваня пришёл, когда подьячего дома не было, а изо всей поповской семьи была лишь старшая поповна. Сказав, что постояльца нет, застенчивая девушка, пересилив себя, сочла себя обязанною поблагодарить своего спасителя.
— Тебе, Иван Алексеич, обязаны мы все, а я больше всех, — сказала она, опустив глаза.
— Бог да государь спасли, а я тут ни при чём, — ответил Ваня.
И глаза молодых людей встретились. И тот и другой тотчас замолчали, почувствовав странное ощущение: охоту говорить и невозможность раскрыть рот. Словно гири нависли над губами, не давая разжать их. Не одно смущение, а робость, и жар, и занявшееся дыхание тут были.
Дашу, так звалась поповна, Ваня ночью и в бурю мог рассмотреть дурно. А днем, как признала его, показалась Даша молодцу больше чем привлекательною. Прибавьте вынесенное новое ощущение, молодость, одиночество, много праздного времени. Да и школа шведа прискучила: счетная мудрость легко давалась, а до геометрии дошло — с чего-то заколодило словно. Может быть, рутинная метода, требовавшая заучиванья спервоначалу определений взубряжку, отбивала охоту к дальнейшему изучению мудреной науки. И интересны ли вообще азы юноше, физически развитому вполне, когда мысли бегут в другом направлении, сбивая учение? Так или иначе, но наш молодец математические высшие регулы не намеревался брать с боя. Уверили уже его, что и с арифметикой можно заполучить офицерство. Дальше же думать, казалось ему, ни к чему. А тут Даша, поповская стала чаще попадаться да заговаривать с Ванею свободнее после первого объяснения. Солдат-дворянин попадье дурным женихом не казался. Вот, улучив минуту, когда Балакирев с подьячим, никак, по грибы, по ягоды сговаривались, хозяйка-попадья пригласила обоих друзей к себе на половину: хлеба-соли отведать попросту. Пришли — и знакомство завелось полное. Попу Егору Иван Балакирев больно ладным показался. А спросы о родне да о ковровской стороне открыли новые еще достоинства молодого человека: он получал один наследство после пропадавшего отца и бабушки, помещицы денежной. Молва о ней по всей Посадской улице ходила одобрительная как о заправской, расчетистой и почтенной помещице. Балакирев не понимал значенья ни окольных, ни прямых расспросов о бабушке да есть ли батюшка и матушка, братцы и сестрицы? Не понимая же, к чему это, не придавал он словам и никакого веса, но с удовольствием принял приглашение бывать у батюшки запросто, когда вздумает. Даша уже много значила в юношеских грезах случайного воина, у которого честолюбивые мечты, если они и были, то ограничивались теперь, как мы заметили, чином поручика, не выше. Ученье же, сопряженное с усилиями мозга, уже потеряло заманчивость, тем более что, освоившись с солдатскою службою, он понял, что в ней нет ничего не только страшного или обидного, а, напротив, есть нечто и приятное даже. Генерал-губернатор князь Меншиков петербургский гарнизон строго запретил посылать на какие бы то ни было работы, выходившие из круга прямых военных обязанностей. Всю тяжесть этих обязанностей полки, постоянно здесь расквартированные, вынесли уже в грозные для Невского города первые годы его существования. Теперь солдат брали только как надсмотрщиков за строительными работами; то есть в роли все же, так сказать, старшинства и начальства. Но и на эту службу вызывались желающие лишь по приказу Меншикова, военными чинами всех рангов крепко покуда любимого. В нем видели военные, с учреждением военной коллегии, скорее своего защитника, чем гонителя или угнетателя. Стало быть, не желающим брать на себя лишних тягостей службы была полная свобода вне фронтовых обязанностей да караула употреблять свои досуги как угодно. Жили все по разным домам на постое; достаточные, как Балакирев, сами платя наем и живя господами. В два года царского отсутствия в чужих землях полки приходящие направлялись в разные стороны, а Невский полк отвыкал от тревог военного быта, сделавшись сиднем. И служба в нем обратилась в не возмущаемый ничем застой обыденки. При таком порядке вещей летом не воспрещали часовым у реки рыбку удить; а в зной где-нибудь в глуши, у магазинов или при складах, на часах караульный время коротал, и купаясь, и дремля, и песни заводя. Все эти непорядки командиры знали и смотрели на все, под хранительною мощью покровительства светлейшего князя, что называется, спустя рукава, воротя через пень колоду; и с младших не думали взыскивать. Да и к чему? Коли велят — приступят одним приказом, и все пойдет так, что комар носу не подточит со стороны строгости артикула. А пока ниоткуда не чуялось грозы, для чего из кожи лезть? Ниоткуда замечаний и выговоров не слышно было, когда самая что ни есть страсть началась: стали забирать конфидентов царевичевых[293]. Тогда строг был розыск. И невским гренадерам службы прибавилось, через день наряжали в крепость, по раскатам да в застенки. Три месяца, с ранней весны 1718 года, были подряд грозные розыски, сеченья да пытки. Со смертью царевича минула и эта гроза. И опять — все по-старому. Государь в море почасту стал ездить; спустил «Самсона» на воду, да и сам в шведскую сторону отплыл. Июль, следовавший за похоронами Алексея Петровича, предвещал затишье полное, и такое гаданье оправдалось.
Вот уже три года поживает Ванечка Балакирев и в солдатстве; у однополчан слывёт — душа-человек. Сердечные дела его в поповском доме на Посадской только как-то пошатнулись вдруг. Вместе с ним учился у Семена Агафонова с мушкетом управляться Фома Микрюков. Он был дворянин тоже, круглый бедняк. Науку и артикульную как-то не вполне понимал он. Может, потому, что во всём Семеновом капральстве был он годами не в пример других старше — чуть не под тридцать лет ему уж насчитывалось. И собой был просто неказист.
— Тебе, Фомушка, Михрюткин самое настоящее прозвание! — бывало, шутил над его неповоротливостью дядька Семён Агафонов.
— Может, и впрямь так! — словно не замечая иронии, поддакивал невозмутимый увалень.
Но в этом увальне под маскою всеполнейшей беззаботности и напускной простоты скрывался хитрец. Тонкий расчёт его подчас озадачивал неожиданностью всех, кому приходилось иметь дело с Фомушкой. Выпросив у кого или сколотив сам как-то полтину, Микрюков ухитрился пустить её в оборот и с этой полтины заручился денежками, так что они никак уже у него не переводились. В два года капиталы и счёты с неисправных заимодавцев у Фомы Микрюкова доросли до десятков рублей, по времени оказывавшихся уже чуть не капиталом. На Сытном, в рядах, под чужим именем у Микрюкова открылась лавчонка с разного ветошью. За одиннадцать рублёв достался ему в качестве неоплаченного залога за долг дворишко другого солдата, Невского же полка Абрама Сидорова. Тому достался дом по наследству от дяди, уставщика первой станицы верховых певчих, скоропостижно скончавшегося без других наследников. А дворишко бок о бок стоял с поповским домом в конце Посадской. Так что Фомушка вдруг очутился соседом того батьки Егора, который виды возымел на Ванечку Балакирева. Вступив во владение, легко благоприобретённое, Фомушка зашёл к батюшке по соседственности. Поосмотрелся да и возымел намерение увеличить свои достатки, поладив с поповной Дарьей Егоровной. В приданое за нею — думал он — попу не придётся ничего давать первое дело, поп хоша кремень, а всё-таки — родитель, второе дело, сам собравшийся в зятья — домовладелец теперь и сосед ближайший; а третье дело, он, Фомушка, с деньгами из солдатства выйдет. Изобретёт себе местечко тёпленькое, где будет чем и самому руки погреть, и попу в глаза пыль пустить. А кто же не слыхал, что нет глаз завистливее поповских, — все бы хотелось схапать! На этих трех пунктах и основал план действий своих Фомушка Микрюков, подметивший и шансы соперника, покуда, казалось, сильно опасные.
— Только Ванька Балакирев с одного конца и юрок, а с другого больно недалёк: все норовит прямо пройти, без изгибин! А оттого мишуки и много лесу портят, что имеют привычку ломить все без расчёта, вместо того чтобы гнуть потихоньку… Гни послабее — и была бы дуга! Дай нам время — и поповна наша! А там и батьку приберём…
Прав ли он был — узнаете сами. Покуда Микрюков начал действовать на матушку-попадью. Подслужился к ней на первых же порах тем, что дёшево приторговал две шапочки корабликами, лисьи, бархатные. Шапки эти были в большом уважении в Петербурге среди обывательниц. А попадьи и поповны особенно считали такие шапки нарядом ценным и парадным, на выезд. Показав блистательно свои коммерческие способности, Фомушка удружил матушке-попадье ещё и тем, что дал в долг до рождественского славленья пять рублёв для осенней закупки припасов гуртом. Эти видные услуги сделали в глазах Федоры Сидоровны — так величали матушку — первым человеком Фому Исаевича Микрюкова. За него она, не задумавшись, готова была, если бы можно только, хоть всех трех дочек сбыть. Из-за великих добродетелей Фомушки родительница Даши перестала ценить ею же введённого в дом Ваню Балакирева. И, слушая его соперника, попадья уже верила, что самое будто бы достаточество этого белоручки крайне сомнительно. Бабушка была, да, видно, сплыла, что совсем глаз не кажет. Не раздумала ли она уж и отказать ему, заметив малую почтительность к себе?
— Тебя, матушка, не разберёшь! — слушая такие и другие подобные же, невыгодные для своего любимца, предположения (казавшиеся ему не только маловероятными, но и совсем неблаговидными), с сердцем высказался поп Егор, не любивший дрязг. — Уж хуже, с позволения сказать, дерьма последнего выставляешь ты Ивана Алексеевича, а спросить, что он тебе сделал, что так ценишь? Не ответишь, разумеется.
— Мне-то он самой ничего покуда не сделал, а говорю о Даше, жалеючи… Что она будет за им, за солдатом простым? Век-от долог смолоду без расчёту девку спихнуть… за то, вишь, что он — простой? Да и есть ли что у его за собой? Можно верить и нет! Видного не много что-то.
— Ну, а Микрюков твой хвалёный — солдат такой же; только разве похуже во всём. Коли в торг солдат пускается — батога дожидается!
— И в солдатах-то ему служить не придётся. Ужо к светлейшему во двор берут; управителем будет над амбарными…
— Это он говорит! Ну и верь ему… Светлейший-от коли захочет амбары домовые кому поручить — офицерства, что ли, не хватит?
— Много и офицерства, никуда не годного.
— А солдатства — больше того…
— Особенно которым и ученье самое не даётся! — вставила, желая уязвить мать, горячая Даша, понимая, из-за чего хулит она дорогого уже ей Ванечку Балакирева.
— Тебя не спрашивают! — строго остановил отец. — И сами речи найдём. Стоит нам с маткой подальше договориться, сама очутится как рак на мели с хвалёным с Фомушкой…
— Ужо мы посмотрим, как Микрюков Фома Исаич славно таково на дворе на княжеском ключиками будет побрякивать да сотенки себе докладывать…
— Что в тати он гож — не спорю! — с сердцем уже, выходя настолько из себя, как редко случалось, ответил жене поп Егор. — Только, набив потуже мошну, он на нас с тобой и взглянуть не захочет! Таковы ведь все эти огребалы. Дорвётся до кучи, не остережётся кручи; как мамона, перетянет — и не встанет!
— Вишь, какая кукушка, подумаешь, выискалась. Только и свету в окошке, что Ванька твой, лентяй. Ужо-тка царь-от батюшка спросит: чему научился?.. Оставил я тебя в Питере.
— Тому же, чему и других учат. Не глуп малый и не промах. В карман за словом не полезет.
— Да так загуторит, что и царь замирволит. «Поди, — скажет, — умник-разумник, такой-сякой, советы мне подавать да на ум наставлять!..»
— Советы — не советы, а даст разумные ответы. Царя не испужается и понравиться может, нечего говорить напрасно, хоть кому!
— Мало ли кто горазд языком лепетать? Да за эту добродетель не снимают с шеи петель.
— Да и не обегают толковых людей. Как послушают — и спрашивают только: чей?
— А Микрюкова уже спросили да и распоряжать пригласили!
— Дай Бог нашему теляти волка поймати! Коли Фома будет заправской, хоша — псарь… так Иванушку к себе должон взять сам царь! — порешил поп Егор сплеча, не зная, чем переспорить жену.
— Экой пророк, подумаешь! — всё-таки нашлась с ответом попадья.
Поп Егор не мог дольше терпеть. Он как человек мирный много спорить не любил и уходил от ссоры. И теперь, не продолжая, надел шляпу и пошёл за порог.
Даша спряталась в светёлке и ну… плакать. Защемило её молодое сердце новою, незнакомою до того, болью. Сдавалось ей, что боль эта — предчувствие дальнейших невзгод и напастей. А напасти эти могут совсем оттереть от их дома Ванечку и бросить её, Дашу, в когти Фомы Микрюкова.
Облегчив слезами своё сердце и рассеяв на время, казалось, уже нависшую тучу бедствий, Даша вышла на задворок и подсела к дьяконице, мотавшей нитки на завалинке. Вот слышит она на улице знакомые шаги и окрик Микрюкова:
— Прощай, Иван Алексеич! Сегодня уж светлейший разрешит меня из полку истребовать к себе на послуги…
— В какие такие, Фома Исаич, послуги?
— Может, по конюшням где что присмотреть… а не то и в волость ушлёт, либо иное что…
«Путь тебе широкой скатертью от нас», — подумала Даша, вся вспыхнув.
— Чего доброго… и с нами ещё останешься, — наивно ответил Балакирев, думая вслух: — Светлейший строго разбирает новых людей. И потребует, да воротит.
— Меня не воротит! — самодовольно отозвался Микрюков. — Коли не понравлюсь светлейшему, вотрёт в дом к самодержавнейшему. А там, сам знаешь, золотое дно!
— Н-ну, это последнее ещё будет труднее. Царское величество слуг сам выбирает теперь…— ответил неожиданно, как бы умышленно начиная перечить, подоспевший сюда поп Егор.
Сильно забилось, но теперь уже от радости, сердце у Даши.
«Батюшка Ивана Алексеевича не выдаёт хвастуну Фомке, значит, он нашу руку держит», — думала она.
В самом деле, держа дружески за руку, уже и вёл поп Егор к себе Балакирева.
Матушка избегала встречи теперь с не любимым ею Иванушкой. Он и сам о чём-то глубоко почасту задумывался. Слова соперника, так развязно рассказывавшего о благосклонности князя Меншикова, будто бы если не к себе готового определить этого проходимца, то ещё легче во двор царский, где золотое дно, — не давали теперь покоя расходившимся мыслям Иванушки.
Отец Егор, правда, поперечку сделал Фомке; дал понять, что не удастся свинье на небо взглянуть и при поддержке светлейшего. На то сам царь, чтобы к себе брать кто ему приглянется, возражал в мыслях обеспокоенный Балакирев. «Понимаю! — слышался ему внутренний голос. — Фомка для того лезет во дворец, как он мне нахально расхвастал, что там, вишь, золотое дно… Как достанешь до этого дна-то, все тебе и будет по плечу. Захочет Фомка, и его будет Даша? Так врёшь же!.. Не отдам!.. Постою за себя!..»
К концу вечера, порешив так, Ванечка после ужина ушёл от батьки к себе, теперь он ломал голову над тем, как разбить надежды врага, заручившегося, по его словам, поддержкою для своих планов.
Ранним утром роту, в которой состоял Балакирев, назначили в караул. Вступать пришлось до полудня. Развели на притины[294], и полдень наступил. От церкви Троицы, что против Гостиного двора и Сената, за длинным строением, где помещены недавно две коллегии, в ту пору на берег Большой Невы выходил провиантский магазин. Теперь это одно непрерывное здание вдоль течения реки, а при Петре I, по упразднении Ростовских зеленных рядов, на самых настилках их было шесть деревянных амбаров, стоявших поперёк от улицы к Неве. Между каждыми двумя амбарами была будка для часового. Ко всем корпусам тогда из-за нехватки людей ставили одного человека на карауле с ружьём. Стоял он и не у будки, а, что называется, на юру под открытым небом. Солнцепёк палил беднягу в зной; дождь прохватывал насквозь, коли польёт; зимой же осыпал или нестерпимо резал лицо и уши снег с Невы и с дороги. Дежурство Балакирева пришлось в знойный день. На небе — ни облачка; в воздухе — мёртвая тишь. Простоял он час. Нет души живой; жажда смертная; кровь в голову бьёт, и сам человек разварен в этом кипятке до изнеможения. Перевязь накалилась и не даёт рукой провести по коже, а особенно по пряжке — так и палит.
— Не могу больше! — решил часовой. — Не окунуться — смерть!
Живой рукой с себя суму и перевязь; кафтан, рейтузы, исподни и рубашку тоже… сложил на берегу и сам — бац в Неву.
Поплавал вдоволь да взглянул к домику царскому, а оттуда идёт государь и пальцем грозит.
Где тут одеваться — есть ли время на себя всю сбрую натягивать?! Выскочил на берег, взял сапоги, схватил суму надел перевязь по форме, шапку на голову, ружьё в руки и мастерски при проходе его величества отдёрнул на караул.
— Хоть гол — да прав! — с улыбкой довольства за находчивость милостиво молвил государь и прошёл к коллегиям.
Когда скрылся он за углом, на Ванечку страх напал: что-то будет? Оделся часовой как ни в чём не бывало и похаживает.
Опять обратно идёт государь и о чём-то сам с собой рассуждает, помахивая известною всем своею тростью-учительницей.
Дух захватило у храброго Балакирева. Он к земле как приклеился с ружьём на караул.
Пётр I между тем, выразив удовольствие от находчивости застигнутого им в неловком положении часового, раздумался: «Что это, однако, за небрежение? Часовой с поста уходит! Нельзя оставить без замечания… А как же наказывать, когда я сам, невольно увлечённый молодецкой выходкой, сказал, что он прав! Коли прав — он заберёт в голову, что так и надо!.. И какой будет порядок? Какой будет это строй? Какие это будут солдаты? Невыгодно ему покажется стоять на жаре, он в тень уйдёт, а пост — пуст! В огласку пустить? Чего доброго, не этот первый и не он будет последним. Нужно так сделать, чтобы никто не проведал такого по службе упущенья, которое я сам оставил безнаказанным. Да чтобы и помилованный мною за удаль не мог повторить своей штуки. Лицо знакомо мне показалось. Насквозь виден — сокол! И парня такого жаль… И без смеха теперь вспомнить не могу. Расцеловать готов за находчивость. Истинно русская удаль! Как поступить, однако?» — ещё раздумывал державный, уже близко подходя и умышленно замедляя богатырский, мерный шаг свой. Мгновение, и он узнал, кто это.
— Балакирев, Иван?
— Я, ваше величество!
— Ах ты плут! — и сам снова захохотал, не могши удержать в себе порыва весёлости. Ванька сам ухмыльнулся, и отлегло у него от сердца.
— Виноват, великий государь! — пробарабанил он, делая на караул. — Не вытерпел. Больно припёк велик.
— Коли сказал — прав, не поминаю старого, и ты молчок. Только… служить теперь тебе в полку нельзя. Ты — не солдат! Выбирай любую службу: определю куда захочешь.
— Великий государь, возьми меня в слуги к себе, ко двору своему. Заслужу вину эту! — брякнул прощённый, не долго думая.
— Быть так! Как сменишься, явись к Мошкову, в доме у меня; велю принять. Только смотри у меня, не шути вперёд со службой! — наказал государь и прошёл к себе.
— Просто я в сорочке родился! Теперь Фомка гриб съел! — придя в себя от неожиданного счастья, выговорил, думая вслух, Балакирев.
Глава VI. ОТ ЦАРЯ НЕДАЛЕКО — БЫТЬ НЕЛЕГКО
Уставший Балакирев, сменившись с часов, пустился к большому перевозу в самых радужных надеждах. Переехал через Неву и — в царский дом. Спросил Мошкова. Привели в подвал со двора к какой-то казенке и велели ждать выхода оттуда его милости Петра Иваныча. Балакирев ожидал командира не ниже полковника, бравого, молодцеватого, с усищами чуть не с версту, и как сильно ошибся в своих представлениях. Долго брякая счетами, вышел наконец из закуты подслеповатый низенький человечек в замасленном, потёртом кафтанчике, за который жалко было дать три алтына.
— Можно видеть господина Мошкова?
— Петра Иванова коли, — я самый и есть!
— Что царским домом заправляет, что ль?
— Опять я же… чего тебе?
— Государь велел мне явиться… во дворец берет.
— Слышал… так этот юрок-от ты, значит? Н-ну, братец, дай-кось тебя порассмотреть! Хорош, что говорить! Малый хошь куда! — молвил Мошков, взяв Балакирева за руку и поворачивая кругом, — Велено мне тебя поставить, вишь, туды, где нужно, чтобы дело шло живо, сказал царь-от Пётр Алексеич!.. А где бы у нас такая живость, что ль, требовалася, не указал. А я сам, старый человек, в подклете верховым сызмала вертелся, а спешки какой ни на есть не заприметил! Так ты ужо, юрок, как царь-от говорит, изобрети мне сам дело-то своё, а я те на оное и поставлю. А покелича поприсмотрись, затем что новый ты человек… Потолкайся!.. А я уж домой пойду… шти давно простыли… Вот какое наше дело… и без живости умаешься, день-деньской.
И Мошков направился со двора за ворота, что с Луговой улицы. Он засеменил проворно кривыми ножками, прикрывшись такою же ценною шляпою, как и кафтан его.
— Издивленье! — глядя вслед этому подобию начальства, проговорил про себя Ваня. — Ну что он мне нагородил, ей-Богу, в толк не возьму! И как там присматриваться?.. И к чему? Да хоть бы ввёл да тамошних указал — не гоните, мол, этот у нас будет! Вот-то бестолочь! — вслух рассуждал Иван Балакирев, не заметив, что к нему самому уже присматриваются с большим интересом. Ему и в голову не приходило, что весь разговор с Мошковым слышали и поняли, в какое затруднительное положение поставило его странное распоряжение самодура-интенданта.
Однако неприметными для Балакирева свидетелями его затруднения были два лица: сам царь Пётр Алексеевич, который смотрел на эту сцену из своей конторки из заднего окошка второго этажа, да шут Лакоста[295]. Говорили — француз он или итальянец; но скорее всего — венецианский жид. С детства он обращался со славянами и звуки славянского говора, с южным произношением, удержал в памяти на всю жизнь, потому и говорил по-русски.
Лакоста сидел у открытого окна в первой из двух царицыных комнат. Её величество повысила Лакосту в ранге камер-лакея с самого возвращения из-за границы. Государыня привыкла за полтора года к иностранным порядкам в других дворах и у себя завела немецкие порядки.
Должность Лакосты столь же умело определил интендант Мошков, лаконически выразившись:
— Торчи, мол, там; да не шляться у меня попусту!
Лакоста, величаемый русскими Пётр Дорофеич (почти так же, как Мошков), буквально исполнил его приказание и занял бессменное место в передней комнате детей государских, смеша всех своими россказнями и располагая к себе всех готовностью принять в ком угодно горячее участие. Пётр I, мигнув шуту камер-лакею, показал ему глазами на Балакирева, чтобы он, сойдя на двор, разрешил все затруднения, в которые поставил Мошков новобранца. Сам Великий согласился в мыслях с решением юрка-солдата, что, подлинно, его интендант — кляча старая и упрямая! — не годится по бестолковости ни для какого дела. Да что с ним уж делать? Привык государь к этой подклетной крысе, унаследовав её от матушки, и, по крайней мере, тысячу раз убеждался в честности Мошкова, — уж алтына себе не возьмёт! Приказания буквально исполнит в точности, не рассуждая: а если, как теперь, ничего от себя не придумал, что ж будешь делать, коли голова такая? Не всем с неба звезды хватать! Привычка, материн слуга, честный и точный исполнитель — и достаточно, чтобы оставить его ворочать из пня в колоду. Ведь дом мой! Разносолов и чванства я не терплю. Ну, по Сеньке — шапка… и Мошков для меня хорош! Переврёт что — сам поправлю. Вспылю, коли виноват. Он сознателен — прощенья попросит; а коли не сознаёт вины, в глазах своих он прав. Я виноват, что не растолковал до его понятия! Для него я больно скор; с тихостью же его ещё могу ладить. Вот нашёл юркого слугу, молодого. Дать на выучку Лакосте, все порядки расскажет, а тот поймёт. И звучно раздались по двору слова государя, обращённые к подходившему к Балакиреву Лакосте:
— Возьми новобранца да все ему растолкуй, как у нас и что… насколько сам знаешь!
— Слушаю, кум, останешься доволен моею выуцкою, — с призызикиваньями, но довольно твёрдо выговорил получивший приказание. Приняв важный вид, он скорчил мину заправского гофмейстера, так что государь, отойдя от окна, фыркнул со смеха.
Балакирев действительно в первую минуту подумал, что подходивший к нему очень важная персона. Во-первых, слыша его ответ царю, которого он назвал фамильярно — кумом. Во-вторых, одет он был пышно: красный кафтан с галунами и отложным вышитым воротником; на шее брыжи кружевного галстука; из-под обшлага с галунами же опять брыжи накрахмаленной сорочки; при бедре — шпага какая-то мудрёная, с убором из пучка цветных перьев; на ногах — ботфорты; а на голове — алонжевый высокий парик в мелких буклях. Совсем знатный господин! А судя по лицу, пожилому, но умному и очень приветливому, прямо можно сказать, что особа эта воспитана на учтивствах и поклонах. Действительно, до принятия в русскую службу, в Амстердаме, в первое путешествие царя, Лакоста пробавлялся уроками по танцмейстерской части и преподавал «желающим в большом свете без конфузу обращаться зело премудреную науку, куплементы выражать и всякие учтивства показывать, по времени смотря и по случаю надлежащие». Держал он себя очень деликатно и так тонко, рассчитанно, что гордый со всеми и на всех смотрящий свысока сам князь Меншиков, давая вельможеские подачки от щедрот проходимцу Лакосте, не стыдился сам брать его за руку.
— Как прозываетесь? — обратился Лакоста теперь к Балакиреву.
— Иван Алексеев сын Балакирев, из дворян; в солдатах состоял по сей день, а государь изволит теперь во дворец к себе меня взять, на послугу, и… не знаю я, как исполнить веления господина Мошкова, к которому его величество послал меня.
— Я, голубтшик, все это знатно показжю… Итдем! — взял за руку и повёл со двора в дверку за выступом неприметного крылечка, а оттуда во внутренний коридор, покоем, как расположен был и самый дворец. Коридор проходил от одного конца дома до другого, отделяя светлицы, выходящие на улицу от надворных.
— Я… по стату её велицшества; и ти будесшь до повеленья у нас ше, — сказал Лакоста новобранцу, решив стать его самозваным наставником и начальником.
Из внушений Лакосты новобранец-служивый понял, что служба при комнатах царицыных и самое плёвое дело, и ноша неудобоносимая даже для таких молодых, гибких и здоровых плеч, как его, например. Дело в том, как будут помыкать! Сидеть да примечать, что делается; а при случае шутку отмочить, так чтобы в закаты покатились от неожиданности остроумного конца побасёнки, — как это делывал Лакоста, — разумеется, не его доля. Не дадут же ему сидеть сложа руки да брюхо растить! А делом называлась здесь разгонка за наведываньями о здоровье день-деньской. Иной раз выдастся денёк, и по трижды и по четырежды в одно место являться приходилось: наказ передать, ответ получить и опять на него — наказ и ответ. Да так от зари до зари и гоняйся в красном кафтане в воскресный день и в праздник, или в зелёном в будни, в башмаках, при шпаге и в распущенной треуголке с галунами. Только рассыльному не полагалось парика, ненужного кудрявому красивому молодцу, да, кроме Лакосты, никто из дворцовых и не носил их ещё тогда.
Ваня наш был, как уж знаем мы, ражий молодец. Побегал первые дни, высунув язык, по словесным все приказам: Авдотьи Ильинишны, мамки царевен, княжны Марьи Федоровны Вяземской, приживалки у царицы, да Анисьи Кирилловны Толстой — спутницы государыниной во всех треволнениях жизни. Тут понадобилось бежать ему даже по приказу княгини Настасьи Голицыной. Захаживала она, видите, обыкновенно каждый день на царицыну половину: дуру скорчить из жадности, чтобы лишний червончик перепал в мошну. Бросит ей царица червончик. Покатится он под мебель, а княгиня — на пол и ну искать. Сама шутиха, почитай, а помыкает усердным Иваном, слугой государевым на царицыной половине! Пристала, вишь, сходи к ней на дом да платок принеси: на столе его забыла и теперь нечем нос утереть сиятельной шутихе.
— Коли лошадь бы была, почему не скатать? — молвил не совсем охотно Иван Балакирев, не отказываясь и от этой оказии.
— А рази не дают, голубчик, лошадки?..
— Нету
— Уж будто ты, такой стрёмой парень, да не сумеешь промыслить, где усмотришь?
— Позвольте только, ваше сиятельство! — как-то полушутливо, полуехидно ответил Иван сиятельной посыльщице.
— Позволяю, дружок… промышляй где знаешь!
Иван не заставил себе дважды повторять разрешения. Вышел и отпряг лошадь от одноколки княгини Настасьи Голицыной, стоявшей на дворе без кучера. Тот где-то россказни слушал. Сел без седла, да и поскакал на двор княгинин. Взял платок и потребовал от дворецкого, княгининым словом, себе новое седло, самое доброе. Получил и, на этом самом седле доехав до ворот дворцовых, отдал сторожу-дневальному якобы верховую свою лошадь — доселе ходившую у княгини в оглоблях, — чтоб поберёг до востребованья.
Отдал Ваня платок княгине-причуднице и получил благодарность. Дали рассыльному другое порученье. Молодец опять на коня, так ловко добытого, и туда.
До вечера всюду и катался на лошадке княгини Настасьи. Все его гоняли из одного конца Петербурга в другой. Смерклось уж, как вышла княгиня Настасья: домой ехать. Одноколка стоит, а лошади нет: куда конь девался? — спросы пошли. Сказал кто-то, — никак, Лакоста же, сохраняя невозмутимое хладнокровие, — что видел он, коли не ошибся, будто отпрягал Балакирев чью-то лошадь и выехал на коньке том куда-то со двора, кажись. Где Балакирев? — Туда-то послали — Как воротится, наверх позвать!
Воротился. Явился; в опочивальню ввели. Там царь.
— Брал лошадь? — спрашивает государь сам. Узнал уж он о невольном аресте шутихи во дворце из-за пропажи коня от одноколки и показывал вид рассерженного, внутренне смеясь.
— Её сиятельство разрешить изволила мне коня добыть для её же послуженья: платочек дома забыли и говорят, нечем нос утереть…
— Вишь, плут какой, — молвила княгиня, — почём мне знать твои умыслы?.. Разрешила не с тем, чтобы…
— А до двора её сиятельства конец не малый, — продолжал резать Иван, не дожидаясь и не слушая слов княгини. — И на посылках я с утра до вечера. Как вот сел на пожалованье княгинино, так, почитай, до этих пор с седла не сходил. Лошадь заморилась, где же человеку сил хватит без коня тут?! Спасибо, её сиятельства милость помогла исполнить сегодня все повеленные дела.
Пётр сперва нахмурился; потом, когда княгиня подтвердила разрешение — расхохотался; царица — тоже. Пожалевал государь рублевик Ивану и вслух сказал:
— Ожидал я проку от этого юрка… не обманул он моих ожиданий. Совсем молодец! Дело справить княгине не отказал и на деле толком доказал, без жалобы, трудность службы… Обязанностей прямо не указывают человеку, а гоняют из угла в угол. А этот-то с головой молодец — люблю таких. В денщики к себе возьму, коли не умели толку дать! Золото, просто золото…
Вот царица и вступилась, слыша похвалы такие:
— Ко мне, говорит, случайно попал деловой малый, по твоему же и выбору. Я была довольна его услугами… Теперь ещё больше открылась его сноровливость и находчивость. И тут ты последнего надёжного слугу забрать хочешь. Мало ль у тебя есть и может набраться денщиков, а этого уж мне одного предоставь. Ни за что не отдам, как хочешь.
— Ну, ин, быть по-твоему, — решил государь, — только чтобы малому было впредь без обиды. Позаботься сама о нём. Разгону такому не след. А за делом, в рассылку, с конюшни лошадь дать хорошую, и рябиком[296] пусть для переправы через реки пользуется; и плащ чтобы был на стать… и обуви вдоволь… при рассылках таких. Пусть при тебе ездовым лакеем будет да одни твои комиссии справляет.
Значит, за находчивость и ранг получил, служа без году неделю, и полное обеспеченье; значит, во дворце совсем пристроился смельчак-разумник.
Пётр Иваныч Мошков только руками развёл, когда наутро передано ему царское распоряжение о Балакиреве: «И лично знаем стал, и заботиться об ем наказано: чтобы всего в достаче, и лошадь лучшую дать — как важной парсуне, и плащ.. Ах ты, Господи, батюш-ка! ей-ей, заморишься новых слуг-от ублаготворять… не токмо своё дело делать! Вот, вишь, какая гадина завелась: на губах материно молоко не обсохло, а нос умеет наставлять всем постарше себя. Да и царю самому, смотри-ко на его, намотал на ус, что такую хрю (Пётр Иваныч так говорил, вместо фрю, от слова фря) пешего рассылать вздумали. А в наше-то время как было? Бывало, ключник ни за что ни про что за вихор отвозит либо тумаков надаёт затем, что под руку в сердитый час попался… да и проплакать не смей! Вот хоть бы царевна, Софья Алексеевна, только бы заприметила кислую рожу, тотчас с волчьим билетом вон пошёл! Все, бывало, зубы и скалили при проходе её… А захихикать в примету попробуй — та же беда. А теперь?»— только рукой махнул старик, ничего не вымолвивши, и вздохнул он тяжело, давая понять этим своё неудовольствие. Вишь, считал он Петра Алексеича чуть ли не учителем и не потакателем всяческого своевольства!
Но и за причисленьем всего, что следовало, Ивану Балакиреву в первые дни нового возвышения ни минуты не пришлось отдохнуть. С утра до вечера посылали разъездного слугу государыни все с приглашеньями на Преображеньев день[297] боярынь к полковнице Преображенской — её величеству: хлеба-соли отведать. Ваня не выбрал ни одной минуты во все эти дни, чтобы глаза показать к отцу Егору. Хоть сердце молодецкое надрывалось, а вырваться нельзя было туда, где жило существо, для которого больше чем мучительно было неожиданное исчезновенье Вани. Мы уже знаем, что существо это переживало, впрямь сказать, трудную пору. Микрюков, что твой паук, развесил уже вокруг паутину своих планов и осетил ими совсем мать Дашеньки. Матушка отца Егора больше всего годилась бы в подруги жизни земскому дьяку либо стряпчему монастырскому, так сильно в ней развит был инстинкт хапанья посильных приношений. Откуда и как неистощимою рекою могла литься эта благодать, матушка не рассуждала. Или, лучше сказать, одно она твёрдо знала: ведь люди другим за все и про все дают, везут и несут. А по щучьему веленью это делается, или иначе? — она в толк не брала. Оставалась матушка в полном неведении и того, к каким трагическим исходам вело в Петрово царствование развязное загребанье. Попадья, как тёмный человек, кажется, не ведала, как разделывались за приниманье разных памяток, когда узнавали. А ведала если бы суть самую, как за них достаётся, зарилась ли бы она на Микрюкова? На попа своего за слишком умеренные получения в приходе роптала матушка, не закрывая уст своих, и объясняла малое перепаданье в кошель к ним неумением батьки драть с живого и мёртвого. Поп Егор, впрочем, был не особенно любостяжателен, но, когда давали другим в его присутствии, вырывались и у него иногда тяжкие вздохи, которые можно было истолковать так: а мне-то что же? Но очень естественное желание получить, чем больше, тем лучше, ни разу не доводило отца Егора до разлада с совестью. Когда предстояло идти к богатому молебен служить и напутствовать нищего, он всегда прежде примирит с Богом отходящего в лучший мир, а потом уже направится «пролить молитву Господу» о здравствующих. Иной раз алтыном меньше давали за промедленье, хмурились и принимали суше, чем ожидалось. Да поп Егор не подавал и вида, что замечает перемену приёма или обращения. А если бы на него осердились, открыто говоря: «За чем, мол, сюда не прямо шёл?» — он бы учтиво, конечно, но твёрдо ответил бы, что никак не мог поступить иначе ради «в немощи тяжцей лежаща». Паства за такую стойкость убеждений к отцу Егору чаще, пожалуй, обращалась, хотя церковь его и была приписана к Троицкому приходу. Сложилась даже поговорка у троицких прихожан, что «толкнись попрежь к Егору, а там к старшому впору».
Дочь, Даша, добротою и приветливостью вся была в отца; все же другие дети — в мать. За то Дашу мать и не больно возлюбила, по правде сказать. Внимание к дочери усилила было матушка, когда пленило её предложение Микрюкова. Видя, как ловко он воспользовался соседним с ними двором, любостяжательная попадья возымела к изворотливому скопидому глубочайшее уважение и безграничную веру во все, что он ни скажет. И его воздушные замки насчёт значения его во дворе князя Меншикова принимались матушкою Федорой Сидоровной за истину. В перспективе ему грезилось уже управленье вотчинами светлейшего. Матушке же Федоре Сидоровне это управление представлялось, с его слов, в виде безграничного и непрестанного прилива взяток. Представляя себе праздник, она заранее облизывалась, захлёбываясь от удовольствия.
Отсутствие Вани уже полторы недели в поповском доме было и для Микрюкова с его союзницею чистым праздником. После трех дней, узнав, что солдата Балакирева вычеркнули из списка назначений в караулы, Микрюков забегал осведомиться к дядьке: почему это? А тот ещё больше озадачил вопрошателя, сказав, что солдат этот в полку больше не значится. Соперник, ничего верного не узнав из этих слов, порешил, что, должно быть, сбежал или в розыск попал ловчак Ванюша. Последнее ему казалось даже самое верное. Когда же у ротного каптенармуса он ещё осведомился: не знаете ли, мол, про Балакирева чего? — тот показал как-то таинственно на узел с амуницией, легко прихлопнув по нём и примолвив: «Вот что остаётся от Балакирева!» Тогда Микрюков и пустил в ход свою фантазию, даже сочинил предсмертные терзания мнимого покойника. Известие о гибели Балакирева Микрюков приберёг, однако, для праздника Преображения. Тогда попадья пригласила его трапезу семейную разделить, а он за этою трапезою решил поразить своею грозною вестью и попа Егора, и его дочку. Не сомневаясь в эффекте, Фома хотел тут же, не тратя времени или не давая прийти им в себя, и брякнуть: «отдавайте, мол, за меня Дашу… не то донесу, что и ты, батька, и дочка ваша ведаете про разыскиваемого Ивана Балакирева…»
На таком манёвре он основал свою полную победу и думать не хотел, чтобы могли встретиться какие-нибудь помехи или препятствия к его осуществлению.
Вот и наступил праздник Преображения. У самого Микрюкова, кроме планов поражения попа Егора, ничего положительного слышно не было. Пристроиться к князю в дом Фомушке обещал помочь один благоприятель, писчик. Он накануне завернул к Фоме и после его напоминаний велел наведаться к себе перед обеднею, в праздник. «Мною, впрочем, — сказал он доверчивому Фомушке, — самому господину Соловьёву сказано, что ты годен и хочешь к нам служить… и господин, может, пожелает после слов моих сам тебя повидать. Как выйдет от обедни, ты схоронись в кусточки, чтобы, как позову я, ты бы и выскочил…»
Микрюков выполнил все по сказанному, как по писаному: забрался пред обедней в садовые кусты против самой церкви, что у дома светлейшего на Васильевском острову. А там справлялся и в этот год, как раньше и позднее, полковой праздник Преображенской гвардии, где светлейший был подполковник, а полковником — царь сам. В Петербург прибыло много офицеров-преображенцев, теперь уж часто в генеральских чинах. Все они собрались к церкви, и государыня туда приехала. Рассудите сами, досуг ли тут управителю дворецкому князя Меншикова о каком-то Микрюкове думать? Да мало ль у него было дела и в другое время?
Вот обедня кончилась. Погуляли высокие гости по саду и сели в беседке обедать. А Микрюков с места не смеет сойти. Вот ещё час прошёл; и другой пролетел. Фома все ждёт знака приятеля. Уж в брюхе в бирюльки играют, а уйти нельзя. Делать нечего, думает, потерплю; скрепился. Вот и вечерни грянули над самым ухом. Бежит писчик. «Ты всё ещё здесь?» — «Жду; уйти не смею». — «Вона управитель, никак… сам валит… и несут за ним, глянь-ко, целый лес решёток да дранок расписных… шпалеру будут ставить! Спрячься поукромней! Авось скоро теперь», — и сам почесал за ухом: видно, понял, что не пора приглашать было. Микрюков в прежнее место ухоронился. А на грех да на беду подле самого того куста стали бечёвками план разбивать; как шпалеру эту самую ставить. От куста начали и шестики сбивать. Как вбили, лесенки разносить стали. Шкаликов да проволоки корзинищи огромные принесли и прямо поставили, словно дразня, перед самым носом Микрюкова. А он от нечего делать протяни руку да и возьми одну штучку, потом другую да третью… вертит в руках и не замечает, что мальчуган посажен все это добро сторожить. Глядит сторож зорко, а сам не больше клопа. А рабочие бегают, известно, суетятся: им не до чего уже, окромя дела. Вот Микрюков глядел-глядел на цветное стекло и хотел опустить уже в корзину, да промахнулся, Уронил в траву. А клоп, сторож-то маленький, как крикнет: «Солдат стекляницу стянул!» — молодца и цап-царап! Откуль ни взялся народ отборный, офицерство. Видят — солдат; нарядчик считать принялся. В корзине одной стекляницы нету, а две — в руках солдатских. «Винись, — говорят, — своровал одну!» Клянётся, божится парень. «Брал, — говорит, — посмотреть хотел, больно занятно!..» Сказали приказчику, и управитель пришёл. И писчик сунулся тут же. Спрашивать стал управитель прежде всего: как зашёл? Микрюков и рассказал, как и что, да сам на писчика указывает: он, мол, велел мне здесь с утра дожидаться. А писчик сам струсил: «Вор схвачен, — думает, — на меня показывает; беда моя, коли признаю…» И упёрся: «Знать, — говорит, — не знаю сего солдата; впервой вижу здесь!» Пока допросы вели, стклянку в траве нашарили. Управитель рад, что пропажи нет. По милости велел отпустить солдата. Накласть только в шею, чтобы вдругорядь было ходить неповадно.
Вот те и пристроился у светлейшего!
Тем временем, пока Микрюкова из сада княжеского выпроваживали да в спину ему здоровые кулаки всаживали, — перед вечернями у попа Егора и он и дочка получили полное удовольствие — запропавший нашёлся. Оголодала семья; матушка обеда, вишь, не собирала, все его, дорогого ей Фомушку, поджидала! Батька наконец крикнул: «Не к вечерни же мне идти голодному!» Попадья накрыла. Сели за стол против окошка. Глянула Даша.
— Кто-то, — говорит, — подъехал на судёнышке, вот уж сказать, вальяжном! Расписное все оно и разукрашенное, и гребец в бостроге[298] в красном.
— К кому бы в нашей улице? — отозвался смиренно поп Егор. — Ума не приложу. Никого нет такого значительного.
— Разве к Микрюкову, — сказала мать, — княжеский какой подхалим? К ему и есть. Вот, значит, это самое Фомушку и задержало. Да, никак, не он ли самый и есть, спиною-то стоит? У дворовых княжеских, как и у царских, одинакие плащи. Он, голубчик, он… и к нам прямо прёт. Глядь-ко, батько, мимо оконца шмыгнул! — И вскочила, раскрыла окошко и кричит: — Фомушка!
— Покуда Иванушка, матушка. Ждали ли меня? — отворив дверь, крикнул Балакирев.
Поп Егор и Даша бросились к нему, а попадья так и осталась в окошке, словно приросла или приклеилась.
— Поздравь, батюшка, я ездовой теперь царицын. Микрюков к челяди княжеской пристроиться задумал; попал ли, не знаю. А я в царском дому, смотрите! — И сам повёртывался, блестя своими галунами.
Оставим покуда попа Егора и его семью, ведущих беседу с Иваном Алексеевичем. Он им, конечно, может пересказать все, что с ним было, так точно, как мы уже знаем: ни больше ни меньше.
Займёмся лучше Лукерьею Демьяновною и её сыном. По царской резолюции дан полный ход извету сына на мать на суде князя-кесаря. Но в суде его титулованного величества процессы решались не всегда по вдохновению, а большею частью по справкам. Когда дошло до них, Преображенские дельцы начали сосать, не хуже других приказных, обе тяжущиеся стороны. Собирание справок и разных мелочей протянулось на три года почти. Вот на другой день Преображенья в 1718 году, уже при сыне пресловутого Федора Юрьевича, Иване Фёдоровиче — князе же кесаре, только втором —назначены: очная ставка и личный спрос сына истца-тяжебника с матерью-ответчицею.
Мы уже имеем полную возможность оценить вред для Вани того, что бабушку, против воли её, в Москве задерживал процесс с сыном. Каялся не одну сотню раз, может быть, и сам сын, не видя конца проволочкам и требованиям ответов на вопросы, ставившие его в тупик. Подьячий или повытчик[299], чтобы вытянуть у неопытного истца рубль, два, придумывали все новые вопросные справки. Ответчица была не из таковских. Если давала она, и давала не полтины и не рубли, а десятки рублей, то не иначе как секретарю; у себя с глазу на глаз, договорившись с ним начистоту, что он сделает за выполнение своего требования. Поэтому, когда нужно было слушать дело князю-кесарю, на стороне ответчицы было все чисто и ясно, а у истца вопросы без ответов.
Дело вдовы стряпчихи Балакиревой с сыном-сержантом теперь должно было определиться в полугодовой срок, даваемый государем для окончательного решения.
Лукерья Демьяновна, живя в Москве два года с лишком не по своему хотенью, времени даром не теряла, как мы знаем, и узнала уже все закоулки и подступы, чтобы направить тяжбу в свою пользу. Сам секретарь Преображенского приказа надоумил её — разумеется, не даром — полугодовой срок получить и обнадёживал её в верном успехе.
— Видишь, мать моя…— с душою говорил делец, смакуя в уютной каморке помещицы сладкую романею; уже он был насыщен и всем удоволен по горлышко, — наши плутни теперя и верный твой выигрыш могут затянуть, склоняя тебя на мировую. Никак, уж с сынком-от твоим позавчера Андрей Матвеич Апраксин к нашему кесарю забегал. Помнится, наш Иван Федорыч, ясно на его слова, хотя и несловоохотлив очень, дважды повторил: «Мирить сына с матерью — святое дело!» Это неспроста! Увидел твой тяжебник, что не вывезет прямо, — ухитрился окольным путём обойти: покорностью, может, что вытянуть.
— Какую ты меня, Демид Семеныч, простенькую нашёл!.. От меня-то покорностью Алексей выжмет что?.. Нет, голубчик, коли покорность окажет, я от его, пьяницы, и последнее заберу в своё управленье… Коли бы ты знал, что у меня за внук Ванюшка, — понял бы, что к Алёшке не повернётся сердце в ущерб ему… Не-ет!
— Понимаю… Так увидят, что с тебя взятки гладки, Ивана Федорыча и уговорят положить под сукно.
— Да какой же кесарь-от ваш, коли послушается мошенников?.. Хуже бабы, значит… Тут казённый ущерб, туто явная пагуба всему роду крещёному, потачка такая плутне… За что ж кесаря и ставил государь? Чтобы не кривил весы, как делают судьи обыкновенные. Коли у его правды не найду — к царю пойду… Меня ужо обещали на переходе поставить у верхних хором… брякну челобитье и на кесаря.
— Не советую… А лучше ты попроси, чтобы решили скорей. Пропиши в челобитье, что по царскому указу держут тебя на Москве с делом, скоро три года минет… третий пошёл уже?
— Вестимо, пошёл… с Филипповок[300].
— Ну, так справки не должны три года тянуться. Самые запутанные дела государь велит, коли в Преображенском три года не решат за недостачей чего, в Сенат передавать… Вот я тебе, со ссылкой на ту царскую наказную статью, и накатаю, хошь здесь же, челобитную?
— Будь отец родной! Орленой бумажки[301] листок нужен?
— Вестимо.
— Один?
— Ну… ин и на одном упишу.
И скрип пера по орленой бумаге на несколько минут пресёк беседу дельца с помещицею.
Наутро, ещё свет не показывался, Лукерья Демьяновна уже приехала в Кремль и введена была знакомым истопником на переход, соединявший Грановитую палату с царскими теремами и Благовещенским собором. Царь Пётр, живя в Москве, бывал у Благовещенья у обедни по пятницам.
Вот кончилась обедня. Государь с государынею идут парочкою одни из церкви. Только поворотили к теремам, а навстречу старуха:
— Батюшка государь, Господу Богу ты молился… ради Господа Бога, яви пример богоподобного правосудия!
— О чём ты просишь?
— По высочайшему твоему царскому указу передан в Преображенский приказ разбор дела сына моего сержанта Балакирева со мною, его родной матерью, рабой твоей.
— Да, помню! — ответил государь. — Это не так уже недавно. Разве не решено?
— Не решено, государь… Все какие-то справки собирают. А меня третий год здесь держат и домой не дают съехать… а мне крайняя нужда. Коли не могут, государь, в три года справки собрать, повели, государь-батюшка, в Сенат перенести, как повелено тобою… а мне, рабе твоей, позволь домой ехать и явиться в срок, как слушать надо. С голоду вдалеке от землишки моей, отцовской вотчины, здеся помираю и разоряюся безвинно, сирота твоя. Матушка государыня, Катерина Алексеевна, окажи милосердие… попроси государя оказать мне милость, бедной и сирой!..
И, чуть не на колени падая, бросилась Балакириха ловить руку государыни, пока государь смотрел в челобитную.
— Хорошо! — сказал государь. — Я посулю кесарю в Сенат взять ваше дело, коли три года пройдут. Он и сам до того не доведёт… Будь покойна.
Розыск по уходу царевича в чужие земли уже начался в Москве, и князь-кесарь каждый день самолично являлся к государю за приказаниями.
И в этот день пришёл кесарь.
Завидя ещё его, государь уже крикнул:
— Нельзя вам давать никакого разбора! Волокиты насмерть не терплю и не вижу другого средства, как закрыть твой приказ и к Сенату его приписать.
— Помилуй, государь… И то день весь и часть ночи прихватываю, слушая дела… Отец в последние годы прихварывал, так, может, запустил… Я все, почитай, спустил, что позадержалось…
— Коли два с половиной года собирали справки, довольно, кажется, было времени… Вспомни, что я сам прислал разобрать дело сержанта Балакирева с матерью.
— Сам знаю, государь, что залежалось у отца это дело; да есть, кажется, возможность помирить…
— А если не помирятся?
— Решить придётся тогда, как есть… коли и не все справки будут собраны.
— Хорошо! Даю полгода на ваши справки. Сегодня седьмое число февраля — на седьмое августа чтобы было разобрано бесповоротно. Смотри, князь, я помнить буду и… спрошу.
— Ваше величество коли приказать изволил слушать седьмого августа дело Балакиревых, письменный указ дам, не токмо на словах.
— А до этого срока с подпиской пусти ответчицу в деревню, если просить будет… И срок этот ей объяви, с подписью на её челобитной.
И передал кесарю челобитную.
Понятно, что все уже тут нужно было без слов точно выполнить.
Помещицу отпустили. Привела она у себя в порядок дела. Конечно, нашлось-таки кой-чего, хотя невестка и здравствующая ещё сватья, мать её, хозяйствовали как нельзя лучше и ничего не утеряли, не упустили ничего, казалось, к выгоде хозяйской.
Седьмое августа застало Алексея в самых дурных обстоятельствах. Жил он, положим, у Андрея Матвеича, но по смерти царицы-сестры и того дела были плохи, а процесс, погубивший общего друга — Кикина, — навёл подозрение царя на всех Апраксиных: что они расположены к виноватому царевичу больше, чем к великому государю. Насколько справедливо такое заключение, мы говорить не будем: а пока оно не рассеялось, к царю с просьбою ни один из Апраксиных пойти не решился бы. Тем более — просить о рассрочке платежей в казну или о прибавке вотчин, хотя бы под именем царицы-сестры захвачены были у брата, как случилось с Андреем Матвеичем.
Лукерья Демьяновна уже в шесть часов утра, прямо от ранней обедни, приехала в приказ. Вот и князь-кесарь сел на своё кресло и потребовал истца и ответчицу. Истец ещё не являлся. Князь недовольный вообще явился в приказ свой, а тут ещё промедленье слушанья по милости истца. Живо представилась кесарю распеканция царская за медленное веденье дела, и он, едва владея собой, крикнул дьяку, благоприятелю и советнику Лукерьи: «Семеро одного не ждут! Читай! А коли явится, я из него выбью Андрюшкино похмелье».
Доклад прежде всего, по собранным справкам, вывел полное количество животов казнённого Елизара Червякова за погашением государственного начета.
«Две тысячи восемьсот пятьдесят три четьи в поле из прикупных и вотчинных оного государственного вора причитаются на часть неотъемлемую наследников, а таковыми к сему наследству, по уложенью, единственная наследница сестра реченного Червякова, стряпчего вдова Гаврилова, по муже Балакирева, Лукерья. А по делу явствует, что вместо Лукерьи, поманкою и поноровкою должно почесть скверные ради прибыли, Лукерьина часть закреплена во Владимирском приказе за сыном её, Алексеем Балакиревым; без челобитья матери и даже в кую пору был оный Алексей несовершенных лет. А по новоуказным статьям сие весьма запрещается, а тем паче переотказ недоросля кому бы ни было, к явному нарушению повелений великого государя. И повелевается таковые переотказы ни во что вменяти и в именья наследственные делёж не вносити. Сего ради подлежат ко возврату прямой наследнице Лукерье Балакиревой, из вотчины блаженные памяти государыни царицы и великие княгини Марфы Матвеевны шестьсот четьи и сто двадцать три двора крестьянских, отошедших в дворцовый приказ государынин по дарственной записи недоросля Алексея Гаврилова Балакирева, облыжно написавшего себя в службе, находяся не у дел… И кто сие беззаконие учинил, с того доправити все протори и убытки за владенье теми дворами и землями, со всеми доходы, поборы и поступлении… И про виноватых спросити первее укрепивших означенную, неправедную, даровую запись Балакирева. А под записью писаны ручатели: стольник Александр Васильев сын Кикин».
— Ну… этот на том свете… спрашивать не придётся…— со вздохом участия проговорил князь-кесарь.
В это время в дверях судебной палаты показался Андрей Матвеевич Апраксин и, подойдя к столу, громко сказал:
— Я пришёл, державнейший князь-кесарь, твоему высочеству донести, что истец Алексей Балакирев огневицею болезнует и меня просил вместо него дело слушать и рукоприкладство чинить. И на то на все являю величеству вашему просительное руки его, Алексея, письмо.
— Опоздал ты, Андрей Матвеич, и повинен бы был к штрафованию; но, принимая невольность вины по Недужию истца, тебя в истцово место допущаем и ответ за его держати повелеваем. Садись! Продолжай, дьяк!
«Вторым, после обретающегося ныне уже не в живых Александра Кикина, ручал стольник Андрей Матвеев сын Апраксин».
— Андрей Апраксин, подпись твоей ли руки на записи Алексея Балакирева об уступке им ста двадцати трех дворов и шести сотен четьи в поле государыне царице Марфе Матвеевне?
— Моя подпись.
— А ведал ли ты, что та уступная незаконна и чему подлежат крепители её?
— Не ведал… Да почему незаконна?
— Недоросль не имел права, тем паче ему не принадлежащего.
— Какой недоросль?.. как ему не принадлежащее? Алексей Балакирев раньше того уже был на службе великого государя, и дядя его сам закрепил за ним, Алексеем, свои животы во Владимирском приказе. И признано это было надлежащим в Преображенском приказе, когда зачёт чинили похищенного Червяковым из казны, в возмещение.
Дьяк, предусматривавший, вероятно, подобную отговорку, зачитал:
— Балакирев Червяковым записан помещиком, как дознано, ещё несовершенных лет, и за несовершеннолетием вина Алексею по участию в мошенничестве дяди, казнённого за винность его, великим государем отпущена, с тем чтобы был он, Алексей, яко неразумный, во всей воле родительницы своей. А она, родительница Алексея Балакирева, вдова Лукерья, — прямая и единственная наследница брата своего, за постриженьем его дочери Анфисы.
— Что на это скажешь, стольник Андрей Апраксин? — спросил вторично князь-кесарь.
— Я этого всего не мог знать и не нуждался, имея в руках выписи из Преображенского приказа и приказание её величества государыни царицы Марфы Матвеевны: крепить вместо неё дарственную запись.
— Эти слова твои, Андрей, непригожие, — видимо сдерживаясь, но всё же не сумея скрыть злости, тоненьким, металлически звонким голосом произнёс князь-кесарь. Он прибавил затем с расстановкою: — На царицу усопшую клепать не пристало, и то вящая вина… поклёпом прикрывать своё плутовство. Говори что ни есть иное, на дело похожее.
Андрей Матвеич, упавший духом от такого приёма, чуть внятно проговорил:
— Другого сказать не имею.
В таком же роде прошёл разбор и всех пунктов претензий Алексея Балакирева, на которые при спросах, как было писано, то отговаривался он невозможностью представить доказательства, то, прося отсрочки, в данное время ничего не представил.
Был уже второй час в исходе, когда дочитан последний голословный извет Алексея Балакирева на мать самому царю-государю: что она держит не давлеючи отцовское наследство — поместье его, Алексея.
Поднялась тогда ответчица и, указывая на четыре заявки, сделанные ею в своё время о пропаже сына, только что женатого ею, подала князю-кесарю венечную память о браке сына и выпись из молитвенных книг патриаршего прихода, где записано было от законного брака её сына рождённое дитя мужеского пола, наречённое именем Иоанна.
— Державный кесарь, — прибавила помещица, — за нахождением сына в бегах, я внучково наследство удерживаю и все сберегла сохранно, ничего не утеряв. А буде изволите дать веру незнамо откуда явившемуся сыну моему, то изволь доход с его отцовского поместья вычесть из доходов моих наследственных после брата вотчин и дворов, и все покроется с лихвою… Я уже не отыскиваю с приказа царицына на свой пай, а воротить все сполна прошу мне, наследнице, что осталось после брата, чистым… за казённым взысканием.
— Быть так… Это совершенно законно. И тебе, Андрей Матвеич, советую, буде вдова Лукерья согласна одним удовлетвориться возвратом, подписать за сына, кончивши дело… Ты избавляешь себя и его этим от новой тяжбы, а возврат матери в пожизненное владение сам собою уж будет. Подумай!
— Что же Алексею останется? Его часть отцовская… да и та за уделением на жену и сына половины. А как же с остальным?
— Ничего ему нет из остального. Да и за Царицыну бывшую часть вам стоять нече, потому что те имения не вам, братьям, в разделе дадутся, а отчислиться должны в дворцовый казённый приказ.
Андрей Матвеевич Апраксин подумал-подумал и подписал полное удовлетворение решением тяжбы от князя-кесаря. Ответчица выставила и свою подпись полууставом: «Лукерья, вдова Балакирева».
— Сегодня же посылаю рапорт до великого государя. Пусть не корит меня медленьем. Решил в один день, как велел государь, и бесповоротно. В Сенат ему моего дела нече передавать, сами справились.
— Теперь мой Ваня богат будет. Поспешу в Питер его обрадовать. Мать туда же возьмём и заживём припеваючи.
Гаданья бабушки, однако же, как и думы внучка о безмятежном счастье и соединении, были расчётами на песке — как увидим.
Глава VII. ВСЯК К СЕБЕ ТЯНЕТ
В парадном красном кафтане с галуном и в зелёной епанче на красной подкладке да в шляпе с распущенной плюмажем, с галуном по борту, Ваня Балакирев казался своим современникам таким красавцем, на которого и мужчины могли при случае заглядеться. Находчивость, ставящая в тупик любого мямлю, не могла не нравиться Петру. Очень естественно, что милостивое выражение монаршего удовольствия заставило и царицын штат другими глазами глядеть на счастливца-удачника. Первая мамка царевен Авдотья Ильинична решила, что такого молодца следует прибрать к рукам, чтобы другим не доставался. У ней роднища была семьянистая, племянниц счёту нет. В бытность государыни за границею успела она выписать к себе из деревни и пристроить в комнатные девки одну племянницу, Авдотью Афанасьевну (выданную потом за Кобылякова). Эту Дуню, любезную и острую девушку, хорошо понимавшую даже взгляды тётки и их значение, Авдотья Ильинична задумала выдать за Ваньку Балакирева. «Он такой стрёмой; да и она не промах, — думала мамка царевен, — так мы и заживём припеваючи. Кого нужно под ноготок прибрать — приберём любехонько… Они парой — меня, а я их стану оберегать… И пойдёт как по маслу у нас».
— А что, девка, — рассуждая вслух, вдруг молвила Авдотья Ильинична племяннице, — ты ведь, чаю, не прочь бы за Ваньку… пойти?
— Как будет воля ваша, тётенька! — поспешила ответить покорная племянница, самым наивным образом опустив глазки в пол и заалевшись как маков цвет.
— И будто моя только воля заставить тебя за Ваньку идти? Полно, девка, не к делу хитрить!.. Чем парень не угар? Третьего дня довелось мне ненароком к фрелям толкнуться: уж не тебе ровня, а что ж бы ты думала, мать моя? И у их зубы точат насчёт балакиревского пригожества… Марья Даниловна простуха у нас: что ж, говорит, коли бы меня полюбил, я довольна бы была… всем взял молодец… Гляди на него… Сегодня у нас, а там, почём знать, и Сам-от в денщики возьмёт… Тогда до его и рукой не достанешь, как ноне до Ягужинского… Ведь тоже из посыльных выехал… да ещё у кого на посылках да на помыканье-то бывал… у непутных Монцовых, спервоначалу!.. Может, парня и бараши[302] очищать турили… А теперь… во какой стал, нам, старухам, и шапки не ломает. Пройдёт, словно и не видит, что сидишь… Така хря, что и сказать нельзя… Коли эвонова подняли годов в пять, в шесть, так не заказано подниматься и теперешнему угоднику?.. Да этот, никак, половчее будет… В карман не лезет за словом, да и знает, где смолчать и виду не показать… А где и сзубоскальничает ловко, на потеху кому повыше… Я уж присматривалась к его обычаю с самого первоначалу, как привёл его Лакостов и зачал его исповедовать. Перед шутом парень стоял с уважением. Да сам все нет-нет и глянет ему в глаза таково пристально да озетно[303], что и тот смекнул, что парень на стать. Выкликнула я старика да на ухо спрашиваю: «Каков?» А он мне только обе ладони вывернул да начал пальцами перевёртывать, а сам ничего не молвил… Я и поняла, что показывает: малый, хоть в ушко, значит, вдевай, пролезет без мыльца. Вот я попервоначалу и хотела было, чтобы исправней заручиться, турят его во все, да вишь, ворог какой, прочухал и нос сумел наклеить… Будто бы княгинюшку Настасью Петровну на смех поднял, а врёт, шельмец, поняла я, показал это он мне, что — щука как есть заправская. Зубаст и увёртлив. Значит, про прежнее мы теперя молчок… нужно зубы заговаривать ворогу — по шерсти гладить… Была, правда, надёжа, что свой человек, Дунька моя, толковита и воровата должна быть, сама смекнёт, как его исподтишка залучать… Да как вывезла теперя про волю-то мою единственно, так, видно, приходится отложить попечение на этот счёт… И то сказать… думаешь вперёд не о себе, старухе, а о молодёжи, разумеется… а коли рохлей будешь, тебе же хуже…
— Да я, тётенька, — откликнулась оживлённо чернобровая Дуня, — не поняла спервоначалу, куда бить изволит твоя милость… Хотеть-то за Ивана Алексеича пойти и не мне бы, дуре бесчастной, думалось, да ведь как Господу угодно… Про его ль пригожество и не одна, может, Даниловна думает-гадает; наши девчата третьего дня зазывали его в бирюльки забавляться… За фант — поцелуи… да не больно-то пошёл. Прикинулся боязливым. Мне, говорит, Пётр Дорофеич наказал из передней не отлучаться; тем паче к вам…
— Ишь ты, поганец!.. Этот Петруха Лакостов — стервец тоже не из последних. Должно, смекает свою Сарку спихать за Ванюху. Плут старый понимает, где ракам-то зимовать! Вот он-от нас и отвёл уж… Да ладно, что ты сказала это теперь. Ужо я государыне доложу, чтобы камер-лакею Балакиреву ближе велела ютиться: у нас, а не в передней горнице; где его там скажу, искать, коли нужно послать иной раз, и бежать некогда?.. Чуть не через двор. Нарочно от царевен из комнаты дверь к передней шкафчиком заставлю. Будут тогда кругом ходить… И ладно будет подстроить всю эту комедь… для залученья Ивана к нам под бок. Лакостов Петруха гриб и съест недуманно-негаданно. Ты только знай — не зевай. Чтобы из-под носа жениха не утащили.
— С нашей стороны, тётенька, и уменья, и охоты будет достаточно, а будет ли прок — не берусь отвечать. Букой глядит царский юрок. Испроведать бы, не находится ль уж зазнобы у него где на стороне?
— А ты так делай: коли и зазноба бы была, а ты бы показалась ему краше всех… Ну, чем, впрямь сказать, ты, Дуня, не взяла? Очи насквозь пронизывают; поступь — павушкой; дородства теперь не требуется, а коли в мать пойдёшь, перещеголяешь любую купецку жену; румянец что твой жар. Речь поведёшь — любого заговоришь. А привету аль ласки у нас кому иному прочему призанять придётся; а не нам у кого.
И, говоря эти слова, Авдотья Ильинична повёртывала Дуню, глядя на неё из-под руки с видимым удовольствием и понятною даже гордостью, девушка, пригожа и умница, была в её вкусе. Всю нежность свою — насколько только способна была она проявлять теплоту чувства — Ильинична высказала теперь племяннице, больше чем польщённой теткиною доверенностью. Если бы, впрочем, знала Авдотья Ильинична, как задолго раньше её слов уже кружил голову Дуне бравый Иван Балакирев, на неё не обращавший внимания, тётушка, может быть, и остереглась бы от дальнейшего разжигания в девушке сердечного пламени.
И то уже Дуня несколько ночей не смыкала глаз, одна из первых увидав в царском доме Ивана Балакирева, когда только ввёл его Лакоста в переднюю к царице. Девушка чувствовала и без внушений тётки необходимость заставить Балакирева — на первый случай — если не заговорить, то выслушать её. А сказать ей хотелось ему очень многое.
Нам, конечно, понятна причина, по которой Ивану Балакиреву казалось излишним направлять взоры в сторону царицыной девичьей. Обитательницы же царевниных комнат не могли понять, отчего ловкий камер-лакей не только избегает сношений с ними и не отвечает на окольные подходы, но даже прямые их затрагиванья принял он за правило не замечать. Его насторожённости девы верить не хотели и порешили, что вернее всего боязнь удерживает молодца в этом положении и мешает сблизиться с ними потеснее. Как мы видели, тонкая Авдотья Ильинична отчасти напала на след, подозревая участие в этом прежде всего Лакосты. И Ильинична с редкою проницательностью угадала побуждения, по которым шут взял под опеку новобранца на царицыной половине.
Но, как мы увидим, и Лакоста напрасно тратил своё ловко рассчитанное красноречие, чтобы внушить Балакиреву: он должен прежде всего искать поддержки. А охранительную сень влиятельной поддержки можно, разумеется, закрепить свойством. Вступая членом в семью, молодой человек обеспечивал себе её содействие вполне. Кто же своему пожелал бы в ту пору невзгоды или безвременья? С возвышением родича или свойственника могли, как Бог приведёт, и все, каждый в свою очередь, надеяться на благостыню. Род ещё много значил в ту пору. И опала разражалась иной раз по милости виноватой роденьки; и в Сибирь ни за что ни про что приходилось в ссылку тащиться; и с частью поместьев можно было расстаться за здорово живёшь. А всё-таки заманчиво было тянуться за родом: опалы реже ведь выпадали, чем милости от ближнего человека.
Эти же побуждения были и у Авдотьи Ильиничны, хотя она и очень плотно укрепила за собою государынино расположение. Да как рассчитывать на прочность чего бы то ни было на сём бренном свете? Благоволение сильных — учила вечная мудность — не прочнее росы в знойный день! А потому всякий спешил найти какую-нибудь протекцию и укрепиться связями с нужным человечком. Лакоста, иностранец, настолько, однако, проникся русскою обыденною мудростью, что по части поисков нужного человечка ничем не отличался от Ильиничны.
В то время, когда по царскому кивку и приказу Лакоста вышел для объяснения с Ванею Балакиревым, он, как мы уже знаем, дал ему понять с первых слов, что Ваня должен подчиняться указаниям руководителя, просто чтобы уберечься от ошибок. Они могли быть настолько ужасны, что и поправить сделанного иной раз невозможно. Рассудок Вани, положим, этот пункт принимая к сведению, в то же время стал соображать: какие бы такие могли оказаться ошибки, которые требовали бы полного отречения от своего я? Не много ли берет наставник на себя! Не олух же я, в самом деле, настолько, чтобы мне внутренний мой голос не подсказал, что этого делать нельзя, если вред несомненный? Будем сперва поэтому присматриваться: что за мудрёные такие порядки, чтобы не понять, где что можно и чего нельзя? И стал наблюдать.
Любопытство женское велико; кто этого не знает. Нового человека захотелось и фрелям, и комнатным девушкам рассмотреть; и стали они выбегать, будто за делом. Были малоприглядные, были и очень смазливенькие. Из числа последних быстроглазая Дуня, племянница Ильиничны, была всех краше и силилась всех упорнее заглянуть в глаза новобранцу. На удочку эту не поддался Ваня. Он, отвечая на вопросы, все в пол глядел.
— Нашего нового посыльного видала ль ты?
— Бука какой-то, а, впрочем, сокол такой, что расцеловать бы готова, — отозвалась Дуня вдове Максимовне, перестилая с нею вечером постельки царевнам.
— Какая ты, Дунька, влюбчивая! Как это, девонька, у тебя скоро? Сегодня первый день перед вечернями пришёл человек, а ты уж и целоваться готова!..
— Видно, Матрёна Максимовна, в тебе ничего никогда не ворошилось живое… Коли меня осуждаешь за скорость, как говоришь… Веришь ли, как увидела этого самого, словно ёкнуло сердце… Бравый из себя да румяный… Так бы схватила его за руку, да и закружилась бы…
— Рази уж такой писаный красавец? Дакось и я погляжу.
— Погляди… И сама мне поверишь…
Глядела ли в этот вечер Матрёна на Ивана Балакирева или нет, Дуне она об нём потом ни слова… Начала только присматривать за Дуней: как куда выбежит, Матрёна норовит в переднюю идти. Из себя была женщина не худа, не хороша; лет тридцати трех, пожалуй; хитра довольно и наблюдать за всем, что делается, охоча была.
На третий, никак, день она пришла в переднюю и, найдя одного Лакосту, сочла нужным намотать ему на ус:
— Вишь, старичок, тебе под руку, говорят, молодца отдали. Наши девчата известно, проказы, на уме… Выбегают все к вам — на него глянуть… Ты бы тово, иной раз и окрик дал, кому не следует выбегать. Эвона Дунька у нас Ильиничнина, похваляется, бесстыдница, твоего подручного, одно слово, расцеловать… Во она каковская.
— Мой нед тел до ваш тэвитца… Ви змотрай… Ми нишево. Цилюй дисатшу рас, моя суферешенная утуфолствия…
А сам принял к сведению сделанное внушение, и, когда Ваня воротился, справив комиссию, Лакоста посадил его подле себя и, наклонясь к самому его уху, прошептал:
— Я уснал мнока отшин никароши на двои шот…
Балакирев вспыхнул и хотел крикнуть: «Что такое?» — но шут, поспешно зажав ему рот и показав многозначительно на дверь во внутренние апартаменты её величества, вполголоса произнёс:
— То веджера!
Тут вновь послали Ваню с цидулами, и так случилось, что малый весь вечер был в разгоне и воротился на своё место, когда на половине царицы не слышно было движения.
Уложив царевен, нянюшки их, недневальные, уходили к себе на верхний антресоль, по каюткам, для покоя.
Лакоста тихонько, неслышными шагами ходил по передней, очевидно кого-то поджидая.
Увидев Балакирева, он просил его, шепча на ухо, следовать за собою.
— Да можно ли мне отлучаться отсюда?
— Зо мною мошна… Я дыби привету подом…
Ивану оставалось после этого, разумеется, только следовать за руководителем, которого велено ему было слушаться во всём.
Пошли они с царицына крылечка по двору в ворота, уже притворённые. Против ворот сидел сторож с соседними караульщиками, отбывавшими ночную службу по Луговой Большой улице. Луна в полном блеске выплыла на чистую полосу тёмного неба и ярко освещала сзади дворы, выходившие на Мью-реку. Тишь была за мостом полная. А у двора доктора, что Поликало прозывался, чуть мерцал красный фонарик, вывешиваемый с сумерек сердобольным врачом и акушером, чтобы нуждающиеся могли отыскать безошибочно его жилище и во мраке. От угасающего фонаря Лакоста поворотил вправо и, пройдя мимо десятка запертых надёжно ворот, остановился перед проходом, откуда прорывались лучи света, указывая, что вдали есть жилое помещение. Лакоста взял Балакирева за руку и повёл бережно во мрак прохода. А он чем дальше, тем больше суживался, образуя подобие какого-то извилистого коридора, из которого видно было в выси мерцанье одиноких звёздочек на узенькой полоске тёмной лазури. Сделав три, по крайней мере, поворота, Лакоста со своим спутником в полнейшем мраке стали подниматься по ступеням. Балакирев шёл позади вожака, осторожно поднимаясь и держась за поручень. Достигнув нового поворота или, вернее, площадки, Лакоста выдернул свою руку у гостя и, торопливо достав ключ из кармана, вложил его в замок неслышно отворившейся двери. Оттуда смутно блеснул огонь свечи, как видно зажжённой надолго, потому что образовался большой нагар на светильне.
— Проссу каспатина файди ф мая том.
Балакирев машинально повиновался.
Вошёл он в небольшую комнатку с завешнеными тремя окошками, но, должно быть, неплотно, потому что свет от свечи был виден, как мы сказали, со стороны переулка. Высокие кресла, картины, на столах книги и разные инструменты в большом количестве, употребление которых неизвестно было Балакиреву, — удивили молодого человека, поразили его воображение и природную пытливость.
— Это все ваше добро, Пётр Дорофеевич? — поспешно, не подумавши, спросил Ваня, оставаясь под впечатлением увиденного.
— Моё, конессно. Мосит твая быть, ессели сакхотшесс…— и рукою показал на портрет молодой особы, очень миловидной и чертами напоминавшей шута, смолоду, должно быть, очень статного и привлекательного.
Ваня закусил губу и не промолвил ни полслова, опустив глаза и не обращая их в ту сторону, где висел портрет.
Молчание гостя на минуту озадачило Лакосту, но, как видно, решившись действовать напролом и очертя голову, шут завёл непрерывную живую речь, произнося слова своим ломаным русским языком гораздо быстрее, чем говорил он обыкновенно. От этого, конечно, речь его и быстрому Балакиреву была далеко не вся вразумительна. От передачи её слово в слово мы освобождаем читателей своих по той же причине, по которой тягостна она казалась покорному гостю Лакосты, однако внимавшему хозяину без малейшего нетерпения, чтобы не оскорбить старика. Цель его приглашения и виды Ване сделались вполне ясны с первого же раза. Он не хотел внушать рассказчику несбыточные надежды на выполнение его фантастических планов: назвать Ваню сыном своим и наследником скоплённого всякими средствами довольно значительного достатка в наличной монете и вещах, а ещё долговых документов по претензиям на многих высокопоставленных лиц в Петербурге. Услужливый Лакоста им доставал у своих земляков-итальянцев деньги далеко не бескорыстно. В случае неуплаты ими вовремя он должен был платить свои, но тогда брал от должников закладные на недвижимость с избытком. По просьбе должников он откладывал процессы, получая проценты на проценты, и всегда был уверен, что в конце концов заложенное имущество может перейти в его собственность. Теперь, посвящая Ваню Балакирева даже в свои семейные тайны, шут с видимым удовольствием три раза повторил, что своей Сарре он приготовил в Питере семнадцать хороших дворов со всем, что в них заключалось и могло оказаться. Что у него, Петра Лакосты, рублевиков одних досыпается четвёртый мешок уже. При этом капиталист встал, подошёл к угловому шкафику под чёрное дерево и, вынув ключик из камзола, отворил дверь шкафа, в котором действительно на нижних полках лежали три мешка немногим меньше, чем мучные — во всю полку, вдоль её. На четвёртой же полке мешок, растянутый по ней, был ещё не туго набит, но уже было в нём больше половины. Довольный этим представлением своего капитального могущества, сделавшись ещё словоохотливее, Лакоста распространился в описании достоинств всякого рода имущества, можно сказать, нагромождённого в жилище владельца. Оно же состояло, по крайней мере, из пяти комнат, та, где велась теперь беседа, была не самая обширная.
При свете часто нагоравшего сального огарка на стене комнаты от всех в беспорядке набросанных там и сям вещей тени рисовали самые фантастические сцены. Особенно когда в жару беседы Лакоста каким-нибудь ораторским неожиданным движением трогал жидкую этажерку или висящий на снурках сквозной шкафчик, имевший одни боковые стенки, без задней и середней доски. Вещи, на них разложенные, приходили в движение, и оно сообщалось всей комнате, как бы колеблющейся или движущейся. Два раза при подобных толчках что-то скатывалось даже, и шорох от падения получал особый, смешанный звук, трогавший напряжённые нервы превозмогавшего сон, утомлённого Балакирева. Он невольно вздрагивал при этом, а Лакоста, несколько суеверный, принимался тотчас уверять, что у него в доме это просто случайность, а в других местах бывают звуки и даже нечто угрожающее от нечистой силы, которую, по его словам, мастера оставляют вместо сюрприза хозяевам, дурно рассчитывающимся за работы. В числе этих хозяев вставил очень искусно хитрый Лакоста имя Авдотьи Ильиничны, мамки царевен, уверяя, что она для племянницы в Морской улице купила домик, да в нём жить нельзя, потому что каждую ночь поднимают домовые нестерпимую возню, как только погасят огонь. Что это он слышал от золотых дел мастера Граверо, живущего по соседству, и что придётся мамке отступиться от своего добра или сбыть его за бесценок из-за этого казуса. С домика и племянницы Лакоста перешёл на мамку Ильиничну и её роль в царицыных комнатах. Здесь, у себя в доме, он боялся говорить вслух очень резко обо всех людях и высшего общества — «нисто трукхое, кхак дварь, ниплакатарна… Тсаритсу опманифаит, фарюит, зпледнитшаит пра всикх…» Ваня из дальнейшего объяснения узнал, что Ильинична — крестьянка из одной подмосковной деревни, крепостная Нарышкиных, взята была для самой чёрной работы царевною Натальею Алексеевною[304] и успела подбиться в услугу к Екатерине Алексеевне, когда ещё держали её под секретом в одноэтажном домике в селе Семеновском[305], выдавая за вдову царского повара, в детях которого государь — за услуги отца — принимал большое участие. Оставаясь при Екатерине большею частью все одна, Ильинична дождалась и красных дней: объявления своей патронши царицей. А с тех пор как дочерей стали воспитывать на манер принцесс крови, Ильинична напустила на себя важность и велит девкам горничным называть себя не иначе как гофмейстершей их высочеств. Что эту мнимую даму из лаптей все ненавидят, и сама государыня будто теперь не особенно жалует. Что воровство её царице сделалось известным во время путешествия с государем её величества. В Голландию написала генеральша Брюс, да заступилась по приезде старая шутиха княгиня Настасья Петровна; а вернее, подействовал подарочек от Ильиничны княжне Марье Федоровне Вяземской. Написала княжна, что будто дело не так совсем было, как донесено, и — спасла мамку. А то в грозном письме государыни велено было прямо за воровство Авдотью от хозяйства отрешить и обратить — по-старому — в судницы.
Ваня слушал с полным вниманием. При рассказе об Ильиничне, придирки которой он на себе уже испытал и всю сущность её уразумел, у малого и усталость пропала и сон как рукой сняло. Заметив впечатление от слов, Лакоста прибавил, что Ильиничны следует ему бояться как огня и ни за что не уходить от него из передней, где он ни на минуту не теряет Ивана из вида. Что все меры он принял, чтобы уберечь его от различных подкопов со стороны бабья царицыной половины.
Занятый своею думою о поповской Даше и понимая, что с бабьем поладить иначе, как заведя с ними дружеские связи, нельзя, Ваня горячо поблагодарил Лакосту за науку и обещание покровительства. Его к себе отношение и приязнь Ваня, забывшись, назвал родственными, и Лакоста, случайному выражению придав тот смысл, какой хотелось ему, мгновенно повеселел. Он вновь занёсся далеко от блеснувшей надежды и ещё усерднее принялся развивать на разные лады выгоды для Балакирева: соединить свою судьбу с ненаглядной Саррой — «Он-на карасса, как мать; змирьна, кхродха, россан алий; пелиссна знегге; фолесс тшерни; кхолес зладки»…
Нанизывая пышные эпитеты, Лакоста не замечал повышения своего голоса, гремевшего теперь трубою, способною разбудить мёртвых. Предмет же родительских восхвалений — девственная Сарра — лежала всего через две стенки и, несмотря на свою тридцать пятую весну, если ещё не благодаря ей, могла превзойти любопытством любую внучку праматери Евы. Понятно, что она не в состоянии была остаться на своём ложе в ту пору, когда, судя по речи родителя, произносились эпитеты её особе. Она понимала, что отец надеялся тронуть или привлечь существо, могшее подать ей, Сарре, руку, чтобы повести её к алтарю. Одна мысль о таком вожделенном событии бросала в дрожь живейшего нетерпения мечтательную, заждавшуюся невесту. И она в чём лежала, в том вскочила и направилась вдоль тёмных комнат на свет, льющийся из не совсем притворённой передней комнаты, где велась громкозвучная беседа. Пройти комнату, следующую за её спальнею, Сарре удалось бесшумно благодаря лунному свету. Вступив в комнату о двух окнах, соседнюю с местом полуночной беседы, Сарра подошла к самой щели в дверях. Подле дверей сидел отец, а гость его, к которому обращалось нахваливание скромной Сарры, приходился как раз против этажерки с разными редкостями. Видно было только сукно его красного рукава и зелёный цвет епанчи, заброшенной гостем при входе на спинку высокого кресла. Как ни напрягала Сарра глаза, но в узкие скважинки между вещами на полках этажерки ей не удавалось ничего больше рассмотреть. Неудача, однако, только развивает предприимчивость. То же было и с девственною Саррой. У неё блеснула гениальная мысль: распахнуть половинку дверей и заглянуть с другой стороны. Этажерка занимала не весь дверной проем, и если открыть другую половину двери, образуется место для наблюдений. Мгновенно последовало выполнение. Ваня сидел совсем задом к дверям, напротив овального зеркала, висевшего у самого входа с лестницы. В зеркале этом, когда он случайно бросил взгляд вверх, ему что-то показалось похожее на видение или на тень. Он заметил её ещё при движении девицы Лакосты в полутемноте, когда освещённая луною стенка то открывалась, то исчезала. В зеркале Балакирев видел постепенное приближение бледной фигуры, сверху чем-то покрытой. Сарра, боясь простуды и приготовляясь стоять долго, чтобы все услышать, на голову накинула одеяло.
Девица Лакоста при первом взгляде и днём казалась очень тощею. Представьте же: ночной полумрак и тень отражения в зеркале, отворившуюся дверь, откуда пролилась струя затхлого, хотя и прохладного воздуха, из мрака возникающую фигуру со скелетообразными формами груди и шеи, с космами, волнующимися от движения как змеи. Можете прибавить себе при этом ещё саван-одеяло и поникшую головку существа, как бы оставившего мир… Немудрёно, что испугался Ваня: зажмурился и стал читать пришедшие на память молитвы на изгнание бесовского наваждения. Долго ли находился в этом положении слушатель Лакосты, пока била его нервная дрожь, мы не берёмся точно определить, только его призвало к жизни и бросило в жар падение мячика с этажерки, столкнутого проснувшеюся чёрною кошкою… да крик хозяина на кого-то.
При звуках голоса Лакосты Ваня даже привскочил и с боязнью оглянулся на дверь, половина которой оказалась, однако, притворённою и отражалась в зеркале напротив.
Пётр Дорофеевич принялся уверять Ваню, что он задремал, но в словах его можно было подметить смятение и недовольство чем-то.
Ваню обуяла в это мгновение зевота, и он стал просить словоохотливого хозяина проводить его до улицы, поскольку его одолевает сон, а до завтра нужно отдохнуть, приготовиться к разгону с раннего утра до ночи.
Лакоста любезно предложил ночевать у него, говоря, что он распорядился заранее и все приготовлено для ночлега гостя, но Ваня упёрся и настоял на своём. Ему ещё живо представлялась голова, чего доброго, покойницы какой-то? И страх оказаться под влиянием нечистой силы почему-то теперь сильно занял мысли молодца, совсем до сих пор не помышлявшего ни о чём подобном. Теперь уже и сам Лакоста со своим скарбом казался Ване едва ли не знахарем-нашептывателем, намеревавшимся закабалить его, простака, в плен к лукавому. О том же, что представилась ему нахваленная родителем девственница Сарра, Ваня Балакирев не поверил бы никому, даже если бы и сам Лакоста вздумал уверять его. Так много значат неожиданность и обстановка. После бесполезных уговоров лечь в его каморке, по соседству, Лакоста уступил Балакиреву. Когда он свёл его со своей лестницы, предметы уже довольно явственно обозначились в полумраке рассвета.
Бедняк Ваня между тем, дойдя до ворот дворца, не попал на двор и проспал часа два на скамейке сторожа, пока не отомкнули калитку. Тогда тихонько прошёл в свою переднюю, докончил короткое время ночного отдыха на полавочнике у дверей.
Это, как мы знаем, случилось на самый праздник Преображения Господня, и казус — явление тени в доме Лакосты — так запал в мысль Вани Балакирева, что он не утерпел, пересказал попу Егору свои сомнения.
— Не со всяким человеком ходи в ночь, Иван Алексеич… Тем паче с нехристью какой ни на есть… Держися в сторонке ото всех их… верь Господу Богу, лучше будет… Покамест Создатель охранил тя от навета вражия… а ино и попускает Создатель искушение… Молиться надо, да хранит Вездесущий нас на всех стремнинах жития здешнего… Не ровен час-от… А от шута тем паче оберегайся… Коли вишь сам, что у его деется, а он те зазывал, говоришь, силком с собою идти? Умница, что не остался… Лучше у ворот будь… и дождичек пусть мочит… не велика беда… все лучше лихого человека… Может, и прелестник ещё какой… в ересь какую склонить неопытного. Давно ль ты, к примеру сказать, говел-от?
— В Великом посту, батюшка, со всем полком мы говели…
— Ну, это и слава Богу… а, чего доброго, долго бы не принимал тела и крови Христовых, враг и осетил бы бесстрашного и неосторожного…
На этом беседа перервалась, потому что молодой сынишка попов, вдруг вбежавши в комнату, сказал, что видел, как Фома Исаич шёл с каким-то солдатом к себе в дом и оченно не в себе… они…
— Вот уж и взял светлейший-от к себе!.. — ни к кому прямо не относясь, высказала матушка и вышла на крыльцо.
Её ждало полное разочарование на этот раз. Она увидела не просто выходившего из дома своего Исаича, а со связанными бечёвкою руками. Солдат полицеймейстерской канцелярии запечатывал вход в жилище Микрюкова, а запечатав, поднял и положил на плечо связанному епанчу его солдатскую да мешок с Фоминым скарбишком. Сам взял в руку конец верёвки и повёл Микрюкова к Гостиному двору, против которого в сенатском корпусе помещалась военная коллегия.
— Куда ж вас, родимый мой? — крикнула попадья удалявшемуся Микрюкову вслед. — К светлейшему уж?
— Не, родная… теперя солдатика этого самого предоставлю я перво-наперво в повытье воровских дел: вишь, бают, замыслил покрасти что у светлейшего князя… А потом как великий государь повелит: в работу… аль там на высылку куда ни на есть, как водится с солдатством… за провинность…
Сам Микрюков даже не оглянулся от стыда, не только ничего не ответил. Сердце его замирало от страха, что из-за нелепого запирательства знакомого писчика невыгодно растолкуют его поступок. Мечты о наживе, о поступлении в княжий дом погибли, если люди, схватившие его у корзинки, подтвердят обвинение. Просил уж он майора Коршунова, чтобы свели его под вечерок на двор княжий: уговорить управляющего; да тот, ворог, на солдат гарнизонных зол: упустит ли случай привязаться, когда видел сам, как Фомушку провожали в ворота княжеские рабочие да на спрос ответили — с поличным пойман!
Выслушав эти слова, Фомушку, отпущенного княжескими людьми, арестовал сам Коршунов и, не принимая от него никаких речей, послал его на дом с солдатом своим: досмотр учинить — нет ли чего? А нет, так в повытье воровских дел свести, несмотря на праздник, — с памятью от себя, чтобы приняли и посадили впредь до разбора дела. И в полк отписал, — как объяснил Фоме солдат, его ведший.
Попадья, слыша слова солдата, связавшего Фому, прибежала вне себя и все слышанное выбрехала сподряд, спрашивая мужа:
— Что бы это была за притча такая?
— Какая там притча, коли говоришь, приличился в татьбе? Татей вяжут, известно… Не дают по воле ходить, коли с поличным взяли. Вот те и пристроился у светлейшего! Рассчитывала ты его барыши там… Не за их ли, что больно скоро принялся, и ведут теперя в повытье?..
Ваня поник головою. Его доброму сердцу тяжело было слышать от матушки невзгоду хвастуна. Он к тому же не вдруг помирился и с мыслью, что сам случай с Микрюковым был возможен. Фома, положим, плутоват и жаден, но едва ли он стянет прямо… и у кого? У князя в дому!.. Не может быть.. «Что-нибудь, матушка, не так», — заключил он в раздумье.
А Федора Сидоровна вновь принялась пересказывать виденное собственными глазами и слышанное собственными ушами от солдата.
— На это Фома Исаич ничего не молвил поперёк, — заключила она не без злорадства. К этому чувству способны бывают обыкновенно создания таких правил и навыков, как матушка отца Егора. Он сам ничего не прибавил к прежде вырвавшимся у него словам и только качал головою, скорее одобрительно, чем отрицательно, при словах Вани.
Даша была так довольна своим положением, сидя подле Балакирева, что Фома Микрюков только скользнул, если можно выразиться, в её памяти теперь без всякого следа. Да и откуда мог бы оказаться след на зеркале, всецело отражающем черты милого образа, нисколько не похожего на Фому. Тот и прежде служил только пугалом, не более, и помехой её благополучию. Для Даши, истосковавшейся в отсутствие Вани, никого краше его не было, да к тому же сегодня он был наряжён таким молодцом, каким она раньше и представить себе не могла. До того ли было девушке — думать о Фоме? И кто из нас способен укорить Дашу за такое состояние её души?
От картины невозмутимого благополучия поповны перенесёмся во дворец.
Задолго ещё до возвращения домой Вани Балакирева здесь уже наведывались: пришёл ли он?
Когда вошёл Ваня в переднюю, где проводил он время подле Лакосты, на рундуке с полавочником, старик казался очень не в духе и с нетерпением ходил быстро взад и вперёд, беспрестанно сплёвывая. Эта его привычка выказывала необыкновенное раздражение. На Балакирева посмотрел он, как показалось молодому человеку, злобно и презрительно и не удостоил ответом на дружеское приветствие:
— Ещё здравствуйте!
— Твой пропатаид чили тни, а трукха тшилефек финофайд…
Балакирев ничего не понимал, что происходило.
— Меня государыня лично отпустить изволила на всё время своего царского из дому отсутствия к светлейшему князю — и никто мне не указ, коли отпущен. Царское же величество изволит ещё в саду быть. Как ехал я по Неве, слышны были из сада звуки рожков.
В это время из внутреннего коридора кто-то неприметно заглянул в переднюю, и вслед за тем вошла Авдотья Ильинична, мамка царевен.
— Тебе, голубчик, Иван Алексеич, государыня приказать изволила сидеть не здесь. Тут далеко очень; несподручно нам тебя кликать, как даётся приказание… Так изволь идти к нам. Я покажу, где быть тебе, сударик.
Ваня беспрекословно последовал за Ильиничной, не взглянув на сердитого старика, — скорее всего потому, что думал тотчас воротиться. Вышло не так.
Лакоста как будто присмирел. Усевшись против дверей в коридоре, он устремил глаза в потёмки и словно окаменел. Прошло немало времени, а он все сидел в этом положении. Лицо его только побледнело более обыкновенного и щетинистые седые усы задвигались, словно у кота, от содрогания кожи над губами.
Он, кажется, решился дождаться своего подручного, как до сих пор называли Балакирева. Но прошло больше двух часов. Совсем стемнело, а молодец не показывался.
Вот послышался чей-то шорох впотьмах. Лакоста вскочил как десятилетний мальчик, как говорится, горошком, но вслед за привскоком согнулся старец, почувствовав жестокую боль в пояснице. Мимо него прошла работница при комнатах царских детей, вдова Пелагея, и, сняв с вешалки епанчу Балакирева, унесла молча её с собою.
— Он-се сто? — не утерпев, спросил Лакоста бабу.
— Не будет, — лаконически ответила Пелагея.
Шут вскочил на ноги, выпрямился и забегал взад и вперёд, отплёвываясь с учащённою скоростью.
Ясно было, что ответ этот сильнее всего раздражил старика, и он почти себя не помнил в бешенстве.
Вспышка, однако, через несколько времени стала слабеть, и, побегав с четверть часа, старик уже из передней вышел, стукнув дверью.
Он понял, что его расчёты и планы неожиданным ударом разрушены, если не безвозвратно исчезли.
В то время, когда Лакоста, чувствуя себя дурно и проклиная мамку Ильиничну, вырвавшую Балакирева из-под его влияния, шёл домой из дворца, Ваня волею-неволею выдерживал tete-a-tete[306] с нею и племянницею.
Когда вошёл он в детскую царевен, Авдотья Ильинична с самою утончённою вкрадчивостью высказала новое распоряжение государыни и повела его сама на антресоли. Здесь отведена была для камер-лакея каютка с одним круглым окошком, из которого видны были две дымовые трубы на дворцовой кровле и сточная труба на углу флигеля на дворе. В каютке была кровать с пологом, два шкафа, стол, лавка и два стула у печи, подле которой была дверь в перегородке.
— Вот, батюшка, ты здесь должен расположиться, а за стенкой — мы, грешные… Ради соседственности, прощенья просим, на новоселье заздравную опорожнить, как у добрых людей ведётся. Чтобы нам, служа вместе, друг друга не выдавать и оберегать. Всяко бывает; козыряться не приходится и обегать добрых людей не довелось.
Говоря это, она взяла Балакирева за руку, двинувшись так решительно, что он машинально последовал за нею.
Переход к тому же был так недалёк, что некогда было раздумывать и останавливаться. Десять шагов вдоль световой стены и — дверь; за дверью, тоже против окна на двор, переборка деревянная, а за нею помещение Авдотьи Ильиничны.
Келья её была если не втрое, то вдвое, наверно, обширнее отведённого Ване апартамента. Мебель поставлена из царевниной детской, при замене там новою, лучшею.
Стульчики и софа были самых миниатюрных размеров, но столы и кровати обыкновенные, и обе кровати — мамки и её племянницы — одна против другой по противуположным стенам комнатки, с кисейными пологами и с подзорами из прошв довольно искусного рисунка. Эти прошивки в избытке в старину изготовлялись швеями бывшей царицыной мастерской палаты, и в запасе их имелось всегда довольное количество, так что можно было года через три заменять новыми. Из-за частых перемен и государынины слуги могли снабжать себя ими, как и прочими постельными принадлежностями, по первому требованию. Авдотья Ильинична была баба не промах и пользовалась всем, что только представлял случай приобресть даром. Этим объяснить можно обилие, если не излишество у Ильиничны всего, что отпускалось в комнаты царевен малолетних на сроки и бессрочно. Благородные металлы в изделиях и вкусное съедобное, начиная с рыб и мяс и кончая сластями, — все доставалось первой Ильиничне. Она буквально следовала пословицам «своя рука — владыка» и «своя рубашка — к телу ближе» и себе выделяла львиную долю, получая повеление делить или приходя к выводу, что «не спросят» того, что поступало в её ведение. Разумеется, и необходимость испытать лично доброкачественность материала, прежде чем представлять к употреблению их высочеств, играла тут не последнюю роль — в случае если бы пришлось оправдываться.
Это правило, широко применённое на практике, во всём блеске выказалось на собранном на столе в комнате почтённой мамушки, когда ввела она к себе Ваню Балакирева. Небольшой сравнительно стол в полном смысле был заставлен блюдечками, рассольниками и кунганчиками, вмещавшими лакомства всех родов и видов, которые привыкла готовить царственная Москва. Оттуда высылали к государскому двору в Петербурге целые грузы своих изысканных приготовлений гастрономов того времени не только наших, но и иностранных. Можно сказать, пустого места не было, на котором можно было бы рассмотреть сложный узор камчатной скатерти, покрывавшей стол. На нём теперь, кроме посуды, стоял только тонкодонный жирандоль[307] с двумя свечами, разливавшими обильный свет в комнате.
— Милости просим, чем Бог послал! — вымолвила Авдотья Ильинична не без гордости, взглядом, брошенным на стол, вызывая гостя похвалить угощение. — Вот, прошу любить да жаловать мою дочушку, Дуняшку: она у меня одна… Все, что по милости Божией да государской сколотить смогла, — все ей! Братец у меня, родной, один; его это дочушечка младшая, сиротка. Другие дочери от мачехи, а эта от любимой моей подружки, я её и присвоила себе в дочери.
Ваня робко поклонился Дуне, а она отвесила гостю поклон в пояс. При этом она подарила его таким вызывающим на сочувствие взглядом, от которого молодой человек должен был почувствовать невольное трепетание сердца. Если бы оно у Вани было свободно, трудно поручиться, чтобы он смог увернуться от расставленных ловко сетей амура; но, занятый мыслью о Даше по низложении соперника, Ваня теперь меньше всего был способен пленяться иною красотою и замечать какие бы то ни было заманчивые взгляды. Холодность Ивана Балакирева, выдержавшего первый обстрел чарующего взгляда Дуни, очень хорошо была подмечена разом и тёткою, и племянницею. Они даже переглянулись при таком неожиданном результате, поставившем их в тупик. Краска, выступившая на лицах тётки и племянницы, вызвана была чувством негодования. Девица, метившая в невесты новому Фебу, отнесла, впрочем, невнимание юноши к её пламенному зову недостатком светского обращения. Такое представление уменьшало вину недогадливого и неумелого и представляло в будущем возможность, может быть, и быстрейшего покорения его. Тётке пришло на ум, что Лакоста успел внушить о ней невыгодное мнение, которое скорее надлежало бесследно уничтожить. Она и принялась действовать с удвоенным усердием.
— Слава Богу, батюшка, что удалось мне, грешной, втолковать кому следует, что тебя, человека молодого хотя, да такого стремого, должны держать в милостивом призрении и полном довольстве. Чтоб было из чего тебе усердствовать… Мы, говорит государыня, Балакиревым и сказать не умею, как довольны. То-то, говорю, государыня милостивая, довольны быть изволите, так надо малого наградить своею государскою милостью, чтобы он не хмурился, думая, чем не угодил. Чтобы понимал он, что служба его замечена и не пропадает, надо его от прочей челяди отделить и предпочесть. Пусть у вас на виду будет, а не со двора, в передней торчит. Там без пути иной такой посылает, который плевка не стоит человека. Здесь уж коли изволят куда послать — сами позовём и расскажем, а лишней посылки не будет. Да надо, говорю, и комнатку ему отвесть: человек он, ино и отдохнуть надобность имеет, коли упарится… все как следует. Вот вверху, здесь, велела очистить комнатку… Сама я, голубчик, все тебе поставила, выбрала, прибрала и позвать тогда велела… Чтобы не с бухты-барахты человека ухватить. Теперь покорно прошу нас не чуждаться; по летам по твоим, коли б Сеня мой жив был, ангельская душенька, в твои бы годы, батюшка, почитай, приходился?! Один вы у матушки-то, смею спросить?
— Один.
— А — то сестрицы, верно?
— Никого нет.
— Что ж, отец-от, что ль, рано скончался?
— Нет, он и теперь жив.
— И матушка здравствует ещё?
— Да как с бабушкой сюда поехали, здорова была… Я сам три года уж не видал, пишут, здорова, а как знать?
— Пишут, так чего не верить?.. А отец-от на службе государевой?
— Кажись, что так. Баили — капралом, что ль, а где — неведомо нам. Не пишет к бабушке и к матери, как уехал… Ровно отца и нету у меня… совсем.
Балакирев, проговорив эти слова, под наплывом горького сознания семейного одиночества почувствовал минутную тоскливость, отразившуюся в живых чертах его подвижного лица. Это не укрылось от внимания Ильиничны, и она разлилась новым потоком ласковых речей, в которых сказывалось как бы горячее сочувствие к бездомному сироте.
— Не вешай головы думной, молодчик хороший, я недаром нянькой служила, с детьми возилась, от их, знать, понабралась норову; как вижу чужую тоску, сама готова плакать. Поведай, голубчик, свою кручинушку… Ино можно попросить матушку: велит государь и про отца испроведать… А родимую захочешь повидать, и то можно: пустят на сколько-нибудь… заслужишь… Главное, не таись от меня, старухи, я же не ворогом хочу быть, а желала бы все угодное сделать… Кое-что во святой час да в добрый могу замолвить, времечко выбравши; и делывали, бывало, по моему челобитьицу…
Ваня молчал. Он ещё памятовал наставление Лакосты, и сладкие речи Ильиничны не совсем могли усыпить его природную осторожность и рассудительность.
Рассудок подсказывал: «Берегись; все, что говорилось, очевидно, недаром. Видывал я, как Авдотья Ильинична шипела на других, да и на меня спервоначала налегла крутенько; совсем не чета теперешнему. Подъезжает теперь, очевидно; только бы понять, с какой стати? Что ей от меня нужно?»
Мы уже выше замечали, по поводу знакомства Вани с попом Егором, что внук Демьяновны был неопытен. И теперь он не мог догадаться: что за цель у Ильиничны прибирать его к рукам. Теряясь в догадках, Ваня был смущён. Она же, с своей стороны, не спускала с него глаз и, подметив его смятение, объяснила это в свою пользу: «Ай да Дуня, значит, недаром трудилась…» — подумала она. И взглядом, устремлённым на племянницу, указала на смущение гостя, — девушкою, разумеется, и раньше замеченное. Дуня повернула голову и, поведя глазами на Балакирева, этим выразила сомнение в том, что можно вывести его теперь чем-либо из бездвижности. Новый, более упорный взгляд тётки, кинутый на племянницу, давал ей приказ не оставлять атаки; вслед за тем Ильинична молвила:
— Дуня, ты бы гостю поклонилась гостинчиком… Вишь, он ломливый: сам будто не смеет.
— Прикушайте, Иван Алексеич: вот яблочко наливное… вот вишенки из царских владимирских садов… коврижки с Вязьмы с самой… сухое вареньице — нам прислали из самого из Киева.
Произнося каждый титул, Дуня поднимала со стола блюдечко и подносила гостю. Он как-то нехотя взял две вишенки и положил подле себя да одну мелкую коврижку, облитую сахаром, с померанцевого коркою.
— Ты, как я вижу, сама, девушка, не умеешь потчевать… Гостя проси, не ленись; не отнимай блюдечка, пока в почесть не изволит взять. Вот увижу я, как он будет упрямиться… приду незамедленно, только взгляну вниз…— И, встав с места, поспешно удалилась. Гость волей-неволей должен был сидеть на месте.
По уходе тётки Дуня подсела ближе к гостю и заискивающим голосом спросила его:
— Чем я, бесчастная, прогневить успела тебя, Иван Алексеич? Когда бы высказал, знала бы по крайности, чем провинилася, рази неумышленно… а то думаю-думаю, ума не приложу.
— Чем ты могла прогневить? Я вовсе не гневлив. С чего ты это взяла, голубушка?
— С того, что не изволишь глядеть на меня, бесталанную, не приветишь словом ласковым…
— Я, голубушка, не мастер речи на подбор подбирать, и в беседу вступать не приходилось ещё, потому по самому, что не для чего… Кто выйдет — скажут, что мне ехать аль идти надо, а коли позволишь утро доброе желать — с нашим великим удовольствием. А насчёт того, что неразговорчив я, то спервоначалу человек к вашим порядкам не пригляделся: как что у вас ведётся… И мы будем делать такожде…
— Мы вот с тётушкой истинно тебя как родного полюбили и так напредки будем всякую приязнь оказывать… Ты же, баишь, здесь в одиночестве… Чай, только по товарищам по полковым сегодня удосужился наведаться… как часок вышел свободный?.. — И сама устремила пытливый взор.
Сердце её сильно забилось почему-то, и вся кровь прилила к нему, наведя на лицо девушки смертельную бледность.
Мгновения показались ей веками, а Балакирев не торопился ответом. Дуня не выдержала и, вся зардевшись пламенем, повторила вопрос: — Что же, по товарищам ходить изволил сегодня до вечера?
— Нет… был у знакомого батюшки отца Егора в посадской слободе, за рекой… А своих видел одного бывшего своего дядьку Семена Агафонова…
— Что ж он, обрадовался, чай, тебе?..
— Как же. Поговорили всласть. Сказал ему, где я… и какую должность мне дали…
— А поп-то вам давнишний знакомец… из вашей стороны, что ли?..
— Нет, здесь…
— И большое семейство у попа?
— Так себе, ребятки есть подростки, есть мелюзга…— И остановился, опустив голову.
У Дуни отлегло от сердца. Ваня не думал лгать, но про Дашу с кем-нибудь заговорить у него не хватало духу. Дуня же была вполне довольна ответами Вани и совсем повеселела. Она в эту минуту готова была обнять всякого встречного. Бросилась бы на шею к Балакиреву, если бы не удерживала девичья стыдливость. А что она чувствовала в эту минуту — трудно пересказать словами. Рукам её почему-то хотелось прыгать, бить такт; делать из пальцев козу рогатую — на маленьких ребяток… Шаловливые пальцы, прыгая, задели без спроса своей обладательницы за грушу, которая потеряла равновесие и скатилась из рассольника на блюдечко морошки, разбрызнув варенье. Несколько брызг попало на белый кружевной парадный галстук Вани, и он полез в карман за платком. Виноватая Дуня поспешила поправить сколько-нибудь свою проказу и, намочив ширинку в воде, принялась смывать морошку. Для большего удобства она взяла Балакирева за плечо одной рукой, а другой принялась тереть кружева, ещё больше смачивая их.
Пришлось в конце концов распустить узел и платок совсем снять с шеи. Дуня принялась поспешно застирывать на кружевах пятна от сиропа, когда вошла тётка и очень благоволительно расхохоталась.
— Вот уж, батюшка Ванюшка, и прачка своя! Добрый знак… Видно, нам тебя и впрямь к своим близким… причислить?
Балакирев поклонился, и поклон этот был принят за чистую монету. Вопрос о причислении к своим молодого лакея царицы — казалось Ильиничне — развивался сам собою, чуть не по щучьему веленью. Самолюбие — великий сводитель концов в такой именно узел, который мы рассчитываем завязать всего удобнее. В мыслях выходит это неизменным и непреложным; на деле бывает иначе. Тётка и племянница обе были в этот вечер в таком настроении, которое не допускало возможности решить дело о Балакиреве не так, как им казалось. Замыванье шейного платка нужно было окончить вполне теперь же, не откладывая до утра. Утром уже лакей обязан был с раннего часа быть начеку, дожидаясь посылок. Поэтому Ваня в комнате Ильиничны дождался, пока затопили печку и виноватая Дуня, встряхивая перед огнём, высушивала кружева да руками сплоила их.
Ваня Балакирев вернулся в свою каютку уже далеко за полночь. Раздевшись, он думал заснуть, но сон не приходил на зов молодого человека. Только на заре уже задремал он и видит себя в воеводской избе в Муроме. Бабушка упрашивает непреклонного солдата, чтобы взял он назад свою явку А он хохочет:
— Ни за что! — говорит.
— Отпусти, голубчик мой! — упрашивает бабушка.
— Сказал: не будет этого — и не будет!
— Проси, Ванечка, служивого! Может, сжалится на твою юность да неумелость… пощадит.
— Пощади! — говорит Ваня за бабушкой.
— Так нет же! — закричал сердитый солдат визгливым голосом Авдотьи Ильиничны. Ваня вглядывается и видит — что не солдат, а сама Ильинична крепко схватила его за руку. Вместо же бабушки стоит Даша поповская и слёзно плачет: «Не оставляй меня, Иван Алексеич… Не переживу я твоего оставленья…»
— Не оставлю, — утвердительно говорит Ваня и чувствует, что его трясут за плечи. Сквозь сон слышит он слова:
— Ишь как заспался, провал те возьми!.. В какую вышь усудобили лентяя, а он и рад дрыхнуть до вечерен, — благо некому будить.
Очнулся Балакирев. Будит его сам Пётр Иваныч Мешков.
— Зачем я вам потребовался? — не без удивления, сев на своё ложе, спросил Ваня грозного интенданта.
— Ещё спрашиваешь, негодяй!.. Видно, нужен, коли вскарабкаться мне, старику, сюда довелось… Ты мне-то скажи, куда девал епанчу свою?.. Новая епанча, с иголочки.
— Сюда, должно, занесли и повесили по приказу Авдотьи Ильиничны где-то… Я ещё недосмотрел.
— То-то, недосмотрел… не прогулял ли ты её, смотри у меня… Лакостов, проклятый, взбудоражил, вишь… Пришёл. «У нас, — говорит, — из передней епанча Балакирева унесена… не видно…» Как, думаю, так? Кто унёс, коли сам не спустил? Хоша стар человек, а коли о добре государевом речь, поплетусь-ка, думаю, да разыщу… Свой глаз всего вернее.
— Спросите у Авдотьи Ильиничны, я сюда переведён по собственному приказанию её царского величества.
— Ладно, ладно, спрошу… Теперь ещё спят, а ты, коли разбудил я тебя, вставал бы да поискал епанчу… За тобой слуг-от нет…
И сам поплёлся из коридорчика к лестнице, оставив разбуженного Балакирева в досаде — очень понятной.
— Вот бестолочь! — плюнув со злостью, прошептал несчастный. — Хорош будет, видно, денёк, коли так начинается.
Пробовал заснуть — не удалось. Встал, делать нечего. Оделся. Слышит — заходили внизу. Сошёл. Сел в коридорчике совсем готовый. Вышел в переднюю — Лакосты нет; хотя обыкновенно и рано приходил старик. Балакирев догадался, что шут, взбудоражив интенданта, намерен сухим из воды выйти. Для того и не приходит… умышленно.
Ваня почувствовал скверное желание отомстить за неприятности, но развитию гнева помешал выход Ильиничны, сунувшей ему в руку записку, залепленную сургучом.
— Снеси к Монсову, к Вилиму Иванычу, и попроси ответ, да поскорее! А придёшь — никому, опричь меня, ответа не отдавай… Знаешь, где найти его?
— Здесь близко, кажется?
— Не знаю, как тебе сказать. Готов ли дом, что наискосок дворца, через дорогу… А не то — и на Городской остров скатай, только скорейча же. Выходила от Самой Анисья Кирилловна и сказала, чтоб наспех ответ принести.
— Бегом слетаю… Да, кстати: куда убрали мою епанчу из передней, с гвоздя? Индентант спать мне не дал — пристал, куда я девал епанчу… «Прогулял», — говорит, — и все тут.
Ильинична спросила у посыльной своей. Епанча, конечно, оказалась прибранной, и место указано, где вешать её. Пошёл молодец и нарочно завернул в подклеть к интенданту — показаться в епанче.
— Ну, ин ладно… Ужо я напою старому черту, шуту проклятому… Нельзя не искать, коли наврал, что пропала у тебя… Ты на меня не серчай, и сам, коли в чём в ответе, искать примешься… коли говорят, утерялася. Юрок ты, сам царь говорит, ужо буду знать, что исправен… Ступай же, брат! И мне, и тебе некогда пустословить.
Вот и все оправдание за кутерьму. Пришёл к Монсу.
— Цидулу велено передать и ответ получить, — объясняет Ваня худощавому юркому молодцу, в передней палате что-то писавшему.
— Давай. Прочтём и ответим.
— Тебе не дам… Самому господину должен в руки…
— Да он спит ещё…
— Разбудите!.. Коли от государыни — встанет и примет.
— Много чести. Станет Вилим Иваныч вставать раньше времени! Отдай мне, всё равно. Встанет — предоставлю.
— Мне велено самому в руки, и никому больше.
— Ну… мне, значит, все едино…
— Ничего тут нет и похожего на дело, не только не едино. Холоп останется холопом, а барин — барином! Всяк сверчок знай свой шесток…
— Я не холоп вовсе, а секретарь… От холопа разница. Все бумаги и челобитья к Вилиму Иванычу — ко мне идут.
— Ну, пусть идут… окромя этой цидулы. Её отдам только самому.
— И мне отдашь, коли добра хочешь да толк смыслишь в делах… А не хочешь давать мне — пошёл вон!..
— Гнать ты меня не смеешь, коли, говорят, за делом послали… А тебе не отдам и заставлю идти… разбудить барина.
— Ну… это старуха надвое сказала… Хоша и вставши бы был, да не выходил из опочивальни, к нему не пойду.
— Покажи мне, где эта опочивальня… Я и без тебя дело справлю.
— Ловок ты, я вижу…
— Смекаю, что ловчей тебя… Знаю, как дело справлять, а ты не даёшь… Скажи на милость-, что ты за птица?! — начиная терять терпение и возвышая голос, говорил Ваня.
— Вот какая я птица, что не ори, а ступай вон честью, коли не даёшь цидулы!
— Я тебе говорю: не пойду, пока сам не отдам, как велено. Послан я наспех. Грубияна встретил — жалобу принесу своим чередом, а… медлить больше не могу.
Говоря эти слова, во всём, в чём был, ражий Балакирев сделал шаг от дверей в внутренние комнаты, заметив слева притворённые двери.
Писавший вскочил и заслонил собою эти двери. Ваня сдвинул его с места, повернув как перо. Но сбитый с позиции ухватился за силящегося войти. Произошла борьба.
— Что там у вас за возня! — раздался сердитый голос из внутренних покоев.
— Меня не пускает ваш человек, Вилим Иваныч, а велели мне наспех цидулу отдать и ответ принести! — крикнул Балакирев.
Боровшийся с ним побежал, должно быть, оправдываться.
— Подожди, я позову, оденусь! — раздался через несколько мгновений голос Монса, и вслед за тем показался присмиревший секретарь. Балакирев бросил на него взгляд победителя.
— Постой же, шельма, я проучу тебя, коли поперёк пошёл! — с угрозой прошептал смирившийся. — Будешь помнить Егорку.
— Хоть Егорок сотню поставь — не испугаешь! — отозвался Балакирев на бессильную угрозу врага.
Продолжать перебранку было некогда, потому что раздались шаги и приказ:
— Войди сюда!
Балакирев отмахнул притворённую дверь и очутился перед нахмурившимся Монсом, сидевшим в креслах в шлафроке и в надетом кое-как парике.
Почтительно подойдя и вручая цидулку, Ваня повторил данный ему наказ и заявил жалобу на препятствовавшего спешной передаче.
— Все так, да ломиться в чужой дом не годится… потише можно тоже сделать.
— Я ничего другого не мог при отказе вам доложить… Никому другому, кроме собственных рук, отдавать не приказано.
Монс не возражал, уже разломив сургуч и читая. По мере чтения лицо его прояснялось, и, кончив чтение, он подарил верного переносчика взглядом благосклонности и прибавил:
— Ты прав, мой друг… Всегда так поступай… Егор! Когда он придёт — не задерживать и дурачеств не начинать впредь. Ты виноват, он — прав кругом. Нужно было действительно… Я сейчас напишу ответ. Проси, Егор, у него извинения. Помиритесь, и чтобы не было между вами тени распри! Приходить должен он часто ко мне. В первый и последний раз тебе спускаю вину… Не то смотри… За заносчивость может быть тяжела расплата.
Пока писал барин, недавний противник счёл за благо послушаться наказа высшей власти.
— Коли погрешил я от усердия, где не нужно, не гневись. Я, Егорка Столетов, за провинность готов услугой отплатить. Скажи, как звать тебя, и будь покоен: знавши, не прогневлю.
— Иван Балакирев я. Коли смирился, Бог простит. Быль молодцу не укор… Коли бы не наспех, чудак этакой, чего бы мне тебя не слушать! Да есть власть повыше нас с тобой; в силу этой власти я и настаивал… Егором, молвил, прозываешься, а по отчеству как?
— Михайлов, Столетов… А вас как честят по батюшке?
— Алексей Гаврилов батька, а моё имя Иван, я сказал.
— Из каких вы?
— Дворянин. Солдат был в Невском полку, а недели полторы — государь взял во дворец и лакеем я… у государыни.
— А я подьячий, из писчиков, секретарь Вилима Иваныча; невдомёк мне давеча, — кафтан-от твой, думал, княжеский… а там люди что собаки: завсегда огрызаются.
Вилим Иваныч позвал Балакирева и тихо сказал, подавая цидулу:
— Ильиничне одной. А я тебя помнить буду. Вижу, исправный малый. Коли что потребуется, можешь обратиться ко мне — не ошибёшься и не напрасно просить будешь… Ты мне полюбился заправду.
Ваня кланялся, пятясь задом к дверям, и, отвесив в самых дверях последний поклон, повернулся и вышел в переднюю. У дверей он по-приятельски простился с новым знакомцем Столетовым, внутренне смеясь возникшему казусу.
Войдя ещё в коридор перед комнатою младших царевен, Ваня услыхал вверху у себя знакомый голос, и при звуках его сильно забилось сердце молодого человека. Ноги как бы приросли к полу, а самому хотелось перелететь пространство, отделявшее от места, где слышался хорошо известный ему говор.
— Никак, бабушка здесь!
Балакирев летит и видит подлинно свою бабушку, усаженную Ильиничной в кресла и ведущею с нею беседу такую дружелюбную, как бы век жили душа в душу. Помещица, сидя задом к дверям, не вдруг увидела внука, а увидев — зашаталась и только произнесла: «Ванечка!»
Оправившись несколько, она усадила перед собою внука и смотрела на него, молча любуясь статностью юноши, которому очень шёл ливрейный кафтан придворный.
— Истинно, матушка, сокровище тебе Господь Бог дал в потешенье на старость Ивана Алексеича! — с одушевлением высказала Ильинична, вторя в том чувству бабушки, не помнившей себя от радости.
— На нашу сиротскую долю Господь дал и царю-то, государю, спознать Ванечку… позаприметил, видно, коли и к себе-то во дворец взял… Красный кафтан дал и эти, прости Господи, брыжжи непутные.
Бабушка, охорашивая внука, почему-то невзлюбила кружевных концов его шейного белого платка, с которым произошёл вечером грех.
— А матушка что? — сам осмелился спросить Ваня бабушку, замолкшую вдруг под впечатлением такой перемены в судьбе внука.
— Все здоровы. Бабка рюхинская благословение посылает. Все добрые люди, окромя твоего ворога-отца непутного… Ништо взял злодей с меня… сберегла и отстояла я, Ванечка, твой достаточек. Отец твой гриб съел, а ещё у царя суда на мать просил.
Ильинична, как ни желалось ей все разом выслушать, что говорить будет бабка с внуком, должна была удалиться с ответом, принесённым Ванею.
Часть II. МСТИТЕЛИ
Глава I. НА РАСПУТЬЕ
Авдотья Ильинична удалилась, обещаясь скоро прийти.
Счастливый Ваня, оставшись один на один с бабушкою, не замедлил посвятить её в тайну своего сердца, но бабушка слушала как-то рассеянно.
— Вот ужо я отпрошусь и тебя, родная, сведу к батюшке… увидишь моё счастье…
— Какое там счастье: связаться с поповной без алтына денег, да роднища, вишь… робятищи… Не такая тебе нужна жена… А чтоб поддержка через родню её была… Чтобы по рангу твоему, из своей братьи, вокруг государыни… Чего морду воротить от Авдотьи Ильиничны?.. Случайный человек… приветливая, умная, разумная, учтивая… Поддержка прямая, крепка надёжа…
— Я и сам, даст Бог, эту надёжу в себе сыщу… службою дорогу найду к милостям, не хуже других…
— Конечно, коли сам не будешь хорош, Ванечка, никто тебя не поддержит, спору нет… Да при поддержке и твой талан да сноровистость приметят; а без замолвки доброго слова, хоть семи пядей будь — не больно-то оценят… Я человек старый… всего навидалась… могу дать тебе один добрый совет… ведь ты у меня один… Стало, то пойми, что добра желаючи, тебе говорю — не погуби себя… неразумьем!.. Благо любят тебя здесь… Авдотья Ильинична баила, что души в тебе не слышит… Смотрит как на родного уж… и должен ты, это самое, на ус намотать… Не искать по задворкам, коли счастье на завалине сидит да тебя ждёт.
— Нет, бабушка, то не счастье, что приголубить задумали, когда съесть, чего доброго, не удалось — сам зубы показал да нос наклеил бездельным помыкателям… Теперь лебезить вздумали, как в них не нуждаются. А то счастье, родная, где душа — не расчёты и сердце отозвалось сердцу… как у нас с Дашей. Менять Дашу на приязнь Ильиничны и племянницы её — плохой расчёт, хоша бы и сердце не говорило другого… А тут не властен я забыть Дашу… Не корю Авдотьюшку — приглядная девушка, невеста хоть куда, только… не нам.
— И нам будет с руки, коли дурить перестанешь да взглянешь на дело разумно и толково: самохвальства не забираючи да своё досужество не представляючи. Ильиничну, коли теперь и впрямь благоволить к тебе стала, раздражать не рука; а ковать железо, пока горячо, — самая осторожность напредки требует. Времена переходчивы. Раз сошло ладно твоё невежество — что коня отпряг у княгини там какой-то — да, правду сказать, и самому батюшке показалось впрямь твоё дело правое… и слава Создателю!.. Только ведай, Иван, недаром пословица искон ведётся: близ царя — близ смерти! И угодить подлинно будешь стараться, да не покажется — и прогнали за посмех…
— Не та пора, бабушка! Не такие люди и порядки не те, да и сам государь невинного не обидит упрёком, не только взыскивать не станет за небывалую вину. Сам себя знаешь. К службе усердствуешь. Знаем стал повыше Ильиничны кому — так её гнева не боюсь… А буде мстить станет, по своенравию, что не сделаю, как ей хочется, — даст Бог милости, отделаемся. Только душу свою за какую ни на есть честь не продам. Сердце неволить не хочу… Даша — сказал — моя и будет моей!… А хороших, пригожих, богатых, тороватых, родовитых и сановитых Ваньке Балакиреву не надо… Без их проживём с одной Дашей.
— Не ершись так, молоденек ещё, Ванюшка! — едва сдерживая гнев, высказала Лукерья Демьяновна уже с пылающим лицом. Взорвали её последние слова Вани, что Даша будет его во что бы то ни стало. «А я-то что? а слова-то мои внуку, наказы-то, во что же он вменяет?» — представилось жёлчному самолюбию старухи, и — поставить на своём было её первое решение.
Ваня ничего не ответил, высказавшись вполне и понимая, что коса находит на камень и что бабушка на первых же порах попала в сети Ильиничны. А Лукерья Демьяновна при упорстве своём не способна была ни к какой уступке. Вспышка бабушки Ваню сразу отрезвила и указала ему единственную тропку для удержания своего права — уклончивость. Он уже стал винить себя, что слишком прямо высказал своё непременное решение: взять Дашу. Но через минуту пришло ему на ум, что сделать иначе, как он поступил, не задумываясь, и нельзя было, сколько ни думай. Самая горячка его в настоящем деле даже была частию выгодна. Как ни была разгневана упорная старуха Балакирева, но по пылу внука поняла, что сразу с ним ничего не сделаешь, а можно провести свой план в несколько приёмов, напирая все на одно и стоя на своём. Приняв такое решение, она понизила тон и милостиво наведалась у внука, когда он будет свободен?
— Трудно сказать, бабушка… могут и теперь же куда-нибудь протурить.
Действительно, в притворённую дверь кельи Ваниной тихонько постучали, вызывая его.
Он встал с места и, отворив второпях дверь широко, чуть не ударил Дуню, племянницу Авдотьи Ильиничны.
Дуня несла закуску для гостьи. К счастью её, она подошла к двери Ваниной кельи тогда уже, когда хозяин и гостья молчали, подавленные предшествующим объяснением. Значение бабушки для внука, смущённого и робкого, Дуня поняла довольно осязательно, и надежда с её помощью устроить судьбу свою с Ваней мелькнула в мыслях девушки.
— Вас зовут, — сказала она робко предмету своей развивающейся сильно привязанности.
— Ты, бабушка, посидишь у меня ещё? — застёгивая кафтан и поправляя тупей[308] перед зеркальцем, спросил Ваня.
— Подожду тебя… Может, как воротишься, пустят тебя меня проводить… увидишь, где остановились мы… Я ведь матку привезла сюда.
— Балакирев! — раздался снизу голос недавно ещё пожалованного в гофмейстеры гофкурьера Димитрия Андреевича Шепелева[309].
Ваня поспешил сбежать по лестнице вниз.
— Зовут к государыне.
Её величество сидела в своём покоевом канифасном[310] бостроге да в юбке и раскидывала карты на три кучки.
Ваня стал у порога и поклонился. Анисья Кирилловна Толстая, сидя подле государыни, отдала приказание:
— Подойди поближе и не перепутай, что я тебе буду говорить: прежде съезди к княгине Настасье Петровне, наведайся о здоровье да скажи, чтобы завтра не жаловала, государыня занята будет; и послезавтра тоже нельзя будет её принять. Потом съезди к Варваре Михайловне, попроси на образец выкройку крылышек старшей княжны Марьи. А это, — подавая цидулу, сложенную уголком, сказала она вполголоса, — отвези камер-юнкеру на Городской остров и отдай в собственные руки, да ответ его привези ты же!
— Слушаю-с! — ответил Иван и, отвесив поклон государыне, смотревшей на карты, прошёл к коридору, где висел его плащ.
В плаще и шляпе прошёл Ваня через переднюю и уже взялся за дверную ручку, как Лакоста, ожидавший, должно быть, выхода его, пробормотал на ухо своим металлическим голосом:
— Ппи-ри-кись Иль-ги-нис-шни…
Крепкое пожатие руки и взгляд полного доверия были ответом со стороны Вани на бесполезное, как мы уже знаем, но доказывающее приязнь предостережение шута.
Княгиня Настасья Петровна жила попеременно то в доме у Литейного двора, то на Городском острове, в конце Большой Дворянской. Где застать её вернее каждое утро, было загадкою. Ваня решил всего удобнее ехать на рябике и сперва завернуть в Невку, к Дворянской, а буде там нет, можно было уже и к Литейному двору, недалеко отклоняясь.
Садясь в рябик, сказал Ваня, как ехать, старшему гребцу Антипу.
— Нет, государь Иван Алексеич, коли к Монцу нужно ещё, так наведаемся вперёд к Литейному, а на Городской остров успеем скорее и никого не проглядим с Невы. А коли на Городской попрежь, может, княгиня уедет, и мы не захватим её… Тогда — гонка тебе, потому что коли с отказом посылают, никак не желается, чтоб очи показывала… И коли без приказу, греховным делом, по першпекту скатаем, можешь оправдание принести: к ей, мол, к первой поехали, да не застали уж.
— Ну, ладно, коли так…
Выехали на Неву и плывут серединой. Вот поравнялись с Троицкою пристанью; вот впереди магазейн, где на часах Ваню поймал царь на купанье; вот хоромы министерские и канцелярские на повороте в Невку, на Городском острову. А на Московской стороне, за Летним садом, впала в Неву Фонтанная речка; за ней дворцовый запасный дом с амбарами и погребами и новая слободка из постоялых домов до прорываемого наискось к Литейному дому канала. А за ним к ряду и полукаменные хоромцы княгини-шутихи; низ на новый манер — каменный; фундамент как следует, а деревянный верх с красными и волоковыми окошечками — к крыльцу и на реку. И драниц[311], видно, не хватило и у сиятельной на всю кровельку; гонтин[312] наколотила с надворья. Крыльцо с Невы-реки, а сбоку, на двор — въезд, что в помойную яму. Обиталище сиятельной скопидомки внутри было тоже смесью новых излюбленных старинных московских порядков. Впрочем, так бывало и у всех столбовых бар петровского времени, придерживающихся старинки. Сама княгиня Настасья Петровна от привычек детства, разумеется, отстать не могла. А в числе этих разлюбезных привычек едва ли не главным было ежедневное выслушиванье всевозможных басен, с утра до вечера. Княгиня босиком, в душегрее и юбке валялась на пуховике и слушала, покатываясь со смеху, складные неприличности, которые привычные повествовательницы барабанили ей усердно, с полным сознанием своей службы. Доклад о приезде царицына посланца не остановил заведённой машины сального острословия. Напротив, в присутствии молодого человека незастенчивые острословки, желая отличиться своею досужливостью, наперебой забарабанили в три голоса:
— У попа у Евтея, у великого книгочея, попадья была добренька… Проси прямо у ей смело, кому хошь отказывать она не умела. Про такое её художество да про попово убожество воевода новый Скорохват услышал и на крыльцо скореича вышел… Тройку велел наспех запрячь… Приехал и повёл с попадьёй речь… Ты еси жена доброзрачна и толковата… у нас всем можешь быть удоволена досыта…
Балакирев, видя, что княгиня как бы его не замечает, не долго думая, громче горластой пересказчицы, потеряв терпение, закричал:
— Государыня меня прислала твоему сиятельству, княгиня, доложить, чтобы не изволила к её величеству быть… Покуда приказ новой не сошлётся и до слуха честности вашей не доведётся…
— Ай да молодец! — крикнула княгиня, невольно увлечённая тем, что царицын приказ был произнесён так складно. — Ты, голубчик, как слышим теперь, сам краснобай не последний… не обессудь, потешь хоть единой побасеночкой!.. Смерть люблю складное слушать… Присядь-ко… присядь хотя на малость…
— Приказ передавши, ни момента не велено мотчать без дела, — отрезал Балакирев.
— Что, голубчик, за дела такие у вас? Не верю, чтобы человеку нельзя было кружечки хоша испить прохладительного… Что кушать изволишь обычно?
— Квас, а не то воду!
— А окромя что… жажда коли велика?
— Ничего.
— Медок, к примеру сказать, ну… как не пить?.. Конечно, на досуге… не правда ль, Егор Михалыч?
— Правда, ваше сиятельство: как не пить меду!.. Он ломается только… Пьёт, воистину пьёт…
Балакирев хотел было прикрикнуть на отвечающего за него так развязно, но говоривший уже стоял перед ним и жал дружески руку, спрашивая:
— Не узнал, видно?
— Столетов, кажись! — не вдруг признавший было его в пышном наряде, ответил Балакирев, недоверчиво пожимая плечами.
Действительно, не заговори Столетов — в парчовом кафтане, алонжевом высоком парике, в ботфортах и бархатном камзоле, расшитом золотом, — ни за что не признал бы Ваня секретаря Монса, начавшего с ним знакомство чуть не дракою, а теперь обращавшегося дружески.
— Знакомы, видно? — спросила княгиня Настасья Петровна.
— Ещё бы… Кто же меня не знает? — не без ухарства проговорил расфранчённый секретарь Вилима Ивановича и прибавил, благосклонно показывая на царицына посланного: — Юрок-от царицын, нашенский же.
— Э-э, любезный, так это ты-то и есть, что сыграл со мною шутку отменную… коня-то отпряг? — не без ехидства, но доброжелательно проговорила княгиня Настасья.
— Я и есть, ваше сиятельство!
— Должен же за провинность свою выпить непременно горяченького… без того не прощу… Все корить буду, пока жива.
— Как угодно милости твоей, княгиня… а я ни горяченького, ни холодненького пить не могу, потому что послан наспех к барину его милости! — указал Ваня на Столетова, покрасневшего от неудовольствия, что признали в нём слугу Монса.
— Зачем так? — вздумал было разузнать Егор Михайлович Столетов, но, вероятно, скоро спохватился, вспомнив столкновение с Балакиревым и его неспособность уступать.
Припоминание заставило не только понизить голос в конце вопроса, но и боязливо поглядеть на Ваню, в ожидании от него, чего доброго, нового комплимента, который сшиб бы напускное Егорово высокомерие. К счастью, слуга царицын промолчал и только добрым взглядом, брошенным на Столетова, постарался успокоить замеченное им смущение.
Егор был доволен и не выпущенную ещё из своих рук руку Вани пожал совершенно дружески. Он был умён и понял неловкость своего вопроса, а в словах Вани намёк: раз Балакирев послан к Монсу, то и ему следует сократить своё пребывание в доме княгини. Если Иван проговорится, что секретаря его видел у княгини Настасьи Петровны, что скажет Вилим Иванович? Неизбежный вопрос: зачем? — может быть больше чем опасен Егору; особенно теперь, когда Монсовы родные предостерегают патрона, нашёптывают ему. Эта мысль заставила изворотливый ум Егора Столетова тотчас решиться ехать с Балакиревым самому и немедля.
Выполняя повеление княгини, между тем уже несут к Ване вино на подносе. Балакирев не берет.
Княгиня настаивает и грозит запереть ворота — не выпустить за порог, пока не выпьет. Столетов спешит на выручку нужного ему теперь Вани.
— Княгиня, я за него ответчик. Видите, дрянь… смаку ещё в вине не знает. Ужо коли узнает — сам попросит… Я за него пью… Будь здорова, княгиня Настасья Петровна!
— Не так чествуешь, сударик! — отозвалась одна из рассказчиц побасёнок. — Чтобы её сиятельству, богоданной нашей матушке, век веченской всласть было поесть и попить да послушать нас, недостойных, милостиво.
— То от вас, а нам пожелать того не приходится, — вывернулся Егор.
Балакирев же пробарабанил присказкою:
— Прощенья просим, княгиня, на ласке да на угощенье.
Егор, не желая отставать и в то же время стремясь напомнить о цели своего прибытия к княгине, балагуря, высказал обычную формулу подьячих милостивцам:
— Теперь станем ожидать к себе вашего посещенья, чтобы про дело не было забвенья.
— Будем, будем… сами… А его все же отпустить не хочется… Ты, пожалуй, Егор Михайлыч, иди… а юрка мне оставь…
— Без него не могу, государыня! — ответил за себя и за Балакирева Столетов.
— Так оставайся и ты… покуда выпьет он.
— И ему, княгиня, медлить, сам знаю, нельзя — не удерживайте. В другой раз, коли досужно, он, ваше сиятельство, милостью твоей будет удоволен.
— А все же выпить можно, — настаивала княгиня уже из приличия. В душе она довольна была умеренностью Балакирева, хотя в первую минуту ей было блеснула мысль напоить малого, чтобы подвести его в отместку за шутку с нею.
Вмешательство Столетова сослужило службу и Ване, и княгине, предоставляя почётный выход из возникших затруднений.
Княгиня, делать нечего, произнесла, как бы уступая необходимости:
— Ну, ин быть по-вашему. Только ты, юрок, напредки не отказывайся… Я считать за тобой буду сегодняшнюю чару.
— Прощенья просим, княгиня! — поспешил ответить, делая налево кругом, бравый Ваня, за которым последовал и франт в парчовом кафтане.
Когда они вышли из ворот, Столетов схватил за руку Ваню и торопливо проговорил:
— Стой и слушай! Никому не пикни, что ты видел меня у княгини Настасьи Петровны… коли хочешь быть мне другом! И я, в свою очередь, тебе готов вспомогать во всём, что потребуется… Идёт — так давай руку!
Опуская свою руку в широкую ладонь Столетова, Балакирев, в свою очередь, сказал:
— Готов, но… и ты исполни все, коли я буду иметь в тебе нужду.
— Готов такожде… в чём нужда, говори прямо Егорке: так и так… Что могу — тотчас же сделаю…
— И теперь могу просить?
— Проси.
— Да видишь ли… может, и так пройдёт, повременить могу… а в случае крайности — тогда просить стану… Видишь… коли бы Вилим Иваныч, как обещал, взаправду бы протекцию оказал мне… супротив ворогов.
— Почему не так… Говори, кто у тебя вороги, — я его как следует настрою… Все сделает, что желаешь.
— Давай-то Бог… Я, видишь, девушку одну полюбил… Она — меня тоже. Хотел жениться… Да боюсь, чтобы пакостей каких не наделала Ильинична… Приехала бабушка ко мне. Ильиничне и попадись прежде меня… А та её и настроила, чтобы меня женить на Дуньке, на племяннице её, Ильиничниной… А я, окроме Даши, не хочу ни на ком жениться. А бабушка грозит. Попервоначалу вздумал… Вот бы Вилим Иваныч помог своей милостью: оборониться от Ильиничны?
— Это, братец мой, плёвое дело. Нет ли чего побольше?.. И то сделать можем… А насчёт Ильиничны не беспокойся… Женись на ком желаешь, воли с тебя никто не снимет.
— А бабушка… коли что…
— И бабушке молчать велят… не соваться не в своё дело!
— Да, так нужно бы… чтобы бабушку не прогневить… Крепко люблю я её… Помню её милости к себе и к матери… Ни за что бы не ослушался ни в чём, да Даша-то моя, такая душа, коли бы знал… Не полюбил бы — совсем другое бы было. А коли так случилось, жизнь без Даши — не в жизнь. И навяжись на горе, на беду мою, Дуня с Ильиничной… Дуню ни в чём похаять не могу, да не нужна она мне — понимаешь!.. Не выбирать мне невесты…
— Коли уж выбрал, вестимо… А я так, братец, другого складу… Мне девки все хороши, смазливы да здоровы бы были… К одной я не привязываюсь… ни к чему нашему брату покуда с бабой со своей вожжаться… Мне моя воля дорога: гуляю где и как хочу… А гульнуть не прочь при подачке крупненькой… И без подачек мерзецов всяких аль мерзавиц, вроде хошь княгини Настасьи, опять скажу тебе, справлять нашему брату дела да челобитьицы — не рука. Они — пусто им будь — каждая себе норовит ведь!.. Так что я за дурак буду, коли не сорву на свой пай? Дают, всенепременно дают же везде, где кому надобность в деле довелась… на том свет стоит. Живи же — пока живётся! Иное дело — не знаешь, как и что с тобой может быть? Так пока заискивают — и бери, знай… спуску нечего давать. Ведь не дали бы, коли бы нужды не имели!.. Не будут иметь в тебе нужды — и не посмотрят, не только чтобы давать…
— А что ж тебе за подмогу мне потребуется? — брякнул прямо Ваня откровенному новому другу.
— С тебя — ничего… Так готов всякую подмогу оказать.. в своё время пригодишься и мне должен сделать, что попрошу…
— С нашим великим и превеликим удовольствием.
— Так чего же больше. И я готов на все для тебя! Ты нашенский. А свой своему поневоле друг.
— Как же вашенский, коли я послан к твоему Вилиму Иванычу теперя во второй раз всего?
— Да это-то и есть нашенский… Коли от царицы посылают… Потому я своему могу шепнуть и насчёт твоего прошенья об уеме Ильиничны… Коли бы у царя в токарной ты что просил сработать себе на пользу, сказал бы прямо: не могу! Там денщики не наши. Приступить к ним даже не с чего. Один Васька Поспелов ещё туда и сюда. А насчёт Ваньки Орлова, аль Алёшки Татищева, аль там Сашки Румянцева[313] — что теперь с царевичева привоза в гору лезет… и думать не стоит. Стервецы, собаки! Себе одним норовят, а делиться, чтобы все шито да крыто было, не умеют ещё, невежи. Зато попадись который ни есть, и — выведут его, друга сердечного… Вот Алексей Васильич[314] — иная статья. Секретарь у царя, как я, к примеру сказать, у Монса. Я к нему что к себе иду… Так, мол, и так, нужно. Он и сделает все без слова. Он из нашенских совсем. Был из подьячих взят и доступен как есть ко всякому. А с нашим братом нече ему и зубы точить: насквозь видим друг друга. Прямо ему и говоришь: взял я столько-то; тебе даю столько-то! Вот у нас как, начистоту!.. Ничего друг от друга не скрываем… И идёт круговая: друг друга обороняешь, для себя. Поживи с нами — увидишь, что все легко поворотить как желается. Из наших и у князя светлейшего есть делец, Алёша Волков. И к нему идём прямо. А он князю прямо же. Из сенатских Июда Сибилев есть, секретарь; да Анисим Яковлич Щукин — люди как есть хорошие. Так-то мы общими силами и ворочаем! Живу я, к примеру сказать, у Монса в секретарях с поездки в европские штаты, а всю канитель понял спервоначалу же. Уж и теперя сам Вилимушка прямо говорит: так и так. Столько-то даёт, за то-то можно ли взяться? Рассчитаешь, сколько придёт на братию в разделе, и решишь, можно ли. Вот как у нас!..
От этих разоблачений холодом повеяло на Ваню. Компания, в помощи которой он теперь нуждался, внушала ему неприятные чувства, но, подавив их, Балакирев сделал невольный поворот и двинулся от угла дома княгини к лодке.
— Куда же ты? — спросил поражённый Столетов, не ожидавший внезапного манёвра.
— А к Вилиму-то Иванычу цидула… С тобой день-деньской простоишь этак, за россказнями, — нашёлся Ваня, на душе которого ещё не улеглось неприятное ощущение: страх не страх, а что-то ещё мучительнее и томительнее — бесприютность при сознании собственного бессилия. Боль в сердце и боязнь утраты любимого предмета навсегда и бесповоротно красноречивее, однако, заговорили против неуместной разборчивости средств в эту минуту. А без этого хотелось ногам Вани убежать от бесцеремонного Егора. Он открыл такую перспективу перед глазами честного Балакирева, что тот хватался за голову, пощупывая виски и уши — на месте ли они? Ясно: если такого разбора была заступа, к которой рассчитывал прибегнуть несчастный друг Даши, то и он сам, цепляясь для неё за поддержку мошенников, шёл в ряды их своею доброю волею? Как ни пересиливал себя умный, не по летам сдержанный Ваня, а на лице его выражалось если не отчаяние, то грусть безысходная.
Столетов, шагая сзади Балакирева, до спуска в рябик не видел лицо своего нового друга-протеже, а увидев, не мог удержаться от вопроса:
— то с тобою?
— Ничего, — чуть слышно, пересиливая невольное отвращение, ответил несчастный Ваня.
— Не робей… Нечего так падать духом…— вздумал утешать его Столетов.
Занятый, впрочем, своими расчётами и планами, ветреный секретарь Монса, никогда не задававший себе вопроса, дурно или хорошо им совершённое, а только — выгодно или нет? — никак не мог бы понять подлинных чувств Вани. Тяжёлую грусть нового друга он на первых порах объяснял проще и доступнее, по своему разумению: «Верно, малый что ни на есть набедокурил сдуру да боится, чтобы шашни не открылись… вот и упал духом. Видно, Дуня — Ильиничнина роденька-то — пригрозила жаловаться, что поиграл он с ней неладно… спервоначалу… не спросивши, хочет ли… А насчёт поповны — парень-от ухарь — должно быть, художество настряпал… Да с двоими разом как концы свести и не знает теперь… Вот и приуныл, как разделка близка. Наш, конечно, может рот зажать — хоша бы и не за девок вышло… А малого попугать не мешает маленько. Дай-ко попытать поглубже боязнь-то его…»
И, опустив руку за борт рябика и плещась водою, заговорил Егор, внимательно вглядываясь в лицо Вани и стараясь усмотреть в нём перемену по мере хитрого, как он думал, спроса.
— Так что же Ильинична — царице сегодня хотела жалобу принесть, что ль, на тебя, что племянницу испортил? — надумал он задать первый занозистый вопрос.
— Чего ей жаловаться… Жаловаться ни теперь, ни после, я думаю, не станет она — предлог нужно подыскать для жалобы, — а настроить бабушку рази жаловаться на моё неповиновье?. Да и это далека песня… Мы не скоро дойдём до разлада с бабушкой…— бормотал Ваня не то про себя, не то отвечая Егору, совсем сбитому с толку этими словами.
— Так поп, что ль, нажимает… хочет конец положить твоему вожжанью с дочкой, а тебе не хочется так скоро бросить её? — сказал он, пробуя с другой стороны.
Ваня на этот нелепый вопрос даже не ответил, презрительно отвернувшись в сторону.
Но для Егора этот поворот получил совсем другой смысл, и он в душе поздравил себя с быстрою разгадкою причины горя Балакирева. Довольство собою у Столетова, порочного, но в душе не злого человека, быстро заменилось желанием утешить бедняка, как он думал, убитого горем от страха неминуемой кары.
— Не вешай, одначе, головы! Наш все для тебя сделает, только прямо говори… И торговаться ему с тобою не след, коли… посылает тебя Сама к нему, из рук в руки передавать… Уж коли на меня из-за тебя напустился в первый же раз, значит — ты ему нужен. А нужным людям Вилимка не дурак, чтобы отказывать в первой просьбе… Сам знаешь, какую пакость можешь учинить, — и Столетов захихикал, многозначительно крякнув. Ни кряхтенья этого, ни смысла последних слов Ваня между тем не понимал ещё. Поэтому посмотрел он на Столетова так наивно-глупо, что тот сразу смекнул, что Балакирев слышит это, никак, в первый раз.
Однако царицын камер-лакей ни словом, ни знаком не проявил никакого любопытства и желания узнать больше или получить разъяснение непонятому. Столетов приготовился с охотою удовлетворить то и другое, но напрасно посматривал на Ваню, выжидая от него вопроса. Ему сделалось теперь неловко от принуждённого, как ему показалось, молчания Балакирева, и, судя о других по себе, он забрал себе мгновенно в голову, что молчание царицына лакея ни более ни менее как предательство. От одной мысли об этом страшно стало Егору. А страх ещё более усилился, когда он заглянул в глаза Вани и прочёл в них теперь суровость, если не жестокость.
Тяжёлое предчувствие беды и бессильное отчаяние овладели полностью душою Вани: он знал своеобычливый характер бабушки и неохоту её отменять раз принятое решение и боялся, что Ильинична сумела внушить ей свои планы накрепко. Мрачный, рассеянный взгляд Вани поймал Столетов и так невыгодно для себя истолковал. Этот взгляд заставил, впрочем, трепещущего Егора попробовать умилостивить сладкими обещаниями мнимого предателя:
— Может, ты и не так расслышал мои слова, — начал он, подобострастно глядя на Балакирева и искоса на гребцов, — оттого тебе и не показалось это самое… А ты волком-то не гляди, а рассуди впрямь, что я тебе всякого благополучия желаю и готов за тебя истинно на все идти… а насчёт лиха какого ни на есть ты не сумлевайся… и в помышлении у меня не было… Я…
— Слов не нахожу, Егор Михайлович, тебя возблагодарить за приязнь, — ответил Ваня, тронутый и начинающий снова надеяться, что обстоятельства поправятся благодаря влиянию нового друга. — Я твой услужник по гроб… неизменный. Меня коли поддержишь теперь… Я всюду за тобой: куда ты, туда и я… не раздумывая.
У Егора отлегло от сердца, и он с жаром ударил ещё раз по протянутой в знак дружбы Ваниной руке.
— От тебя, Иван Алексеич, впредь таиться Егорка не в жисть ни станет… вся душа нараспашку… Ты — такожде…— И горячо чмокнул в губы повеселевшего на минуту Балакирева.
Это скрепление дружбы последовало на самой шири Невы, разлившейся на ту пору от недавних дождей. С моря веяло отрадною свежестью. Светлые облачка быстро бежали по небу, открывая лёгкую лазурь. На крепостных часах куранты проиграли десять часов. Оба берега Невки, в которую от дружного взмаха четырех весел стремительно влетел рябик, представляли оживлённую картину труда. Народ рабочий копошился справа на Выборгской, на лесных пристанях и в караване барок, стоявших поодаль. Справа же шла спешная стройка домов в береговой слободке. Из-за береговых строений в прорезе переулка показались и две белые трубы дома камергера Монса.
— Ты, Ваня, меня попрежь спусти… И иди не следом за мной. А к примеру сказать, минуты через полторы, чтобы я мог переодеться к твоему приходу. — Говоря это, Столетов вынул английские часы из кармана парчового камзола. Часы эти, когда Столетов поворачивал их, тяжело опуская на ладонь, рисуясь и играя цепью, обратили на себя жадное внимание гребцов на рябике и не произвели никакого впечатления на Балакирева. Он совершенно машинально спросил нового друга:
— Так ты ещё переодеваться будешь… Да рази ты живёшь… не у Вилима Иваныча?
— То-то и есть, что нет… Тут же, близко, да в своём дому. Войдём ко мне… Я одним моментом кафтан, камзол да исподни переменю… Понимаешь, инаково нельзя.
— Почему не понять?.. Понимаю; да только скорее ты.
— Да ведь сам ещё не вставал… не бойся… не опоздаешь… И помедлить гораздо можешь… и то ничего.
— Ой ли! Так и до Посадской дойти успею, может?
— И то ладно… А там кто у тебя?
— Кое-кто есть, — ответил Ваня, не успев или не сумев скрыть невольного вздоха.
Повеселевшему Столетову этот вздох Вани прояснил многое.
— Эге! — думал теперь секретарь Монса, — да Балакирев, видно, по девчурке вздыхает… А я было, осел, подумал, что парень мироед и шельмовец какой… А он?! Значит, в ем мне клад даётся! Смышлён крепко, а облыжности нече бояться, — во все пустим его… Пусть на свой пай зашибает… нам ещё безопаснее. Нужно у Монса настоять, чтобы в нашенские его. А там все пойдёт по маслу парень — просто золото.
Слова эти, думая вслух, произносил Столетов у себя, живо переодеваясь в обычный свой кафтан и глядя в оконце вдоль улицы, вслед уходившему Ване. Он между тем, поравнявшись с поповским домом, был встречен радостною Дашею, как будто нарочно поджидавшею милого друга в огороде.
— Я на минутку забежал… К Монсу иду… с цидулою.
— Не пущу! — шутливо схватя его за плечо, промолвил, подкравшись, поп Егор.
— Нельзя долго-то.. Наспех послан… Вы все… здоровы?
— Ночевали здорово, тебя проводивши. А ты, батюшка, как?
— Я-то? Здоров.. Бабушка приехала…— и сам немного замялся.
— Где же она остановилась?.. Ты к нам бы её…
— Коли бы пошла, с моим великим удовольствием… Попрежь познакомиться нужно только… Она маленько своеобычлива, — невольно высказался Ваня. И у него на душе опять стало невесело.
— Что ж, что своеобычлива! — отозвалась попадья, снова теперь уже заискивающая в Ване после микрюковского афронта.
— Известно, человек пожилой надо угождать… Да ты, батюшка Ванюшка, только приведи знай.. А уж моё дело бабушке всякое почтение будет оказать… Останется довольна. Не каки мы такие завалящие, не станет брезговать… А почтение старому человеку первое дело…
Ваня вздохнул. Он понимал теперь невозможность согласить то почтение, которого хотелось бабушке, с стремлениями его чувства, сулившего счастье. Оно теперь представлялось ему осязательно, покуда горячая рука Даши лежала в его руке. Зная характер Лукерьи Демьяновны, Ваня не верил, что это счастие устроится с благословения бабушки и может сделаться для неё желанным. На беду ведь подсунулась ей на первом шагу эта ненавистная Ильинична. Поставила вверх дном самые задушевные стремления и Вани, и свои, и тех добрых существ, которые верили, что могут понравиться помещице. Веры в это у Вани не было, и мечтания, которыми думал утешать он себя, не слагались во что-нибудь, похожее на общий мир и счастие. Поддержка влиятельного Монса, к которому теперь шёл Ваня, после откровений Столетова теперь претила честному Балакиреву. Брататься с грабителем, каким показался Егор Балакиреву, по необходимости или даже оставаться с ним в дружбе и единении он сознавал себя неспособным. Но крайняя нужда в его поддержке, впрочем, заставляла искать его временного содействия и помощи. А там — что Бог даст! — вылилось окончательное решение в мыслях Вани, когда, простясь с попом Егором и всеми его домашними, он торопливо подбежал к крылечку обиталища дарителя милостей.
На этот раз посланного царицы уже ожидали. Босоногий калмычонок, не дожидаясь стука в кольцо, отворил дверь в переднюю и снял епанчу с Балакирева… А Столетов, завидя его, сам ушёл докладывать, не спрашивая, и, выйдя через мгновение, молча указал ему путь к Вилиму Ивановичу в спальню. В неё входили из гостиной с двумя окнами, от которой роскошью уборов она не отличалась. Можно даже сказать, что опочивальня генерал-адъютанта и камер-юнкера больше походила на будуар модной красавицы западной Европы, чем на каютку холостого военного русской службы. Вилим Иванович Монс в спальне своей не только спал, но и занимался, проводя большую часть времени. Оттого и обстановка спального чертога была роскошная, изысканная и заключала в себе все, что нежило и утешало владельца дома. Он в спальне своей окружён был изображениями особ, оказывавших ему благосклонность. Тут в разных (по форме и размеру) рамках развешаны были шесть портретиков красавиц, между которыми на самом почётном месте, под зеркалом в серебряной раме, писанный масляными красками кистью Ганнауэра лик царицы Екатерины Алексеевны. Персона её грозного супруга помещалась в гостиной тоже под зеркалом. Так обыкновенно тогда по московскому обычаю помещали ценные картины. Отважный камер-юнкер в недосягаемом для посторонних спальном чертоге своём поместил и свой миниатюрный портрет в соседстве с изображением государыни (даже между ею и зеркалом). Балакирев, пройдя в спальню и случайно бросив взгляд на стену, противоположную пологу кровати, мгновенно подметил это, несмотря на то что портрет красавца камер-юнкера был задёрнут серенькою кисейкой.
А Вилим Иваныч был в полном смысле красавец: с чертами женственными, необыкновенно приятными да с цветом лица и губ самым живым и здоровым. Яркое лицо в рамке чёрных природных кудрей при огненном взгляде глаз и очаровательной улыбке даже самого бесстрастного созерцателя заставляло невольно сознаться, что редко приходится встречать такую картину. Прибавьте приятный, гармоничный голос, несколько картавивший, но так, что это не портило общего впечатления, высокий рост, статность, маленькую аристократическую руку, под пару которой не найти было у мужчины в целой России, — и вы поймёте, как современницы должны были приходить в восторг от страстного взгляда Монса! Он же, вполне осознавая своё физическое совершенство, хотя и был весьма влюбчив, но надолго не привязывался ни к какой юбке. При встрече с отставной своей фавориткой он прикидывался ещё сохраняющим к ней чувство, ловко обманывая доверчивость страсти ссылкою на недосуга, мешавшие свиданию… Так что врагов между особами прекрасного пола у Монса не было. С каждою новою любовницею он увеличивал штат вздыхательниц, никогда за удовольствие ничем не жертвуя, а скорее приобретая даже благосклонность.
Монсу было всего тридцать лет, но он казался годами пятью моложе. В эти годы, в полном смысле цветущие, не требуется, разумеется, особых забот о поддержании физических прелестей, тем более у человека отнюдь не истощённого и — к чести красавца нужно прибавить — не любившего никаких излишеств. Но весь почти стол в спальне камер-юнкера уставлен был флаконами да скляницами, наполненными всякими средствами, недёшево стоившими и придуманными угодливым Западом для возвышения или поддержания природных прелестей. Одних инструментов для приведения в благообразный вид ногтей лежало больше дюжины в двух раскрытых готовальнях. Красок и помад было тут двадцать две склянки причудливых изящных форм, в виде голов разных народов, от китайца до негра. Огромное количество других туалетных принадлежностей расставлено было рядами на бархатном вишнёвом покрове стола. На нём оставалось места у стенки не шире полуаршина для письменных принадлежностей и немецкого молитвенника малинового бархата с золотыми застёжками. На стене же кроме портретов и зеркал развешаны были арапники, уздечки, ошейники собачьи и два горские аркана. Тогда как под пологом кровати и по сторонам его, на стене, противоположной столу, красовалось дорогое оружие с золотыми и серебряными насечками.
По этому убранству внутреннего кабинета-спальни можно было безошибочно заключить, мы полагаем, что обладатель этой обстановки был одновременно любителем женщин, собак, лошадей и, может быть, даже охоты. Но последнее было скорее данью моде и приличию, чтобы, посещая знакомых любителей подвигов в отъезжем поле, не отстать от них при случае. Душевно же предан был Вилим Иванович, если можно так выразиться, одним только удовольствиям — при участии прекрасного пола. Но и этот нежный пункт в его хозяйственных расчётах не влёк за собою, как сказано, издержек, а, напротив, вознаграждался подарками и денежными приношениями. Последние он предпочитал всему и наводил на них всеми путями заискивающих его расположения. По мере же приобретения значения при дворе лиц, ищущих его помощи, стало немало. Особенно когда Вилим, истинный представитель своей родни, для приобретения взяток стал пускаться в ходатайство по любому делу, не спрашивая: трудно ли его оборотить таким образом, как желалось искателю его поддержки? В душе он был не злой человек, но благодаря всосанной с детства привычке принимать подачки и даже вымогать их все его хорошие качества проявлялись в неизменной зависимости от количества приноса. Приобретение за оказанную поддержку, замолвленное слово и тому подобное вошло у Вилима Ивановича в обиход и побуждало его к деятельности. Так что если бы ему сказали: ты должен даром сделать то или это — он улыбнулся бы только, ничего не ответив. Иное, разумеется, было дело, когда он, имея сам нужду, хотел привлечь кого-либо к себе. При таких случаях он рассыпался в обещаниях и готов был даже поступиться чем-нибудь; разумеется, в крайнем случае. К числу таких лиц Видимом Ивановичем после первой же посылки причислен был Ваня Балакирев.
Когда вошёл он в спальню Монса, камер-юнкер занят был чтением очень длинной записки на орленых листах, сшитых тетрадкою. Должно быть, приготовился он к скуке этого чтения со стоицизмом, заслуживавшим лучшего применения, и сидел в спокойной позе на постели в длинном красном халате, подбитом заячьим мехом, без прорезов с боков, но с карманами. Ворот этого халата застегнут был золотым аграфом[315] с аквамарином недурной воды.
При входе посланного царицы Вилим Иванович наградил его милостивым взглядом и принял цидулу с лёгким поклоном головы. Заметим, что этого не делал он и с особами рангом повыше его самого.
По мере чтения лицо камер-юнкера делалось мрачнее и серьёзнее, и, дочитав послание, Монс устремил на лакея государыни взгляд, вызывающий на откровенность больше, чем когда-либо. И сам начал:
— Чего ты хочешь от меня? Я постараюсь тебе быть полезным… Но с условием — чтобы ты так же мне хорошо служил, как начал… Я должен… опасаться враждебности многих… завистников. Потому я нуждаюсь в человеке, на которого бы мог рассчитывать вполне. Чтобы все, что тебе поручается, умирало… как бы ничего ты не знал… не видал… не слыхал… На всякий вопрос: «Что несёшь?» — отвечал бы: «Ничего!..» Слышь?!
Иван, озадаченный этой подготовкою, молчал.
— Отвечай же: да или нет? — возвысив голос, добивался юнкер.
— Слышу…
— И что же?
— Буду поступать как сказано, — ответил с трепетом Балакирев.
— В таком случае… все, что тебе желается, не оставлено будет без внимания… Ты будешь отличен больше всех… будешь всем доволен… И если теперь чего хочешь, говори.
— Я бы попросил вас, Вилим Иваныч, принять меня под ваше покровительство…— робко высказал Ваня.
— Это само собою… Я…
— Меня заедает Ильинична… Хочет принудить жениться на племяннице, а я…
— Не хочешь?.. Почему же? Партия выгодная… при свойстве будешь ещё лучше выполнять мои дела…
— Я люблю поповскую дочь… другую и жён…
— Ну, это другое дело… Только… взяться надо за это… умеючи… Ильинична нужный человек и…
— Если вы не защитите… я перепрошусь у государя… к его величеству…
— Ну… это совсем напрасно… Я, во всяком случае, не допущу… чтобы… Я скажу Ильиничне… чтобы оставила тебя в покое… Но за это помни… требую… молчания… отрицанья… полного… «Нет… не знаю…»
Балакирев кивнул головою с уверенностью.
— Я клятв не требую… Они… слова… прикрывающие другие намерения. — И камер-юнкер при этом даже улыбнулся, но как-то неловко. Очевидно, он припомнил теперь своё собственное употребление клятв.
— Так вот, — сказал он важно, — я напишу ответ на цидулу, тобою принесённую… Ты его… отдашь самой государыне в руки… не Ильиничне… И чтобы никто не знал…
Последние три слова произнёс Монс шёпотом.
Написать ответ ему нужно было несколько мгновений; залепить воском — одно.
Передавая цидулу, Монс взглядом показал, что её следует опустить в карман камзола, и ласковым взглядом простился с посланным.
В передней был один Столетов. Он, казалось, ожидал выхода друга с большим нетерпением.
Заключив Ваню в прощальные объятия, Егор на ухо ему сказал:
— Дай цидулу прочесть!
Балакирев отрицательно качнул головой.
Столетов погрозил кулаком. Ваня улыбнулся и, надевая епанчу, расширил обе руки так, как бы охватил кого, и, подняв, выбросил.
Угрожающий взгляд Егора был ответом на эту мимику; но он не устрашил и без того смятенного Балакирева. У него с чего-то защемило сердце, а в голове был словно дурман; и в глазах зелено, и — звон в ушах. Ваня невольно схватился за сердце, заколотившееся так, словно готово было выскочить.
Глава II. ТРОПА ОКОЛЬНАЯ — ЛОЖЬ НЕВОЛЬНАЯ
Ваня по дороге от батьки думал после Монса пуститься отыскивать бабушку, но теперь он забыл всё, что хотел, и, выйдя из дома камер-юнкера, направился переулком на Невку. Подойдя к своему рябику и садясь в него машинально, он услышал предостережение Михаилы, одного из гребцов:
— Что тебе попритчилось, Иван Алексеич? Глянь-ко — и шляпочка задом наперёд.
Балакирев поправил шляпу, ничего не ответив.
На душе его было мрачно; сердце ныло, как бывает у людей, не потерявших совесть и понимающих, что переступают грань, за которою нарушится душевный мир. Он ещё ничего не сделал, но готовность на все вызывала у него внутреннюю борьбу с собою.
Ничего почти не видя под наплывом тяжёлой думы, Ваня почувствовал толчок и, невольно встрепенувшись, огляделся вокруг. Толчок получился от наскока рябика на ял, в котором перевозили чей-то гроб, никем не сопровождаемый, к месту последней оседлости и покоя. Перевозчик, должно быть, ворон считал; настолько же внимательно относились к своему делу и гребцы придворного рябика.
Толчок и вид гроба вызвали нервный трепет в захваченном врасплох Ване, и без того расстроенном.
Назвав присмиревших гребцов ротозеями, Балакирев опустил голову на руки и погрузился в такое состояние, которое трудно считать сном и ещё труднее — бдением. Это такое состояние, при котором, глядя раскрытыми глазами, человек видит недоступное для него в другое время.
Они проезжали мимо Троицкой пристани, и Ваня видел теперь на ней, будто бы толпа народа кишит вокруг высокого эшафота, на котором стоял кто-то знакомый ему. Но кто это стоял — как ни напрягал память свою Балакирев — ничего не выжал из неё и обратился за помощью к гребцам.
— Кто там такой, высоко-то над толпою? — спросил он гробовым голосом.
— Где? — оборотившись в указанном направлении, спросил Андрей — гребец, особенно стремый и одарённый превосходным зрением.
— Да над пристанью, у моста-то в крепость… где подмостки…
— Никакой толпы, ни подмостей нет, да и на площади ни души! — отвечал тот с уверенностью. Взглянув на Ваню, чтобы начать с ним дальнейшие разъяснения, Андрей осёкся, словно окаченный холодною водою. На лице Балакирева была смертная бледность, и хотя глаза его были открыты, но, судя по ослабленному дыханию, он спал, лихорадочно вздрагивая, как в припадке.
— Что с Иваном-от Алексеичем деется, глянь-кось, Митюха?… Не в себе он, кажись.
— Смалчивай… Нам-от что?.. Может, с непривычки забрало его… Ведь княгиня Настасья Петровна неволит сквернеющим винищем… И меня ономнясь угостить вздумал ихний кучер Кузьма… Один стаканчик пропустил я да к вечеру думал — шалею… Вот те Бог — правда.
Андрей качнул головой в знак недоверия, но не возразил, увидя, что Балакирев приходит в себя.
Оправившись кое-как, но всё же с болезненною бледностью на лице, Ваня вышел из рябика перед дворцом и поворотил на двор, думая пройти ближе с канала сквозь ворота у царской конторки.
Поравнявшись с крыльцом, с которого сходил государь, чтобы садиться на свою верейку, Ваня на этот раз почти столкнулся с его величеством. Государь словно вылетел из мгновенно распахнувшейся двери. Отскочив в сторону, Ваня сорвал с головы шляпу и стал как вкопанный.
— Зачем здесь проходишь?.. Запрещено было.
— Не слыхал я запрету, ваше величество, и невольно проступился, по неведению.
— Я не взыскиваю теперь, но вперёд знай… Откуда несёт?
— Прямо с Городского острова приехал на рябике.
— Гм! К кому там-то понадобилось?
— Камер-юнкеру передавал…— И замялся.
— Что передавал?
— Приказание…— пересилив себя, нашёлся Балакирев.
— Какое приказание?
— Чтобы был скорее: послать… государыня хочет, велено сказать, — молвил ловчак, глядя в пол и боясь взглянуть в глаза прозорливому монарху, и в то же время вспомнив строгий наказ нового покровителя и чувствуя всю гадость принуждённой лжи.
— Гм! — соображая или припоминая что, буркнул Пётр I и взял за руку дрожавшего слугу.
— Взглянь мне в глаза!.. С чего ты дрожишь? На тебе лица нет!..
— Пр-ро-студился… должно, вве-лик-кий г-го-ссу-даррь!…— с трудом произнёс сквозь дрожь лакей, упорно и тупо глядя в глаза недоверчивому повелителю.
Пётр этим упорным взглядом дрожавшего слуги был успокоен, и подозрение вылетело из головы его так же мгновенно, как родилось, заменившись участием к страждущему.
— Покажись Арескину[316]… Скажи — я прислал, и обстоятельно перескажи ему, что чувствуешь… А там… я скажу, чтобы тебя не так гоняли… Силы у человека не воловьи.
— Всего бы лучше, ваше величество, коли бы милость была, взял бы меня, государь, к себе в конторку… как изволил мне, неключимому[317], пообещать, — брякнул Ваня и зарделся румянцем, дохнув полною грудью. — Я бы, великий государь, зная волю вашу, и мыслью бы не погрешил. Думал бы только, как точнее выполнить поведённое… Совесть моя открыта была бы и на душе светло, — заговорил он от души с отвагою отчаяния.
Пётр был тронут и милостиво обнадёжил:
— Знаю, что обещал… И хотел, да помнишь сам — жена упросила. Сам чувствую, что с бабьем такому молодцу прямому… тяжело ладить… да потерпи… Ещё раз поговорю с женой… Ты мне взаправду по душе… Будь покоен.
Балакирев поник головой, и у него прошибло слезы от сознания своей вины. Он хотел тут же сознаться во лжи своей, но государь, сам расстроенный, махнул рукой и быстро зашагал к рябику, не оглядываясь на плачущего. Что могло быть, если бы он ещё простоял и выслушал Ваню одно мгновение?
Взмах весел привёл в себя Ваню, и он не без ужаса огляделся. Никого вокруг не было. Он провёл по глазам рукавом и, подавив в себе чувство, готовое прорваться и — как знать? — сколько бед наделать, направился через двор к царицыну крылечку.
В самых дверях из коридора схватил Ваню Лакоста и силою, которую трудно допустить в старике, прижал к стене. Здесь он на ухо ему скороговоркою пробормотал:
— Ведшерем, у м-ма-н-ня сшиф-фод-дни!
— Нельзя никаким образом, — наотрез сказал Ваня, — отлучаться, как стемнеет, строго мне заказано…
— Нню! Тдакх — ездду-са!.. — протянул с отчаянием Лакоста, ожидая ответа и все ещё держа за руку молодого человека.
— Здесь… вечером… Изволь, Пётр Дорофеич, — приду.
И взгляд, полный благодарности, с горячим пожатием руки, был наградою Ване за его обещание.
Пройдя через переднюю, Ваня встречен был Ильиничной, тоже не без волнения ожидавшей вестника. Встреча с царём была не одною даже Ильиничной наблюдаема со страхом и трепетом.
— Ну, что?
— Ничего… Я государыню должен видеть… Самое.
— И мне можешь передать.
— Не велено… Не смею.
— Ну, вот ещё… давай!
— Не дам, сказал… коли царю не отдал, тебе — подавно!
И так поглядел, что Ильинична ушла, поняв, как бесполезны тут её возражения. Выбежав затем из внутренних комнат, она взяла за руку Балакирева и поволокла за собою, как будто он упирался. Войдя в апартамент её величества, Ваня вполголоса высказал данный ему наказ, и когда по знаку государыни Ильинична скрылась за дверьми, вынул и передал в собственные руки цидулу камер-юнкера.
— О чём тебя спрашивал его величество? — последовал вопрос государыни.
— «Куда посылали тебя?» Я ответил: «На Городской остров». — «К кому?» — спросил государь. «К камер-юнкеру», — я сказал. «С чем?» — «С приказанием…» — «С каким?» — «Чтобы явился ко двору теперь», — ответил я, не смея нарушить запрета насчёт цидулы.
Румянец вспыхнул и мгновенно слетел с лица Екатерины Алексеевны.
— Ты хороший слуга! — милостиво молвила она. — Я твою услугу попомню… Слышала я, — присовокупила государыня, — что имеешь ты намерение племянницу Авдотьи Ильиничны взять… Мы на это соизволяем.
— Я не просил такой милости, ваше величество! — отважно возразил Балакирев. — Я люблю другую девушку…
— Как хочешь… С тебя воли не снимаю… А Ильиничнина племянница, казалось мне, наша же девушка… хорошая, исправная…
— Ваше величество, я её милость не корю… но в сердце своём не властен уже раньше был, чем милость государя в слуги ваши меня назначила.
— Если так… с Богом… Я буду матерью посажёной…
— Ваше величество! — бросился на колени Ваня перед государыней, поразив неожиданностью милостивую царицу. — Если уж таковы щедроты твои… не отринь моления последнейшего раба: повели бабушке моей, чтобы не неволила меня жениться на племяннице Ильиничниной Авдотье, а позволила бы… мне выбор… мой…— и язык его путался, а он весь дрожал в сильнейшем нервном припадке.
— Успокойся, мой друг… Я всё сделаю… все… охотно…
Ваня, схватив себя за сердце и поднявшись с колен, шатаясь, как человек, вылежавший несколько недель в постели, вышел в переднюю и сел на лавку, откинувшись назад в полном бессилии. В таком положении отдыхал он не менее получаса, и во всё время Лакоста стоял перед ним, не смея оставить его одного. Он теперь сторожил Ваню как добычу, готовую ускользнуть у него из-под рук, несмотря на все предосторожности.
На счастье, проходил подлекарь мимо, и его подозвал Лакоста, шепнул на ухо:
— Ба-лк-хирь-ев бо-ллэнь зкассши, зтоп каспатин Арескин, присшоль басмадриль…
Арескин оказался лёгким на помине и сам, проходя да видя лакея в лихорадочном припадке, прописал успокоительное. Послал в аптеку и при себе велел принять, уложив больного на диван.
В это время явился Монс. Осведомившись обо всём от самого ослабевшего Вани, он пошёл доложить государыне. Там он узнал самую суть и понял, что причиною нервного припадка было не что иное, как страх, развившийся вследствие обстоятельств, сопровождавших встречу Балакирева с царём. В душе камер-юнкер остался вполне доволен верностью лакея и под впечатлением его подвига вполголоса наговорил её величеству столько хорошего о нём, что Екатерина Алексеевна сама захотела осведомиться: кто такая бабушка Балакирева и почему он так боится её? Теперь положением больного заинтересовалась вся женская половина двора.
Ильинична, позванная для опроса, ещё не зная, что Балакирев уж объяснился с царицей об устройстве своей судьбы, отозвалась о Ваниной бабушке самым лестным образом.
— И знаешь ты, Ильинична, где остановилась она?
— Знаю, государыня: в Большой Посадской, во дворе купчины Ивана Протопопова… Как не знать.
— Так вечерком, как больному полегче будет, съезди за бабушкой сама и привези её… Только не напугай смотри…
— Помилуйте, ваше величество… к чему пугать? Да смею спросить: не лучше ли отложить призыв старушки и представление к вам, государыня, до утра примерно?.. Авось Ивану Алексеевичу и полегчает тогда…
— Я хотела, чтобы бабушка была при нём… Может, он при ней скорее успокоится.
— И наши, государыня, с племянницею уходы, я полагаю, достаточны будут. Да и молодец не так занемощенствовал, чтобы надежды мало было на то, что скоро пройдёт. Он успокоится… так и легче будет.
— Арескин боится — горячка бы не была!
— Тогда и отдать бабушке, а покуда…
— Да ты съезди, не ленись, коли знаешь.
— Вечером изволите приказывать… а покуда не совсем досужно… Государыни царевны по ненастной поре у себя в покое занимаются.
— Ну, вечером… Только непременно… и привезти бабушку.
Ильиничне возражать было нечего.
Лакоста сказал Арескину, что он сам будет давать лекарство Балакиреву, и врач донёс о таком участии шута государыне, не только позволившей, но заявившей шуту полную признательность.
Ильинична в свою очередь поторопилась заявить, что лежать, хотя и легко недомогающему, Балакиреву лучше всего в его же собственной каютке. Там он может и снять с себя лишнюю обузу!..
Это вполне одобрил присланный было Арескиным подлекарь и по совету Ильиничны проводил Ваню наверх.
Лекарство, конечно, оказало какое-то действие, но больше лекарства помогло, пожалуй, рассеяние страха насчёт царских подозрений.
Государь, по возвращении из кунсткамеры, пообедав и отдохнув, потребовал к себе Арескина и спросил у него сам:
— Был у тебя лакей Балакирев?
— Меня призывали к нему, лежавшему на софе в государыниной передней… в сильнейшем припадке лихорадки. Я дал успокоительное, но надеюсь, что его молодость не потребует затем особенного лечения. Если лихорадочный припадок — не признак, покуда ещё не существующей, но возможной… горячки. Если не она, то завтра он будет совершенно здоров.
Слова эти успокоили Петра, и ненормальность поведения лакея при внезапной встрече на крыльце царь теперь прямо объяснил недомоганьем его, а ничем другим. Впрочем, по привычке своей лично до всего доходить царь не преминул зайти и сам посмотреть Балакирева.
Он в это время полулежал, полусидел, совсем одетый, подле постели, опустив голову в глубоком раздумье.
— Здравствуй, Иван! Ты, слышал я, расхвораться было задумал?.. Нехорошо совсем такому молодцу хохлиться… Глянь-ко как следует, молодцом! — и, смеясь, сам державною рукою своей приподнял опущенную голову Вани.
Искра весёлости зажглась у разбитного малого, и он, по-солдатски отдав честь, гаркнул: «Рад стараться!»
— Это так, хорошо. Люблю! — и поцеловал в голову, тут же обнадёжив: — К жене пойду и ещё раз скажу, что… хочу взять тебя.
Слова эти совсем оживили Ваню. Он проводил государя по лестнице и у самого низа встретил служителя, нёсшего свечу к нему.
Взяв у него свечу, Ваня осветил путь его величеству по тёмному коридорчику в апартамент государыни и вдруг почувствовал лёгкий удар по плечу.
— Затшем зкадил внис? — раздались слова Лакосты. — Ти тдеперь мой пленнык… Здубай верх.
И потащил его в его каморку.
Там они сели, и повеселевший Балакирев услышал, что Ильинична уехала за его бабушкой, а он, Лакоста, воспользовался этим удалением врага, чтобы поговорить с Балакиревым.
— Ти шеныдьзя кочишь? — задал шут Ване вопрос, устремив на него испытующий взгляд.
— Так что же?
— Каросшь… Полжи ниджево…
— Женюсь, — отвечал Ваня.
— На кхом? — с особенною интонацией в голосе спросил шут и тотчас же встал и, осторожно дойдя до дверей, заглянул на лесенку вниз. Его чуткое ухо где-то прослышало шорох.
Ничего не найдя, шут сел на прежнее место и повторил свой вопрос.
— Есть на примете девушка одна…— нехотя ответил Балакирев. Лакоста вздохнул и голосом, полным искреннего сочувствия, начал длинную рацею о неискренности Вани.
Тот и не думал перерывать разглагольствования Лакосты, а сидя с закрытыми глазами, читал про себя молитву на отогнание беса, живо представив себе ночную сцену в его доме и наказ попа Егора.
Долго говорил шут, но, по молчанию Балакирева догадавшись о безучастности его к своим внушениям, переменил тактику и стал напевать о кознях Ильиничны и о том, что близость к ней, породненье с нею может привести его, Балакирева, к немилости у царя.
— Пбо-до-му, — сгоряча брякнул шут, — сшто Илиниджна з Монсо и зестра ево затки биерут зо всех, па-до-му, сшто этдо вори… мозшенники.
В это время шорох, сильнее раздавшийся в тишине кельи Вани, заставил привскакнуть шута с лавки и приложить себе палец к губам. Погодя немного, он встал и прошёлся по комнате, заглянул в дверь и затем немножко притворил её. Он, впрочем, никого не подстерёг и на этот раз.
Садясь на место, старый шут обнял Балакирева, прикрыв его плащом своим, и голосом, способным тронуть самого бесчувственного, с особенною торжественностью произнёс:
— Скажи-ша имня тдвоя невеста?
— Её зовут Дашей… Она поповская дочь…
Падение тяжёлого тела при этих словах перервало речь Вани, вскочившего вместе с Лакостой. Оба они отворили дверь и за нею нашли без чувств, совсем холодную, Дуню Ильиничнину. Несчастная подслушивала.
Ваня с Лакостой понесли бесчувственную Дуню в комнату её тётки. Вдруг Ильинична в бешенстве вбежала к себе и со злостью, захватывавшей у неё дух, с каким-то змеиным шипеньем произнесла:
— Вон отсюда!.. Коли мы не годны для такой персоны.
Оказалось, что Ильинична, отнюдь не приготовленная к настоящему обороту дела, едва возвратилась из своей поездки к Балакиревой, как была позвана прямо к государыне.
Старухи Балакиревой она не застала дома, а от попадьи, с ней приехавшей, одно могла узнать, что помещица пустилась искать какого-то Ивана Андреевича. Да вдобавок ещё получила она неожиданную неприятность.
Позванная к государыне Ильинична услышала следующее решение её величества, кем внушённое — дознаться мамка и потом не могла.
— Балакиреву Ивану я нашла сама невесту, Ильинична… Племянницу твою я пристрою, будь покойна, не хуже… но за Балакирева выдавать её не след. Потерпи немного, и ты сама увидишь, что все к лучшему… Его величество никак не хочет, чтобы Балакирев между моими женщинами нашёл себе пару… Только с этим условием оставляет он у меня покуда этого расторопного малого… Государь также строго наказал: за пустяками Балакирева не рассылать. Я распорядилась, чтобы впредь он призывался сюда… ко мне… Если захочу я его посылать, сама пошлю и самой же мне он ответ будет давать… Ты ни во что до него касающееся не мешайся… Да чтобы я не слыхала и никаких ни пересудов, ни наговоров насчёт его…
Можно представить, что чувствовала Ильинична, слыша такое решение! Однако она ещё совладала с собою и, поклонившись в пояс её величеству, сказала почти спокойно:
— Без воли вашей, государыня, я бы за Ивана и не подумала ладить свою Дуняшку… А коли сами изволите ей обещать женишка напредки, нам ещё лучше всего… И я, и племянница только и можем дышать одною вашей милостью… Истинно, клеветать на меня всякий готов… Одна заступа, матушка моя, ты, богоданная повелительница…
Грохнулась в ноги и поцеловала ручку её величества. При целовании руки прошибли слезы у бедной, притесняемой будто бы, Ильиничны. Понятно, слезы эти произвели полный эффект.
Глава III. В ВОДОВОРОТЕ
Судьба Вани теперь должна была бы получить, по-видимому, естественное развитие, но душе его пришлось ещё вынести неожиданные бури.
Уж и то было недурно, что не успела увидеть Ильинична бабушку в этот вечер. Мысль лично познакомиться с отцом Егором была решительным шагом в пользу Ваниных интересов.
Нечего говорить, что мысль эта Лукерье Демьяновне подсказана была её спутницею попадьёй, тоже в своём роде не последней дипломаткой.
Мы уже знаем из предшествующего, что Анфиса Герасимовна была испытанным другом Балакирихи. И если, обдумав все крепко, приходила она к какому-то решению, то умела и помещицу повернуть к нему да так, что та, думая, будто ей самой пришло это в голову, на самом деле только выполняла подсказанное попадьёй.
Сама жена священника, Анфиса Герасимовна очень высоко ставила священный чин и с той минуты, как услышала от Лукерьи Демьяновны, что Ваня хочет жениться на поповне, нашла, что разумнее и богоугоднее этого соединения и быть не может. А что бабушке внушила мамка — благо малый не того хочет — нечего и ждать от подобной затейки проку.
При объяснении с внуком, когда он рассказал ей прямо и решительно о выборе своего сердца, Демьяновна ещё удерживалась от гнева, но, придя к себе, помещица разразилась громом упрёков внуку и угрозами не позволить ему жениться на поповне.
Анфиса Герасимовна слушала все внимательно, глядя по обычаю своему в глаза Балакирихе и ожидая конца пыла. Как у всех самолюбивых людей, первый пыл должен был пройти скорее, если не встретит возражений, а затем, если осторожно подойти, да умело взяться, легче, чем когда-либо, можно поворотить дело наоборот.
Анфиса была права, дождавшись даже скорее, чем можно было думать, наступления своей очереди говорить. Мало того, ей сделано было даже предложение высказаться.
— Ну, мать моя, а как ты думаешь? — спросила Лукерья Демьяновна свою внимательную слушательницу, кончив свою отповедь и переводя дух с видом явного утомления.
— Господь Бог, знать, ещё на нас, грешных, не вконец прогневался, коли отроку, можно сказать, Ивану-то Алексеичу на сердце положил слово истинное: не зариться на чужи достатки… а все упование возложить на Создателя, не боясь страха и угроз человеческих…
— Все так, может… да на себя мальчику на одного… надеяться… не ладно… И два раза сойдёт, да третий — не вывезет… Тогда что?
— То же, что и при надежде на человеческую помощь… На словах, пока нужды нет, — все старатели… А как нужда грянет — никого нет… Опять один, как перст… Знай на Бога уповай: коли не разучился, на человеков надеяся…
— Ах, какая ты, Анфиса Герасимовна, смешная!.. Ну кто может без надежды на Бога жить? Да на Бога надейся, а сам не плошай — говорится в пословице. О сплошанье-то собственном и речь моя… А как же Ванечки несплошанье, коли он говорит, что без Ильиничниной поддержки обойдётся, сам собой?.. И не в его высоту, да нужных людей не обегали… тем паче коли сами ещё люди эти готовы все для него сделать…
— Да не сама ли, мать моя, высказала ты, что Иван-от Алексеич тебе молвил: теперя эта самая Ильинична залезает, а попрежь съесть хотела… Это ли приязнь?.. На такую ли стену надёжа?
— Говорил-то он говорил, не спорю… Да опять как же тут думать нужно: может, и лишнее сказано? Может, показалось спервоначалу; может…— и замолчала, не зная, какой ещё довод привести; у неё, очевидно, не клеилась защита Ильиничны. Да и слова её, которыми она пыталась подтвердить своё поспешное решение, расходились уже с её мыслями.
— То-то и есть, сударыня, Лукерья Демьяновна, — начала торжественно попадья, подобравшая, при очевидной несостоятельности доводов помещицы, такие со своей стороны доказательства, которыми думала она разбить в прах предрассудок Балакирихи. Возвышенный тон и слово «сударыня», бывало, Анфиса Герасимовна употребляла всегда в решительную минуту разгрома противников. — То-то и есть, сударыня, матушка… Бог-от младенцев умудряет, а мудрых и разумных оставляет заблуждаться в их мечтаниях… суетных… Иван-от Алексеич, может, на Создателя одного надежду возложил по всему тому, что с ним сделалося: царь узнал его неведомо как; никто не ходатайствовал — сам государь оказался за сироту ходатаем. Потом за провинность аль за ошибку, вместо наказанья — царь к себе его взял… без чужих ходатайств же… Вздумали теперешние залезатели в дружбу прижать молодого человека; сам же притесняемый, своим умом да находчивостью, не жалуясь ни на кого, от всяких дрязг освободился и в царе заступника нашёл… Кто же это все творит, как не Бог?.. Люди хотели зла, да не смогли… Чего же ждать добра ему от них? Чего же трусить их, коли целой головой перерос притеснителей? Уж коли ищут присвоить ныне, значит, сами его боятся; а не ему приходится их бояться? А что молодой человек полюбил дщерь иерейску, то ему не в порок… а в честь… Перст Божий виден… Спасал он её — царь помог, и спасатель государю с того знаем стал. Значит, со спасенья и все добро повалило… Не обегать такой семьи, а крепко держаться нужно… благословенье Божье на сём иерее, видно. У кого ни спроси — все говорят, что лучше этого батюшки отца Егора и не знают по всему городу… Как знать? Не ради ли праведника и на твоего внука счастье сыплется… и впредь, коли в родне будет, — ещё больше. Вспомни, читывал нам с тобой мой покойный житие Филарета милостивого[318].
— Ну… поехала теперь! — перервала речь Балакириха. — Уж коли завела матушка, и конца, полагаю, не будет притчам… насчёт поповства… Так тебе приходской поп алтыны сбирает, а в Филареты милосливые и угодил…— И сама замолчала, раздумывая. Так всегда бывало с умной помещицей, когда сказанное уже возымело сильное действие и одно упрямство заставляло не согласиться на словах.
Попадья замолчала, зная нрав Лукерьи Демьяновны и её неизменный — за этим молчанием — призыв продолжать.
И теперь действительно это же случилось.
Молчание, водворившееся за порывом со стороны Демьяновны, было нарушено возгласом:
— Никак, мать моя, ты уж надулась!.. Ничего не скажи тебе… Какая ты, Анфиса Герасимовна, ндравная!.. Уж и молчишь, и сопишь… Я, мать моя, зачала с тобой беседу по душе, не с тем, чтобы обижаться мне аль тебе… Не сегодня сошлись, слава те, Господи… Тридцать лет душа в душу живём… Какой же тут совет да любовь между нами будет, коли ты говорила и вдруг ни с того ни с сего перервала…
— Да ведь ты же, Лукерья Демьяновна, запретила?
— С чего ты выдумала это?.. С больной головы сворачивать на здоровую!.. Я жду речи, а не в молчанку хочу играть.
— Да коли не люба речь — лучше молчать…— понимая свой перевес над сдающеюся помещицей, упиралась умная попадья.
— Да говори же, говори… Я не все послышала, — пристала, уже рассмеявшись, Лукерья Демьяновна.
— Да что говорить? — как бы в нерешимости начала сама с собой Анфиса Герасимовна. — Мой бы склад — самой убедиться: что за поп Егор… да что у него за семья?.. Да и какова дочка?.. Иван Алексеич хотел вести, так куда тебе: не смей и молвить про это самое!..
— Ну, уж и врёшь… И полусловом поперечки не сделала.
— А здесь-от не ты ли, никак, целый час пеняла: как осмелился внук предлагать тебе к попу идти?
— Здесь, у себя, я вольна вслух думать. Мало ль чего… И так посудить можно, и инаково… тем лучше, чем больше сторон, с которых к делу подходишь…
— А коли обсуждать со всех сторон, то прийти и самой своим глазом увидеть — первое дело… Тем паче коли слышала мамкины россказни и показались они тебе ценнее чистого золота…
— И мамкины речи слушала… и к попу идти не прочь… Почему не идти… Только… к чему ждать мне Ванечки?.. И сама пойду… Врасплох застану — лучше рассмотрю.
— Лучшее дело! — подтвердила Анфиса Герасимовна, просиявшая вполне от сознанья, что успела, как ей хотелось, поправить дело.
Не теряя дорогих мгновений, победительница повела речь и дальше, даже без той осторожности, с какой вела разговор прежде.
— А Иван-от Алексеич коли бы с тобой был, ты бы усмотрела и то, как он к поповне расположен… сильно аль нет? — попробовала попадья почву и с этой стороны, углаживая дорогу к водворению мира между бабкой и внуком.
— Не надо мне в том и убеждаться… Молоденек ещё — на своём ставить, — припомнила гневная бабушка своё неуходившееся неудовольствие за резкую поперечку Вани.
— Я ведь, мать моя, с Ванькой не так скоро покончу… для его же пользы… Он не невежничай… Заладил одно: «Моя будет… сам собой дойду..» Да Бог с тобой, доходи — да учтиво попроси позволенья… Я ль внуку враг?.. Чего только не делала для него: три года у кесаря судилась — с сыном с родным… У его, непутного, отобрала… И все для кого же, как не для Ваньки?.. А он так-то? Так стой же, сударик… Поучись терпенью да вежливости!.. Знай, с кем обращаешься. Вот и видеть покуда не хочу.. И знать не желаю его.
— Ну, полно, Лукерья Демьяновна… За что, подумай сама, в гору тебе лезть? На ком взыскивать? На молодости… да в ту пору, как душа болит. И диви бы внук некошный какой, а то молодец, истинно — Божье благословенье за сиротское терпенье… Сама говоришь, лыко всякое в строку не ставит, а тут распыхалась… на правду… только зачем эта, вишь, правда, да подана с пыла, без умасливанья!..
— Хотя бы и так, Анфиса Герасимовна. Лукерья твоя стара стала, а умела и хотела, что знала, вести как желалось ей… А теперь разжаловать вздумали в мочалку поганую… кто бы подумал — внук родной!.. Мальчик, у которого молоко материно на губах не обсохло!.. Нет, стой, светик!.. Шутишь!.. Не на ту напал…
— Шутишь-то ты, матушка… Взводишь на малого обвиненье в непочтении, когда он, голубчик, и в мыслях этого не имел…
— Какая ты всезнайка, подумаешь… разумница! Я с внуком считалась, она здесь сидела, а защищает его невежество как правого… словно у его на уме была.
— По твоим же словам… не по его… Ты и не замечаешь, что твой пересказ в разладе идёт с твоим теперешним обвинением внука… Он тебе только открылся, а не невежничал.
— А как это понять: «Моя будет Даша и моя»?
— Что ж такое?
— Что ж такое… а как есть кто-нибудь, кому, кажется, лучше иную парочку прибрать… повальяжней, может…
— Потому-то и высказал внук пыл свой, что ему другие парочки не подходят… сердце сделало выбор…
— Сердце! Ишь ты, пусто тебе будь… защитница!.. Сердце!.. А малому бы рано сердцу-то этому и волю давать… Вот что я тебе скажу…
— Лукерья Демьяновна! Не против ли себя ты говоришь, свет мой?.. Как Гаврило-то Никитич нашёлся, поглядела ты на запреты бабушки, Анисьи Мироновны?
— Что ж такое?.. ну… не поглядела… Да это к чему ты?
— Анисья Мироновна тоже вынянчила тебя, холила, лелеяла; да коли приглянулся тебе покойничек Гаврило Никитич, ты сказала ей: «Бабинька… всего, чего хошь, прощай… а в выборе моем я одна властна…»
— Так ведь я вдова уж была, после первого-то мужа… Понимала свет и людей.
— А Иван-от Алексеич ещё больше разумеет, видно, коли с ворогами справился да царю знаем стал.
Лукерья Демьяновна была поражена силою собственного примера. Она замолчала и погрузилась в глубокое раздумье.
Анфиса Герасимовна теперь заговорила с большею уверенностью, давая советы в форме чуть не начальнического предложения подчинённому, которому остаётся лишь повиноваться.
— Твоё дело, матушка Лукерья Демьяновна, взвешивая по своей душе, поминая свою молодость, детищу не перечить, коли впрямь девушка стоит… А стоит ли — можно разузнать без чужого посредства, без окольных внушений да нашептов… А гнева внуку безвинному не оказывать… Попомнить надо, что он на чужой стороне один как перст… Недруги окружают, а не друзья. Горе да невзгоды, положим, в молодости легче сносятся, да коли на такой службе хлопотливой поставлен молодой человек… сам себе дорогу проложил… завидуют уже многие — своим-то не удручать его следует, а ободрять ласкою да бережью…
— Бережи хочет, береги бабушкино спокойство.
— Он и бережёт.
— Непокорством, да своеобычностью, да презорством?.. Сам-ста себе господин!
— Опять, говорить будем, не так ты глянула на доброе самое расположение внука.
— Хотела и хочу я ему больше всех добра.
— Да только чтобы всё было по-твоему?.. А не разбираешь, что добро твоё ему может и в зло обратиться…
— Как бы это так? Я умом-разумом не раскину уже…
— А так вот… Божья воля ведёт в иерейскую семью, а твоя воля — с мамкой в родню. А мамка — невесть какой человек… Из дерьма вылезла да в знать лезет… как все выскочки, не разбирают пути… Только бы выше лезть.
— Ей нече лезть… Чай, в мамки-то не простые забираются, а все боярыни, я полагаю.
— Да эта-то мамка из боярынь — с родни разве пастухам да свиньям, как говорила опомнясь хозяйка наша… Про неё она как тебе порасскажет, так, может, и плюнуть не захочешь, голубушка, на эту тварь… Племянница-то, вишь, родилась, как батька пастухом был сельским в вотчинах царевны Натальи Алексеевны… А бабу взяли, Дуньку эту самую, в чёрную работу… И попала она к теперешней царице, покуда и не думала та сама подниматься высоко… А там… потянулась и чернорабочая бабёнка ввысь… Кума приходится нашей хозяюшке, а теперя и на глаза не принимает… гордянка такая, что страх!
Лукерья Демьяновна слушала с видимым неудовольствием или, лучше сказать, с тем тяжёлым чувством, когда мы внутренне обвиняем себя в промахе, но прямо признаться в этом не хотим и готовы, пожалуй, сочинить тысячу разных причин, чтобы доказать своё.
Помещица, словом, присмирела совсем и отдала приказ — подавать обед.
— Поедим… отдохнём… и я к попу пойду…
Сама хозяйка накрыла и стала подавать все любимые кушанья Лукерьи Демьяновны, кушавшей с полным удовольствием.
— Это ты, видно, постаралась надоумить, что я люблю? — ласково спросила она попадью свою.
— Да и я это люблю… И сказала: сделай нам, Ирина Кузьминична, кишочек… да гуська начини капусткой… да блинный пирожок смастери… да калью[319] с грибками…
— Уважила, мой свет… Истинно… Спасибо, хозяюшка… Стряпунья ты как есть.
— Помилуйте, Лукерья Демьяновна, да вы только прикажите!.. В былые годы, как кумушка моя меньше зазнавалась, я и про самое Анисью Кирилловну кашку ладила с печеночкой… И сама матушка Катерина Алексеевна не брезговала… кушать изволила, да приказывала не одинова приносить… И уточкой раз царю-государю с хренком поклонилась да с лимонцем. Вот мы каковы, вам скажу…
— А ты, Ирина Кузьминична, боярыне-то порасскажи, какова твоя кумушка-то оказалася, — молвила попадья.
— Много, государыня моя, про все художества этой самой змеёвки Дуньки вашей рассказывать… Эту стерву не месяц, не год, почитай, спервоначалу и кормила я, бесталанная… Да раз государыня, мой принос принявши милостиво, хотела за него благостынькой своей государской найтить, так сама слышала, как отговаривать, ворог, стала: «Ей, — говорит, — и то дорого, ваше величество, что как есть бабу простую жаловать изволите — ручку давать целовать…» Это она какой идол!.. Платок персидский государыня с ней послала мне — зажилила и тот… Говорит, что запамятовала: никак, ей дано… А Лискина, девушка есть, чухонка, рыжая такая, рябоватая из себя, — та божилась, что мне послан платок… И её укоряла… Да что возьмёшь с бесстыжей?.. Стоит, бельмы вылупивши; молчит… И хоть бы ты что!.. А ноне и совсем заказала к ей ходить нам… Недосуг — первое дело; с боярынями, вишь, ноне вожжается… Да и жадность одолела… А спроси у меня, в чём застала её спервоначалу-то? Годков десять-двенадцать, скажу тебе, не утаю, одно платьишко было да шубёнка нагольная от холода…
Помещица была очень недовольна разоблачениями хозяйки и, не спрашивая ни о чём, из-за стола, помолившись, отправилась прямо на постель.
Уже отзвонили к вечерням, как поднялась с ложа своего упокоения Лукерья Демьяновна. Спала она, впрочем, немного, а все думала и раздумывала. Высокомерие и гневливость как рукой сняло. Их заменила разумная сосредоточенность.
Анфиса Герасимовна заметила это, как только помещица открыла глаза, а сама прикинулась спящею. Лукерья Демьяновна, не будя её, принялась проворно одеваться. Вздела сарафан штофный, цвета дубового листа; жёлтую душегрейку с бахромой; повойник новый, шитый по карте золотом по зелёному бархату; черевики, жемчугом низанные. Фатой прикрыла седые волосы. Вынула парчовую епанчу и ширинку, шитую золотом, с кружевами — в руки. В уши вдела серьги с яхонтами… ну, совсем хоть царю представляться, вышла из каморки своей — к немалому удивленью хозяина и хозяйки. Эти добрые люди только руками развели.
Только притворила за собою дверь Балакириха, как порхнула попадья к хозяйке.
— Видали нашу чудодейку?
— Как же… Ещё бы!.. Куда это собралась такой павой?
— К попу, должно быть, к отцу Егору… врасплох нагрянет; думает — лучше высмотрит самую что ни есть подноготную… Вишь, внук-от — дай Бог ему, голубчику, и впредь во всём успевать — бабушке начистоту отказал взять мамкину племянницу… «По душе, — говорит, — мне пришлась дочь у Егора у попа — Даша».
— То-то, никак, вашинский в солдатах ещё как был, к попу к посадскому захаживал… А это вот для чего? Ишь ты ухарь какой!.. Молодчина!.. Поповская Дарья Егоровна добрый, можно сказать, человек… Душа ангельская… вся в отца… Матка Федора Сидоровна со всячинкой; ради мзды готова и совестью покривить; а батька да дочка — ни в жисть… Экова батьку, я те, голубушка, поведаю, на всём Городском острову не слыхано… Первое дело хмелем николи не зашибается… Дело своё справляет… Ко всем ходит одинаково, не спрашивает, богач али нищий зовёт… Дадут что — ладно, а сам не спросит… не токмя за похороны аль за крестины и — за венчанье; одни венечны и куничны деньги, известно, внеси за память, а ему, попу, — за труд, что изволишь пожаловать, всем доволен… Не гораздо прежде у его хватало, а теперя, как спознал народ его добродетель, всяк к ему прёт, без отказу… И лучше теперя ему стало не в пример. Уж жалобились архимандриту троицкие батьки, да ничего не взяли. Спросили отца Егора: как ты так? «Да я, — говорит, — не знаю, чьего прихода: моего аль не моего, потому что троицкие отцы и в мои дворы захаживали, и память была чтобы по дворам не делить этой стороны, на Городском острову. Вот вам противень памяти, мне присланной… Я по ей и поступаю. С благодатью[320] они ходят, а в требах[321] я никому не отказываю, кто позовёт… Да и как я, ваше высокопреподобие, откажуся по священству, коли приходят ко мне и зовут? Человек при смерти, а у соборного чередного толкнулися — дома не улучили». Строг и взыскателен был архимандрит, а рассудил, что Егор ладно делает, и пообещал сам начальству представить как исправного попа…
— А я, матушка, верь ты мне, и до твоих теперешних слов про попа Егора не инако думала… Вот, значит… и права я, коли смекаю умишком, что нашему соколу Бог невидимо подаёт благодать в такую благословенную семью…
К такому же почти заключению пришла и Лукерья Демьяновна собственным рассуждением после всего увиденного ею в поповском доме.
Помещица, ни у кого не спрашивая, дошла до церкви в конце Большой Посадской улицы у Невки. Крайний дом на берегу против церкви сама Балакириха признала за поповский. Вошла в раскрытую калитку на двор и у крыльца столкнулась с пригожею девушкою, нянчившею ребёнка.
Девушка быстро отвела ребёнка в сторону и посторонилась.
— Батюшка здеся жительствует? — спросила Балакириха.
— Здеся… Теперя он с требой только пошёл. Будет скоро. Милости просим обождать.
— Да ты, голубушка, не поповна ли? Дашей, что ль, прозываешься?
— Я самая, государыня! — и закраснелась как маков цвет. Слово «государыня», произнесённое с таким уважением, расположило помещицу к Даше с первого раза. А девушка, по пышному новому платью Балакирихи считая её очень важной боярыней, не могла, разумеется, иначе отнестись к ней, как с почтением; хотя и ко всем привыкла относиться вежливо и внимательно.
Первая встреча для многих, особенно в старину, была делом огромной важности, решающим; и все зависело от впечатления, возбуждённого им. А Балакириха была одною из таких личностей, для которых первое впечатление было самым главным. Даша, стало быть, завоевала себе первыми словами с бабушкой Вани полное к себе расположение.
Ещё с большим уважением, чем дочь, отнеслась к богато одетой особе интересантка-мать. Попадья Федора чуть не в ноги поклонилась вошедшей в скромное жилище их гостье в парче и шёлку. Указав с поклоном почётное место вошедшей — у стола под святыми, попадья, подобострастно взглядывая на усевшуюся помещицу, осведомилась:
— Какая благодать указала путь за наш порог вашему высокостепенству? — иначе возвысить гостью, придумав титул погромче, попадья уже не сумела.
— С вами хочу, голубушка, сойтись поближе.
— Да чем мы, государыня, бедные, такую честь улучили? — да сама ещё поклон ниже пояса.
Балакириха просто-напросто растаяла.
— Знаете Ивана Алексеича Балакирева… я… его…
— Государыня-бабушка! Дай устами коснуться ручки твоей благодетельной! — и попадья бросилась ловить и целовать Балакирихину руку.
Высокомерная помещица была покорена этою угодливостью, чуть не рабскою, попадьи Федоры.
— Просим любить да жаловать нас с внуком, — выговорила уже совсем благожелательно Лукерья Демьяновна. Она окончательно освободилась от предубеждения против поповской семьи и готова была принять в свойство настоящую почитательницу своей дворянской спеси.
Но вот отворились двери, и вступил сам отец Егор. Перекрестился на образ и поклонился незнакомой пожилой боярыне, сидевшей у него в парчовой епанечке. Помещица встала и подошла под благословение.
— Батько, ты и не ведаешь ведь, кто нас, бездольных, взыскал своею богоподражательною милостью? — не уставая кланяться, заголосила попадья Федора. — Вишь, её милость Ивана Алексеича бабушка к нам соблаговолила пожаловать сама… воистину краше солнышка ясного нам сей праздник приспел…
Отец Егор, благословив и раскланявшись с гостьею, сел против у другого конца стола.
— Прохладиться не изволишь ли, государыня? — не оставляла усердствовать попадья Федора.
— Да ты чего спрашиваешь? — отозвался радушно отец Егор. — Попроси любым… что изволит в горлышко пропустить… и водочек подай, и наливочек… и ратафея[322] есть… Давно ль Господь Бог нам, недостойным, на радость честь твою, государыня милостивая, во град столичный сей принёс ныне подобру-поздраву?
— Третий день, отец честной… Сбиралася давно, да средствия не было… Было у нас судьбище долгое… с сыном. Три года волочили меня лихие люди да тянули моё дело правое… одначе милость Божия да его царского величества приказ неотменный — повершить через полгода всенепременно — подействовали… Отсудили все мне… на внука, Ванюшку… а ворогу моему — шиш, с позволения сказать… Вот я, и домой не заехамши из Москвы, да прямо — сюда… Больно захотелось внука повидать… Ведь три года с походцем будет… а может, скоро и четыре стукнет, как не видала… Где он?.. Что он? Приезжаю — нахожу своего Ваню в чести большой, а в хлопотах ещё пуще… на часу раз пять иной день посылают… Насилу удосужилися переброситься словечком… И тут помешали окаянные. Говорил он мне, что у батюшки бываю… Дай, думаю, поколь ему недосуг, и сама я к батюшке загляну… благодарность принесу за то, что внука ласкали… По-родственному принимали…
— Он у нас и спервоначалу стал что свой… верьте истине… Такого, истинно, сокровища, я полвека прожил на свете, а не удалось ещё признать! — ответил отец Егор без застенчивости и всякого напускного чувства. Он был человек прямой, как мы знаем.
— Сколько деток-то у вас? — вдруг поспешила, будто спроста, задать вопрос отцу Егору Лукерья Демьяновна.
За него ответила подбежавшая с подносом попадья.
— Восьмеро, государыня!.. Парнишка да Даша — большенькие, а остальные — мелюзга… Десятерых в младенчестве мы похоронили. Прошу прикушать моего изделья… Сама из крыжовника водичку сладила… А это земляничная наливочка… Даша, в подызбице[323] захвати ещё!..
Даша встала и вышла за перегородку, где был спуск в открытый люк.
Когда мелькнула за перегородкой Даша, Лукерья Демьяновна шёпотом сказала попадье:
— Я об дочушке-то вашей хотела спросить: сколько годков считаете?
— Шестнадцатый с поста, с Великого… Не первая она у меня… Первенькие умирали…
— Совсем невеста… И всем взяла: ростом, пригожеством, миловидностью, вежеством, лаской, — и сама вздохнула тяжело, да тут же улыбнулась. — Моему Ивану совсем под масть… Только повременить приходится, родные… Не вдруг теперь ему про женитьбу можно речь завесть… Новая служба… да сами знаете… у кого?! Один шаг — и все пропало… Нужно быть… внуку моему на службе на своей не токмо исправному — хоть в ушко вдевай, — а ещё и стремому… чтобы лихой человек не нанёс лиха по насердку.
— Я и сам то же говорил Ивану Алексеичу, как пришёл да показался нам в новом чину своём, — сказал отец Егор, — молодец он… душа! Тысячу раз похвалишь, а все, кажется, не все высказал, — да огонь такой, что просто иной раз слушаешь да головой качаешь, как он хватит, не долго думавши!.. За то государь и отличил… И люди, разумеется, подкапываться станут всеми мерами, да… государыня милостивая, никто как не Бог… Кого же Господь оставляет правого без своей всесильной помощи? Если грешник взмолится о провинности своей, воззовёт к Богу с покаянием — Бог услышит, как сам рек: «Воззовёт ко мне, и услышу его!» Кольми паче раба своего Иоанна, помысл чист имуща и сердце не скверно… помилует Господь, общий благоподатель и заступник… и покровитель… Я, государыня, каждую службу, в молитвах поминаючи присных, его имя возношу и, любвеобильные щедроты твои памятуя к нему, чту имя рабы Божией Гликерии.
Лукерья Демьяновна прослезилась от глубокого чувства. Взглянув на добродушный лик отца Егора, никто бы не сказал, что слова его с расчётом, или не от души им говорены бы были или чтобы он не то говорил, что делал.
И поп, и попадья, и покорная, любящая Даша в мыслях Лукерьи Демьяновны, можно сказать, выросли и поднялись на такую высоту, на которую не ставила она до сих пор никого. Даже и рюхинская семья — как ни расположена была Лукерья Демьяновна к ней — в эту минуту отходила дальше, чем члены семьи попа Егора.
Когда Даша внесла новый поднос, уставленный больше чем десятком чарок и сосудцев разных форм, ценностей и из разного материала, мать бойко выхватила у дочери и сама поднесла бабушке, не допившей ещё всего, что было в поставленных подле неё на столике кунтанчике да стопке серебряной. Проворная попадья вокруг этой пары сосудов, совсем опорожнив поднос, в три ряда уставила новую партию. Лукерья Демьяновна в это время рукою без слов подозвала к себе Дашу и, целуя её в уста, прошептала, не скрывая душевного волнения:
— Милая моя внучка!
Ну что, согласитесь, после этого могла бы сделать Ильинична? А пожаловала она в обиталище помещицы Балакиревой не больше как через четверть часа по выходе её к отцу Егору.
Разумеется, Анфиса Герасимовна, при всей антипатии, высказанной в разговоре с Балакирихой, приняла вместо неё хитрую мамку приветливо и, предложив ей присесть, распорядилась послать за каким ни на есть угощеньем. Сама Анфиса не тратила слов на растабарыванье ничего не значащих любезностей. Она свои способности употребила на тонкое выведыванье планов и намерений достойной Авдотьи Ильиничны. Попадья охотно отвечала, но и сама пыталась навести собеседницу на откровенность. Кто кого из этих двух дипломаток успел провести — рассудите сами.
— Какая честь моей дорогой Лукерье Демьяновне, когда узнает, что твоя пречестность, великая госпожа — запамятовала, матушка, имя и отчество вашего степенства — изволила сама ты вдовину её клеть посетить!..
— Послала меня государыня сама, голубушка!.. Верь Богу, не лгу… Ведь Иван-от Алексеич у нас было — сего утра что-то ему попритчилось неладное — прихворнул… И дофтур был, и лекарства давали, и велели отоспаться, сударику… да слава Создателю… полегчало…
— Ах-ти-х-ти! Вот горе-то… грехи какие! Испужается моя старуха… Хорошо, что без неё пожаловала твоя честь… да как, говорю, имечко-то ваше? Я, бесталанная, запамятовала… что хошь!..
— Авдотья Ильинична я… Так бабушка-старушка, говоришь, ушедши?.. А не знаете ль, в какие страны?
Анфиса, как мы знаем, очень хорошо знала куда, но отвечала, что не знает.
— Думаю, на вашей стороне будет, к одному офицеру… Что Ивана Алексеича в первый их приезд с бабушкой надоумил к шведу в науку отдать…
— А какой такой, смею спросить, офицер этот самой и в коей стороне — не знаешь ты, родная — живёт?.. Может, в нашей стороне, так ещё дорогой с Лукерьей Демьяновной стречуся.
— Около Адмиралтейства самого, кажись, баили… а прозванье наше, русское, слова нет, а, хошь что хошь, запамятовала… А зовут Иван Андреич, кажись, говорили… И он такой из себя… неказист гораздо, а умком, слышь, своим до офицерства дошёл здеся… и уж такой-от ласковый да приветливый, что наша Лукерья Демьяновна Бога молит… научил и наставил спервоначалу…
— А об нас-то говорила, мать моя?.. Ты мне поведай по душе… Я сама твою честность не забуду… при случае найду чем ни на есть… Я ведь, знаешь, сударка, няней у царевен…
— Как не знать?.. Говорила матушка… нахвалиться не может вашим приёмом; уж так-то хвалит, так-то хвалит, что и сказать нельзя… Уж по ласке по её, говорит, совсем забудешь, что вышла… из…
— Из каких… по-твоему?.. Ну-ка, ну-ка? — вся вспыхнув, стала допрашивать Ильинична. Она не догадывалась, что хитрая попадья подставила ей капкан будто спроста. В чём ловкой допросчице хотелось убедиться, проверив слова хозяйки, то подтвердили сами возбуждённые допрашиванья и краска на лице. Для Анфисы Герасимовны стала теперь несомненною ничтожность Ильиничны и её внезапное возвышение.
— Так из каких я, вы узнали? — вся побледнев, нетвёрдым голосом закончила вопрос Ильинична. Её поражал насмешливый, торжествующий взор попадьи, уставленный на неё в упор и нисколько не отвечавший уклончивым речам попадьи.
— Ты, мать моя, строго так спрашиваешь… почём нам, приезжим, знать в точку ваши саны!… Хозяюшка наша, кума твоей чести сказывалась, — она знает вдосталь, а мы… ни-че-вво…
Ильинична села на лавку в изнеможении. Удар был так неожидан, что она не сразу могла приготовиться. Молчание наступило в полном смысле красноречивое. Попадья потупилась и, посматривая исподлобья, словно не замечала смущения, гостьи, старавшейся победить его и оправиться. Однако нескольких минут хотя и тяжёлого, но спасительного молчания достаточно было, чтобы привычная к уловкам в борьбе с препятствиями Ильинична собралась совсем с духом и выступила во всеоружии нахальства. Она сообразила, что, судя по покрою наряда попадьи, эта противница прямо явилась в новорождённую столицу из деревенской глуши и что всего лучше будет прямо отрицать услышанное, хвастая родовитостью. Кстати ей теперь припомнилась привычка княгини-шутихи, умевшей отлично пересчитывать заслуги именитых, влиятельных её предков.
— Как вы, бедненькие, одурачены с вашей помещицей какою ни на есть сплетницей-вруньей — ради, просто сказать, поднятья на зубки вас, как дурь запечную?.. О нашей ли родне кому взбредёт на ум баснословить!.. Вот мило!.. Да батюшка мой, покойничек, езжал сам-шест с вершниками; все в уезде Илью Еремеича знали, и богачество… и честь… А матушка взята тоже не ниже за него… дедушка Ульян Максимыч стольником был уже в двадцать четыре года… в воеводы назначили, да скончился, сердечный; а то бы и в окольничих ему не место… А про наши животы нече и сказывать: за мной, некошной, теперь четыреста дворов, окроме угодий всяких… Да что и говорить?..
И тут, увлёкшись своими вымыслами, Ильинична пустилась фантазировать, ничем не сдерживаясь. В пылу творчества достойная нянюшка, сидя задом ко входу и глядя в глаза попадье, не услышала, как тихо вошла по мягким половикам с подносом и двумя чарками с наливкою её кума. Она остановилась, не сумев удержать улыбки от слышимой теперь в первый раз околесицы. Чудная повесть, которую развивала Авдотья Ильинична, чтобы произвести полное впечатление на попадью, не могла скоро кончиться, и куме наскучило ждать с полным подносом в руках.
— Полно, будет… оставь на другой раз хоть чуточку своего вранья-то, авось и припомнишь, что теперь валяешь! — язвительно и неожиданно срезала она словоохотную Ильиничну.
При звуках знакомого голоса достойная нянюшка невольно оборотила голову и посмотрела, растерявшись, на попадью и на куму.
— А-а!.. взя-тть рра-ззи, — заикаясь, молвила она, протянув машинально руку к чарке и уже не помня себя от смятения.
— Возьми, разумеется, промочи горлышко, чтоб глаже лезла нескладица не в свою голову… Недаром же я стояла да слушала твоё враньё да великачество…— резала бойкая баба, чувствовавшая, что наступила её очередь теперь отплатить гордянке, забывшейся от счастия.
Попадья, не ожидавшая такой скорой развязки комедии, не могла удержать хохота, но силилась остановить хозяйку, дёргая её сзади за сарафан.
— Нече меня дёргать, матушка… Лгунья запорола тебе такую нелепицу, что я крепилась-крепилась, стоя… одначе не выдержала… ишь ты как режет… Словно и впрямь путная… Господ своих бывших в родню себе поставила… А забыла небось, как этот самый Илья Еремеич, боярин-от твой, что ты в батюшки теперя в свои пожаловала, — Акульку, сестру твою старшую, запороть велел до смерти на конюшне? Не я ль, полно, матушку боярыню, Анну Алексеевну, — в сенных у ей была о ту пору — на коленках стоючи, со слезами умолила… не губить души христианской? Так она заступилась… Постегали, и гораздо, да свиней пасти услали, косы обрезамши… Да и твою честь, как за Кузьку хожалого выдавали — не я ль просила с поваром Антипом… не отсаживать от двора… как ты мне покою не дала, упрашивая да руки у меня целуючи… И все-то забыто тобой, негодница!.. Знаем, что не по силе твоей благополучье привалило…
Попадья бегом из светлицы от таких разоблачений. А сама думает: «Ну, как вцепится мамка в хозяйку!.. Не пойду в свидетели».
Но Ильиничне было не до драки.
Поставив на стол поднос с чаркою, торжествующая кума удалилась за дверь, оставив онемевшую нянюшку. В ушах у неё звенело и голова была кругом, но не от выпитой чарки наливки.
Попадья, ловкий политик, видя в щёлочку дверей, что гостья немного оправилась, вошла с самою невинною миной и, взяв со стола поднос с другою чаркой, извинилась за отсутствие по надобности да просила гостью выкушать.
Принимая машинально чарку, гостья про себя лепетала: «Ах ты, проклятая ведьма! Слыхано ли… слыхано ли…»
— Я, голубушка, ничего не слыхала, — многозначительно, будто не понимая даже, что и как, заверила гостью матушка. Подсев снова рядом, она упрашивала Ильиничну подкрепиться.
Луч надежды блеснул для потерявшейся. Она ухватилась за неё, как утопающий за соломинку: выходит, кума один на один её отделала. Эта мысль, подкреплённая извинениями попадьи, выросла в неопровержимую истину и воротила дар слова Авдотье Ильиничне, от природы одарённой, как сказали мы, уменьем быстро изворачиваться.
— Подкреплюсь, голубушка… Слов не нахожу благодарить твою милость на приятстве да на ласке… Увижу Лукерью Демьяновну… за приём без её чести поблагодарю…
— Не на чём, мать моя… Рады мы на чужбине всем добрым людям, нас не обегающим… Тем паче вашей чести ласка спервоначалу оказана Лукерье Демьяновне… Вниманьем вашим к Ванечке она так довольна и предовольна… что молит Господа.
— Ах, прости, родная!.. Меня, дуру бессчётную…— спохватилась Ильинична, при упоминанье имени Ванечки припомнив снова цель своего посещения. — Я ведь послана к вам — ты то пойми — самой государыней… Да вы не бойтесь.-, ничего в сущности… Иван-от Алексеич у нас маленько прихворнул утром… Так все мы избегались… и государь узнал… и лекаря тотчас… и лекарства… Велено молодому человеку после лекарства отдохнуть… и за бабушкой меня прислали… чтоб пожаловала, поберегла внука… у него бы побыла… Да вот её дома не улучила… Экой грех!.. Завтра попроси к нам всенепременно…
— Что ж, труден Ваня-то?.. Что ему попритчилось?.. Я, коли угодно, с тобою же…
— Не труден совсем… Так, прихворнул… Дофтур говорит — не то прилив крови, не то простудился. Трясовица маленько проняла, и ослаб… А как положили насильно — ведь сам ни за что не хотел — так отдохнул и ничего, как пошла я теперя…
Предложение попадьи пустить её к Ване в эту минуту особенно не по нутру пришлось Авдотье Ильиничне. Вот она и употребила все своё уменье убеждать для разуверения, что Ваня вовсе не болен, а так… Мало ли что, пообнеможется человек на час на какой… а то и ничего.
— Да с чего милому сталось это самое? — спрашивала попадья.
— Видишь… как утре увиделся с бабушкой у меня… К себе, ну то есть к нему, её свели мы… Он пришёл, и разговаривать они двое остались.
— Понимаю! — мгновенно представила себе попадья, какое дурное настроение было у молодого человека после беседы с бабушкой, настроенной Ильиничной. Результат этого свидания попадья знала уже со слов самой помещицы.
— И скоро он, голубчик, занемог-от? — задала она вопрос хитрой няне.
— Да как позвали его к государыне — бабушка домой к себе, а он — по делам. А, воротившись, ещё на дворе государь сам заприметил перемену. Воротился малый ровно не в себе. Тут лекаря… и в каморку свёл шут… у нас есть заморский один человек.
«Гм! Гм! — раздумывала попадья про себя. — Причина болезни ясная, и бабушку вечером не след пускать к внуку. Первое — ему успокоиться дать; второе — приготовить его так, чтобы появление бабушки не устрашило парня, — он и выздоровеет».
— Матушка! — раздались за перегородкою слова хозяйки. — Мне нести аль сама выйдешь?
На Авдотью Ильиничну звуки ненавистного голоса кумы подействовали болезненно.
— Ничего не надо, родная! Я сама, веришь ли, со внезапного изнеможенья Ивана Алексеевича, так оно мне болезно… сама не своя. И теперь словно в голову ударило… Бежать мне домой скореича… твоя наливочка, видно, очень крепка…
И гостья принялась торопливо одеваться. Умная попадья показала вид, что все принимает за чистую монету, без всякого подозрения.
— Хорошо же ты её отделала! Молодец баба…— молвила попадья хозяйке, только закрыв дверь за вышедшею няней.
— Давно я до неё добиралась… а тут случай вышел такой, какого сама собою ни за что не изобретёшь. Врать стала, голубушка моя, перед тобою так, словно и впрямь во дворянстве рождена, со знатью в куклы игрывала… А я знаю, мать моя, всю подноготную… и не то ещё выскажу… Только она заколупни меня… И теперешняя благодать колом поперёк горла встанет!..
И звонкий язвительный смех раздражённой кумы загрохотал перекатами.
Ни она, ни попадья не воображали, что Ильинична, притаившись за дверью, слышала и эти слова.
Выслушав угрозы кумы, Ильинична погрузилась в глубокое раздумье. Первым побуждением её было: отомстить! Но страх, охвативший её, пересилил. Может быть, она и ещё что другое бы придумала, но шаги вблизи заставили её покинуть убежище и поспешить пробежать двором. Некогда она его проходила с иными чувствами. Питала другие чувства она и к тому, кто мимо прошёл, но не узнал её, закутанную в епанечку чуть не по уши. А прошедший — сам хозяин дома, — не узнав гостью, был не меньше озадачен встречею на дворе. Своим вопросом: «Кто вышел от вас?» — он озадачил теперь переглянувшихся попадью и хозяйку.
— Она, значит, все слышала — подслушивала! — вскричали они в один голос.
— Да кто такой?
— Да… кума, Авдотья Ильинична.
— Кума? Как же я не признал… В парче это блеснула… в серьгах дорогих.
— Она и есть… Ещё бы не быть серёг да парчи теперь-то… когда послала её царица… да решила она боярыню скорчить… подлинную!.. — ответила жена, стоя на том же месте, где остановилась, разговаривая с попадьёй.
Шорох руки, искавшей с надворья дверь, заставил хозяина распахнуть её.
В отворённой двери показалась Лукерья Демьяновна, сияющая от счастья.
— Отгадай, кто без тебя был? — задала ей вопрос попадья Анфиса Герасимовна.
—А мне знать почём? Внук, что ль?
— Нет, моя кума, Авдотья Ильинична, — не без отважности и самодовольства ответила хозяйка.
— Эка пропасть!.. Я её, видно, столкнувшись на перекрёстке, не признала… Катит — гляжу — пава какая-то, в епанечке парчовой, как моя же… Думаю: «Дать дорогу? Да я-то чем хуже кого прочего!» И не уступила. Она меня — толк в бок, и я — её в ответ. И разошлись, не поглядевши одна на другую.
И начались объяснения двух приятельниц. Здесь на долю попадьи выпала самая блистательная речь при редком бурканье Лукерьи Демьяновны, очевидно неспроста заменившей сосредоточенностью обычную говорливость.
Она думала, серьёзно думала. Необходимость в этом была неотложная: надо было сообразить все шансы за и против, чтоб не было промашки, и решать в скорейший срок. Очертя голову по своей охоте она ни во что не ввязывалась. Но теперь любовь к внуку заговорила в ней всего сильнее, подстрекнутая известием о его болезни. Хотя Ильинична и говорила, что припадок Вани не столь сильный, но, однако, он привлёк к страждущему внимание самого попечительного государя. Бабушкина приятельница истолковала припадок как результат страха и горя: прогневить бабушку неповиновением. Сердце настойчиво требовало свободы следовать сделанному выбору, а душа болела от невозможности помочь горю. В таком смысле и высказала матушка Анфиса Герасимовна свой взгляд на сердечные дела Вани. Для бабушки после приёма в поповской семье это было самое убедительное мнение, удовлетворившее вполне её самолюбие.
Лукерья Демьяновна — чего за нею никогда не замечалось — ходила с полчаса по горнице взад да вперёд молча, пока попадья распоряжалась приготовлением и подачею ужина. Она заметила, что и за ужином помещица ела меньше, чем обыкновенно, и была рассеянна — ела без соли, хотя солонка стояла подле, и без хлеба. Ужин поэтому был молчаливою необычною трапезою, и, выйдя из-за стола, бабушка не вдруг отошла ко сну. Она долго ещё расхаживала и легла спать только тогда, когда попадья, ложась на боковую, громко сказала: «Спокойной ночи, Лукерья Демьяновна… всего не передумаешь — утро вечера мудрёнее». И помещица ответила, словно сама себе: «Ведь впрямь утро вечера мудрёнее!» И при этом невольно вздохнула.
Ясное утро, в ту пору года в Петербурге не редкое, застало Лукерью Демьяновну ещё сладко спящею, утомлённую думами. Но шум вставших уже домашних и попадьи прервал чуткий сон её, однако он подкрепил силы помещицы, и она чувствовала себя хорошо.
Вскочив горошком, как говорят, она быстро оделась. Только её и видели. Ял перевёз помещицу с Городского острова от Троицкой пристани почти к самому дворцу. Перевозчик не спорил даже, когда сказала пассажирка, куда везти её. Впрочем, на перевозчика повлиял целый алтын, положенный помещицей молча на лавку.
Вот она и в воротах на дворцовый двор. Глянула невзначай, — у открытого окна сидит Ваня — ничего, кажется. Он увидел тоже гостью и вышел навстречу.
— Что с тобой было вчера?.. Присылали.
— Схворнулось маненько… трясовица хватила раз-другой… да прошло все. Ничего теперь.
— И слава Богу… А другое что у вас?.. Все добро?
— Добро… все.. Государыня наказала мне тебя, бабинька, привести… ей показать.
— Что ты? — и старушка начала охорашиваться да оглядываться вокруг себя. — Хорошо, что я, как будто знала, почище оделась!
Лукерья Демьяновна, войдя в переднюю, стала расправлять оборки шушуна да поддёргивать парчовую душегрейку
— Сядь, бабинька, я тотчас доложу… сам.
— Уж ты? Будто и сам?.. Такую силу уж взял?
Этих последних слов Ваня не слышал. Он уже скрылся поспешно в коридорчике.
В Петербурге рано вставали все, и при Петре I рано вставала государыня. Изволила она кофе распивать, когда Балакирев, войдя в единственную светлицу, где проводила её величество целые дни, доложил, что, согласно государыниной воле, бабушка его пришла…
— Сюда приведи… сам.
И внук полетел за бабушкой. Схватил её за руку и чуть не летом поставил у входа царицыной светлицы.
Лукерья Демьяновна опустилась машинально на колени и поклонилась в ноги государыне, которая сама, своими ручками и подняла старушку, и усадила подле себя, совсем не помня о расстоянии между супругою царя и подданною.
Слезы умиления потекли по щекам растроганной Балакирихи, и она, схватив руку царицы, целовала её, не в состоянии выговорить ни слова.
Екатерина Алексеевна, сама растроганная выражениями к себе искренней преданности, милостиво сказала старой помещице:
— Я узнала, что внук твой любит дочь священника… она составит его счастье. Со стороны родных было бы неуместно неволить чувство молодого человека… Государь никогда не одобрял браков, устроенных помимо воли тех, кому вместе жить должно… Поэтому, хотя Ильинична мне и доносила, что с вашей стороны есть намерение женить внука на её племяннице… этого не делайте… Пусть… сам он выбрал… Сам и…
— Я, государыня, внуку не только не помеха, но, смею донести величеству твоему… хотела сама просить, оказать над сиротою милость… соизволить Ване моему разрешенье дать, на поповне поладить…
— Ну и хорошо! Лучше всего это… Я уже уверила Ильиничну, что, по милости своей, сыщу племяннице её другого жениха, кого сама знаю… А вы свадьбой внука не медлите… Я пойду благословлять… Сама… И наделю молодых…
Лукерья Демьяновна бухнула ещё раз в ноги и, схватив ручку государыни, целуя её, шептала:
— Ддо-вволь-ны мы великими… государскими милостями, а щедроты… кто укажет…
Дальше она не прибрала слов и только шевелила губами. Старушка была крайне растрогана и полна счастием, равного которому она не помнила в свою жизнь.
— Иван! — крикнула государыня. И Балакирев, не без трепета ожидавший результата аудиенции бабушки, вышагивая по передней и слушая какие-то внушения Лакосты, в эту минуту совсем ему непонятные, робко вступил в государынину приёмную.
— Поблагодари бабушку за соизволенье благословить тебя с кем ты желаешь! — громко сказала за государыню княжна Марья Федоровна Вяземская, которую Балакириха не усмотрела позади царицы.
Ваня опустился на колени рядом с бабушкою, поцеловал руку милостивой монархини. Балакириха встала и, кланяясь государыне, обратилась с речью к княжне:
— И твою честь благодарствую на милостивом слове… что внуку моему наказала мне, старухе, почёт воздать… Он бы, сердечный, может, и не вдруг спознал бы, что и как по чину исправить… как Бог велел, да отцы и деды с испокон века делывали… Позволь, государыня, мне имечко твоё узнать, чтобы в молитвах вспомянуть… святых?
— Княжна Марья я, по милости Божией… Во внуке твоём, голубушка, все мы участие принимаем… Хорошего человека ты вырастила… государю на службу, добрым людям на угождение и себе, и тебе на славу… Ко мне при случае заверни… скажут, где… найдёшь меня… Рада у себя видеть такую почтённую старицу…
— Сиятельство твоё, княжна, да благословит Господь за милость, оказанную нам, грешным… Прими, государыня, в твою протекцию особенную внука-то моего… Ваню-то… Он истинно у нас безответным рос… а удал, нече молвить… и находчив… и стремой.
— Узнали мы на деле эти его качества, бабушка… за то и полюбили его все… И сам государь жалует, — произнесла она вполголоса, увидев в тени коридора заглядывавшую издали Ильиничну.
И Балакириха, обратив глаза в ту же сторону, заприметила её и опустила глаза, ещё ниже отвесив поклон княжне за милостивое обнадежение.
— Когда, государыня, соизволишь рабе твоей к себе-то пожаловать наведаться? — спросила она, найдясь и при овладевшем немного смущении.
— Вечерком как-нибудь… мы ведь по соседству живём… В Посадской, недалеко от церкви, поповы семьяне, чай, укажут…
— Буду, государыня, всенепременно буду… Только не погневитесь за моё рабское челобитьице… не можно ль будет Ване моему со мной на часок, на другой со двора сойти?.. Коли послать надоть, он аль по пути справит, аль я подожду.
— К чему же?.. Может он, государыня, и теперь с бабушкой на время отлучиться? — явилась адвокаткою княжна Марья Федоровна.
Милостивое мановение августейшей ручки было разрешением просьбы бабушки.
— Пораньше вечера только будь! — наказала княжна отпущенному Ване.
Он и бабушка с поклонами удалились, не помня себя от милости государыни и её августейшего привета.
Когда проходили бабушка с внуком после высочайшей аудиенции по тёмному коридорчику мимо дверей комнаты царевен, на пороге её стояла Авдотья Ильинична.
На молчаливый поклон Балакирихи Ильинична, не клоня головы, ехидно прошипела:
— К чему кланяться, коли с мостков толкать!.. Подымай выше теперь… в княжеские хоромы, не иначе!..
Лукерью Демьяновну это замечание взорвало окончательно, но она удержалась и только послала в ответ ярый взгляд, пронзивший сердце надменной няни.
— Возись знай с поповством, ан, посмотришь, и холопство сумеет дать себя знать! — ответила та, не любя оставаться в долгу.
Можно представить себе, как полно было счастье семьи нашего достойного служителя алтаря, отца Егора, когда прямо к ним пришли бабушка с внуком и она рассказала все, что с нею было во дворце.
— Мы бы у вас пообедали,-сказала, усевшись на почётное место и после первых приветствий расположившись совершенно по-родственному, Лукерья Демьяновна попадье Федоре.
— А ещё бы уважили, коли бы кого послали за моей спутницей, матушкой Анфисой Герасимовной! Она, родная, открыла мне глаза по-настоящему на паскудную Ильиничну эту самую, — отрекомендовала помещица будущей родне свою задушевную приятельницу.
— А вы где остановилися? Говорите: за перекрёстком налево, третья изба, бабушка? — спросил вдруг сынок поповский Сеня. Мальчик этот и в первое посещение Лукерьи Демьяновны все смотрел на гостью, внимательно слушая её слова.
— В том самом, батюшка, истинно в том… а что тебе?
— Да я схожу и попрошу матушку к нам идти; скажу — бабушка зовёт.
— Экое золото!.. Не мальчик, а сокровище! — поцеловав его в голову, сказала Балакириха.
— Сходи, сходи, Сеня, — подтвердил сам батюшка. — Скажи, пусть пожалует, не поленится: Господу Богу вместе помолимся за успех и поспешество благого начинания.
Посланник выполнил взятое на себя поручение блистательным образом. Матушка Анфиса по самому приглашению поняла, что всё кончено так, как она предрешила. Она собралась немедля и, уже подходя к дому, услышала священные звуки церковной песни: «Молитву пролию ко Господу!» Отворив дверь, попадья встала позади и во весь молебен глаз не спускала с невесты, молившейся усердно рядом с женихом.
Приятельнице Лукерьи Демьяновны Даша больше чем понравилась ещё при первом взгляде на это доброе, любящее существо. Ваню нашла матушка совсем молодцом, да таким, что ни в сказке сказать, ни пером написать… точного подобия не удастся. Поп Егор — уж нечего и говорить — духовный отец, душа. И попадья, подобострастно следившая за малейшим движением Балакирихи, понравилась, вызвав про себя замечание: «Баба умная!»
После молебна Анфиса Герасимовна была встречена ласковым поцелуем Балакирихи со словами: «Дождались мы с тобой, слава Создателю, милости Божией!»
Понятно, что после слов государыни свадьбой не медлили, и бракосочетание «юрка» почтил своим присутствием Сам державный, открывший прекрасные качества Ивана Балакирева, как мы знаем, раньше всех.
Целую неделю после свадьбы прихожане и прихожанки все ходили в дом к попу Егору с приношениями посильной благостыни, так любимой попадьёю Федорой. Поп Егор не вмешивался ни во что и руками махал, когда приносили. Он сам только усаживал посетителей и пересказывал им в сотый раз на дню, как великий государь нашёл его своею царскою милостью.
— Не погнушался великий наш монарх под кров мой войти и с нами, рабами своими, хлеб-соль разделить… И изволил мне государь сам сказать: «Семья у тебя не мала, а много ль доходит… хватает ли на все?» Сыты мы все, государь… Вышний раздаватель талантов рабу твоему дал мзду не по слабым силам, а по своей неиссякаемой щедроте…
— Так и отвечал? Разумно, батюшка… разумно, да тебе ли, отче, не найтися?.. Царь ужо, узнавши тебя, паче превознесет за твоё смирение… а мы, отец, всей душою к тебе… к единому…
И попадья с улыбкой принимает отверженное супругом, который принимал только малую мзду за посильный труд.
Попадья Федора Сидоровна внутренне мирилась теперь со своею участью, но чаяла ещё высшего благополучия впредь при таком зяте.
Глава IV. НИЧТО НЕ ПРОЧНО ПОД ЛУНОЮ
Егорова семья пировала вместе с попадьёю Анфисою и Балакирихой. Был день рождения новобрачной внучки — Дарьи Егоровны.
Приятельницы, разрезывая кулебяку, пожелали Даше и Ване жить век голубками. Они закрепили своё пожелание прихлебываньем винца из братинки вместе с отцом Егором и матушкою Федорой.
Беседа после возлияний сделалась оживлённее.
— Чего я тебе пожелаю, милостивая наша родственница, Лукерья Демьяновна? — возвысил несколько голос, принимая братину, отец Егор. — Животов ли приращения? На твой и на детский век хватит, по милости Создателя… Чести ли и любви людской? Все уже имеешь и видела честь от супруги самодержца самой.
— Конечно, — согласилась помещица, — а все же, батюшка, и ты бы сам, коли бы милость государская какая ни на есть нашла Ванюшку, не сказал бы, что излишня она?
— Мы, грешные, не чуем: благодать нам ниспосылается аль искушение, — возразил отец Егор. — Ино и милостью кажется попервоначалу, а чем дальше всматриваешься, тем запримечаешь больше опасности… и для души, и для тела… Бог весть, а человеку приходится мудрее змия быта при всяком новом положении, отличить старайся: отчего приходит?
— Все так, батька, да к примеру сказать… Бога благодарить, известно, следует, коли сам батюшка даёт довольное; а коли не хватает и сам промыслишь, да и просить будешь: подай! — вмешалась в речь попадья Федора.
Ей отец Егор ничего не ответил, а только взглянул искоса, как бы про себя решив, что сожительнице ничего не втолкуешь доброго. У неё все одна песня, и на неё всегда сумеет она свести всякое рассуждение.
Что касается Лукерьи Демьяновны, она придала словам отца Егора смысл подлинный: всегда надо соблюдать осторожность и следить за собой. Такое расположение духа на эту пору несколько дней уже не оставляло помещицу. И утром ещё, собравшись провести день в семье батюшки, Лукерья Демьяновна многозначительно сказала своей советнице:
— Иду к отцу Егору с охотой. Он истинно Божий человек и врачество душе подаст… Веришь ли, на сердце у меня, сама не знаю отчего, словно кошки скребут… А я сама здорова… Ваня и Даша тоже, да от матери давно писем не получали… С чего бы им так замешкать?.. И нечего писать, да черкнули бы хоша: все, слава Богу, здорово у нас! Долгое ожидание вести, само собою, могло привести в раздумье умную помещицу, а слова пожеланий отца Егора, как мы заметили уже, самому раздумью её о житейском заставили придать иной, более возвышенный смысл.
Под влиянием этого настроения Лукерья Демьяновна даже холодно как-то поздоровалась с подошедшим к обеду — хотя и поздно, но всё же заставшим за столом всех — Ванюшкой. И тот — как заметила и потом рассказывала Анфиса Герасимовна — был ровно не в себе: меньше разговорчив, чем обыкновенно. Это заметил даже и тесть.
Выйдя из-за стола с ним и взяв его под руку, отец Егор направился к дверям.
Был хотя и март месяц — пост Великий, — но погода стояла на ту пору очень тёплая. Солнце просто, что называется, пекло, и так отрадно веял весенний ветерок, неприметно сгоняющий снег.
Облокотясь на стенку в светлых сенях, доходившую взрослым только до пояса, отец Егор спросил у зятя:
— Ну, что слышно у вас хорошенького?
— Да хорошего мало… Сказали сегодня: готовиться в дорогу; чего доброго, ещё раньше праздника. Царица будет лето проводить в Ревеле… и в Ревель поедут не прямо отсюда, а попрежде ещё, с месяц али больше, проживут в Риге… В Ригу нам и сбираться велено наспех…
— Значит, думаешь про долгую разлуку с Дашей? Оттого-то и приуныл?
— Д-да, невесело… праздник в одиночестве… между немцами. А главное, батюшка… непривычен я к этим разъездам… Как там и что?.. Думаю: нельзя ли выпроситься здесь остаться?
— Ни-ни! Не просись… Ты человек молодой… заслуживать должен милости державных, а не отлынивать от службы… И Бог не велит, и люди не одобрят…
— А Даша-то как? Она ведь, сердечная, со скуки пропадёт?.. Ей и свет Божий невзмилится…
— Даша — моя дочь… Она выросла в страхе Божьем и все привыкла отдавать на Божью волю… Потерпит, поскучает, а отговаривать тебя от поездки и она не станет… Я её хорошо знаю.
Дверь скрипнула, и зять с тестем перервали разговор. Вышла Даша, немного побледневшая, но твёрдо сказала мужу, взяв его за руку и крепко сжав её:
— Дурно ты меня знаешь… на все воля Божья.
Ваня оправился. Поцеловал жену как-то торжественно Он в словах её как бы нашёл неожиданную опору и, войдя в светлицу, громко сказал, силясь придать голосу твёрдость:
— Скоро прощаться придётся нам, велено мне сбираться — в Ригу ехать, при государыне!
У Лукерьи Демьяновны прошибли слезы. И двум попадьям почувствовалось — словно что оторвалось при словах Вани.
Беседа затем во весь вечер все вертелась на одном — на грядущей разлуке с Ванею.
В 1721 году Пётр I и Екатерина Алексеевна проводили Пасху в Риге, взяв с собой прислуги в самом необходимом количестве.
Государыня взяла с собою Дуню, племянницу Ильиничны, да Балакирева. Из окружающих её величество были только «Четверная Лапушка» — толстуха Анисья Кирилловна, да камер-юнкеры: Вилим Монс со своим племянником Петром Фёдоровичем Балком. Государь в разъездах с собою брал всегда по одному денщику, и денщик его величества помещался в передней.
О прислуге государыни в городе Риге позаботились: через улицу от временной резиденции её величества в хорошем доме отвели вполне приличную комнату, но всего одну. Постойная повинность не дозволяла обременять рижского гражданина более чем одной комнатой в доме под свиту высоких персон.
Богослужение у русских совершается, как известно, в день Пасхи ночью, на рассвете разговляются. У Петра I русские люди собрались разговляться вместе с государем. С кухни кулич с пасхою да все, что изготовлено было для разговенья вверху, отпущено было и прислуге царицы — в их помещение. Дуня накрыла скатертью стол и пригласила сесть грустного, молчаливого Балакирева, с нею до сегодня не заговаривавшего.
Они только раскланивались вежливо, молча.
— Благодарствую, Авдотья Мироновна, на доброте да на ласке… С праздником!.. Желаю всяких благ.
— Да вместо пожеланья благ, Иван Алексеич, ты лучше поцелуйся: «Христос воскресе!»
— Воистину…— не найдя что возразить, откликнулся Ваня и чмокнул в горячие губы Дуню.
Похристосовавшиеся принялись дружно за пасху и за кулич сперва… потом за съестное, что принесено было к ним.
Раз начатый разговор не прекращался. Ваня, находясь среди немцев и слыша вокруг говор их, был даже рад отвести душу разговором по-русски. Да к тому же Дуня оказалась такою сочувственною собеседницею, что и говорить было легко. Выспросила она обстоятельно о всём семейном положении. Не только без жёлчи, но даже чисто с родственною предупредительностью осведомилась: «Как здорова Даша?» — и имя её знает, и всех домашних, и про попадью батькину… и про бабушку… ровно сестра родная или кума любезная.
Ваня не успевал отвечать на вопросы, так быстро закидывала его ими приветливая Дуня. Неприметно прошли три часа, в которые Ваня собирался соснуть, не ожидая веселья в праздник.
Балакирев даже как-то неохотно поднялся с места, когда сам Балк пришёл и велел ему идти к государыне. Услышав, что её величество встала, и Дуня поспешила, встревоженная, что отсутствовала при вставанье.
Все, однако, для обоих заговорившихся сошло преблагополучно.
Государыня подарила червончик Дуне и золотой перстенёк Ване. Его послала передать записочку на почту — для отсылки детям, в Петербург. А затем милостиво дозволила государыня лакею своему употребить время как он захочет, потому что его услуга не потребуется. Её величество и его величество, пользуясь хорошею погодою, решили целый день гулять по улицам, чтобы народ мог насмотреться вдоволь на их величества.
Одев государыню, Дуня осталась прибрать гардероб её величества, уже довольно богатый, и вдруг неожиданно озадачена была сделанною ей честью. Цех шляпных мастеров решил выказать свою преданность русской царице поднесением прислужнице её сластей и двух бутылок сладкого вина.
Как ни отнекивалась Дуня от чести, её принудили взять подарок депутаты от цеха и с торжеством внесли в комнату Дуни и Вани поднос да бутылки.
Балакирев, идя с почты, должен был сделать маленький обход, потому что около жилища царя и царицы толпа, собираясь с раннего утра, не давала прохода в тесных улицах. Толпа двинулась за их величествами и, не давая им двигаться иначе как шагом, пересекла путь Балакиреву почти у самого порога отведённого жилища. Ему пришлось простоять на месте, по крайней мере, с полчаса. Идти за толпою он не хотел и завернул домой.
Он нашёл Дуню одну перед подносом с вином и фруктами, а в доме хозяев — ни души. Все убежали смотреть на царя с царицею.
Выслушав рассказ о поднесении, Балакирев дал совет: попробовать и вино, и фрукты.
— Не бросать же!
— Хорошо! Я готова и пить… и есть, но… с тобой вместе! — поставила непременным условием Дуня.
— Почему не выпить, буде не хмельно гораздо, — решил Ваня.
Небольшие серебряные, вызолоченные стаканчики нашлись у Дуни. Налила она в них вино, и оно заиграло на позолоте так нарядно, что Балакирев, немного помедлив, выпил. Говорится и в Писании: «Вино веселит сердце человека!» С возлияниями сладкой влаги из позолоченного стаканчика Ваня совсем повеселел. Он подставил стаканчик даже снова, взяв с подноса два бергамота[324].
— Что же мы пьём, а не чокаемся? — налив стаканчик Балакиреву и наполняя свой, весело вскрикнула ещё более весёлая Дуня.
— Почему не чокнуться — наливай себе!
Чокнулись.
— Да ты не так, Иван Алексеич, — не выпив, но держа в руке стаканчик свой, ещё веселее выговорила Дуня, — у нас чокаются, разумеется, искренние друзья?
— Разумеется! — совсем дружески подтвердил Балакирев.
— А друзья, чокнувшись, целуются!
— Как так? — в раздумье проговорил Ваня.
— А вот так! — ответила Дуня и впилась своими губками в его уста.
Ваня сделал невольное движение, но не сильное, а рука Дуни, как бы ожидавшая этого, ещё крепче обвилась вокруг шеи Балакирева.
Поцелуй этот или, вернее, не один десяток поцелуев, пока рука Дуни оставалась на шее у Вани, тянулся несколько минут.
И страшно было мужу Даши, и — видно, тут не без колдовства — так приятно, что он не считал времени, в полном забвении, где и что вокруг делается.
Уста Даши и Вани невольно разомкнулись при оклике за дверью: «Иван Алексеич! А Иван Алексеич!» Балакирев вышел за дверь и увидел гарнизонного солдата, прикомандированного для охраны царского жилища.
— Что тебе, Андрюша?
— Да губернатор приказал на сегодня — пока народ на улицах гуляет — держать двери на запоре… чтобы грех не вышел от воров!.. У кого не заперто найдёт патруль — штраф наложит… Остерегите хозяев… Приприте надёжней!
— И только за этим ты?.. Прокураты же у вас, у губернатора…
— Нельзя… Строго заказано, Иван Алексеич… Нетрудно притворить, а незаперто найдут… хуже будет.
— Ну, спасибо… за береженье.
И Балакирев вслед за солдатом пошёл выполнить приказание начальства.
Балакирев и его соночлежница, таким образом, были обережены от всех треволнений и толкотни праздничной. Они настолько были увлечены взаимным угощением и беседой, что времени совсем не замечали.
Им оказалось вдвоём так хорошо, что они забыли всех и вся.
Вино и фрукты чередовались, питьё неизменно сопровождалось чоканьем, а чоканье — как установлено было раз — поцелуями.
Между ними Дуня томно спрашивала Ваню:
— За что ты меня возненавидел, Иван Алексеич?
— Я… возненавидел… тебя? Разуверься, Дуня… Я… я никогда…
— Не думай, что твоя Даша больше любит тебя, чем я… Дуня твоя.
— Даша добрая душа, не кори её.
— Я не к укору говорю, а к примеру… Она тебе ничем не пожертвовала… Я всем… Собой.
И Дуня плакала.
А Ваня целовал её, упрашивая не плакать.
После слез ещё раз прошли стаканчики, и не один раз, может быть, пока не опорожнились бутылки; и неведомо как подружившихся молодых людей сморил сон.
Сон был у них так крепок и продолжителен, что хозяева, придя с гулянья, не могли достучаться и попали домой к себе, отворив с надворья раму в нижней галерее да войдя через неё на крыльцо.
Наутро и Дуня, и Иван Балакирев чувствовали себя как-то неловко словно они были друг другом недовольны, и как-то пугливо озирались на других.
Царь задумал в губернаторском доме задать обед — не одним чинам военным и приказным, но и городским представителям — на третий день праздника. Ивану Балакиреву с денщиком царским, Орловым, пришлось поэтому целый день разъезжать с оповещениями и приглашениями.
В каждом немецком доме предлагали угощение. Сперва, очевидно, недовольный собою и, можно сказать, нравственно убитый, Ваня отказывался; пил один Орлов и к обеду доведён был до такого состояния, что не мог уже продолжать разъезды. Пришлось большую половину приглашённых ещё оповестить одному Балакиреву.
Весенний день велик; но уже были сумерки, когда, сойдя со взмыленной лошади, Ваня поднялся по лестнице в жилище третьего ратмана[325] — кума того гражданина, у которого в доме отведена была комната царицыной прислуге.
Ратман этот был разбитной малый и нравственную воздержанность считал глупою робостью.
Услышав отказ бравого лакея царицы от предложения осушить ремер рейнвейна за здравие их величеств, ратман привскочил даже от удивления. А когда на вопрос, почему не пьёт, Ваня отговорился тем, что дал зарок не пить, — угощатель преобидно для Балакирева захохотал. Наклонясь к его уху, он довольно хорошо сказал ему по-русски, скороговоркою:
— После вчера… вы угостили со своею дамою друг друга так, что дом мог сгореть, а вы вместе спали?!
Ваню передёрнуло от этих слов, и он, не говоря ни слова, осушил ремер залпом.
Как ни крепок был царский юрок, но его скоро разобрал хмель. Добравшись с трудом до отведённой квартиры, Балакирев грохнулся на постель и заснул как убитый. На утро праздника у их величеств хлопот много было не одним кухмейстерам и приспешникам, но и наличным служителям, разбиравшим посуду. Дуня посажена была к погребцу угощать всех желающих выпить: кто чего потребует.
К концу вечера и Балакирев оказался угощённым сладкими винами довольно исправно. Дуня для нового друга приберегла самые лакомые заедки, так что, утоляя жажду сладкою влагою, и закусывал приятель сластями с полною приятностью.
Вино хорошее Ване понравилось, и он нашёл, что в минуту грусти вино — самое надёжное лекарство. Оно способно прогнать тоскливость и ещё более тяжёлые чувства, возникавшие у него в часы отрезвления. Открыв такое лекарство, он понял, как сократить периоды тяжёлого раздумья. Так что, в конце концов, пребывание в Риге при государыне кончилось для Балакирева тем, что он приобрёл неладную привычку — прибегать к вину, прежде его сильно пугавшему.
Дружба с Дуней превратилась в связь, которую вопреки рассудку и сознанию супружеского долга уже невозможно было разорвать. Образ Даши стал вызывать в Ване укоры совести, а потом уже ожидание свидания с женою в Петербурге с каждым днём пребывания в Риге и затем в Ревеле навевало не просто грусть, а даже страх. Он чувствовал свою круглую неправость: сам себя в душе обвинял и считал тяжким преступником. Да мало ли чего тайного и грозного пришлось ему вспоминать? Робкая совесть подсказывала пугливому воображению те кары, которые могут быть… при строгом выполнении приказаний красавца камер-юнкера Монса.
В Ревеле он даже поместил Ивана Балакирева у себя и попробовал воспользоваться его находчивостью в одном затруднительном деле: получении денег с одного ратсгера. В свой приезд в Петербург тот пообещал тридцать необрезных цесарских талеров за ходатайство для ускорения выдачи наследства без справки.
Когда приехали в Ревель, Монс узнал, что его ходатайство в пользу ратсгера в магистрате имело полную силу. Клиент не только получил сполна все движимое, но введён в законные права пользования и родовым недвижимым — якобы «по особому царскому указу». А о тридцати талерах слуха нет.
Однажды должник попался даже навстречу камер-юнкеру Монс узнал его и остановился перед своим должником, вопросительным взглядом да кивком головы напоминая ещё об обещанном.
— Извините, почтённый господин, я вас не имею чести знать, вы изволили, вероятно, ошибиться! — вежливо раскланявшись, сказал по-немецки камер-юнкеру ратсгер и сделал ловкий манёвр в сторону. Эта дерзость окончательно взорвала Монса, не привыкшего к подобным ответам. Придя к себе в этот вечер, он дал приказ-поручение Ване, ласково взяв его за руку и усаживая подле себя:
— Ты… человек ловкий, умный даже, как доказали опыты, очень решительный и… находчивый. Сделай мне одолжение: так и так…
Ваня молча выслушал все обстоятельства дела, рассказанного Монсом пространно по-немецки. Он уже говорил с немцами недурно.
— Как же ты скажешь: можно будет справиться с негодяем? — спросил нетерпеливо Монс быстро соображавшего собеседника.
— Погрозить ему доносом на сочиненье им какого-то указа царского? Которого…
— Прекрасно… Сам Соломон не придумал бы так скоро такого веского решения… Таким ворам только и остаётся, что грозить доносом на плутню… Действуй смело и решительно, Монса именем…
— Перед кем? Перед ним одним или и — перед членами магистрата?
— А можно разве к ним привязаться?
— Можно, я полагаю; пригрозить и настращать того, кто всех пугливее: что не одному получившему, а всем судьям — беда… Пусть разыщут, какой такой есть указ царский?
Монс пробежал по своей комнате и раз, и другой, и третий, потирая руки. Ему действительно представилось, что хитрая штука может удаться. Секретарь и протоколист — скажи только, хоть в виде шутки, царю, как угодлив ревельский магистр своим ратсгерам — первые попадут в допрос. А там и на наследство секвестр[326], до сбора справок… да штраф, да другие протори[327] и убытки…
А плутоватый, но трусливый протоколист, прямо подручный того самого ратсгера, кстати, не раз заговаривал с Ваней и угощал его один раз. Есть, стало быть, и подход: по дружбе, мол, предупреждаю… чтобы вам в ответ не попасть.
— Но прежде всего следует почву попытать в самом руднике, то есть подъехать к виноватому ратсгеру.
Под вечерок и отправился к нему слуга государыни. Узнал, что он, по скаредству, никого не держит из прислуги и сам дома сидит — выйдет отворить дверь неотменно.
Позвонил погромче — отворилась дверь.
— Я камер-лакей государыни. Прислан осведомиться: когда последовал царский его величества указ о решении дела в ревельском магистрате, помимо справок, по наследству Миллера-младшего?
— Зачем это?
— Да осведомилась её величество, что много в городе говорят про такую милость государя к членам магистрата, и уж с просьбами обратились к её величеству: походатайствовать — по тому самому примеру — о вводе наследников во владенье без проволочки, то есть без дальних справок.
— Это нелегко найти, — с неудовольствием ответил ратсгер, в то же время соображая силу полученной пилюли.
Подумав и предположив, что имеет дело с русским, не знающим их порядков, он быстро нашёлся:
— Это справиться нужно по книгам…
— А! У протоколиста, значит?.. Ну, у него, должно быть, найдётся сейчас… Нечего и медлить, и вас беспокоить. Где протоколист-то живёт?
— Зачем вам знать протоколиста?
— Чтобы показал он, когда указ дан! Ведь не записать указа в книгу он не может? — а сам смотрит в лицо потерявшемуся ратсгеру.
— Да так нельзя, нужно подать в магистрат просьбу о справке.
— Это подают просители обыкновенные… Государыня, коли не дадут справки, прямо государю скажет: как здесь делают. Магистратские при себе держат указ его величества… а другие не смей и просить о милости?..
— Да не сама же государыня принимает просителей!.. Полноте! Где ей этим заниматься? — заговорил другим уже тоном ратсгер. — Скажите, пожалуйста, кому нужно отослать справки? Мы отошлём. Да войдите, сделайте милость, ко мне. О делах на улице не говорят…
Вошёл Балакирев и сел по приглашению.
— Так кому… эти справки нужны? — вторично спросил самым нежным голосом ратсгер.
— Камер-юнкер Монс обыкновенно принимает у просителей челобитья… а здесь с государынею походная канцелярия есть… Я при ней состою… И…
— Камер-юнкер Монс!.. Камер-юнкер Монс!.. — с беспокойством повторил ратсгер, очевидно затронутый за живое, и с сердцем начал ворочать одну за другою бумага на столе.
— Видно, ищете счёт в тридцать талеров цесарских? — вполголоса, не глядя на хозяина, молвил Балакирев.
— А-а! Так вы знаете… Послушайте, тридцать много… и двадцать будет достаточно?.. Ну, что тут, много ли хлопот было?.. Дело, в сущности, чистое.
— Тридцать… и ни крейцера меньше… Так протоколист где живёт, говорите?
— Ну, двадцать пять? — попробовал предложить ратсгер.
— Я могу получить или тридцать, или…
— Ничего, вы хотели сказать? За упорство и так бывает…
— Так о чём же разговаривать?.. Я прямо пристану к протоколисту, и он… найдёт указ…
— Ну, полноте! Ну к чему к такой штуке прибегать, можно было прямо идти без окольных дорог. Берете двадцать пять талеров?
— Нет!
— Может он и ничего не получить!
— Может, и потребуют указ.
— Мне до этого дела нет! — вскипел ратсгер, напуская на себя вид оскорблённого достоинства.
— Так прощайте. Я и без вашего указания найду протоколиста… Да приду к нему не один даже, а с референдарием от обер-бургомистра… Велено отыскать указ — так отыщут, если есть…
— А если нет?
— Если нет — так с магистратом не станут чиниться: новоуказные статьи прямо говорят, как быть, коли члены магистрата, «забыв страх Божий»…
— У нас есть свои магистратские постановления…
— Которые, однако, по милости будто бы насланного указа не исполняются?
Как ни зол был ратсгер на приставшего, но и тот не мог не улыбнуться одобрительною улыбкою.
— Монс выбрал, однако, стойкого ходока… Получите!
И ратсгер, отомкнув маленьким ключиком стоявшую на столе шкатулку, открыл её и вынул вязаный шёлковый кошелёк, туго набитый серебряными деньгами.
— Получите, взяты сполна, — донёс в этот же вечер Монсу передавая деньги, ловкий Ваня.
— Расскажи, пожалуйста, каким чародейством ты выможжил у скряги мои талеры? Это походило бы на сказку, если бы не было правдой. Ты, друг мой, — похлопывая дружески по плечу кончившего рассказ свой Балакирева, решил Монс, — и ловчее, и находчивее не в пример Егора… Стало быть, можно будет скоро спровадить этого вредного человека… С тобой мы не расстанемся… Я от тебя ни в чём не таюсь и не намерен таиться… В помощи моей можешь быть уверен… Смотри, если что окажется, придётся, для приличия племянницу Ильиничны замуж отдать… Ваня опустил невольно голову.
— Я не с тем напоминаю, чтобы ставить тебе в вину.. Молодость твоя, и она… крепко к тебе привязалась… Все это хорошо мы видим и знаем… Да ты ничего не бойся… Всё будет шито и крыто… Мы своих не выдаём… Хорошо бы было с нашей стороны своего оставить! Одного только требую: не пей так много, чтобы себя не помнить… И то можешь высказать, не помня, что и себя погубишь и других поставить можешь в затруднительное положение…
— Я ни в жизнь, Вилим Иваныч, не забуду… что я есть… я насчёт питья не властен… верьте Богу, — не властен и хожу как ошалелый… Трезвому в голову лезет моё беззаконие… с самого того дня… как Бог попутал… связался… Быть же такому искушению?! Будет мне вечно памятен Христов день в Риге,.. — он тяжело вздохнул, и на глазах навернулись слезы. — Помутилось моё все житьё… моему счастью конец!
И лицо Ивана Балакирева было мрачно.
Приехала государыня Екатерина Алексеевна в государев рай, на невское своё пепелище, из продолжительного странствия уже с лишком через неделю после дорогого для супруга её дня — полтавской годовщины[328].
Ваня удосужился домой только на минутку и был на себя не похож. И похудел он, и почернел словно.
Даша обрадовалась как ангелу Божию своему ненаглядному мужу, а он поздоровался с нею как-то холодно.
— Что с тобой?
— Устал я… с дороги… разбило всего… измучился насмерть…
— Это и видно… лица на тебе нет…
— Засни, голубчик! — предложил тесть. — Утро вечера мудрёнее… И с силами сберешься, да и отдохнёшь по-христиански… Матка, накрывай скорее. Отужинаем и пораньше… Пусть Ваня не морится, а заснёт.
— Да мне нельзя ночевать дома сегодня… не сказался… Я ведь у Монса должен быть в дому…
Всех словно передёрнуло при этих словах.
— Разве не у государыни уже?
— При государыне… как же!.. Да велено покамест с камер-юнкером находиться… Дело своё справлю и — к нему.
— Экая, прости Господи, напасть! — вступилась попадья Федора. — Малому и дохнуть не дадут у себя в семье… Да есть ли хоть, к примеру сказать, корысть-то какая?.. Уж знал бы, за что маяться! — докончила она, ни к кому обращаясь, а высказывая свои задушевные влечения.
— Есть-то есть, и больше чем есть… Только бери, а давать — дают охотно, да я придерживаюсь.
— К чему так, мой родной? Всяко даяние благо ведь?
— Не совсем, матушка; может выйти и не благо… неровен час.
— Ты, Ваня, для Бога, не бери ничего, береги свою душу и совесть! — с жаром заговорила Даша и прильнула к щеке мужа своею горячею щекою.
— Ты, Иванушко, правду Даша говорит, — подтвердил отец Егор, — не мзды ради твори вся поведённая, а — Господа ради, как учит апостол… Будет душа чиста, и мир Божий в душе твоей всегда будет; и помысл чист, и воля не склонна на злое, а паче склонная на благое…
Ваня поник головой, и ещё тяжелее стало у него на душе.
— Что бабушка?.. Где теперь жительство имеет?
— Уехала, голубчик, домой, — сказал тесть. — Письмо не совсем ладное получила… Сгорело у вас сколько-то. — И сам тяжело вздохнул.
В письме, полученном накануне, Лукерья Демьяновна уведомляла батюшку, что сгорела у неё усадьба и осталась едва ли десятая часть имущества. Подняться нелегко… Не один год и не два придётся ей пробыть в деревне, чтобы поправить как-нибудь ущерб. Словом, из людей достаточных теперь они стали чуть не нищие.
Высказать горькую действительность отец Егор постерегся: и без того малый расстроен.
Накрыли на стол и сели все вокруг. Отец Егор благословил яствие и питие, прочитав молитву. Ваня поел с аппетитом, но молча.
Тесть и тёща отнесли это ко множеству ответственности, лежавшей на Ване; в путешествии, как видно, ещё более ему прибавилось забот.
У Даши грусть об отсутствовавшем, рассеиваемая немного его нечастыми письмами, заменилась новым болезненным чувством. Бедняжке сдавалось теперь, что Ваня воротился из немецких сторон совсем другим человеком. И не хочет он на неё взглянуть по-дружески, а словно избегает её добрых взглядов, стремящихся заглянуть в его душу и прочитать в ней горе друга. Что он страдает, хотя и не говорит ничего, Даша сразу была уверена. И чем больше боязливо заглядывала она в опущенные низко глаза Вани да запримечала их блуждающий взор, тем сильнее билось и сжималось у неё сердце. Она готова была заплакать, и верно, при всех расплакалась бы, если бы после ужина тотчас не ушёл Ваня из дома, ссылаясь на невозможность дольше медлить. Проводив мужа, Даша легла на одинокую кровать и долго тихо плакала. Слезы облегчили бедняжке муку нового для неё ощущения — ещё не определившейся ревности.
Слезы облегчают, несомненно, душевную скорбь, притупляя остроту её. Так было и с Дашей. Охлаждение в муже представлялось ей не призрачным, а подлинной причины остуды она вообразить не могла. Порою Иван был к тому же особенно нежен, проявляя и пыл привязанности, и чувство, разливавшееся потоком слез, но это были часы, когда он был далеко не трезв. В таком положении Даше нестерпимы были его ласки, и он сам возбуждал в ней чувство, которое можно было бы назвать даже враждебным, если бы не проявлялась и в нём женина сердечная преданность да заботливость о добром имени мужа. И она, и домашние — особенно всегда трезвый тесть — на излишества, допускаемые Ванею, смотрели, положим, с разными чувствами, но приходили к одному непременному заключению — что пьянство может погубить молодого человека.
От молчаливых вскипаний неудовольствия дошло до осторожного, но прямого осуждения питья, с упоминанием страхов, волновавших родных, членов семьи священника.
— Ваня, что ты приходишь домой, и редко теперь и не в себе? — осмелилась дружески сказать ему жена.
— Я-то… не в себе?.. Кажись, все как следует, дело справил… С чего мне не в себе быть?
— И я тоже думаю, с чего тебе… пришла теперь — прежде не замечала, до немецкой стороны — охота пить-то? — задала Даша прямой вопрос, от которого Ивану уклониться было нельзя уже, ничего не отвечая в ответ.
— Не пить, Даша, коли знать хочешь, не даёт мне дело моё, — мрачно ответил Ваня, глядя в пол.
— Отчего дело? При деле, если его много, нужно быть тем более трезвым… чтобы помнить все твёрдо… не перепутать чего; чтоб не досталось.
— Ты думаешь так, а я не так! — возразил он медленно, очевидно придумывая отговорки. — Я, коли подкреплюсь, все помню явственно, хоть сто дел разных вели исполнить… Куражит меня, значит… А не выпью — хожу как шальной, рохля рохлей… раздумаюсь… Тоска нападёт как бы ты знала какая! Что я? — думается до чего дойду?
И у Балакирева выступили искренние слезы.
Прямой причины такого состояния мужа добрая Даша, разумеется, понять не могла и только вздохнула. Вздох этот был выражением сочувствия к любимому страдальцу. К трудностям неспокойной службы стала относить теперь Даша необходимость для мужа пить, может быть, только он перепускал неосторожно лишнее. Да и как тут остановиться, когда одно горячее питьё только в состоянии подкрепить истощённые силы?
Пересказала Даша свои мнения, расспросы мужа и ответы его матери и отцу… Погоревали втроём. Покачали головами, но со вздохом помирились с настоящим порядком вещей, если нельзя изменить его.
Сентября 3-го 1721 года, около вечерен, услышали жители Петербурга необычную пальбу из пушек на Неве; да часто таково: паф да паф!
В четверть часа сбежались на берег толпы народа… Смотрят — палят с бригантины, медленно идущей с моря к крепости. Паруса убраны, и один кайзер-флаг, развёрнутый ветерком, величаво колышется на мачте. У неё стоит сам государь в походной епанче. Подошла бригантина к Троицкой пристани к самой, сошёл государь и как вступил на берег, так громко сказал народу: «Поздравляю вас всех с таким миром, какого и ожидать мы не смели![329] Слава Господу Богу, устроившему о нас дивные величия свои! Пойдём молиться, все, теперь же!.. За мной!» И народ повалил за ним.
По площади шёл с требы поп Егор. Махнул ему государь.
Подошёл он; преподал благословение царскому величеству:
— Чего изволите?
— С тобой, я вижу, риза — отпой благодарственный молебен — мира ради! — и поворотил на Троицкую паперть.
— А отцы здешние как же?.. — идя за государем, осмелился заметить смиренно Егор.
— Твоё счастье, что ты первый попался. Ты служи.
Отпел отец Егор наизусть молебен — молитву благодарственную — на коленях догадался проговорить. И многолетие сказал великому государю.
С крестом подошёл — государь червонец ему в руку и спасибо сказал. Дьячку в шапку народ рубля с два, почитай, набросал. Вслед за государем клали кто сколько мог.
— Велика милость Господня! — восхвалила в первый раз за всё время житья своего с отцом Егором попадья Федора Сидоровна, смотря на делёж батьки с дьячком у них в избе после молебна. — Вот истинно, за Богом молитва не пропадает! — порешила она, считая переданное в её распоряжение.
Она была общим казначеем-хранителем и подарков, приносимых зятем теперь, очень часто. С учащением приношений мать стала чаще журить дочь, что она скучает или, как выражалась матушка, «кривую рожу показывает мужу».
— Он того стоит! — наконец высказалась выведенная из терпения добрая Даша.
— За что так? За то рази, что из сил выбивается да всем угождает?.. За то голубчика все и благодарить стали изряднехонько… Эвона сколько теперь натаскано… Бесчувствительная ты какая, Дашка… посмотрю я на тебя! Этакова ли мужа не предпочесть?
— А что ты, матушка, сама по весне в тот год говаривала про Ваню, покуда ладила меня за Фомку! — уколола интересантку-мать оскорблённая жена. — Не ваше, кажется, дело судить мужа с женой?
— Я не сужу… а вижу раденье Ванино да общий почёт к нему…
— По количеству приносов… А по мне, ничего не надо, да не пей он только… Будь в своём виде, как Бог велел.
— Мало ли чего нет!.. По-твоему: и не пей, и не ешь муж, да все на тебя гляди… Экая хорошая, подумаешь… Найдутся и окроме тебя… коли взыскивать станешь мужу… что пьёт…
Даша залилась слезами. Подобного упрёка она не ожидала от матери.
— Рады ли гостям? — крикнул, входя неожиданно, Ваня, как водится под хмельком, хотя и небольшим. Крикнул и осёкся, увидя плачущую горько жену.
Совесть проснулась в нём. Он бросился целовать Дашу и, всхлипывая сам, стал уверять её, что больше пить не станет:
— Не плачь только, не терзай моего сердца!
Мгновенно осушились слезы на лице Даши, и она сама повеселела… как давно не была, забыв уж, казалось, как выражаются радость и удовольствие.
— Слыхали новости наши? У нас праздники готовятся… Затей-затей и невесть сколько… государь хочет — у нас говорили — машкарату[330] большую сочинить… И её величество машкару взденет, и домину[331]… и нашего брата, говорят, оденут какими-то людьми иностранными. Меня выбрали в ряд с денщиком царским, с Алексеем Татищевым… Призывал Пётр Иваныч к себе… Примерять велел кафтан чёрный бархатный, да зелёные исподни короткие, да такого же цвета чулки. Башмаки с большим, брусничного цвета бантом; да банты такие же на шляпу навяжут… А шляпа гречневиком, коли не поострей ещё верхушка… поярок не поярок, а шерсть, кажется… на шляпе… Говорят, будто солома заморская, такая плотная и сплетена хитро в узор… Только не валяная… И дадут мне да Алексею в руки резные из дерева тросточки с вырезанными же деревянными позолоченными листьями виноградными, якобы листвие виноградно обвилося вокруг трости… А на шляпу советовал Пётр Иваныч Дмитрию Андреичу Шепелеву, что гофмейстером прозывается, бляшки оловянны хоша поставить и выбить слова: «Добрый виноградарь» — литерами… Да не знаю… ему не показалось это… Что государь скажет?
— Чего же для оденут-то вас так? Я не вслушалась, — спросила Федора Сидоровна зятя, очень довольная, что поверстали Ваню с денщиком государевым.
О большом в то время значении денщиков государевых попадья уже много слышала и составила о них высокое мнение. Возвышение Ягужинского, Лихарева, Дивьера[332] у всех было на памяти, а недавно был брак Александра Румянцева с графиней Матвеевой.
— Для машкарату, говорю я вам, меня в пару, в первую, ставят с Алексеем Татищевым; во вторую по росту ищут дружку Ивану Орлову; а в третьей паре будет наш опять, государынин паж, Древник. Он тоже рослый молодец и статен из себя; кто другой к нему приберётся — ещё неизвестно… Говорят, секретарь князя светлейшего, Шулъц прозывается… Они, почитай, одного росту… Шесть кафтанов и прочего в готовности на виноградарей… Потому три пары и подбирают… Виноградари пойдут зараз за барабанщиками, а барабанить-то будут всего двое… барабаны пребольшущие… только им и носить… В барабан бить будут царь сам да светлейший князь… Мы, значит, пойдём как раз за ними… Татищев с правой руки придётся за князем, а я с левой — за самим. В наряде и пробу будут делать, как кому и где идти… на этих днях. В воскресенье в это первая машкарата будет. Мы ужо расхаживать будем с площади по всему Городскому острову, каждый со своим чином… Одна пара за другой, гусем… А как уставится ход — знак двинуться даст сам государь, ударив в барабан свой… Вы выходите-ка смотреть, как мы будем отличаться…
— Выйдем, как же не выйти… сколько, чай, народу будет… занятно ведь.
— И ты, Даша, выходи…
— Чего я там не видала?.. Тебя мне приятно видеть в своём настоящем виде, а не в личине… Может, я тебя и не отличу…
— Да ты смотри, где царь с барабаном… рядом и я за ним… Сбиться трудно.
— Нече, батюшка, Дашухе и зубы чесать… Врёт, чтобы нейти… Как нейти? — окрысилась на дочку попадья Федора. — Свово-то мужа… да ещё где — подле государя — не посмотреть?.. Это уж будет и курам на смех!..
Наступило воскресенье, 10 сентября, — день открытия такого блистательного маскарада, который, по расчёту великого миротворца Севера, должен был оставить в умах современников впечатление неизгладимое. Чтобы видевшие диковинки торжеств по ним во всю жизнь не забыли «великой милости Божией, которую преславным миром Он яве показал над Отечеством»… Целая флотилия судов вытянулась перед крепостью, на которой с рассветом, как и на судах по Неве, пестрели флаги самых ярких цветов. В большой колокол, как в великий праздник, зазвонили в Троицкой церкви, к обедне. Обедня кончилась; собором отслужило духовенство молебен, и после него прочитано протодьяконом привезённое от шведского правительства мирное постановление. При многолетии всех кропили святою водою, и после молебна целый час звонили колокола по церквам. Народ сбирался на улицах и занимал места по краям Троицкой площади, посредине которой после обедни стали собираться, по нумерам, участники маскарада. В исходе первого на сенатском крыльце показался сам государь, одетый старинным барабанщиком: в полосатой красной с позументами куртке, или бостроге, и в лосинных рейтузах. Чёрные кудри царственного кораблестроителя покрывала распущенная шляпа с плюмажем[333], пришпиленным пряжкою с целою дюжиною алмазов. Вид государя был сияющий, вполне праздничный, соответствовавший в этот день и яркому солнцу, и безоблачному небу. На золотой перевязи через правое плечо повешен был громадных размеров турецкий барабан, который, из-за высокого роста полтавского победителя, особенно большим не казался.
Тончавый герцог Ижорский, одетый совершенно так, как государь, стоя в паре подле него, наоборот, казался и как бы меньше ростом, и имел барабан словно огромнее. За этими двумя передовыми, чуть не великанами, стояли виноградари. Чёрный бархат и зелёный шёлк их одинаковых костюмов составляли приятный контраст с первою парою и заднею кучкою, где пять облачённых в яркие цвета кардиналов предшествовали князю-папе. Тот, толстяк, хотя и был порядочного роста, но от ширины плеч, и брюха, и мантии казался карапузиком. Больше всего он был похож на двигавшуюся позолоченную бочку: так он был румян или, лучше сказать, багрян. Таковы же были почти все и кардиналы, с тою разве разницею, что одето на них было меньше, и казались они в своих епанечках и в красных с громадными полями и низкою тульёю шляпах похожими на мухоморов. Такое сходство найдено было зрителями.
Номинальная жена князя-папы и её причт в старинных русских царских нарядах выступали, переливаясь всеми цветами радуги. Шествие походило на чинно и плавно двигающуюся гирлянду цветов, только почти без листьев, так как зелёного цвета почти не было приметно в золоте головных уборов да сарафанов и душегреек.
Немецкие люди разных статей с хозяйками своими и художествами занимали, впрочем, больше места в машкарате, чем русские — свиты князя-папы и его сожительницы. Разумеется, немецкие люди по костюму были в большинстве православные, только надели кафтаны заморские, а не то чтобы заправские немцы. Вереница выстроенных пар, представлявших разные народы, нынешние и бывшие, далеко растянулась за Сенатом. Шествие началось от моста, у которого стояли царь и Меншиков, в крепость. По звуку барабана «Питера баса» слетели плащи с ряженых и двинулась вереница вперёд. Барабанщики взяли по триумфальному пути вправо, мимо дома типографии к Иностранной коллегии, а оттуда, поворотив налево, вступил диковинный ход в Большую Посадскую и, растянувшись по ней во всю длину, прошёл на Невку.
Даша и мать стояли у ворот своего дома за калиткой, а батюшка выглядывал только из-за калитки, соблазна ради не показываясь народу; а все же утерпеть не мог, чтоб не взглянуть хоть глазком на боговенчанного в костюме барабанщика. Калитки в петровское время по случаю частых наводнений строились по крайней мере на пол-аршина выше полотна улицы. От неё, почти везде, клали приступок до калитки.
Стоя на приступке, Даша с матерью на целую голову были выше толпы, стоявшей на земле. Так что вся процессия видна им была не хуже, чем в наши дни видят церемонии сидящие на возвышении за шпалерою войска.
Ниже хозяек священнического дома приютились три каких-то молодых женщины, из себя красивых и одетых больше чем пышно. Одна из них, по немецкому обычаю, даже вздела на голову высокий шлычек надо лбом из крепко накрахмаленных, сплоенных трубочками кружев в виде раскрытого китайского веера. Убор этот, изобретённый французскою щеголихой девицею Фонтанж, и назывался её именем.
Под фонтанжем на плечи и шею падала прозрачная фата, по-французски — вуаль; а ниже фаты видно было штофное сбористое, круглое платье с разрезанными напереди юбкою, а у локтя — рукавами, пропускавшими в эти раструбы широкие оборки кружевных, накладных ещё рукавов (пристёгиваемых на крючках под обшлагом и по краям разреза). Ярко-лиловое штофное платье шло очень хорошо к белым кружевам и прекрасно выделяло несколько смуглое лицо с густым румянцем. Горохового цвета фижмы сквозь разрез платья рассмотрела зоркая Федора Сидоровна и шепнула дочери:
— У этой в червчатом[334] штофе, глянь-ка, пузо ещё гороховое… прах её знает, как-то пристёгнуто, што ль, да стоит ещё, бесстыжая, выпятила его… брюхата, видно!…
Даша сдавила матери руку, чтоб перестала.
Стоявшая подле щеголиха в красном вся и тоже с шлыком заморским оглянулась на попадью и смерила её довольно высокомерным взглядом, от которого у стыдливой Даши выступил румянец неудовольствия на неловкость матери.
Третья, маленькая и толстая, одета была не по-русски, не по-немецки. Казачий зипунчик какой-то с дутыми запонками натянут был на ней сверху сарафанчика, должно быть. Узкие рукава при кистях, однако же, были с разрезами, края которых убраны были тройными, фигурно-высеченными в узор оборками, вышитыми гладью. А на голове было надето что-то похожее на шлычек товарок; только вместо фаты он завернут был, как у казанских татарок, в шёлковый платок жаркого[335] цвета.
Приходясь товаркам-молодицам только по плечо, эта недоростка все топорщилась, поднимаясь на каблучки. Все ей хотелось прежде других увидеть приближавшийся маскарад, но этого никак не удавалось, несмотря на все усилия.
— Что ты, Матрёна, толкаешься так? Мне совсем правую ногу отдавила! — с болью в голосе, громко вскрикнула зрительница в красном.
— Прости, девушка, я ненароком! Смерть хочется Дунькиного сокола рассмотреть… какой такой он виноградарь? — и сама залилась звонким ехидным смехом.
— Куда тебе, карапузику… Вишь, что выдумала… усмотреть ли ей моего сокола из-за государя!.. Ведь какая мелюзга ещё затейная!
— А рассмотрю же, рассмотрю всенепременно… коли уж на то пошло! — забормотала обиженная насмешкою подруг над недостаточным её ростом та, в жарком платке.
— Посмотрим, — со смехом возразила вся в красном. И все трое смолкли, потому что услышали близко барабан.
Государь, пройдя мимо Гостиного двора, вдруг ударил в свой барабан. Вторя Петру, грянул и Меншиков. Толпа заколебалась, и крики «ур-ра!» огласили воздух. Крикуны широкою и дружною волною прорвались с обеих сторон и, так сказать, отделили маскарадное шествие от зрителей, оттеснённых к самым домам. Три подруги очутились придавленными к дьяконскому забору. Они вздохнули и стали поправлять сильно потерпевшие свои платья, особенно фаты, от напора толпы, когда она уже отхлынула вслед за государем. Жаркой платок карапузика был прорван, и девка чуть не заплакала, когда, сняв с головы, начала его рассматривать. Делать, однако, было нечего.
— А все отчего? Оттого, что топорщилась да на пальцы становилась, высматривая чужих соколов, — внушала одетая в красное.
— А все же видела Дунькиного сокола, — сквозь слёзы со злостью подтвердила приземистая Матрёна.
— Не врёшь, так правда! — дразня её, возразила та, что в красном.
— Видела… видела… Ещё за государем шёл и поклонился таково ласково на нашу сторону.
Дуня — это она была в сиреневом платье — вся вспыхнула и затем побледнела как смерть.
Ваня действительно, проходя, взглянул ласково на жену и кивнул головой ей и тёще, а взгляд и кивок его приняла на свой счёт Дуня. Перемену в её лице при словах Матрёны и весь разговор подруг Даша уже подметила, и для неё он был открытием. Оно поразило её так, что в глазах потемнело, и она без сил скатилась на руки отца и матери, поддержавших бесчувственную. Обморок был довольно продолжительный.
Очнулась Даша у себя на постели. Ваня в маскарадном уборе своём тёр виски бедняжке уксусом.
Очнувшись, Даша не вдруг пришла в себя. Однако, когда на память ей пришли слова покрытой жарким платком, Даша привлекла к себе голову мужа и шепнула ему на ухо:
— Кто эта смуглая, что называет тебя своим соколом?
Ваня переменился в лице и не нашёлся что ответить.
— Чего бледнеть?.. Ты скажи мне прямо.
— Я не знаю, о чём ты говоришь, — поправился Ваня.
У Даши было замерло дыхание, но при ответе мужа у неё отлегло от сердца… Надолго ли?
Глава V. ОБОЙНЫЙ УЧЕНИК
Ассамблеи и пиры по случаю Ништадтского мира не кончились в Петербурге, — Пётр I со всею своею семьёю и двором уехал допраздновать этот славный мир в Москву. Вместе с ним уехал и Балакирев, оставив на два года с лишком семью свою.
Даша при прощанье дала руку мужу молча и холодно простилась с ним.
Мать и отец только покачали головой.
— Что-то будет далее? — прошептала попадья.
— А ничего, — вздохнув, ответил отец Егор, полагавший, что размолвку между супругами, даже и более крупную, уничтожают бесследно время и отдаление.
Помолчав, отец Егор молвил, махнув рукой в ту сторону, куда пошёл зять:
— Воротится — ласковей встретится. Да и раньше возвращения соскучится.
Он был прав только на ту половину, которая относилась к чувствам дочери. Зять в Москве ещё больше закружился. Да и как не закружиться, коли хмелем уж зашибается?!
Приехали в Москву их царские величества, чтобы русскому народу показать невиданные людьми того века старинные диковинки: хожденье на кораблях посуху.
Ладить эти потехи возложено было на добряка генерал-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина. Царь-государь уже давно забыл свою остуду к нему за дело царевича и подзадорил старого друга напоминаньем про архангельские караваны. У Федора Матвеича слезы прошибли от напоминанья поры, когда он да царь Пётр Алексеич не расставались, вместе сбираясь к плаванью по Белому бурливому морю. Память о тех днях расшевелила в старике-адмирале чуть не юношескую пылкость. Он разом отдал морякам в руки их прямое дело — ставить на полозья заправские корабли да учить команду управляться, чтобы на матросов походили, а сам с князем-кесарем торопливо принялся устраивать маскарадную процессию. Разделение труда и здесь ускорило дело.
— Ты, Андрюша, возьми ужо устрой свою часть — Бахусову! — шутливо предложил генерал-адмирал брату Андрею Матвеичу, едва ли не первому из кардиналов по усердию к службе.
— Да что, к примеру сказать, относишь ты на Бахусову, нашу, говоришь, часть?! — спросил, не уклоняясь на этот раз от поручения, знаменитый питух.
— Весь причет Бахусов со приспешники — виноградари… а там папа с вами, кардиналами, да сожительница его, именованная …
— Ну, а дальше?
— Дальше уж мы хорошо приберём сами… то не по вашей части. А ты начни с виноградарей. Им впереди… Барабанщик — знаешь кто? А за барабанами — виноградари.
— И сколько их?
— Три пары, кажись, должны «со лозами идти со виноградными с листвием и гроздием позлащённым, древянным»; так, кажется, значится?
— Ну… ин ладно… Три пары так три пары!
— Собрать все нумера машкаратные к Арсеналу, в Кремль, налицо, утре… неотменно! — отдали приказ генерал-адмирал и князь-кесарь.
Чуть свет нагнали всех представителей и членов процессии, находящихся в Москве. Велено всем, помня свой порядок, стать как ходили: кто за кем, по петербургским улицам.
Набралось довольно много, а стоят где один, где два. Видно, пар далеко не хватает до полного числа по списку.
Со списком в руке, глядя в перечень, стал проверять Андрей Матвеевич Апраксин.
— Первое: барабанщики — двое… Знаем: виноградарей три пары… раз, а не пара; два — пара; три — опять один; двоих нужно прибрать… не хватает… Разве подойдут ещё?
— С кем ты был в паре? — спрашивает Андрей Матвеевич Апраксин одинокого, стоящего первым, знакомца нашего Ваню Балакирева.
— Моя пара в Петербурге, кажись, осталась: секретарь светлейшего князя Шульц был.
— Подыскать, .значит, нужно такого же рослого, как ты? Нелёгкое дело!
И задумался, припоминая что-то.
— Впрямь, может быть, придётся мой Алёша? — пришло ему на ум. — Ростом он высок и не горбится ещё от лихой болести, как я! — пошутил Апраксин над собой, засмеявшись. — Ладно, после обеда приди, приведу я тебе пару! — сказал он Ване и записал следующих, за ним уже стоящих, другого роста. Алексей Данилыч Татищев в третьей паре был ещё ниже и тоже одиноко стоял.
— Ну, к тебе любого поставь — подойдёт… Забота мне только подобрать в первую пару.
В установлении пар да в записыванье прошло целое утро. Явился отпущенный Ваня к себе. Сказал, велено быть опять после обеда.
— Поезжай в Покровское… близко вас обойщиков поставили… пришли пару обойщиков — полавочники прибить на подоконки; дует сильно у государыни в светлице, — наказала Дуня. — Смотри, вечером приходи… мне досужно, — заключила она наказ Ване.
— Не знаю, рано ли отпустят из Кремля?
— Не ночь же целую вас держать будут… Ты прямо можешь сказать, что ждать недосужно; при государыне ты состоишь.
— Ладно!
Отыскать обойщиков было нетрудно ездовому слуге государыни. Указали, где стоят.
— Двое, братцы, придите к нам не медля в Преображенское, во дворец… У государыни в опочивальне полавочники на подоконки прибить… И полавочников шесть захватите… средственных.
— Да кто нам их даст без приказу? Письменной приказ нужен.
— Ладно… напишем и приказ… Давай бумаги!
Дали бумагу и чернила. Ваня присел и накатал тут же приказ-требование в три строки.
— Да и подпиши, сударик, имя своё… чтобы знать, через кого требовано, — принимая требование, высказал обойщик.
Не споря, Ваня и имя своё подмахнул.
— Так будьте же, братцы! Сегодня же, смотрите, нужно…
— Сейчас пойдём; почему нейти?.. Мы вслед за твоею ж милостью… Не обессудь, государь, выкушай с нами, приязни ради да знаемости впредь… А мы с нашим душевным удовольствием готовы служить.
— Почему не выпить?.. Извольте, братцы… как величать?
— Меня, — сказал угощатель, — Иваном зовут; Иваном по отце. Товарища нашего Семёном Прокофьевым величают, а вот наш гость — его милость сержант, Алексей Гаврилыч.
— И меня покорив прошу посетить в Покровском, у камер-юнкера в доме, у Монса… у Вилима Иваныча… Состою я при комнате государыни императрицы; солдатом попрежь служил, а теперь лакей ездовой, Иван Алексеев, коли желаете знать… Желаю всяких благ честной компании, а меня прошу извинить… Недосужно. Князь-кесарь да генерал-адмирал в Кремле у арсенала нашу машкарату в ряды ставят… а мне место в первой паре… виноградаря должен изображать. Спешить туда нужно… К вам навязали ехать насильно, потому что послать некого, а истинно медлить не могу… Сами посудите — сборы машкаратные наспех.
Поклонился и вышел.
— Красивый из себя молодец и приветливый какой! — молвил хозяин. — Как такую картину в пару первую не поставить!
— Красив-то, нече сказать, красив, да коли у Монса на вестях — черт ли в ем! — высказался злорадно мрачный гость обойного подмастерья.
— Не у Монса на вестях, кажется, говорил он, а при государыне…— возразил Семён Прокофьев.
— У Монса. Я ведь сам слышал…— настаивал, как видно не выносивший самой фамилии камер-юнкера — не кто иной, как сержант Алексей Гаврилович Балакирев.
— Да ведь можно легко и впрямь дознаться по прозванью… подписал он чётко, кажись: Иван Бал-лакирев! Ещё твоё и прозванье, Алексей Гаврилыч; не родня ли? — обратился он к сердитому сержанту со смехом.
— Какая там, черт, родня у меня, у Монса проклятого? Чтобы ему ни дна ни покрышки! — заругался Алексей Балакирев.
— Сынок твой, голубчик! — успокаивая раздражённого, говорил ласково недогадливый Иван Иванович Суворов, прочитавший в. подписи Ивана отчество «Алексеев сын».
Алексей Балакирев, уже вышедший из себя, принял его выходку за намерение ещё больше кольнуть его и, схватив шапку, бросился к двери, не прощаясь.
— Прощай, сердитка! — не понимая ещё вполне значения Алексеева ухода, закричал вслед ему Суворов; но сержант уже не слышал этих его слов.
В трех шагах от дома повстречался с ним слуга Андрея Апраксина.
— Не к нам ли?
— А я к вашей милости послан: Андрей Матвеич ждёт и велел искать скореича… Толкнулся к тебе я, Алексей Гаврилыч, сказали — не знаем, куда пошёл… Да вот, на счастье… попался…
И, не принимая никаких отговорок, потащил к ожидавшему своему боярину.
— Пообедай скорей, Алёша, да и в поход со мной… Ну… живой рукой. — И сам приказал подавать только отнесённые со стола блюда.
Насыщаясь, разгневанный Алексей Балакирев успокаивался.
— Ну… готов?! Едем же!
И, не говоря ничего, куда и для чего, Андрей Матвеич увлёк своего друга в сани, и тройка понесла их в Кремль.
У Троицких ворот Апраксин со своим спутником сошли, и Андрей так быстро засеменил своими кривыми ножками, что Алексей едва поспевал за ним, приближаясь к кучке начальства.
— Вот, на пополненье первой пары! — указывая на приведённого Алексея, молвил Апраксин брату и князю-кесарю.
— Поглядим!.. Виноградари — сюда! Первая пара!
Иван Балакирев подошёл, и в ряд с ним, схватив с силой за плечо, уставил князь-кесарь упиравшегося отца его.
— Под стать, конечно…— нашёл граф Федор Матвеич. — Прибрать будет только камзол пошире в плечах… Твой, Андрюша, виноградарь поприземистее… на тебя смахивает; так, того… не придётся ли ещё распороть спинку али плечи у камзола?
Алексей теперь понял, что Андрей Апраксин всунул его в маскарадное шествие в паре с человеком, уже с первого знакомства ему ненавистным.
Началась перекличка по именам, отчествам и прозваньям, с первого — Ивана Балакирева.
— Иван Алексеев сын Балакирев! — ответил Ваня громко.
— Ты как? — задал вопрос генерал-адмирал его товарищу по паре.
— Алексей Гаврилов сын Балакирев! — протяжно, нехотя высказал сержант.
Ваня взглянул на говорившего не просто с любопытством, а с каким-то особенным чувством; но скорее враждебно, чем с расположением.
И сержант смерил Ивана взглядом, полным презрения и злости; в обоих закипело сердце чувством, похожим на гнев. Ивану пришло на мысль: «Никак, это отец пропадавший?» А у Алексея зашевелилась злость к матери, и припомнилось, что его обобрала она в пользу этого самого сына, который… сам сказал, что служит злейшему врагу его, Монсу!
Ни отец, ни сын, однако, не решались заговаривать друг с другом, стоя рядом больше полчаса.
Наконец распустили пары близко к сумеркам. Иван направился к Спасским воротам. В самых воротах чувствует он, что кто-то схватил его за епанчу. Оглядывается — это угрюмый его товарищ, о котором подозрение у него уже зародилось, что он отец его.
— Остановись-ка!.. Мне нужно перемолвить с тобою…
— Говори, что такое?
— Кто у тебя был отец?
— Сержант, говорила бабушка, теперь…
— Имя его?
— Алексей Гаврилов Балакирев.
— Я сам и есть сержант Алексей Гаврилов Балакирев, из Ковровской окрути… Жене имя Анфиса…
—Ну?..
— Ну… ну! Так ты, щенок, — мой сын!
— Может быть, и так!.. Что же далее?
— Так ли отвечать ты должен отцу?
— Я отца своего не знал… Он бросил меня с матерью ещё до рожденья… Стало быть, почему мне знать, кто ты такой?
— Отец твой! Ты сам сказал, что отец у тебя сержант Алексей Гаврилов Балакирев… Как же ты меня не хочешь признать? Как же ты смеешь…
— Потише, потише… Всякого, кому угодно назваться мне в отцы, трудно признать, коли является он как с неба ровно… Сметь мне сомневаться… никто не закажет… А отказываться от отца, коли подлинно отец, я и не думал.:. И не намерен…
— То-то!.. Коли я тебя признаю сыном, ты должен почитать меня отцом… после всего.
— После чего это?
— После того, что мать моя обобрала меня в твою пользу… Я бы должен тебя ненавидеть, но… я не кладу на тебя гнева покуда… Скажи мне, где ты?
— У государыни при комнате служу… взял меня государь…
— А у обойщика, как я впервой тебя увидел, ты говорил, что живёшь у… Монса?
— Да… говорил и теперь скажу… тоже… Что же из этого самого?
— То… что коли ты мой сын… Монса ты брось… Он… мой первый враг… Слышишь!
— Бросить я не могу, потому… потому что…
— Ну… почему не можешь бросить? Говори скорей!… Почему?
— Потому что служба такова… велено быть… и должен я быть.
— А я не велю сыну своему быть у Монса… Рази вот что… коли ты… ему можешь пакость учинить… али вытянуть из него поганую его душонку… Тогда… делай!
— Ты, брат, видно… не в себе… Назвался отцом моим… и загородил такую нелепицу, что совестно слушать! — уклончиво ответил Иван и сделал движение вперёд.
Алексей обошёл его и заступил дорогу.
— Ты не уйдёшь, пока не дашь клятвы мне в том, что я, отец, тебе приказываю!
Иван рванулся, но не мог прорваться.
— Отстань от меня! — крикнул он, уже недовольный, испытывая тяжёлое чувство. Он пересилил бы себя, если бы оставили его в покое, но отец и не думал отстать, приходя в ярость, причина которой сыну, разумеется, была неизвестна. Ивану Балакиреву было совершенно невозможно отличить слова родительских приказаний от бреда горячечного. Самая эксцентричность объяснения и приёмы его говорили о грустном состоянии родительского мозга: уж не провёл ли он всю сцену в припадке? В паре стоял он так необычно. За что враждебность показывал? Бог один знает! Самое лучшее — не перечить в таком случае. Иван скрепился и, не имея возможности уйти, предоставил названому родителю говорить что ему угодно. Но и тут новая беда. Кипевший гневом, Алексей угрозы свои пересыпал тёмными намёками, из которых мог одно разве понять умный Иван — гнев равный на его бабушку и на Монса. Затруднительному положению молодого Балакирева помог казённый обоз с прикрытием. В тесноте ворот телеги разлучили отца с сыном, ушедшим стремительно в сторону.
Свидание с отцом оставило, впрочем, в сыне очень невесёлые чувства. «Сегодня ушёл — завтра не уйдёшь! А на улице нельзя же допускать повторяем такой встречи, как в воротах. Узнать, по крайней мере, обстоятельнее его положение. В первый раз намёл я его у обойщиков. Вероятно, он заходил туда, и они его знают. По пути же в Покровское… Дай зайду?»
Зашёл и нашёл собрание.
Семён и Иван встретили лакея государыни с уважением. О нём и речь даже ища, когда он неожиданно вошёл, будто осведомится: были ли и сделали ли дело?
Ответ дан положительный. С полавочником и завязался разговор. Слово за слово. Людей сошлось немало в мастерскую — все ещё работали, как и утрём, когда был Ваня в мастерской.
Мастеровые во дворцах многое знали, про многое желали осведомиться. Зашла речь о маскараде и участниках.
— Вот и Алексея Гаврилыча я видел, — заговорил незадолго перед тем вошедший товарищ Суворова и Прокофьева, — шёл таково скоро и, видно, не в себе… Ругался страх как!
— Что он такое, в самом деле? — спросил Иван будто с простым участием о виденном здесь человеке.
— Алёша-то? — ответил Суворов. — Он истинно порой бывает как бы не в себе. Да и то сказать: кому бы не довелось перетерпеть столько, как ему… может, ещё хуже бы был… Чем он только живёт?.. Коли бы не Андрей Матвеевич призревал да снабжал всем, что требуется, — Алёше бы в мир пришлось… с рукой идти. Мать его всего обобрала: для сына, говорит, а может, и сыну не дала ещё… Такая карга крепкая… Вы-то, смею спросить, не сродни ли как? Тоже прозываетесь Балакиревым?
— Должно быть, мы родные! — ответил неохотно Ваня, не расположенный после высказанной оценки бабушки распространяться о семейных делах своих с людьми, уже предубеждёнными словами отца.
Ване только стало тяжелее. Простые слова Ивана Ивановича не в бровь, а в самый глаз попали… Он, Ваня, выходит, обиратель отца?.. По милости его, Ваниной, даже отец стареет без куска хлеба. Совесть не была у Вани испорчена настолько, чтобы холодно принимать несчастие и неблизкого по родству человека. Он готов был всем поделиться с отцом, но требования, им поставленные, были невыполнимы для Вани. Теперь уйти от Монса он уже не мог никак. А обратиться в злодея и предателя человека, к нему расположенного, Ваня также не мог. Такое предложение возмущало робкую совесть недовольного собою Ивана Балакирева. Ему и не настолько близкого человека предать, даже в малости, совесть бы не позволила.
Слова Суворова вызвали в Ване душевную бурю. Тем более что ему, с его нравственными убеждениями, была хорошо знакома борьба рассудка с совестью.
Со времени пребывания в Риге Иван Балакирев привык утолять скорбь душевную хмелем, и теперь он поспешил неприметно удалиться, молча распрощавшись кивком головы с присутствовавшими, чтобы выпить не откладывая.
— Ну… этот, видно, впрямь Алешкин сын… тоже походит на его, — заметил вслед исчезнувшему подмастерье Прокофьев, знавший Алексея Балакирева по давнему соседству с ним.
— Может, так, а может, и не так, — простодушно возразил Суворов. — Может, не показалася ему и наша кумпанья… в золоте ходит и беседы ищет не такой, как наша… Мы, к делу и не к делу, с Иваном Елкиным[336] в дружбу норовим, а ему… выше подымай… виноградного надо.
— Не побрезговал, одначе, и хлебным.
— Зато и не показалось.
— Не показаться мог ему, понятно, и не совсем уместный — я тебе скажу — вопрос твой: сродни ли ему Алёша?.. Видишь, принялся ты описывать его не гораздо, да и брякнул ещё, никак, что краснокафтанник-от родня… А он, со своим Монсом, почитай, на всю Москву стал притчею…— вмешался до сих пор сидевший в тени молча гарнизонный солдатик. Приведён он был к Суворову товарищем, Михеем Ершовым, да и Михей сам мало его знал. А Иван Иваныч видал его у Михея всего раз один. Так что вмешательство, да с таким замечанием, заставило и Ершова, и Суворова посмотреть на говорившего с разными чувствами, конечно, но с одною мгновенно возникшею идеею: вот ещё нового знахаря вмешали в наши россказни непутные! Да кто он и как на его-то самого смотреть? Не с подвохом ли?
И Суворову, и Ершову сделалось на душе неладно.
— А вы знаете, что ль, этого самого? — будто спроста, а на самом деле пытая почву, осмелился спросить Иван Иваныч.
— Теперя, увидевши у вас, впервой спознал, какой он такой. Кажись, на вид тот, что знавали мы попрежь… много наслушались и в Питере, и здеся везде тараторят, что через Монса сделать все что хошь легко… а у его первый ходок на все пакости Балакирев.
— Врёшь! Ни на каки пакости не ходок Балакирев! — растворяя дверь с силою и схватив на лету последние слова, крикнул с гневом Алексей Гаврилыч. Был он полупьяный, как обыкновенно, и в этом положении крайне придирчивый и заносчивый.
— Не про тебя, голубчик, речь шла, успокойся! — добродушно молвил ему приветливый хозяин.
— Как не про меня?
— Это, голубчик, про Монсова Балакирева, — оправдывался солдатик, — тот и в солдатстве, как знал его, был уж пакостник, к попу, слышь, подлез… Знамо, что мошенник мошенника видит. Так-то и Монсу он показался, грабителю…
— Подойди, душа, поцелуемся, вот правду-то сказал, Монс мошенник, грабитель мой! — не владея собою, крикнул Алексей Балакирев и заругался.
Солдатик на приглашение встал, облобызал по-братски постаревшего сержанта и сел подле него.
— Расскажи, друг милый, потешь, что ты про Ваньку-мерзеца знаешь, про Монсова подхалима… Я его уж проклял… Родительски увещевал: брось ты этого Монсишку… а не то… погуби ты мне его… Потешь… За все, что вытерпел по его милости… так… нет: упёрся быком… Молчит, мошенник, да вдруг и улизнул… Я — туда-сюда… нет нигде. Хватил с горя и к вам приплёлся.
— Он тоже здесь был и про тебя выспрашивать вздумал, — не без ехидства возвестил Алексею новый названый друг, начавший такие откровения, от которых товарищ Суворова поспешил убежать, да и Иван Иванович стал сбираться уходить из мастерской.
Он надел армяк свой, взял с верстака шапочку и, дружески ударив по плечу Алексея Балакирева, сказал:
— До свиданья… пора домой. Каганцы велят тушить раньше четвёртого часа ночи, а теперя третий на исходе… Ступайте-ка… Запирать нужно.
— Ну… Ты, друг, ко мне… Истинно душу отводишь своею повестью про сына моего непутного! — с пьяными слезами заявил рассказчику Алексей Балакирев.
А рассказчик взял под руку Михея Ершова, и все трое вышли за Суворовым из двери.
Солдатик — клеветник отцу на Ивана Балакирева — был не кто иной, как оштрафованный Фомушка Микрюков, не по доброй воле высланный в Белокаменную, хотя и успел оправдаться.
Зная, кто он, понятны и причины его клеветы. Злость от сознания своего поражения и победы соперника колола и подстрекала Микрюкова к клевете самой ядовитой и чудовищной. Он видел в Иване Балакиреве врага, против которого все средства, в том числе и донос, позволительны.
Ощущение, что жёлчный рассказ Микрюкова об Иване Балакиреве клевета, было даже у Михея Ершова.
Что касается Алексея Балакирева, то он меньше придавал значения выдуманной сказке о сыне, а желал больше слышать о скверных делах врага своего Монса, но про эти-то дела и не сумел на первый раз придумать клеветник. Он, очевидно, прихвастнул, что знает Монсовы художества и слышал говор по целой Москве о его всемогуществе. Но по вопросам нового друга Фомушка, впрочем, понял, куда надо направлять речь, и пускал в дело своё богатое воображение. Он решил давать только уклончивые ответы на вопросы о делах Монса, обещая все рассказать в другой раз. Ему нужно было время на сочинение и обработку правдоподобных повестей. Случай, как увидим мы, помог на этот раз лжецу, не заставив его и долго ждать.
У Алексея Балакирева, за выставленным угощением, Фома Исаич ловко и умело закидывал тенёта, метко попадая на пункт, способные выдержать зацепку и дать ей поддержку. Оба гостя, в первый раз заведённые к Алексею, у него и заночевали. Солдата пьяного, тем паче ночью, задержал бы патруль на первой же площади; а Михей просто обессилел и не мог подняться с места.
Не в лучшем положении оказался и выведенный из кружала Иван Балакирев. Его посадили на пенёк у соседнего забора, и он дремал без шляпы на холоду. Суворов с товарищем, проходя мимо, узнали, кто это, отыскали лежавшую в стороне шляпу хмельного, и Суворов привёл его к себе — укрыть от тёмной ночи и мороза.
Проснувшись до света, Ваня мало-помалу припомнил все и прослезился от доброты Ивана Иваныча. Он умел ценить чужую доброту и привязался к своему укрывателю, смотревшему на него с соболезнованием. Стыд Вани и искренняя благодарность расположили и Суворова к нему. Честный Иван Иваныч признал, что сказанное солдатом или заведомо клевета, или относится не к этому добряку. После ночлега у Суворова поспешил к себе не без трепета Ваня. Он ожидал хотя и не сильного, но всё же выговора от Монса; а главное, вспомнил он приглашение Дуни. Она напрасно прождала и будет пенять. Дела оказались, однако, лучше. Монс рано увезён Павловым в подмосковную и едва ли воротится к вечеру, а Дуню взяла государыня с собой, отъезжая в Измайлово. Затем предстояло свидание с отцом на пробе; но, явившись к арсеналу, Иван получил в пару себе Поспелова, прибывшего накануне. Во вторую пару прибрали рослых: Алексея Татищева да Орлова, и Алексей Балакирев, очутясь в третьей паре, не мог, разумеется, говорить с сыном. Да к тому же его раньше роспуска потребовали для пригонки камзола к портным, тут же в Кремле под Потешным дворцом. Гарнизонных солдат расписали по дистанциям по всему маскарадному пути. Фомушка попал на первый притин — к арсеналу в Кремле. Там, под его присмотром, назначено было с верхнею одёжею стоять слугам господ, участвовавших в процессии. Становясь в ряд, снимали верхнее платье, в котором приехали, и оставляли у слуги.
Ловкий Фомушка тут же смекнул, как извлечь возможную пользу из своего назначения. Он сам предложил барским слугам: за алтын оставлять платье у него и уходить куда угодно. Денежные холопы обрадовались и тридцать алтын в шапку набросали Фомушке сразу. Другие, не имевшие при себе наличных, только вздохнули, что не смогут уйти. Фомушка обратился к ним, предлагая на первый раз поверить в долг, зато завтра принести взнос вдвойне. Нашлось восьмеро этим воспользовавшихся. В числе их был Мишка, слуга Василья Петровича Поспелова: малый ленивый, соня и рохля, весь в своего барина. Деньги у него водились, хотя и не всегда. Не желая обмануть служивого завтра, он прямо сказал:
— Коли хошь до воскресенья потерпеть, разом пять алтынов дам. Сам и приходи к нам во двор .. Стоим на Пречистенке… а теперя нету и до воскресенья… не будет… У нас Афонасей, дворецкий, по воскресеньям водочные отдаёт…
— Ладно, почему не поверить?.. Тем паче в воскресенье роздых… Может, милость будет, и угостите… во дворе?..
— У нас, братец, просто… народ добрый, спознаешь… мы рады доброму человеку…
И дружба завелась у Фомушки с Мишкой, а через Мишку — с дворецким и со всею дворнею… настоящий клад.
Маскарад давно кончился. Царь уехал, и государыня с ним. а с нею Монс и Балакирев. Поспелов тоже был в походе в отъезде, а люди его оставались в Москве. А у них первый советник и лучший друг оказался Фома Исаич Микрюков.
Вот приехал гневный государь судить распри светлейшего князя с вице-канцлером, и жутко стало многим господам, сторонникам того и другого. В людских, со слов господ, пересуды пошли, что и как.
Микрюков, составивший знакомство уже обширное, был первый оракул в подобных рассуждениях.
— Говорят, Шафирову[337] плохо, — молвил он с уверенностью, сидя за столом с братиною хмельного медку у ключника князя Михаилы Михайловича Голицына[338]. В московском доме своём князь держал по старинке громадную дворню, жадную к новостям и теперь разинувшую рот в ожидании услышать важную новость.
— А что, вы слыхали, что ль? — с глубоким уважением к говорившему спросил ключник, не жалевший для Фомушки господскик медов и пив.
— Слыхали кое-что… Да сам виноват… вовремя бы Монсу челом ударил… Помирился бы нехотя светлевший, и суда бы не было… Ведь все Святки, кажись, ожидали, что виноватый покорится.
— Да светлейшему что такое Монс? — возразил ключник. — До Шафирова давно добирался князь… Скорняков только придиру ловкую изобрёл, а намечено было давно уж… для того и в обер-пронурары посажен был, чтоб словил… Стало, изловимши, отпускать ворога не рука… И Монсу там, что ль, сунуться тут не довелось бы…
— Монсу-то!.. Плохо же вы знаете подлинно, дело… как делается… А мы знаем… и причину самую силы, значит, Монсовой.
— Какая же бы такая была эта самая причина? — с неудовольствием за поперечку допрашивал ключник.
— Не все, голубчик, что знаешь, выговаривать велят… Могут и тебя, и меня, и слышавших… схватить, да…
И он не досказал, сделав рукою движение, как бы колыханье на воздухе.
Это хорошо поняли любопытные и отхлынули.
У всех ещё были свежи в памяти тасканья да сеченья болтунов и болтуньев по делу царевича. Ключник вздохнул тяжело… У него в старину крестил Федор Абрамыч Эверклаков. Вздох вызвал даже мгновенную бледность, но, ловкий не меньше Микрюкова, ключник мгновенно нашёлся, победив неприятное ощущение и не давая ему развиться в трусость, он выговорил с одушевлением:
— Причину силы Монсовой кумпании мы знаем… не Бог знает что… приказные, да сенатские, да секретарь Макаров сообща плутуют… А коли откроются глаза великому государю… всем ворам будет плохо.
— Нет… не Макаровым тут пахнет… выше подымай!
— Уж и выше, говоришь… Что ж, по-твоему, светлейший, что ль, с ними в союзе?
— М-может быть, и повыше есть… ино титуловать бы не пришлось кой-кого благоверным.
— Заврался, друг-служба… Эк куда те дёрнуло… Уж и благоверный-то государь… ворам покровитель и помощник!.. Ты, любезный, коли ум за разум заходит, ино и помолчи… жалеючи, просто сказать, спины своей, — с мнимым сожалением вполголоса увещевал ключник Фомушку.
— Не один государь благоверным величается, — настаивал, расхрабрясь, Микрюков.
— Кто же? — оглядевшись вокруг и увидев, что они с солдатом только вдвоём в застольной, спросил уже настойчиво ключник.
— Благоверная, может… коли пристал, словно с ножом к горлу! — отрезал Фома. — Я знаю то, чего не приходится разбалтывать, от верного человека… от Мишки Поспеловского… А ему, слышь, говорил Егорка Столетов; разбранились со своим из-за поганца, из-за подхалима нового-то, Ванькой Балакиревым что прозывается… Ванька-то этот на Егорку нашёптывает, и у Монса живмя живёт и спит у его… И носит, понимаешь, из рук в руки… Да и Егорка штука, я те скажу подтибрил одно письмецо сильненькое, говорит Мишка… Монс и чухает… да открыто потребовать не смеет… Только держать стал не так… Грызёт за всяку провинность. Да Егорка в дело-то влез, где есть что — получит прежде Монса… Тот станет требовать на свой пай, а этот — грубит…
— Да он бы его куда ни на есть усудобил, — высказал ключник, — стоит барину захотеть… так…
— Да говорю — не слышишь, что ль?.. Усудобить-то нельзя… Подтибрил уж и не держит при себе, а распорядился через третьи руки доставить кому повыше… «Только он тронь меня!» — говорит.
Ключник замолчал было, да тут же и нашёлся:
— Ты, Фома, много лишнего врёшь… Ужо коли мне подсунешься под сердитый час, я те, голубчик, спроважу за болтовню такую… в Преображенское.
— Видно, захотел, друг любезный, чтоб покроили спинку?.. Сколько аршин на стан требуется… Ведь меня схватят, я отпираться стану — тогда за тебя: докажи извет… И встянут самого!..
Ключник вскочил проворно со скамьи и оставил болтуна одного.
Фома струсил.
Думая, не пошёл ли ключник выполнять свою угрозу. Фома — тихонько в сени… Нет никого. На двор, на задний — и там ни души. Мимо конюшен в переулочек, на заднюю улицу — да и был таков. Прибежал к себе и заперся.
Вот сумерки наступили. Вот и ночь.
«Чего доброго, — думает Фома, — ведь ночью втихомолку забирают… Донос коли — ночью и придут да и схватят. Дай-ка я ухоронюсь у приятеля… К кому бы надёжней? Дай Бог память… У Мишки Поспеловского? — там нельзя… многолюдство. К Прокофьичу? — семьища… бабы проговорятся, да и неловко остаться… совсем неловко… К Суворову?.-Один живёт он… всего лучше… Только бы дома застать… не заперто бы было».
Дошёл по задворку: темно. С крылечка дверь в сени не заперта. Вошёл и ощупал дверь в избу. Потянул за кольцо — отворилась. Вошёл — в избе темно. У самых дверей в избу был у Суворова тёмный чулан, а рядом дверь в каютку тёплую, за печкою, где спал Иван Иваныч. Впотьмах Фома ощупал дверь чуланную и, отворив её, напрасно искал кровати. Шаря по стенам, он все попадал то на армяк, то на кафтан и догадался, что он в чулане… Да новая беда — дверь заперлась, и её никак не мог он найти, сколько ни ошаривал.
Вдруг слышит тяжёлые шаги, по крайней мере, двоих, если не троих. Фома и примолк; благо надёжно ухоронен; опустился — мягко; попробовал — пара новых полавочников стёганых. Ладно, думает, можно и завалиться. Так и удобнее, чем сгибаться в чулане. Сзади была лестница наверх, и под нею чем дальше, тем меньше высоты от пола.
Однако хозяин вернулся домой — вот блеснул огонёк на стенке против самого носа Фомы. Видит он: оконце в избу прорублено. Вошедший, высекши огонь на трут, свечку нашёл и зажёг, да и потащил кого-то, словно пьяного, волоком.
— Ишь ты, какой грузный… провал те возьми! — вполголоса, про себя молвил тащивший.
По голосу узнал Фома Михея Ершова.
«Кого же это он волочит? Выйти бы, — подумал, — да посмотреть». Да и раздумал опять. «Коли спрятан надёжно я, к чему выходить?.. Ну их; как ключник вздурил в самом деле: подал извет?» И прежний страх взял Фому.
Остался и прилёг. Попробовал — что-то лежит в кармане. Запустил легонько руку и ощупал штофчик анисовой, что подарил ключник спервоначалу, когда вёл к себе ещё да завернули в кладовую.
Вот, ворочая грузного пьяного, Михей, как можно было заключить из его убежища Фоме, справился-таки — уложил. По шелесту одеяла можно было догадаться, что покрывал он спящего. Покрыл и зашагал к дверям, оставив Фому в совершённых потёмках. Шаги Михея за дверь смолкли, и Долго ничего было не слыхать. Фоме припала жажда. Он зубами вытянул пробку из штофчика и глотнул: раз, да порядочно. Вкусно показалось. Не утерпел и ещё наставил ко рту штофчик. Во второй раз вылилось в горло: и много, должно быть, да и водка крепкая; сморило вдруг Фому! Совсем обессилел и задремал.
Долго ли пробыл он в этом состоянии — почём знать? Очнулся — почти темно; а все что-то брезжит через оконце из избы, и там здорово храпят; двое уж. Так и задувают. Жажда морит Фому. Вспомнил о штофчике. Ощупал. Приставил ко рту — капли три нашлось. Остальное, должно быть, пролилось, как от второго глотка обеспамятел.
Выйти поискать разве воды у хозяина? Да выйти-то трудно: ведь напрасно уже искал двери. Эта мысль и удержала его от попытки. Впрочем, внимание Фомы привлёк в это время сперва несильный и неразборчивый лепет пьяного, потом его всхлипыванье и даже вопли.
— О, горе мне! Горе!.. Проклят я отцом… безвинно… Против его я не виноват, не я отнимал… не я жаловался — бабушка!.. Винит меня, что я Монсу служу?.. Служ-жу… Грех меня попутал… Связался… Терпи теперь за своё беззаконие… Прибегнул к покровительству… в крайности… Не знал, что делать. Дашу любил больше жизни…
— Ишь ты, мерзец какой! —прошептал, не владея собою, Фома, по голосу узнав Ивана Балакирева.
А тот, вне себя, завопил таким голосом, что и Михей пробудился в ужасе.
— О, горе мне, горе! Бог накажет меня за моё беззаконие: погубил я с телом и душу… Господи… Отпусти мне беззакония мои!
И, грохнувшись, должно быть, на колена, Балакирев заскрипел зубами и, вскрикнув не своим голосом: «Пощади!» — зарыдал и стал колотить себя в грудь. Глухие удары в ночной тиши отдавались очень явственно, производя дрожь в пробудившемся Михее и в Фоме, у которого невольно поднялись волосы.
— Не предавай меня демонам! — завопил ещё страшнее страдалец, сжав обе руки как в судорогах.
Михей попробовал окликнуть вопившего, видя, что он не в себе.
— Иван Алексеич… а Иван Алексеич!.. Что с тобою?.. Очнися, голубчик…
Но Иван Алексеич, очевидно, был в нервном припадке и бредил, не просыпаясь, хотя глаза его были и открыты.
Голова его в бессилии опустилась на руки, из открытых уст била ключом пена, а из очей лились потоками слезы, и от рыданий высоко поднималась грудь.
Заглянув в неподвижные, вытаращенные глаза Ивана Балакирева, Михей убедился, что он спит, несмотря на непрерывный говор в бреду.
— Оставьте меня, мучители лютые!.. Я переношу не по своей воле… Я демону этому, Монсу, отдан на истязание за моё преступление… Оттого и осуждён чинить мерзкие дела: переносить его цидулы проклятые… Не хочу оправдывать себя неведением… Спервоначалу не знал я, что ношу… а теперя знаю…. вижу гибель под ногами… скольжу в бездну… Не смею, как прежде, взглянуть в глаза государю, моему благодетелю… «Что ты мне чинишь, угодное, что ль?» — спросил бы меня он… Что скажу я? Бедный, горький мой жребий… «Ты знал ведь, кто она мне? Как же ты смел?..» И что сказать на это?.. Прости?.. Не смею… сам чувствую, что не прощения, а казни достоин я… Казни, казни… Поскорей бы только!.. Душа не может выносить больше мучений совести… Не буду отпираться… И в мысли нет, чтобы вину свою прикрывать… Те, другие, корыстью влекутся… я… гублю душу и тело, потому что осетило меня зло… а выйти из сетей нет силы… Горе мне! К чему родился я на свет— к чему?!
И он сильнее зарыдал и стал метаться. Затем, помолчав несколько — от бессилия, очевидно, он заговорил вновь и рассказал в бреду встречу свою с Петром, когда относил первую записку Монса.
— Отец Егор! — завопил он вдруг. — Не смею тебе, отчаянный, признаться в своём смертном грехе… Не смею… Вот Бог и принялся сам уже карать меня… Усадьба горит… бабушка — нищая… Отец проклял… О, горе мне… беззаконнику!.. — И тяжкие рыдания перервали слова — но это был последний пароксизм припадка. Балакирев мало-помалу успокаивался и наконец погрузился в глубокий сон.
У Михея пропал сон, и голова начала кружиться от страха. Вдруг чья-то рука, опустясь на спину, заставила затрепетать Михея.
— Это я, Фома, чего тебе трепетать? Тогда заставят трепетать перед пыткой, когда скроешь ты, что сейчас выбрехал этот пьяница.
— Я и сам думаю, что скрывать не приходится, — ответил испуганный Михей.
— Я ведь все слышал… У меня ничего не утаишь, смотри, — ехидно прошептал Микрюков для пущей острастки Михея.
Но Ершова без того уже била лихорадка.
— Мотри же, не упускай этого самого случая… Утром же, как рассвенет, и ступай… доноси.
Михей показал рукою на спящего.
— Он ничего не слышит… хоть самого неси… Скажи, пожалуй, где ты обрёл красного зверя?
— Иван Иваныч где-то нашёл… Опять, говорит, заснул на улице… Тащи, говорит, ко мне; нас гонят на всю ночь работать у светлейшего князя… Положи на моей постеле, пусть вытрезвится; и сам ночуй… У меня две кровати. Вот я… и приволок. Да на силу на великую впятил; тяжёл, собака… А ты-то как очутился?
— Я-то, правду сказать, за полночь проходил мимо да толкнулся в дверку — не заперта! из сеней — тоже. Вошёл и слышу его разглагольствования. Веришь ли, словно прирос я к полу; ужас такой взял… Едва очухался теперь и к тебе подошёл, чтобы предупредить о зле… Смолчать нельзя — обоим гибель… А его что жалеть!.. За чем пойдёшь, то и найдёшь.
И у Фомы уже сложился план не только самозащиты на случай обвиненья ключника, а прямой похвальбы и заявления усердия, ради которого и он высказывал будто ключнику лишнее, чтобы быть призванному для сделанья правого доноса.
Глава VI. УДАРЫ ИЗ-ЗА УГЛА
Зло имеет своё обаяние, от влияния которого не могут иногда освободиться люди, сами по себе и не способные сделать умышленно вред ближнему. Михей Ершов был из числа таких людей. Он теперь находился в полном подчинении Фомы Микрюкова. Злые инстинкты у Фомки проявились мгновенно и в ужасающей форме, едва он понял, что может жестоко отомстить, робкого же Михея он решил сделать орудием мести. Балакирев был Микрюкову ненавистен за давнее соперничество и теперешнее повышение по службе. Лучшего орудия для своих целей не нашёл бы Микрюков, если бы и стал долго разыскивать, чем подсунутый случаем Ершов. Это Фомушка отлично понял с первого же приступа к своему плану, для выполнения которого требовались и осторожность, и уменье верно бить по слабым струнам человеческого сердца. Свой страх, как известно, сообщить другим всего легче.
Ещё только забрезжил свет, как Фома уже с шапкою руке потянул с постели Михея.
— Нельзя скрывать, коли выболтал мерзавец эку вяху, — приказывающим тоном сказал ему Фома. — Делать неча. Надо объявить, что такие речи баил.
— Да, таки речи, что у меня последние волосишки поднялися дыбом. — поддакнул Михей, вставая и берясь за сапоги.
— Не то ещё будет, как утаишь… на дыбу встянут, да знай пляши себе под кнутом.
У робкого Михея поджилки затряслись от подобной картины, и он, впадая в отчаяние, спросил с дрожью в голосе:
— Что же теперь поделать?
— Как что? Идти! Известно всему миру крещёному — на то заведён приказ Преображенский и при нём канцелярия тайных дел… Идти и объявить… Так, мол, и так… Слышал я… и боюсь скрыть, чтоб в ответе не быть за чужое дело.
— Известно, дело мне чужое… совсем чужое. И почём знать мне, провал его возьми, Монса какого-то, да шашни там, что ль… А тут отвечай?! А за что про что — не спрашивают… А я почём знаю…
— Не говори, что теперь не знаешь… не знал попрежь, а услыхал — значит, знаешь, и про то, что услыхал, потаить не смей! Я послух… на меня шлися… во всём. Я те и до Преображенского доведу, и канцелярию разыщем. Медлить нельзя. — И говоря это, он повёл из избы за двери одетого Ершова.
Михей одними тяжкими вздохами выражал неохоту впутываться в дело, но настойчивость Микрюкова не давала ему возможности даже сообразить и одуматься. Он, попросту сказать, тащил робкого Ершова насильно, хотя Михей и упирался от страха, усиливавшегося по мере приближения к Преображенскому.
Вот издали показался из-за длинного забора двухэтажный кирпичный дом, перед которым стояло у ворот четверо часовых с тесаками наголо.
У Михея испарился и последний остаток бодрости при виде ворот, сквозь которые редко пропускали назад раз вошедших в них. Бедняк остановился и, прислонясь к забору, стал припоминать и раздумывать: что будет говорить и с чего начать. С выражением ужаса он посмотрел вокруг себя и на Микрюкова, отодвинувшегося подальше. Минута была критическая.
Фома понял значение вскользь брошенного Михеем взгляда и поспешил на помощь к товарищу, терявшемуся от робости.
— Что ж стал? Вот ворота… на двор да на крылечко… во втором жильё, с повети прямо дверь…
— Да в ворота-то пропустят ли? Чай, спросят: зачем и куда?.. А что я скажу?
— Ах ты, висельник проклятый! Вишь как прикинулся: не знает, как ответить в воротах? Заявить пришёл, прямо скажи… про слышанное… Так, мол, и так…
— Да что: так и так… хорошо тебе ругаться… а у меня память отшибло совсем… Хоть убей, ничего не помню.
— Значит, кнута захотел отведать, чтоб на память пришло… За этим дело не станет: сколько угодно в подспорье всыплют в спину.
— Д-да т-ты ппой-мми, лле-шший, шш-то ччиллаек нни ммо-жжёт ссло-вва ввы-ммол-в-вить, — с трудом выговорил Михей, озадачив своею трусостью и самого подстрекателя к доносу.
— Просто с этим товарищем сам погибнешь! — произнёс он вполне искренне, соображая, что с первых же слов он способен выдать его, Фому. А хитрец, пихая Ершова, сам не хотел показываться. Такое положение во всех случаях было выгодно: ответственность нёс доноситель — если бы и потребовалось отвечать за сообщение, а послух мог ссылаться на доносчика, от него слышал, а сам не знаю. В случае же награды послух тоже получал магарыч, хотя в меньшей степени.
— Вот что, слушай! — мгновенно сообразил Фома, что делать в настоящем, не предвиденном прежде затруднении. — Пойдй-ка сюда… мы порассудим вместе…
У Михея, совсем упавшего духом, отлегло от сердца, и он с радостью повернул в обратную сторону от ворот, где часовые держали штыки наголо. За обширным забором Преображенского двора был пустырь, с которого виден был домик с ельником над дверями и оконницами — царское кружало. В ту сторону для обдумывания и соображений потащил Фома Михея. Недогадливый Ершов смекнул, впрочем, это не вдруг, а тогда уже, когда они поравнялись почти с храмом Бахуса и Микрюков скомандовал: «Зайдём».
— Дай-кось нам крючок[339] полынной! — попросил Фома у целовальника, указав глазами Михею, где сесть. Копейка с денежкою спрошены и выложены на стойку, да заказаны ещё два крючка — на целый алтын.
Пара крючков подбодрила Михея. Теперь он был в состоянии всё пересказать со слов угощателя, удовлетворившегося одним крючком, чтобы прогнать невольную робость. Микрюков уже видел, что могут и его потребовать к допросу для подтвержденья извета, и не пренебрёг подспорьем на всякий случай. Он твёрдо положил одно: не отступать ни перед чем, только бы втянуть ненавистного ему Ваньку в допросы и прочее, неразлучное с тогдашним отправлением следствий. Все распорядив и расположив в кружале под наитием винного вдохновения, Микрюков повёл с торжеством Михея к воротам. Их теперь не испугался уже Ершов, ответив на спрос часовых довольно бойко:
— В канцелярию тайных дел.
— А ты куда, служба? — спросил старший на карауле у Микрюкова.
— Я послух!
— Идите.
Вот и поднялась пара героев по отлогой, хотя некрасивой лесенке на второе жильё. Запахом сырости, угара и гнили обдало доносчиков при входе в тёмный коридор. Из него был проход в раскрытые настежь двери мрачной палаты, где заседал страшный приказ, хотя и сократившийся до канцелярии с одним повытьем, но не утративший силы. Вступая в открытые двери и подбодрённые Ивашкою Хмельницким, доносчики утратили значительную долю первоначального мужества, а спрос — кто и зачем? — окончательно отнял отвагу, поселив в Михее одно желание: как бы отделаться счастливо.
Фома чувствовал почти то же, но его упорство поддерживало злобное намерение сделать вред Ваньке.
— С доносом, что ль? — подсказал протоколист замедливших ответом.
— Д-да! — ответил чуть слышно Михей.
— Я, государь, привёл этого самого человека, прослышав от него о зело вредном деле, — поспешил заявить Микрюков.
Он и здесь постарался выгородить себя от тяжести ответа, выставляя свою заслугу не просто послуха, но и побудителя донести. Но эта роль для него ограничивалась подтверждением слов, слышанных от доносчика; за справедливость же их отвечал не послух, а доноситель.
— Какое там вредное дело прослышал? — громко крикнул недовольный, что его обеспокоили, секретарь и дал знак подойти к его столу.
Фома толкнул вперёд Михея, а сам стал сзади его.
— Кто ты такой, сколько лет и когда на духу был? — задан обычный вопрос доносителю.
— Михей Ершов, обойный подмастерье, пятидесяти семи лет, от службы отставлен с плакатом; а по делам требуюсь, внаём, во дворцы… коли дело бывает. Живу в Покровском, у Осипа Князева, из найма. Говел дважды: в Великом посту и в Госпожинки.
— Что знаешь? Кое вредное дело?
— Да ночевал я сей ночи у товарища с слугою государыни царицы Екатерины Алексеевны, что Балакиревым прозывается, и оный Балакирев, проснувшися аль и так, что ль… спросонья… говорил многие речи… зело… показалися мне… вредительные чести государской… персоны такой великой… якобы Монц имеет… близкое обращение и… силу великую ради того… самого… у её величества… и будто бы оный Монц все берётся делать… и до его не принадлежащее, и посылает того Балакирева во все… и забирает поминки большие… и явное неправосудие оказывается и… и…
— И мошенник оный, Иван Балакирев, все берётся сам сделать силою своею у Монца, — не утерпел ввернуть Фома.
Секретарь посмотрел на говорившего молча и только сердито крикнул на Михея:
— Дальше что?.. Городишь ты непутное… Дело говори, да толком…
— А Столетов Егор, что прозывается Монцовым секретарём, утащил одно письмо к Монцову тому самому… от высокие парсуны… сильненькое письмо.
— Вредительное зело чести великого государя, — вставил опять, глядя злобно, Фома.
— Ты молчи… Сказался послухом, а говоришь иное, чем доносчик. Мы тебя особо спросим… А теперя отвести его в передний нумер, покуда этого я спрашиваю, — отдал приказ секретарь.
Вошли двое сторожей и вывели Фому, не ожидавшего такого сюрприза. Сторожа взяли в коридоре Микрюкова за руки и проводили в угол, а там втолкнули в каютку с узким оконцем и заперли дверь.
Оставшись один наедине с Михеем, секретарь спросил его:
— Отчего же разногласие у тебя с послухом?
— Не знаю…— ответил простодушный Михей, — я говорю, что слышал, а что он такое туто молвил, я того не знаю…
— Да ведь с твоего же сказа ему взбрело на ум, что тут вредительные… злые дела?
— Н-нет.
— Да как же он говорит, что слышал от тебя? Как ты рассказывал…
— Чево мне, государь милостивый, ему рассказывать. Он тут же был, как Балакирев во сне, что ль, плакал, и кричал, и жалился… а как я привёл и положил хмельного этого самого Балакирева… с вечера, его, Фомы, не было… А тут он явился… и угрожать мне стал: чего смотришь?.. Вишь, мне, говорит… нельзя не донести… А я, что слышал, в памяти у меня… то и говорю твоей чести… Истинно… не ведаю… есть ли тут вредное что… аль нет… а настращал, что достанется, коли умолчу… и привёл сюда… он же, Фома.
— Какой же это, выходит, послух? Да кто он?
— Кто?
— Да тот, который тебе говорил: донести?
— Да Фома Исаев Микрюков, солдат гарнизонный, что здеся со мною был… и вы его велели увести…
— Он это и есть?.. Так как же он сказал, что от тебя только слышал, а не сам…
— Опять же я не знаю… ваше степенство… Как Богу, так и тебе говорю истинно, только что слышал… А Балакирева этого я взял — Иван Иваныч Суворов, товарищ, велел… Нашли ночью хмельного на улице… И говорит мне Иван, сведи да уложи… чтобы не случилось никакого худа слуге государыни… А я его знаю по словам же Фоминым… что описывал нам его дурно, а по мне, человек спьяна может болтать и незнамо что, — заключил мнимый доносчик, разведя руками в знак полной своей несостоятельности судить в важности доноса или вреде от слов Балакирева.
— Ты, любезный, совсем сбиваешься в речах… Пришёл донос учинить, а пересказываешь слова подлинно пьяного, где связи нет; а есть и правда, что господин камер-юнкер в силе большой. Да нам до его и досягнуть не приходится. Кому и что вредительного — ты не сказал. В чём же донос?
— Я что слышал, то и говорю… Балакирев плакал и вопил, что связался с Монсом и чает себе беды впредь, что ль… не переспрашивал ведь я его и не говорил ничего ему. Фома не велел ему ничего говорить… а донести, что слышали… Здеся уже спросят.
— Да кого и о чём спрашивать, скажи ты мне? Пьян, говоришь, был этот, как его там?
— Балакирев.
— Ну, Балакирев — пьян был и вам шептал, что ль, жалуяся на безвременье своё?
— Не жаловался он на безвременье, а прямо вопил и каялся: «Черт, — говорит, — связал меня с Монсом с этим, мой грех, — говорит, — погубил я себя… отец проклял…»
— Ну и загородил опять чушь… Я спрашиваю, толком говори: о чём доносишь?
— Да что слышал… коли это самое не велено скрывать… Я не знаю, что тут…
— Кто ж тебя научил, что здесь таится что-нибудь вредательное для чести государской?.. Ведь ты это говорил. Ведь записано в протоколе так? — спросил секретарь у молчаливого протоколиста.
— Так… да про письмо к высокой парсуне… сильненькое — что другой сказал — записано.
— Что записано — ладно… Для улики… дураку, вралю непутному: не знает, что брешет и кого задевает.
— Да я, ваше степенство, — умоляющим голосом начал Михей, — докладаю твоей пречестности, что моё дело донести, что слышал, а говорил, чтобы всенепременно не утаити, затем что вредительно высокой парсуне — Фома этот… Я поверил ему со страху — службу он должон знать, коли в солдатстве. А есть ли туто что, я, по простоте по своей, не смекаю и, бояся ответа за утайку, пришёл.
— Ну, значит, ты как есть простяк, а тот, что я смекнул сразу, плут, и вор, и заводчик злу сущий и первый… Следовало бы тебя уму-разуму поучить — десятка два палок влепить, чтобы дурости с чужих слов не забирал… Да вижу твою простоту…
— Помилуй, государь, не погуби! — завопил Михей, бросаясь в ноги секретарю, очень довольному результатом своей острастки. Он и не думал вдруг прибегать к наказанию, а только пощупал, так сказать, почву, на которой создался донос. Из смысла слов пьяного получались одни намёки, до того тёмные и неопределённые, что благоразумная осторожность прежде всего требовала от следователя изловчиться — добыть более существенное. А от кого добыть это существенное? — возникал вопрос самый щекотливый.
Главный доносчик оказался несостоятельным орудием другого ловкача. Да и правда ли, что тот солдат что-нибудь знает и значит? Речь шла по намёкам о такой высоте, где без особого полномочия тайной розыскных дел канцелярии не след было и носа совать.
Умный секретарь крепко задумался, соображая, с чего начать.
— Сядь туда за печку, да чтоб не видно тебя было отсюда, где стоял! — отдал он наконец приказ пришедшему несколько в себя Михею. — Сиди там и слушай, что будет говорить этот солдат, который напугал тебя. Слушай твёрдо и ничего не пропусти из его слов… Да при каждом слове его, с которым ты не согласен, подними руку, чтобы я видел… А я со своего места буду смотреть. Стань и подними… увижу ли я?.. Ладно… вижу! Сиди же смирно. И секретарь приказал привести запертого солдата. Фома Исаич в своём заключении уже крепко досадовал на себя, что с языка сорвались у него не вовремя слова о письме. Но делать нечего; не воротишь сказанного; нужно остеречься впредь от выбалтыванья лишнего. Услышав звуки от поворачиванья ключа в замочной скважине, Фома приготовился. Его молча повёл один сторож, держа за руку впотьмах.
— Кто ты таков, где служил и служишь? Давно ли на службе? Когда на духу был и сколько от роду? — прочёл протоколист вслух, как только поставили Фому перед секретарём.
— Фома Исаев Микрюков, в солдаты взят в семьсот четырнадцатом году, из дворян; в Невском полку служил спервоначалу, а с восемнадцатого году в здешний гарнизон прислан в третью роту. А в наряде по Кремлю-городу состою, у Троицких ворот, у машкаратных пар, у прислуги. Тридцати трех лет; на духу в Москве, за недугами, не бывал, кажись…
— Какие недуги помешали… и где записан в неговевших?
— Разные недуги… ноги болели по весне, а допрежь того и первый год трясовицею болел; а в приходе не знаю в каком значуся… Живу из найму… не в одном месте.
Секретарь молча, пристально глядел ему в глаза и, бросив случайно взгляд за печку, увидел поднятую руку Михея.
— Ты все врёшь и путаешь… Говори дело. Враньё тебе будет стоить палок… Как попал в Москву, ты не сказал?
Фоме этот вопрос попал, что называется, в жилку. Он никак не хотел открывать, что за штраф переведён, и соображал, что ответить.
— Как же попал? — повторил более настойчиво секретарь и уже стал внимательно смотреть за печку.
— Я попросился к родне своей ближе, в Москву.
Рука Михея поднялась.
— Ты врёшь!.. Перевели, верно, за провинность? — заметил секретарь.
— Моей провинности не было… оболгали, будто бы я стянул скляницу в саду у святейшего…
— По протокольной записке сделать запрос в гарнизон: есть ли солдат Фома Микрюков, почему он сюда переведён и как себя ведёт — коли нанимает жильё сам, а не при роте состоит! — отдал приказ секретарь, и протоколист быстро записал.
У Фомы помутилось в глазах.
— Ты все путаешь, — продолжал секретарь, обращаясь уже к нему. — Говорил, что со слов товарища слышал, а не сказал, где и когда?
— Сегодня утром пришёл ко мне Михей, доносчик, значит, и спрашивает совета: как тут поступить?
Рука Михея не только поднялась, но даже задвигалась в воздухе. Секретарь понял в этом движении полное отрицание возводимой на него напраслины.
— Да как же, если он тебе пересказывал, спрашивая совета, здесь-то другое заговорил, с твоими словами несогласное?
— Должно быть, со страха перепутывать он стал. И, сюда идя, заводил он меня выпить… может, и меня разобрал хмель, не то сказывал, что хотел, в беспамятстве…
Рука Михея опять замотала отрицательно.
— А-а, вот ты какой гусь… Совсем плут… и все воровские уловки знаешь… Вишь ты, запамятовал и в хмелю перепутал? Изрядно!.. Отрезвить память нужно… Эй, двое, сюда!
Пришли те же два сторожа.
— Стяните с него мундир, и пустим палки в дело… Без них с этим вралём правды не добраться!
Растянули и приготовились.
— Говори же истинную правду… не думай меня провести; я тебя насквозь вижу. Заруби себе на носу, что при каждой твоей попытке солгать я буду знак давать, чтобы палки работали… С тобой я не намерен шутки шутить… Говори же сподряд все, ничего не утаивая; что с тобою было со вчерашнего дня?
— Я… на службе был… Освободился — к приятелю зашёл… от него домой… ночевать… утром к Суворову завернул и увидал Михея Ершова, и он мне сказал…
Рука Михея сильно задвигалась.
— Бей! — крикнул секретарь…— Я из тебя выколочу ложь и извороты…
— Ой-ой! Батюшки, помилуй… перед утром, говорю, к Суворову зашёл и услыхал от Михея…
— Бей!..
Удары посыпались скорейшим манером, и от боли Фома, прося помилованья, обещал все рассказать сподряд — правду. Палочники остановились, а Микрюков поспешил подняться и заговорить скороговоркою:
— Виноват, государь. Был я вчера у ключника в доме князя Михаилы Михайловича Голицына, и слышал я там речи неладные про Монса… заспорил и перечить стал… плуты, челядинцы, ключник главный, стали меня бить. И они, сокрывая своё воровство, грозили, коли я перескажу их речи аль до начальства доведу, на меня показать, будто мои слова эти самые про то причинное вредное дело до чести великого государя… и, убоявшися их угроз, я пошёл к Суворову и у него ухоронился… И все слышал, как пьяный Балакирев воем выл и причитал таково жалобно про свою погибель у Монса… и про письмецо «сильненькое»…
— Вали его и катай… покуда не признается… что ложь дерзкую изобрёл… Видно мошенника, как есть… Нагородил теперь новое совсем, а правды и тут не сказал.
А сам глядит, не покажется ли рука Михеева. Она не поднимается, однако, а пока валили Фому палочники, он взмолился, что все ответит вправду, только бы не били.
— Хорошо, подождём… Оставьте его… не уходите только! — крикнул секретарь. — Отвечай на мои вопросы…
— Изволь, государь, спрашивать,-ответил Фома.
— Для чего же тебе в чужой дом уходить, коли ты не виноват?
— Боялся я… ушёл от побоев холопских, да, думаю… со злости донесут… схватят меня ночью, дома… дай ухоронюся инде…
— Совсем мошенник!.. Вот что я тебе скажу: не на того ты напал, чтобы не понял я: что ты такое есть… Признавайся прямо, стало быть… Со слов пьяного чтобы донести, нужно иметь к тому особые побуждения… Эти побуждения твои выказываются в плутне подвести другого и стать в послухах, когда зачинщик доноса ты самый и, видно, подстерегал того пьянчужку… если сам ещё не наводил раньше на похвальбу своею силою у камер-юнкера.
— Я от него не слыхал этой похвальбы… другие говорили… Все говорили.
— Кто другие? Кто все?
— Я слышал от голицынского ключника… от Мишки Поспеловского, от Ан…дрюшки…
— Про письмо-то кто говорил тебе, или сам изобрёл?
— Я только…
— Ну, что только? Приврал к словам пьяного?! Да?!
— Может, и так… запамятовал я… все смешалось от страху… как пьяный вопил: «Погибель мне от Монса»… Я столько же, как и Михей, в страх пришёл… И так мне ужасно стало… что нам будет, как промолчим; а дознаются потом? И спросил я: «Что думаешь, Михей, плохо нам?..» Взяли да и пошли… и донесли вам.
— А зачем учил ты Михея, да подносил ему… да нашёптывал, что говорить… да зачем спервоначалу послухом сказался, а не доносчиком… и подстрекателем?
— С простоты своей… струсил очень.
— А домой не заходил зачем? Очутился там, где пьяного спать уложили?
— И про то про все докладывал: ключника с челядинцами голицынскими я побоялся…
— Г-м! Изрядную сказку ты нам рассказал… А коли на очной ставке извет на голицынских людей не подтвердится, тогда — что?
— Известно, они, коли спрашивать станут, злость свою на мне выместят — свалят свою вину.
— И Михей, твой товарищ, тоже, знать, злость на тебе, что ль, вымещал?
— Нет… Ему за что на меня клепать…
— Так как же его показание с твоим рознить?..
— Уж я не знаю, как… Теперя правду сказал я… слышали мы оба… пьяный бормотал исперва… потом выл да причитал… Монса винил и каялся.
— А кому пришло в ум доношение сделать?
— М-мне, ммо-жет… пришлось высказаться, и Михей хотел… знает, умолчишь — достаться может.
— Чтобы закрыть себя от других плутней… Гм! у Голицына с дворовыми про что ты врал? Про Монса тоже?
— Они это самое говорили… я слушал, д-да… невмоготу стало… перечить зачал и — все на меня…
— Да ты прямо на мой вопрос отвечай: про Монса речь тобою велась?
— Д-да… кажись, с того самого начали, что дела он делает большие.
— Гм! Тебе, вишь, дело до всего есть… Совок ты во всякие художества… И письма ты припутал… Мишка какой-то тебе рассказывал.
— Поспеловский слуга… того самого господина, что денщиком бывал али теперь, что ли.
— Гм! А ты его-то слова да на бред пьяного своротил, и вышла околесица.
— Может, я ненароком… с языка сорвалось…
— А на очной ставке с доносчиком, товарищем своим, и ещё что-нибудь другое выскажешь? Припомни-ка.
— Все как есть припомнил… Иного сказать не приходится.
— И стоишь ты на том, что доносить вздумал со страха, а не ради скверного прибытка… за обещанную награду за правый донос?
— Н-нет… простотою своею про награду и не слыхивал я; а, избываючи лиха, чтоб в ответе не быть, пришёл с товарищем доношенье подать.
— Чтобы лисьим хвостом след заметать того, что дворню голицынскую всполошило против тебя… Чего же иного ради ты домой не вернулся?
— Д-да… только меня там оболгать хотят, не я говорил… Они тамо непутнее загибали… не я…
— Гм! И клевета тебя в Москву привела. И все на тебя… на бедного Макара, так и валится… Дивное дело!.. Спросим гарнизонную канцелярию, а до тех мест посиди… покопи ещё, что солгать…
— Да за что страдать я буду?.. За чужую вину… великий государь велел доносить про всякое воровство и бездельство…
— Доносить верное, прямое зло… а не клепать, закрываючи свои плутни.
— Да какие же мои плутни, государь милостивый… разве что припамятовал?
— А путал-то сколько?.. Себя за послуха выдавал, коли ты зачинщик злобы и есть… Ведите его в седьмую казенку… Порожняя она?
— Порожня! — ответил один сторож, тот, что замыкал и отмыкал дверь при первом заключении Фомы.
Когда вывели его, секретарь подозвал из запечки Михея и спросил его тихо:
— Никому ты в кабаке не говорил про то, про что сюда пришли вы доносить?
— Нет, государь милостивый!.. Я молчал, и, правду тебе сказать, страх меня взял спервоначалу, как потащил меня Фома. А как поднёс он крючок и другой… я словно ободрился и опять же ничего не памятовал; переговорил он мне на пустыре, сзади двора вашего, что говорить, а потом пошли… и пришли сюда; а здеся я выбрехал тебе всю подноготную… ничего больше не знаю я.
— А про пьяного про того много слыхал раньше его бреда в беспамятстве… аль спросонья, что ль?
— Говорил про него у Суворова, и потом у Алексея Балакирева все Фома же Микрюков… Что он и такой, и сякой, и мошенник, и вор… а мы с Иваном Суворовым не нашли молодца таким… показался добрый человек… и коли бы не страх… что молчать будешь — беда… не донёс бы… Может, во сне бедняга видел…
— Гм! Во сне, должно быть, и есть… Ты не моги никому не пискнуть, о чём тут говорилось… Голову можешь потерять за бредни, что твой подстрекатель изблевал дерзостно… И подумать страшно… не токмо вымолвить, да ещё похвалялся как добрым делом?! Смекни, что своим дьявольским подстреканьем вёл он тебя на плаху аль на виселицу….
Михея забила дрожь.
— Смотри же… молчать, а то — запорю… А теперь, по дурости твоей, влепить велю десять палок, чтобы умнее был и понял!
— Ваше степенство, помилуй меня ради неразумия! Со страху я… напугал, изверг, что смерти повинен буду, коли промолчу. Сам я не знал после того, что творил!
Секретарь молчал и думал…
А Михей, обливаясь слезами, просил о пощаде.
— Ну, пошёл вон, да не пискни… а коли попадёшь вдругорядь… безо всякой пощады!
Михей уже бежал со всех ног, боясь, чтобы не отменил разрешенья секретарь, ломавший теперь голову: как поступить? Слова изветчиков записаны. Лгун-измышлятель прибран, а страх, что дальше последует, охватывает ум дельца: как и что делать по такому доносу?
Долго ходил секретарь по каморе и вдруг собрался и вышел, приказав протоколисту не выходить и составить экстракт из протокола.
Прежде всего приехал секретарь к начальнику своему генералу Ушакову[340] и рассказал ему все, что было.
Ушаков молчал; слушал, потом долго ходил взад и вперёд и, ничего не сказав, как поступить, велел ему посоветоваться с кабинет-секретарём Макаровым.
Макарова найти было не так легко дома; однако же секретарь застал его уже на пороге.
— Я к вашей милости… по очень важному делу.
— Все важные дела до вечера… Спешу!
— Нельзя до вечера, сам увидишь, Алексей Васильич… Выслушать теперь изволь… недолго ведь — в двух-трех словах всего. Пойдём к тебе, и я разом объясню…
— А здесь, коли недолго, для чего бы?
— Нельзя… Могу с глазу на глаз только. Так и Андрей Иваныч велел.
При упоминании имени Андрея Ивановича Ушакова Алексей Васильевич Макаров взял за руку секретаря. Они вошли в кабинет к нему, в задний самый, и двери заперли. Конференция продолжалась недолго. Вышли оба советника озабоченные больше, чем вошли, и Макаров проворно стал надевать свой щегольской охабень на соболях, крытый чёрным бархатом.
— Так я от вас отписки буду ждать, — сказал секретарь, — и как получу, тогда пришлю извет.
Макаров молчал.
— Так, что ли? — повторил, добиваясь прямого ответа, секретарь. — Ждать будет мне или, не дожидаясь, вам прислать?
Они вышли за двери.
— Как знаешь… так и учини… А я переговорю, и что скажет… лучше, сам скажу… приеду нарочно.
— Да напиши; чего ездить попусту — от дела отрываться.
— Нельзя писать… Есть у меня помощничек… Замечать я стал за ним… Надвояко бьёт. Ему может попасть в руки, так… неладно выйдет… Почём знать, что у него в голове?
Секретарь тайной канцелярии посмотрел в глаза кабинет-секретарю государеву, и оба промолчали; взгляды их были вполне вразумительны для обоих.
Каждый поехал к себе довольный. Недовольным остался только делец, который во время разговора Макарова с секретарём тайной канцелярии напрасно подслушивал у замочной скважины дальнего кабинета. До чуткого слуха привычного к этой операции дельца из фраз разговора долетали только отрывочные звуки. Он уловил ясно одно слово: извет. Когда же прислушивался затем с утроенным вниманием, казалось ему — поминались Монс и Балакирев. Впрочем, последние две фамилии он скорее, как сам думал, отгадал, чем выслушал.
Как ни скуден был сбор новостей, извлечённых из подслушанной утренней беседы секретаря тайной канцелярии с кабинет-секретарём, вечером в этот день делец входил с самодовольной улыбкою на крылечко каменного дома ревизора Московской губернии генерал-майора Чернышёва.
— У себя Григорий Петрович? — спросил он у кого-то, проходившего впотьмах.
— У себя, кажется, — ответил женский голос.
— Да вы это, Авдотья Ивановна?
— А небось это ты, Ваня?
— Я самый…
— Поджидал тебя ещё вчера старик мой… Да подумал: видно, нет ещё ничего…
— И есть, и нет! Как сказать?.. Куда войти-то?
— Да всё равно… коли ненадолго… Я вызову Григорья… у меня посиди… Впрочем, у него нашинский же, Павел Иваныч… и при нём можно все говорить. Пойдём… Дай руку, тёмненько у нас здесь… Того и гляди, стукнешься об матицу… Ты же высоконек-таки!
Впотьмах поймал гость руку хозяйки и при её помощи выбрался счастливо из коридорного мрака на свет, в хозяйскую каморку.
— А! добро пожаловать! Поджидал я тебя, Иван Антоныч, завчера ещё… говорю Авдотье: видно, ничего нет… что не едет.
— Да видите… Алёшка теперь подозрение возымел и мне ничего не даёт, кроме перечня указов… Одначе смекаю я… один доносик, должно быть, прилетел к розыскным делам. Сегодня рано прискакал секретарь из Тайной и Алёшку прямо увёл в заднюю — шушукаться. Говорили недолго, а вышли не в себе… Сдавалось мне, словно помянул секретарь Монсово имя и Балакирева… Значит, откуда ни на есть, а с нашего берега удочка запущена… Не смею прямо уверять, подождём; секретарь, кажись, сказал, что пришлёт извет, когда получит приказ от Алёшки. Приказа этого писать не даст он мне, понятно… а я буду караулить, как бы в лапы извет залучить… Коли Алёшки не будет в конторке, и ко мне попасть может.
— Давай-то Бог! — с нескрываемым интересом отозвалась Авдотья Ивановна, не могшая хладнокровно переносить остуды к себе того, кто недавно ещё верил ей безусловно и шутя называл неспроста «Авдотья бой-баба!». Бой-баба была на все руки и валяла вовсю, что называется… Черноокую Екатерину Алексеевну она считала все же своею соперницею, хотя была счастливой и изворотливой, но по части амурных дел ничем не выше себя… За Монсом и его возвышением в придворных сферах и Авдотья Ивановна, и все терпевший из-за честолюбия, если не выгоды, достойный супруг её следили с особенным интересом.
Афронт у державного, конечно временный, потерпела «бой-баба» опять едва ли не по милости Монсовой старшей сестрицы Балкши. Она развезла всюду по знакомым домам басню о том, что Авдотья Ивановна выпустила молодца одного с заднего крыльца, когда с парадного входа стучался высокий покровитель. Понятно, что Авдотья Ивановна обрадовалась случаю отомстить врагу. Она рассчитывала в этом случае на непременную помощь Павла Ивановича Ягужинского, который был на ту пору больше чем друг дома у Чернышёвых.
К сближенью его с ними было много очень уважительных поводов. Меншиков шатался, втянутый в процессы, и Павел Иванович, хотя-нехотя, должен был искать поддержки в другом лагере, а там член военной коллегии Чернышёв[341] был влиятельный туз из умеренных. Его к тому же считали в некотором роде потерпевшим от женских интриг. А ни чему иному, как их же влиянию, приписывали даже и самые процессы 1718 года[342], когда в своём роде оппозицию выказали все столбовые тузы, начиная с Долгоруковых и оканчивая благодушным рыцарем правды — Голицыным. Тогда и Апраксины уплелись не без потери значения. Даже первый из иерархов[343] был заподозрен, и все русаки, кроме выскочек, остались в тени. Тем не менее они успели выдвинуть во время празднеств по случаю Ништадтского мира князя Кантемира. Вот монарх, жаждавший новизны, стал часто посещать семейство его, обнаруживая скуку и неудовольствие, дома, холодность к Меншикову. Этим умели воспользоваться как нельзя лучше Монс с сестрицею.
Алексей Макаров, вологодский посадский, всем обязан был Меншикову и Екатерине Алексеевне и, конечно, стоял на их стороне. Противники же Монса прибрали к рукам помощника Макарова. Это, впрочем, не утаилось от ловкого Алёшки, и стал он ухо держать востро: неприязни врагу не показывал, а только, соболезнуя его немощи, начал давать ему поручения. Бывали из них и доходные подчас, отвлекая корыстью из конторы, чтобы меньше торчал там да меньше запримечал. Но Черкасов[344] был тоже не промах. Он стал подсматривать и подслушивать через других, сам являясь изредка. Ничтожность добытых результатов не лишала терпенья наблюдателя, а скорее подстрекала его, щекотя нервы приманкою далёкого успеха.
Когда Иван Антонович передал все им слышанное и свои догадки, Чернышёв усомнился.
— Я это все хорошо и близко могу разузнать от человека, мне преданного, — сказала Авдотья Ивановна, — это не иной кто, как Лакоста, сам имевший виды на Ивана Балакирева. Он успел было его совсем отвлечь от мерзавки Ильиничны; да устроила она при поездке в Ригу так, чтобы Иван взят был с одной её племянницею… Ну и..: понятно…
Чернышёв барабанил молча по столу, ничего не говоря, но исподлобья глядя на Черкасова, — что он скажет.
— Моё мнение: действительно, — начал говорить, подумавши, Иван Антоныч, — коли Лакоста наш — через него за двоими разом наблюдать, за Ильиничною и за Монсом… Что же касается слуги Балакирева, знать нам всю подноготную о нём — ни алтына не прибавить к сути нашего дела.
Ягужинский, посмотрев на хозяина и на Черкасова, сказал ему:
— Ты, Иван Антоныч, недогадлив страх как, а ещё стараешься объехать плута своего Алёшку… Куда тебе… коли не видишь, что в этом-то проныре и главная пружина… С его изворотливостью все шашни будут шиты да крыты, и сам вывернется, и других научит. Твой хвалёный Егорка в подмётки не годится ловкачу Ивану; затем он и оттерт остаётся… Ты, голубчик, не сердись, а старайся от Столетова больше узнавать да учи его во что бы ни стало хапнуть такую вещицу, чтобы в улику годилась… Можешь за услугу эту прямо обещать: в кабинет взять!..
— Конечно… стараться буду… почему не стараться?.. Да вы, Павел Иваныч, плохо знаете этого бездельника Столетова: он ведь болтун и хвастун больше, чем дельный парень. Посули ему только к нам взять, он напьётся с радости пьян да все и выболтает… Да взять его, даже я вам скажу, не выгодно будет нашему делу, — раздумав и ожидая в Столетове найти соперника, начал уже отговаривать подозрительный Черкасов.
— Его как раз приберёт к рукам Макаров на нашу же голову. Ведь и теперь он к Алексею Васильичу больше льнёт, чем ко мне; все магарычи вместе делят.
С последним положением все согласились, и Черкасов, успокоившись, замолк. Тут Чернышёв вдруг привскочил с места от дельной мысли, редко приходившей ему в голову.
— Вот что я надумал: в гарнизоне здесь считается по спискам какой-то Балакирев? Узнать бы, не роденька ли он монсовскому… Его бы приставить, по родству якобы, к детским хоша комнатам… Он бы и наблюдал… и доносил нам, что усмотрит.
— Из этого ничего не выйдет… Знаю я, о ком вы говорите… Сержант Балакирев даже не только родня царицыну юрку, но отец, да проку ни на грош в нём и со всею его ненавистью к Монсу. Он человек безалаберный, пьющий, завсегдатай у Андрея Апраксина… Будет ругаться, пожалуй, а запримечать не сумеет… Да и не дадут его вам ни за что пристроить к детской, прямо потому, что он не способен чинно вести себя.
— А я всё-таки его вызову и посмотрю сам…— заключил упорный в своих решениях Чернышёв.
Военный ревизор, как известно, всякого военного чина может к себе потребовать на смотр — так и в старину было.
Вызванный Алексей Балакирев явился, теряясь в догадках, зачем его требуют.
Вот доложил вестовой, и генерал потребовал его к себе.
Вытянувшись в струнку, отдал честь Алёша наш угрюмому служаке, принявшемуся долго в него всматриваться. Политик Чернышёв подбирал в это время слова для начала своих спросов. Думал-думал и вдруг спросил:
— Есть сын у тебя?
— Есть… да лучше бы и не было.
— Что так?
— Да не сущее ли наказание иметь сына — слугу самого злейшего моего ворога?
— Как так?
— Да сын мой у государыни служит, а живёт и плутню творит заодно с Монсом… а тот…
— Не люб, должно полагать, тебе?..
— Что не люб… ничего бы ещё… Что я значу, чтобы замечать мою любовь или нелюбовь… Он, Монс, вечно был злодеем моим… из-за его злобного наговора великий государь в Азове держал меня чуть не пятнадцать лет; в ссылке — не в ссылке, а на то похоже. Воротился я… государь помиловал, обласкал; а этот мерзавец, Вилька, опять подвернулся — хотел сызнова пакость учинить… Слава Богу, покойник Александр Васильич Кикин не выдал… Дай ему Бог царство небесное!
— Да, брат, — вздохнув сочувственно, отозвался Чернышёв, — и я Кикину царствие небесное должен пожелать. И для меня он был хорошим человеком… Погорячился великий государь, крутенько свернул этого человека[345]… а уж что за голова была!.. да авось Бог зачтёт за страданье царевича, за иные грехи и помилует раба своего Александра… Так мы, братец, — как имя и отчество? — совсем наших стариковских правил… Добро помним! И ладно, что спознал я тебя… захаживай почаще к нам… мы хоша и в енаральстве теперь, а русаков и нижних чинов не обегаем… Призвал я тебя на очи — не вижу, где ты пристроен… и хотел спросить не через посредство чьё, а прямо — я, видишь, простой человек, а ты не перестарок ещё — не хочешь ли должность какую взять?.. Жалованье положим и поведём как-нибудь подальше, может.
— Да я доложу твоему благородию, великий благодетель, что эта самая азовская служба отбила у меня охоту в чины добиваться… за пустяк могут человека в бараний рог согнуть, да ещё упрячут невесть куда.
— Ну… как тебе сказать; конечно, бывает вгорячах, да ведь дознаются и вознаградят за безвинное страданье… Государь правосуден и милостив.
— Да мы-то неразумны… вот, к примеру сказать, и я служил… как воротили меня, государь и спрашивает: «О чём хочешь проси — сделаю!..» А я думал по-старому: попросил правосудья у князя-кесаря[346]. А у его те же подьячие плуты всем ворочают. Моё дело повернули так, что из правого стал виноват, да и то обобрали бесповоротно, чем владел до суда бесспорно…
— Ну, о кесаре и говорить, братец, не велят; и сам я знаю, что этот кесарь дурачливее глупца батюшки, хоша и не Бог весть как давно, словно слон на воеводстве, засел… Так ты, сердечный… коли отсудил у тебя все кесарь, этак… может, нужду имеешь?.. Я истинно хорошему человеку рад сделать добро… коли хоть, ответственности у тебя не будет никакой и при военной коллегии числиться можешь, а в разъездах состоять при мне будешь… по поверке военных дел Московской губернии…
— Премного благодарствую, отец милостивый, на приятном обещанье… Коли Бог те на душу положит нашему брату вспомочь так, как изволил высказать, записать меня, — вечно Богу молить буду за тебя.
— Так прихаживай ко мне прямо… на очи пустят; я велел уж. А насчёт определенья — сегодня же сделаю… А ты, голубчик, разузнавай, коли что услышишь про своего недруга.
— Про Монсишку изволите, что ль, говорить или нет?
— Про его самого… какие его художества?
— Да много обещал про его художества солдатик один гарнизонный мне ономнясь порассказать, да что-то запропал… Как найду… выспрошу и все доложу, буде слушать изволит твоя милость…
— Разыщи, братец, разыщи… Ведай, я сам не меньше его ненавижу, как и ты…
Алексею Балакиреву последние слова хитрого Чернышёва показались слаще манны небесной. И пустился он по всей Москве разыскивать Фому Микрюкова.
Забежал к Суворову, по виду его несколько всполошённому чем-то.
— Что ты, Иван Иваныч, здоров ли?
— Слава Создателю, здоров… а что?
— Да пахмур мне показался… несуражен…
— Да с чего радоваться-то… Того и гляди, под видом знакомца подъедет какая стерва вроде солдата, к примеру сказать; помнишь, что родственника-то твоего честил так, что я ушёл поскорее…
— Как не помнить?.. Его-то я и ищу… обещал мне про Монсовы плутни рассказать впредь, а все отделывал моего сына непутного… Ты знаешь, где найти-то его?
— Голубчик мой, лучше и не спрашивай… Он ведь злодей и предатель… Михея Ершова приволок в розыскную канцелярию донос делать на твоего сына, да сам, кажись, и попался… Михей и говорить боится, где они были… Рад день и ночь Богу молиться за то, что удалось шкуру унести, не полосованную кнутом… Для Бога, ты об этом проходимце не выспрашивай… Подумают, что ты из конфидентов его — и тебя засадят…
— Спасибо, что сказал… Иван Иваныч… Так его засадили, говоришь. Да правда ли это?.. За что тут садить? Сын мой непутный… не велика хря… Не сегодня-завтра повесят… с Монсом на одну их верёвку… Экой бедный!.. За что могут посадить! Скажи на милость?
Суворов поспешил уйти от начатых сержантом разглагольствий, досадуя на себя, что сказал ему и про солдата, не зная, как примет он это. Ведь его же от доброго сердца хотел отвести от беды — и вот он какой. То-то так скоро и подружились!..
Сержант, оставленный Суворовым, пошёл искать Михея Ершова, соседа своего; но и он, — должно быть, уже предупреждённый Суворовым, — поспешил скрыться. Так что нигде не мог его найти Алексей: ни в кружале, ни у сытника[347], куда захаживали нередко медку испить, ни в обжорном ряду, где обедывали не раз. Обегал все места усердный Алексей, а где ни спрашивал про Михея, слышал одно: «Нет; не бывал; не знаем».
А тут и вечер наступил. Зашёл к Апраксину; накормили и спать уложили. Наутро приехал такой радостный Андрей Матвеевич: вишь, от императора поместья получил: часть сестриных, да за службу по пьянственному собору ранг при дворе обещан.
Вспрыски пошли; сегодня — пир; завтра — похмелье, и… неделя вся.
Отрезвился наконец Алёша. Амуницию отчистил и — к Чернышёву.
Доложил. Подождать велел. Царь тут — нельзя. На родинах был государь и в кумовья сам назвался. Велел крестить в Петербурге, и дела здесь сдать, а в коллегии военной до времени не быть — в Адмиралтействе должность занять.
Приёмы высокого гостя протянулись до вечера. Освободившись, генерал позвал к себе Алексея.
— Здравствуй! Я зачислил тебя в коллегию и беру с собой в Питер. Готовься. Послезавтра едем.
— Не могу я так скоро, милостивец. Позволь мне после прибыть, и чтобы в абшиде[348] прописано было, куда явиться должен. Да времени, примерно, недели две на сборы.
— Хорошо.
— А может, найду солдата того… что докладывал Монсовы дела… Верного ничего не говорят, а слышно, никак, в розыскной у тайных дел посажен. Вам, коли пожелается доподлинно узнать, запросить бы из коллегии эту самую розыскную канцелярию…
— Подумаем, как это сделать, в Питере. Не досужно теперь… там увидимся, как приедешь… Должны мы поспешать, чтобы выехать раньше их величеств… Иначе лошадей будет не достать.
Парадиз петровский снова увидел царственных хозяев после долгого, двухлетнего почти, отсутствия. Новый император задумал возложить корону на свою спутницу в походах и разъездах по чужим землям и по своей[349], не отлагая в долгий ящик. Заказы посланы: делать наряды для государыни к коронованию её не позднее вскрытия вод. Лето же, осень и зима в Петербурге, среди празднеств, дали немного дней Ване Балакиреву провести в семье. Он к жене был больше чем ласков и предупредителен; она тоже была послушна и тиха, но редкий день проходил у Даши без слез. Ею никто не занимался; отец, мать и муж были заняты своими хлопотами. Даже хорошо понимавшая её добрая дьяконица отъехала далеко. Алексей Балакирев прибыл к Чернышёву и жил у него, не встречая никогда сына, так как от царицы посылок к Чернышёву не бывало. Авдотья же Ивановна стала чаще ездить к Марье Кантемировой; за то и в кумовья государь изволил пожаловать пойти. Смерть царицы Прасковьи Федоровны[350] лишила государыню ещё одной благоприятельницы. Стали возвращаться уж из ссылки бывшие слуги царевича, а дело свадебное царевны старшей затянулось[351]. Вдруг объявление — ускорить коронацию — взбудоражило окружающих её величество. Святки прошли; маскарад на Масленице, да и отъезд в Олонец. А оттуда — прямо в Москву: короновать царицу-императрицу решил державный супруг.
Враги и друзья съехались вновь в Белокаменную к Святой неделе в 1724 году. Ягужинский с Толстым вместе заправляли приготовлениями. Дела было по горло. А удосужился-таки Павел Иванович к Авдотье Ивановне на вечерок завернуть одиночкою.
— Вот теперь твой Григорий опять в руки взял ревизию московскую — что ж он не потребует из розыскной солдата?
— Хорошо, что напомнил… Антоныч вчера был и говорит, что секретарь снова приезжал: шушукаться с Макаровым… Смекают вороги, что Григорий Петрович против них. Алексашка Меншиков ему вздумал говорить: «Все ль у тебя чисто по интендантству флотскому… Жалуются-ста, что не отпускают сполна, что положено, на корабельную стройку…» «У меня ведомости поданы в Сенат, — ответил Григорий, — что недослано с губерний… а иного, кроме донесенья, делать мне нечего.» — «То-то, смотри, — говорит. — Чисто ли?» — «У кого другого, может, где ни на есть нечисто», — выговорил мой. Князь и губу закусил.
— Ещё не так закусит… как солдата вытребуем да донесём: пусть разыщут, за что про что держали… Ты, Дуня, не запамятуй: теперь самое время, покуда не спохватились да ревизии не отняли.
— А они с этой стороны не чуют западни?..
— Где им чуять!.. Чуть не на голове ходят, что удалось наладить золотую шапку напялить… отдыху не дают: скорей да скорей… Алёшка мелким бесом изгибается.
— Ещё бы!.. Антоныч говорит — состряпал и себе указ в кабинете секретаря бригадирского ранга… А знаешь новость: племянницы царские[352] в церемонии не будут?.. Она, вишь, мысль подала, что им будет тяжело веселиться: по матери год не прошёл. А уж как хохотунье вашей Катерине Ивановне хотелось… Позволено одеться в чём хотят и на местах только сидеть… не близко… Боится, что княжну Марью Дмитриевну[353] тогда нужно пустить в церемонию… ведь господарь покойный[354] — тот же принц крови?
— Приехала к вашей чести, Авдотья Ивановна, Блеклая полковница, — доложила, войдя, горничная.
— Чтобы она меня не видела у тебя… Есть задний выход?..
— Есть… сюда поди…
И конференция прервалась на интересном месте.
Чернышёв запросил о солдате. Ответ получен короткий: есть в приёме, а когда нужды в нём по секретному делу не будет, пришлется немедленно.
— Умны бездельники!.. Прицепиться не дают, — передавая увёртку секретаря тайной розыскных дел канцелярии, молвил при новом посещении Павла Иваныча Чернышёв, разводя руками, — что дальше делать?!
— Нечего ещё разводить… не все потеряно, — отвечая на последние слова хозяина, весело вскрикнул, почти вбежав к собеседникам, Черкасов. — Вот смотрите… извет и цидула Алёшки с препровождением. Алёшки не оказалось, а Ванька принял и к вам принёс.
Все вскочили с мест и бросились к столу, на который положил Черкасов бумагу, сложенную вдвое, в куверте розыскной канцелярии. Принесённый Черкасовым документ заключал, очевидно, переписанный экстракт из допроса Ершова и Микрюкова с исключением имени Балакирева, заменённого Суворовым. Извет подан будто бы от первого лица. Смысл его значительно рознился от сказанного за год назад и, строго разбирая, не заключал в сущности ничего важного. Но для людей, способных делать комментарии, он всё же имел значение какой-то тёмной улики.
«Я, Михей Ершов — писано от лица изветчика — объявляю: сего 1724 года апреля 26-го числа ночевал я у Ивана Иванова сына Суворова, и Иван между разговорами говорил мне, что когда сушили письма Видима Монса, тогда-де унёс Егор Михайлович из тех писем одно сильненькое, что и рта разинуть боятся. А товарищ Смирнов сказал на это — Егорка-де подцепил Монса на аркан».
— Только и всего? — пробежав очищенный извет, спросил Павел Иваныч Черкасова.
— А что же вам ещё?
— Да то, что здесь и прицепки нет!.. Кому есть дело, что Столетов подцепил Монса?..
— Да сильненькое-то письмо что значит?.. Монса и других спросить могут имеющие власть…
Ягужинский задумался. Как ни перебирал он, как ни переворачивал смысла приостановленного извета, ничего серьёзного, по его мнению, выжать прямо из этих слов нельзя было.
— Спросить, однако, поименованных троих можно же? — заметил Чернышёв.
— Я вам не помешаю… спрашивайте, коли можете… Я со своей стороны только не представляю ничего путного…
— Ты спросить и должен бы их, Павел Иваныч, как генерал-прокурор: только бы это не были работные люди при коронации.
— Они работные люди и есть… и теперь заняты… но никуда не отправятся…— ответил на слова Чернышёва Черкасов. — Я уже разведал… И работою заняты были не для коронации, ведь оба дворцовые мастеровые — Ершов и Суворов, обойщики.
Ягужинский стал ходить по комнате и потом спросил Черкасова:
— А извета у вас не хватятся… Можно с собой его взять?..
— Можно, на день-другой, пожалуй… только не больше… Алёшка хватиться может… Да на что вам подлинный?.. Ведь без подписи же он, все едино. А копия — вот… Я нарочно списал и в настольной прописал целиком; так что Алёшка хоша уничтожит… а примета останется… не бесследно пропадёт.
— Все равно; давай копию… Мне ведь для допроса только.
— Значит, решился испытать: что выйдет? — сказала Авдотья Ивановна.
Прошла неделя самых горячих приготовлений; наступил и четверг за неделю до Вознесенья[355] — день торжества, ни виданного ещё в России, Император Пётр торжественно возложил корону на главу своей второй супруги.
Описывать для читателей здесь пышность этого единственного в своём роде торжества мы не имеем надобности, но укажем только пару участвовавших в церемонии из дружеского кружка.
Авдотья Ивановна попала в третью пару замужних дам. Ей пришлось стоять в соборе на ступеньке трона, почти рядом с генерал-прокурором Ягужинским. Он был включён в отряд 68 кавалергардов и стоял в качестве капитан-поручика их с карабином в руке как охранитель тронной эстрады. Когда миропомазанная государыня вошла в Архангельский собор, из-за тесноты прохода кавалергарды и дамы должны были остановиться у дверей, снаружи. Увидя подле себя Ягужинского, Авдотья Ивановна уронила платок. Он и она вместе наклонились, поднимая его; и дама шёпотом спросила его:
— Ещё ничего?
— Нельзя раньше конца… Подождите немного.
Немногое это, однако, растянулось на две недели. В день царя Константина по повестке были вытребованы обойщики к генерал-прокурору.
— Ты подавал заявление о каких-то сомнительных для тебя словах своего товарища? — спросил Павел Иваныч первого Ершова.
— Какого, батюшка, товарища?
— Что Суворовым прозывается?
— Суворов — я, государь милостивый… Сомнительных слов я никаких с Михеем не говаривал.
— Насчёт Столетова, секретаря Монса, что украл письмо у него?
— Это я слышал, государь милостивый, и Михей также вместе со мной, от одного знакомца солдатика. А тот слышал от слуги Поспеловского, Мишки, а ему — хвалился сам будто Егор.
— Что ж это за письмо?
— Мы сами не знаем, а говорил тот солдат: «сильненькое» и вредное для барина того, что Монсом зовут.
— В чём же вред?
— Да боязно вымолвить, государь милостивый… Такая околесная говорена тут была, якобы от государыни переносит Монсовы письма неладные лакей — теперь камер-лакеем повышен при коронации — Балакирев Иван Алексеев… А Егора Столетова мы знаем тоже… Человек он вздорный и самохвал не последний… Как поразоврется, так то наврёт, что ему бы не у Монса служить, а в каторге места мало… Все его подкупают… всем он одолжает… дела большие делает и все может будто сделать, что захочет, через Монса… А тому государыня ни в чём отказать не может якобы… То, значит, врёт, что волос дыбом становится.
— А ты говорил, что Столетов всему запись ведёт, что творится у Монса преступного?..
— Преступного я не говаривал, а про запись говорил со слов того же солдата, что с прошлого года неведомо где… как подавал с Ершовым извет про слова пьяного Балакирева… во сне, может, булькал человек… что и Михей не упомнит… вот он сам вам сказать может…
— Ну, говори, не бойся… Мне должен все говорить. Я над судьями судьёй поставлен… Все, что знаешь про Монса!
— Я, государь, и от Егора Столетова слыхал… Как разоврется, баит много непутного… «Мне, — говорит, — Монцов сам теперь ничего не значит… Вся семья упрашивала, чтобы прогнал меня, да не смеет… Уж схватился письмеца и знает, что у меня оно…» Вот что… слыхал от его.
— Н-ну… Я вас теперь отпущу… Разведывайте дальше про Столетова, да про плутни Монсовы… да что узнаете про Ивана Балакирева, — мне скажите… Только, коли голова дорога и за спину боитесь за свою — не пикнуть никому, о чём и про что я вас спрашивал. Не думайте от меня скрыться и не старайтесь меня ни в чём обмануть или предать… Узнаю тотчас и — беда… Тогда не проси пощады… Знаешь запрет?.. Чтобы так все и умерло.
Вызван третий, отдельно.
— Тебя Смирновым зовут?
— Борис Смирнов.
— Ты говорил, что подцепил на аркане Монса Егорка Столетов?
— Повторял слышанное… государь милостивый, от Балакирева Ивана.
— Что ж он говорил ещё?..
— Да многое говорил… и про Столетова, и про Монса.
— Что ж про Монса?
— Да близок уж очень Балакирев к нему… потому-то…
— Почему же?
— Приятные письма носит от важной парсуны… Затем, говорит, и не женится, что нельзя… Я, признаться, после таких слов и случай нашёл про своё дельце попросить… Обещал сделать… все… потому, что может…
— Ну, а ещё что?..
— Да всего не упомнишь… Хаживал я не раз. О силе Монсовой завсегда говаривали, на свободе, во Монсовом доме… барина нет, а Балакирев всегда дома, коли не пьян.
— А когда пьян, тогда что?
— Тогда норовит куда ни есть скрыться… боится во хмелю разболтать лишнее… на три ключа запирается… и не найти его нигде, не достучаться… Может, греховным делом, коли бы пожар учинился, и сгореть…
Отпущен и этот — с тем же наказом.
Оставшись один, Павел Иваныч принялся писать все им услышанное от обойщиков. Все припомнил и внёс в записку, с именами говоривших и точными словами их.
Вечером в тот же день явился Ягужинский к Авдотье Ивановне и прочёл ей написанное утром.
— Распрекрасно… Вот-таки доехали парочку, — сказала она, выслушав чтение Павла Ивановича. — Как ты думаешь, если Самому подсунуть?
— Теперь?! Ничего… будь покойна… он чуть не бредит своей Катеринушкой… Не поверит… И она отопрётся, и тому беда, кто вздумает подсунуть… Нужно выждать время, когда проснётся в нём недоверчивость… когда прихворнется как-нибудь… злость нападёт… Исподволь… Смелого шута подпустить с загадками… выбравши удобное время, когда злость станет разбирать и ревность пробудится от двусмысленных намёков или полуслов загадочного смысла.
— Это уж мне предоставь, взъерошу я его как угодно!.. На стену полезет…
— Тогда умненько и отправить: в собственные руки… Может, как разберёт, и… подействует.
— Так я до времени у себя это хранить буду…
— Изволь, душа моя… Сказала ты, чтоб был гостинец приготовлен… вот я и постарался… Держи только ты обещанье теперь… смотри.
— Я ни в чём поперечки не сделаю, мой ангел, Павлушенька… На! Целуй!
И генеральша Чернышёва заплясала с бумагою в руке.
В Троицын день[356] увидел Макаров, отправляясь в подмосковную обедать, секретаря розыскных дел канцелярии, отвесившего ему издали нижайший поклон.
Алексей Васильич приветливо поклонился да и вспомнил, что давно спросить хотел. Он и подозвал его, махнув рукою.
— Честь твоя, государь милостивый, все ли в добром здравии обретается?.. Давно не имел радости лицезрением насладиться. Заезжал эт-то, перед коронацией, как повеленье получил извет поглаже сготовить — не улучил тебя… в конторке… Потом уже письменное получил требование от вас — и послал, а ответом, сударик, только не почтены мы. А в этом деле ответец ваш куда как нужен, для очистки. Я уж извет перевёл на нонешний, на апрель, и задору особенного, впрямь сказать, нет; все гладко… а все же что ни на есть черкните для очистки.
— Экой, братец ты мой, случай какой!.. — начиная беспокоиться от слов секретаря, молвил Алексей Васильич. — Не шути так со мной… Как ответ?.. Я не получал от вас ещё… Хотел спросить, почему не шлёте… нужное… Ужли я, не читавши, бросил в ящик к себе?.. Быть не может! Ведь куверт бы бросился в глаза… Печать ваша приметная…
— Может, за недосугом, Алексей Васильич, запамятовать изволили… Всяко бывает. Не замедлите же…— И секретарь удалился.
Макаров остался озадачен. Ему прямо пришёл на ум Черкасов и его капканцы. И вкусный обед — не в обед пошёл, и не усидел до вечера, как сперва думал. Ещё засветло прискакал к себе — и прямо в контору. Стучал-стучал, кругом обошёл — ни души. Праздник, известно, великий. Наутро Духов день[357] — опять праздник. Заперто. Нашёл сторожа. От шкафов ключей нет. Думал за Черкасовым послать — ещё хуже, явный повод ворогу дать почувствовать, что есть промах… А он может и не заприметить. Сердце заныло у дельца, и тоска напала; но скрепился. Обождал, никого не трогая, и этот праздничный день. Ходил только что твоя тёмная ночь; а ночью сна не было. Переждал до утра. Прибежал ранёхонько. Ворог уж тут. Почтение отдал, самое умилительное.
— Что поступило без меня? — спокойно спрашивает Макаров.
— Все, — говорит, — записано; извольте смотреть — вот бумаги; вот протокольная записка.
Пробегая её, натолкнулся как раз и на извет Алексей Васильич… видит — весь прописан, от слова до слова.
— Зачем же так… необычно… новые порядки заводишь?
— Я, — говорит, — подумал: этак скорее найдётся… неравно куда завалится бумага, по протокольной найти…
— Совсем мы так не делаем… Коему черту у нас воровать?.. Нас двое только и есть.
— Можно переписать протокольную… коли не любо так…— да и хихикнул таково ехидно.
Тут и понял Алексей Васильич, что ворог подцепил уже. Показал вид, что не замечает ничего. Кончил дело. Отобрал бумаги, что государю надо показать. Взял и извет туда вложил. Государя он не застал дома и отправился к Монсу.
— У меня домашний вор есть, — сказал он Вилиму Ивановичу после обычных приветствий, — и предателем, чего доброго, сделался. Все мне для улики ковыки подставляет. О вашем деле извет есть в розыскной. Сгладил секретарь вот как… но уж в руках у ворога был… как знать, что выйдет?.. Прочтите… надумайте, что ответить, коли спрос будет… Я дам резолюцию, что не стоит бредням значение придавать, а на всякий случай будьте осторожны… Егорке Столетову я тысячу раз говорил, что язык его погубит!.. Неймётся шельмецу… Его-то чего жалеть… Другим бы не досталось… Обыщи письма свои, Вилим Иваныч… Коли чего нет, так приструню я его… Отдаст; главное, знать бы верно?..
Монс переменился в лице. Просил не беспокоиться и, главное, не бояться так; покуда — пустяки.
— Я у себя припрячу лишнее… Да здесь ничего нет… все в Петербурге… Не надо только шуму поднимать.
Макаров согласился, что выжиданье в настоящем положении — самое лучшее. А Монс сам не утерпел, чтобы не сказать государыне.
Как выслушала она неожиданный доклад, так и грохнулась было, если бы не поддержал камергер да не подоспели прислужницы. К счастию, лекаря скоро нашли; кровь пустил он и в чувство привёл. Дали знать государю. Он не меньше, если не больше всех, поражён был внезапностью припадка и сильным потрясением организма только что коронованной подруги.
— Боже мой! Что-то будет с ней, бедной? — прослезясь, сказал государь, когда после нескольких слов с ним страдалица опять впала в слабость, похожую на дурноту.
Стоустая молва о болезни облетела в этот же день пировавшую ещё столицу. Авдотье Ивановне Чернышёвой в её убежище принёс весть о внезапном недуге государыни супруг.
— Пронюхали, значит, что шашни откроются! — не без злорадной улыбки заметила генеральша Чернышёва, выслушав от мужа поразившее всех известие.
Наступил октябрь месяц. Пётр I, недомогая в августе, весь почти сентябрь редко показывался, и то только на Неве, разъезжая в шлюпках под парусами. Но после сиденья в комнатах в усиленном тепле — для успешного леченья — стал государь чувствителен к холоду. Лихорадочное состояние почти не оставляло выздоравливавшего медленно государя; он сделался ещё более раздражительным и подозрительным. Окружавшие монарха поняли скоро, что остроты фигляров и шутников могут быть теперь особенно уместны для развлечения его величества. Вот и постарались на ассамблеях[358] устраивать шутовские дивертисменты, вроде разговора пары шутов, перекидывавшихся друг с другом остротами. На грубую соль этих острот обижаться не смел никто, и привыкли принимать их прогулки на свой счёт со смехом.
На другой день Скорбящей назначил государь крестины у Ягужинского и был сам восприемником. На такой радости много пили. Так показалось даже голштинским придворным, привыкшим к тост-коллегиям своего герцога[359]. Государыня, побыв после обеда у родильницы, скоро уехала; немногие дамы тоже за её величеством удалились, кроме кумы «бой-бабы Авдотьи», сделавшейся душою мужского пира. Она развернулась, что называется, ухарски; шутя, смеша всех и задирая своего царственного кума замысловатыми шутками. Среди них внезапно вошли в залу два матроса и попросили позволения повеселить гостей пляской «с разговорами».
Царственный кум милостивым манием руки разрешил весельчакам показывать свою умелость. Сперва принялись они плясать вприсядку с необыкновенною ловкостью.
— Молодцы! — крикнул развеселившийся государь. — Жаль, что одну эту пляшете…
— Мы и не это ещё спляшем, только бы приказали…
— А что же умеешь ещё? Пляши!.. Я приказываю… валяй, что знаешь!
Молодцы протанцевали менуэт парою. Тот матрос, что поприземистее, выделывал прекурьезные маханья, изображая даму. А другой, что повыше, разыграл в полном смысле драму любовных объяснений: вымаливание свиданья и за ним сближение двух любящих — ведя прямо aux derniers bonheurs[360].
— Что такое ты там затеял? — спросил мимика царственный кум.
— Камергерску повадку — силой заручаться…
— Я те заручусь… смотри у меня! — вполголоса произнёс сердито хозяин.
Мнимый матрос, наряжённый лицедей, подхватил свою даму в пляс и, вертясь в ускоренном темпе, будто не нарочно вылетел за дверь, треснувшись о притолоку, и, смешно кривляясь как бы от боли, ещё отпустил остроту, всех заставившую схватиться за бока. Он выговорил скороговоркою:
— Этак, пожалуй, не угощают и за услуги чужим жёнам…
Пока смеялись все этой выходке, плясуны ушли в переднюю и… совсем, за двери.
На тему шутовских острот плясунов принялась рассказывать смешные прибаутки разбитная кума. Она чуть не после каждой своей забористой штучки обращалась к начинавшему скучать царственному куму с вызовом:
— Да ты слушай, куманёк!
Наконец ему надоело, и государь с неудовольствием встал.
— Посиди ещё с нами… Чего спешишь?.. Али сам в мужья попал, так про бабьи увёртки не охоч слушать?
Пётр улыбнулся принуждённо, сделавшись ещё мрачнее.
Думали, что разгневала она государя; но он как ни в чём не бывало явился и в Прасковьин день к Ягужинскому на вечеринку. Даже очень приветливо ударил по плечу подскочившую куму-тараторку. Ей это показалось вызовом на новые выходки в том же роде, и опять гости принялись покатываться со смеху от прибауток бойкой Авдотьи Ивановны. К ней в этот раз пристала и матушка разбитная, «князь-игуменья петербургская», насосавшись «от гроздья» довольно изрядно.
Вдруг прибывшие новые гости сказали, что близко начинается пожар. Царь встал, взял с собою Ягужинского и не велел расходиться, обещая зайти поужинать вместе.
Авдотья Ивановна несколько было смутилась, но потом, уйдя на короткое время к хозяйке и выведя от неё Андрея Ивановича Ушакова, стала над ним потешаться. И он ей — чего не ожидали видавшие его обыкновенно угрюмым — наговорил много сальных прибауток. Пара эта даже не заметила прихода хозяина с державным кумом.
Вместе почти с ними вступил в комнату и рослый плотный молодец в высоком парике, одетый в камергерский кафтан только с тою разницею, что у него правая половина была надлежащего красного цвета с золотыми галунами, а левая — жёлтая с серебряными. Став посредине, он, умышленно коверкая произношение, заявил, что он иностранец, служит разом двум господам и приехал сюда научить русских людей глаза отводить.
— Таких, брат, проходимцев я не терплю! — ответил государь ему, при общем молчании. В это время вошёл камергер Монс.
Вот прямо к нему и подлетел ряженый, начав длинную рацею. В ней он себя рекомендовал в высокую протекцию великому господину «бригадирского чина» — заученными фразами из прикладов. Фразы только были подобраны так, что оканчивались созвучиями и пересыпаны были сальными остротами.
Во твою, господине, протекцию себя повергаю И такие же мощи, как ваша, желаю, Аз европейские штаты не без пользы проходил И плутовства всяческого штуки заучил: Спознал како высшие благостыни доступати, И за свой кредит магарыч великий имати, Кому её требует что, добыть ухитримся, Лишь достатками со просителем поделимся. Ему, Бог с им, половина да довлеет Зане силы и мощи нашея не имеет. Аз же еже день, в том и обращаюся, Кого бы исправный облупит хитряя стараюся. Ранги высшие доступити, коли хочеши, не постоим, Ради сим делом порадети, якобы своим, Только заплати убо нам, что пристойно; Да вознаградится труд наш предостойно. А мы имеем все ключи ото всяких дверей: В клети запертые входим, не трогавши верей; Случится валяться и на хозяйской постели, Когда хозяин бывает далече, на деле…— Мне-то что за дело до тебя!.. Отстань! Что ко мне пристал!.. Как будто я знаю твои мошенничества? — не без смятения вспылил Монс на дерзкого шарлатана.
— Ты-то?! — крикнул он ему вдруг каким-то особенным голосом и, захохотав ехидно, бросился бежать, будто за ним гнались.
Ловить его никто и не думал теперь, хотя всех поразила дерзкая выходка.
Пётр сидел, подперши руками голову, и о чём-то глубоко задумался.
Водворилось молчание. Уже при общем затишье монарх поднял глаза, осмотрелся вокруг и, видя, как садится на пустой стул Монс, ни к кому не обращаясь, проговорил:
— А!
Неприятное впечатление поспешила разогнать опять находчивая Авдотья Ивановна, громко спросив Андрея Иваныча Ушакова:
— А у вас таких штукарей не попадалось?
— Нет ещё, — ответил он будто спроста и продолжал рассказывать про старую свою службу: «как Митру брали».
Слово за слово, и опять под конец вечера забылось все, и один из немцев голштинских, прощаясь с знакомыми, сказал:
— Не правда ли, было очень весело?
— На последках, перед заговеньем, всегда больше веселятся, — ответил Ушаков за того, к кому обращена была речь.
Наутро государь уехал в Дубки, а по возвращении 2 ноября спасал матросов с разбитого бота и больше часа стоял в воде по пояс. Мокрый воротился монарх в оставленные Дубки, и всю ночь его била дрожь. К утру только согрелся он и заснул и, уже разнемогаясь, приехал в повозке в город. Отдохнув день, Пётр почувствовал себя лучше и вечером 5 ноября был в нескольких домах, но не подолгу. Въехав в Большую улицу, встретил государь всешутейшего с причтом, приумноженным новыми питухами.
— Куда плетётесь, отцы?
— На свадьбу хотим… к хлебнику… по соседству.
— И я бы с вами… только без канальских шуток!.. Прискучили разные пройдохи… Пить — так пейте, а языку воли не давать…
Вошли и сели за три стола.
Компанию угощать стали. Сам отвёл в сторону поднесённую ему водку и просидел так, да и не особенно долго.
В конторке у государя, теперь не так часто посещаемой, уже не дежурили денщики бессменно, а оставался на ночь один сторож, простоватый солдат Ширяев.
Старый, честный служака все ожидал себе письма с родины, сам не позаботившись написать своим: где он теперь. Да писал ли он со сдачи в рекруты — это тоже вопрос. Между тем частенько говаривал он то тому, то другому: «Вот авось, даст Бог, напишут мне мои-то. Не совсем же, прости Господи, меня оставили?»
5 ноября 1724 года, в четверг, в сумерки — только государь вышел со своего крылечка, а Ширяев запер за ним дверь — послышался несильный стук в эту дверь. Не торопясь Ширяев спустился и отворил.
— Вот тебе письмо от твоих! — скороговоркою сказал ему, подавая запечатанное письмо, новый какой-то рассыльный высокого роста. В епанчу от вьюги он так укрылся, что не только впотьмах подслеповатому Ширяеву, а и зрячему не рассмотреть бы днём подателя письма.
— Войди, голубчик, потолкуем… как там наши?.. Что они?
— Я не знаю… С почты я…
И сам зашагал прочь.
Обрадованный сторож поспешил разрезать бумажную обёртку с его именем. Разрезал, глядит, а там ещё куверт с надписью: «В собственные руки его императорского величества — нужное».
Обманутый в своих ожиданиях, старик только вздохнул да выговорил:
— Эк их угораздило!.. к царю донесенье, а надписывали на моё рабское имя.
Взял и бережно положил на стол к государю. Вечером, со свадьбы хлебника идя спать, завернул государь в конторку свою и, увидев на столе пакет с надписью «нужное», спросил:
— Откуда?
— С почты, — сказал рассыльный, — новые там все… на моё имя надписали, шутники… А я было обрадовался, разрезал обёртку да там вижу — вашему величеству!
Пётр разорвал обёртку и стал читать с очевидною поспешностью и недоверчивостью. Пробежал, крикнул сторожу:
— Зачем берёшь?.. Это письмо подмётное, которых я не велел принимать… Да, ладно… нужно вывести эти плутни… наговоры, будто бы шутками?.. Я отучу от таких шуток!..
И, положив письмо в ящик стола, ушёл спать. Утром работая в конторке, государь совсем забыл про вчерашнее, да пришёл Ушаков и, сделав свой доклад, повернулся, чтобы уйти.
— Ба! Вспомнил… Возьми и это с собой… Призови названных и допроси… Мне скажешь потом… В воскресенье, что ль?
И, отпустив его, сам пошёл в Адмиралтейство. Прямо от государя с полученным подмётным письмом поехал Ушаков к Ягужинскому.
Объяснив ему разговор свой с Петром, он заключил:
— Я уже разметил, о чём допрашивать и кого.
— Ладно… С маленьких начинай, да возьми в писцы Черкасова, Ивана; так все и найдёшь… Да засядь в кабинет… в дальнем.
— Не учи… Сами знаем: как прихватить и кого… Соседа твоего хочется зацепить как-нибудь!
— Нет… дальше куплементов у него с Монсом не доходило… Не трудись напрасно… Вместо него на главных напирай.
— Знаю, знаю… Не советов просить заехал… а по дружбе… рука руку моет.
— Да неужели я не умею ценить твоей дружбы, Андрей Иваныч!.. Ты, как вижу, обижаешься с чего-то на меня?
— Я-то! Полно, Павел Иваныч… доказательство представить могу несомненное, что дружбы твоей ни на что не меняю… Не буду и пускаться следов искать, откуда залетело.
— Да к чему же? Ведь ты уверен: кто подал, тот — скрылся.
— То-то! Знай, что Андрей — не собака…— осклабившись, ответил Ушаков.
Расцеловались, и гость уехал.
Его сменила Авдотья Ивановна.
— Знаешь, кто был? — спросил её Павел Иванович.
— Видела. Кажись, Андрей.
— А он тебя?
— Не видел, я думаю… Я по кучеру его признала, сзади.
— Намекнул, что не будет допытываться, кто подал.
— Да уж его нет… Алёха сослужил полную службу своему ворогу.
— И… ты думаешь — не увернётся?..
— Тот-то?.. Как сказать?! Понял я — на Алексашку Меншикова намерен навесть подозрение… то есть упирать на одно хапанье общее… Поверь мне, её выгородить.
— Тогда всем скверно…
— Ни то, ни се, я тебе скажу.
— Что ж пользы, что красавец улетит соболей ловить?
— С ним коротка расплата, прямо по уложенью и новоуказным статьям… а дальше чтобы пошло, сомневаюсь.
И он был прав.
Призвал Ушаков Суворова да Смирнова с Михеем. Переспросил. То самое показали. Он дальше и не допытывался. В субботу никуда ни ногой: сидел взаперти и Самому не попадался.
За обедней в Михайлов день[361] подошёл к государю с насупленным лбом.
— Ну, что? Вздорные слова, не больше?
— Побольше, государь… Мошенничество явное, и приличился слуга государынин, показывают… юрок. Можете его сами спросить: я велел его привести.
— Хорошо… вечером… буду в застенке…
Андрей Иваныч пошёл в крепость, посмотрел на ожидавших со страхом допроса с пристрастием и, взяв Балакирева одного, запер за собою дверь и сказал ему полугрозно, полушутливо:
— Видишь… теперь не до шуток до твоих… Придётся шкурой отвечать: что за сильненькие письма перенашивал от Монса и к Монсу? Коли умён будешь… хочешь большего зла избыть… говори все, что знаешь про плутни Монсовы, и отпирайся насчёт сбреха дурацкого: зачем Монс не женится?.. А Сам коли сильно пристанет, скажи, что у него баб — хошь пруд пруди… «К чему тогда жениться!» — говорил, скажи. И то не вдруг. Делать нечего, повисишь немного… велю не сильно вытягивать… А коли впрямь все выболтаешь, не дыбой придётся разделываться… так и знай, на себя тогда пеняй.
— Слушаю, — трепеща, выговорил Балакирев.
— Будь покоен; лишнего тебя терпеть не заставлю… а не вздёрнуть — нельзя… сам увидишь… его уж расшевелили добрые люди достаточно… Да не робей… не теряй головы… Все от тебя да от стойкости твоей будет зависеть… Для того я по душе и говорю теперь… не запугиваю; больше ты вычитывай приносителей; можешь и князя помянуть, островского[362]… понимаешь — не будет худа тебе…
Дав ещё несколько советов в этом роде, Ушаков вывел его и взял с собою, наедине беседовать, Суворова…
Вышли они с ним уже при Черкасове, пришедшем, пообедавши, не торопясь записывать.
Черкасов был иначе, чем сам следователь, расположен к Балакиреву; он не любил его и раньше, а теперь злобно смотрел на него и ругался.
Смерклось. Зажгли огонь. Два заплечных мастера явились, и государь пришёл.
— Как ты сюда попал? — грозно государь спросил Ивана Балакирева.
— Грех меня попутал… приставлен к Монсу и сделался участником в его делах…
— А какие дела его, — ты скажешь?
— Такие, что и мне, как его стряпчему, знаю, беда должна быть… И не оправдываюсь я, великий государь… чувствую своё преступление перед тобою… помню милости все, и совесть давно уже мне не даёт покоя… Я заслужил казнь… и не стану оправдывать себя неведением… Раз принуждён; потом — сам делал… не отказываясь… Спервоначалу просил сжалиться надо мною… взять к себе… освободить от тяжкой службы на женской половине… Такова, видно, моя доля горькая!..
— Не доля тут виновата, а ты сам… За сознанье собственное убавлю наказание, а простить, коли сам ты знаешь, что виновен… правда недозволяет. Запиши, Черкасов, его признание. В чём же ты больше всего предо мною проступился? Обманывал ты меня? — и сам устремил на виноватого тот самый в глубь души проникавший взгляд, от которого забила лихорадка Ивана от необходимости солгать.
С дрожаньем в голосе Балакирев теперь признался:
— Виноват!
Петру припомнился случай внезапной болезни слуги, и он, вперив в кающегося взор свой, сказал:
— Говори же искренно теперь: когда я, помнишь, тебя встретил у своих дверей и сказал ты, что к Монсу посылали, — ты нёс от него?
— Нёс.
Ушаков нажал незаметно ногою своею ногу бросившегося на колени перед государем Балакирева.
— Что? — задал вопрос Пётр и сам наклонился к готовому отвечать.
— Цидулу от Монса…
Ушаков ещё сильнее нажал ногу говорившего.
— Какую цидулу?.. к кому?
— Монсову цидулу к… Павлову, с требованьем денег.
— И не другую цидулу ты нёс? Не к тому, кто посылал тебя?-спросил государь.
Нога Ушакова опять нажала ногу Балакирева.
— Нет! — твёрдо оветил виноватый.
— Из-за чего же ты так перепугался?.. Ведь теперь я уверен, что дрожь с тобой была от испуга, не от болезни.
— От испуга, что отважился обмануть тебя, государь, памятуя твои милости… но я не смел ослушаться и командира, когда велел он отдать Павлову…
— Какой это Павлов?
— Паж бывший.
— Ну… коли сам сознался, что обманул меня, и совесть мучила — получишь шестьдесят палок… на исправленье… Смягчится всё-таки наказание… А что же ты, смеясь, говорил — как показывают изветчики — Монсу незачем жениться… у него есть… Кто есть? И в каком смысле это говорено?
— С дурости, государь… получал я для передачи Монсу от многих дамских персон цидулы надушеные и врал не знаемо что…
— Врёшь… Ты вовсе не дурак, чтобы сказал ни с того ни с сего…
— Истинно, государь… с дурости!
Ушаков взял за руку Балакирева и подвёл к дыбе, шепнув: «Не бойся — не очень больно будет!»
Балакирев сам разделся и протянул руки в ремни. Заплечные мастера ловко продели в хомут обе кисти, но кожу так приладили, что нажима сильного не было. Блок завизжал и поднял беднягу на четверть аршина от полу.
— Не хотел сразу говорить… повисишь да скажешь правду!
— Государь! — со стоном при ударе крикнул допрашиваемый. — Я с дурости говорил, потому что красавицы сами приходили и звать засылали… к себе его!
Палач незаметно подставил под ноги висевшему полено для опоры, когда государь, поворотясь спиной, пошёл в заднюю комнату с Ушаковым.
Из задней крикнул Пётр:
— Говори же правду! Бей!
Удар палача дан был о перекладину, а Балакирев закричал, что другого не может припомнить. Таких ударов по перекладине дано ещё четыре, и висенье продолжалось минут с пять, пока последовал приказ Ушакова: «Спусти — оденьте его!»
Переспрос Суворова, Ершова, Смирнова и Столетова не прибавил новых фактов к следствию, кроме ссылки на Поспелова.
— Одного остаётся взять, — сказал Ушаков, когда государь уходил.
— Возьми… Только ночью… без огласки.
— Слушаю-с! — с поклоном ответил Ушаков. Пётр пошёл из крепости к Поспелову. Оттуда государь воротился только в девять часов вечера. У себя он нашёл в общей зале государыню с детьми; дамы сидели тут же и слушали рассказы камергера Монса, в этот вечер особенно бывшего в ударе. Он не успевал договорить одного интересного анекдота, как, по просьбе продолжать, начинал новый, ещё занимательнее. С каждым новым анекдотом рассказчик выказывал больше остроумия и находчивости. Государь присел в сторонке, ответив милостиво на вежливый поклон рассказчика, и с улыбкою выслушал ещё три пикантных анекдота, возбудивших общий непринуждённый смех.
Услышав конец повествования, государь спросил:
— Который час?
— Десятый…
— Пусть дадут ужинать.
Подали ужин, и рассказчик разделил его с царскою семьёю, перебрасываясь шутливыми словами с его величеством, не выходившим из-за стола после кушанья несколько дольше обычного.
— Ну, теперь пора спать! — вставая, сказал Пётр и направился в свою конторку, как обыкновенно делал он перед сном.
Камергер, раскланявшись, отправился тоже к себе. Разделся. Набросил на плечи свою красную шубку, заменявшую халат, и закурил трубку.
Вдруг — стукнули в ворота. Кто-то вошёл на крыльцо, и шаги его раздались по жилищу камергера.
Вошёл в полной форме и с нарвским знаком[363], в шарфе генерал-майор Ушаков.
— Я за тобой, Вилим Иваныч… Вот приказ взять тебя…
Камергер побледнел, но, не возражая, поднялся с места и хотел одеваться.
— Ты в этом ночь можешь пробыть; завтра принесут, во что одеться…
— Да куда ты возьмёшь меня… чрез Неву?
— Нет ещё… у себя в доме посажу.
— А ответишь, если спрошу, за что?
— Почему не так… Донос подан на Балакирева, что переносит…
— Понимаю… что ж он: струсил и всех предал?..
— Никого… да о других не заботься… лучше тебя укроют… Прямо мне только передай, что может после попасть и… не в мои руки…
Монс молча показал на стол. Из него Ушаков вынул пачку цидул: десятка полтора всего. Пересчитал вслух и положил в карман.
Монс оделся и, не сказав больше ни слова, молча подал Ушакову шпагу и пистолеты.
Набросив шубу на плечи, Монс остановился в светлице своей и дал ключ от двери спальной-кабинета.
Ключом этим Ушаков запер дверь и припечатал своею печатью.
Затем они вышли вместе с пленником. Его провёл к себе Ушаков, всего чрез три дома, по Большой улице. Ввёл в заднюю комнату; указал на диван… Велел подать на стол свечу, со съёмцами[364], отвесил поклон, вышел и запер за собою дверь на ключ.
Монс погрузился в мрачное раздумье, наклонив голову.
Долго ли сидел он так, не знал: ему было не до того, чтобы считать время. Вдруг голос: «И ты тут!» — заставил привскочить камергера. Он, вытянувшись, поднял голову.
Ему прямо в глаза смотрел гневный государь, и взгляд его был до того грозен, что Монс почувствовал словно дрожь в сердце. Он представил себе, что этот гнев возбуждён предательством. Ушакова, передавшего чужие цидулы из стола.
Пленник зашатался и без чувств упал на руки вошедшего с Петром Ушакова. Двухчасовой обморок едва перервали усердные усилия призванных врачей. Приведя Монса в чувство, они удалились на время, чтобы приготовить бинты и прочее к открытию крови, боясь нового сильного прилива к мозгу.
— Предатель! — прошептал слабым голосом Монс. — Я думал, что ты человек с совестью… Не меня погубил ты!.. Я о себе не забочусь и не прошу пощады…
— Вот твои письма, — отвечал Ушаков, оставшийся при Монсе после ухода Петра, — они все… считай сам. — Одушевлённый мгновенно вспыхнувшею жизнию, Монс схватил цидулы, пересчитал и хотел съесть.
— Легче и скорее можно уничтожить… Я нарочно велел печку затопить… Бросай сам и будь покоен.
— Виноват… Умру теперь спокойно, — сказал Монс и бросил в яркий огонь цидулы, мгновенно вспыхнувшие.
— То-то и есть: молодо ещё — зелено! Мы, старики, так скоро головы не теряем. Тебя и сестру твою обделаю на илучшим образом… до последней взяточки покажем. А о том… нишкни… все гладко и чисто… Не тот, говорю, предатель будет у меня, кого вздёргивали, а тот, что турусы на колёсах подпускал!.. Пророков да лицедеев подсылывал…
Вошли подлекаря и стали обнажать руку Монса. Он не противился. Крови пустили фунта два и тогда уже завязали руку.
Переговорив затем с пленником своим один на один, Андрей Иваныч Ушаков оставил его, велев приготовиться ехать в кабинет, где государь уже принялся перебирать бумаги.
Разбор продолжался во весь день. Целые ворохи памяток лежали уже перед Петром, перечитанные и помеченные им. Вот и истощился запас. Перед великим Петром развернулась целая сеть утончённых плутней, подкупов, взяток, хапанья и требований в счёт будущих благ, чтобы замолвить слово или направить к успеху проигрываемое дело.
Стало смеркаться, когда отправился обедать царь-работник, проникший в тайник более всего ненавистного ему взяточничества. Преступления несомненные и Монса, и сестры его старшей были ясны как день.
Уходя, царь велел привести в кабинет виноватого камергера, одного, для личного допроса.
Утомлённый испытанными треволнениями и ослабленный потерею крови, Монс в ожидании прихода государя заснул. Пётр, войдя в кабинет и найдя виноватого спящим так спокойно, долго наблюдал выражение лица его. Оно было совершенно бесстрастно — сон крепкий и ровный.
— По сну судя, будто и правый, — наконец возвысив голос, сказал государь, и Монс, разбуженный громкими звуками, открыл глаза.
— Нет, государь, я оправдывать себя не хочу… Участь свою знаю и о смягчении кары законной не прошу…
— Да оно и не может быть к тебе применимо, — с горечью в голосе сказал Пётр, ударив по вороху бумаг, — приготовься!.. Я и допрашивать сам не стану… Знай, что пощады не будет…
Встал и вышел.
Глава VII. ДЕЛО ПО ДЕЛУ — СУД ПО ФОРМЕ
Монс был арестован в воскресенье же вечером, а на половине государыни об аресте его узнали только в понедельник.
Хитрый Лакоста, сообщивший все сведения чернышевскому кружку, знал о допросе Балакирева и о скором аресте Монса ещё в воскресенье скорее всего от Ушакова, для которого тоже шпионил. В понедельник ходил он чуть не на цыпочках и, выждав, когда государыня выслала женщину свою посмотреть, пришёл ли камер-лакей, процедил сквозь зубы:
— Он ни пудит… зассатили…
— Кого засадили?
— Ив-ван-на…
— Кто смел?.. Ведь он государынин слуга.
— Кассутарь прикхозсаль всять.
— Что ты такое мелешь, дурак?! Как Ивана государь взять приказал… матушку не спросимшись…
— Мн-ни тде-ля нне-т… та ввас… Ни вверьти…— и он забарабанил по стёклам пальцами своей высохшей руки.
Женщина посмотрела с удивлением на шута и сказала Ильиничне, что Ивана нет, а шут что-то бормочет: куда-то взяли его.
— Вот ещё новости! Взяли… Коли знает шут, где человек государыни… пусть сходит за ним.
Женщина вышла и пересказала, прибавив:
— Ведь лошади скоро потребуются… Государыня почти одета.
— Я… схасшу на конушна… зам. Кароссу привидут…
И сам действительно ушёл, окончательно озадачив прислужницу. Она только руками развела.
В это время по двору на кабинетское крыльцо прибежал Макаров и через минуту вылетел оттуда словно обожжённый. Постоял он с минуту на дворе и ловко проскользнул на государынино крылечко.
Появление его и в необычную пору ещё больше озадачило стоявшую на том же месте женщину.
— Здесь княжна Марья Федоровна?
— Кажись, ночевала у нас… здеся.
— Вызови её сюда на пару слов.
— Нельзя, может, родимый… с государыней она едет.
— Скажи, что зовёт её Макаров; и очень нужно, — прибавил он, налегая на последнее слово.
Посланная пошла к Ильиничне и сказала, кто пришёл и требует княжну Марью. Макарова женщина знала и назвала без ошибки.
Ильинична, несколько встревоженная словами шута, ей переданными, шепнула осторожно княжне, что Макаров её ждёт и ему нужно неотменно, говорит, сейчас её видеть.
— Государыня… Алексей Васильевич зачем-то пришёл и меня требует.
— Позовите его сюда… что такое там за нужда?
Позвали.
Он сильно встревожен и не знает, с чего начать.
— Что там у вас? — вполголоса спрашивает княжна.
— Не ладно!.. Государь в конторке запершись; и сторож говорит: принесли из дома камергера два мешка писем разных.
— От камергера? Да он-то где сам?
— Надо разузнать, княжна, осторожно… Ты бы, матушка, потрудилась… к Ушаковым скатала… а я… к светлейшему поскачу.
— О чём вы там переговариваете? — спросила государыня, до слуха которой долетели слова «письма… государь… от камергера».
Марья Федоровна сказала на ухо государыне, и её величество ушла к себе… Только и видел её Макаров.
Тем временем прибежал шут и, запыхавшись, сказал Ильиничне:
— Лосшадти стес… Иван пот арест, Летна творетц… пот караул… И хер Монс увветен ис тома каспаттин енераль, пез спаг…
Макаров это услышал и бросился стремглав к своим саням и, забыв всякую осторожность, помчался к светлейшему.
Данилыч был очень поражён, но только на несколько минут.
Он забегал взад и вперёд, обдумывая, какие принять меры. Вот скоро ему пришла мысль, очевидно верная. Остановясь вдруг перед Макаровым, он пробормотал:
— Тут одни Монсовы шашни, должно быть, раскрылись… Нам с тобой покуда нечего трусить… держи знай ухо востро да сбудь с рук Ваньку-грубияна, он…
— Знаю сам, что предатель… да не в силах я его сковырнуть… поддерживает Ягужинский, и на мои оговорки Сам сказал, что Черкасов у него слуга не другому кому чета. Ясно, на мой счёт… И теперь ворог — запершись с государем в кабинете моем… Вот ведь что… Извет московский был у него в лапах… это верно!
Светлейший опять заходил быстрее обыкновенного; но после первых кругов шаг его стал медленнее и медленнее. Он со всех сторон разбирал настоящее положение, давно привыкнув чутко хватать на лету самые случайные слова.
Припоминая такие приметы да намёки, не раз светлейший угадывал истину, как и теперь. Вот он опять остановился и медленно высказал:
— Главную опору нашу… не так легко опрокинуть. Девятнадцать лет привычки — много у него значит… И самое худшее буде… не дай Бог, случится… Теперь не так примется, как семь лет назад… Он — не тот… Она — нужна ему… Свадьба затеяна и… удалить… да не теперь… а время… Время все переменяет!
Пока рассуждал Макаров с князем, его позвали вверх. Там ждала княжна Марья Федоровна, отобедавшая у Ушаковых и видевшая Андрея, который ничего не сказал ей, но, оставшись с ней вдвоём, взглянул на неё, словно привлекал её внимание, да взял растопку и бросил в печку.
— И что ж?..
— Так хорошо и дружно занялась… в жар в самый попала.
— Ну, ладно! — решил князь. — Пойду Алёшку обрадую… а то он близок к умозамешанью… Скажи, княжна, государыне, — прибавил светлейший на прощанье, — чтобы вид весёлый имела… Там обделано… Ничего нет и… не найдут… Уж и дымок прошёл.
И сам весело перевернулся на одной ноге.
Всё было выполнено буквально.
Было уже совсем темно и подан огонь, когда мрачный Пётр пришёл за стол к супруге, окинув её самым ярым взглядом, многих приводившим в трепет. Он не заметил никакого волнения в лице своей кроткой, выносливой спутницы походов. Она совершенно наивно спросила монарха: здоров ли он? Ответа не последовало, но видно было, что у великого человека в душе происходила страшная борьба подозрения с рассудком. И хотя рассудительность и благоразумие должны были победить мучительную подозрительность пылкого гения, но много ещё нужно было времени, чтобы привести в прежний порядок его привычки и привязанности. Допрос Монса не произвёл поворота к террору; арестованы были только непосредственные пособники открытых нечистых деяний.
Во всех домах шли расспросы: «Кого взяли?» Отвечали: «Не знаю», или называли наугад двух-трех лиц, или путали по незнанию фамилии, что ввергало вопрошавших в беспокойство. Голштинцы утром в понедельник узнали громовую весть об аресте Монса, которому не так ещё давно герцог послал табакерку. В доме герцога провели весь день в страхе. К крыльцу не подъезжал никто. Это неспроста же?
На другой день довольно рано явился к герцогу Остерман[365] и обнадёжил его по секрету, что он будет неотменно обручён недели через две. Стало быть, и без Монса дело устроится? Жених повеселел, и ментор его Бассевич[366] подтвердил с другой стороны полученное о том же удостоверение. Бассевича одновременно с Остерманом навестил генерал-прокурор и без обиняков сказал, что дальних розысков не будет.
— Балки — сын да мать, но не отец — поплатятся чем-нибудь за близость да общее плутовство, — сказал он. — Других не тронут. Оговорившим достанется само собою, — за неуменье взяться за донос, коли решились губить взяточника. Оговорённым — тоже, по винам их, наказанье. А подкупателей — немногих заденут… Вот Якова Павлова посадили; разжалуют… А в сущности… все пустяки и дурачество…
— Ну, а Монса-то? Его-то что?
— Н-ну… его… вздёрнут, по уложенью… Нахапал столько, что по новоуказанным статьям — смерть… Он и не запирался, да и запираться не мог, когда у Самого все грамотки на глазах были и на всех пометы… Целый понедельник недаром рылся один.
Бассевич вздохнул: ему показалась обидна — для немца, хотя и недворянина — холопская казнь.
— Хоть бы голову отрубили! — выговорил он.
Ягужинский захохотал.
— Эту милость можно оказать, — сказал он.
Простенький голштинец камер-юнкер Геклау, несмотря на унылость, распространившуюся в свите герцога с утра понедельника, не утерпел, чтобы не зайти к камраду, флотскому командиру Мартыну Гослеру, на именины — во вторник вечером. Там оказалось большое сходбище. Три раза пропели в память благодетеля Мартына Лютера[367] его канту о питьё. В конце пения послышался Геклау знакомый бас государя. Когда встали после пения для чоканья, действительно государь оказался в компании. И развесёлый такой, что любо.
И с Геклау изволил чокаться.
Два дня ещё прошли в страхе, хотя уже меньшем, чем в предшествовавшие.
В пятницу утром больную Матрёну Ивановну Балк, старшую сестру Вилима Ивановича Монса, привёз Андрей Иваныч Ушаков из её дома в свой и посадил в ту горницу, где провёл эти дни брат её, перевезённый теперь в крепость.
Домашний арест объявлен был теперь и старшему сыну генеральши Балк, камер-юнкеру Петру Фёдоровичу Балку. А с полдня стали полицейские солдаты прибивать на углах улиц печатные объявления, читанные народу с барабанным боем, что «генеральша Балк, её сын и брат камергер Монс посажены за взятки. И всякий, кто давал им, являлся бы сам добровольно с заявлением: за что и сколько дано. Без того, буде найдутся в бумагах имя и взятка, за то с не заявлявшего взыскано будет в казну вдвое».
Начались толки, а страх как рукой сняло у всех опасавшихся.
Началась работа Черкасова. Он весь день в пятницу и всю ночь на субботу не спал, записывая одни показания Матрёны Ивановны Балк: что и от кого она получала.
— Вот бездельнику Ваньке и закуска… Чтобы не совался не в своё дело: плеть обуха не перешибёт… И работай даром… Ведь награды при таких случаях не бывает, — передавал Макаров княжне Марье Федоровне Вяземской, не ездившей во дворец с понедельника и во все эти дни тоже чувствовавшей себя не совсем здоровою.
Предупредительный Алексей Васильич, нарочно посетивший больную, сказал ей это, чтобы её совсем успокоить.
И все вышло вполне справедливо.
В субботу съехались выбранные самим государем восемь судей: пять Иванов, Александр, Яков да Семён[368] с докладчиком, разумеется, лучше всех знавшим дело, Андреем Ушаковым. Он доложил дело так ясно и чисто — вывел статьи и привёл даже решение государя о Балакиреве, — что, выслушав доклад, оставалось только судьям подписать фамилию. Объявление решения суда сделано в воскресенье после обедни, с барабанным же боем. А затем началась стройка эшафота.
К Монсу — приготовлять его к смерти — явился, по призыву начальства, пастор Нацциус.
Он застал бывшего камергера за чтением его настольной немецкой Библии, совсем готовым к переходу в лучший мир.
Покаяние было полное и искреннее. Каявшийся просил молитв духовника о своих бесчисленных согрешениях, не ища извинений ни одному падению.
— Прощение возможно, если ты, сын мой, искренне примирился в совести со всеми, тем паче оказавшими тебе по человечеству, может быть, и зло… не зная, что их дело было только побуждением греховной воли… Но самое зло попускается для нашего же вразумления по неисповедимым судьбам Промысла.
— Я простил давно тем, которые устраивали мне погибель умышленно. В то же время я убедился в содействии и поддержке тех, на кого меньше всего рассчитывал…
— На все воля Божия… Да будет милосерд к тебе пострадавший за нас, и за временное страдание да изгладит прегрешения, в них же принёс покаяние…
Затем, когда уходил, Монс просил его принять на память перстень, снятый им с руки своей.
— Может быть… как знать… в иные времена он вам и пригодится, — сказал он. — Если государыня императрица, увидав перстень на вашей руке, спросит вас, как он вам достался, — скажите, что дал его я вам, считая вас лучшим и последним моим другом на земле…
Они расстались при обещании Нацциуса прийти проводить его к казни.
Не угодно ли быть свидетелями сцены, во всём противоположной — и по побуждениям, и по чувствам.
Написав последнее — приговоры, Черкасов окончил занятия по процессу Монса в субботу. Утомлённый, почти голодавший второй день, он решил, что до дому далеко, а Чернышёвы под боком… как раз у них и обед об эту пору.
Вошёл и не ошибся. Действительно обедают.
При виде делопроизводителя генерал велел денщику поставить стул для гостя между своим и жениным да подавать скорее и сначала.
— Вот это… очень кстати… щи мои любимые, — чуть не вырывая из рук денщика тарелку, проговорил Черкасов, прибавив поговорку: «ради щей люди женятся, от добрых жён — постригаются»…
— Случается, что и добрые мужья наших сестёр постригают… не правда ли, Павел Иваныч?
— Правда, правда, Авдотья Ивановна; только Грозный не одну свою жену постриг[369], а в наши времена и одной довольно в монахинях…
— Ещё бы не довольно, коли судья и допросчик воров одной с ними шайки вор, Андрюшка-то?.. Спины, вишь, верных слуг жалеет… и вздёргивать коли велит — плашку подбросят, чтобы не висел, сердечный… да от боли бы не выбрехал лишнего…
— Кого же это он так… помирволил?..
— Ваньку Балакирева, известно, главную струну во всей в этой музыке… Я было заговорил, и то наедине: как, мол, это он… Так что бы вы думали? Мне же и досталось… врёшь, говорит… пошёл вон совсем, коли таки измышленья затеваешь… Нужно допытаться про тебя-то самого: с чьего поученья это самое загородил… Верите ли, страх — не лицемерно говорю — пронял меня… Ведь кнутобой известный, рази есть у него совесть?
— И этак даже!.. То-то на левой-то половине и в уссловно не дуют, что дружку карачун[370] давать хотят…
— Правда ли, слыхала я, — перервала Авдотья Ивановна, — что она просила за слугу верного: нельзя ли помирволить?
— Кого просила?
— Известно, Самого! Говорили так у Марьи Дмитревны сего утра при мне верные люди. Я там была и сама расспрашивала, прикинувшись, разумеется, сожалеющею о красавце таком.
— Дальше-то что… за упросом-то?
— Ничего, говорят; сказал, что простить не может, потому что преступник и не просит пощады.
— Это точно, правда… Сидит, словно не его плутни мы разыскиваем, и спокойно на спросы все говорит: столько-то взял, да мало… не то бы нужно…
— Ну, не привирай лишнего, Иван Антоныч. Все мы Монса сами знаем, — вступился Ягужинский. — Таить ему теперь незачем; а хвалиться взятками, как какой-нибудь Егорка, — он настолько умён, что не станет.
— Ну, не так, а вроде того говорил, — изворачиваясь, поправился подцепленный Черкасов. — Да дело не в том, хотел сказать я, а в том, что спокоен он, как бы не его башку палачу рубить придётся.
— Кремень, больше ничего, — решил Чернышёв. — Может, как говоришь, Андрей главное закрыл; Вилим видит, что его участь решена, а тех не тронут… и спокоен потому.
— А те-то спокойны ли? — не без ехидства, с особенным оживлением выговорила Авдотья Ивановна. — Коли впрямь так крепки, не мешало бы опыт сделать ещё один… Вот что мне в голову пришло… Шеину княжне Марье Дмитревне, чтобы она при случае кстати ввернула намёк— показать друга любезного голубке да и посмотреть, что она тогда?
Блистательную свою, истинно женскую, хитрую придумку Авдотья Ивановна покрыла хихиканьем, от которого почему-то дрожь пробежала по коже и у Ягужинского.
— К чему это? — едва ли оценив всю силу ядовитой выдумки супруги, выговорил Чернышёв. Черкасов только взглянул на Ягужинского, хранившего молчание.
Затем разговор зашёл о вкладчиках в казну Монса и генеральши Балк.
— И мой братец Васенька этой стерве поклонился ста рублями, как вели мы тяжбу с Хованскими из-за бабушкиных деревень. Говорит, будто принос подействовал, а я думаю, нельзя было наше неотъемлемое отнять чужому роду, потому что у бабушки вотчины были материны, а Хованская, племянница от брата, могла только в отцовском наследованье участницей быть…
— Да что говорить о шурине нам, — молвил сдержанный Чернышёв, — коли жид Головкин[371] канцлером служит, а комендантше Эльбингской двадцать возов сенца уделил.
Собеседники все захохотали. Денщик подал генералу пакет. Чернышёв поспешил распечатать и пробежать содержавшееся в нём.
— Эки бездельники! — вскрикнул он, дочитавши. — Теперь, когда нужды нет, — выпустили солдата московского! Уведомляют меня на прошлогодний спрос — что принят на старое место.
В понедельник, 16 ноября 1724 года, ещё до света был готов эшафот — обширная дощатая платформа на брусьях, на полтора аршина выше Троицкой площади.
Посредине этой обширной платформы, прямо против среднего окна ревизион-коллегии, поднимались две рели с перекладиной; только вместо верёвки над срединою виселицы торчала острая спица — для головы казнённого. Подле релей был столб с крышечкой, под которою повешен был колокол. Звоном в колокол обозначаться должно чтение приговора, а потом — выполнение казни. Подле столба с колоколом под крышечку становился сенатский секретарь — читать приговор. Между столбами релей и местом секретаря, поднятым на одну ступень, стояла широкая плаха с приступком, на которую становился на коленях преступник для получения смертного удара. За плахою стояла кобыла — наискось спускавшаяся стойка, к голове выше — для сеченья кнутом.
Кончилась поздняя обедня у Троицы — в ту пору, по-старинному, в десять часов утра, и из крепостных Ворот, украшенных резною фигурою апостола Петра, показался строй солдат, идущих к мосту на площадь. Народ по вчерашнему объявлению уже собрался и ждал кровавого зрелища.
За строем, несколько отступя, под конвоем солдат с обнажёнными тесаками вели к наказанию обвинённых.
Первым шёл с непокрытою головою в красной домашней шубке своей камергер Монс; подле него пастор Нацциус в своём официальном облачении: чёрной широкорукавной рясе, в парике и с Монсовым Евангелием в руке. Евангелие бывший камергер читал до самого ведения на казнь.
Красавец был бледен, но совершенно спокоен. Рассказывали, что он только растрогался, когда на крыльце — по выводе его из комендантского дома, где его содержали с середы, — бросились с громким воплем с ним прощаться слуги его все в слезах.
За братом шла исхудавшая, бледная как смерть генеральша Матрёна Ивановна Балк. Руки её были связаны, и на плечи, сверх зелёного шёлкового платья, накинута была чёрная епанечка на меху с капюшоном, покрывавшим голову.
Поодаль от неё шёл, едва двигаясь от страха, совершенно упавший духом Егор Михайлович Столетов. В потухших глазах его, казалось, не было признака жизни; он походил на старика, хотя ему было не больше как под сорок лет.
Жёлтая кожа на лице вся была в морщинах.
Почти в паре с ним шёл совершенно спокойно молодой красавец Балакирев. Он плакал, и лицо его выражало сильную растроганность; но ни страха, ни боязни предстоящей боли ни один искусный физиономист не открыл бы в лице его. Он горевал не о себе, а о Даше и бабушке.
Обвинённых взвели на эшафот, и вокруг него построились в линию солдаты крепостного гарнизона.
Началось чтение приговора подьячим тайной розыскных дел канцелярии — вместо секретаря Черкасова, отговорившегося болезнию.
Первая статья о винах Монса была очень длинная. Осуждённый слушал свой приговор, смотря в пол и, должно быть, читая про себя молитву.
Когда прочли ему приговор, он обернулся, стоя у плахи, к зданию Сената и поклонился.
Говорили, будто бы в ревизион-коллегии был государь; но это неправда. Поклонившись, бывший камергер взглядом простился с поднявшимся на эшафот пастором Нацциусом. Стал на колени, обнажил шею и лёг головою на плаху. Раздался удар в колокол. Топор поднялся и — опустился. Палач поднял отрубленную голову.
Подьячий зачитал приговор другой:
— «Матрёна Балкова! Понеже ты вступала в дела, которые делала через брата своего Вилима Монса, при дворе его императорского величества, непристойные ему, и за то брала великие взятки и за оные твои вины указом его императорского величества бить тебя кнутом и сослать в Тобольск на вечное житьё».
С генеральшей сделался обморок. Её, бесчувственную, положили на кобылу, обнажили и отшлёпали.
Столетов заревел ещё до окончания чтения ему приговора и продолжал вопить при экзекуции.
Балакирев, напротив, вынес удары палок, не издав ни одного стона.
По совершении казни Балкшу понесли; Столетова повезли на тележке; Балакирев сам пошёл в крепость.
В ЧУЖОМ ПИРУ — ПОХМЕЛЬЕ. ЭПИЛОГ
Народ, собравшийся смотреть казнь камергера и его сообщников[372], медленно расходился с Троицкой площади.
На ней оставалась, чернея издали, высокая виселица, посредине которой на острой спице уже была воткнута голова Монса, отличаясь от живой закрытыми глазами да бледностью. Выражение лица в мгновение казни было спокойно и даже трогательно. Пастор Нацциус уверял, что до последнего взмаха топора он про себя читал молитву.
Сестра его казнь перенесла в бесчувствии, но приготовления к расплате уложили её в постель. Столетов, наоборот, вынес не так стоически всю тяжесть наложенного на него наказания и был увезён в бесчувственном состоянии с эшафота. Правду сказать, и били его, как уверяли знавшие близко дело, с особенным усердием. Надо же было на ком-нибудь сорвать своё злое сердце Андрею Иванычу Ушакову, на этот раз к доносчику не проявлявшему своего обычного благоволения, зато очень внимательному — по словам злого языка секретаря Черкасова — к Балакиреву и Суворову. Разные толки — всего не переслушаешь — слышались от очевидцев казни, почему-то и растроганных, и сочувственных к слуге царицыну.
— Он, бедняга… пострадал, просто сказать, за здорово живёшь… Велели слушать набольшего… Барин набольший важнеющий был… Эки дела выхаживал?.. Ладно аль неладно он делал, а слуге ему не приходится указывать, а ещё того меньше — доказывать… А приличился барин — и слугу к ответу: зачем, вишь, жаловался, что погибель видел, а приказы барские справлял; потому что велено.
В это время через Неву от почтового двора перебиралась тихо рогоженная повозка, тяжело нагруженная, должно быть, деревенскими гостинцами. Поднявшись на Троицкую пристань, повозке пришлось ехать шагом, а у угла Сената и совсем остановиться из-за двинувшихся с площади зрителей.
— Что, батюшка, здесь такое… многолюдство? — выглянув из повозки, спросила старческим голосом, должно быть, помещица сама.
— Казнили здесь сейчас барина одного — Монцова, да Ивана Балакирева, и других ещё…
— Казнили, говоришь… Как… повтори, родимый, я, может, не так дослышала? — И голос у старушки словно оборвался.
— Монцова, говорю, бабушка, да Балакирева Ивана… вишь, слуга у государыни был.
— Врёшь ты, злодей!.. За что моего Ваню казнить?.. Ишь какую чушь сморозил… слугу государыни… Коли мне матушка… сама говорила: «Довольна я им и предовольна… всякое ему благоволенье окажем…» В жисть не поверю…
А у самой сердце оборвалось и в голову ударило, словно молотом.
Миновали Сенат. На углу Дворянской — новая толпа перед приколоченным печатным листом. Читает его по складам рыжий скуластый парень — не то столяр, не то колёсник, — сняв шапку и поправляя ремешок на волосах.
— Ив-ван буки аз — ба, люди аз — ла, како иже — ки, рцы есть — ре, веди ер — Балакирев.
— Стой-ка, Гаврюха, опять Балакирева поминают… Дай-ко послухать, что здесь?
И старушка наставила ухо, но голова её горела, в ушах был такой шум, что слышались какие-то звуки без смысла. В чтение внимательно вслушивался Гаврюшка Чигирь, постаревший за двадцать семь лет, но по-прежнему верный слуга. У него показались слезы на глазах от с трудом прочитанного рыжим парнем.
— Гаврюшка, с чего ты плачешь, что там жалостного?.. Я, как ни стараюсь услышать, ничего не разберу… за дальностью, что ль.
Старый слуга неохотно сошёл с козёл и сквозь слёзы сказал:
— Писано, что государь прогневался на барина, на Ивана Алексеича.
— Говори громче! Ничего не слышу… Что ты мямлишь себе под нос!
Гаврило крикнул на ухо:
— Барина, бают, Ивана Алексеича услали… государь на чтой-то разгневался.
— Врёшь ты… что услали… Правда, значит, что Ва… ню… сказ… ни… ли?..
И рыданья захватили дыханье у старой помещицы.
Чигирь вскочил и ударил что есть силы по лошади, пустившейся впритруску по Большой Посадской и через неё — в Посадскую большую слободу. Через минуту были путники перед домом отца Егора.
Грустный священник слышал уже о несчастии зятя, но скрывал и от жены — благо она не выходила никуда — и от дочери, четвёртый день родившей, да не совсем благополучно — мертвенького… Что-то роженице попритчилось: находилась в забытьи не забытьи, а мало понимала, кажись, что делается.
Остановившись перед домом отца Егора, Чигирь отворил ворота, ввёл лошадь с повозкою и внёс барыню, обеспамятевшую от внезапно полученного грозного известия. Внёс и положил на лавку.
Старушка пришла в себя. Но с возвращением сознания пробудилась и жгучая боль сердца. При виде отца Егора вскрикнула Лукерья Демьяновна:
— Отцы мои, пощадите!.. Ваню моего казнили… услали, говорят, да лгут… Народ видел — казнили у Троицы… на площади…
При криках этих вскочила с постели Даша с помутившимся, безумным взором.
— Казнили Ваню… услали! — закричала она не своим голосом и бросилась бежать за дверь.
Отец и мать словно приросли к месту от внезапности.
Их сковал ужас. Первый несколько пришёл в себя отец Егор и пустился из избы вслед за дочерью.
Но уже было поздно. Ни в сенях, ни на дворе её не было. Он на улицу — видит: вдоль бежит к крепости, только кофта и юбка белеются. Отец за ней, но куда пожилому человеку догнать, — словно вихрь мчалась Даша. У Гостиного двора потерял он её — скрылась за углом. Добежав до площади, отец Егор увидел, как Даша мчалась к виселице… постояла, не добежав до неё, одно мгновение… и дальше, за Сенат, прямо в Неву…
Отчаяние прибавило силы отцу Егору. Он мчался так, как бы не поверил, что может, если бы другие говорили, но догнать не мог. Добежав до берега, он увидел только, как ушло что-то белое в прорубь и разбрызнуло воду на обе стороны.
Совсем смерилось, а несчастный отец все стоял на одном месте в каком-то дурмане…
Мимо него от Летнего дворца на площадь промчались парные сани.
В них ехали государь с государынею.
— Это Монсова голова торчит, — сказал Пётр I супруге, проезжая мимо виселицы.
— Как жаль, что такой человек заразился взяточничеством! — ответила супруга совершенно спокойно, без малейшего дрожания в голосе.
Он пристально взглянул ей в глаза. Сумерки совсем спустились.
Информация об авторах
Исторический романист ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ ЖДАНОВ (настоящая фамилия Гельман) родился в 1864 году в Киеве, в артистической семье. С первых шагов творчества его привлекала русская история — наиболее яркие и политически острые её события. В начале века выходят — книга за книгой — романы Жданова: «Царь Иван Грозный», «Опричники», «Последний фаворит», «Былые дни Сибири», «В стенах Варшавы» и прочие. Работает он много и плодотворно. Произведения Жданова доходчивы, сюжеты их увлекательны, и у него появляется весьма широкий круг читателей. Как правило, это молодёжь, интересующаяся историей своей страны и особенно не претендующая на глубину исторических обобщений. Однако автор старался быть верным исторической правде — и не только как он её сам понимал, но и следуя за крупнейшими историками, такими, как С.М. Соловьёв или Н.И. Костомаров. Роман «Пётр и Софья», например, написанный в 1915 году, свидетельствует о добросовестном прочтении очерка Костомарова «Царевна Софья» (1874).
Перед читателем романа предстаёт Москва, охваченная яростью стрелецкого бунта, захлёбывающаяся в крови сотен убитых. Борьба Милославских и Нарышкиных за власть привела народ к трагедии. Наступает время междуцарствия, хотя на троне сидят даже два царя, два мальчика — Пётр и Иван. Именно их «младенчество» и вселяет надежду на власть у Софьи. Это история несбывшейся мечты властной и умной женщины — стать правительницей России, возвеличить род Милославских, и одновременно — история её поражения.
Автор пытается понять причины, формировавшие личность Петра I, показать мужание отрока, превращение его в самодержда-государственника. У Жданова Пётр и Софья — очень близкие человеческие характеры: оба умны, твёрды до жестокосердия, целеустремлённы. Однако цели у них разные: у неё — жажда личной власти и могущества рода Милославских, у него, великого реформатора России, — жажда видеть её могучей. Он побеждает, благодаря мощному уму и характеру, но, главное, благодаря избранной им самим и Богом данной цели.
В 30-е годы Жданов обращается к поэзии, романы он уже не пишет и не печатается. Видимо, властителей не устраивали его подход к осмыслению исторических фактов и отсутствие идеологизированности. Последующие годы он живёт то в Москве, то в Гаграх, то в Сочи. В Сочи он и умирает в 1951 году.
Текст романа печатается по изданию: Жданов Л.Г. Собр. соч. Т. 15: Пётр и Софья. СПб., 1915.
Имя ДАНИИЛА ЛУКИЧА МОРДОВЦЕВА (1830-1905) было хорошо известно читателям 70-х годов прошлого века. В Москве и Петербурге вышло в ту пору в свет более ста томов его произведений. В советское время он был прочно забыт, хотя принадлежал к авторам прогрессивной, демократической направленности, с глубоким пониманием и сочувствием относившимся к «голытьбе, забытой историей».
Начинал Мордовцев как публицист, но, серьёзно увлёкшись историей, на протяжении своей творческой жизни создал обширнейшее наследство как исторический беллетрист.
Родился он в Области войска Донского, предки его — запорожские казаки. У него были как бы две родины: Украина и Россия, одинаково близкие ему, и творчество Мордовцева развивалось на стыке двух культур — русской и украинской. Украинские его произведения выходили под именем-прозвищем, унаследованным от украинских пращуров: Данило Мордовец.
Однако исторический и писательский интересы Мордовцева были обращены и к Италии, и к Испании, к Египту и к калмыцким степям. И в первую очередь — к России. Её историческому прошлому посвящены такие романы, как «Идеалисты и реалисты» (1876), «Наносная беда» (1879), «Сидение раскольников в Соловках» (1880), «Царь и гетман» (1880), «Великий раскол» (1881), «Господин великий Новгород» (1882), «Царь Пётр и правительница Софья», «Державный плотник» (1895). В романе «Державный плотник» Пётр I — гениальный правитель, продолжатель собирания русских земель, не только осознавший историческую необходимость такого единства, но и взявший на себя задачу путём реформ и военных завоеваний воплотить в жизнь идею русской государственности. Гениальный провидец великого будущего своей страны, он, как никто до него, хорошо знал, что ей для этого будущего необходимо. И здесь он великий царь, колосс. Но он и варвар, царь-антихрист, как назвали его в народе. На пути к великой цели для него человеческая жизнь — ничто. Разрушая старую боярскую Русь, он руководствовался одной только целесообразностью. Его безжалостной волей учреждён Преображенский приказ, где князь-кесарь Ромодановский чинит «государев допрос» над противниками царственного реформатора, подвергая нечеловеческим мукам хилую, уязвимую плоть узников. Его волей поощряются доносы, «учиняется» издевательский устав «всепьянейшего и всешутейшего собора».
Неординарное писательское мышление Мордовцева избежало исторических штампов, которые свойственны и нашему времени в оценке личности Петра I.
Писатель искренне и последовательно стремился к правде, как он её понимал, и, разумеется, в чём-то и ошибался. Но в честности, искренности и, конечно, таланте ему не откажешь.
Текст романа «Державный плотник» печатается по изданию: Мордовцев Д.Л., Полн. собр. историч. романов, повестей и рассказов: В 33 т Т.8, кн.20. СПб., 1914.
ПЕТРОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ (1827-1891) — литератор, беллетрист. Предметом его исследований были исторические материалы и документы по истории и археологии. Петров был деятельным участником «Энциклопедического словаря русских учёных», «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона». Писал исторические романы, в основном из эпохи Петра I: «Семья вольнодумцев» (1872), «Царский суд» (1877), «Белые и чёрные» (1889). Великолепная память и— неутомимость я работе позволили ему создать множество ценных трудов, хотя писать и печататься он начал уже в зрелом возрасте. В журнале «Иллюстрация» были опубликованы несколько его биографий русских художников; он составил «Альбом русских народных сказок и былин», «Альбом 200-летнего юбилея Петра I» (1872). Серьёзно занимался Петров русской генеалогией, ему принадлежат книги: «История родов русского дворянства» (1886), «Специальные заметки по генеалогии и геральдике, истории, археологии и искусству» (1871). Ценны его разыскания из истории петровского времени: «Очерк жизни Петра Великого» (1872), «Пётр Великий, последний царь московский и первый император всероссийский» (1872), «История Санкт-Петербурга за 1703-1782» (1885) и другие.
Текст романа печатается по изданию Германа Гоппе: Петров П.Н., Балакирев. СПб., 1881.
Хронологическая таблица
1672 год
30 мая — родился царевич Пётр, четырнадцатый ребёнок многосемейного царя Алексея Михайловича и первый ребёнок от второго брака его с Натальей Нарышкиной.
1682 год
12 января-отменено «богоненавистное и враждотворное местничество»
27 апреля — умер царь Федор Алексеевич
Май — стрелецкий мятеж
Провозглашён царём Иван V Алексеевич вместе с младшим братом Петром I.
1683 год
В селе Преображенском Пётр начинает свои «потешные игры». Переводчик Посольского приказа Фирсов перевёл Псалтырь.
1684 год
Иноземный мастер Зоммер научил Петра гранатной стрельбе.
20 марта — указ о передаче больших поместий после смерти владельца их сыновьям и внукам. Он не устанавливал наследственности поместий ни по закону, ни по завещанию, а только закреплял их за семьёй. Указ изменил порядок поместного землевладения.
1685 год
Февраль — постройка судов и городка на Яузе, позже названного Пресбург
1686 год
Продолжение постройки судов. Пётр выписывал из Оружейной палаты «корабли малые», очевидно, отцовские модели кораблей, построенные заморскими корабельными мастерами во главе с Вуглером.
Договор с Польшей, в результате которого Москва вошла в юго-восточный союз против Турции.
1687 год
Неудачный военный поход против Крымского ханства, выделившегося в своё время из Золотой Орды и существовавшего с XV по XVIII в.
1688 год
Пётр под руководством голландца Тиммермана приступил к обучению арифметике, геометрии, артиллерии, фортификации, астрономии.
1689 год
Второй поход против Крымского ханства (под началом В. В. Голицына), также окончившийся неудачей
27 января Пётр сочетался браком с Евдокией Федоровной Лопухиной.
Низложена Петром и заключена в Новодевичий монастырь царевна Софья, бывшая фактически правительницей России.
1690 год
«Потешные» батальоны преобразованы в два регулярных полка.
18 февраля — родился первенец Петра Алексей.
1691 год
3 октября — родился второй сын Петра I и Евдокии Лопухиной Александр.
1692 год
14 мая — умер сын Александр.
1693 год
Поездка Петра I в Архангельск.
1694 год
Трехнедельные «потешные» манёвры под Кожуховом на берегу реки Москвы под командованием генерала Патрика Гордона, в которых участвовало несколько тысяч человек.
1695 год (конец) — май 1696 года
Первый Азовский поход, окончившийся неудачей.
Создание на реках около Воронежа флота, называемого Азовским, для военных действий на Азовском море. В него входили парусные корабли, галеры. Впоследствии сыграл решающую роль во взятии Азова.
1696 год
Ознаменован Азовскими походами (1695-1696) русской армии и флота во главе с Петром I во время русско-турецкой войны (1686-1700), в результате которых была взята турецкая крепость Азов (1696).
1697 год
Пётр I уезжает в Западную Европу под именем Петра Михайлова. Живёт в Германии, Голландии. В Кенигсберге учится у прусского полковника артиллерийскому делу.
1698 год
Пострижена в монахини Евдокия Лопухина.
Стрелецкий бунт; казни стрельцов, расформирование стрелецких полков.
Пётр I отправился в Англию для изучения корабельного дела на верфи в городке Дептфорд. В Лондоне, Оксфорде и Вуличе изучает производство артиллерийских снарядов.
1699 год
30 января — два указа, на основании которых торгово-промышленное население столицы и других городов, а также крестьяне государевых сельских волостей переходят под управление выборных бурмистров (судопроизводство, налогообложение).
1700 год
16 октября — умер последний русский патриарх Адриан. Пётр I упраздняет патриаршество в России.
19 ноября — войска Карла XII разгромили под Нарвой русские войска. Начало Северной войны со шведами.
1701 год
По новому договору с королём Речи Посполитой Августом II Пётр I отказывается от притязаний на Лифляндию и Эстляндию (в пользу Августа).
1702 год
Создание Балтийского флота, набор экипажей. По свидетельству князя Куракина, «кликали в матросы молодых ребят, и набрано было с три тысячи человек».
1703 год
1 мая— взятие крепости Ниеншанц.
Верфь в Лодейном Поле спустила на воду шесть фрегатов; это была первая русская эскадра, появившаяся на Балтийском море. На берегу Онежского озера был построен чугунолитейный и железоделательный завод, ставший основанием Петрозаводска.
16 мая — заложен Санкт-Петербург.
1704 год
13 июля — взят Дерпт.
9 августа — взята русскими войсками Нарва. Россия закрепилась на побережье Финского залива. Кончина царевны Софьи.
1705 год
Август — поход Шереметева в Курляндию.
Бунт против нововведений Петра I в Астрахани. Для усмирения и устроения края местные доходы были переданы из ведения центральных учреждений в распоряжение местных властей на нужды края.
1706 год
Карл XII под Гродно окружил главные силы Петра I (свыше 35 000 человек). Пётр I и армия отступили.
1707 год
Крестьянская война на Дону, Левобережной и Слободской Украине, в Среднем Поволжье под руководством Кондрата Булавина (1660— 1708)
1708 год
Карл XII повёл 44-тысячную армию на Москву
В тылу продолжаются бунты: башкирский, охвативший Заволжье казанское и уфимское; булавинский — докатившийся до Тамбова и Азова.
Июль — Карл XII занял Могилёв.
28 сентября — Пётр I разбил шведского генерала Левенгаупта под Лесной на Соже.
У Петра I и Марты Скавронской родилась старшая дочь Анна.
18 декабря — указ о разделении государства на восемь губерний.
1709 год
Упразднение Запорожской Сечи.
27 июля — русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую под Полтавой. Карл XII бежал в Турцию. Полтавская битва привела к перелому в Северной войне в пользу России.
У Петра I и Марты Скавронской родилась младшая дочь Елизавета.
1710 год
Осада Риги русскими войсками под командованием Шереметева; завоёван весь балтийский берег от устья Западной Двины до Выборга.
1711 год
22 февраля — учреждение Сената.
Май — июнь — русская армия под командованием Петра окружена юго-восточнее города Яссы в Молдавии.
12 июля — Прутский мир между Россией и Турцией. Открытие Курильских островов Анцыферовым и Козыревским.
1712 год
Открытие Артиллерийской инженерной школы в Москве.
19 февраля — заключение Петром I брака с Мартой Скавронской (будущей Екатериной I).
1713 год
Взятие Штеттина.
Занятие Финляндии (1713-1714).
Основание Тульского оружейного завода.
1714 год
Принят указ о единонаследии.
27 июля — победа у мыса Гангут.
Указ об обязательном обучении дворян «цифири» и геометрии с запрещением венчать невыучившихся.
Учреждение Кунсткамеры.
1715 год
Учреждение Морской академии в Санкт-Петербурге.
1716 год
Издан Воинский устав Петра I.
1717 год
Поездка Петра I в Голландию и Францию.
1718 год
Учреждение коллегий.
«Дело» царевича Алексея. Его заключают в Петропавловску» крепость.
26 июня — смерть царевича Алексея.
Указ об «ассамблеях».
1719 год
Реорганизация областного управления: создание провинций и надворных судов.
1720 год
Учреждение городских магистратов.
Разрешение купли-продажи крестьян для поставки в рекруты.
Соглашение с царём Картли Вахтангом VI Законодателем (1675-1737) в совместных действиях против персов.
27 июля — Петром I одержана морская победа при Гренгаме.
1721 год
Учреждение Синода, возглавляемого обер-прокурором, которого назначал царь.
18 января — указ, по которому фабрикантам и заводчикам из купцов дано право покупать для фабрик и заводов земли, населённые крепостными крестьянами.
30 августа — заключение Ништадтского мира, завершившего Северную войну России со Швецией. Были присоединены к России Лифляндия, Эстляндия, Ингерманландия, часть Карелии и другие территории.
22 октября — принятие Петром I титула императора.
Основание города Екатеринбурга.
1722 год
Введение Табели о рангах.
Начало войны России с Персией (1722-1723).
23 августа — взятие Дербента.
1723 год
26 июля — взятие Баку.
12 сентября — заключение мирного договора с Персией: Россия получила все западное и южное побережье Каспия.
1724 год
Март — Сенат провозглашает Екатерину 1 самодержавной императрицей.
1725 год
Учреждение Российской Академии наук.
28 января — кончина Петра I.
Примечания
1
Оплечья, ожерелье на торжественной одежде со священными изображениями; их носили духовные сановники и русские государи.
(обратно)2
Преторианцы. — Так в Древнем Риме первоначально называлась личная охрана полководца, позднее императорская гвардия. Пользовались значительными привилегиями. В эпоху империи были крупной политической силой, участвовали в дворцовых переворотах. Преторианцами называются вообще любые наёмные войска (наёмники), служащие опорой власти, основанной на силе, а не на законе.
(обратно)3
…Не будь ступени Кремлёвского крыльца орошены кровью мученика Матвеева, кровью Нарышкиных…— Матвеев Артамон Сергеевич (1625-1682) — русский государственный деятель и дипломат; боярин. Сын дьяка; служил на Украине. Являлся сторонником русско-украинских связей, идеи присоединения Украины к России. Добился закрепления за Россией Киева. С 1671 года руководил Посольским приказом. Был близок к царю Алексею Михайловичу, вторая жена которого Наталья Кирилловна Нарышкина (1651-1694), мать Петра I, — была воспитанницей Матвеева. После смерти Алексея Михайловича подвергся опале и был сослан вместе с семьёй на Север (1676). С избранием на царство Петра I его возвращают в Москву, но через несколько дней он становится одной из первых жертв стрелецкого бунта 1682 года. Его сын Андрей Артамонович (1666-1728) — дипломат, сенатор, сподвижник Петра I, в середине двадцатых годов создаст описание этого страшного стрелецкого мятежа. Нарышкины — дворянский род в России XVI-XX веков. Возвысились в связи со вторым браком царя Алексея Михайловича. Лев Нарышкин (1664-1705) — родной брат Натальи Кирилловны, в течение двенадцати лет возглавлял Посольский приказ. Между родами князей Нарышкиных и Милославских шла непримиримая борьба за власть. В 1682 году стрельцы зверски расправляются со многими Нарышкиными.
(обратно)4
Прутская неудача. — Имеется в виду Прутский поход во время русско-турецкой войны 1710-1713 годов. В мае-июне 1711 года русская армия под командованием Петра I в союзе с молдавским господарем Кантемиром вступила в Молдавию, но была окружена превосходящими силами турок у Нового Станилешти. На реке Прут, близ города Яссы, был заключён Прутский мир, в результате которого Россия возвращала Турции крепость Азов и обязалась срыть крепости в Таганроге, Богородицке и Каменном Затоне. Турция обещала выслать со своей территории Карла XII, который после полтавского разгрома сумел добиться (при содействии австрийской и французской дипломатии) объявления войны России в 1710 году. Состояние войны продолжалось до 1713 года, когда был заключён Адрианопольский мирный договор.
(обратно)5
Симеон Полоцкий (1629-1680) — белорусский и русский светский и церковный деятель; писатель. Иеромонах, в миру — Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович. Полемизировал с деятелями раскола. Наставник царских детей. Преподавал в школе Заиконоспасского монастыря. Соавтор создания Славяно-греко-латинской академии. Написал богословский трактат «Жезл правления» (1667), где подверг острой критике патриарха Никона и расколоучителей. Один из зачинателей русского силлабического стихосложения и драматургии.
(обратно)6
Портомойные ворота — нижние ворота Кремля, через которые вывозилось царское бельё для стирки на реке Яузе. Использовались и для прочих хозяйственных нужд.
(обратно)7
Сани-розвальни, широкие, обшитые лубком.
(обратно)8
Местам сходок; гульбищам.
(обратно)9
Инда — даже; так что; что даже (прост.).
(обратно)10
Потентат (лат.) — вельможа, властелин, коронованная особа.
(обратно)11
Дети пойдут… в наш род Милославских… — Милославские — русские дворяне и бояре XV-XVIII веков, выехали из Литвы в конце XIV века, возвысились в XVII веке. Дочери боярина Ильи Даниловича: Мария —первая жена царя Алексея Михайловича, их дети: царевичи Федор и Иван, царевна Софья; Анна — жена боярина Б. И. Морозова. Иван Богданович Милославский руководил обороной Симбирска от армии Разина. Иван Михайлович Милославский, боярин, возглавлял борьбу против Нарышкиных. Один из организаторов Московского стрелецкого бунта.
(обратно)12
Хитрово Богдан Матвеевич (1615-1680) — боярин и дворецкий; наместник ржевский и смоленский; возглавлял приказ Большого дворца. Пользовался расположением царственных особ, имел большое влияние при дворе. Участвовал в польских походах (1653). С его именем связан удивительный факт: в посмертном завещании он отпускал на волю всех своих холопов, пленных и кабальных людей.
(обратно)13
Языков Иван Максимович (1658-1682) — боярин, любимец царя Федора Алексеевича. Принадлежал к старинному дворянскому роду, восходившему к татарскому мурзе Енгулаю. Занимал должности стольника, постельничего, окольничего. Пользуясь особым доверием царей, ведал Оружейной, Золотой и Серебряной палатами. У Н. И. Костомарова есть такое свидетельство: стрельцы ещё при жизни царя Федора подавали жалобу на своих начальников, за что Языков, её разбиравший, приказал перепороть их кнутом. Во время бунта Языков скрывался в доме своего духовника у св. Николы Чудотворца в Хлынове. Стрельцы нашли его и отрубили голову на площади.
(обратно)14
Оружничий — придворный чин, ведавший изготовлением, закупкой и хранением оружия и предметов дворцового обихода.
(обратно)15
Толстой Пётр Андреевич (1645-1729) — дипломат, сопровождал Петра I в первом Азовском походе. В 1702-1714 годах посол в Турции. Приобрёл особое доверие Петра, после того как вернул в Россию царевича Алексея. Участвовал в следствии по делу царевича. С 1718 года граф. Назначен был сенатором и президентом Коммерц-коллегии, начальником Тайной розыскных дел канцелярии. В 1727 году сослан на Соловки.
(обратно)16
Карло, карла — здесь: шут.
(обратно)17
Ведун — колдун; волшебник; знахарь.
(обратно)18
…Царь Саул ходил к волшебнице из Аэндора, Самуила-пророка дух вызывал. — В Первой книге Царств Ветхого Завета есть рассказ, как волшебница из Аэндора помогла Саулу вызвать дух Самуила, который предсказал, что Господь отнимет царство Израильское у Саула и отдаст в руки Давида и «стан Израильский предаст Господь в руки филистимлян».
(обратно)19
Застенить — заслонить; защитить.
(обратно)20
Скорбь — здесь: болезнь.
(обратно)21
…ко храму новому, что в Чудове, собирается в школу к грекам заглянуть… — Речь идёт о греко-латинской школе, открытой в Алексеевской Архангело-Михайловском мужском монастыре Московского Кремля. В этой школе изучались греческий, латынь и церковнославянский языки, а также пиитика, риторика, философия. Монастырь был упразднён после Октябрьской революции 1917 года. В 30-е годы здания Чудова монастыря были снесены.
(обратно)22
Вербная неделя — шестая неделя Великого поста.
(обратно)23
…подобно греческой Пульхерии…— Пульхерия (398— 453) — дочь восточного императора Аркадия, воспитанная в духе исключительной церковности. Дала обет целомудрия и жила в монастыре. Внучка римского императора Феодосия Великого (ок. 346— 395), она не упускала возможности вмешиваться в государственные дела своего брата Феодосия II. В сане августы правила государством с 414 года, умела ладить с сенатом. Её правление ознаменовалось относительным спокойствием в стране, развитием науки, искусств.
(обратно)24
Фроловские — Спасские ворота.
(обратно)25
Патриарх Иоаким (1620-1690) — патриарх всероссийский с 1673 по 1690 год. В миру — Иван Петрович Савелов.
(обратно)26
…княжич Алексей, сын просвещённого вельможи, кравчего Бориса Голицына…— Кравчий, крайчий (от кроить, рушить) — придворный чин, в обязанности которого входило «кроить», резать пироги и другую снедь за столом; доверенное лицо, прислужник. Голицын Борис Алексеевич (1654-1714) — князь, дядька-воспитатель Петра I. Будучи просвещённым человеком, неоднократно выполнял дипломатические миссии. Управлял Поволжьем.
(обратно)27
Денежка, деньга — полкопейки.
(обратно)28
Прозоровский Пётр Иванович (ум. до 1718) — дипломат, рында (телохранитель) при приёмах послов; держал царский скипетр при подписании договоров. Дядька-воспитатель царевича Ивана. В 1682 году в числе прочих подписался под Соборным деянием об уничтожении местничества. В отсутствие царей был правителем в Москве. Пользовался любовью и особым доверием Петра I. Состоял во главе Оружейной палаты и Большой казны.
(обратно)29
Калита — сума, торба
(обратно)30
Стольник — придворный чин; смотритель за царским столом во время трапезы; комнатный стольник при царской семье.
(обратно)31
Здесь: учительница.
(обратно)32
Ярыжка — низший служитель полиции, а также — пьяница, мошенник; непутёвый человек.
(обратно)33
Окольничий — придворный чин, предшествовавший боярскому, давал право на участие в Думе.
(обратно)34
Медведев Сильвестр (1641-1691) — монах, духовный писатель. Ученик и идейный приверженец Симеона Полоцкого, в его школе изучал латинский и польский языки. Был назначен в московский Печатный двор правщиком церковных книг. После смерти Полоцкого занял его место придворного стихотворца: написал брачное и надгробное посвящение Федору Алексеевичу. Имел, как Полоцкий, школу в Заиконоспасском монастыре. В преподавании придерживался латинского направления. Замешанный в заговоре Шакловитого, бежал из Москвы, но был схвачен, лишён иноческого образа и приговорён в 1689 году к смертной казни. Им оставлены записки о стрелецком бунте. Он явился жертвой борьбы греческого и латинского учений в церкви. Приписываемое ему намерение убить патриарха с целью занять его место — ложно.
(обратно)35
Распукапка — бутон; почка.
(обратно)36
Пиит — поэт.
(обратно)37
Рейтары — наёмная тяжёлая конница в Западной Европе XVI-XVII веков и в России XVII века.
(обратно)38
Вивлиофика — библиотека.
(обратно)39
Объярь — шёлковая ткань с золотом или серебром, а также — любая шёлковая муаровая ткань; ферязь, ферезь — мужское длинное платье с длинными рукавами, без ворота и перехвата.
(обратно)40
Горлатные — меховые.
(обратно)41
Хоров.
(обратно)42
Вайя — ветвь финикийской или палестинской ивы (у нас верба); неделя вайи — Вербное воскресенье.
(обратно)43
Сапоги жёлтой кожи.
(обратно)44
Бирючи — глашатаи.
(обратно)45
Упокойная память; поминки; молитва на сороковой день.
(обратно)46
Рука об руку, рядом.
(обратно)47
Обращение к уважаемому человеку — «их милость, изволили правду сказать».
(обратно)48
Шпыни — шпионы.
(обратно)49
Здесь: знатные.
(обратно)50
Придираясь.
(обратно)51
При посольстве.
(обратно)52
В походах.
(обратно)53
Обычная формула допетровских судебных приговоров.
(обратно)54
Взыскать.
(обратно)55
Вечерняя церковная служба.
(обратно)56
Аначнясь — недавно.
(обратно)57
Кукуль — накидка с капюшоном, пришитым к вороту одежды; монашеский апостол.
(обратно)58
Порадь — посоветуй.
(обратно)59
Испанцы.
(обратно)60
Самойлович Иван (?-1690) — гетман Левобережной и Правобережной Украины. Выступал за воссоединение обеих частей Украины. В 1687 году был сослан в Сибирь.
(обратно)61
На днях.
(обратно)62
Начётчица — церковная чтица.
(обратно)63
Безмозглые.
(обратно)64
То есть к Красной площади, которая так называлась из-за частых здесь пожаров.
(обратно)65
Болтуном; тарарусить — значит пустословить, врать.
(обратно)66
…Ягеллоныч, как он величал себя…— Ягеллоны — королевская династия в Польше, Великом княжестве Литовском, Венгрии, Чехии. Основатель династии Ягелло Владислав (ок.1350-1434) — великий князь литовский, король польский. Князья Хованские вели свой род от великого князя литовского Гедиминаса, Ягелло — его внук. На Руси эта княжеская ветвь — вторая по знатности после Рюриковичей.
(обратно)67
Романея — сладкая настойка на фряжском, то есть французском вине.
(обратно)68
Сулея — особая винная бутылка; полуштоф; плоская склянка.
(обратно)69
А энтот, никоновец…— Имеется в виду сторонник «новой» веры, не старовер; последователь патриарха Никона (в миру Минов Никита; 1605-1681), проводившего церковные реформы, которые вызвали раскол церкви.
(обратно)70
У ворот Константино-Еленинских, где теперь башня, рядом со Спасскими воротами к Москве-реке.
(обратно)71
Ромодановский Григорий Григорьевич (?-1682) — князь, боярин, воевода. Участник Переяславской рады 1654 года, русско-польской войны 1654-1667 годов. В 1670 году подавлял бунт Степана Разина на Верхнем Дону и Слободской Украине.
(обратно)72
Попомнили князю походы Чигиринские…— Ромодановский возглавлял Чигиринские походы 1677 и 1678 годов русской армии и украинских казаков в период русско-турецкой войны 1677— 1681 годов к городу Чигирину, дважды осаждавшемуся турецкой армией. В результате этих походов были сорваны планы турок захватить украинские земли, но князь был слишком суров со своими солдатами. Григорий Ромодановский погиб во время стрелецкого бунта.
(обратно)73
Капитоновцы — раскольники-сектанты. Название происходит от имени Капитан: так звали одного из первых расколоучителей, крестьянина села Даниловка Костромской губернии, который внушал верующим отдаляться от церкви, поклоняться старым иконам, креститься двумя перстами. Отсюда все русские раскольники назывались тогда «капитанами».
(обратно)74
Ослоп — жердь, дубина
(обратно)75
Заговорщика.
(обратно)76
Издержки, убытки.
(обратно)77
Крестом; особым — косым, католическим — западным.
(обратно)78
Адонаи (в переводе «господь всего») — одно из обозначений бога в иудаизме эллинской эпохи. Это обозначение заменяло при чтении вслух или живой речи имя бога Яхве, так как произносить его было запрещено. Этимологически близко к имени Адонис (греч. миф., адон — господь, владыка).
(обратно)79
Кражи, хищения — всякий разбой и грабёж.
(обратно)80
Гонорий (384-423) — с 395 года номинально император западной Римской империи. Фактически империей управлял полководец Стилихон.
(обратно)81
Надписи эти гласили: «Божиею милостию мы, Великие Государи, Цари и Великие Князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержцы. В нынешнем 7190 (1692) году, Июня в 6 день, били челом нам, Великим Государям, нашего Царскаго Величества Московских полков надворныя пехоты пятидесятники, и десятники, и рядовые, и солдатских выборных и всех полков урядники, и солдаты, и пушкари, и затонщики (стрелки затинных пищалей, то есть огнестрельных орудий. — Примеч. ред.), и гости, и гостиной сотни, и посадские люди всех черных слобод и ямщики всеми слободами: в нынешнем де во 7190 году, Мая в 15 день, изволением всемилостиваго Бога и Его Богоматери Пресвятые Богородицы, в Московском Российском Государстве учинилися побиение за дом Пресвятая Богородицы, и за нас, Великих Государей, и за все наше Царское Величество, от великих их к ним налог, и обид и от неправды в царствующем граде Москве, боярам князю Юрию да князю Михаилу Долгоруковым, за многая их неправды, и за непохвальные слова, и без наших Великих Государей указов многих их братью, бив кнутом, ссылали в ссылку в дальние города; да он же, князь Юрий Долгоруков, будучи у наших Государских дел в стрелецком приказе, им учинил из нашей Государской казны денежную и хлебную недодачу все в перевод; а думнаго дьяка Лариона Иванова убили за то, что он к нему ж, князю Юрию и князю Михаилу Долгоруковым приличен; да он же, Ларион, похваляйся, хотел ими безвинно обвешать весь земляной город вместо зубцов у Белаго города; да у него ж Лариона взяты гадины змеиным подобием; а боярина князя Григория Ромодановского убили за его к нам, Великим Государям, измену и нерадение, что он, будучи на наших Государских службах, у наших Государевых служилых людей воеводою, город Чигирин Турским и Крымским людям с нашею Государскою всякою казною и с служилыми людьми отдал, забыв страх Божий, и крестное целование и нашу Государскую к себе милость, и с Турскими и с Крымскими людьми письмами ссылался; а боярина Ивана Языкова убили за то, что он, стакався с прежними их полковниками, налоги им великие чинил, и взятки великия имал, и прежним их полковникам на их братью наговаривал, чтобы они полковники их братью били кнутом и батоги до смерти; а боярина Артемона Матвеева, и Даниила дохтора, и Ивана Гутменши, а сына его Даниилова побили за то, что они на наше Царское Величество злое отравное зелье, меж себя стакався, составляли, и с пытки он Данило жид в том винился; а Ивана да Афанасья Нарышкиных побили за то, что они Иван и Афанасий применяли к себе нашу, Царскаго Величества, порфиру, и мыслили всякое зло на нас, Великаго Государя, Царя и Великаго князя Иоанна Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца; а преж сего они ж, Иван да Афанасий, блаженныя памяти на брата нашего Государева, Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, мыслили всякое зло, и за такое злое их умышление были сосланы в ссылку; а полковников: Андрея Дохтурова и Григория Горюшкина побили за то, что они, будучи на наших Государских службах, ругаяся их братьи, били кнутом и батоги без нашего Государскаго указу до смерти; а думнаго дьяка Ларионова сына Василья убили за то, что он ведал у отца своего на наше Государское Величество злыя отравныя гадины и в народе не объявлял; а думнаго дьяка Аверкия Кириллова убили за то, что он, будучи у наших Государских дел, со всяких чинов людей великия взятки имал, и налоги народу и всякую неправду чинил; а боярина Петра Михайловича Салтыкова сына, его Феодора Петровича, умысля воровски они, бояре князь Юрий Долгоруков с товарищами, подменили вместо Ивана Нарышкина, хотя его от зломысленных дел и от смерти свободить, велели его Феодора с крыльца бросить; и они побив их, князя Юрия с товарищами, за их всякия неправды и измены, ныне бьют челом, и просят у нас, Великих Государей, милости всего Московскаго Государства все служилые люди, и гости, и гостиных сотен, а Кадашевцы, и дворцовые и конюшенных слобод и посадские люди, и ямщики всех слобод, чтобы за их многия службы, и за верность пожаловали мы, Великие Государи, указали среди своего Московскаго Государства учинить в Китае городе на Красной площади столб, и тех побитых злолихоимателев, кто за что побиты, на том столбе имена подписать, чтобы впредь иные, помня Государское крестное целование, чинили правду; и против того им, надворной пехоте, и в солдатские во все полки, и пушкарям, и в гостиныя сотни, и в Кадашево, и в дворцовыя, и в конюшенныя, и чернослободцам, и в ямския слободы дата им наши, Государския жалованныя грамоты, за красными печатями, чтобы на Москве, и на наших Государских службах и в городах их, надворную пехоту, и солдат, и пушкарей, и гости, и гостиных сотен, и черных слобод посадских людей, и ямщиков, Московскаго Государства бояре, и окольничие, и думные люди, и весь наш Государский сингклит, и никто никакими поносными словами, и бунтовщиками и изменниками не называли, и без наших Государских именных указов, и без подлиннаго розыску их всяких чинов людей ни кого бы в ссылки напрасно не ссылали, и безвинно кнутом и батоги не били и не казнили; потому, что они служат искони нам, Великим Государям, со всякою верностию и без всякой измены, а нигде на наших Государских службах измены, и прослуги и городам от них сдач не бывало; и складывают свои головы на наших Государских службах за дом Пресвятая Богородицы, и за нас, Великих Государей, и за православную Христианскую веру; и кровь они свою проливают, и против наших Государских неприятелей бьются, не щадя голов своих; но ныне стоят, и служат, и радеют, потому ж за дом Богоматери и за нас, Великих Государей; грабительства де их и ни каковаго злато умышления на наш Государский дом и на сингклит, и на все чины Московскаго Государства думы нет и не бывало; а что кто ныне всякаго неслужилаго чину грабительства чинил, и с таким было потому же наказание. А впредь обещаются они служите и радети нам, Великим Государям, со всякою же верностию; а что ныне бояр, и окольничих, и думных людей и всего Государства домов боярские люди к ним приобщаются в совет, чтобы им быть из домов свободным, а у них с ними боярскими людьми ни с кем приобщения никакого и думы нет; а когда по нашим Государским указам бывают они посыланы на службы, и им для наших Государских служеб дается на подъем наше Государево жалованье, денег по два рубли человеку, и на те деньги покупают лошади и всякую служилую рухлядь, и в дорогах и на службах те лошади, покупая корм дорогою ценою своими деньгами, избывая с себя платье, кормят, и от того они денежнаго малаго подъему разоряются в конец, без остатку; а которые под пушками станки и колесы кованы были в разных годах для наших Государских служеб и с посольских выездов разными образцами, и знамена, и барабаны, и всякия приказныя полковыя строения, делано выворотом из наших Государских полугодовых жалованьев и из их паев великие вывороты; прежде сего, при бывших Государях, на полковыя строения были деньги даваны из нашей Государской казны, а не из их дачь; и нам бы, Великим Государям, пожаловати за их многая службы, и за кровь, и за раны, и за полонное терпение, и за осадное сидение велети против сего их челобитья наш, Великих Государей, милостивый указ учинить. А кто их учнет называть какими поносными словами, или бунтовщиками и грабителями, и тем людям, кто кого назовет, про то розыскав в правду, велети наш Великих Государей милостивый и рассмотрительный указ учинить без всякия пощады, а буде кто на кого такия слова напрасно взведет, или по какой недружбе учнет ложно бить челом, и о том подлинно сыщется, что он таких слов не говаривал, и тем бы людям, кто на кого напрасно взведет потому ж наш, Великих Государей, указ учинить без всякия ж пощады, и о том дата ведомости в царствующем граде Москве всяких чинов людям; а на Москве и на наших Государских службах без них им женам и детям их велеть давать наше Великих Государей жалованье без всякаго вывороту, и от дьяков и от подьячих без выкупу; и что бы будучи у наших Государских дел во всяких приказах начальным людям, дьякам и подьячим со всяких чинов людей ни каких посулов не имать, и всякия невершенныя и крепостныя дела вершить безволокитно. А начальные люди, кто у которых полков будет, для своих прихотей за их малыя вины без ведома пятидесятников и урядников кнутом и батоги не били; а что кому доведется за какое дурно наказанье учинить, и о том они впредь за тех людей не стояли бы; и на Москве и на наших Государевых службах, и идучи на службы и с служеб по дорогам на всяких начальных людей и на друзей их никакой работы им не работать; из нашего государскаго жалованья дворовых денег, и недослуженаго на их братьи на отставных, и после их на женах их и на детях никаких денег не править; и у нашей Великих Государей казны, у денежнаго сбору, быть сборным людям изо всех посадских и черных сотен, из гостей, из гостиной сотни в приеме и в расходе во всех приказах потому, чтоб нашей Государской казне никакой порухи не было; а которые на наших Государских городах на кабаках, и в таможнях и во всяких сборах сидят головы и полуголовы, и тех считать на городах по книгам, и деньги присылать без посулов; а которые наши Великих Государей деньги на гостях, и гостиной и суконной сотен и слобод долги, и на них выбирать нашей Великих Государей казны не давать, потому, что де дьяки и подьячие нашу Великих Государей казну дают из посулу многие годы; а на гостях и гостиной и суконных сотен и всяких чинов на людях на Москве и в городах долговыя деньги выбирать по нашему Великих Государей рассмотрению; и их надворную пехоту и солдатских полков на наши, Великих Государей, службы посылать по очереди полками без выписок, и на наших, Великих Государей, службах в городах быти им погодно; а на наших же Государевых житных дворах у хлебнаго приему и у раздачи быти в целовальниках из черных сотен посадским людям, а не из их Московских полков надворной пехоты людям. И мы, Великие Государи, указали по челобитью их Московских полков надворной пехоты и солдат и всех вышеописанных чинов людей в Китае на Красной площади сделать столб, и кто за что побиты, подписать; а их, надворную пехоту, и солдат, и пушкарей, и гостей, и гостиных сотен, и черных слобод посадских людей, и ямщиков на Москве и на наших Государевых службах и в городах боярам нашим, и окольничим, и думным людям и никому бунтовщиками и изменниками не называть, и без именнаго нашего, Великих Государей, указа их и ни каких людей не казнить, и в ссылки ссылать и без подлиннаго розыску наказания чинить не велели; а велели винным за всякия вины чинить указ го розыску, смотря по винам, кто чего достоин; а им, надворной пехоте и солдатам всех полков, и всех вышеписаных чинов людям ныне и впредь к боярским людям не приставать, и в совет их к себе не принимать; а будет и впредь боярские и иных чинов люди в каком воровстве объявятся, а они про них сведают, и им их имать и приводить в стрелецкий приказ. Да пожаловали мы, Великие Государи, их надворную пехоту и солдат за их многая службы велели им впредь давать нашего Государскаго, жалованья для дальних полковых и городовых служеб на подъем к прежним подъемным деньгам в прибавку по рублю человеку которым наперед сего на подъем дачи бывали; да у них же в полках на наших, Великих Государей, службах быти у пушек пушкарям по прежнему, а им, надворной пехоте, у того дела не быть, а под нашею, Великих Государей, всякою полковою казною быти подводам с проводниками во всех службах с приезду до отпуску, каких чинов людям по нашему, Великих Государей, указу быть доведется, а впредь надворной пехоте и в солдатских полках пушечные станки и колеса оковывать, и знамена, и барабаны, и всякое полковое строение делать из стрелецкаго приказу нашею, Великих Государей, денежною казною, а у них надворной пехоте и у солдат годовых их окладов и денежнаго жалованья на то строение не вычитать, а что до сего их челобитья у них, надворной пехоте, и в. солдатских полках полковаго строения построено, и тому всему строению в тех приказах и в полках быть по прежнему а им то все вышеписаное полковое строение беречь всякими обычаями, чтоб потери и порухи ничему не было; а буде ему от кого учинится какая поруха, или кто что испортит небрежением, и то делать тому, кто что испортит А буде кто учнет их называть бунтовщиками и грабителями, и тем людям, кто кого назовет, про то розыскав подлинно, чинить наш, Великих Государей, рассмотрительный указ без пощады, а буде кто на кого такия слова взведет напрасно, или по какой недружбе учнет ложно бить челом, и о том подлинно сыщется, что он таких слов не говаривал, и тем людям, кто на кого напрасно взведет, потому ж чинить наш, Великих Государей рассмотрительный указ без пощады ж, и о том наш, Великих Государей, указ на Москве всяких чинов людям сказать, чтобы они всех чинов люди про то ведали; а буде боярские люди похотят из дворов бояр своих быти из холопства свободны, учнут такия слова на бояр своих затевать, и тому извету не верить; а наше, Великих Государей, жалованье на Москве и на наших Государских службах им, надворной пехоте и солдатам и без них женам их и детям годовые их оклады давать им сполна, без вычету, и дьякам и подьячим от того посулов не давать, и ни малаго им у них ничего не имать; а которые на Москве в приказах начальные люди, дьяки и подьячие, и им со всяких чинов людей посулов никаких не имать же, и дела всякие делать и вершить безволокитно; а полковникам для своих прихотей им, надворной пехоте и солдатам безвинно никому ни какого наказания не чинить, а винным наказание чинить с подлинным свидетельством, смотря по вине, кто чего достоин, при пятидесятниках и десятниках, а солдатам при урядниках; а кнутом их, надворную пехоту и солдат, на Москве без нашего, Великих Государей, указу и стрелецкаго приказу, и в полках и в городах, без ведома бояр наших и воевод, им полковникам не бить; а им, надворной пехоте и солдатам у них полковников, и у начальных людей, и у пятидесятников, и десятников быть во всяких наших Государских полковых и в приказных делах во всяком послушании; а буде кому до кого в чём какое дело, и им на тех людей бить челом нам, Великим Государям, и приносить челобитныя в больших делах в стрелецком приказе, а в малых на съезжия избы к полковникам; а будучи им, надворной пехоте и солдатам, на Москве и на службах, и в дороге идучи на службы и с службы на них полковников, и начальных людей, и на друзей их никакой работы не работать, и изделья ни какого не делать. Да мы же, Великие Государи, пожаловали их, надворную пехоту и солдат, за дворы денег и недослуженнаго на их братьи на отставных, и после их на жёнах и детях имать не велели; а на Москве во всех приказах у нашей, Великих Государей, всякой казны и у денежнаго сбору быти выборным людям, у приёму и у расходу из гостей, из гостиной сотни и чёрных сотен, изо всех слобод посадским людям; а в городах таможенных и кабацких голов и товарищей их по сборным книгам считать в тех городах, а деньги, и счётные списки и что по тем счётным спискам доведётся взять недобранных денег, и то все присылать к Москве, и из нашей Государевой казны денег и товаров и ни какой казны без нашего, Великих Государей, именнаго указу из приказов начальным людям, и дьякам, и подьячим давать не указали; да мы же, Великие Государи, указали впредь на наших, Великих Государей, службах, в полках и в городах и с боярами нашими и воеводами быти им надворной пехоте и солдатам по очереди с полками без выписок, и служить им в городах по годно во время нужды и неприятельскаго наступления; а в Астрахани быть по прежнему по два года, потому что та служба дальняя, и в год переменяться не можно; а на Москве на житейных дворах у приёму и у раздачи стрелецкаго хлеба быть в целовальниках чёрных сотен разных слобод посадским людям; а им надворной пехоте людям у того дела не быть, и им Московских полков надворной пехоте, так же всех полков солдатам и пушкарям, и затинщикам, и гостям, и гостиных и суконных сотен, и дворцовых, и конюшенных и иных чёрных слобод посадским людям, Кадашевцам и ямщикам, нам, Великим Государям, служити и прямити по своему обещанию, как они обещались пред святым Христовым Евангелием, и во всём всякаго добра хотети со всякою верностию без всякия хитрости, и быти им в нашем Государском повелении по своему обещанию непременно безо всякаго прекословия, так же как деды и отцы их и они служили, и во всяком послушании были при деде нашем, Великих Государей, блаженныя памяти при Великом Государе, Царе и Великом князе Михаиле Феодоровиче, всея России Самодержец, и при отце нашем, Великих Государей, блаженныя памяти при Великом Государе, Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержце, и при брате нашем, Великих Государей, блаженныя памяти при Великом Государе, Царе и Великом Князе Феодоре Алексеевиче, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержце. К сей нашей, Великих Го— . сударей, грамоте наша, Великих Государей, Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержцев, печать приложена. Л. Ж.»
(обратно)82
Искони было; велось.
(обратно)83
Ордины-Нащокины — русский дворянский род. Родоначальник его приехал в Россию из Италии и поступил на службу к князю тверскому и владимирскому Александру Михайловичу (1301-1339). При крещении получил имя Дмитрий. Князь, боярин Дмитрий Дмитриевич в 1327 году возглавляет восстание тверитян против ханского посла Шивкала. В одном из сражений с татарами он получает рану в щеку, и с той поры за ним закрепилось прозвище Нащока. Из Твери князь Дмитрий перебирается в Москву, где поступает на службу к великому князю Всеволоду Ивановичу Гордому, он-то и даёт ему фамилию Нащокин. Андрей Филиппович — один из потомков Дмитрия Дмитриевича Нащокина, видимо, за свои ратные подвиги в сражениях с татарами уже имел прозвище Орда. Знаменитый московский канцлер Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (?-1680) — боярин, до Москвы живший во Пскове. Человек, образованный на западноевропейский лад, он прекрасно знал латынь, польский, математику. Учился «немецкому делу», всяческим ремёслам, знал «немецкие нравы», вообще Запад. Образ мыслей имел западнического направления. Замеченный русскими царями, Ордин-Нащокин получает воеводство в Друе, а после четырехлетней деятельности в Ливонии он был пожалован в думные дворяне, позже получил титул наместника Шацкого. В ведении его был Посольский приказ и государственная печать (ставил печать год государственными документами), управлял также и железными заводами. За верную и полезную для отечества службу Нащокину даруют пятьсот дворов около Костромы. Этот государственный муж не только понимал необходимость реформ в России, но и многое делал для их воплощения, в частности во Пскове, который получил в управление. Пётр I, приступая к реформам, не только в поездках по Европе убедился в их необходимости, но и на основании проектов Ордина-Нащокина. Англичанин Коллинз называл Нащокина неподкупным преобразователем русских законов.
(обратно)84
Женский головной убор.
(обратно)85
Здесь: зачинщик.
(обратно)86
Каждого.
(обратно)87
Знатными; почитаемыми; уважаемыми.
(обратно)88
Здесь: сборища.
(обратно)89
1 октября (ст.ст.).
(обратно)90
Со слёзными просьбами.
(обратно)91
Гербовой бумаге.
(обратно)92
Галиот — испанский военный корабль; здесь — небольшое каботажное судно.
(обратно)93
Непристойно.
(обратно)94
Воин, вооружённый протазанской рогатиной (алебарда, бердыш).
(обратно)95
Верхняя долгополая одежда с прорехами под мышками и откидным четырехугольным воротом.
(обратно)96
Медлить.
(обратно)97
Достойному осуждения, порицания.
(обратно)98
Небольшой лес, угодья.
(обратно)99
По-старому, как уже было.
(обратно)100
Эпиграф взят из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).
(обратно)101
…юный денщик его, Павлуша Ягужинский…— Павел Иванович Ягужинский (1683-1736) — русский государственный деятель и дипломат, граф. Сын органиста лютеранской церкви; родился в Польше. Верный сподвижник Петра I, он в 1720-1721 годах — посланник в Австрии; в 1722 —генерал-прокурор Сената; в 1726-1727 — посол в Польше; в 1731 —1734 — посол в Пруссии; с 1735 г . — кабинет-министр.
(обратно)102
Речные суда, гребные и парусные.
(обратно)103
Речные суда, большие, палубные, с вёслами и парусами.
(обратно)104
Лодки.
(обратно)105
Судов для Азовского флота итальянского образца.
(обратно)106
Тайно.
(обратно)107
Тот, кто пишет иконы (или торгует ими).
(обратно)108
…вместо тебя, царём князя Михаилу Алегуковича Черкасского…— Черкасские — кабардинские и русские князья XVI-XIX веков. Соперничество между Петром I и князем Черкасским весьма сомнительно. Известно, что в 1707 году, когда Карл XII двинулся на Россию, именно князю Черкасскому вверил Пётр судьбу Москвы, оставив в своё отсутствие её правителем.
(обратно)109
…в Преображенский приказ, к князю-кесарю…— то есть к Ромодановскому Федору Юрьевичу (ок. 1640-1717), возглавлявшему «пытанный приказ» и фактически являвшемуся правителем страны в отсутствие царя.
(обратно)110
Страницы пестреют ссылками на «Ефрема Сирина об антихристе», на «Апокалипсис», на «Маргерит». — Преподобный Ефрем Сирин (306-376) — родом из малазийского города Нисивина, который в 363 году отошёл к Персии; из Нисивина переселился в город Эдессу. Предположительно здесь он основал библейскую школу и преподавал в ней. Создал толкования на многие библейские книги; сохранились его проповеди, комментарии Нового Завета. Почти все его творения имеют поэтическую форму и были весьма популярны на Руси. Книга «Поучений» Сирина была издана в Москве в 1647 году. «Апокалипсис» — одна из книг Нового Завета, в переводе с греческого — «Откровение». Церковь приписывает авторство Иоанну Богослову. Содержит пророчества о конце света, о борьбе между Христом и антихристом, Страшном суде, тысячелетнем царстве Божьем. «Маргерит» — книга избранных бесед Иоанна Златоуста (ок. 350-407), византийского церковного деятеля; в Византии и на Руси Иоанн Златоуст был идеалом проповедника и неустрашимого обличителя.
(обратно)111
…для предстоящего похода под Азов. — Имеется в виду поход 1696 года, завершившийся победоносным взятием этой турецкой крепости.
(обратно)112
…наш отечественный Торквемада…— Торквемада Томас (ок. 1420-1498), с 80-х годов — великий испанский инквизитор; в 1492 году изгнал евреев из Испании.
(обратно)113
Боярин князь Иван Иванович Хованский… старая боярская отрыжка, из «тараруевцев»…-Хованские — русские князья XV-XIX веков из литовской династии Гедиминовичей. Тараруем (пустомелей) называли отца Ивана Ивановича — Ивана Андреевича Хованского, во время стрелецкого бунта 1682 года выступавшего против царевны Софьи, за что был казнён.
(обратно)114
Поп, с которого снят священнический сан.
(обратно)115
Типографский рабочий, печатник.
(обратно)116
Адриан (1609-1700) — последний русский патриарх. Будучи человеком вдохновенным в своём старорусском благочестии, он строго сохранял чистоту веры и неодобрительно отнёсся к некоторым прозападным реформам Петра, связанным с нарушением церковных канонов и вековых обычаев русского народа. После кончины Адриана Пётр не допустил избрания нового патриарха и учредил Духовную коллегию, вскоре преобразованную в Святейший правительствующий Синод.
(обратно)117
Алмаз, бриллиант.
(обратно)118
Боль в крестце или пояснице.
(обратно)119
…митрополит Стефан Яворский… — (1658-1722) — русский церковный деятель, писатель. С 1700 по 1721 год был местоблюстителем (то есть временно исполнявшим должность) патриаршего престола. Его перу принадлежит направленное против лютеранства сочинение «Камень веры».
(обратно)120
Епифаний Славинецкий (?-1675) — русский и украинский писатель; составитель словарей, переводчик песен и проповедей.
(обратно)121
Молитвы, входящие в православные богослужения.
(обратно)122
Блажени милостивый…— «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь).
(обратно)123
Разрешение вина и елея…— Князь-кесарь ёрничает и богохульствует, так как сравнивает пытки, учиняемые в его приказе с церковным праздником; в Великий четверг (предпасхальной Страстной недели) Господь причащал учеников своих вином и елеем.
(обратно)124
Алтабас — название персидской парчи.
(обратно)125
Полотнища, полотенца, платки; фата.
(обратно)126
Обручная посуда; обычно для хлеба, крупы, муки.
(обратно)127
Возвышение.
(обратно)128
Свадебный чин: те, что носят каравай (коровай).
(обратно)129
Деньги; монеты.
(обратно)130
Карета; колымага.
(обратно)131
Дудки резкого, оглушительного звучания.
(обратно)132
…это Голстинию-то…— Имеется в виду земля Шлезвиг-Гольштейн (русское название — Голштиния).
(обратно)133
…Старец Исократ с отчаяния уморил себя голодом…— Исократ (436-338 до н. э.) — афинский оратор и публицист.
(обратно)134
…Александр Ярославич ставил свою пяту на берег Невы…— Александр Невский (1220-1263) — князь новгородский, с 1252 года — великий князь владимирский. Победами над шведами (Невская битва 1240 года) и над немецкими рыцарями (Ледовое побоище 1242 года) обезопасил западные границы Руси.
(обратно)135
Полка.
(обратно)136
…Мазепа Иван Степанович (1644-1709) — гетман Украины (1687-1708); стремился к отделению Украины от России Во время Северной войны (1700-1721) предательски перешёл на сторону вторгшихся на Украину шведов. После Полтавской битвы (1709) бежал вместе с Карлом XII.
(обратно)137
Казаков-пехотинцев.
(обратно)138
Земляные окопы (шанцы); общее название временных полевых укреплений в России XVII-XIX вв.
(обратно)139
Долгорукий Яков Фёдорович (1639-1720) —сподвижник Петра, участник Азовских походов. Пробыл десять лет в шведском плену, с 1700 года до размена пленными в 1710 году.
(обратно)140
Часть всенощного богослужения накануне церковных праздников; отпевание ушедшего при выносе из дома, в ходе погребальной процессии и на могиле; краткая служба в притворе христианского храма.
(обратно)141
Злой дух, главный среди демонов.
(обратно)142
«Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил!» — последние слова Иисуса Христа перед смертью (Евангелие от Матфея,, гл. 27, 46).
(обратно)143
Это место в розыскном деле о Талицком не совсем понятно. Вероятно, знаменитый старик Никита Моисеевич Зотов, приближённое лицо к царю и носившее сан «патриарха всепьянейшего и всешутейшего собора», ввиду раскольничьих убеждений князя Хованского, «шутейно», в качестве шутовского патриарха, возводил Хованского в чин шутовского митрополита и велел ему совершить от чего-то отречение. Тот и прочёл отречённый «столбец». А затем Зотов и спрашивал его по сочинённому самим царём чину посвящения в члены «всепьянейшего и всешутейшего собора». (Примеч. автора.)
(обратно)144
Это был Орлов Иван. — Речь идёт о деде фаворитов Екатерины II братьев Орловых.
(обратно)145
То есть — бежал.
(обратно)146
Зажигательные ядра, род гранаты, начинённой горючей смесью.
(обратно)147
Виниус Андрей Андреевич (1641 —1717) — сын голландского купца и промышленника, родился и крещён в православную веру в Москве. Был переводчиком, потом дьяком в Посольском приказе. Позже заведовал Аптекарским приказом и почтовой службой. Подготовил для Петра I проект об учреждении флота в России. В 1703 году впал в немилость; в 1706 году бежал за границу, но вскоре вернулся и вновь служил.
(обратно)148
…читал когда-либо пророка Исайю…— Имеется в виду одна из книг Ветхого Завета. Пророк Исайя родился около 765 года до н. э. Бог в Иерусалимском храме возложил на него пророческую миссию: возвещать падение Израиля и Иуды в наказание за неверность народа. В первые годы своей пророческой деятельности он, главным образом, обличает нравственную развращённость, явившуюся следствием материального процветания в царстве Иуды.
(обратно)149
Пр. Исайи, I, II — 15
(обратно)150
…постричь насильно царицу Евдокию…— Лопухина Евдокия Федоровна (1669-1731) — первая жена Петра, с которой он расстался в 1698 году. По его приказу она была пострижена в монахини.
(обратно)151
Так назывался застенок.
(обратно)152
Здесь: околоток; район.
(обратно)153
Пекущий просфоры, белые хлебцы особой формы, употребляемые в православном богослужении.
(обратно)154
То есть с учёными цитатами; доказательно.
(обратно)155
…при Гуммельсгофе Шлиппенбах мало штаны не потерял. — Шведский генерал Шлиппенбах проиграл генерал-фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву (1652-1719) три сражения: при Эрестфере, Гуммельсгофе и на реке Эмбах.
(обратно)156
Сума, сумка, торба.
(обратно)157
Кровь.
(обратно)158
…вишь, Соломон какой: добыл себе царицу Савскую…— Соломон — израильско-иудейский царь (965-928 гг. до н. э.). согласно библейским преданиям, славился необыкновенной мудростью и богатством, что привлекло царицу Савскую, правительницу арабского племени; она отправилась в Иерусалим и воочию убедилась, что слухи о мудрости и богатстве Соломона верны.
(обратно)159
Прудами.
(обратно)160
Козни; интрига.
(обратно)161
Тот, кто собирает подаяние в мешок.
(обратно)162
Сенные девки, крепостные горничные.
(обратно)163
Юбки.
(обратно)164
Не съели.
(обратно)165
Кукушки.
(обратно)166
…окажется нитью Ариадны и приведёт его в пасть Минотавра…— В греческой мифологии Ариадна — дочь критского царя Миноса и Пасифаи. Когда на Крит прибыл юноша Тесей, его обрекли на съедение чудовищу Минотавру, обитавшему в лабиринте; Ариадна помогла герою, дав ему клубок нитей. Убив Минотавра, Тесей с помощью прикреплённой у входа в пещеру нити смог выбраться из лабиринта.
(обратно)167
…стены нового Иерихона…— Крепость Нотебург сравнивается с твердыней земли Ханаанской Иерихоном, стены которого рухнули от звука труб и крика воинов легендарного военачальника израильтян Иисуса Навина.
(обратно)168
Апраксин Федор Матвеевич (1661-1728) — граф, сподвижник Петра I, генерал-адмирал, командовал русским флотом в Северной войне и Персидском походе (1722-1723). С 1718 года — президент Адмиралтейств-коллегий, с 1726-го — член Верховного тайного совета.
(обратно)169
…на каких аккордах… намерен сдать… крепость…— то есть каковы условия капитуляции.
(обратно)170
Ироническое послание.
(обратно)171
Часть крепостной стены между двумя бастионами.
(обратно)172
Мой дорогой… мой возлюбленный! (нем.)
(обратно)173
Твоя любовница… твоя раба! (нем.)
(обратно)174
Твоя вернейшая Анна… (нем.).
(обратно)175
Разведку с целью получения сведений о расположении противника, его огневых средств, особенностях местности, где предполагаются боевые действия.
(обратно)176
Башуцкий Александр. Панорама Санкт-Петербурга: В 3 т. СПб., 1834. Т 1. стр. 9.
(обратно)177
Панорама Санкт-Петербурга. Т. 1, стр. 10-11.
(обратно)178
Производят благоприятное впечатление.
(обратно)179
Помощи.
(обратно)180
Участки любого водоёма, предназначенные для лова рыбы закидным неводом.
(обратно)181
Взятых на абордаж, то есть сцеплением крючьями своего и неприятельского судна для ведения рукопашного боя.
(обратно)182
Двухмачтовое морское судно типа шхуны.
(обратно)183
Отрывок (вступление) из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».
(обратно)184
И такая медаль действительно была выбита и пожалована всей участникам морской баталии.
(обратно)185
Судно.
(обратно)186
Шведский.
(обратно)187
…обратясь к артиллерийскому полковнику Трезини, родом итальянцу…— Доменико Трезини (ок. 1670-1734) — русский архитектор, представитель раннего барокко. По национальности швейцарец (возможно, родом из Италии). С 1703 года жил и работал в России. Возводил дворец Петра I (1710-1714), собор Петропавловской крепости (1712-1733), здание Двенадцати коллегий (1722-1734).
(обратно)188
Сказание об орле — не измышление автора, а исторический факт.
(обратно)189
Так называлась в те времена Голландия.
(обратно)190
То есть семуха, семка — Троицын и Духов день, Пятидесятница; седьмой от Пасхи четверг; праздник плодородия.
(обратно)191
Репнин Аникита Иванович (1668-1726) — князь, генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра, с детских лет связан был с ним дружбой и службой в «потешной роте» в звании поручика. Участник Азовских походов; осуществлял осаду и взятие Риги (1709-1710).
(обратно)192
Так повелевает новый-от указ…— В 90-х годах ХVIII века Пётр I был занят созданием российского флота. В 1696 году Пётр отбыл на верфь в Воронеж, где шло строительство стругов и галер для Азовского похода. Казна не справлялась с огромными расходами, и Пётр ввёл новые обременительные повинности: строительство и поставка судов, мобилизация людей на сооружение верфей, а также новые налоги: корабельные, подворные, драгунские и др.
(обратно)193
…стряпческа вдова…— Стряпчий — придворный чин на Руси в XVI-XVII веках, следующий за стольником. Первоначально стряпчие держали в церкви стряпню (справу) царя, то есть скипетр, шапку и платок, а в походах возили доспехи. Позже, в XVIII веке, так назывались судебные чиновники.
(обратно)194
Четь — четверть, четвёртая доля.
(обратно)195
Струг — большое речное судам, гребное и парусное.
(обратно)196
…на весеннего Егорья…— День «вешнего» Егория храброго — 23 апреля.
(обратно)197
Чихирь — беспутный пьяница.
(обратно)198
…как… священство-то заколупнули?.. — При Петре I государственные повинности несли все сословия: крестьяне, купцы, дворяне, духовные лица. Духовное сословие лишено было права распоряжаться доходами со своих вотчин.
(обратно)199
…дело происходит в семь тысяч двести пятом году от сотворения мира, а нашего счета в 1697-м. — В 1699 году указами от 19 и 20 декабря Пётр I ввёл в России новое летосчисление: не от сотворения мира, а от рождества Христова, а новолетие начинать не с 1 сентября, а с 1 января, как во многих европейских странах.
(обратно)200
Подголовком называли деревянный ларец в форме полувалика, со скатом для головы, обтянутый кожею и набитый чем-нибудь мягким. Он заменял подушку на ночлег в дороге. В нём возили с собою самое ценное богатые люди.
(обратно)201
Профессионального (лат.).
(обратно)202
Крайней степени (лат.).
(обратно)203
…на Покров. — То есть на праздник Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября.
(обратно)204
…на Преплавленье…— Преполовение приходится на среду четвёртой недели после Пасхи.
(обратно)205
…с постельного крыльца…— то есть по распоряжению постельничего, в XV-XVIII веках одного из высших придворных чинов. Первоначально постельничий заведовал постельной государевой казной, слободами, мастерскими, изготовлявшими постельные принадлежности для царской семьи.
(обратно)206
…сказки за руками…— так называемые ревизские сказки — поимённая перепись всего населения; за руками — за подписью.
(обратно)207
…на утре Введенья читано…— Церковный праздник Введения Пресвятой Девы во храм — 21 ноября.
(обратно)208
Повалуша — жилое помещение, горница, часто летняя, холодная.
(обратно)209
…а теперя, как стрельцов переводят, — дворяне, разумеется, станут к престолу ближе. — Стрелецкие войска, организованные в середине XVI века Иваном Грозным и выполнявшие основные оборонные и военные задачи, при Петре I постепенно заменялись рейтарскими, драгунскими, солдатскими полками. С созданием регулярного войска роль стрельцов постепенно свелась к полицейским функциям, охране царских дворцов и угодий. Полному разгрому стрельцы подверглись в 1698 году после восстания четырех стрелецких полков.
(обратно)210
…поскребал в столбце…— Деловые бумаги приказного делопроизводства в учреждениях России XVI-XVIII веков подклеивали лист к листу, в виде свитка. Каждый отдельный свиток назывался столбцом.
(обратно)211
Устав — старинный почерк древних славянских рукописей.
(обратно)212
…бельцам женитву закон предписывает…— Белец — живущий в монастыре, но не постриженный в монашество.
(обратно)213
Т.е. внеся обычные брачные пошлины за венечную память, без которой не совершалось чина бракосочетания в церкви. Деньги пошлинные за разрешение духовного начальства совершить брак назывались куничною пошлиною, или просто куницею. (Примеч. автора.)
(обратно)214
Паужин, паужина — еда между обедом и ужином.
(обратно)215
Погост — здесь: церковь с домами попа, причта и кладбище.
(обратно)216
Здесь: в одно место.
(обратно)217
Испорченное слово иоахим — талер, от имени Бранденбургского курфюрста Иоахима, которого изображение выбито было на талере. (Примеч. автора.)
(обратно)218
…пошлём списки на Воронеж, в шатёр государский…— После первого Азовского похода (1695) Пётр стал строить флот в Воронеже и там же учредил Приказ адмиралтейских дел. Многие города были приписаны к этому приказу и обязаны были поставлять работников и собирать податные сборы на корабельное дело.
(обратно)219
Аршин — дометрическая мера длины в России с XVI в., равен 71,12 см ; сажень — равна трём аршинам.
(обратно)220
Полавочник — половик, коврик, покрывающий лавку.
(обратно)221
Думный дворянин — младший чин царской думы.
(обратно)222
Выть — доля, участок.
(обратно)223
Огурщик — лентяй, неслух.
(обратно)224
Память — служебная запись с распоряжением должностным лицам, иногда запись частных лиц.
(обратно)225
Повытье — отделение.
(обратно)226
…в кумпанствах…— Для строительства флота были созданы «кумпанства» из светских и духовных землевладельцев.
(обратно)227
Кси — название сорок первой буквы церковной азбуки. В 1710 году Петром I был утверждён новый гражданский шрифт, и в нём отсутствовали буквы со сложным звуковым сочетанием «кси» и «пси».
(обратно)228
Отлынивание, бегство от дела.
(обратно)229
Боярский сын или молодей дворянин, начинающий службу.
(обратно)230
…для вотчинных работников и для поместных…— Различие между основными видами служебного землевладения на Руси, между наследственной собственностью — вотчиной — и поместным владением, то есть владением временным, прижизненным, задолго до Петра I стало стираться, и оба вида собственности постепенно сближались.
(обратно)231
…Сашки Меншикова…— Меншиков Александр Данилович (1670 или 1673-1729) —фаворит Петра I и Екатерины I. Был денщиком у Петра, расположение царя перешло в близкую дружбу. Вместе с Петром участвовал в Азовских походах, ездил за границу. Во время действий русской армии в Ингрии обнаружил выдающиеся военные способности и храбрость. В 1702 году — комендант Нотебурга и губернатор завоёванных областей, с 1706 года — главнокомандующий. В 1707 году Пётр I присвоил ему звание светлейшего князя Ижорского. За Полтавскую битву получил фельдмаршала. В 1714 году участвовал в походах в» Курляндию, Померанию и Голштинию. Меншиков увеличивал своё состояние всеми дозволенными и недозволенными средствами. В 1714 году назначена была следственная комиссия по доносу на него, которая разбирала его дела многие годы. В 1719 году Меншиков — президент Военной коллегии. После смерти Петра I, при Екатерине I стал фактическим правителем России. Получил звание генералиссимуса. В 1727 году был арестован и сослан с семьёй в Берёзов.
(обратно)232
Вывозною памятью называли отписку из приказа, распоряжавшегося делом рубки, о количестве отправляемого по назначению. Она была то же, что с лесного двора или с кирпичного завода накладная, по которой счётом должны были принять и, записав в книгу, подлинный документ возвратить; по нему производили ревизию получения и отсылки. (Примеч. автора)
(обратно)233
Охабень — верхняя одежда, длинная, с прорехами под рукавами и четвероугольным отложным воротником.
(обратно)234
Дуб для внутренней отделки военных судов и на другие поделки отправляли из лесов уже сортированным и в вязках, как в Голландии делалось; и связывали лес надёжно, как указано было, десятками. На сплаве, при нагрузке на суда, делили в бунты и в накладных прописывали число их приёмщики сплавные. (Примеч. автора.)
(обратно)235
Кикин — Кикин Александр Васильевич (?-1718) — сподвижник Петра I. В Азовском походе был его денщиком; в 1697 году был в Голландии с Великим посольством, где учился кораблестроению. По возвращении работал на Воронежских и Олонецких верфях. В 1707 году управлял Адмиралтейством, в 1710-1714 годах занимался делами кораблестроения и снаряжения флота. В 1712 году произведён в адмиралтейские советники. С Петром был в дружественных, близких отношениях и постоянной переписке. В 1715 году арестован по подозрению во взяточничестве, лишён всех наград, отстранён от должности, сослан в Москву. В следующем году Пётр вернул его в Петербург, но Кикин затаил обиду; к тому же с давних пор у него была вражда и соперничество с Меншиковым. Все это послужило причиной сближения Кикина с царевичем Алексеем. Он помог царевичу скрыться от Петра за границей. В 1718 году Кикин был арестован по делу царевича и казнён колесованием.
(обратно)236
Христов день — светлое Христово воскресение, Пасха. Фомино воскресенье — на Фоминой неделе, следующей за Святой. Радоница — Родительский день, день поминовения усопших.
(обратно)237
Т.е. имел пашенной земли в двух полях 1600 четвертей, не включая наделов лугов и леса по положению. (Примеч. автора.)
(обратно)238
25 рублей, т. е. до полного третьего десятка не имелось налицо полудесятка (пяти). (Примеч. автора)
(обратно)239
Шаль — дурь, блажь.
(обратно)240
Волоковое — маленькое задвижное окошко.
(обратно)241
Дорогим. (Примеч. автора)
(обратно)242
…в Преображенское…— Царскую резиденцию Кремль в юные годы Петра I занимали царевна Софья и Иван V. Царица Наталья Кирилловна с сыном Петром жили в сёлах Преображенское, Воробьёве и Коломенское под Москвой. Преображенское оставалось излюбленным местом жительства Петра во время пребывания в Москве, там же размещался его двор.
(обратно)243
…царицы Марфы Матвеевны…— то есть жены царя Федора Алексеевича (1661 —1682).
(обратно)244
Андрей Матвеич Апраксин — брат царицы Марфы Матвеевны. При царе Иване Алексеевиче был комнатным стольником. В 1722 году Пётр I пожаловал ему звание обер-шенка и возвёл в графское звание.
(обратно)245
Госпожинки — Госпожин день Богородицы 15 августа.
(обратно)246
Т.е. в первый день сентября, потому что по 1700 год у нас на Руси новый год начинался с сентября, а не с января месяца. (Примеч. автора.)
(обратно)247
Грубого польского сукна. (Примеч. автора.)
(обратно)248
…Кириле Белозерскому…— Кирилло-Белозерский мужской монастырь на берегу Сиверского озера, основан в 1397 году.
(обратно)249
Жильё — этаж.
(обратно)250
Черлядь (чермень) — яркая красно-охристая краска, употреблялась для крыш и заборов.
(обратно)251
Разиня, простофиля.
(обратно)252
Кутила (фр).
(обратно)253
…каноархом…— то есть монахом-регентом, который при церковном пении объявляет глас и слова канона.
(обратно)254
Анной Ивановной Монс. — Речь идёт о фаворитке Петра I, дочери виноторговца из Немецкой слободы в Москве.
(обратно)255
Ганимедом…— Троянский юноша, похищенный Зевсом и на Олимпе ставший виночерпием богов (греч. миф.).
(обратно)256
…у Федора Матвеича аль у Петра Матвеича…— Апраксин Пётр Матвеевич (?-1727/1728) — старший сын М. В. Апраксина. Петром I был назначен воеводою в Новгород (до 1699), потом отозван в Москву. В 1701 году набрал в Новгороде два полка, которые под его командой прикрывали столицу от шведской армии. В 1702-1704 годах Апраксин одержал ряд побед над шведской флотилией. С 1705 года — астраханский губернатор, с 1708-го — казанский губернатор. Много способствовал построению судов на Волге. С 1717 года Апраксин стал сенатором в Петербурге. В 1718 году по подозрению в пособничестве побегу царевича Алексея за границу взят под стражу, лишён имения, но признан невиновным. Был членом суда над царевичем. В 1722 году — президент Юстиц-коллегии, действительный статский советник, затем тайный советник.
(обратно)257
Движимое имущество.
(обратно)258
Поминок — подарок, приношение.
(обратно)259
Как тать, вор.
(обратно)260
Негодного, непутёвого.
(обратно)261
Полковник Вейде. — Вейде Адам Адамович (1667-1720) родился в Москве, начал службу в «потешных» войсках, позже стал майором Преображенского полка. Участник двух Азовских походов. В 1700 году сформировал дивизию, с которой сражался под Нарвой, попал в плен. В 1710 году вернулся в Россию. Участвовал в Прутском походе и в Финляндской кампании в Северной войне. Был советником Петра I в организации регулярной армии, автором «Воинского устава».
(обратно)262
…приезда самого главы всепьянственного собора, всешутейшего Никиты Моисеевича. — Возникновение «сумасброднейшего, всешутейшего и всепьянейшего собора» известный русский историк В. О. Ключевский связывает со стремлением Петра «облечь разгул с сотрудниками в канцелярские формы». Чести быть принятыми в собор удостаивались пьяницы, обжоры, шуты и дураки. В иерархии чинов собора сам Пётр занимал чин протодьякона, а главный титул «князь-папы» или всешутейшего патриарха Московского, Кокуйского и Всеяузского носил в течение 25 лет учитель Петра Никита Зотов.
(обратно)263
Поклоны.
(обратно)264
Пётр Иваныч Гордон. — Гордон Патрик (1635— 1699) — выходец из Шотландии, служил в шведской и польской армиях. В 1661 году был приглашён на службу в Россию. В 1676— 1678 годах участвовал в украинских походах, в 1687 и 1689 — в крымских походах, в 1696 году — в Азовском походе. Гордон — способный, честный, прекрасный организатор и инженер — дослужился до чина генерала и контр-адмирала.
(обратно)265
Автомон Михайлович Головин — комнатный стольник у малолетнего Петра I, в «потешном» войске был пожалован чином полковника Преображенского полка. Участвовал в Азовских походах (1695 и 1696). В сражении под Нарвой (1700) попал в плен, отвезён в Стокгольм, обменён лишь в 1718 году.
(обратно)266
Здесь: продавец в питейном заведении.
(обратно)267
Просовка — деревянный брусок, на котором разглаживали швы.
(обратно)268
…в Азове послужит…— В результате второго Азовского похода (1696) Азов был взят, и в нём оставлен гарнизон русских войск. Пётр I, воодушевлённый победой над турецкой армией и уверовавший в силу флота, предусматривал заселение Азова русскими семьями и планировал постройку там флота. С овладением Азовом Россия вышла к морю.
(обратно)269
Здесь: тумак, затрещина — в переносном смысле.
(обратно)270
Царское вышло в ту пору повеленье дворянских ребят представлять государю на посмотренье…— Пётр I требовал от дворянского сословия обязательной службы в полках, на кораблях или в канцеляриях. Он строго предписывал представлять в Разряд, а позже в Сенат списки недорослей-дворян и по этим спискам производить ежегодно смотры и разборы; сам участвовал в этих смотрах. На них недоросли распределялись по полкам и школам, некоторые отправлялись для учёбы за границу. Осенью 1714 года велено было всем дворянам от Г0 до 30 лет явиться для записи при Сенате, а в 1715 году — всем, без ограничения возраста. Указами от 20 января и 28 февраля 1714 года дети дворян, приказных и дьяков от 10 до 15 лет обязаны были обучаться арифметике, геометрии, им не дозволялось жениться без письменного удостоверения об обучении. С 15 лет дворянин должен был служить несколько лет солдатом, а затем офицером.
(обратно)271
Объяр — муаровая ткань.
(обратно)272
…к Ильину дню…— 20 июля.
(обратно)273
…о парадизе Петровом…— 16 мая 1703 года была заложена крепость с 6 бастионами и наименована Санкт-Петербургом. Пётр I называл Петербург «парадизом» (раем), мечтая о будущей великолепной столице. В письмах он писал: «Не могу не писать вам из здешнего Парадиза. Истинно, что в раю здесь живём».
(обратно)274
Домотканый.
(обратно)275
Бострог — куртка, безрукавная мужская одежда (от нем. botsrook).
(обратно)276
Главное управление завоёванного у шведов края, управлявшегося генерал-губернатором князем Меншиковым, имевшим титул светлости и герцога Ижорского. От этого титула генерал-губернаторская канцелярия и называлась ижорскою. (Примеч. автора.)
(обратно)277
Т.е. представлен налицо, как требовалось по указу (Примеч. автора.)
(обратно)278
Корнилий Иваныч Крюйс. — Крюйс Корнелий Иванович (1657-1727) — адмирал. Службу начал в голландском флоте. В 1697 году приглашён Петром I в Россию; привёз с собой многих офицеров, корабельных мастеров, матросов. В 1700-1701 годах организовал флот в Воронеже, в 1702 году укрепил Архангельск. Участвовал в защите от шведов Кронштадта и Петербурга и обустроил крепость и гавань Кронштадт. В 1713 году в Финском заливе эскадра под его предводительством попыталась захватить замеченные шведские суда, но два русских корабля сели на мель, а неприятельские ушли. Военный суд приговорил Крюйса к смертной казни, которая была заменена ссылкой в Казань. Возвратился Крюйс в 1719 году, был вице-президентом Адмиралтейств-коллегий.
(обратно)279
Верейка — небольшая лёгкая лодка.
(обратно)280
При начале Северной войны…— Северная война России и её союзников со Швецией началась в 1700 году. Основной целью Петра I в этой войне был выход России к Балтийскому морю.
(обратно)281
Ферязь (ферезь) — мужское длинное платье с длинными рукавами, без воротника, снизу доверху застёгивающееся на множество пуговиц.
(обратно)282
Чуга — долгий кафтан.
(обратно)283
Терлиг — род долгого кафтана с короткими рукавами.
(обратно)284
Головные уборы, отороченные сильно накрахмаленными кружевами.
(обратно)285
Фижмы — каркас, подложенный под юбку, иногда из китового уса.
(обратно)286
Багинет — штык.
(обратно)287
Анютка отсидела взаперти годков пять-шесть… Да потом замуж вышла за пруссачка…— После разрыва с Анной Монс в 1704 году Пётр держал её и её мать под домашним арестом до 1706 года. Причиной разрыва была связь Анны Монс с прусским посланником Кейзерлингом, который в 1711 году женился на Монс.
(обратно)288
А Матрёна за комендантом была…— Модеста (Матрёна) Ивановна Монс вышла замуж за лифляндского дворянина Федора Николаевича Балка. Впоследствии он был генерал-поручиком, а она фрейлиной Екатерины I.
(обратно)289
…генерал-адъютантом от кавалерии…— Монс Вилим Иванович (1688-1724) участвовал в сражениях при Лесной и Полтаве. В 1711 году был взят Петром I личным адъютантом. В 1716 году стал камер-юнкером Екатерины I. В 1724 году при коронации Екатерины получил чин камергера. 9 ноября 1724 года был арестован. Суд нашёл его виновным в злоупотреблении доверием императрицы и в том, что за взятки добивался её милостей для просителей.. Хищения не были велики. Однако Монс был казнён.
(обратно)290
Противня — белая изба.
(обратно)291
…князю-кесарю моему, Федору Юрьевичу…— Возникновение игры в князя-кесаря совпадает по времени с игрой в князя-папу и всепьянейший собор. Но в игре в князя-кесаря принимали участие ближайшие друзья Петра, его «компания». Князем-кесарем был назначен Ромодановский Федор Юрьевич. Титул князя-кесаря был потом присвоен его сыну Ивану.
(обратно)292
…аракчеевские офицеры перед французом…— Намёк на жестокую муштру солдат при всесильном временщике эпохи Александра I, военном министре Аракчееве А.А. (1769-1834).
(обратно)293
…стали забирать конфидентов царевичевых…— После возвращения царевича Алексея из-за границы в 1718 году начался грозный розыск. Следствие обнаружило, что за границей царевич готов был переметнуться под покровительство шведского короля и с его помощью добиваться трона. Алексей назвал сообщников, начались аресты, казни. Царевич Алексей был заключён в Петропавловскую крепость, где и умер 26 июня 1718 года.
(обратно)294
Здесь: посты.
(обратно)295
Лакоста (Ян д'Акоста) — по происхождению португальский еврей, был привезён из Гамбурга в Россию, где стал шутом при петровском дворе. Умный, хорошо образованный, знавший несколько европейских языков и разбиравшийся в Священном писании, он был интересным собеседником для Петра, особенно по богословским вопросам. Пётр пожаловал ему титул «самоедского короля» и подарил один из безлюдных островов Финляндии.
(обратно)296
Так называли четырехвесельный ял для переездов по Неве. (Примеч. автора.)
(обратно)297
…на Преображенев день…— Церковный праздник в память преображения Спасителя на Фаворской горе, 6 августа.
(обратно)298
Короткая мужская одежда без рукавов; куртка.
(обратно)299
Столоначальник.
(обратно)300
…с Филипповок…— Филиппов пост в канун 14 ноября.
(обратно)301
Гербовой. Орленой называлась она в первое время в России при Петре I. (Примеч. автора.)
(обратно)302
Барашами называли в Москве грязные ушаты, в которые сливали из ночных горшков. (Примеч. автора.)
(обратно)303
Проницательно, дальновидно. (Примеч. автора.)
(обратно)304
…царевною Натальею Алексеевною…— Наталья Алексеевна (1673-1716) — дочь царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны Нарышкиной, сестра Петра I и его помощница.
(обратно)305
…к Екатерине Алексеевне, когда ещё держали её под секретом в одноэтажном домике в селе Семеновском…— Екатерина I Алексеевна (1684-1727) — дочь литовского крестьянина Самуила Скавронского Марта. При взятии русскими войсками Мариенбурга попала в плен, была в услужении у Шереметева, потом у Меншикова. В 1705 году её увидел Пётр I и с этого времени с ней не расставался. У них родились две дочери: Анна (1708) и Елизавета (1709). В 1711 году Екатерина Алексеевна (данное ей имя) сопровождала Петра I в Прутском походе. Брак был заключён 19 февраля 1712 года. Узаконены были обе дочери. После смерти Петра Екатерина была возведена на престол гвардейскими полками под предводительством Меншикова.
(обратно)306
Наедине (фр.).
(обратно)307
Канделябр (от фр. girandole).
(обратно)308
Тупей — хохол, взбитый на голове.
(обратно)309
…Димитрия Андреевича Шепелева. — Шепелев Дмитрий Андреевич принадлежал к старинному дворянскому роду; генерал-аншеф и обер-гофмаршал. Построил санкт-петербургский Зимний дворец при Елизавете Петровне.
(обратно)310
Канифас — старинное название льняной полосатой ткани.
(обратно)311
Драница — колотая сосновая дощечка для кровель.
(обратно)312
Гонтина, гон — короткая дранка, ею покрывают крыши в виде чешуи.
(обратно)313
…Алёшки Татищева… Сашки Румянцева…— Татищев Алексей Данилович (1697-1760), впоследствии стал генерал-аншефом и генерал-полицеймейстером. Румянцев Александр Иванович в начале своей деятельности при Петре I выполнял его дипломатические поручения. Вместе с П. А. Толстым был послан за границу за царевичем Алексеем
(обратно)314
Алексей Василич — Макаров Алексей Васильевич (1674 или 1675-1750) — тайный кабинет-секретарь Петра I; в его ведении были все секретные бумаги. Он сопровождал Петра всюду. Был незнатного происхождения и высоких постов не достиг, но благодаря приближённости к Петру был очень влиятелен. Имел репутацию делового и справедливого человека. После смерти Петра I способствовал возведению на трон Екатерины Алексеевны.
(обратно)315
Аграф — нарядная пряжка, украшенная драгоценными камнями.
(обратно)316
…Арескину… — Арескин (или Эрскин) Роберт — лейб-медик Петра I, доктор медицины и философии Оксфордского университета. В 1706 году был принят Петром на царскую службу и назначен президентом Аптекарского приказа.
(обратно)317
Непотребный, негодный.
(обратно)318
…житие Филарета Милостивого…— Филарет (Романов Федор Никитич, 1554 или 1555-1633) — патриарх российский (1608-1610 и с 1619), отец царя Михаила Фёдоровича, боярин, приближённый царя Федора Ивановича; при Борисе Годунове, с 1600 года, в опале, пострижен в монахи. При Лжедмитрии I стал ростовским митрополитом, в 1610 году возглавлял Великое посольство. С 1619 года фактический правитель страны.
(обратно)319
Род борща, похлёбки с огурцами на огуречном рассоле, со свёклой и мясом.
(обратно)320
Благодать — дары Святого Духа.
(обратно)321
Требы — отправление таинств или священного обряда.
(обратно)322
Ратафея (ратафия) — пряная водка, ликёр.
(обратно)323
Подызбица — погреб, подполье, кладовая.
(обратно)324
Здесь: груши, бергамот — сорт груши.
(обратно)325
Ратман — выборный член магистрата, ратуши (от нем. Ratmann: Rat — совет, Mann — человек.)
(обратно)326
Секвестр — запрещение или ограничение пользования имуществом.
(обратно)327
Протори — судебные издержки, расходы.
(обратно)328
Полтавской годовщины…— 27 июня 1709 года под Полтавой шведская армия была разгромлена русскими войсками.
(обратно)329
…поздравляю вас всех с таким миром, какого и ожидать мы не смели…— 30 августа 1721 года был заключён Ништадтский мир со Швецией. Окончена была Северная война, длившаяся 21 год. По договору к России отошли Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия, г. Выборг и Кексгольм. Петербург, Рига, Ревель и Выборг стали важными внешнеторговыми центрами страны, Россия превратилась в морскую державу.
(обратно)330
Маскарад.
(обратно)331
Маскара — маска; домино — маскарадный костюм, широкий плащ с рукавами и капюшоном.
(обратно)332
Дивьер Антон Мануилович — сын португальского еврея, был юнгой на корабле под командованием Петра I во время морских манёвров. Пётр взял его в пажи, затем в денщики. В 1718 году стал бригадиром, а вскоре генерал-адъютантом. Он был назначен первым генерал-полицеймейстером Санкт-Петербурга. После смерти Петра I, при Екатерине, в 1726 году стал сенатором и был возведён в графское достоинство. Меншиков, не жаловавший Дивьера, в 1727 году добился суда над ним. Дивьер вместе с Г. Скорняковым-Писаревым был арестован и сослан в Якутскую губернию. Императрица Елизавета Петровна вернула его из ссылки и назначила вновь генерал-полицеймейстером Санкт-Петербурга.
(обратно)333
Плюмаж — украшение из перьев.
(обратно)334
В старину лиловый цвет называли червчатым, потому что получали его от сваренья краски червеца с кубовою. (Примеч. автора.)
(обратно)335
Оранжевого.
(обратно)336
…с Иваном Елкиным…— В те времена на Руси над питейными заведениями прибивали еловые ветви.
(обратно)337
Вот приехал гневный государь судить распри светлейшего князя с вице-канцлером… Шафирову плохо… Скорняков только придиру ловкую изобрёл…— Шафиров Пётр Павлович (1669-1739) — известный дипломат петровского времени. Начал службу в Посольском приказе в 1691 году, потом стал его вице-канцлером. Сопровождал Петра I в его походах, принимал участие в заключении многих важных договоров: с польским королём Августом II, с Турцией и др. С 1717 года — вице-президент Коллегии иностранных дел. Шафиров хорошо владел пером и по поручению Петра писал «Рассуждения о причинах Свейской войны» (опубл. в 1716 и 1722 годах). В 1723 году предметом обсуждения при дворе было дело Шафирова со Скорняковым-Писаревым. Обер-прокурор Сената Г.Скорняков-Писарев неприязненно относился к Шафирову. Против него выдвинули обвинения в злоупотреблениях. В Сенате его спровоцировали на скандал, в результате оскорблёнными сочли себя Меншиков, Головкин и Брюс, покинувшие заседание. Пётр I велел Сенату разобрать конфликт, но схватка Шафирова с всесильным Меншиковым была предрешена. Специальная комиссия, наименованная Высшим судом, признала Шафирова виновным и приговорила к смертной казни, заменённой высылкой в Нижний Новгород.
(обратно)338
…князя Михаилы Михайловича Голицына…— Голицын Михаил Михайлович (1675-1730) — генерал-фельдмаршал. В 1699 году участвовал в морском походе Петра I в Керчь, в 1700 году в сражении при Нарве. Осаждал Нотебург, прославился в сражениях при Добром и под Полтавой, содействовал взятию Выборга (1710). Был с Петром I в Прутском походе. В 1714-1721 годах возглавлял русские войска в походе в Финляндию, участвовал в сражениях со шведским флотом. При Екатерине I стал генерал-фельдмаршалом.
(обратно)339
Крючком называли продажную меру полугарного вина — стакан. (Примеч. автора.)
(обратно)340
…генералу Ушакову…— Ушаков Андрей Иванович (1672-1747) — выходец из бедного дворянского рода. Пётр I возвёл его в звание тайного фискала (1714) и поручил наблюдать за постройкой корабля. В 1730 году он стал сенатором, а в 1731-начальником Тайной розыскных дел канцелярии. В 1744 году ему было пожаловано графское звание.
(обратно)341
…генерал-майора Чернышёва.. — Чернышёв Григорий Петрович (1672-1745) — граф, военачальник, государственный деятель, один из наиболее близких сподвижников Петра I. Он пользовался его доверием и расположением. В 1695 году побывал в первом Азовском походе; в Северней войне участвовал в крупнейших сражениях. Отличился в битве под Полтавой. Командовал несколькими полками при взятии Выборга. Участвовал в походе в Финляндию (1713-1714). В 1718 году стал членом Адмиралтейств-коллегий, сенатором. Был губернатором Азовской, Лифляндской и Московской губерний.
(обратно)342
…процессы 1718 года…— Имеется в виду расследование дела царевича Алексея.
(обратно)343
…первый из иерархов…— Рязанский митрополит Стефан Яворский, которого Пётр I назначил руководить церковными делами и объявил местоблюстителем патриаршего престола, произнёс в Москве проповедь, вызвавшую гнев Петра. В ней он уповал на возврат к старине при воцарении наследника.
(обратно)344
Черкасов Иван Антонович (1692-1752) — начал карьеру канцеляристом при кабинет-секретаре Макарове. Пётр I давал ему поручения, брал в путешествия, затем произвёл в кабинет-секретари. При императрице Анне Иоанновне был сослан в Казань, затем в Астрахань. Императрица Елизавета Петровна снова произвела его в кабинет-секретари и удостоила звания барона.
(обратно)345
…крутенько свернул этого человека…— См. примеч. о А.В. Кикине.
(обратно)346
…у князя-кесаря. — После смерти Ф. Ю. Ромодановского в 1717 году титул князя-кесаря перешёл к его сыну Ивану Фёдоровичу.
(обратно)347
Здесь: харчевня; от слова «сыть» — харчь, пища.
(обратно)348
Увольнительная (нем.).
(обратно)349
Новый император задумал возложить корону на свою спутницу в походах и разъездах…— 22 октября 1721 года Сенат поднёс Петру I титул Великого императора и Отца отечества. В 1722 году Пётр опубликовал Устав о наследии престола, который отменял передачу престола обязательно старшему сыну. Отныне государь сам мог назначать преемника. В 20-е годы Пётр уже думает о своём преемнике. Вероятно, намерение его короновать свою супругу императрицей связано было с желанием оставить ей трон. В марте 1724 года состоялась чрезвычайно пышная церемония коронации Екатерины Алексеевны.
(обратно)350
Смерть царицы Прасковьи Федоровны. — Прасковья Федоровна — царица, урождённая Салтыкова (1664-1723), жена царя Иоанна Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны. Овдовев, жила с дочерьми в с. Измайлово.
(обратно)351
…дело свадебное царевны старшей затянулось…— Царевна Анна Петровна (1708-1728) была помолвлена с герцогом Карлом-Фридрихом Гольштейн-Готторпским (1700-1739), внуком шведского короля Карла XI. Брак совершился в 1725 году, уже при Екатерине I.
(обратно)352
…племянницы царские…— Екатерина Иоанновна (1691-1723)-герцогиня Мекленбургская. В 1716 году вышла замуж за герцога Мекленбургского Карла-Леопольда, в 1722 году вернулась в Россию. Анна Иоанновна (1693-1740) — герцогиня Курляндская. В 1710 году была возведена на престол Высшим тайным советом.
(обратно)353
…княжну Марью Дмитриевну…— дочь Д. К. Кантемира.
(обратно)354
…господарь покойный…— Кантемир Дмитрий Константинович (1673-1723) — молдавский господарь. В 1711 году заключил контракт с Петром I, по которому обязан был сообщать сведения о Турции. После Прутского похода прибыл в Россию, получил княжеское достоинство, пенсию, имения. Во время похода Петра в Персию Кантемир управлял его походной канцелярией.
(обратно)355
…до Вознесенья. — Церковный праздник Вознесение Господне., восхождение Спасителя на небеса, приходится на сороковой день после Пасхи.
(обратно)356
В Троицын день. — Троица (пятидесятница), православный праздник на пятидесятый день после Пасхи.
(обратно)357
Духов день — православный праздник Сошествия Святого Духа на второй день Троицы.
(обратно)358
…на ассамблеях…— В 1718 году Пётр I ввёл ещё одно новшество в жизнь Петербурга — ассамблеи; составил правила их организации и поведения на них гостей, а также сроки созыва. На ассамблеи приглашалось избранное общество: высшие офицеры, вельможи, чиновники, знатные купцы, учёные, корабельные мастера с жёнами и детьми. По замыслу Петра, ассамблеи должны были быть школой светского воспитания.
(обратно)359
…своего герцога…— то есть Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского.
(обратно)360
К последнему счастью (фр.)
(обратно)361
…в Михайлов день…— 8 ноября день Михаила-архангела.
(обратно)362
Князя Меншикова, жившего на Васильевском острове. (Примеч. автора.)
(обратно)363
…нарвским знаком…— награда, пожалованная офицерам Преображенскою и Семеновского полков в 1700 году за стойкость и храбрость, проявленные при спасении царской армии под Нарвой.
(обратно)364
Свечные щипцы.
(обратно)365
Остерман Генрих Иоганн (или Андрей Иванович; 1686-1747) — знаменитый русский дипломат. Родом из Вестфалии, он в 1704 году приехал в Россию, с 1707 года был переводчиком в Посольском приказе. Остерман пользовался доверием Петра, сопровождал его в Прутском походе. Ему принадлежит заслуга в заключении Ништадтского мира (1721), выгодного торгового договора с Персией (1723). В 1721 году он стал бароном. Исполнял должность вице-президента Коллегии иностранных дел, был постоянным советником Петра I. При Екатерине I стал вице-канцлером, президентом Коммерц-коллегии, членом Верховного тайного совета. При Анне Иоанновне — граф. При Елизавете Петровне арестован и сослан в Берёзов.
(обратно)366
Бассевич Гернинг Фридрих (1680-1749) — президент Тайного совета герцога Шлезвиг-Голштинского. В петровские времена был послом голштинского двора. Оставил ценные записки о политических событиях 1713-1725 годов.
(обратно)367
…в память благодетеля Мартына Лютера…— Лютер Мартин (1483-1546) — деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства, крупнейшего по численности приверженцев направления протестантизма.
(обратно)368
Бахметев и Бутурлин Иваны Ивановичи; Головин Иван Михайлович; граф Мусин-Пушкин Иван Алексеевич; Дмитриев-Мамонов Иван Ильич; Бредихин Александр Фёдорович; Брюс, граф, Яков Вилимович и Блеклый Семён Андреевич. (Примеч. автора.)
(обратно)369
…только Грозный не одну свою жену постриг…— Мария Феодоровна Нагая, седьмая жена Иоанна IV Грозного была пострижена в Николо-Выксинской пустыни.
(обратно)370
Конец, смерть, гибель.
(обратно)371
Головкин Гавриил Иванович (1660-1734) — родственник царицы Натальи Кирилловны. С 1677 года состоял при царевиче Алексее стольником и постельничим. Пользовался доверием Петра I, сопровождал его в путешествиях за границу. С 1709 года — государственный канцлер, с 1717-го — президент Коллегии иностранных дел. При Екатерине I — член Верховного тайного совета.
(обратно)372
…казнь камергера и его сообщников…— Известный русский историк С. М. Соловьёв в своей «Истории России с древних времён» писал: «…Екатерина испытала страшную неприятность: был схвачен и казнён любимец и правитель её Вотчинной канцелярии камергер Монс, брат известной Анны Монс. Вышний суд 14 ноября 1724 года приговорил Монса к смерти за следующие вины: 1) Взял у царевны Прасковьи Ивановны село Оршу с деревнями в ведение Вотчинной канцелярии императрицы и оброк брал себе. 2) Для отказу той деревни посылал бывшего прокурора воронежского надворного суда Кутузова и потом его же отправил в вотчины нижегородские императрицы для розыску, не требуя его из Сената. 3) Взял с крестьянина села Тонинского Соленикова 400 рублей за то, что сделал его стремянным конюхом в деревне её величества, а оный Солеников не крестьянин, а посадский человек. Вместе с Монсом попались сестра его, Матрёна Балк, которую били кнутом и сослали в Тобольск; секретарь Монса Столетов, который после кнута сослан в Рогервик в каторжную работу на 10 лет; известный шут камер-лакей Иван Балакирев, которого били батогами и сослали в Рогервик на три года. Балакиреву читали такой приговор: „Понеже ты, отбывая от службы и от инженерного учения, принял на себя шутовство и чрез то Видимом Монсом добился ко двору его императорского величества, и в ту бытность при дворе во взятках служил Вилиму Монсу и Егору Столетову“.
(обратно)

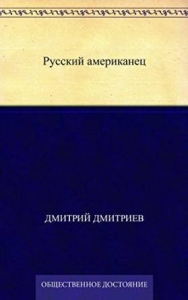



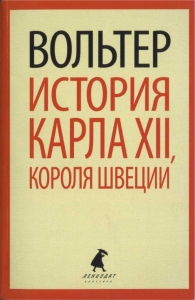
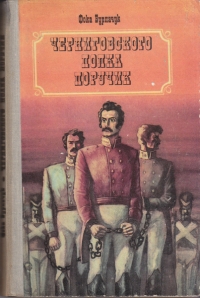
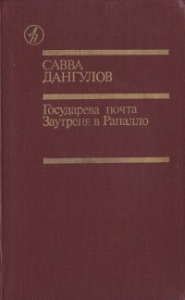
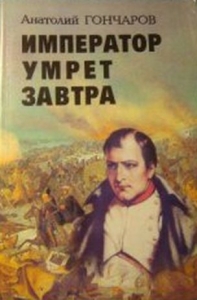

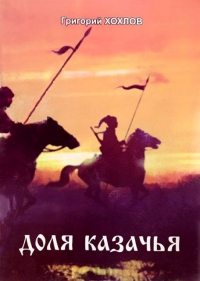
Комментарии к книге «Петр Великий (Том 1)», Даниил Лукич Мордовцев
Всего 0 комментариев