Александр Чаковский. Мирные дни (Это было в Ленинграде-3)
Я был ещё в военной форме, но фактически уже не имел на неё права: в полученной мною вчера из военкомата справке было написано, что «капитан Савин демобилизован из рядов РККА».
«Стрела» отправлялась из Москвы в Ленинград в пять часов вечера. Я приехал на вокзал за час до отхода поезда, хотя билет — последний полученный мною военный литер — лежал у меня в кармане. Выйдя на перрон, я увидел ленинградскую «Стрелу». Поезд стоял, поблёскивая широкими оконными стёклами и свежей краской. Словно никогда его не обжигала война, не коробила его окраски, не расплавляла оконных стёкол, не валила навзничь вагонов… Казалось, война прошла где-то в стороне от этого нарядного поезда.
В вагоне было очень тихо, в коридоре, у окон, стояло несколько человек. Они прижались к стенкам, пропуская меня с чемоданом. Моё купе оказалось последним. Оно было пустым, соседи ещё не пришли. Мне досталось нижнее место. Я поставил чемодан под столик и уселся на диван.
Здесь, в купе, всё было очень светлым и очень новым. Солнце светило прямо в окно, и занавески из тонкой белой материи просвечивали. Металлическая подставка у настольной лампы сияла, как зеркало. «Хорошо, — подумал я, — как хорошо».
В этот момент дверь купе с шумом отодвинулась и на пороге появились двое военных.
— Простите, какие места? — спросил один из них, маленький и толстый подполковник.
Я встал и назвал места.
— Сиди, сиди, капитан, — прервал меня подполковник и добавил: — Значит, дома!
Они вошли в купе. Подполковник был свежевыбрит, от него пахло одеколоном. Сапоги с лакированными — «генеральскими» — голенищами плотно облегали ноги. Его спутник, майор, человек среднего роста, худощавый, немолодой, был с виду ничем не примечателен: армейский майор, в гимнастёрке, сшитой не на заказ, а подобранной на интендантском складе. Он показался мне угрюмым и неразговорчивым.
Я лёг на диван и незаметно для себя заснул, а когда проснулся, поезд стоял. Наверно, меня разбудила тишина. Не знаю почему, но меня охватила какая-то тревога, какое-то смутное предчувствие. Я отодвинул дверь купе и, выглянув, увидел в конце коридора проводника с фонарём в руке.
— Что за станция? — спросил я.
— Малая Вишера, — ответил проводник.
Малая Вишера! В этих двух словах заключалось для меня так много! Здесь началась моя многолетняя фронтовая жизнь. Здесь я впервые встретился с настоящей войной, здесь мучился, потеряв Лиду, отсюда уезжал в Ленинград с тайной надеждой отыскать её. Я знал в этом маленьком, полуразрушенном городке каждую уличку, здесь всё было связано для меня с воспоминаниями, которые никогда не забудутся.
«Надо выйти на перрон», — сказал я себе и почувствовал, как трудно сделать эти несколько шагов и сразу окунуться в прошлое, оказаться с глазу на глаз не с воспоминаниями, но с реальным, овеществлённым прошлым.
Я встал и пошёл к выходу.
Вот она, вот она, Вишера! Я почувствовал, как что-то перехватило горло и часто забилось сердце. Вот полуразрушенный вокзал. Бомба попала в него буквально на моих глазах… А вот неразрушенное крыло вокзала и странная, всегда вызывавшая у нас улыбку надпись: «62,6 метра выше уровня моря». Отсюда было очень далеко до моря, и нам было непонятно, для каких целей вишерцы информировали об отношении своего местожительства к морскому уровню… Я вспомнил, как Венцель, наш фронтовой «зав. юмором», хотел назвать редакционную стенгазету «62 и 6 над уровнем моря» и как редактор «зарезал» этот заголовок.
Раздался свисток, и поезд тронулся. Я вскочил на ходу и, стоя на подножке вагона, смотрел, как медленно, уходя в темноту, проплывала передо мной моя прошлая жизнь. Проплыл серый перрон, освещённый неярким светом вокзальных фонарей. Мелькнули белый камень вокзала и чёрные цифры на нём. Где-то вдали, в маленьком железнодорожном домике, ласково мигнул свет, — не наша ли это старая знакомая стрелочница Евдокия вернулась с обхода? Вот дерево, сухое безлиственное, точно последняя веха прошлого, бессильно поманило меня своими крючковатыми ветвями, и все скрылось во тьме…
Поезд мчался мимо блиндажей, мимо поваленных изгородей колючей проволоки, мимо воронок и траншей, наполненных дождевой водой. Война ещё отовсюду смотрела на наш весёлый поезд злыми глазами.
…Мы подъезжали к Ленинграду. Как только поезд миновал Колпино, меня охватило чувство тревожного, напряжённого ожидания. Прошло много лет с тех пор, как я подъезжал к Ленинграду с этой «естественной» стороны. Я подбирался к нему на низко летящем самолёте под охраной истребителя или по ледовой трассе, проложенной над чёрными водами Ладоги, и теперь мне казалось странным, необычным, что мы вот так просто без всяких усилий, без опаски, без мер предосторожности, открыто подъезжаем к Ленинграду.
Я посмотрел на часы. Было десять. Ещё тридцать минут. Наверно, Лида уже подходит к вокзалу. Сердце моё застучало сильнее — мне показалось, что я уже вижу её. «Почему так медленно идёт поезд?» — с раздражением думал я. Теперь она уже на перроне. Смотрит вдаль, ожидая…
У окна стоял мой сосед по купе — худощавый майор. Он прижался лбом к стеклу, всё такой же — в своей широкой, выцветшей гимнастёрке, в кирзовых сапогах. Плечи его были опущены, руки он засунул глубоко в карманы.
— Подъезжаем, товарищ майор, — сказал я, останавливаясь рядом с ним. Мне было необходимо сказать об этом вслух.
Майор обернулся.
— Что? — недоумевающе спросил он.
— К Ленинграду подъезжаем, — повторил я, — минут через двадцать будем на месте.
Майор ничего не ответил и снова повернулся к окну. Я хотел уже отойти, как вдруг услышал его голос.
— Странное дело, — сказал майор, не поворачивая головы, — вот ведь по каким местам едем… Раньше тут целая армия пройти не могла…
Мысли его походили на мои. Я спросил сочувственно:
— Вам приходилось бывать в этих местах?
— Да, — ответил майор, — я батальоном командовал. Весь мой батальон лёг на этих местах… — Он повернулся ко мне. — Странно мне теперь, — продолжал майор. — Неужели все забудется, сотрутся следы, будет по этим местам проноситься поезд, люди будут просыпаться, пить чай?.. А?
Я подумал, что, пожалуй, так и будет. Жизнь движется вперёд, и время стирает всякие следы. Я многому научился на войне: не спать сутками, разводить костёр на снегу, отыскивать блиндажи в лесах и заснеженных развалинах, разбираться в картах, ездить и даже спать в кузовах машин на обледенелых снарядных ящиках… Понадобится ли все это теперь, в мирное время?
В окне замелькали пригороды Ленинграда, и я уже ни о чём не мог говорить. Я вернулся в купе и стал торопливо укладывать вещи в чемодан, чтобы первым выскочить из вагона.
Поезд остановился.
В коридоре стояли пассажиры, медленно подвигаясь к выходу. Прямо передо мной оказался толстый подполковник, мой сосед.
— Не будем торопиться, капитан, — сказал подполковник, тяжело отдуваясь. Он поставил свой чемодан на откидной стул и тем самым окончательно загородил мне дорогу. — Не люблю торопиться. — Он рассмеялся сипловатым коротким смешком. — Из театра я тоже обычно позже всех выхожу.
Нечего было и думать выбраться, пока подполковник не пройдёт. Он снял свой чемодан и двинулся только тогда, когда весь коридор перед ним оказался свободным.
…И вот я стою на залитом солнцем перроне. Репродуктор обрушивает на нас потоки какого-то синкопического марша. Мимо меня пробегают люди, машут руками, обнимаются, целуются. Мелькают чемоданы, кто-то смеётся… Тяжело дышит паровоз, весь в облаке белого пара…
Я ставлю чемодан и растерянно смотрю по сторонам, стремясь отыскать её в этом шумном людском потоке, и ничего не вижу, и вдруг откуда-то со стороны слышу её голос:
— Саша! Сашенька!
Лида стояла, прислонившись к железному столбу фонаря, и на ней было то самое платье, в котором она снята на портрете, висевшем когда-то в комнате Ирины…
Мы побежали друг другу навстречу.
…В трамвае было очень много народу, и мы оказались как раз у окна, забитого фанерой, поэтому я не мог разглядеть города. Потом, когда мы шли по улице Стачек, я всё время отставал от Лиды, потому что смотрел по сторонам. Заборы домов были выкрашены свежей краской, а окна — я помнил их пустыми или заколоченными фанерой — поблёскивали стеклом. Над улицей тянулась густо переплетённая сеть трамвайных, троллейбусных и ещё каких-то проводов. Я вспомнил, что раньше вдоль этой улицы были развешаны густые маскировочные сети. Теперь я не мог найти даже места, где они висели…
Вдруг я остановился, точно кто-то позвал меня из тьмы прошлого. В стороне от улицы, там, где начинался пустырь, я увидел здание. Собственно, это было не здание, а только пустая коробка, чудом сохранившиеся стены. Меня поразил их цвет. Это был обычный когда-то цвет войны — зеленоватый, с серыми разводами, маскировочный цвет, в который окрасили многие ленинградские дома, чтобы сделать их незаметными с воздуха.
Сегодня же на этой широкой, светлой улице зелёный, точно вылезший из болотистой тины, дом походил на автоматчика в маскхалате, как если бы он внезапно появился среди нарядно одетых людей на мирной городской улице.
И вот я увидел наконец наш дом!
Он стоял, возвышаясь над соседними домами, видный издалека, весь опутанный лесами, и вместо провала в стене, через который я входил тогда, зимой сорок второго года, теперь была толстая, выкрашенная в коричневый цвет дверь. Мы вошли в неё и поднялись по лестнице, у которой все ещё недоставало нескольких ступенек…
Мы остановились на площадке третьего этажа. Лида стала искать в сумочке ключ.
И в этот момент я всем существом своим окончательно поверил, понял, почувствовал, что война кончилась и наступили мирные дни…
На секунду, пока Лида открывала дверь, я зажмурил глаза и открыл их, когда уже перешагнул через порог.
Мы были дома. Это была та самая комната, но как она не походила на прежнюю! Сходство было лишь в чём-то неуловимом, может быть, только в том виде, что открывался из окна. Но в самой комнате всё выглядело иначе, чем раньше. Комната была выкрашена жёлтой, радостной краской, у стены стояла большая кушетка, у другой — буфет, посредине — обеденный стол, в углу — маленький письменный стол и кожаное кресло. Войдя в комнату, я почувствовал чуть хмельной запах невысохшей краски. Я обернулся. Лида стояла за моей спиной. Я схватил её на руки.
— Лидуша, Лидонька! Ну, теперь все, теперь мы вместе.
— Ты знаешь, — проговорила Лида, подходя к маленькому зеркалу, стоявшему на буфете, и приводя в порядок свои растрепавшиеся волосы, — я беспокоилась, что к твоему приезду не кончат ремонт. Нам просто повезло, что дом начали восстанавливать с левого крыла.
— Нам вообще везёт, — сказал я, с размаху опускаясь в глубокое кожаное кресло, стоящее у письменного стола.
— Нравится кресло? — спросила Лида. Я покачался на пружинах.
— Замечательное! Какие пружины! Я буду жить в этом кресле. Наверно, раньше в нём сидел какой-нибудь директор. Где ты его купила?
— Купила? Я его нашла. Когда разбирали баррикады, обнаружилось много вполне пригодных вещей. К этому креслу пришлось приделать только одну ножку.
Я вскочил с кресла.
— По приезде полагается разбирать вещи. Давай разберём чемодан.
Стоя на коленях у раскрытого чемодана, я вынимал вещи, а Лида складывала их на кушетку.
Сверху лежал чёрный костюм, мой единственный штатский костюм. Я не надевал его ни разу после войны. Мне хотелось надеть его только тогда, когда я окончательно буду дома.
— Костюм, — торжественно объявил я, вынимая пиджак и брюки, — овеществлённое выражение мирных, довоенных дней. Во время войны он стал символом мира. Дорог как память и ещё потому, что другого пока нет.
— А он тебе будет узок, — усомнилась Лида, держа пиджак за плечи и разглядывая его. — Честное слово!
— Я похудею или куплю другой. Иного выхода нет.
— Посмотрим, — ответила Лида. — Есть выход, — улыбнулась она. — Имеется запас.
— Запасной выход, — скаламбурил я. — Ты гениальна. Держи ботинки. Ой-ой-ой!..
— Что случилось?
— Зеркало. Единственный трофей. Вот смотри. Это я хотел тебе в подарок.
— Кто же кладёт ботинки на зеркало? Треснуло… как жаль. Такое хорошее зеркальце.
Она рассматривала зеркало — маленький кусочек стекла в оправе бледно-розового камня. Я нашёл зеркало в одном из немецких блиндажей и два года повсюду возил с собой. Я его ещё тогда предназначил для Лиды, и каждый раз, натыкаясь на зеркало в чемодане, в вещевом мешке или кармане, я думал о Лиде, о том, что мы когда-нибудь встретимся и она будет смотреться в него.
— Кто же кладёт ботинки на зеркало? — печально повторила она, разглядывая извилистую трещину.
— Круглые дураки, — уныло согласился я. — Надеюсь, ты не веришь в приметы.
— Только в чёрную кошку, — пошутила Лида, поцеловав меня в затылок, и положила зеркало на стол.
Мы продолжали разбирать чемодан. Одна за другой появлялись вещи, до зарезу нужные на фронте и смешные, никчемные сейчас. Финский нож с инкрустированной ручкой — предмет зависти всей редакции, толстые вигоневые носки, тёплые портянки, подковки для сапог, фонарик, металлическая кружка, баночка из-под смазочного масла, обычно употребляемая как табакерка для махорки, портупея, новенькая ярко-жёлтая трофейная кобура…
Я поднялся, стряхнул пыль и сказал:
— Ну, Лидуша, отнеси всё это куда-нибудь с глаз долой. Так сказать, «до новых боев»!..
Прошло ещё какое-то время — полчаса, час, не больше. И вдруг мне захотелось отправиться с Лидой в город. Дело было не только в желании посмотреть Ленинград. Я хотел испытать ощущение полной свободы, возможности делать всё, что мне хочется. Мне захотелось поехать с Лидой в город, побродить по улицам, зайти в магазины и накупить кучу вещей для неё и для нашего дома.
— А ты не устал с дороги? — спросила Лида, когда я ей сказал о своём желании.
— Совсем нет, — ответил я, — ведь я ехал в мягком. Когда мы вышли на лестничную площадку, я сказал:
— Дай мне ключ. Я сам запру дверь.
Лида улыбнулась и, покопавшись в сумочке, протянула ключ.
Я с особенным чувством, не спеша, вложил ключ в замочную скважину, повернул его и опустил в карман. Было приятно ощущать ключ от собственного дома.
Стоя на площадке, я почувствовал, как откуда-то сверху пахнуло сыростью.
— Что там, наверху? — спросил я.
— Ничего, — ответила Лида. — Там ещё не начинали ремонт.
— И все так, как было во время войны?
— Наверно. Я там никогда не бываю.
— Посмотрим, — сказал я, увлекая Лиду наверх.
Мне было приятно осмотреть всё, что делается вокруг, знать, что в моём доме всё в порядке и ключ лежит в кармане.
Наша квартира оказалась просто оазисом в пустыне. Лестничные площадки ещё не были огорожены, и по обе стороны от них темнели ущелья обвалившихся коридоров. Я увидел подвешенную на ржавой проволоке секцию отопительной батареи и рядом полустёртую надпись на стене: «Сигнал химической…» Мне пришла в голову озорная мысль. Я схватил валявшуюся среди мусора железку и ударил по подвешенной батарее. Раздался глухой, короткий звон.
— Да ну тебя, — рассмеялась Лида, отнимая железку, — накаркаешь ещё.
— Значит, не только чёрные кошки? — улыбнулся я. Мы спустились вниз.
На улице я держал Лиду под руку и украдкой всё время поглядывал на неё. Я был счастлив.
Иногда Лида, смотря мне в лицо, говорила что-нибудь совсем незначительное, но для меня это было самым важным в мире, потому что это говорила она. В каждом движении её губ, глаз, рук было заключено для меня так много.
Мы проехали по проспекту Декабристов, миновали крутой, как холм, Поцелуев мост, сошли и направились пешком по улице Дзержинского. Перед нами открылась площадь и на ней под лучами яркого солнца, искрясь тысячами мелких кристаллов, Исаакиевский собор.
Величественные портики, обложенные красным мрамором, поддерживались огромными монолитными колоннами, а ещё выше другие колонны окружали башню большого купола, и над всем этим возвышался гигантский, точно половина земного шара, главный купол собора. Маскировочная краска, покрывавшая купол, была смыта, и он, как в довоенные времена, казался сплошь золотым. Глазам было нестерпимо больно смотреть на этот грандиозный рефлектор.
— Это когда же? — воскликнула Лида, удивлённо глядя на купол.
Я рассмеялся.
— Кто из нас приехал в Ленинград? — спросил я. — Насколько я понимаю, ты должна быть моим проводником.
— Я не была в этих местах очень давно, — ответила Лида, не спуская глаз с купола. — Я вижу только ту часть города, через которую езжу на завод. Как красиво!
Мы долго стояли и смотрели на собор.
Пересекая площадь, мы пошли к «Астории». И как только массивное здание из серого неровного гранита выросло перед нашими глазами, мы оба затихли и теснее прижались друг к другу.
Пятиэтажное здание гостиницы казалось вымытым. К подъезду то и дело подкатывали автомашины, оттуда выходили люди с чемоданами, и дверь поминутно раскрывалась.
Мы подошли к подъезду и остановились в молчании, а затем вдруг, обернувшись друг к другу, улыбнулись.
— Что ты, на улице! — с явно преувеличенным ужасом воскликнула Лида, слегка отклоняясь. Но я уже успел поцеловать её. Она робко осмотрелась. На нас никто не обращал внимания.
— Вот что, — предложил я, — давай-ка зайдём.
Я взял её под руку и повёл к двери. У самой двери она замедлила шаги.
— Может быть, в другой раз? Мне как-то не по себе.
Швейцар в расшитой золотом одежде уже распахнул перед нами дверь.
— Что ж, уйдём, — согласился я. — Теперь нам не нужна гостиница, у нас есть свой дом. Мне просто хотелось вспомнить ту, блокадную, «Асторию».
Мы свернули на улицу Гоголя, а затем вышли на Невский. Широкий проспект оглушил меня людским гомоном, трамвайными звонками, шуршанием шин и ещё какими-то звуками. Я смотрел, и странное чувство овладевало мною. Тогда, в ту зиму, казалось, что город заколдован, что под пеленой мрака, под сугробами, подо льдом скрывается прежний, неумирающий Ленинград и нужно только растопить снега и льды и чудесной силой рассеять мрак, чтобы Ленинград явился во всей своей красе.
Теперь все это наконец свершилось.
Я глубоко вдохнул воздух и вдруг ощутил какой-то необычный, пряный, дразнящий запах незастывшей извести и свежего тёса — запах новостройки.
…Прошёл день. Сумасшедший, праздничный, быстрый день. Наступил вечер.
И вот мы сидим у окна, у того самого окна, где проводили целые часы до войны, там, где три года назад сидел артиллерийский наблюдатель Каирбеков.
Перед нами синела узкая полоса Финского залива. Надвигалась белая ночь, и казалось, что на все вокруг опускается прозрачный туман, постепенно окрашивая в неестественно белый цвет дома, землю, воздух.
Мы сидели на кушетке, придвинув её к окну. Теперь я чувствовал себя совсем по-иному, не так, как все эти часы, точно я уже сделал все самое необходимое, везде побывал, всюду заглянул, будто мы с Лидой встретились уже давно и теперь наслаждаемся спокойной близостью друг к другу.
— Ты знаешь, — сказал я Лиде, — сейчас мне кажется, что ничего больше не надо. Как часто я представлял себе, как всё это будет после войны, и знал, что всё будет не так, а иначе, потому что этого нельзя предугадать. Но произошло всё именно так, как я мечтал. Все сбылось. Все мои мечты исполнились. Я знаю, конечно, жизнь идёт, будут новые мечты, но сейчас я счастлив. Ты знаешь, когда это дошло до меня окончательно? На лестничной площадке.
— На площадке? — спросила Лида.
— Да. Когда ты вынимала ключ из сумочки. В этом было что-то окончательно мирное и убедительное.
Лида улыбнулась и положила голову мне на колени.
— Вот мы и вместе, — прошептала она.
Я положил руки на её голову, и мне было хорошо от сознания, что мы вместе и уже никто не сможет разлучить нас, никто не постучит в дверь и не позовёт меня.
Я посмотрел в окно и увидел, что по узкой полоске залива движется что-то белое, похожее на развёрнутый платок. «Парус, — подумал я, — очевидно, яхта».
Парус все скользил и скользил, уходя вдаль, и скоро стал едва заметным в белом, прозрачном тумане…
Наступила ночь, белая, весенняя ночь, и всё, что я видел в окне: стены домов, карнизы, углы, ручки дверей, уличные тумбы — все приобрело какую-то неестественную рельефность.
Было очень тихо, и только откуда-то издалека доносился шум Кировского завода. Я посмотрел в ту сторону, где раньше были траншеи врага. Теперь там всё было залито белым волшебным светом, и казалось, что это и есть цвет безмятежного покоя и счастья.
«Неужели все это правда, — подумал я, — всё это — наша комната, и белая ночь, и Лида, моя Лида, — здесь со мной, и так будет всегда?»
— Я так ждала тебя, — проговорила Лида, поднимая голову, — мне так хотелось поговорить с тобой.
— А ты заметила, — отозвался я, — что вот мы уже целый день вместе, а так ни о чём толковом и не поговорили?
— Да, — согласилась Лида, — и тогда, зимой, тоже так было.
— Это потому, что все эти годы мы не принадлежали друг другу. Когда мы встречались, это были короткие встречи, нас могли каждую минуту разлучить. Но сейчас никто не сможет помешать нам.
Лида ничего не ответила. Потом сказала:
— А Ирина… кажется, влюблена.
— Влюблена?
Вот это уже было для меня полной неожиданностью. Я мог представить себе всё что угодно, кроме влюблённой Ирины. В моей памяти она осталась строгой, непримиримой, недоступной никаким личным радостям, оставшейся наедине со своим горем.
— В кого же? — спросил я.
— Один наш работник, — ответила Лида. — Его фамилия Каргин. Он секретарь партийного комитета.
Мне стало вдруг грустно. Я знал, как любила Ирина своего первого мужа, как страдала, когда он погиб. Наблюдая за ней, я думал о незыблемости настоящих человеческих чувств.
— Почему ты замолчал? — спросила Лида. — Я познакомлю тебя с Каргиным. Он очень хороший человек.
Лида говорила что-то ещё, но я не мог оторваться от мысли об Ирине. Когда я наконец заставил себя сосредоточиться на том, что говорила Лида, она уже замолчала.
Несколько минут мы сидели молча.
— Ну, а я, Лидуша, с завтрашнего дня засяду за книгу. Я хочу написать книгу о войне.
— Роман? — спросила Лида.
— Не знаю, как получится.
— Но что это всё-таки будет такое?
— Я не знаю, — ответил я. — Книга о войне. О счастье победы. Словом, сейчас мне трудно рассказывать об этом.
— А знаешь, — продолжала Лида после короткого молчания, — за последнее время я часто думаю о том, что я сделала в жизни. Ведь мне, Сашенька… ты помнишь, сколько мне лет?
Её вопрос застал меня врасплох. Я никогда не задумывался над тем, сколько Лиде лет. Тогда, перед войной, ей было двадцать четыре года. Она так и осталась для меня двадцатичетырехлетней. Но ведь с того времени… ох, сколько лет прошло с того времени!
— Мне почти тридцать, — тихо сказала Лида, покачивая головой, точно удивляясь своим годам.
— А мне за тридцать, — так же тихо проговорил я, подумав, что и мне уже много лет.
— А я вот почему-то до сих пор чувствую себя девчонкой. А ведь я уже пожилой человек, и ты тоже, Сашенька, мы уже не молодые люди.
— Война, — сказал я. — Самые лучшие годы отняла у нас война.
— Лучшие? — переспросила Лида. — Нет, нет, Сашенька, это не может быть правдой, это очень жестоко, если есть лучшие годы. Значит, раз они прошли, то и жить не для чего! А я вот не чувствую этого. — Лида тряхнула головой. — Мне кажется, что вся жизнь ещё впереди. И мне всё время хочется что-то делать. А тебе?
— Ты знаешь, — не ответил я на её вопрос, — люди очень неосторожно обращаются со счастьем. Мы всегда признаем его только задним числом. Подумать только: мы выиграли такую войну! Решалась судьба людей, страны, мира. И вот мы победили. Разве одного этого мало, чтобы чувствовать себя счастливым?
Она ничего не ответила. Потом проговорила, глядя в окно:
— Белая ночь… Все эти годы я как-то не замечала, когда начинались белые ночи и когда кончались… И на улице пусто… Мне всегда казалось, что белые ночи хороши именно тогда, когда на улице нет людей.
— А знаешь что? — предложил я. — Давай побродим немного. Будем одни в белой ночи.
— Неужели ты не устал за день? — удивилась Лида.
— Да мы никуда не пойдём. Совсем рядом. Мне очень хочется.
Мы спустились по лестнице и вышли на улицу.
— Куда же мы? — спросила Лида, беря меня под руку. Она накинула на плечи белый плащ и казалась сейчас очень сродни этой светлой ночи.
Я знал, куда идти. Мне хотелось отыскать тот самый блиндаж, в котором когда-то висел пёстрый шарф и артиллеристы угощали меня супом из концентрата.
— Куда же мы пойдём? — повторила Лида. — Иди за мной, — сказал я.
Мы обогнули развалины и вышли на пустырь. Я всматривался, стараясь вспомнить путь к блиндажу.
— Что ты ищешь? — спросила Лида.
— Прошлое, — ответил я, улыбаясь. — Мне хочется на несколько минут вновь встретиться с прошлым.
Я, кажется, отыскал путь. Узкая, почти заросшая травой тропинка вела к пригорку. Сперва я увидел залитую дождевой водой траншею. Вход в блиндаж я заметил ещё издали.
— Зачем мы пришли сюда? — тихо спросила Лида.
— Неужели ты не понимаешь, зачем? Мне просто хочется ещё раз, но уже по-новому пережить всё это… Ты подумай, три года назад я стоял вот на этом самом месте, наш дом был разбит, и я не знал, найду ли тебя.
Она медленно обняла меня и посмотрела прямо в глаза. Я молчал, ожидая, что Лида заговорит, но она молчала.
— Зайдём в блиндаж, — позвал я,
— Зачем?
— Просто так. — Мне было трудно объяснить это, но я подумал, что она должна была бы понять меня без слов.
— Не надо. — Лида не трогалась с места. — Мне не хочется спускаться в эту яму. Мне не хочется сейчас вспоминать о том страшном времени, когда мы должны были жить в этих проклятых ямах… и не ходить, а ползать по земле.
Она посмотрела мне прямо в глаза и, робко, застенчиво улыбнувшись, дотронулась до моей руки!
— Пойдём отсюда, Саша.
Мне хотелось остаться, но я ничего не ответил.
…Когда мы вошли в нашу комнату, где стояли белые сумерки, я взял Лиду за руки.
— Как хорошо у нас тут! Действительно, бредовая идея пришла мне в голову — лезть в грязный, тёмный блиндаж.
Она ничего не ответила, только, тихо высвободив свою руку, положила её мне на плечо.
— Вот и закончился наш первый послевоенный день.
— Да и ночь, пожалуй, тоже заканчивается, — подтвердил я. — Погоди, ведь тебе завтра надо на работу?
— Конечно.
— Спать, скорее спать, — сказал я. — Как это я раньше не подумал, что тебе рано вставать.
Я посмотрел в окно. Ночь была на исходе. Горизонт теперь был чуть розовым, как всегда бывает перед восходом солнца. Я потушил свет и задёрнул штору.
Когда я проснулась и увидела его голову на подушке, мне показалось, что все это ещё сон, и я боялась шелохнуться, чтобы сон не исчез. Но тут же я поняла, что это не сон, что всё это правда, что он приехал и весь вчерашний день был явью.
В первые минуты, после того как мы встретились, я вообще не могла думать; все мысли, которые кружились в голове, пока я ждала его, теперь исчезли. Я видела его, он здесь, рядом со мной, — и этого было для меня достаточно. Только потом я снова стала видеть и соображать. Он был оживлён, много смеялся и всё время разговаривал, но я сразу почувствовала, что он устал. Я увидела, что родное, бесконечно милое лицо его постарело, и мне стало нестерпимо жаль Сашу и захотелось сделать все-все, чтобы он отдохнул, чтобы разгладились эти морщинки вокруг глаз.
Шутка сказать — четыре с лишним года на фронте, ранение и две контузии! «Всё пройдёт», — успокоила я себя и с радостью подумала, как отдохнёт теперь Саша, как я буду ухаживать за ним.
Как он был мне нужен! Каждый раз, когда мне было хорошо, я жалела о том, что не могу поделиться с ним своей радостью. А когда мне было плохо, когда какая-нибудь неудача обрушивалась на меня, я думала: «Вот если бы Саша был рядом, он научил бы меня, что делать, помог бы мне», — и от этих мыслей мне становилось легче на душе.
Теперь мы были наконец вместе.
И когда мы сидели потом у окна и смотрели на залив и он заметил яхту, которую я никак не могла рассмотреть, я снова почувствовала прилив огромного, давно не испытанного счастья, оттого что мы вместе, и готова была на что угодно — могла бы пройти тысячу километров пешком или отправиться сейчас на завод и работать несколько суток.
Именно тогда мы заговорили об Ирине, обо мне… о том, как я жила. Это был тот самый момент, которого я так ждала. Пожалуй, ещё никогда в жизни не испытывала я такой потребности рассказать самому близкому мне человеку о том, что составляет мою жизнь теперь. Мне хотелось рассказать ему о том, что происходит у нас на заводе, и о нашей борьбе, обо всём том, что мучает меня сейчас.
Я начала рассказывать и упомянула об Ирине и Каргине и внутренне почувствовала, что мысли Саши остановились именно на Ирине и то, о чём я продолжаю говорить, уже не доходит до его сознания.
И только тогда я поняла, какие говорю глупости. Он приехал усталый, измученный, впервые за долгие годы получил покой, и теперь, когда и нескольких часов ещё не прошло с тех пор, как все сбылось, я пичкаю его рассказами о заводе и, чего доброго, ещё начну ему излагать преимущества высокочастотной закалки над цементацией!
Я сказала себе: «Он не меньше тебя видел в жизни и всегда был одним из тех, кто идёт впереди. Но надо же дать ему прийти в себя. Подожди, имей терпение. Он отдохнёт и тогда сам будет расспрашивать тебя о жизни завода, о работе. Поможет тебе советом и скажет всё то, что ты хочешь от него услышать».
И я замолчала, перевела разговор на другую тему. Потом ему захотелось выйти из дому и пройти по улицам, по тем местам, где приходилось бывать в блокадную зиму. Но прогулка не удалась. Саша привёл меня к одному из уцелевших горбатых, тёмных блиндажей. Он предложил спуститься в блиндаж. Но это уже было выше моих сил, мне хотелось назад, ближе к нашему дому, к городу, к свету…
Мы вернулись домой.
И, уже лёжа в постели, я, как в ту далёкую зимнюю ночь, долго-долго не могла, вернее — не хотела, заснуть, чтобы не расстаться с этим чудесным ощущением счастья оттого, Что мы наконец вместе…
Когда я проснулась, он спал, положив на ухо маленькую подушку, по старой своей привычке.
Это была та самая подушка, которую я подарила ему когда-то. Он никогда с ней не расставался и повсюду возил её с собой на фронте.
Его глаза были плотно закрыты, и мне показалось, что сегодня вокруг них гораздо меньше морщинок.
Было половина седьмого, значит, я спала не больше трёх часов. Но странно, я совсем не чувствовала усталости. Встала тихо, чтобы не разбудить Сашу, выгладила ему костюм, вскипятила на плитке чай и оставила завтрак.
Пора было идти, дорога до завода отнимала больше часа, но я никак не могла заставить себя выйти из комнаты. Хотелось остаться и видеть, как он проснётся, видеть каждое его движение.
Наконец я ушла. До трамвая я почти бежала — не потому, что торопилась, нет, просто мне было хорошо и радостно.
Как только я очутилась в трамвае и начался тот привычный путь, который я совершаю изо дня в день, мысли о заводе и о нашей работе, отошедшие вчера на второй план, снова захватили меня.
Я вспомнила, что сегодня в десять часов состоится важное совещание у директора завода. От этого совещания зависело очень многое.
Я вбежала в лабораторию в девять часов. Все уже были в сборе. Ирина, Лебедев, Рая сидели в первой комнате, и, как только я вошла, Ирина подняла голову и спросила:
— Приехал?
Этот вопрос застал меня врасплох. Через час на совещании будет решаться вопрос о нашей работе. Я знала, что последние ночи Ирина спала не больше двух часов. Откровенно говоря, я и сама, как только стала приближаться к заводу, не могла уже думать ни о чём, кроме как об этом совещании, а теперь вопрос Ирины снова вернул меня к Саше.
— Приехал, — сказала я, и все, кто был в этой комнате, стали поздравлять меня.
Я хотела поблагодарить, но в этот момент дверь отворилась и на пороге появился… — нет, мне даже теперь трудно поверить в это; бывают же на свете такие совершенно неожиданные встречи! — на пороге нашей комнаты появился Ольшанский, тот самый Ольшанский, с которым я встретилась на Ладоге.
Он был в желтоватом летнем плаще и с большим портфелем в руках, но я сразу же узнала его.
— Это лаборатория, товарищи?
Он стоял в дверях, длинный, худощавый.
— Лаборатория, — ответила Ирина, чуть подаваясь вперёд.
— Так вот, мне бы инженера Вахрушеву, — спросил Ольшанский.
Ирина ответила:
— Это я.
Ольшанский кивнул.
— Будем знакомы. Ольшанский. Корреспондент из Москвы.
Он бросил на стол блестящий, канареечного цвета портфель и протянул Ирине руку. Меня он не заметил, я стояла в стороне.
— Так вот какая штука, уважаемая товарищ Вахрушева, — говорил Ольшанский. — Я, видите ли, собираюсь писать корреспонденцию о вашем заводе. Ну, в плане восстановления Ленинграда и всё такое прочее. Я провёл на заводе несколько часов. Под самый конец мне сказали в парткоме, что в вашей лаборатории работают над каким-то новым способом закалки или что-то в этом роде.
Я наблюдала за Ириной. Несколько секунд она молчала. Потом улыбнулась и, тряхнув головой, сказала:
— Ну что ж, спасибо, что зашли. Мы очень нуждаемся в помощи. Прежде всего, что вас интересует?
— Я полагаю, что прежде всего мне надо знать, чем вы тут занимаетесь, — продолжал Ольшанский.
— Отлично, — снова кивнула головой Ирина. — Только вы извините меня, через час я должна докладывать на важном совещании. Вам все расскажет моя помощница. Хорошо? А потом, если будет что-нибудь неясно, мы поговорим.
— Прошу, — согласился Ольшанский.
И тогда Ирина обвела взглядом комнату, отыскивая меня, и, найдя, сказала:
— Лида, расскажи товарищу.
— Так вот, товарищ Лида, — прервал Ольшанский Ирину, поворачиваясь ко мне, — вы рассказывайте мне так, будто я зулус и ничего не понимаю.
Наши глаза встретились. Я стояла улыбаясь и смотрела прямо на него. Ольшанский немного отступил, на лице его появилась растерянная, недоумевающая улыбка, потом он сделал ко мне два неуверенных, робких шага.
— Простите… Мне кажется…
— Ничего вам не кажется, — весело ответила я, — все это так и есть на самом деле.
Тогда он подбежал ко мне, схватил за руки и стал трясти их, повторяя:
— Ладога? Правда? Ладога? Ведь это вы? Ну конечно, вы!.. Вот так встреча! Ах, чёрт возьми, вот так встреча!
Я увела его в соседнюю комнату.
— Как же все это? — бормотал он по дороге. — Нет, вот подумайте, как же всё это произошло?.. Как вы попали сюда?
— Я могла бы задать вам такой же вопрос.
— Ну, какое сравнение! — ответил Ольшанский. — Я корреспондент, я Фигаро, то здесь, то там. А вот вы…
— А я всё время здесь. А «там» не бываю, — рассмеялась я. — Помню, помню, — как бы про себя говорил Ольшанский, — в машине ехали… Вы меня тогда… — Он вдруг осёкся и покраснел.
Мне было странно видеть Ольшанского краснеющим, словно девушка. Я поняла причину и решила ещё больше подзадорить его:
— Да, да, а потом в «Астории»… Помните, я номер открыла шпилькой…
— А-а, — облегчённо протянул Ольшанский, словно освобождаясь от каких-то сомнений. — Ну как, встретили?
— Да, — ответила, — но только вчера.
— Что? — удивлённо переспросил он, проведя рукой по глазам. — Что за фантасмагория?
— Да нет никакой фантасмагории. Мы тогда тоже виделись. А вчера встретились уже окончательно. Насовсем.
— Так, так, — пробормотал Ольшанский и, широко улыбнувшись, пробасил: — Ромео и Джульетта! — И вдруг добавил: — А я вот один. И всё время войны один, и сейчас один. Неуживчивый характер. И корреспондент к тому же. Все рыскаю по белу свету и пишу про чужое счастье.
В голосе его зазвучали грустные нотки.
— Знаете что, — предложила я, — приходите к нам в гости. Посидим, вспомним Ладогу.
— К вам? — растерянно повторил Ольшанский.
— Ну да, конечно, — подтвердила я, — к нам, ко мне и к Саше. Ведь вы же знакомы?
— Он здесь? — спросил Ольшанский, будто не поняв всего того, что я ему говорила раньше. — Значит, вы в самом деле вместе? — Теперь он окончательно пришёл в себя. — Значит, всё в порядке? Вот здорово! Да это, знаете ли, тема для очерка. Ну, может быть, не сейчас, а, скажем, к годовщине прорыва блокады, ей-богу!
Я рассмеялась, потому что вспомнила, как он тогда, на ладожском ветру, «выжимал» из меня материал для очерка.
— Но сейчас я вам буду рассказывать про другое, — сказала я. — Ведь так? У нас, когда вы придёте, мы устроим вечер воспоминаний, а сейчас будем говорить не о прошлом, а о будущем. Хорошо?
— Ну ясно, дело — прежде всего, — пробасил Ольшанский. — Одну минуту!
Он схватил свой канареечный портфель и, отдёрнув молнию, вытащил блокнот.
— Итак, я слушаю. Но помните, я зулус. Прошу попроще и поконкретнее.
— Хорошо, — ответила я, стараясь собраться с мыслями, — попробую.
— Наш завод — сталелитейный, машиностроительный, — начала я, стараясь, чтобы всё было как можно яснее. — Он вырабатывает части машин и сами машины. Таким образом, мы прямо или косвенно участвуем в создании тысяч самых разнообразных вещей. Но этого мало. Наш завод является как бы заводом-институтом. Он выпускает машины-уникумы, машины-оригиналы. Потом другие заводы будут выпускать «копии». Почти в каждой машине, будь то трактор, самолёт или паровоз, имеются движущие части. Эти части изнашиваются скорее других, потому что испытывают на себе силу трения и действие вибрации. Понятно?
— Вибрация? — Ольшанский слегка помахал пальцами в воздухе. — Понятно.
— Ну вот, — продолжала я, — таким образом, вам должно быть ясно и то, что эти самые движущие силы должны быть особенно прочными.
— Элементарная логика, — кивнул головой Ольшанский.
— Но не просто прочными, — разъяснила я. — Просто прочность влечёт за собой ломкость, хрупкость. Движущая деталь должна быть и прочная и в то же время податливая…
— Переход от формальной логики к диалектической, — усмехнулся Ольшанский.
— Если хотите — да! Это достигается цементацией… Дойдя до первого специального понятия, я остановилась. Мне очень хотелось, чтобы Ольшанский понял всё до конца.
Если нас действительно поддержали бы в центральной газете, мы могли бы праздновать победу. Я тщательно подбирала слова. Важно было, чтобы Ольшанский не только понял, но и заинтересовался нашим делом.
Я посмотрела ему в глаза. Он слушал внимательно.
— Что же такое цементация? — продолжала я, как заправский лектор, стараясь подражать инженеру Горяеву, одному из лучших преподавателей нашего техникума. — Цементация есть тот процесс, которому надо подвергнуть сталь, чтобы наделить её свойствами, о которых я говорила: твёрдой поверхностью и вместе с тем вязкой сердцевиной. Цементация производится посредством горячей обработки металла. Чтобы цементировать металл на одну десятую миллиметра глубины, надо подвергать его обработке в течение часа при температуре около девятисот градусов. Вот и представьте себе: сколько надо затратить времени, чтобы цементировать деталь на глубину, скажем, двух-трёх миллиметров?
Я снова сделала паузу и взглянула на Ольшанского. Он ничего не записывал и смотрел не на меня, а куда-то мимо. «Не получается, — решила я. — Не умею рассказывать. Надо пойти за Ириной. Нельзя рисковать». Но в это время Ольшанский посмотрел на меня в упор и улыбнулся:
— Ну, профессор?
И я тоже улыбнулась и стала продолжать. Я рассказала ему о том, что ещё перед войной учёный Вологдин предложил заменить сложный процесс цементации поверхностной закалкой металла посредством токов высокой частоты. В этом случае закалка стала бы минутным делом. Получилась бы огромная экономия во времени, не говоря уже об улучшении качества самой закалки.
— Так в чём же дело? — прервал меня Ольшанский. — Калите себе на здоровье по этому самому способу, раз все так ясно.
Тут меня точно подстегнул кто-то. Я сразу сбилась со своего «профессорского» тона. Воспоминания нахлынули на меня.
…Я вспомнила, как однажды после работы — это было уже давно — Ирина дала мне прочесть книгу Вологдина и как на другой день рассказала мне о своих планах по внедрению на нашем заводе этого метода. Я вспомнила, как горели большие глаза Ирины, когда она говорила, какую это произведёт революцию на нашем заводе, и как бегал её карандаш по бумаге, когда она подсчитывала примерную экономию.
Я вспомнила, как мы пошли с нашим предложением к главному металлургу Абросимову, нашему главному «врагу»…
В ушах моих зазвучали спокойные, размеренные слова Абросимова, что никакой Америки мы своим предложением не открываем, что способ Вологдина давно известен и применяется, но применяется там, где есть поточное производство и стандартные, раз навсегда установленные размеры деталей. Это, так сказать, уже вчерашний день техники. Но у нас на заводе, при огромном разнообразии деталей, применение высокочастотной закалки — просто утопия.
С этого всё началось. Наша лаборатория повела войну. Мы были и у главного инженера, и у директора завода, писали письмо в наркомат, спорили до хрипоты. Не знаю, как это всё получилось, но дело с закалкой захватило меня, я места себе не находила оттого, что всё было так ясно, но люди знающие, авторитетные люди не соглашались с нами. Нас убеждали, доказывали, что внедрение высокочастотной закалки на нашем заводе было бы сизифовым трудом, что, не говоря обо всём прочем, пришлось бы поднять тысячи чертежей, просмотреть и выбрать тысячи вырабатываемых на нашем заводе деталей и для каждой из них конструировать индуктор — специальное приспособление, в котором деталь проходила бы закалку.
Иной раз мы сами пугались трудностей, вставших перед нами, уже готовы были сдаться, перейти на чужую, противоположную точку зрения, но потом, оставшись одни, снова готовы были идти в бой. Тогда я чувствовала себя так же, как в ту страшную зиму, когда мне поручили организовать детский дом и я поняла, что организую его во что бы то ни стало, хотя и не знала, с чего начать. Мне было больно, когда нас высмеивали, упрекали в прожектёрстве, в технической безграмотности. Иногда я проклинала все на свете и готова была плакать от бессилия и досады. Тогда мне хотелось сказать всем, кто выступаем против нас, что для меня это дело не просто техника, не просто сталь, но гораздо больше, что-то такое, что и мне самой трудно объяснить…
На моих глазах с заводом происходили чудеса. Совершенно незаметно за какой-нибудь год он вырос, и уже во время войны выстроенные цехи стали нормально действующими.
Однажды я сидела в лаборатории и вдруг услышала крик Ирины из соседней комнаты:
— Смотрите, смотрите!
Я и две девушки-лаборантки вбежали в комнату Ирины. Она стояла у окна и смотрела во двор. Я подбежала к окну и увидела, что в настежь открытые заводские ворота въезжает вереница грузовиков. Груз был покрыт брезентом, но я сразу заметила, что это станки.
— Чувствуете, что это такое? — торжествующе спросила Ирина, оборачиваясь к нам.
— Станки, — сказала я.
— Станки, — подтвердила Ирина. — Но какие станки! Это наше оборудование возвращается с востока! Подумать только, я сама, своими руками упаковывала их… И Иваныч тоже… А теперь всё возвращается домой.
Ещё шла война, но завод уже восстанавливался. Многого не хватало, часть оборудования, например, устарела, и его надо было заменить новым, более совершенным. Но мы знали, как велики сейчас потребности страны — тысячи восстанавливаемых шахт, электростанций и заводов, — и стремились «выжать» все из того, что имели…
Я вспомнила, как пришла наконец первая победа: нам разрешили в опытных целях установить в инструментальном цехе высокочастотный аппарат. Однако это был совсем не такой аппарат, какой нам хотелось бы иметь. У этого аппарата не было, например, реле времени, и закаливать надо было «на глазок». Плохо обстояло дело и с поступлением воды: не было специального насоса для подачи воды под давлением. Тем не менее мы не пали духом и решили освоить закалку пока на этом аппарате, тем более что главная трудность для нас заключалась не в самой закалке — она была уже изучена и описана, — а в закалке несерийных, «фигурных» деталей.
С этого дня началась новая борьба: инструментальщики хотели использовать аппарат лишь в частных, ограниченных целях — напаивать резцы и в крайнем случае закаливать инструмент. Мы же хотели большего: мы требовали, чтобы высокочастотную закалку проходили все производимые на заводе детали машин.
Чтобы доказать целесообразность массового применения закалки токами высокой частоты, или, как все это сокращённо называлось «ТВЧ», мы решили закалить деталь станка-уникума, который осваивался сейчас нашим заводом.
Деталь эта своеобразной формой напоминала маленькую лестницу. Мы попробовали её закалить. Не получилось. «Ступеньки» «лесенки» при испытании оказывались другой, меньшей, твёрдости, чем её основание. Закалка была неравномерной.
Мы никак не могли придумать такую конструкцию индуктора, в которой наша «лесенка» закалилась бы равномерно. Много раз меняя конструкцию индуктора, мы твёрдо пришли к выводу, что успех — дело времени, что, приобретя опыт в конструировании, мы наверняка победим.
Но пока что у нас не получалось.
И я, вдруг потеряв всякий контроль над собой, многословно я сбивчиво стала рассказывать сидевшему передо мной Ольшанскому всю историю нашей борьбы.
Я уже не видела его перед собой, я говорила в пространство, самой себе и всем, кто был против нас, и остановилась, встретив улыбающийся, слегка иронический взгляд Ольшанского.
И тут я поняла, что делаю непоправимую глупость. По странному стечению обстоятельств, от этого человека второй раз зависело то, что было очень важно для меня в жизни. Тогда я сидела в кузове машины и почему-то никак не могла как следует расспросить Ольшанского о Саше, о котором он знал так много. Сейчас он, может быть, напечатает в газете статью, от содержания которой зависит для нас так много, а я рассказываю ему, что авторитетнейшие люди завода смотрят на наше дело как на пустую затею. Можно ли надеяться, что после этого Ольшанский, мало что смыслящий в технике, станет на нашу сторону? Нет, он не будет ввязываться в сомнительное, не ясное ещё дело.
— Ну, что же вы остановились? — спросил Ольшанский, щуря свои и без того маленькие глазки.
— Что-то я не то говорю, — устало проговорила я. — Надо будет попросить Ирину Григорьевну рассказать вам обо всём поконкретнее. Боюсь, что я увлеклась психологией. А тут — прежде всего техника.
— Странная вы женщина, — пожал плечами Ольшанский, очевидно не слыша моих слов. — Что это за бес такой в вас сидит? Вы, наверно, очень плохая жена. Я помню, как вы тогда уселись в номере. Помните? Я, мол, скажу, что шпилькой дверь открыла. И вообще…
Тут меня прямо зло на него взяло. Неужели ему ничего не понятно? Я посмотрела на часы: без четверти десять, через пятнадцать минут начнётся совещание у директора. На нём должны были решить: утверждать ли для нашей лаборатории тему высокочастотной закалки или нет.
Я посмотрела на Ольшанского, играющего большим автоматическим карандашом, и сказала:
— Не понимаю, что вас удивляет. У каждого человека есть дело в жизни. Должно быть! Вот вы, например, пишете. Ведь вы же верите в то, что пишете? И ведь для вас это самое главное в жизни, так?
— Послушайте, — ответил Ольшанский, — кто это вас научил так ставить вопрос, чтобы собеседник мог ответить только «да» или «нет»? Это невежливо. Должна быть возможность чего-то среднего.
Он снова иронически улыбнулся. А я окончательно разозлилась.
— К сожалению, у меня уже нет времени, чтобы выслушать вашу лекцию о хорошем тоне, — сейчас начнётся заседание.
Я встала. Лицо его сразу потеряло насмешливое выражение.
— Ну вот… — растерянно протянул Ольшанский, и, как всегда в таких случаях, голос его стал похож на голос подростка. — Ну вот, так я и знал! У нас с вами никогда не получается хорошего, мирного разговора.
В этот момент в комнату вошла Ирина.
— Нам пора, Лида. — И, обращаясь к Ольшанскому, она добавила: — Ну, а вы получили то, что было нужно?
— Да, да, — поспешно ответил Ольшанский. — Знаете, чертовски интересно. Эта закалка… и экономия…
Мне стало смешно. Я написала на листке бумаги наш адрес и сказала, протягивая ему:
— Ну вот, здесь мы живём. Будет настроение — приходите.
Ольшанский взял листок.
— Приду, обязательно приду, если только… не вызовут завтра в Москву, в редакцию… — Он схватил портфель, неловко, боком, поклонился и ушёл, похожий на большого неуклюжего гуся…
Как только мы — Ирина, наш инженер Лебедев, лаборантка Рая и я — вошли в директорский кабинет и я увидела длинный зелёный стол, телефоны, и маленький микрофон для переговоров с цехами, и сидящего за столом директора, невысокого человека в очках без оправы, и Абросимова, который что-то говорил директору при нашем появлении, — я почему-то сразу почувствовала, что мы будем биты.
Так и произошло. Нас «побили» за прожектёрство. Абросимов сказал, что есть много других, первоочередных тем, которыми должна заняться лаборатория. Единственное, чего нам удалось добиться, — разрешения продолжать опыты на установленном в инструментальном цехе аппарате. И только…
Из заводоуправления мы вышли не вместе. Нам — мне, Ирине, Рае — было сейчас очень тяжело смотреть друг другу в глаза. Я медленно шла по заводскому двору. Мне показалось, что стало темнее; подняла голову — солнце светило по-прежнему. И в этот момент я вспомнила о Саше. «Как это могло случиться, что в последние несколько часов я даже не вспоминала о нём?» — подумала я. И сразу на душе у меня стало радостнее. Я представила себе, что он уже встал, выпил чай, который я ему приготовила. Больше всего мне хотелось бы поговорить с ним сейчас о нашей неудаче, именно с ним.
«Отчего мне так грустно? — спрашивала я себя. — Что, в сущности, произошло? Ну, неудача на работе, но у меня-то, лично у меня, все ведь так хорошо. Исполнилась моя самая заветная, самая любимая мечта — приехал Саша, и через несколько часов мы будем вместе…»
Но, как я ни старалась внушить себе, что всё обстоит прекрасно, легче не становилось.
Я подумала, что всё могло бы быть наоборот. Мы победили, тема утверждена, и вот начинается горячая, чуть ли не круглосуточная работа. Мы с Ириной поднимаем все чертежи деталей, их очень, очень много, разрабатываем для каждой детали приспособление, индуктор, в котором она будет проходить закалку. И вот не сразу, но в конце концов наш завод вдвое, втрое увеличит выпуск машин, потому что время, необходимое на цементацию стали, будет сокращено во много раз.
И тут же во мне стала нарастать злоба. «Как это можно, — подумала я, — мешать нам? Что, они не понимают разве, что мы хотим лучшего для завода и для всех тех, кому нужны наши машины? Почему же нам приходится бороться, доказывать? В технике ли только тут дело или в людях, в их взглядах на жизнь, на работу?»
…Я уверена, что Каргин и Ирина любят друг друга. Я заметила это ещё в прошлом году, но мне даже самой стало тревожно оттого, что я это заметила, и все мои усилия были направлены на то, чтобы не показать Ирине, что мне что-то известно.
Я понимала Сашу, который так удивился, когда я сказала ему, что Ирина влюблена. Мне тоже стало бы не по себе, если бы я вдруг услышала о ней такую новость.
Но тогда, проведя с Ириной бок о бок почти два года, я очень обрадовалась за неё. Я вспомнила наш разговор с ней, когда, проводив Сашу, я пришла сюда, на завод, и мы сидели в большой комнате общежития и Ирина говорила, что нам всем очень нужны радости. И тогда я спросила: «Ну, а как же ты, Ирина? Кто выдумает для тебя эти радости? Как тебе-то жить?»
Тогда она ответила мне, что ей очень тяжело жить, что иногда ей кажется, что все люди живут будущим и только она одна должна жить настоящим.
И когда я заметила, что между Ириной и Каргиным что-то есть, мне стало радостно.
Вот как всё это происходило.
Когда я пришла на завод из армии, Каргин уже работал здесь. Позже я узнала, что он и до войны работал на этом заводе — инженером в цехе, потом был на фронте, а когда блокада была прорвана, его вернули сюда и выбрали секретарем парткома.
Я работала у Ирины в лаборатории подручной и усиленно занималась в техникуме. Каргина я встречала только на больших собраниях, лично с ним и двух слов не сказала. Ирина, насколько я помню, тоже не встречалась с ним.
Началось всё опять-таки с закалки. Когда наша лаборатория занялась этим делом и мы встретили отпор дирекции, Ирина сказала мне:
— Знаешь что, Лида, пойду-ка я в партком, к этому Каргину. Иваныч о нём хорошо говорит, а он в людях толк знает. Пойду. В конце концов чем мы рискуем?
И в тот же вечер она пошла к Каргину.
Мы ждали её очень долго, часов до двенадцати. Когда Ирина пришла, по лицу её невозможно было определить, каковы результаты их разговора. Но по дороге домой Ирина рассказала мне подробности своей беседы:
— Вошла я к нему. Он стоит у окна. Показался мне ниже, чем обычно, в клубе, на сцене. И лицо старое.
Принял хорошо, усадил, чаю велел принести. Я на это не обратила внимания, мне уже надоела внимательность, за которой следует отказ. Рассказала ему, в чём дело, он ведь инженер по образованию, так что рассказывать было нетрудно.
Выслушал, потом стал задавать вопросы, и я все хотела догадаться по его тону, сочувствует он нам или нет…
— Ну и что же? — перебила я Ирину.
— Так ничего я и не поняла. Вопросы ставил дельные, но говорил спокойно, и мне даже показалось — безразлично. Я уже начала раскаиваться, что пришла к нему, а он вдруг говорит: «Вот какой у меня к вам последний вопрос, товарищ Вахрушева, только отвечайте на него, прошу, положа руку на сердце. Бывает так: работает молодой инженер и дела вокруг него — непочатый край. Но ему очень хочется быть новатором. И думает он, что новаторство только в том, чтобы всё вверх дном перевернуть. Так вот скажите: вы хорошо продумали все это? Сами с собой, наедине со своей совестью, вы убеждены, что высокочастотная закалка на нашем заводе применима в предлагаемых масштабах?» Я раскипятилась и начала было: «Неужели вы думаете…» Но он прервал меня и сказал строго, но не грубо: «Нет, нет, прошу вас, не надо всех этих слов. Я спросил вас от чистого сердца. Не знаю, как с вами, но со мной бывает так: вот уверен, что прав, а потом останешься один и спросишь себя, но по-честному, без всяких скидок на самолюбие, на полемику и всё такое прочее, и находишь этого самого червяка сомнения. Тогда, значит, надо все пересмотреть. Ну, так как же?»
— И что же ты ему ответила? — прервала я Ирину.
— А что же я могла ответить? Сказала, что абсолютно уверена в нашей правоте и готова завтра же представить ему докладную записку со всеми расчётами.
— А он?
— Сказал: «Представьте». И встал. Я тоже встала. Попрощалась и ушла. Вот и все.
По рассказу Ирины я так и не смогла понять, сочувствует нам Каргин или нет. Наконец я спросила Ирину:
— Ну, так как же ты думаешь: поможет он нам или нет?
— По-моему, да.
— По твоему рассказу я этого не чувствую, — усомнилась я. — Может быть, ты что-нибудь пропустила?
— Нет, — задумчиво возразила Ирина, — я все точно тебе рассказываю. И всё-таки, я думаю, поможет.
На другой день Каргин зашёл к нам в лабораторию. Я разглядела его вблизи. Он был невысокого роста, с усталым, немолодым лицом и очень спокойными глазами.
Каргин побеседовал несколько минут с инженером Лебедевым, кивнул мне и Ирине и спросил её, но как-то безразлично, между прочим:
— Ну, как записка? — И ушёл.
Мне показалось, что он спросил Ирину об этой записке просто так, из вежливости.
Однако в тот же день Ирина ему записку отнесла. Мне казалось, что результаты должны будут сказаться завтра же.
Однако и завтра, и послезавтра, и через неделю ничего не произошло. Ирина ходила злая, и я даже боялась напоминать об этой записке. В душе я была уверена, что Каргин положит её под сукно.
Собственно, это было вполне понятно. У Каргина достаточно дел и без того. Наш завод расширяется, многие цехи вернулись из эвакуации, а некоторые строятся заново, — Каргину хватает работы. Я видела его на заводе в самое различное время суток. Как-то раз я даже спросила Ирину: «Он что, живёт здесь же, на заводе?» Оказалось, что Каргин живёт рядом, в заводских домах.
Через неделю-полторы весь состав нашей лаборатории вызвали к Абросимову. Он предложил Ирине изложить, в чём, в сущности, заключается предложение лаборатории, и потом спокойно, обоснованно, пункт за пунктом, разгромил её.
Абросимов ссылался на американский опыт, который будто бы доказал, что высокочастотная закалка имеет свои границы и что закаливать, например, детали, подвергающиеся большой нагрузке, нецелесообразно.
Тут Ирина не выдержала, снова попросила слово и стала отвечать Абросимову так резко, что мне стало за неё тревожно.
И вдруг я заметила в дальнем углу кабинета, в глубоком кожаном кресле, Каргина. Он сидел, опустив голову, ни на кого не глядя. Мне очень захотелось, чтобы Ирина увидела Каргина, но она смотрела в упор на Абросимова и была так увлечена своей речью, что никого не замечала вокруг.
Она требовала установки нового, усовершенствованного опытного агрегата для высокочастотной закалки, пока только этого агрегата. И вопреки ожиданиям разрешение было нами получено. Я была уверена, что это результат вмешательства Каргина, хотя он в течение всего совещания не произнёс ни одного слова и даже не смотрел в нашу сторону, а куда-то в пол.
Я тоже работала на монтаже, мне хотелось изучить этот агрегат во всех деталях. День, когда его можно было испытать, был днём торжества всей нашей лаборатории. Однако он оказался и днём траура. Первые закалки оказались ни на что не похожими, неравномерными, или, как у нас говорят, «пятнистыми». Каждый вечер, после работы, мы возились у аппарата, и каждый раз результаты были одни и те же.
Однажды к нам подошёл Каргин и спросил:
— Ну как?
— Плохо, — резко ответила Ирина.
— На кого вы, собственно, сердитесь? — тихо спросил Каргин. — На себя?
Мне стало очень обидно за Ирину, я знала, как она переживала неудачу, и, чтобы защитить её, сказала:
— Я думала, товарищ Каргин, вы нам помочь пришли. Наше дело новое. А в насмешках мы недостатка не испытываем.
Мне не следовало всего этого говорить. Каргин обернулся ко мне, внимательно посмотрел своими спокойными глазами и заявил:
— Вам помогли. Вы просили агрегат — и получили его. Теперь доказывайте свою правоту, если в силах. А насчёт нового, так я вам скажу, что за новое надо бороться и утверждать его. И за вас никто этого делать не будет. Не разглагольствовать, а утверждать, драться за новое! — И ушёл.
— Утешил! — воскликнула я с горечью.
— А что ты хотела? — совершенно неожиданно для меня проговорила Ирина. — Мы просили агрегат — нам его дали. Что же мы хотим, чтобы за нас кто-то доказал, что мы правы? В чём же будет наша заслуга?
Все дальнейшее происходило совершенно незаметно для меня.
С Ириной мы с утра и до позднего вечера были вместе, и мысли её, так же как и мои, были заняты только работой. Каргин заходил к нам в лабораторию, но не чаще, чем раз в месяц, и, откровенно говоря, мне казалось, что Ирина, как и я, старалась не попадаться ему на глаза, потому что с закалками нас по-прежнему преследовали неудачи.
Каргин не утешал, и я ни разу не слышала от него тех фраз, которые так любят многие партийные и профсоюзные работники. Он не воодушевлял нас, не подбадривал. Напротив, он всегда подчёркивал, что чем больше мы упорствуем, настаиваем на своей правоте, тем больше наша ответственность. Он как-то заметил: «Помощь — да, защита — да. Но нянек не будет».
Не помню, с какого времени мне стало казаться, что между Ириной и Каргиным что-то есть, хотя у меня не было никаких «внешних» оснований. Но ведь я так хорошо знала Ирину, что мне они были и не нужны.
Я видела, как менялось её лицо при встречах с Каргиным и как она иногда умышленно избегала встреч с ним, а встретившись, говорила нарочито сухо. Я видела, чувствовала, что отношения Ирины и Каргина развиваются далеко не гладко, что Ирина внутренне сопротивляется своему чувству, но всё же была уверена, что оно, это чувство, победит.
…Вернувшись в лабораторию после совещания у директора, я встретила Ирину отнюдь не такой печальной, как ожидала. Напротив, она точно забыла о наших неудачах и, как только увидела меня, возбуждённо сказала:
— Знаешь, Лида, мне пришло в голову, откуда наши неудачи. Подумай: после закалки мы бросаем деталь в бак с водой. Деталь, падая, ударяется о борта и дно бака. В месте соприкосновения её со стенками бака создаётся уже какой-то новый режим. В результате этого и получается пятнистая, неравномерная закалка.
Я прямо-таки рот разинула от изумления, до того проста и вместе с тем разумна была догадка Ирины. Конечно, в этом и заключается проклятый секрет «пятнистости», принёсший нам столько мучений, затормозивший всю нашу работу. После закалки током деталь опускается в воду. И вот, падая, она ударяется… Ах, чёрт возьми, как все просто!..
Ирина тотчас же рассказала мне свой план. Надо изготовить сетку, очень редкую сетку из тонкой проволоки. Эту сетку мы укрепим посредине закалочного бака. Тогда деталь будет падать на сетку, а не на дно, и у неё будет минимум соприкосновения с посторонним металлом.
Я тотчас же побежала в цех заказывать сетку, а потом к агрегату, чтобы проверить его. Мы решили сегодня же после работы испытать наш новый способ. Я провозилась с агрегатом довольно долго, и, когда вернулась в лабораторию, рабочий день уже кончился. Аппарат был в порядке, и я прибежала сказать Ирине, что можно начинать испытание.
Мы уже собирались выходить из лаборатории, когда Ирина сказала:
— Нет. Ты пойдёшь домой. Как это я раньше не догадалась?
И как только она произнесла эти слова, я вспомнила — нет, не то слово, — я увидела перед собой Сашу, осознала, что не могу ждать ни одной минуты, что должна немедленно ехать к нему. И в тот же момент я подумала, как было бы хорошо, если бы опыт наш удался и я приехала бы к нему с победой и рассказала, как все это у нас произошло. Я возразила:
— А если опыт не займёт больше получаса? Мне очень хочется знать.
Мы пошли к агрегату.
В маленькой комнате рядом с инструментальным цехом был полумрак. Работа по напайке резцов шла в одну смену и сейчас уже закончилась.
Я зажгла свет. Агрегат, огороженный большими фанерными листами, чернел в углу. Ирина, Рая, наша лаборантка, и я стали укреплять сетку в закалочном баке. Мы делали все это молча, но с большим волнением.
Наконец всё было готово. У меня руки дрожали, когда я укрепляла деталь, которую мы хотели закалить — все ту же «лесенку», — в индуктор, по форме более или менее соответствующий нашей «лесенке». Под цилиндром мы установили бак. Теперь можно было приступить к опыту.
— Ну что же, давай начинать, — предложила Ирина.
Но я медлила. Я знала: нажми я сейчас пусковую кнопку, и через несколько минут всё будет кончено и можно будет проверять закалку. Но именно этого я и боялась: столько раз мы проделывали этот опыт, и столько раз нас постигала неудача.
В тот момент, когда я собиралась включить агрегат, дверь открылась и в комнату вошёл Иван Иванович Иванов, мастер мартеновского цеха. Его и Ирину связывали долголетние дружеские отношения; они вместе пережили блокаду, и теперь Иваныч относился к Ирине с какой-то угрюмой лаской.
— Ну? — спросил он, кивая на аппарат.
— Да вот, Иваныч, — сказала Ирина, — хотим повторить опыт. Немного изменили условия.
Иваныч подошёл к баку и заглянул в него.
— Решето? — спросил он с усмешкой.
— Вроде, — ответила Ирина и крикнула мне: — Да чего ты там тянешь, Лида? Включай!
Я зажмурила глаза и нажала кнопку.
Края «лесенки», захваченные индуктором, стали быстро раскаляться, но я знала, что они должны накалиться ещё больше. Мне казалось, что прошло очень много времени, но сама понимала, что это только так кажется: весь процесс закалки занимает не больше минуты. Я стояла и говорила про себя: «Ну, пусть удаётся, пусть удаётся. Как было бы хорошо, если бы всё удалось. Утром нас побили, а вечером мы выиграли бой. И какое будет счастье увидеть после этой победы Сашу, и Ирина будет счастлива сказать Каргину, что мы наконец добились своего, и тогда нам завтра же разрешат тему, и в конце концов весь завод будет работать по нашему методу».
— Опускай! — услышала я откуда-то издалека голос Ирины. Я дёрнула за рычаг, и деталь полетела в закалочный бак.
Зашипела вода, поднялось облако пара. Несколько минут все молчали.
— Давай! — каким-то усталым голосом проговорила Ирина. Я щипцами подхватила деталь из сетки. Прибор Роквелла, которым мы проверяли твёрдость металла и равномерность закалки, стоял в противоположном углу. Я бегом бросилась к прибору, установила в нём нашу деталь и пустила прибор в ход. Алмаз стал давить на металл, испытывая его твёрдость.
Снова неудача. Цифры на индикаторе показывали неравномерную твёрдость металла.
Я посмотрела на Ирину. Взволнованная, плотно сжав губы, она произнесла только одно слово:
— Повторим.
Результаты после повторения опыта были те же — неравномерная закалка. Иваныч махнул рукой и вышел. Я смотрела на Ирину. Я видела, что глаза её были полны слёз. Мне хотелось обнять её и что-то сказать в утешение, но ноги мои точно приросли к полу, а в руках я всё ещё держала эту проклятую «лестницу».
«Куда бы её положить?» — подумала я и вдруг увидела, что в дверях стоит Каргин.
— Ну, как дела? — тихо спросил он, обращаясь почему-то не к Ирине, а ко мне.
Он смотрел на меня спокойными, немигающими глазами, и я почувствовала, что не могу сказать ему о нашей неудаче.
Но это сделала Ирина. Она резко обернулась к Каргину и сказала громче, чем обычно:
— Плохо, все плохо. Я просто не знаю, что делать. Я уверена, что права, все мы правы, но у нас не выходит. Я думаю… Вот что, Василий Степанович, — она впервые назвала его при мне по имени и отчеству, — не лучше ли передать руководство этим делом более опытному инженеру?
— А вы считаете себя неопытным? — спросил Каргин, переводя на Ирину свой взгляд.
— Не ловите меня на слове, — со слезами в голосе ответила Ирина. — У меня не получается, понимаете, не выходит! Я устала от всего этого.
— От работы? — не повышая голоса, продолжал Каргин.
И тут я заметила в его глазах что-то совсем новое. Они стали теплее и живее.
— Нет, не от работы, — возразила Ирина, — а от этих неудач.
— Но ведь у вас одна жизнь, Ирина Григорьевна, — сказал Каргин, и мне показалось, что на лице его мелькнула улыбка. — Вот если бы их было несколько, можно было бы в одной отдыхать, в другой — веселиться, в третьей — работать. Но жизнь у нас, к сожалению, одна, и если не делать того, бояться этого, то для чего же жить? Или вы в загробную жизнь верите?
Теперь он уже по-настоящему улыбнулся. В этот момент я вспомнила о Саше. Взглянула на часы. Был уже восьмой час.
— Я пойду, — заторопилась я.
— Да, да, иди, — согласилась Ирина и добавила: — Как же я тебя так задержала! Ведь он ждёт!
Я проснулся от ощущения резкого света. Штора была отдернута, окно открыто, и солнце светило мне прямо в лицо. Первое, что я почувствовал проснувшись, было радостное ощущение тепла, яркого света и чистого воздуха.
На подушке, там, где сохранился ещё след Лидиной головы, лежала записка.
«Сашенька, чай кипел, подогрей его на плитке, бутерброды в шкафу, накрыты тарелкой. Ты так хорошо спал, что я не хотела тебя будить. Постараюсь прийти как можно раньше.
Лида».Мне стало очень хорошо от этих слов.
Какой-то шорох заставил меня обернуться. Под дверью лежала газета, — очевидно, почтальон только что сунул её. Я вскочил с постели и, взяв газету, вернулся обратно.
Это была «Ленинградская правда» — большая, четырехполосная газета. Я вспомнил, как она выглядела в дни блокады: один-единственный листок, всего две странички, — и стал читать газету.
Передовая была посвящена недостаткам в строительстве домов. Я стал просматривать раздел «Ленинградский день». В газете сообщалось, что в городе вновь освещено двести пятьдесят улиц, что вчера получены снегоочистители новой конструкции, закончен ремонт второго Елагина моста и начался ремонт Охтинского моста. Далее я узнал, что на фабрике «Красный Октябрь» восстановлено производство пианино отечественной марки, а в Павловском введено в строй тридцать пять тысяч метров жилой площади и открыты три школы, кино и техникум советской торговли и что кто-то изобрёл специальное строительное приспособление — «оконный кран», который устанавливается в оконном проёме и поднимает до полутонны стройматериалов…
Я прочитал всю газету и, отложив её в сторону, вспомнил, как тогда, в один из январских дней, я вот так же залпом прочел газету и какое впечатление произвели на меня сообщения о нормальной жизни города, который день и ночь обстреливала тяжёлая артиллерия врага.
«А теперь мир, — радостно подумал я, — мир, настоящий мир! И как много в этом мире нужных, интересных дел!»
Прочитав «Ленинградскую правду», я заметил, что возле кровати, на полу, лежит ещё какая-то маленькая газета. Она называлась «Машиностроитель». Я догадался, что это газета завода, на котором работает Лида.
«Богато живут, четырехполоску выпускают», — подумал я. Под заголовком было указано, что газета выходит ежедневно. По своему внешнему виду она напоминала нашу, фронтовую. Я с большим удовольствием просмотрел её. Мне было приятно видеть на газетных страницах такого знакомого формата шапки и заголовки, призывающие к мирному, созидательному труду. «А верстают всё-таки плохо, — подумал я. — Большая редакция, наверно, и аппарат солидный, а верстают небрежно и литправка хромает».
Дочитав газету, я включил электрическую плитку и стал одеваться.
Мой костюм висел на спинке стула, совсем рядом с кроватью, заботливо разглаженный рукой Лиды. «Милая, — подумал я, — как хорошо ты все угадываешь!»
Я торопливо позавтракал. Мне хотелось как можно скорее приняться за работу, о которой я мечтал ещё вчера. Я решил заняться нашей комнатой.
Вчера, гуляя по городу, мы зашли в магазин и накупили всякой всячины. Груда свёртков лежала у двери — там, где мы их вчера положили. Я стал медленно ощупывать каждый свёрток, стараясь догадаться, что это такое, и потом разворачивал бумагу и выкладывал вещи на стол. Это доставляло мне большое удовольствие. Наконец всё было развёрнуто, и весь стол оказался уставлен металлической посудой и стеклом. Все это радостно блестело на солнце.
Я чувствовал себя так, будто уже вторые сутки длится очень весёлый праздник, а главное — не видно ему конца.
Я засучил рукава рубашки. Решил начать с посудного шкафа. Мне не стоило труда передвинуть его: шкаф был почти пустой. Водворив его рядом с дверью, я стал ставить в него посуду.
В дверь постучали. На пороге стоял высокий человек в запыленной военной гимнастёрке со споротыми петлями для погон, в пилотке, очень не идущей к его длинному лицу. Правая рука человека была опущена, левую он держал в полусогнутом состоянии.
— Прораб, — сухо бросил человек вместо приветствия. — Хочу посмотреть, как у вас рамы пригнаны. — Не дожидаясь ответа, он шагнул к окну и, ухватившись правой рукой за раму, потряс её.
— Ну как? — весело спросил я.
— Как обычно, плохо, — резко ответил прораб. Он снова ухватился за раму и потянул её с такой силой, словно хотел оторвать.
— А по-моему, в порядке, — заметил я.
— Вот я им пропишу порядок! — выругался прораб. У него был хриплый голос.
— Вот что значит специалист, — продолжал я. — А мне ничего и не заметно.
— Вы заметите зимой, когда будет поддувать из щелей, — сказал прораб так, будто я был виноват в этом.
Меня поразил голос прораба. Я готов был поспорить, что где-то слышал уже его. И я спросил:
— Послушайте, дорогой товарищ, а мы с вами нигде не встречались? — Я очень хотел, чтобы этот человек вспомнил меня, и тогда мы сейчас сели бы за стол и выпили бы за нашу встречу.
— Не припомню, — сухо отозвался прораб. — На фронте, может быть? Бывали?
— Конечно, — поспешно ответил я. — Бывал здесь и в Прибалтике. А вы?
— Не припомню, — так же сухо и не отвечая на вопрос, заявил прораб и добавил: — Может, машину где-то вместе ждали. На контрольно-пропускном. — Он усмехнулся.
«Вот чёрт! — подумал я. — Эта усмешка! Нет, я определённо уже видел когда-то эту злую, иронически пренебрежительную усмешку».
— Я недавно демобилизовался, — продолжал я, решив во что бы то ни стало вызвать его на разговор. — И знаете, очень странно попасть в дом, который знал раньше. В этой самой комнате был артиллерийский наблюдательный пункт. А теперь вот снова жилье.
Это сообщение не произвело на него никакого впечатления.
— Это вам просто повезло, — ворчливо заметил прораб. — Вот если бы мы раньше правое крыло стали восстанавливать, вам бы и к зиме не въехать.
— Медленно строят?
Этот вопрос нашёл в нём больше отклика, чем все мои воспоминания.
— Медленно? — вдруг оживившись, переспросил прораб. — Плохо строят — это будет вернее сказать. Когда я сапёрным батальоном командовал, под суд бы за такое строительство отдал.
— Чем же плохо? — спросил я.
— А вот чем. У нас есть молодчики, которые забывают, что дом — это тебе не блиндаж строить. В прошлом году я одно строительство принимал, так чуть до драки дело не дошло. Осмотрел — вижу: окна во многих местах «застеклены» фанерой. Стены плохо выкрашены. А в общежитии для строительных рабочих даже сушилки нет. Во всех этажах только три водопроводных крана. По утрам у каждого крана очередь бы выстраивалась.
— Ну и что же?
— Я им показал кузькину мать! — со злобой выкрикнул прораб, и кулак его правой руки сжался. — Я им говорю: «На сколько лет, сукины дети, строите? На пяток али на десяток? А вы на двести лет постройте». Они мне в ответ: «Тот дом, который на этом месте разбомбило, не лучше был». А я говорю: «Мне наплевать на то, что было. Я хочу, чтобы теперь здесь стоял хороший дом». И пошли тут разговоры! И политика в ход пошла, я, мол, не понимаю задач восстановления, потом ссылки разные, что материалов нет, контролёры придирчивы. А я слушаю все это и думаю: «Точно всё это — материалов мало и качество неважное, но о главном, думаю, вы, подлецы, молчите: нет в вас желания, чтобы всё было лучше, лучше, чем прежде». Вот и теперь, скажу десятнику насчёт рам, а он мне в ответ: «Пусть, Виктор Григорьевич, благодарят, что такие рамы поставили, при полной-то вентиляции хуже было бы». Эх!
Меня поразила та злоба, я бы сказал — ненависть, с которой этот человек говорит о людях, которые, с его точки зрения, не хотят, чтобы «было лучше». Я почувствовал, что дело здесь не в оконных рамах и в краске, а в чём-то другом, более важном.
И тогда я спросил, потому что уже вспомнил, где встречал этого человека:
— Значит, всё уладилось?
Он посмотрел на меня в упор и спросил!
— Это вы про что?
— Про поезд Рига — Верхнегорск. Помните?
— Ну, это вы зря, — недовольно ответил прораб и отвернулся. — Нечего про то вспоминать. Было и прошло.
Видимо, и он вспомнил меня.
— Ну, я пошёл, дела ждут.
У двери он обернулся и сказал, усмехнувшись:
— С возвращением!
И ушёл. Я стал восстанавливать в памяти подробности моей встречи с этим человеком.
…В конце 1943 года меня вызвал редактор фронтовой газеты и сказал:
— Мы вам интересную командировочку придумали: поезжайте-ка в тыл, в Верхнегорск, туда два ленинградских завода эвакуированы. Вы ведь специалист по Ленинграду. Вот и дадите нам несколько подборочек на тему «Тыл и фронт неделимы».
Ночью редакторский «виллис» повёз меня к вокзалу. В городе было темно. Мы медленно ехали по городскому бульвару. Была поздняя осень, и пахло пряным запахом увядающих деревьев. Впрочем, преобладающим запахом был запах гари, каменной пыли и извёстки — запах недавних боёв.
Шофёр подвёз меня к вокзалу. Я с трудом достал билет до Верхнегорска. Мне предстояло ехать почти пятеро суток. Билет мне достался жёсткий, но плацкартный. Вагоны брали с боя. Когда я уже был у входа в вагон, какой-то офицер резко оттеснил меня и пробился в вагон первым.
Я устроился на третьей полке. В вагоне было душно и темно. Я смотрел вниз, но людей не различал и только слышал, как шумели, толкались и грохотали вещами в темноте.
— В атаку пошли! — раздался возле меня чей-то сдавленный, едкий голос.
Внизу что-то прогрохотало. Должно быть, упали чьи-то вещи.
— Так его! — снова прозвучало возле меня.
Я напряжённо вглядывался в темноту, чтобы рассмотрев говорящего. Человек этот, очевидно, был моим соседом и располагался где-то рядом, на второй или на третьей полке, но глаза мои ещё не привыкли к темноте.
Наконец шум в вагоне постепенно начал стихать, стали слышны отдельные голоса, грохот прекратился, люди постепенно рассаживались.
— Утихомирились, — произнёс, как бы подводя итог, мой сосед.
Он сказал одно только слово, но в голосе его было столько злого пренебрежения, что мне стало просто неприятно от этого соседства.
Проводник со свечой в руке пробирался по узкому проходу вагона. Совсем возле меня он остановился, кряхтя влез на нижнюю полку и стал устанавливать свечу в висящий под потолком фонарь. Потом он захлопнул дверцу фонаря, и сразу все вокруг осветилось неярким, мутным светом.
Верхняя, соседняя со мной полка была сплошь уставлена вещами, а на второй полке, пониже, лежал офицер. Он лежал на спине, положив одну руку под голову, а другую откинув в сторону, в неестественном положении.
Я сразу узнал его. Это был тот самый офицер, что так грубо толкнул меня при посадке. Без сомнения, голос принадлежал ему. Я повернулся к нему спиной и вскоре заснул.
В нашем составе был вагон-ресторан. Я увидел этот вагон, выйдя на одном из полустанков и прогуливаясь вдоль поезда.
По краям замаскированных окон пробивался свет. Мне очень захотелось зайти и выпить чего-нибудь. Я ухватился за поручни и, подтянувшись, взобрался на высокую ступеньку.
В ресторане было пусто. Я прошёл вдоль вагона и увидел, что в дальнем отделении, за стеклянной дверью, сидит офицер. Он сидел спиной ко мне, но едва я сделал несколько шагов вперёд, как офицер резко повернул голову в мою сторону, и я узнал моего соседа по вагону.
На столе перед ним стоял большой графин водки, а на тарелке лежал маленький кусочек чёрного хлеба.
— А-а-а, — протянул капитан, смотря на меня тяжёлым, пристальным взглядом, — сосед-попутчик! Прошу к моему шалашу. — Он сделал широкий полукруглый жест правой рукой.
Этот человек был мне неприятен, и я сказал:
— Спасибо, я зашёл просто так. Пора спать.
— Нет, вы присядьте, — с пьяной настойчивостью продолжал, чуть приподнимаясь и повышая голос, капитан. — Может, вы трезвенник и водки не пьёте? Так мы вам н-нарзану или ессентуков семнадцатый номер… Официант! — И капитан застучал кулаком по столу.
Мне надо было повернуться и уйти, не обращая внимания на пьяного, но я подошёл к столику и сел против капитана.
— Так-то лучше, — повеселел он. Я промолчал.
— Так я вам в мою стопку налью, — предложил капитан, — а то ресторан уже того, закрыт, все спать ушли, меня од-дного оставили.
Рот его искривился. Ударяя графином о край стопки, капитан налил мне полную.
— По-фронтовому. Ну, за здоровье всех страждущих! — провозгласил капитан и, подняв предназначенную мне стопку, медленно выпил. Затем, все так же не спеша, он взял хлеб, понюхал его и бросил обратно в тарелку. — Я знаю, капитан, ты непьющий, — сказал он, глядя на меня из-под покрасневших, полуопущенных век. — Такие все непьющие.
Я молчал.
— А я непьющих не люблю, — продолжал он. — Не верю я им. Они боятся, как бы в пьяном виде душу не раскрыть.
— Послушайте, капитан, — начал я, — а ведь вы все притворяетесь. По-моему, вы и пьёте оттого, что боитесь в трезвом виде душу открыть.
Я говорил искренне. Все это мне внезапно пришло в голову. Толстые, опухшие веки капитана дрогнули.
— Ну, ты брось эту психологию, — грубо вставил он. — Вот водка, пей. Я угощаю. А насчёт прошлого не касайся. Тоже политрук нашёлся.
Он схватил графин и резко, переливая через край, налил водку.
— Что ж, пожалуй, выпью, — согласился я.
Я выпил. Водка сразу ударила мне в голову. И, как это всегда случалось раньше, на фронте, всё стало казаться мне гораздо проще.
— На восток, значит, едешь, капитан? — спросил я, также переходя на «ты».
— Да что ты меня выпытываешь! — по-пьяному злобно закричал вдруг капитан. — Пригласили тебя — пей и молчи, а молчать не можешь, ну и чёрт с тобой!
— Брось истерику, — прервал я. — Я тебя не первый день вижу. На истерике не проживёшь.
Он снова потянулся к графину.
— Довольно тебе пить! — крикнул я и отодвинул графин. Капитан взглянул на меня, и мне показалось, что в мутных глазах его промелькнул испуг.
— На восток еду, — громко и вызывающе заявил вдруг капитан, — отвоевался. — Он кивнул на свою неподвижно висящую левую руку.
— Куда же? — спросил я.
— В Верхнегорск, — ответил он.
— Сам-то оттуда?
— Никогда не был, ленинградский, — сказал капитан. Mне показалось, что его хмель стал проходить, но что он искусственно поддерживает состояние опьянения.
— С рукой что? — спросил я.
— А тебе что за дело до моей руки? — снова вскипел он. — Была рука, и нет руки. Вот и весь сказ. Ясно?
— Ясно, — ответил я. Некоторое время мы молчали. Вдруг капитан резко поднялся.
— Ну, я спать пойду. — Он сунул руку в карман и, вытащив оттуда смятые в комок деньги, бросил их на стол, не считая. Затем, не оборачиваясь, нетвёрдым шагом пошёл к выходу.
…Как-то на стоянке я вышел на площадку вагона и застыл от неожиданности.
Поезд стоял на освещённой станции.
Да, станция была освещена, как будто не было никакой войны. Со своими фонарями и большими, незамаскированными окнами она вынырнула из беспросветного мрака, который в течение трёх лет каждый вечер надвигался на нас.
Несколько минут я стоял неподвижно. Мне даже показалось, что, если я сделаю шаг, одно движение, освещённый город растает во мраке, как мираж.
Поезд тронулся. Вагон медленно двигался вдоль перрона, и вокзальные фонари бросали на нас широкие полосы света.
И только тогда я заметил, что не один на площадке, — в глубине её мелькнул силуэт человека.
Я узнал капитана. Его лицо лишь на одно мгновение было освещено, когда по нему скользнул луч фонаря, но и этого было достаточно, чтобы разглядеть на нём выражение крайнего удивления и, мне так показалось, страха.
— Освещением залюбовались? — окликнул я его. — Что? — глухо переспросил капитан.
— На город, говорю, освещённый засмотрелись? — повторил я. — Наверно, тоже три года не видели?
— Да, — так же глухо отозвался капитан. — Что вы сказали? Да, три года.
Его голос показался мне совершенно другим, не тем, какой я уже привык слышать за трое суток нашего совместного путешествия.
Мы молчали. Поезд мчался в темноте, и по временам снопы искр из паровозной трубы, точно трассирующие пули гигантского пулемёта, огненными шлейфами проносились над нами.
— Вот и свет… — заговорил капитан, — и в окнах свет… — Очевидно, перед глазами его всё ещё стояло видение освещённого города.
— Ну и хорошо, что свет, — заметил я, — очень уж надоело в темноте жить. Неужели, капитан, тебя свет не радует?
— Жжёт он меня, а не радует, — медленно и точно с большой внутренней болью проговорил капитан. — Слушай, — он внезапно повысил голос, — я ведь уже два года как в темноте живу, привык, а теперь снова на свет выходить надо.
— Все выйдут на свет, — сказал я. — Что же ты, всю жизнь думал в темноте прожить?
— А кому мне на свету показываться? — с прежней, знакомой мне злобой произнёс он. — Бельмом на глазу быть?
— Кто у тебя в Верхнегорске из близких живёт? — опросил я, чтобы направить разговор по другому руслу.
— Никто, никто, — с ещё большей злобой ответил капитан, — никто у меня нигде не живёт. Понял? Все с бою брать должен.
— Не знаю, капитан, про что ты говоришь.
— И знать нечего, — грубо оборвал он.
Мы снова замолчали. Капитан заразил меня своим раздражением.
— Послушайте, капитан, а вы не пробовали действовать наоборот? — спросил я.
— Что такое?
— Наоборот, — повторил я. — Без этой злобы, которая, кроме вас, никому не понятна. Я чувствую, что вы пережили что-то, но ведь вы не единственный. С вами очень трудно говорить, будто вы всё время ждёте удара.
— Э-э, брось, — прервал меня он. — Ты мне лучше вот что скажи, только честно, без дураков, ты мне скажи: веришь ты кому-нибудь? А? Веришь? Но только так, до конца и без оглядки?
Я немного растерялся от такого вопроса.
— Конечно, — ответил я. — Как же можно жить без веры? И как можно воевать?
— Э-э, ты мне волынку не заводи, — снова прервал меня капитан. — Ты мне сейчас про родину начнёшь говорить да про победу. В это я и сам верю. Нет, ты мне про человека скажи. Есть у тебя такой человек, которому ты, как себе, веришь?
— Есть, — ответил я и подумал о Лиде.
— Баба?
— Женщина.
— За что же ты ей веришь? — с издёвкой в голосе спросил капитан.
— Я верю ей потому, что она никогда меня не обманывала. И не может обмануть.
— Это почему же? — спросил он. — Что ты, сахарный?
— Потому, что дело тут не только во мне, — сказал я, — а больше всего в ней. Потому, что она вообще никогда не врёт.
— Э-э, заливаешь ты мне, друг, — с упрямой настойчивостью возразил капитан. — Либо она тебе шарики крутит, либо ты мне.
— Нет, не думай, капитан, что больше всех знаешь! — так же громко возразил я, чувствуя, как во мне растёт обида. — Мне ни к чему тебе врать. Я тебя недавно узнал и, наверно, никогда больше не увижу.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся он колючим, хриплым смехом. — Это ты сказку себе, друг, сочинил. В сказке твоей оно так, а в жизни-то наоборот.
Несколько минут мы не произносили ни слова. Потом я сказал:
— Ладно, капитан. Я ведь не знаю, что у тебя там такое произошло.
— Да что ты меня пытаешь? — крикнул капитан. — Пусти! — Грубо отстранив меня плечом, он шагнул в вагон и с грохотом захлопнул дверь.
Поезд ускорял ход, и кругом была по-прежнему темнота. Мне вдруг стало нестерпимо жарко. Держась за поручни, я высунулся и подставил лицо встречному ветру.
— Кто это здесь висит? — услышал я за моей спиной голос. На площадке стоял проводник с фонарём.
— А только висеть, товарищ военный, не надо, — скучным голосом говорил проводник. — Сорвётесь, а я потом отвечай.
Я вернулся в вагон. Пробираясь на свою полку, я заметил, что капитана на месте нет. Улёгшись на спину, я пытался заснуть. Но сон не шёл. Я стал думать о капитане. Он стоял перед моими глазами неразгаданный, злой, недоверчивый и грубый, каждую минуту готовый к отпору. Только сейчас я почувствовал, как жутко жить на свете такому человеку.
…Теперь я вновь встретил этого человека. Он уже давно ушёл, но я всё ещё смотрел на дверь, словно ожидал, что он вернётся. Я готов был бы поверить во что угодно, только не в то, что этот озлобленный, подозрительный человек будет заниматься оконными рамами, дверными ручками и прочими вещами.
Я снова занялся переоборудованием нашей комнаты.
Так началась наша совместная послевоенная жизнь. В тот первый день, когда я, усталая, огорчённая очередной неудачей, вернулась домой, Саша встретил меня так радостно, наша комната выглядела так чудесно, что я на какое-то время забыла о своих заводских делах.
Мы задёрнули занавески, зажгли свет. Изящные, тоненькие, нарисованные тушью на абажуре волшебные фигурки повисли над столом, и вся комната, залитая мягким, пропущенным через вощёную бумагу светом, приобрела не свойственный ей спокойный и уютный вид, наполнилась радостью и довольством.
Мы поужинали вдвоём. Саша торжественно вынул из-под стола бутылку шампанского, и потом начались воспоминания, и всё казалось дорогим и хорошим, но самым дорогим и самым хорошим было то, что мы видим теперь каждую минуту друг друга.
Так было во второй, и в третий, и в четвёртый вечер. Раньше жизнь для меня кончалась вечером, когда я уходила с завода. Возвращение домой, сон — всё это было лишь перерывом, паузой перед возобновлением жизни завтра. Теперь всё казалось иначе. Возвращаясь домой, я знала, что Саша ждёт меня, ждёт с нетерпением.
Он не раз говорил мне, что счастлив, очень счастлив и на фронте даже не мечтал о таком счастье. Он напомнил мне мои же слова о том, что справедливость должна восторжествовать, потому что в этом правда нашей жизни. И он сказал, что вот справедливость восторжествовала и что наше счастье и есть одно из проявлений этого торжества.
Я соглашалась с ним.
Однажды — это было на второй неделе после его возвращения — Саша спросил меня:
— Ты не знаешь, много ли народу работает в вашей редакции?
— В редакции? — переспросила я. — Нет, не знаю. А почему ты спрашиваешь?
— Просто так. Я каждый день читаю вашу газету. Ну вот и заинтересовался. Профессиональный интерес.
Откровенно говоря, наша заводская газета мало интересовала меня. Она казалась мне сухой и казённой, описывающей какую-то внешнюю, поверхностную сторону жизни. Помню, как-то раз мы попытались заинтересовать редакцию нашим делом, но из этого ничего не получилось. Я сказала Саше:
— По-моему, скучная газета, я её редко читаю.
— Знаю, — кивнул Саша, — приходишь домой и никогда не спрашиваешь про газету. Я думал, что ты читаешь на заводе.
На этом разговор о газете прекратился. Позже Саша сказал:
— Сегодня я встретил одного своего фронтового товарища. Его фамилия Горохов. Сегодня вечером уезжает в такое место, где всякая география кончается. Можешь себе представить, обнаружилось, что на севере Якутии существует поселение под названием Русское Устье. Кстати, ты представляешь себе, что такое север Якутии?
Я отрицательно покачала головой.
— Я тоже не представлял, пока этот парень не рассказал мне, — проговорил Саша. — Так вот, от нас до Якутска надо суток четверо лететь на самолёте. А от Якутска, где нет никаких железных дорог, до этого самого Устья больше двух тысяч километров. И самолёт туда не долетает: нет посадочных площадок. Живут там якуты, чукчи, эвенки, и среди них маленькое русское поселение. Самое интересное то, что говор, обычаи этих русских сохранились в неприкосновенности чуть ли не с петровских времён. Однако Пётр Петром, а в дни войны устьинцы собрали в фонд обороны огромное количество мехов и всякой всячины. Считают, что эти русские — прямые потомки тех старинных русских мореплавателей-землепроходцев, которые доходили до мест и сейчас-то почти неизвестных. Интересно?
То, что рассказывал Саша, было очень интересно. Я слушала его, боясь проронить слово.
— Так вот, — продолжал Саша. — Ленинградский арктический институт отправляет в Русское Устье экспедицию. На два года. И этот самый Горохов увязался с экспедицией в качестве корреспондента. Представляешь? Зимой там мороз достигает семидесяти градусов. И никаких дорог… А он, кстати, только три месяца назад демобилизовался.
— У него есть семья? — спросила я.
— Семья? Не знаю. Впрочем, кто-то, кажется, есть, не помню только, жена или мать.
Поздно вечером, когда мы уже собирались спать, я сказала Саше:
— У меня из головы не выходит то, что ты рассказал об этом месте. Ну, в Якутии…
— Русское Устье? — подсказал Саша. — Да, романтическая история.
— И об этом Горохове. Воображаю, как ему будет тяжело туда добираться.
— Такова участь корреспондента, — заметил Саша. — Грош ему цена, если он не будет стремиться увидеть то, что никто до него не видел. Трудности не в счёт.
Саша потушил свет и задёрнул штору.
— Послушай, — неожиданно для себя самой спросила я, — а если бы тебе предложили такую поездку?
— Мне? — Саша помолчал немного. В темноте я не видела его лица. — Мне? — переспросил Саша. — Что ж, конечно, поехал бы. На фронте бывали более серьёзные командировки… Только у меня другой план.
Он помолчал немного и сказал:
— Как ты думаешь: что, если я попробую поступить в вашу редакцию?
— В нашу газету? — удивилась я.
— А что ж такого? Во-первых, у вас четырехполоска, газета солидная, — значит, работа найдётся. Потом — я никогда не любил большие, шумные редакции. Наконец, мне просто интересно присмотреться к жизни завода. Я думаю, что это пригодится мне и для книги, хотя в ней речь пойдёт о войне. И в конце концов хватит бездельничать, я хочу работать!
— Я думала, что ты хочешь ещё отдохнуть.
— Есть ещё одна причина, — тихо отозвался Саша, не обращая внимания на мои слова. — Ведь мы почти не видим друг друга. Ты с утра до вечера на заводе. Я пробовал подсчитывать часы, которые мы проводим вместе. Если не считать ночей, то получается до смешного мало. А так, ты подумай только, мы всё время будем почти рядом друг с другом.
Об этом можно было только мечтать — работать на одном заводе, иметь одно, общее дело. И как это мне самой не пришло в голову?
— Словом, — продолжал Саша, — я завтра же зайду в райком.
— А я пойду к Каргину и попрошу его помочь! — воскликнула я. — Ведь от него многое зависит.
В тот вечер я долго не могла заснуть. Всё было слишком хорошо. Счастье переполняло меня, счастье и любовь к Саше. А потом я заснула, и мне всю ночь снились снега, олени и какие-то люди с длинными русыми бородами.
Не знаю, что общего было между Василием Степановичем Каргиным и нашим старым мастером Иванычем, что объединило этих двух людей, разных по возрасту и совершенно непохожих друг на друга по характеру, но они были друзьями.
Я узнала об этом от Ирины тогда, когда она ещё лично не была знакома с Каргиным. Она по-прежнему жила на своей старой квартире, и Иванов по-старому был её соседом.
— Каргин-то каждое воскресенье у нашего Иваныча сидит, — сказала мне Ирина. — Странная дружба.
И вот совсем недавно я убедилась, что в отношениях Каргина с Ириной сыграл свою роль Иванов.
На другой день после нашего разговора с Сашей о заводской газете Ирина не вышла на работу. Не пришла она и на следующий день. Ирина заканчивала один расчёт, и ей разрешили два дня работать дома. Но к концу второго дня у меня накопилось много вопросов, разрешить которые могла только Ирина, и вообще я привыкла всегда иметь её «под рукой». И после работы я отправилась к ней, на Троицкую, — это было недалеко от завода.
В дверях я столкнулась с Иваном Ивановичем Ивановым.
— Ирина дома? — спросила я, сторонясь, чтобы дать старику выйти.
— Ирина Григорьевна? — переспросил Иванов, и мне показалось, что он посмотрел на меня как-то неприязненно или смущенно. — Дома она, дома работает. Скоро, в общем, будет. Идёмте, идёмте, — вдруг засуетился он, увлекая меня в коридор.
— Вы же уходить собирались? — заметила я.
— Да нет, чего там, так, в лавку сходить, — торопливо пробормотал Иванов, открывая ключом дверь своей комнаты.
— Ирина у вас?
— Да вы обождите, обождите, — торопился Иванов, слегка подталкивая меня в дверь, — Ирина Григорьевна сюда придёт. Она наказывала вам здесь обождать. А я в лавку, в лавку… — И, неуклюже повернувшись, Иванов боком вышел из комнаты, плотно притворив за собой дверь.
Я ничего не понимала. Во-первых, Иванов был чем-то смущен, я никогда не видела его таким. Во-вторых, Ирина ничего не могла ему наказывать насчёт меня, так как не знала, что я приду. «Ну ладно, подожду», — подумала я.
Окно было раскрыто. Я подошла и села на подоконник. Было свежо — недавно прошёл дождь — и тихо: окна выходили в переулок. И вдруг я услышала голос. Говорил мужчина и где-то совсем рядом со мной.
— Нет, Ирина Григорьевна, считайте меня кем хотите, но я нарушу все обещания, все договоры и всё такое прочее. Вы не имеете права жить одна, одна во всём свете, только потому, что вы любили человека, которого уже нет… совсем нет.
Я вздрогнула, услышав этот голос, — я знала, кому он принадлежит.
— Зачем вы говорите мне все это, Василий Степанович? — услышала я тихий голос Ирины. — Неужели вы хотите, чтобы я повторила вам то, что вы уже слышали? У каждого человека свой путь в жизни. Тот путь, по которому иду я, — прямой путь, начало его и конец видны ясно. Я осталась жить… смогла жить только потому, что шла по этому пути и не сворачивала в сторону. И я боюсь, что, изменив в одном, я сойду с моего прямого пути.
— Нет, Ирина Григорьевна, нет, — с незнакомой мне горячностью воскликнул Каргин, — вы не правы, тысячу раз не правы! Если бы он был жив, если бы была хоть маленькая надежда на то, что он жив, — вы были бы правы, правы во всём. Но он погиб, его нет в жизни. А вы живёте. Вы обязаны жить по законам жизни. Вы не должны ожесточаться и огораживать свою душу… Ведь после войны восстанавливаются не только города, но и души — те, что были поранены…
Я сидела, боясь шелохнуться. Я знала, что должна сейчас же уйти, и боялась пошевелиться, чтобы не обнаружить своего присутствия.
— Так всегда начинают борьбу против принципов, — с горечью сказала Ирина.
— Есть разные принципы, — поспешно и убеждённо ответил Каргин. — С некоторыми из них не грех и бороться. Вы внушили себе, что живёте теперь только для других. Такая жертвенность чужда нашей советской жизни. И, скажу вам по совести, вы и для других-то жить не сможете! Вы хотите набальзамироваться. А по какому праву? Для чего вы боролись, для чего перенесли блокаду, для чего любили мужа, наконец?
Он сделал небольшую паузу и проговорил уже совершенно другим, спокойным и тихим голосом:
— Да и не верю я вам. Не могу верить. Вы только со мной так говорите.
— Василий Степанович, — ответила Ирина, — вы очень хорошо знаете, как я отношусь к вам, и знаете, что если бы я решилась… — Она замолчала так внезапно, точно захлебнулась словами, и потом продолжала сбивчиво и торопливо: — Вы понимаете, мне было бы это страшно, просто страшно… Ведь есть слова, которые говорятся только одному человеку… Я не знаю, как объяснить, но это невозможно!
— Если в основе будет честное чувство, то вам не должно, не может быть страшно, — заметил Каргин.
— Нет, нет! — воскликнула Ирина, и мне показалось, что она сейчас расплачется. — Василий Степанович, милый, не будем больше говорить об этом. Я вам верю, хочу верить! Может быть, я не права, но тут дело не только в разуме.
— Хорошо, — согласился Каргин, — не будем.
Они замолчали. Я чувствовала себя преступницей по отношению к Ирине. Какое я имела право слушать весь этот разговор? Войди сюда сейчас Ирина, я, наверно, сквозь землю провалилась бы.
Я вышла в коридор. Только бы никого не встретить. Но мне не повезло. Едва я подошла к выходу, дверь соседней комнаты открылась, и на пороге показалась Ирина.
— Лида, ты? — удивилась она.
— Да, я вот приходила… Иван Иваныч… — забормотала я. Но Ирина будто и не замечала моего смущения.
В это время на пороге её комнаты показался Каргин.
— Мы сидели, — внезапно сухо и нервно сказала Ирина, — а теперь решили пройтись. Погода, кажется, хорошая, дождь прошёл. Пойдём с нами.
Вот тут-то я и сделала глупость. Мне надо было сказать что-нибудь, отговориться и уйти, а я согласилась. Мне показалось, что если я так внезапно уйду, то это будет неестественно и Ирина поймёт, что я слышала их разговор.
Мы шли молча. Ирина вдруг спросила:
— Вы, Василий Степанович, кажется, инженер?
Я невольно усмехнулась. Ирина разговаривала с Каргиным именно так, как говорят при посторонних.
— Инженер, — ответил Каргин.
— Вам не жаль, что не работаете по специальности?
— Почему это вы вдруг? — спросил Каргин улыбаясь.
— Да нет, просто так, пришло в голову, — смутилась Ирина. — Я подумала: вот на заводе работают сотни инженерий, тысячи рабочих разных специальностей, и у каждого из них есть своё конкретное дело. Если потерпел неудачу, это его неудача. Ну, а если успех, так это его успех. А у вас — неудачи-то на ваши плечи ложатся, а успех делят между собой другие.
— Нет, не жалею, — сказал Каргин, замедляя шаги и обращаясь к Ирине. — Мне кажется, что наша «партийная специальность» — самая интересная. Вот вы говорили про славу, что она другому достаётся. Может быть, иногда это и обидно. Но только по мелкому, старинному счету. Есть другой, более современный и более человеческий. Как это? «Пускай нам общим памятником будет…»
Каргин произнёс все это таким искренним, таким убеждённым тоном, точно ему было совершенно необходимо убедить нас в правильности его слов.
— Что-то не хочется идти домой. По правде сказать, и на улице-то редко приходится бывать. Пройдём через парк, а? — предложил Каргин после некоторого молчания.
Мне показалось странным предложение гулять по грязи после дождя в пустом парке, но я молчала, понимая, что не мне принадлежит решающий голос.
Мы подошли к парку. Тёмная масса деревьев выросла перед нами. Пряный запах леса почувствовался ещё издали. И казалось, исчезли все голоса города, не гремели машины, трамваи, не было слышно людей, только деревья шумели и слегка поскрипывали под напором ветра.
— Что ж, пойдём? — робко спросил Каргин, не то приглашая, не то советуясь.
Огромные ворота парка были открыты. За ними была абсолютная темнота. Фонари в парке не горели, и всё, что было там, в глубине, казалось отсюда, с освещённой улицы, окутанным непроницаемым мраком.
Мы вошли в ворота. Через несколько минут глаза мои привыкли к темноте, и я различила полукруглую площадку, скамейки, расставленные по краю, и в центре небольшой фонтан. Всё это казалось сейчас очень тёмным и безжизненным, и мне очень захотелось побывать здесь в яркий, солнечный день, и чтобы фонтан бил невысокой чистой струёй.
— Пойдёмте ниже, — предложил Василий Степанович, беря меня и Ирину под руки и увлекая нас в круто спускающуюся аллею.
Мои ноги скользили по жидкой грязи, и я должна была держаться за низкую изгородь, идущую по обеим сторонам аллеи, чтобы не упасть.
— Тут у меня местечко есть одно любимое, — проговорил Каргин, как бы в ответ на моё недоумение. — Летом тут хорошо было. Скоро в Ленинграде ещё два парка будет. Парки Победы.
Мы свернули вправо. Метрах в десяти от поворота я увидела маленькую террасу. Она была совершенно открыта, без навеса, просто площадка и на ней скамейки. Внизу под нами я увидела большую, уставленную скамейками площадь и павильон для оркестра, похожий на чёрную раскрытую пасть.
Здесь было уже совсем тихо и пустынно, только темнота обступала нас со всех сторон, сгущаясь там, где были деревья.
— Вот и пришли, — сказал Василий Степанович, усевшись на скамейку и облокотившись на перила. — Летом на эту скамейку большой спрос у влюблённых.
— Вы тоже приходили сюда в этом качестве? — спросила я.
— Нет, — не сразу ответил Каргин, — не в этом. Я и бывал-то здесь всего раза два или три. Первый раз случайно забрёл ночью, когда с завода шёл. Голова очень болела. Потом ещё как-то раз приходил. Здесь очень хорошо думать.
Внезапно обстановка перестала казаться мне необычной. Сейчас я чувствовала себя так, будто все вокруг совершенно естественно и всё происходит именно так, как и должно происходить.
— А вот я уже очень давно не размышляла, — сказала Ирина, глядя в темноту, — очень давно. Была война, и как-то страшно было думать.
— А о будущем? — спросил Каргин.
— И о будущем. Пожалуй, я слишком много видела горя, чтобы быть счастливой одними внешними послевоенными радостями: освещёнными улицами, тишиной, спокойными, без воздушных тревог ночами.
— Но кто думал только об этом? — прервал её Каргин.
— А о другом мне было трудно мечтать.
Они говорили все о том же, что и там, у окна, но здесь была я, и поэтому они говорили другими словами.
— А о чём вы мечтали перед концом войны? Чего бы вам хотелось? — спросила Каргина Ирина, и я почувствовала, что она имеет право задавать ему такие вопросы.
— Мне хотелось, — спокойно ответил Каргин, — остаться на заводе с теми же людьми, которым я говорил, что для победы надо отказать себе во многом, надо по суткам не выходить из цехов, которым мы, большевики, говорили, что надо забыть о личных горестях и заботах. Миллионы людей верили нам, потому что знали: мы говорим от имени партии. И когда мы победили, народ ещё раз убедился, что партия была права. И мне хочется и в дни мира идти с этими людьми… Война кончилась, — продолжал Каргин, — но людям ещё трудно живётся. И я знаю — не просто верю, а знаю, — что, для того чтобы жилось легко, надо работать, работать не покладая рук. А после такой войны это не так просто, надо преодолеть усталость. И вот мне хочется опять быть с теми же людьми, с людьми, которые нам, большевикам, верят, помогать им преодолевать усталость и дойти вместе до тех дней, когда будет легко и счастливо житься.
И вдруг мне показалось — или это интонация его голоса изменилась, — что он, Василий Степанович, говорит какие-то новые, никогда не слышанные мною слова.
— Я получил письмо из Сибири, из нашего филиала, — сказал вдруг без всякого перехода Каргин. — Трудно им.
«При чём тут филиал?»—подумала я, хотя знала, о чём шла речь. Филиалом считался завод в далёком сибирском городке, куда во время войны эвакуировались наши цехи. Этот завод расширяется и скоро станет чуть ли не таким, как наш.
— Трудно им, — повторил Каргин. — Они получили большое самостоятельное задание. Будут производить сельскохозяйственные машины. А опыта ещё нет. Привыкли к танкам, к пушкам. План им дали серьёзный. С кадрами плохо. Наших-то мы почти всех вернули. Холодно там. Зимой, пишут, до шестидесяти доходит. Трудно. И люди очень нужны, эх, как нужны умелые, опытные работники!
Каргин замолчал, будто забыл о том, что кто-то слушает его.
Ирина сидела рядом со мной, опустив голову, и молчала. Мне очень хотелось узнать, о чём думала она сейчас.
И вдруг я, повинуясь какому-то внутреннему голосу, встала.
— Куда ты? — как-то испуганно произнесла Ирина.
— Да меня же Саша ждёт! — крикнула я уже из темноты. — До свидания, до завтра!
Я почувствовала, что должна оставить их одних, и шла всё быстрее и быстрее.
Уже выйдя из парка, я вспомнила, что так и не поговорила с Каргиным о Саше. «Сегодня это было бы не к месту», — подумала я и решила, что зайду к Каргину в партком.
На обратном пути, проходя мимо дома Ирины, я увидела Иванова. Он сидел у двери на вынесенном из квартиры стуле — его обычная ежевечерняя привычка. Я постаралась как можно быстрее и незаметнее пройти мимо старика, но он окликнул меня.
— Ну, как, — спросил Иванов, когда я подошла к нему, — ушли?
Он посмотрел на меня строго, ни капли смущения, которое поразило меня при недавней встрече, не было на его лице. — Ушли, — ответила я, — в парк.
— Так, — как бы про себя проговорил Иванов, и его серые усы зашевелились. — Как думаешь, выйдет у них дело?
Эта неожиданная прямолинейность смутила меня. — Про что вы? — спросила я.
— Сама знаешь, про что, — так же строго продолжал Иванов, — про дело говорю. Вздохнуть ей надо, Иришке. Жизнь не остановишь — сам в дураках останешься… А он человек стоящий. Требовательный только, к людям требовательный. Ну ладно, иди себе.
Дома меня ждало письмо. Это было письмо из далёкого восточного города. Писала Анна Васильевна, та самая Анна Васильевна, с которой я работала в детском доме во время блокады. В письме она сообщала, что детские дома возвращаются из эвакуации и приедут в Ленинград, очевидно, в воскресенье.
Письмо пришло в субботу. За ужином я показала Саше письмо.
— Я хочу поехать на вокзал, встретить.
— Конечно, поезжай, — сказал Саша — он ловил всё время выскальзывающий из-под вилки гриб — и добавил — Может быть, мне тоже поехать?
Было решено, что я поеду одна.
В ту ночь я долго не могла заснуть.
Саша ещё спал, когда я тихонько, чтобы не разбудить его, выскользнула из комнаты. Я приехала на вокзал и заметила, что перрон сегодня имеет необычный вид. Он был украшен флагами, и мужчины и женщины не походили на обычных встречающих.
Стрелка медленно двигалась по белому циферблату. Размеренным шагом прогуливался по перрону высокий железнодорожник с морщинистым бесстрастным лицом. Всем видом он говорил: «Ну вот, я и сделал всё, что было нужно. Больше от меня ничего не зависит. Теперь все надо предоставить естественному ходу событий».
Но вот люди задвигались, засуетились, те, что сидели, встали, разговоры смолкли, тревожное ожидание отразилось на лицах уже совсем ясно, и я почувствовала, что и меня охватывает странное, щемящее чувство. Все напряжённо смотрели туда, где железнодорожные пути сливаются в одну чёрную полосу. И наконец далеко-далеко появилось едва заметное облачко пара.
Женщины начали плакать, слёзы покатились и по лицам многих мужчин. Люди побежали вперёд, словно желая встретить поезд на полпути. Поезд приближался ежесекундно, взлетало вверх белое облачко, выстреливаемое из паровозной трубы, вот уже слышны шум, вздохи паровоза и стук колёс. Поезд всё ближе и ближе, все больше вырастает в размерах грудь паровоза, и теперь уже видно, что он украшен зелёным и красным — хвоей и флагами. И в эту минуту, покрывая все: говор людей и шум поезда, грянул невидимый доселе оркестр.
И вот поезд уже у перрона, улыбающийся машинист выглянул из кабины паровоза, и я увидела, что окна вагонов открыты и сотни детских головок высунулись в окна. Все, кто был на перроне, бросились к вагонам и дверям. Крики: «Серёжа!», «Боренька!», «Лена!», «Мама!», «Мамочка!» — заглушили никому не нужный оркестр, и я, беспомощно оглядываясь вокруг, почувствовала, что и моё лицо мокро от слёз. Прозвучал громкий ребячий крик:
— Те-тя Ли-да!
Туман застилает мои глаза, я ищу того, кто выкрикнул эти два слова; мучительные, давно забытые ощущения охватывают меня. Я обвожу ничего не видящими глазами окна вагонов и вдруг снова, теперь уже совсем близко, слышу:
— Те-тя Ли-да!
Я молниеносно повернулась и увидела в одном из вагонных окон милое, родное, постаревшее лицо Анны Васильевны и рядом с ней, над её плечом, круглую стриженую мальчишескую головку. Это он кричит «тётя Лида», и я, пробившись сквозь толпу обнимающихся, целующихся детей и взрослых, бросаюсь к окну.
— Колька, Колька, родной! Коля! — кричу я.
И снова гремел оркестр и произносились речи. Их слушали взрослые люди с детьми на руках. Детей забрасывали цветами. Потом мы ехали в автобусе, украшенном хвоей и красными лентами.
— Ну вот мы и вместе, — вздохнула Анна Васильевна, когда машина тронулась.
Я оглядела детей. В автобусе было семь мальчиков и двенадцать девочек. Почти никого из них я не знала. Анна Васильевна рассказала мне, что дети, которые были тогда в детском доме, живут теперь в семьях: некоторых взяли родственники, других усыновили чужие люди. Детский дом всё время пополнялся новыми эвакуированными детьми из Ленинграда. Из ветеранов остался только Коля.
И вот он стоял теперь на коленях на кожаном сиденье рядом со мной, выросший, одиннадцатилетний, круглоголовый мальчишка, и неотрывно смотрел в окно на улицы, по которым мы проезжали.
— Ну как Ленинград, Коля? — спросила я. Колька повернул голову и сказал:
— Здорово! Фанеры нет, окна цельные…
Я смотрела в его глаза. Я помнила страшный, незабываемый взгляд Кольки, взгляд затравленного волчонка. Сейчас это были обыкновенные, живые глаза подростка, — может быть, только слишком пристальные и спокойные.
— А я тебя помнил, тётя Лида, — улыбнулся Коля, отворачиваясь от окна. — Всё время помнил. У нас всех ребят усыновили, а меня не берут. Злой, говорят, больно. Вот я и думаю: ладно, у меня тётя Лида есть. — Он говорил задорно, даже с вызовом. — А потом думаю: ну ладно, те, которых усыновили, в Ленинград не вернутся, родители-то их постоянно в Сибири живут. А я, думаю, вернусь!
— А тебе очень хотелось вернуться? — спросила я, поглаживая его стриженую голову.
— В Ленинград-то? — переспросил Коля. — А как же? Не вернули бы, так я бы пешком убег. — В его глазах мелькнули упрямые огоньки.
Я молчала, гладила голову Коли, чувствуя огромную нежность к этому круглоголовому мальчику с умными, спокойными глазами.
У большого серого дома с колоннами нам пришлось расстаться. Здесь детям предстояло пройти медосмотр, отдохнуть и разъехаться в приготовленные для них стационары.
— Придёшь, тётя Лида? — спросил Коля на прощание, не спуская с меня своих внимательных глаз.
— Конечно, конечно, приду, — ответила я и подумала: «Разве я могу не прийти?»
В понедельник я решила пойти к Каргину и поговорить относительно поступления Саши в нашу газету. Саша уже был в райкоме, и там сказали, что они не будут возражать против поступления, если с завода пришлют требование.
Я не сказала Саше, что пойду к Каргину, — он очень самолюбив и один раз уже сказал мне, что не любит протекционизма. Однако я всё же решила пойти. За эти дни я уже свыклась с мыслью, что мы с Сашей будем работать вместе.
Кроме того, ведь это был Каргин, — к другому я и сама бы не пошла. Мне кажется, что за это время я уже достаточно хорошо узнала Василия Степановича. Каргин был очень внимателен к людям и любопытен. Видимо, не холодный интерес исследователя руководил им. Каргин любил людей. В нём жило какое-то постоянное чувство ответственности за всё, что происходит вокруг. Создавалось впечатление, что он считает себя ответственным не только за свой завод, но и за всех людей, за всю страну.
Когда я вошла в партком, технический секретарь остановил меня.
— Подождать придётся, — предупредил он. — Тут один товарищ вызван.
Я уселась в сторонке у стены. Скоро через комнату быстрой походкой прошёл главный металлург Абросимов. Не замечая меня, он направился к двери Каргина, бросив на ходу;
— У себя?
— Ждёт, — ответил секретарь.
Мне вдруг показалось, что разговор пойдёт о нашей лаборатории.
— Привет, товарищ Абросимов, — услышала я из-за стены. Голос Каргина хорошо слышен из-за тонкой перегородки. Послышался шум отодвигаемого стула и снова голос Каргина:
— Мне хотелось поговорить с вами кое о чём, Николай Гаврилович, если хотите — посоветоваться, узнать ваше мнение
— К вашим услугам, Василий Степанович, — ответил Абросимов.
— Вот какое дело… — нерешительно начал Каргин, и я услышала то приближающиеся, то удаляющиеся шаги: очевидно, Каргин начал ходить по кабинету. — Вот какое дело, — после паузы повторил Каргин. — Вы помните, дня три тому назад мы проводили совещание в механическом цехе. Я пришёл в самом конце, должно быть, вы меня не заметили. Да и мудрено было заметить, дым стоял коромыслом, я тоже насилу разобрал, кто там присутствует. Спорили крепко. Вы помните, о чём?
— Ну, конечно, — ответил Абросимов, — это было одно из наших так называемых творческих совещаний. Речь, по-моему, шла о нормах для техконтроля.
— Правильно, о нормах. Вот я и зашёл. Сначала, повторяю, дым, ничего не видать, прямо какая-то газовая атака. И спорят, здорово спорят.
— Инженер Валуев очень толково выступал, — заметил Абросимов.
— Толково? — переспросил Каргин. — Вы преуменьшаете, товарищ Абросимов. Валуев выступал блестяще, талантливо. И разве он один? Когда я зашёл в кабинет и послушал минут десять, первой моей мыслью было: «Вот где бьётся творческая мысль, вот где настоящее горение». Вы помните, Николай Гаврилович, о чём конкретно шла речь?
— Если не ошибаюсь, о нормах для браковки крылатки насоса, — ответил Абросимов.
— Совершенно правильно, — подхватил Каргин. — Инженер Валуев доказывал, что, если рабочий сточит внутренний бортик на миллиметр больше, крылатку надо браковать. Вы знаете, всё это было так здорово, что меня прямо-таки захватило! Спорщики поворачивали в руках деталь, рассматривали чертежи, производили тут же на листах бумаги математические расчёты. На первый взгляд — настоящая классическая творческая дискуссия.
— Я немного не понимаю, Василий Степанович, — раздался голос Абросимова. — Вы что, иронизируете? Ведь совещание инженеров, естественно, отличается от заседания, скажем, парткома. Наверно, вы были бы очень удивлены, если бы, придя в тот же механический цех, услышали дискуссию о политической работе. Инженеры говорят о производстве: расчёты, детали — все это им необходимо. А насчёт дыма…
— Дело не в дыме! — вдруг резко повысил голос Каргин. — Я утверждаю, уважаемый товарищ Абросимов, что вся эта ваша творческая дискуссия гроша ломаного не стоит, что все это мимикрия, пусть неосознанная, но всё же мимикрия, эрзац-дискуссия, схоластика, вот что!
Шаги прекратились. Я почувствовала, что Каргин остановился возле самой двери, совсем около меня. «Пусть бы он говорил потише!» — подумала я. Мне было стыдно, что я уже второй раз невольно подслушиваю Каргина. И вместе с тем мне очень хотелось слышать этот разговор, не пропустить ни одного слова.
— Мне не понятны ваши слова, — с обидой в голосе сказал Абросимов.
— Я вам объясню, я вам всё объясню, дорогой Николай Гаврилович, и, уверен, вы поймёте меня. Я не против споров: пусть спорят, пусть курят, пусть костры из самой ядовитой махорки сжигают, — я буду приходить и сидеть в противогазе, и вы от меня слова жалобы не услышите.
— Так в чём же дело? — раздался нетерпеливый голос Абросимова.
— В болтовне, товарищ Абросимов, в болтовне, оторванной от жизненного, практического опыта. Вспомнили ли вы во время вашей прекрасной творческой дискуссии о том, что делается в самом цехе, за перегородкой той комнаты, в которой вы сидели? Ведь не может же быть секретом для вас или для того же Валуева, что в цехе, рядом с вашим кабинетом, слесари забивают детали чуть ли не кувалдой! А ту самую злополучную крылатку насоса токарь обтачивает резцом, давно уже потерявшим свою первоначальную форму. Разве можно этим металлическим огрызком достигнуть хоть какой-нибудь точности? Конечно нет! И все это под аккомпанемент творческих разговоров в соседней комнате. Хотите дальше? Слушайте! В механическом же работает токарь Саютин. Он применяет скорость резания сорок миллиметров в секунду. А рядом токарь Андрюшин при тех же данных глубин и подачи увеличил скорость до ста двадцати миллиметров! В пяти шагах от них работает девушка, токарь Турбина. Она пользуется победитовым резцом, но и на пятьдесят процентов не использует его свойства для повышения производительности. Все это в соседнем цехе! А ваши инженеры гораздо охотнее спорят о перспективах высокого технического процесса и не видят этих мелочей. Конечно, куда легче разыгрывать творческие феерии в кабинете, чем взяться за конкретные дела по освоению новой технологии.
— Нет, уж извините, — раздался голос Абросимова, и я поняла, что главный металлург раздражён до крайности, — нет, позвольте, я тоже буду резок и скажу, что это поклёп. Так можно приостановить всякий технический прогресс! Это, это клевета на наших инженеров!
— Докажите, — внезапно мягко ответил Каргин. — Докажите, дорогой товарищ Абросимов, защищайтесь, я прошу вас, защищайтесь или сами нападайте, бейте меня фактами, конкретными фактами, если они у вас есть. И давайте начистоту, Николай Гаврилович. Хотите, я вам скажу, откуда у некоторых наших людей этот разрыв между теорией и практикой? Быть человеком практических дел труднее, чем фантазировать и создавать себе репутацию прогрессивной и творчески мыслящей личности. А сочетать умение смотреть вперёд с практическими повседневными делами — это самое трудное, понимаете, трудное!
Наступило молчание.
— Вы молчите? Не защищаетесь? — снова заговорил Каргин. — Может быть, вам мало было фактов, которые я привёл, или они недостаточно убедительны? Скажите же, не стесняйтесь, и я прибавлю вам фактов. И, уж если на то пошло, я спрошу вас: почему вы, товарищ Абросимов, упорно и методически проваливаете лабораторию в её попытках внедрить на заводе высокочастотную закалку?
Как только я услышала эту последнюю фразу, сердце моё заколотилось. Я была уверена, что разговор подойдёт к этому, не может не подойти.
Снова наступило молчание.
— Мне очень больно слышать всё это, — сказал Абросимов. — В конце концов я тоже коммунист. Единственное, что утешает меня, — это сознание, что вы преувеличиваете. Неужели вы не видите, как много сделано на заводе? Восстановленные мартены? Новые цехи? Не мне все это говорить, не вам слушать.
— Правильно, — прервал его Каргин, — правильно. Но разве могло быть иначе? Весь Ленинград, вся страна будет восстанавливаться, а для нашего завода это пройдёт бесследно?
— Подождите, товарищ Каргин, — с укором в голосе остановил его Абросимов, — ведь я вас не перебивал. Ну, поговорим спокойно, как инженер с инженером. Вот вы подняли вопрос о высокочастотной закалке. Но ведь этот аргумент против вас. Лаборатория хочет заниматься именно этой темой. И это в то время, как есть сотни других, практических, до зарезу нужных сегодня! Защищая лабораторию, вы идёте против самого себя, товарищ Каргин. Вы ругаете Валуева…
— Я сам становлюсь на него похожим? — перебил его Каргин.
— Я не хочу делать выводы.
— А я хочу, — заявил Каргин. Он снова начал ходить по комнате. — Вот вы предлагаете говорить как инженер с инженером. А я предлагаю говорить как коммунист с коммунистом. И напрямик. Хорошо? Товарищ Абросимов, вы пережили блокаду. Но не думаете ли вы где-то там, в тайниках души, что, пройдя через блокадные испытания, вы уже можете, имеете право жить, так сказать, на малых скоростях? Разве вам не ясно, что после всего того, что пережили здесь люди, их желание новой, лучшей жизни будет непреоборимо? Вы не думали о том, что человеку усталому, не желающему бороться и побеждать, здесь будет, по-человечески говоря, просто трудно жить, воздух для него окажется слишком разреженным, как на больших высотах.
— Вы что хотите, чтобы я… ушёл с завода? — глухо спросил Абросимов.
— Нет, — звонко ответил Каргин, — я хочу только, чтобы вы поняли меня, чтобы вы боролись со мной, если я не прав, и шли бы вместе с нами, если согласитесь, что мы правы. И знаете что? Давайте считать наш разговор неоконченным. Поговорим на досуге каждый сам с собой. А потом встретимся. Хорошо?
— Хорошо, — сказал Абросимов своим прежним, спокойным, чуть хрипловатым голосом. — До свидания.
Абросимов вышел из кабинета и прошёл мимо меня, высокий, подтянутый, чуть размахивая на ходу руками. Он не обратил на меня никакого внимания.
Я продолжала сидеть, потому что никак не могла заставить себя встать и войти в комнату Каргина. Я знала, что ни за что не смогу сделать вид, будто не слышала его разговора с Абросимовым. Мне захотелось как-нибудь незаметно уйти отсюда, только бы не попадаться на глаза Каргину.
— Что же вы, заходите! — обратился ко мне техсекретарь, кивая на дверь.
— Уже пора обратно… — начала было я, но в этот момент на пороге показался Каргин.
— К вам, товарищ Каргин, — сказал техсекретарь, кивая на этот раз в мою сторону.
— А-а, лаборатория, — протянул Каргин, смотря на меня и чуть улыбаясь. — Ну, заходите, заходите.
И, когда я нерешительно зашла в его кабинет, Каргин спросил:
— Ну, как идут дела?
Мне показалось ужасно глупым и нелепым, что я пришла к нему по совершенно частному делу. Но Каргин вдруг сказал;
— Ну, поздравляю вас с возвращением мужа., Вы не удивляйтесь, что я знаю. Мне просто рассказала Ирина Григорьевна.
Эти слова — «Ирина Григорьевна» — Каргин произнёс каким-то особым голосом. И от этого я сразу почувствовала себя увереннее.
— Я ведь к вам не по служебному делу пришла, товарищ Каргин, — начала я. — У меня есть просьба.
— Значит, просительница? — с весёлой усмешкой пошутил Каргин.
Я подумала: «Какое смешное и совершенно вышедшее из употребления слово — «просительница», — и сказала:
— Вроде. Вот… понимаете, мой муж. Он журналист. Вернулся из армии, вы знаете. Вот мы и подумали, что, может быть, ему можно будет работать здесь, на нашем заводе, в редакции. Может быть, там нужны люди… У него опыт.
— Люди нужны, — подтвердил Каргин, — в особенности люди с опытом. Да, так что же?
«Чего же ему ещё надо? — подумала я. — Ведь все уже сказано».
— А ему… словом, ему самому хочется работать на заводе? — Каргин посмотрел на меня в упор своими немигающими спокойными глазами.
— Да, конечно, — горячо ответила я.
Мне вдруг захотелось все откровенно рассказать Каргину.
— Вы понимаете, — начала я, — мы не виделись более четырех лет. Теперь мы наконец вместе. Но, по правде сказать, целыми днями не видим друг друга. А нам бы хотелось быть вместе по-настоящему, то есть чтобы было какое-то общее дело. Ну, словом…
— Хорошо, — кивнул Каргин. — В нашу газету действительно нужны люди. — Он помолчал и добавил: — Честные, боевые люди. Пусть ваш муж зайдёт ко мне. Его фамилия?
— Савин.
— Хорошо, — ещё раз кивнул Каргин и, перегнувшись через стол, черкнул что-то на отрывном календаре.
— Ну вот, — с облегчением вздохнула я, — теперь насчёт лаборатории.
— Насчёт лаборатории мы поговорим в другой раз, — возразил Каргин и встал. — Ведь дело терпит, да? — Он улыбнулся.
Он был прав. Я начала про лабораторию для того, чтобы Каргин не подумал, что я пришла только по личному делу. Это была маскировка, и, очевидно, он это понял.
— Вы простите, что я по сугубо личному делу, — извинилась я, вставая.
— Личное? — переспросил Каргин и добавил: — Это очень важная штука — личное. Так я жду товарища Савина в пятницу, к двум.
И Каргин протянул мне руку.
Я выехал в полдень. Трамвай долго вёз меня по берегу Невы, и если глядеть влево, то казалось, что едешь не на трамвае, а на пароходе. Мы проехали бесчисленное количество мостов, и весь город, казалось, проплыл мимо нас, пока трамвай подъехал к заводу.
Мне никогда не приходилось ездить на этот завод трамваем. Я и был-то здесь всего один раз, в январе 1942 года. Тогда мы шли сюда с Ириной пешком, через город, и замёрзшая Нева казалась нам тогда не рекой, а узким полем, загромождённым военными судами.
Завод так изменился, что я сразу и не узнал его. У входа была сооружена деревянная арка, асфальтовая дорога вела в сад, в котором я увидел несколько небольших каменных зданий. По шуму, который доносился откуда-то из-за зданий, из глубины, я понял, что стою перед заводом, но это был явно не тот завод, который я искал.
Сомнение исчезло только после того, как я узнал в бюро пропусков, что пропуск мне уже заказан. Я прошёл по длинному коридору со множеством дверей, в которые ежеминутно входили и выходили торопливые люди, и, шагнув в указанную мне дверь, очутился на заводском дворе.
Передо мной вырос целый город. Находясь там, у деревянной арки, и видя перед собой только асфальтовый двор и несколько небольших зданий, невозможно было себе представить, что за всем этим скрывается. Это был именно город, с лабиринтом улиц, огромными зданиями, иногда в несколько этажей, и даже уличным движением: я видел, как проехали несколько полуторок и легковая машина. Прямо передо мной возвышался памятник Ленину…
В парткоме меня попросили войти в кабинет секретаря. У небольшого письменного стола стоял худощавый немолодой человек. Он посмотрел на меня, — я заметил необыкновенно спокойное и пристальное выражение его глубоко посаженных глаз, — протянул мне руку.
— Ну, будем знакомы. Каргин. Вы недавно из армии?
Я ответил утвердительно.
— Так, — сказал Каргин. — Нам очень нужны опытные журналисты в газету. — Он помолчал. — Вы, кажется, воевали на Ленинградском фронте?
— На Волховском, но бывал и в Ленинграде.
— Наша газета, — продолжал Каргин, — ещё плохая газета, вы это сами увидите. Дело не в технике печатания и даже не в литературном качестве материалов. Дело в другом… Впрочем, вы это сами увидите, — повторил он, внимательно глядя на меня. Потом встал, прошёлся взад и вперёд по кабинету и остановился возле меня. — Ну вот и всё… Не будем предвосхищать событий. Кое-что я знаю о вас от Лидии Федоровны. С райкомом я согласую. — Он улыбнулся. — Теперь вы поговорите с редактором.
Каргин подошёл со мной к двери и, открыв её, сказал техсекретарю:
— Покажите, пожалуйста, товарищу Савину, где у нас редакция. — Затем он протянул мне руку. — Ну, мы ещё увидимся…
Редактор оказался весёлым парнем лет тридцати, с широким, улыбчатым лицом, на котором почти терялись маленькие глазки. Лицо редактора было таким красным, точно его только что вынули из печки.
Помещение редакции состояло из двух комнат, но редактор помещался в третьей — маленьком закутке, отгороженном фанерой. Окон в закутке не было, и там горел днём и ночью свет. Редактор занимал собой весь закуток. Остановившись на пороге, нельзя было себе представить, что там может поместиться ещё один человек.
— Ну, давай, давай сюда, — гостеприимно пригласил редактор, когда я с порога назвал свою фамилию. Видимо, ему уже говорили обо мне.
В отличие от Каргина, он подверг меня тщательному опросу по части биографии, и, отвечая, я вспомнил многое такое, что, казалось, и сам забыл.
— Ну вот, — заключил редактор, отдуваясь, хотя устать должен был бы я. — Хочешь к нам в литсотрудники? Завод у нас боевой, первостепенный, да и газета неплохая…
Он о чём-то подумал, потёр между пальцами и повторил убеждённо:
— Да, неплохая газета. Ну?
Направляясь на завод, я не думал, что всё решится так быстро, и внезапно ответил:
— Согласен.
— Вот и ладненько, — улыбнулся редактор. — Порядок, думаю, примем такой: сейчас иди оформляться, а завтра на работу. Только смотри не опаздывай. — Он поднял свой толстый, похожий на сардельку, палец. — Впрочем, ты ведь человек военный.
Затем редактор потянулся в сторону двери и крикнул:
— Андрюшин, поди-ка сюда!
Через минуту на пороге показался паренёк лет двадцати трёх в выцветшей военной гимнастёрке.
— Помоги-ка новому товарищу оформиться, покажи ему, где что, — приказал редактор, кивая в мою сторону. Затем он протянул мне свою толстую руку. — Ну, бывай, до завтра.
Вдвоём с Андрюшиным мы вошли на заводской двор.
— Значит, у нас будете работать? — спросил Андрюшин. У него были очень светлые волосы, светлая кожа на лице, и весь он казался каким-то светлым.
— У вас, — ответил я.
— И очень хорошо, — сказал Андрюшин, — а то у нас совсем нет опытных журналистов со стажем.
— А откуда вы знаете, что я со стажем?
— А я вашу биографию из-за перегородки слышал. Все знаю. Вы рассказывали и про то, где в Москве работали, и про фронт, а я сидел и думал: «Нет, не пойдёт к нам такой журналист работать. Газета всё же маленькая».
— Почему маленькая? — возразил я. — Большая, четырёхполосная газета.
— Да, да, — подхватил мои слова Андрюшин, — наша газета только кажется маленькой. А на самом деле она большая. Завод-то огромный.
— А где у вас тут лаборатория? — спросил я.
— Лаборатория? Это в другом конце. А зачем вам?
— Нет, это я просто так. Куда же мы сейчас?
— В отдел кадров.
Пока мы обошли разные отделы, раскинутые на необъятной территории завода, и я заполнял разные анкеты, прошло не меньше полутора часов.
Когда наконец всё было закончено и я получил временный пропуск на завод, Андрюшин сказал:
— Ну вот, всё в порядке. Завтра принесите две фотокарточки и получите постоянный пропуск. А теперь, вы извините, мне надо в редакцию. Должен ещё передовую сдать. Придётся посидеть до вечера.
Было не больше трёх. Я подумал: «В передовой многотиражки не больше шестидесяти — восьмидесяти строк. Неужели Андрюшин собирается писать их до вечера?» Но вслух я произнес:
— Это из-за меня вам придётся задерживаться. За то время, что мы ходили, вы бы успели написать две передовые.
— Что вы! — воскликнул Андрюшин. — Ведь я с вами не более двух часов!
— О чём передовая? — спросил я.
— О бытовом обслуживании рабочих. Тема очень важная. Все материалы я уже подобрал. Остаётся только написать. Часов трёх мне будет вполне достаточно.
«Ещё бы!» — подумал я и проговорил:
— Вот что, услуга за услугу. Вы потратили на меня время, а я помогу вам написать эту передовую. Идёт?
— Что вы! — замахал руками Андрюшин. — Вам ещё хватит работы, сначала осмотритесь. А передовая поручена мне.
— Чепуха, — возразил я, — на фронте это называлось: взаимная выручка в бою. Кроме того, скажу вам откровенно, мне и самому хочется поскорее попытать себя. Я ведь отвык от мирных, так сказать, тем. Вот я и проверю себя, так сказать, неофициально.
Я подхватил Андрюшина под руку и, хотя он вначале упирался и продолжал горячо возражать, привёл его в редакцию.
— Ну, где ваши материалы? — спросил я, когда мы подошли к его столу. — У вас все подобрано?
— Да, конечно, — пробормотал Андрюшин, показывая на стопку отпечатанных на машинке листов.
— Ну и отлично, — сказал я. — Погуляйте немного, я посмотрю материал.
Я уселся на место Андрюшина и погрузился в чтение. Уже через несколько минут я понял, что материал был исчерпывающий. Передо мной лежало подробное решение бюро парткома по докладу заместителя директора завода, решение, в котором не только обстоятельно разбирались недостатки в бытовом обслуживании рабочих, но и вскрывалась их основная причина. Администрация завода, привыкшая к тому, что во время войны никто не сетовал на трудности, продолжала и в мирные дни, как было сказано в решении, «игнорировать быт». Далее разбирались конкретные недостатки, назывались их виновники.
Но это было ещё не всё. В подборке, сделанной Андрюшиным, приводилось много новых, не упоминавшихся в решении парткома фактов. Словом, передовая фактически была готова, её оставалось только продиктовать на машинку…
Я ушёл с завода в прекрасном настроении. Сразу понравились и редакция, и добродушный редактор, и Андрюшин.
Лида была уже дома.
— Откуда ты так поздно? — спросила она.
— С работы! — ответил я, пожалуй, даже с большей значительностью, чем мне это хотелось.
Я даже не предполагал, что это может так обрадовать её. Можно было подумать, что она придаёт этому факту какое-то особенное значение. Лида радовалась весь вечер, рассказывала мне о заводе и о том, что они с Ириной там изобрели.
Мы провели с Лидой один из наших лучших вечеров, а наутро вместе отправились на завод…
— А, герой, здорово! — приветствовал меня редактор, размахнувшись для рукопожатия. — Тут про тебя Андрюшин прямо чудеса рассказывает. Говорит, что за час передовую отмахал!
Я ответил:
— Это нетрудно, потому что все материалы были подобраны.
В этом заслуга не моя, а Андрюшина. По таким материалам любой бы написал.
— Брось, брось, — прохрипел редактор, — не скромничай. Ты мне вот что скажи: можешь изобразить что-нибудь такое зажигательное, насчёт того, чтобы в мирные дни работать по-фронтовому? У нас тут подборка идёт на эту тему, бывшие фронтовики высказываются. Так вот надо такой подвальчик, строк на сто, или нет — на сто пятьдесят. Можешь?
На фронте мне приходилось часто, чуть ли не ежедневно, писать небольшие публицистические фельетоны «с огоньком». Я ответил:
— Попробую.
— Чего там пробовать, — возразил редактор, — садись и пиши. Сколько тебе? Час?
«Э, нет, друг, — подумал я, — так дело не пойдёт!» Я сказал:
— Три часа, не меньше.
Мне поставили стол рядом со столом Андрюшина. Мой вчерашний проводник был уже на своём месте и радостно улыбался мне навстречу.
— А передовая-то, — подмигнул он мне, — вчера прошла без единой поправочки. Здорово!
Он, видимо, умел замечательно радоваться за других.
— Сумел подобрать материал, вот и получилось, — сказал я Андрюшину, переходя на «ты». — Написать — это дело техники, навыка. Скажи-ка, где мне посмотреть подборку, которая идёт в завтрашний номер?
— У секретаря, — быстро ответил Андрюшин. — Я сейчас принесу.
Он выбежал из комнаты и через минуту вернулся с подборкой. Я стал читать. Материалы были действительно интересными. Бывшие фронтовики-офицеры — командиры рот, батальонов, взводов — и рядовые солдаты, ныне рабочие, бригадиры, мастера и начальники цехов, рассказывали о своей мирной, созидательной работе. Мне бросилось в глаза, что при всей значительности материал бесспорно выиграл бы, если бы был подан в менее однообразной форме.
«Надо так суметь написать подвал, — подумал я, — чтобы оживились и эти однообразные материалы».
Через час подвал был готов. Я перечитал его. Получилось как будто неплохо. Я отнёс рукопись на машинку.
…Странное, давно забытое чувство с каждым днём все больше и больше охватывало меня.
У каждого человека есть старые впечатления, мирно спящие под напластованиями последующих лет. И когда что-либо снова вызывает их к жизни, с ними вместе возвращается юность. Она на какой-то — иногда очень-очень короткий срок — разглаживает на лице морщины, заставляет сердце биться сильнее…
Много лет тому назад, когда я был ещё совсем мальчишкой, мне довелось поступить на завод.
Шли первые годы первой пятилетки. Главное заключалось не только в гигантских строительных планах и в начавшемся уже их осуществлении. Главное было в изменении людей. Люди, самые разные по возрасту и характеру, становились энтузиастами. Пятилетка стала не только служебным, но и так называемым частным делом людей. Незаметно, в очень короткий срок и как-то совершенно естественно она сделалась мерилом дружбы, любви, смелости, таланта и многих других проявлений человеческой натуры.
Завод, на который я тогда поступил, был огромным комбинатом. Он выпускал самые разнообразные вещи — от победитовых резцов до электроламп. В нашем цехе делали электролампы. Рано утром мы, молодые рабочие, собирались в контрольном цехе. Мы нарочно приходили на завод за полчаса до смены, чтобы успеть встретиться в контрольном. Это была огромная комната, в которой день и ночь горело не менее десяти тысяч ламп. Здесь они проходили испытание на продолжительность горения.
Представьте себе это зрелище: десять тысяч установленных длинными рядами горящих ламп! Здесь было тепло, почти жарко, и так приятно было забежать сюда с мороза. Все в этой комнате выглядело по-волшебному необычно, — мудрено ли, что мы, мальчишки, так стремились сюда? Нам казалось, что все самое важное в нашей жизни заключено в том заводе и, больше того, что мы отвечаем, всерьёз отвечаем за всё то, что делают на этом раскинувшемся на километры заводе тысячи рабочих.
В те дни я был только подручным электромонтёра, а мои товарищи, участники наших сходок в контрольном, были подручными слесарей, токарей, прессовщиками вольфрама или тянульщиками молибденовых нитей. Со стороны наши сборища напоминали совещания у директора завода или что-нибудь в этом роде.
Мы обсуждали работу цехов, яростно критиковали начальство, распределяли обязанности в отряде «лёгкой кавалерии», спорили о том, какой бригаде поднести «верблюда» — символ плохой работы.
Страна переживала трудности, но мы не унывали. «Суп с головизной» — неизменное первое в меню заводской столовой — нас вполне устраивал. Взрослые люди, рядом с которыми мы работали, жили так же. Вместе с ними мы приезжали на завод за час до работы и уходили с завода поздно ночью. То было чистое, без копоти, горение.
С тех пор прошло много лет, и каких лет! Эти годы, и особенно годы войны, отодвинули, заслонили далёкие ощущения юности. Но странное дело: уже теперь — это было в конце третьей недели моей работы на заводе, — войдя в мартеновский цех, где, точно таран, бросалась на мартен завалочная машина, я вдруг испытал то самое, давно забытое ощущение, которое охватывало меня, когда много лет назад я торопливо вбегал в цех контрольных ламп.
Да-да, это было то же самое ощущение тепла и какого-то деятельного, нервного ожидания, ощущение того, что вот здесь-то и есть настоящее и сюда надо стремиться. Я не сразу отдал себе отчёт во всём этом. Сначала было только одно: воспоминание о той комнате, сверкающей накалённым светом, и ощущение себя каким-то другим, более молодым и смелым.
…Работа в редакции мне нравилась, и отношения с коллективом у меня были прекрасные. Мою фамилию уже знали на заводе, по крайней мере так уверял меня Андрюшин, который весь день пропадал в цехах.
Каждое утро мы вместе с Лидой уезжали на завод, на дню я обязательно два-три раза забегал к ней в лабораторию, но домой часто возвращался один: Лида задерживалась на работе до позднего вечера.
В течение последних дней мы изготовили ещё несколько конструкций индукторов. Мы приобрели уже большой опыт в этом деле.
Одна из этих конструкций показалась нам очень подходящей для закалки «лесенки», и мы решили снова попробовать закалить эту деталь…
В тот вечер к нам в лабораторию зашёл Иванов. Высокий, чуть сутуловатый, в прожжённой, надвинутой на лоб кепке, он прошёл прямо в комнату, где сидели мы с Ириной, и угрюмо спросил, не здороваясь:
— Ну как? Все пятнышки? Не даётся сталь. А?
Ирина раздражённо пожала плечами. Она могла говорить, не теряя самообладания, о чём угодно, кроме закалки.
— А ты не злись, инженерша, — успокоил её Иванов. — Давай-ка вечером покалим. Может, заговорю я твою сталь.
— Иван Иванович, вы этим делом не шутите, — заметила я, — мы места себе не находим четвёртый месяц.
Иванов промолчал.
— Но в чём же твой секрет, Иваныч? — разволновалась Ирина. — Что ты хочешь сделать?
— Сталь хочу закалить, и чтобы без пятен, — пробурчал Иванов.
Ирина пожала плечами.
— Как ты полагаешь, додумался? — спросила она меня, когда Иванов ушёл.
— Кто его знает, — ответила я. — Ты ведь Иваныча знаешь. Только мне кажется, что если он сам пришёл и так определенно сказал, значит…
— Неужели выйдет? — мечтательно проговорила Ирина, отодвигая в сторону микроскоп, в который разглядывала срез металла. — Я просто представить себе не могу, что завтра проснусь — и первая моя мысль не будет связана с неудачей.
Мы едва дождались вечера. Пришли к агрегату и подготовили все для закалки.
Появился Иванов. Он ничего не сказал, только сдвинул на затылок кепку и оглядел нас и всё, что было в этой комнате, своими маленькими колючими глазками.
— Ну, — нетерпеливо крикнула Ирина, подбегая к нему, — ну, говори, что делать, Иваныч?
— Это я с тобой хотел посоветоваться, что делать, — ответил Иванов, присаживаясь на подоконник.
— Иваныч! — в отчаянии воскликнула Ирина.
Лицо старика как-то незаметно изменилось. Не дрогнул ни один мускул. Иваныч не улыбнулся, а прищурился, но внезапно во взгляде его мелькнуло что-то отечески доброе. Впрочем, может быть, мне это только показалось.
— Лет сорок тому назад, — спокойно начал он, не обращая никакого внимания на наше разочарование, — служил я у хозяина. Получили мы заказ на деталь машины. Заказ был дорогой, важный, и условие было: закалить деталь так, чтобы комар носа не подточил. Ну, закаливали, конечно, огоньком, без всяких там штучек-дрючек. — Иванов усмехнулся. — Хозяин по целковому на брата обещал, если заказ как следует выполним. Ну, закалили, не впервой. Отправили заказ. На другой день его к нам обратно: не соблюдено, говорят, условие. Пятна.
Я увидела, как вздрогнула Ирина, когда Иванов произнёс это слово: пятна.
— Пятна, значит. Хозяин на себе волосы рвёт. Раньше на эти пятна и внимания бы никто не обратил, а тут особый заказ, для точной машины… Ну, мы опять калим, из огня, значит, в воду — и все пятна… И вот тогда подручный мой, Санька Волков, мне и говорит: «Дядя, говорит, Ваня, а что, если нам не в воде закаливать, а в чём другом?» Я на него цыкнул: «В киселе, говорю, для тебя калить аль в вине, может?» А он пристал: «Не в воде, не в воде, говорит, надо».
— А в чём же? — в один голос выкрикнули мы с Ириной.
— Ну, думаю, была не была, дай попробую, — продолжал Иванов. — Заменили воду, стали закаливать — и нет пятен.
— Чем, чем заменили воду? — закричала Ирина.
И вот тут лицо Ивана Ивановича приняло растерянное, виноватое выражение. Он потёр что-то между ладонями и сказал совершенно необычным тоном:
— Не помню, Аринка, не помню. Сорок лет прошло. И не по моей это теперь специальности. Это уж ты додумывай. А только не вода была, не вода!
Мы с Ириной переглянулись. Было ясно, о чём говорил Иванов. Он предлагал использовать вместо воды щёлочь, она давала менее плотную, чем вода, паровую рубашку вокруг закаливаемой детали. Иванов, не будучи термистом, думал, что открывает нам нечто новое. Но в этом не было никакого секрета: мы и сами прекрасно знали свойства щёлочи. Однако грубоватая и вместе с тем душевная заинтересованность Иваныча в нашем деле была так искренна, что мы выслушали его без тени улыбки.
В прошлом мы не раз пробовали заменить воду щёлочью, но нас подводила конструкция индуктора. Сегодня у нас был новый индуктор, хитроумно облегающий все выступы «лесенки», и, таким образом, напоминание Иваныча о щёлочи оказалось весьма своевременным.
Щёлочь хранилась в лаборатории.
Я выбежала из комнаты и понеслась по заводскому двору в лабораторию. Почти у самых дверей наткнулась на Каргина. И, точно девочка, закричала:
— Василий Степанович, мы додумались, додумались наконец! Сейчас ставим опыт.
Не слушая его ответа, я одним махом взбежала по лестнице и уже через минуту примчалась обратно с пакетом щёлочи в руках.
— Включай! — крикнула Ирина.
Я помедлила, наверно, не дольше двух секунд. У меня захватило дыхание, и я просто была не в силах нажать пусковую кнопку.
— Да в чём же дело? — нетерпеливо спросила Ирина.
Включила ток. Отошла в сторону. Я просто была не в состоянии глядеть на закалку, но, даже не глядя на агрегат, я видела, чувствовала, как появляется красный венчик на зажатой в индукторе детали. Я была в таком состоянии, что, не удайся наш опыт, разревелась бы, послала все к чёрту и, пожалуй, подала бы заявление о переводе меня из лаборатории в цех. «Да скорее же, скорее! Почему она не спускает деталь в щёлочь? Уже пора», — подумала я и всё-таки не выдержала и обернулась.
Края схваченной индуктором «лесенки» были уже не красными, а белыми. Ирина стояла у агрегата, не спуская с детали глаз, и в зрачках её отражались светлые огоньки. Иванов по-прежнему сидел на подоконнике, только весь подался вперёд.
И вдруг Ирина дёрнула за рычаг. Раздался стук падающей в бак детали, пар заполнил комнату, потом рассеялся. Мы стояли у закалочного бака.
Я подхватила из бака цилиндр и понесла его к прибору Роквелла. Когда алмаз стал давить на металл, мне неудержимо захотелось как-то облегчить его давление, я, кажется, готова была подложить свою руку, только чтобы алмаз не давил с такой силой на металл.
На этот раз стрелка индикатора не прыгала. Она показывала равномерную твёрдость металла.
— Этого мало, — подчёркнуто спокойно проговорила Ирина, — проверим дальше.
Я, конечно, поняла её. Прибором Роквелла не везде можно было проверить равномерность закалки, а Ирина хотела абсолютной уверенности.
Мы приближались к победе.
Первым нарушил молчание Иванов. Он сказал:
— Ну вот, значит, то щёлочь была.
— Иваныч, — воскликнула Ирина, и в голосе её слышался не то упрёк, не то восклицание, — какой же ты чудесный человек! Что же ты нам раньше не помог?
Но Иванов уже стал прежним Ивановым. Кепка его — я и не заметила когда — снова оказалась низко надвинутой на лоб, и уже ничего, кроме больших усов, не было видно.
Он бросил:
— Только у меня и делов. — И, не прощаясь, вышел из комнаты.
В дверях Иванов столкнулся с Каргиным. Василий Степанович посторонился, пропуская Иванова, и что-то сказал ему в коридоре. Затем он вошёл к нам в комнату.
— Василий Степанович, — обратилась я к Каргину (мне очень хотелось сообщить ему первой), — а ведь мы добились всё-таки. Вот посмотрите. — И я протянула ему закалённую деталь.
Каргин внимательно рассмотрел металл, улыбнулся и сказал:
— Ну вот, видите.
В этот момент я посмотрела на Ирину, и мне показалось, что она изменилась, помолодела, что ли, и стала выше ростом. И в лице её было что-то красивое и, пожалуй, упрямое. Я подумала, что вот именно так выглядел Андрей Фёдорович, когда Саша очнулся после шока.
— Ну вот, Ира, — проговорила я, — завтра утром у тебя уже не будет той мысли.
Ирина промолчала, точно не слышала моих слов, но Каргин спросил:
— Что такое? Какой мысли?
— Ирина говорила, что каждое утро, как только просыпается, первая мысль, которая приходит ей в голову, — мысль о неудаче. Вот я и сказала, что теперь её первой мыслью будет мысль об успехе.
Каргин покачал головой:
— Вы в этом уверены? А я — нет. Ведь вам ещё так много надо сделать. Надо доказать, что закалка применима в повседневной работе завода, и здесь вас ждут трудности.
«Что он такое говорит? — раздражённо подумала я. — Вместо того чтобы поздравить нас с успехом, — ну если не нас, то хоть Ирину, которую он любит, — этот человек говорит о новых трудностях». Я спросила:
— Так, значит, только трудности, неприятности, разочарования и снова трудности?
— Нет, — спокойно ответил Каргин, — и радость победы.
Я заметила, как он дотронулся до руки Ирины и вышел.
Мы открыли окно. Были видны Нева, и плывшая по ней маленькая моторная лодка с едва заметным красным фонариком на носу, и прибрежный гранит, словно подножие скалы, выступающей из тумана.
На окнах мелькали отблески огней мартеновского цеха, расположенного рядом с нами, и стекла время от времени вздрагивали от далёких ударов электромолота.
Я чувствовала усталость, и Ирина, наверно, чувствовала то же самое.
Мы стояли молча и смотрели на спящий город.
И вдруг Ирина, обернувшись ко мне, проговорила тихо-тихо, не шёпотом, но ещё тише, одними губами:
— Ты знаешь, Лида, что-то происходит. Кажется, я влюбилась.
Я не представляла себе, никогда не могла представить, что Ирина сможет произнести эту фразу и вообще признаться в этом, и, услышав её, испугалась, точно сама вместо неё произнесла эти слова.
Я молчала, не зная что сказать. А Ирина смотрела на меня в упор своими заблестевшими вдруг глазами и говорила голосом, ставшим опять, как когда-то, хрипловатым:
— Ну, спрашивай, спрашивай, почему же ты не спрашиваешь?
И тогда я ответила:
— Я знаю, Ира, я все давно знаю.
Она опустила голову, провела рукой по стеклу и сказала, смотря куда-то вниз:
— Вот как это странно, как всё это странно… Я и сама не ожидала, я просто не знаю, как всё это получилось со мной… Ведь мы, кажется, никогда и не говорили ни о чём, кроме работы. Я думала, что мне все это уже недоступно, все умерло, совсем умерло… Ведь так может быть, Лидуша? Ну, скажи: ведь это может быть?
«Ещё бы!» — подумала я и молча кивнула.
— Нет, с ним не легко. Наоборот, мне трудно, мне кажется, что он всё время идёт в гору и тянет меня за собой и помогает только тогда, когда я уже совсем выбиваюсь из сил. И всё-таки я пошла бы за ним куда угодно. Мне кажется, он видит там, впереди, то, чего я ещё не вижу, и мне тоже хочется все, все увидеть…
Она говорила торопливым, срывающимся шёпотом, скорее для себя, чем для меня, комкая и глотая слова, не договаривая своих мыслей.
— Когда же ты почувствовала все это? — тихо спросила я.
— Не знаю, — ответила Ирина, — не знаю, но, когда почувствовала, мне стало сразу радостнее жить.
Неожиданно для себя я снова спросила её:
— Но как же всё произошло? Ведь вы с ним почти не видитесь.
Я тут же поняла, что это был глупый вопрос. Но Ирина, видимо, не расслышала его, она была чересчур поглощена своим счастьем…
Через неделю Ирина стала женой Каргина.
В первый раз — хорошо помню — я почувствовала это, возвращаясь домой после нашей удачи с закалкой и признания Ирины.
Я знала, что Саша придёт сегодня поздно — его вызвали на какое-то совещание в райком, — и я шла не торопясь.
И вот тогда я впервые ощутила, что для полноты счастья мне чего-то не хватает. Всё было хорошо в моей жизни в тот вечер — удача на работе, счастье Ирины, — но вдруг я почувствовала, что мне чего-то не хватает, что есть во мне какой-то неиспользованный запас чувств, не применимых ни к работе, ни к Саше, ни к Ирине. И мысли мои снова, как это было часто за последнее время, обратились к Коле.
В ту минуту, когда я рассталась с Колей у подъезда большого серого дома, я вдруг поняла, что он всегда жил в моём сердце и что, даже когда рядом была Маруся, внешне так похожая на мою Любу, я и тогда любила маленького измученного Кольку…
На другой день после работы я пошла навестить Колю. Он жил теперь в детдоме, но с осени собирался поступить в ремесленное училище и переехать в общежитие.
Однажды я привела Колю на Нарвскую. Он деловито и с достоинством поздоровался с Сашей, осмотрел комнату и сказал улыбаясь:
— Здорово живёшь, тётя Лида.
Саша, всячески развлекая Колю, начал рассказывать о том, что было в этой комнате во время блокады, но Коля, узнав об артиллерийском наблюдательном пункте, возразил равнодушно:
— Так то в блокаду… А я про теперь. А в нашей комнате мертвяки лежали. Их со всей квартиры сносили… То в блокаду…
Вечером я проводила Колю домой и, возвращаясь, всю дорогу думала о нём. Я думала, что для полноты счастья мне не хватает этого круглоголового мальчика со спокойными, недетскими глазами. Я вырвала его у смерти, это мой, мой ребенок. Я хочу, чтобы он был около меня, хочу видеть, знать, как он растёт, как становится юношей, потом взрослым человеком.
Я видела в этом ребёнке частицу самой себя, мои усилия, моё прошлое, мою веру в победу, и в Сашу, и во всё самое лучшее.
Но я почему-то долго не решалась рассказать Саше о своих переживаниях. Наконец я всё же решила поговорить с ним.
В те дни он неизменно был в отличном, весёлом настроении. С работой у него ладилось. Саша рассказывал, как хорошо относятся к нему в редакции, в газете почти каждый день появлялись его статьи, и мне было очень приятно, когда в лабораторию приходили свежие газеты и кто-нибудь из наших, разворачивая номер, нарочно громко говорил:
— Ну-с, почитаем, что сегодня Савин пишет.
Иногда я думала: «Почему это так происходит? Почему для меня работа, как правило, приносит волнения, неудачи и только редко радости, а Сашина работа точно сплошной праздник?» И каждый раз казалось, что дело в том, что Саша — знаток в своей области, а я ещё очень мало знаю и большинство моих неудач — от неопытности и неуверенности в себе…
В тот день, отправляясь на работу, я твёрдо решила, что по возвращении поговорю с Сашей о Коле. Но днём произошло событие, которое отвлекло мои мысли.
Когда я вошла в лабораторию, Ирины не было. Я вспомнила, что она и вчера в полдень ушла куда-то и уже не возвращалась.
Ирина появилась только к концу дня. По её сосредоточенному взгляду, суровым губам я поняла: что-то произошло.
Но я ни о чём не спрашивала. Так повелось между нами: никогда ничего не выпытывать друг у друга.
Под вечер Ирина зашла в нашу комнату и чуть заметно кивнула мне. Я пошла за ней.
— Ты знаешь, зачем меня вчера вызывали? — спросила Ирина.
— Я даже не знаю, кто тебя вызывал и куда, — ответила я.
— В главк, — сказала Ирина. — Мне предлагают ехать работать в сибирский филиал.
Сначала я просто ничего не поняла.
— Как ехать? Тебе? — недоуменно переспросила я.
— Ну да, мне, — повторила Ирина. — Что тут непонятного?
Между тем тоном, спокойным и только слегка раздражённым, которым говорила Ирина, и содержанием её слов был такой разрыв, что я никак не могла поверить в то, что она рассказала.
— Но как же так? — спросила я. — Почему именно тебе? И насколько? И как же Василий Степанович? Да расскажи же толком: что случилось?
Мы шли с Ириной по заводскому двору.
— Все очень просто, — ответила Ирина. — На филиале решено внедрить закалку в производственный процесс, — ты знаешь, ведь там поточный способ. Меня вызвали в главк и предложили поехать туда и помочь организовать это дело.
— Надолго?
— Об этом не говорили. Из беседы я поняла, что это поездка на несколько месяцев.
— Ну, а что же ты? — прервала я Ирину. — Разве ты не могла отказаться?
— От чего? — взглянув на меня, спросила она. — От чего я могла отказаться? Два года мы вместе работаем над закалкой, и вот представляется возможность заняться не экспериментом, а широким внедрением закалки в производство. Как я могла отказаться?
— Да что ты такое говоришь, Ирина? — снова прервала её я. — Ведь ты же теперь не одна. Разве Василий Степанович отпустит тебя? — Я подумала: «Неужели у них жизнь не налаживается?»
Ирина ответила не сразу.
— Ты помнишь, мы как-то втроём гуляли по парку и Василий вдруг начал говорить о том заводе? Ну вот, — продолжала Ирина, — как же ты можешь думать, что он меня не отпустит? У него нет двух правд, а только одна. И потом, что это за слова — «отпустит», «не отпустит»?
Мы вошли в маленький садик, разбитый в конце двора, и сели на скамейку. Я старалась осмыслить всё, что сказала мне Ирина. Это было так неожиданно и странно, что не укладывалось в голове.
— И ты едешь? — спросила я Ирину.
— Да.
— И тебе не жалко?
Ирина посмотрела мне в глаза и медленно покачала головой.
— Да, конечно, зачем говорить неправду… Он снова останется один, но ведь это же не навсегда. Ведь вот вы с Сашей тоже четыре года не были вместе. Когда я решала, то думала о вас.
— Так это же была война! — вырвалось у меня.
— Нет, — убеждённо сказала Ирина, — тут дело не в войне. Тут дело в жизни. В отношении к жизни. Ты всё ещё не согласна со мной?
От этого напрямик поставленного вопроса мне стало не по себе. Я вдруг поняла, что всё, о чём говорила Ирина, было правдой, нашей правдой, той самой, которой мы жили все эти годы, и мне стало стыдно оттого, что я сразу не смогла этого понять.
— Когда ты едешь? — спросила я.
— Очень скоро, может быть, на днях. Едет целая бригада.
— Может быть, ты зайдёшь сегодня к нам? — спросила я, стараясь, чтобы Ирина не заметила моего смущения. — С момента приезда Саши ты ни разу не была у нас.
— Хорошо, — согласилась Ирина, — может быть, я сегодня зайду…
Вечером я сказала Саше:
— Ты знаешь, Ирина уезжает в Сибирь, работать в филиале.
— То есть как это? Совсем?
— Нет, но всё же надолго.
Саша помолчал немного, а потом сказал:
— Жалко. Ты ведь говорила, что они с Каргиным поженились.
— Почему же жалко? — спросила я.
— Ну… я подумал, что, может быть, у них что-то разладилось, раз она уезжает. Ирину было бы жалко. Она столько испытала в жизни…
— У них ничего не разладилось, — выпалила я, и слова мои прозвучали зло. Мне почему-то стало неприятно, что Саша подумал то же самое, что и я, когда Ирина сообщила мне о своём отъезде. — У них ничего не разладилось, — повторила я. — Наоборот. И всё это не имеет никакого отношения к её отъезду. Ей вовсе не хочется расставаться с Каргиным.
Саша посмотрел на меня. Очевидно, его удивил мой тон.
— Кто же её заставляет? Главк?
— Совесть.
Саша улыбнулся.
— Непонятно говоришь, Лидуша.
— Ах боже мой, — прервала я его, — что же тут непонятного?
Я говорила раздражённо и в то же время прекрасно сознавала, что недовольна Сашей только потому, что он выглядел в этом разговоре так же, как выглядела я в разговоре с Ириной.
— Что же тут непонятного? — повторила я. — Завод наш, там плохо с кадрами. Поедет не одна Ирина, а целая бригада.
— Понимаю, — кивнул Саша.
Теперь я пристально посмотрела на Сашу. Я вдруг почувствовала, что где-то в глубине сознания мне очень хочется, чтобы он сказал что-нибудь очень важное, правдивое, главное в эту минуту.
И в эту самую минуту в дверь постучала Ирина.
Наша встреча превратилась в вечер воспоминаний, и я только и слышала: «А помните?», «А это вы помните?»
— Вы подумайте, Ирина, — говорил Саша, — как все получилось! Ведь это полное исполнение желаний, как говорили гадалки. Ну, кто бы из нас поверил в тысяча девятьсот сорок втором году, что мы втроём будем тихо и мирно сидеть в комнате, и не просто в комнате, а в этой самой, пить чай и вспоминать обо всём. Ведь так только в романах бывает, да и то авторов потом упрекают в неправдоподобии. — Он засмеялся и добавил: — А теперь вот всё стало на свои места. Впрочем, вы, кажется, срываетесь с места?
Меня покоробил его каламбур.
— Да, я уезжаю, — просто ответила Ирина.
— И все действительно обстоит так, как мне рассказывала Лида?
Ирина посмотрела на меня и улыбнулась.
— Я, собственно, не знаю, что вам успела рассказать Лида, но думаю, что именно так.
— И вы действительно бросаете всех нас? — полушутливо продолжал Саша.
— Бросаю, — в тон ему ответила Ирина. — Здесь теперь не страшно: не стреляют.
— Ну хорошо, — не успокаивался Саша, — я готов допустить, что разлуку с нами вы переживёте. Но ведь есть ещё кто-то?
Глаза Ирины вдруг стали строгими и брови сдвинулись.
Но Сашу это, видимо, не смутило. Он продолжал негромко и спокойно:
— Не буду скрывать, Ирина, мы с Лидушей только что говорили о вас и о вашем отъезде. У нас даже возник на этой почве небольшой спор. И раз вы сами тут, то тем легче будет его разрешить.
— Не надо, — вырвалось у меня, — ну, не надо споров! Ирина в первый раз пришла к нам…
— Но этот первый раз легко может оказаться последним, — с улыбкой проговорила Ирина, — ведь я уезжаю. Не зажимай рта мужу, — добавила она, чуть усмехаясь, — а то вдруг я уеду — и ваш спор останется неразрешённым. Итак?
— Мы говорили о вашем отъезде, — начал Саша, — и я… словом, я удивился, когда узнал об этом. Я понимаю, что человек ради любимого дела может поехать хоть на край света. Я пойму и того, кто поедет туда, подчиняясь приказу, дисциплине. Я почти пять лет пробыл на фронте и видел, как люди шли на самые опасные дела по приказу и без приказа. Все это бесспорно. — Он замолчал, подыскивая слова.
— Так о чём же спор? — спросила Ирина.
— Видите ли, — медленно продолжал Саша, — мне непонятно, как же можно сразу поехать за тридевять земель только потому, что и там можно с пользой работать. Я понял бы это, если бы вы здесь сидели без дела, но ведь я знаю, что вы работаете, больше того, вы ведёте большую, важную работу.
— Я могу ответить вам тремя словами, — сказала Ирина: — там я нужнее. Да и уезжаю я не навсегда, а на сравнительно короткий срок. Вот и все.
— Нет! — возразил Саша. — Вы кривите душой, Ирина, это не похоже на вас. Вспомните, в какое время мы виделись с вами в Ленинграде! — воскликнул Саша, и я поняла, что он искренне взволнован. — Страшно подумать… И мне так радостно видеть вас сейчас вот такую, красивую, полную сил, — уж кто-кто, а вы-то имеете право на счастье. Поймите же, мне хочется, чтобы люди вроде вас, которые вынесли на своих плечах так много, получили бы наконец возможность пользоваться засуженным счастьем.
Он замолчал.
— Послушайте, Саша, — тихо отозвалась Ирина, и я с радостью заметила, что в голосе её нет ни раздражения, ни обиды, — я тоже могу кое-что вспомнить. Был вечер… Вы помните тот вечер, когда все ушли и мы остались там в комнате, на заводе?.. Помните?
— Конечно.
— И я спросила вас: «Если бы вы нашли свою Лиду, вы были бы совершенно счастливы?»
— И я ответил: «Конечно», — прервал её Саша, взглянув на меня.
— Да, вы ответили «конечно», но я сказала вам в ответ, что и мне, и Иванычу, и многим другим было бы уже мало просто возвращения старого. Для вас встреча была бы завершением всего, идеалом, исполнением всех желаний. А для меня, если бы даже вернулся тогда мой Григорий, эта встреча была бы началом чего-то нового, трудного, опять какой-то борьбы и стремления к лучшему.
— Ну хорошо, — согласился Саша, — может быть, я тоже так думаю, только не говорю об этом. Однако речь идёт о поступках. Неужели кто-нибудь, даже с позиций самой чистой морали, смог бы упрекнуть вас, именно вас, в том, что вы воспользовались бы маленькой частицей того счастья, которое завоевали? Ведь сейчас мир.
— Не знаю, — задумчиво ответила Ирина. — Я думаю, что дело здесь глубже. Для меня он, этот сегодняшний мир, не менее сложен, чем война. И принципы, по-моему, одни и те же. А кроме того, я не приношу никаких жертв. Я живу так, как считаю единственно возможным.
Снова наступило молчание. Саша тихо постукивал по столу костяшками пальцев, а мне уже давно хотелось прервать этот разговор, изменить его направление. Я уже несколько минут перебирала в мыслях слова, которые надо произнести, чтобы покончить с этим разговором, и, как назло, ничего не могла придумать.
— Счастье?.. — с какой-то лёгкой усмешкой тихо проговорила Ирина. — Неужели вы верите, что счастье — это что-то вроде синей птицы, которую хотят поймать мальчик и девочка? Но ведь это сказка. Её и во МХАТе-то только днём рассказывают, для вечера она уже недостаточно серьёзна. Нет, Саша, счастье нельзя поймать и посадить в клетку. Настоящее счастье такое огромное, что не уместится ни в клетке, ни даже в самой уютной комнате.
Она снова замолчала. Я чувствовала, что слова Ирины, в особенности последние, обидели Сашу. Наконец он медленно встал из-за стола и сказал:
— Что ж, есть споры, которые никогда не кончаются. Во всяком случае, я желаю вам всего самого хорошего… Я пойду купить папиросы.
Он снял с вешалки кожанку и вышел.
Я поняла, что он ушёл, чтобы прекратить этот разговор.
Мы остались с Ириной вдвоём. И как только ушёл Саша, мне стало не по себе. Я чувствовала, что не могу посмотреть Ирине прямо в глаза.
— Ты не думай, — сказала я с трудом, — ты не думай, что он… — Я не могла подобрать нужных слов.
— Ничего, — ответила Ирина, подходя близко ко мне, — ничего, я понимаю… Он просто хотел поспорить.
— Да, да, — подхватила я её слова. — Ты ведь знаешь его, он всегда любил спорить.
Слова, которые я произнесла, показались мне ненужными и смешными.
Ирина попрощалась:
— Я пойду, Лидуша, уж поздно. До завтра.
Она ушла, не дожидаясь моих прощальных слов.
Через несколько минут вернулся Саша.
И вдруг меня охватила тревога. Ничего не изменилось в нашей комнате, по-прежнему жёлтый мягкий свет наполнял её, и Саша по-прежнему сидел в кресле, внимательный и нежный ко мне, как всегда, но я почувствовала смутную тревогу.
«Я должна наконец поговорить с Сашей о Кольке, — сказала себе. — Не могу, не имею права ничего скрывать от него».
И я сказала:
— Саша, есть одна вещь, которая мучит меня, не даёт мне покоя. Я думала сначала, что это пройдёт, но ничего не проходит.
— Что случилось, Лидуша? — спросил он, наклоняясь ко мне.
— Коля… — едва выговорила я.
— Что с ним?
— Мне трудно, невозможно сознавать, что он где-то близко от меня и в то же время не со мной.
Я встала, и Саша тоже встал, и на минуту мне показалось, что в его глазах мелькнул испуг.
— Саша, — сказала я, стараясь не глядеть ему в глаза, — давай возьмём Кольку.
Он ответил не сразу. Он смотрел куда-то в землю, словно избегал встретиться со мной взглядом.
— Ты хочешь, чтобы мы взяли его… совсем? — спросил Саша, по-прежнему не поднимая глаз.
— Да, — тихо промолвила я и сразу почувствовала облегчение.
Саша молчал. Он поднял голову и стал медленно ходить взад и вперёд по комнате. Наконец он остановился рядом со мной.
— Но ведь он всё уже понимает и всё помнит. И я для него совершенно чужой человек!
— Он привыкнет, привыкнет! — воскликнула я. Мне казалось, что Саша уже готов согласиться, что нужно только убедить его — и всё будет хорошо. — Он обязательно привыкнет, — ещё раз повторила я. — Он ведь тогда, в детдоме, и меня долго дичился. Но теперь он такой общительный, ты же видел, как он быстро с тобой освоился…
— Лида, — прервал меня Саша, — я не понимаю… Зачем нам чужой? Ведь у нас может быть свой ребёнок?
— Да, да, — торопливо ответила я, — но его ещё нет, а Коля есть, он существует. И у него уже никогда не будет родителей.
Я подошла и обняла Сашу. Но он, пожалуй, в первый раз, осторожно, но настойчиво отвёл мои руки и спросил:
— Лидушка, зачем тебе? — В его голосе звучали сожаление и обида.
Я замолчала, чувствуя, что уже больше ничего не могу сказать, села на подоконник и стала глядеть на улицу…
В тот вечер мы не произнесли больше ни слова.
Я проснулась ночью, почувствовала, что Саши нет рядом, и, открыв глаза, увидела, что он сидит у окна и смотрит на меня. Должно быть, он ещё не ложился. За окном горели фонари, и голова Саши казалась резко очерченной на светлом фоне окна.
И мне захотелось выскочить из постели, обнять его и сказать тихо, на ухо, что всё прошло, что пусть всё будет по-старому.
Но я не смогла этого сделать, что-то заставляло меня неподвижно лежать в темноте и молчать.
В ту ночь я так и не ложился спать.
«Как мог я проглядеть все это? — думал я. — Ведь Лида сказала, что уже несколько недель думает о мальчике, мучается, а я ничего не видел, не замечал. Почему я ничего не почувствовал?»
Под утро я задремал. Меня разбудила Лида. Она сидела на перильце кресла, обнимала меня и говорила:
— Ну, не надо, не надо, Сашенька, я понимаю, что была не права. Я была эгоисткой, теперь я понимаю. Забудем, я никогда не буду больше об этом говорить!
Она смотрела мне прямо в лицо и улыбалась открытой и ясной улыбкой. Это была по-прежнему моя Лида, такая, какой я её знал и любил.
— Нет, — возразил я, — тебе не в чем оправдываться передо мной. Ты была права.
— Ну, не будем говорить об этом, Сашенька, — повторила Лида.
Больше мы о Коле не говорили. На завод поехали вместе.
В тот день я должен был написать очерк о заводской новостройке.
Уже вскоре после моего поступления в редакцию, осматривая завод, я увидел, что он имеет как бы два лица. С первого взгляда, «со стороны», он казался большим, спокойным, размеренно работающим заводом. Но оказалось, что позади действующих цехов возводились два новых — инструментальный и прокатный. Когда я в первый раз попал туда, были уже возведены стены одного из цехов — красные невысокие стены. Закладывался фундамент для второго цеха, и экскаватор со скрежетом вгрызался в землю.
Было странно видеть это строительство бок о бок со старым, планомерно действующим заводом. Впервые придя сюда с Андрюшиным, я подумал, что не только здесь, на заводе, я вижу это сочетание старого с новым. Ведь и наш дом тоже ещё строится, как и вообще каждый дом в Ленинграде: хоть что-нибудь в нём изменяется или возводится заново.
Все, все находилось в движении, ни о чём нельзя было сказать, что вот это уже готово, что и сегодня вечером, и завтра, и послезавтра оно будет таким же.
Сотрудник, который занимался вопросами этого строительства в нашей газете, заболел, и заменить его было предложено мне. Сразу же я обратил внимание на характерную особенность: здесь почти не было профессионалов строителей. Почти каждый кровельщик, с которым мне приходилось вступать в разговор, обязательно оказывался литейщиком, стекольщик — слесарем, штукатур — токарем или инструментальщиком. Большинство из них были кадровыми рабочими этого завода и только временно, из-за нехватки строителей и необходимости возможно скорее отстроить цехи, стали строителями.
Ещё одно обстоятельство бросилось мне в глаза: темп работы. Стены одного цеха и фундамент другого росли точно на дрожжах: люди хотели закончить строительство до наступления зимы.
Новостройку возглавлял инженер Вяльцев, будущий начальник нового инструментального цеха. Человек средних лет, с длинным сухощавым лицом и сосредоточенно поджатыми губами, он казался мне странным сочетанием специфически ленинградской корректности с типично «прорабовской» резкостью и приверженностью к сильным выражениям. Он мог говорить в спокойной, академической манере и вдруг, точно превратясь в другого человека, сильно и громко выругать кого-то или что-то; мог не торопясь, с достоинством идти по строительной площадке, стараясь обходить лужи и грязь, и вдруг сломя голову карабкаться на возводимую стену и оттуда, с высоты, что-то кричать и кого-то отчитывать.
И в нём, Вяльцеве, пожалуй, самым характерным было то, что, как я уже говорил, отличало здесь всех: стремление делать все скорее, с каждым днём скорее, выигрывать время.
Я как-то шутливо спросил Вяльцева, после того как он поспешно, пачкая костюм и обдирая ботинки, спустился, вернее — скатился со стены:
— Куда это вы так торопитесь, товарищ Вяльцев?
— Жить тороплюсь, — ответил он, на секунду разжимая губы.
Я подумал тогда, что в этом шутливом, на ходу сказанном ответе сейчас заключался какой-то новый, ранее отсутствовавший подтекст.
В тот день, находясь на строительной площадке, я увидел направляющегося сюда Каргина. Он шёл с заводской территории в своём обычном синем костюме, галстук его был сдвинут немного набок, светло-серые, точно покрытые цементной пылью, волосы развевал ветер.
Каргин казался магнитом, притягивающим к себе остальных людей. По мере приближения Каргина головы людей, склоненные над работой, поднимались и взгляды устремлялись к нему. Некоторые из работающих просто здоровались с ним, другие вместо приветствия кричали подчёркнуто грубо: «Слышь, секретарь, алебастр-то опять дают паршивый, кашу бы из него для тех снабженцев варить…» Не было человека, который остался бы безразличен к приходу Каргина.
Я подумал тогда о непонятной способности этого человека вмешиваться во все дела. Совершенно незаметно он и в моей жизни стал играть немаловажную роль.
Увидев меня, Каргин приветливо помахал рукой и, поравнявшись, спросил:
— Ну как? Привыкаете?
Я ответил, что «понемногу».
— Понемногу не годится, — шутливо заметил Каргин и добавил: — Ваша передовая о быте мне очень понравилась. Нужная статья.
Я никогда не думал, что похвала этого человека может так обрадовать меня.
Я вернулся в редакцию, но меня сейчас же отправили в мартеновский цех.
Едва войдя в помещение цеха, длинное и узкое, я понял, что здесь что-то стряслось. У одной из печей столпились люди.
Печь горела странным, неестественным пламенем. Пламя было каким-то однобоким и вместе с дымом и гарью продолговатым языком рвалось из печи.
Отработанные газы, обычно уходящие по специальной трубе, теперь по какой-то причине вырывались наружу. Люди стояли, прижав носовые платки к лицам, прикрывая рукою глаза.
В ту минуту, когда я подходил к печи, начальник цеха сказал, махнув рукой:
— Ну, думать нечего, Иваныч, распорядись, чтобы прекратили подачу газа.
Через несколько секунд язык пламени стал укорачиваться и постепенно исчез. Теперь в полумраке цеха печь пылала строгим и спокойным ярко-красным цветом, как это бывает с обыкновенной домашней печью, когда в ней прогорают угли.
— На сутки печь из строя, — устало проговорил начальник цеха.
Я вышел. У входа в редакцию меня встретил Андрюшин.
— Ну, что там такое? — спросил он.
— Дым из печи валит и пламя, — ответил я. — Начальник велел прекратить подачу газа.
— То есть как это прекратить? — переспросил Андрюшин. — Остановить печь?
— По-видимому, — неуверенно произнёс я.
Андрюшин ничего не ответил и пошёл по направлению к цеху.
Я поднялся наверх и доложил редактору о происшествии в мартеновском. Я сказал ему, что через час зайду к начальнику цеха и тогда узнаю все подробности.
Через час я позвонил начальнику по телефону, но его на месте не было. Я сел писать свой очерк о новостройке, увлёкся и писал, наверно, очень долго, как вдруг услышал голос Андрюшина:
— Вы ходили в мартеновский, товарищ Савин?
Мне трудно было сразу оторваться от работы, и я пробормотал виновато:
— Никак начальника не застану, уже несколько раз звонил.
— Начальник в цехе, — коротко ответил мне Андрюшин и исчез.
Я встал, спрятал свои рукописи в шкаф и пошёл в цех.
И снова я увидел у печи группу людей. Печь, видимо, уже не работала, по крайней мере пламя не вырывалось из неё. Я подошёл и увидел в центре стоящих кружком людей Ивана Ивановича Иванова. Несмотря на жару, он был почему-то в валенках, в стёганой куртке и шапке-ушанке, козырёк которой был опущен. Тут же стояли начальник цеха и инженер. В стороне я увидел Андрюшина.
— Ну, давай, что ли! — сказал Иванов и, не глядя на расступившихся перед ним людей, пошёл к печи.
Я подумал, что он хочет что-нибудь осмотреть, но, к моему удивлению, Иванов не остановился у печи, а полез в её раскаленную пасть.
Даже на расстоянии двух метров от печи, где я находился, было трудно стоять.
Все люди, точно по команде, шагнули к мартену. Иванов выпрыгнул и продолжал стоять скрючившись. От него валил пар. Я почувствовал запах горелой материи.
Иванов медленно стянул с рук дымящиеся рукавицы и бросил их на землю. Инженер подскочил к нему и хотел было расстегнуть на Иванове стёганку, но, едва дотронувшись, отдёрнул руку.
Все молчали, пока Иванов раздевался. Наконец стёганка, валенки и рукавицы лежали на земле и дымились, как только что потушенный костёр. Лицо Иванова было сплошь черным. Все по-прежнему молчали.
— В борове обвал, — хрипло сказал он. — Кирпичи обвалились. Я малость раскидал. Ещё надо.
И сразу, как только произнёс он эти слова, стало легче дышать. Все бросились к нему и наперебой стали спрашивать, как велик обвал, много ли кирпичей обрушилось и удастся ли их раскидать.
А я стоял и не понимал, как это можно задавать такие обычные, будничные вопросы человеку, только что вернувшемуся из ада. Мне было бы стыдно спрашивать его о чём-либо подобном.
— Послушайте, — обратился ко мне Андрюшин, — дуйте сейчас в редакцию, надо успеть дать это в номер. А подробности завтра.
Пока он говорил, я заметил, как один из окружавших Иванова людей нагнулся и стал разбирать брошенную Ивановым одежду. Он поднял ватные штаны, помахал ими в воздухе, — должно быть, для того, чтобы они окончательно остыли, и стал напяливать их на себя.
— Что это? — тихо спросил я Андрюшина. — Опять?
— Вы не слышали, что там обвал? — вполголоса ответил Андрюшин.
— Но ведь Иванов… — начал было я.
— Что Иванов? — прервал меня Андрюшин. — Там температура не менее двухсот, а кирпич надо раскидать… Будут лазить по очереди. А вам надо скорее в редакцию.
Я посмотрел на часы. Половина шестого. Андрюшин был прав: надо было спешить.
Вернувшись, я рассказал редактору о том, что видел.
— Валяй двадцать строк, — бросил редактор. — Назовём «Сознательность рабочего».
«Дубина!» — мысленно выругался я. Передо мною возникло чёрное лицо Иванова и дымящаяся куча одежды. То, что у редактора на каждый случай жизни был готовый заголовок, выводило меня из себя.
Я сел писать заметку. Но у меня ничего не получалось. Мне хотелось сказать очень много, а места было мало.
Время прошло совсем незаметно, и я услышал голос редактора:
— Савин, готово?
Я встал и, войдя в закуток, сказал:
— Нет, не выходит. Поручите кому-нибудь другому.
Редактор выпучил на меня свои рачьи глазки.
— Да ты шутишь, голуба? — прохрипел он. — Двадцатистрочная заметка не получается?
— Дело не в том, заметка это или нет. Дело в содержании. Словом… не выходит.
Редактор покачал головой и добавил:
— Избаловал я тебя, Савин, на очерках. Вот и не хочешь теперь заметки писать. А я вот тебе скажу: садись-ка за стол, и чтобы через пятнадцать минут заметка была передо мной! Ясно?
Он стукнул ладонью по столу.
Я вернулся и, не задумываясь, одним махом написал заметку. Мне не хотелось её перечитывать.
— Ну вот, — буркнул редактор, читая мою заметку, — получилось? То-то! Дисциплина!
Заметка пошла в набор. Но я по-прежнему чувствовал себя нехорошо. Мне казалось, что я в чём-то виноват перед Ивановым. Я уехал с завода в отвратительном настроении. Вечером Лида спросила меня:
— В чём дело? Ты какой-то странный сегодня. — Она погладила меня по руке. — Ты не думай больше об этом.
Ей казалось, что я всё ещё нахожусь под впечатлением вчерашнего разговора о Коле. А дело-то было совсем в другом.
Надо сказать, что отношения наши с Андрюшиным за последнее время как-то незаметно испортились. В этом я отдал себе отчёт впервые, когда как-то попросил Андрюшина пройти со мной в литейный цех.
Мы пошли по заводскому двору.
— Знаешь, — заметил я, — мне приходилось бывать на этом заводе во время блокады. Ничего похожего!
Андрюшин посмотрел на меня, и мне показалось, что в уголках его тонких губ мелькнула насмешка.
— А что же может быть похожего? — спросил он. — Да и блокады-то давно нет.
— Не в этом дело, — возразил я, удивлённый его тоном, — не в этом дело. Тому, кто видел, что тут было тогда, трудно оставаться спокойным.
— Эти разговоры, знаете, у меня вот где сидят, — сказал резко Андрюшин, быстро проводя пальцами по шее. — Мать вот моя из эвакуации вернулась, в сорок втором её вывозили. Гуляем мы с ней по городу, и только и слышишь: «Ах, Витенька, а ведь тут дом стоял разрушенный, а теперь во-он какой построили. Ах, Витенька, а ведь тут дзоты были, а теперь во-он какие витрины блестят!» Как будто на второй год после победы на улицах должны ещё быть дзоты.
— Послушайте, по-моему, вы чепуху городите, — ответил я, сердясь и переходя на «вы». — Что ж, вы хотите, чтобы советский человек не испытывал радости или, если хотите, восторга, видя, как восстанавливается то, что было разрушено врагом? И разве не приятно вам как советскому журналисту писать о наших достижениях, видеть их, подмечать?..
— Ах, да кто об этом говорит! — прервал меня Андрюшин. — Тут все грамотные. Я ведь совсем про другое говорю. Ведь этак можно в телячий восторг прийти: «Ах, дзотов уже нет!», «Ах, дом покрасили!», «Ах, окна вставили!» А на что эти телячьи восторги? То, что наше, — нашим и будет. А меня интересует: как дом выстроили, как окна вставили? И нельзя ли получше! Ну, вот и литейный цех, — сказал Андрюшин.
Меня сразу же оглушил стук и звон: это разбивали бракованное литье. Над нашими головами, точно диковинная хищная птица с сомкнутым клювом, проплыл черпак, ринулся на платформу с песком, разомкнул челюсти, снова сомкнул их, захватив песок, и с добычей снова поплыл по поднебесью.
От вагранок и ковшей исходил неяркий дрожащий свет. Когда мы входили в цех, вагранщик взмахнул шестом, пробил летку, и в жёлобе показался огнедышащий чугунный шар, постепенно теряющий свои очертания.
Вид литейного цеха наполнил меня радостным ощущением молодости.
Андрюшин снова заговорил:
— Вот я и в нашей редакции всё время бой веду. Мне, например, редактор говорит: «Андрюшин, подготовь полосу с восстановлением завода». Я готовлю. Только из моей полосы получается что-то не очень торжественное. Сдаю редактору. Через час он меня вызывает и говорит… — Здесь Андрюшин стал отдуваться и говорить, так похоже копируя редактора, что я чуть не покатился со смеху: — «Ты, говорит, что это тут изобразил? Коли мне нужна была критическая полоса, так я тебе сказал бы: критическую давай! А я тебе сказал — обобщённую!» А я вот не понимаю, — продолжал Андрюшин, — как можно для критики — одно место, для похвалы — другое. Для критики — четверг, для похвалы — пятницу. Я ведь знаю, какую ему, толстому черту, полосу надо было! Не «обобщённую» — слово-то какое! — аллилуйскую! А я не могу. Я хожу по заводу и думаю: «Здорово! Как все здорово!» А потом спрашиваю себя: «Но могло бы быть лучше?» И отвечаю: «Могло!» Если бы очень захотелось, так могло бы! Ну, могу я об этом не писать в полосе? А? Ну, скажите, могу? А он мою полосу в корзину.
Эту последнюю фразу Андрюшин произнёс не задиристым, а упавшим, обиженным тоном.
«Что с этим парнем творится?» — подумал я раздражённо.
В течение нескольких последующих дней Андрюшин словно избегал меня, но вот однажды после работы он поравнялся со мной в дверях и, глядя куда-то поверх моего плеча, сказал:
— Мне хотелось бы побеседовать. Если есть время, конечно.
— Время есть, — ответил я и взял Андрюшина под руку. Мы вышли на заводской двор.
— Вы в термической обработке разбираетесь? — угрюмо спросил Андрюшин.
— Немного.
— Так вот, тут лаборатория наша реконструкцию одну задумала: вместо горячей обработки хотят ввести высокочастотную закалку. Это дело надо поддержать в газете. Вы не думайте, что я так, с кондачка говорю, — повысил он голос, — я всю литературу перечитал и со многими людьми говорил — и с рабочими и с инженерами. Вы слушаете?
Мне стало не по себе, что я слышу о деле, связанном с Лидой, от этого парня. Выходит, что он уговаривает меня помочь Лиде? Меня!
— Так вот, — продолжал Андрюшин, останавливаясь и дотрагиваясь до моего локтя, — дело это новое, и редактор боится. Я уже давно веду на него атаку. Поможете? — спросил он, смотря мне прямо в глаза.
— Ну, мы ещё поговорим об этом, — сказал я. — А теперь у меня есть к вам вопрос: что случилось? Вы обижены на меня за что-нибудь? Не будете же вы отрицать, что ваше отношение ко мне резко изменилось.
— Не буду, — отрезал Андрюшин и с вызовом посмотрел мне в лицо.
— Так что же случилось?
— Вы знаете, — продолжал после некоторого молчания Андрюшин, — мне перестало нравиться то, что вы пишете. Да, да, — заторопился он, — вы, конечно, можете надо мной смеяться, я для вас мальчишка, начинающий. Но раз вы меня спрашиваете, я отвечаю.
— Что же именно вам не нравится?
— Ваши очерки, — заявил Андрюшин и быстро добавил: — Я говорю не о литературной стороне. Здесь я не судья.
— А о какой же?
— О внутренней.
— Не понимаю.
— В ваших очерках всё есть и всё правильно. Но мне кажется, что то же самое, слово в слово, вы смогли бы напечатать и на любом другом заводе. Я сам не знаю, как это получилось, товарищ Савин. Ведь я восхищался вашим мастерством, я знаю, мне у вас учиться и учиться надо. Но вот вижу — не то. Что-то не то.
Мы подошли к заводским воротам.
— Так как же, поможете лаборатории? — спросил Андрюшин, когда мы вышли из проходной.
— Я подумаю, — сухо ответил я.
— Так. Понятно, — сказал Андрюшин. — Мне на автобус — И он зашагал в сторону.
Я медленно шёл к трамвайной остановке. Настроение было подавленное. Мысли мои снова вернулись к заметке об Иванове. Эта история не выходила у меня из головы.
«А что, если я сейчас пойду к Иванову и поговорю с ним? — подумал я. — Ведь я всегда могу вернуться к этой теме».
Я знал, что Иванов живёт недалеко, рядом с Ириной. «Зайду», — решил я.
Иванов сидел у окна и чинил электрический чайник. Когда я постучал и вошёл, он внимательно посмотрел на меня, прищурился, и я не понял — здоровается он со мной или нет. Я поклонился:
— Здравствуйте, Иван Иванович. Я из редакции «Машиностроителя». Мы с вами и раньше встречались…
Иванов по-прежнему молча смотрел на меня, держа в руках чайник. Мне было неловко от его молчания, и я продолжал:
— Мы ещё во время блокады встречались. Я девушку разыскивал…
Иванов поставил чайник на подоконник, встал и протянул мне свою широкую ладонь.
— Ну, заходите. А я чайником занялся. Спираль новую приспосабливаю.
— Перегорела? — спросил я, чтобы подольше не начинать разговора.
— Перегорела, — ответил Иванов и добавил: — Третья за месяц. Портачей много ещё в электротехнике работает. — Он пошевелил усами и замолчал. — Угостил бы я вас чаем, да вот спираль чёртова…
— Иван Иванович, — начал я, — я видел, как вы в печь лазили. Вот я и пришёл к вам, чтобы понять, чтобы выяснить…
На словах всё это получилось очень глупо.
— Что выяснить? — спросил Иванов.
— Да нет, — поспешно ответил я, — просто я не так выразился. Вы понимаете, мне вот хочется написать обо всём этом для газеты…
Иванов снова взглянул на меня исподлобья и проговорил повеселевшим голосом:
— Вот вы о чайниках бы лучше написали. Протащили бы электриков, сукиных детей. Чаем нельзя даже попоить человека!
Он явно подсмеивался надо мной. Я сказал:
— Ну ладно, Иван Иванович, не хотите говорить, так я пойду.
Иванов ничего не ответил, но, когда я был уже у двери, остановил меня:
— Погоди.
— Иван Иванович, — обиделся я, — ведь мой вопрос относился к тому, что вам ближе всего. Речь ведь идёт о вашем собственном поступке…
— Что ближе?! — протяжно переспросил Иванов. — А почем ты знаешь, молодой человек, что мне ближе?
Он повернулся ко мне спиной и стал смотреть в окно. Я подошёл к нему.
— Вот он, завод, видишь? Кипит… А я помню… Многое помню… И когда тут не завод, а заводишко был… И как завод родился… А потом война… Хочешь, скажу, когда сталелитейный последнюю плавку разливал? Могу. Двадцать восьмого декабря тысяча девятьсот сорок первого года. Тока уже не было, тележку мостового крана вручную передвигали. И я двигал. Теперь спроси меня, когда стали цеха работать. Апрель тысяча девятьсот сорок второго. А фронт ещё тут был — километра три-четыре. Понял? Ты вот про это напиши. Ты ко мне не за помощью пришёл? Ладно, могу тебе тему дать. Напишешь — героем станешь. Надо в угольную гавань ехать. Кому ехать? Транспортников нет — кто на фронте, кто на Ладоге… Литейщики сами поехали. А тут обстрел. Только обстрел обстрелу рознь. В тот раз такое светопреставление было… А вывезли. И кокс вывезли и антрацит. Потом олифа кончилась, песок и глина кончились, литейный чугун весь вышел. Чуешь, что это такое? А цех работал. Или как станы восстанавливали под обстрелом. Крупносортный и обжимный. Или мелкосортный номер два… Ты вот в это вникни!
Иванов повернулся и взглянул на меня. И — странное дело — во взгляде его маленьких и, как мне казалось, сердитых глаз я теперь не увидел того снисходительного презрения, той издевки, с которой они смотрели на меня вначале. Напротив, я увидел в них что-то такое, что не отталкивало, не унижало, а, наоборот, звало меня к себе.
Иванов положил мне руку на плечо и продолжал:
— Или вот про салют двадцать седьмого января тысяча девятьсот сорок четвёртого года — День Победы Ленинграда. В тот вечер я из цеха не выходил. Чугунолитейный первую плавку выдал. По жёлобу вагранки чугун потёк — вот это салют и был… Салют что — бенгальский огонь. А тут — сама жизнь по жёлобу льётся. Вот ты про это напиши.
Иванов легонько толкнул меня рукой, лежащей на плече, точно посылая немедленно идти и писать. И вдруг сказал неожиданно:
— Ладно, угощу тебя чаем.
Он взял со стола чайник, который чинил перед моим приходом, и быстро вышел из комнаты. Я остался один и стал размышлять обо всём том, что услышал. Нет, не слова Иванова поразили меня. Поразил тон, каким всё это было сказано. Казалось, что он впервые оглянулся назад и, увидев за своими плечами прожитое, внезапно сам удивился.
— Вот у соседей нацедил, — заявил он, ставя чайник на клеёнчатый кружок и доставая из старинного, выцветшего буфета два стакана и сахарницу. Чай он наливал большой струёй, резко наклоняя чайник, доливая стаканы до самого верху.
— Почему я с тобой говорить стал? Пишешь ты… Вот пиши про завод… Для одних людей он, может, так, рабочее место, а для других — жизнь… Для меня, скажем. Из-за завода живу здесь… и в войну не уехал… — Он второй раз повторил эту мысль: завод — жизнь.
Иванов отодвинул свой наполовину выпитый стакан и постучал пальцами по столу.
— Написать по-настоящему об этом трудно… Сумеешь ли?
Он снова стал таким, каким казался мне раньше: угрюмо-ироническим и неразговорчивым.
Я представил себе, как пойду сейчас домой — и всю дорогу в моих ушах будут звучать колючие и обидные слова Андрюшина и вопрос Иванова: «Сумеешь ли?» И ещё я почувствовал, что не смогу поделиться всем этим с Лидой, рассказать обо всём, что волнует меня, потому что у неё у самой на сердце горе.
«Нет, — сказал я себе, — надо что-то решить». (Я почувствовал, что история с Колей не закончена, что тоска Лиды растет.)
И вдруг мне захотелось сделать все, только бы моя Лида была счастлива…
Дома я подошёл к Лиде:
— Знаешь, Лидуша, я обдумал… насчёт Коли.
Она вздрогнула, обернулась ко мне. Я поспешно договорил:
— Давай возьмём его… Что же в конце концов. Поставим кроватку вон там, где раньше стоял шкаф.
Кровь прилила к её щекам, на ресницах заблестели слёзы.
— Да ну, что ты, что ты, — говорил я, успокаивая её. — Комната у нас не такая уж маленькая, поезжай завтра за ним.
Она схватила меня за руки и заговорила быстро, срывающимся голосом:
— Сашенька, Сашенька, это правда, ты действительно так думаешь? Это правда?
И она расплакалась и плакала долго, хотя я делал все, чтобы успокоить её. Я говорил, что Коля и в самом деле хороший мальчик и я заметил это ещё тогда, когда он был у нас, что я не согласился сразу только потому, что все это получилось так неожиданно.
Лида подняла голову. Она уже больше не плакала, хотя глаза её были мокры от слёз. Она обняла меня и проговорила шёпотом:
— Сашенька, я никогда, никогда этого не забуду… Это самое большое, самое большое счастье.
А я подумал: «Теперь всё снова будет хорошо».
Коля появился у нас в воскресенье. Я привела его в полдень. Все эти дни после работы я бегала по разным инстанциям, оформляла, и вот теперь всё было в порядке.
— Вот ты и дома, Коля, — сказала я, когда мы вошли.
Он был одет в длинные брюки и суконную рубашку и казался выше и старше своих лет.
Саша встретил его очень хорошо. Он помог ему соорудить столик для книг и тетрадей возле кровати, стал рассказывать историю этой комнаты, которую, кстати, безуспешно рассказывал уже в прошлый раз. Я понимала, сердцем чувствовала, что он делает всё это не только для мальчика, но и для меня, я видела, как велика и жертвенна любовь Саши ко мне. И от этого он становился для меня ещё дороже. В течение первых же дней пребывания Коли у нас я заметила в мальчике черты, которых раньше не замечала.
Вечером мы сидели все втроём: Саша, Коля и я. Саша рассказывал Коле какой-то фронтовой эпизод, что-то насчёт того, как он с товарищами попал под бомбёжку и как на них пикировал самолёт, стреляя из пулемётов.
— А когда самолёт пикирует, надо навстречу ему бежать, — уверенно прервал Сашу Коля. — Вы неправильно говорите, — продолжал Коля. — Вы говорите — сразу ложиться надо, а мне один боец говорил — надо навстречу бежать.
— Может быть, по правилу так и надо делать, — заметила я, — но попробуй-ка побеги навстречу самолёту, когда он ревёт и стреляет в тебя из пулемётов.
— Боязно? — спросил Коля.
— Конечно.
— Ну вот, так и говори, — торжествующе резюмировал Коля, — так и говори, тётя Лида, что боязно. А по правилам надо — навстречу. — Он помолчал и добавил как бы про себя: — А я бы не забоялся.
Саша сказал:
— Ну, не будем спорить. Только никогда не надо хвалиться. Тот, кто хвалится, на деле обычно трус.
Коля наклонил голову и поглядел исподлобья на Сашу.
— Я не трус.
Саша улыбнулся.
— Ну и отлично, что не трус.
Инцидент был исчерпан, но он открыл мне Колю с новой стороны. И я была рада, что мой Коля горд и обладает чувством собственного достоинства.
Занятия в школах ещё не начинались, и все дни у Коли были свободными. Почему-то он редко бывал на улице. Каждый раз, возвращаясь с завода, я заставала его дома. Он сидел обычно на полу около своей кровати и мастерил что-то из досок, которые подбирал на стройке нашего дома. Если я приходила раньше Саши, всегда старалась к его приходу убрать комнату, вынести стружки, щепки и прочий мусор.
Как-то Саша вернулся домой не один. Он вошёл с каким-то незнакомым мне человеком. Человек этот был высок, худ, с неестественно прижатой к боку левой рукой, в военной, замазанной мелом гимнастёрке.
— Вот, — отрекомендовал Саша, — это начальник нашего дома, прораб правого крыла. Вы не знакомы?
Я отрицательно покачала головой.
— Насилу его затащил, — продолжал Саша. — Мы, собственно, старые знакомые, вместе когда-то в Верхнегорск ехали… А вы познакомьтесь. Капитан Крайнов.
Я протянула длинному человеку руку, и он молча пожал её.
— Это та самая Лида, о которой у нас вышел спор в поезде. Вот та самая, — добавил Саша. — Выходит, прав был я, а не ты.
Я не знала, о чём он говорит, но заметила, что капитан смутился и для чего-то потрогал ручку двери.
Быстро накрыла на стол, водка у нас была. Мы уселись втроём.
— А всё-таки, капитан, — говорил Саша, разливая водку, — ты тогда проспорил, а? Есть на свете и честные люди. Выпьем за честных людей!
Он поднял рюмку, и мы выпили. Капитан понюхал кусочек хлеба и отложил его в сторону.
— А пьёшь-то ты по-старому, — заметил Саша, — запахом закусываешь. Эх, капитан! — воскликнул он, внезапно захмелев, и наклонился к Крайнову. — Брось, не грусти, что было, то прошло. Впрочем, я ведь и не знаю толком, что у тебя там было.
Крайнов вдруг внимательно посмотрел на Сашу, и мне показалось, что его длинные тонкие губы слегка покривились, словно он где-то глубоко-глубоко в душе усмехнулся.
— А знаешь, — обратился Крайнов к Саше, — вот ты мне все про прошлое говоришь. А уже… годы прошли. С этой встречи я в Верхнегорске выстроил рабочий посёлок и в Ленинграде соорудил два дома. Да и ты в моём доме живёшь… — Он замолчал. Казалось, что он собирался говорить о чём-то многом, но вдруг передумал и замолк.
Саша явно смутился.
— Ну, извини, капитан. Я не подумал.
Разговор явно не клеился. Чтобы как-нибудь направить его по другому руслу, я спросила:
— А вы тоже, товарищ Крайнов, в нашем доме живёте?
— В каком? — переспросил Крайнов. — Да, живу. Есть тут у меня халупа. Какой дом строю, в том и живу. Как-то интересно мне вместе с домом жить… А потом, как построю, в новый перееду. И нет мне смысла задерживаться.
— Вот уж этого я не понимаю, капитан, — удивился Саша. — Так и летаешь, значит, всё время?
— Так и летаю, — ответил капитан.
Опять наступило молчание. Капитан обернулся, и тут я заметила, что Коля, который лежал в кровати, не спал, а, приподнявшись на локтях, внимательно смотрел на Крайнова.
— Ваш парень?
Я кивнула.
Крайнов повернулся вместе со стулом к Коле и спросил:
— Сколько тебе лет-то, герой?
— Одиннадцать, — ответил Коля.
— Велик, — пошутил Крайнов. — Чего ж я тебя на стройке не вижу? Мы ведь и днём и при фонарях ночью работаем. Все ребята с нашего дома помогают.
Он говорил с ним совершенно серьёзно, как с равным по возрасту человеком. И я заметила, что Коля смотрит на него восхищённым взглядом.
— У нас тут целая бригада из ребятишек есть, — продолжал Крайнов, и я не могла понять, играет он своей нарочитой серьёзностью или он и впрямь говорит с Колей, как с равным. — Только там ребята бывалые, блокаду пережили.
— Я тоже блокаду пережил, — отозвался Коля.
— А, ну тем более. Нечего, друг, прохлаждаться. Дома, дома надо строить! Строителем надо быть! Понял? Ну, спи давай.
Крайнов встал.
— Ну, я пойду. Пора. Спасибо за угощение. — Он пожал мне руку. — А с тем делом я, видать, проспорил, — обратился он к Саше. — Ну и поздравляю. — Крайнов посмотрел на меня, потом на Сашу, и я впервые увидела его улыбку.
— Странный парень, — сказал Саша, когда мы остались одни.
— Это кто был? — спросил вдруг Коля.
— Это строитель, дома строит, — ответила я. — Он и нашу комнату построил.
Коля не сказал ни слова и вскоре заснул. Я посмотрела на его спящее, улыбающееся во сне лицо и проговорила:
— Как бы мне хотелось знать, что выйдет из Коли через много-много лет. Мне хочется, чтобы он получил в жизни очень много счастья, чтобы он открыл или изобрёл что-нибудь… Чтобы он был не простым человеком.
— Не загадывай для него славу, — прервал меня Саша. — Пусть он вырастет простым, честным человеком. И это уже не так мало.
— Нет, — сказала я так громко, что испугалась, не разбудила ли Колю, — нет, вот ты всегда хочешь подрезать крылья.
— Чепуха, — возразил Саша. — Я просто не загадываю так далеко. Я хочу, чтобы у этого мальчика было хорошее детство. Чтобы он имел всё то, что отнял у него враг в годы блокады. Чтобы был дом, люди, которые заменили ему родителей, игрушки, чтобы он не знал забот…
— Но как же можно жить без мечты?! — воскликнула я. — Когда я сказала, что хочу, чтобы он вырос другим, не таким, как мы, я думала не о славе, как ты это понимаешь, и не о каких-то почестях… Я просто хочу, чтобы он был лучше, ну, просто лучше нас. Чтобы не было в нём ни эгоизма, ни самодовольства, ни дешёвого честолюбия. Вот я смотрю на Колю, и мне хочется, чтобы всё то, что не в силах была сделать я, всё, на что размахивалась, но не смогла осилить, — чтобы всё это сделал он. Разве я не могу хотеть этого? Мы говорим о новом человеке. Вот он перед нами, будущий человек. Давай воспитаем его не тепличным, не просто беззаботным, а таким, каким должен быть человек будущего. Ради одного этого стоит жить!
Саша встал и, подойдя к окну, тихо проговорил, не глядя на меня:
— На войне, Лидуша, люди жили в нечеловеческом напряжении, и каждую минуту над ними висела смерть. А ты хочешь мирную жизнь превратить в ту же войну.
Саше, должно быть, показалось, что я хочу прервать его. Он повернулся ко мне и сказал торопливо:
— Нет, ты не возражай.
Он нахмурил брови и наклонил голову, точно обдумывая что-то.
— Я должен тебе высказать это, Лида. Видишь ли, мне кажется, что мы кое в чём не до конца понимаем друг друга. Неодинаково смотрим на вещи. Спорим о Кольке, о его будущем, хотя это вопрос ещё далёкий и спорить тут не о чём… Но есть другое, Лида, что мешает нам иногда понимать друг друга. Мы… как-то по-разному смотрим на нашу послевоенную жизнь.
Послушать тебя, так покажется, что вся она, эта жизнь, — сплошные трудности и противоречия… Когда я смотрю на тебя, мне иногда кажется: вот есть прямой, простой путь, а ты нарочно идёшь другим только потому, что он сложнее и труднее. Там, где можно договориться, причём договориться, не поступаясь, ничем, — ты идёшь на спор, на ссору… А такой спор ради спора часто превращается просто в склоку…
— Неправда! — воскликнула я.
— Не горячись, — остановил меня Саша подчёркнуто спокойно, — лучше подумай надо всем этим… Хоть на этот раз иди по простому пути: не горячись, не спорь против очевидности, обдумай.
На этом наш разговор прекратился.
…Теперь ночь, не белая, как когда-то, а тёмная, беспросветная ночь. Саша уже лёг и тотчас же заснул — он стал теперь удивительно быстро засыпать, — я слышу его ровное, безмятежное дыхание. А я не могу заснуть. Я лежу тихо, не двигаясь, чтобы не разбудить Сашу. Мне хочется о многом подумать, пока он спит. Что-то странное происходит у нас. Я вдруг поняла, почувствовала: что-то не так. «Вдруг»? Нет, не вдруг. Ещё тогда, после разговора Саши с Ириной, я ощутила: что-то угрожает нам, нашим отношениям, нашей любви. Но я прогнала опасения, убедила себя, что ошиблась, что все страхи мои выдуманные. Но с каждым днём я всё больше и больше убеждалась, что не ошиблась, что нашей дружной совместной жизни, которая так недавно казалась незыблемой, что-то грозит.
Когда Саша согласился взять Колю, он пошёл для меня на уступку, на жертву.
Все его отношение к ребёнку шло не от сердца, а от разума. Саша был то приторно ласков с Колей, точно приняв решение быть ласковым, то, наоборот, становился резким, и мне опять казалось, что он решил быть таким, считая, что это и есть самое правильное. Мне казалось, что мы смотрим теперь уже не друг на друга, но на Кольку и в нём, как в зеркале, ищем отражение наших чувств.
Я знала, что и Коля чувствует это. Иной раз я замечала, как он, думая, что за ним не наблюдают, смотрел то на меня, то на Сашу растерянным, недоумевающим взглядом. Я видела, что он не понимает Сашу, не понимает его отношения к себе и caм тоже не знает, как должен к нему относиться.
Как-то Саша сказал мне: «Лидуша, так хорошо сегодня, что не хочется думать о завтрашнем дне. Каждый раз, когда приходит почтальон или какой-то чужой человек стучится к нам в дверь, я вздрагиваю… Мне всегда кажется, что они несут с собой перемену».
Он сказал это, когда мы вспоминали о нашей первой блокадной встрече, прерванной курьером с телеграфа, и я согласилась с Сашей. Но теперь я понимаю, что за его словами крылось нечто большее, что они родились не только по конкретному поводу, что за ними скрывалась боязнь каких бы то ни было перемен, боязнь будущего.
Теперь, после его слов, я поняла большее. Нет, он не боится будущего, он любит настоящее, но только настоящее это представляется ему в каких-то идиллических тонах. Точно война, победа сняла все споры, уничтожила все трудности, противоречия… Как он не прав!
Вот он здесь, рядом со мной, мой Саша. Почему же я лежу неподвижно и боюсь разбудить его? Ведь я должна немедленно, сейчас же разбудить, растолкать его, прервать это спокойное, безмятежное дыхание и рассказать обо всём, что я сейчас думаю.
Но я не могу, не в силах сделать это. Что бы я сказала ему? Ведь на работе все его хвалят, все им довольны, и даже Каргин похвалил его.
И снова я думаю о том, о чём думала уже не раз: «Почему работа приносит Саше только радости, лёгкие радости, а мне и Ирине, чтобы добиться удачи, надо пройти через сто испытаний?»
Мне теперь кажется, что дело не в умении, а в другом.
Нет… Я не знаю, что сказать ему. И именно за это бессилие я зла на себя и на него, иногда так зла, что даже пугаюсь этой злобы.
Я стала испытывать то, чего никогда не испытывала. Я почувствовала зависть к Ирине и к её любви. Мне хотелось бы такой же любви, пусть менее нежной, чем наша, но какой-то большей, чем просто любовь. Не этой спокойной, точно застывшей любви, от которой я задыхаюсь.
И я засыпала, так ни до чего и не додумавшись, и знала, что завтрашней ночью опять буду думать об этом же и опять напрасно…
В тот вечер я провожал Ирину. С утра Лида плохо себя чувствовала. У неё начинался грипп, повысилась температура, и выходить было нельзя.
Лето кончалось, и наступала ленинградская осень — самое хорошее время года, если нет дождей. Но в этом году осень начиналась дождями, и на улице всё было мокрым, особенно гранит и мрамор, которые и в сухую-то погоду кажутся влажными.
Ирина уезжала в девять вечера. Дождь шёл с утра не переставая. Выйдя из дому, чтобы ехать на вокзал, я очутился в сплошной сетке дождя.
Не знаю почему, но мне с утра было не по себе. Я не мог объяснить это отъездом Ирины, — нас многое связывало, но всё же мы никогда не любили друг друга, вернее — не любили настолько, чтобы горевать при разлуке. Больше того, мне казалось, что отъезд Ирины будет нам на пользу, что после него вернётся то уверенное спокойствие, которое я испытывал, когда оставался с Лидой вдвоём. А Ирина всегда вносила элемент какой-то беспричинной тревоги.
Я вышел из трамвая в конце Невского. Дождь по-прежнему не переставал. Город был освещён, свет фонарей и витрин расплывался на мокром асфальте, и сам воздух казался красноватым.
Я прошёл на освещённый, крытый перрон. Здесь было очень оживлённо, поблёскивающая металлом и лаком «Стрела» уже стояла, прижавшись к камню перрона. По специфической предотъездной атмосфере я почувствовал, что до отхода поезда остались считанные минуты.
Несмотря на множество людей, я сразу увидел Каргина. Он, видимо, недавно пришёл; на его сером плаще ещё блестели капли дождя. Каргин стоял у вагона и смотрел в одно из окон.
В освещённых окнах мигали прикрытые цветными абажурами лампочки, зеленел линкруст, которым были обиты купе, мелькали взбрасываемые на верхние полки чемоданы, и казалось, что нет мира более уютного.
Я подошёл к Каргину, поздоровался и спросил:
— А где Ирина?
— В вагоне, — ответил Каргин, — сейчас выйдет.
Он снова стал смотреть в окно. Вышла Ирина, увидела меня и торопливо осведомилась:
— А где Лида?
— Заболела. Просила передать привет. Ей очень хотелось быть.
— Что с ней?
— Думаю, что просто грипп. Если бы не температура, она обязательно приехала бы.
Ирина взяла под руку Каргина и сказала:
— Всё в порядке. Место у меня нижнее.
Народу на перроне становилось всё больше. С шумом и звоном промчался вперёд, к почтовому вагону, автокар, гружённый мешками и почтой. Вдалеке послышались редкие вздохи паровоза. Ирина по-прежнему стояла, держа Каргина под руку. Мы все молчали. Я спросил шутливо, чтобы нарушить молчание:
— Ну как, Ирина, не жалко оставлять Ленинград?
Ирина посмотрела на меня, потом на Каргина и ответила:
— Нет, сейчас нет. Мне кажется, что я не оставляю Ленинград, что он поедет вместе со мной… — Она отвечала шутливо, в тон мне, но глаза её оставались серьёзными.
Дыхание паровоза стало более частым. Голоса людей зазвучали громче, и одни и те же слова: «Пиши!», «Телеграфируй, как доехал!», «Передай привет!» — стали всё чаще и чаще раздаваться отовсюду.
И тут я увидел, как изменилось обычно сосредоточенно-спокойное лицо Каргина. Веки его вздрогнули. Я отошёл, чтобы не мешать им прощаться. Освещённые фонарём лица Ирины и Каргина были мне очень хорошо видны. Ирина что-то говорила, но я не слышал её слов. И вдруг мне показалось, что я вижу блеск на глазах Каргина. «Неужели он…» — подумал я, но тут же решил, что это просто капли дождя задержались на его ресницах. Потом Каргин притянул к себе Ирину и поцеловал долгим поцелуем. Невольно я отвернулся и в этот момент услышал голос Ирины:
— Саша, где же вы, поезд сейчас трогается!
Я подошёл к ним. Ирина протянула мне руку.
— До будущих встреч, и Лидуше привет. Эх, если бы мы вместе поехали!
Я вздрогнул при этой мысли. А Ирина вдруг нагнулась ко мне и прошептала:
— Посмотрите за Василием. Он может заболеть, но никогда не напишет. Он остаётся снова один. — Она замолчала, судорожно проглотив слова.
Паровоз сделал рывок, проверяя сцепку вагонов. Каргин резким, не свойственным ему движением снова притянул к себе Ирину и поцеловал.
Ирина вскочила на ступеньки вагона, и в этот момент раздался продолжительный паровозный гудок.
Я стоял и видел, как Каргин, ускоряя шаг, идёт за поездом, всё более и более отставая от него.
Нарядный, освещённый вагонный мир медленно катился мимо меня, постепенно исчезая в охватывающей его со всех сторон темноте.
Наконец я увидел красный сигнальный фонарь последнего вагона. Откуда-то из темноты усталой походкой вернулся на опустевший перрон Каргин.
— А вы ещё здесь? — удивился он, увидя меня, и добавил упавшим голосом — Ну, вот и всё.
Мы вышли вместе. Дождь перестал, но все вокруг ещё дышало сыростью. Красноватый от бесчисленных фонарей, освещённых окон и магазинных витрин туман медленно поднимался от земли и, казалось, выползал из стен домов.
Мы остановились у вокзального подъезда. Каргин сосредоточенно смотрел куда-то в сторону, чуть закусив губу.
— Вот что я хотел вас спросить, товарищ Савин, — сказал Каргин. — Мне рассказывали, будто вам предложили помочь лаборатории в их деле с закалкой, а вы отказались. Это так?
Я смутился.
— То есть как это? — пробормотал я, стараясь сообразить, откуда он знает о моём разговоре с Андрюшиным.
— Вас, может быть, интересует, откуда я знаю, — продолжал Каргин, не сводя с меня спокойных глаз, — так я могу вам сказать. У вас есть сотрудник Андрюшин.
«Ах, фрукт!» — подумал я. И ответил:
— Я ни от чего не отказывался. Мне просто не хотелось вмешиваться в это дело. Вы знаете, что Лидия Федоровна моя жена…
— Боитесь семейственности?
— Мне кажется, это тоже играет роль. Здравый смысл подсказывает.
— Ах, этот здравый смысл! — чуть сощурив глаза, протянул Каргин.
— Разве вы считаете, что я должен был поступить иначе? — спросил я.
— Думаю, что следовало бы разобраться и решить в зависимости от обстоятельств дела. А насчёт семейственности я вам вот что скажу. Если человек слаб или нечестен, ему резон бояться всего, что может столкнуть его с пути или соблазнить. Такому человеку надо бояться помогать жене, ходить мимо пивной, смотреть на деньги в открытом ящике. И вообще избегать разных привходящих обстоятельств. Вы меня понимаете? Это я спросил так, между прочим. Всего хорошего.
И он пошёл через площадь, постепенно скрываясь в красноватом тумане.
Я стоял совершенно растерянный и думал: «Значит, Андрюшин решил действовать, побежал к секретарю парткома».
Этот пятиминутный разговор совершенно сбил меня с толку. Я пошёл к трамвайной остановке, стараясь уяснить себе, что произошло. «Как же так, — думал я, идя и не замечая никого вокруг, — ведь я же хорошо работаю, сам Каргин хвалил меня… Почему же сейчас этот иронический, обидный тон?» На секунду в памяти моей снова всплыла история с Ивановым.
И я с каким-то особым, радостным чувством подумал о том, что сейчас приеду домой и встречу Лиду, которая — единственная — любит меня без всяких «но», любит всего, целиком, таким, как я есть, и никогда не сомневается во мне.
Из письма Лиды к Ирине
«Ты спрашиваешь меня, Ирина: как мы живём с Сашей? Не знаю, что тебе ответить.
Что-то странное происходит со мной. Иной раз я думаю: «Ну чего, чего тебе не хватает? Мы встретились, мы вместе, мы любим друг друга…» Я говорю себе: «Другие не получили и сотой доли того счастья, которое ты имеешь». Но нет, все это сильнее меня.
Проводив тебя, он пришёл домой, и я вдруг почувствовала, что должна немедленно поговорить с ним.
Во мне вдруг родился страх. Он родился оттого, что, сколько мы помним друг друга, мы никогда ничего не скрывали, мы всегда жили одним и тем же и у нас были общие мысли, как и общее сердце. Во время войны я особенно ощущала это, и где бы он ни находился, я всегда чувствовала, что он здесь, рядом со мной, и не было у меня ни одной мысли, которую я не решилась бы ему высказать. А теперь у меня такие мысли, которые я не решаюсь высказать ему, хотя вот он, сидит рядом со мной.
Коля уже спал, а Саша сидел, наверно даже не подозревая о том, что бродило в моей голове.
«Ну хорошо, что же я всё-таки скажу ему? Ведь то, о чём я думаю, очень трудно выразить словами, ведь все это какие-то неясные, расплывчатые опасения, я даже не знаю, как, в какой форме высказать ему их, чтобы не обидеть… Ведь он любит меня, любит больше всего на свете», — думала я.
— Саша, — начала я, глядя ему прямо в глаза, — я должна сказать тебе о том, что уже давно мучит меня… Только ты не обижайся.
Я заметила, как глаза его перестали улыбаться и в них появилось что-то тревожное.
— Вот мне пришло в голову, — продолжала я, решившись говорить во что бы то ни стало, — что твоя работа в газете, то, что ты там делаешь, — это не настоящее.
Брови его вздрогнули и чуть приподнялись.
— Да, да, — говорила я, — ты только пойми меня, всё дело в том, чтобы ты правильно понял меня. Иной раз, когда ты приходишь с завода и рассказываешь мне столько интересных вещей, я готова слушать без конца. Но потом мне начинает казаться, что все это занимает только какую-то маленькую часть тебя. В чём же дело твоей жизни? Внешне всё обстоит нормально: тебя хвалят, ты работаешь, даже увлекаешься своей работой. Но я чувствую: это только внешне.
Я замолчала, сама испугавшись своих слов. Саша смотрел на меня в упор, и я никогда не видела ещё такого выражения его глаз. В них было что-то незнакомое.
— Что ты такое говоришь, Лидуша? Ты всё это говоришь мне, мне? Как ты, ты можешь? — Голос его задрожал. — Я, который в первый же день войны добровольно пошёл на фронт… Как ты…
Он закусил губу и отвернулся. Мне показалось, что он сейчас заплачет, и я тоже готова была заплакать.
— Как ты можешь говорить все это мне, — продолжал Саша, — человеку, который никогда не бегал от самых трудных дел? Ведь кому-кому, но тебе-то всё это известно.
Я никогда не видела его таким взволнованным. Я чувствовала, что и моё сердце бьётся всё сильнее и мне трудно объяснить Саше всё, что я думаю, потому что не все можно выразить словами.
— Вот что, Саша, — сказала я, — было бы нечестно, ну просто недостойно нас обоих, если бы я скрыла свои мысли от тебя. Вот понимаешь… когда я ждала тебя, я так много задумала. Мне всегда казалось, что вместе мы сможем гораздо больше сделать, чем в отдельности. Я мечтала о том, что у нас будет какое-то одно, общее дело…
— Разве мы не вместе?! — воскликнул Саша. Он, видимо, не понимал меня…
Теперь я должна тебе написать о самом неприятном.
Воскликнув: «Разве мы не вместе?!» — Саша замолчал. Лицо его стало жёстким, я никогда не видела у него такого лица. Потом он сказал:
— Это всё идёт от тебя, Лида… От твоего… исступлённого отношения к жизни.
Меня поразили все эти слова, хотя что-то похожее он мне уже как-то говорил. Я спросила, что они значат. Но Саша молчал. Он так и не сказал мне ничего.
Напиши, пожалуйста, о чём ты говорила с Василием Степановичем и при чём тут этот Андрюшин…
Уже поздно вечером, перед тем как лечь спать, Саша сказал, будто продолжая какие-то свои мысли:
— Я работаю честно и правильно. Никто не может спорить против этого.
«Что такое честно? — подумала я. — Низшая, элементарная грань честного мне понятна. Но где высшая, где потолок?»
…Теперь о нашем деле. Инструментальный цех уже принял наши агрегаты, так сказать, на вооружение — закаливают все инструменты. Начальником у них инженер Вяльцев, который руководил новостройкой, а я к нему как бы прикомандирована.
Ира, ты знаешь, мне как-то страшно выговаривать это, но я иногда завидую вам, вашей любви, такой мужественной и такой неповторимой. И я знаю: хоть вы и далеко друг от друга, но всё-таки вместе. Ирина, почему вы далеко друг от друга, но вместе и почему мы вместе, но…»
Теперь мне всё стало ясно. Лида, конечно, узнала (от Каргина, или Андрюшин рассказал ей, с него станется) о моём нежелании принимать участие в деле с закалкой. Честное слово, когда я отмахнулся тогда от Андрюшина, я и представить себе не мог, какие всё это будет иметь последствия.
Тогда мне казалось ненужным обсуждать этот вопрос. Вряд ли Андрюшин, человек чрезмерно горячий, увлекающийся, мог бы правильно наметить пути помощи лаборатории. Он попросту предложил бы ударить «в набат», во все колокола и публично заклеймить Абросимова.
А я был убеждён раньше и убеждён теперь, что не может Абросимов, советский инженер, быть рутинёром из «принципиальных», так сказать, соображений. Просто обе стороны горячатся, поскольку искренне убеждены в полезности своих точек зрения. И вместо того чтобы по-деловому, спокойно обсудить этот вопрос, раздувают конфликт, конфликт наносный, неорганический…
В какой-то мере я понимал Лиду, её переживания. Действительно, обидно, когда занимаешься каким-нибудь делом и тебя постигают неудачи. Тогда каждый хоть немного сомневающийся кажется рутинёром, чуть ли не врагом. Неужели эта история может повлиять на наши отношения?
Тем не менее всё это было так. После нашего разговора на эту тему я почувствовал, что отношение ко мне Лиды изменилось. Я знал, чего Лида ждёт от меня, знал, что она хочет признания моей неправоты, но я не чувствовал себя неправым.
Я был в мартеновском цехе и разговаривал с начальником смены. Слева от нас сновала похожая на танк завалочная машина. Хоботом она захватывала мульдкоробку с шихтой и, точно идя на таран, устремлялась в разверстое жерло печи. Хобот исчезал в печи и через минуту возвращался, чтобы опять проделать ту же операцию.
И вдруг раздался негромкий скрежет, и башня, а вместе с ней и хобот остановились в каком-нибудь метре от печи, так и не донеся до неё коробку с шихтой.
Начальник смены, не дослушав меня, бросился к машине.
Произошла очень неприятная вещь: раздробило подшипник, на котором вращается башня, и завалочная машина, таким образом, вышла из строя. Однако самым неприятным было то, что надо было ждать не меньше месяца, пока подшипниковый завод изготовит новый.
Дома я спросил Лиду:
— Слышала, что произошло в мартеновском?
— Это с завалкой-то? — переспросила Лида. — Ну ещё бы!
— Говорят, что теперь мартен выйдет из строя на месяц.
— Очевидно, — неопределённо ответила Лида и, помолчав, добавила: — Ты представляешь себе, как устроен подшипник, на котором вращается башня завалочной машины? Это кольцо диаметром в полметра, а в нём шарикоподшипники. Главное — в кольце. Его надо закалить; обычная закалка займёт массу времени. А мы… мы уже думали в лаборатории, мы бы закалили его в несколько минут.
И, словно решившись, она заговорила со мной так горячо и заинтересованно, как давно уже не говорила:
— Ах, если бы нам доверили закалить кольцо! Ведь это значило бы, что машину завтра же можно будет пустить в ход. Ты подумай, какая разница: недели или минуты! — Она замолчала.
— Но ведь с «лесенкой» вы возились очень долго, — возразил я.
— У нас не было тогда опыта в конструировании индукторов. А теперь есть, — ответила Лида.
И тут я неожиданно для самого себя сказал:
— А что, если поддержать это дело в газете? Дать статью?
— Статью? — воскликнула Лида. — Такая статья есть.
— Уже написана?
— Да. Давно. Мы пытались напечатать её, но не удалось.
— Кто автор? — спросил я.
— Ирина.
Я усмехнулся: эта женщина даже издалека влияет на ход событий…
У меня в голове уже созрел план. Я был уверен, что уломаю нашего редактора и мы тиснем эту статейку.
В тот вечер я чувствовал себя так хорошо, как уже давно не чувствовал. Мне показалось, что настали старые, кажущиеся теперь уже далёкими времена. Невидимая, но ощутимая стена, выросшая между мной и Лидой, точно разрушилась.
На другой день в обеденный перерыв Лида пришла в редакцию и положила мне на стол статью.
Это была очень резко и ясно написанная статья, подписанная Ириной Вахрушевой и инженером Вяльцевым. В ней говорилось о применении на заводе высокочастотной закалки вообще и о том, что из-за боязни некоторого риска администрация завода готова пойти на месячный простой мартена. От имени лаборатории авторы утверждали, что если закалка кольца будет поручена им, то авария может быть ликвидирована на ходу.
— Последняя часть написана Вяльцевым, — разъяснила Лида, — но я знаю, Ирина согласилась бы с каждым словом.
Лида ушла. Я ещё раз перечитал статью. Да, очень резкая статья. Если что-нибудь здесь не соответствует действительности, авторам статьи будет худо. В этом случае, помогая написать такую статью, я оказал бы медвежью услугу Лиде.
Я твёрдо хотел помочь ей, но помочь серьёзно, по-настоящему. Я вспомнил слова Каргина: «Следовало бы разобраться и решить в зависимости от обстоятельств дела».
И я решил пойти к главному металлургу Абросимову, самому крупному на заводе специалисту.
Я знал из разговоров с Лидой, что Абросимов не слишком благосклонен к опытам лаборатории. Но я не боялся услышать самые резкие возражения против статьи до напечатания, чтобы быть во всеоружии.
Заводоуправление только что переехало в новый, недавно отстроенный корпус. До этого оно находилось в здании бывшей заводской поликлиники. Старое помещение заводоуправления было разрушено снарядами.
— А, редакция! — приветствовал Абросимов, когда я вошёл. — А у меня новоселье!
Его кабинет был красив: светлая длинная комната, шкафы с образцами продукции, люстра, тёмно-зелёные шторы.
— Вот какое дело, — обратился я к Абросимову, — к нам в редакцию поступила статья. Мы бы хотели, чтобы вы прочли её и высказали своё мнение.
— Статья? — переспросил Абросимов. — О чём же? — Он уже пробегал листки бумаги, держа их на большом расстоянии от глаз. — Боже мой, — воскликнул Абросимов, страдальчески кривя губы, — опять закалка! Ну, конечно, Вахрушева ниспровергает основы… и Вяльцев! — Он дочитал статью. — Ну, а какое ваше мнение? — спросил вдруг Абросимов меня.
— Я не специалист, — честно признался я, — важнее, что думаете вы.
— Вы посудите сами, — неожиданно весело заговорил Абросимов, — с несчастным цилиндриком лаборатория возилась несколько месяцев, пятнышки не могли вывести. А теперь они хотят закалить кольцо, выдерживающее нагрузку башни завалочной машины. Вы сами-то знаете эту Вахрушеву? — спросил вдруг Абросимов.
— Знаю, — ответил я.
— У неё ещё есть помощница, — продолжал Абросимов, не называя фамилии, но я сразу понял, что он говорит о Лиде, — так вот, одна другой стоит… Вы присядьте, — с неожиданной настойчивостью предложил он, — я вам все сейчас объясню.
Он отодвинул от себя статью, как будто бы она мешала ему говорить.
— Вы подумайте, — продолжал он. — Есть тысяча первоочередных проблем… А работники лаборатории занимаются прожектами…
Внезапно дверь открылась, Каргин шагнул в комнату и, идя к поднявшемуся навстречу ему Абросимову, сказал:
— Я еле нашёл вас на новом месте.
Он увидел меня, поздоровался, затем взял Абросимова под руку, и они, отойдя к окну, стали о чём-то вполголоса разговаривать. Затем Каргин ушёл, кивнув мне на ходу.
Абросимов долго и каким-то странным взглядом смотрел вслед Каргину. Потом он обернулся ко мне, и лицо его тотчас же изменилось.
— Да, так на чём же мы остановились? — спросил Абросимов, подходя к столу.
Его тон из приветливо-дружеского стал холодно-официальным.
— Да, насчёт закалки кольца… Мне кажется, что обычный путь будет более верный и более быстрый. Знаете, что я вам скажу: мне кажется целесообразным напечатать в газете серьезную статью о работе лаборатории. Помочь ей, натолкнуть её на первоочередные проблемы… Может быть, я сам написал бы для вас такую статью.
Зазвонил телефон. Абросимов снял трубку, сказал «иду» и быстрым движением сунул статью в карман.
— Ну вот, так и сделаем. Я не задержу. — И, не дожидаясь моего ответа, Абросимов торопливо вышел.
Я задумался. Этот старый, опытный человек, главный металлург завода, не мог ошибаться.
Решил пока ничего не сообщать редактору, а вечером поговорить о статье с Лидой.
Я уже собирался уходить домой, как вдруг в редакцию вошёл Абросимов. Не замечая меня, он прошёл в редакторский закуток, и я услышал из-за фанерной перегородки голос редактора:
— Ба-а! Начальство! Товарищу Абросимову — наше нижайшее!
— Я к вам в качестве корреспондента, — сказал Абросимов. — Решил заняться на старости лет. К тому же ваш сотрудник мне заказал.
— Какой сотрудник? — спросил редактор.
— Да вот новенький.
— Савин.
— Видимо, да. Я не знаю его фамилия.
Наступила пауза. Редактор читал статью. Потом я услышал его голос:
— Вот спасибо! Руководители завода нас редко балуют статьями. Обязательно дадим, и в завтрашнем же номере.
Через несколько секунд Абросимов вышел от редактора.
— У вас лёгкая рука, — пошутил он, увидя меня. — Никогда не писал сочинений, а сейчас написал. Заходите, всегда рад. — Он кивнул и ушёл.
Я постарался напустить на себя небрежный, незаинтересованный вид и вошёл к редактору.
— Что, принёс статью Абросимов? — спросил я.
— Принёс, — весело прохрипел редактор. — Это ты заказал? Молодец! Как это тебе удалось? Он ведь никогда строчки нам не написал, понимаешь, строчки! А тут лабораторию критикует… Умно написано.
Я вышел в общую комнату и подошёл к машинистке Лизе. Первую страницу она уже перепечатала, остальные лежали тут же на столе. Я стал читать. Это была сильно и хлёстко написанная разгромная статья против лаборатории. Я сразу обратил внимание, что имени Лиды там не упоминается. Зато доставалось Ирине. Абросимов называл её недоучкой, к тому же не желающей учиться. «В лаборатории должны работать люди практического опыта, — писал Абросимов, — умеющие сочетать теорию с повседневной заводской практикой». Это был удар, тяжёлый и непоправимый удар для Ирины, удар «в тыл».
Я вернулся к редактору.
— Написано сильно, — сказал я, — но не кажется ли вам, что статью следовало бы проконсультировать?
— Это главного-то металлурга проверять? — усмехнулся редактор. — Это тебе, друг, не цеховой мастер пишет! И кому же давать-то? Директору, что ли?
— А если Каргину? — спросил я.
— Ну, это ты ересь несёшь, — помрачнел редактор. — При чём тут Каргин? Статья техническая… Притом в ней критика. А ты, что же, критику согласовать хочешь? Боишься? Так, друг, в большевистской печати не водится.
«Что ж получилось? — думал я. — Ведь статья завтра появится! Почему же я не постарался отвести её, задержать?» Потом я сказал себе: «Нет, это было бы неправильно. Пусть будет наконец гласно высказана точка зрения. Пусть кончатся разговоры, устные споры, которые так часто начинаются с дела, а потом переходят на личности. Надо, чтобы все имели возможность с максимальной доказательностью высказать свою точку зрения, и тогда всё станет ясным. Надо быть объективным».
С этими мыслями я доехал до дому, поднялся по лестнице, но, как только я почувствовал, что сейчас увижу Лиду и должён буду рассказать ей обо всём происшедшем, все планы, весь этот конспект нашего разговора, который я составил в пути, исчез, и мной овладело чувство растерянности.
«Сразу, сразу, — подумал я, открывая дверь, — надо все сказать сразу». Я вошёл в комнату. Лида сидела на кушетке и смотрела на меня.
— …И ты понёс статью Абросимову? — спросила Лида.
— Да, — ответил я.
Лида усмехнулась. Это была злая, не идущая к ней усмешка. Я никогда раньше не видел, чтобы она так усмехалась. Я добавил:
— Ведь это было вполне естественно — показать статью об обработке металла главному металлургу.
— Да, конечно, — каким-то чужим, безразличным голосом проговорила Лида. — Дальше.
— Он прочёл статью и сказал… — Я остановился. Меня вдруг испугало холодное, чужое лицо Лиды, её незнакомый голос.
— Что он сказал? — настойчиво спросила Лида.
— Он сказал, что вся эта ваша затея с закалкой — чепуха. И предложил сам написать статью.
— О закалке?
— Нет. Собственно, не вполне о закалке.
— А о чём?
Лида подошла ко мне вплотную. И тогда я выпалил все сразу, точно бросаясь в холодную воду:
— Он сам вызвался написать статью. О работе лаборатории. Вечером он принёс статью. Она завтра будет напечатана.
— Так, — спокойно молвила Лида и отошла к окну. Я подошёл к ней.
— Абросимов — крупный специалист. Он советский инженер. Пережил блокаду. Пусть выскажет свою точку зрения. Ты должна понять: я не могу, не имею права быть предвзятым. Дело должно быть всесторонне обсуждено. И тогда всё станет ясным.
Она не оборачивалась.
Когда он сказал «всё станет ясным», я почувствовала раздражение. Мне снова показалось, что Саша не понимает чего-то главного, самого главного. В этот момент я взглянула на мальчика. Коля сидел в углу дивана и хмуро глядел на Сашу.
«В чём дело? — подумала я. — Почему между ними не налаживается настоящая дружба? Ведь ясно, что Саша хочет добра Николаю, но мальчик почему-то не чувствует этого».
А вчера у них было прямое столкновение. Саша заметил, что Коля лазит по строительным лесам дома, велел ему спуститься и строго отчитал. Я заступилась: «Разве не естественно, что мальчишке всегда хочется лазить, строить, во всём соревноваться с ребятами, даже подраться, может быть».
А Саша ответил: «Колька не безнадзорный парень. Мы отвечаем за него и перед своей совестью, и перед государством. А что, если бы он сорвался с лесов?» Я возразила: «Ты хочешь воспитывать его в оранжерее». Он сказал: «Это не так, но всё же оранжерея — это достижение по сравнению с асфальтовым котлом двадцатых годов».
Я пожала плечами.
…И вот теперь, когда я хотела продолжить разговор с Сашей, взгляд мой остановился на Коле. Нет, не надо, чтобы он видел, что и у меня нелады с Сашей.
Я предложила:
— Может быть, мы пройдёмся? Нам надо поговорить.
Саша внимательно посмотрел на меня, встал и молча надел пальто.
Не произнося ни слова, мы спустились по лестнице и пошли к шоссе. Уже стемнело, и на небе не было ни одной звезды. Фонари светили очень тускло. Огни Кировского завода были едва заметны. Грязь хлюпала под ногами. Мне было душно.
— Сашенька, — начала я, — ты подумай, подумай хорошенько. Неужели ты ничего не замечаешь? Неужели ты не видишь, что мы уже давно не вместе?
Он молчал.
— Почему, когда ты был на войне, далеко-далеко, мне всё-таки казалось, что ты близко, и я каждую минуту могла поговорить, посоветоваться с тобой? А сейчас ты здесь, совсем рядом, но мне кажется, что ты далеко и не слышишь меня.
Я замолчала. Мы все шли и шли, хлюпая по грязи.
— Не знаю, — проговорил наконец Саша, — не знаю, Лидуша. Мне больно все это слышать. Мне кажется, что ты сознательно, я бы сказал — принципиально усложняешь жизнь. Ты… ты, как бы это сказать… не доверяешь разуму. Ты оказалась не в состоянии договориться с Абросимовым. Но разве вы политические враги друг другу? Разве вы не вместе — я говорю не в буквальном смысле — ковали победу над фашистами? Разве у вас не одна родина и не один завод? Да что там Абросимов, когда ты со мной сговориться не можешь! Вместо того чтобы высказать свои претензии ко мне, выслушать мой ответ и выбросить все эти придуманные разногласия из головы, ты копаешься, копаешься… Вот что я хочу сказать тебе, Лида. Я люблю тебя по-прежнему, и ты самый дорогой для меня человек. Но… может быть, ты перестала любить меня?
В его голосе было столько настоящей грусти, что у меня перехватило горло.
— Нет, нет, не то, — тихо ответила я. — Что-то другое происходит у нас, Саша. Мы как-то по-разному относимся к жизни…
Но он горячо прервал меня:
— Разве не исполнилось все то, о чём мы мечтали? Разве мы не вместе? И разве мы не такие же, какими были раньше?
Нет, он не понимал. И как только это со всей очевидностью дошло до меня, стало так горько, что я не смогла продолжать.
Мы миновали последний фонарь и двинулись дальше по неосвещённому шоссе.
Он взял меня под руку, и я вздрогнула от этого прикосновения.
— Лида, — сказал он, — оставим все это. Мне не хотелось бы произносить общих фраз, но я должен сказать. Мы оба прошли через войну. Война не разъединила нас, как некоторых. Наоборот: ты и война, победа, Ленинград — были для меня неразрывны. А ведь в войну было много настоящих, невыдуманных трудностей. И мы преодолели их. Вместе со всем народом преодолели. Что же мешает тебе радоваться счастью послевоенной жизни? Что нам с тобой мешает быть счастливыми?
— Разница взглядов! — воскликнула я. — Тебе кажется, что после войны жизнь как бы остановилась, что наступила какая-то идиллия! Нет, Сашенька, меньше всего мы с тобой годимся на роли аркадских пастушков. Я по крайней мере не гожусь.
В этот момент из-за облаков появился край луны. И я увидела, что стоим мы на развилке дорог и прямо перед нами возвышается обелиск — высокий каменный столб. Саша подошёл к нему и прочёл надпись у подножья: «Слава защитникам города Ленина!» Это была братская могила. Здесь же стоял столб — дорожный указатель, и на нём было написано: «Красное село, 13 км».
…Мы стояли там, где проходил немецкий передний край. Светила луна, и камень обелиска казался жёлтым, и металлический ржавый венок у подножья тускло поблёскивал. Мы стояли с Лидой у могилы, и в ушах моих ещё звучали её страшные слова. Но сейчас, в эту минуту, я думал о людях, похороненных под этим обелиском, об их изувеченных, изуродованных минами, шрапнелью и фугасными бомбами телах. Я думал о том, какой несправедливостью, каким забвением их памяти звучит то, что говорит Лида.
«Неужели, — думал я, — они, эти спящие вечным сном люди, вот так же метались бы, спорили, искали трудностей, если бы тогда, когда они были ещё плотью и кровью, им сказали бы, что придёт победа, и они вернутся домой, и будут вместе с любимыми, и будет всё как прежде? Неужели им было бы этого мало?»
Я посмотрел на Лиду. Она стояла сосредоточенная и, так же как и я, смотрела на могилу, и я был уверен, что сейчас в её голове бродят мысли, похожие на мои.
…«Здесь проходил немецкий передний край, — думала я, глядя на эту могилу и на дорожный, похожий на фронтовой, указатель. — Под этим камнем похоронены люди, которые защищали Ленинград. Именно эти вот люди защищали наш дом, — он ведь был вблизи от переднего края». И я спросила себя: «О чём думали, о чём мечтали, чего ждали эти люди после войны?»
О чём мечтала я?
Мне вспомнилась наша встреча с Сашей в холодном и голодном Ленинграде, после того как он так долго разыскивал меня. Ночью я боялась спать, боялась закрыть глаза, чтобы не перестать чувствовать своё счастье. Мы были вместе, и в тот момент этого было для меня достаточно.
А ещё раньше, на Ладоге, когда я почти умирала от холода и желания есть, мне казалось, что высшее счастье — это тепло, и когда стол накрыт, и на нём много еды, и окно не замаскировано, и за ним освещённая улица.
А когда появилась еда, и наступило лето, и мы увидели близкую победу, я уже по-иному думала о счастье. Как-то раз я представила себе, что вот кончилась война, и все снова стало на свои места, и все, кто остался из нас в живых, вернутся туда, где жили до 22 июня 1941 года, и будут продолжать прерванную жизнь.
И тогда же мне пришло в голову, что это не может, не будет просто продолжением жизни, потому что после того, что люди пережили и познали, в жизнь войдёт что-то новое, очень высокое, ибо она будет строиться руками победивших людей.
Потом я снова подумала о той зиме и о нашей встрече. Да, тогда для меня было достаточно того, что мы встретились, но потом мне хотелось большего, гораздо большего…
— Лидуша, — сказал Саша после долгого молчания, — вот мы стоим сейчас перед этим памятником. Ты знаешь, кто тут лежит?
— Бойцы Ленинграда, — ответила я.
— Одного из них я знаю, — тихо проговорил Саша. — Нам с тобой он должен быть особенно дорог.
— Про кого ты говоришь? — недоуменно спросила я.
— Про Мухтара Тажибаева, про того, кто отстоял наш дом. Ведь он погиб и, наверно, похоронен здесь. Поблизости нет больше могил. Он лежит здесь.
Как сильно забилось моё сердце…
— Я вдруг подумал о том, — продолжал Саша, — что было бы, если б он услышал наш разговор.
— Не надо стесняться мёртвых, Саша. Их судьба решена, ты ничего не можешь изменить в ней. Думай о живых. Я уверена, что живой Мухтар был бы за меня. А ты вызываешь призраки.
— Нет, — внезапно сухо и жёстко ответил Саша. — Это ты боишься призраков и видишь какие-то миражи. Уже поздно. Пойдём домой.
Он шёл немного впереди, а я за ним. За всю дорогу мы не произнесли ни слова. В первый раз мы подходили к дому так поздно. То, что я увидела, было необычайно. Все левое крыло нашего дома было освещено огромными, ослепительно яркими лампами. В их свете весь наш дом, бесчисленные леса, опутывающие его, десятки снующих вверх и вниз людей, площадки, подвешенные на канатах и слегка покачивающиеся на высоте, — всё это казалось необычным. «При фонарях, день и ночь строим!» — послышались мне слова Крайнова.
Когда мы вошли в комнату, я сразу обратила внимание на то, что Коли нет. На столе лежал лист белой бумаги, на нём большими буквами было написано:
«Тётя Лида, я от вас ушёл, ты не сердись, я тебя люблю.
Николай».Утром, когда я проснулся, Лиды уже не было.
Вчера мы легли очень поздно. Мы несколько раз обошли дом, ходили по улицам, но Коли нигде не нашли. Наконец, уже в первом часу ночи, Лида поехала в город, к Анне Васильевне, — оставалась надежда, что мальчик вернулся к ней.
Всё это время я сидел дома и думал, что вот сейчас откроется дверь и войдёт Лида, одна, без Коли. В эти тревожные часы я не мог думать ни о каких сложных вещах, я думал только о том, что будет, если Лида не найдёт Колю и вернётся одна.
Она вернулась одна. Я взглянул на неё, стоявшую в дверях в забрызганном грязью пальто, в косынке, повязанной вокруг шеи, и увидел, как неузнаваемо изменилось за эти несколько часов её лицо.
Я подбежал к ней, но она отошла и сказала:
— Не надо, не надо.
Я начал было говорить, что завтра мы заявим в милицию и Коля обязательно отыщется, но Лида безнадёжно махнула рукой:
— Я уже была в милиции.
Больше она не произнесла ни слова. Разделась и легла в постель. А я сидел в кресле, и мне казалось, что что-то огромное, тяжёлое обрушилось на меня и нет никаких сил, чтобы освободиться от этой тяжести, сдвинуть её.
Проснувшись, я уже не застал Лиду. Вспомнил обо всём происшедшем и в первый раз за всё это время пожалел, что проснулся и что снова начинается день. Потом я подумал: «Да, ведь сегодня напечатана та статья; Лида, наверно, уже читает её».
Но эта мысль ничего не прибавила к той тяжести, которая лежала на мне. От всего происшедшего вчера я испытывал такую сильную боль, что увеличить её было уже нельзя.
Я поехал на завод. Войдя на заводской двор, я увидел вывешенную в витрине многотиражку. Статья Абросимова занимала почти всю вторую полосу.
Едва я появился в редакции, в общей комнате, как несколько человек — литсотрудники, машинистка и корректор — в один голос крикнули:
— Вот и Савин пришёл!
И почти тотчас же из редакторского кабинета раздался знакомый хриплый голос:
— Савин? А ну, давай, давай сюда!
Я вошёл в закуток. Редактор сидел, склонившись над большим развёрнутым листом московской газеты. Он сказал:
— Ну, удружил, нечего сказать. Помог…
Я не понимал, о чём он говорит, и, откровенно говоря, мне была даже безразлична причина его недовольства.
— Кой чёрт угораздил вас заказывать Абросимову эту дурацкую статью? — говорил редактор. — И кой чёрт вас дёрнул сделать это именно вчера? Ведь жили мы до сих пор без его статьи?
— Да в чём наконец дело? — не выдержал я.
— Вот, вот в чём дело, — прохрипел редактор, показывая московскую газету и тыча в неё пальцем.
Я стал читать статью. Речь шла о нашем заводе. Описывалось восстановление завода после окончания войны. В конце статьи два абзаца были посвящены лаборатории. Было написано: «Там, в заводской лаборатории, работают подлинные новаторы, подлинные энтузиасты своего дела, которые, к стыду руководства завода, не всегда пользуются заслуженной поддержкой и помощью». Назывались фамилии Ирины и Лиды.
И вдруг я почувствовал облегчение, точно кто-то приподнял навалившуюся на меня тяжесть. Мне стало как-то легко, даже радостно. И вместе с тем мне показалось, что центральная газета поторопилась опубликовать эту статью. Это мешало объективному рассмотрению вопроса.
Ко мне подошёл Андрюшин. Он торжествующе сообщил мне, что закаливать кольцо для башни завалочной машины поручили лаборатории.
К вечеру я узнал, что кольцо уже закалено и с честью выдержало все испытания. Это меня очень обрадовало. Я знал, как довольна будет Лида. И мне казалось, что в этой радости простится и моя невольная вина.
Однако, придя домой, я не застал Лиду. На столе лежало письмо.
«Саша, — писала Лида, — я у Ирины. Иначе я не могу, мне очень трудно. Я буду стараться отыскать Колю. То, что происходит у нас с тобой, очень серьёзно. Я убедилась: сегодня мы с тобой разно смотрим на жизнь. Я говорю — сегодня, потому что надеюсь на завтра. Для меня мало того, что есть. Мне хочется всё время идти вперёд. Ты знаешь, как я понимаю это слово? Это не простое слово. Оно не только в работе — оно в каждом шаге, в каждом движении души.
Я знаю, что и ты хочешь идти вперёд. Но ты вообразил себе некую гладкую дорогу, всеобщий мир и согласие. Тебе кажется, что я нарочно не иду по этой дороге, а ищу другой, ухабистой, трудной. Но это чепуха, Саша. Гладкой дороги нет. Там, где ты видишь споры, основанные на недоразумении, — там я вижу борьбу. Там, где ты видишь возможность договориться («ведь люди-то свои, советские!»), — там я не вижу иной возможности, кроме драки, жестокой, открытой…
После всего того, что люди пережили и познали на войне, ценность жизни повысится неизмеримо и в жизнь войдёт что-то новое, очень высокое, очень важное, потому что она будет строиться руками людей, победивших в этой невиданной войне.
Я не ухожу от тебя, — это было бы бегством. И главное — я ещё люблю тебя. И потому хочу видеть тебя таким, каким знала, — сильным, идущим вперёд. Я верю, что так и будет.
Но сейчас я не могу иначе.
Лида».Я сидел в комнате один. Стемнело. Было тихо, за окном засветились фонари, шёл мокрый снег, дул ветер, и казалось, кто-то пригоршнями бросает в моё стекло жидкую кашицу. У меня было ощущение, что жизнь остановилась вот на этой тянущейся сейчас минуте и уже больше не будет ничего, совсем ничего.
Несколько раз в сознании моем всплывала мысль: «Как всё это произошло?» Но я чувствовал, что не в силах отдать себе отчёт. Мне было физически больно думать обо всём этом.
Она не ушла от меня совсем, я знал это, мы не «разошлись» с ней в обычном смысле этого слова. Но то, что произошло, было не лучше. Там по крайней мере была бы ясная причина, устранив которую можно было бы спасти дело, тут же было что-то неопределённое, туманное и не за что было ухватиться.
Так я сидел в своём кресле, в том самом, где, мне казалось, могу просидеть всю жизнь, как вдруг в дверь постучали.
Я никого не ждал, ко мне никто не мог прийти. Я обернулся. На пороге стоял прораб Крайнов.
— Здорово, мирный житель, — приветствовал меня капитан. — Я вот тут лестничные клетки осматривал, завтра приступим к работе. Проходил мимо двери — дай, думаю, зайду. Скоро парки Победы сажать пойдём, — может, из инвентаря что-нибудь надо?
Я ничего не ответил.
— Чего ж в темноте сидишь? — спросил капитан и, пошарив рукой по стене, повернул выключатель.
— Потушите свет! — крикнул я. — Я не могу сейчас ни о чём разговаривать. Я не хочу! Зайдите в другой раз.
Прораб пристально посмотрел на меня и погасил свет.
— Ты извини меня, капитан, — добавил я. Мне стало стыдно за свой тон. — Ты зайди в другой раз.
Но капитан не ушёл.
— А помнишь поезд Рига — Верхнегорск? — спросил он. — Мне тогда тоже говорить не хотелось. А ты мне в душу лез, помнишь? Я тебе говорил: уйди! А ты разве ушёл? Ну вот, теперь моя очередь. И чтобы счёт подвести, нас, двоих, пожалуй, будет мало. Давай уж всю семью соберём. Жену свою позови. И парнишку давай сюда… Колька, кажется?
Я вскочил с кресла, сбросив руку капитана, которую он положил мне на плечо при этих словах.
Несколько минут мы молча стояли друг перед другом.
— Нет, капитан, никого я не могу позвать. Мы с тобой поменялись ролями… Теперь моя очередь…
Капитан молчал. А я говорил, торопясь высказать все до того, как он скажет что-нибудь такое, что отобьёт у меня охоту продолжать.
— Вот так получилось… Нет её, нет Лиды. Я остался один, совсем один. И мальчик ушёл ещё раньше. Вот…
— Эге, — протянул капитан, прищурившись, — значит, тогда, на вагонной площадке, я был прав. Нельзя было верить?
— Нет, нет! — воскликнул я. — Нет, совсем не то. Она была и осталась такая же, верная и правдивая… Тут что-то другое, совсем другое.
— Что же другое-то? Не понимаю, — пожал плечами капитан. — Э, нет, выходит, ты мне всё равно проспорил.
Меня разозлило его напоминание о каком-то нелепом споре в то время, когда меня постигло настоящее, большое горе,
— Эх, капитан, какие тут могут быть счёты?
— Не-ет, могут, — возразил прораб и повторил — Нет, могут. Ты вот скажи мне, как же это всё так у тебя получилось? Вот построил я для тебя дом, торопился комнату для тебя отделать, чтобы тебе после войны хорошо жилось, — а ты что же, а?
— Я был доволен, — поспешно ответил я. — А она — нет. Ей всё время надо было чего-то большего. Ей всего было мало…
— Чего же мало? Ширпотреба, что ли? — иронически заметил капитан.
— Нет, нет, — горячо заспорил я, — совсем, совсем другое. Она все в гору, в гору шла, понимаешь, а я…
— Так… — протянул опять капитан. — А у тебя с дыханием, значит, не в порядке? Вас не по болезни ли демобилизовали?
— Уходи, капитан, — попросил я, чтобы положить конец всему этому.
— Нет, я ещё не уйду, — упрямствовал капитан, — мне поговорить охота. Значит, жена от тебя, как я понимаю, ушла…
— Нет, нет, — прервал я его, — она не ушла, она просто поехала в Сибирь на новостройку.
Я сам не знаю, зачем я соврал. Это было первое, что пришло мне в голову.
— А тебя с собой не взяла?
— Нет, я сам не поехал. Но она вернётся, обязательно вернется.
— Так, — проговорил капитан, — значит, баба в атаку ходит, а мужик её в блиндаже дожидается… Ну ладно, факт фактом: жены нет, ребёнок…
— Зачем ты пришёл, капитан? — тихо спросил я.
— Посмотреть на тебя пришёл. Теперь уйду.
Он встал и, ни слова больше не говоря, не попрощавшись, ушёл.
После его ухода я ещё сильнее почувствовал своё одиночество. «Зачем он приходил? — думал я. — Что привело ко мне этого странного, угрюмого человека? И почему я сидел и молчал как пришибленный, когда он допрашивал, издевался надо мной?»
Но я обманывал самого себя. Во мне было сейчас два существа, и одно бурно протестовало против вмешательства Крайнова, но другое все громче и настойчивее утверждало, что он прав. И постепенно этим вторым голосом окончательно был заглушён первый. И мне захотелось, чтобы прораб снова был тут и говорил со мной и я мог бы спорить с ним, сам всё более и более соглашаясь.
И вдруг все происходящее снова встало передо мной. Так бывает: иногда долго думаешь о чём-либо, целое как-то уходит из поля зрения, и постепенно начинаешь думать о деталях и видишь только частность; но вдруг что-то происходит, и ты снова видишь все целиком, и это подавляет тебя.
И вот все случившееся: последние месяцы нашей жизни с Лидой, Коля, первые размолвки, начавшееся отчуждение и, наконец, отъезд — все это снова встало передо мной.
Но раньше каждый раз, когда все это проплывало в моём сознании, я не понимал причины случившегося, испытывал чувство обиды, и во мне возникала уверенность, что я прав, что я не сделал ничего, что дало бы Лиде повод поступить так, как она поступила.
Теперь же было иначе. Я почувствовал, что сам делал что-то не то, что я чего-то не понял в Лиде, что я долго и тщетно пытался уверить себя, что она все такая, какой была до войны, а она изменилась, и я даже хорошо не знал, какая она теперь.
Уход Коли встал передо мной в каком-то ином, страшном для меня свете. «Ты мешал жить человеку, — сказал я себе, — ты помешал ему расти, радоваться, узнавать мир…» Я начинал понимать, что живу иначе, чем многие окружающие меня люди. Я начал перебирать их в памяти. Прораб Крайнов, Ирина, Иванов. И, наконец, Лида, моя Лида!
Да, в их жизни было что-то очень большое и очень высокое, что давало им силу жить так, как они живут.
А тут ещё Коля…
Мне почудилось, что, если бы время повернуть назад и мы с Лидой снова оказались бы вместе, все у нас пошло бы иначе. И как только я подумал об этом, мне непреодолимо захотелось увидеть её, я понял, что не могу, никак не могу жить без неё.
Я почувствовал, что не в состоянии больше оставаться один в комнате, накинул кожанку и вышел на улицу. На улице было пустынно. По-прежнему шёл смешанный с дождём снег. Вода в лужах рябилась от ветра. Вдали шумел Кировский завод. Я пошёл по направлению к центру города, сам не знаю зачем.
Я осмотрелся. Вокруг меня раскинулся обычный, деятельный, мирный город. Окна домов были освещены, где-то звенел трамвай, проносились машины, разбрызгивая лужи.
И я понял, что тем человеком, с которым мне сейчас больше всего хотелось бы встретиться и поговорить, был Каргин.
Я знал, что Каргин живёт в заводском доме, и, вскочив трамвай, поехал по направлению к заводу.
Мне не было известно, в какой квартире живёт Каргин. На моё счастье, человек, вышедший из подъезда, назвал мне номер квартиры. Я поднялся на третий этаж и остановился перед дверью в нерешительности. Уже ночь. Каргин, наверно, спит, если только он дома. Но всё же я постучал.
Тотчас же за дверью раздались ровные, спокойные шаги, точно кто-то стоял и дожидался моего стука. Затем дверь открылась, и я увидел Каргина.
Он спокойно посмотрел на меня и сказал:
— Товарищ Савин? Проходите.
Я не стал объяснять причины столь позднего посещения. Мы вошли в небольшую квадратную комнату. У широкого, занавешенного тяжёлой шторой окна стоял письменный стол, на нём горела лампа и лежала раскрытая книга. Одна стена комнаты была занята книжными шкафами. У другой стояла кровать, и над ней висел большой портрет Ирины. То, что здесь был портрет Ирины, ободрило меня.
— Я не разбудил вас? Или вы читали? — спросил я, указывая на книгу.
— Да, — ответил Каргин и кивнул мне на кресло. — Ну, как дела в газете?
Он спросил это таким тоном, точно мой визит был самым обыкновенным посещением секретаря парткома в обычное, рабочее время.
— В газете? — переспросил я. — С газетой ничего. Вот только с закалкой тогда мы сели. И с центральной прессой разошлись.
— А по существу? — поинтересовался Каргин, смотря на меня своими спокойными глазами.
— Что «по существу»? — не понял я.
— Кто был прав по существу? — повторил Каргин.
— Ну, очевидно, не Абросимов, — сказал я. — Ведь кольцо-то закалили.
— Вот я об этом и говорю, — с чуть заметной улыбкой проговорил Каргин, — и это куда важнее, чем самый факт расхождения с центральной прессой. Кстати, есть приказ министерства о внедрении ТВЧ в производство на нашем заводе. Прибывает новая аппаратура… Теперь вот что, — добавил Каргин после паузы, — Хорошо, что вы зашли. Целесообразно было бы поднять вопрос в нашей газете о помощи сибирскому филиалу. Вы ведь знаете об этом заводе?
Я ничего не ответил, и Каргин продолжал:
— Это наш питомец, он родился во время войны от нашего завода. Однако в течение этой пятилетки перерастёт нас на две головы. Это будет огромный завод. Вот посмотрите.
Каргин подошёл к одной из книжных полок и взял большую папку. Он раскрыл её и, кладя на стол, сказал:
— Вот посмотрите… Это общий вид завода. Такой, каким он будет в тысяча девятьсот пятидесятом году. Может быть, целесообразно поместить в газете снимок с этого рисунка?
Я посмотрел на рисунок. На большом листе плотной бумаги был изображён в красках огромный завод. Я увидел заводские корпуса, цехи, двор, похожий на городской бульвар, и вдали чуть приметную синеву реки. Всё это выглядело очень заманчиво и радостно, как обычно выглядят художественно исполненные проекты городов.
— Как Ирина Григорьевна? — спросил я после короткого молчания.
— Ничего, — ответил Каргин. — Работает. Пишет, что к концу года всюду введут высокочастотную закалку.
— У нас был спор с вашей женой перед отъездом, — сказал я.
— О чём?
— Да вот об отъезде. Мне было непонятно: как это так уехать из Ленинграда? Всю блокаду провести здесь, а теперь взять и уехать.
Каргин ничего не ответил. Он прошёлся по комнате, бережно закрыл папку с рисунком завода, потом спросил:
— Так что же? Плохо у вас получается, товарищ Савин?
— Да, плохо, — ответил я, выдерживая его взгляд. — Я сам не понимаю, в чём дело. Я работал честно…
— Хотите, расскажу вам, что произошло? — предложил Каргин и, не дождавшись моего ответа, продолжал: — В редакцию заводской многотиражки приходит опытный, побывавший на фронте, способный журналист. Сотрудники смотрят с восхищением, как быстро и умело делает он то, что им приходится добывать ценой больших усилий. Они радуются, потому что свойственно советским людям радоваться при виде умелого работника. Но одного они тогда ещё не знали.
— Чего же? — прервал его я.
— Что вы не воин, не борец. Не обижайтесь, Савин, я говорю правду. Вы честный и преданный родине человек. Случись новая война — вы пойдёте на фронт в первый же день, верю. Но сейчас, в дни мира, вы неверно смотрите на нашу жизнь…
— В чём, в чём?!
— Сейчас скажу. Вы не видите острых углов в нашей жизни. Не видите противоречий…
— Противоречия?! — воскликнул я. — Вы ищете противоречия в народе, который был так един во время войны? В народе, который никогда ещё не был так сплочён, как теперь?! Про какие противоречия вы говорите? Ведь есть же разница между двадцатыми, тридцатыми годами и нынешним днём…
— Разница есть, и очень большая, — спокойно заявил Каргин. — Но и противоречия есть. Есть, Савин. И не придуманные, а реальные, в жизни нашей существующие противоречия, — ведь мы идём вперёд, боремся с рутиной, боремся с проникновением чуждых влияний… Ведь не в консервной же банке существуем мы, товарищ Савин!
Я молчал.
— А вы стоите на других позициях, — продолжал Каргин. — Вы не видите противоречий. Вам кажется, что острые углы, они… мягкие! Пригладил рукой — и нет угла, ровная поверхность! Вот спорят товарищи из лаборатории с Абросимовым. Вам кажется: нет базы для большого, резкого, принципиального спора. Разве Абросимов враг? Разве он не прошёл через испытания блокады? Вам бы занять позицию, вступить в борьбу на той или иной стороне, понять, что столкнулись не просто разные взгляды на технику, нет, — разные взгляды на жизнь! А вы становитесь «над схваткой», полагаете, что все разъяснится само собой… Вот вы и пытаетесь примирить непримиримоё, бежите с ведром заливать пожар. А его не надо тушить, Савин. Тут борьба идёт, острая, принципиальная! И большевик обязан решить, с кем он, на чьей стороне, и драться, драться! Вас демобилизовали из армии, но из рядов борцов за новое, против старого, вас никто не демобилизовывал! Вот и всё, что я хотел вам сказать. Скажите: какие острые вопросы вы подняли в газете, что нового открыли, против чего — пусть с опасностью для собственной репутации — дрались? Тысячи серьёзнейших недостатков на нашем заводе и тысячи примеров нового, советского, социалистического.
Я молчал.
— И вот, — продолжал Каргин, — ваши сотрудники, соседи по работе, заметили это, заметили раньше меня. И в них поднялось недовольство против вас. Ведь завод-то их родное дело!
Я уже давно перестал следить за ходом мыслей Каргина. Его слова прижимали меня к земле. Я ощущал их как что-то очень жёсткое, обрушивающееся на меня и не дающее перевести дыхание.
— Нет, нет, — заспешил я, боясь, что Каргин сейчас прекратит разговор и мы расстанемся, — я не только за этим к вам пришёл. Я хочу, должен рассказать вам… Лида… Лида ушла от меня, и мальчик… воспитанник — тоже. Я ничего не могу понять… У нас были неприятности, мелкие размолвки, но я никогда не думал, что из этого может вырасти такое… Вот её письмо, прочтите.
Я вытащил из кармана смятое Лидино письмо и протянул его Каргину.
— Так, — сказал Каргин, возвращая мне письмо, и добавил: — Вы видите, я был прав. — Потом он улыбнулся необычно доброй улыбкой. — Какая хорошая, настоящая женщина ваша жена.
— Но теперь она презирает меня! — воскликнул я. Некоторое время мы молчали.
Потом Каргин подошёл ко мне.
— Только не ставь заплаты там, где прорвалось, — этим не поправишь, не иди на компромисс. Продумай все заново. Займи правильное место в жизни, и всё вернётся. — Он хотел, видимо, что-то сказать, но передумал. — Иди-ка теперь домой, — посоветовал Каргин.
Мне стало не по себе при мысли, что я вернусь в пустую комнату.
— Мне хотелось бы ещё поговорить с вами, — начал было я, но Каргин решительно прервал меня:
— Не надо. Я понимаю тебя. С другими разговаривать иной раз легче, чем с самим собой. Но всё-таки рискни. Теперь тебе в самый раз поговорить со своей совестью.
Я вышел на улицу. Дождя уже не было. С Невы дул резкий ветер. Чуть покачивались фонари на мосту. «Что же делать? — думал я. — Я должен немедленно что-то предпринять, пока между нами не выросла пропасть». Но тут же в ушах моих прозвучали слова Каргина: «Только не ставь заплаты…»
Наконец я добрался домой. В комнате было пусто — ни Лиды, ни Коли. На секунду я почувствовал себя так, будто все люди ушли далеко-далеко, и я остался один.
Мне стало страшно от своего одиночества. Мне было необходимо увидеть Лиду, поговорить с ней. Я остановил себя уже у двери. «С чем я приду к Лиде? — подумал я. — С моим раскаянием и без Коли? Кому оно нужно, моё раскаяние?»
Открыл ящик письменного стола. Там, перевязанная бечевкой, лежала пачка моих фронтовых бумаг — блокнотов, тетрадок и среди них много Лидиных писем. Я медленно развязал пачку. Вот одно из её писем. Сорок второй год… Зима. Мы только что расстались, она отправила мне это письмо вдогонку. Пишет о том, что ей поручили организовать детский дом и она не знает, как это сделать: «Если бы ты, Сашенька, был рядом со мной, тогда у меня хватило бы сил на что угодно…» Вот другое письмо, из госпиталя, — её контузило взрывной волной. Вот из армии… «Ведь всё это было, было, — подумал я. — Была любовь, такая сильная, такая постоянная, что, казалось, нет ничего на свете, что могло бы поколебать её… Но оказалось, что есть. И поколебало её не то, что обычно колеблет любовь — измены, ревность, увлечения, — а нечто совсем, совсем другое…»
Я перебирал Лидины письма, подолгу не выпуская из рук каждое письмо, как вдруг заметил маленький старый блокнот, который уже очень давно не попадался мне на глаза. Я перелистал его, — это были фронтовые заметки периода, предшествующего моей первой поездке в Ленинград. «Как давно это было!» — подумал я, перелистывая страницы блокнота. Между блокнотными страницами — сложенный вдвое листок. Меня охватило чувство какой-то тревоги. Что-то очень важное связывалось в памяти моей с этим листком. Я развернул его. Там было написано только одно слово: «Пробьюсь».
Это было слово, написанное лейтенантом Андриановым за несколько часов до того, как его разбил паралич.
Я вскочил, чувствуя, что не могу больше оставаться один в комнате. Я должен быть среди людей, слышать человеческие голоса. Я схватил кожанку и выбежал из комнаты. До рассвета оставалось часа два. Улицы были ещё пустынны. Фонари на строительстве нашего дома не горели.
Тогда я подумал о Крайнове. Я хотел увидеть его. Он был именно тем человеком, который не удивился бы столь позднему приходу.
На стройке Крайнова не было, и я решил пойти к нему домой.
Я знал, где помещается его хибарка, и через несколько минут, пройдя по пахнущему извёсткой коридору, остановился у двери.
Постучал.
— Кто это?
— Это я, капитан, я, Савин. Ты не спишь?
— Сплю, — ответил Крайнов.
— Ты открой, — попросил я, — мне… Словом, я спать не могу и зашёл… — На словах всё выходило очень глупо.
За дверью послышался шорох. Потом дверь приоткрылась, я хотел уже войти, но на пороге показался Крайнов. Не давая мне войти, он вышел в коридор, притворив за собой дверь. Крайнов был в галифе, нижней сорочке и туфлях, надетых на босые ноги.
— Ну, чего там у тебя стряслось? — спросил Крайнов.
— Ничего, капитан, — ответил я. — Теперь мне и самому видно, что я, как дурак, зря поднял тебя среди ночи. Ты извини… Мне просто трудно было одному. Вот я и решил…
Он пристально посмотрел на меня…
— Ну что ж, посидим, коли так. К себе не приглашаю, беспорядок у меня. А вот на окошко, пожалуй, присядем.
Там, куда он показал, в конце коридора, не было никакого окошка. Просто виднелся провал в стене, который ещё не успели заделать. Мы подошли и уселись прямо на камнях. Здесь было относительно светло, — наступало серое утро.
— Так что же? — спросил Крайнов, похлопывая здоровой рукой по своему острому колену. — Бессонница, говоришь, и порошки не помогают?
— Да, — признался я, — бессонница. И мне бы ни о чём не хотелось сейчас говорить с тобой. Просто окажи мне услугу. Посиди вот так со мной. Не могу я сейчас быть один.
— Хорошо, — просто ответил Крайнов. Хотя он произнёс только одно слово, я сразу заметил, что тон его изменился, стал каким-то другим.
Некоторое время мы молчали. Стало ещё светлее. Туман, скрывавший Финский залив, рассеялся. Проехал переполненный автобус. На улице показались люди.
— Что ж думаешь делать, капитан? — спросил вдруг Крайнов, впервые называя меня капитаном. — Перевооружаться будешь или сманеврируешь?
Я молчал.
— А ты похудел, капитан, — продолжал Крайнов. — Оно так-то тебе лучше идёт.
Я не понимал, иронизирует он или говорит всерьёз.
— Знаешь, Крайнов, иной раз человек в сутки больше переживёт, чем за год, — сказал я, — вспомни фронт…
— Чего мне фронт вспоминать, когда мир перед глазами, — ответил он.
— За эти сутки… — начал было я, но Крайнов прервал меня:
— Ну, только не рассусоливай. Не надо. Сам понимаю. Не маленький. — Он встал и сказал: — Пойдём.
Он шёл вдоль коридора, не оглядываясь, и я шёл за ним. Подойдя к своей двери, он остановился и тихо проговорил:
— Вот и я тебе про фронт напоминаю. Лежишь ты в кювете, а над тобой «мессеры» волнами ходят, и думаешь ты: «Эх, помирать от дурацкой бомбы». И начинаешь ты вспоминать, сколько в жизни не сделал, и кажется тебе, что останься ты в живых — совсем иначе жить начнёшь.
— Ну, а потом? — спросил я.
— А потом? Кто как.
— Я тебя понял.
— Ну, а понял, так входи, — заявил Крайнов и открыл дверь.
Я вошёл. В кровати, сбитой из досок, под шинелью спал Коля.
В ту ночь мы впервые за долгое время сидели с Лидой, как прежде, у окна на диване, и, хотя за окном была не белая, а чёрная, осенняя ночь, на душе моей было светло. Я говорил:
— Давно-давно, в ту зиму, когда я искал тебя и пришёл на завод, мы сидели с вашими девушками и вспоминали о тебе. В это время в комнату вошёл Иванов. Проходя мимо меня, он спросил: «Лидией Федоровной интересуетесь?» Потом он сказал о тебе что-то хорошее, а на моё «спасибо» ответил: «Ей спасибо скажете». Он сказал «скажете» в будущем времени. Пожалуй, мне теперь самое время сказать тебе это спасибо.
— Не будем об этом, — попросила Лида.
— Нет, будем, — настойчиво возразил я. — Мы слишком долго молчали о самом главном. Ты на многое открыла мне глаза.
— Я? — прервала меня Лида и покачала головой. — Нет, Сашенька, это не я… Всё получилось так потому, что не могло получиться иначе… Это жизнь, сама жизнь. Помнишь наш разговор насчёт справедливости, помнишь? А вот это оказалось зеркалом. — Она взяла из моих рук листок лейтенанта Андрианова.
— Зеркалом? — переспросил я.
— Бывает так, что человек долго не видит зеркала, а потом находит осколок и замечает, что опустился, зарос бородой, обрюзг. И ему становится страшно… Как ты рассказывал: слепой и глухой?
— Да, а потом ещё паралич.
— И всё-таки… Когда он написал это слово?
— Вечером. После того как ослеп. А наутро мне показалось, что на его слепых глазах слезы. Я схватил его за руку, а он раскрыл мою ладонь и поводил по ней пальцем…
— Пальцем?
— Да, будто пишет. Это было то же самое слово…
Ленинград закладывал парки Победы. О том, что закладка этих парков состоится в самое ближайшее время, говорилось уже давно. Весь город знал, что предполагается нечто грандиозное. Рассказывали, например, что Московский парк, который разбит между Московским шоссе и Витебской железной дорогой, предполагается в сто раз больше Смоленского сада, самого большого в Московском районе. В этом парке будут десятки аллей, прудов, наполненных проточной водой, островов и даже искусственно созданный водопад. В другом парке, Приморском, на Крестовском острове, тоже замышлялось что-то огромное.
Так вот, мне очень хотелось, чтобы все мы втроём — Лида, Коля и я — участвовали в закладке этих парков. С каждым днём мне всё больше и больше хотелось этого. Казалось недопустимым, чтобы такое интересное и неповторимое в жизни Ленинграда событие прошло мимо нас. И каждое утро я с нетерпением развёртывал ленинградскую газету.
И наконец я прочёл:
«Дорогие товарищи!..
Свою победу над врагами отчизны наш народ стремится увековечить в памятниках, создаваемых творческими усилиями многих тысяч, коллективным, народным трудом…
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны трудящиеся Ленинграда решили создать городские парки Победы…»
И далее подробно сообщалось, что это будут за парки, и о том, что первым днём коллективной посадки парков назначено завтрашнее воскресенье…
Мы вышли из дому рано утром. Я нёс большую лопату, Коля — маленькую. Лида раздобыла у прораба Крайнова заступ. Было холодное осеннее утро. Стоял лёгкий туман, и небо от этого казалось очень низким. На улице было много людей. Они шли группами и в одиночку. У каждого в руках был какой-либо инструмент, многие несли маленькие деревца. Колька, как только увидел это, встревожился.
— А у нас нет деревьев.
— Ничего, — успокоил я, — там будет очень много деревьев, каждому хватит, вот увидишь.
Мы с трудом сели в трамвай. Он имел весьма необычный вид. С площадок и из окон выглядывали ветки деревьев. Трамвай казался зелёным.
— Ты знаешь, — сказал я Лиде, — сегодняшний день напоминает мне военный Ленинград.
— Почему? — удивилась Лида. — Мне, наоборот, кажется, у Ленинграда сегодня очень торжественный и мирный вид.
— Да, да, — согласился я, — и всё-таки он чем-то напоминает тот Ленинград… Я не знаю, какой именно период. Ты должна это лучше знать.
— Может быть, мартовский, — в раздумье ответила Лида, — когда все вышли на очистку улиц.
В трамвае пахло хвоей и берёзовым соком. Мы вышли за линией Обводного канала. Коля выпрыгнул первым и тотчас же закричал:
— Лес, лес идёт!
То, что мы увидели, и впрямь напоминало идущий лес. Из трамваев, один за другим подкатывающих к этой остановке, из соседних улиц, отовсюду, куда только хватал глаз, двигались толпы людей. В руках они несли деревья, кусты или просто маленькие ветки, расцвеченные всеми цветами осени, — зелёные, жёлтые, коричневые, и всё это походило на огромный лес, который по какому-то чуду получил возможность двигаться и сейчас идёт, заполнив собою ленинградские улицы.
— Лес, лес идёт! — зачарованно повторил Коля.
Мы тотчас же оказались в человеческой толпе, в самой гуще леса. Со всех сторон доносилась музыка, где-то пели песни, шелестели листья задеваемых друг о друга деревьев, и пряный непривычный в Ленинграде запах был настолько резкий, что начинала кружиться голова.
Стена идущих перед нами людей внезапно остановилась и стала редеть. Люди расходились по необозримому пространству парка, и я смог наконец разглядеть, где мы находились. Это было бескрайное поле. Но не простое поле. Любой побывавший на фронте человек сразу узнал бы эту землю. Мы стояли на поле сражения. Я видел следы ещё не засыпанных траншей, насыпные валы, ходы сообщения и противотанковые рвы, — все то, чем на многие тысячи километров была изранена наша земля. Я почувствовал тихое прикосновение к моей руке.
— Сашенька, — сказала Лида, — ты видишь? — Она, так же как и я, смотрела на эту обожжённую, истерзанную землю.
— Да, — ответил я. — если бы они знали…
— Они знали, — убеждённо проговорила Лида.
Мы проходили мимо обелиска, с которого недавно сняли покрывало. Я прочёл на ходу, разбирая не все слова: «Трудящиеся Ленинграда… Парк Победы…»
На земле были уложены бесконечные штабеля деревьев; вокруг, в жёлтой глине, в траве, возле затянутых плесенью прудов, торчали какие-то колышки, и на них был натянут шпагат. Я увидел, как со всех сторон сюда стремятся грузовики, наполненные все тем же зелёным грузом… Сотни спин склонились над землёй…
На всей территории парка мгновенно появилось множество похожих на дорожные указатели дощечек с надписью: «Электросила», «Завод имени Кирова», «Макаронная фабрика»… Я узнал участок нашего завода ещё издали, увидев множество знакомых лиц. Это был огромный участок, и на нём кое-где уже возвышались деревья. По линии вырытых воронок я угадал направление аллеи. Здесь работало уже много тысяч человек. Лиду узнал бригадир и крикнул:
— Ко мне, ко мне давайте! Чего вы там прохлаждаетесь? Рано ещё по этому парку гулять!
Нам отвели небольшой участок, который мы должны были засадить дубками и остролистым клёном. Деревья лежали тут же, неподалёку. Бригадир торопливо объяснил нам, что и как надо делать. Я, Лида и Коля оказались в одном ряду. Я сказал Коле, чтобы он помогал Лиде, но он заявил, что хочет сажать своё дерево.
Копать было очень трудно, ноги вязли в глине, и лопата мгновенно стала тяжёлой. Через несколько минут я стал мокрым и снял кожанку. Лида работала рядом. Ей тоже стало жарко, и она расстегнула пальто. Коля копал своей маленькой лопатой. Ему было трудно, земля не поддавалась, но, когда я попытался ему помочь, Коля крикнул:
— Нет, я сам, я сам, дядя Саша!
Солнце стояло высоко в небе, туман давно рассеялся, и казалось, что наступил тёплый летний день. Мне не терпелось посадить первое дерево, и я работал без устали. Наконец лунка была готова, и я, выбрав из кучи лежащих деревьев молодой дубок, установил его в лунке, расправил корни и стал засыпать землёй. Кончив работу, я торжествующе посмотрел на Лиду, но она тоже заканчивала посадку своего дерева и тоже смотрела на меня радостным, довольным взглядом.
— Отдохнём, пожалуй, минут пять, — задыхаясь, предложила Лида, — с непривычки тяжело. — Она вытерла ладонью мокрый лоб.
Мы уселись втроём на куче еловых веток. И вдруг я ощутил такую радость, такое удовлетворение при виде посаженных нами деревьев, какого не испытывал уже очень давно. Я сказал:
— Вот, Лидуша, пройдут годы, и когда-нибудь мы придём в этот парк и будем отыскивать наши деревья… А Колька доживёт до того времени, когда его дубок превратится в огромный, могучий дуб… Есть такая поговорка: кто родил сына или посадил дерево, тот недаром прожил свою жизнь.
— Пожалуй, этого мало, — улыбаясь, проговорила Лида, — но это очень красивая пословица. Как ты думаешь: быстро вырастут эти деревья?
— Быстро, — убеждённо ответил я, — на такой земле… — Я хотел сказать: на земле, «политой кровью», но не смог произнести этих слов. Да и не нужно было. По тому, как потемнели глаза Лиды, я почувствовал, что она поняла меня.
В этот момент я увидел, как издали, вдоль будущей аллеи, быстро идёт человек. Он шёл широкими шагами, ветер распахивал полы его пальто, и сапоги были доверху измазаны глиной. Ещё не увидев его лица, я догадался, что это Каргин, и мне очень захотелось, чтобы он обязательно увидел нас втроём за работой.
Я боялся, что Каргин пройдёт мимо, и хотел было уже окликнуть его, но в этот момент он посмотрел в нашу сторону.
— А-а! — воскликнул Каргин, подходя к нам. — Уже на отдыхе?
— Трудно с непривычки, — сказала Лида, поднимаясь ему навстречу.
Каргин пожал ей руку.
— Много посадили, Василий Степанович? — спросил я.
— Немного, — ответил он и добавил с неожиданным задором: — Четыре дубка и несколько кленов. Меня там на соревнование вызвали. — Он посмотрел на Колю и спросил: — Ваш?
— Наш, — ответил я.
Каргин резким движением подхватил Колю на руки.
— Ленинградец? — спросил он его.
Коля серьёзно посмотрел ему в лицо и ответил:
— Ленинградец. А вы?
— Я тоже, — рассмеялся Каргин, опуская Колю на землю. Каргин стал между мной и Лидой и, обняв нас, сказал:
— Наконец-то нашлось настоящее применение дереву. На войне-то ведь деревья не в счёт. Есть балки, доски, материал для блиндажей, для завалов… Деревьям на войне худо — артиллерия их бьёт, и вообще. А сейчас… Ведь здесь не просто парк закладывается — здесь будущее закладывается.
Он протянул нам руки.
— Ну, будьте счастливы! — Усмехнулся и добавил с шутливой угрозой: — Попробуйте только быть несчастливыми! Нет у вас на это прав! — И, повернувшись, зашагал дальше.
Мы молчали. Только теперь, осмотревшись, я увидел, что за эти несколько минут, пока мы отдыхали, вокруг вырос небольшой лес. Из группы расположившихся неподалёку от нас людей доносился голос:
— А там будет живая изгородь из акаций и жимолости. А там — лужайка, а вокруг неё розы. Пруды сольются в широкую, извилистую реку. А для берегов привезут серебристую иву…
Голос замолк. Стало тихо. Я услышал дуновение первого ветра, набежавшего на только что родившийся лес.
1944–1946



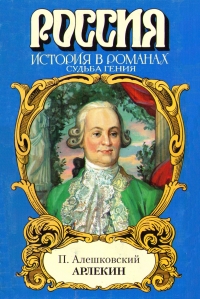

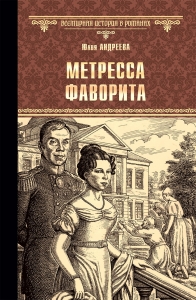

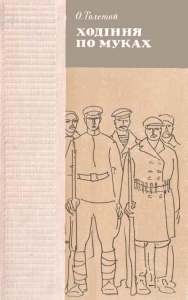
Комментарии к книге «Мирные дни», Александр Борисович Чаковский
Всего 0 комментариев