Достоевский Федор Михайлович Письма (1880)
834. В. П. ГАЕВСКОМУ
3 января 1880. Петербург
Января 3/80 г.
Многоуважаемый Виктор Павлович,
Чтоб не вышло опять какого-либо недоразумения, спешу по возможности заранее предуведомить Вас, что на 2-м чтении в пользу Литературного фонда, о котором Вы писали мне и сами потом говорили (буде таковое состоится), я, с моей стороны, принять участия не могу. Работы у меня оказалось теперь столько, что я и сам не предполагал. Я занят день и ночь и ни одного часу не могу упустить, а тут целый день, да еще нервного расстройства, мешающего мне работать. А потому не могу и уведомляю Вас о том с сожалением.
Искренно преданный
Ф. Достоевский.
835. H. A. ЛЮБИМОВУ
8 января 1880. Петербург
Петербург. 8 января/80 г.
Милостивый государь,
многоуважаемый Николай Алексеевич,
Во-первых, поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам всего самого лучшего. Убедительнейше прошу передать мое приветствие и поздравление многоуважаемому Михаилу Никифоровичу.
Письмо это пока только уведомление: книга 9-я "Карамазовых" почти вся уже готова, и на днях вышлю. Внезапная болезнь жены моей, моей помощницы в работе (она стенографирует с написанного мною и потом переписывает), поставила меня вдруг в самое затруднительное положение, ибо, не будь этой беды надо мной, уже теперь бы Вам всё выслал. - Эта 9-я книга к тому же вышла несравненно длиннее, чем я предполагал, сидел я за нею 2 месяца и отделывал до последней возможности тщательно. Всего будет, без малого разве, до 5-ти печатных листов. Что делать! Зато на столько же, неминуемо, сократится 4-я часть, ибо сказанное в "Предварительном следствии", в 4-й части, естественно, может быть теперь передано уже не в подробности. Я думаю, что 11-го января вышлю Вам 4 листа и 12-го Вы получите их в редакции. Затем остальное, около 3/4-й листа перешлю дня три спустя, так что полагаю, что и этот кончик прибудет в редакцию не позже 15-го и maximum 16-го января. Всё это пишу утвердительно, если даже и самому придется всё переписывать (ибо уже всё написано).
Задерживают тоже разные мелочи, например, надо перечитать всё одному бывшему (провинциальному) прокурору, чтоб не случилось какой важной ошибки, или абсурда, в изложении "Предварительного следствия", хотя я писал его, всё время советуясь с этим же прокурором. - Таким образом, к 16-му в редакции будет около 5 листов, то есть вся законченная 9-я книга, из коих 4 листа прибудут в редакцию не 16-го, а 12-го января. - Боюсь, что Вы не найдете возможным выслать мне корректур (а я бы их вмиг отсмотрел и обратил назад). - Ну вот пока и всё, о чем надо было уведомить. О дальнейшем напишу при отправке.
А пока примите уверение в моем совершенном уважении и преданности.
Покорный слуга Ваш
Ф. Достоевский.
836. С. П. ХИТРОВО
9 января 1880. Петербург
9 января/80.
Многоуважаемая и дорогая Софья Петровна,
Простите, ради бога - прийти не могу. Готовлю к завтраму отослать часть рукописи в "Русский вестник". Всю ночь напролет буду сидеть. - А конец еще и не дописан, трое суток еще просижу в работе и 15-го сдам, вероятно, и конец на почту.
Сам хожу чуть не помешанный. Жена же простудилась 1-го января, а 4-го слегла в постель и теперь лежит, лечится, ездит доктор, простудилась, кашель и лихорадка. И во всей моей жизни страшный беспорядок. Пока я и жена Вам кланяемся, скоро приду. Передайте графине всё, что сами найдете сказать ей за меня лучшего, - вполне надеюсь на Вас. Часто о Вас думаем.
Ваш весь Ф. Достоевский.
837. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ (слушательнице высших женских курсов)
15 января 1880. Петербург
15 января 1880 г.
Прежде всего простите, что замедлил ответом: две недели сряду сидел день и ночь за работой, которую только вчера изготовил и отправил в журнал, где теперь печатаюсь. Да и теперь от усиленной работы голова кружится. На письмо же Ваше, что могу я ответить? На эти вопросы нельзя отвечать письменно. Это невозможно. Я большею частью дома от 3 до 5 часов пополудни, большею частью, хоть и не наверно каждый день. Если захотите, то зайдите ко мне, и хоть у меня времени вообще мало, но глаз на глаз несравненно больше и увидишь и скажешь, чем на письме, где все-таки отвлеченно. Ваше письмо горячо и задушевно. Вы действительно страдаете и не можете не страдать. Но зачем Вы падаете духом? Не Вы одни теряли веру, но потом спасли же себя. У Вас разрушили, Вы пишете, веру во Христа. Но как же Вы не задали себе прежде всего вопроса: кто люди-то эти, которые отрицают Христа, как Спасителя? То есть не то я говорю, хорошие они или дурные, а то, что знают ли они Христа-то сами, по существу? Поверьте, что нет, - ибо, узнав хоть несколько, видишь необычайное, а не простое: похожее на всех хороших или лучших людей существо. Во-вторых, все эти люди до того легковесны, что даже не имеют никакой научной подготовки в знании того, что отрицают. Отрицают же они от своего ума. Но чист ли их ум и светло ли их сердце? Опять-таки не говорю, что они дурные люди, но заражены общей современной болезненной чертой всех интеллигентных русских людей: это легкомысленным отношением к предмету, самомнением необычайным, которое сильнейшим умам в Европе не мыслилось, и феноменальным невежеством в том, о чем судят. Уж эти одни соображения могли бы, кажется, Вас остановить в отрицании Вашем, по крайней мере, заставить задуматься, усомниться. Я знаю множество отрицателей, перешедших всем существом своим под конец ко Христу. Но эти жаждали истины не ложно, а кто ищет, тот наконец и найдет.
Благодарю Вас очень за теплые слова Ваши ко мне и обо мне. Жму Вашу руку и, если захотите, до свидания.
Ваш Ф. Достоевский.
838. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
21 января 1880. Петербург
Петербург, 21 января 80.
Многоуважаемый и любезнейший Виктор Феофилович!
Давно не писал к Вам и давно от Вас ничего не получал. С моей стороны причина одна: страшная каторжная работа, свыше сил моих. В последние три месяца написал и сдал до 12 печатн<ых> листов! Расстроил здоровье, запустил всё: визиты, посещения, письма. Вчера отправил последние 5 листов моего романа в "Русский вестник" и теперь принимаюсь за последнюю часть романа. А пока имею неделю или даже 10 дней отдыха.
С месяц назад или ближе Вы мне прислали Ваше объявление и просили поместить его в "Новом времени". Этого я положительно не мог сделать. В виду Вас и "Р<усского> гражданина" "Новое время" могло мне отказать, и тогда у меня явились бы с ними неприятности. Слышал, однако, что в "Новом времени" Ваше объявление прошло другим путем. Я очень рад тому, но меня все-таки не вините: не 10 же рублей я бы пожалел. Кстати, на днях приходил Тришин, и 300 руб. я ему уплатил уже окончательно.
Встретил сегодня Марковича; он сообщил мне, что в "Московских ведомостях", кажется, от 19-го января, а может быть 18-го, есть статья о "Русском гражданине" и о Вас. Выписано из него о покушении на жизнь императора в Москве, и статья похвалена за патриотизм. Это очень хорошо от "Московских ведомостей". Я статью не читал, но постараюсь достать № и прочту. Может быть, Вы о ней уже знаете. Вот Вам случай помириться с Катковым. Впрочем, Вы сами знаете, как лучше поступить, я лишь из всегдашнего моего участия к Вам говорю.
К. П. Победоносцева почти не видал, Засецкую тоже. Ни к кому не хожу. У нас здесь говорят, что Цитович будет издавать (скоро) политическую газету у нас здесь, в Петербурге, ежедневную, большую. Это бы хорошо, если сумеет взяться за дело. Но издавать брошюры одно дело, а газету - другое. А хорошо, кабы был успех.
Напишите о себе и о своих теперешних планах, о состоянии дела. Не смотрите, что я туго отвечаю, слишком уж заработался. Каждый день сам укорял себя, что не отвечаю, но не мог.
Итак, до свидания на письмах! Здоровье мое от Эмса поправилось, но я слишком уж устал.
Только что сейчас развернул "Варшавский дневник" (который мне высылают) и прочел статью от 17-го января, в которой редакция стоит за истязание детей. Осмеивают идею об обществе покровительства детям. Стоять за детей истязуемых - значит по-ихнему разрушать семейство. Какая нелепость! Но то семейство, где отцы мажут 4-летнюю девочку г<...>, кормят ее г<...> и запирают в морозную ночь в нужник
- то семейство разве святыня, разве уж оно не разрушено? Какая неловкость с их стороны! От них сейчас отвернутся читающие после этого. А жаль, кн<язь> Голицын, кажется, человек порядочный и хочет добра. Кто же это у него пишет?
До свидания, жму Вашу руку.
Ваш по-прежнему
Ф. Достоевский.
Адресс тот же: Кузнечный Переулок, дом 5, кв. 10. Анна Григорьевна Вам кланяется и искренно желает Вам всего лучшего. С Мещерским совсем не вижусь. Среды прекратились.
P. S. Какая же это, однако, статья Ваша, о которой говорят "Московские ведомости". Разве Вы выдали еще №? Я не получил.
839. П. И. ВЕЙНБЕРГУ
29 января 1880. Петербург
29 января/80.
Милостивый государь Петр Исаевич,
В субботу 2 февраля к 2-м часам пополудни буду в Вашей гимназии и прочту всё, что Вам будет угодно назначить. Это хорошо, что книги у Вас и мне не надо их брать с собою. Извещаю для твердого сведения. Простите, что не удалось известить вчера.
Глубоко уважающий Вас и всегда преданный
Федор Достоевский.
Р. S. В случае какой-нибудь слишком жестокой бури, наводнения и проч., разумеется, не в состоянии буду прибыть. Но вероятнее, что всё обойдется благополучно.
840. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
29 января 1880. Петербург
Голубчик Аня, не можешь ли ты отослать это заказное письмо Любимову сегодня же, не медля. В нем пишу, о чем знаешь.
Твой Ф. Достоевский.
29-го 3 3/4 утра. Бретцеля можно позвать от 2-х до 8-и, но не позже.
841. А. Н. СНИТКИНОЙ
31 января 1880. Петербург
Петербург. 31 января/80 г.
Милостивая государыня многоуважаемая Анна Николаевна,
Сейчас получил Ваше письмо. Вы спрашиваете о здоровье Ани и очень беспокоитесь. Она была больна с 1-го января простудою и острым (то есть временным) катаром легких. Но уже несколько дней как она выходит, хотя всё еще немного кашляет. Она говорит, что писала Вам, что уже выздоровела, но Вы, верно, не успели еще получить ее письма, когда мне писали. В этом же письме она пишет Вам опять.
В квартире нашей помещение для Вас есть, и Вы нас не стесните. Очень хорошо будет, если Вы приедете, так как давно уже с ней не видались.
Дела ее по торговле идут пока помаленьку. Во всяком случае не мучайте так себя насчет ее здоровья. Передайте мой искренний поклон Ивану Григорьевичу и его супруге. Деток тоже поцелуйте. Наши детки, слава богу, здоровы и учатся, очень выросли. Примите уверение в глубочайшем и искреннем уважении Вам сердечно преданного
Федора Достоевского.
842. П. И. ВЕЙНБЕРГУ
17 февраля 1880. Петербург
17 февраля.
Милостивый государь Петр Исаевич,
Читать на вечере я согласен, если только в пользу детей. А что именно читать - можно впоследствии уговориться. Когда надо будет, Вы, конечно, соблаговолите мне дать знать. В ожидании позвольте пожать Вам руку за то, что стараетесь о детях. Вас глубоко уважающий
Ф. Достоевский.
843. А. Е. КОМАРОВСКОЙ
19 февраля 1880. Петербург
Многоуважаемая графиня,
Изо всех сил постараюсь быть, если только какой-нибудь самый экстренный случай (а таковые могут явиться) не задержит меня. Во всяком случае, сочту долгом исполнить Ваше желание прежде всего другого.
Примите уверение в глубочайшем моем уважении,
Ваш слуга
Федор Достоевский.
19 февр<аля>/80.
844. П. П. КАЗАНСКОМУ
23 февраля 1880. Петербург
23 февраля/80
Милостивый государь Павел Петрович,
Полчаса после Вас я опомнился и сознал, что поступил с Вами грубо и неприлично, а главное, был виноват сам, - а потому и пишу это, чтоб перед Вами извиниться вполне. Если пожелаете, то приеду извиняться лично; но замечу, однако, (как необходимую подробность), что г-на Шера я назвал чер<вонным> валетом отнюдь не в прямом (юридическом) значении, а просто выбранил его первым попавшимся словом, не сопрягая с ним значения прямого, какое имеет слово валет. Это отнюдь.
Грубость же, которую сказал Вам в лицо, я выговорил уже после Вашего обращения ко мне с словами: "После того Вы сами червонный валет". С словами, обращенными Вами ко мне.
Но этими объяснениями не оправдываюсь, равно как и болезненным моим состоянием, которое вполне сознаю, а наконец, и беспокойным состоянием нашего времени вообще, мысль о котором приводит меня в болезненное расстройство, что было уже неоднократно в последние дни. Все эти объяснения (как оправдания) были бы для меня постыдными. Я виноват вполне, и так, что никакими объяснениями и сам не хочу себя оправдывать.
Но если я прошу прощения, так вполне и искренно то желал бы, взамен, лишь одного, милостивый государь: именно чтоб Вы обратили внимание на мотивы, которые заставили меня так поступить: ведь не из страха же перед Вами личного? Что могли бы Вы мне сделать страшного и чем бы могли меня испугать? Не из заботы же, наконец, об этом несчастном наследстве, которое никак не может разделиться (хоть бы его вовсе не было)? И даже не из боязни же, наконец, общего мнения обо мне делаю это: характер мой больной знают очень многие, хотя очень многие, чрезвычайно уважаемые всеми люди, любят меня и несмотря на мой нелепый характер, прощают мне мои выходки вероятно, ради чего-либо другого во мне заключающегося. Но об этом не к месту: я прямо хочу лишь сказать, что если прошу у Вас теперь прощения, то делаю это потому, что так мне велит моя совесть и что слишком мучают ее угрызения. Вот как хотелось бы мне, чтоб Вы поняли. - Еще раз подтверждаю, что ругательные слова были лишь ругательства и что я не сопрягал с ними никакого фактического значения. Пустые слова, в которых прошу прощения.
А засим, милостивый государь, зависеть будет от Вас: извинить меня или нет? Я ведь не претендую вовсе на то, что Вы меня почему-либо должны извинить ввидах того, что я написал такое повинное письмо. Вовсе нет. Поступите, как Вам будет угодно.
Примите уверение в моем совершенном уважении.
Ваш покорный слуга
Ф. Достоевский.
845. П. И. ВЕЙНБЕРГУ
6 марта 1880. Петербург
Буду читать или отрывок из жизнеописания старца Зосимы ("Братья Карамазовы"), "Русский вестник" 79 года, или из романа "Подросток", рассказ о купце, часть
3-я, стр. 54-67.
Ф. Достоевский.
846. В. П. ГАЕВСКОМУ
21 марта 1880. Петербург
21 марта/80
Многоуважаемый Виктор Павлович,
Извините, ради бога, что не сейчас отвечаю Вам. Но надо было справиться у студентов университета, которым я обещал читать на предстоящем публичном (в пользу студентов) вечере, когда именно их чтение, так как они приглашали меня 5 дней тому назад, тоже на 30 марта. Эти два дня я ждал, что кто-нибудь из них придет, но они не приходили. Сегодня же вечером на публичн<ом> чтении в пользу педагогичек один студент объявил мне, что чтение их назначено на 28 марта. Итак: если чтение Литер<атурного> фонда 30, а у тех действительно 28, то я могу участвовать (1) в чтении для Литературного фонда. (2) Полагаю, впрочем, что студентское чтение и Ваше ни в каком случае не сойдутся в один и тот же день, так что на меня Вы бы могли рассчитывать. Но вот еще обстоятельство неблагоприятное: "Великого инквизитора" попечитель позволил мне прочесть месяца 1 1/2 назад на лит<ературном> чтении, тоже бывшем в пользу студентов университета. Сам попечитель присутствовал на чтении. Но после чтения он мне объявил, что, судя по произведенному впечатлению, он впредь мне его запрещает читать. Таким образом, "Инквизитора" безусловно нельзя теперь читать. Стало быть, надо взять что-нибудь другое. Но я столько раз читал в последнее время, что перечитал решительно всё, и буквально не знаю, что выбрать. А потому об этом надо бы уговориться, тем более что надо прочесть что-нибудь очень короткое, так как у Вас и без меня чрезвычайно много участников. А потому решите о сем уже сами.
Искренно преданный и покорнейший
Ф. Достоевский.
(1) далее было: в Ва<шем> (2) далее было: если
847. Б. Б. ПОЛЯКОВУ
26 марта 1880. Петербург Телеграмма
Разрешаю Полякову дать Вам Шеру передоверие продать Пехорку согласно заказному письму жены моей Вам от 12 сего (1) марта.
Федор Достоевский.
Москва, Покровка, Лялин переулок, д. Ляшкевича. (2)
(1) 12 сего вписано рукой А. Г. Достоевской (2) адрес вписан А. Г. Достоевской
848. H. A. ЛЮБИМОВУ
9 апреля 1880. Петербург
Петербург апреля 9/80.
Милостивый государь, многоуважаемый Николай Алексеевич,
Имею к Вам одну покорнейшую и настоятельнейшую просьбу: когда редакция станет высылать мне корректуру апрельской книжки "Р<усского> вестника", то пусть вышлет всю эту корректуру в 2-х экземплярах, то есть в 2-х оттисках. Всю лишнюю цену, которую возьмет почтамт, поставьте на мой счет. - Здесь затевается (на Святой) чтение в пользу Славянского благотворительного общества, (1) и меня просят прочесть что-нибудь из этого апрельского № "Карамазовых", еще неизвестного публике. Может быть, и можно будет что-нибудь прочитать с необходимыми сокращениями. Вот для чего и нужны мне теперь лишние оттиски.
Есть и еще одно маленькое обстоятельство, которое капельку меня смущает: это то, что у меня, в этой книге, "Маленькие мальчики", упомянуто о прогимназии. И вот, уже отправив к Вам рукопись, я вдруг сообразил, что у меня все эти мои мальчики одеты в партикулярные платья. Я справился здесь у знающих дело, и мне сказали, что 13 лет тому назад (время действия в моем романе) гимназисты имели все-таки какую-то форму, хоть и не теперешнюю. Приготовительные же классы (особенно, если дети бедных родителей) могли ходить и в партикулярных платьях. Пальтишки же были какие угодно, равно и фуражки. Но так ли это? И не нужно ли будет что-нибудь изменить насчет платья в корректуре. Если нужно, черкните мне одну строчку сверху 1-го листочка корректуры, и я изменю, что можно. Если же не очень нужно, то сойдет и так.
Очень прошу исполнить эти обе мои просьбы. Надеюсь, что письмо мое не запоздает.
Ради бога, простите помарки в письме, не сочтите за небрежность и примите уверение в глубочайшем уважении и преданности Вашего покорнейшего слуги.
Ф. Достоевский.
(1) было: Литературного фонда
849. С. А. ЮРЬЕВУ
9 апреля 1880. Петербург
Петербург, апреля 9-го 1880.
Глубокоуважаемый С<ергей> А<ндреевич>.
Я действительно здесь громко говорил, что ко дню открытия памятника Пушкина нужна серьезная о нем (Пушкине) статья в печати. И даже мечтал, в случае если б возможно мне было приехать ко дню открытия в Москву, сказать нем несколько слов, но изустно, в виде речи, предполагая, что речи в день открытия непременно в Москве будут (в своих местах) произнесены. Но в настоящее время я так связан моею нескончаемою работой по роману, который печатаю в "Р<усском> вестнике", что вряд ли найду сколько-нибудь времени, чтобы написать что-нибудь. Написать же - не то, что сказать. О Пушкине нужно написать что-нибудь веское и существенное. Статья не может уместиться на немногих страницах, а потому потребует времени, которого у меня решительно нет. Впоследствии может быть. Во всяком случае ничего не в состоянии, к чрезвычайному сожалению моему, обещать положительно. Всё будет зависеть от времени и обстоятельств, и если возможно будет, то и на майскую книжку "Р<усской> мысли" пришлю. Журнал Ваш читаю с большим любопытством и искренно желаю Вам наибольшего успеха. Благодарю за присылку его. Сотрудничать же в нем сочту за великое удовольствие, - вот только бы время. Простите, ради бога, за помарки, не сочтите за небрежность.
<Ф. Достоевский.>
850. Е. Ф. ЮНГЕ
11 апреля 1880. Петербург
Петербург 11 апреля/80.
Милостивая государыня глубокоуважаемая Катерина Федоровна,
Простите, что слишком долго промедлил Вам отвечать на прекрасное и столь дружественное письмо Ваше, не сочтите за небрежность. Хотелось ответить Вам что-нибудь искреннее и за душевное, а ей-богу, моя жизнь проходит в таком беспорядочном кипении и даже в такой суете, что, право, я редко когда принадлежу весь себе. Да и теперь, когда я наконец выбрал минуту, чтоб написать Вам, - вряд ли, однако, я в состоянии буду написать хоть малую долю из того, что сердце бы хотело Вам сообщить. Мнение Ваше обо мне я не могу не ценить: те строки, которые показала мне, из Вашего письма к ней, Ваша матушка, слишком тронули и даже поразили меня. Я знаю, что во мне, как в писателе, есть много недостатков, потому что я сам, первый, собою всегда недоволен. Можете вообразить, что в иные тяжелые минуты внутреннего отчета я часто с болью сознаю, что не выразил, буквально, и 20-й доли того, что хотел бы, а может быть, и мог бы выразить. Спасает при этом меня лишь всегдашняя надежда, что когда-нибудь пошлет бог настолько вдохновения и силы, что я выражусь полнее, одним словом, что выскажу всё, что у меня заключено в сердце и в фантазии. На недавнем здесь диспуте молодого философа Влад<имира> Соловьева (сына историка) на доктора философии я услышал от него одну глубокую фразу: "Человечество, по моему глубокому убеждению (сказал он), знает гораздо более, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве". Ну вот так и со мною: я чувствую, что во мне гораздо более сокрыто, чем сколько я мог до сих пор выразить как писатель. Но всё же, без лишней скромности говоря, я ведь чувствую же, что и в выраженном уже мною было нечто сказанное от сердца и правдиво. И вот, клянусь Вам, сочувствия встретил я много, может быть, даже более, чем заслуживал, но критика, печатная литературная критика, даже если и хвалила меня (что было редко), говорила обо мне до того легко и поверхностно, что, казалось, совсем не заметила того, что решительно родилось у меня с болью сердца и вылилось правдиво из души. А потому можете заключить, как приятно должна была подействовать на меня такая тонкая, такая глубокая оценка меня как писателя, которую прочел я в Вашем письме к Вашей матушке.
Но я всё о себе, хотя трудно не говорить о себе, говоря с таким глубоким и симпатичным мне критиком моим, которого вижу в Вас. - Вы пишете о себе, о душевном настроении Вашем в настоящую минуту. Я знаю, что Вы художник, занимаетесь живописью. Позвольте Вам дать совет от сердца: не покидайте искусства и даже еще более предайтесь ему, чем доселе. Я знаю, я слышал (простите меня), что Вы не очень счастливы. Живя в уединении и растравляя душу свою воспоминаниями, Вы можете (1) сделать свою жизнь слишком мрачною. Одно убежище, одно лекарство: искусство и творчество. Исповедь же Вашу, теперь по крайней мере, не решайтесь писать, это будет, может быть, Вам очень тяжело. - Простите за советы, но я бы очень желал Вас увидеть и сказать Вам хоть два слова изустно. После такого письма, которое Вы мне написали, Вы, конечно, для меня дорогой человек, близкое душе моей существо, родная сестра по сердцу - и не могу же я Вам не сочувствовать.
Что Вы пишете о Вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся (2) в такой силе, как у Вас. Вот и поэтому Вы мне родная, потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это - сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы Вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое-великое самомнение. Но всё-таки эта двойственность - большая мука. Милая, глубокоуважаемая Катерина Федоровна - верите ли Вы во Христа я в его обеты? Если верите (или хотите верить очень), то предайтесь ему вполне, и муки от этой двойственности сильно смягчатся, и Вы получите исход душевный, а это главное.
Простите, что написал такое беспорядочное письмо. Но если б Вы знали, до какой степени я не умею писать писем и тягочусь писать их. Но Вам всегда буду отвечать, если Вы еще напишете. Нажив такого друга, как Вы, не захочу потерять его. А пока прощайте, всем сердцем преданный Вам друг Ваш и родной по душе
Ф. Достоевский.
Простите за наружный вид письма, за помарки и проч<ее>.
(1) далее было: стать еще (2) в подлиннике: встречающейся
Другая редакция:
[850. Е. Ф. ЮНГЕ
10 апреля 1880. Петербург
Милостивая государыня
многоуважаемая Катерина Федоровна, простите, что слишком промед<лил> <не закончено>]
851. H. A. ЛЮБИМОВУ
13 апреля 1880. Петербург
Петербург. 13 апреля/80.
Милостивый государь многоуважаемый Николай Алексеевич,
Благодарю Вас за Ваше сегодня мною полученное письмо. Благодарю за обещанную высылку корректур и, главное, за Ваше суждение об этой девятой (1) книге. Рад, что Вам понравились мои мальчики. Мнение же Ваше о Коле Красоткине сам вполне готов разделить. Но вот беда: я в корректуре не исправил и сегодня корректуру уж отослал. Будет ли, в таком случае, возможность поправить мою ошибочку и будет ли, наконец, время, если б Вы сами, многоуважаемый Николай Алексеевич, захотели взять на себя это исправление? И не будет ли хлопотливо для Вас (если б и оказалось время), ибо во многих местах в книге надо, в таком случае, переменить цифру, то есть накинуть Коле Красоткину один год. Во-1-х, при начале биографии, на 1-й странице, где говорится о вдове Красоткиной, что муж ее умер столько-то лет назад. (Если поправить, то поместить 13 лет.) Во-2-х, на железной дороге с мальчиками, в том месте, где Коля сердится, что его принимают за маленького эти "четырнадцатилетние" - надо будет переменить и поставить 15-летние. Наконец, когда он стоит у забора и ждет Алешу и думает о своем малом росте: надо сказать, что Боровиков (забыл фамилию) и 13 лет, да выше его ростом (вместо 12, поставленных у меня). Наконец, когда говорит с Алешей, то надо вставить вместо того, когда он говорит про свои лета: 14, 14, а не тринадцать, через 2 недели 14. А Алеша должен спросить его вместо: "вам кажется, 12 лет?" - "вам кажется только 13 лет?" - Может быть и в других местах придется кое-где выправить. Одним словом, я вполне согласен накинуть год (всего один), но в том, непременно, смысле, что ему 13 лет, но почти 14, то есть через две недели 14. Этого, мне кажется, довольно. И потому, если только возможно еще это сделать, то есть есть время и Вы захотели бы это исправить сами, то чрезвычайно бы меня одолжили. - Жена моя (которая Вам от души кланяется) еще раньше Вашего сделала мне точь-в-точь такое же замечание, как Вы.
А в заключение - Христос воскресе и примите уверение в моем самом горячем уважении и глубокой преданности. Ваш покорнейший слуга
Ф. Достоевский.
Р. S. Убедительнейше прошу передать от меня поздравление с всемирным христианским праздником и глубокоуважаемому Михаилу Никифоровичу. Передовые "Моск<овских> ведомостей" читаю с наслаждением. Они производят глубокое впечатление.
(1) описка, следует: десятой
852. К. Н. БЕСТУЖЕВУ-РЮМИНУ
17 апреля 1880. Петербург
Вот, многоуважаемый Константин Николаевич, корректура "Карамазовых", только что сейчас полученная. Читать буду по 605 страницу с начала, и притом всё очерченное мною на полях будет в чтении пропущено.
Крайне сожалею, что не удалось застать Вас.
Ваш весь Ф. Достоевский.
17 апреля/80, четверг.
853. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
21 апреля 1880. Петербург
21 апреля/80.
Любезнейший брат Николай Михайлович, благодарю тебя за письмецо (которое я получил лишь сегодня). Вот уже год, как мы не видались. Не знаю, что это значит: система ли у тебя такая взята или что-нибудь другое. Между тем жизнь наша на конце и до того, что, право, некогда прилагать на практику даже самые лучшие системы. Я всегда помню, что ты мне брат, но людей во многом отказываюсь понимать.
После Святой, вероятно, вскорости куда-нибудь уедем. К тому же работать надо, а я живу здесь в такой суете, что и выкарабкаться из нее не могу, работать даже не могу.
Здоровье мое не столь хорошо. Анна Григорьевна тоже не совсем здорова. Она тебе кланяется и благодарит за поздравления.
Деточки, слава богу, здоровы.
Желаю здоровья и тебе.
Вчера поехал было для самых необходимейших выездов и, кажется, простудился. От всей души желаю тебе здоровья и крепко жму тебе руку. Христос воскресе!
Твой брат Ф. Достоевский.
(1) далее было: даже
854. H. A. ЛЮБИМОВУ
29 апреля 1880. Петербург
Петербург, Апреля 29/80.
Милостивый государь многоуважаемый Николай Алексеевич,
Поверьте, что мне слишком тяжело писать Вам это письмо:
Как я не бился, а на майский (будущий) № "Русского вестника" опять ничего не могу доставить. Но через неделю уезжаю с семейством в Старую Руссу и в 3 месяца кончу весь роман. Таким образом продолжение может начаться (если одобрите) с июньской книжки, кончится четвертая часть в августовской книжке, и затем будет на сентябрьскую книжку еще заключение, 1 1/2 листа печатных (несколько слов о судьбе лиц и совершенно отдельная сцена: похороны Илюши и надгробная речь Алексея Карамазова мальчикам, в которой отчасти отразится смысл всего романа). Не мог же написать теперь к майской книжке потому, что здесь буквально не дают писать, и надо скорее бежать из Петербурга. Виноваты же в том опять-таки "Карамазовы". По поводу них ко мне ежедневно приходит столько людей, столько людей ищут моего знакомства, зовут меня к себе - что я решительно здесь потерялся и теперь бегу из Петербурга! Не знаю, как Вы, многоуважаемый Николай Алексеевич, но я, насчет собственно помещения в летние месяцы романа в "Р<усском> вестнике" не смущаюсь; ибо летом даже больше читают, чем зимой. Тяжело мне писать Вам это письмо: боюсь, страшно боюсь, чтоб Вы и многоуважаемый Михаил Никифорович не заключили обо мне, что я злоупотребляю Вашею бесконечною ко мне деликатностью. Сегодня только узнал, что Михаил Никифорович в Петербурге, от К. П. Победоносцева и по указанию его пошел обедать к кн. Мещерскому в надежде, что встречусь, может быть, с Михаилом Никифоровичем, но услышал там, что он уже уехал. А то лично изъяснил бы ему всё. Будьте столь добры, передайте ему мой нижайший поклон. Черкните мне, если будете столь бесконечно добры: сердитесь Вы на меня или нет? (Адрес прежний, дойдет, где бы я ни был.) - Кстати, я очень доволен, что книга "Мальчики" (имеющая явиться в апрельском №) столь отдельна и эпизодна: читатель будет не столь претендовать, как если бы на самом неоконченном месте вдруг прервать и поставить: продолжение будет. Вчера, 27 числа, читал эпизод из этой книги на Литературном вечере в пользу Славянского благотворительного общества, - и эффект, без преувеличения и похвальбы могу сказать, был чрезвычайно сильный.
Примите уверение в наиглубочайшем моем уважении и совершенной преданности.
Ваш покорный слуга
Ф. Достоевский.
855. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
2 мая 1880. Петербург
2 мая/80.
Любезнейший брат Николай Михайлович,
Доверенность на ввод во владение дать необходимо, и неотложно, и давно пора. Что же касается до подписания договора, то в этом случае поступи, как сам хочешь. Взять на себя советовать не могу, согласись сам, потом, пожалуй, будешь на меня пенять и претендовать. Никогда я такого риска не возьму на себя. Сам я договора на продажу в вечное владение, то есть не на сруб, а с землею, не подписывал. Да и никто из Достоевских, сколько мне известно, не подписывал.
- На днях мы подпишем и вышлем Шеру проект о разделе, по которому на всех Достоевских приходится получить 800 десятин Пехорки. Но я, брат Андрей и прочие подписываем каждый за себя, а ты поступи, как сам знаешь. Скажу лишь одно, что выбирал участок не Иван Григорьевич (он лишь осмотрел уже выбранное как специалист), а выбирала Анна Григорьевна и Александр Андреевич Достоевский. Выбрали же они, не зная, какой кому достанется участок, а потому выбрали вообще из всей земли то, что сочли за самый лучший участок. Не думаю, чтоб ты мог выбрать что-нибудь лучшее и более стоящее. А потому если подпишешь проект о разделе, то сделаешь хорошо, и вот весь мой тебе совет. Но лишь совет, сам же опять-таки поступи, как знаешь. По-моему, хорошо, если на проект о разделе согласишься вместе с нами, то есть со всеми Достоевскими. - Посылаю тебе необходимые для расходов деньги, 16 рублей. Затем обнимаю тебя и остаюсь тебя любящий брат
Ф. Достоевский.
Через неделю (наверно) еду в Ст<арую> Руссу. Жена очень кланяется тебе.
(1) далее начато: можешь на
856. С. А. ЮРЬЕВУ
5 мая 1880. Петербург
Петербург 5 мая/80, Понедельник.
Глубокоуважаемый С<ергей> А<ндреевич>! Отвечаю разом на оба Ваши столь любезные письма. Я хоть и очень занят моей работой, а еще больше всякими обстоятельствами, но, кажется, решусь съездить в Москву по столь внимательному ко мне приглашению Вашему и глубокоуважаемого Общества любителей русской словесности. И разве только какое-нибудь внезапное нездоровье или что-нибудь в этом роде задержит. Одним словом, постараюсь приехать к 25 числу наверно в Москву и явлюсь 25-го же числа к Вам, чтоб узнать о всех подробностях, а главное, повидаться с Вами, ибо давненько уж мы не видались и, уже конечно, накопилось много о чем переговорить.
Насчет же "Слова" или речи от меня, то об этом еще не знаю, как сказать. По Вашему письму вижу, что речей будет довольно и всё такими выдающимися людьми. Если скажу что-нибудь в память величайшего нашего поэта и великого русского человека, то боюсь сказать мало, а сказать побольше (конечно в меру), то после речей Аксакова, Тургенева, Островского и Писемского найдется ли для меня время? Впрочем, это дело решим при свидании с Вами. Но вот что главное и весьма любопытное: у нас здесь в Петербурге на самом невинном литературном чтении (а чтения всю зиму страшно были в моде) непременно всякая строка, хотя бы и 20 лет тому написанная, поступала на предварительное разрешение к прочтению к попечителю учебного округа. Как же будет у Вас в Москве? Я, например, если скажу что-нибудь, то по писанному или руководствуясь написанным. Неужели же разрешат читать вновь написанное без предварительной чьей-нибудь цензуры? Аксаков, Тургенев и проч. как будут читать: с цензурой или без цензуры, а vive voix или по написанному? Если же с цензурой, то я, например, если приеду к 25-му, то поспеют ли мои несколько слов к цензору? Обо всем этом весьма прошу Вас, глубокоуважаемый Сергей Андреевич, меня уведомить, чтоб уже знать и быть готовым. Я на днях (в среду, я думаю) выезжаю из Петербурга с моей семьей на лето в Старую Руссу, а потому если захотите мне теперь написать, то адресуйте прямо: в Старую Руссу Новгородской губернии, Ф. М-чу Достоевскому. (Это самый полный адресс.)
Вчера вечером было у нас общее собрание членов Славянского благотворительного общества. Председатель Бестужев-Рюмин, узнав от меня, что я отправляюсь на открытие памятника в Москву, немедленно провозгласил Обществу предложение: выбрать меня уполномоченным (депутатом) от Славянского благотворительного общества участвовать в московских торжествах по открытию памятника, как представителю Общества, на что последовало немедленное и горячее всеобщее согласие. Итак, если я приеду, то как выборный от Общества представитель его. Орест Федорович Миллер говорил мне вчера же, в этом заседании, что и он от Вас получил приглашение. Вероятно, он сам Вам ответит, но мне сообщил, что до того завален делами, что, кажется, не поедет.
Участвовать в Вашем журнале - повторяю еще и еще раз - сочту за весьма лестное мне удовольствие. Итак, всего вероятнее до свидания. А ответов на вопросы буду ждать в Старой Руссе.
С истинным к Вам почтением и глубокою преданностью остаюсь и проч.
<Ф. Достоевский>
857. А. С. СУВОРИНУ
14 мая 1880. Старая Русса
Старая Русса. 14 мая/80.
Многоуважаемый Алексей Сергеевич,
Благодарю Вас за Ваше любезное письмо. Перед самым отъездом из Петербурга получил я от Юрьева (как председателя Общества люб<ителей> р<оссийской> словесности), и кроме того от самого Общества официальное приглашение прибыть в Москву и сказать "свое слово", как они выражаются, на заседаниях "Любителей" 27 и 28 мая, 26-го же мая будет обед, на котором тоже говорить будут речи. Говорить будет Тургенев, Писемский, Островский, Ив. Аксаков и, кажется, действительно многие другие. Сверх того меня выбрало Славянское благотв<орительное> общество присутствовать на открытии памятника и в заседаниях "Любителей" как своего представителя. Я решил, что выеду из Руссы 23. Приезжать мне опять в Петербург (за билетом) невозможно, а потому если на станции Чудово не добуду билета на экстренный поезд, то поеду по обыкновенному билету. Благодарю за Ваше предложение взять мне билет, но выходит, что мне сподручнее и выгоднее взять самому. Известие, что Вы, может быть, не поедете, мне очень неприятно: веселее было бы нам, петербургским гостям, быть там в более сплошной кучке. А потому: нельзя ли Вам постараться приехать? Постарайтесь-ка! Известие о Буренине, уехавшем на Волгу, мне тоже не нравится: я ждал, не напишет ли он чего-нибудь об моем последнем отрывке "Карамазовых", ибо мнением его дорожу. Насчет глупенькой "каймы" не знаю, что Вам сказать. Словами в "Нов<ом> времени" (о кайме) я конечно доволен. Если сам что-нибудь напишу, то когда-нибудь потом, когда начну мои "Литературные воспоминания" (а их начну непременно). Но если бы теперь Вы, например, как издатель газеты, поместили бы в ней всего пять строк в том смысле что: "Мы-де получили от Ф. М. Достоевского формальное заявление, что никогда ничего подобного рассказанному в "Вестн<ике> Европы" (насчет каймы) не было и не могло быть", и проч. и проч. (формулировка по Вашему усмотрению), то я был бы Вам весьма за это благодарен. Насчет дела Веймара в высшей степени согласен с Вами. - Но зачем Вы хвалите Пашкова и зачем Вы написали (1) (сейчас прочел в № от 13 мая), что Пашков хорошо делает, что проповедует? И кто это духовное лицо, которое дня три тому назад напечатало у Вас статью в защиту пашковцев. Неприглядная это статья. Извините, пожалуйста, за эту откровенность. Мне именно потому и досадно, что всё это является в "Новом времени" - в газете, которую я люблю.
Искренно Вас уважающий
Ф. Достоевский.
Р. S. где бы Вы остановились в Москве, если б надумали приехать? Я постараюсь остановиться или в "Европейской гостинице" (против Малого театра), или, если не добуду в ней места, то в гостинице Дюссо (весьма недалеко от "Европейской"). 24-го вечером, вероятно, буду в Москве.
(1) далее зачеркнуто: что Пашков
858. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
19 мая 1880. Старая Русса
Старая Русса 19 мая/80.
Глубокоуважаемый Константин Петрович,
По примеру прежних лет не могу и на этот раз пропустить 21-е число, чтоб пожелать Вам, искренно и от всего сердца, всего самого лучшего и чего желаете сами в день Вашего ангела. Дай Вам бог прежде всего здоровья, а потом всякого великолепного успеха в новых трудах Ваших. Адресую Вам мое послание на старую Вашу квартиру, надеясь, что почтамту известно Ваше новое помещение. Перед отъездом из Петербурга (ровно неделю назад) положил было непременно побывать у Вас, чтоб проститься на всё лето и испросить у Вас напутственное слово, в котором, по одному особому случаю, очень нуждался. Но суета и хлопоты отъезда решили иначе, и быть у Вас не мог. Приехал же сюда в Руссу не на отдых и не на покой: должен ехать в Москву на открытие памятника Пушкина, да при этом еще в качестве депутата от Славянского благотворительного общества. И оказывается, как я уже и предчувствовал, что не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на неприятности. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже и в Петербурге мельком слышал, что там в Москве свирепствует некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве открытия, и что опасаются они некоторых ретроградных слов, которые могли бы быть иными сказаны в заседаниях Люб<ителей> российской словесности, взявших на себя всё устройство праздника. Меня же именно приглашал председатель Общества и само Общество (официальной бумагою) говорить на открытии. Даже в газетах уже напечатано про слухи о некоторых интригах. Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений, а потому и жду, может быть, некоего поношения. Но не хочу смущаться и не боюсь, а своему делу послужить надо и буду говорить небоязненно. Профессора ухаживают там за Тургеневым, который решительно обращается в какого-то личного мне врага. (В "Вестнике Европы" пустил обо мне мелкую сплетню о небывалом одном происшествии 35 лет тому назад.) Но славить Пушкина и проповедывать "Верочку" я не могу. - Впрочем, что Вас утруждать мелкими сплетнями. Но в том-то и дело, что тут не одни только сплетни, а дело общественное и большое, ибо Пушкин именно выражает идею, которой мы все (малая кучка пока еще) служим, и это надо отметить и выразить: это-то вот им и ненавистно. Впрочем, может быть, просто не дадут говорить. Тогда мою речь напечатаю.
Крепко жму Вашу руку, глубокоуважаемый Константин Петрович. Возвратясь, примусь кончать "Карамазовых", и всё лето в труде. Но не жалуюсь, а люблю этот труд. С будущего же года, уже решил теперь, непременно возобновлю "Дневник писателя". Тогда опять прибегну к Вам (как прибегал и в оны дни) за указаниями, в коих, верю горячо, мне не откажете.
А пока примите уверение в моей горячей преданности. Ваш покорнейший слуга
Ф. Достоевский.
Жена поздравляет Вас и попрекнула меня сейчас, что об ней забыл написать.
859. В. М. ЛАВРОВУ
22 мая 1880. Старая Русса Телеграмма
Буду в Москве 23 мая 10 часов вечера.
Достоевский.
860. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
23-24 мая 1880. Москва
Москва 23/24 мая/80.
Милый друг мой Аня, ты представить не можешь, как меня расстроило дорогой известие о кончине императрицы (мир ее душе, помолись за нее). Услышал я про это в вагоне, только что выехали из Новгорода, от пассажиров. Сейчас у меня явилась мысль, что празднества Пушкину состояться не могут. Думал даже вернуться из Чудова, но удержался от неведения: "Если празднеств, дескать, не будет, то могут открыть памятник без празднеств, с одними литературными заседаниями и речами". И вот только 23, уже выехав из Твери, купил "Москов<ские> ведомости" и в них прочел извещение от генерал-губернатора Долгорукого, что государь повелел отложить открытие памятника "до другого времени". Таким образом, приехал в Москву уже совсем без цели. Думаю выехать во вторник 28, утром в 9 часов. До тех пор по крайней мере воспользуюсь случаем, что попал в Москву, и кое-что узнаю, повидаю Любимова (1) и переговорю о капитальном, тоже Каткова, обойду книгопродавцев и проч. Только бы успеть. Узнаю наконец и об литературных интригах подноготную. С Анной Николавной расстались в Чудове, задушевно облобызавшись. Обещала воротиться, если только будет какая возможность. День был жаркий. Я буквально ничего не спал и усталый и совершенно изломанный добрался в Москву к 10 часам по-московскому. В воксале ждали меня с торжеством Юрьев, Лавров, вся редакция и сотрудники "Русской мысли" (Николай Аксаков, Барсов и человек 10 других). Перезнакомился. Тотчас же стали звать к Лаврову на нарочно приготовленный ужин. Но я так был измучен дорогой, до того немыт, в грязном белье и проч., что отказался. Завтра, 24-го, поеду к Юрьеву во
2-м часу. Лавров сказал, что самая лучшая и комфортная гостиница в Москве - "Лоскутная" (на Тверской, сейчас близ площади, где Иверская божия матерь), и тотчас же побежал и привел кучера, сказав, что это извозчик, но он, кажется, был не извозчик, а лихач или его кучер. Привезя в гостиницу, денег не хотел брать, но я ему дал насильно 70 коп. В "Лоскутной" всё занято, но мне отыскали № в 3 р., очень порядочно меблированный, но окнами выходящий во двор и в стену, так что думаю, что завтра будет темно.
Предвижу, что статья моя до времени напечатана не будет, ибо странно ее печатать теперь. Таким образом, поездка до времени не окупится. Теперь уже час ночи. Очень тяжело без вас троих, без тебя и без милых деток. Целую всех вас крепко, тебя первую, а затем Лилю и Федю. Поцелуй их за меня покрепче и скажи, что я их ужасно люблю. С книгопродавцев, вероятно, не успею ничего получить, ибо в 2 дня они не справятся. Ну, до свидания. Не знаю, получу ли от тебя письмецо. Пиши на имя Елены Павловны. Полагаю, однако, что тебе отвечать на это письмо мне нельзя, ибо получу не раньше 29, а 29 я хочу уже быть в Руссе. Вот если ты бы сама догадалась написать Елене Павловне, было бы прекрасно. Если случится (боже сохрани) какое несчастье, то телеграфируй мне уже в гостиницу "Лоскутное", на Тверской, Ф. М. Достоевскому, занимаю № 32.
Еще раз обнимаю всех трех и крепко целую.
Твой Ф. Достоевский.
(1) в подлиннике описка: Любимову
861. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
25 мая 1880. Москва
Москва. Воскресение 25 мая/80. Лоскутная гостиница на Тверской.
Милый друг мой Аня, вчера утром посетили меня в торжественном визите Лавров, Ник<олай> Аксаков и один доцент Университета Зверев, пришли заявить почтение. Должен был в то же утро отдавать всем троим визиты. Взяло много времени и разъездов. Затем отправился к Юрьеву. Встреча восторженная с лобызаниями. Узнал, что они хотят просить, чтоб дозволили открыть памятник осенью, в октябре, а не в июне и в июле, как, кажется, наклонно сделать начальство; но тогда открытие будет эскамотировано, ибо никто не приедет. О ходе дел от Юрьева не мог добиться толку, человек беспорядочный, в новом виде Репетилов. Однако же с хитростью. (Интриги, однако, были несомненные.) Между прочим, я заговорил о статье моей, и вдруг Юрьев мне говорит: я у Вас статью не просил (то есть для журнала)! Тогда как, я помню в письмах его, именно просил. Штука в том, что Репетилов хитер: ему не хочется брать теперь статью и платить за нее. "Но на осень, на осень Вы нам дайте, никому как нам, мы просим первые, слышите, а к тому времени Вы ее тщательнее отделаете" (то есть точно уж ему известно, что она теперь не тщательно отделана). Я, разумеется, тотчас же прекратил о статье и обещание на осень дал лишь вообще. Не понравилось мне это ужасно. - Затем поехал к Новиковой, был встречен очень любезно. Затем визиты, затем к Каткову: не застал дома ни Каткова, ни Любимова. Отправился по книгопродавцам. Двое (Кашкин) переменили квартиры. Все обещали что-нибудь дать в понедельник. Не знаю, дадут ли. Поеду, однако, в понедельник и постараюсь записать новые квартиры. Затем заехал к Ив<ану> С<ергеевичу> Аксакову. Он еще в городе, но дома не застал, в банке. Затем, воротясь домой, обедал. Затем в 7 часов поехал к Каткову: застал и Каткова, и Любимова, был встречен очень, очень радушно и переговорил с Любимовым насчет доставки "Карамазовых". Очень настаивают, чтоб на июнь. (Воротясь, придется чертовски работать.) Затем упомянул о статье, и Катков настоятельно стал просить ее себе, то есть все-таки на осень. Взбешенный на Юрьева, я почти обещал. Так что теперь если "Русская мысль" захочет статью, то сдеру непомерно, иначе Каткову. (Статью к тому же времени можно еще распространить.)
От (1) Каткова (у которого опрокинул чашку с чаем и весь замочился) отправился к Варе. Застал, и хоть было уже около 10 часов, но мы поехали с ней к Елене Павловне. Варя только сто получила письмо от брата Андрея (насчет дворянских документов) для передачи мне. Письмо взял себе. (2) Елена Павловна, (3) оказалось, переехала на другую квартиру и содержать номера бросила. Отправились на другую квартиру и застали у ней в гостях Машу и Нину Ивановых (с которыми Елена Павловна помирилась) и Хмырова. Ивановы отправляются дня через три в Даровое, тоже и Хмыров, ибо там тоже гостит его жена у Веры Михайловны. Посидели с час. Воротясь домой, нашел письмо, занесенное лично Ник<олаем> Аксаковым и Лавровым: Зовут 25-го (то есть сегодня) на обед и явятся за мной в 5 часов. Устраивают (4) сотрудники "Русской мысли", нo (5) будут и другие. Я думаю, будет человек от 15 до 30 по намекам Юрьева (еще когда был у него). Кажется, обед делается по поводу моего приезда, то есть в честь меня, будет же где-нибудь, верно, в ресторане. (Эти все московские молодые литераторы восторженно хотят со мной познакомиться.) Теперь 3-й час. Через 2 часа они придут. Не знаю только, в сертуке ли быть или во фраке. Ну вот и весь мой бюллетень. Денег у Каткова не спрашивал, но сказал Любимову, что, может быть, летом понадобится. Тогда Любимов ответил, что по первому востребованию вышлет, куда я прикажу. Завтра надо объехать книгопродавцев, заехать к Елене Павловне: нет ли от тебя письма, быть у Машеньки, которая ужасно просила меня, и проч. Послезавтра, во вторник, 27 выеду в Руссу, но не знаю еще, с утренним или с полуденным поездом. Боюсь, что завтра мне не дадут дела делать: Юрьев все кричал, что ему "надо со мной беседовать, беседовать" и проч. Очень мне вообще скучно, и нервы расстроены. Более, я думаю, тебе не напишу, разве в случае чего-нибудь очень характерного. До свидания, голубчик. Целую тебя крепко и деток. (6) Очень поцелуй Лилю и Федю. Очень вас люблю.
Твой Ф. Достоевский.
(1) в подлиннике описка: У Каткова (2) вместо: взял себе - было: получил (3) вместо: Елена Павловна - было: У Елены Павловны (4) далее было: кажется (5) далее было: кажется (6) было: детей.
862. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
26 мая 1880. Москва
Москва 25/26 мая/80. Гостиница "Лоскутная" на Тверской (№ занимаю 33-й)
Милый друг мой Аня, вот и еще тебе письмо (пишу во 2-м часу ночи). Может быть, придет к тебе после моего отъезда (ибо все-таки намерен выехать во вторник 27-го), но пишу тебе на всякий случай, ибо обстоятельства так складываются, что, может быть, я и еще на некоторое время останусь. Но по порядку. Сегодня 25-го в 5 часов приехали за мной Лавров и Ник<олай> Аксаков и повезли меня в собственной коляске в "Эрмитаж". Они были в сертуках, и я поехал в сертуке, хотя обед, как оказалось, был именно устроен в честь меня. В "Эрмитаже" уже ждали нас литераторы, профессора и ученые, всего 22 человека. Юрьев с 1-го слова заявил мне, в торжественной встрече, что на обед рвались многие и что если б только был дан сроку еще всего один день, то собрались бы сотни гостей, но устроили они слишком поспешно, а потому и боятся, что когда узнают многие другие, то станут их упрекать, что их не позвали. Было 4 профессора Университета, один директор гимназии Поливанов (друг фамилии Пушкиных), Иван Сергеевич Аксаков, Николай Аксаков, Николай Рубинштейн (московский) и проч. и проч. Обед был устроен чрезвычайно роскошно. Занята целая зала (что стоило немало денег). Балыки осетровые в 1 1/2 аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой. Сказано было мне (с вставанием с места) 6 речей, иные очень длинные. Говорили Юрьев, оба Аксаковы;
3 профессора, Николай Рубинштейн. За обедом получены были две приветственные телеграммы, одна от одного самого уважаемого профессора, выехавшего внезапно из Москвы. Говорилось о моем "великом" значении как художника "всемирно отзывчивого", как публициста и русского человека. Затем бесконечное число тостов, причем все вставали и подходили со мной чокаться. Дальнейшие подробности при свидании. Все были в восторженном состоянии. Я отвечал всем весьма удавшеюся речью, произведшею большой эффект, причем свел речь на Пушкина. Произвело сильное впечатление.
Теперь одно пренесносное и затру длительнейшее дело: депутация от "Любителей р<оссийской> словесности" была сегодня у кн<язя> Долгорукого, и он объявил, что открытие памятника последует между 1-м И 5-м (1) числом июня. Точного, однако, числа не обозначил. И вот все они в восторге: "Литераторы, дескать, и некоторые депутации не разъедутся, и хоть не будет музыки и театральных представлений, то все же будут заседания "Любителей словесности", речи и обеды". Когда же я объявил, что уезжаю 27-го, то поднялся решительный гам: "Не пустим!". Поливанов (состоящий в комиссии по открытию памятника), Юрьев и Аксаков объявили вслух, что вся Москва берет билеты на заседания и все берущие билеты (на заседания "Люб<ителей> р<оссийской> словесности") берут, спрашивая (и посылая по нескольку раз справляться): будет ли читать Достоевский? И так как они не могли всем ответить, в каком именно заседании буду я говорить, в первом или во 2-м, - то все стали брать на оба заседания. "Вся Москва будет в огорчении и негодовании на нас, если вы уедете", - говорили они мне все. Я отговаривался, что мне надо писать "Карамазовых"; они серьезно стали кричать о депутации к Каткову просить отложить мне срок. Я стал говорить, что ты и дети будут беспокоиться, если я так надолго останусь, и вот (совсем не в шутку) не только предложили послать к тебе телеграмму, но даже депутацию в Старую Руссу к тебе, просить тебя, чтоб я остался. Я отвечал, что завтра, то есть в понедельник 26-го, решу.
Сижу теперь в страшном затруднении и беспокойстве: с одной стороны, упрочение влияния моего не в одном Петербурге, а и в Москве, что много значит, с другой - разлука с вами, затруднения по "Карамазовым", расходы и проч. Наконец, хоть "Слово" мое о Пушкине теперь уже непременно будет напечатано, но где - ведь я почти что, в субботу, обещал се Каткову. (2) А стало быть, "Любители" и Юрьев будут в горе. А отдать им - рассердится Катков. Думаю, пока, непременно уехать, если не 27-го, то 28-го или 29-го, когда от Долгорукого получен уже будет точный срок открытия. Может быть, до этого получения ответа придется выждать. С другой же стороны, опять-таки, Долгорукий говорит еще сам от себя, из Петербурга же точного срока пока не получил (да и сам, кажется, на несколько дней едет в Петербург). Так что я, положим, что остался бы до 5-го июня, а вдруг получится повеление отложить еще до 10-го или до 15-го, тогда всё мне ждать? Завтра скажу Юрьеву, что уеду 27-го, но если останусь, то в случае каких-нибудь точных (3) и серьезных обстоятельств. Во всяком же случае теперь в ужасном беспокойстве. После обеда заезжал к Елене Павловне, но от тебя не нашел. Конечно, еще рано из Руссы, но неужели и завтра не получу? С Еленой Павловной доехал к Машеньке Ивановой и рассказал ей, что обедал с Рубинштейном, была восхищена. Во всяком случае, как (4) получишь это письмо мое, непременно мне ответь: всё равно, если я выеду, то Елена Павловна перешлет письмо нераспечатанным в Руссу. И потому непременно и сейчас же ответь. Адресс самый точный Елены Павловны: на Остоженке, в приходе Воскресенья, что на Остоженке, дом Дмитревской, с передачею Ф. М. Дос<тоевско>му. Если же захочешь телеграфировать, то телеграфируй или к Елене Павловне, или прямо ко мне, в гостиницу "Лоскутную", на Тверской, - также верно получу. (Письма же лучше адресуй на Елену Павловну.)
№. Я выбран в члены "Общества люб<ителей> российской словесности" еще год назад, но прежний секретарь Бессонов, по небрежности, не уведомил меня о выборе, в чем мне и принесли извинение. Обнимаю тебя, дорогая моя, крепко, деток целую, вижу странные и знаменательные сны по ночам.
Твой весь Ф. Достоевский.
А речь я сказал хорошо. Еще раз обнимаю тебя. Деток расцелуй, расскажи им о папе.
Твой весь Ф. Достоевский.
Р. S. Думаю все-таки настоять и выехать 27-го, правда, тогда, пожалуй, речь не придется напечатать, ибо будет иметь значение не как речь, а как статья. Это надо обделать.
Утонченность обеда до того дошла, что после обеда, за кофеем и ликером, явились две сотни великолепных и дорогих сигар. Не по-петербургски устраивают.
На конверте: В Старую Руссу (Новгородской губернии).
Ее высокоблагородию
Анне Григорьевне Достоевской. (В собственном доме).
Post Scriptum.
25 мая, (5) 2 часа пополудни.
Милая Аня, распечатал вчера еще запечатанный к тебе конверт, чтоб сделать приписку. Сегодня утром пришел ко мне Иван Серг<еевич> Аксаков с тем, чтоб настоятельнейшим образом просить меня остаться на открытие, так как оно произойдет, как все ожидают, до 5-го. Он говорит, что мне нельзя уехать, что я не имею права на то, что я имею влияние на Москву, и главное, на студентов и молодежь вообще, что это повредит торжеству наших (6) убеждений, что, слышав вчера за обедом конспект моей речи, он проникся убеждением, что я должен говорить и проч. и проч. С другой стороны, объявил мне, что я, как депутат от Слав<янского> благотворительного общества, и не могу уехать, ибо все депутаты ввиду слуха о близком открытии остались ждать. Он ушел, и тотчас пришел Юрьев (у которого я сегодня обедаю), говорил то же самое. Долгорукий сегодня (25-го) уехал в Петербург и дал слово прислать телеграмму из Петербурга о точном дне открытия памятника. Телеграмму ждут не позже среды, 28, а может быть, и завтра. Я решил так: остаться ждать телеграммы о дне открытия, и если действительно открытие назначено между 1-м и 5-м июня, то остаться. Если же позже, то уехать в Руссу 28-го или 29, об этом и сообщил Юрьеву. - Главное, я всё не могу узнать, где Золотарев. Юрьев дал слово, что сегодня узнает и приедет мне скажет. Тогда я могу уехать даже и как депутат Слав<янского> благотворительного общества, возложив присутствовать на торжестве на одного Золотарева. (Кстати: венки на памятник заготовляются на свой счет, а венок стоит 50 руб. (!) <4 строки нрзб.> Затем Юрьев начал приставать, чтоб статья была напечатана в "Русской мысли". Тут я высказал ему всё, то есть что почти обещал Каткову. Он страшно взволновался и огорчился, извинялся, утверждал, что я его не так понял, что вышло qui pro quo, и когда я намекнул, что беру за мою работу деньги, то закричал, что Лавров определил мне заплатить за работу мою всё, что я спрошу, то есть даже 400 или 500 руб. Я и сказал Юрьеву, что я, почти обещав статью Каткову, именно имел в виду просить отсрочку "Карамазовых" именно по поводу того (перед публикой), что вместо "Карамазовых" явится статья о Пушкине. Теперь же если я отдам в "Р<усскую> мысль", то выходит, что я выпрошу у Каткова отсрочку именно с целью воспользоваться этой отсрочкой, чтоб работать на врага его Юрьева. (Представь, таким образом, в каком я положении! Но Юрьев сам виноват.) Катков обидится. Правда, Катков 400 руб., например, не даст (да и 300 руб. дает лишь за "Карамазовых", а за статью, пожалуй, и не дадут 300 p.), так что лишние сотни полторы от Юрьева окупили бы мое здесь промедление до открытия памятника. Одним словом, хлопот и затруднений бездна. Как и что будет, не знаю, но решил пока остаться до 28. Таким образом, если не назначат открытия памятника до 5-го, то 29-го или 30-го ворочусь в Руссу (постаравшись где-нибудь поместить статью). Ты же мне хоть что-нибудь напиши немедленно (опять повторяю просьбу). Неужели же я так ни строчки от тебя не получу? Пиши непременно по тем адрессам, которые я вчера в письме (которое (7) вместе с Post Scriptum этим получишь) назначил. Если хочешь, телеграфируй. - Юрьев рассказал, что сегодня множество лиц приходили к нему ругаться: зачем он скрыл от них вчерашний обед? Приходили даже 4 студента просить места на обед. Между прочим, приходили Сухомлинов (который здесь), Гатцук, Висковатов и другие. - Сейчас поеду по книгопродавцам. До свидания. Еще раз целую вас всех.
Твой весь Ф. Достоевский.
Юрьев имел уже статью Ив<ана> Аксакова о Пушкине. Вот почему, вероятно, 3-го дня и отвиливал. Услышав же то, что я вчера на обеде говорил о Пушкине, вероятно, решил, что и моя статья необходима. Тургенев тоже написал статью о Пушкине.
(1) было: от 1-го до 5-го (2) далее было: Итак (3) было начато: и то<лько?> (4) было: если (5) описка, следует: 26 мая. (6) вместо: торжеству наших - было: нашим коренным. (7) было: которые
863. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
27 мая 1880. Москва
Москва 27 мая/80
3 часа пополудни. Гостиница "Лоскутная", в № 33.
Милый друг мой Аня, опять новости. Когда я приехал, меня тогда Юрьев и Лавров препроводили в гостиницу "Лоскутную", и я занял 32-й № за 3 руб. На другое утро явился ко мне управляющий гостиницей (еще молодой человек, имеющий вид образованного господина) и нежным голосом предложил мне перебраться в другой № напротив, 33-й. Так как № 33-й был несравненно лучше моего 32-го, то я тотчас же согласился и перебрался. Подивился только про себя, как такой хороший № ходит по той же цене, то есть по три рубля; но так как управляющий ничего не говорил о цене №, а просто просил перебраться, то я и заключил, что тоже в три рубля. Вчера, 26-го, я обедал у Юрьева, и вот Юрьев вдруг говорит, что в Думе я записан в "Лоскутной" гостинице, № 33-й. Я удивился и спросил: "Почему знает Дума?" - "Да ведь вы же стоите на счет Думы", - ответил Юрьев. Я закричал, Юрьев начал твердо возражать, что я не могу иначе поступить, как приняв от Думы помещение, что все гости стоят на счет Думы, что дети даже Пушкина, племянник Пушкина Павлищев (стоит в нашей гостинице) - все на счет Думы, что, отказавшись принять гостеприимство Думы, я оскорблю ее, что это наделает скандалу, что Дума гордится, считая в числе гостей своих людей как я, и проч. и проч. Я решил наконец, что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержания. Когда я воротился домой, то управляющий опять ко мне зашел спросить: всем ли я доволен, не надо ли мне еще чего-нибудь, покойно ли мне - все это с самою подобострастною вежливостью. Я тотчас же спросил его: правда ли, что я стою на счет Думы? - Точно так-с. - А содержание? - И всё содержание Ваше тоже-с от Думы. - Да я этого не хочу! - В таком случае вы оскорбите не только Думу, но весь город Москву. Дума гордится, имея таких гостей, и проч. - Что мне теперь, Аня, делать? Не принять нельзя, разнесется, войдет в анекдот, в скандал, что не захотел, дескать, принять гостеприимство всего города Москвы и проч. Потом вечером я спрашивал Лаврова и Юрьева, - и все удивляются моей щепетильности и прямо говорят, что я оскорблю всю Москву, что это запомнится, что об этом толки будут. Таким образом, решительно вижу, что надо принять полное гостеприимство. Но зато как же это меня стеснит! Теперь буду нарочно ходить обедать в рестораны, чтоб, по возможности, убавить счет, который будет представлен гостиницей Думе. А я-то два раза уже был (недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь на даровом-то хлебе важничает. Два раза спросил в конторе почтовые марки: когда представят потом счет Думе, скажут: ишь обрадовался, даже марки на казенный счет брал! Так что я стеснен и иные расходы непременно возьму на себя, что, кажется, можно устроить. В результате: сколько бы я ни прожил в Москве, непременно не очень проживусь.
(NВ. Получил вчера с Соловьева, с Кашкина и с Преснова, всего в сложности до 170 руб., счеты увидишь сама, как приеду. Из Центрального маг<азина> и от Морозовых еще не получил.)
Вчера в 4 часа пополудни всем стало известно со слов Долгорукого (твердых слов), что открытие памятника последует 4-го июня и что так настоятельно хотят в Петербурге. Окончательная телеграмма от Долгорукого о точном дне открытия придет лишь завтра, но все здесь твердо уверены, что открытие будет 4-го. Получены, кроме того, об этом же письма из Петербурга. Депутации (множество) от разных городов и учреждений ждут и не разъезжаются. Господствует сильнейшее оживление. Меня решительно не пускают. Решил теперь, что, кажется, непременно останусь, и если открытие произойдет 4-го, то выеду отсюда в Руссу, стало быть, 8-го и 9-го буду у вас. Сейчас утром приходил Григорович и приходил Юрьев. Кричат, что отсутствие мое почтется всей Москвой за странность, что все удивятся, что вся Москва только и спрашивает: буду ли я, что о моем отъезде пойдут анекдоты, скажут, что у меня не хватило настолько гражданского чувства, чтоб пренебречь своими делами для такой высшей цели, ибо в восстановлении значения Пушкина по всей России все видят средство к новому повороту убеждений, умов, направлений. 2 причины стоят у меня препятствием и мучают мою душу: 1-я - "Русский вестник" и принятая еще месяц назад обязанность доставить "Карамазовых" на июньский №. Воротясь 10-го июня, что я напишу в какие-нибудь 10 дней? Любимов же 4-го дня ответил, что отсрочка дальнейшая, на июль, зависит от Марковича; если он что-нибудь доставит из своего романа, то можно отсрочить, а то так нет. Ответ же от Марковича получится не ранее 10 июня. Таким образом, я в неизвестности и в беспокойстве. Думал бы начать здесь "Карамазовых", но ввиду беспрерывной суетни, посещений и приглашений почти невозможно.
2-я причина, меня мучащая, - это тоска по вас: ни одной-то строчки до сих пор не получил от тебя, а ведь уговорились, что ты будешь писать на адрес Елены Павловны! Что с тобой делается, скажи, ради бога, почему не пишешь, здорова ли ты, целы ли, здоровы ли дети? Если б ты что написала мне по поводу того, ждать или не ждать мне здесь открытия, я бы был спокоен. Ведь по газетам узнала же ты, что скончалась императрица, как бы тут-то не написать, предвидя, что я непременно должен находиться в затруднении. Каждый день, вчера в дождь, езжу в ужасную даль к Елене Павловне справляться: нет ли письма? Туда и назад рубль извозчику. - Напиши, напиши непременно.
Но, кажется, решусь остаться наверно. Вот хоть бы узнать наверно число, а то что если опять отложат! Вчера, по настоятельному приглашению, был на вечере у Лаврова. Лавров - это мой страстный, исступленный почитатель, питающийся моими сочинениями уже многие годы. Он издатель и капиталист "Русской мысли". Сам он очень богатый неторгующий купец. Два брата его купцы, торгуют хлебом, он же выделился и живет своим капиталом. 33 года, симпатичнейшая и задушевная фигура, предан искусству и поэзии. На вечере у не<го> было человек 15 здешних ученых и литераторов, тоже некоторые из Петербурга. Появление мое вчера у него произвело восторг. Не хотел было оставаться на ужин, но, видя, что огорчу смертельно всех, - остался. Ужин был как большой обед, утонченно приготовленный, с шампанским. После ужина шампанское и сигары в 75 руб. сотня. (Обед 3-го дня был по общей подписке, весьма скромный, не свыше 3-х руб. с персоны, но всю роскошь, цветы, черепаший суп, сигары, залу - всё это Лавров прибавил уже от себя.) Воротился домой в 4-м часу. Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел. Приехал и Анненков, то-то будет наша встреча. Надо мне опять повидать Каткова и Любимова, чтоб еще уговориться. Юрьев же приезжал сейчас за статьей, умоляя непременно ее в "Русскую мысль". Золотарев приедет (получено известие). От вас только одних не получаю известия. Аня, ради Христа, напиши по адресам, какие я дал. Все ли письма от меня получила? До сих пор писал каждый день. Ты, Аня, любишь говорить: люблю ли я тебя? А у самой обо мне тоски никакой, а я об тебе тоскую. Что детки! Хоть бы капельку об них услышать. Шутка ли, почти еще две недели разлуки. До свидания, голубчик мой, целую тебя крепко, детишек целую и благословляю. Если будет что особенное, напишу и завтра.
Твой весь Ф. Достоевский.
Р. S. В нашей гостинице кроме меня стоят от Думы еще трое:
два профессора из Казани и из Варшавы и Павлищев, родной племянник Пушкина. Кланяйся батюшке.
864. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
27-28 мая 1880. Москва
Москва 27/28
2 часа пополуночи, Гостиница "Лоскутная", в № 33.
Милый друг мой Аня, наконец-то получил от тебя сегодня вечером 5 строк карандашом от 24 числа. И вот я получаю только 27-го вечером! Долго же идет письмо. Ужасно обрадовался да и огорчился, ибо всего только 5 строк, да и то с "милым Федором Михайловичем". Ну да бог с тобой. Надеюсь получить впредь получше. Ты теперь уже все знаешь по моим письмам: кажется, придется непременно остаться на открытие памятника. Вечером был у Каткова. Выслушав всё (он уже и от других слышал, как меня ждет "Москва") - он твердо сказал, что мне нельзя уезжать. Завтра будет телеграмма от Долгорукого и будет назначен точный день открытия. Но все говорят про 4-е число. Если 4-го будет открытие, то выеду, вероятно, 8-го (если даже не 7-го) и 9-го буду в Руссе. К Каткову я заехал с целью получить отсрочку на "Карамазовых" до июльской книжки. Он выслушал всё очень дружественно (и вообще был донельзя ласков и предупредителен, как никогда со мной прежде), но об отсрочке не сказал ничего точного. Всё зависит от Маркевича, то есть пришлет ли он продолжение своего романа. Я рассказал Каткову о знакомстве моем с высокой особой у графини Менгден и потом у К<онстантина> К<онстантиновича>. Был приятно поражен, совсем лицо изменилось. В этот раз я у него чаю не пролил, за то потчевал дорогими сигарами. Провожать меня вышел в переднюю и тем изумил всю редакцию, которая из другой комнаты всё видела, ибо Катков никогда не выходит никого провожать. Вообще думаю, что с "Р<усским> вестником" дело как-нибудь уладится. О статье же о Пушкине я не упомянул ни слова. Авось забудут, так что можно будет передать Юрьеву, с которого наверно получу денег больше. Мечтаю даже найти до 8-го числа капельку времени и приняться здесь за "Карамазовых" на всякий случай, только вряд ли это возможно. - Если будет успех моей речи в торжественном собрании, то в Москве (а стало быть, и в России) буду впредь более известен как писатель (то есть в смысле уже завоеванного Тургеневым и Толстым величия. Гончарова, например, который не выезжает из Петербурга, здесь хоть и знают, но отдаленно и холодно). - Но как я проживу без тебя и без деток это время? Шутка ли, целых 12 дней, о детках сижу и мечтаю, и все мне грустно. Воротилась ли бабушка? Как ты одна сидишь, не боишься ли чего, не тревожишься ли? Ради бога, пиши почаще и, если, боже сохрани, что случится, тотчас же телеграфируй. Кстати (и обрати внимание): впредь адресуй мне все письма прямо ко мне: Москва, в гостиницу "Лоскутную", на Тверской, Ф. М. Достоевскому, в № 33-м. А то что мне каждый-то день по вечерам ездить к Елене Павловне за твоими письмами? Во-первых, очень от меня далеко, а во-2-х, теряю время, так что если б случилось чем заняться ("Карамазовыми"), то совсем некогда. Да и надоем там. Сегодня ездил к ней от Каткова, получил твое письмо и застал у ней опять Ивановых. Машенька играла Бетховена очень хорошо. У нас дождички пополам с солнцем, и довольно ветрено и свежо. Машенька едет с Наташей послезавтра в Даровое, а Ниночка остается. Ниночка дика и неразговорчива, ничего из нее не вытащишь, точно конфузится. Все живут подле Елены Павловны. Ну, до свидания. Кажется, всё написал, что надо. Если завтра будет что нового, напишу и завтра, а если нет, то послезавтра. О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно, менее двух суток. Но я не поеду, хоть очень бы любопытно было. Сегодня обедал в "Московском трактире" нарочно, чтоб уменьшить счет в "Лоскутной". Но рассудил, что "Лоскутная", пожалуй, все-таки проставит в счет Думе, что я каждодневно обедал. В "Лоскутной" утонченно вежливы, ни одно письмо твое не пропадет, и так как я ни в каком случае теперь уже не переменю гостиницу, то ты смело можешь мне посылать письма, адрессуя прямо в "Лоскутную". До свидания, целую Вас, "милая Анна Григорьевна". Обними покрепче и погорячее деток, скажи, что так папа велел.
Твой весь Ф. Достоевский.
Дети Елены Павловны при ней и очень милые.
865. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
28-29 мая 1880. Москва
Москва 28/29 мая
2 часа пополуночи. Гостиница "Лоскутная" в № 33-м.
Милая моя Аня, нового только то, что пришла от Долгорукова сегодня телеграмма об открытии памятника 4-го числа. Это уже твердо. Таким образом, я могу выехать 8-го или даже 7-го из Москвы и, уж разумеется, поспешу. Но остаться здесь я должен и решил, что остаюсь. Дело главное в том, что во мне нуждаются не одни "Любители р<оссийской> словесности", а вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность. Оппонентами же им, с нашей стороны, лишь Иван Серг<еевич> Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел, и приелся Москве. Меня же Москва не слыхала и не видала, но мною только и интересуется. Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы. Уж когда Катков сказал: "Вам нельзя уезжать, вы не можете уехать" человек вовсе не славянофил, - то уж конечно, мне нельзя ехать.
Сегодня утром, в 12 часов, когда еще я спал, приехал ко мне с этой телеграммой Юрьев. Я при нем стал одеваться. В это время вдруг докладывают, что приехали две дамы. Я был не одет и послал спросить: кто такие? Человек воротился с запиской, что какая-то г-жа Илина хочет просить у меня позволения выбрать из всех моих сочинений места, подходящие к детскому возрасту, и издать книжку для детского чтения. Каково! Да ведь эту мысль мы давно бы должны были с тобой сами исполнить и издать такую книжку для детей, которая непременно пойдет и даст, может быть, 2000 р. выгоды. Подари ей 2000 рублей - вот дерзость! Юрьев тотчас же пошел (так как он же, по ветрености своей, и направил ее ко мне) объяснить ей, что я отнюдь не согласен, принять же ее не могу. Он ушел, и вдруг приехала Варвара Михайловна и не успела войти, как вошел Висковатов. Узнав, что у меня гости, Варя тотчас убежала. Воротился Юрьев и объявил, что другая посетившая дама была сама по себе, фамилью не сказала, а объявила только, что пришла заявить свое беспредельное уважение, удивление, благодарность за всё, что я ей доставил моими сочинениями, и проч. С тем, однако, и ушла, я ее не видал. Я посадил гостей за чай, и вдруг вошел Григорович. Все они просидели часа два, и когда Юрьев и Висковатов ушли, Григорович остался, не намереваясь уходить. Начал мне рассказывать разные разности за все тридцать лет, вспоминать старое и проч. Наполовину, конечно, врал, но было и любопытное. Затем в 5-м часу объявил, что разлучаться со мной не хочет, и стал упрашивать меня вместе идти обедать. Мы пошли опять в Московский трактир, где обедали долго, а он всё говорил. Вдруг пришли Аверкиев и его супруга. Аверкиев подсел к нам, а Дона Анна объявила, что зайдет ко мне (очень мне ее надо!). Оказалось, что подле нас обедают родственники Пушкина, два племянника его, Павлищев и Пушкин, и еще один какой-то. Павлищев тоже подошел и объявил, что тоже ко мне придет. Одним словом, мне, как и в Петербурге, не дают покоя. После обеда Григорович стал упрашивать меня ехать с ним в парк "подышать чистым воздухом", но я отказался, расстался с ним, воротился домой пешком и через 10 минут отправился к Елене Павловне за письмом. Но письма у ней не оказалось, а встретил только Ивановых. Машенька завтра уезжает. Просидел до 11 часов и воротился домой пить чай и писать тебе письмо. Вот весь мой бюллетень.
Главное, скверно, что письма наши ходят по три и по четыре дня. Уведомленная мною, что я возвращусь, ты, конечно, перестанешь писать ко мне, ожидая меня 28-го, и когда-то еще дойдут до тебя вчерашнее и сегодняшнее письмо мое о новом решении! Боюсь, что ты будешь в недоумении и беспокоиться. - Но нечего делать. Худо только то, что от тебя, может быть, не получу 2 дня писем, а я по вас изныл. Грустно мне здесь, несмотря на гостей и обеды. Ах, Аня, как жаль, что не могло так устроиться (конечно, никак), чтоб и ты со мной приехала. Даже Майков, говорят, изменил решение и приедет. Будет много хлопот, надо являться в Думу в качестве депутата (еще не знаю когда) для получения билета на церемонию. Окна домов, окружающих площадь, отдаются в наем по 50 рублей за окно. Кругом устраиваются деревянные эстрады для публики тоже за непомерную цену. Боюсь тоже дождливого дня, чтоб не простудиться. На обеде в день открытия говорить не буду. В заседании же "Любителей", кажется, буду говорить на 2-й день. Кроме того, взамен театрального представления думают устроить чтение известными литераторами (Тургенев, я, Юрьев) произведений Пушкина по выбору (меня просят прочесть сцену инока-летописца и из "Скупого рыцаря" монолог Скупого). Кроме того, Юрьев, я и Висковатов прочтем по стихотворению на смерть Пушкина, Юрьев Губера, Висковатов - Лермонтова, а я - Тютчева.
Время идет, а мне мешают. До сих пор не заехал за деньгами в Центр<альный> магазин и к Морозовым. Не был у Чаева, надо заехать к Варе, хотел бы тоже познакомиться с архиереями Николаем Японским и здешним викарием Алексеем - очень любопытными людьми. Сплю нехорошо, во сне вижу только кошмары. Боюсь в день открытия простудиться и кашлять на чтении.
Со страшным нетерпением буду ждать от тебя письмеца. Что-то детки, господи, как мне хочется их увидеть. Здорова ли ты, весела ли иль сердишься? Тяжело мне без вас. Ну до свидания. Завтра к Ел<ене> Павловне не поеду, обещалась сама прислать письмо, если будет. Обнимаю вас всех крепко, деток благословляю.
Твой весь Ф. Достоевский.
P. S. Если что случится, телеграфируй в "Лоскутную". Письма пиши в "Лоскутную". Верно ли доходят мои письма? Вот беда, если какое-нибудь пропадет!
Золотарева еще нет. Венок <3 слова нрзб.>.
866. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
30-31 мая 1880. Москва
Москва 30 мая/80 Гостиница "Лоскутная" в № 33-м.
Пишу тебе, хоть письмо пойдет лишь завтра, милая Аня. Нового почти ничего. Предстоит только очень много хлопот и разных чиновничьих церемоний: являться в Думу, выхлопатывать билеты, где стоять и сидеть в празднестве, и проч. А главное венки: их надо два, говорят, их Дума же и выдает - за 30 <р.> оба. Глупо. А Золотарев не едет, но приедет, и я всю церемонию у памятника взвалю на него: в одном фраке и без шляпы можно простудиться. Вчера утром были Аверкиевы и приходили племянники Пушкина Павлищев и Пушкин, познакомиться. Затем ездил к Юрьеву (насчет всех этих билетов и церемоний), не застал дома. Обедал дома, а после обеда пришел Висковатов, изъяснялся в любви, спрашивал, отчего я его не люблю, и проч. Все-таки был лучше, чем всегда. (Кстати: передал мне, что Сабуров (министр просвещения), его родственник, читал некоторые места "Карамазовых", буквально плача от восторга.) В девять часов мы отправились к Юрьеву, опять не застали. Висковатов вдруг припомнил, что здесь Анна Николавна Энгельгардт, и предложил к ней заехать. Мы поехали и прибыли в 10 часов, в гостиницу Дюссо. Она уже спала, но была очень рада, и мы просидели час, говорили о прекрасном и высоком. Она приехала не на памятник, а для свидания с какими-то родственницами, а теперь больна: у ней распухла нога. Сегодня утром, когда я спал, был у меня Ив<ан> Сергеевич Аксаков и не приказал будить. Затем ездил к Поливанову (секретарю Общества, директору (3) гимназии). Поливанов объяснил мне все шаги в Думе и билеты и откомандировал молодого человека мне помогать. Познакомил меня с семейством, сошлась целая ватага учителей и гимназистов, и мы пошли (в том же здании) рассматривать вещи и портреты Пушкина, которые пока хранятся в этой гимназии. Затем, придя домой, застал записку Григоровича, приглашающего к 6-ти часам обедать у Тестова. Не знаю, пойду ли. Покамест сел написать тебе мой бюллетень. В 8-м часу потянусь к Елене Павловне за твоим письмом. (Вчера 29-го ничего не (4) получил.) Затем домой и сяду за мою статью, которую надо подделать. Вообще житье гадкое, погода здесь прекрасная. Все-то здешние у себя дома, а я один в гостях. Вечером еще припишу.
30/31 мая. Час ночи.
В трактире у Тестова Григоровича не нашел, воротился домой и обедал дома. Потом поехал к Елене Павловне; ее дома не застал, а дети ее сказали мне, что письма от тебя не было. - Рассчитываю, что, может быть, завтра будет от тебя письмо наверно. Сообразив теперь, понимаю, что по всем прежним письмам моим ты всё заключала, что я приеду 28-го. Но теперь уж, верно, ты получила и те письма, где я колебался: остаться или нет, стало быть, уж теперь ответишь. Дурно то, что, уезжая, мы как-то не договорились, ибо ты могла бы мне все-таки, хотя и рассчитывая, что я ворочусь, писать на имя Елены Павловны, на всякий случай, чтоб не оставить меня в неведении о тебе и о детях. Рассчитываю тоже, что ко 2-му числу получу от тебя письмо уже прямо в "Лоскутную". (Письма же на имя Елены Павловны, то есть прежние, ты, конечно, и прежде могла бы писать безбоязненно, ибо, хоть я бы и уехал, все же бы их никто не распечатал, и она переслала бы их обратно в Руссу.) В "Лоскутную" же адресовать ко мне для меня будет гораздо выгоднее, чтоб не ездить к Елене Павловне, потому что теперь скоро (со 2-го числа) наступит большая возня, надо будет рано вставать и весь день маяться, так что ездить к Елене Павловне даже и не нашел бы вовсе времени. Да и к тебе перестану писать подробные бюллетени, как теперь: не будет совсем времени. 3-го числа будет Дума принимать гостей, речи, фраки, клаки и белые галстухи. А там открытие, думский обед, затем 5-го и 6-го по утрам заседания, а вечером литературные чтения. Да 2-го вечернее заседание "Любителей", где решат, кому в какое время читать. Я, кажется, буду читать уже во 2-й день, то есть 6-го. Ездил к Морозову и в Центральный магазин. От Морозова получил всего 14 рубл<ей>, а в Центральном хоть и сказали мне, что ты писала к ним, чтоб мне выдали (5) 50 руб., но просят отсрочки до 6-го или 7-го числа. Так как (6) 7-го надо сверх того сделать прощальные визиты, а их много, то выеду разве только 8-го, с каким поездом - уведомлю потом. Но 8-го постараюсь выехать наверно. Заезжал к Варе. Много мне рассказывала про своих внуков и спрашивала совета. Умная она и хорошая женщина. - Вечером кой-что успел просмотреть в рукописи. Что детки? Очень тоскливо по них, не слышно их голосочков. И всё думаю: не случилось ли у вас чего? Если что, боже сохрани, случится, непременно телеграфируй. До свидания, голубчик. Ах, кабы получить от тебя хоть что-нибудь завтра! Обнимаю тебя и деток и крепко вас всех целую. А "Карамазовы"-то, "Карамазовы!" Эх, в какую суетню въехал. Но теперь все-таки озабочен открытием: партия у них сильная. Обнимаю тебя опять и опять.
Твой Ф. Достоевский.
Вчера сломалась днем моя золотая рукавная запонка, которую чинили, одна половинка осталась в рукаве рубашки, а другая, должно быть, где-нибудь вылетела на улице.
(1) далее было: и я непременно взвалю на него да и всю (2) было: опять к Юрьеву (3) в подлиннике ошибочно: директора (4) ничего не вычеркнуто, очевидно, А. Г. Достоевской (5) было: выдали отсрочки (6) было: Так что
867. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
31 мая 1880. Москва
Москва 31 мая/80
1 час пополуночи. Гостиница "Лоскутная" в № 33-м.
Милая Аня, хотел было сегодня тебе не писать, потому что почти не об чем, но так как получил наконец твое письмецо (от 29-го) и так как действительно предстоят скоро дни, что за суетой ничего тебе писать не буду или много что по две строчки, то и решился написать теперь. Очень рад, что вы все здоровы, рад за деток и за тебя, и как будто тоска свалилась с сердца, хотя все-таки скучно. Неприятно мне, что бабушка не подождет (1) до моего приезда. Автограф Гоголя Аксаков мне обещал, хотя не знаю, успею ли теперь взять у него. К тому же я перезабыл и смешал в голове все адрессы, так что надо опять справиться у Юрьева, где кто живет. Сегодня заходил ко мне какой-то (забыл фамилью) математик и долго сидел в ресторане в читальной, ожидая, когда я проснусь. Когда я проснулся, он вошел и пробыл ровно 3 минуты и даже не сел: зашел объявить о своем глубоком уважении, удивлении к таланту, преданности, благодарности, высказал горячо и ушел. Седоватый человек, пресимпатическое лицо. Затем посетил меня Лопатин, тот молодой человек, на которого возложил Поливанов хлопотать о моих билетах в Думе, о доставлении мне всех нужных сведений и проч. Я с ним разговорился и к приятному удивлению моему нашел в нем человека чрезвычайно умного, весьма мыслящего, чрезвычайно порядочного и в высшей степени моих убеждений. Одним словом, весьма приятная встреча. Затем был Григорович, много врал и злословил. Там, кажется, действительно приготовляются что-то сказать нам в пику в заседаниях и на обедах. (2) Григорович тоже депутатом от Литературного фонда, в числе четырех: Тургенева, Гаевского, Краевского. Веем выдал фонд по 150 р. на расходы. Наше только Славянское общество не выдало ничего, да и не могло. Григорович жалуется, что 150 р. мало. Действительно так, здесь деньги идут, и хоть я и мало здесь заплачу в гостинице, но проживусь все-таки крепко: извозчики, табак, особые расходы, покупка венков и проч. Кстати, 2 обязательные венка приготовляет Дума за 30 р. с депутата за оба. Если Золотарев не приедет, то, уж конечно, я заплачу. Надо тоже купить запонки. Обедал в Московском трактире. Затем был у Елены Павловны и получил твое письмецо. Маня ее премилая девушка 20 лет, и в гостях у них я заметил одного молодого доктора, интересовавшегося очень Маней. Затем с Висковатовым отправились к Ан<не> Ник<олаевне> Энгельгардт, которая все сидит дома с больной ногой, и застали у ней доктора, который говорит, что болезнь довольно серьезна, если чуть-чуть пренебречь. Затем воротились с Висковатовым домой пешком. Утром были две грозы и ливень, а теперь ночь прелестная. Ну вот и все пока мои похождения. Как-то я прочту мою речь? Аксаков объявил, что у него то же самое, что у меня. Это дурно, если мы так уже буквально сойдемся в мыслях. Как-то прочту потом на вечерних литературных чтениях сцену Пимена и Скупого рыцаря и тоже (главное) на смерть Пушкина Тютчева? Любопытно, как встречусь с Анненковым? Неужели протянет руку? Не хотелось бы столкновений. Ну до свидания, голубчик Аня. Расцелуй деток крепко, напомни им обо мне. Кланяйся Анне Николавне, что она, хорошо ли съездила? Я-то неудачно. Надо бы зайти к Каткову. Прощай, обнимаю тебя крепко.
Твой весь Ф. Достоевский.
Деток благословляю.
Р. S. Оринька подле тетеньки, играет с ней в карточки, где ему сюда.
(1) было: доживет (2) далее было начато: В заседаниях и
868. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
2-3 июня 1880. Москва
Москва 2/3 июня/80 г.,
2 часа ночи. Гостиница "Лоскутная" в № 33-м.
Милый дружочек мой Анечка, вчера вечером ездил к Елене Павловне за твоим письмом и ничего не получил, а сегодня пришло от тебя в "Лоскутную" 2 письма, одно в 4 часа пополудни, а другое вечером. Одним словом, в "Лоскутную", по-видимому, скорее доходит, чем к Елене Павловне. Как я рад, что вы все здоровы и меня помните. Детишек крепко поцелуй за их славные приписки и непременно купи им гостинцев, слышишь, Аня? Детям и медицина предписывает сладкое. - Про замечание твое, что я тебя мало люблю, скажу, что оно глуписсимо: я только о тебе и думаю, да еще о детках. И во сне тебя вижу.
Здесь у нас опять была кутерьма. Вчера вдруг отложили опять празднество, но теперь уже твердо известно, что открытие будет 6-го. (1) Венки изготовляет Дума по 8 р. за венок, надо 2, закажу завтра. Золотарева нет. Поезд из Петербурга с разными депутатами на празднество придет только послезавтра.
- Теперь дальше: 3-го дня вечером было совещание у Тургенева почти всех участвующих (я исключен), что именно читать, как будет устроен праздник и проч. Мне говорят, что у Тургенева будто бы сошлись нечаянно. Это мне Григорович говорил как бы в утешение. Конечно, я бы и сам не пошел к Тургеневу без официального от него приглашения; но простофиля Юрьев, которого я вот уже 4 суток не вижу, еще 4 дня назад проговорился мне, что соберутся у Тургенева. Висковатов же прямо сказал, что уже три дня тому получил приглашение. Стало быть, меня прямо обошли. (Конечно, не Юрьев, это дело Тургенева и Ковалевского, тот только спрятался и вот почему, должно быть, и не кажет глаз.) И вот вчера утром, только что я проснулся, приходят Григорович и Висковатов и извещают меня, что у Тургенева составилась полная программа праздников и чтений вечерних. И так как-де позволена музыка и представление "Скупого рыцаря" (актер Самарин), то чтение Скупого рыцаря у меня взято, взято тоже и чтение стихов на смерть Пушкина (а я именно эти-то стихи и желал прочесть). Взамен того мне определено (2) прочесть стихотворение Пушкина "Пророк". От "Пророка" я, пожалуй, не откажусь, но как же не уведомить меня официально? Затем Григорович объявил мне, что меня просят прибыть завтра в залу Благородного собрания (подле меня), где будет окончательно всё регламентировано. Они ушли, и приходит Лопатин, молодой человек, прикомандированный от Поливанова (председателя Комиссии) руководить меня. Тот объявляет, напротив, что уже всё регламентировано (значит, моего мнения не спрашивали), меня же просят прибыть в Благородное собрание уже на генеральную репетицию, с публикой, и главное, с воспитанниками гимназий (бесплатными), и репетиция, главное, устраивается для них, чтоб и они могли слышать. Таким образом, я поставлен в прещекотливое положение: решено без меня, моего согласия на чтение назначенных мне сочинений не спрашивали, а между тем нельзя не быть на репетиции и не прочесть для молодежи: скажут, Достоевский не хотел читать для молодежи. Наконец, совсем неизвестно, в чем прибыть завтра: во фраке ли, так как публика, или в сертуке. Я был очень вчера недоволен. Обедал один, вечером заехал к Анне Николавне, у ней сидел доктор (ее знакомый и даже родственник), я посидел полчаса, и они оба меня проводили до гостиницы. Сегодня утром опять зашли Григорович и Висковатов, и Григорович стал приставать обедать всем троим вместе в "Эрмитаже", а потом идти в сад "Эрмитажа" провести вечер. Они ушли, и я поехал к Каткову, у которого дня три не был. У него как раз застал Любимова, только что получившего письмо от Маркевича, который и обещает доставить роман на июнь. Так что я с этой стороны могу теперь быть спокоен. Это очень хорошо. У Каткова застал новости: он только что получил официальное письмо от Юрьева, как председателя Общ<ества> люб<ителей> российскою словесности (и которого Катков с незапамятных годов членом). Юрьев уведомляет, что билет пригласительный на празднества был послан в "Московские ведомости" ошибочно и (3) что совет "Любителей" по устройству празднеств отменил это приглашение как не согласное с решением совета, так что приглашение надо считать не бывшим. Форма письма самая сухая и грубая. Меня уверял Григорович, что Юрьева заставили это подписать, главное Ковалевский, но, конечно, и Тургенев. Катков был видимо раздражен. "Я бы и без них не поехал", - сказал он мне, показав письмо. Хочет всё напечатать в "Ведомостях". Это уж, разумеется, просто свинство, да и главное, что и права они не имели так поступать. Мерзость, и если б только я не ввязался так в эти празднества, то, может быть, прервал бы с ними сношения. - Резко выскажу всё это Юрьеву. - Затем спросил у Каткова: кто здесь лучший зубной врач, и он мне назвал Адельгейма на Кузнецк<ом> мосту, сказав, чтоб я объявил Адельгейму, что прислал меня он, Катков. Пружинка моя совсем уж сломалась и держалась на ниточке. Съездил к Адельгейму, и тот вставил мне новую за 5 руб. От него приехал домой, и с Григоровичем и Висковатовым поехали в "Эрмитаж", обедали по рублю. Между тем начался дождь. Чуть утихло, мы вышли и уселись на одного извозчика втроем до саду "Эрмитажа". Дорогой поднялся дождик. Приехали в сад мокрые и спросили в ресторане чаю. Билеты же взяли рублевые с правом входа в театр "Эрмитажа". Дождь не унимался. Григорович врал разные рассказы. Затем пошли в театр уже на 2-й акт: шла опера "Paul и Virginie", театр, оркестр, певцы - всё недурно, только музыка плоха (в Париже выдержала несколько сот представлений). Прелестная декорация третьего акта. Не дослушав, вышли и отправились по домам. Я у себя в "Лоскутной" застал твое 2-е письмо. Чрезвычайно волнует меня завтрашняя репетиция. Григорович обещал за мной зайти, чтоб ехать вместе. Немного промок. Я еще прежде с дороги простудил немного левую руку, и она мозжит. Вчера утром заехал к архиерею викарию Алексею и к Николаю (Японскому). Очень приятно было с ними познакомиться. Сидел около часу, приехала какая-то графиня, и я ушел. Оба по душе со мной говорили. Изъяснялись, что я посещением сделал им большую честь и счастье. Сочинения мои читали. Ценят, стало быть, кто стоит за бога. Алексей глубоко благословил меня. Дал вынутую просвирку. - До свидания, голубчик, если можно будет, то напишу и завтра. Очень люблю тебя. Деток крепко целуй. Анне Николавне глубокий мой поклон и сверх того поцелуй у ней за меня ручку. Твой весь без раздела.
Ф. Достоевский.
Но ты ошибаешься. Сны прескверные. Слушай: ты всё пишешь о записке в дворянство. Во-1-х, если б и можно было, то мне некогда, а главное, это дело надо делать из Петербурга, через людей. Лично всё объясню тебе, непременно сделаю в Петербурге. Здесь же все хлопоты ни к чему не послужат: я знаю твердо, убежден.
Был у Ив<ана> Аксакова - на даче. Чаев тоже на даче. К Муравьеву съезжу, если найду время. Еще раз весь твой тебя любящий.
(1) далее было: Известно (2) вместо: мне определено - было: я могу (3) было: но
869. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
3-4 июня 1880. Москва
Москва 3/4 июня. Вторник.
2 часа пополуночи. Гостиница "Лоскутная" в № 33-м.
Милый мой голубчик Анечка, сегодня опять получил дорогое твое письмецо и очень тебе благодарен, что не забываешь своего Федичку. Со времени частых твоих писем я решительно стал за вас спокойнее и благополучнее. Рад и за детишек. Сегодня утром пришел ко мне Лопатин и принес расписание дней и церемоний. Выдал ему 17 руб. заказать венки в Думе (2 венка). Золотарева нет. Затем приходил один присяжный поверенный Соловьев отрекомендоваться, человек ученый, и явился лишь говорить о мистически религиозных вопросах. (Новое поветрие.) Затем пришли Григорович и Висковатов, а затем и Юрьев. Мы страшно все напали на Юрьева за письмо его к Каткову и распекли его ужасно. Затем обедал в "Московском трактире" с Григоровичем и Висковатовым и там познакомился с актером Самариным, старикашка 64 лет, всё говорил мне речи. Он будет играть на празднестве в честь Пушкина Скупого рыцаря в костюме (отбил у меня). В "Москов<ском> трактире" всегда очень полно, и редко кто не оглядывается и не смотрит на меня: все знают, что это я. Самарин рассказывал много анекдотов о московской артистической жизни. Затем, прямо с обеда, поехали в общее заседание комиссии "Любителей" для устройства окончательной программы утренних заседаний и вечерних празднеств. Были Тургенев, Ковалевский, Чаев, Грот, Бартенев, Юрьев, Поливанов, Калачев и проч. Всё устроили к общему согласию. Тургенев со мною был довольно мил, а Ковалевский (большая толстая туша и враг нашему направлению) всё пристально смотрел на меня. Я читаю на второй день утренних заседаний 8-го июня, а 6-го июня вечером читаю на празднестве (разрешена музыка) сцену Пимена из "Б<ориса> Годунова". Многие читают, почти все: Тургенев, Григорович, Писемский и проч. На 2-й же вечер 8-го прочту 3 стихотв<орения> Пушкина (2 из "Западн<ых> славян" и "Медведицу") и в финале для заключения празднества - "Пророк" Пушкина - маленькое, страшно трудное для чтения стихотворение, меня назначили нарочно в финале, чтоб произвести эффект
- не знаю: произведу ли? Ровно в 10 часов воротился домой и застал у себя 2 карточки Суворина с надписанными строчками, что придет в 10 часов. 2 карточки были ошибкой (склеились), и я, подумав, что он был уже и во второй раз, но меня не застал, поехал в "Славянский базар" (очень недалеко от меня), где он стоит, и застал его с женою за чаем. Ужасно был рад. Он у "Любителей" за статьи свои на фербанте, как и Катков. Ему даже не дали билета на утренние заседания. У меня же был один билет (Варин, от которого она отказалась), и я предложил ему. Очень был рад. Уж даст он им знать потом. Сказал, что здесь и Буренин. Завтра условились быть у Чаева в Оружейной палате, где он нам всё покажет, в 1 час пополудни. Хотели прийти Григорович и Висковатов. Не знаю, придут ли в Оружейную. С заседания же они, в 10-м часу, укатили в "Эрмитаж" и ужасно просили, чтоб и я приехал, но я пошел к Суворину. Суворин, узнав, что мы завтра в Оружейную, упросил, чтоб и его с женой взяли, а затем стал просить, чтоб обедать вместе в "Москов<ском> трактире", он с женой, я, Григорович и Висковатов, а затем чтоб поехать в "Эрмитаж". Он, кажется, бедный, с женою скучает. На вечерних чтениях, где билеты за деньги, он, конечно, будет. Репетиция чтений для воспитанников заведении отменена. Послезавтра, 5-го, начинаются мытарства: надо всем депутатам во фраках являться в Думу, и, боюсь, времени не будет тебе писать. Завтра же в нашу "Лоскутную" прибудет поезд петербургских депутатов. (1) 8-го всё кончится, 9-го, стало быть, сделаю визиты, а 10-го выеду - в котором часу, напишу потом. Майков телеграфировал, что приедет. Полонский тоже. Ну вот и всё, моя радость. Таким образом, жди меня 11-го числа, и это, кажется, уж наверно. Суворин просит мою статью. Решительно не знаю, кому дать и как это устроить. А вот пусть послушает меня на чтении.
Крепко обнимаю тебя, моя Анька. Крепко целую тебя за "очень-очень и очень". Детишек целую и благословляю. Ты пишешь, что видишь сны, а что я тебя не люблю. А я всё вижу прескверные сны, кошмары, каждую ночь о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей-богу. Страшно мучаюсь. Целую тебя тысячу раз.
Твой весь Ф. Достоевский.
Поцелуй деток.
На конверте: В Старую Руссу (Новгородской губернии).
Ее высокородию
Анне Григорьевне Достоевской. (В собственном доме).
(1) далее было: Приеду
870. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
5 июня 1880. Москва
5 июня/80 год. Москва.
8 часов пополудни. Гостиница "Лоскутная" в № 33-м.
Милая моя Анютка, милое письмецо твое от 3-го июня получил сейчас и спешу написать тебе поскорее, сколько успею. Нет, голубчик, не требуй теперь длинных писем, потому что и просто-то письма вряд ли можно теперь будет писать. Буквально всё время, все минуты теперь будут заняты, да и недостанет их, это наверно на здешнее даже, не то что на письма. По порядку: вчера утром я, Суворин, его жена, Буренин и Григорович были в Кремле, в Оружейной палате, осматривали все древности, показывал смотритель Ор<ужейной> палаты Чаев. Затем ходили в Патриаршую ризницу. Всё осмотрев, зашли в трактир Тестова закусить и остались обедать. Затем был на минутку у Анны Ник<олаевны> Энгельгардт и разъезжал по мелким покупкам. Затем по условию отправились в сад "Эрмитаж". Там уже были Суворины, Григорович и проч. В саду же встретил почти всех прибывших в эти дни из Петербурга депутатов. Множество всяких лиц подходили ко мне - и не запомню кто: Гаевский, Лентовский, певец Мельников и проч. Сидел и всё время пил чай с Сувориными и с Бурениным и изредка с Григоровичем, который то подходил, то уходил. И вдруг разнеслась весть, что праздник отложен. Распустил слух Мельников. Было 11 часов, и я поехал к Юрьеву. Его не застал, но застал его сына, и тот меня разуверил, что вздор. (Так и оказалось.) Приехав домой, принялся готовиться к чтению 6-го числа вечером. Это, Аня, дело бедовое. Представь себе, что открытие памятника будет 6-го числа, с 8 часов утра я на ногах. В два часа кончится церемония, и начнется акт в Университете (но, ей-богу, не буду). Затем обед в Думе, и в тот же день, вечером в 9 часов, я, усталый, измученный, наевшийся и напившийся, должен читать монолог Летописца - самый трудный к чтению, требующий спокойствия и обладания сюжетом. Чувствую, что я еще не готов. Сверх того я почти начинаю вечер самое неудобнейшее положение. Досидел до 4-х часов утра, и вдруг сегодня в 10-м часу разбудил меня Золотарев, наконец прибывший. Спал я всего 5 1/2 часов. За ним Федор Петрович Корнилов, за ними Лопатин с венками (венки стоят 14, а не 17 рублей, но без лент). Ленты я навязал Золотареву, равно и завтрашние хлопоты. Таким образом, за венки 14 руб., выходит, заплачу один я. Правда, Золотареву будут не меньше стоить дальнейшие аксессуары. В 2 часа поехали в Думу, все депутации (депутаций до 100) являлись к Ольденбургскому и проч. Церемониал, суетня, беспорядок - не описываю слишком, невозможно описать. Видел (и даже говорил) с дочерью Пушкина (Нассауской). Подходил ко мне Островский - здешний Юпитер. Любезно подбежал Тургенев. Другие партии либеральные, между ними Плещеев и даже хромой Языков, относятся сдержанно и как бы высокомерно: дескать, ты ретроград, а мы-то либералы. И вообще здесь уже начинается полный раздор. Боюсь, что из-за направлений во все эти дни, пожалуй, передерутся. История исключения Каткова из празднеств возмущает ужасно многих. Пришел домой и обедал дома в надежде получить (1) от тебя письмецо, ответить тебе, затем просмотреть Пимена и мою статью, затем приготовить рубашку, фрак к завтраму, а затем пораньше лечь спать. Но пришел Гайдебуров, и вдруг затем Майков, а затем Висковатов. Майков приехал читать свои стихи. Ничего, мил и обнюхивает воздух. Я с ними поговорил, но, однако, их выпроводил. Дописываю теперь тебе эти строки. Золотарев не приходит, а эти проклятые венки у меня еще не прибранные. Утром давеча был у Вари. Завтра весь день до ночи занят. Послезавтра заседание "Любителей", но в этом заседании я не читаю, и потом обед человек в 500 с речами, а может быть, и с дракой. Затем 8-го утром моя речь в заседании "Любителей", а вечером на 2-м празднике "Любителей" между другими я читаю несколько стихотворений Пушкина и закапчиваю "Пророком". Ты пишешь, чтоб я выезжал 8-го, а я только 9-го примусь делать визиты. Выеду 10-го и прибуду 11-го, да и то если не задержат на лишний день, а это очень возможно. Но я тогда уведомлю. Выезжать же мне гораздо выгоднее с поездом в 1 час пополудни, чем с утрешним, ибо тут только одна ночь не спать, а с утрешним две, потому что ночь накануне я не буду спать или просыпаться в 6 часов. Письма же собственно о моих торжествах писать нечего, ибо мой день 8-го числа, а 6-го я только Пимена прочту. Подумай, надо будет статью поместить. Хоть три претендента, но Юрьев что-то опять отлынивает, Катков, после своей истории, станет, пожалуй, совсем равнодушным ко всему делу открытия, а Суворин, пожалуй что, и не повторит желания. Тогда плохо. А потому очень могу опоздать день. Давеча от Александрова получил 18-75 к. Заезжал к Варе и, кажется, совсем простился. Она уезжает к дочери на дачу. - До свидания, голубчик, разумеется, 1000 вещей не успел написать, что упишешь в письме? Но теперь писем совсем, совсем писать некогда! (2) Да и в эту минуту истощен и обессилен весь. А еще долго надо сидеть. А когда выспаться? Обнимаю тебя крепко-накрепко, детишек целую ужасно и благословляю.
Ваш весь Ф. Достоевский.
О любви писать не хочу, ибо любовь не на словах, а на деле. Когда-то доберусь до дела? Давно пора.
Но хоть по нескольку строк все-таки буду писать.
На конверте: В Старую Руссу (Новгородской губернии).
Ее высокородию
Анне Григорьевне Достоевской. (В собственном доме.)
(1) было: выслать далее было начато: Дело
871. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
7 июня 1880. Москва
Москва. Июня 7-го 80 г. Полночь. Гостиница "Лоскутная" в № 33-м.
Милый мой дорогой голубчик Аня, пишу тебе наскоро. Открытие монумента произошло вчера, где же описывать? Тут и в 20 листков не опишешь, да и времени ни минуты. Вот уже 3-ю ночь сплю только по 5 часов, да и эту ночь тоже. - Затем был обед с речами. Затем чтение на вечернем литературном празднестве в Благородном собрании с музыкою. Я читал сцену Пимена. Несмотря на невозможность этого выбора (ибо Пимен не может же кричать на всю залу) и чтение в самой глухой из зал, я, говорят, прочел превосходно, но мне говорят, что мало было слышно. Приняли меня прекрасно, долго не давали читать, всё вызывали, после чтения же вызвали 3 раза. Но Тургенева, который прескверно прочел, вызывали больше меня. За кулисами (огромное место в темноте) я заметил до сотни молодых людей, оравших в исступлении, когда выходил Тургенев. Мне сейчас подумалось, что это клакеры, claque, посаженные Ковалевским. Так и вышло: сегодня, ввиду этой клаки, на утреннем чтении речей Иван Аксаков отказался читать свою речь после Тургенева (в которой тот унизил Пушкина, отняв у него название национального поэта), объяснив мне, что клакеры заготовлены уже давно и посажены нарочно Ковалевским (всё его студенты и все западники), чтоб выставить Тургенева, как шефа их (1) направления, а нас унизить, если мы против них пойдем. Тем не менее прием, мне оказанный вчера, был из удивительных, хотя хлопала одна лишь публика, сидевшая в креслах. Кроме того: толпами мужчины и дамы приходили ко мне за кулисы жать мне руку. В антракте прошел по зале, и бездна людей, молодежи, и седых, и дам, бросались ко мне, говоря: "Вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли "Карамазовых"". (Одним словом, я убедился, что "Карамазовы" имеют колоссальное значение.) Сегодня, выходя из утреннего заседания, в котором я не говорил, случилось то же. На лестнице и при разборе платьев меня останавливали мужчины, дамы и прочие. За вчерашним обедом две дамы принесли мне цветов. Некоторых из них я узнал по фамилии: Третьякова, Голохвастова, Мошнина и другие. К Третьяковой поеду послезавтра с визитом (жена имеющего картинную галерею). Сегодня был второй обед, литературный, сотни две народу. Молодежь встретила меня по приезде, потчевали, ухаживали за мной, говорили мне исступленные речи - и это еще до обеда. За обедом многие говорили и провозглашали тосты. Я не хотел говорить, но под конец обеда вскочили из-за стола и заставили меня говорить. Я сказал лишь несколько слов, - рев энтузиазма, буквально рев. Затем уже в другой зале обсели меня густой толпой - много и горячо говорили (за кофеем и сигарами). Когда же в 1/2 10-го я поднялся домой (еще 2 трети гостей оставалось), то прокричали мне ура, в котором должны были участвовать поневоле и несочувствующие. Затем вся эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за мной на улицу и усадили меня на извозчика. И вдруг бросились целовать мне руки - и не один, а десятки людей, и не молодежь лишь, а седые старики. Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм. Майков здесь и был всему свидетелем, должно быть, удивился. Несколько незнакомых людей подошли ко мне и шепнули, что завтра, на утреннем чтении, на меня и на Аксакова целая кабала. Завтра, 8-го, мой самый роковой день: утром читаю статью, а вечером читаю 2 раза, "Медведицу" и "Пророка". "Пророка" намерен прочесть хорошо. Пожелай мне. Здесь сильное движение и возбуждение. Вчера на думском обеде Катков рискнул сказать длинную речь и произвел-таки эффект, по крайней мере в части публики. Ковалевский наружно очень со мной любезен и в одном тосте, в числе других, провозгласил мое имя, Тургенев тоже. Анненков льнул было ко мне, но я отворотился. Видишь, Аня, пишу тебе, а еще речь не просмотрена окончательно. 9-го визиты и надо окончательно решиться, кому отдать речь. Всё зависит от произведенного эффекта. Долго жил, денег вышло довольно, но зато заложен фундамент будущего. Надо еще речь исправить, белье к завтраму приготовить. - Завтра мой главный дебют. Боюсь, что не высплюсь. Боюсь припадка. - Центральный магазин не платит, хоть ты что. До свидания, голубчик, обнимаю тебя, целуй деток. 10-го, вероятно, выеду и приеду 11-го к ночи. Готовься. Крепко вас всех обнимаю и благословляю.
Твой вечный и неизменный Достоевский.
NB. Письмо это, должно быть, будет последним.
На конверте: В Старую Руссу (Новгородской губернии).
Ее высокоблагородию
Анне Григорьевне Достоевской. (В собственном доме.)
(1) было: настоящего
872. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
8 июня 1880. Москва
Москва 8 июня/80
8 часов пополудни. Гостиница "Лоскутная" (в № 33-м).
Дорогая моя Аня, я сегодня послал тебе вчерашнее письмо от 7-го, но теперь не могу не послать тебе и этих немногих строк, хоть ужасно измучен, нравственно и физически, так что это письмо ты получишь, может быть, вместе с первым. Утром сегодня было чтение моей речи в "Любителях". Зала была набита битком. Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой (1) произвела она! Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать - ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от "Карамазовых"!). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем. Всё, что я написал о Татьяне, было принято с энтузиазмом. (Это великая победа нашей идеи над 25-летием заблуждений!). Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил - я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты - всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: "Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, Вы наш святой, вы наш пророк!". "Пророк, пророк!" - кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. "Вы гений, вы более чем гений!" - говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя - есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумении, "Да, да!" - закричали все и вновь обнимались, вновь слезы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа! Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество люб<ителей> рос<сийской> словесности единогласно избирает меня своим почетным членом. Опять вопли и крики. После часу почти перерыва стали продолжать заседание. Все было не хотели читать. Аксаков вошел и объявил, что своей речи читать не будет, потому что всё сказано и всё разрешило великое слово нашего гения - Достоевского. Однако мы все его заставили читать. Чтение стало продолжаться, а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: "За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!". Все плакали, опять энтузиазм. Городской глава Третьяков благодарил меня от имени города Москвы. - Согласись, Аня, что для этого можно было остаться: это залоги будущего, залоги всего, если я даже и умру. - Придя домой, получил твое письмо о жеребенке, но ты пишешь так неласково о том, что я засиделся. Через час пойду читать на 2-м литературном празднестве. Прочту "Пророка". Завтра визиты. Послезавтра, 10-го, поеду. 11-го приеду - если что очень важное не задержит. Надо поместить статью, по кому - все рвут! Ужас. До свидания, моя дорогая, желанная и бесценная, целую твои ножки <неск. слов нрзб.> Обнимаю детей, целую, благословляю. Целую жеребеночка. Всех вас благословляю. Голова не в порядке, руки, ноги дрожат. До свидания, до близкого.
Твой весь наивесь Достоевский.
На конверте: В Старую Руссу (Новгородской губернии).
Ее высокоблагородию
Анне Григорьевне Достоевской. (В собственном доме.)
(1) было: котор<ый>
873. К. А. ИСЛАВИНУ
10 июня 1880. Москва
Москва
10 июня Вокзал Ник<олаевской> дороги.
Милостивый государь Константин Николаевич.
Простите, если неправильно пишу Ваше имя и отчество. Мне вчера так послышалось.
Благодарю за своевременную доставку известия.
Покорнейшая и убедительнейшая просьба моя напечатать статью как можно немедленнее, и непременно в "Московских ведомостях". (Я думаю в 2-х №-х?)
Поправок от Редакции (то есть в смысле и содержании) убедительнейше прошу не делать.
И наконец, опять повторяю чрезвычайную просьбу мою о присылке мне, по нижеприлагаемому адрессу, корректуры как можно скорее. Корректуру не задержу ни мгновения.
Примите уверение в глубочайшем моем уважении.
Покорный слуга Ваш
Ф. Достоевский.
Старая Русса, Новгородской губернии, Ф. М. Достоевскому, в собственном доме.
874. К. А. ИСЛАВИНУ
12 июня 1880. Старая Русса
Старая Русса.
12 июня/80, Четверг.
Милостивый государь Константин А<лександрови>ч.
Извините, что опять не умею написать Ваше имя-отчество, запамятовав, как Вы себя назвали, карточки же Вы своей мне не передали. Вчера послал ответ на Вашу телеграмму в 11-м часу. Не знаю, когда дошло к Вам и успело ли дойти вовремя. На мнение же Михаила Никифоровича о том, что надо напечатать поспешнее, я тем более согласен, что сам, в дороге еще, пришел к тому же заключению. Главное же я не корректурных неисправностей боюсь (тем более, если просмотрит сам Михаил Никифорович, как Вы уведомляете), а того боюсь, что многие шероховатости, лишние слова, и даже две-три лишние фразы, которые я сам выпустил в чтении, останутся неисправленными. Как я ни исправлял статью, сидя дома, но, когда стал читать, то увидел, что 2-3 фразы оказались лишь ненужными повторениями уже сказанного прежде. Шероховатости же есть большие, например, в одном месте, в течение каких-нибудь шести строк, раза три или четыре употреблено слово "несомненно", которое легко могло быть заменено другим словом. Так что в результате я не того опасаюсь, что будут перемены (о чем Вы и успокоиваете меня в телеграмме, что "изменений не будет"), а того, что их не будет. Во всяком случае, большая просьба моя сохранить листки рукописи, хотя бы их и разрезали надвое наборщики типографии, и немедленно по напечатании выслать их мне сюда, в Старую Руссу. Очень, очень об этом прошу Вас и жду от Вас, многоуважаемый К<онстантин> А<лександрови>ч, Вашего доброго личного участия в этом случае.
Здесь, в Старой Руссе, я все газеты и письма получаю весьма поздно. "Московские же ведомости" особенно, потому что их сперва присылают в Петербург и уже из Петербурга они приходят в Старую Руссу. А потому очень тоже прошу выслать мне №, где будет напечатана моя речь, сюда, в Старую Руссу, экстренно, невзирая, что в Петербург тоже пошлется. Ради бога, не забудьте распорядиться, ибо очень может быть, что Ваш № в Старую Руссу все же раньше придет ко мне, чем из Петербурга, В одном или в нескольких №-х будет напечатано? Примите уверение в моем глубоком уважении, а вместе с тем, будьте добры, передайте мой глубочайший поклон Михаилу Никифоровичу, с которым я не успел лично проститься. Всегдашний слуга Ваш
Ф. Достоевский.
875. С. А. ТОЛСТОЙ
13 июня 1880. Старая Русса
Старая Русса 13 июня 1880 г.
Глубокоуважаемая графиня София Андреевна,
Вчера лишь воротился из Москвы в Старую Руссу и нашел вашу прелестную коллективную телеграмму. Как хорошо с вашей стороны, что вы (все) обо мне вспомнили. Почувствуешь, что имеешь таких добрых друзей, и светло становится на сердце.
О происшествиях со мною в Москве Вы, конечно, узнали из газет. Но газеты и не могли, даже если б хотели, передать все факты, потому что корреспонденты многому и не могли быть свидетелями. Верите ли, дорогие друзья мои, что в публике, после речи моей, множество людей, плача, обнимали друг друга и клялись друг другу быть впредь лучшими, и это не единичный факт, я слышал множество рассказов от лиц совсем мне незнакомых даже, которые стеснились кругом меня и говорили мне исступленными словами (буквально) о том, какое впечатление произвела на них моя речь. Два седых старика подошли ко мне, и один из них сказал: "Мы двадцать лет были друг другу врагами и двадцать лет делали друг другу зло: после Вашей речи мы теперь, сейчас помирились и пришли Вам это заявить". Это были люди мне незнакомые. Таких заявлений было множество, а я был так потрясен и измучен, что сам был готов упасть в обморок, как тот студент, которого привели ко мне в ту минуту студенты-товарищи и который упал передо мной на пол в обмороке от восторга. Факт, по-видимому, невероятный, но он, однако же, явился в "Современных известиях", газете Гилярова-Платонова, который сам был свидетелем факта. Что же до дам, то не курсистки только, а и все, обступив меня, схватили меня за руки и, крепко держа их, чтобы я не сопротивлялся, принялись целовать мне руки. Все плакали, даже немножко Тургенев. Тургенев и Анненков (последний положительно враг мне) кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая. "Не потому, что Вы похвалили мою Лизу, говорю это", - сказал мне Тургенев. Простите и не смейтесь, дорогие мои, что я в такой подробности всё это передаю и так много о себе говорю, но ведь, клянусь, это не тщеславие, этими мгновениями живешь, да для них и на свет являешься. Сердце полно, как не передать друзьям! Я до сих пор как размозженный.
Не беспокойтесь, скоро услышу: "смех толпы холодной". Мне это не простят в разных литературных закоулках и направлениях. Речь моя скоро выйдет (кажется, уже вышла вчера, 12-го, в "Московских ведомостях" ), и уже начнут те ее критиковать - особенно в Петербурге! По газетным телеграммам вижу, что в изложении моей речи пропущено буквально всё существенное, то есть главные два пункта. 1) Всемирная отзывчивость Пушкина и способность совершенного перевоплощения его в гении чужих наций - способность, не бывавшая еще ни у кого из самых великих всемирных поэтов, и во-2-х, то, что способность эта исходит совершенно из нашего народного духа, а стало быть, Пушкин в этом-то и есть наиболее народный поэт. (Как раз накануне моей речи Тургенев даже отнял у Пушкина (в своей публичной речи) значение народного поэта. О такой же великой особенности Пушкина: перевоплощаться в гении чужих наций совершенно никто-то не заметил до сих пор, никто-то не указал на это.) Главное же, я, в конце речи, дал формулу, слово примирения для всех наших партий и указал исход к новой эре. Вот это-то все и почувствовали, а корреспонденты газет не поняли или не хотели понять.
Но оставим это: речь моя вышла вчера или сегодня в "Московских ведомостях", (увы, без моей корректуры, наскоро, ужас!), а к 1-му числу июля я издаю "Дневник писателя", то есть единственный № на 1880-й год, в котором и помещу всю мою речь, уже без выпусков и со строгой корректурой. Тогда и пришлю ее Вам, глубокоуважаемая Софья Андреевна, на Вашу строгую и тонкую критику, которой не боюсь и которую всегда люблю, будь она даже мне неблагоприятна.
В Москве сделал несколько знакомств; не знаете ли Вы или не слыхали ли об одной Вере Николаевне Третьяковой. Какая прелестная женщина.
А сколько женщин приходили ко мне в Лоскутную гостиницу (иные не называли себя) с тем только, чтоб, оставшись со мной, припасть и целовать мне руки (это уже после речи). А знаете, я столько наговорил о себе и нахвастался, что стыдно ужасно. Милая, добрая Софья Андреевна, черкните мне Вашим прелестным размашистым почерком хоть одну страничку: ей-богу, утешите. При личном свидании я Вам многое, многое расскажу. Так Юлия Федоровна гостила у Вас. Глубокий ей от меня поклон и всевозможные пожелания, потому что я ее очень люблю.
А Владимира Сергеевича пламенно целую. Достал три его фотографии в Москве: в юношестве, в молодости и последнюю в старости; какой он был красавчик в юности.
Приехал и сажусь за "Карамазовых" и буду писать до октября день и ночь. В Эмс не поеду. Примите, глубокоуважаемая графиня, мой глубоко сердечный привет. Слишком, слишком ценю Ваше расположение ко мне и потому Ваш весь навсегда.
<Ф. Достоевский>.
876. В. Н. ТРЕТЬЯКОВОЙ
13 июня 1880. Старая Русса
Старая Русса
13 июня/80.
Глубокоуважаемая Вера Николаевна,
Простите, что, уезжая из Москвы, не успел лично засвидетельствовать Вам глубочайшее мое уважение и все те отрадные и прекрасные чувства, которые я ощутил в несколько минут нашего коротковременного, но незабвенного для меня, знакомства нашего. Говорю о "прекрасных" чувствах из глубокой к Вам благодарности, ибо Вы заставили меня их ощутить. Встречаясь с иными существами (о, очень редкими) в жизни, сам становишься лучше. Одно из таких существ - Вы, и хоть я мало Вас знаю, но уже слишком довольно узнал, чтоб вывести такое заключение. Тогда, 6-го числа, дал слово себе: не уезжать из Москвы, не повидавшись с Вами и не простившись, но все дни, вплоть до 8-го, я был занят день и ночь, а 9-го, в последний день в Москве, у меня явилось вдруг столько неожиданных хлопот по помещению моей статьи, ввиду трех на нее конкурентов, - что буквально ни одной минуты не осталось времени. 10-го же я непременно должен был выехать. Но да послужат перед Вами эти несколько строк свидетельством, как дорожу я знакомством и добрым участием ко мне такого прекрасного существа, как Вы. Простите за "прекрасное существо". Но такое Вы на меня произвели глубокое, доброе и благородное впечатление.
А теперь примите уверение в самых искренних и теплых чувствах моих к Вам и в самом глубочайшем уважении, которое я когда-либо имел счастье ощущать к кому-нибудь из людей.
Р. S. Всегдашний и искренний Ваш почитатель
Ф. Достоевский.
Старая Русса, Ф<едору> М<ихайлови>чу Достоевскому.
Р. S. Простите за помарки в письме. Не умею написать без них. Не сочтите за небрежность.
На конверте: В Москву.
Его превосходительству
Сергею Михайловичу Третьякову.
Московскому городскому голове. Для передачи
Вере Николаевне Третьяковой
от Ф. М. Достоевского.
877. П. М. ТРЕТЬЯКОВУ
14 июня 1880. Старая Русса
Старая Русса 14 июня/80.
Милостивый государь Павел Михайлович,
Простите великодушно и меня, что, быв в Москве, не заехал к Вам, воспользовавшись добрым случаем к ближайшему между нами знакомству. Вчера я только что отправил письмо глубокоуважаемой супруге Вашей, чтоб поблагодарить ее за прекрасное впечатление, произведенное на меня ее теплым, симпатичным ко мне участием в день думского обеда. Я объяснил в письме к ней причины, по которым я, несмотря на всё желание, не мог исполнить твердого намерения моего посетить Ваш дом. Прекрасное письмо Ваше ко мне вдвое заставляет меня сожалеть о неудавшемся моем намерении. Будьте уверены, что теплый привет Ваш останется в моем сердце одним из лучших воспоминаний дней, проведенных в Москве, - дней, прекрасных не для одного меня: всеобщий подъем духа, вообще близкое ожидание чего-то лучшего в грядущем, и Пушкин, воздвигшийся как знамя единения, как подтверждение возможности и правды этих лучших ожиданий, - всё это произвело (и еще произведет) на наше тоскующее общество самое благотворное влияние, и брошенное семя не погибнет, а возрастет. Хорошие люди должны единиться и подавать друг другу руки ввиду близких ожиданий. Крепко жму Вам руку за Ваш привет и горячо благодарю Вас.
Искренно преданный Вам и глубоко Вас уважающий
Федор Достоевский.
На конверте: В Москву.
Его высокородию
Павлу Михайловичу Третьякову.
878. Ю. Ф. АБАЗА
15 июня 1880. Старая Русса
Старая Русса. 15 июня/80 г.
Милостивая государыня
многоуважаемая Юлия Федоровна,
Простите, что почти полгода не отвечал Вам на письмо Ваше. Причиною была единственно трудность ответа, а не лень и не небрежность. Ответ задержал бы меня всего лишь час, а на прочтение повести Вашей я употребил двое суток, отняв их у моих собственных занятий, а бог видит, как я нуждаюсь во времени. Стало быть, не лень была причиною.
Я, однако, решаюсь теперь написать Вам мое суждение, хотя и вперед знаю, как оно будет Вам неприятно. (Вот это-то и задерживало.) Дело в том, что рассказ у Вас веден хорошо и оригинально, хотя слишком уже безыскусственно. А главное, что есть мысль - хорошая и глубокая мысль. Но боже, как Вы ее невозможно провели! Мысль эта, что породы людей, получивших первоначальную идею от своих основателей и подчиняясь ей исключительно (1) в продолжение нескольких поколений, впоследствии должны необходимо выродиться в нечто особливое от человечества, как от целого, и даже, при лучших условиях, в нечто враждебное человечеству, как целому, - мысль эта верна и глубока. Таковы, например, евреи, начиная с Авраама и до наших дней, когда они обратились в жидов. Христос (кроме его остального значения) был поправкою этой идеи, расширив ее в всечеловечность. Но евреи не захотели поправки, остались во всей своей прежней узости и прямолинейности, а потому вместо всечеловечности обратились во врагов человечества, отрицая всех, кроме себя, и действительно теперь остаются носителями антихриста, и, уж конечно, восторжествуют на некоторое время. Это так очевидно, что спорить нельзя: они ломятся, они идут, они же заполонили всю Европу; всё эгоистическое, всё враждебное человечеству, все дурные страсти человечества - за них, как им не восторжествовать на гибель миру!
У Вас та же идея. Но Ваш потомок ужасного и греховного рода изображен невозможно. Надо было дать ему страдание лишь нравственное, (2) сознание, кончить, сделав из него кого-нибудь в образе Алексея человека божия или Марии Египетской, победившей кровь свою и род свой страданием неслыханным. А Вы, напротив, выдумываете нечто грубо-физическое, какую-то льдину вместо сердца.
Доктора, лечившие его столько лет, не заметили, что у него нет сердца! Да и как может жить человек без физического органа? Пусть это фантастическая сказка, но ведь фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал "Пиковую даму" - верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. (NB. Спиритизм и учения его.) Вот это искусство! Там же, где схимник фабрикует (3) сердце из просвирки с вином - до того у Вас грубо, что возбуждает даже смех. (Как писатель я должен, однако, сознаться, что сцена эта смела и не лишена колорита).
Итак, вот Вам мое суждение. Повесть Вашу никто, ни одна редакция не напечатает - тем и отвечаю на второй Ваш вопрос. В заключение же вот мой совет: не оставляйте прекрасной (и полезнейшей идеи), разработайте ее снова и переделайте Вашу повесть радикально, всю, с самого начала. Дайте ему страдание духовное, дайте осмысление своего греха, как целого поколения, приставьте, хоть и схимника, но непременно и женщину - и заставьте его сознательно пойти на страдание за всех предков своих, и за всех и вся, чтоб искупить грех людской. Мысль великая, если б только у Вас достало художественности! А то что льдинка-то?
Извините за правду. Но ведь правду эту я считаю правдой, а Вы можете со мною не согласиться. Во всяком случае мне трудно было высказать ее, чтоб Вас не обидеть, и вот почему я отдалял ответ мой к Вам со дня на день.
Рукопись Вашу я давно уже передал тем, которые мне ее доставили.
Не рассердитесь на меня, сохраните Ваши добрые ко мне чувства и примите уверение в самом искреннем моем уважении.
Ф. Достоевский.
Старая Русса Ф. М-чу Достоевскому.
(1) исключительно вписано над строкой (2) далее было начато: страдание (3) было: делает
879. Н. А. ИВАНОВОЙ
15 июня 1880. Старая Русса
<...> (1) и как можно скорее. От слов моих я не отступаюсь, но где же в них обидчивая жажда почтительности. И зачем, повторяю это опять, мне Ваша почтительность? Мне хотелось от Вас лишь сердечности, веры, что я не враг Вам, расспрашиваю Вас не праздно и не насмешливо. Не верить в доброе расположение людей (в которых Вы сами же верили) в Ваши лета очень опасно. Ужасная же мнительность и раздражительность ведет лишь к самомнению и самолюбию, - а это уж всего опасное. Не примите за совет, не обидьтесь, хотя почему же мне не написать Вам и совета? Ведь считали же Вы меня к Вам искренно расположенным прежде, таким я и останусь к Вам, как бы Вы ни сердились на меня. Слова же мои о Вас у Елены Павловны Вам передали ошибочно. Это положительно говорю. Да и зачем бы мне лгать.
Передайте мой сердечный поклон мамаше и напомните обо мне всем Вашим, а я останусь совершенно Вам преданным, как и прежде.
Ваш дядя Федор Достоевский.
Старая Русса, Новгородской губернии, Федору Михайловичу Достоевскому.
Не знаю, дойдет ли к Вам письмо.
На обратной стороне листа:
Необходимый Post Scriptum.
Милая Ниночка, уже запечатав к Вам письмо, достал и перечел Ваше письмецо ко мне в "Лоскутную", оно мне так понравилось, оно так искренно, так задушевно и так остроумно (например, о причине, по которой Вы едете в деревню), что я распечатал конверт и приписываю Вам эти строки с тем, чтоб отказаться от целой половины того, что настрочил Вам на первых трех страницах. Вы доброе и милое существо, очень умненькое (но будьте еще умнее). Итак, мы друзья по-прежнему? Я очень этому рад. Напишите мне в Старую Руссу непременно: мне хочется знать, дошло ли письмо. Передали же Вам мой отзыв неверно, это повторяю. Всего любопытнее для меня, почему 1-е чтение Вашего письма (еще в Москве) не произвело на меня такого хорошего впечатления, как сейчас, когда я второй раз перечел. Целую Вас и крепко жму Вам руку. Литературы не бросайте, и - поменьше, поменьше самолюбия. Но довольно.
Ваш весь Ф. Д<остоевский>.
(1) начало письма не сохранилось
880. К. А. ИСЛАВИНУ
20 июня 1880. Старая Русса
Старая Русса 20 июня/80.
Милостивый государь Константин А<лександрови>ч.
На телеграмму из редакции, от 11-го числа, я тотчас же отвечал телеграммой. На другой же день, 12 июня, послал на имя Ваше в редакцию "Моск<овских> вед<омостей> письмо, в котором убедительнейше просил о следующих пунктах:
1) Немедленно по появлении моей статьи в "Моск<овских> в<едомостя>х" выслать мне сюда, в Старую Руссу, № газеты с моею статьей, так как "Москов<ских> вед<омост>ей" не получаю.
и 2) Выслать мне сюда писанные листки моей статьи, тоже немедленно, ибо они нужны мне для отдельного оттиска "Дневника писателя", который намеревался издать к 1-му июля.
Ни одна из моих просьб не была уважена. Сегодня 20-е число, и никакого ответа.
Между тем время уходит. Листки надо послать в Петербург. В них есть места, не напечатанные в "Моск<овских> ведомостях". Вспомните, что это литературная собственность и пропасть она не должна. Одним словом, я Вас уведомлял и просил, и Вы на просьбы мои, повторяю, не обратили никакого внимания. Не могу постичь, чем я заслужил такую (1) небрежность. Во всяком случае, если еще через 4 дня (к 24-му числу) не получу от Вас ни № газеты, ни листков, то издать "Дневник" будет уже поздно, да и невозможно за работами моими в "Русск<ий> вестник", и Вы мне нанесете значительный ущерб.
А потому еще раз и в последний раз прошу настоятельно исполнить мои просьбы: то есть прислать № газеты с моей статьей и листки рукописи, хотя бы рваные и запачканные.
Перебираясь в начале мая из Петербурга в Старую Руссу, я несколько раз заявлял в редакцию "Московск<их> в<едомост>ей" о перемене моего адреса (Старая Русса, Новгородской губернии, Ф. М. Достоевскому). Несмотря на заявления (неоднократные), № "Моск<овских> в<едомост>ей" продолжают приходить на мой петербургский адресс до сих пор. Если это простейшее дело (то есть перемена адресса в летнее время) столь невозможно к исполнению, то прошу лучше совсем прекратить на мое имя высылку газеты. Не могу же я ездить в Петербург читать ее.
Буду ждать ответа.
Позвольте выразить чувство уважения и готовности к услугам.
Ф. Достоевский.
На конверте: Заказное. В Москву. В редакцию "Московских ведомостей". Страстной бульвар, дом Университетской типографии.
Его высокоблагородию
К. А. Иславину. Г-ну секретарю редакции от Ф. М. Достоевского.
(1) далее было: сугубую
881. M. H. КАТКОВУ
20 июня 1880. Старая Русса
Старая Русса. Новгородской губернии.
20 июня/80 г.
Милостивый государь
многоуважаемый Михаил Никифорович,
12-го числа июня, на другой день после телеграммы из "Москов<ских> вед<омост>ей" по поводу моей статьи, я отправил к г-ну Иславину, секретарю редакции (с которым вел все сношения по напечатанию моей статьи) - письмо, в котором убедительно и настоятельно просил его о следующих 2 пунктах: 1) Немедленно по появлении моей статьи в "Моск<овских> в<едомостя>х" выслать мне сюда, в Старую Руссу, № газеты с моей статьей, так как я здесь "Моск<овских> в<едомост>ей" не получаю.
2) Выслать мне сюда писанные листки моей статьи (рукопись), хотя бы испачканные и разорванные при наборе, ибо они нужны мне для отдельного оттиска "Дневника писателя", который намеревался издать к 1-му июля.
Ни одна из моих просьб не была уважена. Сегодня 20-е число, и никакого ответа.
Между тем время уходит. Листки моя жена хотела свезти в Петербург, чтобы оттиснуть в № "Дневника". В этих листках есть места, не вошедшие в ту часть речи, которая напечатана в "Моск<овских> в<едомост>ях". Во всяком случае это ненапечатанное место составляет литературную собственность, которая не должна исчезнуть, тем более что я обстоятельно предупреждал. Наконец, если еще несколько дней не получу просимого, то, по обстоятельствам моим и за работами в "Р<усский> в<естни>к", издать "Дневник" будет уже поздно, отчего неминуемо потерплю ущерб.
Не могу постичь, чем я заслужил такую небрежность со стороны редакции "Моск<овских> вед<омост>ей". Будьте уверены, многоуважаемый Михаил Никифорович, что я слишком чувствительно огорчен этим.
Цель письма моего - покорнейшая к Вам просьба изречь Ваше слово в мою пользу. Может быть, просьбы мои будут тогда скорее уважены.
Примите, многоуважаемый Михаил Никифорович, глубочайшее уверение в моем неизменном к Вам уважении и таковой же преданности.
Покорный слуга Ваш
Ф. Достоевский.
Р. S. Перебравшись в мае из Петербурга в Старую Руссу, я несколько раз просил редак<цию> "Москов<ских> ведомостей" присылать мне газету на новый летний адресс в Старую Руссу. Но до сих пор, несмотря на все просьбы и заявления, "Московские ведомости" продолжают приходить на прежний мой петербургский адресс, так что здесь я их совсем не вижу и не читаю.
На конверте: Заказное. В Москву. В редакцию "Московских ведомостей", Страстной бульвар, дом Университетской типографии.
Его высокородию
Михаилу Никифоровичу Каткову
от Ф. М. Достоевского.
882. H. A. ЛЮБИМОВУ
6 июля 1880. Старая Русса
Старая Русса. 6-го июля/80.
Милостивый государь
многоуважаемый Николай Алексеевич,
Вместе с этим письмом отправляю (от 6-го же) в редакцию "Р<усского> вестника" и "Карамазовых". Будет три печатных листа. Продолжение этой (одиннадцатой) книги не замедлю выслать своевременно для августовской книжки. Затем на сентябрьскую книжку последует, и уже без всякого перерыва, последняя, 12-я книга "Карамазовых" ("Суд"), чем и заключится 4-я часть романа (и последняя). Затем на октябрьскую книгу последует (и непременно тоже без перерыва) коротенький "Эпилог" романа (1 1/2 или 2 печат<ных> листа, не более), чем и заключится весь роман.
В этой части (которую высылаю), надеюсь, ничего не найдете неудобного для "Р<усского> вестника".
Работаю довольно легко, ибо все уже давно записано и приходится лишь восстановлять. Задержан немного изданием "Дневника" (единственного № на 1880-й год, выйдет в конце июля), в котором воспроизведу мою "Речь" в Общ<естве> люб<ителей> российскою словесности, с предисловием довольно длинным и, кажется, с послесловием, в котором хочу ответить несколько слов моим милым критикам. Не думаю, чтоб задержало меня более 5 дней.
Следующий, августовский № "Карамазовых" вышлю, я думаю, тоже не позже 10-го будущего (августа) месяца.
Гуляете ли Вы в Вашем Люблино, пользуетесь ли летом? Как жалею, что не мог все время бытности в Москве воспользоваться Вашим милым приглашением побывать на Вашей даче. Но Вы знаете, как я был занят, в последнюю неделю так приходилось даже почти не спать по ночам. Погода у нас здесь восхитительная, то ли у Вас. Свидетельствую мое глубочайшее уважение Вашей супруге. Убедительнейше прошу передать от меня глубокий и задушевный поклон Михаилу Никифоровичу.
Буду ждать с нетерпением корректур. Правда, сюда в Старую Руссу почта приходит из Москвы днем позже, чем в Петербург. Но я не задержу ни на секунду. Адресс мой:
Старая Русса, Новгородской губернии. Ф. М-чу Достоевскому.
За границу я не поеду и до 1/2 сентября всё буду жить здесь, в Старой Руссе.
Примите уверение в искреннейшем и глубоком моем уважении.
Вам неизменно преданный
Ф. Достоевский.
883. Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР
17 июля 1880. Старая Русса
Старая Русса.
17 июля/80.
Глубокоуважаемая Елена Андреевна,
Нуждаюсь во всем Вашем человеколюбии и разумном снисхождении к людям, чтоб простить меня за то, что так промедлил ответом на прекрасное и приветливое Ваше ко мне письмецо от 19 июня. Но вникните, однако же, в факты, и может быть, найдете в себе силу даже и ко мне быть снисходительной. 11-го июня я возвратился из Москвы в Руссу ужасно усталый, но тотчас же сел за "Карамазовых" и залпом написал три листа.
Затем, отправив, принялся перечитывать всё, написанное обо мне и о моей московской Речи в газетах (чего до тех пор и не читал, занятый работой), и решил отвечать Градовскому, то есть не столько Градовскому, сколько написать весь наш profession de foi на всю Россию. Ибо знаменательный и прекрасный, совсем новый момент в жизни нашего общества, проявившийся в Москве на празднике Пушкина, был злонамеренно затерт и искажен. В прессе нашей, особенно петербургской, буквально испугались чего-то совсем нового, ни на что прежнее не похожего, объявившегося в Москве: значит, не хочет общество одного подхихикивания над Россией и одного оплевания ее, как доселе, значит, настойчиво захотело иного. Надо это затереть, уничтожить, осмеять, исказить и всех разуверить: ничего-де такого нового не было, а было лишь благодушие сердец после московских обедов. Слишком-де уже много кушали. Я еще в Москве решил, напечатав мою речь в "Моск<овских> ведомостях", сейчас же издать в Петербурге один № "Дневника писателя", - единственный номер на этот год, а в нем напечатать мою речь и некоторое к ней предисловие, пришедшее мне в голову буквально в ту минуту на эстраде, сейчас после моей речи, когда вместе с Аксаковым и всеми Тургенев и Анненков тоже бросились лобызать меня и, пожимая мне руки, настойчиво говорили мне, что я написал вещь гениальную! Увы, так ли они теперь думают о ней! И вот мысль о том, как они подумают о ней сейчас, как опомнились бы от восторга, и составляет тему моего предисловия. Это предисловие и речь я отправил в Петербург в типографию и уж и корректуру получил, как вдруг и решил написать и еще новую главу в "Дневник" profession de foi, с обращением к Градовскому. Вышло два печатных листа, написал - всю душу положил и сегодня, всего только сегодня, отослал ее в Москву, в типографию. Вчера был день рождения моего Феди, пришли гости, а я сидел в стороне и кончал работу! А потому будьте же снисходительны ко мне и Вы, Елена Андреевна, и не сердитесь за то, что замедлил ответом. Я Вас люблю, и Вы это знаете.
Впечатлений моих в Москве и проч. не могу пересказывать на письме, теперешнего настроения почти тоже. Весь в работе, в каторжной работе. К сентябрю хочу и решил окончить всю последнюю, четвертую часть "Карамазовых", так что, воротясь осенью в Петербург, буду, относительно говоря, некоторое время свободен и буду приготовляться к "Дневнику", который, кажется уж наверно, возобновлю в будущем 1881 году. - Вы на даче? Откудова же к Вам доходят вести из Москвы? Не знаю, как Вам передавал Гаевский, но дело с Катковым не так было. Каткова оскорбило Общество люб<ителей> р<оссийской> словесности, устраивавши праздник, отобрав у него назад посланный ему билет; а говорил речь Катков на думском обеде, как представитель Думы и по просьбе Думы. Тургенев же совсем не мог бояться оскорблений от Каткова и делать вид, что боится, а напротив, Катков мог опасаться какой-нибудь гадости себе. У Тургенева же была подготовлена (Ковалевским и Университетом) такая колоссальная партия, что ему нечего было опасаться. Оскорбил же Тургенев Каткова первый. После того как Катков произнес речь и когда такие люди как Ив<ан> Аксаков подошли к нему чокаться (даже враги его чокались), Катков протянул сам свой бокал Тургеневу, чтобы чокнуться с ним, а Тургенев отвел свою руку и не чокнулся. Так рассказывал мне сам Тургенев.
Вы пишете, чтоб я прислал Вам мою речь. Но я не имею у себя экземпляра, а единственный экземпляр, который имел, в типографии, где печатается "Дневник". "Дневник" выйдет около 5-го августа, обратите на него внимание и сообщите Андрею (2) Андреевичу - дорогому моему сотруднику. Мне хочется знать его мнение. Передайте мой задушевный поклон Марье Федоровне, Ольге Андреевне и Софье Ивановне, напомните обо мне в всем Вашим. Об осени ничего не говорю. Будьте только здоровы, набирайте здоровья к зиме. Жена Вам и всем Вашим задушевно кланяется.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Напишите мне, пожалуста, еще.
(1) в тексте ошибочно вместо: в Петербург (2) описка, следует: Адриану
884. В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ
18 июля 1880. Старая Русса
Любезнейший и уважаемый Виктор Феофилович!
Я нисколько не сержусь, как Вы думаете, и никогда не сердился. Напротив, несколько раз укорял себя в свое время, что не соберусь написать Вам, но в Петербурге я был до того занят всё время, что и мысли не могло быть кому-нибудь отвечать. Всё отложил до Старой Руссы, а главное, до поездки в Эмс. Но из Старой Руссы тотчас же (20 мая) отправился в Москву на праздник Пушкина, и вдруг последовала кончина императрицы. Затем праздник всё откладывали и откладывали, и так шло до 6-го июня, а в Москве мне не давали даже выспаться - так я беспрерывно был занят и окружен новыми лицами! Затем последовали праздники, и затем, буквально измученный, воротился в Старую Руссу. Здесь тотчас же засел за "Карамазовых", написал три листа, отослал и затем тотчас же, не отдохнув, написал один № "Дневника писателя" (в который войдет моя речь), чтоб издать его отдельно как единственный № в этом году. В нем и ответы критикам, преимущественно Градовскому. Дело уже идет не о самолюбии, а об идее. Новый, неожиданный момент, проявившийся в нашем обществе на празднике Пушкина (и после моей речи), они бросились заплевывать и затирать, испугавшись нового настроения в обществе, в высшей степени ретроградного по их понятиям. Надо было восстановить дело, и я написал статью до того ожесточенную, до того разрывающую с ними все связи, что они теперь меня проклянут на семи соборах. Таким образом, в месяц по возвращении из Москвы я написал буквально шесть листов печати. Теперь разломан и почти болен. Заметьте еще себе, что в последнее время я уже и сомневался писать Вам - не зная, где Вы и что с Вами. Так как "Гражданин" не выходит, то полагал, что Вы где-нибудь даже и не в Берлине. Но вот Вы теперь написали и не удостоили даже сообщить о себе ни словечка! Если Вы оставили "Гражданин", то где Вы теперь и чем занимаетесь, к чему приступили. Ваша сдержанность показывает, напротив, Ваше ко мне нерасположение.
В Эмс я не поеду, некогда, да и надо кончать "Карамазовых". Завтра опять примусь за работу. - "Дневник", кажется, наверно возобновлю в будущем году. А №, который издам в этом году, уже печатается в Петербурге. До свиданья, с прежними чувствами к Вам.
Ваш Ф. Достоевский.
Старая Русса
18 июля/80.
885. В. Д. ШЕРУ
18 июля 1880. Старая Русса
18 июля 1880.
Милостивый государь Владимир Дмитриевич!
На днях мы получили от Александра Андреевича копию с Вашего письма к нему от 6-го июля этого года, в котором Вы сообщали ему о неудаче ввода во владение и о продаже Вами около 60 десят<ин> Пехорки. Насчет данной мы решили переговорить в Петербурге с адвокатом и поручить ему выхлопотать новую данную. Что же касается до продажи Пехорки, то нас очень удивило Ваше решение продавать ее по частям. Если мы и согласились продать нашу часть, как было условлено, то есть 200 дес<ятин> Пехорки, то лишь весь лес: продавать же по десятинам мы ни в каком случае не можем согласиться. И как жаль, что Вы уплатили лишь тысячу рублей повинностей, следовало уплатить всю недоимку, иначе через полгода имение опять будет назначено к продаже. Свою часть недоимки мы можем вносить от себя, не продавая леса. Но мы Вас покорнейше просим не продавать из Пехорки, да и вообще из имения ничего по частям; против продажи по частям мы решительно протестуем.
Мы могли бы предложить Вам следующую меру: заключить с нами по возможности теперь же от лица всех наследников Куманиной, нотариальным порядком, условие (или договор, или как там признано будет назвать эту бумагу). Договор этот будет заключаться в следующем: все сонаследники Куманиной, по добровольному соглашению со мною, Фед<ором> Достоевским, соглашаются уступить мне как следуемую мне долю наследства четыреста дес<ятин> Ширяева Бора, причем в бумаге будет упомянуто и разъяснено в точности, что это (1) лишь обещание теперь, но от которого они обязуются уже не отказаться тогда, когда впоследствии, по получении данной, уже можно будет приступить к общему формальному и законному (2) введению во владение и к разделу. Получив теперь (3) это условие в виде обязательства на будущее от всех сонаследников, я, с своей стороны, обязуюсь вносить 1/12 часть следуемых с имения повинностей, сонаследники же, с своей стороны, уже обязуются не рубить, не продавать и вообще не трогать ту часть Ширяева Бора, которую Вы заблагорассудите отдать на нашу долю. В таком случае я мог бы предоставить Вам распоряжаться как Вам угодно и в остальных частях имения (кроме заводской стороны) (4) в Пехорке и пр<очее>, то есть продавать ее по частям или как Вы усмотрите лучше. Наконец, если бы возникло затруднение: какую именно часть Ширяева Бора нам теперь предназначить (разумеется, только в обещании на будущее, но с тем, чтоб в будущем не препятствовать), то мы могли бы на свой счет пригласить землемера и, с Вашего согласия и указания, произвести, так сказать, предварительный пробный раздел (то есть обозначить, от какой границы до какой будет нам принадлежать в будущем наша часть имения (5), разумеется, со всеми выгодами в Вашу пользу, какие пожелаете теперь же выговорить. Я же, с своей стороны, обещаю до последней возможной степени быть при этом пробном отмежевании (6) сговорчивым, только б Вы для меня это сделали. Если (7) предложение мое не покажется Вам невозможностью или абсурдом, то всё это дело могло бы быть улажено еще нынешнею осенью и бумага написана. Если же (8) этот проект соглашения между мною и сонаследниками состояться не может, то, я повторяю это, на продажу Пехорки не согласен и протестую.
С истинным уважением имею честь пребыть, милостивый государь, Вашим покорнейшим слугою
Ф. Достоевский.
Адресс мой: Старая Русса, Новгородской губернии, Федору Михайловичу Достоевскому.
Р. S. Убедительнейше прошу извинить меня за помарки в письме и не считать за небрежность.
Ф. Достоевский. (9)
(1) это вписано рукой Достоевского (2) и законному вписано рукой Достоевского (3) теперь вписано рукой Достоевского (4) (кроме заводской стороны) вписано рукой Достоевского (5) наша часть имения вписано рукой Достоевского (6) при ... ... отмежевании вписано рукой Достоевского (7) далее было: Вы (8) было: соглашен<ие> (9) С истинным уважением ... ... Ф. Достоевский. - рукой Достоевского
886. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
25 июля 1880. Старая Русса
Старая Русса. 25 июля/80.
Любезнейший и глубокоуважаемый Константин Петрович,
Весьма обрадовали меня Вашим письмецом, а обещанием не забывать меня и впредь - еще больше.
- В Эмс я окончательно решил не ехать: слишком много работы. За весенней сумятицей запустил "Карамазовых" и теперь положил их кончить еще до отъезда из Старой Руссы, а потому и сижу за ними день и ночь. - Теперь к Вашему поручению:
Батюшка Румянцев есть мой давний и истинный друг, достойнейший из достойнейших священников, каких только я когда-нибудь знал. Это в его доме квартирует Ваш отец Алексей Надеждин. В доме Румянцева нанимает на летний сезон квартиру семейство одного петербургского г. Рота, лугского помещика и владетеля нескольких петербургских домов, теперь, однако же, разорившегося. Отец Алексей в дружестве с Ротами и живет, хотя отдельно, вверху в мезонине, но, кажется мне, просто пока приживает у Ротов. Дает, впрочем, многочисленным детям Рота уроки. Я видел его и прежде раз у батюшки Румянцева, но мельком. Получив же Ваше письмо, тотчас же, в 5 часов вечера, отправился к Румянцеву (от меня очень недалеко) и сообщил ему в секрете про Ваше поручение, обязав его, чтоб он ни слова не говорил отцу Алексею. Румянцев с отцом Алексеем хоть и знакомы (живут в одном доме), но не очень. По моему желанию Румянцев тотчас пригласил к себе отца Алексея, гулявшего в саду, выпить чаю, который уже стоял на столе. Отец Алексей хоть и отнекивался, но наконец пришел, и я провел с ним целый час, ничего ему о Вашем поручении не объявляя. Вот мое наблюдение и заключение:
Сорок семь лет, лыс, черноволос, мало седины. Лицо довольно благообразное, но геморроидальное. Сложения, по-видимому, от природы крепкого. Но решительно болен. Выходит из священства по совершенной невозможности служить от нездоровья. Это уже дело невозвратимое, и сам он ни за что не согласится оставаться священником, так сам заявлял несколько раз в разговоре. Болезнь его странная, но, по счастью, мне известная, ибо сам я болен был этою же самою болезнию в 47-м, 48-м и 49-м годах. Имею тоже одного брата (еще живущего), точь-в-точь этою же болезнию больного. Главное основание ее - сильнейшее брюшное полнокровие. Но в иных характерах припадки этой болезни доходят до расстройства нравственного, душевного. Человек заражается беспредельною мнительностью и под конец воображает себя больным уже всеми болезнями и беспрерывно лечится у докторов и сам себя лечит. Главная причина та, что геморрой в этой степени влияет на нервы и расстраивает их уже до психических припадков. Отец Алексей убежден уже несколько лет, что от геморроя произошло в нем малокровие мозговое, анемия мозга. Прошлый год согласился отслужить Светло-Христовскую заутреню, рассказывает он, и так ослабел, что отнялись ноги и не мог стоять. Служил тоже раз всенощную и не докончил. С тех пор перестал служить. "Если б, кажется, мне сказали теперь, что завтра мне надо служить, то я всю ночь бы не спал и дрожал и наверно бы и в церковь не дошел, а упал бы в обморок". (Видна по крайней мере большая совестливость к службе и к совершению таинства.) Прежде он был домашним священником у Воейкова, потом смотрителем в каком-то богоугодном заведении Невской лавры, давал много уроков, по 8 часов в неделю. "Кончишь неделю, наступит воскресенье, лежу у себя дома на диване весь день и читаю книгу - великое наслаждение!". - Теперь всё время проводит в лечении, здесь пьет какую-то для него составленную воду, о болезнях своих говорить любит много и с увлечением. Не знаю, так ли он экспансивен и на другие темы, ибо других тем у него, очевидно, теперь и нет: всё сейчас сведет на разговор о болезни своей. Простодушен и не хитер, хотя вряд ли с большой потребностью духовной общительности. Несмотря на простодушие, несколько мнителен, уже не по отношению только к болезням. Кажется, совершенно честный человек. Вид порядочности несомненный. Убеждений истинных, далеко не лютеранин, смотрит на православных русских нашего образованного общества весьма правильно. Совестливость есть, но есть ли жар к духовному делу - не знаю. Будущего не столь боится: "один человек не беден", - сказал мне. Несколько обижен, что на просьбу его в вспомоществовании положили дать ему 48 рублей в год или платить за него в больницу, буде ляжет, до излечения. Я пролечил всё, что скопил, говорит он, никого не беспокоил, и вот только 48 рублей. Впрочем, если и осуждает, то без большой злобы. Последняя черта: кажется, довольно комфортолюбив, любит отдельную комнату, хотя бы одну, но только вполне приспособленную. Любит бывать один, любит читать книгу, немного маньяк, но сообщества людей не столь чуждается. Вот всё, что я умел заметить. Посылаю Вам скороспелую не ретушеванную фотографию. Главное же и окончательное наблюдение, что продолжать священствовать ни за что не захочет. - Вид его довольно независимый, не пройдошлив, не искателен, не интересан - этого в высшей степени нет. Скорее девиз его: "оставьте меня в покое".
Теперь, чтоб заключить, еще об себе: кроме "Карамазовых", издаю на днях в Петербурге один № "Дневника писателя" - единственный № на этот год. В нем моя речь в Москве, предисловие к ней, уже в Старой Руссе написанное, и наконец, ответ критикам, главное, Градовскому. Но это не ответ критикам, а мое profession de foi на всё будущее. Здесь уже высказываюсь окончательно и непокровенно, вещи называю своими именами. Думаю, что на меня подымут все камения. Не разъясняю Вам далее, выйдет в самом начале августа 5-го числа или даже раньше, но просил бы Вас очень, глубокоуважаемый друг, не побрезгать прочесть этот "Дневник" и сказать мне Ваше мнение. То, что написано там - для меня роковое. С будущего года намереваюсь "Дневник писателя" возобновить и теперь являюсь тем, каким хочу быть в возобновляемом "Дневнике".
За Вашею драгоценною деятельностью слежу по газетам. Великолепную речь Вашу воспитанницам читал в "Моск<овских> ведомостях". Главное, дай Вам бог здоровья. Не надо слишком себя и утомлять. Ведь главное сообщить направление? А направление организуется лишь долголетним воздействием. Слишком помню Ваши слова весной. Благослови Вас бог.
Вас обнимающий и любовно преданный Вам
Федор Достоевский.
Р. S. А ведь не знаю Вашего адресса! Адресую прямо г. обер-прокурору св. Синода - авось дойдет.
887. H. A. ЛЮБИМОВУ
10 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса 10 августа/80 г.
Милостивый государь глубокоуважаемый Николай Алексеевич,
Вместе с этим письмом препроводил в редакцию "Р<усского> вестника" "Карамазовых" на августовскую книжку: окончание книги одиннадцатой, 72 почтовых полулистка, 3 1/2 печатных листа ровно.
Убедительнейше прошу прислать своевременно корректуру. Не задержу ни минуты.
Двенадцатая и последняя книга "Карамазовых" прибудет в редакцию неуклонно около 10-го или 12-го будущего (сентября) месяца. Величиной будет тоже в три или в 3 1/2 листа, не более.
Затем останется "Эпилог" романа, всего в 1 1/2 печатных листа - это уже на октябрьскую книгу.
Теперь о высылаемом.
6-ю, 7-ю и 8-ю главы считаю сам удавшимися. Но не знаю, как Вы посмотрите на 9-ю главу, глубокоуважаемый Николай Алексеевич. Назовете, может быть, слишком характерною! Но, право, я не хотел оригинальничать. Долгом считаю, однако, Вас уведомить, что я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они утверждают, что не только подобные кошмары, но и галюсинации перед "белой горячкой" возможны. Мой герой, конечно, видит и галюсинации, но смешивает их с своими кошмарами. Тут не только физическая (болезненная) черта, когда человек начинает временами терять различие между реальным и призрачным (что почти с каждым человеком хоть раз в жизни случалось), но и душевная, совпадающая с характером героя: отрицая реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность. Мучимый безверием, он (бессознательно) желает (1) в то же время, чтоб призрак был не фантазия, а нечто в самом деле.
Впрочем, что я толкую. Прочтя, увидите всё сами, глубокоуважаемый Николай Алексеевич. Но простите моего Черта: это только черт, мелкий черт, а не Сатана с "опаленными крыльями". - Не думаю, чтоб глава была и слишком скучна, хотя и длинновата. Не думаю тоже, чтобы хоть что-нибудь могло быть нецензурно, кроме разве двух словечек: "истерические взвизги херувимов". Умоляю пропустите так: это ведь Черт говорит, он не может говорить иначе. Если же никак нельзя, то вместо истерические взвизги - поставьте: радостные крики. Но нельзя ли взвизги? А то будет очень уж прозаично и не в тон.
Не думаю, чтобы что-нибудь из того, что мелет мой черт, было нецензурно. - Два же рассказа о исповедальных будочках, хотя и легкомысленны, но уж вовсе, кажется, не сальны. То ли иногда врет Мефистофель в обеих частях "Фауста"?
Считаю, что в Х-й и последней главе достаточно объяснено душевное состояние Ивана, а стало быть, и кошмар 9-й главы. Медицинское же состояние (повторяю опять) проверял у докторов.
Хоть и сам считаю, что эта 9-я глава могла бы и не быть, но писал я ее почему-то с удовольствием, и сам отнюдь от нее не отрекаюсь.
Белая горячка поражает моего героя исступленным припадком именно в минуту, когда он дает показание в суде (это уже в двенадцатой будущей книге).
Итак, выразил Вам все мои сомнения, глубокоуважаемый Николай Алексеевич. Буду ждать с чрезвычайнейшим нетерпением корректур.
Как Вы поживаете и всё ли еще на даче? Благословил ли Вас бог погодой? У нас восхитительнейшая, только чтоб не сглазить, а в Петербурге дождь, казалось бы, так близко. Здесь я только здоровею, несмотря на работу.
Буду иметь большое удовольствие прислать Вам мой "Дневник писателя", который выйдет 12-го августа в Петербурге - единственный номер на этот год.
Глубочайший поклон мой Вашей супруге.
Будьте столь добры, передайте мое глубочайшее уважение Михаилу Никифоровичу.
При сем прилагаю расписку в получении тысячи рублей. Премного благодарен за своевременное исполнение просьбы.
Августовскую книжку "Р<усского> вестника" умоляю прислать мне в Старую Руссу. Июльскую получил с благодарностию.
Примите уверение в глубочайшем уважении моем и совершенной преданности.
Ваш всегдашний слуга
Ф. Достоевский.
(1) было: желал бы
888. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
11 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса
11 августа/80 полночь.
Милый друг Аня, как-то ты доехала? Хотелось бы получить от тебя поскорее хоть строчку. Как живешь? Где спишь? Где ешь? Что "Дневник"? Проводив тебя, мы с Федей оставили Любу с Соней, Анфисой и Марьей, все они пошли к батюшке, а мы с Федей на извозчике (узнав от него про гулянье) отправились в городской сад, что на Красном берегу, рядом с дворцовым садом. Там было много народу, спускали шар, и пели военные песельники. Федя очень слушал. Но так как было сыро, то мы рано воротились, зашли за Любой, и затем дети полегли спать. Я ночь всю просидел. Встал в 12 часов. Детки уже ходили отправлять тебе письмо. Ведут они себя очень хорошо. Федя пошел было ловить на берег рыбу, но я, застав его над обрывом, велел ему воротиться, и он тотчас же беспрекословно исполнил. У Лили всё утро сидела Анфиса, потом все пошли к батюшке, а я гулять. Батюшка, видимо, принимает участие и беспрерывно зовет детей к себе, конечно, чтоб меня облегчить. Федя теперь не отстает от Сергуши, у которого объявилось какое-то ружье, из которого можно стрелять горохом. С прогулки зашел за детьми, пообедали вместе, говорили о тебе и "что-то ты там?"
- а после обеда дети опять отправились к батюшке. Я опять с прогулки за ними зашел. Дорогою Федя справлялся о тебе: "Папа, когда уехала мама, ведь вчера? Ну так приедет она завтра? Али послезавтра?" Воротясь домой, напились чаю и полегли, а я сел тебе писать. Вот и все наши происшествия. Одним словом, всё ладно и спокойно, детки ведут себя хорошо и хотят вести себя хорошо. Исполняют данное тебе слово. Погода восхитительная. У Феди совсем нет шляпы. Летняя вся разорвалась (Лиля зашивала ее), да и не по сезону, а от фуражки (очень засаленной) оторвался козырек. Хорошо, если б ты привезла ему. В Гостином дворе, близ часовни, в угловом игрушечном магазине были детские офицерские фуражки с кокардочкой по рублю.
Хорошо, кабы ты поскорее воротилась. Должно быть, устанешь. Боюсь, что заболеешь. Выйдет ли "Дневник" завтра? Сегодня в "Нов<ом> времени" второе объявление о "Дневнике", и ни слова в газете, хотя бы в хронике. Икни Гончаров, и тотчас закричали бы во всех газетах: наш маститый беллетрист икнул, - а меня, как будто слово дано, игнорируют. Я убежден, что у Пантелеева какая-нибудь задержка. Хоть бы поскорее. А затем воротись и ты, не мешкая долее. Поклонись Марье Николаевне и попроси ее по крайней мере до 25 августа уведомлять почаще о ходе "Дневника". Не надеюсь на хороший ход. Но впоследствии, наверно, разойдется. Ну до свиданья, до скорого. Напишу, может быть, еще раз завтра, на всякий случай. Только бы ничего не случилось с тобой! Много уж ты набрала себе комиссий. К этому письму завтра Лиля (1) приложит и от себя, да Федя что-то хочет нацарапать. Они же и снесут на почту. Теперь спят. Марья спит в комнате, где рукомойник. Гарсон ночует на дворе. До свидания, обнимаю тебя.
Твой Ф. Достоевский.
(1) далее было: что
889. А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
12 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса
12 августа Вторник.
Милый друг мой Аня, пишу тебе только несколько строк на всякий случай, хотя твердо надеюсь, что это письмо тебя не застанет в Петербурге и что ты выедешь завтра, то есть 13-го. У нас всё хорошо и ровно ничего особенного не произошло. Дети здоровы и ведут себя хорошо. Получил сегодня твое письмо. Поместила ты много экземпляров, но как-то продадутся? А дай бог, чтоб удалось, хотя я всё более и более теряю надежду. Отчасти запоздали, надо бы месяц назад. - Сегодня в "Нов<ом> времени" прочел телеграмму из Нижегор<одской> ярмарки, что там удавился купец Зизерин, в своей пушной лавке, он петербургский, Григорий Павлович, приехал на ярмарку. Наши шубы, кажется, хранятся летом у Зизерина (я, впрочем, не знаю). Если у Зизерина, то не у того ли? Конечно, он повесился от плохих дел. В таком случае не лишиться бы нам шуб? Если письмо тебя застанет в Петербурге, то не наведалась ли бы ты к Зизерину?
До свиданья, голубчик, не знаю, получу ли от тебя что-нибудь завтра, а очень бы хотелось. У нас здесь очень скучно. Погода прекрасная, но холодноватая, а по ночам очень холодно. Ты поехала очень налегке. Не простудись.
До свиданья, дети тебя целуют, и я тоже.
Твой Ф. Достоевский.
890. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ
16 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса
16-го августа/80.
Глубокоуважаемый и добрейший
Константин Петрович.
Благодарю Вас от всей души за Ваше доброе, прекрасное и ободрившее меня письмо. Именно ободрившее, потому что я, как человек, всегда нуждаюсь в ободрении от тех, которым верю, ум и убеждения которых я глубоко уважаю. Каждый раз, когда я напишу что-нибудь и пущу в печать, - я как в лихорадке. Не то, чтоб я не верил в то, что сам же написал, но всегда мучит меня вопрос: как это примут, захотят ли понять суть дела, и не вышло бы скорее дурного, чем хорошего, тем, что я опубликовал мои заветные убеждения? Тем более, что всегда принужден высказывать иные идеи лишь в основной мысли, всегда весьма нуждающейся в большом развитии и доказательности. И вот мнение таких людей, как Вы - решительно мне поддержка. Значит, не ошибся я во всем, значит, поняли меня те, умом и беспристрастным суждением которых я дорожу, а стало быть, не впустую был и труд.
Я Вам откровенно скажу: вот теперь кончаю "Карамазовых". Эта последняя часть, сам вижу и чувствую, столь оригинальна и не похожа на то, как другие пишут, что решительно не жду одобрения от нашей критики. Публика, читатели - другое дело: они всегда меня поддерживали. Я глубоко был бы Вам благодарен, если б Вы обратили внимание Ваше на то, что будет напечатано в августовской книжке "Р<усского> вестника" (которая теперь еще только печатается) и потом в сентябрьской, где кончится 4-я и последняя часть "Карамазовых". В этой сентябрьской книге будет суд, наши прокуроры и адвокаты - всё это выставлено будет в некотором особенном свете.
"Дневник писателя" решился издавать в будущем году неуклонно. Настоящий "единственный выпуск за этот год" - имел успех несомненный в публике: в три дня раскупилось до 3000 экз. в одном Петербурге, а я напечатал всего 4200 экз. Думаю, что придется выпустить 2-е издание. - Жена передала мне о том, как Вы ее любезно приняли. - Благодарю за присылку "Варшавского дневника": Леонтьев в конце концов немного еретик - заметили Вы это? Впрочем, об этом поговорю с Вами лично, когда в конце сентября перееду в Петербург, в его суждениях есть много любопытного. - Примите, глубокоуважаемый Константин Петрович, уверение не только в самых искренних моих чувствах, но и в глубокой прекрасной надежде на всю пользу, которой жду, да и не я один, а все от Вашей повой прекрасной деятельности.
Ваш приверженец и почитатель
Ф. Достоевский.
891. M. A. ПОЛИВАНОВОЙ
16 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса
16-е августа 80.
Глубокоуважаемая Марья Александровна,
Простите великодушно, и со всей добротой Вашей, что не ответил Вам тотчас же. Если я когда-нибудь в моей жизни был столь до невозможности завален и притиснут работой, то это именно в это лето. Кроме того, что сижу над окончанием романа, я только что издал в Петербурге объемистый № "Дневника писателя" и писал его именно всё это последнее время с жаром. Это неестественное накопление работы, думаю, отразится и на моем здоровье. Этот выпуск "Дневника" будет Вам выслан завтра же. Прочтите и напишите мне о нем что-нибудь. В мнениях тех людей, которых я уважаю и в ум и сердце которых верю, - я всегда нуждаюсь для духовной поддержки. Вы же мне столько написали хорошего и доброго о впечатлении, произведенном на Вас "Дневником" еще прежним. В ум же и в доброе верное чувство Ваше я не могу не верить, помня наше свидание в Петербурге. В одно это свидание я не только научился Вас ценить и уважать, но и поверил Вам, а уж в кого я поверю, то уж раз навсегда. Вы пишете, что хотели бы еще писать ко мне. Напишите непременно. Повторяю, только искренние и прозорливые сердца, как Ваше, способны поддержать человека.
Вы задаете мне, в письме Вашем, очень трудный вопрос на разрешение и который, увы, столь всеобщ. Есть ли человеческое существо в наше время, которое бы не тосковало от подобного вопроса? Двоиться человек вечно, конечно, может, но, уж конечно, будет при этом страдать. Если нет надежды на исход, на добрый всепримиряющий исход, то надо, по возможности не надрывая ничего, найти себе исход в какой-нибудь новой, посторонней деятельности, способной дать пищу духу, утолить его жажду. Думаю, что так всего лучше. К тому же Ваш вопрос слишком общ и вообще задан. Нужно многое знать в частностях и подробностях. А знаете ли, что я сам, например, меньше чем кто другой способен и имею право решать такие вопросы? Это потому, что самое положение мое, как писателя, слишком особливо ввиду таких вопросов. Я имею у себя всегда готовую писательскую деятельность, которой предаюсь с увлечением, в которую полагаю все старания мои, все радости и надежды мои и даю им этой деятельностью исход. Так что предстань мне лично такой же вопрос, и я всегда нахожу духовную деятельность, которая разом удаляет меня от тяжелой действительности в другой мир. Имея такой исход при тяжелых вопросах жизни, я конечно как бы подкуплен, ибо обеспечен, и даже могу судить пристрастно, по себе. Но каково тем, у которых нет такого исхода, такой готовой деятельности, которая всегда их выручает и уносит от тех безвыходных вопросов, которые иногда чрезвычайно мучительно становятся перед сознанием и сердцем и, как бы дразня и томя их, настоятельно требуют разрешения?
До половины сентября я наверно в Старой Руссе. Затем перееду в Петербург. Не знаю, удастся ли побывать осенью или в начале зимы в Москве. Даже бы надо уже по делам только. А между тем не знаю. - С января будущего года наверно примусь издавать опять "Дневник писателя".
Крепко жму Вам руку. С искренним и глубоким уважением Вам вполне преданный
Ф. Достоевский.
892. H. Л. ОЗМИДОВУ
18 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса,
18 августа/80.
М<илостивый> г<осударь> Николай Лукич!
Я письмо Ваше прочел со всем вниманием, и что же я могу на него ответить? Вы сами, весьма умно, заметили, что в письме всего не упишешь. Я даже думаю, что и ничего нельзя написать удовлетворительно, кроме общих положений. Приезжать же ко мне за советами тоже для Вас совсем бесцельно, потому что вовсе не считаю себя таким компетентным судьей для разрешения Ваших вопросов. Вы говорите, что до сих пор не давали читать Вашей дочери что-нибудь литературное, боясь развить фантазию. Мне вот кажется, что это не совсем правильно: фантазия есть природная сила в человеке, тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых лет, преимущественно перед всеми другими способностями, развита и требует утоления. Не давая ей утоления, или умертвишь ее, или обратно - дашь ей развиться именно чрезмерно (что и вредно) своими собственными уже силами. Такая же натуга лишь истощит духовную сторону ребенка преждевременно. Впечатления же прекрасного именно необходимы в детстве. 10-ти лет от роду я видел в Москве представление "Разбойников" Шиллера с Мочаловым, и, уверяю Вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плодотворно. 12-ти лет я в деревне, во время вакаций, прочел всего Вальтер-Скотта, и пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими. Советую и Вам дать Вашей дочери теперь Вальтер-Скотта, тем более, что он забыт у нас, русских, совсем, и потом, когда уже будет жить самостоятельно, она уже и не найдет ни возможности, ни потребности сама познакомиться с этим великим писателем; итак, ловите время познакомить ее с ним, пока она еще в родительском доме, Вальтер-Скотт же имеет высокое воспитательное значение. Диккенса пусть прочтет всего без исключения. Познакомьте ее с литературой прошлых столетий (Дон-Кихот и даже Жиль-Блаз ). Лучше всего начать со стихов. Пушкина она должна прочесть всего - и стихи и прозу. Гоголя тоже. Тургенев, Гончаров, если хотите; мои сочинения, не думаю чтобы все пригодились ей. Хорошо прочесть всю историю Шлоссера и русскую Соловьева. Хорошо не обойти Карамзина. Костомарова пока не давайте. Завоевание Перу, Мексики Прескотта необходимы. Вообще исторические сочинения имеют огромное воспитательное значение. Лев Толстой должен быть весь прочтен. Шекспир, Шиллер, Гете - все есть и в русских, очень хороших переводах. Ну, вот этого пока довольно. Сами увидите, что впоследствии, с годами, можно бы еще прибавить! Газетную литературу надо бы, по возможности, устранить, теперь по крайней мере. Не знаю, останетесь ли Вы довольны моими советами. Написал я Вам по соображению и по опыту. Если угожу - буду очень рад. Личное свидание считаю пока совсем ненужным, тем более, что я именно в эту минуту слишком занят. Да и повторяю опять: вовсе не считаю себя в этих вопросах особенно компетентным. Номер "Дневника" Вам выслан. Он стоит с пересылкою лишь 35;-65 коп. считаю за мной.
Истинно Вам преданный
Ф. Достоевский.
893. О. Ф. МИЛЛЕРУ
26 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса, 26 августа/80.
Глубокоуважаемый Орест Федорович!
К 8 сентября в Петербург никакой возможности вернуться! К сожалению большому, конечно. Я здесь как в каторжной работе и, несмотря на постоянно прекрасные дни, которыми надо бы пользоваться, сижу день и ночь за работой - кончаю "Карамазовых". Кончу только к самому концу сентября и тогда возвращусь. 8 сентября именно буду усиленно занят отправкой написанного в "Русский вестник". Вообще я здесь заработался. Какая прекрасная мысль особое торжественное заседание нашего общества на память 500-летия Куликовской битвы. Спасибо К<онстантину> Н<иколаевичу> за будущую статью. Это именно надо теперь. Надо возрождать впечатление великих событий в нашем интеллигентном обществе, забывшем и оплевавшем нашу историю. Жду непременно, что скажете Ваше слово и Вы. Как бы хорошо было упомянуть, хоть вскользь, об "ушедшем спать" великом князе (вероятно, от трусости), когда другие бились. Нужно высоко восстановить этот прекрасный образ и затереть бездну мерзких идей, пущенных в ход об нашей истории за последние 25 лет. Как я сожалел, быв в Москве, что Вас не было; Вы бы превосходно сумели послужить доброму делу Вашим горячим и энергическим словом! За мое же слово в Москве видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство-мошенничество или подлог в каком-нибудь банке. Даже Юханцев не был облит такими помоями, как я. Во всяком случае к 8 сентября мне нет ни малейшей возможности прибыть, несмотря на всё мое чрезвычайное желание. - А<нна> Гр<игорьевна> Вам от души кланяется. От Аксакова я только что получил превосходное, удивительное письмо в ответ на мой "Дневник". Но и Ваше письмо как бы интересно было прочесть.
Ваш преданный от всего сердца
Ф. Достоевский.
894. И. С. АКСАКОВУ
28 августа 1880. Старая Русса
Старая Русса.
28 августа/80.
Дорогой и глубокоуважаемый Иван Сергеевич, я и на первое письмо Ваше хотел отвечать немедленно, а получив теперь и второе, для меня драгоценное письмо Ваше, вижу, что надо говорить много и обстоятельно. Никогда еще в моей жизни я не встречал критика столь искреннего и столь полного участием к моей деятельности, как теперь Вы. Я даже забыл и думать, что есть и что могут быть такие критики. Это не значит, что я с Вами во всем согласен безусловно, но вот какой, однако же, факт: это то, что я сам нахожусь, во многом, в больших сомнениях, хотя и имел 2 года опыта в издании "Дневника". Именно о том: как говорить, каким тоном говорить и о чем вовсе не говорить? Ваше письмо застало меня в самой глубине этих сомнений, ибо я серьезно принял намерение продолжать "Дневник" в будущем году, а потому волнуюсь и молю кого следует, чтоб послал сил и, главное - умения. Вот почему обрадовался ужасно, что имею Вас, - ибо вижу теперь, что Вам могу изложить хоть часть сомнений, а Вы всегда мне скажете глубоко-искреннее и прозорливое слово. Я уж это вижу, из двух Ваших писем понимаю. Но вот моя беда: написать придется к Вам немало, а я теперь не свободен и писать не способен. Вы не поверите, до какой степени я занят, день и ночь, как в каторжной работе! Именно - кончаю "Карамазовых", следственно, подвожу итог произведению, которым я, по крайней мере, дорожу, ибо много в нем легло меня и моего. Я же и вообще-то работаю нервно, с мукой и заботой. Когда я усиленно работаю - то болен даже физически. Теперь же подводится итог тому, что 3 года обдумывалось, составлялось, записывалось. Надо сделать хорошо, то есть по крайней мере сколько я в состоянии. Я работы из-за денег на почтовых - не понимаю. Но пришло время, что всё-таки надо кончить, и кончить не оттягивая. Верите ли, несмотря что уже три года записывалось иную главу напишу да и забракую, вновь напишу и вновь напишу. Только вдохновенные места и выходят зараз, залпом, а остальное все претяжелая работа. Вот почему теперь, сейчас, несмотря на жгучее желание, не могу написать Вам: дух во мне не тот, да и разбивать себя не хочу. Напишу же Вам около 10-го будущего месяца (сентября), когда освобожусь. Да и обдумаю пока, потому что вопросы-то трудные и надо их ясно изложить. А потому на меня не сердитесь, не примите за равнодушие: если б Вы знали, как Вы, в таком случае, ошибетесь! А пока обнимаю Вас искренно и благодарю душевно. Мне Вы нужны, и я Вас не могу не любить.
Ваш искренний Ф. Достоевский.
(1) было: представить
895. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
28 августа 1880. Старая Русса
Любезный брат Николай Михайлович, я слишком занят, так, как ты и предположить не можешь, не по силам и здоровью. Об имении более ничего не могу сообщить, кроме того, что по моей просьбе сообщила тебе Анна Григорьевна. Да и кто может знать что-нибудь про наше имение даже во всей вселенной. До свидания.
Твой Ф. Достоевский.
896. H. A. ЛЮБИМОВУ
8 сентября 1880. Старая Русса
Старая Русса. 8 сентября/80 г.
Милостивый государь
многоуважаемый Николай Алексеевич,
Как ни старался кончить и прислать Вам всю двенадцатую и последнюю книгу "Карамазовых", чтоб напечатать зараз, но увидел наконец, что это мне невозможно. Прервал на таком месте, на котором действительно рассказ может представлять нечто целое (хотя, может быть, и не столь эффектное), да и действие, кстати, у меня на время прерывается. Это "Суд". Не думаю, чтоб я сделал какие-нибудь технические ошибки в рассказе: советовался предварительно с двумя прокурорами еще в Петербурге. Остановил рассказ на перерыве пред "Судебными прениями". Остаются речи прокурора и защитника - и тут надобно дело сделать по возможности лучше, тем более, что и адвокат и прокурор представляют у меня отчасти типы нашего современного суда (хотя и ни с кого лично не списанные) с их нравственностью, либерализмом и воззрением на свою задачу. Этими двумя речами я теперь и занимаюсь, и они с "приговором" и закончат двенадцатую и последнюю часть романа. Останется "Эпилог" в 1 1/2 печатных листа. Но у меня твердое намерение и желание окончить и напечатать окончание 4-й части вместе с "Эпилогом". Это уже будет на октябрьскую книгу "Р<усского> вестника", а покамест на сентябрьскую посылаю лишь часть двенадцатой книги (правда, большую), 5 глав. Будет, без очень малого (без двух-трех страниц), 3 листа. Ужасно и убедительнейше буду просить Вас прислать мне и теперь, как и в прошлый раз, вовремя корректуру. Я здесь, в Старой Руссе, minimum, до 25-го сентября. Лето прекраснейшее. Передайте мое глубочайшее уважение Вашей супруге, жена от всего сердца Вам кланяется и желает Вам всего лучшего. Мой глубокий поклон и привет Михаилу Никифоровичу.
Примите, глубокоуважаемый и дорогой Николай Алексеевич, горячее изъявление моей сердечной и искреннейшей преданности, Ваш всегдашний слуга
Ф. Достоевский.
Р. S. Такую статью как "Против течения" давным бы давно надо пустить в "Р<усском> вестнике", К тому же у нас всё до сих пор предания 48 года, Луи Блан, Ламартин. Особенно для молодых умов назидательно.
Старая Русса. Новгородской губернии. Ф. М-чу Достоевскому.
897. В. П. ГАЕВСКОМУ
30 сентября 1880. Старая Русса
Старая Русса
30 сентября/80.
Многоуважаемый Виктор Павлович, читать на вечере 19-го октября я готов, но желал бы прочесть монолог Скупого рыцаря (в подвале) и "Медведицу". Иначе буду читать без удовольствия. Читаешь только то хорошо, что умеешь прочесть. - Во всяком случае попросил бы Вас уведомить меня о Вашем распоряжении хоть за неделю до 19-го октября.
Искренно преданный
Ф. Достоевский,
898. П. Е. ГУСЕВОЙ
15 октября 1880. Петербург
Петербург. Кузнечный переулок, близ Владимирской церкви, дом № 5, кв. 10
15 октября/80.
Многоуважаемая Пелагея Егоровна,
Вместо того, чтобы так горько упрекать, Вам бы хоть капельку припомнить, что могут быть случайности и всякие обстоятельства. Я жил всё лето с семейством в Старой Руссе (Минеральные воды), и только 5 дней, как воротился в Петербург. Первое письмо Ваше от июля, адресованное в "Вестник Европы", дошло до меня чрезвычайно поздно, в конце августа. И что же бы я мог сделать, сидя в Старой Руссе, в редакции "Огонька", которой я не знаю и изо всех сил знать не желаю? Вам же не ответил - Вы не поверите почему: потому, что если есть человек в каторжной работе, то это я. Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь были сноснее моей теперешней. С 15-го июня по 1-ое октября я написал до 20 печатных листов романа и издал "Дневник писателя" в 3 печат<ных> листа. И однако, я не могу писать с плеча, я должен писать художественно. Я обязан тем богу, поэзии, успеху написанного и буквально всей читающей России, ждущей окончания моего труда. А потому сидел и писал буквально дни и ночи. Ни на одно письмо с августа до сегодня - еще не отвечал. Писать письма для меня мучение, а меня заваливают письмами и просьбами. Верите ли, что я не могу и не имею времени прочесть ни одной книги и даже газет. Даже с детьми мне некогда говорить. И не говорю. А здоровье так худо, как Вы и представить не можете. Из катарра дыхательных путей у меня образовалась анфизема - неизлечимая вещь (задыхание, мало воздуху), и дни мои сочтены. От усиленных занятий падучая болезнь моя тоже стала ожесточеннее. Вы, по крайней мере, здоровы, надо же иметь жалость. Если жалуетесь на нездоровье, то не имеете всё-таки смертельной болезни, и дай Вам бог много лет здравствовать, ну, а меня извините.
Второе же письмо Ваше с упреками от сентября я получил лишь на днях в Петербурге. Всё приходило на мою квартиру без пересылки в Ст<арую> Руссу, вследствие ошибочного моего собственного распоряжения (конечно, по недоумению), и я разом получил десятки писем.
С "Огоньком" я не знаюсь, да и заметьте тоже, что и ни с одной редакцией не знаюсь. Почти все мне враги - не знаю, за что. Мое же положение такое, что я не могу шляться по редакциям: вчера же меня выбранят, а сегодня я туда прихожу говорить с тем, кто меня выбранил. Это для меня буквально невозможно. Однако употреблю все усилия, чтоб достать Вашу рукопись из "Огонька". Но куда ее пристроить? Всякая шушера, которую я приду просить, чтоб напечатали Ваш роман, будет смотреть на меня, как на выпрашивающего страшного одолжения. Да и как я пойду говорить с этими жидами? С другой стороны, ведь эту рукопись надо прочесть предварительно, а у меня буквально нет ни минуты времени для исполнения самых святых и неотложных обязанностей. Я всё запустил, всё бросил, о себе не говорю. Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город просыпается, а я еще не ложился. А мне говорят доктора, чтоб я не смел мучить себя работой, спал по ночам и не сидел бы по 10 по 12 часов нагнувшись над письменным столом. Для чего я пишу ночью? А вот только что проснусь и час пополудни, как пойдут звонки за звонками: тот входит одно просит, другой другого, третий требует, четвертый настоятельно требует, чтоб я ему разрешил какой-нибудь неразрешимый "проклятый" вопрос - иначе-де я доведен до того, что застрелюсь. (А я его в первый раз вижу.) Наконец, депутация от студентов, от студенток, от гимназий, от благотвор<ительных> обществ - читать им на публичном вечере. Да когда же думать, когда работать, когда читать, когда жить.
В редакцию "Огонька" пошлю и буду требовать выдачи рукописи - но прочесть, поместить - этого я и понять не могу, как и когда я сделаю. Ибо буквально не могу, не имея времени и не зная никуда дорог. Вы думаете, может быть, что я от гордости не хочу ходить? Да помилуйте, как я пойду к Стасюлевичу, али в "Голос", али в "Молву", али куда бы то ни было, где меня ругают самым недостойнейшим образом. Если я принесу рукопись и потом она не понравится, скажут: Достоевский надул, мы ему поверили как авторитету, надул, чтоб деньги выманить. Напечатают это, разнесут, сплетню выведут - Вы не знаете литературного мира.
Не дивитесь на меня, что я пускаюсь в такие разговоры. Я так устал и у меня мучительное нервное расстройство. Стал бы я с другим или с другой об этом говорить! Знаете ли, что у меня лежит несколько десятков рукописей, присланных по почте неизвестными лицами, чтоб я прочел и поместил их с рекомендацией в журналы: вы, дескать, знакомы со всеми редакциями! Да когда же жить-то, когда же свое дело делать, и прилично ли мне обивать пороги редакций! Если Вам сказали везде, что повесть Ваша растянута, - то конечно, что-нибудь в ней есть неудобное. Решительно не знаю, что сделаю. Если что сделаю - извещу. Когда - не знаю. Если не захотите такой неопределенности, то уполномочьте другого. Но для другой я бы и не двинулся: это для Вас, на память Эмса. Я Вас слишком не забыл. Письмо Ваше (первое) очень читал. Но не пишите мне в письмах об этом. Крепко, по-дружески, жму Вам руку.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Буквально вся литература ко мне враждебна, меня любит до увлечения только вся читающая Россия.
899. В. М. КАЧЕНОВСКОМУ
16 октября 1880. Петербург
Петербург
16 октября/80.
Многоуважаемый Владимир Михайлович,
Ваше письмо, в котором Вы просили меня о скором ответе, получил я лишь на днях, возвратясь в Петербург. Жил я лето, с семьей моей, в Старой Руссе и готовился воротиться в Петербург еще в половине сентября. Но вследствие разных задержек остался до 10-го октября, а между тем еще месяц назад сделал распоряжение, чтобы письма мне уже в Старую Руссу не высылались, а ждали моего приезда в Петербурге. Таким образом, возвратясь из Руссы, нашел несколько писем, ожидавших меня, в том числе и Ваше. Мне очень жаль, старый товарищ, если (1) Вы подумали, что я отнесся к Вашему письму холодно и невнимательно. И опять-таки нельзя было Вам отвечать сейчас, потому что хотелось по Вашей просьбе что-нибудь устроить, а на всё нужно время. Насчет общества поощрения писателей я ничего не знаю, а потому никакого Вам совета дать не могу. Но я отправился к Виктору Павловичу Гаевскому, который состоит членом Комитета (и даже, кажется, председательствует) в Обществе Литературного фонда. Он мне обещал непременно доложить о Вас в Комитете Лит<ературного> фонда в первое же заседание его и обнадежил меня, что может кончиться успешно, то есть возможностью выдачи (2) временного вспоможения (конечно, не чрезвычайно значительного), а может быть, и некоторой постоянной (то есть ежегодной) помощи или пенсии. Я знаю, что в Литерат<урном> фонде при определении вспоможений всегда требуется отчетливого обозначения, (3) то есть перечня прежних литературных трудов просящего вспомоществования. Но Гаевский сказал мне, что Вам могут выдать вспомоществование и за литературные и ученые заслуги Вашего отца. Кроме того, принято за правило всегда, прежде (4) определения вспоможения, поручать кому-нибудь из членов Литературного фонда лично удостовериться в болезненном или беспомощном состоянии требующего вспоможения. Так как Фонд имеет множество членов и некоторые из них живут в Москве, то, если будет уважено представление о Вас Гаевского, кому-нибудь из московских членов Общества поручат посетить Вас лично. Когда это может случиться, не могу предсказать, но, вероятно, не позже трех недель от сего числа, а может, и раньше. Весьма бы желательно, если б Лит<ературный> фонд определил хотя малую, но ежегодную пенсию. Вот всё, что я успел сделать. Если дело будет сразу отвергнуто, то я Вас уведомлю. Если же получит ход, то член Литературного фонда непременно посетит Вас. Полагаю, что отвергнуть совсем не могут и хоть единовременное пособие определят.
Вот всё, что я успел сделать. Так ли я поступил, обратясь к Лит<ературному> фонду? (5) Не обращались ли Вы к нему и прежде? Не знаю, как Вы примете мое распоряжение. Во всяком случае от души желаю Вам здоровья. Да, наших чермаковцев немного, а я всех помню. В жизни встречал потом лишь Ламовского и Толстого. С Шумахерами никогда не пришлось увидеться, равно как и с Мильгаузенами. С Анной Леонтьевной Чермак (Ламовской) встретился с большим удовольствием. Бывая в Москве, мимо дома в Басманной всегда проезжаю с волнением. Я Вас очень помню. Вы были небольшого росту мальчик с прекрасными большими темными глазами. Жаль, что мы не встретились летом. "Подростка" вышлю моей милой читательнице, дочери Вашей, как только разберусь с моим книжным хламом. - Я сам тоже человек весьма нездоровый с двумя неизлечимыми болезнями, которые очень меня удручают и очень мне дорого стоят: падучей и катарром дыхательных путей (анфиземой) - так что дни мои сам знаю, что сочтены. А между тем беспрерывно должен работать без отдыху.
Жму Вам руку и обнимаю Вас как старого товарища детских лет.
Ваш весь Ф. Достоевский.
С.-Петербург, Кузнечный переулок, дом № 5, кварт<ира> № 10, близ Владимирской церкви. Ф<едору> М<ихайлови>чу Достоевскому.
На всякий случай: Виктор Павлович Гаевский, С.-Петербург, Литейная, дом № 48, его превосходительство.
(1) было: что (2) далее было начато: Лит<ературным фондом?> (3) было: изложения при<чин> (4) было: пред (5) далее было начато: Мож<ет>?
900. M. A. ПОЛИВАНОВОЙ
18 октября 1880. Петербург
Петербург.
18 октября/80. Кузнечный переулок, близ Владимирской церкви, дом № 5, кв. № 10.
Глубокоуважаемая Марья Александровна,
Я сегодня получил уже третье письмо Ваше, со времени моего Вам ответа, и вот только на третье урвал минуту Вам ответить. Как ни неправдоподобно, а Вы должны собрать всю силу Вашего дружества и мне поверить: не отвечал потому, что было некогда! Вы, конечно, не поверите, но, возвратясь из Москвы в Старую Руссу, я до самого 6-го октября (день выезда из Руссы) всё писал, день и ночь. Знаете ли, что я в этот срок написал более 15 печатных листов, и какой работы: по пяти раз переделывал и переправлял написанное. Не мог же я кончить мой роман кое-как, погубить всю идею и весь замысел. 2-го сентября я выслал в "Русский вестник" вот то, что в нем теперь напечатано, и думал было написать Вам, хотя голова была как в чаду, а нервы надорваны. Но меня разбил жестокий припадок падучей моей болезни и до самого 10-го числа я не мог уже ничем заняться, с 11-го же числа по 30-е я опять сел за работу и написал 5 печатных листов, то есть 80 страниц самых для меня капитальных из всего романа. Какие уж тут письма? Вспомните, Марья Александровна, об моем здоровье и моих нервах: для меня ничего нет ужаснее, как написать письмо. Если я чем занимаюсь, то есть пишу, то я кладу в это всего себя, и после написания письма я уже никогда не в состоянии в тот день приняться за работу. Между тем я пишу самые обыденные, самые недостаточные письма, особенно тем, которым хотелось бы что сказать. Мне всё кажется, что я и сотой доли не успеваю высказать, и от этого всегда мучусь. С 7-го октября я в Петербурге, и, верите ли: звонок за звонком, кофею не дадут напиться: то приходят от студентов и от гимназий с просьбами читать, то с своими рукописями: прочтите, дескать, и пристройте в какой-нибудь журнал, вы-де со всеми редакциями знакомы, а я ни с одной не знаком, да и не хочу знаться. Верите ли, у меня накопилось до 30 писем все ждут ответа, а я не могу отвечать. Думаю отдохнуть, развлечься, книгу прочесть - ничуть не бывало. Вот завтра чтение (19-е октября) в пользу Литер<атурного> фонда, и я не мог отказать. Со знакомыми не мог увидеться, ни одного собственного дела не мог исправить. А с 20-го числа, послезавтра, должен сесть работать, чтоб написать заключительный "Эпилог" романа для "Русского вестника". Поймите то, что у меня нет, нет ни одной минуты. А нервы расстроены и угрызения совести: "Что обо мне подумают те, которым я не отвечаю, что скажут". Я Аксакову на самое интересное и нужное мне письмо вот уже 2 месяца не могу ответить. Верите ли, что я с детьми даже перестал говорить, гоню их от себя, вечно занятый, вечно расстроенный, и они говорят мне: "Не таков был ты прежде, папа". - И всех-то я обозлил, все-то меня ненавидят. Здесь в литературе и журналах не только ругают меня как собаки (всё за мою Речь, всё за мое направление), но под рукой пускают на меня разные клеветливые и недостойные сплетни. Будьте же человеколюбивы и не сердитесь на меня. Не сердитесь и за то, что я три четверти письма употребил на описание себя и своего положения.
То, что Вы мне открыли, у меня осталось на сердце. Конечно, никакая сделка невозможна, и Вы правильно рассуждаете и чувствуете. Но если он становится другим, то, хотя бы и продолжал быть перед Вами виноватым, Вы должны перемениться к нему - а это можно сделать без всякой сделки. Ведь Вы его любите, а дело это давнее, наболевшее. Если он переменился, то будьте и Вы дружественнее. Прогоните от себя всякую мысль, что Вы тем даете ему повадку. Ведь придет же время, когда он посмотрит на Вас и скажет: "Она добрее меня" - и обратится к Вам. Не безмолвным многолетним попреком привлечете Вы его к себе. Да, впрочем, что ж я Вам об этом пишу? (Может быть еще и обижаю Вас): ведь если я и знаю Ваш секрет, то сколько бы Вы мне об этом ни написали - всё-таки останется целое море невысказанного и которого Вы и сами не в силах высказать, а я понять. И не слишком ли Вы увлекаетесь, думая про меня, что я могу столько значить в Вашей судьбе? Я не смею взять столько на себя. Жду полного снисхождения от Вашего дружелюбия ко мне. Желал бы Вам сказать много теплого и искреннего - да что можно высказать на письме? До свидания. Я Вас глубоко уважаю и предан Вам всей душой. Пишите мне, если захотите. Теперь ночь. Надо спать, чтоб завтра быть свежим. Если меня публика примет холодно - то какая радость будет всем терзающим меня в газетах: "А, значит, и общество от него отвернулось". Не самолюбие говорит во мне, но, из-за идеи, не хотел бы доставить им эту радость. Я не стыжусь Вам во всем этом признаться.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Верите ли, что у меня нет времени поехать в Главное Управление печати и подать просьбу об издании "Дневника" в будущем году. До сих пор не ездил, а время уходит, пора публиковать.
901. Г. Е. БЛАГОСВЕТЛОВУ
20 октября 1880. Петербург
20-го октября 1880 г. С.-Петербург.
Михаила Александровича Александрова, как метранпажа, знал в течение нескольких лет и был всегда как нельзя более доволен его усердием, аккуратностью и, смело могу сказать, талантливостью; к тому же Михаил Александрович сам литератор.
Федор Достоевский.
902. А. П. ШУЙСКОЙ
25 октября 1880. Петербург
Октября 25/80.
Милостивая государыня Александра Петровна,
К величайшему моему горю, я не могу читать на Вашем вечере. Именно и главное потому, что это так скоро. Если бы в декабре, я бы непременно был к Вашим услугам, тем более, что сам вменяю себе всегда в обязанность не отказывать в участии моем для такой хорошей цели. Если в следующий раз я Вам когда-нибудь понадоблюсь, то употреблю все усилия, чтоб услужить Вам. А теперь я сам завален работой буквально свыше сил моих и прежде, чем не разделаюсь с ней, не в состоянии помышлять ни о чем другом. - Вместе с искренним сожалением моим примите уверение в самых искренних чувствах моего к Вам глубочайшего почтения и уважения.
Ваш покорнейший слуга
Ф. Достоевский.
903. В. П. ГАЕВСКОМУ
29 октября 1880. Петербург
29 октября/80.
Многоуважаемый Виктор Павлович,
Спешу как можно скорее исправить вчерашнюю большую мою ошибку.
Я вчера Вам твердо и положительно обещал мое участие в будущем чтении для Литературного фонда, так что уже назначено было и число (16-е). И, однако же, по уходе Вашем, я сообразил дело и вижу, что никак не мог бы ничего обещать с такою определенностью, выпустив из виду, что, весьма может быть, буду принужден, по некоторым обстоятельствам, проехаться в ноябре в Москву для завершения некоторых собственных дел. Есть кроме того и другие, для меня лично весьма серьезные соображения, по которым я в ноябре буду не в состоянии располагать собою. А посему, ввиду того, что Вы, многоуважаемый Виктор Павлович, могли бы на основании моего твердого обещания, вчера Вам мною данного, предпринять некоторые шаги и распоряжения (то есть у попечителя, о зале, об отсрочке Вашего вечера до 16-го числа и проч.), ввиду всего этого и спешу написать Вам это повинное письмо и просить Вас, чтоб Вы уже более не стесняли Ваших действий мною и устроили Ваш вечер так, как если б на меня вовсе и не рассчитывали. Это вовсе не значит, чтоб я вполне отказывался: всё зависит от обстоятельств; я только слишком твердой определенности боюсь. Насчет же того, что Вам заранее нужно знать (для попечителя, для афишки) о моем участии, - в данную минуту, к моему великому горю, ничего сказать Вам не могу. По крайней мере, Вы теперь уже можете не стесняться 16-м числом и назначить Ваш вечер гораздо раньше, так как, кажется, того и хотели. Да к тому же утешает меня и то, что чтецов у Вас и без меня слишком довольно, да еще превосходных. Во всяком случае жажду полного Вашего ко мне снисхождения. Не вмените в грех, не сочтите за лень и отлынивание. Поступаю так единственно из мнительности, боясь быть вынужденным отказаться накануне, да еще сам связав Вас 16-м числом и прочими условиями, вчера высказанными. В один же день (со вчерашнего числа) думаю, Вы не могли и не успели еще предпринять что-нибудь на основании вчерашних условий, уже Вас связавших. Примите уверение в моей совершенной преданности и готовности услужить Вам в случае возможных для меня обстоятельств, то есть относительно только вечера. Служить же Вам готов во всем остальном уже при всяких обстоятельствах с совершенною ревностью.
Ваш весь Ф. Достоевский,
904. П. И. ВЕЙНБЕРГУ
2 ноября 1880. Петербург
Ноября 2/80 г.
Глубокоуважаемый Петр Исаевич,
На прошлой неделе я отказался читать на 5-ти вечерах (г-же Шуйской, попечительнице какого-то заведения для учительниц, г-же Рехневской (Мей), попечительнице какого-то приюта для учительниц, Патриотическому обществу, в пользу Ларинской гимназии и, наконец, в пользу Литературного фонда на 3-м вечере, предпринимаемом В. П. Гаевским ). Согласитесь теперь сами, Петр Исаевич, как могу я читать для женских курсов, отказав всем прежним именно под тем предлогом, что в ноябре я слишком занят? Что они скажут про меня? Ведь относительно их мое согласие читать для женских курсов будет (1) подлостью. Я буквально поставлен в невозможность согласиться. К тому же всем как раз понадобилось в ноябре, и еще в 1-й половине ноября! Если придать к этим 6 чтениям два бывших чтения для Литературного фонда, то вышло бы, что я явлюсь перед публикой 8 раз в один месяц! Согласитесь, что это невозможно, скажут - это самолюбие уверенное в себе черезчур уже слишком. В прошлую зиму все эти чтения растянулись на всю зиму, а тут вдруг все в ноябре. - Кстати, одному Гаевскому я хоть и отказал, но не совершенно, а условно, а в случае необходимости, может быть, и явлюсь читать у него. Заметьте еще, что это 3-е чтение для Лит<ературного> фонда назначено как раз 16-го ноября и непременно состоится. Как же Ваше-то будет тоже 16-го, если только Гаевский не изменит дня? - А что же наша мысль о ряде чтений из всей русской литературы? Оставлять ее не надо, и вот тут-то бы и можно было назначить одно из чтений в пользу женских курсов, даже хотя бы первое чтение? Тут я бы не отказался, хотя бы и в ноябре, ибо всегда мог бы отговориться, что это дело особенное. И тем более сподручно, что читать не свое, а свое я всё уже отбарабанил еще в прошлую зиму, и мне отвратительно перечитывать мое старье. Я стою за мысль о ряде чтений, но у нас, кажется, ничего не может устроиться. Прибавлю еще, что я, в настоящую минуту, не завален, а задавлен работой.
Искренно уважающий и всегда преданный Вам
Федор Достоевский.
Кузнечный переулок, дом № 5, кв. 10.
(1) было: сочтется ими
905. П. Е. ГУСЕВОЙ
3 ноября 1880. Петербург
С. Петербург. ноября 3/80 г.
С.-Петербург Кузнечный переулок, дом № 5, квартира № 10 (близ Владимирской церкви) Ф. М-чу Достоевскому.
Глубокоуважаемая и дорогая Полагая Егоровна,
Простите, что ограничусь лишь несколькими словами: страшно занят, ждут корректуры, переписка последних листов "Карамазовых" и беспрерывно надоедающие посетители. Рукопись Вашу, "Мачеха", из "Огонька" взял и отправил в "Русь". Написал и Ивану Сергеевичу всё, как Вы желали, и прибавил еще о том, что он должен знать Вас по чешским стихотворениям, о которых Вы мне написали. Что же до тетради Ваших стихов, бывших в "Огоньке", то она давно сожжена редакцией: таково у них правило со всеми стихотворениями, которые у них залежатся. Прибавлю от себя, дорогая Пелагея Егоровна, что, кажется, ничего Вы не могли сделать непрактичнее, как эта пересылка Вашей "Мачехи" в "Русь"! Еженедельная газета, выходящая по 2 печатных листа в неделю, разве может начать печатание романа в 12 печатных листов? Это чтобы через полгода окончить? Да если б был прислан уже патентованный чей-нибудь шедевр, так и тогда я, например, если б был редактором такой газеты, не напечатал, а разве выдал бы публике в приложениях. Само собою, я этого не написал Аксакову. Как он решит, так теперь и будет. Сообщил ему Ваш адресс. Вы бы лучше присели и написали что-нибудь хорошенькое в 1 лист печатный, да и послали бы поскорее в "Русь". Это было бы лучше, я об Вас написал Аксакову, как об хорошем человеке.
Простите же, что пишу лишь два слова. Я Вам предан и об Вас вспоминаю сердечно, в этом будьте всегда уверены. До свидания, милая Пелагея Егоровна, жму крепко Вашу ручку.
Ваш весь Ф. Достоевский.
906. И. С. АКСАКОВУ
4 ноября 1880. Петербург
Кузнечный переулок, дом № 5, кварт. № 10. Ф. М.-у Достоевскому.
С.-Петербург Ноября 4/80
Глубокоуважаемый и дорогой Иван Сергеевич,
Третьего дня я отправил в редакцию "Руси" одну рукопись, повести или романа, под названием "Мачеха". Это вот что такое: одна, давно уже пишущая барыня, сама очень хороший, кажется, человек, Пелагея Егоровна Гусева, лет 6 тому назад познакомилась со мною на водах в Эмсе и теперь прибегла к моему посредничеству по поводу своего романа. Живет она в Рязани, очень бедно. "Мачеха" была в "Русском вестнике", была в "Огоньке". Везде отказали. И вот Пелагея Егоровна, прочтя в газетах Ваше объявление, поручила мне взять из редакции издания "Огонек" ее рукопись и переслать Вам в "Русь", что я и сделал. "Мачеху" я не читал; понятия о ее достоинствах не имею и лишь по настоятельной просьбе автора совершил факт передачи. Как рассудите, так и будет, а я тут, конечно, ни при чем: ничего не рекомендую, ничего не навязываю. Г-жа Гусева прибавляет, что, может быть, отчасти Вам известна переводами некоторых чешских стихотворений, которые Вы когда-то поместили в каком-то издании, "Братская помощь", кажется. Впрочем, она сама забыла название. Подписана "Мачеха" псевдонимом А. Шумова. Этот псевдоним она согласна уничтожить, с тем чтоб поставить настоящую фамилью: П. Гусева. Адресс г-жи Гусевой: Рязань, Введенская улица, дом священника Успенского.
Исполнив поручение, скажу два слова о себе. Я Вам, дорогой Иван Сергеевич, до сих пор на Ваше прекрасное письмо (месяца 2 или более назад) еще не ответил. Но как был в каторжной работе тогда, так состою и теперь. Всё кончаю мой роман и не могу кончить. Но на днях, кажется, кончу совсем, и тогда я, относительно говоря, свободен. Ваше объявление о "Руси" превосходное, здесь же нашлись люди (и представьте, во многом нашего образа мыслей), которые находят, что объявление Ваше заносчиво, туманно и нагло. Пусть брешут. Во многих случаях первыми врагами бывают свои же. Мне только мерещится, что "Русь" сделала один только промах, именно, что начнется с 15-го ноября, а не прямо с 1-го января будущего года. Публике естественно покажется, что номера в нынешнем году выпускаются, так сказать, как бы пробными, чтоб рекомендовать издание, Но "Русь" и ее направление, по-моему, столь должны быть известны всем, равно как и ее редактор, чтоб пробности никакой бы и не надо. Без пробности было бы важнее, тверже, самоувереннее в хорошем смысле слова. Общество в этом смысле глуповато; оно смотрит на такие пробные номера всегда как бы еще не на настоящие. Впрочем, это мое только мнение, и я очень, может быть, ошибаюсь. Убежден, однако, только в том, что Вам необходимо теперь, так сказать, усиленно поразить и завлечь внимание первыми номерами, чтоб доказать, что они настоящие. Если б с 1-го января, то никакой такой усиленности и не надо бы было, потому что сделалось бы само собою. Опять-таки я, может быть, очень вру.
Ваш тезис мне о тоне распространения в обществе святых вещей, то есть без исступления и ругательств, не выходит у меня из головы. Ругательств, разумеется, не надо, но возможно ли быть не самим собою, не искренним? Каков я есмь, таким меня и принимайте, вот бы как я смотрел на читателей. Заволакиваться в облака величия (тон Гоголя, например, в "Переписке с друзьями") - есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнает чутьем. Это первое, что выдает. Ну как отказаться от полемики и иногда горячей? Вам дружески признаюсь, что, предпринимая с будущего года "Дневник" (на днях пускаю объявление), часто и многократно на коленях молился уже богу, чтоб дал мне сердце чистое, слово чистое, безгрешное, нераздражительное, независтливое. Смеясь уже, скажу: решаю иногда совсем не читать ни нападок, ни возражений в журналах. Кстати, Кошелева статью в "Р<усской> мысли" до сих пор не читал. И не хочу. Известно, что свои-то первыми и нападают на своих же. Разве у нас может быть иначе? Но вот и вся бумага, а сколько хотел было Вам написать. Но напишу. До свидания, обнимаю Вас горячо. Дай Вам бог.
Ваш весь Федор Достоевский.
(1) далее было: есть
907. H. A. ЛЮБИМОВУ
8 ноября 1880. Петербург
Ноября 8/80 г.
Милостивый государь
глубокоуважаемый Николай Алексеевич,
Вместе с сим отсылаю в редакцию "Р<усского> вестника" заключительный "Эпилог" "Карамазовых", которым и покончен роман. Всего 31 полулисток почтовой бумаги и, кажется, не более чем 1 3/4 листа "Р<усского> вестника".
Я убедительно и особенно прошу выслать мне корректуру в 2-х экземплярах (а не в одном). Второй экземпляр мне совершенно здесь необходим для предстоящих публичных чтений в конце ноября (после 20-го). Я всё свое перечитал, а тут новое. Прочту последнюю главу: похороны Илюшечки и речь Алеши мальчикам. По опыту знаю, что такие места в чтениях производят некоторое впечатление.
Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги.
Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен еще 20 лет жить и писать. Не поминайте же лихом.
Хотел было сейчас по окончании "Карамазовых" побывать в Москве, но, кажется, не удастся. Крепко жму Вам руку и благодарю Вас за Ваше участие. А пожалуй, и за редакторскую ферулу: она иногда мне необходима.
Ваш последний № удивительно составлен. Но будут ли продолжаться статьи: "Против течения"? Они здесь сильно замечены. Если б в ноябре и в декабре поместить! Поверьте, они необходимы, ибо решительный успех.
Мое глубочайшее уважение глубокоуважаемой супруге Вашей. Будьте так добры, передайте от меня искренний привет глубокоуважаемому Михаилу Никифоровичу. Жена моя шлет Вам глубокий поклон.
Примите сердечное уверение в моей искренней и всегдашней приверженности.
Ваш весь Ф. Достоевский.
С.-Петербург, Кузнечный переулок, дом № 5, квартира № 10 (близ Владимирской церкви) Ф. М. Достоевскому.
908. В. М. КАЧЕНОВСКОМУ
25 ноября 1880. Петербург
<25 ноября>/80 (1)
Милостивый государь Владимир Михайлович,
Сейчас получил письмецо от Гаевского. Извещает, что в сегодняшнем (25 ноября) заседании Комитета Литерат<урного> фонда он доложил об учреждении Вам пенсии. Комитет положил: поручить московскому профессору Алексею Николаевичу Веселовскому собрать о Вашем положении подробные сведения, "необходимые и для определения размера пенсии".
Не знаю, как (2) и откуда будет Веселовский собирать о Вас сведения (я же Веселовского совсем не знаю), но, вероятно, посетит и Вас, (3) а потому знайте это и подготовьтесь к его посещению.
Вам совершенно преданный старый товарищ Ваш
Ф. Достоевский.
(1) левый верхний угол листа с началом даты оторван (2) далее было: бу<дет> (3) далее было: (когда тоже не знаю) <?>
909. А. М. ДОСТОЕВСКОМУ
28 ноября 1880. Петербург
Петербург ноября 28/80.
Глубокоуважаемый и дорогой друг
и брат Андрей Михайлович,
Поздравляю тебя с наступающим днем твоего ангела, а вместе с тем благодарю и за твой радушный, братский привет мне, месяц назад, по поводу дня моего рождения. Пожелания твои мне, уж конечно, вполне братские и искренние, только вряд ли они могут сбыться: вряд ли проживу долго; очень уж тягостно мне с моей анфиземой переживать петербургскую зиму. Тебе же от души желаю жить как можно дольше и счастливее, тем более что, воистину, только теперь и идет для тебя счастливая жизнь. Если б я мог, как ты, дожить до счастья видеть деток моих взросшими, устроенными, ставших добрыми, хорошими, прекрасными людьми, то чего бы, кажется, более и требовать от земной жизни? Оставалось бы только благодарить бога и на деток радоваться. Так теперь и ты: хоть и невозможно в жизни без каких-нибудь тех или других неприятностей, но всё же воображаю себе, как взглянешь ты на свое доброе, прекрасное, любящее тебя семейство, то как же не почувствовать отрады и умиления? Я же предвижу про себя, что деток оставлю после себя еще подростками, и эта мысль мне очень подчас тяжела.
Добрейшей, глубокоуважаемой и дорогой супруге твоей, Доменике Ивановне, прошу тебя передать от меня любовь и уважение. Жена сказала мне, что уже отправила тебе от себя письмецо особо. Это она превосходно сделала. Пожелание мое и совет тебе: береги здоровье. Что до меня, то здесь у нас и беречь его невозможно. А к тому же не по силам почти работа. Только что кончил свой большой роман, принимаюсь теперь за "Дневник писателя" и уже начал публиковаться в газетах. Главное, страшит меня срочность выпусков. Это очень тяжело при моем здоровье. А что будешь делать: не работать, так и средств не будет. Дотянуть бы только до весны, и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскрешает. К 4-му декабря хочу написать сестре Варваре Михайловне. Я ее люблю; она славная сестра и чудесный человек. Вот брат Николай Михайлович совершенно порвал со мной, точно меня нет на свете, вот уже два с половиною года. Даже грубо и нелепо с его стороны. Дуется и сердится, на что собственно - не знаю. Болезненный человек, бог с ним. Не претендуй на меня, что я редко пишу. Веришь ли, даже книги, даже статьи нужной прочесть некогда. А сколько я запустил необходимейших писем! А тут еще разные визиты, разные связи с людьми. Совсем я замотался, да и здоровье не выносит. Обнимаю тебя от всего сердца, желаю тебе всего самого лучшего и счастливого. Твоего сынка целую. Глубокоуважаемой супруге твоей еще раз мое (1) глубочайшее уважение.
Твой всегдашний, искренний и от всего сердца любящий тебя брат твой
Федор Достоевский.
Петербург, Кузнечный переулок, дом № 5, кв. № 10.
(1) далее было: по<чтение>?
910. H. A. ЛЮБИМОВУ
29 ноября 1880. Петербург
Петербург,
29 ноября/80.
Милостивый государь
глубокоуважаемый Николай Алексеевич,
Имею к Вам две чрезвычайные и самые покорнейшие просьбы и только боюсь, как бы не обеспокоить Вас не вовремя. Первая просьба состоит в том, что так как "Бр<атья> Карамазовы" кончились (а теперь, должно быть, вышла уже и ноябрьская книга "Р<усского> вестника"), то не соблаговолите ли Вы составить наш окончательный счет и выслать его мне. Но до составления и высылки счета нельзя ли будет, дорогой и глубокоуважаемый Николай Алексеевич, выслать мне теперь же рублей 1500 на Ахенбаха и Колли! Я нахожусь в чрезвычайной нужде. К тому же публиковал на будущий год издание "Дневника писателя"; когда-то еще начнется подписка, а наличные деньги все-таки нужны до крайности. Если можно - удовлетворите просьбу. Не нуждался бы, то и не беспокоил бы.
Вторая просьба моя в том: дней уже 10 назад как жена моя послала в редакцию "Московских ведомостей" для напечатания объявление мое об издании в будущем году "Дневника писателя", и однако же, объявление еще не появлялось в "Московских ведомостях" до сих пор. Сегодня она послала еще раз это объявление и просьбу поместить его в отделении объявлений. Денег за напечатание объявления мы не приложили, имея в виду, что в редакции "Московских ведомостей" есть еще мои деньги, за напечатанную летом "Речь" по поводу Пушкина. Не вышло ли тут каких затруднений? Поверьте, что мне тяжело обременять Вас лишними просьбами по делу совсем другой редакции. Но окажите мне эту чрезвычайную, дружескую помощь: не можете ли Вы справиться лично в редакции "Моск<овских> ведомостей": что именно помешало напечатанию моего объявления о "Дневнике писателя" и таким образом ускорить это дело. Объявление в "Московских ведомостях" для меня необходимо: оно идет в глубь России, а "Голос", "Новое время" и проч. гуляют более по окраинам.
Еще раз прошу извинения. Не сетуйте, что Вас утруждаю. Без нужды не стал бы беспокоить.
Жена Вам искренно кланяется. Передайте мое глубочайшее уважение Вашей глубокоуважаемой супруге.
При свидании с Михаилом Никифоровичем сообщите ему любезно о моем почтении, уважении и всегдашней искренней преданности моей теперь, впредь и во веки веков.
А засим примите и сами искреннейшее уверение в моей всегдашней и совершеннейшей преданности, с которою пребываю преданнейшим слугою Вашим
Ф. Достоевский.
NB. А трудное дело предпринять теперь такое издание, как например "Дневник". Сильно меня это волнует!
911. А. И. САВЕЛЬЕВУ
29 ноября 1880. Петербург
Ноября 29/80,
Глубокоуважаемый, достопочтенный
и дорогой Александр Иванович!
Генерал Петр Григорьевич Андреев в мое время, вероятно, еще не был преподавателем, иначе я его запомнил бы наверно. В мое время преподавателями фортификации, полевой и долговременной, были, во-1-х, Кори Густав Иванович, на днях умерший в Минской губернии генерал-майором в отставке, и Буссе, глубокоуважаемый и любимый нами, умнейший, добрейший и талантливый человек. Штабс-капитаном оставил он службу в Инженерном училище (когда уже мы были в офицерских классах) и отправился на Кавказ, где в первом действии с горцами был убит. Вот преподаватели фортификации, которых я помню. - А потому мне очень будет тяжело говорить Андрееву что-нибудь, как бы по воспоминаниям или в виде его ученика, тогда как я его совсем не помню. К тому же, глубокоуважаемый Александр Иванович, прибавлю, что я все последние две недели страшно нездоров моей анфиземой: дыхания мало, и начинается расстройство желудка, весьма серьезное, тоже от анфиземы, как говорит доктор, то есть от недостаточного дыхания. И вот представьте себе, в этаком-то положении я должен читать завтра в пользу студентов Университета. Что со мной будет и как я прочту с моим укороченным дыханием, не могу и представить себе. Отказаться же нельзя: дал слово давно уже, объявлено в афишах и проч. - На обеде третьего декабря, вероятно, тоже не буду: с моим желудком об этом невозможно и помыслить, даже доктор не пустит. Верите ли, что я ни у кого не бываю, даже нужнейшие дела упустил, всё сижу дома. Завтра на общем собрании Славянск<ого> Благотворительного Общества тоже не буду. Жду и надеюсь поправиться с установлением твердой погоды. Простите же меня за всё вместе и верьте неизменности моего глубочайшего искреннего и почтительнейшего к Вам уважения. - При первой возможности к Вам явлюсь лично. Мой глубочайший поклон Вашей глубокоуважаемой сестрице. Жена посылает Вам и Вашей сестрице свой привет и поклон. Преданный Вам сердечно и вечно
Федор Достоевский.
912. И. С. АКСАКОВУ
3 декабря 1880. Петербург
Петербург, 3 декабря 1880 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Иван Сергеевич!
Еще с первого № Вашей "Руси" порывался написать Вам и вот только теперь удовлетворяю желанию моему, то есть уже по прочтении 3 №. Главная причина задержки - мелкие, глупейшие хлопоты, вроде публичных чтений и проч., но которых нельзя обойти, а пуще всего жестокое нездоровье, несмотря на то, что выезжаю; разгулялась моя анфизема, укороченное дыхание, а за ним и ослабление сил. - Но довольно обо мне: урвал минуту и хочу поделиться с Вами моими впечатлениями. Впечатления и хороши, и дурны. Во-первых, Ваши передовые. Да, давно не являлось подобное раздавшемуся вновь голосу. Ваши статьи очень твердо и целокупно (конкретно) написаны. Вы ставите чрезвычайно ясную мысль о земстве и попятную, как дважды два. Так как это отчасти самый корень дела, то Вы, конечно, будете продолжать разъяснять Вашу мысль и в следующих нумерах, при всяком удобном случае. Так и надо. Но не ожидайте - о, не ожидайте, - чтоб Вас поняли. Нынче именно такое время и настроение в умах, что любят сложное, извилистое, проселочное и себе в каждом пункте противоречащее. Аксиома, вроде дважды два - четыре, покажется парадоксом, а извилистое и противоречивое - истиной. Сейчас только прочел в "Новом времени" выписку из "Русской речи", где Градовский учит Вас и читает Вам наставления. "Не архитектуры, дескать, а жизни". Мертвец проповедует жизнь, и поверьте, что мертвеца-то и послушают, а Вас нет. Вы в Ваших письмах ко мне утверждали, что это человек умный, хотя и порченный, а Орест Федорович Миллер передавал мне, что Вы интересуетесь знать его, то есть Градовского, мнение о "Руси". Ну вот Вы теперь знаете его мнение. Вы-де проглядели новую, живую, национальную струю в нашем обществе в последнее 25-ти летие, вызванную реформами. И укорив, что Вы проглядели, поклявшись, что она есть, существует, тут же сейчас спрашивает: "При каких условиях возможен наш собственный нравственный рост, то есть при каких условиях мы будем становиться нравственнее, трудолюбивее, чище, образованнее, крепче характером, рачительнее к пользе общей; при каких условиях эта святая идея отечества будет ближе нашему сердцу и вниманию?" и т. д. и т. д. Ну, да ведь если уж он открыл такой клад, эту новую национальную струю, - то чего же спрашивать и затрудняться решением? Факт совершился, и преклонись. Описывай струю, изучай ее течение, откуда взялась она и ее доблести - вот и разрешение ответа. Иначе ведь, если он не умеет разрешить вопрос, то, значит, и не существует струи, и она ему только так показалась. Но он не разрешает и в конце сваливает дело о создании струи на правительство. Это колоссально хорошо. Повторяю, прочел в выписке. Завтра, вероятно, получу "Русскую речь" и нарочно прочту в оригинале вздор Александра Дмитриевича. Но поверьте, что он будет иметь успех, а Вы нет; "он разрешил, он указал, а Вы только парадоксалист".
Разумеется, Вы писали не для него и не для огромной массы владеющей умами интеллигенции. Те, которые Вас поймут, есть, и их много, а для них надобно, повторяю, чем дальше, тем больше разъяснять Вашу мысль. Власть, закрепощенный народ и горожане и между ними 14 классов. Вот дело Петрово. Освободите народ, и как будто дело Петрово нарушено. Но пояс-то, но зона-то между властью и народом ни за что не отступит и не отдаст свои привилегии править черным народом. Самые лучшие из них скажут: "Мы будем, мы станем лучше, постараемся стать и будем любить народ, но самоуправление дадим ему лишь чиновничье, ибо мы не можем отказаться от нашей прерогативы". Вот на эту-то стену, об которую все стукнулись лбом, Вы и не указываете. Вы выговариваете лишь абсолютную истину, а как она разрешится? Ни намека. Даже нечто обратное, у Вас "Петр (1-й № "Руси") вдвинул нас в Европу и дал нам европейскую цивилизацию". Ведь Вы его почти хвалите именно за европейскую-то цивилизацию, а ведь она-то, ее-то лжеподобие, и сидит между властью и народом в виде рокового пояса из "лучших людей" четырнадцати классов. Мне это неясно. Но довольно. Все-таки Ваша статья есть уже не слово, а дело. О литературном ее достоинстве и не говорю. Удивительно хорошо. Но повторяю: продолжайте разъяснять Вашу мысль особенно на примерах и указаниях. Посеете зерно - вырастет дуб.
Нравятся мне статьи "Опыт фельетона", подписаны буквами (Н. Б., кажется). Есть и еще много хорошего. Но я сказал, что впечатления мои и хорошие, и дурные. Ну, так вот что, по-моему дурно: вот уж три выпуска "Руси", и, кажется мне, персонал Вашего журнала пока слабенек. Кроме Вас кто же? С 1-го же № мелькнула грустная мысль: "Умри, например, Вы, и кто же останется, чтоб проповедывать "русское направление""? Деятелей нет, бессилие, хотя и есть много сочувствующих. А потому дай Вам бог как можно дольше прожить на свете, из глубины сердца говорю. Статейка вроде разговора 3-х лиц в 1-м № и выдержки из одной газеты (не из "Голоса" ли?) хороши, и чрезвычайно метко то, что Вы хотите выставлять на вид абсурды нашей публицистики. Это совершенно необходимо, превосходная мысль и самая практическая.
Но вот в следующих 2-х номерах отчета об абсурдах за неделю - не было. Значит, Вы находите эту мысль не столь практичною и не столь полезною. Кстати, в этой статейке, равно как в разговоре трех лиц - ума и правды много, но мало жала. Поверьте, глубокоуважаемый Иван Сергеевич, что жало еще не есть ругательство. В ругательстве, напротив, оно тупится. Я не к ругательству призываю. Но жало есть лишь остроумие глубокого чувства, а потому его завести непременно надо. - . - Стихов Вашего брата, напечатанных в 1-м номере, я прежде не знал, удивительно хорошо. Статьи Ламанского учены, но вялы. Статей Дм. Самарина тоже еще не читал. Ну, вот вам, на лету, самые первые мои впечатления. Но напишу еще и еще. Если б Вы знали, как я обрадовался "Руси"! Я возлагаю на нее огромные надежды. Но персонал, персонал!
Жду Ваших сотрудников. Не пренебрегайте и еще одним "грубым" советом. Делайте "Русь" разнообразнее, занимательнее, чем дальше, тем больше. А то скажут: умно, но не весело, и читать не станут. - . - Хочу издавать "Дневник", но до этого еще далеко. Подписка началась, но анфизема: езжу, даже хожу, а дыхания мало. В разборе "Карамазовых" благодарю Вас лишь за Вашу редакторскую выноску и за обещание сказать еще нечто. Скажите. Обнимаю Вас крепко, желаю Вам самого светлого успеха, и поверьте, что ни один из Ваших читателей не желает этого пламеннее, чем я.
Ваш весь Ф. Достоевский.
Р. S. Здесь в Петербурге, по моему взгляду, определенного мнения о "Руси" не составилось. 1-й № прочтен был с чрезвычайным любопытством. Розничные экземпляры расхватали. Я знаю пример, что к вечеру разносчики доставали экземпляр за полтора рубля. Но даже сочувствующие "Руси" удерживаются от определенного отзыва. Видна какая-то нерешительность высказаться. И это у всех, даже сочувствующих.
Р. S. NB. Забыл о политике и о внутреннем обозрении. Дельно и ясно, прекрасно составлено, но поболее бы огня, сопоставлений, указаний. Во внутреннем обозрении есть несколько хороших характерных указаний. В политике я бы пустил несколько сарказму.
913. Т. И. ФИЛИППОВУ
4 декабря 1880. Петербург
4 декабря/80.
Дорогой и глубокоуважаемый Тертий Иванович,
Вашими строками Вы меня осчастливили. Меня так теперь все травят в журналах, а "Карамазовых", вероятно, до того примутся повсеместно ругать (за бога), что такие отзывы, как Ваш и другие, приходящие ко мне по почте (почти беспрерывно), и, наконец, симпатии молодежи, в последнее время особенно высказываемые шумно и коллективно, - решительно воскрешают и ободряют дух. - Я теперь несколько болен и обречен доктором пока на сидение, а то бы непременно сам пришел к Вам. Дома же я обыкновенно почти всегда от 3 до 4-х и даже до 5 пополудни. Вечером же с 10 часов, хоть не всегда, но теперь и вечерами дня два-три буду наверно дома. Посещение Ваше сделает мне великую честь и огромное удовольствие.
Ваш весь Ф. Достоевский.
914. И. С. АКСАКОВУ
18 декабря 1880. Петербург
С.-Петербург, 18 декабря/80 г.
Глубокоуважаемый Иван Сергеевич!
Вам, конечно, теперь нет времени на переписку. - С сим вместе посылаю Вам экземпляр моих "Карамазовых". Прилагаю тоже 25 руб. для следующих целей. У Вас, в "Руси", печатается мое объявление о будущем издании "Дневника", за что благодарю; но, не зная, что оно стоит, вот и посылаю, на первый случай, сии 25, с присовокуплением покорнейшей и чрезвычайной просьбы к тому объявлению о "Дневнике", которое печатается в "Руси", присовокупить и объявление о выходе "Карамазовых", печатный текст которого при сем же и прилагаю. Это объявление повторите тоже несколько раз, раза три, и потом велите меня уведомить, в конце концов, сколько еще надо будет приплатить? Тотчас же и вышлю. "Русью" здесь большею частью довольны. Ваши передовые и статьи Н. Б. (не сравнивая их взаимно) чрезвычайно полезные статьи. Именно об этом надо было заговорить, но, заговорив, не оставлять, а разъяснять, развивать и "долбить" неустанно. Головки у всех хоть и умные (положим, что умные), но случись вопрос общий (вот хоть о студентах), и ведь все-то врозь, все-то в темноте стукаются своими умными лбами до шишек. До свидания, глубокоуважаемый Иван Сергеевич. Буде будет когда-нибудь времечко, что-нибудь черкните Вашему наипреданнейшему
Федору Достоевскому.
915. А. Ф. БЛАГОНРАВОВУ
19 декабря 1880. Петербург
Петербург 19 декабря/80 г.
Милостивый государь Александр Федорович,
Благодарю Вас за письмо Ваше. Вы верно заключаете, что причину зла я вижу в безверии, но что отрицающий народность отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве. Слова: крестьянин, слова: Русь православная - суть коренные наши основы. У нас русский, отрицающий народность (а таких много), есть непременно атеист или равнодушный. Обратно: всякий неверующий и равнодушный решительно не может понять и никогда не поймет ни русского народа, ни русской народности. Самый важный теперь вопрос: как заставить с этим согласиться нашу интеллигенцию? Попробуйте заговорить: или съедят, или сочтут за изменника. Но кому изменника? Им - то есть чему-то носящемуся в воздухе и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не в состоянии придумать, как назвать себя. Или народу изменника? Нет, уж я лучше буду с народом; ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна.
Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостью своей любит и уважает более и выше всего, что есть в мире, - то есть своего бога и свою веру.
Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась к общему делу, и она это начинает и сама сознавать.
Здесь за то, что я проповедую бога и народность, из всех сил стараются стереть меня с лица земли. За ту главу "Карамазовых" (о галлюсинации), которою Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся "до чертиков". Они наивно воображают, что все так и воскликнут: "Как? Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!" Но, кажется, им не удалось! Вас, особенно как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласитесь, что этот человек (Ив. Карамазов) при данных обстоятельствах никакой иной галлюсинации не мог видеть, кроме этой. Я эту главу хочу впоследствии, в будущем "Дневнике", разъяснить сам критически.
За сим примите уверение в моих искреннейших и лучших чувствах. Вам совершенно преданный
Федор Достоевский.
916. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ (НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ)
19 декабря 1880. Петербург
Петербург
19 декабря/80.
Многоуважаемый Николай Александрович,
Как ни важны многие из вопросов, с которыми обращаются ко мне письменно весьма многие лица, но я, предприняв издание "Дневника писателя", решился прекратить переписку с спрашивающими: издание такая обуза, а у меня столь мало здоровья и сил, что если отвечать на все письма и запросы (а их приходит множество), то совершенно некогда будет писать и заниматься своим делом. А потому извините, если отвечу Вам на Ваше письмо лишь самым кратким словом.
Каких лет Ваш сын - этого Вы не обозначаете. - Скажу лишь вообще: берите и давайте лишь то, что производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли. Если ему минуло шестнадцать лет, то пусть прочтет Жуковского, Пушкина, Лермонтова. Если он любит поэзию - пусть читает Шиллера, Гете, Шекспира в переводах и в изданиях Гербеля, Тургенева, Островского, Льва Толстого пусть читает непременно, особенно Льва Толстого. (Гоголя, без сомнения, надо дать всего.) Одним словом - все русское классическое. Весьма хорошо, если б он полюбил историю. Пусть читает Соловьева, всемирную историю Шлоссера, отдельные исторические сочинения вроде Завоевания Мексики, Перу Прескотта. Наконец, пусть читает Вальтер-Скотта и Диккенса в переводах, хотя эти переводы очень трудно достать. Ну вот я Вам написал уже слишком довольно номеров. Если б прочел всё это внимательно и охотно, был бы уж и с этими средствами литературно образованным человеком. Если хотите, то можете дать и Белинского. Но других критиков - повремените. Если ему менее 16 лет - то дайте эти же самые книги с выбором, руководствуясь в выборе лишь вопросом: поймет он или не поймет. Что поймет, то и давайте. Диккенса и Вальтер-Скотта можно давать уже 13 летним детям.
Над всем, конечно, Евангелие, Новый Завет в переводе. Если же может читать и в оригинале (то есть на церковнославянском), то всего бы лучше.
Евангелие и Деяния Апостольские - sine qua non. Книжною торговлею занимаюсь не я, а моя жена, за моею ответственностию, разумеется. Составить каталог вышеисчисленных книг довольно трудно, ибо многих уже мало (1) в продаже, но цены некоторых обозначаются и высылаются Вам к усмотрению.
А засим, пожелав Вам вполне успеха в начинании Вашем, пребываю Вашим покорным слугою
Федор Достоевский. (2)
(1) было: нет (2) ниже рукою А. Г. Достоевской:
Список книг, необходимых для библиотеки подростка:
1. Сочинения А. С. Пушкина, 6 томов ц. 10 р.
2. Сочинения Гоголя, 4 тома ц. 5 р.
3. Сочинения Лермонтова, 2 тома ц. 4 р.
4. Сочинения Тургенева, 10 томов 15 р.
5. Сочинения Льва Толстого 16 р. 50 к.
6. Сочинения Островского 14 р.
7. Шиллер, в переводе русских поэтов, 2 тома 7 р.
8. Сочин<ения> Шекспира, 3 тома 10 р.
9. Сочин<ения> Гёте 14 р.
10. Сочинения Вальтер Скотта
а) "Ваверлей" 3 р. 50
б) "Роб Рой" 3 р. 50
в) "Гай Мэннеринг" 3 р. 50
г) "Айвенго" 3 р. 50
д) "Ламмермурская невеста" 3 р. 50
е) "Пуритане" 3 р. 50
ж) "Кенильворт" 3 р. 50
11. История Соловьева 28 томов по 2 руб. за том 56 р.
12. Завоевания Мексики Прескотта 3 р. 50 к.
13. Полное собрание сочин<ений> Белинского 14 р. 50 к.
14. Р<оманы> Диккенса:
"Записки Пиквикск<ого> клуба" 3 р. 50
"Приключения Никльби" 2 р.
"Домби и сын" 3 р. 50
"Холодный дом" 3 р.
"Давид Копперфильд" 4 р.
Цены на все книги без переплета и пересылки. За пересылку - смотря по фунтам, коп<еек> 8 за фунт. Все эти книги можно выписать и через нашу книжную торговлю в С.-П<етербур>ге, Кузнечный переулок, д. 5, кв. 10.
917. А. Н. ПЛЕЩЕЕВУ
24 декабря 1880. Петербург
24 декабря/80.
Дорогой друг, Алексей Николаевич, пишу на всякий случай, если тебя не застану. Вот еще 150 р., и все-таки за мной остается хвостик. Но отдам как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь еще пока только леплюсь. Всё только еще начинается. До свидания, голубчик, верно, где-нибудь увидимся на праздниках.
Твой весь Ф. Достоевский.
918. H. M. ДОСТОЕВСКОМУ
26 декабря 1880. Петербург
Р. S. Само собою разумеется, что эти 8000 тысяч (1) неустойки никогда не могут быть спрошены, если не будет отказа со стороны наследников в том, что уже давным-давно подтверждено по всеобщему соглашению (еще прошлого года), то есть нам 400 десятин Ширяева бора, а Андрею Михайловичу 200 десятин Пехорки. Разумеется, все эти отделы произойдут при Шере и с помощью землемера, так что мы ничем лишним не воспользуемся.
Нотариальный акт будет готов в самом непродолжительном времени и тогда будет тебе сообщен для подписания. Шеры и Ставровские давно согласны и даже торопят нас с нотариальным актом, (2) чтоб мы приехали межеваться. Всё дело за вами, то есть за тобой и племянниками.
После того рубите и продавайте - сколько хотите. Но опять-таки, во что ты ценишь свое наследство, Николай Михайлович? Ты пишешь продать 8 десятин (а прежде писал шесть). Но ведь десятина продается за 50 руб. и лишь случайно несколько выше. Чтоб отдать всем общий долг Александре Михайловне, то есть вам и Шерам и Ставровским, нужно повалить 100 или более десятин, да еще Пехорки, то есть лучшего леса. Мне кажется, ты имеешь превратное и преувеличенное понятие о ценности наследства.
Кстати, Андрей Михайлович только что приехал в Петербург с семейством, и нотариальный акт может быстро уйти к концу. Жаль, что ты переписываешься со мной письмами. Эти отчуждения отодвинут наши дела еще на несколько лет, а может, и на полную гибель. - Кстати: брал ли ты когда-нибудь, лет 15, 17 назад, у Валентина Корша, бывшего издателя "С.-П<етербургски>х ведомостей", рублей 300 или 400 перед тем, как тебя сажали за долги? Мне это до крайности надо бы знать, чтобы разъяснить одно обстоятельство.
Твой Ф. Достоевский.
(1) так в подлиннике (2) далее было: и
919. А. Е. КОМАРОВСКОЙ
27 декабря 1880. Петербург
27 декабря/80.
Глубокоуважаемая графиня Анна Егоровна,
Непременно буду иметь честь явиться к Вам во вторник в 5-м часу.
До сих пор был страшно занят. Иначе бы и в эти дни успел исполнить чрезвычайное желание мое.
Глубоко и всецело Вам преданный
Ф. Достоевский.
На конверте: Ее сиятельству графине Анне Егоровне Комаровской.
920. Я. П. ПОЛОНСКОМУ
27 декабря 1880. Петербург
27 декабря/80.
Любезнейший Яков Петрович,
Не можете ли Вы отдать Вашу поэмку: "Дети в лесу" в "Семейные вечера" - журнал, издаваемый Софьей Сергеевной Кашпиревой. 1-й № "Семейных вечеров" (издающихся превосходно и имеющих много подписчиков) выйдет 15 января. Это ничего, что к тому времени, может быть, еще и не состоится представления у Юлии Федоровны Абаза. Детям еще лучше будет выучивать роли по печатному. Цену назначьте сами, заплатят сейчас же. Сделаете большое удовольствие и Софье Сергеевне и мне. Во всяком случае сделайте одолжение не замедлите ответом. Вам совершенно преданный
Ф. Достоевский.
1881
921. А. А. ТОЛСТОЙ
5 января 1881. Петербург
5 января/81.
Милостивая государыня
графиня Александра Андреевна,
В будущее воскресенье буду иметь честь явиться к Вам от 3-х до 4-х часов.
С глубоким уважением пребываю всегдашним слугою Вашим
Ф. Достоевский.
922. H. A. ЛЮБИМОВУ
26 января 1881. Петербург
Января 26/81.
Милостивый государь
глубокоуважаемый Николай Алексеевич,
Так как Вы, столь давно уже и столь часто, были постоянно благосклонны ко всем моим просьбам, то могу ли надеяться еще раз на внимание Ваше и содействие к моей теперешней последней, может быть, просьбе? По счету, присланному мне из редакции "Русского вестника", мне остается дополучить за "Карамазовых" еще 4000 рублей с чем-то. В настоящее время я крайне нуждаюсь в деньгах. Будьте так добры, сообщите о том глубокоуважаемому Михаилу Никифоровичу. Не возможно ли будет сделать распоряжение о высылке мне всей суммы? Вы не поверите, как Вы тем одолжите меня. Я именно предпринимаю одну затрату и нуждаюсь в деньгах до крайности, иначе дело уйдет из рук.
Простите, что, не дождавшись собственного распоряжения конторы "Русского вестника", ускоряю дело моею просьбою. Без особой надобности не решился бы.
Свидетельствую глубочайшее уважение Вашей глубокоуважаемой супруге и прошу Вас очень передать таковое же Михаилу Никифоровичу.
С глубочайшим уважением пребываю Вам воистину и вполне преданный
Ф. Достоевский.
923. Е. Н. ГЕЙДЕН
28 января 1881. Петербург Черновое
26-го (1) числа в легких лопнула артерия и залила наконец легкие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвы<чайной> потерей крови с задушением. С 1/4 <часа> Фед<ор> Мих<айлович> (3) был в полном убеждении, что умрет; его (4) исповедовали и причастили. Мало-помалу дыхание поправилось, кровь унялась. Но так как порванная жилка не зажила, то кровоистечен<ие> (5) может начаться опять. И тогда, конечно, вероятна смерть. Теперь же он в полной памяти и в силах, но боится, что опять лопнет артерия. (6)
(1) исправлено из: 23-го (2) последовал другой вписано (3) Фед<ор> Мих<айлович> вписано (4) что умрет; его приписано (5) то кровоистечен<ие> приписано (6) может начаться ... ... лопнет артерия - стенографическая запись
ПИСЬМА, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ТОЧНОЙ ДАТИРОВКЕ
924. НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ
Объясните мне мой сон, я у всех спрашивал; никто не знает: на Востоке видна была полная луна, которая расходилась на три части и сходилась три раза.
Потом из луны вышел щит (на щите два раза написано "да, да" старинными церковными буквами), который прошел всё небо, от востока на запад и скрылся за горизонтом. Щит и буквы осиянные.
Достоевский.
У всех спросите, решительно у всех, он меня очень интересует.
925. И. Ф. ГОРБУНОВУ
Спешу Вас уведомить, многоуважаемый Иван Федорович, что я еду завтра не утром, как я Вам говорил, а вечером. Если есть какое-нибудь поручение, я к Вашим услугам.
Преданный Вам Ф. Достоевский.
Пятница.



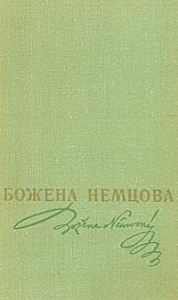
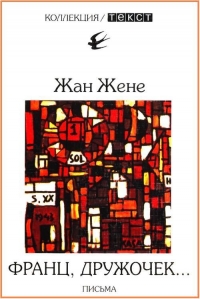
Комментарии к книге «Письма (1880)», Федор Михайлович Достоевский
Всего 0 комментариев