Геннадий Красухин КРУГЛЫЙ ГОД С ЛИТЕРАТУРОЙ КВАРТАЛ ВТОРОЙ Календарь, частично основанный на мемуарах
1 АПРЕЛЯ
Конечно, символично, что наш великий сатирик Николай Васильевич Гоголь родился в День смеха или, как ещё называют этот праздник, в День дурака, – то есть 1 апреля 1809 года.
Предлагаю небольшой этюд, связанный с его комедией «Ревизор».
Скажите, пожалуйста, какой смысл Хлестакову клеветать на чиновников в своём письме приятелю Тряпичкину? «Ты, я знаю, пишешь статейки, – обращается к Тряпичкину Хлестаков: – помести их в свою литературу».
А он и не клевещет. Он просто описывает каждого, как тот ему, Хлестакову, раскрывается. И передаёт его в этом виде Тряпичкину, надеясь, что тот каждого «общёлкает хорошенько».
Итак!..
«Городничий – глуп, как сивый мерин». Ещё бы не глуп, если оказалось, что его так легко провести на мякине!
«Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьёт горькую». А уж департаментского сторожа Михеева Тряпичкин знает не хуже Хлестакова.
«Надзиратель за богоугодным заведением Земляника – совершенная свинья в ермолке». Гоголь, расписавший в «замечаниях для господ актёров» всех своих героев, вплоть до габаритов, знает, что Земляника предстанет перед Хлестаковым как «очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек», которого Хлестакову легко вообразить свиньёй. Он и воображает. И надевает на свинью-Землянику ермолку. «И неостроумно! – обиженно говорит Земляника… – где ж свинья бывает в ермолке?» Нигде, конечно, не бывает. Кроме, как у Хлестакова, который не просто вообразил Землянику свиньёй, но надел на свиную голову – то ли кипу, в какой правоверные иудеи сидят в синагоге и не снимают во время еды, то ли головной убор знатного человека в Руси, то ли традиционную академическую шапочку. И в таком виде отправил Тряпичкину, которому, конечно, легко будет опознать в Землянике чванливую свинью.
А судья, которому льстят чиновники: «У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел». Подтвердит ли такое мнение о нём Хлестаков, если судья только что не мычит от неумения начать и поддержать разговор с ним? Какой уж там Цицерон при подобной поразительной невоспитанности! «В высшей степени моветон» – ещё один типажик, готовый для тряпичкинской литературы.
Но что прикажете делать Тряпичкину с Лукой Лукичём, о котором он прочтёт в письме: «Смотритель училищ протухнул насквозь луком». Как ни крути, но с такой характеристикой его «в свою литературу», то есть в какой-либо фельетон не вставишь. На что ему этот провонявший луком типаж? Зачем вообще Хлестакову было сообщать о нём приятелю?
Ну, для того, наверное, чтобы подтвердить самого Гоголя, известившего о Хлестакове: «несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове…». И там же – в тех же «замечаниях для господ актёров»: «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». То есть, характеризуя Луку Лукича, Хлестаков, кажется, забыл, что пишет для Тряпичкина.
Услышав, что написал о нём Хлестаков, Лука Лукич божится зрителям: «Ей-Богу, и в рот никогда не брал луку». Но мы ему в этом не поверим. Трудно представить, для чего Хлестакову понадобилась такая экзотическая выдумка.
Ну, а Луке Лукичу с какой стати было нажираться луку, если он собрался появиться перед таким начальником, выше кого он никогда ещё не видел на свете?
Тем более что Лука Лукич очень выделяется среди чиновников, которых позвал Городничий в надежде, что сообща они придумают, как справиться с поступившим ему «пренеприятным известием». Выделяется тем, что, в отличие от других, не способен высказать своё мнение: слишком труслив Лука Лукич для этого.
Ведь не так уж и боятся поначалу таинственного ревизора подчинённые Городничего. «Как ревизор?» – откликнутся уведомляющему их Городничему судья и попечитель богоугодных заведений. «Вот те на!» – разовьёт своё удивление от известия Городничего судья Ляпкин-Тяпкин. «Вот не было заботы, так подай!» – вторит ему Земляника. И только Лука Лукич затрепещет от страха: «Господи боже мой! ещё и с секретным предписаньем!»
А аргументы, которые находит каждый из них в пользу того, что не он первый должен представиться петербургскому вельможе, каким они считают Хлестакова? Такого аргумента, который находит для себя Лука Лукич, не находит больше никто. Потому что он, кажется, единственный персонаж, который не увиливает, но говорит чистую правду: «Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет и язык как в грязь увял».
Всего одним чином повыше!
Чистая, как я уже сказал, правда!
Именно, что страх Луки Лукича особенно понятен при рассмотрении чина, который он носит (а в «Ревизоре», представляясь Хлестакову, каждый чиновник называет, в каком он чине.) Лука Лукич в самом меньшем. Он – титулярный советник: чиновник IX класса – «ваше благородие» по формуле тогдашнего титулования. Судья коллежский асессор – чиновник VIII класса, почтмейстер и попечитель богоугодных заведений – надворные советники, чиновники VII класса; все трое – «ваше высокоблагородие».
Наверняка, надворным является и городничий. Недаром частный пристав в последнем действии и его называет «вашим высокоблагородием». Да и ироническое отношение почтмейстера к угрозе Городничего: «Я вас под арест…» весьма показательно «Кто? Вы?» – презрительно переспрашивает почтмейстер. «Да, я!» – храбрится Городничий. «Руки коротки!» – бросает почтмейстер, и Городничему на это ответить нечем.
Конечно, городничий мечтал бы стать «вашим высокородием», то есть статским советником – тоже всего одним чином повыше – последним, кстати, чином перед вожделенным им – генеральским. Но сделаться статским, возглавляя небольшой уездный город, – вещь, почти невозможная. Другое дело, если б городничий стоял во главе губернского. Но на это в пьесе нет даже намёка.
Может быть, пропасть между Лукой Лукичом (IX класс) и следующим чиновником (VIII класс) так же широка, как пропасть между чином городничего (VI класс) и статским (V класс; ваше высокородие), но проскочить её титулярному было куда более жизненно важно, чем городничему стать «высокородием». У Луки Лукича дело шло не только, и – главным образом – не столько об амбициях.
Лука Лукич достиг титулярного. Этот чин равен армейскому капитану. Но он не давал права на потомственное дворянство.
Если Лука Лукич из разночинцев, то, достигнув титулярного, он получил личное, непотомственное дворянство. Это значит, что личной дворянкой становилась его жена, но дети только почётными гражданами. Они освобождались от подушной подати, рекрутской обязанности и телесных наказаний. Но дворянами не становились и своим детям в наследство дворянство не передавали. То есть внуки личного дворянина дворянства не наследовали.
Потомственное дворянство начиналось с VIII класса, «всего одним чином повыше», чем на Луке Лукиче.
Ну, а если Лука Лукич – дворянин? И в этом случае достичь чина VIII класса – коллежского асессора ему будет очень нелегко. Дворянину для этого требовался университетский или лицейский диплом, или сдача соответствующего экзамена. Ведь с VIII класса чиновничество приравнивалось к штаб-офицерству, куда попасть было сложно.
Поэтому чтобы проскочить в коллежские асессоры, Лука Лукич готов заискивать перед всяким – «всего одним чином повыше»!
Но позвольте. Вспомните, как встречает Хлестаков своих визитёров. Почти зевая от судейского «моветонства». Вспоминая департаментского сторожа Михеича, скорее всего, встретясь с охотным почтмейстерским поддакиванием: «Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне…» – «Совершенно справедливо». Радуясь, кажется, словоохотливому Землянике, но, услышав в его сплетнях и кляузах самодовольное чванство. Конечно, свою дань «взаймы» он у каждого отбирает.
Так как же он их встречает? Предлагает вина, воды, фруктов?
Ну, не фрукты с вином, но всё же:
«– А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? (Подаёт ему сигару.)»
Кому Хлестаковым предложена сигара? Судье? Попечителю богоугодных заведений? Почтмейстеру?
Нет, она предложена Луке Лукичу.
Но почему?
Потому что Хлестакову важно, чтобы закурил именно Лука Лукич?
Для чего?
Чтобы перебить запах, который Хлестаков учуял, едва смотритель училищ появился в его комнате. О чём и уведомил своего петербургского приятеля Тряпичкина.
Зачем же Лука Лукич нажрался луку перед встречей с Хлестаковым?
А помните судебного заседателя, о котором шла речь в начале комедии? «…Он, конечно, человек сведущий, – резюмирует городничий, – но от него такой запах, как будто он сейчас вышел из винокуренного завода…» «Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, – защищает заседателя судья, – и с тех пор от него отдаёт немного водкою». Слышит ли их разговор Лука Лукич? Несомненно. «Секретное предписание», с которым должен появиться в городе чиновник, так напугало смотрителя училищ, что он, скорее, побоится пропустить что-нибудь для него важное из говорящего, будет улавливать и запоминать любую деталь, любую реплику. В том числе и реплику городничего: «Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое».
Лук, который перед визитом к чиновнику из Петербурга ел Лука Лукич, свидетельствует о настоящей буре, какая свирепствовала в его душе. Скорее всего, он решил выпить для храбрости. Выпил, возможно, немного, но немедленно испугался, что этим навредил себе ещё больше: Хлестаков может учуять винный запах.
Потому и схватился за лук, чтобы не дай Бог не показаться вельможной особе пьяницей!
Лука Лукич, кстати, обнаруживает, как мы должны отнестись к немой сцене комедии. В ответ на известие, сообщённое жандармом, писал «господам актёрам» Гоголь «вся группа должна переменить положение в один миг ока», а в ремарке пьесы добавил, что «вся группа, вдруг переменивши положение, остаётся в окаменении». То есть становится коллективным памятником себе, где каждый запечатлён таким, каким он оказался в последний момент, внезапно выявляя свою сущность. Как, например, Лука Лукич, раскрывший в своей статуарности невероятную трусость – «потерявшийся самым невинным образом».
Гоголь умер 4 марта 1852 года.
* * *
Антон Семёнович Макаренко вопросами детского воспитания занялся рано. По поручению Полтавского губнаробраза создал трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей. В 1921 году колонии присвоено имя Горького. В 1926 её перевели в Куряжский монастырь под Харьковом. Заведовал ею с 1920 по 1928 годы. С 1927 до 1935 был одним из руководителей детской трудовой коммуны ОГПУ имени Дзержинского под Харьковом, в которой продолжал осуществлять на практике свою воспитательную систему, какой, кстати, очень интересовался Горький.
После книг о коммуне имени Дзержинского «Марш 1930 года» и «ФД – 1» (обе 1932) закончил своё главное произведение «Педагогическая поэма» (1925–1935).
Суть педагогического метода Макаренко: «Как можно больше требований к человеку и как можно больше уважения к нему».
Несмотря на поддержку Горького и других авторитетных деятелей культуры, Макаренко подвергался весьма острой критике. Во-первых, ему не верили. Во-вторых, чиновники провозгласили, что система Макаренко не есть система советская. В-третьих, склонная к мифологизму Крупская выступила на съезде комсомола с придуманным рассказом о якобы рукоприкладстве Макаренко, за что его после этого уволили из Колонии имени Горького.
С другой стороны, люди, доверившие Макаренко воспитание детей, защищали его и его методы воспитания. «Педагогическая поэма» выдерживает несколько изданий. Привлекает внимание читателей и роман Макаренко «Флаги на башнях» (1938), и его автобиографическое сочинение – повесть «Честь» (1937–1938).
Макаренко умер 1 апреля 1939 года (родился 13 марта 1888-го). Но и после смерти его педагогическая система продолжала своё победное шествие, которое возглавили ученики Антона Семёновича.
А в 1988 году ЮНЕСКО приняло решение, отмечающее заслуги четырёх педагогов, их методов, их способов педагогического решения в XX веке. Это американский философ и педагог Джон Дьюи, немецкий педагог Георг Михаэль Кершенштейнер, итальянский врач, педагог, католичка Мария Монтессори и наш Антон Семёнович Макаренко.
2 АПРЕЛЯ
Вместе со мной в «Литературной газете» работал Константин Багратович Серебряков. Одно время он заведовал всей корсетью «Литературки».
Он был фанатом, фаном, как сейчас говорит молодёжь, писательницы Мариэтты Сергеевны Шагинян (родилась 2 апреля 1888 года).
Однажды редакции понадобилось взять у Шагинян интервью, не помню уж по какому поводу. Та в это время была в Армении. Но Константин Багратович не хотел передоверять это дело нашему собкору. Он отбил большую телеграмму Шагинян, где умолял её дать интервью ему. Он готов был вылететь ради этого в Ереван. Или поговорить с ней в Москве, если она планирует вернуться в ближайшее время. Телеграмма Шагинян была намного короче и была встречена в редакции взрывом хохота: «Костя прилетаю Москву завтра звони согласна дать».
Эту телеграмму Серебряков хранил в нагрудном бумажнике. Показывал каждому, как полученное удостоверение кавалера высшего ордена.
А Мариэтта Сергеевна в это время была уже очень всесильной писательницей. Лауреат сталинской премии 3 степени за книгу «Путешествие по Советской Армении». Лауреат ленинской за тетралогию «Семья Ульяновых» и очерки о Ленине. Герой соцтруда. Член-корреспондент АН Армянской ССР.
В своё время начинала тоненькой книжечкой любовных стихов. Но перешла на прозу. Быстро сообразила, кто есть кто после Октябрьской революции. Под псевдонимом «Джим Доллар» написала серию агитационных повестей «Месс-Менд». В 1930–1931 взялась за освещение социалистического строительства: писала роман «Гидроцентраль».
«Семья Ульяновых» якобы была изъята на двадцать лет из-за того, что Шагинян открыла калмыцкое начало в отце Ленина. Однако книга была написана до депортации калмыков. И не в калмыцком начале отца Ленина было дело, а в еврейском происхождении матери. Шагинян открыла, что фамилия матери Ленина Бланк и что мать была дочерью выкреста. Говорят, что Суслов, узнав от неё такую новость, сказал: «Этого нам только не хватало!» Но на двадцать лет никто эту книгу не убирал. Её Лениниана берёт начало в 1937-м.
Некогда в первой своей книжке она писала:
В эту ночь от Каспия до Нила Девы нет, меня благоуханней…Занявшись Ленинианой, она приблизилась к руководству.
А.С. Щербаков писал в 1935-м Молотову: «В беседе со мной Шагинян заявила: «Горького вы устроили так, что он ни в чём не нуждается, Толстой получает 36 тыс. руб. в месяц. Почему я не устроена так же?…»
А чтобы так же устроиться, пишет не только о семье Лениных, пишет очерки о социалистическом производстве, о передовиках, о маяках и т. п. Избирается в Моссовет.
С детства она плохо слышит. Ходит с громоздким слуховым аппаратом. Кричит, приказывает. Если что не по ней, немедленно отключает аппарат.
В этом смысл эпиграммы:
Железная старуха Мариэтта Шагинян — Искусственное ухо Рабочих и крестьян.В годы войны опубликовала книгу публицистических статей «Урал в обороне». В послевоенные годы – книгу «По дорогам пятилетки».
Её «Дневник писателя (1950–1952)» меньше всего похож на писательский дневник, но больше всего на некие бюрократические письмена, к тому же написанные по принципу «Фигаро – здесь, Фигаро – там». Везде за эти два года побывала Шагинян – у представителей разных профессий. Всех одарила ценными советами. Всем после встречи с ней стало легче работать.
Разумеется, такой «Дневник» просто жаждал для своего разбора фельетонного жанра. И фельетон не замедлил явиться. Его написал Михаил Лифшиц, а напечатал Александр Твардовский в «Новом мире» (1954. № 2). Оба были наказаны. Лифшица перестали печатать. А Твардовского за статью Лифшица и ещё несколько в таком же духе сняли с поста главного редактора.
А на Шагинян льётся орденский звездопад. Она в фаворе у сильных мира сего. Кажется, что она, наконец-то, устроилась не хуже, чем когда-то Горький или Алексей Толстой. Во всяком случае, её собрание сочинений в 9 томах оплачивают не хуже, как некогда платили Толстому.
93 года прожила Мариэтта Сергеевна. «Но, ах, никто не вечен». Умерла она 20 марта 1982 года.
* * *
Николай Михайлович Благовещенский (родился 2 апреля 1821 года) знаменит тем, что впервые открыл русскому читателю Персия, перевёл его сатиры с подробными объяснениями (1873).
А кроме того он напечатал брошюру «Ювенал» (1859) и перевёл три сатиры и этого римлянина.
Скончался Николай Михайлович 4 августа 1882 года.
* * *
Я его очень хорошо помню, когда он жил в Загорске. Он часто приезжал в Москву, заходил в «Литературную газету». Да и я ездил в Загорск от Бюро пропаганды в литобъединение при библиотеке Оптико-механического завода, – в литобъединение, которое он возглавлял.
«Он» – это Александр Самойлович Горловский. Я знал, что после войны он был арестован и выслан в Казахстан. А потом уже обосновался не в Москве, но в области.
Печатался он много. В том числе и с рецензиями на текущую литературу. Но больше всего его увлекала поэзия Серебряного века. Её он знал наизусть. У него была прекрасная память. Счастливы члены объединения, которые у него занимались, – он разработал для них специальную программу, сопоставимую с тем, что изучали у нас в Литинституте слушатели Высших литературных курсов.
О судьбе его родителей я узнал поздно. «Повесть о маме» опубликована в сборнике «Его именем названа библиотека», изданном в Сергиевом Посаде. А о его судьбе в лагере я прочитал в книге «Академия, или Несколько месяцев из жизни молодого человека начала 50 годов XX века» (1998).
Увы, всё это я прочитал после его смерти. Он умер 2 апреля 1988 года (родился 5 мая 1930-го). Прочитал и пожалел, что не так уж часто мы с ним встречались. Было бы о чём его расспросить.
3 АПРЕЛЯ
Алексей Леонидович Решетов (родился 3 апреля 1934 года) – из семьи репрессированных. Отец расстрелян в 1937-м, мать после казахстанских лагерей была переведена во время войны на строительство Соликамского бумажного комбината. Позднее семья переехала в Березники (200 км от Перми).
Решетов начал писать стихи с 1953 года. В Союз писателей вступил в 1965 году после выхода его прозаической книги «Зёрнышки спелых яблок». Хотя к тому времени у него было несколько хороших поэтических книг.
Он поэт-лирик:
Очевидно, кончается лето: Приумолкли кукушки в лесу, Покраснели листы бересклета, Паутинки скользят по лицу. Правда, дни непогожие редки, И приятно бродить с кузовком, Но вечерние тихие речки Обдают погребным холодком. Ночью ветры играют с овсами, Звёзды падают каплями слёз, И, наверно, не счесть за лесами Не прижившихся на небе звёзд.Объяснять, чем хороши такие стихи, трудно. Они не поддаются прозаическому пересказу и в этом смысле сродни пейзажной живописи или музыке. В поэзии таким импрессионистическим стихом великолепно владел Фет. Решетов им владеет неплохо. Нет, разумеется, я не утверждаю, что Решетов – последователь Фета. У него свой – особый – взгляд на природу:
Набродиться летними лесами, Лечь в траву, вздохнуть и замереть. И почти закрытыми глазами В небо полудённое смотреть. Ощущать цветов благоуханье И лучей скользящее тепло, Думать: это женское дыханье Чудом в глушь лесную занесло. И внимать земле и небосводу, И, вернувшись в хмурое жильё, Потерять, как женщину, природу, Мучиться и сохнуть без неё.Конечно, есть у Решетова стихи и на другие темы. И всё же одухотворённый пейзаж – его родная стихия.
Умер Алексей Леонидович 29 сентября 2002 года.
* * *
Софья Абрамовна Могилевская (родилась 3 апреля 1903 года) одно детское время была моей любимой писательницей – автором «Марки страны Гонделупы».
Всё о ней я узнал уже после того, как прочитал любимую в детстве книгу. И что первой книгой её была «Лагерь на льдине» (1935) – о подвиге челюскинцев. И что Могилевская познакомилась с Иваном Кутяковым, чапаевским командиром, принявшим командование после смерти Чапаева. И что написала она повесть «Чапаёнок» (1938) после рассказов Кутякова.
Узнал я о том, что её первого мужа – инженера Александра Аронова арестовали на второй день войны 23 июня 1941 года. И через год расстреляли. А Могилевскую, несмотря на то, что недавно была издана её «Марка страны Гонделупы», которая принесла ей всесоюзную известность, выслали на поселение в Марийскую АССР. Она работает там в деревенском детском доме, где жили ссыльные крымские татары. Об этом Могилевская напишет в книге «Дом в Цибикнуре» (1949).
По окончанию войны возвращена в Москву, где много и плодотворно пишет.
Позже, уже после её смерти узнал я о книге «Возвращение к юности», которую наследники издали в издательстве «Знак» тиражом в 1000 экземпляров. Очень рекомендую.
И, наверное, неплохо было бы в память о талантливой писательнице пересмотреть фильм по её книге «Марка страны Гонделупы», снятый Юлием Файтом в 1977 году с Ией Савиной в главной роли.
Умерла Софья Абрамовна в 1981 году.
* * *
Николай Егорович Палькин (родился 3 апреля 1927 года) окончил Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в 1955 году. С 1958-го член Союза писателей СССР. В 1966-м приглашён заведующим отделом культуры, литературы и искусства в областную партийную газету «Коммунист». В 1967 году избран ответственным секретарём саратовской писательской организацией, которой руководит 10 лет. В 1968 году окончил Балашовский педагогический институт. И в 1976 году назначен главным редактором журнала «Волга».
Ну что ж. К тому времени он был автором нескольких десятков книг поэзии, прозы и публицистики. На его стихи композиторы (в том числе и такие, как С. Туликов, В. Захаров, В. Левашов) написали немало песен. А его номенклатурное продвижение показывало, что в «Волгу» он пришёл надолго.
Увы, это не так. От обязанности главного редактора «Волги» он был освобождён уже в 1983 году. Причём освобождён за идейный прокол.
Дело в том, что писатель Михаил Алексеев написал роман «Драчуны», где, в частности, затронул тему голода 1933 года. Журнал «Наш современник» выдвинул роман на ленинскую премию. Понятно поэтому, что Николай Палькин ничем особенно не рисковал, когда поместил у себя в журнале (октябрь 1982) статью критика Михаила Лобанова, который особенно нажимал на те места в романе Алексеева, который не могли бы понравиться партийной верхушке.
Алексеев, поначалу обрадовавшийся статье Лобанова, почувствовав настроение в верхах, поспешил отмежеваться от критика. Тем более что пафос лобановской статьи заключался в том, что этим новым романом Алексеев поднялся над другими своими вещами и даже показал их фальшивость. Естественно, что такое прочтение исключало присуждение ленинской премии. Палькин же был вызван в партийные инстанции, где ему объяснили, что после такого уничтожения фактически всего творчества Алексеева, ему оставаться главным редактором нельзя.
Любопытно, что среди прочих премий, которыми удостоен Палькин, есть премия Саратовской области имени Михаила Алексеева, которую он получил в 2000 году.
В будущем Михаил Лобанов напишет статью, где поставит Палькина как редактора выше, чем А.Т. Твардовского. Поставит, конечно, без всяких на то оснований. Точнее, на основании того, что Палькин напечатал ту статью – его, Лобанова.
А других причин тут и быть не может. Легко сравнить судьбу постоянно кровоточащего «Нового мира» и однажды оступившейся «Волги». Избиваемого, убиваемого и, в конце концов, убитого Александра Трифоновича Твардовского и снятого Палькина, который после отставки жил совсем не дурно. Получил, как видите, премию. И не одну. Прожил ещё двадцать лет. Умер 5 марта 2013 года.
4 АПРЕЛЯ
Кронид Аркадьевич Любарский (родился 4 апреля 1934 года) был автором идеи учреждения в 1974 году Дня политзаключённого.
По специальности астрофизик.
Ещё студентом МГУ (мехмат, отделение астрономии) в 1953 году был организатором первого в послесталинское время открытого коллективного письма протеста в «Правду».
17 января 1972 года арестован по делу «Хроники текущих событий» (во время обыска изъято более 600 документов, книг, рукописей). В октябре 1972 осуждён на 5 лет ИТЛ. Отбывал срок в Мордовии, а потом за систематическое нарушение режима переведён во Владимирскую тюрьму. В лагере стал автором идеи учреждения в СССР Дня политзаключённого, разработал вместе с товарищами концепцию его проведения и распространил эту идею по другим лагерям и тюрьмам. С 1974 года 30 октября стал отмечаться нелегально как день политзаключённого в СССР, с 1991 года в России этот день стал официальным Днём памяти жертв политических репрессий.
В 1977 освободился и определён жить в Тарусу. Вместе с Мальвой Ланда и Татьяной Ходорович наследовал у арестованного А. Гинзбурга распорядительство основанного Солженицыным Фонда помощи политзаключённым. Вошёл в советскую группу «Международной амнистии».
За это снова против него возбуждаются «дела». Сперва за «тунеядство», потом «за нарушение правил надзора», потом опять «за антисоветскую агитацию». В результате власти выдавили Любарского из страны.
В эмиграции издавал информационный бюллетень «Вести из СССР» – по одному выпуску раз в две недели в течение 14 лет. С 1984 года издавал журнал «Страна и мир».
После перестройки вернулся в Москву в составе международной комиссии, расследовавшей обстоятельства гибели при Сталине Рауля Валенберга.
Был среди защитников Белого дома в августе 1991 года. А в октябре 1993-го организовал оборону здания радиостанции «Эхо Москвы».
Входил в состав Конституционного совещания. После принятие Конституции оно было преобразовано в Общественную палату при Президенте, из которой Любарский вышел, протестуя против развязанной войны в Чечне.
Погиб 23 мая 1996 года, утонув в океане во время поездки на остров Бали.
Книги Любарского (в том числе его переписка с отцом Сергеем Желудковым) изданы в России.
* * *
Феликс Иванович Чуев (родился 4 апреля 1941 года) снискал себе известность как отъявленный сталинист и антисемит.
Вообще он считался поэтом, выпускал книги, композиторы писали на эти стихи песни, но стихи были плохими. И он в конце концов перешёл на прозу. То есть, он продолжал писать стихи, но гораздо больше стало появляться его прозаических книг: «Стечкин», «Ильюшин», «Молотов», «Сто сорок бесед с Молотовым» и, наконец, сборник любовных историй про Сталина «Солдаты империи. Беседы. Воспоминания. Документы».
В многотиражке московского отделения Союза писателей к 100-летию Сталина, опубликовал стихотворение, которое оказалось акростихом: «Сталин в сердце». Здесь он не врал. Он действительно восхищался этим человеком, отвергал любую его критику, призывал Молотова в свидетели, что начало войны формировалось по мудрому сталинскому плану.
Однако его акростих не остался без ответа. Ответил поэт Александр Ерёменко. И тоже акростихом:
Столетие любимого вождя Ты отмечал с размахом стихотворца, Акростихом итоги подведя Лизания сапог любимых горца! И вот теперь ты можешь не скрывать, Не шифровать любви своей убогой. В открытую игра, вас тоже много. Жируйте дальше, если Бог простит. Однако все должно быть обоюдным: Прочтя, лизни мой скромный акростих, Если нетрудно. Думаю, нетрудно.Ерёменко не зря призывает Чуева «лизнуть мой скромный акростих»: прочтите сверху вниз заглавные буквы строчек и вы согласитесь: не зря!
После развала СССР часть бывших народных депутатов образовала самозваный Постоянный Президиум Съезда народных депутатов СССР, который возглавила Сажи Умалатова. Она награждала сторонников прежними советскими наградами и придуманными этим органом орденами. Так Феликс Чуев получил от Умалатовой звезду героя соцтруда.
Об этом есть почти в каждой сетевой заметке о Чуеве. Но одни честно указывают, что награда фальшива, а другие – без зазрения совести называют его героем соцтруда.
Умер Феликс 2 апреля 1999 года. Хоронили его как воина. Впереди всех наград (их, правда, у него было немного) на подушке лежала звезда героя соцтруда.
А куда она потом делась? Вот разыскания «Вечерней Москвы» от 25 мая 2012 года, корреспонденты которой побывали на Троекуровском кладбище:
«На некоторых надгробиях сверкают Звезды Героев, полученные от сомнительных организаций. Так, например, одна из таких организаций наградила знаменитого советского поэта, писателя и публициста Феликса Чуева званием Героя Социалистического Труда». Так что с подушки звезда скакнула на надгробье!
5 АПРЕЛЯ
Сергей Яковлевич Алымов (родился 5 апреля 1892 года) за участие в революционной деятельности был сослан в 1911 году в Енисейскую губернию на вечное поселение. Оттуда бежал в Китай. В конце концов, осел в Харбине.
Но в начале 1920-х довольно активно участвовал в литературной жизни Владивостока и Харбина. Писал стихи о Ленине, о Советской России.
Первая книжка «Киоск нежности» вышла в 1920-м. Стихи, собранные в ней, отдают ученичеством у Северянина, его эгофутуристической поэзией. Например:
Звёзды – алмазные пряжки женских, мучительных туфель Дразнят меня и стучатся в келью моей тишины… Вижу: монашка нагая жадно прижалася к пуфу Ярко-зелёной кушетки. Очи её зажжены. Скинуто чёрное платье. Брошено на пол, как святость… Пламя лампадки игриво, как у румына смычок… Ах, у стеблинных монахинь страсть необычно горбата!.. Ах, у бесстрастных монахинь в красных укусах плечо!.. Но подхожу к келье-спальне… Даже берёзки в истоме! Прядями кос изумрудных кожу щекочут ствола… Даже берёзка-Печалка молится блуду святому, Даже берёзкины грёзы об исступлениях зла!.. Ближе… К дрожащему телу прискорпионились чётки… Два каблука, остродлинных бьются поклонами в пол. «А… каблуки?!.. Куртизанка?! – Нет! не отдамся кокотке…» И убегаю… А в сердце: «О, почему не вошёл?»Издал ещё несколько книг и переселился в Москву.
Но ОГПУ, видимо, следило за поэтом, жившим прежде в Харбине. Алымова в начале 1930-х отправляют в исправительно-трудовой лагерь «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». Однако должность, которую он там получил, говорит о доверии чекистов: он редактировал газету для заключённых.
После возвращения в Москву в 1931-м писал преимущественно тексты советских патриотических песен. Некоторые известны и по сей день: «Вася-Василёк», «Хороши весной в саду цветочки», «Краснофлотский марш».
Небольшой, правда, вышел скандал с песней «По долинам и по взгорьям».
Я пел эту песню в школьном хоре. И всегда ведущий объявлял: «музыка Ильи Атурова, слова Сергея Алымова».
И вдруг – гром среди ясного неба: не писал Алымов слов этой песни. У неё – другой автор – Пётр Семёнович Парфёнов!
Причём это, оказывается, выяснилось давно. Роль Алымова здесь была ничтожной: отредактировал пару строк.
Но в 1937 году Пётр Семёнович Парфёнов был арестован и расстрелян. Авторство песни передали её редактору. Только в 1962 году ей возвращают подлинного автора. Причём для этого понадобился суд.
Заинтересовавшись этой историей, я много прочёл небольших статеек об Алымове. И нигде не нашёл, что он хотя бы просил снять его имя с не принадлежащего ему текста.
Он погиб в автомобильной катастрофе 29 апреля 1948 года. И хотя в его честь одно время назывался ходивший по Волге пароход, нехороший осадок остался. Тем более что далеко не везде пишут: текст Парфёнова, отредактированный Алымовым. Попадаются до сих пор и такие публикации, где сказано просто: текст Алымова!
6 АПРЕЛЯ
Александр Иванович Герцен (родился 6 апреля 1812 года) настолько известен, что нужды нет рассказывать его биографию, перечислять его художественные и публицистические вещи, характеризовать их.
Ограничусь его небольшой максимой – выпиской из дневника:
«Истинное, глубокое раскаяние очищает не токмо от события, в котором раскаивается человек, но вообще очищает от всей пыли и дряни, наносимой жизнию. Небрежность людская позволяет насесть пыли, паутине на святейшие струны души, гордость не дозволяет видеть, – паденье – и тотчас раскаяние (если натура не утратила благородства), человек восстановляется, но гордости нет, нет сухости, в нём трогательная грусть – он стыдится и просит милосердия, он делается симпатичен падшему».
Умер Герцен 21 января 1870 года.
7 АПРЕЛЯ
Марка Александровича Поповского я встретил в доме творчества писателей в Малеевке. Мы быстро сблизились. Он дал мне прочесть рукопись его книги «Дело академика Вавилова». Уже тогда – а было это в начале семидесятых – меня поразило обилие документального материала. «Как вам удалось его добыть?» – спросил я. «Секрет фирмы! – шутя ответил он. – А если серьёзно, удалось раздобыть допуск в архивы обманным путём». Но детализировать не стал: «Я многих подведу, если назову фамилии», – объяснил. И я, естественно, не настаивал.
Но своё восхищение работой я ему тогда же и высказал.
Как я обрадовался, когда прочитал рецензию Сергея Довлатова на эту книгу. Она была издана в Нью-Йорке, куда уехал в эмиграцию Поповский.
Вот – цитата из Довлатова как раз по поводу того, что и меня интересовало:
«Я хорошо помню обстановку в редакции газеты «Советская Эстония», где мне довелось работать в начале 70-х годов. Если какие-нибудь материалы отдела науки казались редакционным цензорам непроходимыми, если герои научных очерков вызывали сомнение у начальства, сотрудники отдела бежали звонить в Москву Марку Поповскому, рассчитывая на его авторитет и связи, на его умение «проталкивать» сомнительные статьи и корреспонденции. Мы умоляли Поповского о содействии, и, надо сказать, во многих случаях таковая апелляция завершалась успешным результатом.
Однако лишь много лет спустя выяснилось, что официальная деятельность Поповского, его репутация чуточку строптивого, но в целом лояльного советского писателя была лишь частью его жизни, его человеческого и творческого облика. Укрываясь маской дерзкого, но в глубине души правоверного литератора, Поповский годами собирал материалы для своих главных книг, которые невозможно было издать в советских условиях, вёл образ жизни конспиратора и заговорщика, правдами и неправдами получая доступ к самым секретным источникам, черпая из них якобы лишь косвенные штрихи и детали для своих официальных книг. Кто-то, может быть, назовёт это «двойной жизнью» или «опасной игрой», а самые целомудренные читатели, возможно, усмотрят здесь и долю лицемерия, но так или иначе – лишь благодаря уму, ловкости, бесстрашию или хитрости Поповского (называйте это как угодно) в нашем распоряжении – многие подлинные и неопровержимые свидетельства, которые хранились, что называется, за семью печатями и казались советским властям – навеки похороненными… На этих документах построена лучшая книга Марка Поповского – «Дело академика Вавилова».
А конец рецензии Довлатова – просто подарок автору:
«Предоставим слово одному из благодарных читателей нового произведения Марка Поповского:
«Книга показывает истинное, не искажённое официальной ложью, лакировкой и полуправдой величие Николая Вавилова…».
И дальше.
«…Я сожалею, что не был знаком с этой книгой, когда Марк Поповский находился ещё в СССР. Эти строки – дань моего уважения автору…»
Под этими словами стоит подпись академика Сахарова, прочитавшего книгу в самиздатской рукописи и переславшего свой отзыв на Запад летом 1978 года….».
Умер Марк Александрович 7 апреля 2004 года (родился 8 июля 1922-го).
8 АПРЕЛЯ
Владимира Александровича Соловьёва (родился 8 апреля 1907 года) я встречал в домах творчества. Как правило, они сидели за одним столом с Виктором Розовым, заядлым филателистом и картёжником.
Надо сказать, что по этой части Владимир Александрович не уступал Розову, и я, когда обнаруживал их каждый вечер в холле какого-нибудь этажа за картами, удивлялся: когда они успевают писать? Розов написал немало пьес, а уж Владимир Александрович их написал столько, что, кажется, не было в этот день в стране какого-нибудь театра, который не играл бы его пьесу.
Играли они, разумеется, не вдвоём: то Шток, если он в это время был в доме творчества, подсаживался. То Прут. Иногда Юлик Эдлис. Но Юлик не очень любил их игры. «Крупно играют, – объяснял он мне, – так можно и без штанов остаться».
Такие вещи Соловьёва не занимали. Деньги у него были и немалые. Однажды при мне дал партнёру 2 тысячи для продолжения игры.
Но, в отличие от Розова, почти невозмутимого, хотя когда проигрывал, злого, Соловьёв был очень шумным игроков. Его голос почти не смолкал.
Кто он такой? Драматург, как я уже сказал. Получил две сталинские премии. Обе 2 степени. За пьесу «Фельдмаршал Кутузов» в 1941-м и за пьесу «Великий государь» в 1946-м.
Его привлекали исторические темы. Причём свои пьесы он писал и в прозе и в стихах.
Кстати, «Великий государь» (о Грозном) он после смерти Сталина переделал. При Сталине он показывал, что Грозный просто обязан, как настоящий правитель применять насилие. После Сталина Грозный в его пьесе в основном кается за совершённые преступления.
Он всегда попадал, так сказать, в жилу. В 1938-м написал пьесу «Чужой» – о вредительстве в промышленности. В 1948 пьеса «Дорога победы» развивала модную тему о подпольщиках. Ещё раз он напишет о том же в 1958 в пьесе «Опасная профессия».
Словом, он всегда поспевал за временем. Но хорошим драматургом не был.
Розов, конечно, был выше него на много голов.
Но в картах больше везло Соловьёву, который скончался 30 января 1978 года.
9 АПРЕЛЯ
Лев Зиновьевич Копелев (родился 9 апреля 1912 года) рано окунулся в революционную борьбу. Уже в 1929-м его арестовали за сочувствие к троцкистско-зиновьевской оппозиции и продержали в тюрьме 10 дней.
В начале тридцатых он был одним из «тридцатитысячников», поехавших в деревню от Харьковского паровозостроительного завода имени Коминтерна, наблюдал за Голодомором. Позже описал свои впечатления в мемуарной книге «И сотворил себе кумира».
С 1938 года преподавал в МИФЛИ.
В 1941 году записался добровольцем в Красную армию. Служил переводчиком. В 1945 году Копелев арестован за резкие высказывания о насилии советской армии на территории Германии. Приговорён к 10 годам заключения, и оказался в «шарашке» Марфино, где встретился с Солженицыным.
В 1954-м освобождён, в 1956-м реабилитирован. Восстановился в партии. В 1957–1969 преподавал в Московском полиграфическом институте и Институте истории искусств.
С 1966 года активно участвует в правозащитном движении. В 1968 году исключён из партии и из Союза писателей, уволен с работы за подписание протестных писем против преследования диссидентов и советской агрессии в Чехословакии. Начал распространять свои книги через самиздат.
Дружил с Бёллем, благодаря которому устроился на работу в Веппертальский университет, когда его лишили советского гражданства. Позднее преподавал в Кёльнском университете, где стал почётным доктором.
В 1990 году советское гражданство Копелеву было восстановлено.
Свою жизнь описал в трёх книгах: «И сотворил себе кумира» (1987) – о детстве и юности, «Хранить вечно» – о конце войны и первом заключении и «Утоли моя печали» (1981) – так называлась церковь, перестроенная под «шарашку», где Копелев находился в заключении.
Надо отдать должное исключительной честности, с которой ведёт себя Копелев с Солженицыным. Удивительно, что, читая их полемику, кто-то может встать на сторону Солженицына. Всё, о чем пишет Копелев, документально выверено.
Так получилось, что, благодаря Копелеву, мир узнал прекрасного писателя (Копелев принёс и передал А. Берзер, которой доверял Твардовский, «Ивана Денисовича» для публикации в «Новом мире»). Но и благодаря Копелеву, мир узнал истинную нравственную сущность человека, который сам себя вознёс над человечеством.
Умер Лев Зиновьевич 18 июня 1997 года.
* * *
Леонид Николаевич Майков (родился 9 апреля 1839 года) – младший брат всех своих родных братьев.
Как и они, он тоже очень талантлив, целиком поглощён наукой. С 1868 года он профессор Археологического института. В 1882 назначен помощником директора Императорской публичной библиотеки. В 1889 году избран академиком, в 1893 году назначен вице-президентом Академии наук.
Занимался Русским географическим обществом, археологической комиссией, был редактором «Журнала Министерства народного просвещения» (1882–1890).
Важнейшие его работы посвящены литераторам XVIII века – Симеону Полоцкому, Ломоносову, Василию Майкову, Сумарокову, Крылову. Работы по истории русской журналистике, старинной русской повести, истории русских суеверий собраны в книгу «Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII в.» (1889–1893).
В 1889 году при содействии библиографа и историка литературы Владимира Ивановича Саитова вышло с величайшей тщательностью отредактированное собрание сочинений К.Н. Батюшкова. Приложенная к нему майковская автобиография поэта есть обзор литературной жизни Александровской эпохи.
В 1891 году систематизировал и отредактировал собрание сочинений своего брата Валериана. Умер 20 апреля 1900 года.
Я не согласен с гипотезой Леонида Николаевича о возникновении русских былин. Он считает, что былины Владимирова цикла – отзвук исторической жизни киевского удельного периода. Я считаю, что речь в данном случае идёт о мифологии, а не о действительной истории. А с точки зрения мифологии, былины – это рассказ о стихийных явлениях. Богатыри – олицетворение этих явлений и отождествление их с древними славянскими богами. Но вместе с тем, признаю, что с аргументами Л.Н. Майкова надо считаться.
* * *
Андрея Кучаева я помню по постоянным визитам в клуб 12 стульев «Литературной газеты». Он (родился 9 апреля 1939 года) считался одним из лучших газетных «хохмачей», поэтому – где он, там и смех.
Андрей Леонидович многое умел: писал стихи, рассказы, сценки. Кроме того, он вёл студию, из которой вышли Игорь Иртеньев и Александр Кабаков.
После перестройки он написал книгу «Записки счастливого эмигранта» (2001). А одной из первых его фраз была: «Мы умеем сжигать мосты не только за, но и перед собой».
Он уехал в Германию в 1995 году. Напечатал там немало хороших произведений. Не хуже, чем печатал в России.
Умер в городе Оберхаузене 27 мая 2009 года.
10 АПРЕЛЯ
10 апреля 1937 года родилась замечательная русская поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина. Стихи её у многих на слуху.
Многие знают и о её невероятно мужественном поведении в советское время, когда она, казалось бы, ничего не боялась.
Воспользовавшись тем, что её выбрали в академики Французской академии, она подписывает этим почётным титулом письмо в адрес Академии Наук СССР, оскорблённая тем, что академия отказалась взять под защиту своего действительного члена – Андрея Дмитриевича Сахарова. И сколько таких писем и заявлений на счету у этой бесстрашной женщины!
Умерла она 29 ноября 2010 года.
* * *
У Владимира Викторовича Колесова (родился 10 апреля 1934 года) много наград и премий. Он заведует кафедрой русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского университета, автор более 500 работ по исторической акцентологии, исторической фонологии, исторической фонетики русского языка. Автор пятитомника «Древняя Русь: наследие в слове» (2000–2001).
Но мне больше всего нравятся такие его книги, как «Занимательные рассказы из истории русского языка», «Как слово наше отзовётся», «Старая пословица не даром молвится», «Гордый наш язык».
Владимир Викторович обладает талантом просто и очень занимательно рассказывать читателю о русском языке. Причём читателем может быть и ваш ребёнок. Колесов пишет весьма доступно. Так что очень советую купить его книги детям. Если, конечно, вы сумеете их купить. В магазинах они не залёживаются.
11 АПРЕЛЯ
Всеволод Борисович Азаров в 1930 году на маневрах Перекопской дивизии познакомился с писателем Матэ Залкой. Тот дал семнадцатилетнему юноше рекомендацию в ленинградский журнал оборонной литературы «Залп». Приехав в Ленинград, Азаров вступает в литературное объединение Красной Армии и Флота. Его учителями становятся Н. Тихонов, А. Прокофьев, Вс. Рождественский.
В 1931 году Азаров публикует первое стихотворение. А в 1932-м первую книжку «Мужество». Вслед за ней, в 1933-м, – «Спать воспрещено». В 1936 году Азаров знакомится с немецким певцом Эрнстом Бушем, сочиняет русский текст для его «Песни народного фронта». Тогда же он замыслил поэму «Товарищ Тельман» (напечатана в 1956-м).
С начала войны работает корреспондентом в редакциях фронтовых газет в Кронштадте. Участвует в работе писательской группы при Политуправлении Балтийского флота, возглавляемой Вс. Вишневским. В осаждённом Ленинграде выходит книга очерков «Кронштадт ведёт бой» (1941) и книга стихов «Ленинграду» (1942). Вместе с Вс. Вишневским и А. Кроном в 1942 году пишет героическую комедию «Раскинулось море широко…»
После войны выпускает несколько лирических сборников, ведёт работу по межреспубликанским творческим связям, переводит поэтов народов СССР. Наконец, руководит литературным объединением «Путь на моря», откуда вышли несколько известных писателей-маринистов.
Он автор документальной повести «Всеволод Витальевич Вишневский» (1966, 1970).
Хороший он был поэт? Неплохой. Вот прочтите его стихотворение «Старое танго»:
Весенний шум со всех сторон Летел вдогонку. А я был по уши влюблён В одну девчонку. И под небес голубизной Необычайной. Делилась музыка со мной Своею тайной. В тех незатейливых словах, В простом звучанье, Угадывался крыльев взмах И обещанье. Как будто звали паруса, Морские мили… О, эти чёрные глаза Меня пленили. Я вспомнил много лет спустя Об этом миге У композитора в гостях, В старинной Риге. Путь прошагав нелёгкий свой, В ладонях слабых Он поднимал над головой Не бремя славы. Смиряя каждый нотный знак Своею властью, Мелодию слагал чудак, Нёс людям счастье. Певучей прочности запас Не знает срока, Как Штраусом рождённый вальс, Как танго Строка. Стыл на ветвях весенний дым И скрипка пела, Прощаясь с мастером седым В капелле белой. И у березовых стволов, В купели света Мы вспоминали ту любовь, Что недопета.Умер Всеволод Борисович 11 апреля 1990 года. Родился 14 мая 1913-го.
* * *
Ну что можно сказать о Курте Воннегуте? Что он один из известнейших американских писателей прошлого столетия? Банальность! Что его романы выпускались в Советском Союзе большими тиражами? Опять банальность! Что его в Америке, быть может, любили меньше, чем у нас? Бана… То есть как «меньше»? С какой стати?
А вот с какой. Цитирую «Записные книжки» С. Довлатова:
«…с Гором Видалом, если не ошибаюсь, произошла такая история. Москвичи стали расспрашивать гостя о Воннегуте. Восхищались его романами.
Гор Видал заметил:
– Романы Курта страшно проигрывают в оригинале…»
Известно, что Довлатов был большим выдумщиком. Но в данном случае мог рассказать и правду. Известно ведь, что переводчицей Воннегута была Рита Яковлевна Райт-Ковалёва. Они дружили. Переписывались. Оба раза, когда в СССР приезжал Воннегут, они встречались. И в 1974-м. И в 1977-м.
«Если бы нужно было несколькими словами определить переводческий метод Райт-Ковалевой, – написал Корней Иванович Чуковский, – я сказал бы, что она добивается точности перевода не путём воспроизведения слов, но путём воспроизведения психологической сущности каждой фразы».
А русский, то есть переведённый на русский Курт Воннегут как раз такой психологической сущностью и отличается. Так что вполне возможно, что знаменитая «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» на русском постигается глубже, чем на английском. Во всяком случае, я такую возможность допускаю.
Трудно удержаться от цитирования:
«– А ведь мы так и не знаем, какие отметки у Эли, – сказал доктор Ремензель. Сказал он это очень добродушно, словно заранее примирившись с мыслью, что особых успехов от Эли ожидать нечего.
– Наверно, вполне приемлемые, хоть и посредственные, – сказала Сильвия.
Этот вывод она сделала из отметок Эли в начальной школе, весьма посредственных, а то и совсем плохих.
Директор удивлённо посмотрел на них.
– Разве я вам не сообщил его отметки? – сказал он.
– Но мы с вами не виделись после экзаменов, – сказал доктор Ремензель.
– А моё письмо… – начал доктор Уоррен.
– Какое письмо? – спросил доктор Ремензель. – Разве нам послали письмо?
– Да, я вам написал, – сказал доктор Уоррен. – И мне ещё никогда не было так трудно писать… Сильвия покачала головой:
– Но мы никакого письма от вас не получали. Доктор Уоррен привстал – вид у него был очень расстроенный.
– Но я сам опустил это письмо, – сказал он. – Сам отослал две недели назад.
Доктор Ремензель пожал плечами:
– Обычно почта США писем не теряет, но, конечно, иногда могут послать не по адресу. Доктор Уоррен сжал голову руками.
– Вот беда… Ах ты, Боже мой, ну как же так… – сказал он. – Я и то удивился, когда увидел Эли. Вот не думал, что он захочет приехать с вами.
– Но он же не просто приехал любоваться природой, – сказал доктор Ремензель, – он приехал зачисляться в школу.
– Я хочу знать, что было в письме, – сказала Сильвия. Доктор Уоррен поднял голову, сложил руки:
– Вот что было написано в письме, и мне ещё никогда не было так трудно писать: «На основании отметок начальной школы и оценок на вступительных экзаменах должен вам сообщить, что для вашего сына и моего доброго знакомого, Эли, нагрузка, которая требуется для учеников Уайтхилла, будет совершенно непосильной. – Голос доктора Уоррена окреп, глаза посуровели: – Принять Эли в Уайтхилл и ожидать, что он справится с уайтхиллской программой, будет не только невозможно, но и жестоко по отношению к мальчику».
Тридцать африканских юношей в сопровождении нескольких преподавателей, чиновников госдепартамента и дипломатов из их стран гуськом прошли в зал.
А тут и Том Хильер с сыном, даже не подозревая, как худо сейчас Ремензелям, подошли к столику и поздоровались с доктором Уорреном и с родителями Эли так весело, будто ничего плохого в жизни и быть не может.
– Мы с вами ещё поговорим, если хотите, – сказал доктор Уоррен, вставая, – но попозже, а сейчас мне надо идти. – И он торопливо пошёл прочь.
– Ничего не понимаю, – сказала Сильвия. – Совершенно ничего не понимаю.
Том Хильер с сыном уселись за стол. Том взглянул на меню, хлопнул в ладоши и сказал:
– Ну, что тут хорошенького? Здорово я проголодался! – И добавил: – Слушайте, а где же ваш мальчик?
– Вышел на минутку, – ровным голосом сказал доктор Ремензель.
– Надо его поискать, – сказала Сильвия мужу.
– Погодя, немного погодя, – ответил доктор Ремензель.
– А письмо! – сказала Сильвия. – Эли знал про письмо. Он его прочёл и порвал. Конечно, порвал! – И она заплакала, представив себе, в какую чудовищную ловушку Эли сам себя загнал.
– Сейчас меня абсолютно не интересует, что сделал Эли, – сказал доктор Ремензель. – Сейчас меня гораздо больше интересует, что сделают другие люди.
– Ты о чём? – удивилась Сильвия.
Доктор Ремензель встал, внушительный, сердитый, готовый к отпору.
– О том, что я сейчас проверю, насколько быстро можно заставить некоторых людей тут, в Уайтхилле, переменить решение, – сказал он.
– Прошу тебя, – сказала Сильвия, стараясь его удержать, успокоить, – прежде всего нам нужно найти Эли, Сейчас же!
– Прежде всего, – прогремел доктор Ремензель, – нам нужно, чтобы Эли был принят в Уайтхилл. А потом мы его отыщем и приведём сюда.
– Но, милый… – начала было Сильвия.
– Никаких «но»! – сказал доктор Ремензель. – В данный момент тут, в зале, находится большинство членов попечительского совета. Все они – мои ближайшие друзья или друзья моего отца. Если они велят доктору Уоррену принять Эли, он будет принят. Раз тут у них есть место для вон тех типов, так уж для Эли, черт побери, место найдётся!
Широким шагом он подошел к ближайшему столику и стал что-то говорить могучему старцу свирепого вида, который завтракал в одиночестве. Старик был председателем попечительского совета.
Сильвия извинилась перед растерянными Хильерами и пошла искать Эли.
Расспросив разных людей, Сильвия наконец нашла сына. Он сидел в саду один, на скамье под кустами сирени – на них уже набухали почки.
Услышав шаги матери по хрусткому гравию дорожки, Эли не тронулся с места, готовый ко всему.
– Узнали? – сказал он. – Или надо ещё объяснять?
– Про тебя? – сказала она мягко. – Про то, что ты не попал? Доктор Уоррен нам всё рассказал.
– Я порвал его письмо, – сказал Эли.
– Я тебя понимаю, – сказала она. – Слишком долго мы с отцом уверяли тебя, что твоё место в Уайтхилле, иначе и быть не могло.
– Фу, легче стало! – сказал Эли. Он попытался улыбнуться, и оказалось, что это не так трудно. – Честное слово, стало легче, раз уж всё открылось. Хотел вам рассказать, всё начинал, а потом духу не хватило. Не знал, как подступиться.
– Это я виновата, а не ты, – сказала Сильвия.
– А что делает отец?
Сильвия так старалась успокоить Эли, что совершенно забыла, чем там занимается муж. И вдруг поняла, что доктор Ремензель делает чудовищную ошибку. Она вовсе не хотела, чтобы Эли приняли в Уайтхилл, она сразу поняла, какая жестокость – отдавать его сюда.
Но она не решалась рассказать сыну, что именно затеял его отец, и только сказала:
– Он сейчас вернётся, милый. Он всё понимает. – И добавила: – Ты тут посиди, а я его найду и сейчас же вернусь.
Но ей не пришлось идти за доктором Ремензелем. В эту минуту в дверях показалась его высокая фигура: доктор увидал жену и сына в саду. Он подошёл к ним. Вид у него был совершенно подавленный.
– Ну как? – спросила жена.
– Они… Они все отказали, – сдавленным голосом сказал он.
– Вот и хорошо! – сказала Сильвия. – Гора с плеч. Честное слово!
– Кто отказал? – спросил Эли. – Кто в чём отказал?
– Члены совета, – сказал доктор, отводя глаза. – Я просил их сделать для тебя исключение – изменить решение и принять тебя в школу.
Эли вскочил, сразу вспыхнув от стыда, от возмущения.
– Ты… ты что? – Голос его звучал совсем не по-мальчишески – он был вне себя. – Ты не должен был просить! – крикнул он отцу.
Доктор Ремензель покорно кивнул:
– Они тоже так сказали…
– Это неприлично! – сказал Эли. – Какой ужас! Как ты мог!
– Ты прав, – сказал доктор Ремензель, покорно принимая упрёки.
– Теперь мне за тебя стыдно! – сказал Эли и видно было, что он говорит правду.
Доктор Ремензель чувствовал себя глубоко несчастным и не знал, какие найти слова.
– Прошу прощения у вас обоих, – сказал он наконец. – Очень нехорошо вышло, нельзя было даже пытаться…
– Значит, Ремензель всё-таки попросил для себя поблажки! – сказал Эли.
– Наверно, Бен ещё не привел машину, – сказал доктор, хотя это было и так вполне ясно. – Давайте подождём здесь. Не хочу туда возвращаться.
– Ремензель просил лично для себя, как будто эти Ремензели что-то особенное! – сказал Эли.
– Не думаю… – начал было доктор Ремензель, но конец фразы так и повис в воздухе.
– Не думаешь чего? – переспросила Сильвия.
– Не думаю, – сказал Ремензель, – что мы ещё когда-нибудь сюда приедем».
Конечно, не владея английским, я не смогу дотошно оценить прелесть перевода. Но убеждён, что он выполнен Райт-Ковалёвой по крайней мере на уровне оригинала. С исчерпывающей психологической точностью каждой фразы.
Умер Курт Воннегут 11 апреля 2007 года. Родился 11 ноября 1822-го.
12 АПРЕЛЯ
Елизавета Ивановна Дмитриева (родилась 12 апреля 1887 года) с семи до шестнадцати лет была больна чахоткой. Из-за этого на всю жизнь осталась хромой. Училась прекрасно. Василеостровскую гимназию закончила с золотой медалью. В 1908 году окончила Императорский женский педагогический институт по двум специальностям: средневековая история и французская средневековая литература. Одновременно слушала лекции в Петербургском университете по испанской литературе и старофранцузскому языку. После чего непродолжительное время училась в Сорбонне, где познакомилась с Гумилёвым.
Вернувшись, преподавала русскую словесность в Петровской женской гимназии, печатала переводы из испанской поэзии в теософских журналах, посещала вечера на «башне» Вяч. Иванова, где завязалась её близкая дружба с М. Волошиным.
Лето 1909 года Дмитриева провела в Коктебеле у Волошина, где родилась идея литературной мистификации. В «Аполлоне» появляются стихи некой Черубины де Габриак, которые всем нравятся. Их приветствуют И. Анненский и Вяч. Иванов. Разоблачил Черубину М. Кузмин, выведавший телефон Дмитриевой. Следующая подборка Черубины заканчивалась стихотворением «Встреча», подписанная подлинной фамилией Дмитриевой.
Это вызвало тяжёлую невралгию поэтессы: её разрыв с Гумилёвым и Волошиным, которые затеяли скандальную дуэль. Особенно оскорбило Васильеву утверждение искусствоведа и издателя журнала «Аполлон» С.К. Маковского, что за Дмитриеву писал Волошин. Она написала Волошину: «Я стою на большом распутье. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял её от меня навсегда потом. Пусть мои стихи будут символом моей любви к тебе». Дмитриева надолго оставила писание стихов.
В 1911 году она вышла замуж за инженера-мелиоратора Всеволода Николаевича Васильева и приняла его фамилию. После замужества много с ним путешествует. В основном по делам «Антропософского общества». Антропософия становится её серьёзным увлечением. И, видимо, проникает в стихи. Прежняя гладкость стиля сменяется обострённым чувством ритма. В основе новых стихов – духовность.
Но в России – советская власть. Как дворян, Васильеву с мужем арестовывают и высылают из Петрограда. Она оказывается в Екатеринбурге, где руководит объединением молодых поэтов, знакомится с Маршаком и пишет с ним пьесы.
В июне 1922 возвращается в Петроград, работает в литчасти театра юного зрителя, занимается переводами с испанского и старофранцузского. Пишет повесть для детей «Миклухо-Маклай». Уходит из театра и устраивается на работу в библиотеку Академии наук.
В 1926 году во время репрессий по отношению к русским антропософам, её арестовывают, во время обыска забирают весь архив и ссылают на 3 года в Ташкент. В 1927 году, по предложению близкого друга последних лет, китаиста и переводчика Ю. Щуцкого, создаёт новую мистификацию – цикл семистиший «Домик под грушевым деревом», написанных от имени «философа Ли Сян Цзы», сосланного на чужбину «за веру в бессмертие человеческого духа».
Последним стихотворением Дмитриевой-Васильевой оказалось вот это:
Прислушайся к ночному сновиденью, не пропусти упавшую звезду… по улицам моим Невидимою Тенью я за тобой пройду… Ты посмотри (я так томлюсь в пустыне вдали от милых мест…): вода в Неве ещё осталась синей? У Ангела из рук ещё не отнят крест?Оно датировано 12 июля 1928 годом. А 5 декабря 1928 года поэтесса умерла в Ташкенте.
* * *
Леонид Петрович Дербенёв (родился 12 апреля 1931 года) прежде чем стал популярным поэтом-песенником, напечатал собственные (непесенные) стихи, переводил поэтов из советских республик.
Но, конечно, всё это не сравнится с текстами его песен. И даже не всех песен, а с теми, что звучат в фильмах Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию».
Его песни исчисляются сотнями. Их исполняют и отдельные актёры и всякого рода ВИА.
И всё же выше всех я ставлю его песни из фильмов Гайдая.
Умер Дербенёв 22 июня 1995 года.
* * *
Тита Михайловича Коржикова, крупного хозяйственника, отца Виталия Титовича Коржикова (родился 12 апреля 1931 года) арестовали и расстреляли в 1937-м, а мать много лет провела в лагерях.
Коржикова воспитывали родственники из Мелитополя. Во время войны они были в эвакуации в Алма-Ате. После войны вернулись в Мелитополь. Но попытка Коржикова поступить на факультет журналистики МГУ оказалась бесперспективной. Коржиков год проучился в Мелитопольском пединституте, а потом сумел перевестись в Московский государственный педагогический институт.
Распределили его на Сахалин, где он, помимо имевшейся уже профессии учителя, освоил профессию моряка. Там же стал публиковаться. В 1958 году выпустил первый стихотворный сборник «Морской конёк». После нескольких последующих книг стихов стал печатать повести для детей, которые принесли ему популярность: «Первое плаванье» (1961), «Мореплавания Солнышкина», «Коготь динозавра» (обе – 1979), «Волны словно кенгуру» (1989).
Прекрасная полубыль-полусказка «Даёшь!» о приключении судна с годами разрослась в тетралогию.
Мне посчастливилось присутствовать на чтении Виталием Титовичем своих произведений детям. Был в командировке на Дальнем Востоке. Посоветовали сходить на авторский вечер Коржикова. Господи, с каким удовольствием слушали писателя дети. Как долго потом тормошили, расспрашивали о жизни, делились своим.
И хотя Виталий Титович к тому времени уже не писал стихов, хочется процитировать его «Кораблик совести». На мой вкус, Коржиков не только прекрасно прописал свой портрет, но и дал чудесную зарядку психике своего читателя:
В начале давнего пути, В начале повести Ты подхватил меня: «Лети!» — Кораблик совести! Ты подхватил. А век дрожал, А век неиствовал. Но ты на совесть курс держал, Своё насвистывал. Нам рано выпало мужать В сплошной бедовости. Зато мы знали: так держать, Кораблик совести! И там, где в ярости крепчал Заряд свинцовости, И ты под рёбра получал, Кораблик совести! И нам под вызов: «Не скули!» — Неуспокоенный, Не раз случалось на мели Хлебать пробоиной. Но сколько б в жизни ни хлебал, Дитя рисковости, Ты выплывал, ты выгребал, Кораблик совести! Ты не был служкой воротил При густопсовости, Хоть часто мачтами платил, Кораблик совести. Ты выносил не раз меня, Чтоб с жизнью встретиться. Три ходовых твоих огня Повсюду светятся. Быть может, я в конце пути, Не лучшей повести, А ты плыви! А ты лети, Кораблик совести! Кто б нам ни прочил укорот В лихой суровости, Живёт народ, пока живёт Кораблик совести!Умер Виталий Коржиков 26 января 2007 года.
* * *
Первая жена Константина Симонова, который посвятил ей поэму «Пять страниц» (1938), Наталья Викторовна Соколова (родилась 12 февраля 1916 года) была племянницей известного литературоведа Лидии Яковлевны Гинзбург.
В 1938 году окончила Литературный институт. Выпускала книги в жанре фантастики или, как их лучше определяют, – в жанре городской сказки.
Но в последние годы жизни работала над большим мемуарно-архивным повествованием о своей жизни и о своих современниках.
Очень советую почитать «Осторожно, волшебное! Сказка большого города» (1981), «Два года в Чистополе 1941–1943. Литературные воспоминания» (2006).
Последняя книга – посмертное издание. Наталья Викторовна скончалась 25 сентября 2002 года.
Но если есть время, посидите в библиотеке над подшивкой журнала «Вопросы литературы», которые тоже в это время (начало нулевых) печатали воспоминания и письма Натальи Викторовны. Многие известные литераторы предстают в них по-новому.
13 АПРЕЛЯ
Кирилл Васильевич Пигарёв (родился 13 апреля 1911 года) – правнук Ф.И. Тютчева, сын Екатерины Ивановны, внучки поэта.
С 1932 году он – сотрудник мурановского музея. А в 1949–1980 – директор музея-усадьбы «Мураново» им. Тютчева. С 1949 он ещё и научный сотрудник ИМЛИ. Докторскую диссертацию защитил, однако, не по Тютчеву, а по Фонвизину.
Кстати, кандидатская у него была не по филологии, а по истории. И первая книжка, вышедшая во время войны «Солдат-полководец. Очерки о Суворове» (1943), была посвящена не литератору. О Фонвизине он выпустил книгу в 1954 году. Но после этого полностью сосредоточился на изучении своего прадеда.
О Тютчеве замечательную книгу написал зять поэта, писатель Иван Аксаков. В этом смысле книга Пигарёва «Жизнь и творчество Тютчева» (1962) – лучшая после аксаковской.
Остаётся пожалеть, что в «ЖЗЛ» обитает книга Кожинова о Тютчеве. То, что было добыто Аксаковым и Пигарёвым именно исследованием, Кожинов не то что проигнорировал, но вовсю дофантазировал.
Кирилл Васильевич является составителем и редактором академического двухтомника Тютчева. Печатать тексты Тютчева – очень нелёгкое дело. Сам Тютчев к своим стихам относился равнодушно. Зачастую не читал даже корректуры. Так что перед правнуком возникали проблемы. Но он, великолепный учёный, многие из них решил.
Он же многое сделал для сохранения музея-усадьбы «Мураново». Это памятник русской дворянской культуры XIX-начала XX века.
В прошлом в Муранове (Подмосковье) жили находившиеся между собой в родстве семейства Энгельгардтов, Боратынских, Путят и Тютчевых.
До наших дней сохранился дом, построенный в 1842 году по собственным чертежам поэта Евгения Баратынского (поэт Боратынский взял себе литературный псевдоним: Баратынский).
Музей был открыт после смерти последней хозяйки Муранова О.Н. Тютчевой в 1920 году. В 1924 году его возглавил внук поэта Николай Иванович Тютчев. Он многое сделал для музея: нашёл и пополнил его экспозицию.
Ну, а поддерживал порядок в находящихся на территории усадьбы каменной церкви Спаса Нерукотворного (домового храма семьи Путят-Тютчевых), флигеля вдовы поэта Э.Ф. Тютчевой и так называемого детского домика Кирилл Васильевич Пигарёв, скончавшийся 19 мая 1984 года.
* * *
Читаю:
«Терек, Терек, ты быстёр, Ты ведь не овечка. В порошок меня бы стёр Этот самый речка. И.А. Лермонтов (Пселдонимов)»Последняя строчка явно указывает на кавказский акцент. Но какая связь между горной рекой и овечкой?
«Вот мельница. Она ещё не развалилась. И.А. Пушкин (Пселдонимов)»Элегическая строчка, действительно похожа на какую-нибудь из пушкинского «Вновь я посетил».
Но кто этот Пселдонимов, подписывающийся то Лермонтовым, то Пушкиным, наделяющий обоих поэтов одинаковыми инициалами?
Это какой-то оставшийся ненужным Илье Ильфу персонаж. Может быть прообраз Никифора Ляписа? Во всяком случае, читать записные книжки Ильфа очень интересно: узнаёшь какие-то фразы из их с Петровым знаменитых романов – погружаешься в записи как в творческую мастерскую.
Илья Арнольдович Ильф прожил недолго – всего 39 лет. Умер 13 апреля 1937 года. Родился 15 октября 1897-го. Удивительно, как много сделал за небольшой отпущенный ему период времени этот человек. Его записные книжки показывают, что именно он, Ильф, был главным выдумщиком в славном тандеме.
И ещё.
Готовясь написать эту заметку, я перечитал их творчество – Ильфа и Петрова и обнаружил, что порой они ориентировались на совершенно определённые литературные образцы, которые легко опознавались в их текстах.
Например, водевиль «Сильное чувство»:
«Рита. Водки, безусловно, не хватит. Три бутылки на пятнадцать человек! Это не жизнь, мама!
Мама. Рита, ведь не все же пьют!
Рита. Именно все, мама! Бернардов пьёт, Чуланов пьёт, Сегедилья Марковна пьёт, доктор, вероятно, тоже пьёт…
Мама. А будет доктор? Мне что-то не верится. Лечить таким неприличным способом, этим ужасным буриданом…
Рита. Оставьте, мама! Теперь все это впрыскивают! Значит, доктор, очевидно, пьёт. Лев Николаевич и Антон Павлович пьют, как звери. Стасик пьёт…
Мама (в ужасе). Стасик пьёт?
Рита. Как конь!
Мама. Боже мой, Рита, что за выражение! Нет, это для меня ужасная новость – Стасик пьёт! Такой приличный, нежный молодой человек!
Рита. На месте Наты я никогда не вышла бы второй раз замуж. Лифшиц гораздо лучше Стасика!
Мама. Да, но Лифшиц почти еврей, Риточка, – караим!
Рита. Надо, мама, смотреть на вещи глубже. Караим – это почти турок, турок – почти перс, перс – почти грек, грек – почти одессит, а одессит – это москвич!
Мама. Я не против греков, но у Стасика большая комната!
Рита. Всё равно противно! Менять мужа из-за комнаты!
Мама. Но какая комната!»
Ну, разумеется, всё здесь взывает к чеховской «Свадьбе». Правы те исследователи, которые на это указывают. И ничто не предвещает их прославленной дилогии об Остапе Бендере.
Но штука в том, что водевиль написан после дилогии!
Кризис? Наверное. Ведь ничего лучше «12 стульев» и «Золотого телёнка» они не написали.
Но, читая «Записные книжки» Ильфа, видишь, как он нащупывает новые для себя с соавтором пути.
Другое дело, что время, в которое они жили, не способствовало развитию сатирических жанров.
Мне, например, совсем не нравится их «Одноэтажная Америка». Понятно, что, создавая её, они, как это принято было, отрабатывали социальный заказ – подходили к незнакомой стране с уже готовыми шаблонами её опознавания.
Я знаю, что во время путешествия по Америке у Ильфа открылся туберкулёз, который и свёл его в могилу.
Но не потому ли открылась эта смертельная болезнь, что талантливый, остроумный, живой человек должен был проявлять невероятную осмотрительность, чтобы не выйти за отведённые ему рамки.
Помните, что писал Державин?
Поймали птичку голосисту И ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, А ей твердят: Пой, птичка, пой!Да, это старая российская болезнь, которую ещё Блок диагностировал применительно к Пушкину: отсутствие воздуха. От неё и сам Блок задохнулся. Похоже, что Ильфу тоже стало нечем дышать.
* * *
Владимир Фёдорович Саводник в 1898 году издал первый свой стихотворный сборник, а в 1900-м – первую свою научную книгу «Е.А. Баратынский».
Его «Очерки по истории русской литературы XIX века» (1906), «Хрестоматия по древнерусской литературе» (1908), «Краткий курс истории русской словесности. С древнейших времён до конца XVIII века» (1913) были в статусе официальных учебников. По ним преподавали до конца 20-х годов XX века.
И немудрено. Сам Саводник обучал словесности в различных институтах. В том числе и в Московском университете.
После революции Саводник заведовал отделом русской литературы в Румянцевском музее. Позже – в Историческом. Принимал участие в создании 90-томного Толстого. Подготовил комментарий (при участии М.Н. Сперанского) к «Дневнику А.С. Пушкина, 1833–1835. Подготовил со своими обширными комментариями издание «Анны Карениной».
Стихи он писал не часто. Порой – неплохие:
Какая тишина! Лениво и несмело За валом вал идёт к уснувшим берегам, И небо яркое над бездной онемело, Как обезлюдевший, залитый светом храм. Вокруг – немой простор: спокойно дышит море, И эхо чуткое в скалах забылось сном; Один лишь дальний чёлн маячит на просторе, Сверкая парусом, как трепетным крылом. И радость тихая мне душу наполняет, Как светлый благовест, услышанный сквозь сон, И, точно лёд весной, тоска бессильно тает, — И с новой верою гляжу на небосклон. Но там, во мгле души, там, в тайниках сознанья, Она живёт ещё, печаль прошедших дней: Так в глубине морской чуть видны очертанья Разбитых бурею, погибших кораблей.Умер Владимир Фёдорович 13 апреля 1940 года. Родился 10 мая 1874-го.
14 АПРЕЛЯ
Наум Яковлевич Берковский (родился 14 апреля 1901 года) выдающимся литературоведом стал не сразу. Начинал как заурядный пролетарский критик, рапповец, напостовец, повинный, кстати, в трагической судьбе Леонида Добычина.
Но после того как он издал сборник «Текущая литература» (1930), заниматься текущей литературой бросил. И только во время войны опубликовал несколько небольших работ.
В дальнейшем главные увлечения Берковского – это Шекспир, Сервантес и Чехов.
Неслучайно, что после смерти Берковского (19 июня 1972) вышла его книга «Романтизм в Германии»: цикл исследований о немецком романтизме он опубликовал ещё до войны.
Ещё одно увлечение Берковского – театр. «Таиров и Камерный театр» (1962), «Драматический театр и дух музыки» (1965), «Станиславский и эстетика театра» (1968), «Литература и театр» (1969).
* * *
Светлана Александровна Кузнецова (родилась 14 апреля 1934 года) выпустила первую книжку стихов «Проталины» в 1962 году в Москве с напутствием Александра Прокофьева. Дальше она выпускает небольшую книжечку с приветственным напутствием известного в то время критика Александра Макарова.
Поступает в Литературный институт. Оканчивает Высшие литературные курсы в 1965-м. По рекомендации А. Прокофьева её принимают в Союз писателей.
Вот – значительное достижение: стихи Кузнецовой замечает Твардовский и печатает в своём «Новом мире» стихотворение поэтессы «Мои родители».
Всё у Кузнецовой складывается благополучно. Книг выходит много. Её стихи, положенные на музыку, исполняет популярный дуэт Алла Иошпе – Стахан Рахимов.
Но, начиная с 1970 года – десятилетнее молчание. Что произошло?
Кузнецова вместе с писательской делегацией была в Ташкенте, где их принимал всесильный Шараф Рашидов. Все, кроме неё, встали, выпивая за хозяина республики. Она осталась сидеть, объясняя это неуважением к воровству, в котором подозревали Рашидова.
Только в 1982 году появился новый её сборник «Гадание Светланы». И – как прорвало. Опять печатается много стихов. Опять печатается много рецензий на её творчество.
Поэт Юрий Кузнецов, например, в статье «Под женским знаком?» проводит параллели между Габриеллой Мистраль, Мариной Цветаевой, Анной Ахматовой и Светланой Кузнецовой. А критик Вадим Кожинов называет лучшие стихотворения Кузнецовой самым значительным, что создано в русской женской поэзии после Ахматовой.
Она скончалась 30 сентября 1988 года.
Правы ли те, кто так восторгался её стихами? Об этом судить читателю. Вот одно из последних её стихотворений:
На окраине русского края Ничего у судьбы не молю, В сером сумраке лет вспоминая Тех поэтов, которых люблю. Уходили они в неизвестность, Приминая зыбучие мхи. … Бессловесная наша словесность Не такие не помнит стихи. Не такая случалась погода. Не такие творились дела. Бессловесная наша природа Не такие потери несла. На окраине русской надежды, На окраине русской беды Я смыкаю усталые вежды, И метель заметает следы.Кажется, Кузнецов хвалил однофамилицу не зря: стихи напоминают Кузнецова.
* * *
Владимир Нарбут – человек довольно сложной судьбы. В 1905–1906 году из-за болезни ему удалили пятку, он хромал до конца жизни.
Одно время сблизился с «Цехом поэтов».
В октябре 1912 года, чтобы избежать наказания за весьма скандальный сборник «Аллилуиа», воспользовался предложением Гумилёва и присоединился к его этнографической экспедиции в Сомали и Абиссинию. После амнистии по случаю 300 лет Дома Романовых вернулся на родину.
В Февральскую примкнул к левым эсерам. После Февральской стал склоняться к большевикам.
В 1918 семья Нарбута подверглась нападению банды. Рана, полученная Нарбутом была серьёзной: пришлось ампутировать кисть левой руки.
Весной в 1918-го отправлен в Воронеж для организации советской печати. В 1919 издавал в Киеве журналы «Зори», «Красный офицер», «Солнце труда». В октябре 1919 года был арестован контрразведкой белых как коммунистический редактор. Освобождённый при налёте красной конницы, вступил в РКП(б).
В 1920 возглавил одесское отделение РОСТА, редактировал журналы, подружился с Багрицким, Олешей, Катаевым. В 1921–1922 гг. – заведующий УкРОСТА в Харькове.
В 1922 году отошёл от поэзии, работал в Москве в Наркомпросе. Основал и возглавил издательство «Земля и фабрика» («ЗИФ»), основал ежемесячник «Тридцать дней».
В 1928 исключён из партии за сокрытие обстоятельств, связанных с его пребыванием на юге во время гражданской войны, одновременно уволен со всех постов.
Жил литературной подёнщиной. В 1933 году вернулся к поэзии.
26 октября 1936 арестован по обвинению в пропаганде буржуазного национализма. Осуждён на 5 лет. Этапирован в пересыльный лагерь под Владивостоком, потом – в Магадан.
2 апреля 1938 года проходит по новому делу. 7 апреля тройка оформляет обвинительное заключение. И в свой день рождения 14 апреля 1938 года (он родился в 1888) Владимир Иванович Нарбут был расстрелян.
Первое его посмертное издание стихов вышло в Париже в 1983 году.
Вот его стихотворение «Совесть»:
Жизнь моя, как летопись, загублена, киноварь не вьётся по письму. Я и сам не знаю, почему мне рука вторая не отрублена… Разве мало мною крови пролито, мало перетуплено ножей? А в яру, а за курганом, в поле, до самой ночи поджидать гостей! Эти шеи, узкие и толстые, — как ужаки, потные, как вол, непреклонные, – рукой апостола Савла – за стволом ловил я ствол, Хвать – за горло, а другой – за ножичек (легонький, да кривенький ты мой), И бордовой застит очи тьмой, И тошнит в грудях, томит немножечко. А потом, трясясь от рясных судорог, кожу колупать из-под ногтей, И – опять в ярок, и ждать гостей на дороге, в город из-за хутора. Если всполошит что и запомнится, — задыхающийся соловей: от пронзительного белкой-скромницей детство в гущу юркнуло ветвей. И пришла чернявая, безусая (рукоять и губы набекрень) Муза с совестью (иль совесть с музою?) успокаивать мою мигрень. Шевелит отрубленною кистью, — червяками робкими пятью, — тянется к горячему питью, и, как Ева, прячется за листьями.* * *
Николай Григорьевич Шкляр (родился 14 апреля 1878 года) окончил могилёвскую гимназию и юридический факультет Московского университета.
В Москве принимал участие в литературном обществе «Среда» (туда входили Вересаев, Куприн, Горький, Бунин и другие). Особенно подружился с Буниным.
Его первые детские сказки были хорошо приняты и читателями, и профессионалами.
В 1922 году в Харькове в русском драматическом театре была поставлена первая пьеса Шкляра «Мыльные пузыри». Музыку к ней написал И.О. Дунаевский.
В 1934 году Шкляр – делегат Первого съезда советских писателей. Причём в архиве НКВД среди кулуарных записей есть и реплика Шкляра, где он говорит о пролетарской литературе как о мертвящем шаблоне.
За два года до смерти Шкляра (23 января 1952 года) его повесть «Свет» внесена в список запрещённой в СССР литературы. Формально: потому что в повести встречаются контрреволюционные частушки.
Кажется, сейчас интерес к творчеству Шкляра возрождается. В 2006 году Самарский студенческий театр представил премьеру – пьесу Шкляра «Бум и Юла».
А в 2011 году издательство «Покидышев и сыновья» выпустили аудиокнигу Шкляра «По дорогам сказок».
* * *
Владимир Иосифович Уфлянд в 1959 году провёл несколько месяцев в следственном изоляторе «Кресты» по обвинению в хулиганстве. Был рабочим сцены в Театральном институте, рабочим-оформителем в Эрмитаже. В 1964 году вместе с Михаилом Шемякиным, Владимиром Овчинниковым, Олегом Лягачёвым и Валерием Кравченко участвовал в запрещённой выставке художников-рабочих Эрмитажа.
Позже зарабатывал литературной подёнщиной: писал тексты детских телепередач, музыкальные куплеты. Работал в группе дубляжа на «Ленфильме».
В 1954–1956 посещал литобъединение филфака ЛГУ, участвовал в конференции молодых писателей Северо-Запада. И несколько его стихотворений вошло в её итоговый сборник «Первая встреча».
Но всё. Больше в официальной печати его не публиковали. Он ушёл в самиздат. Печатался в «Синтаксисе» (Гинзбурга), «Часах», «Обводном канале», «Митькином журнале». Вместе с одноклассниками Михаилом Ерёминым и Леонидом Виноградовым, а также с Сергеем Кулле образовал поэтическую филологическую школу. В 1977 году их стихи вышли в самиздатовском сборнике «УВЕК», названном по первым буквам фамилий участников.
А настоящую первую книгу стихов «Тексты» издал в США в 1978 году. После перестройки издал в России ещё 3 книги стихов. И книгу прозы «Если Бог пошлёт мне читателей» (2000), за которую автор награждён премией Сергея Довлатова.
Но он не бедствовал. Постоянно писал стихи для детей и детских театров. Написал стихи к либретто «Волшебник страны Оз», к либретто по книге Корчака о короле Матиуше. Много переводил для дубляжа фильмов.
Умер Владимир Иосифович 14 апреля 2007 года. Родился 22 января 1937-го.
15 АПРЕЛЯ
Пожалуй, первым поэтом Серебряного века, которого я прочитал в Ленинке (конец 50-х годов) много, много списал в тетрадку и многое выучил наизусть, был Николай Степанович Гумилёв (родился 15 апреля 1886 года).
Одно время это был мой любимый поэт.
Уже по стихам было видно, что он – большой любитель путешествий. Мне поначалу Гумилёв показался близким Киплингу с его воспеванием суровых боевых буден, с его отношением, так сказать, белого человека к миру.
«Господин президент, ваш слуга!» — Вы с поклоном промолвите быстро, Но взгляните: черней сапога Господин президент и министры. «Вы сегодня бледней, чем всегда!» — Позабывшись, вы скажете даме, И что дама ответит тогда, Догадайтесь, пожалуйста, сами.Или о добродушном вожде племени – хорошо отнёсшемуся к поэту – «жирном негре»:
Я бельгийский ему подарил пистолет И портрет моего государя.Или – и вовсе. Из стихотворения «Либерия»:
Европеец один уверял, Президентом за что-то обижен, Что большой шимпанзе потерял Путь назад средь окраинных хижин. Он не струсил и, пёстрым платком Скрыв стыдливо живот волосатый, В президентский отправился дом, Президент отлучился куда-то. Там размахивал палкой своей, Бил посуду, шатался, как пьяный, И, неузнана целых пять дней, Управляла страной обезьяна.Я с детства обожавший гитару, готов был предать и её, читая чеканные строки Гумилёва:
Да, я знаю, я вам не пара, Я пришел из другой страны, И мне нравится не гитара, А дикарский напев зурны.Хотя не «дикарский напев зурны» мне нравился, а то, как величественно он подан в стихотворении Гумилёва.
Значительно позже я узнал его биографию. И зауважал не за придуманную в стихах, а за самую что ни на есть настоящую храбрость.
В Первую Мировую он был вольноопределяющимся в Лейб-гвардии Уланском полку. За ночную разведку перед первым же сражением в Польше он был награждён знаком отличия Георгиевского креста 4-й степени и повышен в звании до ефрейтора. А ещё через несколько дней он был произведён в унтер-офицеры.
В 1915-м он воевал в Западной Украине. Здесь получил новый знак отличия Георгиевского креста.
И в третий раз он получил знак отличия Георгиевского креста 3-й степени в том же 1915 году. Произведён в прапорщики.
В 1917-м он воюет в Европе: в Англии, во Франции, где проходил службу в качестве адъютанта при комиссаре Временного правительства.
10 апреля 1918 года Гумилёв уезжает в Советскую Россию. Отговаривающим его от этого шага друзьям он отвечает: «Я думаю, что большевики не опаснее львов». А львов Гумилёв насмотрелся в двух своих обширных поездках по Африке. На львов он охотился. Знал из повадки.
Но он не знал повадок большевиков. И потому оказался не прав.
Он пытался быть абсолютно честным и в большевистской России. Был верен своему девизу: всегда говорить только правду. Поэтому на записку «каковы ваши политические убеждения?», переданную ему из зала на одном из поэтических вечеров, ответил: «Я – убеждённый монархист».
Его арестовали в 1921-м по подозрению в участии в заговоре «Петроградской военной организации В.Н. Таганцева». Друзья хлопотали за него. М. Лозинский и Н. Оцуп всё делали, чтобы выручить поэта. Говорили, что Горький пытается по этому поводу связаться с Лениным. Но всё было напрасно. 24 августа 1921 года он был расстрелян. Ему было 35 лет.
Есть у него стихотворение «Рабочий». Считается, что в нём он предсказал свою смерть. Хотя написано оно было ещё до большевистского переворота – в 1916 году:
Он стоит пред раскалённым горном, Невысокий старый человек. Взгляд спокойный кажется покорным От миганья красноватых век. Все товарищи его заснули, Только он один ещё не спит: Всё он занят отливаньем пули, Что меня с землёю разлучит. Кончил, и глаза повеселели. Возвращается. Блестит луна. Дома ждёт его в большой постели Сонная и тёплая жена. Пуля, им отлитая, просвищет Над седою, вспененной Двиной, Пуля, им отлитая, отыщет Грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую, Прошлое увижу наяву, Кровь ключом захлещет на сухую, Пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой За недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой Невысокий старый человек.Между тем, вот какие стихи нацарапаны на стене камеры Петропавловской крепости, где провёл ночь перед расстрелом Гумилёв:
В час вечерний, в час заката Каравеллою крылатой Проплывает Петроград… И горит на рдяном диске Ангел твой на обелиске, Словно солнца младший брат. Я не трушу, я спокоен, Я – поэт, моряк и воин, Не поддамся палачу. Пусть клеймит клеймом позорным — Знаю, сгустком крови чёрным За свободу я плачу. Но за стих и за отвагу, За сонеты и за шпагу — Знаю – город гордый мой В час вечерний, в час заката Каравеллою крылатой Отвезёт меня домой.Образы стихотворения действительно похожи на гумилевские. Но был ли он его автором?
* * *
«Мой первый друг, мой друг бесценный!» – пишет А.С. Пушкин своему другу-лицеисту в стихах, посланных в Читинский острог. Там отбывал каторгу (поначалу объявленную пожизненной, заменившую смертную казнь) Иван Иванович Пущин.
А ведь мог Пущин избежать наказания. Он вышел на площадь 14 декабря 1825 года. Но смог уйти домой, куда на следующий день пришёл к нему тоже друг-лицеист Александр Михайлович Горчаков, будущий великий государственный деятель, последний канцлер Российской империи (с 1867). А тогда молодой Горчаков привёз Пущину заполненный заграничный паспорт, уговаривая немедленно бежать из Петербурга на отходившем пироскафе (пароходе).
Пущин отказался. Он ответил другу, что не может не разделить участи своих товарищей по несчастью. И разделил их участь. Уже 16 декабря его арестовали.
Тому, кто хочет добротной литературы о Пущине, советую прочесть книгу Натана Эйдельмана «Большой Жанно».
Ну, а вкратце его судьба сложилась так.
Смертный, как я уже сказал, приговор, заменённый императором пожизненной каторгой. Каторгу он отбывал в Читинском остроге и Петровском заводе.
По прошествии 20 лет был поселён сперва в Туринске, потом – в Ялуторовске, где отчасти пристрастился к сельскому хозяйству.
В 1856 году новый император возвращает его из ссылки.
Он откликается на просьбу Евгения Ивановича Якушкина, собиравшего воспоминания декабристов, и пишет, в частности, «Записки о дружеских связях с Пушкиным» (1859) и «Письма из Ялуторовска» (1845) к Энгельгардту, сообщающие сведения о своей жизни там и о его окружении (напечатаны в 1879).
22 мая 1857 года Пущин женился на Наталье Дмитриевне Апухтиной, вдове декабриста Михаила Александровича Фонвизина. И переезжает жить в имении жены Марьино в Бронницах. Увы, он очень болен. И врачи с этим ничего поделать не могут.
15 апреля 1859 года он скончался (родился 15 мая 1798-го).
* * *
В 1851 году в журнале «Московитянин» за подписью Эраст Благонравов появлялись литературные фельетоны с вставленными туда порой остроумными литературными пародиями. В основном Благонравов полемизировал с «Современником». Через какое-то время выяснилось, что под «благонравным» псевдонимом укрывался Борис Николаевич Алмазов.
Алмазов входил в так называемую молодую редакцию «Москвитянина» вместе с А.Н. Островским, Писемским, Аполлоном Григорьевым. Кроме фельетонов он писал и обозрения текущей журналистики.
Просуществовал «Москвитянин» недолго. И Алмазов стал печататься в разных журналах. Свои большие статьи «О поэзии Пушкина» и «Взгляд на русскую литературу 1858 года» опубликовал в сборнике «Утро» (1858), статью о Писемском – в «Русском архиве» (1875).
Но прославился Алмазов в основном не как критик, а как поэт. Стиховой формой он владел совершенно. Писал не только юмористические и сатирические стихотворения, доставившие ему известность. Но укрепили её переводы Шиллера, Гёте, Шенье, Мюссе, средневековой французской и испанской литературы.
Наверное, правильней эти переводы называть переложениями, так как о буквальной передаче подлинника Алмазов не заботился. Он сохранял его основную мысль.
По своим взглядам был близок славянофилам, написал поэму «Крещение Владимира» (1874).
В связи с покушением Каракозова на Александра II в 1866 году написал стихотворение «Русскому Царю», где выразил благодарность Богу за чудесное избавление императора от смерти.
Вот его пародия на Пушкина:
Дар прекрасный, дар широкий — Крепостные мне даны! Но почто по воле рока Быть отпущены должны? Кто? зачем? к какому чёрту Мне дворянство даровал? Тело приучил к комфорту, Ум гордыней обуял? Цели нет передо мною; Праздны думы, пуст карман, И томит меня тоскою Сложный выкупа туман.Умер Борис Николаевич 15 апреля 1876 года. Родился 8 ноября 1827-го.
* * *
Василий Васильевич Сиповский в основном известен как автор учебников и хрестоматий по русской словесности. Составляя их, он исходил из убеждённости, что «история литературы, построенная только на крупных именах (Пушкин, Гоголь, Лермонтов и пр.) напоминает собою ряд верстовых столбов, которые одиноко торчат вдоль дороги, слабо связанные тонкими проволоками. История же литературы, построенная на изучении массового творчества, – это живая роща, в которой живут настоящей органической жизнью деревья всех пород, всех величин – от гигантов, до мелких кустиков».
Его «История русской словесности» выдержала 8 изданий (последнее – в 1917 году). Двумя изданиями в 1906-м и 1911-м вышла «История литературы как наука». Кроме того, он автор «Очерков из истории русского романа 18 века» в 2 томах (1909–1910), «Влияния «Вертера» на русский роман XVIII столетия» (1906), фундаментальной работы «Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника» (1899) и оригинальной «Онегин, Татьяна, Ленский» (1899). В советское время он издал «Лекции по истории русской литературы» (1921–1922) и «Поэзия народа. Пролетарская и крестьянская лирика наших дней» (1923).
В 1921 году избран членом-корреспондентом Академии наук.
Надо сказать, что он весьма оригинально доказывал правильность своих литературоведческих теорий, написав под псевдонимом «Новодворский В.» два романа «Путешествие Эраста Крутолобова в Москву и Петербург в 30-х годах XIX столетия» (1929) и «Коронка в пиках до валета» (1930).
Эти романы прежде всего принадлежат к массовой литературе, а мы уже сказали, как ценил её Сиповский. Оба романа насквозь цитатны: в героях узнаются их литературные предшественники – и как социальные типы, и как родня тем или иным литературным персонажам.
Всё же следует признать, что Василий Васильевич, родившийся 15 апреля 1872 года (умер 23 октября 1930 года), литературного имени себе не сделал. Романы его сконструированы по лекалам, а литературоведческие работы открытий в себе не несли.
16 АПРЕЛЯ
В 1997 году режиссёр Эльдар Рязанов снял документальный фильм «Единица порядочности – один галлай». Все, знавшие Марка Лазаревича Галлая (родился 16 апреля 1914 года), подтвердят, что название полностью соответствует характеристике этого отважного лётчика и интеллигентного человека.
Он учился в Ленинградском институте инженеров Гражданского воздушного флота (преобразован в Военно-воздушную инженерную академию им. А.Ф. Можайского), окончил Ленинградский политехнический институт и Школу пилотов ленинградского аэроклуба. С 1935 летал на планёрах и прыгал с парашютом. С 1937 работал инженером в ЦАГИ, без отрыва от производства окончил лётную школу и в сентябре 1937 года стал лётчиком-испытателем ЦАГИ.
В июле 1941-го он – лётчик-испытатель 2 отдельной истребительной авиаэскадрильи ПВО Москвы. Во время первого ночного полёта сбил самолёт «Дорнье-215», за что награждён орденом Красного Знамени. В январе-марте 1942 он на Калининском фронте заместитель командира эскадрильи бомбардировочного авиаполка. В июне 1943 года был сбит над оккупированной территорией в районе Брянска и выпрыгнул с парашютом. Сумел пробраться к партизанам, которые вернули его в часть.
В 1950 году, когда государственный антисемитизм набрал колоссальный вес, Галлая уволили из ЛИИ имени Громова. 3 года он лётчик-испытатель НИИ-17, а затем с 1953 по 1958 – лётчик-испытатель ОКБ В. Мясищева. Здесь он освоил 125 типов самолётов, вертолётов и планёров. В 1957 году ему присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1958 уволен в запас из Вооружённых сил СССР в звании полковника. Но в 1960–1961 годах он инженер-методист первого отряда космонавтов – «гагаринской шестёрки». Говорят что знаменитое гагаринское «Поехали!» перенято космонавтом у Галлая. «Ну что, поехали» – говорил тот перед началом упражнений. «Поехали!» – отвечали ему.
Я познакомился с Марком Лазаревичем в одной поездке. Мне импонировала его безукоризненная воспитанность.
Вернувшись, я взял почитать его книгу «Через невидимые барьеры» и обрадовался: Галлай оказывался очень хорошим писателем.
И последующие книги не разочаровывают: «Испытано в небе», «Авиаторы об авиации», «Первый бой мы выиграли», «С человеком на борту», «Огонь на себя» и уже посмертная «Я думал: это давно забыто» (2000).
Умер Марк Лазаревич 14 июля 1998 года.
* * *
Об Игоре Сунеровиче Меламеде многие литераторы вспоминают с удовольствием. Он писал стихи и критические статьи. И то и то делал прекрасно.
Меня, например, просто восхитило такое объяснение трагедии Пушкина:
«Но позвольте, возразят мне, – у Пушкина всё же речь не о благодати, а о «бессмертном гении» Моцарта! Его-то и желал бы стяжать Сальери в своей безумной распре с небесами! Ведь это как будто не совсем одно и то же?
Пушкин, чётко разграничивший «божественный глагол» и «чуткий слух», конечно же, знал, сколь соблазнительно отождествлять благодать даже со «священным даром» – «бессмертным гением». Всё прояснится, если мы спросим себя, кто отождествляет их у Пушкина в своём монологе? И окажется, что Сальери, осознавший неземное происхождение музыки Моцарта, так и не смог понять, что чудо не стяжается ни моленьями, ни самоотверженьем, ни его собственным талантом, с помощью которого он в «искусстве безграничном достигнул степени высокой». И – ни «бессмертным гением» Моцарта – мог бы добавить Пушкин».
Ну, а что до его поэзии, то он оставил нам много прекрасных произведений. Увы, именно оставил. Потому что сам недавно – 16 апреля 2014 года (родился 14 июля 1961) – скончался. Вот его стихотворение «В больнице»:
Если б разбился этот сосуд скудельный, трещину давший, – где бы, душа, была ты? Как в скорлупе, здесь каждый живёт отдельной болью своею в белом аду палаты. Нет ничего на свете печальней тела. Нет ничего божественней и блаженней боли, дошедшей до своего предела, этих её снотворных изнеможений. Чёрным деревьям в окнах тебя не жалко, где отчуждённо, точно в иной отчизне, падает снег. И глухо гремит каталка. И коридор больничный длиннее жизни.* * *
Дмитрий Николаевич Блудов (родился 16 апреля 1785 года), организовав с несколькими карамзинистами литературную группу «Арзамас» и вступив в неё, взял себе кличку «Кассандра» по имени героя Жуковского (члены «Арзамаса» договорились, что каждый из собратьев должен выбрать себе имя какого-либо персонажа произведения Жуковского и называться этим именем). После смерти Карамзина Блудов готовил к печати неоконченный том «Истории государства Российского».
Надо сказать, что перед смертью Карамзин указал императору Николаю на Блудова как на человека консервативного, но просвещённого, – соответствующего императорским представлениям о высшем чиновничестве.
Да, Блудов преклонялся перед просветительской философией XVIII века и в то же время с ненавистью относился к французской революции. Это ещё больше укрепилось в нём, когда он находился на дипломатической службе в конституционных монархиях Швеции и Англии.
Вступив на престол, Николай назначил Блудова делопроизводителем верховного суда над декабристами. Составление доклада по этому делу прибавило Блудову благосклонности со стороны монарха и было разгромлено заочно приговорённым Н.И. Тургеневым в книге «Россия и русские» (Париж, 1847).
По окончании суда Блудов становится статс-секретарём и почти тут же товарищем министра народного просвещения. Одновременно он получил должность главноуправляющего делами московских исповеданий. В 1828 году Николай объявил ему свою особую благосклонность по поводу устройства Греко-униатских церквей в России и пожаловал его в тайные советники.
В 1830 Блудов в отсутствии Дашкова несколько месяцев управлял министерством юстиции, с 1832-го – министерством внутренних дел, с 1837-го министерством юстиции до декабря 1939-го. Пожалованный в действительные тайные советники, назначен главноуправляющим II отделением Собственной Его Императорского величества Канцелярии.
С 16 лет Блудов был влюблён в 24-летнюю фрейлину красавицу Анну Андреевну Щербатову. Через несколько лет достигнув высокого положения в свете, Блудов сделал предложение. Но мать Щербатовой, набожная, суровая и надменная, отказывала женихам. Отказала и Блудову. Однако мать главнокомандующего русской армии в войне с турками Николая Михайловича Каменского, заменившая Блудову покойную мать, сумела уговорить Антонину Войновну Щербатову отдать руку дочери Блудову. Не последним аргументом стало и быстрое продвижение Блудова по службе.
Под редакцией Блудова как главноуправляюшего II отделением вышли два издания Свода Законов. Он был одним из составителей Уложения о наказаниях 1845 года, которое во многом упорядочило карательную систему.
А во время революционных выступлений 1848 года сумел отговорить Николая от закрытия университетов, подтверждая свою репутацию друга просвещения.
При Александре II он был назначен президентом Академии наук (1855), и, наконец, Председателем Государственного комитета и комитета министров (1862). Стал таким образом первым министром при дворе.
На этом посту 2 марта 1864 года он умер.
* * *
Драматург Павел Исаакович Павловский (родился 16 апреля 1922 года) обладал зычным голосом. Он работал напротив нас по коридору в газете «Литературная Россия». И вот его решили разыграть.
Один из сотрудников, заметив, что Павловский пошёл в секретариат, позвонил туда и, притворяясь женщиной, попросил Павла Исааковича, которому сообщил, что он (она) – Мариэтта Шагинян, что нужно срочно выслать машину к ней за материалом, который он (она) написал(а) сегодня ночью для «Литературной России». Павел, ошалев от радости, стал отвечать. На что собеседник (ница) всё время говорила: «Не слышу». В конце концов, Павловский загремел таким голосом, что в коридор сбежались сотрудники двух газет. Положив трубку, Павловский ринулся к главному редактору, чтобы сообщить ему ошеломляющую новость. Но главный попросил ответственного секретаря Лейкина перепроверить: позвонить Шагинян. Павловский места себе не находил от злости.
А вообще он был человеком добродушным. Рассказывал, что одно время Чаковский приглашал его к нам в отдел литературы. Но честно предупредил, что карьерного роста не будет.
А приглашал потому, что оказался соавтором Павловского. «Свет далёкой звезды», «Время тревог», «Невеста» существуют не только как книги А.Б. Чаковского, но и как пьесы, написанные соавторами. Такое соавторство Павловского радовало. Каждая пьеса оказывалась на сценах многих театров страны. Потом уже Павловский написал пьесу и с В. Кожевниковым «Павел Пугачёв и другие».
Не помню, каким образом мне удалось отвертеться, чтобы не читать книгу пьес Павла Исааковича под названием «Тайна Пушкина». Кажется, сказал ему, что пушкинскими тайнами я не интересуюсь. Но он не обиделся. Нашёл какого-то другого рецензента на эту книгу.
* * *
Моисея Павловича Венгрова (родился 16 апреля 1894 года), наверное, удобнее будет именовать по псевдониму, который он выбрал: Натан Венгров. Он детский поэт, писатель, литературовед, критик. Но наиболее отличился на служебном поприще. В 1919 году стал работать под руководством А. Луначарского, которого знал с 1916 года, и Н. Крупской в Наркомате просвещения. В 1921–1923 годах был главным редактором журнала «Народное просвещение». В 1924–1925 гг. – уполномоченный Наркомпроса по Сибири, основатель и председатель Сибирского краевого издательства, один из составителей букваря и книг для чтения в сибирской школе. В 1926–1928 году председатель Государственного Учёного Совета Наркомпроса РСФСР. Одновременно заведует отделом детской литературы Госиздата, организовывает и редактирует журнал «Ёж». В 1932–1936 – главный редактор журнала «Мурзилка».
Он стал руководителем детской секции оргкомитета Союза писателей. Сблизился с Горьким, по инициативе которого и при активном участии Венгрова было создано издательство детской литературы «Детгиз».
Но в 1937-м его карьерный рост закончен: он получает грозное партийное предупреждение за «притупление партбдительности и неразоблачение врага народа».
Нет, он не был арестован. Но серьёзно понижен в должности: его поначалу взяли в Институт мировой литературы учёным секретарём, но потом перевели на низшую ступень – младшим научным сотрудником. Там за несколько лет дорос до старшего научного сотрудника. В трёхтомной «Истории русской советской литературы», выпущенной ИМЛИ, Натан Венгров – автор очерков о многих известных поэтах и писателей. В это время пишет книги о Д. Фурманове, Н. Островском. В соавторстве издаёт книгу для детей «Жизнь Н. Островского», выдержавшую несколько изданий.
В соавторстве же с Л.Н. Тимофеевым выпускает «Краткий словарь литературоведческих терминов», который мы, студенты МГУ, очень ценили.
Работал над монографией «Путь Александра Блока». Бурно спорил с редакторами книги. После одного из таких споров сын увёз Венгрова на дачу, где он скоропостижно скончался 21 августа 1962 года. Монография была издана посмертно в 1963-м.
А ведь когда-то был довольно известным детским поэтом. Его книги иллюстрировали В. Ермолаева, Ю. Анненков, Н. Альтман.
Правда, во всём Интернете я нашёл всего одно его стихотворение. Не бог знает что, но близко к обэриутам:
Две маленькие блошки, Две блошки быстроножки, Сегодня поутру — Затеяли игру. Играли, танцевали, Ныряли в одеяле — И скок себе и скок — На Викушкин чулок. Лежал чулок на стуле, Здесь блошки отдохнули. И дальше прыг-прыг На нянин воротник. Вот здесь пошло веселье: На ухо няне сели — И ну играть, скакать, На седенькую прядь. Вдруг — Караул! Няня – за ухо (Ишь ты – старуха!) Блошек ловить. Хватать. Давить. А те из-под рук Под чулок и — молчок.Ну, не знаю. Может, и правильно, что Натан Венгров бросил писать такие стихи!
17 АПРЕЛЯ
С юности я очень люблю, как разыгрывают Ольга Андровская и Михаил Жаров одноактную чеховскую пьесу «Медведь», которая благодаря режиссёру Исидору Анненскому стала короткометражным фильмом.
Сейчас прочитал, что Надежда Николаевна Бромлей (родилась 17 апреля 1884 года) поставила свою пьесу «Медведь» за четыре года до фильма Анненского в Ленинградском Академическом театре драмы имени Пушкина.
Успех эта драматическая шутка Чехова вызвала сразу, с первой постановки. И потом, где бы её ни ставили, она неизменно нравилась зрителям.
Но любопытно: оказала ли Бромлей влияние на Анненского? Ведь она поставила «Медведя» в собственной инсценировке.
Сама она с 1918 выступала на сцене 1-й студии МХАТа, а с 1924 – на сцене созданного на основе этой студии МХАТа-2.
В 1922 году её собственный трагифарс «Архангел Михаил» начали репетировать её муж Борис Михайлович Сушкевич и Е.Б. Вахтангов, который мечтал сыграть в нём главную роль художника. Но Вахтангов заболел, роль передали М. Чехову. Прошло пять генеральных репетиций, однако на сцену спектакль не выпустили. В 1925 году Сушкевич на сцене МХАТа-2 поставил пьесу Бромлей «Король Квадратной республики» – о революции в некой фантастической стране. Однако спектакль продержался недолго: ни пресса, ни зрители его не поддержали.
После этого Бромлей уехала в Ленинград.
С 1934 по 1941 работала в ленинградском Академическом театре драмы им. Пушкина. Кроме чеховского «Медведя», поставила «Петра I» по А.Н. Толстому, где блистательно сыграла Екатерину, «Зыковы» по пьесе Горького (1940). В 1944–1956 Надежда Николаевна – режиссёр Ленинградского Нового театра. «Заговор Фиеско» (1939) и «Дон Карлоса» (1950) она поставила в собственном переводе.
Как видим, она была не только актрисой и режиссёром, она занималась литературой. И не только переводом. Главные книги, по которым она запомнилась читателям, – две фантастические повести: «Из записок последнего бога» (1927), «Потомок Гаргантюа» (1930).
Умерла Надежда Николаевна Бромлей 25 мая 1966 года. Увы, до сих пор не напечатаны произведения, оставшиеся в рукописи. Например, «Автобиография (1889–1920)». Удивительно, что на эту книгу не находится издатель.
* * *
С Мишей Таничем меня познакомил писатель Лев Кривенко. Они дружили со времени женитьбы Миши на Лиде Козловой, с которой была знакома жена Лёвы Кривенко Лёля.
А до Лиды Танич прожил весьма напряжённую жизнь. Его отец был расстрелян в 1938 году, мать арестована, и Танич поселился у деда – отца матери. Кончил школу и аттестат получил 22 июня 1941 года.
С июня 1944 Михаил Исаевич Танич, окончив Тбилисское артиллерийское училище, находится в действующей армии. Прошёл дорогами войны от Белоруссии до Эльбы. Был ранен.
После войны учился в Ростовском инженерно-строительном институте, который окончить не смог, – арестовали. В дружеской компании он сказал, что немецкие радиоприёмники лучше наших. Кто-то донёс.
6 лет провёл в тюрьме, потом в Соликамском лагере на лесоповале.
После освобождения жил на Сахалине. Развёлся с первой женой, которая, как он пишет, не ждала его, женился на Лиде. С ней, получив в 1956 году реабилитацию, уехал в Москву.
В начале 1960-х в коридоре «Московского комсомольца» он встретил композитора Яна Френкеля, и тот написал песню «Текстильный городок» на стихи Танича. Песню исполнила Майя Кристалинская, и она (песня) быстро стала популярной. На стихи Танича обратили внимание другие известные композиторы Н. Богословский, А. Островский, О. Фельцман, Э. Колмановский, В. Шаинский. Вместе с Левоном Мерабовым Танич написал песню «Робот», с которой дебютировала на радио юная Алла Пугачёва.
В середине 1980-х Танич сочинял для самых знаменитых тогда композиторов Р. Паулса и Д. Тухманова.
В дальнейшем Танич организовал группу «Лесоповал», лидером которой был композитор и певец Сергей Коржуков, трагически погибший в 1994 году.
Танич выпустил почти 20 стихотворных сборников. Написал мемуарную книгу «Играла музыка в саду» (2000). Даже не написал, а надиктовал, потому что был тяжело болен.
Мне он запомнился тем, что никогда у Лёвы Кривенко не пел своих песен, а всегда – песни Александра Галича, которого безумно любил. Собственно, почти весь репертуар Галича я знаю от Танича. Хотя был знаком и с Галичем. Но столько песен, сколько знал Танич, возможно, Галич не помнил и сам.
Умер Миша Танич 17 апреля 2008 года. Родился 15 сентября 1923.
* * *
Ну, не забавно ли? С детства мне нравилась книга «Трое в серых шинелях», которую я воспринимал как фольклор: начисто забыл фамилию автора. К тому же в детстве мы любили петь: «А навстречу им из проулочка / Трое в серых шинелях идут: / «Дай-ка, друг, ты нам папиросочку, / Не сочти-ка ты это за труд!». Так что эти «трое в серых шинелях» оказывались персонажами блатной песенки.
И что же я узнаю?
Никакого фольклора. Роман «Трое в серых шинелях» имеет автора – Владимира Анатольевича Добровольского (родился 17 апреля 1918). Причём это не просто роман, а роман-ответ на роман Дж. Б. Пристли «Трое в серых костюмах», переведённый у нас в 1946 году и показывающий глубокое разочарование фронтовиков, пришедших домой. Роман Добровольского тоже касается врастания студентов, пришедших с фронта в мирную жизнь.
Оказывается, Добровольский написал ещё с десяток произведений.
Но прославил его роман «Трое в одном городе». Он получил за него сталинскую премию 3 степени. А в соавторстве с Я. Смоляком переработал его в пьесу «Яблоневая ветка», поставленную в 1951 году.
Умер Добровольский в 2003 году.
18 АПРЕЛЯ
В одну из дискуссий о поэзии, которую вела «Литературная газета» и за которую отвечал я, захотела вмешаться поэтесса Татьяна Глушкова.
Она недавно выпустила свою первую книгу, где подражала одновременно своей землячке Юнне Мориц и Белле Ахмадулиной, но особых успехов не добилась. Книжечка вышла довольно поздно и прошла почти незамеченной.
Возможно, это её и озлобило. Она бросилась в литературоведение. Начитанная и самоуверенная, она, так сказать, к штыку приравняла перо, разящее и колющее.
Поначалу её статьи заметили. Но Глушкова, со своей неразборчивой беспощадностью, повторялась, и постепенно интерес к её статьям стал падать. А интереса к Глушковой-поэту никогда и не было. Это повысило градус и без того горячей глушковской злобы.
Короче, когда она принесла статью в газету, зам главного редактора Кривицкий сперва печатать её отказывался. «Пусть смягчит как-нибудь тон», – говорил он.
Угрожая, Глушкова умела быть убедительной, а Кривицкий был пуглив. После разговора с ней он свои возражения снял: «Пусть печатает!»
В статье она набросилась среди прочих на двух моих приятелей – критика Станислава Рассадина и поэта Владимира Соколова.
Рассадин уже напечатал статью в этой дискуссии, ответить ей не мог, а Соколов сказал мне, что комедию ломать он Глушковой не даст.
И не дал. Он, живший в соседнем подъезде, разбудил меня в два часа ночи и прочитал свою статью по телефону. Я сказал, что завтра утром перед работой я у него её заберу.
– А если сейчас? – спросил он.
– Сейчас два часа ночи, – сказал я.
– Давай по-гусарски, – предложил Володя. – Иди ко мне. Почитаем вместе и отметим это дело.
Может, в другой ситуации я бы и отказался. Но, услышав, как прочитал он по телефону весьма убедительную филиппику в адрес «Кожинова, Куняева и примкнувшей к ним Глушковой», я понял, что он не просто публично рвёт со всеми бывшими дружками, но ощущает это как поворотный момент в своей биографии.
Дверь в соколовскую квартиру запиралась только, когда в доме находилась жена Володи Марианна. В другое время можно было, позвонив, толкать дверь и входить. Хозяин тебя не встречал. Он сидел или лежал на любимом своём диване перед никогда не выключавшимся телевизором. Когда приходили гости, Володя его приглушал.
Сначала он снова прочитал мне статью. Потом заставил прочитать её меня, чтобы уловить ухом фальшь. Наконец, работу над статьёй мы закончили.
– Сходи на кухню, – попросил меня Соколов. – Возьми там хлеба, огурцов и чего хочешь в холодильнике и тащи сюда.
Пока не приходила Марианна, посуду никто не мыл. Её скапливалось довольно много.
– Захвати минералки, – прокричал Володя. – И стаканы.
Стаканы пришлось отмывать.
– По-гусарски, – сказал Соколов, когда еда была нарезана и разложена по отмытым мной тарелкам, а бокалы извлечены из горки. – Влезь на лестницу и достань с верхней полки за двенадцатым томом Толстого.
Сам Володя ходил, опираясь на палку. Ноги у него болели. Болезнь была опасная. Из костей уходила жидкость. Врачи просили его бросить курить. Но Соколов этого сделать так и не смог.
Я влез по приставленной к книжным полкам лестнице. Том Толстого прикрывал большую бутылку «Посольской».
Сразу скажу, что ею мы не ограничились. Ночь была длинная, и мне пришлось ещё пару раз передвигать лестницу и шарить за названными Соколовым книгами. Память у него оказалась отменной.
Сумбурный поначалу разговор постепенно выстроился.
– А ты заметил, – спросил Володя, – что Евтушенко и Куняев похожи друг на друга, как разнояйцовые близнецы?
– В каком смысле? – удивился я.
– В смысле их стихов, – пояснил Соколов. – У обоих нет того, что Толстой назвал лирической дерзостью, когда говорил о Фете.
– Ну, – сказал я, – она мало у кого есть. Толстой ведь определил, что лирическая дерзость – это свойство великих поэтов.
– Великих-невеликих, но у больших она есть! – не согласился с Толстым Володя. – А у Жени и Стаса пороху не хватает, чтобы стать большими. Они похоже начинают стихи и похоже заканчивают.
– Начинает Евтушенко обычно броско, – задумался я.
– И Куняев броско, – Соколов взял книгу и прочёл несколько начальных кунявских строф из разных стихотворений. – Чувствуешь, как мощно?
Звучало действительно обещающе.
– И что потом? – спросил Володя. – Кисель, размазня! Многословие, суесловие, какая-нибудь простенькая мораль, как в басне.
– Потому что оба публицисты в стихах, – сказал я. – Таких сейчас много.
– Рифмованной публицистики пруд пруди, – согласился Соколов. – Но таких, как Евтушенко и Куняев – только они. Причём очень похожи друг на друга. Оба были наделены даром и оба его профукали. Так и не научились удерживать в себе лирическое напряжение.
– «Учусь удерживать вниманье долгих дум», – процитировал я.
– Кто это? – спросил Соколов.
– Пушкин, – отвечаю. – Стихотворение «Чаадаеву». 1821 год. А после – в 1833-м, в «Осени»: «И думы долгие в душе своей питаю».
– Вот-вот, – обрадовано сказал Володя. – А эти оба расслабляются, и музыка уходит! Сколько раз – начинаешь читать, – в руках у Соколова всё ещё книга Куняева, он её листает, – смотришь, вдумываешься, а потом, – он бросает книгу на кровать, – чувствуешь, что тебя манили на голую блесну. А знаешь, почему они сломались?
– Почему?
– Потому что Женька вошёл в моду и стал зависеть от публики, – определил Соколов. – Гнал стих ей на потребу. А Стас ему безотчётно подражал. Оба погибли для поэзии. Оба стали, как тот пушкинский поэт, – и Володя со вкусом процитировал: – «В заботы суетного света / Он малодушно погружён». «Малодушно»! – Соколов даже зажмурился от удовольствия. – Волшебник Пушкин! Мало души! А кто, сталкиваясь с суетой, проявляет малодушие?
– Кто? – спросил я.
– Обыватель, – радостно ответил Володя. – Потому и банальны их концовки. Ради готовых ответов напрягаться не надо. Такие стихи, как выдохшееся пиво: пивом пахнет, а пьёшь – вода! Вот чего не понимают ни они, ни Кожинов, ни Глушкова.
В первой своей статье в «Вопросах литературы», которая понравилась многим, Глушкова, раздавая тычки и зуботычины критикам и литературоведам, поучала их, так сказать, собственным примером – анализом стихотворения Фета. Анализ очень понравился Кожинову:
– Он мне давал его читать, – сказал Соколов. – Я ему тогда же сказал, что Глушкова ничего не поняла в Фете, сделала его бесчеловечным эгоцентристом. Достань вон с той полки Фета.
Я достал. Соколов нашёл нужное стихотворение. Прочёл:
За гробом шла, шатаясь, мать. Надгробное рыданье! — Но мне казалось, что легко И самое страданье!– «Казалось», понимаешь? У него и перед этим, там, где разговор о «гробике розовом»: «И мне казалось, что душа / Парила молодая». Это зачарованность неземной высшей жизнью. Смотри:
Вдруг звуки стройно, как орган, Запели в отдаленьи; Невольно дрогнула душа При этом стройном пеньи. И шёл и рос поющий хор, — И непонятной силой В душе сливался лик небес С безмолвною могилой.– Понимаешь? Он сейчас парит над землёй. Он в других сферах. Причём не утверждает, что страданье легко, но предупреждает, что ему это кажется: «Мне казалось». А что пишет эта (он употребил непечатное слово)? Что Фет здесь эстетически наслаждается жизнью. Ах, (ещё одно непечатное слово)! Хоронила ли она кого-нибудь? Я так и сказал Диме: это не человеком написано, а нелюдью!
– Да, Дима и сам восхитился строчками Юрия Кузнецова: «Я пил из черепа отца / За правду на земле», – сказал я. – Кожинов объясняет это воскрешением древних символов, следованием обычаям предков.
– Предки, – усмехнулся Соколов, – когда-то человечину ели. Съедали самого храброго, убеждённые, что его храбрость перейдёт в них. Господи! – он обхватил голову руками, – до чего дошли? До воспевания людоедства!
Владимир Николаевич Соколов (родился 18 апреля 1928 года) так же, как я дружил одно время с Кожиновым, который написал неплохую музыку на некоторые его стихи, и так же, как и я, с Кожиновым раздружился. Кожинов прощал своим друзьям антисемитизм, а Соколов – нет. С другим нашим общим другом Юзом Алешковским Соколов был дружен до самого отъезда Юза. Они любили друг друга, и Юз нередко звонил ему из Америки. «За данью», – говорил он ему. И Соколов читал другу только что написанные стихи, которыми Юз неизменно восторгался.
Сейчас, оглядываясь назад, когда Володи давно уже нет на свете (он умер 24 января 1997 года), я думаю, что стихи Соколова, безусловно отмеченные традицией Фета, были лирическими акварельными рисунками, тонко нарисованные пером. Содержание этих поэтических акварелей было бездонным:
Вот мы с тобой и развенчаны. Время писать о любви… Русая девочка, женщина, Плакали те соловьи. Пахнет водою на острове Возле одной из церквей. Там не признал этой росстани Юный один соловей. Слушаю в зарослях, зарослях, Не позабыв ничего, Как удивительно в паузах Воздух поёт за него. Как он ликует божественно Там, где у розовых верб Тень твоя, милая женщина, Нежно идёт на ущерб. Истина не наказуема. Ты указала межу. Я ни о чем не скажу ему, Я ни о чем не скажу. Видишь, за облак барашковый, Тая, заплыл наконец Твой васильковый, ромашковый Неповторимый венец.* * *
Натан Яковлевич Эйдельман (родился 18 апреля 1930 года) в молодости чуть было не угодил в чекистскую мясорубку. После окончания университета, преподавал в школе, но ходил в кружок Льва Николаевича Краснопевцева, осуждавшего сталинизм с марксистской точки зрения. 9 человек было арестовано в 1957-м. Эйдельман отделался исключением из комсомола и увольнением из школы. Как рассказывали его друзья, слава о школьных уроках Эйдельмана облетела Москву. Возможно, поэтому ему преподавать больше не разрешили.
Он стал музейным работником. Защитил кандидатскую диссертацию. Начал печататься.
Впрочем, на этом начале стоит остановиться подробней. Приведу свидетельство одного из самых близких друзей Эйдельмана юриста Александра Борина:
«В нашей компании лучшего рассказчика, чем Натан, не было. Ему говорили: «Хватит болтать, бери перо и пиши». Но до пера и бумаги руки всё не доходили. Не знаю, сколько бы это еще продолжалось, но однажды Натан зашел в редакцию «Литературной газеты» к своему товарищу Юре Ханютину. В кабинете, кроме Ханютина, за маленьким столиком сидела незнакомая пожилая дама. Ханютин неожиданно спросил: «Тоник, а сейчас, в наше время, можно найти клад?» Натан возмутился: «Какой клад? Если ты имеешь в виду археологию…» И стал рассказывать. Ханютин слушал, кивал головой, а минут через пять неожиданно встал и вышел из комнаты. Натан растерянно замолчал. «Продолжайте», – строго сказала пожилая дама; это была стенографистка. И Тоник прочел ей великолепную лекцию про археологию. Через несколько дней Ханютин изучил стенограмму, нашел, что всё годится, надо только начало поставить в конец, а конец – в начало, и статья Натана о проблемах археологии была напечатана в «Литературной газете». Так появилась первая, насколько я помню, публикация Натана Яковлевича Эйдельмана. Было это уже во времена хрущёвской оттепели».
Можно сказать, что друзья разогрели Натана. Потому что после этого его статьи и исследования стали появляться с огромной скоростью. Где он их только ни печатал! В «Знании-силе», «Науке и религии», «Науке и жизни», в «Неделе», альманахе «Прометей». Это, разумеется, кроме толстых литературных журналах, таких, как «Новый мир», «Звезда», «Вопросы литературы». Разумеется, и кроме нашей «Литературной газеты».
Не говорю уже о книгах. Их Эйдельман написал и составил 28.
Читать его всегда было безумно интересно. В том числе и по моей отрасли – пушкинистике. Хотя занимались мы с Эйдельманом разными вещами: его интересовала жизнь поэта и его друзей, интересовали их политические взгляды. Я же занимался разбором пушкинских произведений.
А кроме того, Тонику особенно близка была тема декабризма, которая меня не очень интересовала.
И при всём при том, повторяю: читать Натана Яковлевича Эйдельмана, скончавшегося 29 ноября 1989 года, было очень интересно. Он вкусно писал.
19 АПРЕЛЯ
Первый рассказ Георгия Викторовича Адамовича (родился 19 апреля 1892 года) опубликован в 1915 году. А первая книга его стихов в 1916-м. Был близок Гумилёву, входил в «Цех поэтов».
После Октябрьской революции занимался переводами: Бодлер, Вольтер, Эридиа, поэмы Томаса Мура и Д. Байрона.
В 1923 году эмигрировал в Берлин, а оттуда – в Париж. С 1928 года в газете «Последние новости» вёл еженедельное книжное обозрение. Был одним из ведущих авторов журнала «Числа», редактировал журнал «Встречи» (1934).
В эмиграции он пишет мало стихов, но считается основателем группы, известной как «парижская нота». Г.П. Федотов назвал позицию Адамовича, поставившего «поиск правды во главу угла», «аскетическим странничеством».
В сентябре 1939 записался добровольцем на фронт, но после падения Франции был интернирован.
Считается, что Адамович прошёл краткий период увлечением СССР и Сталиным. Основываются на некоторых его статьях в западных просоветских изданиях и книге «Другая родина» (1947), написанной по-французски.
Главное в его литературном наследии – это критика. Адамович считал, что основным в искусстве является не вопрос: «как сделано», а вопрос: «зачем». Он мало кого оценивал до конца положительно. Пожалуй, безоговорочно – одного только Бунина. Молодого Набокова, например, он обвинял в подражании французским авторам. Набоков ему этого не простил: иронически изобразил Адамовича в романе «Дар» под именем Христофор Мортус.
37 лет Адамович сохранял интерес к масонству.
Стихи Адамовича, скончавшегося 21 февраля 1972 года, нерадостны:
Ни с кем не говори. Не пей вина. Оставь свой дом. Оставь жену и брата. Оставь людей. Твоя душа должна Почувствовать – к былому нет возврата. Былое надо разлюбить. Потом Настанет время разлюбить природу, И быть всё безразличней – день за днём, Неделю за неделей, год от году. И медленно умрут твои мечты. И будет тьма кругом. И в жизни новой Отчётливо тогда увидишь ты Крест деревянный и венец терновый.* * *
«Это мы с Фадеевым его из Иркутска выдернули, в большой секретариат перевели, – говорил нам с Игорем Тархановым, работавшим со мной в «Литературной газете», о Георгии Маркове поэт Алексей Сурков. – Тихий, аккуратный, исполнительный. Мы и взяли его с бумажками возиться. Думали ли мы, что он на самый верх вылезет? – здесь Сурков задумался и начал похохатывать: – А главное, думали ли мы, что он таким доверчивым ослом окажется: ему говорят, что он великий, и он верит в это! Понимаете? Ничтожный, никакой писатель верит, что он большой, крупный, что он – классик, ха-ха-ха!»
Смеялся Сурков напрасно. Подобные Маркову фигуры в российской действительности оказывались наверху довольно часто. Кем был Сталин поначалу? С точки зрения Ленина и его соратников, малозаметной скромной личностью. Потому они преспокойно пропустили его наверх: будет, дескать, опираться на более знаменитых, более известных партии и народу. А Брежнев? Та же история: звёзд с неба не хватает, выберем его, куда он без нас денется, что сможет?
Однажды в начале нулевых в газету «Литература», где я был редактором, прислали из какого-то сибирского городка урок по повести Маркова «Тростинка на ветру». Я удивился: неужели этого литератора до сих пор изучают в школе? Мне ответили, что в обязательном перечне его книг нет. Но учитель волен давать уроки по любому полюбившемуся ему произведению советского периода, начиная с 60-х годов XX века. То, что прислали урок по марковскому произведению, говорит, разумеется, о дурновкусии учителя, но куда больше о том, что прежде объявленного классиком Георгия Маркова в школе изучали, и учитель, не мудрствуя лукаво, обращается к старым наработкам.
Многих, конечно, покоробило, когда Черненко дал Маркову вторую звезду героя соцтруда. Всё-таки до этого дважды героями в искусстве были только Уланова и Шолохов. Уланова для всех была явлением бесспорным. «Тихий Дон» – роман выдающийся. Но Черненко обожал Брежнева и подражал ему. Успел в отмеренные ему год и двадцать пять дней правления создать легенду о себе, вообще не нюхавшем фронтового пороха, как о храбрейшем пограничнике (он в начале тридцатых отслужил год в армии). Наградил себя в свой день рождения третьей звездой героя (две других он получил из рук хозяина – Леонида Ильича). И осыпал звёздами земляков-сибиряков. В точности, как Брежнев днепропетровцев. Бюст дважды герою Маркову (родился 19 апреля 1911 года), по его просьбе, устанавливать на его родине не стали. Кажется, умилились его скромности. И, умиляясь, решили сделать Главному Писателю Советского Союза такой подарок, чтобы он никогда не пожалел о бюсте.
Но вот беда – в его биографии ничего героического не нашли: до войны – комсомольский функционер в Новосибирске, редактор сибирских комсомольских органов печати, во время войны – корреспондент газеты Забайкальского фронта, после войны – глава иркутской писательской организации, редактор альманаха. А потом, как и говорил нам с Тархановым Сурков, переведён в Москву, в секретариат Союза писателей.
Ничего героического! Но, как пародийно шутили в Одессе: «Вы хочете песен? Их есть у меня!» На родине Маркова открыли музей охотника-промысловика, где выставили соответствующие экспонаты: вот оружие, с которым промышлял охотник, вот – чучела зверей, которых он промышлял. Штука, однако, состояла в том, что охотник этот не был безымянным. Звали его Мокеем Марковым. Так что пригодились музею его дагерротипы, портреты и фотографии его семьи. Фотографий сына охотника Мокея, Георгия Мокеевича Маркова, разместили особенно много. Вот он на трибуне (сзади вожди ему аплодируют), вот в президиуме какого-то важного съезда (сам вместе с вождями аплодирует кому-то), вот – книги сына, вот – читатели сына, которым он надписывает свои книги. С одной, стало быть, стороны, музей вышел краеведческим. А с другой, он стал прижизненным мемориальным музеем славы дважды героя. Как говорил весёлый карманник Мустафа, чью роль в первом звуковом советском фильме «Путёвка в жизнь» великолепно сыграл мариец Йыван Кырля, погибший позже в сталинском лагере, «ловкость рук и никакого мошенства»!
А сколько книг о себе Марков наполучал при своей жизни! Не говорю уже о том, как часто звучали по радио инсценировки его романов! Или сколько было отснято кинофильмов и телефильмов по мотивам его произведений!
Так совпало, что однажды мы привычной нашей компанией приехали в дом творчества писателей в Дубулты и встретили там сына директора этого дома Вадика Крохина, который работал в «Литературной газете» фотокорреспондентом.
Вадик Крохин показал нам, что про свой дом творчества мы знаем далеко не всё.
Он пригласил нас поужинать на отделанной дорогими породами дерева мансарде. Так мы узнали, что над девятым этажом существует зал для приёмов. Говорили, что Георгий Мокеевич Марков приказывал отцу Вадика Крохина директору дома творчества Михаилу Львовичу Бауману накрывать для себя в этом зале, чтобы не спускаться со всеми в столовую. Во всяком случае, свидетельствую, что оказался однажды в Дубултах, когда туда приехали Марков с женой Агнией Александровной Кузнецовой, тоже писательницей и тоже лауреатом многочисленных премий, и никогда эту супружескую пару в столовой не видел. Хотя прогуливающейся вдоль моря встречал постоянно.
Ну, а уж о таком пустяке, что в Союз писателей приняли обеих его дочек, и говорить не приходится. Другое дело, что каждый член Союза писателей имеет право получить в Переделкине дачу от Литфонда. Ну, целиком дачу давали избранным, но иметь полдома тоже считалось большим везением: вход отдельный, удобства отдельно, мечта!
Но и полдачи дают, разумеется, далеко не всем. Очередь в Литфонде большая, многие стоят в ней всю жизнь, да так и не дожидаются дачного рая.
Но сами понимаете, что, имея такого мощного отца, даже подумать о том, чтобы встать в очередь смешно. У супругов Марковых – секретарей и лауреатов – две дачи рядом. Изловчились. Недалеко от родителей поселили и дочек. Имеют право: члены Союза писателей!
Умер Марков 26 сентября 1991 года. И это оказалось единственным его невезением. По его номенклатурному положению (уровень зампреда Совмина) ему полагалось Новодевичье. Но прошёл всего только один месяц с поражения путчистов. Позже номенклатура оправится, вернёт себе свои права. А в тот момент приходилось ужиматься. Вот почему лежит Марков на Троекуровском. Будем надеяться, что большие любители возвращать снятые было почётные доски на старые места, не потревожат прах крупного литературного номенклатурщика. Хотя, кто его знает: погоня за былыми привилегиями сейчас нешуточная!
* * *
Похоже, что Иван Ефимович Фролов (родился 19 апреля 1918 года) на Алтае стал чем-то вроде ударного маяка, какие делали из Стаханова, Демченко, Чкалова и пр. На этот раз маяк был избран литературный.
После службы во время войны на Дальнем Востоке он работал в алтайских краевых газетах. Его первая книга стихов вышла в 1950 году. Посылают на Второе всесоюзное совещание молодых писателей 1951 года, где, видимо, и решили продвигать его в маяки. Принимают в Союз писателей. Он – ПЕРВЫЙ НА АЛТАЕ член Союза писателей. А через несколько месяцев, когда после скоропалительного приёма в союз ещё нескольких человек создают Алтайскую писательскую организации, Фролов – её ПЕРВЫЙ ИЗБРАННЫЙ СЕКРЕТАРЬ. Организация начинает издавать альманах «Алтай». Фролов – его ПЕРВЫЙ редактор.
Умирает он через семь лет после выхода своей первой книжки – 5 ноября 1957 года в 39 лет.
Вот типичное для него стихотворение «Родильный дом»:
Этот дом приземистый, негулкий, Просто неприметен вдалеке, В тридевятом скромном переулке, В тридесятом сельском тупике. Вот сюда придёт подруга ваша, Полежит неделю, а потом — На прощание рукой помашет И, быть может, позабудет дом. И не видим, пробегая близ, мы, Что вот здесь с утра и до утра Золотые кадры коммунизма Принимает на руки сестра. Все они в большой моей Отчизне, В трудовой шеренге дней и лет Продолженьем будут наших жизней, Наших дел, свершений и побед. В этом самом рядовом из зданий Суждено подругам получать Самое великое из званий, Самое святое имя – мать! Не за них ли тосты поднимают, Славят песней, ордена дают, Поздравляют, жарко обнимают, Задушевно за столом поют. Человек рождается! Об этом Говорят в любом конце страны, Сессии Верховного Совета Этому в Москве посвящены…Ну, и хватит. Оборвём стихи на этом. По-моему, их ценность уже ясна: как же было не принять за подобные строки человека в Союз писателей? Не сделать главой регионального писательского объединения? В родильных домах с их золотыми кадрами коммунизма этого бы не поняли!
* * *
Саша Ткаченко (родился 19 апреля 1945 года) – все, кто его знали, подтвердят: добрый и твёрдый человек.
Я с ним был знаком давно. Он ко мне приходил в ялтинский дом творчества, когда я туда приезжал, и мы бродили с ним по побережью.
В перестройку он оказался настоящим молодцом. А в ПЕНе, по-моему, настолько мужественного человека уже и нет.
Вот только стихи его мне нравились далеко не всегда. Одни явно были написаны под влиянием Вознесенского, другие в нынешнем модерновом стиле.
Но настроение он, скончавшийся 6 декабря 2007 года, удерживать в строке умеет:
Одиночество бродит по улицам словно бык прощённый в корриде опустивший рога волоча за собой равнодушные взгляды в зеркалах отражаясь то гигантом то карликом набиваясь в любовники или с надписью «Sale» восставая в кварталах дешёвых… Одиночество среди всех одиночеств одиночество проходящих деревьев и прохожих с пустыми глазницами Я бы взял мастихин или кисточку Беличью и подправил бы грусть или грубую радость на лицах ушедших в себя и не знающих как одиноки однорукая Сена сахарная головка Нотр-Дам облепленная муравьями туристов Я бы мог разделённых размытых, тень и солнце собрать, уходящих вернуть старикам всем печальным проституткам простаивающим птицам в клетках как смерти ждущих продажи сказал бы – я с вами если это бродило по улицам одиночество не моё и не нужное никому…* * *
Василию Дмитриевичу Фёдорову удалось поступить в Новосибирский техникум, где на литературном конкурсе этого заведения он получил первую премию. Друзья посоветовали отправить их в газету «Большевистская смена».
Но там ему рекомендовали учиться слову и на время бросить писать стихи.
С 1938 Федоров работает в Иркутском авиационном заводе. И печатает в его многотиражке стихи.
С 1941 работает на Новосибирском авиационном заводе. Стихи Фёдорова начинает печатать журнал «Сибирские огни». 9 стихотворений вошли в коллективный сборник молодых «Родина».
В 1944 поступает на заочное отделение Литературного института. На следующий год переводится на второй курс очного.
В 1947 выходит первая книга стихов «Лирическая трилогия».
В дальнейшем Фёдоров прочно дружит с Кочетовым, С.В. Смирновым, И. Шевцовым и другими подобными литераторами. К его услугам журналы «Октябрь», «Молодая гвардия», «Огонёк».
Начиная с середины шестидесятых годов у Фёдорова почти ежегодно выходит по новой книге. Среди них и поэмы: «Проданная Венера», «Третьи петухи», «Седьмое небо», «Женитьба Дон-Жуана», «Золотая жила».
Он пишет и прозу: повести «Зрелость», «Добровольцы», «Светлый залив».
Но язык поэзии и прозы Фёдорова беден. Автор склонен к назидательности и ригоричности.
Вот – типичное для него стихотворение:
Не бойтесь гневных, Бойтесь добреньких; Не бойтесь скорбных, Бойтесь скорбненьких. Несчастненькие Им под стать. Всегда с глазами смутно-красными, Чтоб никому не помогать, Они прикинутся несчастными. Заметив Слезный блеск в зрачках, Не доверяйте им Ни чуточку… Я, попадавший к ним на удочку, Порвал все губы На крючках.Поэтому и невозможно поверить Википедии, называющей Василия Дмитриевича Фёдорова великим поэтом и сравнивающей его с Маяковским, Есениным, Твардовским. Это всё равно, что сравнить Кукольника с Пушкиным. Василий Дмитриевич, скончавшийся 19 апреля 1984 года (родился 23 февраля 1918-го), не был не то что великим, но даже средним поэтом.
Да, он получил Госпремию СССР в 1979 и Госпремию им. Горького РСФСР в 1968-м. Но получил не как поэт, а как поэт-номенклатурщик: член всех правлений Союзов писателей, секретарь республиканского Союза.
Некогда в 1955 году он написал самое известное своё стихотворение:
Всё испытав, Мы знаем сами, Что в дни психических атак Сердца, не занятые нами, Не мешкая займёт их враг, Займёт, сводя всё те же счёты, Займёт, засядет, Нас разя… Сердца! Да это же высоты, Которых отдавать нельзя.Стихотворение настолько понравилось иным критикам, что не так уж редко появлялись на моей памяти статьи примерно с таким названием: «Высоты отдавать нельзя». Но ведь ничего особенного в этих стихах нет. Опять – назидание, опять – наставление и никакого подлинного эмоционального чувства.
20 АПРЕЛЯ
Бенедикт Михайлович Сарнов был моим добрым старшим товарищем, с которым мы особенно сблизились в последние два десятилетия, хотя знали друг друга полвека.
Я работал главным редактором газеты «Литература» Издательского Дома «Первое сентября» и не жалел для статей Сарнова газетной площади, знал, что увлекательные его литературные материалы будут не только интересны, но и полезны думающему учителю.
У меня в газете был легко вынимающий из её середины вкладыш. Я назвал его «Семинарий» и отдавал целиком под какую-нибудь проблему школьного литературоведения, или под авторские уроки литературы, или под уроки литературы такого-то региона, или под сочинения учеников, которые мне присылали их учителя. «Семинарий» был немалого объёма: 2 печатных листа, то есть 80000 знаков с пробелами, как сосчитает вордовская статистика в компьютере. Бен Сарнов писал большие статьи. Они как раз занимали весь мой «Семинарий».
Но однажды он принёс работу о Шкловском, которая оказалась непомерно велика: вдвое больше «Семинария». В принципе от четырёхлистных материалов откажется любой отдел критики толстого журнала. Я так и сказал об этом Бену. Он ответил, что не против сокращений, но наметить их должен я.
Прочитав статью, я понял, что сокращать её – значит изуродовать. Если её печатать, то целиком. И я напечатал эту работу Сарнова в двух номерах. Это был единственный случай, когда материал, занявший в номере целиком весь «Семинарий», оповещал в конце: «Продолжение следует»!
Сейчас, когда моего товарища уже нет среди нас, можно смело сказать: это был один из выдающихся критиков и литературоведов советского и постсоветского периодов. А, может быть, и самый выдающийся. Он не увлекался, как многие, играми структурного литературоведения, хотя хорошо разбирался в его проблемах. Писал он легко и доступно. Порой в его работах попадались фразы, высказанные как бы в стилистике Зощенко – любимого писателя Бена. Но не потому, что он ему подражал. А потому что сигналил: речь сейчас пойдёт о том, что требует осмеяния.
Он напоминал мне ювелира, умеющего отличить и изобличить весьма умелую, мастерскую подделку под подлинник.
Много лет назад, когда нашими сердцами завладели вышедшие на эстраду Евтушенко и Вознесенский, собиравшие даже не полные залы, а полные стадионы восторженных поклонников, Сарнов выступил в «Литературной газете» со статьёй «Если забыть о часовой стрелке», где предостерёг от обольщения кумирами, напомнил, что в русской поэзии остались только те, кто, следуя минутной стрелке часов – то есть отзываясь на сиюминутную действительность, не упускал из виду и часовую стрелку, благодаря которой заявленная в стихах авторская реальность обретала черты вечности.
Лично меня эта статья отрезвила. Сарнов помог мне уяснить, для чего вообще существует на свете литература.
Отголоски той давней статьи слышатся и в одной из последних книг Сарнова – в его «Феномене Солженицына». Дело не только в том, что он с горечью констатирует нравственное падение человека, всерьёз вообразившего, что его рукой водит Бог. Дело ещё и в том, что критик судит произведения Солженицына, как стал бы судить вещи любого другого писателя, – по высшему – так называемому «гамбургскому счёту». И убедительно показывает их художественные просчёты. А для этого вскрывает тексты некогда любимых нами вещей – ну, допустим, «Матрёниного двора» и с поразительной стилистической точностью указывает на те элементы поэтики в этом произведении Солженицына, которые фальшивят, выбиваются из данного контекста, из данной поэтики. До Сарнова такой разбор солженицынских произведений не предпринимал никто. Между тем именно такой критический разбор и определяет место писателя в национальной, а в данном случае – и в мировой литературе, определяет, насколько основательны его претензии на вечную прописку в ней.
Умер Бенедикт Михайлович недавно 20 апреля 2014 года (родился 4 января 1927-го).
* * *
Алексей Николаевич Арбузов, с моей точки зрения, был невоспитанным человеком.
Вот представьте: дом творчества писателей в Дубултах. 9-й этаж. Полный холл народу: все смотрят какую-нибудь телевизионную передачу. Арбузов подходит к телевизору и невозмутимо начинает щёлкать кнопками, устанавливая ту программу, которая нужна ему. Ничего не объясняя, не спрашивая разрешения, не извиняясь.
Установил. Сел перед экраном. И плевать ему, что большинство встаёт и уходит.
Или постепенно привыкаешь, встречая на лестнице или в столовой одни и те же лица. Обычно, встречая, здороваешься, киваешь, улыбаешься.
Арбузов вовсе не смотрит по сторонам. Он идёт, разглядывая людей. Не здоровается. Смотрит на тебя как на пустое место.
Нет, я этому не удивлялся. Мне уже рассказали историю пьесы «Город на заре», которую писал до войны коллектив, назвавший себя Государственной театральной московской студией. «Город на заре» писали Плучек, Арбузов, Галич, Шток и Гладков. Какие-то реплики вписывали Слуцкий, Самойлов, Коган, Майоров, В. Багрицкий.
Но – война. Авторы разъезжаются, уходят на фронт. Кое-кто с него не возвращается. Про пьесу забыли. Оказалось, не все. И «Город на заре» снова появляется на театральных афишах. Автор один – А. Арбузов. (Справедливости ради, отмечу, что встречал в печати утверждение об Арбузове, чуть ли не целиком переписавшем пьесу. Но лично мне этого не подтверждали бывшие арбузовские соавторы.)
В будущем Арбузов примет активное участие в травле одного из своих друзей-соавторов Александра Галича. Хотя, с другой стороны, возьмёт под защиту А. Володина от критики Софронова и его соратников.
Да, я знаю, какой огромный успех выпал на долю арбузовской «Тани». А его «Иркутская история» сопровождала меня полжизни. «Мой бедный Марат». «Сказки старого Арбата». Всё это долго держалось на сцене.
Знаю я, что он вёл студию молодых. Что оттуда вышли талантливые драматурги, благодарные своему учителю.
Сложный он был человек!
Умер Арбузов 20 апреля 1986 года (родился 26 мая 1908-го).
* * *
Виктор Суворов – довольно известный перебежчик на Запад носил фамилию Резун и звался Владимиром Богдановичем. Владимир Богданович Резун (родился 20 апреля 1947 года) в армии начиная с 11 лет – с Суворовского училища. В 19 лет – член КПСС. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище с отличием. Принимал участие в агрессии в Чехословакии. С 1970 года – в номенклатуре ЦК КПСС. В 1971–1974 учился в Военно-дипломатической академии.
Ну, а потом – Женева. Резидентура ГРУ.
В 1978 году исчез из своей женевской квартиры. И только его и видели! 28 июня 1978 года английская пресса сообщила, что Владимир Богданович вместе с семьёй находится в Англии.
А потом, как из мешка Деда-Мороза, на советского читателя посыпались подарки – книги.
«Аквариум» (1985), «Ледокол» (1968–1981, исправленное: 2014), три книги «Освободителя», «День М», «Выбор» и т. д.
Много книг написал Суворов. Разной художественной ценности. Есть удивительно профессионально написанные. Есть – так себе. Есть книги, противоречащие друг другу.
Но главное, что он, по-моему, сумел доказать, – это Сталин не только принял доктрину, согласно которой враг будет разбит на его территории, но и сам в неё истово поверил.
Поэтому разрушил укрепления вокруг старых границ, наспех сооружал новые. А танки и самолёты, в которых у нас было неоспоримое превосходство, почти подтянул к новым границам.
Точнее – так было с самолётами. Танковой армии Сталин не создал. Как выяснилось, он хотел воевать как в гражданскую – на конях. А танки роздал по всем армиям, как тачанки, которые идут впереди конницы.
Неудивительно, что за два-три дня гитлеровцы, почти не встречая сопротивление, углубились в Украину и Белоруссию. А самолёты, стоящие на аэродромах вблизи границ, не сумели взлететь: их разбомбили немцы.
С чем здесь можно спорить? Только, может быть, с тем, не напрасно ли гитлеровцы доверились союзникам-финнам и позволили устроить так называемую Дорогу жизни из Ленинграда. Или с тем, надо ли было немцам остановиться в Химках, чтобы подтянуть свои резервы. Но в этих их ошибках Сталин неповинен.
И, наконец, ещё одна значимая деталь, замеченная Суворовым. Сталину не нужна была Восточная Европа. Ему нужна была вся Европа. Поэтому так быстро разладились отношения с бывшими союзниками.
Единственное, о чём думаешь, читая книги Суворова: как всё-таки хорошо, что Сталин не прожил ещё 10–15 лет! Кто знает, что пришло бы в голову этому человеколюбивому болвану. Не швырнул бы он атомную бомбу в своих бывших союзников? Мог ведь. И, наверное, думал над этим.
21 АПРЕЛЯ
Я дружил с Танечкой Бек. Татьяна Александровна Бек (родилась 21 апреля 1949 года) была не только хорошим поэтом, но невероятно преданным поэзии человеком. И многое в ней понимала, и много об этом писала. В том числе и для меня – в газету «Литературу».
А здесь ещё оказалось, что её привлекает жанровое разнообразие стихов Окуджавы. Вместе с Сергеем Чуприниным Таня вела семинар в Литературном институте и рассказала своим студентам-поэтам об этом своеобразии. Оно их заинтересовало. Их интерес её подогрел. Она взялась написать статью об этом для «Литературы», которую я с удовольствием напечатал. Потом она выступала с ней на конференции, посвящённой творчеству Окуджавы. На мой вкус, эта статья является самым значительным вкладом в понимание жанровой природы стихов и песен Булата Окуджавы.
Любимым Таниным современным поэтом был Евгений Рейн. Мне многие его стихи тоже нравились. И всё же Олега Чухонцева я ценил гораздо больше. Мы не то что спорили с Таней, но оставались каждый при своём мнении.
Стихи Рейна взахлёб читал мне Александр Межиров, который часто посиживал в моём кабинете «Литературной газеты». «Ну ч-что в-вы, – говорил он, заикающийся от природы, – к-как-кой Ч-чухонцев б-ольшой п-оэт? Разве м-ожно с-срав-внить с Рейном?»
С Межировым я спорил. Да, говорил, есть у Рейна замечательные стихи. Но много провальных. А у Олега провалов не бывает. И замечательные стихи Олега выше замечательных стихов Жени, которые выдают последователя традиции питерской школы начала XX века. Олег – кошка, гуляющая сама по себе!
– П-пушк-киниан-нец! – определял Межиров. Я возмущённо опровергал: это Самойлова можно назвать пушкинианцем, но Чухонцева – с огромной натяжкой.
В то время многие стихи Рейна не печатались и ходили в самиздате. Слышал я их не только от Межирова. Когда зимой на встречу Нового года мы приезжали в дом творчества писателей в Дубултах, то любили по вечерам собираться дружеской компанией у кого-нибудь в номере. Травили байки, слушали песни, которые пел нам Окуджава, и стихи, которые не мог тогда напечатать Олег Чухонцев. Читал стихи и актёр Михаил Козаков. Не свои стихи, а тех, кого он любил. Среди них и Рейна.
Но Рейн мне не нравился по-человечески: самоупоён, бесцеремонен, хвастлив. Детские его стихи публиковали очень охотно. Рейн выпустил много детских книжек, которые издавались огромными тиражами. Так что он не бедствовал.
Поэтому я удивился, когда в ранние горбачёвские годы после первого творческого вечера Рейна, который официально разрешили провести в Малом зале ЦДЛ, захотев это отпраздновать и охотно приняв приглашение поэтессы Тани Щербины ехать праздновать к ней, Рейн скинул шапку: «У меня ни копейки. А кроме водки и закуски, мне нужно будет оставить себе трояк на такси». Мы с удовольствием скинулись и поехали к Тане Щербине, которая жила на Садовом кольце, недалеко от нового тогда здания «Литературной газеты», – Гена Калашников, Виктор Ерофеев, я, ещё человек шесть народу.
Рейн дружил с Бродским до его эмиграции. Бродский называл Женю своим учителем. Как только рухнул железный занавес, Женя поехал к нему в Америку.
Печатаясь со старыми своими стихами, Рейн быстро стал уважаемым и авторитетным поэтом. Что, конечно, справедливо. Стал преподавать в Литинституте и постоянно выезжать за границу.
Таня Бек обожала Рейна. Поэтому как личную трагедию восприняла его согласие переводить вместе с Михаилом Синельниковым и Игорем Шкляревским стихи Туркменбаши, бывшего первого секретаря ЦК компартии Туркмении, захватившего в ней власть после распада СССР и заставившего подданных обожествить себя, ставшего типичным восточным деспотом.
Рейн объяснял своё согласие тем, что речь идёт о стихах, а не о политических трактатах. «Кроме того, – сварливо добавлял он, – у меня подчас в доме не на что даже пельмени купить». Что возмутило знающего его Андрея Битова: «Столько печатается, столько внушительных денежных премий получил, и не на что купить пельмени?»
Циничное и фальшивое самооправдание столь почитаемого Таней человека, вероятно, доставило ей большую боль. Тем больше уважения внушает то обстоятельство, что она нашла в себе силы выступить с резкой оценкой поступка бывшего друга («НГ-Ex Libris», 23. 12. 2004): «антисобытием года назову письмо троих известных русских поэтов к Великому Поэту Туркменбаши с панегириком его творчеству, не столько безумным, сколько непристойно прагматичным». Но далась ей эта история настолько душевно трудно, что, возможно, уже не хватило сил жить дальше. Меньше чем через месяц она умерла. Было это 7 февраля 2005 года.
Одной из последней её прижизненной книгой была «До свиданья, алфавит!», пророческая уже своим названием. Да и резануло меня, когда я читал, как она пишет о могилах отца и матери на Немецком кладбище. «Придёт время, – примерно в таком духе загадывала Таня, – и я лягу рядом».
И о том же – в стихах, написанных, очевидно, несколько раньше:
Похоронив родителей, Которых не жалели, Мы вздрогнем: всё разительней И горше запах ели. Очнёшься от безволия, Чей вкус щемяще солон, — Над кубом крематория Слышнее птичий гомон. Утрата непомерная Под крик весёлой птицы… О жизнь моя, о смерть моя, — Меж вами нет границы.* * *
Гога Анджапариздзе – сибарит, любитель женщин и красивой жизни. И все это он, родившийся 21 апреля 1943 года, имел уже после окончания аспирантуры филологического факультета МГУ. Ему доверили сопровождать писателя Анатолия Кузнецова в Лондон, и первая его фраза журналистам, когда он узнал, что Кузнецов убежал от него и попросил убежища в Лондоне, была: «Господа, я больше никогда не увижу Англию!»
Но он увидел ещё не только Англию, он увидел почти весь мир.
Был ли связан Георгий Андреевич с КГБ? Несомненно. Почему ему простили Кузнецова? Думаю, потому, что место, какое выбрал для него КГБ, было повыше простого стукача, которого, конечно, погнали бы в шею за подобную историю. Нет, Гога официально после аспирантуры работал в ИМЛИ, оттуда его никто увольнять не стал и после приезда из Лондона. Посидел на научной работе учёного секретаря сектора. Но создаётся новое издательство «Радуга», и Гога переходит туда главным редактором. Большая должность, если учесть, что в стране есть уже издательство иностранной литературы. Какая же была необходимость в создании ещё одного?
«Радуга» сосредотачивалась на выпуске книг писателей, так сказать, элитных стран. США, Европа, Канада, Австралия. От Гоги зависит, кто едет договариваться о переводе, с кем будут вести переговоры, кукую сумму обещать. А главный редактор сможет ездить в командировки? Смешной вопрос. Конечно, может. Значит, прощён Гоге Кузнецов? Ах, да про него попросту забыли. Ну, был такой неприятный в карьере Анджапаридзе эпизод! Был и сплыл.
Что это так, показывает 1987 год, когда Георгия Андреевича назначают директором самого большого издательства страны «Художественная литература». Правда, через год освободилось место главного редактора журнала «Иностранная литература». Редакторов уже не назначали, а выбирали. Гога подал заявку. Но его прокатили. Гога рассердился. Одно время он носился с идеей создать при «Художественной литературе» литературно-художественный журнал «Ниагара». «Я в этом водопаде утоплю «Иностранку», – говорил он. Но не смог. Книжная политика обновлялась на глазах. И он, директор крупнейшего издательства, почувствовал, что не то что он сможет кого-нибудь потопить, но как бы он сам не пошёл ко дну вместе со всей «Художественной литературой»!
И тогда он со своего капитанского мостика спрыгнул. То есть, получилось не так. Спускаясь со сцены кинотеатра «Октябрь», он оступился и сломал шейку бедра. Оказался прикованным к постели. Подал заявление об уходе на пенсию. Но неуёмная его энергия вынесла к трём владельцам нового издательства «Вагриус» – Васильеву, Григорьеву, Успенскому. Под патронатом Гоги выходят переводные книги. По Гогиной наводке их переводят. Тем более, что все наши лучшие переводчики свидетельствуют: вкус у Гоги отменный. Жуир, он устраивается летом в круизы на теплоходы как англоязычный гид.
Одна только загадка меня и сейчас занимает. В России создаётся новая правозащитная организация Пен-центр. Так вот в ноябре 2000 года в Военную коллегию Верховного Суда РФ направляется письмо Пен-центра, который требует прекращения уголовного дела Григория Пасько в связи с отсутствием состава преступления и возбуждения дела против Федеральной службы безопасности Тихоокеанского флота за привлечение к суду заведомо невиновного.
Письмо подписывают А.Битов, Е. Рейн, И. Ратушинская, Ю. Мориц, З. Богуславская (ну, не стану перечислять состав руководства Пена) и… Гога Анджапаридзе. Его-то для чего привлекли? Неужто, чтобы с самого начала дискредитировать правозащитников.
Скончался Георгий Андреевич 22 мая 2005 года.
* * *
Эдуард Аркадьевич Асадов – поэтический кумир многих, особенно женщин в моей юности. Но и столь же горячо нелюбимый стихотворец тоже очень многих. Спорить о его стихах было бессмысленно. Почитатели не смогли бы убедить ниспровергателей.
Ниспровергатели были поставлены в не совсем удобное положение. Дело в том, что Эдуард Асадов, умерший 21 апреля 2004 года (родился 7 сентября 1923-го), на войне потерял зрение. Ходил в чёрной полумаске. И, критикуя его стихи, а тем более доказывая, что это не поэзия, вы вроде брали под сомнение его героическую жизнь. Для многих стихи Асадова и его слепота были связаны.
Дело осложнялось ещё и тем, что поклонники Асадова были преданы поэту. И заполняли любой зал, что называется, под завязку. И, простите, но приходится вспомнить крыловское: «Вещуньина с похвал вскружилась голова». Асадов вот в каком духе отвечал своим критикам:
Мне просто жаль вас, недруги мои. Ведь сколько лет, здоровья не жалея, Ведёте вы с поэзией моею Почти осатанелые бои. Что ж, я вам верю: ревность – штука злая, Когда она терзает и грызёт, Ни тёмной ночью спать вам не даёт, Ни днём работать, душу иссушая. И вы шипите зло и раздражённо, И в каждой фразе ненависти груз. – Проклятье, как и по каким законам Его стихи читают миллионы И сколько тысяч знает наизусть! И в ресторане, хлопнув по второй, Друг друга вы щекочете спесиво! – Асадов – чушь. Тут все несправедливо! А кто талант – так это мы с тобой!.. Его успех на год, ну пусть на три, А мода схлынет – мир его забудет. Да, года три всего, и посмотри, Такого даже имени не будет! А чтобы те пророчества сбылись, И тщетность их отлично понимая, Вы за меня отчаянно взялись И кучей дружно в одного впились, Перевести дыханья не давая. Орут, бранят, перемывают кости, И часто непонятно, хоть убей, Откуда столько зависти и злости Порой бывает в душах у людей! Но мчат года: уже не три, не пять, А песни рвутся в бой и не сгибаются, Смелей считайте: двадцать, двадцать пять. А крылья – ввысь, и вам их не сломать, А молодость живёт и продолжается! Нескромно? Нет, простите, весь свой век Я был скромней апрельского рассвета, Но если бьют порою как кастетом, Бьют не стесняясь и зимой и летом, Так может же взорваться человек! Взорваться и сказать вам: посмотрите, Ведь в залы же, как прежде, не попасть, А в залах негде яблоку упасть. Хотите вы того иль не хотите — Не мне, а вам от ярости пропасть! Но я живу не ради славы, нет, А чтобы сделать жизнь ещё красивей, Кому-то сил придать в минуты бед, Влить в чьё-то сердце доброту и свет Кого-то сделать чуточку счастливей! А если вдруг мой голос оборвётся, О, как вы страстно кинетесь тогда Со мной ещё отчаянней бороться, Да вот торжествовать-то не придётся, Читатель ведь на ложь не поддаётся, А то и адресует кой-куда… Со всех концов, и это не секрет, Как стаи птиц, ко мне несутся строки. Сто тысяч писем – вот вам мой ответ! Сто тысяч писем светлых и высоких! Не нравится? Вы морщитесь, кося? Но ведь не я, а вы меня грызёте! А правду, ничего, переживёте! Вы – крепкие. И речь ещё не вся. А сколько в мире быть моим стихам, Кому судить поэта и солдата? Пускай не мне, зато уж и не вам! Есть выше суд и чувствам и словам. Тот суд – народ. И заявляю вам, Что вот в него-то я и верю свято! Ещё я верю (а ведь так и станется!), Что честной песни вам не погасить. Когда от зла и дыма не останется, Той песне, ей-же-богу, не состариться, А только крепнуть, молодеть и жить!«Поэт и солдат» – Асадов вовсю использовал этот образ. И ведь не возразишь. Солдатом Асадов действительно был. А что до поэта, то разницы между поэзией и стихотворчеством его поклонники не понимали. Его обожали любители назидательных вирш.
Вот – одно из самых дискуссионных его стихотворений. Оно называется «Ночь»:
Как только разжались объятья, Девчонка вскочила с травы, Смущённо поправила платье И встала под сенью листвы. Чуть брезжил предутренний свет, Девчонка губу закусила, Потом еле слышно спросила: – Ты муж мне теперь или нет? Весь лес в напряжении ждал, Застыли ромашка и мята, Но парень в ответ промолчал И только вздохнул виновато… Видать, не поверил сейчас Он чистым лучам её глаз. Ну чем ей, наивной, помочь В такую вот горькую ночь?! Эх, знать бы ей, чуять душой, Что в гордости, может, и сила, Что строгость ещё ни одной Девчонке не повредила. И может, всё вышло не так бы, Случись эта ночь после свадьбы.Ну, можно ли спорить с теми, кто утверждает в стихах, что лучше быть здоровой и красивой, чем бедной и больной? То же происходило и со стихами Асадова. Нехитрая дидактика, подкреплённая серьёзным увечьем автора, кружила головы даже аморальным людям. Можно сказать: в первую очередь им и кружила. Отрезая любые возможные развития жизненной ситуации, кроме единственной, Асадов оказывался рупором коллектива, толпы. Такая поэзия не помогала жить, а предуказывала жить по нерушимой моральной схеме.
Не сомневаюсь, что и сегодня у стихов Асадова есть поклонники. Хотя стихами от этого они по-прежнему не становятся.
22 АПРЕЛЯ
Сталинскую премию Иван Антонович Ефремов (родился 22 апреля 1908 года) получил в 1952 году не за литературное произведение, а за научный труд «Тафономия и геологическая летопись», который лёг в основу нового направления в палеонтологии, позволяющего предсказывать место обнаружения ископаемых остатков. И это притом, что и его художественные произведения многое предсказывали.
Ещё в 1944 году – задолго до начала космической эры он написал повесть «Звёздные корабли» – об инопланетянах, посетивших землю. Он писал её, мучимый тяжёлыми приступами тифоидной лихорадки, полученной писателем во время одной из экспедиций. Болезнь оказалась неизлечимой, и он спешил писать, спешил передать свои научные предвидения в художественной форме.
Опытный геолог Ефремов заставил героя своего рассказа «Алмазная трубка» искать и находить подтверждения собственной догадки, что на севере Сибири есть месторождение алмазов. Года через три геологи действительно обнаружили в Якутии, примерно там же, где его обнаружили герои Ефремова, алмазное месторождение.
Серия «Рассказов о необыкновенном» снискала Ефремову известность, рассказы были переведены на многие языки. Но настоящую славу принесли Ефремову его повести и романы.
Первым крупным произведением Ефремова стали исторический роман «На краю Ойкумены» (1949) и его продолжение «Путешествие Баурджеда» (1953). Но читателей особенно увлекла «Туманность «Андромеды» (1957) – философско-утопический роман о коммунистическом будущем цивилизации Земли, оказавший огромное влияние на развитие отечественной фантастики.
«Появилась новая книга – «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, пронизанная историческим оптимизмом, верой в прогресс, в светлое коммунистическое будущее человечества, – писал в газете «Правда» 26 мая 1961 года Юрий Гагарин. – У себя в комнате мы читали её по очереди. Книга нам понравилась. Она была значительней научно-фантастических повестей и романов, прочитанных в детстве. Нам полюбились красочные картины будущего, нарисованные в романе, нравились описания межзвёздных путешествий, мы были согласны с писателем, что технический прогресс, достигнутый людьми спустя несколько тысяч лет, был бы немыслим без полной победы коммунизма на Земле».
Тем большим потрясением для читателей оказался роман Ефремова «Час быка» о противостоящей светлому миру мрачной антиутопии планеты Торманс, управляемой олигархией. Торманс – планета эволюционного тупика, в который зашла цивилизация, нарушившая взаимозависимость научно-технического и нравственного прогресса. Пренебрежение нравственной составляющей прогресса, чрезмерно-раздутая другая его составляющая – научно-техническая, которая оказалась абсолютно определяющей путь, по какому пошли властители, – всё это привело к роковым последствиям и для этической, и для экологической ситуации на планете. Роман в искажённом цензурой виде выпустили, но и искажённый он свидетельствовал о том, что гибель цивилизации произойдёт от её морального износа, от духовного оскудения человечества. Поэтому после смерти Ефремова 5 октября 1972 года через 5 дней – 10 октября в его квартиру пришли с обыском. Искали вредную идеологическую литературу, забрали все черновики, даже письма к жене. А роман изъяли из обращения.
И всё сделали для того, чтобы само имя писателя было забыто на 18 лет. Вновь появилось оно в печати только благодаря перестройке.
* * *
Михаил Михайлович Козаков мне очень нравился в школе в фильме «Убийство на улице Данте». Хотя когда я позже пересмотрел его, я поразился своему юношескому восторгу: дебютная роль Козакова в кино не так уж и хороша. Вот его Шарль Гранде в фильме «Евгения Гранде» гораздо более убедителен.
А в начале семидесятых мы познакомились и подружились. Миша зимой приезжал встречать Новый год в Дубулты в дом творчества писателей. И сошёлся с нашей почти постоянной компанией, которая тоже ездила в Дубулты и в которую входили Станислав Рассадин, Олег Чухонцев, Булат Окуджава, Юлик Крелин, Юлик Эдлис, Натан Эйдельман, Алик Борин.
Миша мог часами читать стихи своих любимых Бродского и Самойлова. А мы умели часами не уставать от его чтения: наслаждались!
Когда он получил в 1983-м Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли Дзержинского, всех это страшно смешило. «А сыграл бы ты Ленина, – спрашивали, – если бы тебе светил за это орден Ленина?» «Ленина – только за звезду!» – поддерживал шутку Козаков.
Поэтому меня поразило, когда в его автобиографической книге «Третий звонок» я прочел его признание о многолетнем сотрудничестве с КГБ – с 1956 по 1988.
Вспомнились его премии КГБ в 1980 и в 1981. Он говорил, что получил их за того же Дзержинского в фильмах «Синдикат-2» (1980), «Государственная граница» (1980), «Двадцатое декабря» (1981).
Покоробило меня его признание в сотрудничестве с органами. Мне он прежде казался здоровым циником, провозглашавшим: не важно, кого играть, важно как играть. Он любил повторять, что Немирович-Данченко был убеждённым сталинцем, что не мешало проявиться его таланту. Потом я читал то же о Немировиче-Данченко в его интервью.
Но вспоминаю его не для того, чтобы спорить с покойным приятелем. Он умер 22 апреля 2011 года (родился 14 октября 1934-го).
Миша очень хотел найти себя как режиссёр. И мне думается, что «Покровские ворота» показали, что режиссёрский талант ему был дан. Он мечтал о писательстве. И книги «Рисунки на песке» и «Третий звонок» показали, что мечтал он не зря. Он безусловно обладал писательским даром.
Вот только оцарапало меня его объяснение, для чего он их написал, для чего он вообще пишет: «Я себе лжи не прощаю. Оттого и пишу и публикую о себе далеко не восторженные признания в своих ошибках и грехах, пытаюсь вымолить прощение (нет, не у людей, дай Бог хотя бы отчасти быть понятым людьми), а у своей же больной совести. А ведь сказано, что совесть – это Бог в нас». Слишком красиво сказано, чтобы быть правдой!
* * *
Это стихотворение называется «Песня пролетария» и написано в 1900 году:
Кто добыл во тьме рудников миллионы? Кто сталь для солдатских штыков отточил? Воздвиг из гранита и мрамора троны, В ненастье и холод за плугом ходил? Кто дал богачам и вино и пшеницу И горько томится в нужде безысходной? Не ты ль, пролетарий, рабочий голодный? Кто с ранней зари и до поздней полночи Стонал, надрывался под грохот машин, Тяжёлым трудом ослеплял себе очи, Чтоб в роскоши жил фабрикант-господин? Кто мощно вертит колесо мировое И гибнет бесправным, как червь непригодный? Не ты ль, пролетарий, рабочий голодный? Кто гнёту насилья века обрекался, В оковах неволи боролся и жил, Под знаменем красным геройски сражался И кровь неповинную жертвенно лил? О вестник победы!.. Титан непреклонный! Ты молнии бросил из сумрака ночи… Вперёд – на борьбу, пролетарий, рабочий!.. Пусть пламя борьбы разрастётся пожаром И бурей пройдёт среди братьев всех стран!.. Твердыни насилья мы рушим недаром… Могуч и един наш воинственный стан… Победно мы строим мир новый, свободный… Пусть враг нас встречает предательством чёрным! Победа близка, пролетарий голодный!..Согласен: стихи никуда не годятся. Какую пшеницу дал богачу пролетарий? Полночь ранней не бывает, всегда поздняя – стало быть уточнение лишне. Бесправность и непригодность червя никак не состыковываются. А враг, который встречает «предательством чёрным», – это что? – бывший друг, раз он предал?
Текст этот принадлежит Александру Алексеевичу Богданову (родился 22 апреля 1974 года), профессиональному революционеру, которого не раз арестовывало царское правительство. Он стал членом РСДРП в 1900 году. После раскола в 1903-м присоединился к большевикам. Участвовал и в революции 1905 года и в Таммерфорсской конференции. После того, как его в 1908 году приговорили к году (! – какая страшная кара!) тюрьмы, перешёл на нелегальное положение.
Словом обычный революционер.
Но песню он написал не случайно. Он был ещё и профессиональным литератором. Писал стихи, прозу, печатался в великом множестве журналов под великим множеством псевдонимов. И, разумеется, воспоминания о революционных деятелях. Например, о Ленине:
«В Таммерфорсе, в одну из свободных минут, Ильич выбрал время, чтобы прослушать несколько моих революционных стихотворений. Это было после одного из фракционных совещаний. Вместе с Ильичём был ещё мой однофамилец – экономист А. А. Богданов (настоящая фамилия Малиновский). Оба сидели на столе, – я декламировал стоя. В общем, Ильич одобрительно отнёсся к стихам, но расценивал их исключительно со стороны содержания и идеологической правильности. Между прочим, мною было прочитано одно из старых юношеских стихотворений, где говорилось, что революционный боец не имеет права на личное счастье. Вот выдержки из стихотворения:
Нежной любви искромётный бокал Жизнь поднесла мне в минуту отрадную, Помню, дрожащей рукой его взял, Думал упиться с беспечностью жадною. Но… на прозрачном запененном дне Слёзы… лишь слёзы почудились мне… Мне показалась любовь преступленьем, Тысячи стонов услышал я вдруг, Заколыхалися скорбные тени… Выпал бокал из затрясшихся рук, Выпал, разбился. Нежданная сила Светлую сказку любви омрачила. … Как? В этот час, когда гибнут кругом. Думать о собственном счастье своём? И т. д.Ильич нашёл, что в стихотворении звучат старые интеллигентские перепевы, отрыжка народничества, нет марксистского подхода к жизни. Его поддерживал Александр Александрович Малиновский.
Я в своё оправдание заметил, что в начале 90-х годов я действительно увлекался народничеством. Ильич улыбнулся.
– Ну вот, значит, я прав. Марксизм не отрицает, а, наоборот, утверждает здоровую радость жизни, даваемую природой, любовью и т. д.»
Умер Богданов 10 ноября 1939 года. Я, присматриваясь к дате, решил поначалу, что ему помогли умереть в НКВД. Но посмотрел, в каком году его именем названа Средняя Пешая улица в его родном городе Пензе. Она названа улицей Богдановой именно в 1939-м. Да и похоронили Богданова на Новодевичьем кладбище. Так что органы к этой смерти вряд ли причастны.
* * *
Автор «Греческих стихотворений» Николай Фёдорович Щербина с ранней юности пристрастился к греческому языку и в 13 лет написал поэму «Сафо».
Первая его книга «Греческие стихотворения» (1850) была благосклонно принята публикой.
Он переселился в Москву, занял должность помощника редактора «Московских Губернских Новостей», писал стихи в «Москвитянине».
В 1854-м перебрался в Петербург, где получил место чиновника по особым поручениям при товарище министра народного просвещения князе П.А. Вяземском. В последние годы служил в Министерстве внутренних дел при главном управлении по делам печати.
При жизни вышли три книги. Причём одна – в двух томах (1857).
На стихи Щербины писали романсы композиторы А. Гречанинов, С. Танеев, П. Чайковский, В. Соколов и другие.
Любопытна судьба его стихотворения «Моряк»:
Не слышно на палубе песен, Эгейские волны шумят… Нам берег и душен, и тесен; Суровые стражи не спят. Раскинулось небо широко, Теряются волны вдали… Отсюда уйдем мы далёко, Подальше от грешной земли! Не правда ль, ты много страдала? Минуту свиданья лови… Ты долго меня ожидала, Приплыл я на голос любви. Спалив бригантину султана, Я в море врагов утопил И к милой с турецкою раной, Как с лучшим подарком, приплыл.Оно было напечатано в 1844 году. С музыкой Гурилёва песня была популярна в годы Крымской войны. Позже песня – и текст и мелодия – подверглась существенной обработке и переработке. Пока не появилась в конце 1890-х песня «Раскинулось море широко…»
Умер Щербина 22 апреля 1869 года. Родился 14 декабря 1821 года.
* * *
Пожалуй, что наиболее известен Наум Давыдович Лабковский (родился 22 апреля 1908 года) своими песнями. Хотя он писал и прозу (особенно много юмористических рассказов после войны), за которую становился лауреатом премии журнала «Крокодил» (1975) и нашего «литгазетовского» «Золотого телёнка» (1979). Он – автор сборников юмористических рассказов и стихов «Рыбьи тропы» (1958), «Тёзка императора» (1962), «Гороскоп мадам Евы» (1967), «Собака Муза» (1978), «Большой вальс» (1982), «Иронезия» (1988). Имела успех и его довоенная пьеса «Честный человек» (1933).
Но песни Лабковского из тех, что могут считаться «золотыми песнями эпохи». Судите сами: «Неспокойно родное море», «Полевая почта», «Далеко от дома», «Родные берега», «В дальнем рейсе», «Дорожка фронтовая» (совместно с Б. Ласкиным), «Домик на Лесной», «Птички-невелички», «Вьётся вдаль тропа лесная», «Жизнь устроена не просто», «Пора влюблённости», «О любви не говори», «Лунная рапсодия». Всё? Как бы не так: «Бывалый матрос», «Бывший фронтовик», «Жёлтые листья», «Парень-паренёк», «Прощальный луч». А помните, как Шульженко пела «Челиту»? Мексиканскую песню? Точнее, перевод мексиканской песни. Его осуществил Наум Давыдович Лабковский, скончавшийся в 1989 году.
23 АПРЕЛЯ
Николай Герасимович Помяловский (родился 23 апреля 1835 гола) прожил на свете года на полтора больше Лермонтова – 28 лет. Умер 17 октября 1863 года. Официально он умер от гангрены. Но опухоль в ноге у него обнаружилась после белой горячки на почве алкоголизма.
Удивительно, как при такой рано навалившейся болезни он сумел написать повести «Мещанское счастье» и «Молотов» (обе были напечатаны в «Современнике» в 1861 году). Кстати в «Молотове» есть выражения «мещанское счастье» и «кисейная барышня». Они стали крылатыми словами.
Его замечательная книга «Очерки бурсы» печаталась сразу в двух журналах – в том же «Современнике» и во «Времени» в 1862–1863 годах. Чувствуется, что журналы спешили напечатать эту вещь, но так и не успели. Она осталась незавершённой. Напечатали 4 части. Пятая – незавершённая напечатана после смерти писателя.
Помяловский был очень талантлив. Его «Бурса» свидетельствует об этом. Язык писателя совершенен. Портреты персонажей психологичны. Описания художественно достоверны. Можно только пожалеть о незаконченности «Бурсы». А её Помяловский собирался написать в 20 частях.
Задумался над тем, в чём была новизна писателя. А потом прочитал у автора словаря Брокгауза и Ефрона о Помяловском, что тот «первый поставил читателей лицом к лицу с положительными типами из среды интеллигентного пролетариата, поставленного в невыгодные условия борьбы за существование». Да, так оно и есть Плохо только, что, познавая эти типы, водя знакомства с ними, писателю приходилось вести их образ жизни, где пьянство было его отличительным и непременным условием.
* * *
Вера Казимировна Кетлинская получила сталинскую премию 3 степени за роман «В осаде» – о блокадном Ленинграде.
До этого она работала корреспондентом «Комсомольской правды, много ездила по стране, написала первые романы о молодёжи «Рост» (1934) и «Мужество» (1938), в котором она обрисовывает духовный мир строителей города в тайге, прообразом которого послужил Комсомольск-на-Амуре.
Войну Кетлинская встретила на посту первого секретаря Ленинградского отделения Союза писателей. От неё зависело многое. Поэтому многие её невзлюбили. Несмотря на её честное поведение. А, может быть, именно поэтому.
После войны на заседании в Смольном, посвящённом обсуждению Постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», она заступилась за Ольгу Берггольц, которая мужественно вела себя во время блокады. Но не подоспей сталинская премия, Кетлинская не вышла бы из ситуации так удачно, как вышла.
Через некоторое время исчез муж Кетлинской А. Зонин. Оказалось, что он арестован. Честный человек, Кетлинская собралась ехать в Москву вызволять мужа, заявлять о своём неверии в его виновность. Но органы объяснили ей, что Зонин её обманывал, и она уверовала в это.
Однако когда Зонин был освобождён, она поверила ему и жила, вечно каясь в той трагической своей ошибке.
Она написала роман «Дни нашей жизни» (1952), комедию «Да вот она, любовь» (1954). В 1964-м роман «Иначе жить не стоит» – об учёных, в которых верила, – чрезвычайно идеологически выдержанное сочинение. Но заглавие выражает её жизненный принцип. Она честна сама с собой.
Две недели не дожила Кетлинская до своего 70-летия. Она умерла 23 апреля 1976 года (родилась 11 мая 1906-го).
* * *
Наиболее известны две работы Анатолия Васильевича Митяева: «Книга будущих командиров» (1970) и «Книга будущих адмиралов» (1979). Дети, стремящиеся в командиры и в адмиралы, получили огромную пищу своему воображению.
Митяев записался добровольцем на фронт уже в 1942-м. Служил орудийным номером в гвардейском миномётном дивизионе.
Дебютировал со стихами и прозой в 1946-м в газете Дальневосточного военного округа «Тревога».
Демобилизовался в 1947-м.
И 10 лет – с 1950 по 1960 проработал ответственным секретарём газеты «Пионерская правда». А потом ещё 12 – с 1960 по 1972 – главным редактором журнала «Мурзилка».
Разумеется, он не только служил, но и писал. Рассказывал детям об армии, о войне. Есть у него, например, книга «Тысяча четыреста восемнадцать дней: Герои и битвы Великой Отечественной войны». Есть книга «Подвиг солдата». А есть о ратном прошлом России «Ветры Куликова поля» и «Гром Бородина».
Кроме того, он был весёлым человеком, и эту весёлость выразил в своих сценариях к мультикам. Кстати, «Союзмультфильм» он возглавил после «Мурзилки».
Все мои знакомые по «Литературной газете» юмористы и художники очень тепло вспоминают Анатолия Васильевича, умершего 23 апреля 2008 года (родился 12 мая 1924-го).
* * *
Вот оно – стихотворение «Одесса» Василия Ивановича Туманского. Впрочем, для нашей мысли хватит и его начала:
В стране, прославленной молвою бранных дней, Где долго небеса отрада для очей, Где тополы шумят, синеют грозны воды, — Сын хлада изумлён сиянием природы. Под лёгкой сению вечерних облаков Здесь упоительно дыхание садов.«Сын хлада» не только изумился одесской природе, но изумил ею Пушкина, который поделился своим изумлением с читателями «Евгения Онегина»:
Одессу звучными стихами Наш друг Туманский описал, Но он пристрастными глазами В то время на неё взирал. Приехав, он прямым поэтом Пошёл бродить с своим лорнетом Один над морем – и потом Очаровательным пером Сады одесские прославил. Всё хорошо, но дело в том, Что степь нагая там кругом…Надо сказать, что поскольку Туманский с 1823 года служил в канцелярии графа Воронцова, то во время своих служебных командировок в Бессарабию он подружился с Пушкиным, которого в качестве автора сосватал Рылееву и Бестужеву – редакторам журнала «Полярная звезда».
Стоит сказать и о том, что Пушкин поймал на нелепом вымысле не просто некоего Туманского, но в то время очень популярного поэта, друга его друзей. С Туманским дружит Кюхельбекер. Туманский – член «Вольного общества любителей российской словесности» и в отличных отношениях с другими членами этого общества.
Пушкин хорошо относится к Туманскому. Конечно, смешное смешит его. Не только одесские сады. Но и то, что
Туманский, Фебу и Фемиде Полезно посвящая дни, Дозором ездит по Тавриде И проповедует Парни.Парни – это великий мастер элегии. Для Туманского элегия – главный жанр поэзии. То есть, Пушкин смеётся над тем, что Туманский обчитал, кажется, всю Тавриду своими элегиями.
Но Пушкин вовсе не считает Туманского графоманом. Иные его стихи, по мнению Пушкина, «отличаются гармонией и точностию слова и обличают решительный талант». «Добрый малый» – так характеризует Пушкин приятеля.
А приятеля интересует не только поэзия. И не только искусство. Он деятельно участвует в редактировании Андрианопольского мирного договора (1831). В 1835 его назначают секретарём русского посольства в Константинополе. Несколько лет он работает над трудом «Опыт истории Государственного совета в России с 1769 по 1820 г.». В 1841 году 1 часть труда представлена Николаю. Императору она нравится, и Туманский получает чин действительного тайного советника. В 1844 году на место его друга государственного секретаря барона Модеста Корфа приходит новый секретарь Н.И. Бахтин, с которым у Туманского отношения не складываются. И в 1846 году, не дослужив двух лет до 25-летнего юбилея, он подаёт прошение об отставке. После удовлетворения прошения поселяется в своём родовом имении в Полтавской губернии, где избирается попечителем Полтавской гимназии. Накануне подготовки крестьянской реформы Туманского единогласно избирают Председателем Полтавской комиссии по улучшению быта крестьян и депутатом в Петербург для представления проекта положения. В его архиве сохранилась одна из последних его записей: «Считаю себя истинно счастливым, что дожил до этого радостного дня. От всего сердца поздравляю вас, добрые крестьяне, с правами гражданства, дарованного вам…».
Так он хотел закончить свою речь, с которой собирался выступить в день опубликования закона об отмене крепостного права.
Но, увы, до этого дня он не дожил. Он умер 23 апреля 1860 года. Родился 28 февраля 1800-го.
* * *
«Суровый Суров не любил евреев». Я приводил уже в этом календаре сатирическое стихотворение Казакевича, которое начинается этой строчкой.
Мне довелось увидеть Анатолия Алексеевича Сурова, родившегося 23 апреля 1910 года в нашей писательской больнице, которая была напротив Онкоцентра Блохина. Меня положили туда на обследование. Пытались понять, от чего и на что у меня была тогда сильная аллергия. А старичок Суров ходил по коридору в паре с поэтом Борисом Примеровым, которого я знал.
От предложения Примерова познакомиться с Суровым отказался наотрез.
Не из-за нелюбви Сурова к евреям, – их многие писатели не любили. И даже не из-за погромных его выступлений во времена кампании борьбы с космополитами. А из-за его разоблачения.
Он, известный при Сталине драматург, лауреат двух сталинских премий за пьесы «Зелёная улица» (которую я хорошо помню) и «Рассвет над Москвой», обрушившийся не только на драматургов-евреев, но и на К. Симонова и Б. Горбатова за тот же космополитизм, не писал, как выяснилось, многих своих пьес: их писали за него те самые космополиты, которых выбрасывали из учреждений и лишали куска хлеба.
Кусок хлеба им Суров дал. Но и взял за это много.
Потом уже Юрий Нагибин утверждал, что Суров занимался плагиатом и прежде, что «будучи заведующим отделом рабочей молодёжи в газете «Комсомольская правда», присвоил пьесу своего подчинённого А. Шейнина «Далеко от Сталинграда».
«Обвинение в плагиате, – пишет Нагибин, – было брошено Сурову на большом писательском собрании. Суров высокомерно отвёл упрёк: «Вы просто завидуете моему успеху».
Тогда один из «негров» Сурова, театральный критик и драматург Я. Варшавский, спросил его, откуда он взял фамилии персонажей своей последней пьесы. «Оттуда же, откуда я беру всё, – прозвучал ответ. – Из головы и сердца». – «Нет, – сказал Варшавский, – это список жильцов моей коммунальной квартиры. Он вывешен на двери и указывает, кому сколько раз надо звонить».
Ясно, что из Союза писателей Сурова выгнали.
Долго он снова стучался в двери писательского союза. Указывал, что, кроме пьес, за ним числится немало публицистических статей, и что его авторство их никто не оспаривает. Менялись первые секретари московской писательской организации, но при каждом Сурову вход в Союз был запрещён. И только Феликс Кузнецов в начале 80-х сжалился над гонимым публицистом, пробил его в Союз писателей.
В это время я и увидел его в больнице. Страшно удивился, что он лежит как писатель. Но Борис Примеров мне всё объяснил.
Умер он 12 ноября 1887 года – через несколько лет после того, как снова стал членом Союза писателей, прожив на свете 77 лет.
* * *
Эдуард Иванович Губер с раннего детства учил немецкий, латинский, греческий и русский языки. В 1831 году опубликовал первое своё стихотворение «Разочарованный» в журнале «Северный Меркурий».
Устроился на работу в Энциклопедический Лексикон Плюшара. Познакомился с Н.И. Гречем. А через него со многими русскими литераторами. Много читал немецких книг, подрабатывал переводами, изучал и переводил «Фауста» Гёте.
В конце 1935 года представил перевод «Фауста» в цензуру. Однако цензура его не пропустила. От огорчения Губер порвал рукопись – плод его пятилетней работы.
Узнавший об этом Пушкин посетил Губера, с которым прежде не был знаком. Сошлись на том, что Губер снова начнёт переводить «Фауста» и будет показывать Пушкину готовые куски.
Так не вышло. Губер оплакал смерть Пушкина в стихах, которые ходили по рукам, читались многими.
В 1838 году Губер напечатал переведённую им Первую главу «Фауста» в «Новогоднике» Н.В. Кукольника.
В 1845 году его книга стихотворений негативно встречается прессой.
Умер 23 апреля 1847 года (родился 13 мая 1814-го).
Переведённая им первая глава «Фауста» вызвала самые противоречивые мнения.
Так, Белинский назвал Губера «бездарным», а, скажем, Сенковский писал, что у Губера «как будто лира Пушкина ожила нарочно для того, чтобы передать нам великолепное творение германского поэта-философа языком и стихом, достойным его».
24 АПРЕЛЯ
Как его арестовывали, я помню. Тётя Лена была дома, но она сидела в кухне, в комнате кроме трёх милиционеров и Юрки находились ещё двое понятых – двое незнакомых мне мужчин, которые смотрели, как идёт обыск. В раскрытую дверь смотрела и тётя Нюра, другая наша соседка, смотрел и я. Милиционеры пошвыряли немало вещей на пол, потом один из них попросил у меня, третьеклассника, ручку и чернильницу и долго чего-то записывал на бумаге. Написав, подвинул её понятым, они расписались. На Юрку надели наручники и увели. А тётя Лена тут же бросилась звонить Ире, умоляя её просить заступиться за брата самого Василия Сталина, чьей секретаршей дочь тёти Лены работала.
Но Василий Сталин здесь бы не помог. Дело было очень серьёзным и очень страшным.
Целый год рассказывали в Москве о какой-то таинственной банде «Чёрная кошка», названной так по рисункам, которые бандиты оставляли на месте преступления. Грабили сберкассы, квартиры, врывались в театры, сметая с вешалки дорогие пальто и шубы. Рассказывали, что в Измайловском парке трубы большого диаметра и длины (для чего они там лежали, не говорили) оказались набитыми спрятанными этой бандой трупами.
Позже писатели-детективщики братья Вайнеры напишут роман «Эра милосердия», а режиссёр Станислав Говорухин, тогда ещё не вступавший в близкие отношения с властями и не растерявший своего дарования, поставит телевизионный сериал «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким, Владимиром Конкиным, Александром Белявским, Сергеем Юрским и другими популярными актёрами и с актёрами, которые стали популярными, благодаря этому фильму. Роман значительно уступает фильму по своим достоинствам, но я его читал не ради развлечения, меня интересовала его документальная основа.
Аркадий Вайнер, который жил в Астраханском переулке в одном доме со мной, говорил мне, что, конечно, они многое переиначили, что сами по себе материалы по «Чёрной кошке», с которыми им дали ознакомиться, обрисовывали типичных бандитов, жестоких и кровавых, а такого, как Левченко, которого в фильме Говорухина играет Виктор Павлов, в банде не было.
– А ты Юрия Федосеева не помнишь? – спросил я его.
– А кто это? – недоумённо поднял бровь Аркадий.
– Шофёр банды, – пояснил я.
– Ну, дорогой, – сказал Аркадий. – У них был не один шофёр. Как я их могу помнить?
Юрка вернулся, когда мне было девятнадцать лет.
Впрочем, о Юрке, бывшем моём соседе в коммунальной квартире, хватит.
Я не раз потом говорил с Аркадием Натановичем Вайнером о «Чёрной кошке»: хотелось хоть что-то узнать об этой банде помимо фильма. Но Аркадий вспоминал мало: видимо, они с братом выложились и в повести, и в сценарии.
Аркадий был очень приятным, интеллигентным человеком. Не был похож на мастера спорта по вольной борьбе, каких я навидался в юности.
Премий они с братом наполучали немало. И от Союза писателей, и от МВД.
Есть у Аркадия одна, почти героическая веха в биографии: он трижды исключался из партии из-за своей принципиальности в расследовании уголовных дел в МУРе, где он одно время работал следователем. И одно время возглавлял следственный отдел.
Помимо большого количества произведений, написанных с братом, Аркадий Натанович является и единоличным автором нескольких пьес и киносценариев.
Умер Аркадий Вайнер 24 апреля 2005 года. Родился 13 января 1931-го.
* * *
Самое известное произведение Леонида Николаевича Рахманова – сценарий фильма «Депутат Балтики» (1936). А этот фильм был снят по пьесе Рахманова «Беспокойная старость» (пьеса вышла на год позже – в 1937-м), которая была поставлена более чем в 400 театрах СССР. Причём в 1956 году она шла на сцене МХАТа.
Остальные вещи Леонида Николаевича – написанные до этих фильма с пьесой повести «Полнеба» (1929), «Племенной бог» (1931), «Базиль» (1933), «Умный мальчик» (1934) были, на мой взгляд, интересней тех, что появились позже: пьеса «Окно в лесу» (1945) о событиях минувшей войны, повести «Камень, кинутый в тихий пруд» (1964), «Домик на болоте» (в соавторстве с Е. Рыссом, 1959), пьеса о Чарльзе Дарвине «Даунский отшельник» (1944), повесть об Александре Невском «Кто с мечом войдёт» (1944), киносценарии «Михайло Ломоносов» (1954) и «Явление Венеры» (1961). Разве что последняя книга Рахманова «Люди – народ интересный» (1978) может не на шутку увлечь читателя: это – мемуары.
В них Рахманов, в частности, вспоминает совсем уже забытого писателя Василия Андреева: «Как-то на Невском Василий Михайлович остановил меня и тихо, без выражения, едва шевеля бесцветными губами, сказал: – Рахманов, вы умный человек, дайте в долг три рубля. Заранее говорю, что вряд ли отдам. Разумеется, я не мог отказать, и в награду Андреев рассказал мне о том, как однажды занимал у Тынянова. Рассказал так же тихо, скромно, с искренним, ничуть не наигранным сокрушением. Василий Михайлович жил где-то на Песках, недалеко от тыняновской квартиры, и когда его в очередной раз затёрло с финансами, он решился на крайний шаг – стрельнуть у Тынянова. Семья Тыняновых пила чай, что психологически несколько осложняло задачу, ибо Андреева усадили за стол и начался интересный разговор. Интересный для обоих – и для Андреева, и для Тынянова: они были полярно разные – один кабинетный, другой очень уличный, великолепно знавший быт дореволюционных ночлежек, петербургского дна, что доказывают его колоритные повести о ворье, скажем, «Волки» в альманахе «Ковш» 1924 года. – Чувствую, – рассказывал Василий Михайлович, – после такого разговора трудновато попросить в долг. В то же время пора и честь знать – десятый час. «Юрий Николаевич, говорю, со мной, как с Иваном Александровичем Хлестаковым, престранный случай: поиздержался в дороге. Вы не могли бы выручить?» Говорю и соображаю: чёрт, сколько назвать? Пятерку неудобно… солидный дом… пил чай с пирожными… десятку, пожалуй, тоже… попрошу двадцать… И слышу, как язык сам собой выговаривает: «Рублей сто!» Это меня Хлестаков подвёл – меньше трехсот, наглец, не просил… «Пожалуйста, Василий Михайлович, – говорит Тынянов, – пожалуйста, очень рад». Не помню, как вышел на Греческий… все лицо горит! И совестно… и досадно… – Но деньги взяли, Василий Михайлович? – Именно что не взял. Сказал, что неудачно пошутил. – Помолчав, Андреев добавил: – Ручаюсь, что Тынянов меня насквозь видел. На всех этапах визита, с самого начала».
Умер Леонид Николаевич 24 апреля 1988 года (родился 28 февраля 1908-го).
* * *
Глеб Иосафович Панфилов (родился 24 апреля 1886 года) ещё в 1914 году за стихотворение «Тинос» получил премию С.Я. Надсона. В 1915 году его стихи публиковались в журнале «Современник».
Он поначалу учился в военных заведениях. С отличием кончил Воронежский кадетский корпус, потом Александровское училище в Москве. Вышел подпоручиком инженерных войск в запасе. Окончил юридический факультет Московского университета с дипломом первой степени и с золотой медалью.
В 1914–1916 – на фронтах Первой Мировой – поручик сапёрного батальона. Награждён двумя орденами Святого Станислава и орденом Святой Анны.
С 1918 года работал в Харьковской кооперации. В 1920–1921 воевал добровольцем Красной Армии в Украине, на Кавказском фронте.
Работал в Центросоюзе, занимался книгоиздательством. Работал в Наркомвнешторге, в Комитете по делами печати при Совнаркоме, в Партиздате. Выпустил немало брошюрок по книжной торговле.
21 февраля 1935 года арестован. ОСО осуждён на 5 лет, этапирован в Забайкалье, в Бамлаг. Умер в лагере 21 июня 1938 года.
После Октябрьской революции его стихи не издавались. Одна из двух толстых тетрадей стихов, изъятых при обыске, в дальнейшем пропала.
В 1990 году журнал «Наше наследие» напечатал статью о Панфилове по воспоминаниям его сына с публикацией 12 стихотворений.
Эта публикация показывает, что Панфилов был неплохим поэтом:
Курок заржавленный Чернеет строже. Патроны вставлены Без лишней дрожи. О, сколько искренних Отвергнут помощь, О, сколько выстрелов Проглотит полночь. Поутру сходятся Из дальних комнат, О Богородице Твердят и помнят. Лежит застреленный В цветеньи вешнем. В глазных расселинах Стоит нездешнее. А в далях города Над злым конвертом Рыдают молодо О нём бессмертном.25 АПРЕЛЯ
Биография Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова (родился 25 апреля 1904 года) очень насыщена.
В гимназии учился в Симферополе. С 1920-го в эмиграции. Сперва в Болгарии, потом в Югославии. В 1925 окончил Белградский университет по специальности «романская филология и югославская литература». Преподавал французский язык в Черногории и в Дубровнике.
В 1929–1934 жил в Париже, учился в Высшей школе исторических и филологических наук при Сорбонне. Докторскую диссертацию защитил о ранних влияниях итальянской литературы Возрождения на французскую словесность XIV–XV веков. В мае 1934 избран приват-доцентом Белградского и Загребского университетов. В 1938 году в журнале «Смена» опубликовал статьи о «Тихом Доне» (1 том) и романе А.Н. Толстого «Пётр I». В результате был арестован югославской полицией. А номера журналов «за советскую пропаганду» были конфискованы.
В 1941 году участвовал в антифашистском движении «Народный фронт». Был узником концлагеря «Банница». С 1944 года воевал в партизанском отряде и в Народно-освободительной армии Югославии.
В августе 1946 получил советское гражданство, с 1947 начал выступать в советской печати. В 1949 году был арестован и провёл четыре года в тюрьме.
Летом 1955 окончательно переехал в СССР. Работал в ИМЛИ. Профессор МГУ. Член редколлегии серии «Литературные памятники», где подготовил к выходу в свет «Божественную комедию» (1967) и «Малые произведения» (1968) Данте. О Данте Илья Николаевич написал книгу в серии «ЖЗЛ». Русский читатель обязан Голенищеву-Кутузову знакомством с «Эпосом сербского народа», с произведениями Д. Боккаччо, с «Гептамероном» Маргариты Наваррской.
Он не только комментировал эти произведения, не только выступал их редактором, но лично переводил куски их теста.
Значительный интерес представляют работы Голенищева-Кутузова о «Слове о полку Игореве».
Умер Илья Николаевич 26 апреля 1969 года.
В 2004 году было издано собрание стихотворений Голенищева-Кутузова «Благодарю, за всё благодарю», а в 2008-м в серии «Классики поэтического перевода» – его избранные переводы «Трудись, огонь!..».
* * *
Шера Израилевич Нюренберг родился 25 апреля 1909 года. С 1928 года начал работать и печататься в газете «Известия». С 1937 года он подписывает свои произведения: Шаров, Александр Шаров.
Псевдоним прижился. Читатели к нему привыкли. Тем более что Шаров умеет очень занимательно рассказывать о самых разных вещах. Что он недаром до войны работал в отделе науки «Известий», свидетельствует его книга «Первое сражение: Повесть о вирусологах» (1962). Он любит сказки. И пишет их: «Кукушонок», «Мальчик-одуванчик и три ключика», «Человек-Горошина и Простак». Но он пишет не только сказки, но и о тех, кто их рассказывает: его книга «Волшебники приходят в людям» (1974) – одновременно и литературоведение, и увлекательные биографии, подобно лучшим в «Жизни замечательных людей».
Шаров любит игру в литературе. И это чувствуется. Это особенно воплощается в его фантастических вещах. В повести «После перезаписи» (1966) описано внедрение в нашу жизнь андроидов-«бисов». Он пишет повесть-памфлет «Остров Пирроу» (1965) и цикл рассказов о редких рукописях. Наконец, в жанре детской фантастики он пишет повесть «Малыш Стрела – победитель океанов».
Я хорошо помню, как одно время все зачитывались его замечательным очерком «Януш Корчак и наши дети», напечатанным в «Новом мире». Были в шаровской интонации не только восхищение героической личности, но и безысходная тоска, которые, сплавляясь, рождали новый стиль, какой долго ещё жил в тебе и после прочтения книги.
Мне думается, что примерно так же написана и книга Александра Шарова «Жизнь и воскрешение М. Бутова (Происшествие на Новом кладбище)», изданная через двадцать лет после смерти писателя его сыном. Она начинается со смерти главного героя, который посмертно вспоминает о своей жизни – об ошибках, заблуждениях, неосуществлённых хороших замыслах и об осуществлённых замыслах, плохих, ненужных, недостойных.
Умер Александр Израилевич Шаров 13 февраля 1984 года. А книга, о которой я веду речь, издана в 2013-м. Господи! Как хорошо, что рукописи не горят!
* * *
Лидия Николаевна Сейфуллина окончила гимназию в Омске. В 17 лет начала работать учителем начальной школы в Оренбурге. В 1917 году вступает в партию эсеров, но через два года вышла из партии.
В 1920 году учится в Москве на Высших научно-педагогических курсах. С 1921 года она – секретарь Сибгосиздата. Участвует в работе журнала «Сибирские огни» в Новосибирске.
С 1923 года жила в Москве и Ленинграде.
По поводу её повести «Правонарушители», которая её сделала известной, рассказывают, что Луначарский, находясь в Новосибирске, захотел познакомиться с талантливым татарским писателем, автором повести о правонарушителях. Председатель ревкома рассмеялся: «Это не молодой татарский, а молодая русская писательница Лидия Николаевна Сейфуллина».
Узнав об этом разговоре Сейфуллина уже в Москве, придя по какому-то делу к Луначарскому, спросила его: примет ли он талантливого татарского парнишку? Луначарский оценил юмор.
В Сибири её любили. Хорошо отнеслись к тому, что в первом номере «Сибирских огней» была целиком напечатана и собственная повесть Сейфуллиной «Четыре главы». Через некоторое время она вышла отдельным изданием.
А далее последовали «Перегной» (1922), «Правонарушители (1922), «Виринея» (1924)…
Она вышла замуж за Валериана Правдухина, с кем поселилась в квартире в проезде МХАТа, которую с удовольствием посещали С. Есенин, А. Новиков-Прибой, И. Бабель, М. Шолохов, М. Пришвин.
Вместе с мужем они переделали повесть «Виринею» в пьесу, которую взяли на свои сцены многие советские театры. Пьесу переводили, ставили в Праге, в Париже.
А у самой Сейфуллиной вышло первое собрание сочинений в 4 томах (1924–1926), которое выдержало четыре издания. В 1927–1931 – новое собрание сочинений. На этот раз в 7 томах. И тоже выдержало несколько изданий.
Позже, оглядываясь на свою жизнь, она писала в своей автобиографии: «Я – человек, рождённый и выросший в старом укладе, с иной моралью, с другими ценностями. Мне было двадцать восемь лет, когда пришёл Октябрь. Я выбирала сознательно и добровольно, уйти ли мне с ушедшими, или остаться гражданкой новой России.
Я не только выбрала Советскую Россию. В возрасте ещё более сознательном, в тридцать два года, я начала печататься в советских журналах, среди которых аполитичных нет. Этим самым я для себя навсегда определила идеологическую основу моих произведений.
Являясь хотя бы малозначительным представителем культуры класса, утверждающего законы в нашей стране, я себя считаю пролетарской писательницей, хоть числюсь в попутчиках.
Никакие внутренние разногласия в сфере самой литературы не заставят меня считать себя безответственной не только за советскую литературу, но и за политический строй страны, гражданство которой я приняла».
Сейфуллина добивается очень большой известности. Ей пишет ободряющее письмо Горький. С ней выступает Маяковский, и успехом их выступления дуэт обязан не только острослову Маяковскому, но и маленькой черноволосой женщине, которая завораживает залы своими произведениями.
Но – 1938 год. Арестован муж Лидии Сейфуллиной. Конечно, она не верит, что её Валериан – враг народа. Чего она только ни делает, чтобы в это не поверили и другие. Никто не отказывается ей помочь. И никто не может ей помочь: это выясняется очень скоро. Правдухин расстрелян. Сразу ей об этом не объявляют, но шила в мешке не утаишь…
Вместе с сестрой она переезжает на дачу. Пишет мало. И книг её выходит мало.
Но что было абсолютно несвойственно Сейфуллиной, – так это ипохондрия.
Вспоминает писатель Владимир Лидин:
«Я отнес ей книгу сам на дачу. Сейфуллина сидела одиноко на большом балконе своей какой-то неустроенной и не очень уютной дачи, чем-то напоминавшей и её личную неустроенную жизнь.
Действенное начало было в такой степени свойственно Сейфуллиной, что в 1942 году, не приспособленная к трудностям походной жизни, она по своей инициативе поехала на фронт, на передовые позиции, и, вероятно, не остановилась бы ни перед каким выражением силы своего духа. В доме отдыха на Оке она по своей же инициативе вынудила летчика взять её в полет на открытом самолёте, и он проделал вместе с ней не одну мёртвую петлю, которая закружила бы любого, но Сейфуллина вышла из самолёта гордая и счастливая, что выдержала испытание…
Она была принципиальна до строгости, и люди, пошедшие на сделку с совестью, Сейфуллину боялись. Её слово могло быть острым и беспощадным, и тогда оставалось только дивиться, какой могучий дух заключён в этой слабой и долгие годы болевшей женщине».
Я уже цитировал её автобиографию. Вот как она её заканчивает:
«Я не представляю себе существовать на «ничьей земле». Так верю и так поступаю. Вот мой партбилет.
Я не хочу прийти к концу моей жизни Иваном, не помнящим родства. Мое внутреннее «я» – всё, чем я прожила свою жизнь, – связано с коммунистической партией. Все мои выступления были по прямому адресу: партии коммунистов. Я никогда не думала «в кулак», потихоньку, про себя. Никогда не обращалась за разрешением моих сомнений в чужую или «около проходящую» среду. Я шла только к руководству нашей партии.
Перед лицом моей человеческой и писательской совести я не могу вспомнить ни одного поступка или выступления (не было случая в моей общественной, а, следовательно, и в политической жизни), когда бы я оказалась вне восприятия мира.
Каждый человек, ощутив на своих плечах лишний десяток лет, хочет самоопределения. У одного такое желание возникает раньше, у другого позже. У меня поздно – к шестидесяти годам.
Не хочу умереть беспартийной при той или иной катастрофе – даже не имея партийного билета, хочу знать: я коммунистка!»
Что можно сказать о таком завещании? Трудно представить, что Сейфуллина здесь лукавит. Да и зачем ей лукавить? Что же, «руководству нашей партии», которое писательница считает нравственным ареопагом, прощена казнь Правдухина, самого близкого ей человека?
Скорее всего, когда пишет это, она не думает о Правдухине. То есть заставляет себя не думать о нём. Нас уже убедил Лидин, какой могучий дух был заключён в этой женщине.
25 апреля 1954 года она скончалась (родилась 3 апреля 1889-го). Не разочаровавшись в идеалах, в которые свято верила. Трудно представить, что она продолжала бы в них верить, если б прожила хотя бы ещё три года.
26 АПРЕЛЯ
Первый сборник стихов Владимира Григорьевича Бенедиктова, который так непритязательно и назывался «Стихотворения Бенедиктова» вышел в 1835 году и был распродан почти мгновенно. Потребовалось новое издание. Оно вышло в 1838 году большим по тому времени тиражом в 1000 экземпляров. И снова издатели не просчитались.
«Он был в моде, – свидетельствует Яков Полонский, – учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали, приезжие из Петербурга модные франты хвастались, что им удалось заучить наизусть только что написанные и ещё не напечатанные стихи Бенедиктова, а наряду с этим заметно охлаждение к Пушкину. «Бориса Годунова» и «Капитанскую дочку» почти не читают».
В моде, да. Фет будет вспоминать, как ему удалось купить книжку Бенедиктова и целый вечер они с Аполлоном Григорьевым «с упоением завывали при её чтении».
«И я не хуже других упивался этими стихотворениями, – писал И.С. Тургенев, – знал многие наизусть». Тургенев же много лет спустя рассказывал Л. Толстому, как он «плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова и пришёл в ужасное негодование, услышав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку…».
«Появление стихотворений Бенедиктова произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бенедиктова. О статьях Полевого и Белинского они отзывались с негодованием и были очень довольны статьёю профессора Шевырёва, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский, говорят, до того был поражён и восхищён книжечкою Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею, и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками», – это из «Литературных воспоминаний» Ивана Панаева.
Перечислять поклонников Бенедиктова можно долго. Скажу только, что вся эта горячая волна увлечения его поэзией схлынула после появления статьи Белинского в «Телескопе» (1835): здесь память Панаева подвела.
Как раз удивительно, что пошедший против если не всех, то многих, Белинский сумел доказать, что стихи Бенедиктова – это поэзия не мысли, а пошлости. Подержавшийся ещё несколько лет интерес к стихам Бенедиктова упал. Любители поэзии приходили в себя как после глубоко обморока.
К чести Бенедиктова, он был человеком добродушным, незлым, обожал Пушкина и любил вспоминать, что, встретив Александра Сергеевича, которому послал книгу, услышал, что у него, Бенедиктова «удивительные» рифмы и что хорошо бенедиктовское сравнение неба с опрокинутой чашей.
Надо сказать, что Пушкин разглядел действительно великолепное четверостишие Бенедиктова:
Снова ясно, вся блистая, Знаменуя вешний пир, Чаша неба голубая Опрокинута на мир.Но в 1842 году Белинский как бы закрепит свой успех, заявляя: «О достоинстве и значении поэзии Бенедиктова спор уже кончен; самые почитатели его согласятся, что он то же самое в стихах, что Марлинский в прозе».
Однако на патриотической волне событий Крымской войны появляются новые стихи Бенедиктова. В 1856 году он выпускает трёхтомник. В следующем году «Новые стихотворения». Некоторые из них так поразили плывшего на пароходе из ссылки Тараса Шевченко, что тот, возвратясь в Петербург, захотел навестить Бенедиктова, о чём записал в своём дневнике.
Но и эти стихи были дезавуированы пародией Козьмы Пруткова, статьями революционно-демократических критиков. Так что Бенедиктов почти прекратил писать стихи. Занялся переводами, где, на мой взгляд, добился большого искусства. Но публика это не оценила.
Скончался Владимир Григорьевич 26 апреля 1873 года (родился 17 ноября 1807-го).
Ему не повезло. Когда-то Станислав Рассадин назвал свою статью о нём «Неудачник Бенедиктов». Да. От громокипящей славы к холодному забвению – такой путь удачным не назовёшь.
Но забыт Бенедиктов незаслуженно. Вот как он писал:
Плаватель по морю бурному носится, Где бы маяк проблеснул? У моря жадного дна не допросится, Берег – давно потонул. Там его берег, где ты зажигаешься, Горний маяк для очес! Там его дно, где ты в небо впиваешься, Сребряный якорь небес!А его переводы, как я уже сказал, вообще подчас выглядят шедеврами. Перевёл он многих поэтов. Мицкевича, по-моему, блистательно. Шекспира – превосходно. Хотя по скромности даже снимал с сонетов, которые переводил, шекспировские номера. И всё же прославленный шекспировский 66-й, который переводили многие, переведён Бенедиктовым лучше многих:
Я жизнью утомлён, и смерть – моя мечта. Что вижу я кругом? Насмешками покрыта, Проголодалась честь, в изгнанье правота, Корысть – прославлена, неправда – знаменита. Где добродетели святая красота? Пошла в распутный дом: ей нет иного сбыта!.. А сила где была последняя – и та Среди слепой грозы параличом разбита. Искусство сметено со сцены помелом: Безумье кафедрой владеет. Праздник адский! Добро ограблено разбойническим злом; На истину давно надет колпак дурацкий. Хотел бы умереть; но друга моего Мне в этом мире жаль оставить одного.* * *
Двоюродная сестра писателя Григория Петровича Данилевского (родился 26 апреля 1829 года), Ефросинья Осиповна Данилевская, приходилась бабушкой поэту Маяковскому.
Григорий Петрович учился в Московском дворянском институте (1841–1846), затем на юридическом отделении Санкт-Петербургского университета. По ошибке вместо однофамильца был привлечён по делу Петрашевского и просидел в Петропавловской крепости в одиночной камере. В 1850-м окончил университет.
В 1850–1857 служил в Министерстве народного просвещения и не раз получал командировки в архивы южных монастырей. 1856 году был одним из чиновников, посланным великим князем Константином Николаевичем для изучения различных окраин России.
Ему поручили описать прибрежья Приазовья и устья Дона. Выйдя в отставку, поселился в своих имениях, работал в различных харьковских общественных организациях. В 1868 поступил было в присяжные поверенные Харьковского округа, но вскоре получил место помощника главного редактора «Правительственного вестника», а в 1881 году был назначен главным редактором этой газеты.
Надо сказать, что писал Данилевский легко и быстро, и потому его служба не мешала его писательству.
Начал печататься он в «Библиотеке для чтения». Поле дебютного стихотворения 1846 года он опубликовал поэму из мексиканской жизни «Гвая-Ллир» (1849), «Украинские сказки», цикл «Крымские стихотворения», переводы из Шекспира, Байрона, Мицкевича.
Его проза считается удачнее стихов. Публика хорошо приняла повести из малороссийского быта и старины, собранные в книгу «Слобожане (1854). Хотя И.С. Тургенев написал на неё такой отзыв, что не поймёшь, нравится ли ему или нет эта книга. Отзыв составил всего одно предложение: «Гладкая, белая, превосходно сатинированная бумага, на которой напечатаны «Слобожане» г-на Данилевского, как нельзя лучше соответствует той претензии, которою исполнены все его рассказы, взятые вместе и порознь».
Первый роман «Беглые в Новороссии» (1862), подписанный псевдонимом А. Скавронский, обратил на себя внимание читателей. За ним последовали романы «Беглые воротились» (1863) и «Новые места» (1867).
Уже по поводу «Беглых в Новоросии» М.Е. Салтыков-Щедрин издевательски (отчасти, справедливо) писал: «Приметив, что большинство наших романистов и повествователей в произведениях своих обращают преимущественное внимание на психологическую разработку характеров и на разрешение тех или других жизненных задач, интересующих общество, фабулу же собственно ставят на отдалённый план, г. Данилевский решился поступить совершенно наоборот, то есть начал писать романы и повести совсем без всякой мысли, с одною фабулой». А заканчивал свой отзыв Салтыков-Щедрин откровенно издевательски: «Во всяком случае, мы отменно рады, что попытка основать новую литературную школу легкомыслия на первый раз не обещает больших успехов».
Большие произведения 1870-х и 1880-х годов Данилевский печатал в респектабельных «Русском Вестнике» и «Русской мысли». В библиографическом отделе «Правительственного Вестника» отзывы на Данилевского были, как правило, благоприятные.
После «Девятого вала» (1874) Данилевский пишет повесть «Потёмкин на Дунае» (1878), которой начинает свой цикл исторической беллетристики. Поначалу Данилевский-историк следует традициям М. Загоскина. Но отошёл от них ради авантюрной увлекательности, которая в его время отличала только его и никого больше. «Мирович» (1879), «На Индию при Петре» (1880), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожжённая Москва» (1886), «Чёрный год» (1888). Полное собрание Данилевского (сначала в 4, позднее в 9 томах) выдержало с 1876 года 7 изданий. Справедливости ради, следует отметить, что книги выходили не слишком большими тиражами. За книгу «Украинская старина» писатель был удостоен малой Уваровской премии.
Очень любопытен его фантастический рассказ «Жизнь через сто лет»: в 1968 году человечество, по мнению Данилевского, будет обеспечено централизованным снабжением городов водой, электричеством и теплом; спектакли будут транслироваться по телефону, Англию и Францию свяжет подземная железная дорога, а на месте пустыни Сахары будет искусственное море.
Хотя художественное дарование Данилевского оценивалось критиками невысоко, занимательность его произведений неизменно привлекала читателей. Данилевскому далеко не всегда удавались характеры действующих лиц, описания местности, природы. Но неизменная интрига повествования держала читателей в напряжении.
К тому же исторические повествования Данилевского отличало превосходное знание писателем материала, который он взялся описывать. Он нередко обращался к первоисточникам и свидетельствам современников.
Думаю, что это обстоятельство послужило тому, что такие вещи Данилевского, как «Мирович» и «Княжна Тараканова» до сих пор пользуется успехом у читателя.
Умер Данилевский 18 декабря 1890 года.
27 АПРЕЛЯ
Гоша Садовников, с которым мы подружились лет сорок пять назад. Оба мы знали Володю Максимова. Гоша, то есть Георгий Михайлович (родился 27 апреля 1932 года), рассказывал, как бедствовал он, учась в Краснодарском пединституте, как пришёл к нему в общежитие Максимов, как повёл его в хороший ресторан, предварительно, когда одевались, очень внимательно рассмотрев его (Гошино) летнее пальтишко, которое было не по погоде.
Накормил Максимов Садовникова и потащил на рынок. Там рядом продавали вещи частники. Подвёл Володя Гошу к одному, продававшему очень приличное пальто. «Померь», – говорит. Пальто оказалось впору. «И так тепло в нём стало, – рассказывал Гоша, – что от одной мысли, что его нужно будет сейчас снять, душа заныла». «Подходит?» – спрашивает Максимов. И, получив утвердительный ответ, не в карман за деньгами лезет, а отворачивает рукав: часы у него золотые. Так и поменяли вещи.
Гоша в войну потерял родителей, и с 1943 года учился в Суворовском училище в Астрахани, потом в Оренбурге. А потом попал в Краснодар.
В Москву переехал, получив какую-то международную премию за рассказ на московском конкурсе.
Стал печататься как писатель для юношества. Был автором «Юности». Повесть «Иду к людям» (1962) легла в основу сценария первого советского телесериала «Большая перемена», который принёс Гоше всесоюзную известность.
Книг выпустил немало. «Продавец приключений» (1970), «Приключения продавца приключений» (1970), «Спаситель океана, или Повесть о странствующем слесаре» (1974), «Пешком над облаками» (1980). Это – первое, что вспоминается. Удачей было, что они выходили, как правило, в издательстве «Детская литература», где тиражи были побольше, чем в «Советском писателе». И, стало быть, гонорар тоже был больше.
После перестройки Гоша вступил в либеральное сообщество писателей «Апрель», работал в издательской группе вместе с А. Рекемчуком, В. Оскоцким.
Умер он 24 ноября 2014 года. На 83-м году жизни.
28 АПРЕЛЯ
Сталинскую премию Валентина Александровна Осеева, родившаяся 28 апреля 1902 года (умерла 5 июля 1969-го), получила за две книги романа «Васёк Трубачёв и его товарищи». Третья вышла почти сразу, но премии не получила. Я читал этот роман о школьной жизни, и он мне понравился. А один из двух фильмов, снятых по «трубачёвскому» сценарию, – второй «Отряд Трубачёва сражается», появившийся через пять лет после последней книги, – не понравился активно. Он отличался патетикой, которой не было в первом, и которая показалась мне идущей вразрез с тональностью этой писательницы.
Тем более что я ещё до «Трубачёва» читал детские рассказы Осеевой – живые и естественные.
Думаю, что «Васёк Трубачёв и его товарищи» способны надолго остаться в литературе, несмотря на их советские реалии.
* * *
Мне не нравились стихи Валентина Митрофановича Сидорова (родился 28 апреля 1932 года), хотя его первая книжка «Город после дождя» (1959) была объявлена в Постановлении ЦК ВЛКСМ «идейно-порочной и ревизионистской».
Но уже через два года в «Молодой гвардии» выходит книга «Дом моего детства», к которой ЦК ВЛКСМ претензий не имеет: быстро вылечился Сидоров от идейной порочности, быстро перестал быть ревизионистом.
Он окончил филологический МГУ и аспирантуру Литературного института. С диссертацией тянул долго. Наконец, защитил её в 1978-м на тему «Литературно-эстетические взгляды и поэзия Николая Рериха».
Защитил после того, как увлёкся Рерихом. Он и в стихах стал ему подражать, стал проповедовать идеи Рериха.
Он преподавал в Литературном институте. Я никогда не был на его занятиях. Но догадываюсь, что он старался заинтересовать студентов Рерихом.
Он написал повести и эссе «На вершинах (Творческая биография Рериха, рассказанная им самим и его современниками)» (1977), «По маршруту Рериха» (1979), «Семь дней в Гималаях» (1982), «Знаки Христа» (1992). Он составил первую в СССР книгу стихов Рериха «Письмена» (1974), первую книгу литературных произведений Рериха «Избранное» (1979). В 1974 он имел контакты с Рерихом. Входил во вновь образовавшуюся Комиссию по культурно-художественному наследию Рериха при Государственном музее Востока. В 1987 возглавил комиссию по литературному наследию Рериха при Союзе писателей.
В 1989 избран президентом Всесоюзной ассоциации «Мир через Культуру» (с 91-го её статус – международный).
В 1990 году вышел двухтомник произведений В. Сидорова, а в 1999–2001 – пятитомник. То есть, посмертный. Он умер 16 июля 1999 года.
Стихи его мне по-прежнему не нравились. И ещё я никак не мог понять, как при таком коленопреклонённом отношении к Рериху можно быть антисемитом. А Сидоров им был.
29 АПРЕЛЯ
Василий Васильевич Каменский (родился 29 апреля 1884 года) был не только одним из первых русских футуристов, но и одним из первых русских авиаторов.
В 1908 году работал замом главного редактора журнала «Весна», где познакомился со столичными поэтами и писателями, в том числе с Бурлюком, у которого учился живописи, с Хлебниковым и другими.
В 1911 году ездил в Германию и во Францию, где обучался лётному делу, на обратном пути побывал в Англии, в Вене. Недолгое время был авиатором, освоил моноплан «Блерио XI». После авиакатастрофы в Ченстохове 29 апреля 1912 года жил в пермском посёлке. В 1913-м переехал в Москву, где примкнул к группе кубофутуристов, участвовал в её деятельности, в издании ею сборника «Садок судей». Вместе с Маяковским и Хлебниковым путешествовал по стране с выступлениями, с чтением своих футуристических произведений.
В 1916 году жил под Пензой. Перерабатывал в пьесу свою поэму «Степан Разин» и занимался усовершенствованием своего аэроплана и проектированием аэросаней.
В 1914 году выходит его сборник «Танго с коровами», в 1915 – поэма «Степан Разин». В 1919 она переработана в пьесу, в 1920-м – в роман.
Как и все футуристы, с восторгом принял Октябрьскую революцию. Вёл в Красной армии культработу. Входил в группу «ЛЕФ».
В 1930-х писал мемуары, изданные в 1968 году.
С конца 1930-х тяжело болел. Ему ампутировали обе ноги. 19 апреля 1948 года Каменского сразил инсульт, и последние годы жизни он провёл парализованным.
Умер 11 ноября 1961 года.
Любопытно, что именно Василий Каменский ввёл в обиход русского языка слово «самолёт». До этого летательные аппараты называли «аэропланами».
Стихотворение «Чурлю-журль» даёт представление о его поэтической манере:
Звенит и смеётся, Солнится, весело льётся Дикий лесной журчеёк, Своевольный мальчишка: Чурлю-журль, Чурлю-журль. Звенит и смеётся, И эхо живое несётся Далёко в зелёной тиши! Корнистой глуши: Чурлю-журль, Чурлю-журль. Звенит и смеётся. Отчего никто не проснётся И не побежит со мной Далеко в разгулье: Чурлю-журль, Чурлю-журль. Смеётся и солнится, С гор несёт песню И не видит, лесная лесника Низко нагнулась над ним. И не слышит цветника Песню ответную, Еще зовно зовёт: Чурлю-журль, А чурлю-журль.* * *
Стихи Анны Барковой я впервые прочитал старшеклассником в антологии И. Ежова и Е. Шамурина, изданной в двадцатые годы. Её давал мне читать отец моего школьного друга. Он таким образом приобщал меня к запретной тогда поэзии Серебряного века.
Фамилию я запомнил, а стихи нет. Они не произвели тогда на меня никакого впечатления.
А много лет спустя я узнал о страшной судьбе Анны Александровны Барковой.
Оказывается, она уже в 1925 году оценила современную ей действительность:
Пропитаны кровью и жёлчью Наша жизнь и наши дела. Ненасытное сердце волчье Нам судьба роковая дана. Разрываем зубами, когтями, Убиваем мать и отца. Не швыряем в ближнего камень — Пробиваем пулей сердца. А! Об этом думать не надо?Не надо. Но она думала. И писала об этом.
Стихи, конечно, несовершенные, но мастерство их автора меньше всего интересовало тех, кто составлял проскрипционные списки после убийства Кирова в 1934 году и получил широкие полномочия действовать, сверяясь с ними.
В конце 1934-го Анну Баркову арестовывают и заключают на пять лет в Карлаг (1935–1939). После выхода из лагеря отправляют в Калугу, где она с 1940 по 1947 годы живёт под административным надзором. В 1947 году арестовывают повторно, отправляют в Инту, в знаменитый концлагерь, где она находится до 1956 года. «Не имея родных «на воле», она не получала никакой помощи извне», – вспоминают о Барковой её солагерницы.
Год после этого живёт в украинском посёлке Штеровка недалеко от Луганска. Получила реабилитацию.
Но в Штеровке она дружит с портнихой, которая шьёт на дому. У кого-то из клиенток нет денег на оплату, и та действует проверенным способом: доносит органам на портниху и Баркову, что они, как будет повторено в суде доносчицей и её друзьями, «опошляли советскую печать и радио». Учитывая прошлое Барковой, суд не сомневается в правдивости свидетельств.
Арестованная в ноябре 1957 года, она обвинена в антисоветской агитации и отправлена в мордовский лагерь, из которого выходит только в 1965 году.
С 1934 по 1965-й! 31 год вырезан из жизни! В 33 года познакомилась Баркова с советской пенитенциарной системой. В 64 вышла на волю. Вышла инвалидом, и, реабилитированная, направлена в инвалидной дом, в мордовскую Потьму.
В это время о ней узнают Твардовский и Федин. Благодаря их хлопотам она возвращается в 1967 году в Москву.
Живёт в комнате коммунальной квартиры на Суворовском (теперь – Никитском) бульваре. Её принимают в Литфонд. Ей назначают пенсию – 75 рублей.
Некогда – в 1922-м – ей помог выпустить книжку «Женщины» Луначарский. Ему её стихи понравились, о чём он сообщил в предисловии к книжке: «Трудно допустить, что, кроме краткого жизненного опыта и нескольких классов гимназии, ничего не лежит в её основе. Ведь в конце концов это значит, что в основе книги лежит только богато одарённая натура».
А перед этим Луначарский писал ей самой: «…у Вас богатые душевные переживания и большой художественный талант. Вам нужно всё это беречь и развивать. Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за всё пройденное время русской литературой, но, разумеется, это при условии чрезвычайного отношения к собственному дарованию».
Луначарский умер в 1933-м. Трудно сказать, смог бы он помочь Барковой избегнуть страшных испытаний, свалившихся на неё. Скорее всего, не смог бы.
А что до «чрезвычайного отношения к собственному дарованию», то в условиях нечеловеческого существования такое отношение выработать, конечно, трудно. Баркова оставила не стихи, а зарифмованные свидетельства ужасающего быта тех, кого людоедская власть объявила своими врагами. Потому их не печатали при её жизни (умерла 29 апреля 1976 года, родилась 16 июля 1901-го). Начали печатать только в перестройку, в 1990-м. Говорят, что и сегодня опубликовано далеко не всё из её наследия. Что в общем-то понятно: не укладываются её свидетельства в ту розовую картину прошлого, которую рисуют сейчас придворные историки. Вот – опубликовали, и как теперь растолковать нынешней молодёжи эти строчки:
И вот благополучие раба: Каморочка для пасквильных писаний. Три человека в ней. Свистит труба Метельным астматическим дыханьем. Чего ждёт раб? Пропало всё давно, И мысль его ложится проституткой В казённую постель. Всё, всё равно. Но иногда становится так жутко… И любит человек с двойной душой, И ждёт в свою каморку человека, В рабочую каморку. Стол большой, Дверь на крючке, замок-полукалека… И каждый шаг постыдный так тяжёл, И гнусность в сердце углубляет корни. Пережила я много всяких зол, Но это зло всех злее и позорней.30 АПРЕЛЯ
Владимир Георгиевич Полетаев единственную свою книжку не увидел. Он покончил с собой, выбросившись из окна пятого этажа 30 апреля 1970 года. А Олег Чухонцев составил и выпустил книжку Полетаева в тбилисском издательстве «Мерани» в 1983 году. Книга называется «Небо возвращается к земле» (в названии сквозит намёк на трагедию).
При жизни он публиковался немного. Больше переводил. Больше всего грузинских поэтов.
С болью читаешь такое его стихотворение:
…когда приметы листопада закопошатся там и сям, когда незваная прохлада уже бежит по волосам, когда над городом упорно играет чёрная валторна, и на развалинах жары пируют старые дворы, и розовая Поварская, заученная наизусть, закружится, а я смеюсь, и рук твоих не выпускаю, и недоделаны дела, а ты проста и весела… Вот небо хлынуло потоком и нам загородило путь, и так легко его потрогать — лишь только руку протянуть.Володя Полетаев родился 27 августа 1951 года. И, стало быть, погиб на 19 году жизни.
* * *
Ах, кто не знает этой полухулиганской ёрнической «Песни о майоре Пронине» прекрасного нашего Юза Алешковского? Напомню только, что Джон Профьюмо – военный министр Великобритании погорел на том, что общался с девушкой по вызову Кристин Киллер, которая в свою очередь общалась с советским военно-морским атташе в Лондоне, по совместительству – разведчиком.
Лондон – милый городок, там туман и холодок, Профьюмо – министр военный, слабым был на передок. Он парады принимал, он с Кристинкой Киллер спал и ужасные секреты ей в постели выдавал. Вышло так оно само — спал с Кристинкой Профьюмо, а майор товарищ Пронин кочумал всю ночь в трюмо. Лондон – милый городок, там туман и холодок, только подполковник Пронин ни хрена просечь не смог. Он сказал себе: «Ны-ны, мы не так печём блины, чтобы выведать все тайны мы отныне влюблены». И японский атташе был Кристинке по душе, отдалась ему девчонка через полчаса уже. Он в соитии молчал, обстановку изучал, чтобы выведать все тайны, трое суток не кончал. Дело было таково, что, добившись своего, он был премирован «маздой» и полковничьей звездой. Лондон – милый городок, там туман и холодок. Если ты министр военный, контролируй передок.А откуда Юз взял этого майора Пронина, так ловко благодаря Кристинке пролезающего в полковники? О, начиная с сороковых годов, майор Пронин был очень популярным литературным героем России.
Естественно, что не Алешковский был его отцом. Отцом этого легендарного разведчика был Лев Сергеевич Шаповалов, превративший в псевдоним свою усечённую фамилию: Овалов.
Одно время Лев Овалов был известнее не меньше, чем какая-нибудь Дарья Донцова!
Оказавшись в детстве в орловском селе Уездное Малоархангельского уезда, он уже в 15 лет вступает в партию, а через год назначается секретарём Малоархангельского уездного комитета РКСМ.
Через два года он направлен на работу в МГУ, учится на медицинском факультете, работает заведующим библиотекой. И одновременно посещает занятия в литературном кружке «Антенна» при Хамовническом райкоме партии. Проба пера происходит именно здесь. Его статьи, очерки под псевдонимом Лев Овалов публикуют московские газеты. В 1928 году (в 23 года!) он главный редактор журнала «Селькор». В 30-е годы Лев Овалов, корреспондент «Комсомольской правды», главный редактор (!) журналов «Вокруг света» и «Молодая гвардия».
Растёт со скоростью повышения в звании Пронина из песни Алешковского! Впрочем, вот он выходит на свет майор Пронин: в 1939 году главный редактор журнала «Вокруг света» Лев Овалов печатает у себя рассказ «Синие мечи», где и появляется впервые интересующий нас герой. За год (1939–1940) Овалов в журналах «Вокруг света» и «Знамя» печатает ещё 6 рассказов о майоре Пронине. В 1941 году выходит сборник рассказов об этом майоре-разведчике и в журнале «Огонёк» печатается роман «Голубой ангел», продолжающий серию о майоре Пронине.
Однако 5 июля 1941 года Лев Овалов арестован. За что? Скорее всего, как считают многие, за роман «Ловцы сомнения», напечатанный в панфёровском «Октябре».
Не зря Панфёров после выхода этого романа стал отрекаться от него, писал секретарю Сталина Поскрёбышеву, что главная роль в его публикации принадлежит Фадееву и Киршону. В «Ловцах сомнения» были приведены подлинные лозунги «левой оппозиции» и весьма прозрачно выведены иные её члены. Поэтому все, кто так или иначе был с ней связан, закономерно воспринял это как завуалированный донос. Именно так оценил роман Варлам Шаламов: «…Когда-то на Колыме я обещал себе, что, если вернусь и войду в литературные круги, не подам руку двум литераторам: Льву Овалову за его подлейший роман «Ловцы человеков» и Н. Вирте за не менее омерзительную «Закономерность». Показательна эта аберрация памяти: «Ловцы сомнения» превратились в «Ловцов человеков».
Иными словами, легко предположить, что в этом романе Овалов, с одной стороны, доносит не тех, кто борется против сталинской линии партии, а, с другой стороны, скрупулёзно, дотошно воспроизводит их тезисы и лозунги, которые засекречены для обывателя.
Вот в таком разглашении секретных сведений и обвинён Овалов. За это он осуждён. 15 лет он провёл в уральских лагерях и в ссылке, там и там работая по основной своей специальности – врачом.
В то же время его младший брат Дмитрий закончил военное училище, встретил Великую Отечественную войну лейтенантом и в одном из первых же боёв попал в плен. Из немецкого концлагеря его освободили союзники. Но на родину Дмитрий не вернулся. Осел на постоянном месте жительстве в канадском Монреале.
Канадский брат разыскал русского за несколько лет до смерти обоих. Встречи не было, но возникла бурная переписка.
А Лев Овалов в 1956 году был реабилитирован, вернулся в Москву. И с 1957 года написал и опубликовал ещё три романа о майоре-сыщике, из которых в моём отрочестве были невероятно популярны «Букет алых роз» и «Медная пуговица», а в моей юности – «Секретное оружие».
Но – всё. На этом Лев Овалов со своим героем простился. Больше к майору Пронину он не возвращался. Несмотря на то, что Овалова за майора очень хвалили. Даже такой критик, как Виктор Шкловский, сказал: «Советский детектив у нас долго не удавался потому, что люди, которые хотели его создать, шли по пути Конан Доила. Они копировали занимательность сюжета. Между тем можно идти по линии Вольтера и ещё больше – по линии Пушкина. Надо было внести в произведение моральный элемент… Л. Овалов напечатал «Рассказы майора Пронина». Ему удалось создать образ терпеливого, смелого, изобретательного майора государственной безопасности Ивана Николаевича Пронина».
По правде сказать, прочитав такой панегирик майору государственной безопасности, я ему не очень поверил. Шкловский был известным лукавцем. Особенно, когда речь шла об учреждении, где работал майор. Однажды, встретив критика Сарнова, он победно поведал ему: «Был в Италии. Еду во Францию. В Германии переводится моя книга. В общем, «я от бабушки ушёл». На что Борис Слуцкий, которому Сарнов передал радостные слова Шкловского, сказал: «Боюсь, он недостаточно хорошо представляет себе характер этой бабушки».
Да, нет. В том-то и дело, что характер бабушки Шкловский представлял себе прекрасно. Поэтому и определил Льву Овалову не чью-нибудь линию, а Пушкина, следуя которой только и мог возникнуть даже не просто майор товарищ Пронин, а майор государственной безопасности Иван Николаевич Пронин! Какая, право, удивительная удача для пушкинского последователя – воссоздать подобного героя!
Умер этот удачливый писатель 30 апреля 1997 года (родился 29 августа 1905-го).
* * *
Кого мне действительно жалко, так это Владислава Андреевича Титова.
Мне ещё в «Юности» говорили, что к ним пришла рукопись какого-то безрукого инвалида, бывшего шахтёра, из которого Полевой хочет сделать нового Николая Островского. Поэтому дал задание переписать и довести до приличного уровня.
Переписчики старались. Но до приличного уровня довести не смогли. Напечатали повесть «Всем смертям назло».
Нашей «Литературке» было приказано её расхвалить. Кажется, для этого ездил в Луганск наш корреспондент Мар, большой любитель приукрашивать и выдумывать эпизоды за интервьюируемых рабочих или инженеров.
Практически на эту повесть откликнулась вся пресса.
И безрукого Титова, писавшего карандашом в зубах, не просто сделали членом Союза писателей, но избрали руководителем Луганской организации.
Я его и его жену Риту постоянно видел в Харькове в 1980 году, куда меня послали от Союза писателей на конференцию по рабочему классу в литературе. Видел в гостинице, видел в ресторане, где мы питались (Рита кормила мужа с ложечки). Видел на трибуне, где он делился со всеми творческими планами.
Он уже написал ещё одну повесть «Ковыль – трава степная».
Особенно неловко я чувствовал себя, когда объявили, что приветственное письмо от конференции в ЦК КПСС прочтёт Владислав Андреевич Титов.
Он вошёл на трибуну, где уже лежал текст письма, и прочитал его с выражением.
Потом появились новые его вещи «Жизнь прожить», «В родной земле корням теплее», роман «Проходчики».
Но их почему-то не рекламировали. Они проходили незамеченными.
Хотя за короткое время наградили щедро. Дали два ордена и медаль. Сделали лауреатом Всесоюзного литературного конкурса имени Н. Островского. Дали республиканскую комсомольскую премию за пьесу «Всем смертям назло», которую переделали из повести. Дали Госпремию Украины им. Т. Шевченко.
Он умер 30 апреля 1987 года, оставив незаконченной повесть. Родился 10 ноября 1934-го.
В Луганске открыли его музей-квартиру, директором которой сделали Риту.
Жалко человека. Зачем этот цирк в литературе?
* * *
Я прочитал книгу Абдурахмана Геназовича Авторханова «Технология власти» ещё при Советах в тамиздате. Конечно, она произвела на меня глубокое впечатление. Человек, много лет работавший в партийном и государственном аппарате, вскрывает суть механизма власти Сталина.
Историк Р. Медведев говорит о том, что в книге Авторханова много неточностей. Но я замечал неточности и даже прямые искажения фактов в книгах Роя Медведева. Так что веры у меня к нему нет.
Да и о каких неточностях может идти речь, когда Авторханов рассказывает о жизни партийного аппарата, о том, как легко было упасть с вершины при Сталине, о том, как советский диктатор обманывал народ, обманывал порой и близких друзей, чтобы достичь желаемого результата.
Иное дело, когда уже во времена перестройки я прочитал другую его книгу «Загадка смерти Сталина». Ту он писал как свидетель, как непосредственный участник событий. Эту – по слухам, опираясь на интуицию.
И «Загадка смерти Сталина» меня разочаровала.
Авторханов ушёл к немцам в 1941-м, покинул СССР, убеждённый, что ничего в нём не изменится.
Поверить в то, что при Сталине могли существовать какие-то заговоры ближайшего окружения, ему было нетрудно: он помнил о Рюмине, об Угланове. Понимал он, что Берия, Молотов, Ворошилов и другие догадывались об участи, которая их ожидает, умри Сталин десятилетием позже: конечно, Сталин задумывал процесс над ними по типу бухаринского.
Но он (Авторханов) переоценил их жажду жить. Во имя неё он наделил их способностью идти на всё.
А они не были на это способны. Это были трусы, рассчитывающие на авось.
Цену им показал Хрущёв, которому удалось их всех убрать.
После перестройки Авторханов стал бывать у нас в стране, пытался уладить чечено-русский конфликт.
Но ему это не удалось.
Умер 30 апреля 1993 года. Родился по неточным данным 3 ноября 1908-го.
1 МАЯ
Григорий Александрович Гуковский (родился 1 мая 1902 года) в молодые годы пережил увлечение символистской культурой, но в конечном итоге оказался близок к формалистам.
В 1923 году окончил факультет общественных наук ленинградского университета. Четыре года был преподавателем средней школы.
С 1924 по 1930 – старший научный сотрудник в Государственном музее истории искусств.
С 1930 по 1935 – доцент, потом профессор Коммунистического университета журналистики. С 1935 – профессор ЛГУ, затем заведующий кафедрой русской литературы. Одновременно с 1931 по 1941 – старший научный сотрудник Института литературы АН СССР. В 1934-м в Пушкинском доме была сформирована группа по изучению русской литературы XVIII века. Её возглавил Гуковский.
Предложенная Гуковским социологическая интерпретация русской литературы XVIII века принята до сих пор, но с оговорками.
В его научной трилогии «Пушкин и русские романтики», «Пушкин и проблемы реалистического стиля», «Реализм Гоголя» прочерчен путь от марксизма к гегельянству: выстроена телеологическая модель истории русской литературы: государство – личность – народ, где народная литература реализма выступает в роли диалектического синтеза двух предыдущих стадий.
На мой взгляд, Гуковскому мешала социологическая зашоренность. Из-за чего некоторые места в книгах хранят на себе след вульгарной социологии.
С 1937-го – он заведующий кафедрой литературы Ленинградского института усовершенствования учителей. С 1938-го – заведующий сектором ленинградского отделения Академии педнаук.
В октябре 1941 арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде. Через месяц освобождён из-за недостатка улик. После первой блокадной зимы в Ленинграде в марте 1942 эвакуировался вместе с университетом. Читал лекции в Саратовском университете, затем стал проректором по научной работе в этом университете. Некоторое время преподавал в ГИТИСе. В Ленинград вернулся в 1948-м.
В июля 1949 был арестован в рамках кампании борьбы с космополитизмом. Донос на него написал его ученик, будущий профессор Западов. Умер 2 апреля 1950-го в московской тюрьме Лефортово от сердечного приступа.
А учёный был выдающийся.
* * *
Александр Сергеевич Кочетков всенародную славу обрёл своим стихотворением «Баллада о прокуренном вагоне», которое многие называют «С любимыми не расставайтесь». Написано оно было в 1922 году. Но почему-то долго не могло попасть в печать. Его пробил в «День поэзии-1966» неугомонный Лев Адольфович Озеров.
В 1976 году в исполнении Андрея Мягкова и Валентины Талызиной баллада целиком прозвучала в кинофильме Рязанова «Ирония судьбы». И немедленно стала шлягером второй половины XX века. По её строчке «С любимыми не расставайтесь» названа пьеса А. Володина, по которой Павлом Арсеновым снят одноимённый фильм.
Баллада была написана под впечатлением от случайного спасения её автора. Чтобы отсрочить расставание со своей женой на три дня, Кочетков сдал билет на поезд Москва-Сочи, который на станции Москва-Товарная попал в катастрофу.
Большего успеха Кочетков не знал. Хотя написал немало стихов и даже несколько пьес в стихах. Был он очень хорошим поэтом и талантливым переводчиком. Иные его стихи не уступают по силе знаменитой «Балладе о прокуренном вагоне».
К примеру:
Из вихря, холода и света Ты создал жизнь мою, Господь! Но чтобы песнь была пропета, Ты дал мне страждущую плоть. И я подъемлю с горьким гневом Три ноши: жалость, нежность, страсть, — Чтоб всепрощающим напевом К Твоим ногам порой упасть. И сердца смертную усталость Ты мучишь мукой долгих лет — Затем, чтоб нежность, страсть и жалость Вновь стали – холод, вихрь и свет!Умер 1 мая 1953 года (родился 12 мая 1900-го).
* * *
Я приехал в Тольятти, где только что заработал автомобильный завод, с группой писателей, которую возглавлял Виль Липатов. Незадолго до этого он женился на падчерице всесильного Вадима Кожевникова – юношеского кумира Владимира Путина – и был стараниями Кожевникова избран секретарём Союза писателей РСФСР. Всё бы хорошо, но имел Виль серьёзный изъян: пил. И пил по-чёрному, комкая этим свои и чужие графики и планы. На только что построенный автомобильный завод мы приехали без него. А он появился через два дня: почерневший, с огромными мешками под глазами. Однако объяснил почтительно внимавшим ему местным начальникам, что задержали его в ЦК. «Б-был оч-чень с-серьёзный разг-говор с оч-чень в-выс-сокими людьми», – говорил им от природы заикающийся Виль. Те понимающе кивали головами.
В Куйбышеве Виль Владимирович попросил, чтобы его посадили за общий стол к писателям. Партийные работники удивились, но согласились. Обычно глава делегации обедал с ними в отдельном кабинете. Но я понял Виля: представить, что в отдельном кабинете не будет водки, было бы немыслимо. И Виль боялся сорваться.
И всё-таки обратно в Москву его внесли в вагон. Он занял СВ, который проводник запер, и открыл только после очень настойчивого стука каблуком и трёхэтажного мата.
Конечно, Виль потребовал водки. И, конечно, он, в конце концов, её получил.
Между прочим, он впервые напечатался ещё в катаевской «Юности» в 1956 году с двумя рассказами «Самолётный кочегар» и «Двое в тельняшках».
Он тогда жил в Сибири, работал заведующим отделом писем и культуры в местной районной газете.
А потом, вступив в партию, переехал в Читу, где (вот уж не знаю, почему!) стал редактором газеты Забайкальского военного округа «На боевом посту».
Потом он написал много книг. Одна из них вышла в «Роман-газете», когда Липатов жил ещё в Сибири.
Но, правда, его почти тут же позвали в газету «Советская Россия» – сперва заведовать читинским пунктом, потом – брянским. Очень активно сотрудничал с «Правдой».
А в 1967-м он уже специальный корреспондент «Правды». Живёт в Москве. Преподаёт в Литинституте.
И начинает печатать цикл рассказов «Деревенский детектив». Потом по нему будут сняты фильмы с Михаилом Жаровым в главной роли.
А название его романа «И это всё о нём» стало частью анекдота. Так стали называть телевизионную программу «Время», которое без конца показывало Брежнева. Поскольку кроме малоразборчивой дикции Брежнева в программе ещё и чётко произносили сообщение о погоде, «Время» стали называть «И это всё о нём и немножко о погоде».
Виль, повторяю, писал очень много. Поэтому совершенной неожиданностью явилась его скоропостижная кончина. Он умер 1 мая 1979 года (родился 10 апреля 1927-го).
* * *
О Сергее Венедиктовиче Сартакове мне рассказывал критик Александр Алексеевич Михайлов.
Михайлов так же, как и Сартаков, был секретарём Союза писателей СССР, но по критике. А Сартаков был замом председателя бюро секретариата правления СП, курировавшего провинциальные издательства. То есть, был их хозяином: каждое издательство обязано было визировать у него свои позиции по литературе в тематических планах.
Написал Сартаков немало, но из всех книг больше всего запомнилась одна под названием «Козья морда», которая вообще-то входила в трилогию и была её последней третьей частью.
Так вот, в 1987 году по случаю 70-летия Октября секретариат Союза писателей СССР принимает решение послать в длительную командировку на поезде от Москвы до Владивостока с трёх-четырёхдневными остановками в каждом городе для встречи с творческим и идеологическим активом того или иного региона двух секретарей: Михайлова – он выступит с сообщением о литературе (критик же!) и Сартакова – его обязанность информировать обо всём, что делает сейчас секретариат правления Союза писателей СССР.
Ну, что ж. Сели начальники в СВ и поехали. На первой же станции – торжественная встреча, номера «люкс» и прочая.
И вот – замечает Михайлов, что в их купе растёт гора книг.
Оказывается, прознавшие заранее о приезде Сартакова издатели каждого города, где он останавливался, несут ему свежайшую новинку – только что изданную его книгу. Михайлов рассказывал, что, как правило, это была «Козья морда».
Но не только кипа книг растёт в купе. Вот у Сартакова появился ещё один кейс, потом ещё и ещё.
А это что такое?
А это – гонорар, положенный автору.
Узнав об этом, Михайлов предложил Сартакову дать нескольким крупным бамовским участкам приличные суммы на строительство библиотек.
Сартаков сначала не понимал о чём речь.
Когда же понял, напрочь прекратил с Михайловым любое общение. Уже Союз распался, а Сартаков по-прежнему не замечал Михайлова. Так и не сказал ему ни слова после той поездки.
Умер Сартаков 1 мая 2005 года (родился 26 марта 1908-го).
* * *
Иоганн Львович Альтман (родился 1 мая 1900 года) в 1926 году окончил Московский государственный университет и в 1932 году литературное отделение Института красной профессуры.
Много рецензировал театральных постановок и печатал литературоведческие работы о творчестве советских и классических драматургов.
30 апреля 1937 стал первым главным редактором журнала «Театр» (до 1941-го). В годы Великой Отечественной был главным редактором фронтовой газеты «Уничтожим врага».
С 1947 года и до закрытия в 1948-м был заместителем художественного руководителя по репертуару Государственного Еврейского театра. В 1949 в кампанию борьбы с космополитизмом был по требованию Фадеева выгнан с работы, исключён из Союза писателей и из партии и арестован.
Освобождён и реабилитирован после смерти Сталина. После этого прожил недолго: умер 26 февраля 1955 года.
* * *
На Михаила Трофимовича Каченовского молодой Пушкин написал четыре эпиграммы. Вот – одна из них (1818):
Бессмертною рукой раздавленный зоил, Позорного клейма ты вновь не заслужил! Бесчестью твоему нужна ли перемена? Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть? Уймись и прежним ты стихом доволен будь, Плюгавый выползок из гузна Дефонтена!В «Вестнике Европы» (1818, № 13) Каченовский позволил себе грубые выпады против Карамзина («наш Тацит» – у Пушкина).
Последний стих пушкинской эпиграммы действительно прежний. Он Пушкину не принадлежит. Пушкин вспоминает «Ответ» Каченовскому поэта И.И. Дмитриева (1806):
Нахальство, Аристарх, таланту не замена: Я буду всё поэт, тебе наперекор! А ты – останешься все тот же крохобор, Плюгавый выползок из гузна Дефонтена.Причём и Дмитриеву этот последний стих принадлежит только в том значении, что он является буквальным переводом строчки Вольтера из стихотворения «Бедняга». Аббат Дефонтен был злейшим врагом Вольтера.
Пушкин не зря вступился за Карамзина, которого Каченовский терпеть не мог. Каченовский был сторонником учения историка Шлецера, который выступал против изображения прошлого в чертах современности. Как раз этим и отличался Карамзин.
Но по Каченовскому период истории древней Руси – торжество дикости. Вслед за Шлецером он утверждал, что древнейшая Русь не знала ни письма, ни торговли, ни денежных знаков. По Каченовскому вся русская история баснословна, потому что источники этой истории подделаны летописцем не ранее XIII века. Каченовский читал лекции студентам, и они жадно его слушали. Его школу окрестили «скептической». Она набирала популярность. Но, как писал в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» известный историк П. Милюков, «популярность эта, однако, скоро прошла, так как по форме лекции К. были довольно сухи и монотонны, а по содержанию далеко не были тождественны с философскими идеями, которыми увлекалась молодежь. Наиболее талантливые из временных последователей К. печатно отметили разницу между «формальной» критикой Шлецера, на которой остановился их учитель, и «реальной» критикой, вытекавшей из современного им мировоззрения. С той и другой точки зрения летопись можно было признать недостоверной; но «формальная» критика К. доказывала это тем, что летопись есть подлог, сделанный в XIII ст., а «реальная» критика лучших последователей К. выводила недостоверность памятника из самых свойств младенческого миросозерцания его автора. Летописные легенды они считали не «выдумкой», которую надо обличить, а «мифом», который требует объяснения. Одновременно с философской несостоятельностью основных принципов К. была обнаружена и научная ошибочность его учёных выводов – Погодиным и Бутковым. Некоторые из противников К. отвергали его выводы не только во имя науки, но и во имя патриотизма. В глазах К. составитель летописи был обманщиком; Погодин приглашал студентов молиться ему, как святому».
Кажется, такая полемика чуть ли не воскрешена в наши дни.
Умер Михаил Трофимович 1 мая 1842 года, так никому ничего не доказавший, но всколыхнувший историческую мысль в России. Родился 12 ноября 1775-го.
2 МАЯ
Виктор Петрович Астафьев (родился 2 мая 1924 года) был, судя по всему, очень честным человеком. Я не могу сказать, что являюсь поклонником многих его вещей. На мой вкус, некоторые его рассказы неинтересны. Роман «До будущей весны» я дочитать не смог. Из повестей, пожалуй, мне нравятся «Кража», «Из тихого света» и «Весёлый солдат». А знаменитая его «Царь-рыба» показалась неровной.
Не понимал я Виктора Петровича, когда он переехал в Вологду и задружился с литературными земляками Василия Белова. Стал для чего-то в Вологде писателем № 2. (Первый номер там прочно остался за Беловым – автором «Привычного дела», «Бухтин вологодских»). Я, кстати, в это время ездил с делегацией Союза писателей в Молдавию. В делегацию входил Астафьев, который, увидев на полу ресторана раздавленный помидор, устроил скандал Бодюлу, первому секретарю республики: дескать, у вас помидорами, кажется, свиней кормят, а у нас, в Вологде, они по 5 рублей за кило. Не разумнее ли их везти в Вологду? Еле умяли скандал.
Не был я на стороне Астафьева в его переписке с Эйдельманом и в его националистической позиции, которую он занял в рассказе «Ловля пескарей в Грузии» (1984).
Но с другой стороны, я Астафьева подспудно уважал всегда. И нисколько не удивился, когда он порвал со многими своими дружками из бывшего Союза писателей, порвал с самим Союзом писателей России, вступив в Союз российских писателей, и написал честнейшую книгу о судьбе наших солдат «Прокляты и убиты» (1995).
Да, Виктор Петрович, отчасти, ксенофоб. Но прежде всего, он – русофоб. Он ругает другие народы. Но больше всего от него достаётся русскому! Как он ненавидит русское чиновничество, русское чинопочитание.
Честный человек, сказал я вначале об Астафьеве. Добавлю, он – смелый человек.
Умер 29 ноября 2001 года.
* * *
2 мая 1989 года умер Вениамин Каверин (родился 19 апреля 1902-го) – писатель, может, и не великий, но прекрасный, мужественный гражданин.
Наследие Каверина велико. Здесь и поэзия, и проза, и литературоведение.
Чтобы показать, какова была его нравственная позиция, я выбрал цитату из романа «Открытая книга»:
«Нет, просто надоели эти скоты, которые мешают жить и работать! Надоели карьеристы, доносчики, лицемеры! И знаешь, кто виноват в том, что они командуют нами? Мы! Мы слишком вежливы, мы обходим скользкие места, мы боимся говорить правду. Мы терпим и учим других терпеть, а они тем временем действуют – и решительно, умело!»
Как будто о сегодняшних днях, не правда ли?
* * *
В старом «Чтеце-декламаторе», который дал мне прочесть отец моего одноклассника, я встретил такое стихотворение:
Жили-были два горбуна, Он любил, и любила она. Были длинны их цепкие руки, Но смешны их любовные муки, Потому что никто никому, Ни он ей, ни она ему, Поцелуя не мог подарить — Им горбы мешали любить.Не скажу, что оно мне понравилось. Я вообще не люблю, когда обращают внимание на физические недостатки людей. Тем более – когда их высмеивает. Но имя автора – Пётр Потёмкин запомнилось.
К тому же там было не только это его стихотворение. Ещё и такое:
Жили-были В театре «Стиле» Две сестрички, Певички. Одна была постарше — Танцовала разные марши, Другая получше — Танцовала качучи, И обе вместе пленяли толпу Ки-ка-пу. Была у них маменька с тальмой, С чёрным старинным током, Нарумянена свекольным соком… Каждый вечер под пальмой, В фойе в уголочке, Она сидела, болтала С продавщицей цветов И до трёх часов Поджидала — Скоро ли кончат дочки. А дочки сидели в зале С лысыми и с брюнетами, Угощались конфетами, Икру жевали, Мочили губы в бокале, А в три часа уезжали. Судите сами — Одни или с гостями? Так жили-были В театре «Стиле» Две певички, Сестрички. Одна была Марья Степанна, Другая Фанни Иванна, А маменька была старая дева Шмулевич Ева.Этот автор, чудак-парадоксалист меня заинтересовал. И я отправился в библиотеку имени Ленина, которая в то время обслуживала и школьников.
В открытом доступе книг Петра Потёмкина не было. Я понял, что речь идёт об эмигранте. Поэтому пошёл заказывать юмористические журналы начала века.
«Сатирикон» заказать было можно. Я его и заказал. Начиная с 1908 года, встречал стихи Потёмкина почти в каждом номере. И полюбил Петра Петровича, родившегося 2 мая 1886 года и умершего 21 октября 1926-го.
Однако стихотворения про горбунов я Петру Потёмкину не прощаю. Заигрался? А не нужно так играть!
3 МАЯ
Аким Львович Волынский, родившийся 3 мая 1861 (или 1863) года, был литературным критиком, театроведом и балетоведом.
Борец со всяким утилитаризмом и социологией в литературе и искусстве, он резко критиковал Добролюбова, Чернышевского, Писарева и других представителей позитивизма в системе художественной мысли. Его книга «Русские критики. Литературные очерки», вышедшая в 1896 году, сперва публиковалась как цикл статей, печатавшихся в журнале «Северный вестник» в течение пяти лет с 1890 по 1895 год, которые сделали его известным широкой публике.
Незадолго до революции он стал гражданским мужем юной ещё Ольги Спесивцевой, выросшей в великую балерину, когда ей удалось высвободиться из-под власти теоретика Волынского – приверженца классического балета, отвергавшего любые попытки модернизировать этот вид искусства.
В начале революции Ольга Спесивцева и вовсе расстаётся с Волынским, выходит замуж за чекиста Бориса Каплуна, который помог ей эмигрировать во Францию.
А Волынский в 1925 году выпустил «Книгу ликований» с подзаголовком «Азбука классического танца», где обосновывал и защищал свои взгляды на классический балет.
Одно время (1920–1924) он возглавлял ленинградское отделение Союза писателей. И при этом до конца жизни оставался верен своим эстетическим взглядам, какие абсолютно противоречили тем, что были в основе идеологической политики советской власти.
Наверное, доживи он до тридцатых годов, он был бы репрессирован. Но он не дожил. Умер в своей постели 6 июля 1926 года.
* * *
Он ходил по университету в неизменной чёрной круглой шапочке. Жил он напротив университетского Зоологического музея, недалеко от тогдашнего нашего филологического факультета на Моховой. Пользовался не просто уважением. Студенты перед ним благоговели.
Николай Каллиникович Гудзий (родился 3 мая 1887), академик Академии наук УССР, собственно, наш филологический факультет МГУ создал. Был его первым деканом и первым заведующим кафедрой устного народного творчества.
Но всё это было задолго до моего поступления. В моё время он не слишком часто читал студентам лекции, редко появлялся в университете, организовал семинар на дому. Умер он спустя недолгое время после моего окончания университета. В почтенном тогда возрасте – 78 лет – 29 октября 1965 года.
Древняя литература была основной сферой научной и педагогической деятельности Гудзия. Мы учились по его хрестоматии XI–XVII веков, которая выдержала много переизданий. Он обращался к разным писателям русской древности, а если и не к русским (например, «Иудейская война» Иосифа Флавия), то в древнерусских переводах.
Вместе с тем Гудзий оставил нам работы и о творчестве писателей XVIII–XIX веков. От Феофана Прокоповича до Льва Толстого. Даже до Брюсова. Изучал украинскую литературу (Тарас Шевченко, Иван Франко). Занимался поэтикой литературы нового времени.
Но больше всего, кроме древней литературы, он оставил материалов по Льву Толстому. Участвовал в выпуске 90-томного его собрания сочинений, подготовил в «Литнаследстве» публикацию неизданных текстов «Анны Карениной» и откомментировал их.
Давний выпуск филфака МГУ, славный такими именами, как Марк Щеглов, Владимир Лакшин, – птенцы гнезда Гудзиева, они из его толстовского семинара, который, как уже было сказано, собирался на квартире учёного.
* * *
Александр Александрович Реформатский стал доктором наук без защиты диссертации – по совокупности своих работ по фонологии, которые признаны выдающимися. Он, кстати, ввёл в научный обиход понятие «практической транскрипции».
Основные его работы собраны в посмертном (он умер 3 мая 1978 года, родился 29 октября 1900-го) сборнике «Лингвистика и поэтика» (1987).
Их немного. Он предпочитал лекции, предпочитал высказывать идеи, чем подробно разрабатывать их. Тем не менее, он считался авторитетнейшим учёным, под руководством которого работали В.А. Виноградов, Р.А. Фрумкина, И.А. Мельчук.
Но его учебник «Введение в языковедение» выдержал много изданий и до сих пор остаётся одним из популярных и любимых у студентов.
Много интересного о личности этого замечательного человека можно найти в книге его вдовы писательницы Натальи Иосифовны Ильиной «Дороги и судьбы».
* * *
Вообще-то Степан Григорьевич Писахов больше занимался живописью, чем литературой. Принимал участие в художественных выставках. В 1912 году за участие в выставке «Север в картинках» в Петербурге получил Большую серебряную медаль. В письме 1956 года к другу-искусствоведу он упоминает о встрече с Репиным на одной из выставок: «На выставке Илья Ефимович (Репин) хорошо отнёсся к моим работам. Ему особенно понравилась «Сосна, пережившая бури» [утеряна]. Илья Ефимович уговаривал сделать большое полотно. Я бормотал что-то о размерах комнаты. «Знаю: холст на стене над кроватью, краски на кровати и до стены два шага. Ко мне в Пенаты. И места будет довольно, и краски можете не привозить». Товарищи поздравляли, зависти не скрывали. А я… не поехал, боялся, что от смущения не будет силы работать».
Но подлинную известность архангелогорец Писахов снискал своими чудесными сказками.
Правда, только в 1935 году ему удалось напечатать несколько сказок в пятом номере журнала «Тридцать дней». Но за короткое время (1935–1939) он печатает в этом журнале более 30 сказок. А в 1938 году в Архангельске вышла первая книжка Писахова «Сказки». В 1940-м в том же издательстве под тем же названием вышло 86 сказок.
Но перед войной в ГИЗе в Москве готовили к изданию книгу Писахова, которая не смогла выйти. А после войны писатель принёс в родное архангельское издательство сто сказок. Выпустили тоненький сборник из 9 сказок, который Писахов послал в Москву Эренбургу с просьбой помочь издаться в Москве. В 1957-м первая московская книжка Писахова вышла в «Советском писателе».
Кроме сказок он написал немало путевых очерков о своём крае, о Русском Севере.
Но, кажется, он и сам в своём творчестве особо выделял сказки. Писал в своей автобиографии:
«Родился в г. Архангельске, Поморская, 27, в той комнате, в которой живу. Родился в 1879 году 12 октября по ст. ст., 25 окт. по н. ст. Назвать меня хотели Сергеем, но бабушка запротестовала. В честь деда моего назвали Степаном. С детства жил среди богатого словотворчества. Язык моих сказок мне более близок, нежели обычный литературный язык. Говор северян не захломощен иностранными словами и более чётко показывает, что говорящий хочет выразить. Творчество сказок наследственное. Мой дед был сказочник. Часто сказка слагалась на ходу, к делу, к месту, к слову. Лет четырнадцати стал записывать свои сказки. Сказки слагались про окружающих…».
3 мая 1960 года С.Г. Писахов скончался.
* * *
Великий Шекспир скончался 3 мая 1616 года. Дата его рождения неизвестна. Известно, что, крещён он был 26 апреля 1554 года.
О его пьесах (трагедиях и комедиях), о его превосходных сонетах существует огромная литература. Он переведён на большинство языков мира.
Почтим гения не совсем обычно. Вспомним о великом сонете 66. И восхитимся тем, как модернизировал этот сонет лет десять назад молодой в то время поэт Сергей Шабуцкий:
Когда ж я сдохну! До того достало, Что бабки оседают у жлобов, Что старики аскают по вокзалам, Что «православный» значит «бей жидов». Что побратались мент и бандюган, Что колесят шестёрки в «шестисотых», Что в загс приходят по любви к деньгам, Что лёг народ с восторгом под сексотов. Что делают бестселлер из говна, Что проходимец лепит монументы, Что музыкант играет паханам, Что учит жить быдляк интеллигента. Другой бы сдох к пятнадцати годам — А я вам пережить меня не дам.Здесь Шекспир представлен нашим современником. В принципе, ничего удивительного: гениальное творчество причастно вечности: то есть любому периоду времени существования человечества.
4 МАЯ
Александр Михайлович Борщаговский окончил Киевский театральный институт и аспирантуру и попал на фронт. После войны был заведующим литчастью театра Советской Армии. Выпустил книгу «Драматические произведения Ивана Франко» (1946). Но в 1949-м попал под каток бесноватых, отличившихся в кампанию против космополитов. За участие в «антипатриотической группе театральных критиков», которую сколотила в своей редакционной статье газета «Правда», был уволен из театра и исключён из партии.
А после в театр не вернулся. Написал исторический роман «Русский флаг» (1953), повесть «Пропали без вести» (1955), «Тревожные облака» (1959), которые были переведены на многие языки: речь в повести шла о футбольном «матче смерти». Гитлеровские оккупанты играли против команды мастеров, которой проиграли и, озлобленные поражением, расстреляли советских футболистов. История основана на реальном факте: немцы играли в Киеве против команды «Динамо», но Борщаговский почему-то перенёс действие в провинциальный городок.
Повесть была дважды экранизирована. В 1962 году был снят фильм «Третий тайм», который занял одно из ведущих мест в кинопрокате 1963 года. Второй, который почему-то назвали «Матч (фильм, 2012)», был снят, как следует из названия в 2012-м.
Борщаговский написал ещё несколько прозаических вещей. Среди них повесть о революционере Иване Бабушкине, роман о Гоголе, о поэте Полежаеве. Повесть «Три тополя на Шаболовке», которую переработал в киносценарий фильма «Три тополя на Плющихе». Посвятил периоду борьбы с космополитизмом две повести «Обвиняется кровь» и «Пустотелый монолит».
Но, пожалуй, набольший интерес вызвали его воспоминания «Записки баловня судьбы», которые Борщаговский напечатал в 1991 году. Увы, писатель допустил в них немало неточностей и искажений, на что ему тогда же и указали.
Он умер 4 мая 2006 года. Родился 14 октября 1913 года.
* * *
В 1821 году под впечатлением встречи с товарищем по цеху Пушкин пишет:
Певец-гусар, ты пел биваки, Раздолье ухарских пиров И грозную потеху драки, И завитки своих усов. С весёлых струн во дни покоя Походную сдувая пыль, Ты славил, лиру перестроя, Любовь и мирную бутыль.Да, Денис Васильевич Давыдов был певцом военных сражений, в которых участвовал, и военной удали, которой славился. Ну, а что до любви и любви к бутыли, то:
Где друзья минувших лет, Где гусары коренные, Председатели бесед, Собутыльники седые?… А теперь что вижу? – Страх! И гусары в модном свете, В вицмундирах, в башмаках, Вальсируют на паркете! Говорят: умней они… Но что слышим от любого? Жомини да Жомини! А об водке – ни полслова! Где друзья минувших лет, Где гусары коренные, Председатели бесед, Собутыльники седые?– эта его «Песня старого гусара», напечатанная в 1819 году, сразу же стала повсеместно известной. Это её «Жомини да Жомини! А об водке – ни полслова!» сделалось расхожим выражением и нынешних застолий, где давно уже забыто имя Жомини, швейцарского военного теоретика, служившего попеременно в наполеоновской и в русской армии, и там и там ставшего генералом, – имя, которое попросту превратилось в нечто несерьёзное, отвлекающее участников от главного.
Сам Денис Давыдов лучшим образом соответствовал своему лирическому герою: храбр, дерзок, выпивоха, душа компании…
Можно сказать, что биография его в его стихах. Без, разумеется, буквального фактологического соответствия.
Факты же таковы, что, начав военную службу с юности, приняв участие во многих кампаниях, в том числе и в войне с Наполеоном, организовав и возглавив партизанское движение, из-за чего получил прозвище поэта-партизана, он окончил службу, сражаясь с поляками, которые подняли восстание 1830–1831 года, за что получил звание генерал-лейтенанта.
Что же до личной жизни, то она у него воистину трагикомическая.
Влюбился в Аглаю де Грамон. Она вышла замуж за его двоюродного брата.
Влюбился в балерину Татьяну Иванову. Постоянно маячил возле неё. Стоял под окнами балетного училища. Она вышла замуж за своего балетмейстера.
Влюбился, когда служил под Киевом, в Лизу Золотницкую, киевскую племянницу Раевских. Родители были не прочь выдать дочь за него замуж, но с непременным условием, что Давыдов выхлопочет у царя казённое имение в аренду (так поддерживали небогатых, но отличившихся по службе дворян). Давыдов уехал хлопотать в Петербург. Ему много помог в хлопотах Жуковский, который добился, чтобы в связи с предстоящей женитьбой Давыдов получил имение, приносившее шесть тысяч в год.
Радостный Давыдов возвращается к Лизе и узнаёт, что она разлюбила его. Пока он хлопотал, она влюбилась в другого, за кого и вышла замуж.
Столько раз обжёгшись, Давыдов усиленно дул на воду и к сосватанной ему друзьями Софье Чирковой, дочери генерала, поначалу отнёсся с великим недоверием. Но недоверие преодолел. И правильно сделал. Брак с Софьей оказался в основном счастливым. Женившись в 1819 году, он прижил с женой 9 детей.
Но я сказал об их браке: «в основном счастливый». Потому что основание для такой оговорки было. В 1831 году в Пензе он влюбился без памяти в племянницу своего приятеля Евгению Золотарёву. Ей было 23 года. Страстный Давыдов увлёк её. Их роман продолжался несколько лет, и был прерван родителями Евгении, выдавшими её замуж за первого же присватавшегося к их дочери. Надо сказать, что на семейную жизнь Давыдова это не повлияло. Расставшись с Золотарёвой, он легко возвратился в семью.
Об этом человеке и поэте можно рассказывать много. Его любили все поэты так называемого пушкинского круга. Лёгкий на подъём, он часто организовывал встречи друзей.
Женатый Пушкин в основном уклонялся от таких холостяцких пирушек. Но Давыдова любил. О чём и говорит эта стихотворная его надпись, которую сделал Пушкин, препровождая Денису Давыдову свою «Историю Пугачёва»:
Тебе, певцу, тебе герою! Не удалось мне за тобою При громе пушечном, в огне Скакать на бешеном коне. Наездник смирного Пегаса, Носил я старого Парнаса Из моды вышедший мундир: Но и по этой службе трудной, И тут, о мой наездник чудный, Ты мой отец и командир. Вот мой Пугач: при первом взгляде Он виден – плут, казак прямой! В передовом твоём отряде Урядник был бы он лихой.Умер Денис Васильевич 4 мая 1839 года (родился 27 июля 1784-го).
5 МАЯ
Я его очень хорошо знал. Во-первых, он весьма часто приходил к нам в «Литературную газету». И не обязательно со стихами. Евгений Аронович Долматовский (родился 5 мая 1915 года) много и охотно ездил по стране. А кроме того входил в какое-то общество дружбы, то ли СССР-Куба, то ли СССР-Африка. Отовсюду привозил очерки, которые газета печатала. Он даже издал книгу своей стихотворной зарубежной публицистики «Африка имеет форму сердца».
А, во-вторых, я часто встречал Долматовского в Литинституте, где он профессорствовал, а я вёл поэтический семинар на Высших литературных курсах. «Ну как твои?» – спрашивал он. И, почти не дожидаясь ответа, поднимал вверх большой палец: «А у меня – во!»
Кстати, он охотно помогал своим бывшим студентам. Брался пристраивать их стихи. Другое дело, что их стихи были так же порой неинтересны, как и стихи их наставника.
Да, Долматовский не был хорошим поэтом. Говорят, что у него были интересные стихи в молодости. В доказательство поклонники этих стихов цитируют такие, допустим, строки из них:
В метро трубит тоннеля тёмный рог, Как вестник поезда, приходит ветерок. …Ты по утрам спускаешься сюда, Где даже лёгкий ветер – след труда. Пусть гладит он тебя по волосам, Как я б хотел тебя погладить сам.А мне подобные строчки кажутся безликими. Долматовский очень много писал, но стихи его в лучшем случае фиксировали действительность, а не подчиняли её себе.
Конечно, будь в Долматовском меньше темперамента, он не стал бы писать всяких дурацких вещей вроде романа в стихах «Добровольцы», а остановился на текстах песен, которые у него действительно хорошо получались. Всё-таки наиболее лиричные песни конца 30-х-начала 40-х написаны Долматовским.
Он был безусловно храбрым человеком. И доказал это, воюя на фронтах Великой Отечественной. Еврей, он попал в плен к немцам, был неопознан ими, помещён в лагерь, откуда сумел бежать.
Мать, которую известили, что её сын пропал без вести, продолжала писать ему письма, убеждённая, что он жив, и он, прочитав их, когда оказался в поездной фронтовой многотиражке, ответил:
«Ты уже знаешь, что я воскрес, жив и здоров, а главное, счастлив, что ты никогда не сомневалась в моём бессмертии (жаль, конечно, что не в литературном, а в простом, человеческом, но, может быть, это важнее)… Да, ты была права, когда отказывалась от соболезнований и не пошла на поминальное собрание… Твардовский накопил целую пачку твоих писем и вручил мне, как только мы встретились. Спасибо тебе, спасибо! Даже не знаю, как выразить словами то, что я сейчас чувствую, – вот тебе доказательство, что я плохой писатель».
Вообще-то он не чувствовал себя евреем. Национальность человека его не занимала. Когда началась кампания по борьбе с космополитами, он пожаловался Липкину, что ничего в нём еврейского нет, кроме дурацкого отчества Аронович. На что Липкин сказал, что отчество как раз ничего не доказывает: вон Баратынский. У того отчество – вообще закачаешься: Абрамович. А ведь типичный русский.
– Ты точно знаешь? – спросил повеселевший Долматовский.
– Проверь! – ответил Липкин.
Да, хороших стихов мы у Долматовского не найдём. Он и сталинскую премию в 1950 году получил за книгу «Слово о завтрашнем дне». Возможно, что дали премию не за сами по себя унылые эти стихи а за темы, которые автор в них поднимал: победа, новые трудовые свершения, ударный труд и т. п.
Кстати, по поводу премии. Всех, кто поздравлял с ней Долматовского, поэт немедленно приглашал в ресторан «Нарва», который располагался неподалёку от «Литературки» на углу Цветного бульвара и Садового кольца. Удивлённые гости приходили в ресторан, и Долматовский показывал на его вывеску: «Ресторан третьей категории». Люди смеялись: аналогия с премией становилась понятной: она была 3-й степени.
Евгений Аронович Долматовский умер 10 сентября 1994 года. Он останется в памяти своими песнями «Моя любимая», «Любимый город». «Елизавета», «Всё стало вокруг голубым и зелёным», «Случайный вальс», «Дорога на Берлин», «За фабричной заставой», «Воспоминание об эскадрильи «Номандия-Неман». Не так уж и мало, по-моему.
* * *
В романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» бюрократ Полыхаев заказывает резиновые штампы для собственных резолюций на те вызовы времени, на которые его контора должна как-то и чем-то ответить. В частности, ответить: «беспощадной борьбой с головотяпством, хулиганством, пьянством, обезличкой, бесхребетностью и переверзевщиной».
Что такое «переверзевщина», Полыхаев наверняка не знал, но он читал прессу, которая в то время яростно боролась с этим явлением.
Сам Валерьян Фёдорович Переверзев был очень известным литературоведом, профессором МГУ (1921–1933), потом МИФЛИ (1934–1938), одновременно (1928–1930) Института красной профессуры.
Его работы о Гоголе, Достоевском, Гончарове, Писареве подверглись обвинению в антиисторизме, в ревизии ленинских положений об искусстве, в солидарности с меньшевистскими концепциями эстетики Плеханова, в отрицании принципа партийности, наконец, в ограничении задач литературоведения изучением литературы как факта, а не как фактора.
На школу Переверзева набросились, потому что она противостояла всем другим школам в литературоведении. Были и у переверзевской школы свои минусы. Так она объясняла художественную литературу непосредственно классовым бытием, что не могло не привести к вульгарной социологии. Однако Переверзеву был свойственен анализ структуры художественного текста, проникновение в его образную систему.
Думаю, что Ильф и Петров, поместившие переверзевщину в сознании своего героя в один ряд с хулиганством, пьянством и бесхребетностью, вообще не упоминули бы её, знай, чем закончится борьба с ней.
А закончилась она не просто тем, что школа Переверзева была разгромлена в ходе печатной дискуссии.
Так сказать, подводя итоги дискуссии, Валерьяна Фёдоровича в 1938 году арестовали, отправили на Колыму, а потом в Минусинск, где он сумел написать работу «Поэмотворческий путь Пушкина». В 1948-м Переверзев освободился, поселился на 101 километре от Москвы в городе Александрове, где в том же году снова был арестован, помещён в тюрьму, а потом выслан в Красноярский край. Там написал книгу о Макаренко. Вернулся в Москву в 1956-м.
Больше он не преподавал. Занялся изучением древнерусской литературы. Написал книгу «Литература Древней Руси» (1971), опубликованную после его смерти, которая случилась 5 мая 1968 года (родился 17 октября 1882-го).
После его смерти напечатали и книги «Гоголь. Достоевский. Исследования» (1982), «У истоков русского реализма» (1989). И как-то забылось, что именно эти работы в своё время истово критиковали за попытку применить социологический метод к анализу художественных произведений.
6 МАЯ
Густой едкий дым вранья поднимался от рассказов о себе хорошо прикормленных советской властью писателей. Недолго проработала у нас в «Литературной газете» Альбина Верещагина, которая взяла интервью у Михаила Алексеева. Через очень короткое время после этого она ушла из газеты в издательство «Советский писатель».
Но её интервью запомнилось многим. Появилось оно спустя какое-то не слишком большое время после смерти Александра Трифоновича Твардовского. Как относились к писателю Алексееву в руководимом Твардовским журнале «Новый мир» литературная общественность знала: плохо относились, насмешливо. Да и читатели журнала не могли не знать этого – ничего кроме фельетонов о романах Алексеева «Новый мир» не печатал.
Но нашей сотруднице Михаил Алексеев впаривал душераздирающую историю о том, как оказался он с Твардовским за одним столом президиума какого-то писательского собрания, и когда оно закончилось, подошёл к нему Твардовский, сказал, что ему понравилась новая вещь Алексеева (кажется, повесть «Карюха»), а потом, помявшись: «Алексеев, мы были к вам несправедливы! Простите!» «И даже как-то покраснел при этом», – описывал Алексеев Твардовского.
Почти сразу же после публикации газета получила письмо, подписанное бывшими сотрудниками «Нового мира» Юрием Буртиным и Игорем Виноградовым, которые, развенчивая легенду о покрасневшем от трудного своего признания Твардовском, указывали, что в интервью Алексеев остался верен себе: не заботится о правдоподобии. Между тем все хорошо знавшие Александра Трифоновича Твардовского люди, писали бывшие его соратники, подтвердят, что он никогда не обращался к человеку по фамилии, но непременно – по имени и отчеству.
Письмо это газета не опубликовала: ссориться с Алексеевым Чаковский не стал. А Михаилу Николаевичу Алексееву (родился 6 мая 1918 года, умер 21 мая 2007-го) придуманная им история так понравилась, что через несколько лет он слово в слово повторил её, выступая по телевидению. И не смутило Алексеева то обстоятельство, что дочери Твардовского напечатали в «Знамени» обширный дневник своего отца, который тот вёл до самой смерти. Ни одной обрадовавшей бы Алексеева записи о нём Твардовский не оставил. Хотя поминает его нередко. И всегда с холодным презрением к номенклатурному литератору, выступавшему помимо прочего яростным гонителем «Нового мира» – любимого детища Александра Трифоновича.
А недавно в Интернете прочитал ещё одну байку Алексеева о его первом романе «Солдаты». О качестве этой вещи говорить не буду: Алексеев не просто утратил талант, он его никогда не имел. Но в том, что «Солдаты» могли быть выдвинуты на сталинскую премию, я не сомневаюсь: книг после войны выпускали мало и почти все они попадали в список. Алексеев настаивает: не просто выдвинули, но уже дали, позвонили, поздравили, и он ждал завтрашнего утра, когда принесут газету со списком лауреатов. Принесли. Но своей фамилии в списке он не нашёл. Оказывается, ночью Константина Симонова, который был заместителем председателя Комитета по сталинским премиям, вызвал Сталин и сказал, что ему позвонил писатель и академик Сергеев-Ценский и очень просил дать премию автору романа «Семья Рубанюк» крымчанину Евгению Поповкину, который очень много делает для Крыма. Академику он отказать не может, якобы сказал Сталин Симонову, но и расширять список нельзя: нужно кем-то пожертвовать. Пожертвовали Алексеевым.
Надолго однако – на всю жизнь – застряла в Михаиле Алексееве обида, что не дали ему за «Солдат» сталинской премии! Потому и придумывает через полвека совершенно невероятное объяснение того, почему он её не получил. Чтобы Сталин остановился перед расширением списка или не смог отказать академику, если б захотел? Вот что значит не быть писателем и не уметь оформлять свои мысли. О чём говорит Алексеев? Что Сталину закон не писан, но этим Алексеев обычно восхищается. Лицемером обожаемого им вождя он и в дурном сне не назовёт. Тогда о чём же тут речь? Может, он обличает задним числом Симонова, который науськал Сталина исключить «Солдат» из списка? Но если б Сталин прочёл «Солдат» и они ему понравились, добился бы Симонов успеха? Словом, темна вода во облацех!
* * *
Совершенно случайно моё знакомство с писателем Юрием Михайловичем Корольковым, родившегося 6 мая 1906 года, началось в библиотеке «Литературной газеты», где мне попалась на глаза его книжка, выпущенная «Правдой» в 1950-м «Янки в Германии». Понятно, что при Сталине на такую тему можно было только откровенно врать. Корольков и врал. Весьма откровенно, не задумываясь над тем, что будет разоблачён ещё при жизни (он умер 21 октября 1981 года, а я прочитал книжку в начале семидесятых).
Собственно, я забыл бы про Королькова, если б не Анатолий Алексин, который мне его расхваливал. Говорил, что политическая проза – не корольковская стихия, но что детский писатель Корольков хороший. Посоветовал прочитать такие его книги, как «Партизан Лёня Голиков» или о Рихарде Зорге «Человек, для которого не было тайн». Я прочитал о Зорге. Восторга книга у меня не вызвала. Книга написана языком, по которому опознаешь любого среднего детского писателя. Никаких индивидуальных примет!
Корольков написал ещё очень много книг. Очевидно, писал их зря: в литературе они не останутся.
7 МАЯ
Об аресте Николая Алексеевича Заболоцкого (родился 7 мая 1903 года) и о его жизни в тюрьме и в лагере, кроме «Истории моего заключения» самого Заболоцкого, опубликованной в перестройку в латышском журнале «Даугава», существуют ещё и воспоминания сына, напечатанные в составленном им сборнике стихотворений отца, вышедшем в 1995 году.
Можно только дивиться, какое мужество жить проявил Николай Алексеевич, над которым измывались тюремщики. Что его поддерживало? Вера в собственную невиновность, которая будет обязательно доказана? Но Заболоцкий не был наивен. Быстро понял, что органы не зря говорили о себе, что они ошибаться не могут. Доказать это было делом их престижа.
«Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.
– Действие конституции кончается у нашего порога, – издевательски отвечал – следователь» («История моего заключения»).
Между тем хлопотами жены, которая куда только ни обращалась, на каких только вельможных людей ни выходила, Заболоцкий был освобождён в конце войны.
Можно сказать, что лагерь изменил даже стиховую манеру поэта. Он больше не играл стихом, как в пору обэриутской молодости. Его поэзия стала строгой и суровой:
Где-то в поле возле Магадана, Посреди опасностей и бед, В испареньях мёрзлого тумана Шли они за розвальнями вслед. От солдат, от их лужёных глоток, От бандитов шайки воровской Здесь спасали только околодок Да наряды в город за мукой. Вот они и шли в своих бушлатах — Два несчастных русских старика, Вспоминая о родимых хатах И томясь о них издалека. Вся душа у них перегорела Вдалеке от близких и родных, И усталость, сгорбившая тело, В эту ночь снедала души их, Жизнь над ними в образах природы Чередою двигалась своей. Только звёзды, символы свободы, Не смотрели больше на людей. Дивная мистерия вселенной Шла в театре северных светил, Но огонь её проникновенный До людей уже не доходил. Вкруг людей посвистывала вьюга, Заметая мёрзлые пеньки. И на них, не глядя друг на друга, Замерзая, сели старики. Стали кони, кончилась работа, Смертные доделались дела… Обняла их сладкая дремота, В дальний край, рыдая, повела. Не нагонит больше их охрана, Не настигнет лагерный конвой, Лишь одни созвездья Магадана Засверкают, став над головой.«Гениальным поэтом» назвал Заболоцкого за эти стихи Иосиф Бродский, а стихи характеризовал, как «самые потрясающие русские стихи о лагерях, о лагерном опыте». «Там есть строчка, – сказал Бродский Соломону Волкову, книгу которого «Диалоги с Иосифом Бродским» я цитирую, – которая побивает всё, что можно в связи с этой темой представить. Это очень простая фраза: «Вот они и шли в своих бушлатах – два несчастных русских старика».
Да написанное в 1956 году это стихотворение принадлежит вечности.
Умер Николай Алексеевич 14 октября 1958 года.
* * *
Выдающийся русский поэт Борис Абрамович Слуцкий (родился 7 мая 1919 года) опубликовал первые свои стихи в 1941-м. И ушёл на войну рядовым 60-й стрелковой бригады. С осени 1942 инструктор, с апреля 1943-го – старший инструктор политотдела 57 дивизии. Несмотря на то, что был политруком, постоянно лично ходил в разведпоиски. Уволен из армии в 1946 в звании майора.
Первую книгу стихов «Память» выпустил поздно – в 1956 году. При жизни выпустил ещё семь книг, хотя известность поэта была очень велика.
Но стихи, которые предлагал издательствам Слуцкий, их часто не устраивали. Только посмертные книги стихов (их немало), выпущенные благодаря душеприказчику Слуцкого критику Болдыреву, установили, какой огромной поэтической силы был этот поэт.
Слуцкий был добрым человеком. Помогал молодым, помогал просто нуждающимся поэтам.
Женился он поздно. Но его жена, Татьяна Дашковская, заболела раком лимфоузлов. И несмотря на все отчаянные попытки лечения, в 1977 году она умерла.
Смерть её подкосила Слуцкого. Написав ей: «Я ничего не видел кругом – / Слеза горела, не перегорала, / Поскольку был виноват кругом, / И я был жив, / А она умирала», Слуцкий фактически из-за тяжелейшей депрессии ушёл в себя, перестал писать стихи, перестал видеться со своими друзьями.
Приехал брат. Увёз его к себе в Тулу. Там он жил, почти не давая о себе знать. Там он и умер 23 февраля 1986 года.
Цитировать Слуцкого можно километрами. Его подчас неприхотливый стих несёт в себе суровую правду. Это и есть главная черта поэзии Слуцкого: он никогда не лжёт:
А я не отвернулся от народа, с которым вместе голодал и стыл. Ругал баланду, обсуждал природу, хвалил далёкий, словно звезды, тыл. Когда годами делишь котелок и вытираешь, а не моешь ложку — не помнишь про обиды. Я бы мог. А вот – не вспомню. Разве так, немножко. Не льстить ему, не ползать перед ним! Я – часть его. Он – больше, а не выше. Я из него действительно не вышел. Вошел в него — и стал ему родным.8 МАЯ
Наши публицисты-юристы в «Литературной газете» не любили его, своего коллегу, за книгу о Крыленко. Выпустил её Аркадий Иосифович Ваксберг в 1974 году в смешной серии издательства «Молодая гвардия», которая называлась «Пионер – значит первый» (в журналистских кругах серию именовали «малой ЖЗЛ»). Но тираж у этой серии был совсем немалый.
Конечно, Ваксберг вряд ли восхищался Крыленко, достойным предшественником Вышинского, который многому у него научился: и обязательному требованию смертной казни для «бешеных псов» – врагов советской власти, и режиссуре процесса-спектакля. Но в 1974-м Ваксберг ещё не был тем Ваксбергом, каким он стал, опубликовав в «Литературке» статьи «Баня» или «Ширма», за которыми охотились как за самой дефицитной публицистикой.
Помню, я написал в нашу стенгазету по случаю какого-то юбилея «Литературки» такое четверостишие:
Исчез с земли последний бюрократ, Последний вор прозрел, тюрьму покинув, Последний гад стал всем не гад, а брат, — Вот что такое Ваксберг и Рубинов.И все со мною были согласны: бюрократы и ворьё жутко боялись Ваксберга и Рубинова. Когда они выезжали в командировки, их на всякий случай боялось любое местное партийное начальство.
Так что, когда Ваксберг стал настоящим Ваксбергом, он книг о Крыленко не писал. Писал о Вышинском, но уже как о холодном сталинском палаче. О Горьком, показывая, как того заманили в сталинскую ловушку, которая в один прекрасный день захлопнулась для Буревестника. Писал о Лиле Брик, музе Маяковского и очень сложном человеке. Писал о том, как решали для себя еврейский вопрос Ленин, Сталин и Солженицын.
А кроме того, на мой взгляд, по сценарию Ваксберга и Альбины Шульгиной был снят очень удачный фильм «Средь бела дня» (1982) – о разрешённых пределах самообороны, о том, как может оценить советский суд издевательство над людьми.
В фильме полный хеппи энд. Но советские зрители, привыкшие к бытовому хамству, к тому, что милиция не станет бросаться тебя защищать, понимали, что чаще всего судебный процесс, каким он показан в фильме, оканчивается далеко не так счастливо. Да и режиссёрско-сценарные решения многих сцен фильма были таковы, что ничто этот положительный конец не предвещало.
Умер Аркадий 8 мая 2011 года (родился 11 ноября 1927-го). Он оставил двухтомник воспоминаний «Моя жизнь в жизни». Советую прочесть.
* * *
Вместе с другими гостями, приехавшими на именины Татьяны, явился, как пишет автор «Евгения Онегина», «мой брат двоюродный Буянов, / В пуху, в картузе с козырьком / (Как вам, конечно, он знаком)», а в сноске напоминает о «знакомстве»:
Буянов, мой сосед. … Пришёл ко мне вчера, с небритыми усами, Растрёпанный, в пуху, в картузе с козырьком… (Опасный сосед)«Опасный сосед» – поэма Василия Львовича Пушкина, дяди Александра Сергеевича. Племянник потому и называет героя поэмы Буянова своим двоюродным братом, что Буянов – детище Василия Львовича, родившегося 8 мая 1766 года. Но обратите внимание на пропуск в цитате. Обозначая его точками, автор «Онегина» не сомневается, что знакомый с Буяновым читатель легко восстановит скрытые строчки Василия Львовича. Итак:
Буянов, мой сосед, Имение своё проживший в восемь лет С цыганками, с б…ми, в трактирах с плясунами, Пришёл ко мне вчера с небритыми усами, Растрёпанный, в пуху, в картузе с козырьком…Понятно, что отзыв В.В. Набокова, комментатора «Евгения Онегина» об «Опасном соседе»: «Эта нескромная поэма – скорее галантная во французском смысле слова, нежели скабрезная (хотя в ней полно отечественных хулиганских словечек)», – мог появиться только в XX веке. А в 1811 году, когда была написана сатирическая поэма о посещении героя публичного дома и о драке в борделе, нечего было и думать о её публикации. Да и абсценная лексика не добавляла ей возможности проникнуть в печать. Впрочем, Василий Львович печатать её и не стремился. Тогдашнее просвещённое общество и без того знало его поэму, широко ходившую в списках и снискавшую его автору заслуженное признание.
По существу, с ней, с поэмой «Опасный сосед» остался Василий Львович Пушкин в литературе. Ничего равноценного ей он больше не сочинил.
Умер 1 сентября 1830 года.
9 МАЯ
Булат Шалвович Окуджава (родился 9 мая 1924 года) был всё-таки, по-моему, основателем жанра «авторской песни». То есть, и у Вертинского, и у Лещенко, и у Козина были собственные стихи, к которым они подбирали прекрасную музыку. Но они писали музыку и к чужим стихам, которые легко вписывались в их музыкальный контекст. Окуджава музыку к чужим стихам не подбирал. Потому-то он и говорил, что его песни – и не песни вовсе, а те же стихи, которые он своеобразно исполняет.
Почему его так поначалу невзлюбила советская пропаганда? Ведь пел он о человеческом долге оставаться человеком, о любви, которая в любом случае облагораживает человека, о жизни, которая «короткая такая» и потому не стоит её поганить: исправиться может не хватить времени.
Но советская пропаганда под человеческим долгом понимала долг гражданина перед государством, под любовью – любовь прежде всего к вождям, к вождю, под жизнью – что она должна быть полностью подчинена твоему начальству, которое знает, как тебе себя вести в жизни и требует, чтобы ты неукоснительно соблюдал установленные им правила.
В этом смысле первыми же песнями Булат схватился с государственной машиной. И в конечном счёте её победил!
Победил! Не смогли заставить его замолчать:
Каждый пишет, как он слышит, Каждый слышит, как он дышит, Как он дышит, так и пишет, Не стараясь угодить… Так природа захотела, Почему – не наше дело, Для чего – не нам судить.Вот – набор истин, с которыми Окуджава выходил в открытый бой с государством. Бой, который государство проиграло. И похоже, что навсегда. Окуджава умер 12 июня 1997 года. Но песни его пережили. И будут жить долго. Вечно.
10 МАЯ
Выдающийся учёный современности Сергей Георгиевич Бочаров (родился 10 мая 1929 года) отказался защищать докторскую степень. А выбрать его в академики, минуя доктора, никто не хочет.
Нежелание Бочарова стать доктором восходит к обещанию, которое они с Кожиновым дали друг другу: умереть в той же учёной степени, что и М.М. Бахтин. По-моему, обоих стоит уважать за это.
Но, конечно, разница между Кожиновым и Бочаровым огромная. Кожинов, если по правде, и не досягает по своим работам настоящей докторской степени. У Бочарова каждая книга – готовая докторская.
Вообще-то это понятно. Кожинов был публицистом. Бочаров им не был.
Да и сами возьмите работы Бочарова по Толстому. И сравните с ними любую работу Кожинова. Почувствуйте разницу. Почувствовали. Вот тот-то и оно.
Бочаров помимо чудесной книги о романе Толстого «Война и мир», написал очень хорошую: «Поэтика Пушкина». А как подходит Бочаров к такому сложнейшему явлению в литературе, как проза Платонова? А его работа о Константине Леонтьеве?
Помню, когда наш способный пушкинист Валентин Непомнящий совсем уже было опустился на колени перед изображением Пушкина и уже поднимал руку для крещения, именно Бочаров одной остроумной статьёй в 1994 году в «Новом мире», показал карикатурность такого чтения. Он назвал статью непритязательно: «О чтении Пушкина». Но за непритязательностью скрывается очень глубокая мысль: ТАКИМ чтением Пушкина ничего не добьёшься. Если, конечно, ты занимаешься наукой, а не эссеистикой.
* * *
Когда я пришёл в «Литгазету», в её редколлегию входила Юлия Владимировна Друнина (родилась 10 мая 1924 года). На заседания редколлегии она приходила редко. Но выступала по делу.
Было нечто обаятельное в этой славной и милой женщине. Она любила стихи. Откликалась на мою просьбу сходить к Чаковскому, чтобы пробить какую-нибудь неплохую подборку.
Позже, когда Друнина не была уже в редколлегии, она приходила в газету с мужем – киносценаристом Алексеем Каплером. Вместе они смотрелись очень изящно.
Они познакомились, когда замужняя Юлия Владимировна поступила на Сценарные курсы при союзе кинематографистов СССР. Поступила на курсы Друнина в 1956-м, а развелась с первым мужем – поэтом Николаем Старшиновым в 1960-м. И вышла за Каплера.
Вообще до этого она писала почти исключительно о войне, на которой она побывала, которая её обожгла, о которой она пронзительно сказала:
Я только раз видала рукопашный, Раз наяву. И тысячу – во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне.Но после своего замужества она писала о любви, больше всего писала о любви:
Опять лежишь в ночи, глаза открыв, И старый спор сама с собой ведёшь. Ты говоришь: – Не так уж он красив! — А сердце отвечает: – Ну и что ж! Всё не идёт к тебе проклятый сон, Всё думаешь, где истина, где ложь… Ты говоришь: – Не так уж он умён! — А сердце отвечает: – Ну и что ж! Тогда в тебе рождается испуг, Всё падает, всё рушится вокруг. И говоришь ты сердцу: – Пропадёшь! — А сердце отвечает: – Ну и что ж!Каплер был на двадцать лет старше Друниной. Его смерть 11 сентября 1979 года стала для Юлии Владимировны настоящей трагедией. Она жила, не ощущая жизни.
Но перестройка встряхнула и её. Она поверила в грядущие позитивные изменения. Согласилась стать народным депутатом СССР. Старалась на этом посту принести пользу людям. Когда же увидела воров, покупающих себе депутатские мандаты, бандитов, становящихся нуворишами, она сдала мандат депутата.
В одном из писем перед смертью она писала: «…Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире, такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл…»
Но тыла уже давно не было.
Она написала:
Ухожу нет сил. Лишь издали (Всё ж крещёная!) помолюсь За таких вот, как вы, – за избранных Удержать над обрывом Русь. Но боюсь, что и вы бессильны. Потому выбираю смерть. Как летит под откос Россия, Не могу, не хочу смотреть.И покончила с собой 21 ноября 1991 года
11 МАЯ
Ну, что тут можно сказать: гениальный писатель! Какой текст ни написал бы Венедикт Васильевич Ерофеев, он оказывался шедевром русской прозы. Даже поэзии. Потому что «Москва-Петушки» названа поэмой не зря. Да и стихи, придуманные Ерофеевым как пародию на некрасовскую поэму «Кому на Руси жить хорошо», которые произносит герой его пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», тоже прекрасны.
Веничка (как все зовут Ерофеева по имени героя его поэмы, на которое писатель откликался), написал немного, потому что прожил немного. Он скончался 11 мая 1990-го (родился 24 октября 1938-го). Дожив, слава Богу, и до публикаций у себя на родине и даже до выступлений по телевидению.
Цитирую концовку «Моей маленькой Ленинианы», составленной из ленинских цитат:
«О Прокоповиче и Кусковой:
«Газетам дадим директиву завтра же начать на сотню ладов и изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение 2-х месяцев».
Наркому почт и телеграфа:
«Обращаю Ваше серьёзное внимание на безобразие с моим телефоном из деревни Горки.
Посылаемые вами лица мудрят, ставят ни к чему какие-то особенные приборы. Либо они совсем дураки, либо очень умные саботажники».
Бедняга профессор Тихвинский, управляющий петроградскими лабораториями Главного нефтяного комитета. Одной фразы Ильича было достаточно: «Тихвинский не случайно арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга» (сентябрь 1921). Расстрелян в 1921 году.
В Главное управление угольной промышленности:
«Имеются некоторые сомнения в целесообразности применения врубовых машин. Тот производственный эффект, который ожидает от применения врубовых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле» (август 1921).
В комиссию Киселева:
«Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921 года).
Это напоминает нам деловую записку от 26 августа 1919:
«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через три месяца они должны предоставить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».
Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивалась морда у наркома просвещения Анатолия Луначарского, когда он получал от вождя такие депеши:
«Все театры советую положить в гроб» (26 августа 1921).
Или телеграммы:
«Какие вопросы Вы признаёте важнейшими, а какие – ударными! Прошу краткого ответа» (8 апреля 1921).
Для Политбюро ЦК РКП(б):
«Узнал от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой Оперы и Балета» (12 января 1922).
Раздражение ещё вызывают поэт Маяковский и Народный комиссариат юстиции.
Тов. Богданову:
«Мы ещё не умеем гласно судить за поганую волокиту, за это весь Наркомюст сугубо надо вешать на вонючих верёвках. И я ещё не потерял надежды, что всех нас когда-нибудь за это поделом повесят» (23 декабря 1921).
Тов. Сокольникову:
«Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением жесточайших кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (11 февраля 1922).
Начинается изгнание профессуры.
Каменеву и Сталину:
«Уволить из МВТУ 20–40 профессоров. Они нас дурачат». (21 февраля 1922).
Ф. Э. Дзержинскому:
«К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров. Надо это подготовить тщательнее. Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручите всё это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ.
Не все сотрудники «Новой России» – кандидаты на высылку за границу. Другое дело питерский журнал «Экономист». Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Всё это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация её шпионов, слуг, растлителей учащейся молодёжи. Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.
Прошу показать это секретно, не разглашая, членам Политбюро с возвратом. Вам и мне». (19 мая 1922).
А тов. Кржижановский, которому было поручено 10–50 человек обучить электричеству, надорвался и тоже захотел в Европу.
Тов. Сталину:
«Прошу немедленно поручить НКИнделу запросить визу для въезда в Германию Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жены Зинаиды Павловны Кржижановской.
Речь идет о лечении грыжи.
С коммунистическим приветом. Ленин» (25 апреля 1922).
А тов. Иоффе обязан лечить в Европе свой невротический недуг, который заключается вот в чём.
Тов. Иоффе:
«Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что ЦК – это я. Такое можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления.
Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную, совершенно невозможную фразу, будто ЦК – это я? Это переутомление. Отдохните серьёзно. Обдумайте, не лучше ли за границей. Надо вылечиться вполне». (17 марта 1921).
И тут же следом – Г. М. Кржижановскому:
«Я должен тыкать носом в мою книгу, ибо иного плана серьёзного нет и быть не может». (5 апреля 1921).
А тов. Чичерин вовсе и не просил о лечении, но получилось так: тов. Чичерин представлял нашу державу на Генуэзской конференции с только недавно опубликованным напутствием Ленина:
«Ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции следует составить в самом наглом и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощёчину. Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. (…) Нельзя упускать случая» (25 февраля 1922).
В. Молотову:
«Сейчас получил 2 письма от Чичерина. Он ставит вопрос о том, нельзя ли на Генуэзской конференции за приличную компенсацию (продовольственная помощь и пр.) согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство других партий в Советах. Сделать это в угоду американцам.
Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо лечить, немедленно отправить в санаторий» (23 января 1922).
И через день тому же Молотову:
«Это и следующее письмо Чичерина явно доказывают, что он болен, и сильно болен. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлём его в санаторий» (24 января 1922).
И в заключении – два негромких аккорда. Первый из них вызывает слёзы, второй – тоже.
Тов. Уншлихту:
«Гласность ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (31 января 1922).
Тов. Каменеву:
«Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?» (24 апреля 1921)».
12 МАЯ
Сергей Тимофеевич Аксаков является в русской литературе фактически пионером жанра, который с большой охотой развивали многие наши отечественные писатели – от Тургенева до Солоухина. Книги Аксакова «Записки об уженье» (1847), «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах» (1855) пронизаны лиризмом, отличаются тонкими наблюдениями за разными проявлениями живой и мёртвой природы, являются дельным справочником для охотников и рыбаков. А такие его автобиографические книги, как «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы Багрова внука» (1858) воссоздают помещичий быт XVIII века в его повседневности. Опирается в них Аксаков не только на собственные воспоминания, но на семейные предания – на историю трёх поколений семьи Багровых.
Писавшие об этих «семейных» книгах критики не случайно вспоминали Гоголя, который несомненно оказал влияние на Аксакова, который так же любовно описывает материальные бытовые детали: хозяйственные занятия, отношения бар и крестьян, барич с крестьянскими детьми, игры, вещи, праздники в их восприятии детьми и взрослыми. Живой, разговорный язык Аксакова придаёт колоритность психологическим портретам героев, выписывать которые писатель большой мастер.
А до писательства Аксаков занимался театральной критикой. Жил театром. Поддерживал знакомства с драматургами и театралами. И написал об этом в своих «Литературных и театральных воспоминаниях» (1856–1858).
Кстати, вот эпизод, свидетельствующий о безукоризненной порядочности Сергея Тимофеевича. В 1830 году в журнале «Московский вестник» был анонимно напечатан фельетон «Рекомендация министра», сильно раздраживший Николая I. Поспешили провести расследование. Редактор «Московского вестника» М. Погодин раскрыть имя анонима отказался. Над ним нависла опасность. Аксаков явился в полицию и заявил о своём авторстве. В III отделении на него завели дело. И только благодаря заступничеству драматурга князя Александра Александровича Шаховского, уважаемого двором, в том числе и близким к нему Бенкендорфом за стойкий патриотизм, Аксакова не выслали из Москвы.
И ещё одно произведение Аксакова – очерк «Буран», опубликованный в «Деннице» в 1834 году, – о страшном буране, погубившем в оренбургской степи под Рождество купеческий обоз. Считается, что этот очерк стал образцом для описания зимней бури Пушкину в «Капитанской дочке» и Л. Толстому в «Метели».
Его подмосковное имение Абрамцево явилось центром притяжения для писателей, художников, учёных. Частыми гостями Аксаковых были Гоголь, Тургенев, Шевырёв и особенно славянофилы – друзья сыновей Сергея Тимофеевича Ивана и Константина: А. Хомяков, И. Киреевский, Ю. Самарин. Можно сказать, что в Абрамцеве зародилось славянофильское движение.
Сергея Тимофеевича, отменного рассказчика, читатели ценили ещё и за воспоминания, которым он охотно предавался – писал мемуарные очерки. В 1852 году «Воспоминание о М. Н. Загоскине» «Биография М. Н. Загоскина» и «Знакомство с Державиным», в 1854 – «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости», в 1856 – «Воспоминание об Александре Семёновиче Шишкове». То есть, он умер 12 мая 1859 года (родился 1 октября 1791-го), шагнув в бессмертие: его будут читать всегда.
Википедия заканчивает рассказ о нём цитатой из А.Г. Горнфельда, написавшего вступительную статью к шеститомному Собранию сочинений С.Т. Аксакова (1909). Выступившего его редактором. Мне тоже хочется закончить разговор о Сергее Тимофеевиче этой цитатой: «Русская литература чтит в нём лучшего из своих мемуаристов, независимого культурного бытописателя-историка, превосходного пейзажиста и наблюдателя жизни природы, наконец, классика языка».
13 МАЯ
Алексеем Степановичем Хомяковым выдвинуты основные принципы славянофильства, которые увлекли его друзей и заставили правящие власти с подозрением всматриваться в эти принципы, а николаевскую цензуру – запрещать их проповедование.
Да и как было не запретить проповедь такого, к примеру, нравственного закона, который сформулировал Хомяков: «Простота есть степень высшая в общественной жизни, чем искусственность и хитрость, и всякое начало, истекающее из духа и совести, далеко выше всякой формальности и бумажной административности. Одно живо и живит, другое мёртво и мертвит». Ведь именно «формальность и бумажная административность» стали визитной карточкой чиновничьей системы в России.
Дело в том, что Хомяков и последовавшие за ним И. Аксаков, И. Киреевский, Ю. Самарин и другие под патриотизмом понимали не превознесение державности, как понимают это нынешние русофилы, а постижение смысла истории народа во всех её проявлениях, называя при этом тёмное – тёмным, а светлое – светлым. Гоголь, друживший с Хомяковым и с другими славянофилами, ценил их искреннюю любовь к своему народу и насмешливо писал о противостоящей этой любви доктрине официального патриотизма: «Многие у нас […] особенно между молодёжью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!».
В этом смысле очень характерно такое стихотворение Хомякова:
Не говорите: «То былое, То старина, то грех отцов, А наше племя молодое Не знает старых тех грехов». Нет! этот грех – он вечно с вами, Он в вас, он в жилах и крови, Он сросся с вашими сердцами — Сердцами, мёртвыми к любви. Молитесь, кайтесь, к небу длани! За все грехи былых времён, За ваши каинские брани Ещё с младенческих пелён; За слёзы страшной той годины, Когда, враждой упоены, Вы звали чуждые дружины На гибель русской стороны; За рабство вековому плену, За робость пред мечом Литвы, За Новград и его измену, За двоедушие Москвы; За стыд и скорбь святой царицы, За узаконенный разврат, За грех царя-святоубийцы, За разорённый Новоград; За клевету на Годунова, За смерть и стыд его детей, За Тушино, за Ляпунова, За пьянство бешеных страстей; За слепоту, за злодеянья, За сон умов, за хлад сердец, За гордость тёмного незнанья, За плен народа; наконец, За то, что, полные томленья, В слепой терзания тоске, Пошли просить вы исцеленья Не у Того, в Его ж руке И блеск побед, и счастье мира, И огнь любви, и свет умов, Но у бездушного кумира, У мёртвых и слепых богов, И, обуяв в чаду гордыни, Хмельные мудростью земной, Вы отреклись от всей святыни, От сердца стороны родной; За всё, за всякие страданья, За всякий попранный закон, За тёмные отцов деянья, За тёмный грех своих времён, За все беды родного края, — Пред Богом благости и сил Молитесь, плача и рыдая, Чтоб Он простил, чтоб Он простил!Алексея Степановича, родившегося 13 мая 1804 года (умер 5 октября 1860 года), одинаково уважали и приятели-славянофилы, и противостоящие им западники. «Он необыкновенно целен, органичен, мужествен, верен, всегда бодр, – писал о Хомякове Николай Бердяев. – Он крепок земле, точно врос в землю, в нём нет воздушности последующих поколений, от земли оторвавшихся. Он совсем не интеллигент, в нём нет ни плохих, ни хороших свойств русского интеллигента. Он – русский барин и вместе с тем русский мужик, в нём сильна народность, народный духовный и бытовой уклад. Особенно следует подчеркнуть, что Хомяков не был аристократом в западном и обычном смысле этого слова, в нём чувствовался не аристократ с утонченными манерами, а русский барин народного типа, из земли выросший. Он был человеком высокой культуры, но не был человеком гиперкультурным, культурно-утонченным. В фигуре А. С., духовной и физической, было что-то крепкое, народное, земляное, органическое; в нём не было этой аристократической и артистической утонченности, переходящей в призрачность. Это фигура реалистическая, питание в ней не нарушено, не потеряна связь с соками корней».
Характеристика прекрасного человека, правда?
* * *
С Витей (Виктором Михайловичем) Гончаровым, умершим 13 мая 2001 года (родился 7 сентября 1920-го), мы одно время были коллегами. Недолгое время он заведовал поэзией в «Литературной газете».
Кроме того, мы были соседями. Причём он жил не в писательском доме в Астраханском, как я, а в том, к какому этот дом примыкал. На углу Астраханского и Грохольского переулков. Этот дом почти официально считался заселёнными так называемыми «лучшими людьми Дзержинского района», по мнению начальства. И я спросил у Вити, как ему удалось получить в нём квартиру. «Вырезал голову председателю райисполкома», – ответил он.
Нет, ничего страшного! Гончаров был не только поэтом, но и художником, но и скульптором по дереву. Бюсты ему заказывали многие, и стоили они немалых денег. Предрайисполкому его бюст стоил Витиной квартиры: всё понятно!
Участник войны, вернувшийся с неё лейтенантом, Гончаров окончил Литинститут, довольно быстро вступил в Союз писателей и только с 1951 по 1953 год сумел выпустить шесть поэтических книг. Ну, а потом выпускал их бессчётно. Выпустил даже сборник «Избранного» и пьесу в стихах «Военные эшелоны».
Но поэтом был очень средним. Вот с трудом нашёл неплохое (с большими допусками, конечно) раннее его стихотворение:
Я скажу, мы не напрасно жили, В пене стружек, в пыли кирпича, Наспех стёганки и бескозырки шили, Из консервных банок пили чай. Кто скрывает, было очень туго, Но мечтами каждый был богат. Мы умели понимать друг друга, С полувзгляда узнавать врага. Свист осколков, волчий вой метели, Амбразур холодные зрачки… Время! Вместе с нами бронзовели Наши комсомольские значки. Да, когда нас встретит новый ветер Поколений выросших, других, — Я скажу, что мы на этом свете Не напрасно били сапоги!Художником он был тоже не слишком талантливым. А вот деревянные бюсты резал хорошо.
14 МАЯ
О том, что писатель Фёдор Абрамов начал войну добровольцем 22 июня 1941 года, а кончил её в войсках СМЕРШа – старшим следователем отдела контрразведки, он рассказал сам в автобиографической повести «Кто он?», опубликованной после его смерти, случившейся 14 мая 1983 года (родился 29 февраля 1920-го).
Будучи аспирантом ЛГУ, выступал против профессоров-«космополитов» – Бориса Эйхенбаума, Григория Гуковского, Марка Азадовского. Впоследствии вспоминал об этом со стыдом.
Защитил кандидатскую диссертацию по Шолохову. Стал заведующим кафедрой советской литературы в ЛГУ.
Одним из первых начал так называемую «деревенскую тему» в послесталинской литературе. Опубликовал в 1954 году в «Новом мире» статью, резко выступив против лакировки сельской жизни в произведениях, отмеченных сталинскими премиями, – «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского, «Жатва» Г. Николаевой, «Заря» Ю. Лаптева.
В 1956 году закончил свой первый роман «Братья и сёстры». Через два года опубликовал его в ленинградской «Неве». Получил доброжелательные критические отзывы. В 1960-м оставил кафедру филфака ЛГУ и занялся профессиональным писательством.
В 1963 году «Нева» опубликовала его очерковую повесть «Вокруг да около». Повесть подверглась разносу в Ленинградском обкоме КПСС. Главный редактор «Невы» С.А. Воронин был снят со своего поста.
Именно в это время было организовано письмо земляков Ф. Абрамова – крестьян из архангельского села Верколы «К чему зовёшь нас, земляк?», появившееся в районной газете, но немедленно перепечатанное «Правдой Севера» и «Известиями». Абрамов держался мужественно: понимал, что письмо это – фальшивка, изготовленная по приказу партийного начальства.
В 1968-м в «Новом мире» Твардовского выходит роман «Две зимы и три лета», явившийся продолжением романа «Братья и сёстры». Или, как потом определит сам писатель, второй частью его тетралогии «Пряслины». Этот роман журнал «Новый мир» выдвигает на Государственную премию.
Но Абрамов присылает в «Новый мир» свою новинку – повесть «Пелагею». Прежде, чем опубликовать её, Твардовский предложил Абрамову подумать, что для него важнее – публикация «Пелагеи» или Госпремия? Твардовский не сомневался, что «Пелагея» премии помешает. Абрамов выбрал публикацию. Как и предсказывал Твардовский, Госпремию автору повести «Пелагея» присуждать не стали.
В 1973 году «Новый мир» печатает третью часть «Пряслиных» – роман «Пути-перепутья». И несмотря на то, что его, как и прежние романы, обстреляла официозная критика, за трилогию, которую поначалу писатель считал завершённой, – «Пряслины» Абрамову в 1975 году присуждена Госпремия СССР.
Но завершил «Пряслиных» Абрамов романом «Дом», над которым работал пять лет. В конце 1978 года «Дом» опубликован в «Новом мире».
Надо сказать, что ещё при жизни Абрамова его романы, повести и очерки были переведены на многие языки мира. Студенты Ленинградского театрального института под руководством Льва Додина поставили весной 1978 года дипломный спектакль по «Братьям и сёстрам», прекрасно принятый зрителем.
Много работал писатель в жанре очерка, путевых заметок. Закончил жизнь Фёдор Александрович Абрамов признанным советским классиком. Одним из зачинателей направления, которое назовут «деревенской прозой».
Хороша ли его тетралогия, которая сейчас почти не востребована читателями? Думаю, что вопрос о востребовании нужно отложить. В истории литературы мы знаем немало случаев, когда похеренное, казалось бы, временем произведение вдруг вновь оживало, привлекая к себе новых поклонников. Не убеждён, что «Пряслины» навсегда исчезли с литературного поля России.
* * *
Аркадий Викторович Белинков был болен с детства: слабое сердце. Он даже в связи с болезнью получил домашнее образование.
Но наряду с МГУ учился в Литературном институте у Шкловского. Во время Великой Отечественной был недолгое время корреспондентом ТАСС. Входил в комиссию, занимавшуюся расследованием разрушений, причинённых фашистами историческим памятникам.
И писал роман «Черновик чувств», который читал в кругу знакомых. По доносу был арестован в 1944 году и приговорён к восьми годам лагерей. Был отправлен в Карлаг, где руководил драмкружком.
В лагере написал три произведения «Алепаульская элегия», «Антифашистский роман», «Утопический роман», за которые опять-таки по доносу был осуждён на 25 лет. По первому делу был реабилитирован в 1963 году, по второму – только в 1989-м (через много, как увидим, лет после смерти).
В 1956 году Белинков закончил Литинститут и некоторое время там преподавал.
Первую книгу после заключения Аркадия о Юрии Тынянове издательство «Советский писатель» на рецензию послало Шкловскому. Тем более этого хотел Белинков, что Шкловский восторгался его книгой. Однако рецензию написал разгромную. Узнав об этом, Белинков высказал Шкловскому всё, что он думает о трусе-рецензенте.
Всё-таки книга (урезанная, купированная) вышла. И одна из самых хвалебных рецензий на неё в печати принадлежала Шкловскому.
Белинков добился второго издания, где кое-какие «опасные» места восстановил. В это время он писал книгу об Олеше под названием «Сдача и гибель советского интеллигента».
В журнал «Байкал» пришёл новый заместитель главного редактора, который мечтал вывести журнал на всесоюзную арену. Он рыскал по Москве в поисках какого-нибудь сногсшибательного произведения. Белинков дал ему большую главу из новой книги. Глава была рассчитана на публикацию в трёх номерах.
Первый же номер «Байкала» привлёк внимание рептильного критика, работника «Литгазеты» Синельникова, выступившего с разгромной рецензией-доносом. Власти насторожились.
Но – поздно. Белинков с женой сумели выехать из страны.
Оба не были членами Союза писателей, но были членами группкома литераторов при издательстве «Советский писатель». От группкома они получили характеристику для выезда в Венгрию. Друзья сумели вывезти их в Югославию. Оказавшись в Югославии, имевшей открытую границу с миром, они выехали в Триест и попросили политического убежища, которое получили.
Так что второй номер «Байкала» с указанием «окончание следует» вышел, когда Белинков был недосягаем до властей. Окончания, конечно, не последовало и, разумеется, редколлегия «Байкала» была переформирована.
А Белинков на Западе (в США) прожил недолго: всего два года. 14 мая 1970 он скончался (родился 29 сентября 1921 года).
Его книга об Олеше впервые была издана в Мадриде в 1976 году. С предисловием Мариэтты Чудаковой вышла в 1997 году в СССР.
В 2000-м в издательстве журнала «Звезда» вышла книга Белинкова «Россия и чёрт».
15 МАЯ
Юлик Крелин. Юлий Зусманович Крелин (родился 15 мая 1929 года) был великолепным хирургом. На его счету много излеченных. Попасть к нему в клинику считалось большим везением. Больные доверяли хирургу, знали, что операцию он предложит только в крайнем случае и легко соглашались, если он её предлагал.
Членом Союза писателей он стал уже в 1969 году. Он выпустил девять книг. Большинство из их героев – хирурги. Но у меня всегда было такое ощущение, что прежде всего он всё-таки врач, а уже потом писатель.
Был он человеком смелым. При Ельцине работал в комиссии по помилованию при Президенте России.
В 1977 году режиссёр Вадим Зобин по сценарию Крелина снял трёхсерийную телевизионную драму «Дни хирурга Мишкина» с Ефремовым, Смоктуновским, Евстигнеевым и Р. Быковым.
Скончался Крелин 22 мая 2006 года.
16 МАЯ
Меня всегда смешило, что Иосиф Яковлевич Сиркес (родился 16 мая 1904 года) взял себе псевдонимом знатную боярскую фамилию. Понятно, из чего исходят люди, когда берут себе псевдонимы: Горький, Голодный, Бедный, Приблудный. Или даже Светлов, Жаров. Но Колычев – это чуть ли не объявить себя претендентом на русский трон.
Так или иначе Осип Колычев стал утверждать своими стихами именно этот псевдоним.
Говорят, что он послужил моделью Ильфу и Петрову для создания Никифора Ляпис-Трубецкого в «Двенадцати стульях». Помните этого халтурщика? Автора Гаврилиады?
Колычев с неменьшим жаром обсасывал и обсахаривал фигуру Сталина. Его «Баллада о Сталине», которую исполнял хор (музыка Мокроусова) часто звучала по радио в моём детстве. И ещё «Сталин родной» (музыка Туликова), «Если Сталин сказал» (музыка Кручинина). И ещё «Несокрушимая и легендарная» с её строчками: «Нас ведёт в наступление Сталин», «Гений Сталина в бой нас ведёт».
Колычев даже предупреждение читателю вынес:
Пусть те, кто бесстыдно поносит Меня за излюбленный штамп, Поймут, что хотя я и Осип, Но всё-таки не Мандельштам!Только, по-моему, напрасно это предупреждение. «Излюбленный штамп» стал ярким опознавательным знаком Осипа Колычева, умершего в 1973 году. Недаром Ильф и Петров превратили его в своего Ляпис-Трубецкого. Трубецкой ведь тоже была знатной, вельможной фамилией. И этот вельможный Трубецкой тоже воспевал всестороннего и всемогущего Гаврилу.
17 МАЯ
Это стихотворение Герман Борисович Плисецкий написал сразу же после похорон Пастернака:
Поэты, побочные дети России! Вас с чёрного хода всегда выносили. На кладбище старом с косыми крестами крестились неграмотные крестьяне. Теснились родные жалкою горсткой в Тарханах, как в тридцать седьмом в Святогорском. А я – посторонний, заплаканный юнкер, у края могилы застывший по струнке. Я плачу, я слёз не стыжусь и не прячу, хотя от стыда за страну свою плачу. Какое нам дело, что скажут потомки? Поэзию в землю зарыли подонки. Мы славу свою уступаем задаром: как видно, она не по нашим амбарам. Как видно, у нас её край непочатый — поэзии истинной – хоть не печатай! Лишь сосны с поэзией честно поступят: корнями схватив, никому не уступят.Стихотворение сразу же облетело Москву, ходило в самиздате. И на некоторое время определило судьбу Плисецкого. Он окончил заочное отделение филфака МГУ в 1959 году. Работал гидом вокзальных экскурсий по Москве. Потом устроился корректором в издательстве. Поступил в «Семью и школу» и тут же пришлось уходить: стихотворения о похоронах Пастернака ему не простили.
Он уехал в Ленинград. Поступил в аспирантуру Института театра, музыки и кино. Одновременно стал ходить в лучшее в городе литературное объединение, которое вёл Глеб Семёнов.
В конце 60-х выиграл конкурс в издательстве «Наука» на переводы Омара Хайяма. Перевёл, и с тех пор его «Рубайат» Хайяма является одним из лучших, переведённых когда-нибудь на русский.
Он переводил других восточных поэтов Хафиза, Файзи. Перевёл стихами некоторые библейские книги. Например, «Экклезиаст».
Свои стихи он напечатал в журналах «Грани» (1967), «Континент» (1980) и в «Антологии послевоенной русской поэзии» (Англия, 1974).
Его переводы ценил о. Александр Мень. Он писал: «Как Герман Плисецкий искал созвучие своим мыслям у Омара Хайяма – который, кстати, местами очень близок к Экклезиасту – так он потом интерпретировал, быть может, бессознательно, и древнего библейского поэта».
А в «Континенте» Владимир Максимов напечатал его «Трубу» – поэму о похоронах Сталина. Разумеется, по этому поводу к Плисецкому приходили литературоведы в штатском, интересовались, как он сумел передать свою поэму в Париж. «А я её и не передавал, – ответил Герман Борисович. – У Максимова работает Алешковский. А он мою поэму наизусть знает. Он и напечатал со своими ошибками памяти». «А вы можете написать об этом в «Литературную газету»?» – спросили его. «Нет, конечно», – ответил Плисецкий.
Поэма эта небольшая. Посвящена она Е.Е. – то есть Евгению Евтушенко. Вот – отрывок из неё:
Там, впереди, куда несёт река, аляповатой вкладкой «Огонька», как риза, раззолочено и ало, встаёт виденье траурного зала. Там саркофаг, поставленный торчком, с приподнятым над миром старичком: чтоб не лежал, как рядовые трупы. Его ещё приподнимают трубы превыше толп рыдающих и стен. Работают Бетховен и Шопен. Вперёд, вперёд, свободные рабы, достойные Ходынки и Трубы! Там, впереди, проходы перекрыты. Давитесь, разевайте рты, как рыбы. Вперёд, вперёд, истории творцы! Вам мостовых достанутся торцы, хруст рёбер и чугунная ограда, и топот обезумевшего стада, и грязь, и кровь в углах бескровных губ. Вы обойдётесь без высоких труб. Спрессованные, сжатые с боков, вы обойдётесь небом без богов, безбожным небом в клочьях облаков. Вы обойдётесь этим чёрным небом, как прежде обходились чёрным хлебом. До самой глубины глазного дна постигнете, что истина черна. Земля, среди кромешной черноты, одна как перст, а все её цветы, её весёлый купол голубой — цветной мираж, рассеянный Трубой. Весь кислород Земли сгорел дотла в бурлящей топке этого котла… Опомнимся! Попробуем спасти ту девочку босую лет шести. Дерзнём в толпе безлюдной быть людьми — отдельными людьми, детьми любви. Отчаемся – и побредём домой сушить над газом брюки с бахромой, пол-литра пить и до утра решать: чем в безвоздушном городе дышать? Труба, Труба! В день Страшного Суда ты будешь мёртвых созывать сюда: тех девочек, прозрачных, как слюда, задавленных безумьем белоглазым, и тех владельцев почернелых морд, доставленных из подворотен в морг и снова воскрешённых трубным гласом… […]Родился Герман Плисецкий 17 мая 1931-го. Умер 2 декабря 1992 года.
18 МАЯ
Анатолий Григорьевич Поперечный окончил Ленинградский государственный пединстиут им. Герцена.
В 1957 году послал в Москву в издательство «Советский писатель» рукопись своих стихов «Полнолуние». Издательство рукопись не отвергло, но выпустило книжку в своём ленинградском отделении (1959). После того, как у Поперечного вышла вторая книга «Червонные листья» и он был в том же 1960 году принят в Союз писателей, его пригласили заведовать отделом поэзии в московском журнале «Октябрь». В связи с этим он переехал в Москву.
В это время Поперечного критики ставили как бы в тандем к Цыбину. Но дальнейшее показало, что ничего общего у этих поэтов не было.
Поперечный вспоминал: «В августе сорок первого года мне, семилетнему мальцу, вместе с матерью, медсестрой санитарного эшелона, пришлось пересечь Россию от Днепра до Урала. Восточная пословица гласит: «Учение в детстве – зарубки на камне». Но то были зарубки на сердце. До сих пор в памяти – переправа через Днепр, когда среди бела дня на колонну беженцев и раненых красноармейцев начали пикировать фашистские «мессеры». Много лет спустя я написал об этом стихи «Паром сорок первого года», позже – «Сирота», «Она защищает Родину», «Товарняк», «Ночные переправы». А стихотворение «Солдатка» благодаря сильной, драматичной музыке композитора А. Долуханяна стало широко популярной песней «Рязанские мадонны».
У Цыбина подобные военные воспоминания реализованы по-другому. У него нет той плакатности в стихах, какая отличает А. Поперечного. А плакатность в поэзии всегда привлекала советских композиторов.
Вот почему мы скажем, что 18 мая 2014 года скончался не поэт Анатолий Поперечный, а поэт-песенник Анатолий Поперечный, в творчестве которого песня занимает не «особое», как пишут иные критики, место, а основное. Родился Анатолий Григорьевич 22 ноября 1934 года.
19 МАЯ
Георгий Николаевич Оболдуев (родился 19 мая 1898 года) был арестован в декабре 1933 года, в 34-м приговорён к трём годам ссылки в Карелию. По возвращению жил за 101-м километром от столиц – в Малоярославце и в Александрове. Потом в Куйбышеве. Его демобилизовали на фронт во время Великой Отечественной. Воевал во фронтовой разведке.
Вернувшись с войны, жил в Москве, но больше всего в подмосковном Голицыне, где у него и его жены Е. Благининой был дом. Там и умер 27 августа 1954 года.
Был он исключительно узнаваемым в стилевом отношении поэтом. Писал стихи, которые, конечно, при советской власти не печатали.
Первая его книга вышла в Германии нелегально в 1979-м.
Писал он стихи вот такого рода:
Хлев наш насущный! Начинаясь «а», «б», Азбука горожан Продолжается абортами, презервативами, Тэбэцами, холуэсами, раз-два-трипперами, Импотентами, лезбабами, педераками, — Чтоб кончиться законным наследством Преждевременной смерти.Вообще при его жизни было напечатано только одно (!) стихотворение. И то в 1929-м. Первую его книгу подготовил поэт Г. Айни, который взял себе для этого случая псевдоним А.Н. Терезин. Под названием «Устойчивое равновесие» он выпустил её в 1979 году в Западной Германии. В 1991-м под тем же названием книгу Оболдуева выпустил «Советский писатель». С тех пор наследие Оболдуева в основном опубликовано.
Опубликованы и воспоминания вдовы поэта в 1997 году.
* * *
Митя Голубков, мой очень недолгий коллега по «Литературной газете». Я был с ним дружен до его прихода к нам в штат. Он производил впечатление очень честного и чистого человека.
Это подтвердилось, когда я прочитал его дневник, изданный дочерью в 2013 году. Называется: «Это было совсем не в Италии: Изборник».
Помимо всего прочего, это ещё и замечательная проза.
Дмитрий Николаевич Голубков (родился 19 мая 1930-го) был не только хорошим поэтом и неплохим прозаиком, он ещё и рисовал весьма профессионально. Не знаю, были ли у него враги, но все, кто его знал, впоследствии говорили мне о нём только тёплые задушевные слова. О нём написал Юрий Казаков, его сосед по абрамцевской даче, в рассказе «Во сне ты горько плакал…». Его стихи очень высоко оценил Евтушенко, который, прочитав последнюю книгу Голубкова «Окрестность», сказал ему: «Ты стал национальным поэтом».
К нам в штат в газету он оформился осенью 1972 года. Мы говорили с ним. Поразила какая-то безнадёжная печаль, которая пронизывала его речь. Он недавно развёлся с женой и переехал жить в Абрамцево на дачу. Потом налысо постригся. А ещё через короткое время по газете искрой пробежала страшная весть: Митя Голубков застрелился!
В это не хотелось верить. Он много работал, писал стихи, переводил, писал прозу, написал роман о Баратынском. И при этом был на штатной работе в «Советском писателе», у нас…
Тем не менее всё оказалось правдой: он застрелился, прожив на свете 42 года, – 4 ноября 1972 года. Сделавший очень много для такого небольшого отрезка жизни.
Помню, как испугалось наше начальство, которое вообще не хотело даже поминать в некрологе, что он работал в «Литературной газете»: дескать, он и двух месяцев не проработал! Но причина была в том, что начальство знало: к самоубийцам советская власть относилась неодобрительно. Что и понятно. Пожалуй, это единственный серьёзный шаг человека, который не считается с властью, действует помимо неё, и власть ничего с этим поделать не может.
Вот как писал Голубков. Стихи называются «Королева» и посвящены матери поэта:
«Королева играла в башне замка Шопена…» Северянин певучий, не мучь, не морочь! Год двадцатый. Деникин. Разруха, Измена. Затаившаяся бездыханная ночь. Город вымер – мещанам не надо бессмертья, Им – немедля! – сытый паёк, и покой. У рояля, ссутулясь, сестра милосердия Вспоминает Шопена отвыкшей рукой. Дом старинный построен в готическом стиле; Покорёжен – цела только башня одна. В покалеченных креслах курсанты застыли. Холодище. Назойливая тишина. Ах, гимназия! Баллы. Балы. Северянин. Нерушимая прочность родительских стен… Стены взорваны. Быт опалён и изранен… Для чего этим хмурым мальчишкам Шопен? Тот разут, этот болен «испанкою» лютой. Отдохнуть бы, да нет: до зари не уснуть. Что сыграть? Чем согреться в такую минуту? Может, это? «Революционный этюд»? И, на пальцы распухшие бережно дунув, Пыльных клавиш коснулась сестрица рукой. И для этих ребят, огрубелых и юных, Распахнул своё сердце Шопен молодой. За разбитыми окнами тучи смыкались, У аптеки трещал пулемёт, обнаглев. И вчерашние мальчики хмуро влюблялись В эту девочку – лучшую из королев.20 МАЯ
Матвей Александрович Гуковский (родился 20 мая 1898 года) был арестован вместе со своим знаменитым братом Григорием Александровичем летом 1949 года. Григорий Александрович умер в следственной тюрьме, а Матвею Александровичу довелось выслушать приговор ОСО: 10 лет по обвинению в контрреволюционной пропаганде и агитации. Освободился в 1954 году.
До лагеря он был заведующим кафедрой истории средних веков, замом директора по научной и научно-просветительской части Эрмитажа.
После освобождения возглавил научную библиотеку Эрмитажа и с 1960 – кафедру истории средних веков исторического факультета ЛГУ.
Главное в его наследие – это итальянское Возрождение. Ему посвящён двухтомник, который так и называется «Итальянское возрождение» (1947–1961), работа «Рождение и гибель итальянского Возрождения» в книге «Труды Государственного Эрмитажа», т. 8 (1964). Наконец, вышедшая несколькими изданиями книга о гении этого периода «Леонардо да Винчи».
Умер Матвей Александрович 6 февраля 1971 года.
* * *
Степан Петрович Шевырёв входил в литературный кружок любомудров, в котором участвовали Д. Веневитинов, А. Кошелёв, И. Киреевский. Участвовал в организации печатного издания этого кружка «Московский вестник» (1827–1830).
Вместе с сыном Зинаиды Волконской, которому преподавал, жил в Италии и в Швейцарии. Изучал архитектуру этих стран. По возвращении защитил диссертацию «Дант и его век» (1833). Получив степень доктора философии за сочинение «Теория поэзии в историческом её развитии у древних и новых народов» (1836), стал профессором Московского университета (1837).
Ещё два года поездил по загранице. Удостоен степени доктора философии Парижского университета, избран членом художественного общества в Афинах, филологического общества в Аграме (ныне Загреб). Вернувшись, снова стал преподавать в Московском университете, где утверждён деканом философского факультета.
Летом 1847 года совершил поездку в Кирилло-Белозерский монастырь, где нашёл несколько неизвестных памятников литературы.
Профессура Московского университета не жаловала Шевырёва и в 1851 году забаллотировала его на должность декана, избрав Т. Грановского. Однако министр не утвердил выборов, и Шевырёв остался на своей должности.
Но в 1857 году на заседании совета Московского художественного общества граф Бобринский обрушился на некоторые русские порядки. Шевырёв увидел в этом стремление опорочить Россию. Разгорелся спор, перешедший в драку. В результате Шевырёв был уволен со службы, ему предписано было выехать в Ярославль. Но, разобравшись в ситуации, поняв, что Шевырёв не был зачинщиком, ему позволили остаться в Москве. Однако обиженный Шевырёв, поработав в библиотеке, навсегда уехал за границу.
Там он пропагандировал русскую литературу, читал лекции во Флоренции, в Париже. Умер он в Париже 20 мая 1864 года (родился 30 октября 1806 года).
Он был дружен со многими русскими писателями, в том числе и с Пушкиным. Но самым большим его другом был Гоголь.
21 МАЯ
21 мая 1957 года в Москве скончался выдающийся бард, один из основателей этого жанра в русской культуре Александр Николаевич Вертинский. Основная его жизнь прошла в эмиграции, куда он уехал после революции и откуда вернулся в конце Второй Мировой войны.
Я успел побывать на его концерте, где он пел слабеющим старческим голосом песни, какие были у меня на довоенных заграничных пластинках (достались от кого-то из родственников) и новые – на стихи советских поэтов и на собственные стихи.
Его называли русским Пьеро – по той маске, в какой он выступал на довоенной сцене. Старик, которого видел я, Пьеро не напоминал. Не был он похож и на себя самого, молодого (он родился 19 марта 1889 года), чей голос звучал у меня на пластинках. Я это обнаружил, когда он запел любимый мной «Прощальный ужин». Он пел, и у меня сжималось сердце. Прежде после слов: «Я знаю, я совсем не тот, / Кто Вам для счастья нужен. / А он другой…», Александр Николаевич чуть останавливался, надменно-брезгливо чеканил: «Так пусть он ждёт» и вкрадчиво завершал: «пока мы кончим ужин». Вырисовывался, самовыражался молодой, знающий себе цену любовник, не то что не жалеющей о предстоящем расставании с женщиной, но убеждённый, что на ней, на этой женщине, свет клином не сошёлся. А сейчас я слушал трагическую песню старика, сознающего, что этот ужин с возлюбленной прощальный на самом деле и умоляющего женщину, чьи мысли, быть может, уже заняты другим, побыть с ним, со стариком, ещё немного: «Пока мы кончим ужин».
22 МАЯ
22 мая 2009 года в американском госпитале скончался прекрасный русский поэт Александр Петрович Межиров.
Участник Великой Отечественной войны, много о войне поначалу писавший, Межиров оставил яркий след во фронтовой поэзии. Его баллада «Коммунисты, вперёд!» пронизана такой лирической напряжённостью, что продолжает жить и сейчас после банкротства коммунистической идеологии.
Человек, влюблённый в русскую поэзию, он был прекрасным педагогом, обучившим на Высших литературных курсах при Литературном институте немало интересных поэтов. Среди тех, на кого поэзия Межирова оказала влияние, в первую очередь назовём Евгения Евтушенко.
До самого конца Межиров продолжал писать стихи самобытные, узнаваемые, несущие печать незаурядной личности своего создателя.
К примеру:
Я хочу сообщить хоть немного простых, Но тобой позабытых истин, Смысл которых тебе ненавистен… Будет холодно в доме от комнат пустых, И на тысячи прочих домов холостых Будет наше жилище похоже. Если стужа – мурашки по коже. Ну, а если июль, ну, а если жара, Это значит – по стенам над копотью ламп Будет тени большие бросать мошкара, Будет хаос… А я загоню его в ямб. Буду счастлив. И пронумерую листы. Ну, а ты? Ну, а ты? Ну, а ты? Я умру под колёсами жизни своей кочевой, Голос твой мне почудится перед атакой. Будут сборы в дорогу, и споры, и пар над Невой, Будет многое множество всячины всякой. Сквозняков будет столько же, сколько дверей. Будет хаос… А я его втисну в хорей. Буду счастлив. А ты? Отвечай! Головой не качай. Я, конечно, не всё досказал… Будет в семечках потный вокзал. Кипятильник. Слегка недоваренный чай. Ожиданья. Но не будет проклятого слова «прощай»… Ты меня не прощай! До свиданья!* * *
22 мая 1913 года родился Никита Владимирович Богословский, чьи песни к кинофильмам очень популярны и любимы до сих пор.
Первая же песня из кинофильма «Остров сокровищ» (слова В. Лебедева-Кумача) прославила Богословского. Помните: «Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза»? А «Любимый город» (стихи Е. Долматовского) из кинофильма «Истребители»? А песни из кинофильма «Два бойца» (стихи В. Агатова) – «Тёмная ночь» и «Шаланды, полные кефали»? Перечислять все песни Богословского рука устанет. Их у него более трёхсот!
Но Богословский остался в памяти не только своими песнями. Его называли «королём розыгрыша». Я сам слышал много хохм и хохмаческих поступков, которые приписывали Никите Владимировичу. Какие из них были подлинно его? Сейчас уже трудно ответить на этот вопрос. Хотя в Интернете вы можете найти и лично им рассказанные байки.
23 МАЯ
23 мая 1938 года родился Вагрич Акопович Бахчанян. Бах, как мы называли его в «Литературной газете», куда приходил он почти ежедневно, как на работу, на пятый этаж дома 30 на Цветном бульваре, где располагалась огромная комната Клуба 12 стульев, – отдела юмора, занимавшего в газете всю 16 (последнюю) полосу.
В этом «Клубе» всегда было многолюдно. Здесь выпивали, обменивались последними хохмами, обсуждали те, что сейчас рассказали Никита Богословский, Гриша Горин, Витя Славкин и Вагрич Бах.
Баха уважали все. Его знаменитая фраза «если нельзя, но очень хочется, то можно», будучи напечатанной у нас в газете, облетела всю Россию. А другая тоже очень известная, ненапечатанная, произнесённая в «Клубе», там подхваченная и передаваемая из уст в уста: «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» ушла в фольклор: многие до сих пор не знают, кто её автор. Вагрич печатался в газете со своими рисунками (он был парадоксальным художником-формалистом) и со своими фразами. И то и другое очень нелегко просачивалось через цензурное сито. С цензорами сражались зав отделом Виктор Веселовский и его зам Илья Суслов, порой подключался к этой борьбе и Виталий Александрович Сырокомский, первый заместитель главного редактора газеты, понимавший и ценивший юмор. Но такие игры с государством далеко не всегда заканчивались победой автора. И Бах мечтал о творческой свободе, где он зависел бы только от себя: любое вмешательство в текст его коробило.
Он нашёл такую свободу в США, куда уехал в середине семидесятых и где быстро завоевал авторитет среди эмигрантов. Сергей Довлатов, Александр Генис поклонялись его изобретательному на выдумки таланту (одна из его книг «Демарш энтузиастов» написана им в соавторстве с Довлатовым и Наумом Сагаловским). А его художественные выставки принесли ему настоящую славу.
Он приезжал в Москву, начиная с 2003 года на свои выставки, размещавшиеся в Русском музее, в музее Сахарова. Понятно, что «патриотическая» общественность ополчилась на его вещи. В частности, выставленный в музее Сахарова коллаж Вагрича явился одной из причин возбуждения уголовного дела против директора музея Ю. Самодурова и искусствоведа В. Ерофеева. «Пованивает Советским Союзом», – отозвался в ответ на это Бах.
Умер мой старый товарищ в 2007 году.
Конечно он писал не без влияния обериутов, но при этом достойно разместился в их традиции. К примеру, из его «некрологов»:
«НЕКРОЛОГ № 1
21 января 1924 года умер В. И. Ленин, а дело его живет.
НЕКРОЛОГ № 2
Тимофей Георгиевич Томенко 13.6.1916 – 14.6.1916
НЕКРОЛОГ № 3
15 июля 1974 года скоропостижно скончался Иван Андреевич Артюхин, о чем с горем сообщают: мать, отец, мачеха, отчим, дядя, тетя, свекровь, шурин, зять, тесть, кум, кума, золовка, свояк, свояченица, теща, сын, дочь, пасынок, падчерица, внуки, правнуки, праправнуки, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, прапрадедушка, прапрабабушка, прапрапрадедушка, прапрапрабабушка, прапрапрапрадедушка, прапрапрапрабабушка, прапрапрапрапрадедушка, прапрапрапрапрабабушка и соседи по коммунальной квартире».
* * *
23 мая 1947 года родился Александр Давыдович Гольдфарб, биолог, правозащитник, эмигрировавший в 1975 году под давлением КГБ СССР в Израиль, где работал сотрудником знаменитого Вейцмановского института. В Израиле он задержался недолго, уехал сперва в Германию, став научным сотрудником института Макса Планка, а потом в США, в Нью-Йорк, в Колумбийский университет, где работал профессором.
В 1990-м вернулся в Россию, работал в основанной Фондом Сороса общественной организации «Открытое общество». После закрытия общества и выдворения из России Фонда Сороса вновь переехал в США, возглавив созданный там Борисом Березовским Фонд общественных свобод.
Александр Гольдфарб (литературный псевдоним Алекс Гольдфарб) дружил с Александром Литвиненко, помог ему уехать из России, когда над Литвиненко нависла смертельная опасность, подготовил для издания книгу Литвиненко «Lubyanka Criminal Group» («Лубянская преступная группировка»), вышедшую в Нью-Йорке в 2002 году. Провёл самостоятельное расследование гибели Литвиненко от полония и вместе с его вдовой Мариной написал книгу «Саша. Володя. Борис. История убийства», которая недавно переведена Гольдфарбом на русский язык и вышла в США.
24 МАЯ
Много лет назад день моего сорокалетия начался привычно: не вставая с постели, я погнал по радиоволнам мой небольшой японский приёмник «Панасоник». Обычно в Москве зарубежное радио ловилось плохо. Но тут повезло сразу: внятный мужской голос сказал: «Сегодня исполняется 40 лет поэту Иосифу Бродскому». Я был приятно удивлён: надо же мы с Бродским родились в один день и в один год (1940)! И вот – я получаю первый подарок: по «Голосу Америки» читает свои стихи не просто мой ровесник, но ещё и родившийся в один день со мной – 24 мая.
Я знал, что 24 мая родился ещё один русский писатель, получивший Нобелевскую премию, – Михаил Шолохов. Но я его не любил. Несмотря на «Тихий Дон». Точнее, «Тихий Дон» для меня всегда существовал отдельно от автора. И очень обрадовался, прочитав в самиздатовском «Телёнке» Солженицына о неком литературоведе, написавшем убедительную книгу о ложном авторстве Шолохова. Потом уже, значительно позже своего сорокалетия, я эту книгу – «Стремя «Тихого Дона» И.Н. Медведевой-Томашевской прочитал. И она меня убедила. Прочитал и её критиков. Остался верен Медведевой-Томашевской: ну, не укладывается у меня в голове, как мог человек, окончивший четыре класса гимназии, 23–24 лет, то есть в 1928-29 гг. (Шолохов родился в 1905) стать автором двух первых томов «Тихого Дона»: там запечатлены такие глубинные знания истории казачества, которых без кропотливой работы в архиве не получишь. Но не верилось, что плохо образованный юноша сумел перелопатить архивы. Ведь ничего общего с ранними «Донскими рассказами», которые написаны в обычном пролеткультовском стиле. И ничего общего с «Поднятой целиной», в которой мой умерший недавно товарищ Бенедикт Сарнов находил неплохие пейзажные описания и потому допускавший авторство Шолохова. Я спорил с Беном, приводил аналог с плохими поэтами, у которых вдруг мелькают неплохие строчки. Не говорю уже о страшно перехваленном рассказе «Судьба человека». Прочитав его, я удивился: слышал, что Шолохов страдает запоями. Как же мог человек, знающий об увесистой силе водки и тем более спирта, изобразить оголодавшего в плену героя, который не только не отказывается от полного стакана, налитого ему немецким офицером, но выпивает, не отрываясь до конца, не закусывает и продолжает беседу с немцем! Ну, а о неоконченном романе «Они сражались за Родину» и говорить нечего: перо графомана!
О Нобелевской премии Шолохова я вспомнил сейчас, а в тот день нашего общего с Бродским сорокалетия я о ней не вспоминал: не было повода. Бродский получил свою Нобелевку позднее.
Справедливо ли, что из русских поэтов в советский период получили её только Пастернак и Бродский, а, допустим, Ахматова, Твардовский или Чухонцев (да, я его считаю поэтом выдающимся!) не получили? Вопрос непростой. Нобелевская премия за русские стихи не присуждалась. Для того чтобы получить её, нужно быть очень хорошо переведённым на английский, или французский, или немецкий. Но Бродскому дали премию главным образом за его английские стихи и эссе (он в совершенстве овладел языком в изгнании). Стихи Пастернака были переведены на другие языки и, говорят, что неплохо, но премию всё-таки он получил за роман «Доктор Живаго», в котором, правда, есть великие стихи. Знаю, как сформулировал Нобелевский комитет своё решение дать премию Пастернаку: «За выдающиеся достижения в лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы». Но если и были у жюри Нобелевки какие-либо колебания, то после выхода переведённого на европейские языки «Доктора Живаго», их не осталось.
Впрочем, да не подумают, что я ставлю под сомнение решение Нобелевского комитета. Оно справедливо в отношении Пастернака. Справедливо оно и в отношении Бродского. Одна его перекличка с Пушкиным заслуживает высшей оценки:
Я вас любил. Любовь ещё (возможно, что просто боль) сверлит мои мозги. Всё разлетелось к черту на куски. Я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. И далее: виски: в который вдарить? Портила не дрожь, но задумчивость. Чёрт! Всё не по-людски! Я вас любил так сильно, безнадёжно, как дай вам Бог другими – но не даст! Он, будучи на многое горазд, не сотворит – по Пармениду – дважды сей жар в крови, ширококостный хруст, чтоб пломбы в пасти плавились от жажды коснуться – «бюст» зачёркиваю – уст!А у него стихотворений такой силы немало!
Умер Иосиф 28 января 1996 года.
Здесь же сообщаю и о том, что Шолохов скончался 21 февраля 1984 года, благо и он родился 24 мая.
* * *
24 мая 1988 года скончался выдающийся учёный современности Алексей Фёдорович Лосев (родился 22 сентября 1893 года).
Меня с ним связывает некая мистическая связь: я получил премию его имени в МПГУ за свою книгу о Пушкине, изданную «Босленом» в 2013 году.
В МПГУ я пришёл несколькими годами позже голосования среди преподавательского состава, решавшего: оставить ли МПГУ, наследнику педагогического института имя В.И. Ленина это имя, присвоить ли ему имя одного из двух выдающихся учёных, работавших в нём – В.И. Вернадского или А.Ф. Лосева. Это были годы перестройки, и большинство преподавателей высказались за привычного Ленина. Спасибо министерству, которое разрешило сделать педуниверситет безымянным.
Думаю, что голосование было попросту просоветским. Тем более что и Вернадского, и Лосева в МПГУ чтят. Их именами названы высшие его премии: Вернадского – за выдающуюся работу по естественным наукам, Лосева – за такую же, но по наукам гуманитарным.
Ученик великого Флоренского Алексей Фёдорович застал и беседовал с такими замечательными философами, как Бердяев и Франк.
Судьба его, не скрывавшего своих идеалистических воззрений, складывалась очень несчастливо. Уже в начале 20-х он провёл год в Белбалтлаге, Выйдя на свободу с большим трудом устроился преподавать античную эстетику во 2-й МГУ, из которого и возник нынешний МПГУ, и в академию художественных наук. В 1929-м вместе с женой тайно постригся в монахи от афонских старцев. Я помню его в неизменной монашеской шапочке скуфье.
В 1930-м написал свою знаменитую книгу «Диалектику мифа», где довольно убедительно отвергал диалектический материализм, за что был арестован и приговорён к 10 годам лишения свободы. Жена его была приговорена на 5 лет.
Отбывал наказание на строительстве Беломоро-Балтийского канала, где почти полностью потерял зрение, которое восстановилось только частично и не до конца его жизни.
Благодаря заступничеству Е.П. Пешковой, руководителя Красного Креста в 1932 году Лосев с женой вышли на свободу.
Пытался найти в диамате рациональное зерно. Насытил свои работы цитатами из Маркса и Ленина. Но это не спасало его от разгромной критики ортодоксов.
С 1944 года преподавал в нашем предшественнике пединституте.
После смерти Сталина стал публиковаться довольно широко. Его критики поутихли.
В 1960-м напечатал первый том своей «Истории античной эстетики», существенно изменившей наше представление о ней. Дальнейшие её тома выходили год за годом.
Одновременно работал над произведениями по философии музыки и по герменевтике. Написал книги по эллинистическо-римской эстетике (1979) и эстетике Возрождения (1978).
В 1985 году получил Государственную премию СССР.
К концу жизни не писал, а диктовал свои работы, будучи окончательно слепым. В память об этом в Российской государственной библиотеке для слепых установлен его бюст.
* * *
24 мая 1896 года родился Михаил Павлович Алексеев, выдающийся литературовед, академик АН СССР, много сделавший для изучения связей русской и западноевропейской литератур, председатель Пушкинской комиссии при академии с 1959 года и до смерти (1981).
У него много званий и титулов, но мне он дорог прежде всего как исследователь Пушкина. Его итоговые книги «Пушкин. Сравнительно-исторические исследования» и «Пушкин и мировая литература» занимают одно из почётнейших мест на моей книжной полке, заставляют часто к ним обращаться, а порой с удовольствием их перечитывать.
Умер Михаил Павлович 19 сентября 1981 года.
* * *
Ставший мне родным один из арбатских переулков – Филипповский впадает в другой – в Сивцев Вражек. Сделав по нему несколько десятков шагов по направлению к Гоголевскому бульвару, видишь дом с мемориальной доской в честь жившего в нём академика Александра Александровича Богомольца. Его работы так заинтересовали Сталина, что прознавший про это придворный сталинский песнопевец драматург Александр Корнейчук воспел академика в пьесе «Платон Кречет», за что сразу же был избран председателем Союза писателей Украины. А Богомольца, жившего больше в Киеве, чем в Москве, Сталин сделал президентом украинской академии наук. Присвоил редкое в его время звание героя соцтруда. И до самой смерти академика осыпал того всевозможными наградами и воздавал ему всякого рода почести.
Но, узнав о смерти Богомольца, страшно разозлился. И было отчего: среди прочего учёный решал задачу, как замедлить наступление и развитие старости человека. Для решения этой задачи Сталин дал Богомольцу институт. За книгу «Продление жизни» – сталинскую премию. А тот возьми и умри! 19 июля 1946 года! В 65 лет! «Всех надул!» – разочарованно и гневно сказал о нём Сталин.
А к чему я о нём вспомнил? К тому, что сегодня – 24 мая – день рождения Богомольца. Он родился 24 мая 1881-го
* * *
Повесть «Сирота» Николая Дубова я прочёл ещё в юности, когда она только что вышла из печати. Мне она очень понравилась, и я стал следить за незаурядным прозаиком. Кажется, в «Новом мире» Твардовского я прочитал повести Дубова «Мальчик у моря», «Беглец». И навсегда сохранил любовь к этому писателю, умершему 24 мая 1983 года (родился 4 ноября 1910-го).
Издаются ли сейчас книги Николая Ивановича? Я их в магазинах не видел. Жаль. Забвение талантливого писателя – удел несправедливый. Одна надежда на время, которое многих возвращает из забвения.
25 МАЯ
25 мая 1941 года родился один из любимейших моих актёров Олег Даль.
Он умер на 40-м году 3 марта 1981-го после ужина с Леонидом Маркиным – актёром, с которым Даль пробовался в одну картину. По словам Маркина, Даль сказал ему: «Ну, всё. Пойду к себе умирать» Так возникла версия о самоубийстве: дескать, «зашитый» от алкоголя Даль нарушил категорический запрет врачей. И нарушил сознательно.
Но вдова его, Елизавета Алексеевна, этой версии не подтверждала: Даль с детства жил с больным сердцем, которое остановилось во сне.
Близкий друг Даля, актёр Михаил Козаков, друживший с моими друзьями и бывший мне товарищем, соглашался с вдовой, вспоминал, как часто жаловался на своё сердце Олег Иванович, рассказывал, что Даль порой выходил на сцену, превозмогая сердечную боль.
Был Олег Иванович Даль актёром, очень трудным для режиссёров: соглашался играть только те роли, которые ему нравились, и так, как считал нужным только он. В результате возникали серьёзные разногласия, способствовавшие тому, что Даль мог уйти, так и не закончив работы над киноролью, которую начинал воплощать на съёмках, мог не прийти на спектакль, не извещая об этом ни режиссёра, ни театрального администратора, – причина? – он устал воплощать на сцене этого персонажа, он не видит для себя возможности совершенствоваться в этой роли!
Конечно, при таком характере и здоровое сердце может не выдержать, не то что больное!
И при этом Олег Даль остался в памяти людей выдающимся актёром, любимым многими.
Я люблю его тончайшую психологическую игру, его невероятное умение вживаться в роль и избегать повторений.
В заключение скажу, что был он правнуком (по побочной линии) автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, а жена его, Елизавета Алексеевна Апраксина – внучкой известного литературоведа Бориса Михайловича Эйхенбаума.
* * *
«Политика должна быть не более и не менее, как прикладной историей. Теперь она не более как отрицание истории и не менее как её искажение».
Хорошо сказано, правда. Очень современно, и аккурат в пику политике нынешних российских властей. А, учитывая репрессивный характер этой политики, не озаботиться ли нам судьбою автора этих слов?
Нет, за автора тревожиться не стоит: его никто уже не достанет и не потребует к ответу. Выдающийся русский историк Василий Осипович Ключевский умер 25 мая 1911 года (родился 28 января 1841-го).
Ученик другого выдающегося историка Сергея Михайловича Соловьёва Ключевский после смерти учителя продолжил дело Соловьёва – читал лекции по русской истории в Московском университете. Параллельно с университетом он читал лекции в Московской духовной академии и на Московских женских курсах В.И. Герье, которые в будущем превратятся во 2-й МГУ и по цепочке преобразований дойдут до МПГУ, заставив его вести свою родословную от женских курсов.
Не стану излагать суть новизны исторического учения Ключевского. О ней доступно писал философ Г.П. Федотов в своей работе «Россия Ключевского».
И всё же одну цитату из Федотова я здесь приведу. Она относится не столько к Ключевскому-историку, сколько к Ключевскому-стилисту:
«Ключевский, как художник, – прямое отрицание шестидесятых годов. Как писатель, он совершенно одинок – до самого XX столетия. Его поколение, порвав с великой карамзинско-пушкинско-гоголевской традицией, размотало все формальные достижения русского слова, разболтало и развинтило синтаксис, засорило словарь. Даже Толстой и Достоевский, в своей свободе и беззаконии, не могут быть учителями безукоризненной русской речи. Ключевский был не только образным и ярким писателем (эти качества не были утрачены и в 60-х годах), но и строгим, чеканным, изысканным мастером. Его искусство граничило с искусственностью, не допускало ни малейшей вольности. Каждая острота отшлифована, правится годами, получая классическую отточенность».
К этому добавлю, что Ключевский был любителем и ценителем русской классической литературы. И охотно выступал с речами о ней на каких-нибудь собраниях, посвящённых той или иной знаменательной литературной дате. Скажем, на заседании Общества любителей российской словесности, отмечавшего 50 лет со дня смерти Пушкина, он прочитал яркую речь, которая была напечатана под заглавием «Евгений Онегин и его предки».
Таков уж великолепный стиль этого человека, что, начав его читать, вы не оторвётесь. Но, читая, не забывайте, что Василий Осипович не литературовед, а историк. «Поэтому, – передаю ему слово, – я не введу вас в недоумение, когда буду говорить об отце, дяде и прадеде Онегина».
* * *
Не знаю, как кому, а мне трудно отделаться от собственного первого впечатления, которой сложилось от прочитанной книги.
Книгу Евгении Соломоновны Гинзбург, умершей 25 мая 1977 года (родилась 20 декабря 1904-го), «Крутой маршрут» я прочёл, как многие из моего поколения, в самиздате, и она меня потрясла. Я и до этого и позже читал повествования бывших лагерников, но потрясение испытал лишь трижды – от «Архипелага Гулага», от мемуаров Евфросинии Керсновской и от «Крутого маршрута».
Внук смоленского крестьянина, расстрелянного в 1938-м по сталинской разнарядке, я уже был подготовлен моим дядей, старшим сыном репрессированного деда, к восприятию Сталина как убийцы невинных людей, и потому не горевал, как другие, когда (мне было тринадцать лет) Сталин умер. Потому и одобрил расстрел Берии и доклад Хрущёва на партийном съезде. По правде сказать, XXII съезд меня обрадовал ещё больше, чем XX-й. Там Хрущёв заставил делиться воспоминаниями о преступлениях Сталина всех своих соратников – Брежнева, Подгорного, Микояна, Косыгина, Шелепина. И они рассказывали такие подробности, от которых пропадала вера в Сталина даже упёртых коммунистов. Впрочем, мне тогда казалось, что пропадала. Никак не ожидал, что такие монстры политбюро, как Лигачёв, Строев, Долгих, нынче обнажат то, что пришлось им скрывать, – тоску по Сталину.
От «Крутого маршрута» веяло (простите за тавтологию) крутой правдой. Что его автор – мать Василия Аксёнова я узнал тогда же. Позже, в Дубултах, Вася рассказывал, что у матери был более откровенный и беспощадный вариант. Но как-то, испугавшись ареста, она его сожгла. Потом по памяти восстановила тот, что мы все читали.
– Вася! – сказал драматург Э., – А ведь её проза, пожалуй, посильней твоей будет!
Аксёнов не принял хамской шутки:
– Вот уж чьё мнение меня никогда не интересовало, так это твоё! – сказал он жёстко.
Сильней ли проза матери прозы сына? По-моему, так вопрос ставить нельзя. У Аксёнова есть удивительные удачи, с которыми он остаётся в литературе. «Крутой маршрут» тоже в ней остаётся. Перечитал и убедился, что первое впечатление меня не подвело: проза Евгении Гинзбург – настоящее явление в искусстве.
* * *
Что вы знаете о поэте Александре Алексеевиче Крестинском, родившемся 25 мая 1938 года? Я помнил его по журналу «Костёр», где он работал почти 10 лет с 1960-го, печатался там как детский поэт под псевдонимом Тим Добрый. Неплохие игровые стихи.
В 1969 году вышла книга «Туся» (повесть). С тех пор я знал, что Крестинский не только поэт, но и очень неплохой прозаик.
А потом он как-то исчез с моего горизонта. Не печатался.
И вдруг я узнал, что он уже в солидном возрасте в 2000 году уехал в Израиль, где прожил пять лет до смерти 5 октября 2005 года. В 72 года поменял место жительства!
Притом, что был христианином и похоронен на христианском кладбище в Израиле.
Гадать, почему он вдруг сорвался в таком возрасте и поменял страну, не стану. Хотя догадываюсь: 2000 год очень значимый в России.
Чтобы составить о нём представление, приведу цитату из воспоминаний о нём его друга Марка Вейцмана. Цитата большая из-за стихотворения Крестинского, но убирать его жалко:
«…Однажды в издательстве дали Крестинскому на рецензию рукопись книги молодого, никому не известного автора Олега Григорьева. Саша сразу почувствовал, что перед ним стихи поэта редкого дарования. Он рукопись пересоставил и собственноручно перепечатал. Разумеется, рекомендовал её к опубликованию.
Григорьев оказался не только превосходным поэтом, но и одарённым художником. По мировоззрению и стилистике примыкал к группе «Митьки». За пьяную потасовку с милиционером Олега посадили. Александр Крестинский стал его общественным защитником. После одного судебного заседания уговорил судью и присяжных уделить ему 10 минут, в течение которых просто почитал им стихи Олега.
Голодная тюремная диета, которую испытал на себе Григорьев, связалась в воображении Крестинского с блокадным голодом. Он написал тогда стихотворение, посвящённое Олегу, и передал его в камеру. Вот оно (в сокращении):
ОДА РАЗДАТОЧНОМУ ОКОШКУ Окошечко кухни блокадной, Где пара летающих рук Швыряет ораве всеядной Железный тарелочный стук. Обрывочный сон мой склерозный Причудлив, подробен, сердит. Там повар, усатый и грозный, За выдачей порций следит. И в царстве кухонного духа Душа, неопрятно нища, Летает, как пьяная муха, Над вспученной магмой борща. Да будет земля тебе пухом, Мне пайкою выданный век, Нарпита пропитанный духом, Отведавший атомный крэк… К клеёнке прилипшая крошка, Царапина детской вины, И мятая скользкая ложка, Что я оботру о штаны.На заключительное судебное заседание журналистов не пускали, но ребята из «Пятого колеса» всё-таки прорвались. Выступление Крестинского попало в телерепортаж. Потом ему звонила Белла Ахмадулина, спрашивала, чем может помочь Олегу. В судьбе Григорьева пытался принять участие и Эдуард Успенский.
Олега освободили прямо в зале суда. Саша хотел его обнять, но тот отстранился: «У меня вши»…
А ещё Крестинский помогал престарелому писателю Пантелееву, автору знаменитой «Республики «Шкид», прояснял обстоятельства эвакуации на Кавказ школьников во время войны. А ещё… Да мало ли чего ещё!
В давнем стихотворении «Опыт биографии рода», посвящённом бывшей узнице Вильнюсского гетто Марии Рольникайте, он написал:
Говорю твёрдо: Да, я жидовская морда.По приезде в Израиль заявил: «Эту землю, как судьбу, приемлю». На вопрос «Как дела?» ответил: «Поят, кормят, работаю – чего же ещё!» Определил раз и навсегда: «Господь привёл меня сюда не гостить, а жить». Жаль только, что прожить здесь ему довелось прискорбно мало – всего пять лет».
26 МАЯ
В 1966 году я работал в журнале «РТ-программы» в отделе литературы, которым заведовал Михаил Рощин, уже обозначивший себя в «Новом мире» Твардовского как прозаик и ещё не обозначивший себя как драматург, хотя пьеса «Седьмой подвиг Геракла» уже была им написана.
Собственно в отделе были двое: он да я – обозреватель.
Пришёл Валя Непомнящий, работавший тогда в «Вопросах литературы» и там же напечатавший две интереснейшие статьи о Пушкине. Оставил Валя нам стихи своей знакомой. Миша попросил меня их прочесть. Прочитав, я пожал плечами:
– Не понимаю, что нашёл в них Валя.
– Ну, выбери парочку, – попросил Миша. – Валя сказал, что это очень достойная женщина.
Стихи мы напечатали.
Наверное, это была первая легальная публикация Натальи Евгеньевны Горбаневской, родившейся 26 мая 1936 года. Я не проверял. Потом уже узнал, что её стихи ходили в самиздате. И что её выгнали из МГУ – за распространение листовок против вторжения нашей армии в Венгрию (официально, конечно, за неуспеваемость!).
Больше в Советском Союзе Горбаневскую не печатали. Да и не могли. Очень скоро она показала себя активной правозащитницей. Редактировала самиздатовскую «Хронику текущих событий». Только что, родив второго сына, вышла с ним на руках и с детской коляской вместе с шестью своими друзьями на Красную площадь в августе 1968 года, протестуя против советской интервенции в Чехословакии. Задержанную кормящую мать отпустили, но арестовали в конце следующего года, обвинив её не только в участии в этой демонстрации, но и в распространении якобы порочащих советский строй материалов.
Надо сказать, что в промежутке между демонстрацией и арестом Горбаневская успела написать и передать на Запад документальную книгу о демонстрации 68 года.
Год она провела в Бутырской тюрьме и ещё год в психушке с диагнозом «шизофрения», после чего была выдворена из СССР.
Поселилась в Париже. Работала у Владимира Максимова в журнале «Континент». Потом довольно долго в газете «Русская мысль». Выступала на «Радио Свободы».
В перестройку приезжала в Россию. Приняла участие в юбилейной акции, посвящённой 45-летию той демонстрации «семёрки» на Красной площади. На этот раз на площадь с лозунгом «За вашу и нашу свободу» вместе с Горбаневской вышли ещё 11 человек, из которых 10 были задержаны «за нарушение общественного порядка». Горбаневскую полиция, понятное дело, не тронула.
Демонстрация состоялась день в день с той давнишней – 25 августа 2013 года. А через три месяца 29 ноября Наталья Евгеньевна скончалась.
Она получила «Русскую премию» по итогам 2010 года. В 2011-м вдова президента Наина Иосифовна Ельцина вручила ей награду за книгу «Прильпе земли душа моя. Сборник стихотворений 1956–2010 гг».
Хороши ли её стихи и переводы? Неплохие. Те, ранние стихи мне не понравились. Не скажу, что я стал впоследствии её поклонником, но, объективно признаю: у неё можно встретить стихи с душой. Например:
Ну что, хлопотливая ласточка, куда ты летишь хлопотать? Домой, бесцензурная весточка, привет от меня передать. Скажи, что на пядь под землею и с глоткой, набитой землёй, жива и дышу, замерзаю, но все же не до смерти злой. Скажи, что, глаза растворивши, песку и подзолу набрав, я вижу, я всё ещё вижу, беспамятство смерти поправ. Скажи, что уже не надеюсь на встречу, но, сколько жива, не сдамся и не охладею, и это не просто слова.* * *
Вот совершенно несправедливо забытое имя: Наталья Григорьевна Долинина, родившаяся 26 мая 1928 года.
У меня есть книги с её дарственной надписью. Занимательное литературоведение: «Прочитаем «Онегина» вместе» (1968), «Печорин и наше время» (1970) и «Просто размышления: Эссе» (1977). Вышли они в Ленинграде, где жила Наталья Григорьевна, в издательстве «Детская литература».
Немало лет проработавшая учительницей в школе, она хорошо понимала детскую психологию и умела заинтересовать ребёнка тем, что было интересно ей самой. Прекрасное качество для детского писателя!
Да, писателя, и она демонстрировала писательское своё умение и в подаренных мне книгах, и в повестях для юности «Мы с Серёжкой близнецы», «Разные люди», и в пьесе «Они и мы», которая шла на сцене московского ТЮЗа, и в сценариях фильмов-спектаклей, написанных в начале 1970-х. Зная психологию подростка, понимая его проблемы, она написала книгу «Дорогие родители», где в частности, поднимала тему сексуального воспитания детей. В то время такая тема была в новинку не в чести!
И всё-таки, наверное, её лучшей книгой является автобиографическая повесть «Отец», пронизанная щемящей тоской по ушедшему безвременно отцу – выдающемуся историку литературы Григорию Александровичу Гуковскому, арестованному во время знаменитой кампании борьбы с космополитизмом и погибшему в тюрьме в 1950 году.
Она и сама прожила недолго – всего 51 год: умерла в 1979-м! Казалось, что её книгам будет обеспечена долгая жизнь, но…
Оборвём фразу и обречённо махнём рукой: кто мог предвидеть, что чтение книг потеряет свою привлекательность для нынешней молодёжи и для их родителей?
* * *
Этот полководец всласть испытал на себе, что такое националистические настроения сограждан.
Незнатный по происхождению, он, начав воинскую службу в карабинерном полку в 1786, через два года произведён в корнеты и только через восемь лет получил следующий чин поручика. В 1788 году стал капитаном, участвовал в главном сражении русско-турецкой войны – штурме Очакова, через год – в битве под Аушанами при взятии Аккермана и Бендер. Получил чин секунд-майора.
Участвовал в русско-шведской войне, отличился, получил премьер-майора. Кстати, в этом чине вышел в отставку Андрей Петрович Гринёв, отец героя «Капитанской дочки» Петруши Гринёва, который был записан сержантом в Семёновский (гвардейский) полк, когда его мать была им беременна. Записан, как сообщает автор, «по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника». А не будь в родственниках у Петруши этого князя, Петрушу в сержанты бы не записали. Не говоря уж о гвардии. Записали бы рядовым в какой-нибудь армейский полк. Впрочем, как мы помним, отец Петруши не дал сыну воспользоваться преимуществами так удачно начатой военной карьеры.
Но вернёмся к нашему герою, которого мы оставили в чине премьер-майора, то есть командира батальона, полученного в 1789 году.
Через пять лет в качестве командира батальона принял участие в военных действиях против восставших поляков, за особые отличия под Вильно и близ Гродно награждён орденом Святого Георгия 4-й степени, произведён в подполковники и переведён в Эстляндский егерский корпус, где получил назначение командира 1-го батальона, который при Павле был переименован в 4 Егерский полк, а его командир был возведён в полковники.
В 1798-м уже в чине полковника назначен шефом этого полка и через год за отличное состояние полка произведён, наконец, в генерал-майоры.
А дальше Аустерлицкое сражение. Война с Наполеоном 1806–1807 гг., где с 1807 года командовал дивизией, отличился неоднократно, в том числе и, сдерживая своей дивизией напор почти всей армии Наполеона, давая этим возможность, сосредоточиться рассеянным было русским войскам. Был тяжело ранен, настолько тяжело, что прервал службу для длительного лечения. За эту кампанию получил ордена Святого Георгия 3-й степени, Святого Владимира 2-й степени, и Святой Анны 1-й степени. Возведён в генерал-лейтенанты.
Вернулся после лечения в армию. В русско-шведской войне 1808–1809 года командовал корпусом, с которым в зимнее время совершил переход через морской залив, что заставило шведов вступить в переговоры о мире. В возобновившихся в 1809 года боевых действиях назначен командующим Финляндской армии и произведён в генералы от инфантерии. После заключения мира направляется генерал-губернатором в присоединённую к России Финляндию, награждается орденом Святого Александра Невского.
С декабря 1810-го по август 1812 года занимает пост военного министра, где успешно занимается реформированием армии. Подал Александру I план войны в случае вторжения Наполеона, но Александр план отверг, потому что план предусматривал не только наступление, но и в случае начальной неудачи отступления русских войск до Волги. То есть, заманивал врага в глубь России, что и было сделано уже Кутузовым, ставшим главнокомандующим русских войск в 1812 году.
Пора назвать имя нашего героя: Михаил Богданович Барклай-де-Толли, родившийся в декабре 1761 года и умерший 26 мая 1818-го. Долгим оказался его путь в генералы. Но, став генералом-майором, он уже через девять лет стал генералом от инфантерии. Причём 47-й по старшинству генерал-лейтенант, он обошёл в новом чине 46 своих военных коллег, вызвав их бурное недовольство; некоторые даже в связи с этим подали прошение об отставке.
Война с Наполеоном усугубило отношение к Барклаю, искусно руководимое придворной «русской партией» как к «немцу» и даже как к предателю, поскольку под напором Наполеона Барклай применял «тактику выжженной земли», что особенно возмущало поместное дворянство. Придворная партия добилась своего: главнокомандующим войсками был назначен Кутузов, который, однако, не отступил от плана Барклая, а руководствовался им в своих действиях.
Барклай же де-Толли в Бородинском сражении командовал правым крылом и центром русских войск. И командовал с исключительной личной храбростью: в день битвы под ним было убито или ранено 5 лошадей. Раненый Багратион, который некогда примыкал к русской партии, не пропустившей «немца» в главнокомандующие, просил, когда его уносили с поля, передать Барклаю-де-Толли свои уважение и признательность.
Тем не менее обстановка вокруг Барклая была тяжёлой. Кутузова не обвинили в измене, когда он сдал Наполеону Москву: ему было можно: он – русский!
А «немец» Барклай, несмотря на признание императором правильности своих действий в 1812-м, несмотря на успешное руководство войсками в заграничном походе русской армии, за которое он был возведён в графское достоинство, а после взятия Парижа получил фельдмаршальский жезл, так и не снискал себе особого уважения «русской партии», которая не могла простить фельдмаршалу его нерусской происхождение.
«Его отступление, – писал о Барклае Пушкин, – которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточённый и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай […] останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом». Пушкин напечатал это «Объяснение» в 4 (последнем) номере своего «Современника», отвечая на брошюру родственника Кутузова Л. Голенищева-Кутузова, усмотревшего в пушкинском стихотворении «Полководец», восстанавливающего историческую истину, «неприличный вымысел». «Это стихотворение, – отвечал Пушкин, – заключает в себе несколько грустных размышлений о заслуженном полководце, который в великий 1812 год взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные уроны, предоставя своему бессмертному преемнику славу отпора, побед и полного торжества».
Этим стихотворением и закончим:
У русского царя в чертогах есть палата: Она не золотом, не бархатом богата; Не в ней алмаз венца хранится за стеклом; Но сверху донизу, во всю длину, кругом, Своею кистию свободной и широкой Её разрисовал художник быстроокой. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жён, Ни плясок, ни охот, – а всё плащи, да шпаги, Да лица, полные воинственной отваги. Толпою тесною художник поместил Сюда начальников народных наших сил, Покрытых славою чудесного похода И вечной памятью двенадцатого года. Нередко медленно меж ими я брожу И на знакомые их образы гляжу, И, мнится, слышу их воинственные клики. Из них уж многих нет; другие, коих лики Ещё так молоды на ярком полотне, Уже состарились и никнут в тишине Главою лавровой… Но в сей толпе суровой Один меня влечёт всех больше. С думой новой Всегда остановлюсь пред ним – и не свожу С него моих очей. Чем долее гляжу, Тем более томим я грустию тяжёлой. Он писан во весь рост. Чело, как череп голый, Высоко лоснится, и, мнится, залегла Там грусть великая. Кругом – густая мгла; За ним – военный стан. Спокойный и угрюмый, Он, кажется, глядит с презрительною думой. Свою ли точно мысль художник обнажил, Когда он таковым его изобразил, Или невольное то было вдохновенье, — Но Доу дал ему такое выраженье. О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой: Всё в жертву ты принес земле тебе чужой. Непроницаемый для взгляда черни дикой, В молчанье шёл один ты с мыслию великой, И в имени твоём звук чуждый не взлюбя, Своими криками преследуя тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ругался над твоей священной сединою. И тот, чей острый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво порицал… И долго, укреплён могущим убежденьем, Ты был неколебим пред общим заблужденьем; И на полупути был должен наконец Безмолвно уступить и лавровый венец, И власть, и замысел, обдуманный глубоко, — И в полковых рядах сокрыться одиноко. Там, устарелый вождь! как ратник молодой, Свинца весёлый свист заслышавший впервой, Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, — Вотще! — … … О люди! Жалкий род, достойный слёз и смеха! Жрецы минутного, поклонники успеха! Как часто мимо вас проходит человек, Над кем ругается слепой и буйный век, Но чей высокий лик в грядущем поколенье Поэта приведёт в восторг и в умиленье!27 МАЯ
– Почему ты шинель бережёшь? — Я у папы спросила. — Почему не порвёшь, не сожжёшь? — Я у папы спросила. Ведь она и грязна, и стара, Приглядись-ка получше, На спине вон какая дыра, Приглядись-ка получше! – Потому я её берегу, — Отвечает мне папа, — Потому не порву, не сожгу, — Отвечает мне папа. — Потому мне она дорога, Что вот в этой шинели Мы ходили, дружок, на врага И его одолели!Конечно, эти стихи рассчитаны на ребёнка и обращены к нему. Но вслушайтесь в их мелодию, в эти какие-то капризные повторы: «Я у папы спросила»-«Я у папы спросила», «Приглядись-ка получше»-«Приглядись-ка получше», «Отвечает мне папа»-«Отвечает мне папа». Ждёшь, повторения строки и в последнем четверостишии: «Что вот в этой шинели»-… Но не будет повтора. На капризное «почему?» следует жёсткое, взрослое «потому»: «И его одолели». «Его» – врага. Тем и дорога отцу старая дырявая шинель, что в ней ходили на врага «и его одолели»!
Физически ощущаешь, как притихла, услышав такое, девочка, которую папа ласково называет «дружок». Притихла, задумалась, смотрит на старую шинель новыми глазами!
Ясно, что такая манера не характерна для Барто или Михалкова. Да, эти стихи принадлежат поэту другой стилевой направленности: они выражают голос серьёзного ребёнка: «Мама спит, она устала… / Ну и я играть не стала! / Я волчка не завожу, / А уселась и сижу. / Не шумят мои игрушки, / Тихо в комнате пустой, / А по маминой подушке / Луч крадётся золотой. / И сказала я лучу: / – Я тоже двигаться хочу. / – Я бы многого хотела: / Вслух читать и мяч катать. / Я бы песенку пропела, / Я б могла похохотать. / Да мало ль я чего хочу! / Но мама спит, и я молчу. / Луч метнулся по стене. / А потом скользнул ко мне. / – Ничего, – шепнул он будто, / – Посидим и в тишине!»
По этой неповторимой интонации всегда опознаешь Елену Александровну Благинину, родившуюся 27 мая 1903 года. Думаю, что серьёзность интонации её стихов для детей, отсутствие всякого намёка на игривость отразили судьбу их автора, несчастливую и нелёгкую.
Она училась в Высшем литературно-художественном институте им. В.Я Брюсова, в котором учился и её муж Георгий Николаевич Оболдуев, очень своеобразный поэт-конструктивист, который вместе с несколькими другими литераторами создал Союз приблизительно равных. Такие вещи советская власть не поощряла. В 1933 году Оболдуев был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде и в 1934-м на три года выслан в Карелию. Как бывший ссыльный мог по возвращению жить не ближе 101 километра от столицы. Жил в Малоярославце, Александрове, Куйбышеве. Был мобилизован в 1943 году. Воевал во фронтовой разведке. После войны они с Благининой в основном жили в подмосковном Голицыне. Умер Георгий Николаевич в 1954 году автором одного напечатанного в «Новом мире» (1929 г.) стихотворения. Зарабатывал переводами, писал оперные либретто.
Много сил после смерти мужа у Елены Благининой отнимало желание напечатать его стихи. Удалось ей это лишь отчасти: несколько стихотворений было опубликовано в 60-70-х годах. Книгу стихов Оболдуева, которую она подготовила вместе с поэтом Геннадием Айги, советские издатели публиковать не решились. И понятно. Как точно написал немецкий литературовед Вольфганг Казак: «Основной тон произведений Оболдуева выражает его безграничное отчаяние от окружающей бесчеловечности и враждебности всему духовному». Книга «Устойчивое неравновесье» вышла в 1979 году в Мюнхене, перечеркнув этим все надежды увидеть её напечатанной в России. Только в перестройку, в 1988 году пришли к читателю стихи Оболдуева. А 24 апреля 1989-го Елена Благинина скончалась.
Как и муж, она переводила очень много. В её переводах к читателю пришли стихи Льва Квитко, Тараса Шевченко, Юлия Тувима, Сари Конопницкой, других поэтов (всего она выпустила 30 переводных книг). Слава Богу, что она была оценена как детский поэт и могла печатать стихи, несущие в себе её неповторимую интонацию:
Письмо на фронт – Здравствуй, папка! Ты опять мне снился, Только в этот раз не на войне. Я немного даже удивился — До чего ж ты прежний был во сне! Прежний-прежний, ну такой же самый, Точно не видались мы два дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой, А потом поцеловал меня. Мама будто плачет и смеётся, Я визжу и висну на тебе. Мы с тобою начали бороться, Я, конечно, одолел в борьбе. А потом принёс те два осколка, Что нашёл недавно у ворот, И сказал тебе: «А скоро ёлка! Ты приедешь к нам на Новый год?» Я сказал да тут же и проснулся, Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся, В удивленье поглядел во тьму. Тьма такая – ничего не видно, Аж круги в глазах от этой тьмы! До чего ж мне сделалось обидно, Что с тобою вдруг расстались мы… Папа, ты вернёшься невредимый! Ведь война когда-нибудь пройдёт? Миленький, голубчик мой родимый, Знаешь, вправду скоро Новый год! Я тебя, конечно, поздравляю И желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю-прежелаю Поскорей фашистов одолеть! Чтоб они наш край не разрушали, Чтоб как прежде можно было жить, Чтоб они мне больше не мешали Обнимать тебя, тебя любить. Чтоб над всем таким большущим миром Днём и ночью был весёлый свет… Поклонись бойцам и командирам, Передай им от меня привет. Пожелай им всякую удачу, Пусть идут на немцев как один… …Я пишу тебе и чуть не плачу, Это так… от радости… Твой сын.28 МАЯ
«Вечерний звон, вечерний звон, / Как много дум наводит он».
Кто не помнит этих строк песни, ставшей народной.
По поводу того, чьи эти слова, разногласий как будто нет. Их написал Иван Иванович Козлов, слепой, обезноженный поэт, современник Пушкина, который его ценил. Есть сомнения, что музыку сочинил композитор Александр Александрович Алябьев. Указывают на некого анонима. Но мне думается, что напрасно. Кто ещё из современников Козлова так умел извлекать из стихов их поющую душу? Вспомните такие романсы Алябьева, как «Соловей» на слова Дельвига, как «Зимняя дорога» на слова Пушкина. Есть, есть в них гармоническая перекличка с «Вечерним звоном», гениальным романсом, который поминается во многих произведениях русской литературы, который звучит во многих кинофильмах – от кинокомедии военных лет «Небесный тихоход» до «Калины красной» Василия Шукшина, до «12 стульев» Леонида Гайдая, который, наконец, исполняли певцы самого разного регистра от баса до тенора.
Удивительно прижилась эта песня в России. Но любопытно, что на немецком языке она звучит как немецкая народная песня, а на английском как английская.
Переводили стихи Козлова? Нет. Козлов сам выступил прежде всего переводчиком: перевёл – стихи ирландского поэта-романтика Томаса Мура, родившегося 28 мая 1779 года.
Перевод, конечно, гениальный, полностью вписавшийся в традицию русской песни, которую (русскую песню) великолепно охарактеризовал свой октавой а «Домике в Коломне» Пушкин:
Фигурно иль буквально: всей семьёй, От ямщика до первого поэта, Мы все поём уныло. Грустный вой Песнь русская. Известная примета! Начав за здравие, за упокой Сведём как раз. Печалию согрета Гармония и наших муз, и дев. Но нравится их жалобный напев.Однако оригинал, повторяю, написан по-английски. И, если верить англичанам, не менее сильно, чем это сделал Козлов.
Мур быстро приобрёл в Британии широкую известность и получил приглашение занять должность придворного поэта. Отказался от неё под давлением своих либеральных друзей.
Какое-то время работал администратором адмиралтейства на Бермудских островах. На обратном пути посетил Америку. И вернулся на родину убеждённым антиамериканцем, что тогда означало: антилибералом. Эти свои реакционные настроения выразил в стихах, которые собрал и выпустил отдельной книгой.
Но не успели разгневанные друзья поэта переварить эти стихи, как Мур выпускает сборник «Ирландские мелодии», которые сделали его повсеместно известным не только на его родине. Они стали как бы манифестом романтиков. Следующие книги Мура «Национальные мотивы» и «Священные песни» имели меньший успех, но Мур вновь заставляет везде говорить о себе, когда выпускает самое большое своё произведение «Лалла Рук» – ориентальную повесть с четырьмя вставными поэмами. Экзотическая, романтическая она как бы соперничает с восточными поэмами Байрона, у которого Мур позаимствовал композиционные приёмы. «Лалла Рук» переведена на многие языки. На персидском её судьба оказалась такой же, как «Вечерний звон» Козлова на русском, персы считают её великой национальной эпопеей.
С Байроном отношения Мура поначалу были весьма напряжённые и чуть было не разрешились дуэлью. Но, помирившись, поэты стали задушевными друзьями. Настолько, что именно Муру Байрон завещал все свои бумаги, которые Мур перед смертью сжёг.
Стихи Томаса Мура переводили в России многие поэты. Но, пожалуй, что лучшие его переводы принадлежат В.С. Лихачёву, поэту-переводчику второй половины XIX века.
Вот – в переводе Владимира Сергеевича Лихачёва:
Память отчизны. Изведав и бичи, и цепи, и темницы, В венке терновом, ты – ещё дороже нам, Твоим отторгнутым, поруганным сынам; И как детёныши израненной орлицы, Мы черпаем в твоей страдальческой крови Неугасимый пыл восторженной любви!* * *
28 мая 1877 года родился Максимилиан Александрович Волошин, прекрасный поэт, самобытный живописец, чей дом, в крымском Коктебеле, построенный в 1903–1913 годах его матерью Еленой Оттобальдовной Волошиной, служил и до сих пор служит писателям.
Волошин жил очень бурно, вступал в масонскую ложу и занимался антропософией, мистифицировал публику, придумав некую Черубину де Габриак, пишущую стихи и даже издавшую книгу. Стрелялся с Гумилёвым на дуэли (слава Богу, не имевшей последствий для обоих) из-за поэтессы Елизаветы Дмитриевой, которая и была этой Черубиной. Занял резко пацифистскую позицию во время Первой Мировой войны: написал письмо военному министру с отказом от службы в армии, выпустил книгу антивоенных стихов «Anno mundi ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915»).
В годы гражданской войны при постоянно меняющейся власти в Крыму укрывал то белых от красных властей, то красных от белых. Написал письмо в защиту арестованного белыми О. Мандельштама. Считает, что это письмо спасло Мандельштама от ареста.
В 1927 году женился вторым браком на Марии Степановне Заболоцкой, которая после смерти мужа (11 августа 1932 года в Коктебеле) сохранила его творческое наследие (в том числе и живописные полотна, и акварели) и его дом, завещанный Волошиным Союзу писателей.
Особой популярностью ныне пользуются стихи из книг Волошина «Демоны глухонемые», «Усобица: Стихи о революции», «Стихи о терроре», позже собранные в книгу «Неопалимая купина».
Рискну привести здесь более раннее его стихотворение:
Андрею Белому Клоун в огненном кольце… Хохот мерзкий, как проказа, И на гипсовом лице Два горящих болью глаза. Лязг оркестра; свист и стук. Точно каждый озабочен Заглушить позорный звук Мокро хлещущих пощёчин. Как огонь, подвижный круг… Люди – звери, люди – гады, Как стоглазый, злой паук, Заплетают в кольца взгляды. Всё крикливо, всё пестро… Мне б хотелось вызвать снова Образ бледного, больного, Грациозного Пьеро… В лунном свете с мандолиной Он поёт в своём окне Песню страсти лебединой Коломбине и луне. Хохот мерзкий, как проказа; Клоун в огненном кольце. И на гипсовом лице Два горящих болью глаза…Многие литераторы моего поколения вспоминают дом творчества писателей «Коктебель» на Восточном берегу Крыма. Недалеко от моря причудливый дом, напоминающий корабль. В нём – музей. Музей называется «Дом поэта». Он сохранился да и стал музеем благодаря вдове поэта Максимилиана Волошина Марии Степановне. Я жил в доме творчества после её смерти. Но многие мои товарищи её помнили, с ней говорили, её любили. Её уважали за то огромное чувство к мужу, какое она сохранила все 44 года жизни без него.
Максимилиан Александрович Волошин родился в Киеве. Раннее детство провёл в Таганроге, в Севастополе. Он жил с матерью, рано расставшейся с мужем – его отцом. Да и умер отец, когда Волошину было четыре года.
Ему было 16, когда они с матерью поселились в Коктебеле.
Волошин не только писал стихи, но, как я уже говорил, занимался живописью. В девятисотых он много путешествовал по Европе и в Париже брал уроки живописи у русской художницы Елизаветы Сергеевны Кругликовой, несколько полотен которой находятся сейчас в доме-музее Максимилиана Волошина в Коктебеле.
Наряду со стихами он пишет и публикует статьи о художниках К. Богаевском и М. Сарьяне, о скульпторе А. Голубкиной.
В 1924 году предлагает Наркомпросу превратить свой дом в бесплатный дом творчества. Предложение принято. Правда, в дальнейшем Литфонд – хозяин этого дома путёвки туда не давал, а продавал.
В Крыму в Коктебеле 23 ноября 1917 года Волошин написал одно из самых сильных своих стихотворений «Мир»:
С Россией кончено… Напоследях Её мы прогалдели, проболтали, Пролузгали, пропили, проплевали, Замызгали на грязных площадях, Распродали на улицах: не надо ль Кому земли, республик, да свобод, Гражданских прав? И родину народ Сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи, разверзни, расточи, Пошли на нас огнь, язвы и бичи, Германцев с запада, Монгол с востока, Отдай нас в рабство вновь и навсегда, Чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до Страшного Суда!* * *
28 мая 1897 года родился специалист в области древних языков и литературы Иосиф Моисеевич Тронский, по учебнику которого «История античной литературы» я учился в МГУ.
Но вспомнил я его не поэтому. А потому, что его настоящей фамилией была – Троцкий. И хоть он сменил её в 1938 году, но можно представить, в каком страхе прожил до самой смерти Сталина, которого пережил: Тронский умер 3 ноября 1970-го.
И вот что ещё любопытно: Тронский начал преподавать в 1921 году. Но только после смены фамилии – в 38-м – стал подниматься по ступеням научной карьеры: кандидат, доцент, доктор, профессор!
* * *
28 мая 1873 года родилась Ольга Дмитриевна Форш.
Она особенно прославилась своими романами «Сумасшедший корабль» (1930) и «Ворон» (в 1933-м вышел под названием «Символисты»), где описывала быт интеллигенции, жившей в начале XX века и в первые послереволюционные годы, давала портреты Блока, Горького, Сологуба. В дилогии сквозила ностальгия по ушедшим нравам и осторожная критика существующих порядков. За что пролетарская критика не преминула обрушиться на писательницу.
Что ж, Форш учла её, переключившись на исторические романы. Они выходили один за другим: «Радищев», Михайловский замок», «Первенцы свободы». Придраться вульгарной критике было не к чему, и она оставила писательницу в покое.
Скончалась Ольга Форш 17 июля 1961 года, оставив после себя весьма обширное литературное наследие, из которого, на мой взгляд, стоит перечитывать «Сумасшедший корабль» и «Ворон», написанные не только с привычным для Форш мастерством, но и со страстью.
* * *
28 мая 2008 года скончался Эмиль Владимирович Кардин, подписывавший свои произведения как В. Кардин, отчаянно смелый критик, публицист, писатель.
Это именно его, Эмиля, как все мы его звали, участника войны, уволенного из армии в запас в чине подполковника, била из тяжёлых идеологических орудий партийная и государственная критика за статью «Легенды и факты» («Новый мир», 1966. № 2).
Да, не просто буря – тайфун негодования официозных пропагандистов обрушился на статью В. Кардина. Злобствовал не только маршал Будённый: Кардин одобрил роман Юрия Трифонова «Отблеск костра», восстановивший доброе имя Бориса Думенко, расстрелянного в 1920 году и незадолго до публикации статьи Кардина реабилитированного. Неистовствовал Главпур (Главное политическое управление армии и флота) – Кардин напоминал о письме А. Н. Степанова, автора романа «Порт-Артур», Сталину, в котором Степанов сообщал вождю о том, что вынес из архивов: 23 февраля 1918 года не было боёв под Нарвой и Псковом, где получила якобы первое боевое крещение Красная армия. Дата, которая и сейчас отмечается не просто как день защитника отечества, но ещё и как день победы Красной армии над кайзеровскими войсками, не имеет под собой исторического основания! Бесился и аппарат ЦК: Кардин посягнул на привычно-героическое для каждого советского человека словосочетание «залп «Авроры»! И чем, прикажете на это отвечать, кроме мордобоя? Ведь Кардин процитировал письмо матросов крейсера «Аврора», опубликованное после октябрьского переворота в «Правде». Авторы письма возмущены: их обвиняют в том, что они стреляли по бесценному архитектурному памятнику – Зимнему дворцу боевыми снарядами. Ничего подобного! – горячатся матросы: «был произведён только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности».
Я, работавший в «Литературной газете», находился в кабинете Тертеряна, заместителя главного редактора, когда туда с полосой в руках влетел Александр Кривицкий, которого многие напрасно считали родственником нашего зама главного редактора Евгения Алексеевича Кривицкого. Наш носил собственную фамилию. У Александра Юрьевича она была псевдонимом. Он кипел от злости. «Артур, – сказал он, – ну чт-т-то эт-то т-так-к-кое?» Сильный заика, он помогал себе произносить фразы, притоптывая в такт ногой и дирижируя себе рукой.
– В чём дело, Саша? – вежливо поинтересовался Артур Сергеевич.
– А т-то т-ты н-не з-з-наешь? К-кто т-теб-бе п-ооо-з-зволил в-влез-зать в-в мой м-мат-териал?
– Чем ты недоволен? – спросил Тертерян.
– П-поч-чем-му т-ты уб-брал с-слов-во «п-под-д-оонок» об эт-том уб-блюдк-ке К-кард-дине?
– Потому что, – спокойно ответил Артур Сергеевич, – мы с тобой не на базаре, а в газете.
– В-в т-так-к-оом с-случ-чае, – взвился Кривицкий, – я с-сним-м-аааю с-св-вою ст-татью.
Однако не снял. Статья в газете вышла. «Подонком» Кривицкий Кардина не называл, но исходил злобой: на что замахнулся Кардин? На священную для советских людей память о 28 героях-панфиловцах, погибших под Москвой в неравном бою с фашистами!
Да, Кардин писал в своей статье о том, как выдумывал и украшал факты в 1941-м корреспондент «Красной Звезды» Александр Кривицкий. Привёл цитату – запись Кривицким своего разговора с секретарём ЦК, начальником Главпура армии А. С. Щербаковым, который поинтересовался у журналиста, кто ему передал облетевшую всю страну после статьи Кривицкого в «Красной Звезде» фразу политрука панфиловцев погибшего Клочкова: «Велика Россия, но отступать некуда: позади Москва!» Ему подсказала эту фразу его патриотическая интуиция, – отвечал Кривицкий.
Да и не все 28 панфиловцев, которых Кривицкий назвал поимённо, а Сталин, как и молодогвардейцев, увековечил, дав каждому героя, погибли. Это утверждение Кардина Кривицкий в своём ответе обошёл молчанием.
Позже выяснилось, что статья В. Кардина прогневала самого Брежнева, которому пересказали клевреты её содержание.
В ранние годы горбачёвского правления руководил я в Алма-Ате семинаром молодых поэтов, а потом побывал вместе со своим семинаром в Талды-Курганской области, заезжал в казахский городок Панфилов, названный в честь знаменитого генерала. Экскурсовод провела нас по скверу, с обеих сторон уставленных бюстами. «Это наша аллея славы, – сказала экскурсовод. – Бюсты героям-панфиловцам изваяны…» – и она назвала фамилию скульптора, которую я, к сожалению, забыл.
– А вы слышали, – спросил я её, когда мы шли с ней в гостиницу впереди сильно отставших от нас молодых поэтов, – что не все панфиловцы погибли?
– Да, – ответила она. – Но руководство считает, что бюсты установлены не погибшим, а героям Советского Союза. Героев было 28.
Кривицкий в «Красной Звезде» утверждал, что поначалу панфиловцев было 29. Но один струсил и несколько однополчан, не сговариваясь, выстрелили в него. Чего, как потом выяснилось, не было.
Да и с теми, кто выжил, всё не так оказалось просто. Иван Добробабин попал в плен, а потом служил у немцев в Харьковской области начальником полиции, за что угодил в советский лагерь. Живы остались Илларион Васильев, Григорий Шемякин, Иван Шадрин, Даниил Кужебергенов. Последнего, прочитав очерк А. Кривицкого, который заставил Даниила Кужебергенова погибнуть раньше других, идя навстречу танкам и не страшась смерти, воспел Н. Тихонов в мгновенно сочинённой им поэме «Слово о 28 гвардейцах»:
Стоит на страже под Москвою Кужебергенов Даниил, Клянусь своею головою Сражаться до последних сил!Однако этой клятвы Д. Кужебергенов не сдержал. Он сдался в плен. И те, кто готовил указ о героях, успели проинформировать вышестоящих об ошибочном включении в него Даниила. Вместо него в указ включили другого Кужебергенова – Аскара. Но, как ни искали историки, Аскара в рядах панфиловской дивизии они не нашли: герой оказался подпоручиком Киже!
(Не дожил Кривицкий до недавно обнародованных архивов, из которых следует, что байка о 28 героях-панфиловцах им попросту выдумана. Оказывается, вообще не было такого подвига под Москвой!)
Любопытно, что подлинные эти факты стали очень скоро известны военной прокуратуре, которая положила документы на стол Жданову. Жданов доложил Сталину, но возмущения от главковерха не услышал. «Оставим всё как есть, – сказал Сталин. – Люди знают об этом подвиге, и не надо их разочаровывать». Так же впоследствии рассудил и Брежнев.
Эмиль много прожил (он умер 28 мая 2008 года). Он написал много статей и книг. Но в памяти людей останется своей статьёй «Легенды и факты», которая пережила автора. Ничего для него обидного. Так остаются не в истории литературы, а в самой литературе авторы одного рассказа, одного стихотворения…
* * *
28 мая 1962 года в Санкт-Петербурге в возрасте сорока лет скончался Лев Александрович Мей (родился 13 февраля 1822 года), русский поэт, переводчик Байрона, Шиллера, Гейне, Беранже, Шевченко, Мицкевича. Даже «Слова о полку Игореве», хотя, как свидетельствовал мой старший товарищ Бенедикт Сарнов, ссылаясь на своего учителя Сергея Константиновича Шамбинаго, неверно говорить о переводе «Слова», только – о переложении: ведь с русского на русский! Учитывая это замечание, скажем: Мей переложил «Слово о полку Игореве былинным стихом.
На сюжеты его стихотворных драм «Царская невеста», «Псковитянка» и «Сервилия» композитор Н.А. Римский-Корсаков написал известные свои оперы.
29 МАЯ
Мой гений О, память сердца! Ты сильней Рассудка памяти печальной И часто сладостью твоей Меня в стране пленяешь дальной. Я помню голос милых слов, Я помню очи голубые, Я помню локоны златые Небрежно вьющихся власов. Моей пастушки несравненной Я помню весь наряд простой, И образ милый, незабвенный, Повсюду странствует со мной. Хранитель гений мой – любовью В утеху дан разлуке он; Засну ль? – приникнет к изголовью И усладит печальный сон.Это стихотворение в 1915 году написал один из гениальных предшественников Пушкина, бывший вместе с Жуковским главой романтической школы в России – Константин Николаевич Батюшков, родившийся 29 мая 1787 года.
Как известно, Пушкин отметил строчку батюшковского стихотворения «К другу»: «Любви и очи и ланиты», восхищённо приписав на полях: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков».
«Чудотворец» имел счастье выражать себя недолго. В 1817 году вышла наиболее полная его книга «Опыты в стихах и прозе», которая изумила любителей литературы не только совершенством вошедших в неё произведений, но логически безукоризненно выстроенной её композицией. А через пять лет его логика отказалась ему служить, и он прекратил писать из-за наследственной болезни, доставшейся Батюшкову от рано умершей матери, – безумия.
Жизнелюб, каким он предстал в лучших своих стихах, он написал последнее своё стихотворение в 1821 или в 1822 году, показав, что от его любви к жизни ничего не осталось:
Ты знаешь, что изрек, Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек? Рабом родится человек, Рабом в могилу ляжет, И смерть ему едва ли скажет, Зачем он шел долиной чудной слез, Страдал, рыдал, терпел, исчез.Написал и замолчал: его болезнь обострилась. Он неоднократно пытался кончить жизнь самоубийством. Император Александр I выделил средства на его лечение, на них его поместили в саксонское психиатрическое заведение Зоннштейн, где он провёл четыре года и откуда в одном из писем 1826 года прислал стихи в подражание римскому поэту Горацию (а точнее – в подражание нашему Державину, перепевавшему того же римлянина), показывающие, как сильно угнетён болезнью был его некогда ясный ум:
Я памятник воздвиг огромный и чудесный, Прославя вас в стихах: не знает смерти он! Как образ милый ваш и добрый и прелестный (И в том порукою наш друг Наполеон), Не знаю смерти я. И все мои творенья, От тлена убежав, в печати будут жить: Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья, В которую могу вселенну заключить. Так первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетели Елизы говорить, В сердечной простоте беседовать о боге И истину царям громами возгласить. Царицы царствуйте, и ты, императрица! Не царствуйте цари: я сам на Пинде царь! Венера мне сестра, и ты моя сестрица, А кесарь мой – святой косарь.«Страшно желать кому-нибудь смерти, а тем более человеку, которого душою любишь, с которым вместе проводил лучшие дни своей жизни, а между тем – лучше смерть, нежели то состояние, в котором находится Батюшков…», – писал приятель Батюшкова по «Арзамасу» Дмитрий Васильевич Дашков, навестивший поэта в Зоннштейне. Четыре года, проведённые в Германии, не вылечили больного, но подавили его желание покончить с собой. Возвращённый в Россию, он формально считался пребывающим на службе, но в 1833 году всё-таки был уволен в отставку и помещён в Вологде в дом своего племянника. И вот – парадокс: Дашков, родившийся на год позже Батюшкова, скончался в 1839 году, а Батюшков ещё 22 года прожил в Вологде и умер от тифа 19 июля 1855-го.
Ничего не дошло до нас от этого вологодского периода, кроме этих страшных четырёх строчек:
Премудро создан я, могу на свет сослаться; Могу чихнуть, могу зевнуть; Я просыпаюсь, чтоб заснуть, И сплю, чтоб вечно просыпаться.* * *
Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец.Думаю, что все знают, на кого написана Пушкиным эта эпиграмма 1823 года. Конечно, на Михаила Семёновича Воронцова, пушкинского непосредственного начальника в Одессе. Считается, что отношения с Воронцовым у Пушкина испортились благодаря жене Воронцова Елизавете Ксаверьевне, которой увлёкся Пушкин.
Так или иначе, но Воронцов действительно обращался к императору с просьбой убрать от него Пушкина. Чтобы не быть уволенным за нерадивую службу, Пушкин опережает ответ императора Воронцову – подаёт прошение царю об отставке. Александр её принимает, но, накладывая на поэта опалу: Пушкин должен жить в имении матери в Михайловском Псковского уезда под личным надзором его отца.
Всё это очень известные факты.
Известно и что Лев Толстой в своём «Хаджи-Мурате» вывел совсем другого Воронцова – не «полу-подлеца», а умного, решительного, смелого военачальника.
Кто прав? Разумеется, Толстой. У него не было личной неприязни к графу, возведённому в княжество, к человеку, много сделавшему для России на всех должностях, которые ему приходилось занимать.
Михаил Семёнович Воронцов родился 29 мая 1782 года. С юности принял участие в военных кампаниях. В 21 год он на Кавказе, где едва не погиб. Получил свой первый орден Святого Георгия 4 степени за мужество и храбрость при отражении персидских вылазок во время осады крепости Эривань. Переброшен в шведскую Померанию. В 1806 году сражался под Пултуском, в 1807-м – под Фридландом. В 1809-м он, командир Нарвского пехотного полка, воюет в Турции. В 1810-м послан на Балканы, занял Плевну, Ловеч и Сельну.
В марте 1812-го получает второго Св. Георгия. На этот раз 3 степени.
В Отечественную войну 1812 года был сначала при армии Багратиона, воевал под Смоленском. В Бородинской битве он командует дивизией, получает рану в штыковом бою, отправляется к себе в имение для лечения, куда забирает с собой 50 раненых офицеров и более 300 рядовых, которые обеспечиваются заботливым уходом. По излечению был переведён в Северную армию, воевал под Лейпцигом.
В 1814 году в битве у города Краоне сражался против войска самого Наполеона, за что получил Св. Георгия 2 степени.
Под Парижем со своим особым отрядом занял предместье Ла-Вилетт.
В 1815-м году назначен командиром оккупационного корпуса, находившегося во Франции до 1818 года. Представлял Россию на Аахенском конгрессе стран-победителей Наполеона 1818 года.
Вернувшись в Россию, командует 3 пехотным корпусом и в 1823 году назначается новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. При Воронцове расцветает Одесса, где им учреждается общество сельского хозяйства, немало поспособствовавшее благосостоянию города и окрестностей, развивается и усовершенствуется виноделие в Крыму, построен Воронцовский дворец в Алупке и шоссе, окаймляющее южный берег Крыма, начинается разведение тонкорунных овец и возникает пароходство по Чёрному морю.
В 1828 году заменил раненого князя Меншикова, командующего войсками, осадившими Варну. Воронцов принял командование в августе, а через месяц крепость сдалась. В 1829 году много сделал для того, чтобы чума, занесённая из Турции, не проникла вглубь Российской империи.
В 1844 году назначен главнокомандующим войсками на Кавказе и кавказским наместником с неограниченными полномочиями. В 1845-м потерпел неудачу: направился с войсками к временной резиденции Шамиля – аулу Дарго, но Шамиль успел уйти, а Дарго было сожжено ещё до подхода Воронцова с войсками. Отставший русский обоз был уничтожен, а отступление Воронцова привело к большим потерям. Тем не менее за поход к Дарго генерал-адъютант М.С. Воронцов возведён в княжеское достоинство. А в 1852-м году после побед в Дагестане князю Воронцову присвоен титул светлости, то есть он стал светлейшим князем Российской империи.
В 1853 году Воронцов просит об отставке: он начинает слепнуть, его одолевает старческая немощь. Николай I соглашается. Вошедший на престол Александр II в день своего коронования 7 сентября 1856 года жалует Воронцова чином генерала-фельдмаршала. А через два месяца – 18 ноября – Воронцов скончался.
Это был широко образованный человек. В частности, он занимался собирательством книг. После его смерти осталось несколько обширных библиотек – в Тифлисе, в Одессе, в Петербурге, в Алупке и за границей. Одесская библиотека сохранилась, будучи переданной наследниками университету в Одессе. Алупкинская частично сохранена во дворце-музее.
* * *
29 мая 1892 года родился русский писатель Иван Сергеевич Соколов-Микитов.
Он много путешествовал ещё до Первой Мировой войны. Устроился матросом на торговое судно, с которым побывал во многих городах Европы и Африки. Во время Первой Мировой вместе с русским лётчиком Глебом Алехновичем совершал боевые вылеты на прославленном самолёте «Илья Муромец».
В 1920 году торговое судно «Омск», где Соколов-Микитов уже год работает матросом, было арестовано в Лондоне и продано с торгов. Соколов-Микитов вынужден год прожить в Англии, откуда перебирается в Германию, где в 1922 году встречается с Горьким, который помог ему вернуться на родину.
После возвращения участвует в арктических экспедициях, возглавляемых Отто Шмидтом. В экспедиции по спасению ледокола «Малыгин» он принимает участие как корреспондент «Известий».
Во время Отечественной войны он был спецкорреспондентом «Известий» в Молотове (так тогда называлась Пермь).
В 1952 году поселился в собственноручно построенном доме в Тверской (тогда Калининской) области, в селе Карачарове Конаковского района.
В Карачарове его навещали друзья-писатели А. Твардовский, К. Федин, В. Солоухин, В. Некрасов, приезжали дружившие с ним художники и журналисты.
Но похоронить свой прах Соколов-Микитов завещал в Гатчине, где он жил с 1929 по 1934 годы, где у него гостили тот же К. Федин, Е. Замятин, В. Шишков, В. Бианки.
Воля скончавшегося 20 февраля 1975 года Соколова-Микитова была исполнена.
Его произведения исследователи связывают с традициями Тургенева, Мельникова-Печёрского – то есть с почвенно-этнографическими. Он по праву считается живописцем русской природы в своей прозе, великолепным знатоком, хранителем в ней русских нравов и обычаев, писателем, запечатлевшем современный ему быт крестьянина, оставившем много прекрасных портретов своих крестьянских героев. Недаром его проза печаталась в «Новом мире» А.Т. Твардовского – лучшем журнале послевоенного времени.
* * *
Мне не раз доводилось писать о Юрии Осиповиче Домбровском, моём старшем товарище, жизнь и творчество которого вызывали у меня и моих друзей уважение и восхищение.
Он умер 29 мая 1978 года, не дожив год до своего семидесятилетия: родился 12 мая 1909 года. Он пережил четыре (!) ареста в 1933, 1936, 1937 и 1949-м годах. Причем уже в 1943-м его освобождали по инвалидности. Но не посчитались с этим, когда забирали в 1949-м как «повторника». В перерывах между тюрьмами и лагерями он опубликовал первую часть романа «Державин», написал книги «Обезьяна приходит за своим черепом» и «Смуглая леди», читал лекции о Шекспире и работал в театре.
Ему довелось сидеть в страшных лагерях на Колыме, на севере страны и в знаменитом Озерлаге, заключённые которого строили участок БАМа Абакан-Тайшет.
Он обладал энциклопедическими знаниями и поражал ими нас, порой почти буквально воспроизводя целые страницы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Был он ещё великолепным устным рассказчиком. Удивительно ли, что у Юры было много друзей?
И в «Хранителе древности», которого напечатал Твардовский в «Новом мире», и в продолжении этого романа «Факультет ненужных вещей», который уже было невозможно напечатать на родине, и он вышел за границей, Домбровский, помимо прочего, подробно описывал методику деятельности спецслужб – вербовщиков советских граждан в стукачи.
Собственно, он и арестован был по доносу стукачки, которую описал в «Хранителе», а позже раскрыл её имя – писательница Ирина Ивановна Стрелкова, которую он встретил после первого ареста в ссылке в музее Алма-Аты и которая поспособствовала его второму и третьему аресту.
Разоблачённая Стрелкова не была подвергнута общественной обструкции. Наоборот. Её продолжали издавать и ввели в редколлегию журнала «Наш современник». Умерла она в 2006 году.
У Домбровского есть стихотворение довольно известное:
Меня убить хотели эти суки, Но я принёс с рабочего двора Два новых навострённых топора. По всем законам лагерной науки Пришёл, врубил и сел на дровосек; Сижу, гляжу на них весёлым волком: «Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть просёлком…» – Домбровский, – говорят, – ты ж умный человек, Ты здесь один, а нас тут… Посмотри же! – Не слышу, – говорю, – пожалуйста, поближе! — Не принимают, сволочи, игры. Стоят поодаль, финками сверкая, И знают: это смерть сидит в дверях сарая: Высокая, безмолвная, худая, Сидит и молча держит топоры! Как вдруг отходит от толпы Чеграш, Идёт и колыхается от злобы. – «Так не отдашь топор мне» – «Не отдашь?!» — «Ну сам возьму!» – «Возьми!» – «Возьму!..» — «Попробуй!» Он в ноги мне кидается, и тут Мгновенно перескакивая через, Я топором валю скуластый череп И – поминайте как его зовут! Его столкнул, на дровосек сел снова: «Один дошёл, теперь прошу второго!» И вот таким я возвратился в мир, Который так причудливо раскрашен. Гляжу на вас, на тонких женщин ваших, На гениев в трактире, на трактир, На молчаливое седое зло, На мелкое добро грошовой сути, На то, как пьют, как заседают, крутят, И думаю: как мне не повезло!Не повезло ему больше, чем он тогда думал. Суки (так называемые органы) не простили Домбровскому своих описаний. После появления его «Факультета», изданного парижским «Имка-Пресс», Юру очень жестоко избили в фойе Центрального дома литераторов. Били с расчётом, что он уже не поднимется. Расчёт оправдался. Юрий Осипович от полученных ран умер на больничной койке.
Суки его убили!
30 МАЯ
30 мая 1960 года умер Борис Пастернак (родился, как мы помним, 10 февраля 1890-го). В «Литературной газете» некролога нет. Только в траурной рамочке на последней страницы сообщение, что скончался член Литфонда СССР. Нам по 20 лет – мне и моему школьному приятелю. Звоним в «Литгазету», чтобы узнать, когда и где хоронят. Отвечают, что у них сведений нет. Кто давал сообщение? Литфонд? Вот туда и звоните! Телефона Литфонда мы не знаем. Не помню, откуда мы узнали, что хоронить будут в Переделкино. В день похорон приехали на Киевский вокзал. И сникли. Электрички брали с бою. Так и не попали мы на похороны. Потом-то, конечно, мы всё узнали: и как хоронили, и кто хоронил. Слушали «Голос Америки», рассказавший об этом подробно.
А мой старший товарищ Владимир Корнилов на похороны попал. И написал об этом стихи:
Мы хоронили старика; А было всё не просто. Была дорога далека От дома до погоста. Наехал из Москвы народ, В посёлке стало тесно, А впереди сосновый гроб Желтел на полотенцах. Там, в подмосковной вышине, Над скопищем народа, Покачиваясь, как в челне, Открыт для небосвода, В простом гробу, В цветах по грудь, Без знамени, без меди Плыл человек в последний путь, В соседнее бессмертье. И я, тот погребальный холст Перехватив, как перевязь, Щекою мокрою прирос К неструганому дереву. И падал полудённый зной, И день склонялся низко Перед высокой простотой Тех похорон российских.* * *
30 мая 1912 года родился Лев Иванович Ошанин, очень известный и почитаемый в СССР поэт-песенник.
Мы познакомились с ним в 1976 году на днях литературы в Молдавии. Наша группа литераторов выезжала из Кишинёва для выступлений в один из районов республики. Эту группу возглавлял Ошанин.
Руководителем он оказался очень толковым. За два дня нам нужно было выступить в пяти или шести местах – в колхозах, на промышленном предприятии, в школах, в библиотеках и не помню уже где ещё. Каждый раз на остановке нас встречали улыбчивые девушки в национальных одеждах с караваем хлеба и солонкой, с вином, которое разливалось тут же в чаши, фруктами на закуску. А потом на нас налетали пионеры с букетами цветов и заваливали нас ими. Цветы приходилось удерживать в огромных охапках, прижимая их к животу и мечтая от них избавиться.
Лев Иванович ситуацию просёк мгновенно.
– А скажите, – спрашивал он встречающих, – где здесь ближайший памятник Ленину?
Памятник всегда оказывался неподалёку: мы ведь останавливались у райкома или у райисполкома.
– Как товарищи? – обращался к нам Ошанин. – Я думаю, что мы должны выполнить долг советского гражданина и возложить эти цветы к памятнику дорогого Ильича.
Мы радостно соглашались, а он, избавившись от цветов и отряхивая руки, заговорщицки нам подмигивал.
Он не любил вспоминать, что был автором «Гимна демократической молодёжи мира», что написал «Ленин всегда с тобой», что получил в 1950-м сталинскую премию за цикл стихов и песен к кинофильму «Юность мира». Зато песню «Эх, дороги» вспоминал с удовольствием. «Я и сам себе не поверил, – говорил, – когда нашёл этот эпитет о погибшем: «неживой». А потом понял: это моё, кровное».
Я его понимал. «Течёт Волга» или «Я работаю волшебником» – это, конечно, не «Гимн демократической молодёжи». Но и не «Эх, дороги» – песня, ставшая народной. Такой он больше не написал. Не смог.
Он был воистину графоманом. На приёмах, выпив пару рюмок, доставал ручку и блокнот, быстро-быстро писал, а потом вставал и читал порой довольно длинный стихотворный тост, чем дивил партийных начальников.
Да и человек он был сложный. В Чистополе во время войны Пастернак рекомендовал его в Союз писателей, чтобы Ошанин смог поехать военным корреспондентом на фронт, куда он рвался, но из-за плохого зрения его не пускали. Он вступил в Союз и на фронте побывал. И что же? Остался благодарен Пастернаку? Как бы не так! Выступил яростным хулителем Пастернака в кампанию, которая разгорелась в связи с присуждением поэту Нобелевской премии.
А с другой стороны, в Литературном институте, где он вёл семинар поэтов, поддерживал прогрессивных своих учеников и не продвигал в печать плохих стихотворцев. Он позвонил мне, когда я был одним из руководителей семинара поэтов на Всесоюзном совещании молодых и очень просил за Вадима Степанцова, лидера маньеристов. «Это настоящее, – говорил он. – Степанцов остаётся в литературе».
У Льва Ивановича трудно выбрать хорошие стихи. Но неплохие у него попадаются. Например:
Вновь залаяла собака, Я смотрю через кусты, — Но беззвучно-одинаков Мир зелёной темноты. Дрогнет лист, да ветер дунет… Как часы остановить? Ты сказала накануне, Что приедешь, может быть. Возвращаюсь в мир тесовый. Длинен вечер в сентябре. Только сяду – лает снова Та собака на дворе. Ведь не злая же, однако Всё мудрует надо мной! …Просто глупая собака, Просто скучно ей одной.Умер 31 декабря 1976 года.
* * *
30 мая 1877 года родилась Елена Гендриховна Гуро, русская поэтесса и художница, писавшая ещё и прозу.
Вместе со своим мужем музыкантом и художником-авангардистом М. Матюшиным она входила в круг кубофутуристов-«будетлян» (наиболее известны из них Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Василий Каменский). Самая прославленная её книга «Небесные верблюжата» вышла через год после её смерти (она умерла 6 мая 1913-го) в 1914 году. Её творчество вызывало сочувственные отклики даже у тех, кто не принимал футуристов, например, у Блока или Ходасевича.
Для творческой манеры Елены Гуро характерен синкретизм поэзии и живописи. Живописью она занималась серьёзно, иллюстрировала книги, в том числе и свои, писала живописные полотна, портреты.
Интерес к ней пробудился после выхода в 1968 году книги американского слависта Владимира Маркова «Русский футуризм». С тех пор написано много работ как о её творчестве, так и о связи её творчества с поэзией Маяковского, или со стихами раннего Заболоцкого, или с творчеством других поэтов и художников Серебряного века.
Цитировать её трудно. Ей присуща заумь.
Вот подобрал стихотворение «Лень», в котором зауми почти нет:
И лень. К полудню стала теплень. На пруду сверкающая шевелится Шевелень. Бриллиантовые скачут искры. Чуть звенится. Жужжит слепень. Над водой Ростинкам лень.* * *
«Шестнадцатого сентября в редакции я прочитал очерк Б. Лапина и З. Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают: «Как всегда многолюден и шумен Крещатик. По утрам его поливают из флангов, моют, скребут… Начались занятия в школах… Во всех переулках баррикады… Очередь у кассы цирка…» Четыре дня спустя по Крещатику шагали немцы.
Лапин и Хацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» торопила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверно, увидимся…
В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиным, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник», она мне поправилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника[…]
Я рассказал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937-1938-м, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что люди, кажется, в одни присест съедали пуд соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича […]
У Ирины сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11-го мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанёс на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путём, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля, и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлечённый древней персидской поэзией.
Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию; жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлиляккой», что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.
Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку – он похож на послужной список любителя похождений. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное.
Языки ему давались легко, в нём жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов. Перед войной по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлёкся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом.
При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбив. Я вижу его за рабочим столом, над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем. Хацревин написал хорошую книгу «Тегеран», у него была фантазия, а мешала ему лень. Он ложился на кровать, иногда говорил «не то» или «здесь нужно дать пейзаж». Лапин прилежно писал.
Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции, сложившемуся уже в советское время. Многое из того, что меня удивляло, восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год. Моим сверстникам – Мандельштаму, Паустовскому, Пастернаку, Федину, Бабелю – было за сорок; мы многое успели написать, а главное, продумать. Лапина и писателей его поколения события настигли врасплох; начинали подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам – старшим, они только-только распрощались с молодостью.
Борис Матвеевич был человеком мужественным. Помню, генерал Вадимов, ругая некоторых сотрудников газеты, говорил: «Вот за Лапина и Хацревина я спокоен – эти не будут отсиживаться в штабах, я их видел у Халхин-Гола…» Да, Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и новая наука далась ему с трудом: он научился не спрашивать и не отвечать. Он и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить ещё тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение […]
Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева в Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал – у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга. «Скорее! Немцы близко!» – сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: «У меня револьвер…» Это последние его слова, которые до меня дошли».
Эта большая цитата принадлежит Эренбургу. Взята она из его книги «Люди, годы и жизнь». И лучшим образом характеризует его зятя, Бориса Матвеевича Лапина, поэта, писателя, журналиста, родившегося 30 мая 1905 года. Остаётся только добавить, что Захар Львович Хацревин был не только другом Лапина, но и его соавтором. Они вместе написали много книг… И погибли в один день 19 сентября 1941 года.
* * *
30 мая 1862 года родился Константин Михайлович Фофанов, именем которого часто называют целый период русской поэзии – с середины 80-х до середины 90-х годов XIX века.
О его поэзии одобрительно отзывались Лев Толстой и Николай Лесков, Яков Полонский и Аполлон Майков. Илья Репин, любивший стихи Фофанова, написал его портрет и был крёстным отцом его сына.
Стихи Фофанов печатал в иллюстрированных еженедельниках и в газете Суворина «Новое время». Суворин выпустил первую книгу поэта «Стихотворения» (1887) году и так как книга быстро разошлась, выпустил вторую под тем же названием (1889). В 1892 году вышли книга стихотворений «Тени и тайны» и повесть в стихах «Барон Клакс». В 1996-м выходит новая книга под старым названием «Стихотворения».
Что нового внёс в русскую поэзию Фофанов? Пожалуй, чаще других поэтов-предшественников он варьировал чужие строки – от Евангелия до Фета, которые, попав в его стихи, становились его, фофановскими. Его поэзия действительно рубежна: реалистическая, она как бы подёрнута мистической дымкой, нередко вызывая в памяти модернистские (символистские) стихи, написанные после Фофанова.
Выходец из многодетной купеческой бедной семьи, он не получил систематического образования, что сказывается в его поэзии макароническим смешением разных понятий в одном стихотворении. Порой кажется, что Фофанов, начав выражать в стихах одну мысль, бросает её на полдороге, ради выражения другой. Это дало возможность критикам говорить о бессознательности таланта поэта.
Отчасти это верное определение. Но только в том смысле, что Фофанов не рационален. Он и сам это утверждает:
Всегда мы чувствуем правдиво, Но ложно мыслим мы подчас И от очей ума ревниво Хороним взор духовных глаз. Но, друг, живя, не мудрствуй ложно, Не удивляйся ничему, — Постигнуть сердцем всё возможно Непостижимое уму.Увы, получивший признание при жизни, Фофанов при жизни был почти предан забвению. Сказался тяжёлый его порок – алкоголизм, который привёл к психическому заболеванию. Последние десять лет жизни Фофанова прошли в нищете и пьянстве. В трезвые минуты он продолжал писать, и даже за год до смерти издал книгу «Иллюзии», поэму в октавах «Необыкновенный роман» и поэму «После Голгофы», но прежней популярности эти вещи ему не снискали.
Умер Фофанов в свой день рождения 30 мая 1911 года и поэт Игорь Северянин оплакал его в пронзительных стихах «Над гробом Фофанова»:
Милый Вы мой и добрый! Ведь Вы так измучились От вечного одиночества, от одиночного холода… По своей принцессе лазоревой – по Мечте своей соскучились: Сердце-то было весело! Сердце-то было молодо! Застенчивый всегда и ласковый, вечно Вы тревожились, Пели почти безразумно, – до самозабвения… С каждою новою песнею Ваши страданья множились, И Вы – о, я понимаю Вас! – страдали от вдохновения… Вижу Вашу улыбку, сквозь гроб меня озаряющую, Слышу, как божьи ангелы говорят Вам: «Добро пожаловать!» Господи! прими его душу, так невыносимо страдающую! Царство Тебе небесное, дорогой Константин Михайлович!* * *
Жена известного учёного Мстислава Александровича Цявловского, она под его руководством, а потом самостоятельно работала как тестолог с рукописями Пушкина, занималась комментированием пушкинских произведений.
Мне она запомнилась как интересная собеседница, до самой старости сохранявшая отличную память, которая позволяла ей живо восстанавливать эпизоды из жизни литературоведов, друживших с ней и с мужем.
Татьяна Григорьевна умерла 30 мая 1978 года (родилась 19 июня 1897-го).
31 МАЯ
Вчера мы вспоминали о Борисе Леонидовиче Пастернаке, который умер 30 мая. Сегодня вспомним о его отце Леониде Осиповиче. Он умер 31 мая 1945 года в Оксфорде.
Леонид Осипович Пастернак, русский художник, родился в Одессе, там же учился в рисовальной школе. Два года учился на медицинском факультете Московского университета, ещё два – на юридическом факультете университета в Новороссийске.
Но живописью занимался параллельно с учёбой. Продолжал заниматься ею в Мюнхенской академии художеств, брал уроки офорта у И.И. Шишкина, который был ещё и прекрасным гравёром.
Молодого живописца заметили. Его картину «Письмо из дому» приобретает для своей галереи П.М. Третьяков. Л. Пастернак переезжает в Москву, где участвует в выставках передвижников, становится членом объединения «Мира искусств», преподаёт сперва в Училище изящных искусств художника-архитектора А.О Гунста, а затем в 1894-м переходит в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, впоследствии получившее название: ВХУТЕМАС, о чём, точно датируя свои воспоминания, пишет в своём произведении его сын: «Мне четырнадцать лет. Вхутемас ещё школа ваянья…»
Леонид Осипович был знаком со Львом Толстым, иллюстрировал его «Воскресенье» и «Войну и мир», написал несколько портретов писателя (один из них «Лев Толстой с семьёй в Ясной Поляне»). Он был хорошим портретистом, умеющим схватить и передать наиболее характерные черты человека предельно скупыми средствами.
В 1921 году Леонид Осипович вместе с женой и дочерьми выехал для лечения в Германию. И не вернулся в Россию. В 1938-м, спасаясь от нацистов, переехал из Германии в Англию. Там и встретил день победы над германскими нацистами. Спустя три недели умер. Родился 4 апреля 1862 года.
* * *
31 мая 1892 года родился Константин Георгиевич Паустовский.
Вот странно: я был равнодушен к его прозе, которую читал в детстве. Позже мне понравились его воспоминания.
А среди моих друзей были горячие поклонники прозы Паустовского.
Например, Лёва Левицкий, написавший о Паустовском книгу. Или Лев Кривенко и Борис Балтер, которые в Литературном институте посещали семинар Паустовского и были любимыми его учениками. Юрий Трифонов, их сокурсник, хоть и учившийся у Федина, но соглашавшийся, что Паустовский – прекрасный писатель.
Впрочем, все они Паустовского знали лично, дружили с ним и с его семьёй. А мне известно, что хорошие личные отношения с писателем мешают объективной оценке его творчества.
Но ведь и Нобелевский комитет чуть было не дал ему премию. И не дал потому, что, как написал в своём знаменитом Лексиконе мой покойный знакомец, немецкий славист В. Казак, советские власти, прознав о намерении комитета, угрожали Швеции экономическими санкциями, – в результате премию получил Шолохов.
Сказать по правде, мне в это не очень верится. Более правдоподобным кажется мне, что с Паустовским наверху ПОГОВОРИЛИ, и он, очень помнящий кампанию, развернувшуюся после получения Нобелевской премии Пастернаком, согласился просить комитет не присуждать ему этой премии.
В этом предположении меня укрепляет его правозащитная деятельность, которая меня восхищала, но которая не имела для Паустовского негативных последствий.
Ещё в школе, в 10 классе, я прочитал ходившее по Москве выступление Паустовского на писательском собрании в защиту романа Дудинцева «Не хлебом единым», который тогда нещадно ругали в печати. На меня сильное впечатление произвело обращение Паустовского к собратьям по перу с призывом осудить и бороться с Дроздовыми (Дроздов – герой-бюрократ дудинцевского романа). Горячо говорил Паустовский о советской номенклатуре, обвиняя её в неграмотности, в ненависти к таланту, в участии в сталинских репрессиях.
Роман ещё долго ругали, запретили. А Паустовскому по сути ничего за это не было, хотя сравнения с речью Константина Георгиевича роман Дудинцева не выдерживает: речь и более смелая и более яркая.
Или история с альманахом «Тарусские страницы», который вышел в Калуге в 1961 году, где напечатались до того не слишком охотно печатаемые Б. Балтер, В. Максимов, Л. Кривенко, Б. Слуцкий, В. Корнилов, Д. Самойлов, где с повестью «Будь здоров школяр» выступил Б. Окуджава, где впервые после ссылки появился Наум Коржавин с щедрой подборкой стихов, где ещё более щедро с предисловием Вячеслава Всеволодовича Иванова были опубликованы стихи и проза Цветаевой. Там же под псевдонимом Н. Яковлева выступила Надежда Яковлевна Мандельштам, напечатаны три рассказа Ю. Казакова, прекрасные стихи Н. Заболоцкого…
Предупреждённые в литературном объединении «Магистраль», которое я тогда посещал, Булатом Окуджавой, членом этого объединения, мы оставили открытки с заказом на альманах в магазине областных изданий, который находился в одном из отсеков нынешнего «Библио-Глобуса» (Мясницкая улица, а тогда Кировская). И альманах получили. Что было невероятной удачей. Потому что через небольшое время калужский альманах била вся периодическая печать – от «Литературной газеты» до «Правды» и журнала «Коммунист». В выходных данных тираж был обозначен в 75 тысяч. Но столько его не продали. Сразу же после первых погромных статей альманах изъяли из продажи, из книжного склада издательства и уничтожили. Изъяли из библиотек. В самом издательстве по решению Бюро ЦК КПСС по РСФСР (была при Хрущёве такая начальствующая над всеми российскими регионами партийная инстанция) сняли главного редактора и вкатили строгий выговор с предупреждением директору.
А потом шумная волна критического негодования спала. Говорили, что этому все обязаны Паустовскому, который числился одним из составителей альманаха. Он добился приёма у Хрущёва, и тот остановил погром.
Ещё одно воспоминание. 1967 год. Большой зал Центрального дома литераторов набит под завязку. Не попавшие в зал слушают в фойе несущуюся из динамиков трансляцию речей выступающих по поводу 75-летия Константина Георгиевича Паустовского. Его самого на сцене нет: он болен. Но ему передадут запись вечера. Слово предоставляется Борису Балтеру. Он озвучивает то, что сегодня у всех на устах: надо же! – Паустовского ничем не наградили! Потому и не наградили, – возглашает Балтер, – что такова российская традиция: не награждать за правду! Шквал аплодисментов.
А на следующий день в газетах печатается Указ Президиума Верховного Совета СССР: Паустовский награждён орденом Ленина.
Награждён, кстати, за год до смерти. Он умер 14 июля 1968 года.
Иными словами, Паустовскому прощалось то, что не прощалось другим. Даже Эренбурга громил Хрущёв за его воспоминания. Паустовского он в своих погромных выступлениях не упоминал.
Может, кому-то покажется, что я жалею об этом. Нет, конечно. Не жалею. Но подозреваю, что своим согласием не получать Нобелевской премии Паустовский купил у властей индульгенцию от лично его касающейся критики.
* * *
31 мая 1948 года родилась Светлана Александровна Алексиевич, белорусская писательница, которая прославилась ещё в СССР первой же своей повестью «У войны не женское лицо». Она была удостоена за неё премии Ленинского комсомола.
Эта комсомольская премия вообще-то, как правило, доставалась многим не за талант, а за должность. Стал Феликс Кузнецов первым секретарём Московской писательской организации – отмечен премией за книги, воспитывающие молодёжь. Избрали Валерия Поволяева секретарём Союза писателей РСФСР – премия. Михаил Шевченко, работавший в аппарате этого союза, избран секретарём по делам молодых писателей – премия. Сергей Бобков занял новую должность секретаря СП РСФСР по международным связям – премия за стихи, которые ему удалось выпустить отдельной книжкой. А попробовали бы не выпустить! – Сергей – сын Филиппа Денисьевича Бобкова, генерала армии, создавшего 5 управление КГБ по борьбе с инакомыслием, ставшего первым заместителем председателя КГБ. Так что, награждая сына, радовали ещё и отца.
Кажется, не осталось ни одного секретаря в союзах писателей СССР и братских республик, которые не удостаивались этой премии. И ни одного члена парткома любого союза писателей. И не только их, но и за книги о них.
Вам что-нибудь говорит имя Владимира Коробова. А он критик, переиздавал несколько раз свою книгу «Василий Шукшин». Но пока переиздавал эту книгу, комсомол внимания на него не обращал. А вот когда в один год с новым её изданием появилась книга «Юрия Бондарев», Коробова пожаловали в лауреаты: удовольствовали Бондарева – генерала от литературы.
Но иногда (очень редко) что-то в аппарате администрации этой премии давало сбой. И тогда лауреатом оказывался Сергей Сергеевич Аверинцев, о чём, правда, потом ЦК комсомола жалел.
Вот и Алексиевич, видимо, так сказать, жертва подобного сбоя. Она сразу же обратила на себя внимание свежестью своего таланта. И тем ещё, что героем её книги является жёсткая правда.
И других книг тоже – «Цинковые мальчики», «Зачарованные смертью», «Чернобыльская молитва», «Последние свидетели. Соло для детского голоса».
Сама писательница считает свои книги не художественными, а хроникальными: «Искусство может солгать, а документ не обманывает… Хотя документ – это тоже чья-то воля, чья-то страсть. Но я складываю мир своих книг из тысяч голосов, судеб, кусочков нашего быта и бытия. Каждую свою книгу я пишу четыре-семь лет, встречаюсь и разговариваю, записываю 500–700 человек. Моя хроника охватывает десятки поколений. Она начинается с рассказов людей, которые помнили революции, прошли войны, сталинские лагеря, и идёт к нашим дням – почти 100 лет. История души – русской души. Или точнее, русско-советской души».
И не только души: «История великой и страшной Утопии – коммунизма, идея которого не умерла окончательно не только в России, но и во всем мире. Она ещё долго будет дьявольски искушать и манить человеческие умы. И я хотела оставить рассказы самих её свидетелей и участников».
Понятно, что с такой писательской установкой жить в сегодняшней лукашенковской Беларуси невозможно. Даже если захочешь. Не дадут. Выдавят, как выдавили в эмиграцию замечательного писателя Василя Быкова.
Выдавили и Светлану Алексиевич, которая оказалась за рубежом, начиная с 2000 года. Италия, Франция, Германия.
В 2015 году Светлана Александровна удостоена Нобелевской премии. «Это выдающийся писатель, большой литератор, который создал новый литературный жанр, выйдя за рамки обычной журналистики», – прокомментировала решение Нобелевского комитета секретарь Шведской королевской академии наук Сара Даниус.
* * *
31 мая 1817 года родился Георг Гервег – немецкий поэт и публицист.
О его романе с женой Герцена Натальей Александровной любил рассказывать мой приятель поэт Евгений Винокуров. Женя был очень начитан. А «Былое и думы» Герцена очень любил. Мог цитировать оттуда на память страницами.
«Что ж, – говорил Винокуров, – всё правильно. Эти революционеры сами толкали жён к любовникам. Провозглашали половую свободу. Чернышевский сидел и писал в своём кабинете, а его Ольга Сократовна через стену развлекалась с зашедшим в гости офицером, а потом писала о муже: «Канашечка знает!»
«Вот и Герцен, – ухмылялся Женя, – сам же и бросил Наталью Александровну в объятия к Гервегу. Прожужжал ей уши о свободе полов. А та и прими всё это всерьёз! И расскажи мужу о своём романе!».
«Почитай, – советовал Винокуров, – что стало с Герценом. Он завизжал от возмущения! Вынашивал самые тёмные планы: убить любовников! Нет, убить только одного Гервега! Столкнуть его со скалы в море!»
«Как ты могла!» – причитал Герцен. А почему бы ей, – рассудительно говорил Женя Винокуров, – не воспользоваться его же разрешением. За что боролся, на то и напоролся! – и заканчивал, – Не все они были Чернышевскими. Они были ещё и людьми. А человеческую природу не пересоздашь!»
Умер Гервег 7 апреля 1875 года.
* * *
31 мая 1899 года родился Леонид Максимович Леонов. Мне нравилась его ранняя проза и очень не нравилась поздняя.
Хвалёный «Русский лес» я не смог дочитать до конца, утонув в пространных философских авторских размышлениях. Не прочитал, а пролистал, подивившись тому, как всё новых и новых собак вешает Леонов на своего отрицательного персонажа Грацианского: он пишет статьи, где травит старого своего товарища положительного героя романа Вихрова, профессора, защитника русского леса от губительной вырубки; он нечистоплотен в личной жизни, не признал своего отцовства и не помогал материально дочери; наконец, оказывается, что ещё до революции Грацианский сотрудничал с царской охранкой, которой выдал своего товарища по революционному движению – Вихрова! Ну что за карикатура! Прямо как немцы в советских фильмах о войне сороковых годов: у них даже внешний облик перекорёжен!
Что до его «Пирамиды», то я тем более не смог её дочитать из-за вязкого языка, трудно воспринимаемой постоянной символики, смутной и плохо понятной перекличкой с Достоевским (Сталин – Великий Инквизитор) и уж совершенно непонятным героем Дымковым, неведомо откуда взявшимся. Опять карикатура. На этот раз на художественный трактат религиозного писателя.
Допускаю, что я не прав в своей критике, что кому-то эти романы нравятся (за «Русский лес» Леонову дали ленинскую премию). Но я высказываю своё мнение и на большее не претендую.
Прожил Леонов долго: 95 лет. Умер 8 августа 1994 года.
1 ИЮНЯ
1 июня 1804 года родился великий Глинка.
На обеде, данном 13 декабря 1836 года по поводу первого представления оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» друзья композитора исполнили шуточный канон (музыку написали В.Ф. Одоевский и М.Ю. Вильегорский):
Пой в восторге, русский хор, Вышла новая новинка, Веселися, Русь! Наш Глинка — Уж не Глинка, а фарфор! За прекрасную новинку Славить будет глас молвы Нашего Орфея – Глинку От Неглинной – до Невы. В честь столь славныя новинки Грянь, труба и барабан, Выпьем за здоровье Глинки Мы глинтвеину стакан! Слушая сию новинку, Зависть, злобой омрачась, Пусть скрежещет, но уж Глинку Затоптать не может в грязь.Первая строфа принадлежит М.Ю. Вильегорскому, вторая П.А. Вяземскому, третья – В.А. Жуковскому. А четвёртую написал Пушкин.
Ликующих друзей композитора можно понять. Опера «Жизнь за царя» потрясла современников своим национальным колоритом и оказала огромное влияние на все последующие поколения композиторов, так или иначе учитывающих в собственной музыке идеи Глинки, развивавших их.
Оперы и романсы Глинки хорошо известны поныне. Отмечу романс «Я помню чудное мгновенье…». Глинка написал его, как всем известно, на стихи Пушкина. Очень любопытно, что Пушкин сочинил стихи, вспоминая встречу с Анной Петровной Керн, а Глинка свой романс написал для дочери Анны Петровны – Кати, которой очень увлёкся.
Умер Глинка 15 февраля 1857 года в Берлине. Его похоронили на лютеранском кладбище. Но в мае сестра композитора, много сделавшая для сохранения его наследия, настояла, чтобы прах брата был перевезён в Россию.
Для перевозки прах упаковали в картонный гроб, на котором написали: «Фарфор», что заставляет вспомнить шуточный канон друзей композитора, который я цитировал.
* * *
1 июня 1920 года родился Давид Самуилович Самойлов, выдающийся русский поэт. Друзья звали его по домашнему имени – Дезик. Он был из поколения «ифлийцев», которых, как он писал в стихотворении «Перебирая наши даты», «повыбило железом» финской и Великой Отечественной.
«Аукаемся мы с Серёжей», – из того же стихотворения. Да, они с Сергеем Наровчатовым сохраняли дружеские отношения и когда прежде доступный для всех Наровчатов забурел, сделавшись депутатом, героем соцтруда. Он больше не приходил в «Литгазету» ко мне в кабинет, только к начальству, которое уже в наш отдел передавало его статью или стихи. Но млел и добрел при виде Дезика. Они расцеловывались и сидели в креслах в коридоре, не обращая ни на кого внимания, занятые своим.
На финскую Самойлова по состоянию здоровья не пустили. А он рвался добровольцем. В Отечественную вначале рыл окопы под Вязьмой, потом эвакуация в Самарканд, поступил в военно-пехотное училище, но не окончил его, а добился отправления на фронт под Тихвин, где в марте 1943-го в районе станции Мга был тяжело ранен осколком мины в левую руку. Но отказался демобилизоваться. Вернулся в строй в марте 1944-го. Воевал в моторазведке Первого Белорусского фронта.
Разумеется, военная тема ещё долго не отпускала от себя Самойлова. Но печатать его, как и его друга Бориса Слуцкого, не спешили. Оба запечатлевали неприкрашенную правду о войне. А такая правда сталинскому режиму, как сейчас путинскому, была не нужна: обходились патетическим враньём.
Я помню первую книгу Самойлова «Ближние страны», которая вышла уже после того, как я кончил школу. Следил за другими его книгами. Имел счастье часто слушать его стихи в авторском исполнении.
Вот – одно из любимых:
Давай поедем в город, Где мы с тобой бывали. Года, как чемоданы, Оставим на вокзале. Года пускай хранятся, А нам храниться поздно. Нам будет чуть печально, Но бодро и морозно. Уже дозрела осень До синего налива. Дым, облако и птица Летят неторопливо. Ждут снега, листопады Недавно отшуршали. Огромно и просторно В осеннем полушарье. И всё, что было зыбко, Растрёпанно и розно, Мороз скрепил слюною, Как ласточкины гнёзда. И вот ноябрь на свете, Огромный, просветлённый. И кажется, что город Стоит ненаселённый, — Так много сверху неба, Садов и гнёзд вороньих, Что и не замечаешь Людей, как посторонних… О, как я поздно понял, Зачем я существую, Зачем гоняет сердце По жилам кровь живую, И что, порой, напрасно Давал страстям улечься, И что нельзя беречься, И что нельзя беречься…* * *
Андрей Вознесенский, умерший 1 июня 2010 года, слишком известен, чтобы о нём много распространяться. Я хорошо его знал. У меня есть книги с его дарственными надписями. Но друзьями мы не были. Отчасти из-за того, что уже в «Треугольной груше» мне не понравилось немало его стихов. А после «Груши» его стихи мне нравились всё меньше и меньше…
Но гражданская его позиция, особенно резко обозначенная в перестройку, мне была близка. И я его уважал. Всегда помнил, как орал на него Хрущёв, предлагая убираться за границу. И как умел он показывать фигу в кармане. Например:
В Америке, пропахшей мраком, Камелией и аммиаком. Пыхтя, как будто тягачи, За мною ходят стукачи… Невыносимо быть распятым, До каждой родинки сквозя, Когда в тебя от губ до пяток, Повсюду всажены глаза… Пусти, красавчик Квазимодо, Душа болит кровоточа От пристальных очей свободы И нежных взоров стукача.Не к чему придираться советской цензуре, правда? Здорово, Андрей врезал этим американцам! А если подумать? На кого американцы будут стучать? А главное – куда стучать? То-то и оно. Стучать на советского поэта можно только в советское посольство. Или в то ведомство, которое его дотошно проверяло, прежде чем выдать ему заграничный паспорт. Тогда – какие стукачи ходят за советским поэтом в Америке? Да свои же – из посольства!
Цензура в СССР такие вещи называла неуправляемыми ассоциациями. Кряхтела, морщилась, но пропускала: пойди, докажи, кого на самом деле Вознесенский имел в виду!
2 ИЮНЯ
2 июня 1908 года родилась Ольга Сергеевна Ахманова, профессор МГУ, лингвист, автор Словаря омонимов русского языка, Словаря лингвистических терминов, кратких англо-русского и русско-английского словарей и большого, фундаментального русско-английского словаря, вышедшего под руководством её мужа – А.И. Смирницкого.
Она была человеком знающим, но крайне неприятным. Её не любили в МГУ, когда я там учился. Бессменный член парткома факультета, она часто вылезала на трибуны на наших студенческих комсомольских собраниях, проводя для нас так называемую политинформацию.
Однажды перед выборами в Верховный Совет, многие, в том числе и я, и моя будущая жена, нашли внутри столов, за которыми сидели, листовки с призывом не ходить на выборы без выборов. Администрация факультета испуганно засуетилась. Каждого вызывали к заму декана по научной части М.Н. Зозуле, который задавал один и тот же вопрос: «Как вы получили эту листовку?» Каждый честно отвечал, что нашёл её в глуби ящика своего стола. Зозуля вроде этим удовлетворялся, а Ахманова – нет. Она долго держала в страхе партком, заставляла его предпринимать ещё какие-то розыскные действия. Никого не нашли.
Естественно, что за ней ходила слава человека из органов.
Так что, когда я прочитал очень нелестные воспоминания о ней Вячеслава Всеволодовича Иванова (1999), я не удивился: она их заслужила.
Умерла она 8 ноября 1991 года.
* * *
Валерия Анатольевна Герасимова, скончавшаяся 2 июня 1970 года (родилась 27 апреля 1903-го), русская писательница.
После издания повести «Хитрые глаза» (1938) подверглась беспощадной критике, которая, как считает известный специалист по Короленко и правозащитник А.В. Храбровицкий, навсегда испугала Герасимову.
После этого ничего примечательного не написала.
Осталась в истории даже не литературы, а литературных и не только сплетен первой женой Фадеева, с которым прожила не слишком долго, и двоюродной сестрой режиссёра Сергея Аполлинариевича Герасимова.
Сейчас можно прибавить к этому, что она бабушка нынешнего писателя Сергея Шаргунова.
3 ИЮНЯ
3 июня 1963 года в Москве умер турецкий поэт Назым Хикмет (родился 15 января 1902 года).
Он часто приходил к нам в литературное объединение «Магистраль» на так называемую «читку»: члены объединения читали новые стихи по кругу. Хикмет одобрял многих. И понятно: Окуджава, Войнович, Белосинская, Эля Котляр, Наташа Астафьева, Владимир Британишский, Саша Аронов – всё это члены «Магистрали» в конце 50-х-начале 60-х.
Хрущёв приоткрыл форточку на Запад и затхлый сталинский воздух постепенно выходил. Веяло свежестью.
Слушателем Назым Химкет был очень внимательным. И безошибочно реагировал на то, что хорошо и что плохо.
Надо сказать, что нас поражали его довольно смелые высказывания о советском руководстве, когда Назым рассказывал о себе. Он учился в Коммунистическом университете в Москве, откуда через Коминтерн выпускников высылали в свои страны, точнее – засылали в них. Хикмета разоблачили быстро, и он сидел в тюрьмах, освобождался, снова сидел, последний раз 12 лет (а дали ему 28).
Слава поэта Назыма Хикмета была такова, что мировое общественное мнение настойчиво требовало от турецких властей его освобождения, тем более что у поэта были проблемы с сердцем. В 1950-м у нас сообщили, что он якобы бежал из страны (переправился в СССР через море на лодке). На самом деле турецкое правительство его выдворило.
Но, пожив в СССР, Назым стал тосковать. Ему не нравились постоянные славословия Сталина. На его счастье Сталин умер, и чекисты с турецким поэтом разбираться не стали. Назым говорил, что уже в тюрьме разочаровался в том строе, который установился в СССР. Он внимательно прочитал там Маркса и Энгельса и нашёл, что они замышляли совсем другой социализм. Хрущёвскую критику Сталина Назым одобрил, но говорил, что он только тогда поверит в обновление системы, когда она откроет свои границы для всех желающих уехать навсегда или просто уезжать или приезжать, когда вздумается.
На родине он считался крупнейшим поэтом-новатором. Он впервые стал писать свободным стихом по-турецки. Его сравнивали по стиховой манере с Маяковским.
Тем не менее въезд в Турцию был для него закрыт. Об этом заявляли националистически настроенные власти.
В Москве театр Сатиры дал премьеру его антисталинской пьесы «А был ли Иван Иванович?» Пьесу закрыли, но в Риге она прошла почти беспрепятственно. Советские власти не мешали её постановке в Софии и Праге.
А стихи его переводили многие поэты. В «Магистраль» он приходил со своей переводчицей Музой Павловой. В её переводе помещаю здесь стихотворение Хикмета «Сказка сказок»:
Стоим над водой — солнце, кошка, чинара и я. Отражаемся в тихой воде — солнце, кошка, чинара и я. Блеск воды бьёт нам в лица — солнцу, кошке, чинаре и мне. Стоим над водой — солнце, кошка, чинара, я и наша судьба. Отражаемся в тихой воде — солнце, кошка, чинара, я и наша судьба. Блеск воды бьёт нам в лица — солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе. Стоим над водой. Первой кошка уйдёт, и её отраженье исчезнет. Потом уйду я, и моё отраженье исчезнет. Потом – чинара, и её отраженье исчезнет. Потом уйдёт вода. Останется солнце. Потом уйдёт и оно. Стоим над водой — солнце, кошка, чинара, я и наша судьба. Вода прохладная, чинара высокая, я стихи сочиняю, кошка дремлет, солнце греет. Слава Богу, живём! Блеск воды бьёт нам в лица — солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе.* * *
3 июня 1890 года родился советский поэт, юморист, переводчик Анатолий Адольфович Д’Актиль.
Известность ему снискали тексты песен, из которых наиболее известны «Мы красная кавалерия» (музыка Дм. Покрасса»), «Две розы» (мызыка С. Покрасса).
Его библиография обширна. Он писал и переводил много. Даже «Алису в стране чудес». Но по большому счёту от него осталось несколько песен и одна пародия – на «Песнь о Буревестнике» Горького. Её и приведу:
Были дни…
Среди пернатых, призывая и волнуя, реял гордый Буревестник, чёрной молнии подобный, и вопил – обуреваем духом пламенного бунта:
– Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!
Напророчил Буревестник несказанные событья…
Буря грянула сильнее и скорей, чем ожидалось. И в зигзагах белых молний опалив до боли перья, притащился Буревестник, волоча по камням крылья: так и так, мол, Буревестник. Тот, который… Честь имею.
И сказали буйной птице:
– Мы заслуги ваши ценим. Но ответьте на вопросы общепринятой анкеты: что вы делали, во-первых, до семнадцатого года?
Вздыбил перья Буревестник и ответил гордо:
– Реял.
– Во-вторых, в чём ваша вера? Изложите вкратце credo.
Покосился Буревестник:
– Я предтеча вашей бури. Верю в то, что надо реять и взывать к её раскатам.
– В-третьих: ваша специальность? Что умеете вы делать?
Покривился Буревестник и сказал:
– Умею реять.
– Ну а чем служить могли бы в обстоятельствах момента?
И, смутившись, Буревестник прошептал:
– Я реять мог бы!
– Нет, – сказали буйной птице. – Нам сейчас другое нужно. Не могли бы вы, примерно, возглавлять хозучрежденье? Или заняли, быть может, пост второго казначея при президиуме съездов потребительских коопов? Или в области культуры согласились по районам инспектировать работу изб-читален и ликбезов? Или, в крайности, на курсах изучили счетоводство и пошли служить помбухом по десятому разряду?
– Ах! – промолвил Буревестник. – Я, по совести, не мастер на ликбезы и коопы, на торговые балансы и бухгалтерские книги… Если реять – я согласен!
Почесались на такие буревестниковы речи – и свезли назавтра птицу без особого почёта в помещение музея при «Архивах революций»: отвели большую клетку, подписали норму корму и повесили плакатик: «Буревестник. Тот, который…»
Мало кто, в музей забредши, между многих экспонатов отмечает с уваженьем запылившуюся клетку.
Только я, седой романтик, воспитавшийся на вольных буревестниковых криках, живо помнящий те годы, в кои над морским простором гордо реял Буревестник, чёрной молнии подобный, и вопил, обуреваем духом пламенного бунта: «Бури! Бури! Дайте бурю! Пусть сильнее грянет буря!»… только я, седой романтик, прихожу по воскресеньям в помещение музея, приношу обрюзгшей птице канареечное семя, заменяю в ржавой банке застоявшуюся воду и – с оглядкой на прохожих – говорю не очень громко:
– Пребывай себе в почёте, птичка Божья – Буревестник!
Умер Д’Актиль в 1942 году.
* * *
Удивительные люди жили на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков. Один их них Николай Михайлович Карамзин, скончавшийся 3 июня 1826 года (родился 12 декабря 1766-го), крупнейший русский историк, выдающийся литератор, глава русской сентименталистской школы.
Великий реформатор стиха, он, кроме того, ввёл в русский язык такие слова, как «промышленность», «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония», «катастрофа», «будущность».
Его «Бедная Лиза» открыла в литературе традицию сострадания чужому несчастью, чужому горю.
Помните, что сказал гоголевский Хлестаков Анне Андреевне, когда просил её руки, а она удивлённо отвечала, что «в некотором роде замужем»? «Это ничего! – говорил вдохновенный Хлестаков. – Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Прочитайте, в каком контексте сказал это Карамзин, и вы убедитесь, что гоголевский герой был пусть поверхностно, но начитан:
Законы осуждают Предмет моей любви; Но кто, о сердце, может Противиться тебе? Какой закон святее Твоих врождённых чувств? Какая власть сильнее Любви и красоты? Люблю – любить ввек буду. Кляните страсть мою, Безжалостные души, Жестокие сердца! Священная Природа! Твой нежный друг и сын Невинен пред тобою. Ты сердце мне дала; Твои дары благие Украсили её, — Природа! ты хотела, Чтоб Лилу я любил! Твой гром гремел над нами, Но нас не поражал, Когда мы наслаждались В объятиях любви. О Борнгольм, милый Борнгольм! К тебе душа моя Стремится беспрестанно; Но тщетно слёзы лью, Томлюся и вздыхаю! Навек я удалён Родительскою клятвой От берегов твоих! Ещё ли ты, о Лила, Живёшь в тоске своей? Или в волнах шумящих Скончала злую жизнь? Явися мне, явися, Любезнейшая тень! Я сам в волнах шумящих С тобою погребусь.* * *
Мне уже приходилось писать о шутке Вагрича Бахчаняна: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». В этой шутке очень много правды. Кафкианской былью был отмечен сталинский период советской истории. Мы не замечаем, что снова погружаемся в такой быт. Франц Кафка (умер 3 июня 1924 года; родился 3 июля 1883-го) списал его словно с гитлеровской или со сталинской натуры. И самой отличительной его чертой является тот абсурд, с которым сталкивается человек в стране, где человеческое достоинство не только не защищено законом, но сладострастно попирается властями.
4 ИЮНЯ
4 июня 1821 года родился Аполлон Николаевич Майков, русский поэт.
Он был старшим братом трёх других известных литераторов: Валериана Майкова, литературного критика и публициста, умершего рано – в 24 года, Владимира Майкова, прозаика и переводчика и Леонида Майкова, этнографа, историка литературы, библиографа.
Домашним учителем двух старших братьев Аполлона и Валериана был писатель Иван Александрович Гончаров.
Любопытно, что Гончаров одно время занимал пост цензора. А Аполлон Майков к концу жизни занял пост Председателя комитета иностранной цензуры.
Был он обласкан правительством и императором. Точнее, императорами. Ещё Николай I пожаловал Майкову пособие для посещения Италии. При Александре II поэт был избран членом-корреспондентом Академии наук и дорос до статского советника. Ну а Третий Александр определил его в иностранную цензуру председателем.
Хороши ли стихи Майкова? Их много, и они разные. Лучшими считаются стихи о русской природе, и написанные в подражанье русской народной песни. Кстати, на стихи Майкова композиторы охотно писали музыку. В том числе и такие, как Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский. Значительную часть поэтического наследия Аполлона Майкова занимают большие поэмы, драмы в стихах. Майкову принадлежит перевод или, как говорил Бенедикту Сарнову его учитель С.К. Шамбинаго, переложение «Слова о полку Игореве». Писал Майков и прозу, которая была мало чем примечательна.
А стихи остались:
Я б тебя поцеловала, Да боюсь, увидит месяц, Ясны звёздочки увидят; С неба звёздочка скатится И расскажет синю морю, Сине море скажет веслам, Вёсла – Яни-рыболову, А у Яни – люба Мара; А когда узнает Мара — Все узнают в околотке, Как тебя я ночью лунной В благовонный сад впускала, Как ласкала, целовала, Как серебряная яблонь Нас цветами осыпала.Скончался 20 мая 1897 года.
* * *
4 июня 1881 года родилась русская художница-авангардистка, правнучатая племянница жены Пушкина, Наталья Николаевны, Наталья Сергеевна Гончарова.
В самом начале века знакомится с художником Михаилом Фёдоровичем Ларионовым и становится его женой.
В 1903 году семья совершает поездку в Крым и Тирасполь, откуда Гончарова привозит акварели и пастели, выполненные в импрессионистическом стиле под влиянием своего мужа. Их покупают такие известные собиратели современной живописи, как А.И. Морозов и Н.П. Рябушинский.
В 1906 году, посетив Париж, увлеклась фовизмом в духе Матисса и охладела к импрессионизму. После она создаёт работы в стиле кубизма и примитивизма. То есть, ищет своё место в живописи. Притом, что все её работы, созданные в разной живописной манере, пользуются неизменным успехом на выставках в России и в Европе.
Первая её персональная выставка 24 марта 1910 года закрывается на следующий день по требованию цензуры. Художницу обвиняют в порнографии, и такие её работы, как «Натурщица (на синем фоне)», «Натурщица с закинутыми за голову руками», «Натурщица с руками на талии» конфискуются. Полиция арестовывает и картину «Бог», объявленную ещё хуже порнографии.
Несмотря на то, что суд полностью оправдал художницу, последствия злонамеренной критики оказались для неё тяжёлыми: она перестала рисовать обнажённую натуру.
Между тем полиция продолжала придираться к Гончаровой. В 1911 году полиция потребовала убрать с выставки «Бубнового валета» картину «Бог плодородия». А в 1912 году уже церковь выступила против четырёхчастного цикла «Евангелисты» на выставке «Ослиный хвост». Святые отцы нашли, что религиозный сюжет здесь находится в явном противоречии с названием и духом выставки.
В 1914 году по санкции петербургского обер-прокурора Синода арестованы 22 картины с персональной выставки Гончаровой. Пресса пишет о «кощунстве»: дескать, как посмела художница в изображении святых использовать авангардистскую технику.
Вам это ничего не напоминает? Да, конечно, выставку «Осторожно, религия!», которая прошла чуть больше десяти лет назад в Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова. Она была разгромлена группой хулиганов, уничтоживших несколько экспонатов. Причём суд поддержал погромщиков, обвинив директора Музея Юрия Самодурова и его сотрудницу Людмилу Василовскую в разжигании национальной и религиозной вражды.
Так что не сегодня зародилась эта традиция – преследовать за оскорбление чувств верующих.
Правда, во времена Гончаровой ответственные посты занимали вменяемые люди, не как нынче. За неё заступились бывший министр народного просвещения И.Н. Толстой, вице-президент Академии художеств Николай Врангель и художник Мстислав Добужинский. Они добились возвращения картин на выставку.
Но терпение Гончаровой было переполнено. В 1915 году она с мужем принимает приглашение Дягилева работать для Русских сезонов в Париже. Выехав во Францию, они решили не возвращаться на родину.
Умерла Наталья Сергеевна в Париже 17 октября 1962 года.
* * *
«Обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня важном. Знаю, что Вы неохотно решитесь её исполнить. Но Ваша слава принадлежит России, и Вы не вправе её утаивать. Если в праздные часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сиё исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимейшие сведения и etc».
Пушкин очень высоко ценил Алексея Петровича Ермолова, родившегося 4 июня 1777 года, о чём и говорит приведённая мной цитата из его неотправленного письма к генералу 1833 года.
Они встречались, Пушкин и Ермолов, о чём поэт сообщал в первой главе своего «Путешествия в Арзрум». Направляясь в Закавказье в марте 1829-го, Пушкин сделал лишних двести вёрст для того только, чтобы познакомиться с Ермоловым, который принял поэта весьма радушно.
Уже в это время Ермолов был в отставке, куда его ещё в 1827 году отправил Николай I, не любивший Ермолова и не доверявший ему.
Когда-то при Павле I, в 1798 году, подполковник Ермолов был арестован, уволен со службы и сослан в своё поместье по делу офицерского политического кружка, который современники окрестили «кружком Каховского-Ермолова». Раскрыли, что кружок распространял вольнолюбивые идеи, близкие будущим декабристам, и что его члены непочтительно отзывались об императоре. Около месяца провёл Ермолов в Петропавловской крепости по подозрению в участии в заговоре против Павла. После военного суда был сослан в Кострому, где с ним делил ссылку казак Матвей Платов, ставший на всю жизнь его другом.
И хотя Александр I вернул и обласкал Ермолова, за что тот отплатил ему сторицей, подозрительный Николай имел предубеждение против былых вольнодумцев.
Между тем, Александр Петрович Ермолов был одним из выдающихся военачальников России.
Записанный ещё в брюхе матери (вспомним героя «Капитанской дочки») каптенармусом гвардейского Преображенского полка, он ребёнком получает повышение, становится сержантом, потом унтер-офицером. Службу начинает в 14 лет поручиком гвардии. В том же 1791 году переведён капитаном в армию, в драгунский полк, где знакомится с артиллерией. В 1793-м переводится капитаном артиллерии. Через год начинает служить под командованием Суворова. Первое боевое крещение получает при подавлении Польского восстания под предводительством Костюшко. Отличился в бою под Варшавой, за что награждён орденом Св. Георгия 4 степени.
Через два года участвовал в Персидском походе под руководством Валериана Зубова. Отличился при осаде Дербента. Получил орден Св. Владимира с бантом. Стал подполковником.
Но удачно начавшуюся военную карьеру Ермолова прервал, как я уже написал, Павел I. После гибели Павла был в марте 1801 года помилован Александром и получил роту кавалерийской артиллерии.
В 1805-м рота Ермолова назначена в состав армии Кутузова, которая двинулась на помощь Австрии против наполеоновской Франции. Два месяца Ермолов догонял кутузовскую армию и привёл свою роту в таком образцовом порядке, что Кутузов отличил его и оставил его роту у себя как резерв артиллерии.
Под Амштеттеном принял первый бой с конной артиллерией. Удерживал неприятеля, занял стратегически важную возвышенность, не дав врагу установить свою артиллерию. Однако ожидаемой награды не последовало из-за Аракчеева, который выразил неудовольствие утомлённостью ермоловской роты и услышал ответ Ермолова: «Жаль, Ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов». Аракчеев помнил о недавней опале Ермолова. Но впоследствии переменил к нему отношение и даже стал его покровителем.
Под Аустерлицем был поначалу захвачен в плен, но его отбили елисаветградские гусары. За эту кампанию Ермолов награждён орденом Св. Анны 2 степени и чином полковника.
Отличился в 1807 году в битве при Прейсиш-Эйлау. В том же году вернулся в Россию с репутацией одного из первых артиллеристов армии.
Перед началом Отечественной войны был назначен начальником Главного штаба 1 западной армии, которой командовал Барклай-де-Толли. Это не было подарком Ермолову, потому что его отношения с Барклаем были натянутыми. К тому же Александр поручил Ермолову в письмах ему лично давать характеристики военачальникам. Ничего плохого о них (кроме генерала Эртеля) Ермолов императору не сообщал (хотя позже в «Записках» даст многим нелестные характеристики). Но Александр показал эти письма Кутузову, который переменил отношение к Ермолову, видимо, считая его стукачом. Позже содержание этих писем стало известно и Барклаю, что, конечно, не улучшило их взаимоотношений.
В начале Бородинского сражения был при Кутузове, который в критический для левого фланга момент послал его привести в порядок и оживить артиллерию. Ермолов отбил взятую было французами артиллерию Раевского, а потом и всю русскую артиллерию. Участвовал в штыковом бою. Был контужен в шею картечью.
Сыграл важнейшую роль в обороне Малоярославца, руководя этой обороной.
За сражение при Валутиной горе получил чин генерал-лейтенанта. Кутузов отклонил представление Барклая, воздавшего должное Ермолову, о награждении того орденом Св. Георгия 2 степени.
При переходе русских войск за Неман Ермолов назначается командиром артиллерии всех действующих армий.
29-30 августа находился в центре сражения под Кульмом. Весь день действовал против вдвое превосходящего по численности противника. Спас всю союзную армию, обеспечив ей победу. За что прямо на месте боя получил орден Св. Александра Невского. Прусский король наградил его крестом Красного Орла 1 степени.
В битве под Лейпцигом (октябрь 1813 года), командовал русской и прусской гвардиями, вклинился в центр позиции войск Наполеона, лишив их маневренности.
В сражении за Париж (март 1814-го) командовал объединённой русской, прусской и баденской гвардией. Написал по поручению Александра манифест о взятии Парижа. Награждён орденом Св. Георгия 2 степени.
В 1816 году назначен командиром Отдельного Грузинского корпуса. Прибыл на Кавказ.
В 1817-м он – чрезвычайный и полномочный посол России в Персии, где принял участие в успешных мирных переговорах с персидским шахом. По возращении получил чин генерала от инфантерии. На Кавказе основал Нальчик, руководил постройкой крепости Грозная, на собственные деньги выстроил в Тифлисе госпиталь. Войска разместились в удобных квартирах, им был увеличен мясной и винный рацион, вместо киверов им было разрешено носить папахи, вместо шинелей – полушубки.
Недаром в «Кавказском пленнике» Пушкин писал: «Смирись Кавказ: идёт Ермолов»! Ермолов против горцев действовал предельно жёстко. В ответ на захват чеченцами в заложники офицера штаба Ермолов захватил 18 наиболее уважаемых старейшин крупнейших аулов и сказал, что повесит пленников, если не освободят его штабиста. Русский офицер был освобождён без традиционного торга.
В июле 1826 года иранские войска перешли русско-персидскую границу, захватили Ленкорань и Карабах и двинулись к Тифлису. Войска Отдельного Кавказского корпуса под командованием Ермолова очистили Закавказье от иранских войск и перенесли военные действия на территорию Ирана.
Но нового императора, Николая I, это не впечатлило. Командовать войсками Кавказского округа он назначил генерала Паскевича. Посланный на Кавказ по его приказу генерал Дибич нашёл, что в корпусе Ермолова между войсками разлит пагубный дух либерализма и вольномыслия. 27 марта Ермолов был снят со всех постов и отправился по повелению императора в своё имение, где его и навестил Пушкин.
Он занимал ещё несколько постов. Стал членом Госсовета, который называли архивом для генералов, занимался разработкой карантинного устава.
Но звезда его закатилась. Он скончался 23 апреля 1861 года, завещав похоронить себя «как можно проще».
* * *
Петра Петровича Перцова, родившегося 4 июня 1868 года, называли «отцом русского символизма». Может быть, титул явно завышен, но правда то, что после надоевшего ему самому сотрудничества в «Русском богатстве» Михайловского, он выступил против утилитаризма в литературе и на свои средства в 1895 году издал сборник «Молодая поэзия» – книгу, объявившую о рождении русского символизма.
Он много печатается как критик и как поэт на рубеже веков в символистских изданиях. Редактирует журнал «Новый путь». Издаёт «Вечных спутников» Мережковского, книгу «Философские течения в русской поэзии», сочинения В.В. Розанова.
В 1902 году Мережковский и Гиппиус задумывают религиозно-философский и литературный журнал «Новый путь». Главным редактором приглашён Перцов. Увы, Перцов пробыл на этом посту недолго. Работать в союзе с Гиппиус и Мережковским у него не получилось. Он передал журнал Философову.
Отойдя от петербургских символистов, Перцов стал сотрудничать с журналом «Мир искусств». Он переводит на русский работу Ипполита Тэна «Путешествие по Италии». В 1906 году Перцов стал редактором литературного приложения к газете «Слово», где печатает стихи И. Анненского, А. Блока, Ф. Сологуба.
После революции жил в Костромской губернии. Преподавал в местном педагогическом техникуме и почасовиком в Костромском университете. Участвовал в собраниях Общества охраны памятников старины. 50 лет (1897–1947) работал над главным своим философским трудом «Основания космономии» (другое название «Основания диадологии»), который сам автор определял как попытку установить точные законы мировой мифологии. Увы, опубликованным этот труд Перцов не увидел.
Больше того, после революции спрос на его книги упал. Об этом он с горечью писал Д. Максимову: «Настоящие мои книги лежат в параличе».
Обладая уникальной коллекцией автографов мастеров культуры и литературы, Перцов нищенствует. Румянцевский музей его архивом не интересуется. Он делает там доклады о символизме, но, поскольку не является штатным сотрудником, денег за это не получает.
После начала Великой Отечественной войны материальное положение Перцова стало совсем ужасным. Чтобы помочь ему выжить, друзья – М.В. Нестеров и другие решили устроить его в Союз писателей СССР. Став членом Союза в 1942 году, Перцов прожил ещё пять лет. Умер 19 мая 1947-го. Его некролог, подписанный видными деятелями литературы и искусства, был направлен в «Литературную газету». Однако она некролог не напечатала.
* * *
4 июня 1853 года скончался русский писатель, поэт, драматург, критик Павел Александрович Катенин (родился 22 декабря 1792-го).
Его увековечил Пушкин, приведя во вступлении к «Отрывкам из путешествия Онегина» замечание Катенина, «коему, – написал Пушкин, – прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком». Конечно, Пушкин льстил Павлу Александровичу. То же замечание Катенина, которое Пушкин передал, оказывалось бедноватым по мысли. Но автор «Онегина» знал, как чувствительно самолюбив художник Катенин. И рад был польстить его самолюбию. И действительно польстил ему, что удостоверил сам Катенин в своих мемуарах.
Катенин с видимым удовольствием вспоминал своё знакомство с Пушкиным, писал как тот «встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи». – «Учёного учить – портить», отвечал я…»
А, с другой стороны, не только для того, чтобы польстить Катенину, Пушкин писал о нём как об оригинальном поэте. Он поддержал Катенина и когда тот перевёл балладу немецкого поэта Г.А. Бюргера «Ленора» в пику переводу Жуковского. Баллада Жуковского называлась «Светлана», Катенина – «Ольга». Полемика, развернувшаяся вокруг этих переводов, начала тот спор, который исследователи назвали спором архаистов и новаторов. Пушкин долго уклонялся от спора. Показывал, что ценит Жуковского, цитируя его «Светлану», выбирая из неё эпиграф для пятой главы того же «Евгения Онегина». Однако через некоторое время находил, что «Жуковский «ослабил дух и формы своего образца», а Катенин «вздумал показать нам «Ленору» в энергической красоте её первобытного создания…», То есть, Пушкин точно уловил, что перевод Жуковского, быть может, и совершенней катенинского, но Катенин, насыщая свой перевод национальными русскими подробностями, следует за Бюргером, чью балладу отличает национальный германский дух.
Конечно, талант Катенина несравним с талантом Жуковского.
И всё же отдельные стихи Катенина не разочаруют любителя поэзии и сегодня:
Город чудный, город древний, Ты вместил в свои концы И посады и деревни, И палаты и дворцы! Опоясан лентой пашен, Весь пестреешь ты в садах: Сколько храмов, сколько башен На семи твоих холмах!.. Исполинскою рукою Ты, как хартия, развит, И над малою рекою Стал велик и знаменит! На твоих церквах старинных Вырастают дерева; Глаз не схватит улиц длинных… Эта матушка Москва! Кто, силач, возьмет в охапку Холм Кремля-богатыря? Кто собьет златую шапку У Ивана-звонаря?… Кто Царь-колокол подымет? Кто Царь-пушку повернёт? Шляпы кто, гордец, не снимет У святых в Кремле ворот?! Ты не гнула крепкой выи В бедовой своей судьбе: Разве пасынки России Не поклонятся тебе!.. Ты, как мученик, горела Белокаменная! И река в тебе кипела Бурнопламенная! И под пеплом ты лежала Полоненною, И из пепла ты восстала Неизменною!.. Процветай же славой вечной, Город храмов и палат! Град срединный, град сердечный, Коренной России град!* * *
4 июня 1989 года скончался русский писатель и мой хороший товарищ Камил Акмалевич Икрамов, родившийся 10 сентября 1927 года.
Камил был сыном расстрелянного вместе с Бухариным и Рыковым первого секретаря компартии Узбекистана Акмаля Икрамова. Мать Камила была арестована и умерла в лагере, а Камила взяла к себе московская бабушка.
Камил был арестован первый раз в 1943 году и приговорён «за антисоветскую агитацию» на пять лет. В 1948-м был освобождён, но в 1951-м был вновь арестован и вышел из лагеря уже по хрущёвской амнистии в 1955-м.
Добрый, очень чистый, Камил менялся в лице, когда речь заходила о Сталине, которого Икрамов истово ненавидел. Боролся с любыми попытками его оправдать. Очень чувствительно относился к тому, что в брежневское время Сталина восстановили как победоносного Верховного Главнокомандующего армией во Второй Мировой войне.
Уже после смерти Камила вышла его документальная повесть «Дело моего отца».
Чтобы написать её, он работал в архивах, откуда всякий раз возвращался потрясённый чудовищными преступлениями сталинского времени.
5 ИЮНЯ
Почему ж ты, Испания, в небо смотрела, когда Гарсиа Лорку увели для расстрела? Андалузия знала и Валенсия знала, — Что ж земля под ногами убийц не стонала?! Что ж вы руки скрестили и губы вы сжали, когда песню родную на смерть провожали?! Увели не к стене его, не на площадь, — увели, обманув, к апельсиновой роще. Шел он гордо, срывая в пути апельсины и бросая с размаху в пруды и трясины; те плоды под луною в воде золотели и на дно не спускались, и тонуть не хотели. Будто с неба срывал и кидал он планеты, — так всегда перед смертью поступают поэты. Но пруды высыхали, и плоды увядали, и следы от походки его пропадали. А жандармы сидели, лимонад попивая и слова его песен про себя напевая.Эти стихи Николая Асеева называются «Песнь о Гарсиа Лорке».
Фредерико Гарсиа Лорка родился 5 июня 1898 года в маленьком городке испанской провинции Гранада. Начал сочинять стихи в Гранадском университете, куда поступил после переезда семьи в Гранаду. Первая его книга содержала в себе путевые дневники – впечатления Лорки о путешествии по Испании, которое он предпринял студентом. Книга так и называлась «Впечатления и картины», причём картины там были не только словесные: Лорка иллюстрировал книгу своими рисунками.
В 1919-м Лорка поступает в Студенческую резиденция в Мадриде. Знакомится с Сальвадором Дали и Луисом Буньюэлем.
В 1921-м выходит его «Книга стихов». Но известность принесла ему не она, а книга «Цыганское романсеро», вышедшая через пять лет после того, как Лорка в 1923 году сдал экзамен на степень лиценциата права.
Лорку читает, Лорку поёт вся Испания.
В 1929 году он уезжает в Нью-Йорк. Впечатления от американской жизни легли в основу его книги стихов «Поэт в Нью-Йорке» и пьес «Публика» и «Когда пройдёт пять лет».
Перед началом гражданской войны в Испании он уехал из Мадрида в Гранаду, где были очень сильны позиции франкистов. 18 августа 1936 года они арестовали поэта, а на следующий день расстреляли. Лорка прожил всего 38 лет.
Конечно, умудрённые сегодняшним опытом, мы можем себе представить, что было бы, если б в Испании взяли власть республиканцы, на стороне которых был Лорка и за дело которых воевали добровольцы-коминтерновцы. На юго-западе Европы образовался бы родственный сталинскому режиму анклав. И перекинься на соседние Португалию, Италию республиканский испанский огонь, Вторая Мировая началась бы раньше. Недаром Сталин так разозлился на потерпевших поражение республиканцев, что большинство из них, бежавших в СССР, были расстреляны или надолго упрятаны в лагеря Гулага.
Поэзия Лорки в Испании была запрещена, пока не умер Франко. А в мире его переводили охотно. На русском он существует в переводах Марины Цветаевой, того же Асеева, А. Гескула, Н. Трауберг, Ю. Мориц и других поэтов.
* * *
5 июня 1910 года в Нью-Йорке скончался американский писатель, мастер занимательной новеллы О. Генри.
Его настоящее имя Уильям Сидней Портер. Он перепробовал разные профессии, пока, работая кассиром и счетоводом в техасском городе Остине, не стал издавать юмористический еженедельник, почти целиком заполняя его своими шутками, зарисовками, очерками, стихами и рисунками. Похоже на то, что деньги на издание он позаимствовал в банке, потому что через год журнал закрылся, а Портер был уволен из банка и обвинён в растрате. (Хотя, объективности ради, скажу, что большинство исследователей настаивает на невиновности Портера.) Несмотря на то, что растрата была возмещена родными Портера, он вынужден был скрываться от суда, бежал в Гондурас, где решил дожидаться истечения срока давности по его делу.
Однако через год он узнал, что страдавшая туберкулёзом жена находится при смерти и возвращается на родину. Через полгода жена умерла, а он был судим и осуждён на три года тюрьмы (1898–1901).
В тюрьме Портер работал в лазарете и писал рассказы. Подыскивая себе псевдоним, он остановился на О. Генри. До сих пор исследователи спорят о том, что он означает, в честь кого он был взят. Нам же важно, что в тюрьме родился писатель О. Генри, написал рассказ «Рождественский подарок Дика-Свистуна» и поставил своё имя, направив рассказ в «Журнал Мак Клюра», где его напечатали в 1899 году.
О. Генри прожил всего 47 лет. (Он родился 11 сентября 1862 года.) Но за короткую свою жизнь написал роман «Короли и капуста» и 273 рассказа.
К этому следует добавить, что после смерти писателя на его родине в 1918 году учреждена премия О. Генри за лучший рассказ. И что этой премией в разные году были отмечены Трумен Капоте, Уильям Фолкнер, Фланери О’Коннор и другие.
Не счесть экранизаций по рассказам О. Генри. Только в США их экранизировали тридцать раз! У нас из экранизаций по рассказам этого писателя наиболее известен фильм Леонида Гайдая «Деловые люди», включивший в экранизацию три не связанные между собой новеллы О. Генри.
* * *
В своём комментарии по «Евгению Онегину» Владимир Набоков больше всего издевается над советским литературоведом Н.Л. Бродским, явно видя в нём сосредоточие всех пороков маркистско-ленинского литературоведения.
В основном Набоков, наверное, прав. И всё же хотелось вступиться за человека, написавшего ещё в 1931 году «Комментарий к роману Пушкина «Евгений Онегин» и начавший свой комментарий с важного открытия.
Может быть, Николай Леонтьевич Бродский, скончавшийся 5 июня 1951 года, больше никаких открытий нигде не сделал. Но в «Евгении Онегине» он это совершил.
Речь идёт о первых строках романа. Сперва послушаем Набокова:
«Смысл первых двух строк будет ясен, если вместо запятой разделяющий эти строки поставить двоеточие […] Первые пять строк главы Первой мучительно темны. Я утверждаю, что это было сознательно сделано нашим поэтом, чтобы начать повествование туманно, а затем постепенно освободиться от первоначальной туманности».
Что ж. Надо отдать должное художнической интуиции Набокова, почувствовавшего некий алогизм текста. Но его предложение «поставить двоеточие» не вполне соответствует пушкинским намерениям, так же, как совсем им не соответствует его утверждение о сознательной туманности повествования.
Он попросту столкнулся со старинной опечаткой, которой не было в двух отдельных изданиях Пушкиным главы первой. Первые пять строчек там напечатаны вот в каком виде:
Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог; Он уважать себя заставил И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука…Почему в прижизненных пушкинских изданиях всего романа (1833, 1837) точка с запятой после второй строчки оказалась заменённой запятой, ответить нелегко. Это могла быть ошибка корректора, не замеченная Пушкиным при чтении корректуры. Как показывал исследователь литературы Максим Шапир, такие вещи с Пушкиным случались.
Несомненно одно: знай Набоков о точке с запятой, его суждение о начале пушкинского романа могло быть иным. Ведь именно от туманности избавляла начало «Евгения Онегина» точка с запятой, означавшая законченность фразы: «Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог». Если же не считать эту фразу законченной, если её продолжить, следуя всем нынешним пушкинским изданиям, то тёмная туманность размышлений героя – «молодого повесы» – о своём дяде оказывается именно мучительной: «…Когда не в шутку занемог, / он уважать себя заставил / И лучше выдумать не мог. / Его пример другим наука». Кого «других» уважать себя заставил не в шутку занемогший дядя? Знакомых? Родственников? Но почему до болезни они его не уважали?
На последний вопрос мы вообще не найдём ответа в «Евгении Онегине» – верное свидетельство того, что Автор подобным вопросом не задавался.
Примем во внимание впервые установленную Н.Л. Бродским перекличку первой строчки «Евгения Онегина» со строчкой из крыловской басни «Осёл и мужик»: «Осёл был самых честных правил». Бродский установил эту перекличку давно, но для чего она понадобилась роману, ни он, ни более поздние исследователи не разъяснили. Что не удивительно: сохраняемая нынче пунктуация затуманивает и этот пушкинский замысел. Если следовать её ориентирам, то что можно сказать о переиначивании Онегиным Крылова? Что герой явно ироничен по отношению к больному родственнику, который заставил других «уважать себя» не раньше, чем «когда не в шутку занемог»? Но как совместить эту иронию с последующими мыслями Онегина о грядущем своём поведении у постели умирающего? «Низким коварством» называет подобное поведение сам герой. А такая самооценка не оставляет следов от проглянувшей было иронии и никак с ней не связана.
Между тем всё встаёт на свои места, заверши Онегин, как это было прежде, фразу: «Мой дядя самых честных правил, / Когда не в шутку занемог». Да, союз «когда» в ней употреблён не во временнóм, а в условном или изъяснительном значении, по смыслу, скорее, соответствующему союзу «если» (сравните у того же Пушкина: «Когда б не смутное влеченье / Чего-то жаждущей души, / Я здесь остался б…»). Аллюзия на крыловского Осла свидетельствует, каким было мнение Онегина о своём родственнике. Именно – было. Это подтверждает и сам Онегин, продолжая размышлять о дяде: «Он уважать себя заставил…» Заставил – кого? Онегина, разумеется, который прежде его не уважал!
Николай Львович Бродский больше ничего ценного не открыл? Но его открытие переклички Пушкина с Крыловым в первой же строчке «Евгения Онегина» из тех, которые делают очень далеко не все исследователи художественного текста. За одно это открытие Бродский, родившийся 27 ноября 1891 года, достоин, чтобы потомки вспомнили о нём с благодарностью.
* * *
5 июня 1957 года в Ялте скончался русский поэт Владимир Александрович Луговской.
Мне его ранние стихи казались подражанием Тихонову и Гумилёву. Поздние мне не нравились. Его «Середину века», получившую ленинскую премию, я не воспринимал.
Какая-то ненатуральность чудилась в его наступательной напористости стиха.
Позже от многих свидетелей я слышал одну и ту же историю о том, как повёл себя Луговской, родившийся 1 июля 1901 года, во время войны.
Он, гремевший медью в своих ранних стихах: «Такая была ночь – что ни шаг, то окоп, / Вприсядку выплясывал огонь. / Подскакивал Чонгар, и ревел Перекоп, / И рушился махновский конь. / И штабы лихорадило, и штык кровенел, / И страх человеческий смолк, / Когда за полками перекрошенных тел / Наточенный катился полк» («Перекоп»), «На сером снегу волкам приманка: / Пять офицеров, консервов банка. / «Эх, шарабан мой, американка! / А я девчонка да шарлатанка!» / Стой! / Кто идет? / Кончено. Залп!» («Песня о ветре»), он, воспевавший до войны мужество храбрых, не смог вынести даже свиста реальных пуль, когда был послан фронтовой газетой написать очерк о буднях солдат. На подступах к фронту у него начался тяжёлый приступ медвежьей болезни. Врачи, обследовавшие его, сказали, что эта трусость – патологическая: лечению не поддаётся. Луговской был отправлен, кажется, в Чистополь – к писательским жёнам и детям.
Никто из моих старших товарищей, знавших Луговского, воевавших, не опровергли эту историю. Наоборот: знающие его люди это подтверждали.
6 ИЮНЯ
Семёна Петровича Бабаевского, родившегося 6 июня 1909 года, я хорошо помню в 70-годах по Дому творчества писателей в латышских Дубултах. Лауреат трёх сталинских премий, автор знаменитого при Сталине романа «Кавалер Золотой Звезды», который я читал в детстве, человек, прославившийся своими погромными выступлениям во времена борьбы с космополитизмом (то есть, с евреями), он, по-видимому, представлял пародию на себя же, тогдашнего. Маленький, лысый, как-то усохшийся, с широкими бёдрами, с писклявым бабьим голосом, с испуганными глазами он вместе со всеми садился к телевизору в холле 9 этажа, чтобы смотреть хоккейные баталии чемпионата мира или товарищеских встреч СССР-Канада, СССР-Чехословакия. Приземистая его жена обычно оставалась в номере. А его бойкому внуку, лет шести или семи, рядом с ним не сиделось, он постоянно вскакивал со своего кресла, запускал заводную машинку, которая, разогнавшись, утыкалась в чьи-нибудь ноги, или бегал сзади по длинному узкому коридору, здорово мешая своим топотом смотреть телевизор. Драматург Арбузов, как правило, занимавший лучшее место (его номер был ближе всех к телевизору), злобно оглядывался и шипел: «В чём дело?» Бабаевский испуганно втягивал голову в плечи, поднимался, клал газету на сидение, чтобы не заняли место, и пытался отловить внука. Если не получалось, уходил за женой, которая ловила мальчика, широко расставляя руки, и уносила в номер.
Мальчик однако быстро появлялся снова. Утомлённый борьбой с дедом и бабкой, он садился рядом с Бабаевским и звонким голосом возглашал: «Деда, купи мороженого!» Бабаевский делал вид, что не слышит. «Ну, деда! – продолжал вопить внук. – Купи мороженого!»
Чтобы купить ему мороженое, нужно было спуститься в лифте на первый этаж в бар. Проблемы это не доставляло: лифт был быстрый, и можно было обернуться за несколько минут.
– Да купите вы ему мороженого! – не выдерживал детских воплей кто-нибудь, чаще всего тот же Арбузов.
– Да! – возражал писклявым голосом Бабаевский, с ненавистью глядя на внука. – Ты думаешь, что мороженое денег не стоит?
– Ну, деда! – заходился внук.
Снова приходилось вставать Бабаевскому и класть на кресло газету. Он брал внука за руку, но шёл не к лифту, а в номер, из которого возвращался один, усаживаясь назад.
Но детский крик доносился из номера. Через некоторое время выходила оттуда жена Бабаевского, держа за руку внука. Бабаевский, не забывая положить в кресло газету, направлялся к ним. Порой очень неохотно запускал руку в карман пижамы и рылся в кошельке. Но чаще всего не запускал и не рылся. Внук снова водворялся в номер, а дед снова садился в кресло.
Меня эта картинка смешила, но не удивляла.
Ещё в 60-х я познакомился в другом писательском доме творчества – в подмосковной Малеевке – с домработницей Анатолия Софронова, которую он отпускал в отпуск и покупал ей эту путёвку. Родом из родных Софронову донских мест, она, помимо всего, умела хорошо готовить фирменные донские блюда, которые подавали на часто устраиваемых Софроновым с женой обедах для друзей. О щедрости Софронова ходили легенды. И домработница их подтверждала. Но прибавляла, что двух его друзей терпеть не может.
– Кого же? – спрашивал я.
– Бабаевского и Первенцева, – отвечала женщина. – Приходили на обед с судками. Анатолий Владимирович (Софронов) каждый раз вёл их на кухню и просил дать им с собой, что их душа пожелает. Жа-а-а-дные! Наполнят судки, а уходить из кухни не хотят. Просят дать им ещё что-нибудь в наши кастрюльки. Или налить чего-нибудь в бутылки. Кастрюли, правда, возвращали…
Так что я был подготовлен к этому писклявому: «Да! Ты думаешь, что мороженое денег не стоит?»
Вот так, проэкономив, прожил огромную жизнь. Умер, не дожив трёх месяцев до 91 года: 28 марта 2000-го.
* * *
6 июня 1929 года родился русский писатель Виктор Викторович Конецкий, мой старший товарищ, которого мы между собой звали «морским волком».
Конецкий кончил морское училище и сперва служил на военных судах. После демобилизации уже в качестве гражданского капитана корабля в 1955 году участвовал в перегоне судов по северному морскому пути – первому в истории переходу малых судов в условиях Арктики от Петрозаводска до Петропавловско-Камчатского.
Ходил в литобъединение при Ленинградском отделении Союза писателей. В 1956 году напечатал первый рассказ, а в 1957-м издал первую книгу рассказов.
В 1961 году в соавторстве с А. Каплером написал сценарий фильма «Полосатый рейс». В 62-м в соавторстве с Г. Данелия создал киносценарий «Путь к причалу». Наконец в 1965 году написал сценарий фильма «Тридцать три» в соавторстве с тем же Данелия и с В. Ежовым. Ещё семь фильмов поставлены по мотивам его произведений.
Он написал много рассказов и повестей. Последнее по времени (2001–2003) собрание его сочинений насчитывает 7 томов.
Но следует отметить, что писательство он совмещал с работой в морском флоте. С 1964 года по 1986 он плавал на морских судах, пройдя путь от четвёртого помощника капитана до капитана дальнего плавания. Он плавал в разных водах, в разных морях, в разных регионах Мирового океана от Арктики до Антарктики. Последний его роман-странствие «За Доброй Надеждой» в восьми книгах он закончил в 2000-м, за два года до смерти 30 марта 2002 года.
Он был великолепным устным рассказчиком, что подтвердят все, кто имел счастье его знать лично.
* * *
Всех друзей поздравляю с прекрасным праздником русской литературы – днём рождения Александра Сергеевича Пушкина!
Бог помочь вам, друзья мои, В заботах жизни, царской службы, И на пирах разгульной дружбы, И в сладких таинствах любви! Бог помочь вам, друзья мои, И в бурях, и в житейском горе, В краю чужом, в пустынном море И в мрачных пропастях земли!7 ИЮНЯ
7 июня 1848 года в Петербурге скончался Виссарион Григорьевич Белинский (родился 11 июня 1811-го), критик, публицист, оказавший колоссальное влияние на всю последующую литературную критику и публицистику. Пушкин успел заметить и отметить в своём «Современнике» ранние статьи Белинского в «Телескопе». «Он обличает талант, подающий большую надежду», – пишет о молодом критике Пушкин. Однако «большая надежда», по мнению Пушкина, может осуществиться лишь на весьма определённых условиях: «Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соединял он более учёности, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, – словом, более зрелости, то мы бы имели в нём критика весьма замечательного» («Письмо к издателю»; в «Современнике» подписано: «А.Б.»).
Замечание это лишний раз свидетельствует, насколько последователен был Пушкин в своем понимании критики. «Критика – наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусств и литературы», – писал он в черновом наброске 1830 г. И пояснял, что слово «наука» взято им в буквальном значении: наука эта «основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений». Так что, требуя от критика учёности, начитанности, уважения к преданию, Пушкин обращал его внимание на то, что литература, как всякое явление жизни, существует по объективным, присущим только ей одной законам, и потому достоверность критического анализа подтверждается или не подтверждается в зависимости от понимания или непонимания критиком законов литературы, и соответственно – от опоры на них при анализе произведения или пренебрежения ими.
Дальнейшее творчество Белинского показало, что он пренебрёг этими пушкинскими замечаниями, совлекая в своих работах жанр литературной критики на тропу журнализма, то есть смеси публицистики и субъективизма. Нарушил Белинский и ещё одно важнейшее требование, предъявленное к критике Пушкиным, – её беспристрастности, заложив основы для тенденциозности (партийности) анализируемого текста.
Всё это, в частности, выразила знаменитая работа Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (первая публикация в «Отечественных записках» растянулась на три года: (1843–1846). Отточенные и часто точные формулировки и характеристики соседствуют в ней с удручающими примерами непонимания Пушкина, особенно позднего, зрелого, которому Белинский нередко устраивает социальные судилища. Да и точность характеристик в работах Белинского вытекает не из умения критика оперировать законами литературы, которые он обычно игнорировал, а из его вкусовых ощущений критика, какие, как всякие субъективные явления, могут соответствовать, а могут не соответствовать истине. Что же до отточенности формулировок и характеристик (то есть до стилистической манеры Белинского), то такие приметы стиля критика, как «независимость мнения» и «остроумие», оценил, как уже было сказано, ещё Пушкин. Думается, что яркий, индивидуальный стиль Белинского не в последнюю очередь способствовал его могучему влиянию на последующую русскую критику и публицистику.
Хотя уже Некрасов в своём стихотворении «Памяти Белинского» сетовал:
Наивная и страстная душа, В ком помыслы прекрасные кипели, Упорствуя, волнуясь и спеша, Ты честно шёл к одной высокой цели; Кипел, горел – и быстро ты угас! Ты нас любил, ты дружеству был верен — И мы тебя почтили в добрый час! Ты по судьбе печальной беспримерен: Твой труд живёт и долго не умрёт, А ты погиб, несчастлив и незнаем! И с дерева неведомого плод, Беспечные, беспечно мы вкушаем. Нам дела нет, кто возрастил его, Кто посвящал ему и труд и время, И о тебе не скажет ничего Своим потомкам сдержанное племя… И, с каждым днем окружена тесней, Затеряна давно твоя могила, И память благодарная друзей Дороги к ней не проторила…А это означает, что уже при Некрасове увядали традиции Белинского, которые были возрождены, пожалуй, в советское время.
* * *
7 июня 1794 года родился выдающийся русский философ Пётр Яковлевич Чаадаев.
Он стал жертвой скандала, который разразился после публикации его «Философического письма к г-же ***» в журнале Н.И Надеждина «Телескоп» (1836. № 15). Герцен не зря написал об этой статье, что она произвела впечатление «выстрела, раздавшегося в тёмную ночь». Ознакомившись с ней, Николай I пришёл в ярость: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной – смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишённого». Репрессии последовали немедленно: журнал был закрыт, Надеждин сослан, пропустивший публикацию цензор был изгнан из своего ведомства, а Чаадаев официально объявлен сумасшедшим: он был заточён под домашний арест с ежедневным визитом к нему врача. Раз в день Чаадаеву разрешалась прогулка под бдительным полицейским оком.
Друг Чаадаева Пушкин написал 19 октября 1836 года письмо философу, но, узнав о мерах, предпринятых императором, письма не послал, не без основания полагая, что оно будет перлюстрировано. Пушкин сложно отнёсся к философским тезисам друга. Чаадаев считал великим злом для России Схизму (разделение церквей), которая отделила Россию от остальной Европы, – Пушкин не видел в этом трагедии для своей страны. «Басманный философ» (так прозвали Чаадаева по его московскому местожительству-ссылке) писал о дикости, варварстве, нецивилизованности русского народа – Пушкин этот тезис категорически опровергал. Но, оспаривая Чаадаева, критически относясь к его главному утверждению: «Мы живём одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мёртвого застоя», Пушкин в то же время и соглашался с ним: «…многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного интереса, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине; это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаянье. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».
Иными словами, Пушкин поддержал Чаадаева в его сравнении тогдашней европейской и российской жизни. Вот что написал об этом Чаадаев:
«Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идёт речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чём-либо, касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребёнком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с лаской матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его нравственное существо ещё раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это – идеи долга, справедливости, права и порядка».
Вам это ничего не напоминает? Вот и мне напоминает то же, что и вам.
Умер Чаадаев 26 апреля 1856 года.
* * *
Владимир Викторович Жданов, родившийся 7 июня 1911 года, был очень известным филологом.
Он писал о Лермонтове, о поэтах-петрашевцах, о жизни и творчестве Н.В. Гоголя. В серии «Жизнь замечательных людей» издал книги «Добролюбов», «Некрасов». Являлся автором множества статей во 2-м и 3-м изданиях «Большой советской энциклопедии». Кстати, он и проработал бóльшую часть своей жизни в издательстве «Советская энциклопедия».
Но в памяти благодарных потомков (Жданов умер 9 февраля 1981 года) он остаётся одним из инициаторов и создателей «Краткой литературной энциклопедии» (КЛЭ) и первой персональной – «Лермонтовской энциклопедии».
Он был честен сам и поддерживал честных сотрудников, уважал многих из них за гражданское мужество.
8 ИЮНЯ
8 июня 1879 года скончалась Анна Петровна Керн (родилась 11 февраля 1800 года), женщина, навсегда увековеченная Пушкиным, его муза.
Циничные любители совать нос в чужие письма козыряют цитатой из письма Пушкина к Соболевскому: вот, дескать, какова на самом деле была любовь Пушкина! Но любовь, как говорил Пушкин, есть самая своенравная страсть. Она может неожиданно вспыхнуть и так же неожиданно исчезнуть. Встречу с Керн Пушкин пережил как ярчайшую вспышку любви, которую зафиксировал в прекрасном своё стихотворении «Я помню чудное мгновенье».
Восприятию этого гениального пушкинского стихотворения несомненно мешает неизбежно звучащая при его чтении гениальная музыка Глинки, подменившая собой пушкинскую мелодию.
Понятно, что Глинку мы за это винить не будем: он сделал то, что должен был сделать, и сделал превосходно – выразил себя, свои ощущения в своём романсе, написанном на пушкинский текст.
Заявил о своих ощущениях с самого начала:
Я помню чудное мгновенье…«Помню» – вот что особо подчеркнёт исполнитель романса, растягивая это слово, ставя на нём по воле композитора интонационное ударение. А потом через некоторое время, пропевая:
И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты,– сделает ударение на слове «забыл», нимало не смущаясь тем, что поначалу речь вроде бы шла о настоящем, а не о прошедшем времени. И нас это не смутит: ведь мы имеем дело с романсом, а его логика далеко не всегда подчиняется нормативной грамматике: логика романса очень часто обусловлена обнажённой эмоцией. В данном случае слово «забыл» эмоционально усилено грустным сознанием тягостности существования «без божества, без вдохновенья, / Без слёз, без жизни, без любви». И наоборот – торжествующая жизнь словно возвращает в романс слово «помню». Его нет больше в пушкинском тексте, нет, разумеется, и в романсе Глинки, но оно мощно напоминает о себе в ликующей, патетической концовке:
И сердце бьётся в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слёзы, и любовь.Но, повторяю, такая тональность романса мешает восприятию смысла пушкинского стихотворения.
В его первой строчке главное смысловое ударение падает не на «помню», а на слово «чудное», которое поэт как правило употреблял не в современном значении, синонимическом «прекрасному» или «замечательному», а в самом что ни на есть прямом – в том, в каком оно связано с чудом, с волшебством. Пушкин и здесь, в этом стихотворении, невероятно точен в передаче смыслового оттенка слова:
Передо мной явилась ты…Не «возникла», не «очутилась», но именно – «явилась», не оставляя сомнения в том, что речь идёт о явлении героини герою, пусть и кратковременном:
Как мимолётное виденье…– но по длительности вполне достаточном, чтобы сполна его оценить, чтобы запечатлеть его таким, каким оно пронзило и поразило душу:
Как гений чистой красоты.Как давно уже замечено, «гений чистой красоты» заимствован Пушкиным из стихотворения Жуковского. Скорее всего, потому, что в стихотворении Жуковского «Я Музу юную, бывало…» понятие «Гений чистой красоты» интерпретировано в совершенно определённом смысле – как божество, стоящее над жизнью, над поэзией, или, точнее, вбирающее в себя их. Вспоминая о своей юности, о юной своей Музе, наполнявшей его ощущением, что «Жизнь и Поэзия – одно», сетуя на то, что «дарователь песнопений / Меня давно не посещал», боясь не встретиться с ним больше, Жуковский тем не менее не падает духом:
Но всё, что от времён прекрасных, Когда он мне доступен был, Всё, что от милых тёмных, ясных Минувших дней я сохранил — Цветы мечты уединенной И жизни лучшие цветы, — Кладу на твой алтарь священной, О Гений чистой красоты!Он не падает духом именно потому, что «дарователь песнопений» приобщил его к «Гению чистой красоты», который (Жуковский верит в это) пребудет с ним вечно:
Не знаю, светлых вдохновений Когда воротится чреда — Но ты знаком мне, чистый Гений! И светит мне твоя звезда! Пока ещё её сиянье Душа умеет различать: Не умерло очарованье! Былое сбудется опять.Заимствуя образ, Пушкин явно апеллировал к читателю, у которого стихотворение Жуковского было на слуху (оно напечатано незадолго до того, как Пушкин сел писать «Я помню чудное мгновенье…»). Но с другой стороны, этот образ живёт в пушкинском стихотворении и независимо от своего создателя, живёт вместе со стихотворением Пушкина, едва ли не будучи его смысловым центром.
Ведь недаром у женщины, которая олицетворяет для Пушкина «гения чистой красоты», черты – «небесные». Недаром исчезнув, её «мимолётное виденье» лишило жизнь поэта полнокровности, обесценив его существование именно тогда, когда особенно обостряются ощущения прочности или непрочности связи человека с жизнью, с миром, – «в глуши, во мраке заточенья…» В данном случае герою стихотворения пришлось напрягать все свои душевные силы, чтобы выйти из того летаргического состояния, в котором очутился герой «без божества, без вдохновенья / Без слёз, без жизни, без любви».
Но такова великая сила его потребности во всём этом, что он сумел вырваться из порочного круга сумрачности своего существования, сумел прорваться к свету:
Душе настало пробужденье…Собственно, ради этого и написано стихотворение: пробудившейся душе снова («опять») явилась та, кто олицетворяет собой «гений чистой красоты», воскрешающий для человека «и божество, и вдохновенье, / И жизнь, и слёзы, и любовь». Оцените смысловой ряд некоего катрена, который составили рифмы двух заключительных четверостиший: «пробужденье – виденье – упоенье – вдохновенье». Этот катрен как бы стал итогом стихотворения, его выводом, запечатлев состояние человеческой души, соприкоснувшейся с величайшей ценностью – с «гением чистой красоты»!
* * *
Аврора Дюдеван (в девичестве Дюпен) умерла 8 июня 1876 года будучи известной французской писательницей, выступавшей под мужским псевдонимом Жорж Санд (родилась 1 июля 1804-го).
Я читал на пороге детства и юности её роман «Консуэло», и он показался мне сентиментальным.
Значительно позже я прочитал книгу Андре Моруа «Лелия или жизнь Жорж Санд» и устыдился тому, что из-за детских своих впечатлении не захотел читать другие романы французской писательницы, которых оказалось невероятно много. Однако чтение других произведений Жорж Санд у меня, что называется, не пошло. Я не смог дочитать её «Индиану». Не дочитал её роман «Мопра».
Тем не менее, зная, что на родине её почитают и что у нас есть немало её поклонников, склоним головы перед памятью этой писательницы, оказавшейся невероятно плодовитой: одних только романов у неё больше пятидесяти!
9 ИЮНЯ
В 1978 году «Комсомольскую правду» возглавил Валерий Ганичев, комсомольский функционер, о котором все знали, что он член так называемого Русского клуба, могучей организации ксенофобов и антисемитов, действующей тогда полуподпольно под руководством функционеров из ЦК партии. Сейчас, как и положено бывшему комсомольскому работнику, Ганичев – истовый православный, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (глава – патриарх Кирилл), автор романа или романов о флотоводце Ушакове, которого церковь с подачи Ганичева канонизировала, председатель мрачного Союза писателей России и т. п. А в 78-м Ганичев привёл в «Комсомолку» своих людей в редколлегию, которые занялись выдавливанием оппонентов из газеты.
Так оказались у нас в «Литературной газете» бывшие звёзды «Комсомольской правды» – Юра Рост, Гена Бочаров, Нелли Логинова. Так оказался нашим сотрудником и Юра Щекочихин, – Юрий Петрович Щекочихин, родившийся 9 июня 1950 года.
В «Литературке» он работал в таком же, как и в «Комсомолке», отделе расследования. В перестройку его возглавлял, стал членом редколлегии.
Повторяю, Щекочихин и в «Комсомолке» был звездой, но именно у нас он в одно прекрасное утро проснулся знаменитым на всю страну.
Это случилось в 1988 году после публикации его статьи «Лев изготовился к прыжку». Формально она имела соавтора – начальника Шестого управления МВД СССР по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом, полковника Александра Ивановича Гурова, который и предоставил Юре убийственные и оглушительные доказательства того, что в СССР существует разветвлённая сеть хорошо организованных бандформирований. Сейчас это, может быть, никого не удивит: только заткнувший уши не наслышан о так называемых ОПГ – организованных преступных группах, действовавших и действующих в России. Но в то время об этом писать не смели. Наличие организованной преступности отрицалось категорически. И вот – выходит «Литературка», где высокий милицейский чин подтверждает наличие в СССР мафии.
А через несколько номеров новая статья тех же авторов «Лев прыгнул»!
Наверняка, благодаря этим статьям в то революционное время оба автора стали народными депутатами: Юра – СССР, Гуров – РСФСР. Оба избрались и в Государственную думу. Щекочихин от фракции «Яблоко».
Я ушёл из «Литгазеты» на два года раньше Щекочихина – в 1994 году. Он перешёл в «Новую газету», там тоже возглавил отдел расследований, стал замом главного редактора.
К этому времени чума бандитизма и коррупции перекинулась на провластную верхушку страны. Расследовать преступления, санкционированные сверху, стало смертельно опасно. Когда Юра занялся расследованием «мебельного дела» (дела «Трёх китов»), затрагивающего интересы силовых структур, последовали анонимные звонки с угрозами.
Что угрозы не были пустым устрашением, показало активное участие Щекочихина в «Общественной комиссии по расследованию взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года», созданной по инициативе позже убитого депутата Сергея Юшенкова. Комиссию возглавил правозащитник Сергей Ковалёв, а Юра стал её активным членом.
Он почувствовал себя плохо. Как депутата, его положили в кремлёвскую больницу. Дальше передаю слово его коллеге по «Новой газете», заместителю главного редактора Сергею Соколову:
«Он умирал стремительно и страшно. За две недели превратился в глубокого старика, волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся, один за другим отказывали внутренние органы. Врачи в коридорах «кремлёвки» шептались о том, что его отравили; судмедэксперты в частных беседах говорили то же самое. Однако все ставили свои подписи под официальными документами, подтверждавшими естественный характер смерти».
Как писали в военных похоронках, геройски погиб 3 июля 2003 года на своём посту, защищая… кого? Да нас с вами! От кого? Подумайте.
* * *
9 июня 1918 года умерла Анна Григорьевна Достоевская, жена писателя Фёдора Михайловича, урождённая Сниткина (родилась 11сентября 1846 года). Она пришла к нему юной стенографисткой и очень помогла ему уложиться в кабальный срок, продиктованный Достоевскому его издателем. Уговор с издателем был суровым: не уложишься в срок – это существенно скажется на твоём гонораре. Девушка влюбилась в писателя-вдовца.
Она оставила очень интересные мемуары, названные ею «Дневник». Цитирую из него:
«Восьмого ноября 1866 года – один из знаменательных дней моей жизни: в этот день Фёдор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени прошло полвека, а все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто произошли месяц назад […]
У нас давно уже повелось, что, когда я приходила стенографировать, Фёдор Михайлович рассказывал мне, что он делал и где бывал за те часы, когда мы не видались. Я поспешила спросить Фёдора Михайловича, чем он был занят за последние дни.
– Новый роман придумывал, – ответил он.
– Что вы говорите? Интересный роман?
– Для меня очень интересен, только вот с концом романа сладить не могу. Тут замешалась психология молодой девушки. Будь я в Москве, я бы спросил мою племянницу, Сонечку, ну, а теперь за помощью обращусь к вам.
Я с гордостью приготовилась «помогать» талантливому писателю.
– Кто же герой вашего романа?
– Художник, человек уже немолодой, ну, одним словом, моих лет.
– Расскажите, расскажите, пожалуйста, – просила я, очень заинтересовавшись новым романом.
И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Фёдора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шёл, тем яснее казалось мне, что Фёдор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было всё то, что он передавал мне раньше, мельком, отрывками. Теперь подробный последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным.
В новом романе было тоже суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства (тяжкая болезнь), которые оторвали художника на десяток лет от жизни и любимого искусства. Тут было и возвращение к жизни (выздоровление художника), встреча с женщиною, которую он полюбил, муки, доставленные ему этой любовью, смерть жены и близких людей (любимой сестры), бедность, долги…
Душевное состояние героя, его одиночество, разочарование в близких людях, жажда новой жизни, потребность любить, страстное желание вновь найти счастье были так живо и талантливо обрисованы, что, видимо, были выстраданы самим автором, а не были одним лишь плодом его художественной фантазии.
На обрисовку своего героя Фёдор Михайлович не пожалел тёмных красок. По его словам, герой был преждевременно состарившийся человек, больной неизлечимой болезнью (паралич руки), хмурый, подозрительный; правда, с нежным сердцем, но не умеющий высказывать свои чувства; художник, может быть, и талантливый, но неудачник, не успевший ни разу в жизни воплотить свои идеи в тех формах, о которых мечтал, и этим всегда мучающийся.
Видя в герое романа самого Фёдора Михайловича, я не могла удержаться, чтобы не прервать его словами:
– Но зачем же вы, Фёдор Михайлович, так обидели вашего героя?
– Я вижу, он вам не симпатичен.
– Напротив, очень симпатичен. У него прекрасное сердце. Подумайте, сколько несчастий выпало на его долю, и как безропотно он их перенёс! Ведь другой, испытавший столько горя в жизни, наверно, ожесточился бы, а ваш герой всё ещё любит людей и идёт к ним на помощь. Нет, вы решительно к нему несправедливы.
– Да, я согласен, у него действительно доброе, любящее сердце. И как я рад, что вы его поняли!
– И вот, – продолжал свой рассказ Фёдор Михайлович, – в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Назовем её Аней, чтобы не называть героиней. Это имя хорошее…
[…] Художник, – продолжал свой рассказ Фёдор Михайлович, – встречал Аню в художественных кружках и чем чаще её видел, тем более она ему нравилась, тем сильнее крепло в нём убеждение, что с нею он мог бы найти счастье. И однако, мечта эта представлялась ему почти невозможною. В самом деле, что мог он, старый, больной человек, обременённый долгами, дать этой здоровой, молодой, жизнерадостной девушке? Не была ли бы любовь к художнику страшной жертвой со стороны этой юной девушки и не стала ли бы она потом горько раскаиваться, что связала с ним свою судьбу? Да и вообще, возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологическою неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна.
– Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чём тут жертва с её стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива, и раскаиваться ей никогда не придётся!
Я говорила горячо. Фёдор Михайлович смотрел на меня с волнением.
– И вы серьёзно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?
Он помолчал, как бы колеблясь.
– Поставьте себя на минуту на её место, – сказал он дрожащим голосом. – Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?
Лицо Фёдора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Фёдора Михайловича и сказала:
– Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!
Я не стану передавать те нежные, полные любви слова, которые говорил мне в те незабвенные минуты Фёдор Михайлович: они для меня священны…»
По-моему, этот отрывок чудесно выражает сущность Анны Григорьевны, прожившей с любимым мужем очень непростую жизнь. У Достоевского была эпилепсия, и Анна Григорьевна выучилась помогать больному. Достоевский обладал воистину разрушительным для семьи пороком: он был неистовым игроком, игроманом. Он играл в карты, играл в рулетку, проигрывал последние деньги, и Анна Григорьевна неизменно спасала его, продавая вещи с себя, закладывая их в ломбард, занимая, умоляя заимодателей подождать с возвращением долга. И при этом она никогда ни в чём не упрекала мужа.
Такое её поведение потрясло моего старшего товарища, поэта Владимира Корнилова, написавшего о ней чудесное стихотворение. Прочтите его:
Нравными, вздорными, прыткими Были они испокон… Анна Григорьевна Сниткина — Горлица среди ворон. Кротость – взамен своенравия, Ангел – никак не жена, Словно сама Стенография, Вся под диктовку жила. Смирная в славе и в горести, Ровно у Бога светя, Сниткина Анна Григорьевна Как при иконе свеча. Этой отваги и верности Перевелось ремесло. Больше российской словесности Так никогда не везло…* * *
О Юрии Владимировиче Манне, моём друге, выдающемся литературоведе, родившемся 9 июня 1929 года, лучше всех рассказывает он сам в своей очень интересной книге воспоминаний «Память-счастье, как и память-боль…». Книга вышла в 2011 году в издательстве РГГУ. Очень рекомендую приобрести: Манн – рассказчик живой, с юмором, много запомнивший людей и событий и щедро поделившийся тем, что ему запомнилось с читателем.
Его первая книжка «Комедия Гоголя «Ревизор» (1966) стала событием в гоголеведении. Доступная, занимательная, проникающая в сердцевину замысла Гоголя, открывающая в его комедии немало нового, незамеченного дотоль, она чётко просигналила: её автор – человек с талантом, её автор – незаурядный учёный, от которого можно ожидать и в дальнейшим побед и открытий.
Уловивших этот сигнал Манн не разочаровал. Его Гоголиада – это и превосходный анализ гоголевских произведений, и великолепно написанная трёхтомная биография писателя, которую читаешь как увлекательный роман.
Юрий Манн по праву считается одним из крупных, а из ныне живущих – крупнейшим специалистом по Гоголю. Не зря именно он является главным редактором ныне выходящего академического полного собрания Гоголя в 23 томах. Но интересы Юрия Владимировича одним Гоголем не ограничиваются. Одна из его книг носит значимое название «Тургенев и другие». Да, не только произведения Тургенева попали в сферу художественного исследования Манна, но и Пушкина, и Лермонтова, и Баратынского, и Надеждина, и Станкевича, и Аксаковых…
Его теоретические работы названы достаточно научно: «О гротеске в литературе», «Поэтика русского романтизма», «Динамика русского романтизма», «Русская философская эстетика (1820-1830-е гг.)». Но и за этими, так сказать, диссертабельными названиями скрываются увлекательные повествования, способные увлечь за собой даже не слишком подготовленных читателей.
* * *
9 июня 373 года скончался великий учитель Церкви IV века, христианский богослов и поэт Ефрем Сирин (родился в 306 году). В его наследии церковным прихожанам особенно известна великопостная молитва:
«Господи и Владыко живота моего, духъ праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Духъ же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко Благословенъ еси во веки вековъ. Аминь».
Невероятно поэтичная, эта молитва вдохновила Пушкина на её переложение:
Отцы пустынники и жены непорочны, Чтоб сердцем возлетать во области заочны, Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, Сложили множество божественных молитв; Но ни одна из них меня не умиляет, Как та, которую священник повторяет Во дни печальные Великого поста; Всех чаще мне она приходит на уста И падшего крепит неведомою силой: Владыко дней моих! Дух праздности унылой, Любоначалия, змеи сокрытой сей, И празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, Да брат мой от меня не примет осужденья, И дух смирения, терпения, любви И целомудрия мне в сердце оживи.Стихотворение написано за полгода до гибели поэта. Приходилось читать в научной литературе о Пушкине выговор поэту: как, дескать, он посмел переложить текст святого! А почему бы он не мог этого сделать? Восхищаясь молитвой Ефрема Сирина, основываясь на ней, он создаёт произведение не религиозной, а художественной литературы. Прекрасное произведение, на мой вкус!
* * *
Генрих Иоганн Фридрих – вот настоящее имя Остермана, которого в России стали называть Андреем Ивановичем. В России он, родившийся 9 июня 1687 года, оказался в 1704 году, быстро выучил язык и уже в 1710-м стал секретарём Петра Первого. Много полезного для России сделал Остерман под руководством Петра, за что получил баронское достоинство и множество земель. Пожалованное императором село Красный Угол Рязанской губернии стало родовым гнездом Остерманов.
В царствование жены Петра Екатерины Первой назначен вице-канцлером и членом Верховного Тайного Совета. Убеждённый сторонник союза с Австрией, он способствовал заключению такого союза в 1726 году. Официально считался воспитателем Петра II, но не имел особенного влияния на наследника. Впрочем, тот, став императором и сослав Меншикова, фаворита матери, Остермана не тронул, оставил на всех постах, которые высокий чиновник занимал при Екатерине.
«Верховнику» Остерману удалось не просто уклониться от подписания письма другими членами Верховного Тайного Совета будущей императрице Анне Иоанновне с изложением условий, на которых она должна взойти на престол, но стать вместе с Феофаном Прокоповичем во главе партии, враждебной «верховникам» и даже давать советы в письмах к будущей императрице.
За что она, взойдя на престол, возвела Остермана в графское достоинство. Он стал советником могущественного Бирона. По подсказке Остермана был учреждён кабинет министров, через который тот проводил все важнейшие решения тех лет: сокращение дворянской службы, уменьшение податей, меры к развитию торговли, промышленности и грамотности, улучшение судебной и финансовой частей и другие. Во внешней политике он уладил персидский и голштинский вопросы, при его помощи были заключены торговые договоры с Англией и Голландией. Противник войны с турками, он добился заключения с ними Белградского мира.
Анна Леопольдовна сделала Остермана генерал-адмиралом. Он был назначен председателем Воинской морской комиссии, которая много сделала по реформе флота и кораблестроения в России.
У Остермана через своих шпионов были неопровержимые доказательства заговора сторонников Елизаветы Петровны, желавших свергнуть Анну Леопольдовну. Но та не пожелала вникать в предостережение генерал-адмирала.
А Елизавета Петровна через своих шпионов наверняка знала об этих действиях Остермана, потому что сразу после её воцарения он был арестован, предан суду и приговорён к смертной казни через колесование.
Сохранилось свидетельство современников о том, как невероятно мужественно вёл себя Остерман на плахе. Правда, некоторые историки подозревают, что ему была известна клятва Елизаветы в день восхождения на престол отменить смертную казнь. Елизавета Петровна его казнь действительно остановила и приказала сослать навечно в Берёзово, в которое ещё Петром II был сослан Меншиков.
В ссылке Остерман и умер 31 мая 1747 года.
Его сын, Иван Андреевич, был назначен императором Павлом на высший пост государственного канцлера Российской империи.
Потомки Андрея Ивановича Остермана отличились во многих отраслях науки и хозяйства России.
В доме одного из потомков Андрея Ивановича – прославленного генерала Отечественной войны 1812 года графа Остермана-Толстого на Галерной, где жил его адъютант, будущий писатель Иван Иванович Лажечников, была предотвращена дуэль Пушкина с неким Денисевичем, которого Лажечников уговорил извиниться перед Пушкиным за назидательные замечания в театре, какие поэт счёл для себя оскорбительными.
10 ИЮНЯ
«Лесную газету» Виталия Бианки я читал в детстве. Дал мне её дядя, муж сестры моего отца, у которых я жил в глухом селе Смоленской области. Дядя работал директором сельской школы, и одна комната в доме была школьной библиотекой, откуда ребята брали книги домой. Именно «Лесная газета» поспособствовала тому, что я навсегда влюбился в лес и эту любовь пронёс через всю свою жизнь. Я равнодушен к реке, к морю, мог приехать в Крым или на Кавказ и не купаться, а просто бродить по улочкам приморских городов. Но в лесу, в горах я чувствовал себя счастливым, особенно если вчера прошли дожди: сегодня я собирал грибы – занимался любимым моим занятием.
И там в деревне. Метрах в двухстах от села лес был тёмным, глухим, с тонкими нитями тропок, на обочине которых то и дело выскакивал какой-нибудь гриб – сыроежка, лисичка, белый, другой, – сигнализирующей, что надо сойти с тропы и поискать такие же рядом. Занятие невероятно увлекательное, но для меня опасное: у меня абсолютно отсутствует чувство ориентира. Но я же не один. Со мной двоюродные братья, деревенские дружки. Перекликаясь, мы быстро наполняем корзины. Меня обучили приметам: где и какие искать грибы, я выучился. Но не ориентиру.
Углубившись в лес, мы (точнее, мои спутники вместе со мной – непутёвым) выходим к огромному малиннику, занимавшему и в длину, и в ширину невероятную по размерам площадь. Всё хорошо. Плохо только, что в больших – выше меня – кустах малины проросла такая же большая крапива. Её укусы очень чувствительны. Поэтому по малину мы ходим специально: в шапочках, в сапогах, в перчатках с трёхлитровыми бидонами.
Речка там очень неширокая. Берег высокий. В воду надо сходить, держась за нависшую близко к воде корягу. Мои сверстники ныряют с берега. А я не умею. Мне предлагают прыгать «солдатиком». А я боюсь: там сразу глубоко, а я не умею плавать. Наконец, решаюсь. Прыгаю и тут же начинаю бить по воде руками и ногами, пытаясь подняться на поверхность. Мне помогают. Отпускают – я снова тону. Опять подхватывают. Раза с пятого, с шестого я поплыл самостоятельно.
Но удовольствия не испытал. Купаться никогда не тянуло. Только разве за компанию с товарищами, друзьями. Да и то. Они вдохновенно плавают, а я быстро вылезаю из воды и лежу на берегу, читаю.
Вот и на даче, когда был ещё школьником. Мама, воспитательница детского сада, выезжала с ним в Катуар по Киевской железной дороге (теперь Лесной городок), небольшую комнату мы с ней снимали у каких-нибудь хозяев. Два озера, расположенные по обе стороны железной дороги меня не слишком привлекали. А лес! Нет, он не густой и не очень большой. Но я с удовольствием убегал туда с ребятами, бродил часами по нему один, охотился за грибами, которые в моём детстве росли и на таком близком расстоянии от Москвы.
Не обладающий от природы ориентиром, я очень часто терял его, долго блуждал по лесу, пока не выходил на какую-нибудь дорогу. Она могла вывести меня за десяток километров от дома. Но меня это не смущало. Это было необременительной платой за мою любовь к лесу.
И толчок к ней, повторяю, дала «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки, скончавшегося 10 июня 1959 года (родился 11 февраля 1894-го).
* * *
Чингиза Айтматова я полюбил сразу же после того, как прочитал в «Новом мире» в конце 50-х его повесть «Джамиля». От неё веяло чистотой и свежестью таланта. Кажется, она была переведена не самим Айтматовым, который сам переводил с киргизского на русский свои поздние вещи. И в дальнейшем Айтматов меня не разочаровал. «Прощай, Гульсары», «Белый пароход», – повести замечательные ещё и тем, что, с одной стороны, они мастерски воспроизводят национальный колорит, а с другой, они явно учитывают европейскую традицию литературы, вписываются в неё.
Роман «И дольше века длится день», имеющий и второй заголовок «Буранный полустанок», не зря назван пастернаковской строкой. Стихотворение Пастернака запечатлело трагическое ощущение мира, которое оказалось родственно Чингизу Айтматову, написавшему притчу, в которой действуют манкурты – рабы с вытравленной хозяином памятью. Да и не просто рабы, а рабы, лишённые понимания собственного «я» и тем особенно ценимые рабовладельцами. Подобному рабу, как пишет Айтматов, «в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей».
Туго переплетён с притчей и роман «Плаха», где судьбы двух его героев связаны с образом волчицы Акбары, отказывающейся убить человека, несмотря на такую возможность. Волчица оказывается гуманней многих персонажей романа: бандитов, наркоманов, браконьеров. Ей, волчице, присуща человечность, тогда как мерзавцы, выведенные в романе, охвачены лютой волчьей злобой. Снова перед нами картина трагического ощущения мира, невероятно актуальная. «Плаха» – роман-предупреждение об опасности потери человеческого в людях, особенно в тех, кто волею обстоятельств оказался во власти над другими.
Чингиз Торекулович Айтамтов, скончавшийся 10 июня 2008 года (родился 12 декабря 1928-го), был награждён всеми высшими литературными и государственными наградами Советского Союза, был секретарём Союза писателей СССР. Увы, он подписал агрессивное письмо секретарей СП СССР против Солженицына и Сахарова. Позже стыдился этой подписи.
Был он депутатом Верховного Совета СССР, послом СССР в Люксембурге. После образования независимого Кыргызстана стал от него послом в Бельгии. Скончался в немецкой больнице в Нюрнберге.
* * *
Французский историк и дипломат Проспер де Барант, родившийся 10 июня 1782 года, интересен своим знакомством с Пушкиным. Он написал Пушкину в 1836-м. Поэт ответил. Они встречались и Барант предложил Пушкину вместе перевести на французский «Капитанскую дочку».
Для такого перевода у Пушкина уже не было времени. Он погиб в феврале (новый стиль) на дуэли. Пикантность заключается в том, что дуэльные пистолеты для Дантеса его секундант, виконт Д’Аршиак, одолжил у сына Проспера де Баранта, Эрнеста. И де Барант особенно тяжело перенёс трагедию. Он приходил к умирающему поэту, был на его отпевании. О чём с благодарностью писал отцу Пушкина В.А. Жуковский: «Пушкин по своему гению был собственностью не одной России, но целой Европы; потому-то и посол французский (сам знаменитый писатель) приходил к дверям его с печалью собственной; и о нашем Пушкине пожалел как будто о своём».
А Эрнест де Барант, сын Проспера, умудрился поссориться с Лермонтовым. В феврале 1840 года на балу у графини Лаваль Эрнест упрекнул русского поэта в распространении неких лживых сведений о нём, об Эрнесте де Баранте. На что Лермонтов поначалу отвечал миролюбиво, отвергая упрёк. Однако после того как Эрнест назвал Лермонтова сплетником, между ними 18 февраля состоялась дуэль. Кстати, на Чёрной речке, где стрелялся Пушкин.
Поначалу дуэлянты не стрелялись, а фехтовали на шпагах. Но кончик шпаги у Лермонтова быстро сломался, и Эрнест провёл по его груди шпагой формально, чуть оцарапав кожу. После этого они перешли на пистолеты. Эрнест промахнулся, а Лермонтов, проявив ответное благородство, стрелял в сторону. Дуэль закончилась примирением.
Но о ней стало известно императору, который немедленно выслал Лермонтова в действующую армию на Кавказ. Эрнесту было предписано покинуть Россию. Его отец, Проспер де Барант, посол Франции в России, стал хлопотать о прощении Лермонтова. Но, зная, как ненавидит поэта Николай I, Бенкендорф посоветовал французскому послу не вмешиваться не в своё дело.
Умер Проспер де Барант 22 ноября 1866 года.
* * *
Валерия Алексеевича Косолапова, родившегося 10 июня 1910 года, я знал прежде всего как человека, который недолго при Хрущёве был главным редактором «Литературной газеты» в 1961 году. Он опубликовал на страницах «Литературки» стихотворение Евтушенко «Бабий Яр». За что был немедленно снят с работы.
Что страшного было в этом стихотворении? Его тема. Евтушенко впервые в советской печати написал о массовом расстреле под Киевом в Бабьем Яру евреев.
Сталин, особенно в последние годы жизни, вёл политику государственного антисемитизма, поэтому всякие сведения о массовых уничтожениях евреев на территории Советского Союза замалчивались. А госбезопасность при Сталине запускала слухи, опровергавшие такие сведения. Успешность подобной политики обнаружилась в том, что при сменившем Сталина Хрущёве в геноцид евреев распропагандированное население уже не верило.
И вот в Бабьем Яру оказался Евтушенко. Осмотрел никак не обозначенное место массового захоронения. И написал об этом стихотворение.
Встал вопрос, что с ним делать? Передаю слово Евтушенко, который 16 января 2011 года даёт интервью Михаилу Бузукашвили, представляющему американский Интернет-журнал «Чайка»:
«– Я поехал к Косолапову в «Литературную газету». Я знал, что он был порядочный человек. Разумеется, он был членом партии, иначе он не был бы главным редактором. Быть редактором и не быть членом партии – было невозможно. В начале я принёс стихотворение ответственному секретарю. Он прочитал и сказал, какие хорошие стихи, какой ты молодец. И спросил – ты можешь мне оставить это стихотворение, ты мне прочитать принёс? Я говорю – не прочитать, а напечатать. Он сказал – ну, брат, ты даёшь. Тогда иди к главному, если ты веришь, что это можно напечатать. Я пошёл к Косолапову. Он в моём присутствии прочитал стихи и сказал с расстановкой – это очень сильные и очень нужные стихи. Ну, что мы будем с этим делать? Я говорю, как что, печатать надо.
– Обычно когда говорили – сильные стихи, потом после этого добавляли – но печатать их сейчас нельзя, не так нас поймут.
– Да. Он размышлял и потом сказал – ну, придётся вам подождать, посидеть в коридорчике. Мне жену придётся вызывать. Я спросил – зачем это жену надо вызывать? Он говорит – это должно быть семейное решение. Я удивился – почему семейное? А он мне – ну как же, меня же уволят с этого поста, когда это будет напечатано. Я должен с ней посоветоваться. Идите, ждите. А пока мы в набор направим.
Направили в набор при мне […]
Потом приехала жена Косолапова. Как мне рассказывали, она была медсестрой во время войны, вынесла очень многих с поля боя. Такая большая, похожая на борца Поддубного женщина. И побыли они там вместе примерно минут сорок. Потом они вместе вышли, и она подходит ко мне. Я бы не сказал, что она плакала, но немножечко глаза у неё были на мокром месте. Смотрит на меня изучающе и улыбается. И говорит – не беспокойтесь, Женя, мы решили быть уволенными.
Здорово, да. И я решил дождаться утра, не уходил. И там ещё остались многие.
А неприятности начались уже на следующий день. Приехал заведующий отделом ЦК, стал выяснять, как это проморгали, пропустили? Но уже было поздно. Это уже продавалось, и ничего уже сделать было нельзя».
Заведующий отделом ЦК – очень большая шишка. Но Косолапов никого из ЦК ставить в известность не стал. Мог это стихотворение задержать цензор. Однако главные редактора имели право не соглашаться с цензорскими замечаниями и брать публикацию под свою ответственность. Разумеется, никто из главных пользоваться таким правом не спешил. Взять под свою ответственность – значило быть уволенным. Подвиг Валерия Алексеевича Косолапова состоял в том, что он первым не испугался.
Потом он работал директором издательства «Художественная литература», был главным редактором «Нового мира». Но в истории литературы он остаётся со своим подвигом – открыл накрепко сооружённую при Сталине плотину перед запретной темой. Одного стихотворения Евтушенко оказалось достаточно, чтобы снести эту лавину!
Скончался Валерий Алексеевич в мае 1982 года.
* * *
У Николая Ивановича Харджиева, скончавшегося в Амстердаме 10 июня 1996 года, друга Ахматовой, знакомца многих писателей, в том числе Багрицкого, Мандельштама, Пастернака, Кручёных, обладателя богатой коллекции русского авангардного искусства, книжных изданий русских поэтов и писателей XX века с их дарственными надписями, уникальных документов эпохи, – у Н.И. Харджиева, говорю я, была очень непростая судьба.
Ему повезло: его везде встречали одинаково хорошо. С ним любили беседовать о жизни. Мандельштам говорил, что у Харджиева абсолютный слух на стихи. Ахматовой он помогал готовить её статьи о Пушкине.
Небольшую его комнату в Марьиной Роще Ахматова называла «убежищем поэтов». Да, здесь бывало немало поэтов – Нарбут, Зенкевич, Хармс, Введенский, Олейников, Черилин. Но бывали и художники Татлин, Малевич, Суетин. В восьмиметровой комнате Харджиева в начале июня 1941 года произошла знаменитая встреча Ахматовой с Цветаевой, после которой Ахматова сказала: «А всё-таки я перед ней тёлка».
Николай Иванович был вторым мужем Серафимы Густавовны Суок, младшей из сестёр, чьим первым мужем был поэт Нарбут, а после развода с Харджиевым Серафима Густавовна вышла замуж за Виктора Шкловского.
Вторая жена Харджиева – художница Лидия Васильевна Чага прожила с Харджиевым долгую жизнь.
Николай Иванович – автор биографической книги «Судьба художника» – о П. Федотове. Ему принадлежит множество экспериментальных и шуточных стихотворений. Он откомментировал сочинения Маяковского, Глебова, Мандельштама, Хлебникова. Журнал «Вопросы литературы» в течение нескольких лет публиковал материалы из литературного архива Харджиева.
А вот с архивом коллекций ему очень не повезло. Разворовывали её постепенно. Харджиев планировал переехать с женой на Запад и заняться там научной и издательской деятельностью. А для материального обеспечения себя и жены решил вперёд себя выслать часть архива. Помогавший ему шведский славист Бенгдт Янгфельд вывез в 1977 году по дипломатическим каналам четыре картины Малевича, принадлежавшие Харджиеву, и присвоил их. Завязавшийся скандал ни к чему не привёл. Эти картины к Харджиеву не вернулись.
В ноябре 1993 года 90-летний Харджиев и его 83-летняя жена выезжают в Голландию по приглашению Амстердамского университета. Но перед отъездом ему было обещано, что по прибытии на место он с женой получит деньги, достаточные для достойного заграничного проживания. За это Харджиев должен был продать одной картиной галерее два полотна и ещё четыре передать безвозмездно на вечное хранение без права продажи. Николая Ивановича снова обманули. Его архив разграбили.
В Голландии семейная пара стариков в основном занималась трудными переговорами с обокравшей их галерей и Министерством культуры России, поскольку на родине на них завели уголовное дело по факту покушения на контрабанду.
В обмен на закрытие уголовного дела Министерство культуры настаивало на передаче всего вывезенного Харджиевым архива в посольство России. Часть архива, похищенного в Москве у Харджиева, была задержана на российской таможне. Теперь Министерство требовало, чтобы Харджиев подарил эту часть России.
В конце концов, Харджиев сделал этот подарок. Он подписал договор о передаче с условием, что его архив будет закрытым фондом на 25 лет.
В начале ноября 1995 года в Амстердаме погибает Лидия Васильевна Чага. Через два дня после гибели жены Харджиев учреждает фонд «Харджиев-Чага», который управлял бы оставшейся частью архива.
Но после смерти Николая Ивановича 10 июня 1996 года началось полное разграбление его имущества. Поменял политику и фонд, которому не разрешалось прежде продавать коллекцию.
В декабре 2011 года в Российский государственный архив литературы и искусства вернулась, как писали, уникальная коллекция русского авангарда из архива Харджиева. Однако, по словам директора РГАЛИ, вернулась только архивная часть коллекции. Картины из собрания Харджиева остались за рубежом в разных местах.
11 ИЮНЯ
Анекдот или быль? Так или иначе, но история эта известная.
На правительственном приёме Сталин подходит к архиепископу Луке (в миру – выдающемуся хирургу):
– Говорят, что ты сделал много операций. А видел ли ты когда-нибудь человеческую душу?
– Я много раз вскрывал черепную коробку, – ответил архиепископ. – Но при этом я никогда не видел ума. А ум, как мы знаем, существует.
Архиепископ Лука (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) умер 11 июня 1961 года (родился 9 мая 1877-го).
Не зря после его смерти в 2000 году он прославлен Архиерейским Собором РПЦ как исповедник (святой) в сонме новомученников и исповедников российских. Жизнь архиепископа Луки и в самом деле – подвиг: светский и религиозный.
В 1919 году в Ташкентской больнице, где тогда работал Валентин Феликсович, лежал тяжелораненый казачий есаул, о котором хирург не сообщил красным властям. Но некий служитель больницы выдал Войно-Ясенецкого. Его арестовали. И, слава богу, что рассмотреть дело не успели. Хирург был освобождён благодаря крупному деятелю Туркестанской ячейки РКП(б), который знал врача прежде.
Второй арест последовал в июне 1923 году по требованию студентов Туркестанского Государственного Университета, недовольных тем, что кафедру хирургии возглавляет профессор, появляющийся в университете в облачении иерея, не скрывающий своих религиозных взглядов. Через месяц Войно-Ясенецкого отправили в Москву в ЧК, чья комиссия в ноябре 1923 года приняла решение о высылке хирурга-священника в Нарымский край.
Сперва он отбывал ссылку в Енисейске и как врач быстро обрёл популярность: к нему на приём ломились. Чтобы сбить волну популярности, его отправили в Туруханск, где местные власти предложили сделку: он отказывается от сана священника – ему существенно сократят срок ссылки. Войно-Ясенецкий сделки не принял. Он работал в местной больнице, но власти продолжали нажимать на него, требуя отказаться от благословения больных, от религиозных проповедей и всяких выступлений на религиозную тему. В ответ врач подал заявление об уходе из больницы. За него вступился отдел здравоохранения Туруханского края, которому вовсе не хотелось терять блестящего учёного. К тому времени Войно-Ясенецкий открыл новые методы применения региональной анестезии, писал книгу о гнойной хирургии, вылечил много трудно поддающихся лечению больных. В декабре 1924 года ГПУ высылает Войно-Ясенецкого за Полярный круг в глухую деревню. Однако в больнице Туруханска умер крестьянин, которого мог вылечить только хирург-священник. Население Туруханска взбунтовалось, потребовало его возращения, и власти на это пошли.
Одновременно с лечением больных он публикует статьи о новом методе перевязки артерии при удалении селезёнки, о хороших результатах раннего хирургического лечения гнойных процессов крупных суставов.
В начале января 1926 года он был освобождён и вернулся в Ташкент.
Но на свободе пробыл недолго. Его не восстановили на работу ни в больнице, ни в университете. Он занимался частной практикой. По праздничным и выходным дням служил в церкви (ещё в 1923 году он был пострижен в монахи и рукоположен в сан епископа с именем Лука). В 1928 году покончил самоубийством профессор, работавший над превращением мёртвой материи в живую, пытавшийся воскресить своего мёртвого сына. Жена покойного обратилась к епископу Луке с просьбой похоронить мужа по-христиански. Самоубийцу можно было отпеть только при условии, что он страдал психической болезнью. Епископ болезнь покойного письменно подтвердил. Против вдовы и епископа ОПГУ организовало дело о сговоре с целью умертвить профессора, стоявшего якобы на пороге выдающегося открытия, подрывающего основы мировых религий.
На этот раз епископ Лука прибыл в августе 1931 года в Северный край как зека. Он отбывал заключение в лагере под Котласом. Потом уже как ссыльный был переведён в Котлас, оттуда – в Архангельск.
Власти не оставляли своих попыток востребовать громадный хирургический опыт Войно-Ясенецкого. Его вызывают в Москву, где ГПУ предлагает ему хирургическую кафедру в обмен на отказ от сана. Профессор объявил, что сана он не снимет, но считает в нынешних условиях невозможным церковное служение.
Осенью 1934 года вышла книга Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии», которую тот писал в тюрьмах и в ссылке. Книга обретает мировую известность. А сам профессор из Ташкента переезжает в Андижан, где руководит службой неотложной помощи. Там он заболевает тяжёлой глазной болезнью, в результате которой слепнет на один глаз.
Он излечивает от тяжёлой болезни личного секретаря Ленина – В.И. Горбунова, за что получает предложение возглавить Сталинабадский НИИ. Но отвечает на него, что согласится на это, если будет восстановлен городской храм. Получает отказ.
В июле 1937 года арестовывается в третий раз. Обвинение, которое ему предъявлено стандартно для того времени: создание «контрреволюционной церковно-монашеской организации». Некоторые епископы и иереи, проходившие по этому делу, дали признательные показания. Епископ Лука от признаний отказался, несмотря на применённый к нему метод конвейерного допроса, длившегося 13 суток без сна. Он объявил голодовку, продолжавшуюся 18 суток.
Так ничего не добившиеся от него чекисты передали его дело на особое совещание НКВД СССР, которое в феврале 1940 года приговорило его к пятилетней ссылке в Красноярский край.
С октября 1941 года он стал консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Работал на износ. При этом, не отрывая от хирургической работы, ему поручили церковную – управлять Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского.
Летом 1943 года впервые получил разрешение выехать в Москву для участия в Поместном Соборе, стал членом Священного Синода. Но и принял участие в сталинских выборах патриархом Сергия, которого прежде не признавал. Синод собирался раз в месяц, и архиепископ Лука отказывался посещать его из-за длительной дороги. Он просил перевода в центральную Россию. Это ему было разрешено, и он очутился в Тамбове, куда в феврале 1944 года переехал Военный госпиталь.
Под руководством архиепископа Луки за несколько месяцев в Тамбове было собрано 250 тысяч рублей на строительство танковой колонны имени Александра Невского. За помощь родине награждается медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В феврале 1946 года профессору Войно-Ясенецкому за выдающиеся хирургические работы присуждена Сталинская премия первой степени. Из 200 тысяч рублей, полагающихся ему за премию, 130 тысяч он переводит на помощь детским домам.
Истина требует сказать, что архиепископ Лука в это время печатается в церковных изданиях со статьями, поддерживающими внешнюю политику советской власти. Он даже написал: «Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира. Поэтому я, как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину». Так что Сталинская премия была ему присуждена ещё и за лояльность к власти, в которой он видел победителя гитлеровского фашизма.
В апреле 1946 года он становится архиепископом Симферопольским и Крымским, переведён в Симферополь, где продолжил церковное служение. Был консультантом Симферопольского военного госпиталя. Работал над научными трудами. Но в 1955 году ослеп полностью. Надиктовал мемуары, которые под заглавием «Я полюбил страдание» увидели свет только в постперестроечное время в 1999 году.
* * *
Юрия Вячеславовича Сотника, родившегося 11 июня 1911 года, умершего 3 декабря 1997 года, я по праву могу назвать писателем моего детства. Его рассказ «Архимед» Вовки Грушина» о неудаче, постигшей героя, собравшего подводную лодку и собиравшегося на ней плыть, понравился мне серьёзным отношением писателя к своим персонажам, о которых он поведал с юмором. Дальше – больше: «Дрессировщики», «Гадюка», и я стал отличать манеру Сотника от других нравящихся мне писателей. Он обладал способностью писать так, что ты не только вместе с ним подтруниваешь над желанием его героев повзрослеть как можно раньше, но и вместе с ним сочувствуешь его героям, потому что ощущаешь их доброту, их честность, их умение раскаиваться в содеянном, если поступил плохо.
Сейчас, в старости, вспоминаю рассказы Юрия Сотника, и сердцу делается теплее: отличный писатель!
* * *
Я был знаком с Ираклием Луарсабовичем Андрониковым, умершим 11 июня 1990 года. Познакомились, когда в «Литературной газете» мы собирались печатать заметку читателя об ошибке Андроникова в его устном рассказе «Загадка Н.Ф.И.», с которым Ираклий Луарсабович великолепно выступал на телевидении. Андроников расшифровывал посвящение Лермонтова некой Н.Ф.И. как Наталье Фёдоровне Ивановой. И нашёл знакомую Лермонтова с такими именем, отчеством и фамилией. А читатель указывал, что по прежней орфографии имя Фёдор начиналось не с «ф», а с фиты. И таким образом делал изящные изыскания Андроникова лишёнными смысла.
Меня это убедило, и я, пришедший в «Литгазету» не так давно, вычитывал гранки, когда ко мне зашёл Андроников. Познакомились. Андроников показал на гранки и спросил, что я об этом думаю? Я ответил, что меня его оппонент убедил. Я посмотрел в библиотеке газеты дореволюционные издания, в частности, Тютчева. И увидел, что его имя Фёдор писалось через фиту. Украинцы, узнал я из справочников, имена, которые на русском писались через фиту, произносят с «хв»: Хвёдор. А какого-нибудь Филиппа так же, как мы, русские, через «ф». Андроников слушал со скорбно поджатыми губами.
– Я уже говорил Кривицкому (нашему куратору, заму главного редактора), – сказал он, – что кто-то очень хочет моей крови. Кому-то мешает моя популярность. И это явно идёт не сверху.
– А откуда? – спросил я, сбитый им с толку.
– Из нашей писательской среды. Боже, сколько там завистников, – Андроников схватился за голову. Лицо его сморщилось. Казалось, он вот-вот начнёт оплакивать такое положение дел в Союзе писателей.
– Но как же, – возразил я. – Ведь Фёдор до революции писался…
– И так, и так, – перебил меня Андроников. – Неужели вы думаете, что я не проверял? Я всё-таки литературовед, имею отношение к науке.
На это отвечать мне было нечего. Я был молод. Литературоведом не был. Правописанием русских имён углублённо не занимался.
– А что Кривицкий? – спросил я. – Согласился с вами?
– Да, но он просил меня убедить вас. Сказал, что не хочет скандалов на «летучке».
«Летучка» – это обсуждение вышедшего номера всем коллективом редакции. Я несколько раз выступал на ней. Но причина, по которой Евгений Алексеевич Кривицкий просил Ираклия Луарсабовича убедить меня, показалась мне смехотворной. Кривицкий не был таким церемонным. Если хотел снять материал, снимал, не считаясь с мнением сотрудников.
– Странно, – пожал я плечами. – Кривицкий волен снять любой материал, если находит, что он недостоверен.
– Пойдёмте к Кривицкому вместе, – с жаром попросил Андроников. – И вы подтвердите, что прежде могли писать и так, и так.
– Но я это слышал только от вас, – возразил я.
– И вы мне не верите? – изумлению, которое изобразил Андроников, не было предела.
Я понял, что поддаваться ему нельзя. Поддамся – и буду потом считать себя тряпкой.
– Евгений Алексеевич пошутил, – сказал я. – Если вы его убедили, материал он снимет. Независимо от того, убедили или нет вы меня.
– Хорошо, – сказал Андроников, поднимаясь. – Простите. Рад был познакомиться.
Заметку мы так и не напечатали. Кривицкий её снял. А с Андрониковым у меня установились достаточно холодные отношения: здоровались и проходили мимо, не останавливаясь.
Я об этом не жалею. Видел, с каким жаром Андроников читает с трибуны то ли писательского пленума, то ли съезда приветственное письмо в адрес ЦК КПСС. Оценил его суетливость, его нескрываемое желание быть избранным в правление писательского союза. Наблюдая за ним в кулуарах пленумов и съездов и на Пушкинских праздниках в Михайловском, куда бригада писателей ездила под его руководством, я оценил его умение оживлённо и дружески разговаривать с самыми разными по направлению писателями. Он был, так сказать, приятен и тем и этим. А мне конформисты всегда были не по душе. Такие люди вызывают во мне брезгливость. Да и жаждавшие, по словам Андроникова, его крови явно переоценили свои возможности. Он умер на 81 году – 11 июля 1990 года.
Что же до Натальи Фёдоровны Ивановой, то в нынешних изданиях Лермонтова сохраняют расшифровку Андроникова. Но лингвисты, с которыми я беседовал, уверенно говорят о его грубой ошибке.
* * *
11 июня 1970 года в Нью-Йорке скончался, пожалуй, самый известный деятель Временного правительства в России, министр-председатель Александр Фёдорович Керенский.
Его отец Фёдор Михайлович – директор Симбирской гимназии был в дружеских отношениях с директором симбирских училищ Ильёй Николаевичем Ульяновым. Несмотря на это Керенский-отец поставил единственную четвёрку в пятёрочный аттестат сыну Ильи Николаевича Владимиру Ильичу Ульянову (будущему Ленину).
Однако после смерти Ильи Николаевича Фёдор Михайлович не оставлял забот о семье покойного друга. Дал Владимиру Ульянову положительную характеристику для поступления в Казанский университет, несмотря на казнь старшего брата Владимира – террориста Александра.
Александр Фёдорович Керенский быстро завоевал известность своими адвокатскими речами. Защищал террористов, добиваясь для них смягчения наказания. Выступал в поддержку М. Бейлиса и был инициатором созыва адвокатского собрания, известного, как «дело 25 адвокатов». Власти особенно раздражённо реагировали на заявление собрания, что оно считает необходимым «высказать протест против извращения основ правосудия, проявившегося в создании процесса Бейлиса, против возведения в судебном порядке на еврейский народ клеветы, отвергнутой всем культурным человечеством, и против возложения на суд не свойственной ему задачи пропаганды идей расовой и национальной вражды. Это надругательство над основами человеческого общежития унижает и позорит Россию перед лицом всего мира, и мы поднимаем свой голос в защиту чести и достоинства России».
Керенский, как один из организаторов был приговорён за это заявление к 8 месяцам тюрьмы, заменённым 8-ю месяцами запрета заниматься адвокатской деятельностью.
Баллотировавшийся от партии эсеров, Керенский в 1914 году был избран депутатом Государственной Думы. Но поскольку эсеры решили бойкотировать выборы, он вышел из партии и вступил в Думе во фракцию «трудовиков», которую возглавил. В Думе снискал себе популярность антиправительственными речами.
Фактически спровоцировал Февральскую революцию, призывая в думских речах к свержению самодержавия. В февральские дни выступал с яркими зажигательными речами перед восставшими солдатами. Сразу после революции оказался в двух противостоящих друг другу властных органах: во Временном правительстве (министр юстиции) и в Петроградском Совете депутатов (товарищ /заместитель/ председателя).
В марте 1917-го Керенский вступает в партию эсеров и становится лидером партии. В апреле добивается от председателя правительства князя Львова коалиционного кабинета министров, где получает портфель военного министра. Его политическая карьера достигает своего пика: Керенского воспринимают как народного вождя, напутствующего войска на победу на фронтах Первой Мировой.
Однако проваливается его первый же крупный проект: июньское наступление 1917 года. Жизнь народа в России лучше не становится, армия разваливается, несмотря на объявленные жёсткие меры по отношению к дезертирам. Популярность Керенского сдувается.
Особенно это становится очевидным, когда он переезжает для жительства в бывший царский Зимний дворец. Ходят слухи, что он спит на кровати императрицы Александры Фёдоровны. Его насмешливо называют «Александром Четвёртым».
7 июля он занимает пост министра-председателя с сохранением за собой портфеля военного и морского министра. Учитывая антивоенные настроения солдат и галопирующую инфляцию, он добивается введения смертной казни на фронте и выпускает новые денежные знаки, получившие название «керенки». Новым Верховным Главнокомандующим он назначает генерала Корнилова. Однако уже в августе Корнилов отказывается остановить войска, которые двинулись на Петроград. Невероятными усилиями сторонников Керенского войска были распропагандированы, а Корнилов был арестован. Слово «корниловец» стало означать приверженца реставрации царского режима, человека, выступающего против воли народа. Забавно, что первый декрет большевиков о власти, провозглашал об аресте Временного правительства под руководством «корниловца» Керенского!
После корниловского мятежа Керенский становится Верховным Главнокомандующим армии и меняет структуру Временного правительства на «Деловой кабинет» – Директорию, став во главе её. Распустил Государственную Думу, объявил, не дожидаясь созыва Учредительного собрания, о провозглашении России демократической республикой. Но, как он сам говорил, оказался «между молотом корниловцев и наковальней большевиков». Справиться с саботажем войск и с их переходом на сторону большевиков, обещавших народу немедленно заключить мир с Германией и призывавших солдат бросать оружие и брататься со вчерашним врагом, Керенский не смог.
Как рассказывал он сам, он уехал из Зимнего дворца в машине американского посла под американским флагом. Солдаты узнавали ему и отдавали ему, как главнокомандующему, честь.
Когда я в 1960 году впервые напечатался в «Литературной газете», мать, работавшая воспитательницей в детском саду, сказала, что мне хочет передать кое-какие книги, оставшиеся от покойного мужа, её бывшая сменщица, живущая теперь на пенсии. Я отправился к старушке, которая была со мной очень приветлива, назвала меня начинающим писателем и подарила несколько довольно ценных книг, среди которых оказалась «Гатчина» А.Ф. Керенского, вышедшая в 1922 году в издательстве «Книгопечатник». Мне было очень любопытно прочитать воспоминания Керенского о том, как не удался их с Красновым поход добровольческой армии на Петроград. Помимо ценного фактического материала, я убедился, что Керенский прекрасно владел словом. И удивился тому, что его книга была беспрепятственно издана после Октября.
Но позже, читая подобные книги, выходившие в двадцатых годах, я перестал им удивляться. Все двадцатые годы прошли в борьбе Сталина с бывшими соратниками Ленина – руководителями большевистской партии. Цензура стервенела постепенно. Ещё в 1930-м в «Истории гражданской войны» был помещён портрет Троцкого, председателя РВС и основателя Красной армии. Но позже, укрепившись, Сталин приказал арестовать издателей, изъять и запретить книги, которые они выпустили. Так что старая воспитательница детского сада с мужем хранили у себя запрещённую литературу. Снимаю шляпу перед их гражданской смелостью.
А что до Керенского, то он не дожил год до девяностолетия: родился 4 мая 1881 года.
* * *
«Волк и ягнёнок»
Мы уже указали на то, что, начиная эту басню, Крылов с самого начала противопоставляет свою басню действительной истории. Таким образом, его мораль совершенно не совпадает с той, которая намечена в первом стихе: «У сильного всегда бессильный виноват».
Мы уже цитировали Лессинга, который говорит, что при такой морали в рассказе делается ненужной самая существенная его часть, именно – обвинение волка. Опять легко увидеть, что басня протекает всё время в двух направлениях. Если бы она действительно должна была показать только то, что сильный часто притесняет бессильного, она могла бы рассказать простой случай о том, как волк растерзал ягнёнка. Очевидно, весь смысл рассказа именно в тех ложных обвинениях, которые волк выдвигает. И в самом деле, басня развивается все время в двух планах: в одном плане юридических препирательств, и в этом плане борьба всё время клонится в пользу ягнёнка. Всякое новое обвинение волка ягнёнок парализует с возрастающей силой; он как бы бьёт всякий раз ту карту, которой играет противник. И наконец, когда он доходит до высшей точки своей правоты, у волка не остаётся никаких аргументов, волк в споре побеждён до самого конца, ягнёнок торжествует.
Но параллельно с этим борьба всё время протекает в другом плане: мы помним, что волк хочет растерзать ягнёнка, мы понимаем, что эти обвинения только придирка, и та же самая игра имеет для нас и как раз обратное течение. С каждым новым доводом волк всё больше и больше наступает на ягнёнка, и каждый новый ответ ягнёнка, увеличивая его правоту, приближает его к гибели. И в кульминационный момент, когда волк окончательно остаётся без резонов, обе нити сходятся – и момент победы в одном плане означает момент поражения в другом. Опять мы видим планомерно развёрнутую систему элементов, из которых один всё время вызывает в нас чувство, совершенно противоположное тому, которое вызывает другой. Басня всё время как бы дразнит наше чувство, со всяким новым аргументом ягнёнка нам кажется, что момент его гибели оттянут, а на самом деле он приближен. Мы одновременно сознаём и то и другое, одновременно чувствуем и то и другое, и в этом противоречии чувства опять заключается весь механизм обработки басни. И когда ягнёнок окончательно опроверг аргументы волка, когда, казалось бы, он окончательно спасся от гибели, – тогда его гибель обнаруживается перед нами совершенно ясно.
Чтобы показать это, достаточно сослаться на любой из приёмов, к которым прибегает автор. Как величественно, например, звучит речь ягнёнка о волке:
Когда светлейший Волк позволит, Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью От Светлости его шагов я на сто пью; И гневаться напрасно он изволит…Дистанция между ничтожеством ягнёнка и всемогуществом волка показана здесь с необычайной убедительностью чувства, и дальше каждый новый аргумент волка делается всё более и более гневным, ягнёнка – всё более и более достойным, – и маленькая драма, вызывая разом полярные чувства, спеша к концу и тормозя каждый свой шаг, всё время играет на этом противочувствии».
Эта маленькая главка взята мной из превосходной книги Льва Семёновича Выготского, скончавшегося 11 июня 1934 года, «Психология искусства».
Выготский прожил короткую (родился 17 ноября 1896-го), но очень насыщенную творчеством жизнь. Он принимал участие в становлении советской психологии в 20-30-х годах прошлого века. Основал традицию, которую подхватили многие его ученики и которая в его и их работах названа культурно-исторической теорией. Наконец, он автор глубоких работ по педологии и когнитивному развитию ребёнка.
Его книга «Психология искусства», не потерявшая научной ценности и сейчас, существовала прежде как его диссертация. Любопытно, что одним из приложений к ней является его диплом «Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира», защищённый по окончанию Московского университета. Иными словами, всё это оформленный этап научного исследования, который, судя по некоторым открытым для дальнейшего изучения параграфам книги, он собирался продолжить. Но не успел. Поэтому не он, а его наследники опубликовали эту книгу. Главный вывод, который следует из неё, – ни один искусствоведческий анализ произведения не может считаться исчерпывающим и завершённым.
12 ИЮНЯ
Мне кажется — я – это Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю. И мне не надо фраз. Мне надо, чтоб друг в друга мы смотрели. Как мало можно видеть, обонять! Нельзя нам листьев и нельзя нам неба. Но можно очень много — это нежно друг друга в тёмной комнате обнять. Сюда идут? Не бойся – это гулы самой весны — она сюда идёт. Иди ко мне. Дай мне скорее губы. Ломают дверь? Нет – это ледоход…Цитата взята мною из знаменитого стихотворения Евгения Евтушенко «Бабий Яр» – о трагедии еврейского народа.
Анна Франк родилась 12 июня 1929 года. Погибла в гитлеровском концлагере Берген-Бельзене в марте 1945 года.
После прихода Гитлера к власти и особенно после начавшейся гитлеровской кампании массового уничтожения евреев, семья Анны Франк перебралась в Голландию, но и эта страна через некоторое время оказалась под гитлеровской оккупацией. Франки хотели было выехать в США, но не получили разрешения от оккупационных властей. Когда же сестре Анны пришла повестка из гестапо, семья укрылась в надёжное, как всем казалось, убежище – полдома, вход в который был замаскирован под книжный шкаф. Здесь к ним присоединилось ещё несколько человек.
Здесь же Анна Франк начинает вести свой знаменитый дневник, вобравший в себя впечатления юной узницы заточения. Дневник Анна вела в форме писем к вымышленной ею подруге. Она ежедневно рассказывала о том, что происходит с ней и с её народом. Приведённые строчки из стихотворения Евтушенко написаны по мотивам дневника Анны Франк, который она вела с 13 лет – со дня своего рождения, с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944-го.
В августе 1944 года гестаповцы обнаружили тайник и схватили всех скрывавшихся там евреев.
Из семьи Франков выжил только отец Анны Отто Франк.
Дневник Анны Франк был впервые издан в Нидерландах в 1947 году, потом в 1952-м – в США и в Великобритании под названием «The Diary of a Young Girl» («Дневник девочки»).
У нас его перевела Р.Я Райт-Ковалёва. С предисловием Ильи Эренбурга и с некоторыми сокращениями под заглавием «Дневник Анны Франк» он появился в нашей стране в 1960 году.
«Дневник Анны Франк» является одним из 35 объектов, включённых в регистр «Память мира» Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.
* * *
Михаил Ефимович Кольцов родился 12 июня 1988 года. Был, пожалуй, самым известным журналистом после революции. Писал фельетоны и страстные статьи, утверждающие новый советский строй. Создал Жургаз – журнально-газетное объединение (1925–1938). Был редактором «Огонька», «Крокодила», создал юмористический журнал «Чудак», который прославился из-за своей рубрики «Календарь Чудака», какую лично вёл Кольцов.
В романе «По ком звонит колокол» – о гражданской войне в Испании Хемингуэй вывел Кольцова под именем Каркова. Да, Кольцов был послан газетой «Правда» на фронт испанской гражданской войны, откуда присылал свои пламенные корреспонденции. Был в Испании негласным представителем советских властей при республиканском правительстве. Сражался мужественно. Выпустил в 1938-м «Испанский дневник», где о гласной своей деятельности рассказал от своего лица, а о негласной – как о деятельности мексиканского коммуниста Мигеля Мартинеса. Обвинял в своих публикациях троцкистов как якобы агентов фашизма.
Тем не менее в 1938 году был отозван из Испании и в ночь с 12 на 13 декабря арестован в редакции газета «Правда». Его родной брат, художник-карикатурист М. Ефимов рассказывал со слов М. Кольцова, что накануне ареста тот встречался со Сталиным, который спросил, прощаясь, есть ли у Кольцова пистолет. И, получив утвердительный ответ, задал новый вопрос: «А вы не хотите из него застрелиться?» «Нет», – ответил удивлённый Кольцов. Сталин удовлетворённо кивнул и распрощался.
Как рассказывал Константин Симонов в мемуарных заметках «Глазами человека моего поколения» Фадеев написал Сталину, что не верит в невиновность Кольцова. Сталин вызвал Фадеева к себе и дал прочитать показания самого Кольцова. После чего попросил Фадеева рассказывать о них неверящим писателям.
2 февраля 1940 года Кольцов был расстрелян. Реабилитирован в 1954 году.
13 ИЮНЯ
Я очень хорошо знал Александра Иванова. Высокий и худой, он подчас напоминал Сергея Михалкова или лучше – его дядю Стёпу в мультипликационных фильмах.
Одно время Саша работал в «Литературной газете», но долго там не удержался. Хотя в газете очень либерально относились к попойкам сотрудников, но от запойников избавлялись. А Иванов в то время пил почти беспробудно. И ладно бы ещё, если б пил у себя дома. Но в запое его тянуло в газету. Он приходил не шатаясь, но и как бы ничего перед собой не видя. С бутылкой в кармане.
Щука бросалась в реку! Нигде столько не пили, как в «Клубе «12 стульев» – в огромной комнате на пятом этаже здания «Литгазеты», находившемся на Цветном бульваре. И не потому, что сотрудники там были пьяницами. А потому, что напечататься на последней странице «Литературной газеты» было почётно: с неё обычно начинали читать газету, она, страница сатиры и юмора, была сверхпопулярна. Ясно, что даже тот, кому удавалось напечатать пару-другую хохмаческих фраз, в благодарность ставил бутылку так называемой администрации «12 стульев» – Вите Веселовскому – заведующему, Илюше Суслову – его заместителю и сотруднику, которым в то время недолго был Саша Иванов.
О тамошней пьянке в течение всего рабочего дня начальство газеты, конечно, знало: как и везде, стукачи у нас не дремали. Но и Чаковский, и его заместители никак на это не реагировали. Отдел сатиры и юмора был привилегированным: во многом благодаря ему рос тираж, а благодаря его авторам, приглашённым на частые устные выступления «Литературной газеты», яблоку в зале упасть было негде.
Но Иванова начальство уволило. За длительные запои, как я уже сказал.
Кстати, через десяток лет пришлось уволить и главного администратора, основателя «Клуба «12 стульев» Виктора Веселовского. Долгие постоянные пьянки подорвали его могучее здоровье. И он стал запойником.
(Мне это знакомо по собственному опыту. Я сам был на грани срыва, но сумел остановиться, хотя бывший мой подчинённый, которого я взял на работу и который прёт, как танк, по служебной лестнице, вылизывая по пути наверх начальственные задницы, теперь язвит меня своими воспоминаниями, как ему и другим сотрудникам приходилось доставлять меня пьяного домой. Во время нашей совместной работы он заикнуться об этом не смел. Наоборот. Разыгрывал невероятную преданность мне. В частности, и поэтому я резко бросил пить. Чтоб не доставлять удовольствие всякой швали.)
Впрочем, печатать Иванова продолжали. И понятно почему. Он писал сатирические эпиграммы на писателей и довольно едко обыгрывал выхваченные из стихотворного контекста строчки. Эти обыгрывания по недоразумению, разумеется, называли пародиями. Но читателям было не до чистоты жанра. Тексты Александра Иванова сделали его очень известным сатириком.
Конечно, его и пригласили на телевидение из-за бешеной популярности. Он сумел целых тринадцать лет вести на нём передачу «Вокруг смеха». Учитывая его болезнь, впору говорить о подвиге. Знаю, что он кодировался, много раз пытался бросить пить, но срывался.
Ему, ведущему телепередачу, должны быть благодарны многие сатирики. В частности, ставший в недолгой свободной России губернатором Алтайского края Михаил Евдокимов, который потому и победил на честных тогда выборах, что был повсеместно известен своими юмористическими выступлениями. А известность эта берёт начало из передачи Александра Иванова «Вокруг смеха», где впервые в 1984 году был представлен Евдокимов, директор сибирской столовой, сразу же заставивший телезрителей хвататься за животы и корчиться от смеха.
Сам же ведущий передачу время от времени вставал и читал очередную «пародию» на какого-нибудь литератора даже не под бурные аплодисменты, а под пушечные взрывы хохота. Ясно, что пишущая братия заискивала перед Ивановым, ему дарили книги, его умолял написать на себя пародию почти каждый даривший.
После распада СССР Александр Иванов оказался в первых рядах сторонников демократических преобразований. Его антикоммунистические статьи и заметки охотно печатали тогдашние прогрессивные издания. Он с энтузиазмом занимался общественной деятельностью на благо новой России.
Но надорвался. Сказалась застарелая болезнь. 13 июня 1996 года Александр Александрович Иванов скончался от обширного инфаркта, не дожив до 60-ти: родился 9 декабря 1936 года.
14 ИЮНЯ
В далёком 1966 году редакция журнала «Вопросы литература» заказала мне рецензию на книгу Владимира Солоухина, вышедшую в серии «Рассказы о творчестве», которую издавало издательства «Советская России».
Книга мне понравилась. О чём я и написал. Но одно место в ней вызвало недоумение. Солоухин обратился к стихотворению Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла» и, рассуждая о самоценности поэтического слова, предложил проделать и проделал эксперимент: заменил слова «на холмах» словами «в долине». Меня это удивило. Есть же отброшенные Пушкиным варианты, почему бы не обратиться к ним? Зачем, спрашивал я, представлять Пушкина странным чудаком, который смотрит на холмы, а пишет: «в долинах»?
Но именно это замечание редакция не пропустила, вычеркнула. Солоухин обидится, – сказали мне.
Он позвонил мне после выхода рецензии. Благодарил. Я сказал ему о не пропущенном редакцией замечании. Он посмеялся, а потом посерьёзнел и сказал, что я прав и что он обязательно посмотрит варианты пушкинского стихотворения.
А личная моя встреча с ним состоялась лет через восемь, когда он заходил в «Литературную газету». К тому времени из написанного им мне нравились «Владимирские просёлки» и «Третья охота», опубликованная в журнале «Наука и жизнь». «Третья охота» даже, пожалуй, больше всего. Я сам грибник и оценил, с каким вкусом пишет Солоухин о сборе грибов, как учит отличать съедобные от несъедобных, какие даёт подчас неожиданные рецепты, как лучше их приготовить.
Он держался приязненно, хотя сказал, что оценивает свои «Письма из Русского музея» выше «Третьей охоты», явно приглашая меня восхититься и этими «Письмами», но они меня не восхищали. Работы профессиональных искусствоведов нравились мне больше. К тому же я уже тогда ощущал на этой книге Солоухина лёгкий налёт шовинизма. Хотя солоухинский сокурсник, мой старший товарищ Эма Коржавин, это и отрицал.
В дальнейшем мы, не сблизившись, всё больше отдалялись друг от друга. Позиция Владимира Алексеевича Солоухина, родившегося 14 июня 1924 года, вырисовывалась всё чётче по мере появления его в редколлегиях таких журналов, как «Молодая гвардия» или «Наш современник».
Правда, когда в перестройку появилась его книга «При свете дня», и мой начальник, у которого я работал заместителем, член редколлегии «Литературки» Игорь Золотусский восхитился ею: «Никто с такой страстной ненавистью не писал ещё о большевиках!», Солоухин снова появлялся у нас в газете, часто звонил. Но никакого дружеского общения у меня с ним не получилось. Наоборот. В той же книге «При свете дня» мне очень не понравилось, с какой сладострастной ненавистью раскапывал Солоухин еврейские корни Ленина: чувствовал я, что не просто Ленина ненавидит Солоухин, но ненавидит Ленина-еврея!
Ну, а когда я прочитал его книгу «Последняя ступень», которую напечатали только в 1995-м – через два десятка лет после того, как она была написана (автор ещё был жив, он умер 4 апреля 1997) и которую в патриотических кругах было модно сравнивать с солженицынским «Архипелагом Гулаг», Солоухин вызвал во мне отвращение, даже гадливость, как чудовищный провокатор. А как же ещё если не провокацией, не призывом к погромам назвать юдофобское кредо главного героя книги, который открывает глаза её автору на то, что и автор соглашается считать истиной:
«Строго говоря, Гитлер и его движение возникло как реакция на разгул еврейской экспансии, как сила противодействия. Дальше медлить было нельзя. И так уж дело дошло до края, до пропасти, когда появился Гитлер, который называл себя последним шансом Европы и человечества. Это была судорога человечества, осознавшего, что его пожирают черви, и попытавшегося стряхнуть их с себя…
А теперь уже поздно. Теперь уже – рак крови. Парадоксально, что идеи побеждённого Гитлера воспринял было Сталин, который собирался решать еврейский вопрос. Дело в том, что он всё равно не мог бы его решить за пределами своего государства. Что из того, что он даже и физически уничтожил бы евреев на территории СССР. Это не изменило бы общей картины, общего соотношения сил на земном шаре. А добраться до Америки, Франции, Англии у него руки всё равно были коротки. Добраться до них мог бы только Гитлер в союзе с Италией, Японией, остальной Европой, да ещё если бы мы, дураки, вместо того, чтобы воевать с ним… Между прочим, Сталин поверил в такой союз, он поверил приглашению Гитлера совместно решать основной вопрос человечества. Но Гитлер в этом приглашении был неискренен. Он надеялся, что в союзе с ним в результате молниеносной войны окажется не СССР, а Россия уже без Сталина, без большевиков.
Теперь же – оглянись вокруг… Видишь ты хоть одну личность, хоть одно государство, которое могло бы прийти на помощь человечеству и вылечить его от этой страшной болезни. Все политические деятели – мелочь и шушера… А как евреи потирали руки, когда удалось им свалить Гитлера, удалось победить ту железную, организованную и целенаправленную силу. Они победили её, как всегда, чужими руками и чужой кровью, главным образом опять же российской. Наверное, ты знаешь, что американцы в той войне потеряли двести пятьдесят тысяч человек, англичане около трёхсот, немцы четыре с половиной миллиона, а наши сорок четыре по незаниженным цифрам. Не знаю, сколько погибло японцев и итальянцев, наверное, тоже немало, но те хоть отстаивали свою идею, причём конкретную идею, а нас гнали в огонь против железных рыцарей, идущих нас же, дураков, вызволять из беды…
Но теперь уже поздно. Я не вижу на земном шаре силы, личности, которая могла бы спасти положение. Евреи это знают и ничего уже не боятся. Они делают что хотят. Они немного побаиваются китайцев. Но самую малость. Уж если удалось сломить Гитлера… К тому же продолжает существовать СоветскийСоюз. Я думаю, следующий ход в шахматной партии будет такой: нас, то есть Советский Союз, стравят с Китаем. Они это делают. Недаром Киссинджер уже ездит и лично тайно шушукается с Мао Цзедуном. Если они видят в Китае силу, они попытаются её уничтожить. А чем? А как? Столкнуть два огромных государства. Тогда они долго будут глядеть со стороны, как мы истребляем друг друга, и в конце концов помогут, возможно, нам. Но помогут, когда мы потеряем миллионов шестьдесят, да и китайцы миллионов сто двадцать. Помогут они нам не потому, что любят нас больше, а потому, что с нами всё же, как с людьми белыми, легче потом иметь дело. Тогда их торжество будет окончательным и полным».
Как хотите, но это написано людоедом!
* * *
Книжку «Хижина дяди Тома» я полюбил в детстве. И тогда же проникся ненавистью к расизму. Я верил сталинской пропаганде, что расизм торжествует в США. Об этом свидетельствовал и спектакль «Снежок», который мы с классом ходили смотреть в Театр юного зрителя. Об этом писал и мой любимый поэт Маршак в стихотворении «Мистер Твистер». А сколько карикатур на эту тему я видел в «Правде»: белый господин, крючконосый с перекошенным от злобы толстым лицом и в цилиндре, как бы обёрнутым американским флагом, что-то выговаривает темнокожему рабочему с благородным, печальным выражением лица или даже попирает этого темнокожего ногами. Карикатуры сопровождались убийственными для белого расиста стихами, которые писали Сергей Михалков, тот же Самуил Маршак…
Из их стихов и из прозаических подписей под карикатурами я узнал, что расиста этого зовут дядей Сэмом и что таких дядюшек Сэмов в Америке большинство. Они и противостоят своей ненавистью и злобой полюбившемуся мне дяде Тому из книжки Бичер-Стоу.
Значительно позже я узнал, что Гарриет Бичер-Стоу, родившаяся 14 июня 1811 года, описала положение дел в Америке в середине XIX века, ещё до Гражданской войны интернационального Севера страны, выступавшего против рабства чёрного населения, с расистским Югом, где такое рабство процветало. Что Авраам Линкольн, лидер победивших северян и ставший президентом Соединённых Штатов, не просто ценил «Хижину дяди Тома», но сказал, что из-за этой книги Бичер-Стоу и началась Гражданская война. И что это соответствовало истине, потому что «книжка этой маленькой женщины» (А. Линкольн) разошлась в первый же год неслыханным в то время тиражом в 350 тысяч экземпляров и продолжала выбрасываться издателями на книжный рынок не только Америки, но и многих стран мира уже и после смерти автора, случившейся 1 июля 1896 года. Узнал я и о том, что расизм в Америке выдавливался постепенно, и что в детские мои годы там в некоторых штатах сохранялись предупредительные таблички «только для белых», препятствующие доступу негров в такую-то школу, в такой-то клуб, на такие-то места в общественном транспорте. Но цивилизованные власти США боролись и с этими расистскими проявлениями, искореняли их.
Ну, а о том, насколько удачно они в этом преуспели, говорят два срока на посту Президента США Барака Обамы, афроамериканца, как толерантно принято теперь в Америке называть темнокожих граждан.
* * *
«Как часто факты скрывают истину. Может быть, это и глупо […] но я никогда не мог поверить в этого, как его там зовут в уголовных рассказах?… Да, Шерлока Холмса. Несомненно, каждая деталь указывает на что-либо, но обычно совсем не на то, что нужно. Факты, мне кажется, как многочисленные ветви на дереве, могут быть направлены в любую сторону. Только жизнь самого дерева объединяет их, и только его животворные соки, струящиеся ввысь, подобно фонтану, дают им жизнь».
Эту фразу произносит судья Бэзил в раннем рассказе Г.К. Честертона «Невероятные приключения майора Брауна».
Да, Гильберт Кийт Честертон, умерший 14 июня 1936 года (родился 29 мая 1874-го), тогда ещё не определился с героем. Это потом имя Брауна прочно закрепится за патером. И отец Браун Честертона заставит с неменьшим интересом и напряжением следить за своей логикой, чем заставляет это сделать читателя Шерлок Холмс Конан-Дойля. А в раннем своём рассказе роль детектива Честертон определил судье Бэзилу, которому будет вторить его наследник патер Браун:
– Я думаю, что самое трудное – это убедить кого-нибудь в том, что ОхО=О. Люди верят самым странным вещам, если они идут подряд. Макбет поверил трём словам трёх ведьм, несмотря на то, что первое он сказал им, а последнее он мог осуществить только впоследствии.
Главный конёк детектива Честертона – его безукоризненная логика. Причём мыслит отец Браун в полном соответствии с догматами христианской веры.
Тем более это ему легко было сделать, что сам Честертон был глубоко верующим человеком, написал религиозно-философские трактаты, посвящённые апологии христианства «Что стряслось с миром», «Ортодоксия»), книги о великих учителях церкви («Св. Франциск Ассизский», «Св. Фома Аквинский»).
Всего Честертон написал около 80 книг. Он работал во всех литературных жанрах, писал стихи, рассказы, эссе, пьесы, романы. И всё делал великолепно.
Закончу стихотворением Честертона в переводе Григория Кружкова:
ПОСВЯЩЕНИЕ Э. К. Б. Мы были не разлей вода, Два друга – я и он, Одну сигару мы вдвоём Курили с двух сторон. Одну лелеяли мечту, В два размышляя лба; Всё было общее у нас — И шляпа, и судьба. Я помню жар его речей, Высокий страсти взлёт, Когда сбивался галстук вбок, А фалды – наперёд. Я помню яростный порыв К свободе и добру, Когда он от избытка чувств Катался по ковру. Но бури юности прошли Давно – увы и ах! — И вновь младенческий пушок У нас на головах. И вновь, хоть мы прочли с тобой Немало мудрых книг, Нам междометья в трудный час Приходят на язык. Что нам до куколок пустых! — Не выжать из дурёх Ни мысли путной, сколько им Ни нажимай под вздох. Мы постарели наконец, Пора и в детство впасть. Пускай запишут нас в шуты — Давай пошутим всласть! И если мир, как говорят, Раскрашенный фантом, Прельстимся яркостью даров И краску их лизнём! Давным-давно минули дни Унынья и тоски, Те прежние года, когда Мы были старики. Пусть ныне шустрый вундеркинд Влезает с головой В статистику, и в мистику, И в хаос биржевой. А наши мысли, старина, Ребячески просты; Для счастья нужен мне пустяк — Вселенная и ты. Взгляни, как этот старый мир Необычайно прост, — Где солнца пышный каравай И хороводы звёзд. Смелей же в пляс! и пусть из нас Посыплется песок, — В песочек славно поиграть В последний свой часок! Что, если завтра я умру? — Подумаешь, урон! Я слышу зов из облаков: «Малыш на свет рождён».15 ИЮНЯ
В день рождения Лицея 1825 года, обращаясь к своим друзьям-лицеистам, Пушкин писал:
Пируйте же, пока ещё мы тут! Увы, наш круг час от часу редеет; Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет; Судьба глядит, мы вянем; дни бегут; Невидимо склоняясь и хладея, Мы близимся к началу своему… Кому ж из нас под старость день Лицея Торжествовать придётся одному?«Торжествовать», то есть отмечать лицейскую годовщину одному, выпало Александру Михайловичу Горчакову, достигшему при Александре II вершины государственной карьеры: он был назначен канцлером. А до этого занимал пост министра иностранных дел и сохранял его почти до самой смерти.
Ясно, что внешняя политика России в те времена во многом связана с именем князя Александра Михайловича Горчакова, родившегося 15 июня 1798 года.
Многократный посол при Николае I во многих государствах, он назначен был Александром II министром иностранных дней сразу же после окончания бесславной Крымской войны.
Правда, некоторые нынешние историки вовсе не считают Крымскую войну бесславной, не признают поражения в ней России. Несколько лет назад я прочёл в газете «Аргументы и факты» о том, что некая конференция, посвящённая знаменитой Крымской войне 1853–1856 гг., пришла к выводу, что русские в ней победили. «Старá шутка!», – как кричали булгаковские герои. До этой конференции о Крымской войне иначе не говорили как о «позорной» для русского оружия. Но вот устроители конференции – Центр национальной славы России и фонд Андрея Первозванного – стали утверждать, что это выдумка советских историографов. Что не преследовало правительство Николая I в Крымской войне никаких экономических или политических целей: «Стоит прочитать те же императорские манифесты о её начале и прекращении, из которых видно: главная цель войны, декларируемая в первом документе, – обеспечение традиционных прав Православной церкви на Святой земле. И она же в результате достигнута полностью».
Императорские манифесты, конечно, лучшее свидетельство того, ради чего затевали войну и ради чего её закончили. В них столько же правды, сколько в известной речи Сталина на параде 7 ноября 1941 года: «В Германии теперь царят голод и обнищание, за 4 месяца войны Германия потеряла 4 с половиной миллиона солдат. Германия истекает кровью, её людские резервы иссякают, дух возмущения овладевает не только народами Европы, подпавшими под иго немецких захватчиков, но и самим германским народом, который не видит конца войны».
Мне скажут: а что же оставалось делать Сталину, который напутствовал уходящих на фронт солдат? Он врал, чтобы ободрить армию.
Вот и царские манифесты о начале и прекращении войны врали, чтобы ободрить подданных. Но своей цели не достигли. Ведь это не советский историк Е. В. Тарле, а великий русский поэт Фёдор Иванович Тютчев оценил итоги Крымской войны и роль царя в ней: «Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злополучного человека».
Как и Николай I, Тютчев был убеждён, что «Москва и град Петров, и Константинов град – / Вот царства русского заветные столицы…» Тютчев жаждал войны с Турцией за Константинов град, то есть за Константинополь, захваченный турками и переименованный ими в Стамбул в 1453 году, торопил с этой войной правительство Николая, не сомневаясь, что Россия сумеет реализовать свои (или его) панславистские амбиции:
Не верь в святую Русь кто хочет, Лишь верь она себе самой, — И Бог победы не отсрочит В угоду трусости людской. То, что обещано судьбами Уж в колыбели было ей, Что ей завещано веками И верой всех её царей, — То, что Олеговы дружины Ходили добывать мечом, То, что орёл Екатерины Уж прикрывал своим крылом, — Венца и скиптра Византии Вам не удастся нас лишить!Удалось, однако! Ни византийского «венца и скиптра», ни контроля над проливами Николай получить не смог. Русская эскадра была разгромлена, Севастополь лежал в руинах. Более чем вероятно много раз высказанное предположение, что поражение русской армии привело императора, отличавшегося отменным здоровьем, к скоропостижной кончине. Подписанный в Париже мирный договор, по которому Россия лишилась значительных своих территорий и своего влияния на Балканах, победным можно назвать только при очень разгорячённом воображении! Мирный договор объявлял Чёрное море нейтральным и запрещал России иметь там военный флот и какие-либо военные базы. Этот запрет, как написал автор газеты, о которой я веду сейчас речь, «был фактически преодолён спустя 15 лет». Да, Лондонская конвенция от 17 марта 1871 года разрешила России и Турции держать военные суда в Чёрном море. Однако запрещала России их хождение через проливы. Это было несомненным дипломатическим успехом канцлера Горчакова. А всё-таки, хорошо это или плохо, что 15 лет Россия не имела возможности защитить свои черноморские берега? Это что – свидетельство победы русского оружия?
Впрочем, возмущаться нынешними историками бессмысленно. Они обслуживают государственный заказ. А теперешние власти заказывают историю всегдашних побед России. Вот и крутятся официанты от истории, вполне по-орвуэлловски доказывая, что любое российское поражение обернулось для страны победой.
Горчаков очень много сделал для смягчения и отмены многих положений парижского трактата, подписанного после поражения России в Крымской войне. И благодарный ему Ф.И. Тютчев писал после отмены статьи Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря:
Да, вы сдержали ваше слово: Не двинув пушки, ни рубля, В свои права вступает снова Родная русская земля — И нам завещанное море Опять свободною волной, О кратком позабыв позоре, Лобзает берег свой родной.Надо отметить многолетнюю дружбу Горчакова с Бисмарком, которая позволила России подавить польское восстание, на стороне которого выступили Англия, Австрия и Франция, а Пруссии – начать и выиграть войну с Францией, после чего и была отменена статья Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря. В этом Горчаков опирался на поддержку Бисмарка. В 1872 году был оформлен тройственный союз России, Пруссии и Австрии.
А в 1877 году Россия развязала новую войну с турками, которая показала, что любая дружба политических деятелей способна дать и непременно даст трещину. Бисмарк вовсе не стремился усилить Россию. По Сан-Стефанскому мирному договору (3 марта 1878 года) была создана Болгария, но Сербия и Черногория увеличивались лишь небольшими прирезками, а Босния с Герцеговиной оставались под турецким владычеством. Таким образом балканские народности, которых поддерживала Россия и которые понесли в этой войне большие жертвы, были по настоянию Бисмарка лишены многих плодов побед.
Престарелый Горчаков (он умер 11 марта 1883 года) ещё смог добиться того, чтобы на Берлинском конгрессе (1 июня – 1 июля 1878) года России была возвращена часть Бессарабии. Но отношения с Пруссией были испорчены, что и доказал Бисмарк, заключивший через год в Вене союз против России.
Но в дипломатической истории России Александр Михайлович Горчаков оставил яркий след, подтвердив пророчество, высказанное юным Пушкиным в стихах, обращённых к лицейскому другу:
Тебе рукой Фортуна своенравной Указан путь и счастливый, и славный…* * *
В моей студенческой молодости огромным успехом пользовался спектакль «Карьера Артура Уи» по пьесе Бертольда Брехта, поставленный Сергеем Юткевичем в студенческом театре МГУ. Не называя фашистов по их реальным именам, Брехт весьма достоверно вывел их коварных и бесчеловечных вождей. Режиссёрское решение Юткевичем иных сцен спектакля потрясало.
Ах, как ласков с оппонентом человек в безукоризненно чёрном костюме с бутоньеркой в петлице! Они расхаживают по сцене, человек в чёрном успокаивает собеседника, чем-то его обнадёживает. Вот они остановились в середине сцены. Человек в чёрном вытаскивает красную гвоздику из петлицы, внюхивается в неё и в знак того, что всё будет хорошо, улыбаясь, вручает её оппоненту. И вдруг на наших глазах оппонент начинает опускаться вниз, как в открытом лифте, в яму, откуда бьёт электрическое пламя. Он исчезает там внизу, а на выровненной сцене появляется очередная пара: человек в чёрном костюме с бутоньеркой и его оппонент.
Вы поймёте, почему я вспомнил эту сцену, если прочтёте выдержку из воспоминаний руководителя венгерской полиции в 1956 году Шандора Копачи. Их цитирует мой приятель Игорь Минутко в своей книге «Юрий Андропов. Реальность и миф», в той главе, где рассказывается о том, как с подачи посла Андропова советские войска подавили народное восстание в Венгрии.
«Никогда не забуду последнюю встречу с этим страшным человеком, – пишет Ш. Копачи. – Так произошло – она случилась в последний день нашей революции. Вместе с женой я торопился в югославское посольство, где мы надеялись получить политическое убежище. Прямо на улице нас задержали агенты КГБ и доставили в советское посольство. Встретил нас Андропов, радушный, приветливый, как будто мы званые дорогие гости и он чрезвычайно рад нашему появлению. Он пригласил нас к столу «на чашку чая» и, улыбаясь, сказал, что вот Янош Кадар формирует новое правительство, и что он очень хотел видеть в нём полковника Копачи. Я поверил советскому послу. «Время тревожное, – сказал он. – Если хотите, мы предоставим вам машину, и вы будете доставлены к главе нового правительства». Я согласился. К подъезду была подана бронемашина. Я на всю жизнь запомнил, никогда не забуду Андропова в последнюю минуту нашей последней встречи: он стоял на верхней площадке лестницы, улыбался мне, махал на прощание рукой… Советская бронемашина доставила меня прямиком в тюрьму, из которой я вышел по амнистии семь лет спустя, в 1963 году».
Можно вспомнить и о других не менее впечатляющих эпизодах из жизни Юрия Владимировича Андропова, родившегося 15 июня 1914 года.
Через несколько месяцев после окончания «незнаменитой» советско-финской войны в недавно образованную Карело-Финскую ССР был послан на партийную работу Андропов. Его избрали первым секретарём комсомола республики. Задачей комсомольского вожака было сколачивать подпольные группы для переброски на территорию врага, которым с июня 1941-го стала гитлеровская Германия.
Потом уже работавшие с Андроповым сотрудники изумлялись: практически все из них писали заявления с просьбой направить их в действующую армию, многих направили, некоторых по болезни оставили. Андропов страдал почечной болезнью. Возможно, подай он заявление, его бы отклонили. Но, как свидетельствуют его бывшие сотрудники, он не только такого заявления не подал, но бледнел всякий раз, когда нависала над ним угроза лично выехать в партизанский отряд, проверить надёжность партизан. О том же вспоминает и Геннадий Николаевич Куприянов, первый секретарь ЦК ВКП(б) Карело-Финской республики, который лично уберёг руководителя партизанского движения в республике Андропова от командировок на фронт.
Сам Куприянов с началом Отечественной вошёл в Военный совет 7-й армии, потом в Военный совет Карельского фронта. Получил звание бригадного, после дивизионного комиссара, а после отмены этих званий стал в конце 1942 года генерал-майором. Протежировал понравившемуся ему Андропову, который с подачи Куприянова в сентябре 1944 года стал вторым секретарём Петрозаводского обкома партии, а в январе 1947-го избран вторым секретарём ЦК партии К-Ф ССР.
Но здесь звезда Куприянова закатилась. Он перешёл в Карелию из Ленинграда, где последним местом его работы был Куйбышевский райком, который он возглавлял. Маленков, враждовавший со Ждановым, после ждановской смерти создал так называемое «ленинградское дело», которое погубило многих бывших ленинградцев. Больно затронуло оно и Куприянова, который был снят со своего поста. На республиканском партийном пленуме особенно резко против Куприянова выступает его любимец Андропов. Через некоторое время Куприянова арестовывают, избивают на допросах, приговаривают к смертной казни, заменённой Военной Коллегией Верховного суда на 25 лет лагерей, помещают в Инту, потом переводят в тюрьму, смягчают приговор до 10 лет.
Но освободился Г.Н. Куприянов в 1956 году. Реабилитирован в 1957-м. Попытался встретиться с бывшим своим любимцем, который в то время работал завом отделом социалистических стран ЦК КПСС. Куприянову было что сказать Андропову. Помимо памятного ему выступления Андропова на пленуме, следователь показал Куприянову и что написал в органы второй секретарь республики о деятельности первого секретаря. Очевидно, и Андропову понятны были мотивы Куприянова, жаждущего их встречи. Поэтому он от неё уклонился, Не отвечал на письма, которыми поначалу бомбардировал его Куприянов. Написал Куприянов и в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Оттуда ответили, что приведённые им факты не подтвердились.
Проклял Куприянов своего бывшего любимца. Да тому с его проклятия воду не пить!
Ну, а что до работы Андропова на посту председателя КГБ, то многие вспоминают о компроматах, которые собирал Андропов на высшее руководство. Но так никому и не навредил. Боялся действовать без указания Брежнева. А для Брежнева Андропов был полезным работником – и не более того. Особенно оценил Брежнев борьбу Андропова с инакомыслящими, для которой Председатель КГБ в недрах своей организации создал ставшее знаменитым Пятое управление.
Андропову повезло: незадолго до смерти Брежнева умер второй секретарь ЦК Суслов. Больной, мало что воспринимающий Брежнев согласился на то, чтобы вторым секретарём был избран Андропов. (Официально должности второго секретаря не было. Но так называли того, кто председательствовал на заседаниях секретариата ЦК и отвечал за идеологическую политику партии.)
Дальше – известно и памятно. Брежнев умирает в том же году, что и Суслов. Андропов автоматически становится Генеральным секретарём ЦК и Председателем Верховного Совета. Во внешней политике занимает человеконенавистническую позицию. Прерывает переговоры с Западом о дальнейшей разрядке международной напряжённости. Отдаёт приказ сбить пассажирский южнокорейский самолёт, отклонившийся от курса и оказавшийся в дальневосточном небе СССР. Все пассажиры, в том числе женщины и дети, и весь лётный состав погибают. Произносит воинствующие речи. Но очень скоро участникам пленума ЦК КПСС предложено прочитать его речь, которую произнести ему оказывается не под силу. Он прикован к больничной койке, подключён к искусственной почке. Болезнь его смертельная. Процарствовал чуть больше года. Умер 9 февраля 1984 года.
Мне думается, что Небеса поставили его руководителем, чтобы граждане увидели, каким будет чекист на вершине, получили, так сказать, урок. Впрок он гражданам России не пошёл.
16 ИЮНЯ
Известность Константин Дмитриевич Бальмонт, родившийся 16 июня 1867 года, приобрёл поначалу скандальную после выхода в 1900 году его пятого стихотворного сборника «Горящие здания». С подзаголовком: «Лирика современной души». До этого его книги обратили на себя внимания лишь немногих. Да и стихи в них были во многом подражательные или написанные без особого лирического напряжения – без внятного повода, по которому они не могли не возникнуть.
И вдруг – «Горящие здания»! Посылая этот сборник Л.Н. Толстому, Бальмонт писал: «Эта книга – сплошной крик души разорванной и, если хотите, убогой, уродливой. Но я не откажусь ни от одной её страницы, и – пока – люблю уродство не меньше, чем гармонию».
Человеческая страсть стала главным героем этой книги, о которой много спорили критики. Многое в ней было непривычным: эротические мотивы, уверенное воскрешение в стихах разных эпох и времён – древней Руси, Ивана Грозного, Бориса Годунова, воссоздание исландского, испанского, индийского колорита.
Николай Гумилёв, который пока что не встал во главе нового течения акмеистов, приветствовал книгу Бальмонта как поэтический манифест символистов. В статье «Вожди новой школы» он с восторгом писал о новых – «кинжальных» словах Бальмонта: «…«дьяволы, горбуны, жестокости, извращённости», буйно ворвавшиеся в мирно пасущееся стадо старых слов, всех этих «влюблённостей, надежд, вер, девушек, юношей, цветов и зорь».
Понятно, что Бальмонт услышал в свой адрес и резкую критику, но она не сбила читательскую волну интереса к нему, как к лидеру символистов. И Бальмонт поспешил развить свой успех, дав следующей книге «Будем как Солнце» подзаголовок «Книга символов».
Впоследствии Бальмонта стали называть старшим символистом, объединяя его с В. Брюсовым, Ф. Сологубом, З. Гиппиус, Д. Мережковским.
Конечно, это очень разные поэты. Но в начале века их объединяло отрицание действительности или изображение реальной жизни как уродливой и скучной. Они воспевали мечтательность и красоту. А главное – они стремились передать тончайшие оттенки настроений и впечатлений (как импрессионисты в своих полотнах и в своих мелодиях). Слово их интересует прежде всего своей музыкальной стороной, отсюда любовь того же Бальмонта к аллитерации (ещё в 1894 году Бальмонт написал позже ставшие знаменитыми строчки: «Ветер. Взморье. Вздохи ветра. / Величавый возглас волн. / Близка буря. В берег бьётся / Чуждый чарам чёрный чёлн. / Чуждый чистым чарам счастья / Чёлн томленья, чёлн тревог…» и т. п.).
Ещё несколько книг Бальмонта поддержали его популярность. А после он надоел любителям. Уже о книге 1906 года «Злые чары» Брюсов пишет: «Основной недостаток «Злых чар» – отсутствие свежести вдохновения. Бальмонт повторяет сам себя, свои образы, свои размеры, свои приёмы, свои мысли». Следующую книгу «Жар-птица» критикует М. Волошин: «Одной из ошибок бальмонтовской «Жар-птицы» было то, что синтаксис речи оставался бальмонтовский и обличал подделку».
К тому же на пятки старшим символистам наступали младшие: А. Белый, А. Блок, Эллис, С. Соловьёв, В. Иванов. Они позиционировали себя учениками поэта и философа Владимира Соловьёва, который писал о существовании двух миров: Мира Времени как мира Зла и Мира Вечности как мира Добра. Задача состояла в том, чтобы найти выход из Мира Времени в Мир Вечности. Выход в полном соответствии с учением Соловьёва они видели в воспевании Божественной Красоты, Вечной Женственности, Души Мира, Солнца Любви.
Бальмонта, однако, эти мотивы не интересовали. Время было предгрозовым, революционным. И Бальмонт откликнулся на время не только своими стихами. В марте 1901 года он принял участие в петербургской студенческой демонстрации, которая требовала отмены царского указа, предписывающего отправлять неблагонадёжных студентов на воинскую службу. 14 марта на литературном вечере он прочёл стихотворение «Маленький султан», в котором в аллегорической форме критиковал режим Николая II. Стихи разошлись по спискам. «Особое совещание» постановило выслать Бальмонта из Петербурга и лишить его права проживать в течение трёх лет в столичных и университетских городах. В 1905 году он, по собственным словам, «принимал некоторое участие в вооружённом восстании в Москве, больше – стихами». Он сближается с Горьким, сотрудничает с его социал-демократической газетой «Новая жизнь». В 1906-м уезжает в Париж, считая себя политическим эмигрантом. И только в 1913 году после амнистии политическим эмигрантам по случаю трёхсотлетия дома Романовых он возвращается в Москву.
Февральскую революцию Бальмонт приветствовал, а Октябрьскую – нет. За три года проживания после неё в России ему пришлось бедствовать, а на вопрос: почему он не печатается? – отвечать: «Не могу печататься у тех, у кого руки в крови».
Однако написал стихотворение «Песнь рабочего молота» и прочёл его 1 мая 1920 года в Колонном зале в Москве. Он уже стал держаться лояльно по отношению к новой власти: работал в Наркомпроссе, готовил к печати свои стихи и переводы, читал лекции. Но похоже, что этим он пытался усыпить бдительность властей, к которым обратился с письмом с просьбой отпустить семью за границу для лечения жены и дочери.
Получив, благодаря Луначарскому, разрешение временно выехать за границу в командировку, Бальмонт покинул Россию навсегда.
Жизнь в Париже поначалу осложнялась тем, что помнящие иные революционные поступки Бальмонта эмигранты подозревали в нём большевистского лазутчика. Бальмонт с горечью писал о жизни среди чужих. Но постепенно, подписывая антибольшевистские письма, требуя от российских властей восстановления демократических свобод в России, Бальмонт освободился от подозрений эмиграции, вошёл в её круг и продолжил печататься со стихами и автобиографической прозой.
Дело осложнилось психическим заболеванием Бальмонта, который в 1935 году попал в клинику. Гитлеровскую оккупацию семья Бальмонта встретила под Парижем, где в приюте «Русский Дом» поэт скончался 23 декабря 1942 года от воспаления лёгких.
* * *
Лазарь Иосифович Лагин скончался 16 июня 1979 года. Начинал печататься в 1922 году – в 19 лет (родился 21 ноября 1903 года) – со стихами в газетах. Показал стихи Маяковскому. Тот отнёсся к ним благожелательно. Даже интересовался спустя некоторое время при встречах с Лагиным, почему тот не несёт ему стихи.
Но Лагин перешёл на прозу. Написал цикл «Обидные сказки». Учился в Институте красной профессуры. Готовил в его аспирантуре диссертацию, но был отозван в редакцию газета «Правда».
С 1934 года стал заместителем главного редактора журнала «Крокодил».
Первая редакция его самой знаменитой книги «Старик Хоттабыч» была напечатана в 1938 году в журнале «Пионер». Вторая редакция увидела свет в 1955 году.
В годы Великой Отечественной был на фронте корреспондентом газеты «Красный черноморец». Участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска. Закончил войну в составе Дунайской флотилии в Румынии. В 1944 году награждён орденом Отечественной войны II степени.
После войны, кроме работы над второй редакцией «Старика Хоттабыча» и сценарием по этой повести-сказки, написал немало фантастических произведений.
Как скупо сообщает Википедия о Лагине, «в годы борьбы с «безродными космополитами» принял участие в травле театроведа И.Л. Альтмана».
Вот на этом его участии мне бы хотелось остановиться подробней. Благо об этом неоднократно писал в своих книгах мой старший товарищ покойный Бенедикт Сарнов. Большая цитата из Сарнова, главка называется «Голос из хора»:
«Ныне забытый, а тогда знаменитый драматург Анатолий Софронов начинал как поэт. И в одном из своих стихотворений замечательно выразил самое своё задушевное, воспев казачий «ремянный батожок»:
Принимай-ка, мой дружок, Сей ремянный батожок… Если надо – он задушит, Если надо – засечёт… … Бей, ремянный батожок, По сусалам, по глазам, По зубам и по усам… … Мой товарищ, мой дружок, Бей, ремянный батожок!Этим «ремянным батожком» тогда, в 1949-м, он нещадно лупил «безродных космополитов» и «по сусалам, и по глазам», и по прочим чувствительным местам.
Среди многих других «судов Линча», где вовсю гулял этот софроновский «батожок», особенно запомнился мне один. Много раз я пытался изобразить его на бумаге, но у меня ничего не получалось. И вдруг – наткнулся на рассказ о нём в книге Леонида Зорина «Авансцена». Переписываю его оттуда дословно.
«Помню, как партия изгоняла из неподкупных своих рядов несчастного Иоганна Альтмана. Председательствовал, как обычно, Софронов. Он возвышался над залом как памятник, дородный, могучий, несокрушимый, помесь бульдога и слона.
– Мы будем сегодня разбирать персональное дело Иоганна Альтмана, двурушника и лицемера, буржуазного националиста… Цинизм этого человека дошёл до того, что он развёл семейственность даже на фронте. На фронте! И жена его, и сын устроились во фронтовой редакции под тёплым крылышком мужа и папы. Впрочем, сейчас вам подробно расскажут.
На трибуне появляется тощий, с лицом гомункулуса, человечек:
– Всё так и есть, мы вместе служили, я наблюдал эту идиллию. Пригрел и свою жену, и сына.
Зал: Позор! Ни стыда, ни совести! Гнать из партии! Таким в ней не место!
Альтман пытается объясниться:
– Я прошу слова. Я дам вам справку.
Общий гул: Нечего давать ему слово! Не о чем тут говорить! Позор!
Альтман едва стоит. Он бел. Капли пота стекают с лысого черепа. Вдруг вспоминаешь его биографию: большевик, участник Гражданской войны. Статьи, которые он писал, были не только ортодоксальными, но и фанатически истовыми. Я вижу растерянные глаза, готовые вылезти из орбит, – он ничего не понимает.
Голос: Была жена в редакции?
Альтман: Была.
Голос: Был сын?
Альтман: Был и сын.
Рёв: Всё понятно. Вон с трибуны!
Альтман: Две минуты! Я прошу две минуты…
Наконец зал недовольно стихает. Альтман с усилием глотает воздух, глаза в красных прожилках мечутся, перекатываются в глазницах. Голос срывается, слова не приходят, он точно выталкивает их в бреду:
– Жена должна была ехать в Чистополь… С другими жёнами писателей… Но ведь она – старый член партии… Она стала проситься на фронт… Настаивала… Ну что с ней делать? Сорок шесть лет, кандидат наук… Всё-таки пожилая женщина. Поэтому я её взял в редакцию… Она работала там неплохо… даже получила награды… Возможно, ей надо было поехать вместе с другими жёнами в Чистополь. Возможно… Она не захотела… Я взял её в редакцию. Верно.
Он снова вбирает воздух в пылающее пересохшее горло.
– Теперь – мой сын… Когда война началась, ему было только пятнадцать лет. Конечно, он тут же сбежал на фронт. Его вернули. Он снова сбежал. Опять вернули. Опять он пытался. Он сказал: папа, я всё равно убегу. И я понял – он убежит. Что делать – так уж он был воспитан. Тогда я и взял его в редакцию. Просто другого выхода не было. И вот в возрасте пятнадцати лет четырёх месяцев, исполняя задание, мой сын был убит. Мой сослуживец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика… вместе со мной…»
Прочитав этот рассказ в книге Зорина, я подумал, что это, может быть, единственный случай, когда история, давно живущая в моей памяти и настойчиво требующая, чтобы я её записал, изложена так, что мне совсем не хочется переписать её по-своему. Лучше и точнее, чем это сделал автор «Авансцены», мне не написать. Но кое-что к тому, что вы только что прочли, я всё-таки хочу добавить.
– Этот человек… Он вместе со мной стоял на могиле моего мальчика… вместе со мной… – сказал Альтман. И замолчал.
Зал, битком набитый озверевшими, жаждущими свежей крови линчевателями, тоже молчал. И в этой наступившей вдруг на мгновение растерянной тишине как-то особенно жутко прозвучало одно короткое слово – не выкрикнутое даже, а просто произнесённое вслух. Не слишком даже громко, но отчётливо, словно бы даже по слогам:
– Не-у-бе-ди-тельно…
Слово это скрипучим своим голосом выговорил Лазарь Лагин, автор любимой мною в детстве книги «Старик Хоттабыч». И оно, как говорится, разбило лёд молчания.
Суд Линча продолжился».
Вспоминая о Лазаре Иосифовиче Лагине, не забудем ему этот эпизод. Никакой «Старик Хоттабыч» его не искупает.
* * *
«Декамерон» был написан не просто набожным, но художником, не мыслящим своей жизни без Веры, комментатором Дантовой «Божественной комедии» Джованни Боккаччо.
Кстати, Данте своё произведение оставил безымянным. Название – «Божественная комедия» – принадлежит Боккаччо, родившемуся 16 июня 1313 года.
Он дружил с Петраркой до самой смерти великого поэта, собирал, как тот, библиотеку, собственноручно переписал многие редкие рукописи, которые, увы, погибли во время пожара в монастыре. Кстати, он узнал, что в одном из монастырей монахи вырывают из древних манускриптов листы пергаментов, соскабливают текст на них и изготовляют псалтири и амулеты, зарабатывая на этом. Так что нечего удивляться его сатирическим портретам монахов в «Декамероне»: Боккаччо нетерпим к лицемерам, надевшим монашескую тогу.
Его недаром называют первым гуманистом эпохи Раннего Возрождения. Он написал множество произведений и трактатов. И если самым известным из них является «Декамерон», то потому что он оказал большое влияние на последующих писателей разных стран. Из «Декамерона», в частности, брал Шекспир сюжеты для своих произведений.
Умер Боккаччо 13 сентября 1375 года.
17 ИЮНЯ
Не помню, кто из поэтов привёл нас с Игорем Волгиным в квартиру Виктора Урина на Аэропорте. Кажется, покойный Алёша Заурих. Было это в начале шестидесятых. Урин только что закончил свой вояж по стране на «Волге» и с привязанным к машине орлом. Об этом писали газеты. Но в честь чего он затеял автопробег Москва-Владивосток с орлом на привязи, в памяти не удержалось. По случаю окончания вояжа Урин ежедневно принимал и угощал небольшие группы литераторов, которых потом просил расписаться на двери в комнате. Мы с Волгиным расписались. Но я вспоминаю сейчас эту встречу, потому что был на ней Михаил Аркадьевич Светлов, с которым я тогда и познакомился.
В квартире Урина говорил в основном хозяин. Светлов помалкивал. И пил не так уж много. Словом, тех своих качеств, о которых я был наслышан, – красноречия и пьянства – Михаил Аркадьевич не проявлял. Одобрил стихи, которые читали за столом хозяин и его гости, свои читать отказался. И грустно улыбался, как мне показалось, чему-то своему, что не имело отношения к тому, что происходило в квартире Виктора Урина.
Позже я несколько раз сидел с Михаилом Аркадьевичем в кафе ЦДЛ на высокой барной табуретке. «Орлами сидим, – комментировал Светлов, – а клюём, как голуби». Он имел в виду, что перед ним стояла небольшая рюмка водки, которую он выпивал не как я – в один дых, а маленькими глотками. Потом-то я понял, что был он уже на излёте. Пить много не мог. Пьянел от небольшой порции да так, что приходилось доставлять его домой на такси. Самостоятельно он до дому бы не добрался. «Я для тебя – обломок прошлого, – говорил он мне. – И добавлял после паузы: – Раритетный обломок. Как коралловый полип. Вот я приобщаю тебя к таинству. – Он клал свою руку на мою и слегка сжимал. – Эту руку, – говорил он о своей, – пожимал Маяковский. А Маяковский кому пожимал руку?
– Агранову? – спрашивал я.
– Горькому! – возглашал Светлов. И продолжал: – А Горький кому пожимал?
– Горький, – отвечал я, – кому только не пожимал руку!
– Ленину, – говорил Светлов.
– Сталину! – говорил ему я.
– Да, – морщился Михаил Аркадьевич. – Ах! – он уходил в себя: – Каким только мерзавцам мы не жали руки! – Но, – он ненадолго как бы выныривал из поглощающего его алкогольного дурмана, – про Ленина ты помни. Через меня ты пожимаешь руку Ленину.
Это и тогда не заставляло меня благоговеть, а сейчас я об этом вспоминаю с усмешкой.
Но Светлов держался за свои юношеские ценности.
Почему он вообще обратил на меня внимание? Потому что после той встречи у В. Урина он меня окликнул в фойе ЦДЛ после того, как поначалу, не узнавая, кивнул на моё: «Здравствуйте, Михаил Аркадьевич», а потом уже в спину: «Молодой человек, подойдите».
Я подошёл.
– Какие стихи Светлова вам нравятся? «Гренаду» и «Итальянца» прошу не называть.
Я ответил. Светлов удивился: «И можете прочесть наизусть?». Я прочёл. «Пошли!» – сказал Светлов. И мы в первый раз уселись с ним на высокие табуреты бара. «Сеня, – позвал Светлов, – высокого человека с большим горбатым носом. – Сядь, послушай». И рядом с ним сел, как потом я узнал, поэт Семён Сорин.
– Читайте снова, – сказал мне Светлов. – А ты, – обратился он к Сорину, – угадай автора.
– Читайте, – мне.
И я прочёл:
День сегодня был короткий, Тучи в сумерки уплыли, Солнце тихою походкой Подошло к своей могиле. Вот, неслышно вырастая Перед жадными глазами, Ночь большая, ночь густая Приближается к Рязани. Шевелится над осокой Месяц бледно-желтоватый. На крюке звезды высокой Он повесился когда-то. И, согнувшись в ожиданье Чьей-то помощи напрасной, От начала мирозданья До сих пор висит, несчастный… Далеко в пространствах поздних Этой ночью вспомнят снова Атлантические звёзды Иностранца молодого. Ах, недаром, не напрасно Звёздам сверху показалось, Что ещё тогда ужасно Голова на нём качалась… Ночь пойдёт обходом зорким, Всё окинет чёрным взглядом, Обернётся над Нью-Йорком И заснёт над Ленинградом. Город, шумно встретив отдых, Веселился в час прощальный… На пиру среди весёлых Есть всегда один печальный. И когда родное тело Приняла земля сырая, Над пивной не потускнела Краска жёлто-голубая. Но родную душу эту Вспомнят нежными словами Там, где новые поэты Зашумели головами.– Не узнаю, – сказал Сорин.
– Тогда уходи, – согнал его с табурета Михаил Аркадьевич. – Ты сегодня рюмку не заслужил! Светлова не узнал! Его хрестоматийное стихотворение «Есенину»! Ах, не хрестоматийное? – улыбнулся он в ответ на ворчание Сорина. – Ну, тогда тем более уходи.
А вспомнил я всё это в связи с днём рождения Михаила Аркадьевича. Он родился 17 июня 1903 года (умер 28 сентября 1964-го).
* * *
Судьба Леонида Ивановича Добычина, родившегося 17 июня 1894 года, более чем странна. Родился в небольшом городе Люцин (ныне Лудза). Детство провёл в Двинске, куда переехала семья. Учился в Двинском реальном училище, потом в Санкт-Петербурге.
В 1918 году семья Добычина переехала в Брянск, где будущий писатель работал мелким служащим. Начал писать. Впервые напечатал рассказы в 1924 году в ленинградском журнале «Русский современник». В Ленинграде же издал две книги рассказов «Встреча с Лиз» (1927) и «Портрет» (1931). Задыхался в провинциальной жизни. Стремился в Ленинград. Оказался в нём в 1933-м. Комнату на Мойке ему выделил Союз писателей. В 1935 году напечатал роман «Город Эн», где описал Двинск начала двадцатого века и своё детство в нём.
Но в марте 1936 года в ленинградском отделении Союза писателей началась дискуссия, носившая погромное название «О борьбе с формализмом и натурализмом». К удивлению Добычина, его роман «Город Эн» был разнесён в пух и прах главным редактором журнала «Литературный Ленинград» Ефимом Добиным и критиком Наумом Берковским. Наум Яковлевич Берковский в будущем станет крупнейшим литературоведом, специалистом по западной литературе. Но в то время, увы, он был вульгарным критиком, заявившим в той дискуссии, что «профиль добычинской прозы – это профиль смерти».
Растерянный Добычин вышел на трибуну, произнёс всего одну фразу: «К сожалению, с тем, что здесь было сказано, я не могу согласиться», но дальше говорить не смог. Рыдания сотрясали его. Он вышел из зала, и больше никто его не видел. Полагают, что он покончил самоубийством, бросившись в Неву 28 марта 1936 года.
«Город Эн» вновь появился в печати только с началом перестройки.
* * *
Вика, как рекомендовался он сам и как звали его все друзья и знакомые, – Виктор Платонович Некрасов родился 17 июня 1911 года. Жил в Киеве, окончил архитектурный факультет Киевского строительного института и параллельно обучался в театральной студии при театре. Работал актёром и театральным художником.
На фронте Великой Отечественной был полковым инженером и заместителем командира сапёрного батальона, участник Сталинградской битвы, демобилизован в звании капитана в начале 1945-го после ранения в Польше.
В 1946 журнал «Знамя» публикует его повесть «В окопах Сталинграда». Резко отличающаяся своей суровой правдой от множества слащавых или бездушных произведений о войне, повесть понравилась Сталину. Виктор Некрасов получил Сталинскую премию 2 степени. Он стал не просто членом Союза писателей, но председатель Союза писателей Украины Александр Корнейчук сделал молодого лауреата своим заместителем. Перед Виктором Платоновичем открылись сияющие номенклатурные перспективы.
Но демократичный, бескорыстный, любящий людей, правдивый со всеми и с самим собой Вика на номенклатурной должности пробыл недолго. Подал в отставку.
Его книга «В окопах Сталинграда» переведена на 36 языков мира. По мотивам повести и по сценарию Некрасова в 1956 году режиссёр Александр Иванов снял фильм «Солдаты», где одну из первых своих ролей сыграл Иннокентий Смоктуновский.
Однако в хрущёвское время произведения Виктора Некрасова всё чаще приходятся не ко двору. Его повесть «Кира Георгиевна», напечатанная в «Новом мире» (1959), вызывает шквал партийной критики. Он выступает со статьями, призывающими увековечить память десятков тысяч евреев, уничтоженных гитлеровцами в Бабьем Яру. Его обвиняют в «организации массовых сионистских сборищ», прорабатывают, указывают, что не только евреи лежат в этом безымянном массовом захоронении. На что Некрасов отвечает фразой, облетевшей всю страну: «Да, немцы расстреливали советских граждан. Но только евреи погибли за что, что они евреи!»
В 1967 году в «Новом мире» печатается очерк Некрасова «Дом Турбиных», где впервые назван адрес киевского дома семьи Михаила Булгакова. Через полгода корреспондент «Литературной газеты» в Киеве Григорий Кипнис повёл меня, приехавшего в Киев, по этому адресу. Меня поразила огромная людская река, как бы стекающая с холма, ведущая по Андреевскому спуску к дому № 13. «И так каждый день», – сказал Гриша. Тем не менее, государственный музей в доме официально открыли только в 1989 году.
В 1960 году Виктор Платонович побывал за границей в Италии, США и Франции. Описал свои впечатления в очерке «По обе стороны океана». И снова не попал в идеологическую струю: писал о зарубежной жизни и о людях, с которыми встречался, не через губу, как было тогда принято, а с живым неподдельным человеческим интересом к тому, что видел. Последовал идеологический окрик: «Известия» печатает статью Мэлора Стуруа «Турист с тросточкой», где писатель обвинён в «низкопоклонстве перед Западом».
На знаменитых встречах Хрущёва с интеллигенцией партийный вождь громит Виктора Некрасова за его очерки, напечатанные в «Новом мире». Волна партийной критики обрушивается на писателя, вступившего на фронте в компартию. Партком киевской организации Союза писателей объявляет ему выговор.
После снятия Хрущёва циркулируют слухи о готовящейся реабилитации Сталина. Она не удалась благодаря энергичному протесту 25 деятелей культуры и науки, направивших в 1966 году резкое письмо новому генсеку Брежневу. Среди авторов письма – В.П. Некрасов. (И ведь остановили в то время реабилитацию! Не дали восторжествовать сталинистам. Не то что сейчас, когда Путин согласился с неким ветераном, и Сталинград благополучно без протестов может быть возвращён на карту! Да и памятники тирану ставятся нынче беспрепятственно!) В 1969 году киевский партком Союза писателей вновь рассматривает персональное дело Виктора Некрасова. На этот раз ему ставят в вину либеральные высказывания. Новый выговор. 21 мая Киевский горком КПУ исключает Некрасова из партии. А спустя полгода на квартире Некрасова госбезопасность проводит обыск. Изымаются рукописи и литература, ходившая в самиздате или изданная за границей. Над Виктором Платоновичем сгущаются тучи.
Ему приходит приглашение от родного дяди – Николая Ульянова, живущего в Швейцарии, посетить страну. Некрасов с женой и пасынком подают документы на выезд из СССР. 12 сентября 1974 года Виктор Платонович покидает страну, в которую больше не вернётся.
Он много работает за границей. Семь лет был заместителем главного редактора журнала «Континент», почти до конца жизни сотрудничал с Анатолием Гладилиным в парижском бюро радиостанции «Свобода».
В начале восьмидесятых разделил судьбу многих эмигрантов – был лишён советского гражданства.
Отмечу весьма плодотворную работу писателя Виктора Некрасова. Его книги «Из дальних странствий возвратясь» (печаталась два года – 1979–1981 – в журнале «Время и мы»), повесть «Саперлипопет, или Если бы да кабы, да во рту росли грибы» (1983), наконец, «Маленькая печальная повесть» (1986) исключительно интересны и живописны. Уже после смерти писателя вышел его роман «Записки зеваки». Во Франции за заслуги в области литературы Виктор Некрасов стал кавалером Ордена искусств и литературы.
Скончался Виктор Платонович в Париже 3 сентября 1987 года.
Следует отметить заметки пасынка Некрасова Виктора Кондырева «Всё на свете, кроме шила и гвоздя: Воспоминания о Викторе Некрасове. Киев-Париж. 1972–1987». Они были изданы и у нас в 2011 году. Очень рекомендую. Написано с большой любовью к Виктору Платоновичу Некрасову, замечательному человеку, мужественному гражданину.
18 ИЮНЯ
С Варламом Тихоновичем Шаламовым, родившемся 18 июня 1907 года, меня познакомил в журнале «Юность» Олег Чухонцев. Это был 1965 год. Я внештатно работал в журнале «Семья и школа». И помогал ответственному секретарю журнала Петру Ильичу Гелозонии делать литературные страницы. С Петей Гелазонией мы оказались единомышленниками и быстро подружились. Петя горел желанием сделать журнал известным и потому жаждал заполучить в него хороших авторов. Главный редактор к Гелазонии благоволил. Поэтому одно время у меня оказалась такая возможность – печатать стихи и прозу авторов, которые тогда печатались в «Новом мире» и в «Юности» – лучших журналах того времени, или не печатались, но снискали известность у любителей литературы.
У Олега Чухонцева я стихи уже взял. Сейчас я попросил стихи у Варлама Тихоновича. Он отнёсся к моей просьбе очень серьёзно. Мы договорились, что он придёт со стихами ко мне домой.
Придя ко мне и усаживаясь, он улыбнулся и спросил: знаю ли я, чем знаменита типография, расположенная напротив моего дома. Я ответил: мне известно, что некогда она носила имя Бухарина и что нынешнее имя «Искра революции» она получила позже. (Сейчас дом, где она находилась, надстроили, и типографию из него вышвырнули.)
– В ней было напечатано завещание Ленина съезду, – сказал Шаламов. – С этого я начал мотать свой срок.
Оказалось, что, учась в МГУ на факультете права, Варлам Тихонович подрабатывал корректором и вычитывал в типографии гранки письма Ленина XIII съезду РКП(б), названного завещанием Ленина, потому что к открытию съезда в 1924 году Ленина уже не было в живых. Сталин добился, чтобы ленинское письмо было прочитано делегатами приватно. О публичном его обсуждении на съезде не упоминалось. Не было его и в опубликованных материалах съезда. Но перед XV съездом в ноябре 1927 года ленинское завещание напечатали в «Дискуссионном листке» – приложении к газете «Правда» и в бюллетене съезда ВКП(б). И то и другое было сделано вопреки решению XIII съезда: ленинского письма не публиковать. Репрессии последовали в год великого перелома, когда Сталин ломал хребет стране, – в 1929-м. Всех, так или иначе причастных к появлению письма, арестовали. Беспартийного Шаламова обвинили в участии в подпольной троцкистской группе и в распространении письма. Рассматривающее его дело Особое совещание при ОГПУ имело в то время право приговаривать к заключению в лагерь до трёх лет. Три года Шаламов и получил. Отбывал наказание в Вишерском лагере на Северном Урале.
В 1932-м Варлам Тихонович вернулся в Москву, работал в органах печати. Писал рассказы и стихи. Опубликовал свой первый рассказ «Три смерти доктора Аустино» в 1936 году в журнале «Октябрь».
Но в январе 1937 года он, уже имевший клеймо «троцкиста» был вновь арестован «за контрреволюционную троцкистскую деятельность», приговорён к пяти годам и послан на тяжелейшие работы в лагерь на Колыме. Лесоповал, прииски – всё это приводило к тому, что Шаламов неоднократно оказывался на больничной койке.
Во время войны заключённых не освобождали. Дела тех, у кого вышел срок, рассматривало опять-таки Особое совещание при НКВД (позже – в связи с переименованием ведомства – при МВД). 22 июня 1943 года Шаламов получает новый срок за «антисоветскую агитацию», выразившуюся в том, что в частном разговоре Шаламов назвал писателя-эмигранта Бунина классиком.
Но, как рассказывал Варлам Тихонович, ходить в троцкистах было неизмеримо опасней, чем в антисоветских агитаторах: никакой работы, кроме самой тяжёлой, троцкисты получить не могли.
А по новой статье заключённого могли послать и на более лёгкие работы, Этим воспользовался лагерный врач А.М. Пантюхов, с которым подружился Шаламов. По рекомендации Пантюхова Шаламов окончил восьмимесячные фельдшерские курсы и работал фельдшером в Центральной больнице для заключённых на левом берегу Колымы.
Варлам Тихонович рассказывал мне, как написал из лагеря Пастернаку, которого ценил как поэта. Пастернак не просто откликнулся, но присылал заключённому денежные переводы. «По тем временам это был очень смелый поступок», – говорил Шаламов. Освободившись из лагеря в 1951 году, Шаламов получил разрешение уехать с Колымы только в 1953-м.
В Москве бывшие заключённые проживать не имели права. Шаламов только и успел побывать у жены с дочерью и у Пастернака.
– От жены я ушёл в тот же день, как вернулся, – рассказывал мне Варлам Тихонович, – как только услышал от неё: «А всё-таки Сталин был великим человеком!».
А Пастернак ему помог: снабдил деньгами, дал к кому-то (не помню) рекомендательное письмо в Калининской области, куда направился на постоянное место жительства Варлам Тихонович. Он работал там мастером на торфоразработках, агентом по снабжению и писал свои знаменитые «Колымские рассказы», которые после того, как я напечатал в «Семье и школе» его подборку и мы подружились, давал мне читать.
Я запамятовал, написав в своих мемуарах, что мне удалось напечатать один из его рассказов в журнале «РТ-программы», где я недолго работал в 1966 году. Не удалось. Удалось только набрать рассказ «Академик», и Варлам Тихонович вычитывал его в полосе. Ошибся, потому что за недолгое время нам с Михаилом Рощиным (моим завом отдела) удалось напечатать много хороших вещей, и полоса с рассказом Шаламова отложилась в памяти, как опубликованная.
Мы сблизились. Гуляли по городу. Варлам Тихонович приходил ко мне домой или в «Литературную газету». Выяснилось, что он не любит Солженицына. Не признаёт даже его первой, поразившей всех вещи – повести «Один день Ивана Денисовича».
– Что он знает о лагере? – отмахивался Шаламов на моё недоумение. – Где он сидел? В шарашке? Лично он этого не пережил. Потому и вышла вещь подсахаренной.
Я удивлялся: «Что же в ней сладкого?» «А что горького? – парировал Варлам Тихонович. – В лагере не до интеллигентных разговоров о фильме Эйзенштейна. Лагерь не шарашка. Там одно только занимает, как бы тебе сегодня не сдохнуть!»
Шаламов знал, о чём говорил. Сталинские коллеги нынешней властной верхушки вывернули ему на допросах руки, порвали сухожилия, отчего ему, скособоченному, трудно было попасть рукою в рукав. Чекисты били его по ушам, повредив барабанные перепонки, – а слышал он плохо с детства: потому и били по самому больному. Он отплатил им за это сторицей. Его «Колымские рассказы» – натуральные физиологические очерки о ГУЛАГе воспроизводят такой кошмарный звериный быт, который недурно бы дать ощутить тем, кого зовут назад в советское прошлое. «Это наша история», – объясняют энтузиасты такого возврата. Что ж, пусть подталкиваемые ими люди, особенно молодёжь, почувствуют на примере непридуманной прозы Шаламова, какова была наша история! Хотел бы Солженицын, чтобы «Колымские рассказы» вошли в сознание читателей так же, как его «Архипелаг ГУЛАГ»? Не уверен. Войнович в книге «Портрет на фоне мифа» написал, что для Запада был Александр Исаевич невероятно авторитетен и что поэтому мог бы поспособствовать широкому изданию «Колымских рассказов». Мог бы, но делать этого не стал…
Я и сейчас не согласен с тем, как оценил Шаламов «Ивана Денисовича». Лично меня эта небольшая повесть перевернула. Очень сильное художественное произведение. По-моему, одно из лучших у Солженицына.
Писал Солженицын о том, как отрёкся от своих «Колымских рассказов» Варлам Шаламов, как напечатал отречение в «Литературной газете». Сломали? С одной стороны, несомненно. Но как ломали? Кажется, в нью-йоркском «Новом журнале» и в журнале «Грани» были напечатаны первые два или три его рассказа. Варлам Тихонович получал инвалидную пенсию – 80 рублей в месяц. Её задержали. А когда у Шаламова кончились все деньги, объяснили, что их у него и не будет, пока не подпишет он это написанное чекистами письмо. А не подпишет, пусть подыхает от голода. А не подохнет, ещё раз посетит знакомые места, где он провёл почти двадцать лет жизни. Махнул рукой Варлам Тихонович: пёс с вами, печатайте! Пенсию ему вернули. Приняли в Союз писателей, благодаря которому он провёл последние три года жизни в литфондовском пансионате для инвалидов и престарелых в Тушине, где и умер.
Но это, как я сказал, с одной стороны. «Мы так и поняли, – объяснял Солженицын поступок Варлама Тихоновича в сноске того тамиздатского «Архипелага ГУЛАГа», который я читал, – умер Шаламов» (в новом издании, которое стоит на моей полке, я не нашёл сноски. Может, Солженицын её снял?). А я так это не понимал. «Колымские рассказы» уже были переданы на Запад и жили своей жизнью. «Что бы ни заставили меня о них написать, – говорил Шаламов, – они есть. И читатели их когда-нибудь прочитают».
Что ж. Не было у Шаламова мировой известности. Не мог он поэтому не только диктовать свою волю палачам, но хотя бы вернуть себе те несчастные 80 рублей, чтобы не помереть с голоду. Гласно отрёкся от «Колымских рассказов», как некогда отрекался от Нобелевской премии его кумир Борис Леонидович Пастернак. Но тайно ждал, что их продолжат публиковать.
Кстати, отношения с Пастернаком у Шаламова ухудшились как раз после отречения Бориса Леонидовича от Нобелевской премии.
О письме в «Литературную газету» мне хотелось поговорить подробней, потому что, когда Варлам Тихонович встретился с Ириной Павловной Сиротинской и переехал к ней, поползли слухи, что Шаламов сам сочинил и отнёс в редакцию это письмо. И что вообще – Шаламов терпеть не может оппозиционно настроенной к власти интеллигенции, презрительно называет её «прогрессивным человечеством».
Недавно на одном из вечеров, посвящённом Варламу Тихоновичу, я снова услышал эту легенду. Мне кажется, что её сочинила Сиротинская.
Доказательств у меня нет, но убейте меня! – я никогда не поверю, что это сам Варлам Тихонович своей рукой написал: «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью…»! Слишком ответственно относился Шаламов к своему творчеству, чтобы его опорочить! Слишком трезво смотрел он на окружающую его жизнь, чтобы предстать перед людьми неизлечимым оптимистом, ничего в ней не понимающим!
Да и презирал он притворяющихся, актёрствующих в жизни: «Хитрожопость – вечная категория. Хитрожопые есть во всех слоях общества. Думают самодовольно: «А я вот уцелел – в огонь не бросался и даже рук не обжёг». Омерзительный тип. Да ещё думает, что никто не видит его фокусов втихомолку. Хитрожопый – вовсе не равнодушный. Уж как равнодушен Пастернак – хитрожопым он не был, не «ловчил».
Сиротинская много сделала для публикации наследия Шаламова. Но, думаю, что для пользы дела она распускала такие слухи. Наверное, ей казалось, что власти охотно будут печатать человека, уверяющего в своей лояльности к ним. Расчёт был (если, конечно, был, но я в его существовании уверен) – от непонимания, что такое для советской власти разрешить публикацию «Колымских рассказов». Она и не разрешала. Публикация их появилась только в годы перестройки, до которой Варлам Тихонович, увы, не дожил. И очень значительно: он умер 17 января 1982 года.
* * *
Об Иване Александровиче Гончарове, родившемся 18 июня 1812 года, авторе «Обрыва», «Обломова», «Обыкновенной истории», существует огромная исследовательская и критическая литература. И справедливо. Гончаров по праву считается классиком русской литературы.
Обращали внимание и на то, что Гончаров родился раньше Лермонтова. А умер, пережив всех писателей пушкинского периода и многих, явившихся в литературу позже. То есть дожил до вступления на литературную арену Фофанова, Случевского, – поэтов нереалистического направления, которое, правда, Гончарову было не по душе.
Но мне хотелось бы обратить внимание не на эти известные не только специалистам факты.
Гончаров умер 27 сентября 1891 года. А за два года до смерти пишет статью-завещание «Нарушение воли».
«…защищаю […] самого себя против посягательств на издание каких-нибудь моих посмертных бумаг», – провозглашает в этой статье Гончаров и Христом-Богом просит:
«Завещаю и прошу прямых и не прямых моих наследников, и всех корреспондентов и корреспонденток, также издателей журналов и сборников всего старого и прошлого не печатать ничего, что я не напечатал или на что не передал права издания и что не напечатаю при жизни сам, конечно, между прочим, и писем. Пусть письма мои остаются собственностью тех, кому они писаны, и не переходят в другие руки, а потом предадутся уничтожению».
Если нет у вас на полке, допустим, восьмитомного издания Гончарова, выпущенного «Художественной литературой», сходите в библиотеку, попросите 8-й том, откройте его, и вы найдёте статью «Нарушение воли», замыкающую первый раздел «Статьи, заметки, рецензии». А вслед за этой статьей идёт второй раздел, озаглавленный: «Письма»! Нарушили волю писателя. Зря он надеялся, что к нему прислушаются потомки.
* * *
Владимира Фёдоровича Матвеева, замечательного педагога, родившегося 18 июня 1932 года, я узнал, когда он работал заместителем главного редактора журнала «Пионер». Время тогда было брежневским, не способствующим какому бы то ни было новаторству, но среди материалов, которые печатал «Пионер», нет-нет, да и попадались нетривиальные, полезные для тех, кто имеет дело с детьми.
Десять лет после «Пионера» Владимир Матвеевич работал главным редактором «Мурзилки».
Но, получив в 1983 году «Учительскую газету», став её главным редактором, Матвеев сотворил чудо. В короткое время газета стала свободной трибуной учителя, на которой выступили многие замечательные педагоги. Вместе с Симоном Соловейчиком Матвеев в своей газете создал так называемую «педагогику сотрудничества», объединив вокруг газеты учителей-экспериментаторов и педагогов с большим стажем работы.
«Учительская газета» тогда была министерским органом, но министерство оказалось бессильным противостоять новаторской педагогике, прорвавшей затхлую плотину скучных рутинных поучений и предписаний. Однако ретрограды не сдавались и добились своего: «Учительская газета» была преобразована в издание ЦК КПСС. Владимир Фёдорович был назначен заместителем главного редактора, а главным редактором – небезызвестный Геннадий Селезнёв, ставший впоследствии главным редактором «Правды» и спикером Государственной Думы.
Ясно, что возникла ситуация, которая давно описана классиком: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Матвеев практически лишался газеты, газета переставала быть матвеевской.
Правда, в это же время Владимира Фёдоровича избирают председателем Творческого союза учителей СССР, одним из инициаторов которого он был сам. В оргкомитет нового союза вошли такие легендарные творческие личности, как С. Соловейчик, Д. Лихачёв, И. Бестужев-Лада, Ю. Рюриков, А. Тубельский.
Но мне кажется, что фактическое отстранение Матвеева от руководства «Учительской газеты» подорвало его жизненные силы. Правда, он ездил и на Чернобыльскую АЭС в самый разгар её катастрофы. На председательство союзом учителей сил уже не хватило. Через год – 21 октября 1989 года – Владимир Фёдорович скончался.
С именем Матвеева навсегда связаны революционные подходы к образованию, способствующие формированию толерантной личности, развитию мышления учеников и развитию их коммуникативности. Увы, нынешнее руководство страны, повернувшее вспять её развитие, обеспечило и отход педагогики от завоёванных ею с помощью таких энтузиастов, как Владимир Фёдорович Матвеев, вершин.
* * *
«Солдаты, офицеры и генералы Советской Армии! Русские люди и братья! К вам обращается Александра Толстая – дочь Льва Толстого и президент Международного Толстовского фонда… На чьей вы стороне? На стороне мужественного венгерского народа, который, презрев террор и лишения, страдания, муки и даже смерть, с голыми руками выступил против своих поработителей, точно так же, как во время второй мировой войны русский герой генерал Власов боролся против кремлевских душителей? Или вы с врагами и палачами русского народа, которые заставили вас пролить кровь героев-венгров, борющихся за свою и вашу свободу?»
Этот призыв Александры Львовны Толстой, родившейся 18 июня 1984 года и умершей 26 сентября 1979 года, прозвучал на «Радио Свобода» в ноябре 1956 года, в то время, когда советские танки вошли в Будапешт, чтобы подавить народное восстание в Венгрии. С грустью думаешь о теперешних потомках Льва Николаевича, оказавшихся на политической сцене России.
* * *
Алексея Максимовича Горького, умершего 18 июня 1936 года (родился 28 марта 1868-го), уместно, наверное, почтить просмотром посвящённой ему серии фильма «Кремлёвские похороны». Её легко найти в Интернете.
19 ИЮНЯ
Сильно струхнул Евгений Винокуров, когда ему сказали, что подпись Василя Быкова под коллективным письмом в «Правде» против Солженицына и Сахарова появилась без ведома писателя. Так ведь и он, Винокуров, может оказаться на месте Быкова! «Это легенда, – недоверчиво говорил Винокуров. – Быков её и придумал!» Месяца через два после появления письма я видел Быкова на каком-то пленуме. На нём не было лица. Угрюмый, замкнутый, он недолго просидел за столом президиума, куда его избрали, встал, ушёл за кулисы и больше на пленуме не появлялся.
Через какое-то время в прессе (кажется, опять-таки в «Правде») появилась хвалебнейшая статья Юрия Бондарева о новом романе Быкова, ещё через какое-то Быкову дали Государственную премию СССР, потом – БССР, потом – Народного писателя Беларуси, и, наконец – звезду героя соцтруда.
– Да, видимо, ты был прав, – сказал я Винокурову.
– Конечно, прав, – отозвался он. – Если б Быков письма не подписывал, он нашёл бы способ оповестить об этом. Не сталинское сейчас время!
При Сталине Борис Пастернак отказался подписать письмо с требованием смертной казни Тухачевскому, а назавтра с ужасом обнаружил в газете свою подпись.
Но много позже Алесь Адамович подтвердил мне, что Быков вёл себя так же с теми, кто позвонил ему из Москвы. И что близкие писателя опасались за его психику, когда он увидел, что с ним не посчитались.
– Что же он не протестовал? – удивился я.
– А как бы он это сделал? – спросил Адамович. – Написал бы в «Литературку»? Та бы напечатала?
– Сказал бы любому зарубежному корреспонденту.
– В Минске? – иронически сощурился Алесь.
– В Москве, где я его видел через некоторое время после этого.
– А потом бы вернулся в Минск? – продолжал иронизировать Адамович. – Нет, милый. Москвичу не понять, что такое жить под гнётом не только Москвы, но и своих провинциальных царьков.
Это правда. Не понять. Помню, вычеркнул зам главного редактора «Литгазеты» Кривицкий какие-то очень недурные строчки из ответа Игоря Дедкова на нашу анкету. Звоню Дедкову в Кострому. Говорю ему об этом.
– Ладно, – говорит, – переживу. В кои-то веки позвали в «Литгазету»!
Нет, москвичи Кривицкому так бесцеремонно обращаться с собой не разрешали. Вычеркнул Евгений Алексеевич у Межирова несколько абзацев. Позвонил я Саше. Уговорились: он выезжает, но я ему не звонил, просто он был рядом, зашёл, увидел, возмутился…
– П-ошли в-вм-месте, – предлагает.
Приходим. Межиров приветливо улыбается. Жмёт Кривицкому руку.
– Я, – говорит, – п-принимаю люб-бую критику. Если она п-о д-делу. И вы, – он смотрит любовно на Кривицкого, – п-о м-оем-му, всегд-да от-тличались высок-ким п-профессионализмом.
Кривицкий торжествующе взглядывает на меня.
– Но на эт-тот раз в-вкус вам изменил.
Евгений Алексеевич мнётся. Он говорит Межирову, что в принципе не собирался сокращать его статью. Но на эту полосу нужно поставить какой-то ещё материал. Сокращения вынуждены.
– П-перенесите на д-другую полосу, – предлагает Межиров. – Или д-дав-вайте снимем пока материал, я п-од-дожду.
Нет, снимать Кривицкий не хочет (нужно ещё придумывать что ставить вместо, а это волынка, номер затормозится, будет орать на него Чаковский на планёрке!). На другую полосу переносить, к сожалению нельзя. Так что он просит Александра Петровича…
– И не п-просите, – парирует Межиров. – П-ойти вам навстречу н-не см-могу.
Хорошо. Кривицкий согласен кое-что восстановить.
– Д-данную п-правку, – говорит Межиров, – следует восстановить п-олнос-стью.
Кривицкий согласен. Но при условии, что Александр Петрович сейчас сам наметит что-нибудь для сокращения. Межирову приносят статью до правки. Он в неё углубляется.
– Г-геннадий, – зовёт он меня. – М-мне к-кажется, что в-вот здесь, – он показывает, – надо бы сделать с-совсем н-неб-ольшую вставочку.
– Что? – Кривицкий в ужасе. – Никаких вставок я сделать вам не позволю.
– В т-таком с-случае, – Межиров говорит невероятно сожалеющим тоном, – б-будем печатать так, к-как есть.
– Не будете сокращать?
– П-оверьте, Евгений Алексеевич! С удовольствием с-ократил бы. Но не вижу что! Над эт-той статьёй я работал к-как никогда долго. Она отполирована.
– Ну, может быть, вот этот кусок?
– В-вы м-меня удивляете, – Межиров поднял брови. – Вы же п-отрясающий профессионал! В-ведь ради этого куска в-всё и написано.
Словом, уходим после того, как намечаем абзацы, которые переберут более мелким шрифтом – петитом. Для экономии места.
– Ну к-как? – хвастает Межиров, когда мы остаёмся одни. – К-класс?
Так что прав Адамович: москвичи жили свободнее других.
– Ну, не знаю, – говорю я ему. – Сразу после этого письма Быкову дают государственную премию. Потом республиканскую. Потом героя, ленинскую премию. Что это? Коготок увяз?
– Да это его панцирь, – отвечает Алесь. – Если б ты знал, какие осы над ним вились.
Винокуров, впрочем, так никогда и не верил, что Быков не подписывал письма.
– Сам подумай, – говорил он. – Ему звонят. Он отказывается. Как, по-твоему, доложат об этом верхам?
– Не сомневаюсь, – отвечаю.
– Ну вот! Те приказывают: не обращать внимания, подписать за него. Так?
– Ну да, – говорю.
– И сразу герой, лауреат, депутат! Ради чего? Ради того, чтоб не выболтал? Подписал он, не сомневайся!
Я и сейчас не знаю точно, как всё-таки обстояло дело.
Да, я допускаю, что какой-нибудь ненавидевший Василя Быкова Севрук, работавший тогда в ЦК (потом был идеологом у Лукашенко и продолжал покойного Быкова люто ненавидеть), предложил не обращать внимание на отказ писателя и поставить его подпись под гнусным письмом. Но время на дворе стояло не сталинское. А для Быкова даже не лукашенковское. Впрочем, я в таких переделках не оказывался. Судьёю Быкову быть не могу. Да и не хочу.
Василь Владимирович Быков родился 90 лет назад 19 июня 1924 года. Как большинство из его поколения, оказался на фронте во время Великой Отечественной. И, как это же большинство, был тяжело ранен, а после лечения вновь отправлен на фронт.
После демобилизации рано – с 1947 года – начал печататься. Работал в редакции «Гродненской правды» Но с 1949 по 1955 гг. снова служил в армии. Демобилизовался майором. Снова работал в «Гродненской правде». В Гродно выпустил две книги на белорусском языке. Принят в Союз писателей. С 1972 по 1978 гг. работал секретарём Гродненского отделения Союза писателей Белоруссии. В 1978 году переехал в Минск.
В 1961 году стал известным всесоюзному читателю благодаря своей повести «Третья ракета». Дальше известность ещё более укрепляется: одна за другой выходят «Альпийская баллада», «Мёртвым не больно», «Круглянский мост», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться». Так что, с читательской точки зрения, награждать Быкова было за что. Другое дело, что мнение ценителей литературы в СССР далеко не всегда совпадало с мнением властей…
В перестройку с головой ушёл в общественную деятельность. Стал одним из учредителей Белорусского народного фронта. Избран народным депутатом СССР. Вошёл в межрегиональную депутатскую группу. Был президентом белорусского Пен-клуба. В октябре 1993 года подписал знаменитое письмо 42-х, призывающее Ельцина принять все меры для того, чтобы блокировать и искоренить коммунистическую и шовинистическую заразу в России. Письмо это тогда же вызвало (и нынче вызывает) истерическую волну протеста в патриотических кругах, с мнением которых, как теперь уже понятно, очень считался Ельцин. Именно его нежелание следовать курсу, предложенному авторами письма, и привело страну к обретённому ныне движению вспять.
В 1994 году президентом Беларуси избирается Лукашенко. В стране стремительно нарастает попрание демократических свобод. Оппонентов окорачивают, выдавливают из страны. Василь Быков с 1997 года становится политическим эмигрантом. По приглашению Пен-центра Финляндии живёт в этой стране. По приглашению Пен-центра Германии переезжает в ФРГ. Затем живёт в Чехии. Он интенсивно работает. Появляются новые его произведения: «Афганец», «Волчья яма», «Болото». Но постоянные переезды и нервное истощение подорвали здоровье Быкова. Развивается онкологическая болезнь. За месяц до смерти писатель вернулся в Беларусь. Умер в госпитале под Минском 22 июня 2003 года. В Минске и похоронен.
* * *
Один из теоретиков литературной группы «Перевал» Абрам Захарович Лежнёв родился 19 июня 1893 года. Критиком был довольно противоречивым. С одной стороны, выступал против теории социального заказа. А с другой, обрушивался на тех, кто не признавал педагогической функции искусства. Первым проанализировал художественные искания Бориса Пастернака. Признал недюжинный талант поэта. Писал о творчестве своих современников. Его книги «Два поэта. Гейне, Тютчев» (1934) и «Проза Пушкина: Опыт стилевого исследования» (1937) не устарели до сих пор.
Лежнёв считается литературоведом, первым показавшим, что Шолохов не может быть автором «Тихого Дона».
Хорошо знавший языки и, в частности, французский, Лежнёв в качестве переводчика сопровождал Андре Жида в его поездке по СССР. Возможно, это и сгубило Лежнёва, потому что, вернувшись во Францию, Андре Жид, ранее благоволивший к родине Октябрьской революции, издал книгу «Возвращение из СССР» (1936), тут же запрещённую в Советском Союзе. «Это была земля, где утопия становилась реальностью», – писал Жид, о том, какой виделась ему страна Советов перед тем, как он решил её посетить. И вот его впечатление от поездки: в СССР «всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех достигается за счёт счастья каждого».
Не только, наверное, его работу переводчиком А. Жида поставили работники госбезопасности в вину А. Лежнёву, арестованному в ноябре 1937 года. Некогда до Октября Лежнёв примыкал к меньшевикам. Хватило на обвинение в контрреволюционной деятельности, за которую Абрама Лежнёва по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР расстреляли 8 февраля 1938 года.
* * *
Павел Петрович Свиньин, родившийся 19 июня 1787 года, писатель, издатель, журналист, художник, географ, историк, остался в истории литературы благодаря своим знакомцам Пушкину и Вяземскому.
Из письма Пушкина Вяземскому 10 августа 1825 года: «…да нет ли стихов покойного поэта Вяземского, хоть эпиграмм? Знаешь ли его лучшую эпиграмму: «Что нужды? говорит расчётливый etc». Виноват! я самолично сделал в ней перемены, перемешав стихи следующим образом: 1, 2, 3–7, 8–4, 5, 6. – Не напечатать ли, сказав: «Нет, я в прихожую пойду путём доходным», если цензура не пропустит осьмого стиха, так и без него обойдёмся: главная прелесть: «Я не поэт, а дворянин»! и ещё прелестнее после посвящения «Войнаровского», на которое мой Дельвиг уморительно сердится».
Речь в письме идёт об эпиграмме Вяземского на Свиньина, напечатавшего в журнале «Сын отечества» в 1818 году статью «Поездка в Грузино». Грузино – это имение Аракчеева и центр военных поселений. Открывал статью стихотворный эпиграф, сочинённый Свиньиным:
Я весь объехал белый свет: Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою, — Дивился многому умом, Но только в Грузине одном Был счастлив сердцем и душою, И сожалел, что – не поэт!Эти подобострастные перед Аракчеевым стихи и обыграл в своей эпиграмме Вяземский. Пушкин пишет о раннем варианте эпиграммы:
«Что пользы, – говорит расчётливый Свиньин, — Мне кланяться развалинам бесплодным Пальмиры, Трои и Афин? Пусть дорожит Парнаса гражданин Воспоминаньем благородным; Я не поэт, а дворянин И лучше в Грузино пойду путём доходным: Там, кланяясь, могу я выкланиться в чин».Понравившийся Пушкину стих «Я не поэт, а дворянин» и есть «посвящение «Войнаровского» – думы Рылеева, курьёзное обыгрывание рылеевского гражданского стиха «Я не поэт, а гражданин».
«Пушкин, – вспоминает Вяземский, – очень смеялся над этим стихом. Несмотря на свой либерализм, он говорил, что если кто пишет стихи, то прежде всего должен быть поэтом; если же хочет просто гражданствовать, то пиши прозою».
Кстати, посылая этот же вариант эпиграммы своему приятелю А.И. Тургеневу, Вяземский писал: «У вас под носом режут и грабят; Свиньин полоскается в грязи и пишет стихи, и ещё какие, а вы ни слова, как будто не ваше дело».
Советы Пушкина Вяземский учёл, несколько изменив эпиграмму и переставив стихи:
«Что пользы, – говорит расчётливый Свиньин, — Нам кланяться развалинам бесплодным Пальмиры, Трои и Афин? Нет, лучше в Грузино пойду путём доходным: Там, кланяясь, могу я выкланиться в чин. Оставим славы дым поэтам сумасбродным: Я не поэт, а дворянин!»Эта эпиграмма не могла, разумеется, быть напечатанной в 1825-м при всесильном Аракчееве. Она опубликована в «Русском архиве» в 1866 году.
Что же до самого Пушкина, то и он отдал дань Свиньину. В своей оставшейся неопубликованной «Детской книжке», пародически обыгрывая штампы тогдашней литературы для детей, он поместил на Павла Свиньина памфлет «Маленький лжец»:
«Павлуша был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок: он не мог сказать трёх слов, чтоб не солгать. Папенька его в его именины подарил ему деревянную лошадку. Павлуша уверял, что эта лошадка принадлежала Карлу XII и была та самая, на которой он ускакал из Полтавского сражения. Павлуша уверял, что в доме его родителей находится поварёнок-астроном, форейтор-историк и что птичник Прошка сочиняет стихи лучше Ломоносова. Сначала все товарищи ему верили, но скоро догадались, и никто не хотел ему верить даже тогда, когда случалось ему сказать и правду».
Кстати, самим названием памфлета «Маленький лжец» Пушкин напоминал читателю о басне Александра Ефимовича Измайлова «Лгун», высмеивающей того же Павла Петровича Свиньина:
Павлушка медный лоб – приличное прозванье! — Имел ко лжи большое дарованье; Мне кажется, ещё он в колыбели лгал! Когда же с барином в Париже побывал И через Лондон с ним в Россию возвратился, Вот тут-то лгать пустился! Однажды… ах, его лукавый побери!.. Однажды этот лгун бездушный Рассказывал, что в Тюльери Спускали шар воздушный. «Представьте, – говорил, – как этот шар велик! Клянуся честию, такого не бывало! С Адмиралтайство!.. Что? нет, мало! А делал кто его? – Мужик, Наш русский маркитант, коломенский мясник, Софрон Егорович Кулик, Жена его Матрёна И Таня, маленькая дочь. Случилось это летом в ночь, В день именин Наполеона. На шаре вышиты герб, вензель и корона. Я срисовал – хотите? – покажу… Но после… слушайте, что я теперь скажу: На лодочку при шаре посадили Пять тысяч человек стрелков И музыку со всех полков. Все лучшие тут виртуозы были. Приехал Бонапарт, и заиграли марш. Наполеон махнул рукою — И вот Софрон Егорыч наш, В кафтане бархатном, с предлинной бородою, Как хватит топором — Канат вмиг пополам; раздался ружей гром — Шар в небе очутился И вдруг весь газом осветился. Народ кричит: «Diаble! Vivе Nароleоn! Вгаvо, monsеiur Sорhгоп!»[1] Шар выше, выше всё – и за звездами скрылся… А знаете ли, где спустился? На берегу морском, в Кале! Да, опускаяся к земле, За сосну как-то зацепился И на суку повис; Но по верёвкам все спустились тотчас вниз; Шар только прорвался и больше не годился… Каков же мужичок Кулик?» – Повесил бы тебя на сосну за язык, — Сказал один старик. — Ну, Павел, исполать! Как ты людей морочишь! Обманывал бы ты в Париже дураков, Не земляков. Смотри, брат, на кого наскочишь!.. Как шар-то был велик? – Свидетелей тебе представлю, если хочешь: В объёме будет… с полверсты. – Ну как же прицепил его на сосну ты? За олухов, что ль, нас считаешь? Прямой ты медный лоб. Ни крошки нет стыда! – Э! полно, миленькой, неужели не знаешь, Что надобно прикрасить иногда.Современники без труда узнавали здесь Свиньина, который, как вспоминал мемуарист той эпохи, хорошо знавший её литераторов, Дмитрий Николаевич Свербеев, «для каждой книжки своего журнала создавал… какого-нибудь русского гения-самоучку», какой «сам по себе собственным трудом доходил до решения задач, давно уже известных и одним им только неведомых». В.В. Стасов назвал такую черту Свиньина «беспокойно-преувеличенным патриотизмом». Можно сказать, что этим Павел Петрович предвосхитил многих деятелей культуры моего сталинского детства.
А сами по себе произведения Свиньина художественной ценности не представляют. Хотя он трудился, что называется, в поте лица во всех жанрах. Но остался со своим ликом в произведениях сатирических писателей.
Умер 21 апреля 1839 года.
* * *
Юрий Тимофеевич Галансков, родившийся 19 июня 1939 года, активно участвовал в поэтических чтениях у памятника Маяковского в 1958–1961 годах. В 1961 году выпустил одно из первых изданий самиздата – литературный и общественно-политический альманах «Феникс». Он подготовил издание ещё одного «Феникса» в 1966-м.
Хотел создать пацифистскую организацию, разработав проект программы Всемирного союза сторонников всеобщего разоружения. Был одним из организаторов первых митингов против подавления свободы в СССР – 5 декабря (день советской конституции) 1965 и летом 1966 на Пушкинской площади в Москве. В это же время сблизился с Народно-трудовым союзом.
Ясно, что такая деятельность безнаказанной оставаться не могла. В январе 1967 года Галансков был арестован. Год, пока длилось следствие, находился в Лефортовской тюрьме. Он был тяжело болен – воспаление язвы кишечника. Несмотря на болезнь, его приговорили к 7 годам строгого режима и отправили в посёлок Озёрный (Мордовия).
Тяжёлая работа, недостаточная медицинская помощь, невозможность лечебного питания были чекистскими средствами умерщвления узника. Тюремщики своего добились. Юрий Тимофеевич умер после операции в Центральной больнице Дубровлага 4 ноября 1972 года.
После смерти Галанскова в 1980 году во Франкфурте-на-Майне издательство «Посев» выпустило книгу «Галансков», включив в неё некоторые статьи, обращения, письма, часть стихов и неоконченную повесть. В 1994 году книга с дополнениями была переиздана в Ростове-на-Дону.
В 2006 году в Москве друг Галанскова Геннадий Кагановский подготовил и издал книгу «Хроника казни Юрия Галанскова в его письмах из зоны ЖХ-385, свидетельствах и документах».
20 ИЮНЯ
С Юрой Визбором я познакомился в журнале «Кругозор», где работал временно два месяца 1966 года, заменяя поэта Евгения Храмова по его просьбе: Женя ушёл в небольшой творческий отпуск. Я вёл там отдел литературы, а Юра, как это ни странно сейчас прозвучит, отдел политики. Причём у Визбора был ещё и подчинённый ему сотрудник Серёжа Есин, впоследствии ставший писателем.
На второй день моей работы в этом журнале по пропуску, выписанному музыкальным редактором Люсей Кренкель, дочерью знаменитого полярника и женой Жени Храмова, пришёл в редакцию композитор Микаэл Таривердиев с большой сумкой, в которой было столько вина и закуски, что мы пировали всё рабочее время, отвлекаясь от стола на музыкальные паузы, которые устраивал тот же Таривердиев, наигрывая на рояле недавно сочинённые им мелодии для кинофильмов «Прощай», «Любить», «Последний жулик». Как потом я понял, он отмечал в редакции выход журнала с его пластинкой, на которой были записаны песенки из этих кинофильмов.
– А вы не стесняйтесь, – сказал он мне тихо, пожимая на прощанье руку, – держитесь раскованней.
– Он не стесняется, – отозвался за меня стоявший рядом со мной Юрий Визбор. – Он новенький.
Точно! Таривердиев был, наверное, наблюдательным человеком и заметил, как напряжённо я улыбался, когда кто-то из редакции рассказывал о ком-то или о чём-то невидимом и слышал в ответ взрыв хохота. Все смеются, а я не знаю над чем. Естественно, что я чувствовал себя чужим в этой редакции.
Недолго. И в том, что чувствовал себя чужим недолго, я обязан Визбору.
Юра лучился добротой. Охотно объяснял, кто есть кто в Радиокомитете, чьим органом был «Кругозор», улыбался мне, подбадривал, с удовольствием пел песни.
Предчувствую, что по поводу этого «пел песни» ни у кого и сомнения не возникнет – чьи?
Но в том-то и дело, что свои песни Юра не пел. Мы сошлись с ним на том, что оба были страстными поклонниками Булата Окуджавы. Юра пел его песни. «Эту знаешь? – спрашивал. – А эту?»
Нас сблизило ещё и то, что оба мы были знакомы с Булатом.
Я знал, что Визбор пишет песни, слышал некоторые, но они для меня не шли ни в какое сравнение с любимыми мной песнями Окуджавы. Я и сейчас небольшой любитель авторской песни. Барды меня не захватывают. Но – таково обаяние личного знакомства – мне захотелось, чтобы Визбор спел и свои песни. Я его об этом попросил, и он немедленно откликнулся.
Не все, конечно, песни, которые он пел, но некоторые мне понравились. Например, «Спокойно, дружище». О чём я ему и сказал. Он обрадовался.
Через несколько лет, когда я работал в «Литературной газете» я позвонил ему, уже известному киноактёру, и позвал на так называемый «вторник «ЛГ». Программу этого культурного мероприятия составлял я, как член месткома, курирующий «вторник» и за него отвечающий.
Юра приехал.
Его песни встретили очень хорошо. Но для чего-то он запел песни Окуджавы, которые и вовсе привели в восторг литгазетовскую публику. Зал аплодировал бешено. Посыпались заказы, на которые Визбор охотно откликался. Мне было неловко. Но Юра, прощаясь, сказал:
– Спасибо, дорогой! Я ведь и сам получил наслаждение. Люблю Булата!
И сейчас, когда это пишу, в моих ушах отдаётся это мягкое визборовское: «Люблю Булата!»
Я полюбил этого обаятельного человека, Юрия Иосифовича Визбора, родившегося 20 июня 1932 года и прожившего на свете 52 года: умер 17 сентября 1984-го. И Булат Окуджава его любил. В этом я убедился после смерти Визбора, когда Булат вдруг пропел его песню и сказал: «Чудесный человек. Мне хорошо было с ним!»
* * *
Неотправленное письмо хирургу Уважаемый доктор! Вы ещё не знаете, что будете делать мне операцию. А мне уже сообщили, что в мозгу у меня находится опухоль размером с куриное яйцо, — (интересно, кто ж это вывел курицу, несущую такие яйца?!..) В школе по анатомии у меня были плохие отметки. Но сегодня мягкое слово «опухоль» карябает меня и пугает, — (тем более что она почему-то растёт вопреки моему желанию)… Нет, я верю, конечно, рассказам врачей, что «операция пройдёт как надо», верю, что она «не слишком сложна» и «почти совсем не опасна», но всё-таки, всё-таки, доктор, я надеюсь, что в школе у Вас, с анатомией было нормально, и что руки у Вас не дрожат, а сердце бьётся размеренно… Ваша профессия очень наглядна, доктор, слишком наглядна. Но ведь и мы – сочиняющие стихи — тоже пытаемся оперировать опухоли, вечные опухоли бесчестья и злобы, зависти и бездумья! Мы оперируем словами. А слова – (Вы ж понимаете, доктор!) — не чета Вашим свёрлам, фрезам и пилам (или что там ещё у Вас есть?!). Слова отскакивают от людских черепов, будто градины от железных крыш… Ну, а если операция закончится неудачей (конечно, так у Вас не бывает, но вдруг…) Так вот: если операция окончится неудачей, Вам будет наверняка обидно. А я про всё мгновенно забуду. Мне будет никак. Навсегда никак… …Однако не слишком печальтесь, доктор. Не надо. Вы ведь не виноваты. Давайте вместе с Вами считать, что во всём виновата странная курица, которую кто-то когда-то вывел лишь для того, чтоб она в человечий мозг несла эти яйца-опухоли.Пронзительные строки, правда?
Их написал Роберт Рождественский, у которого действительно нашли опухоль в мозгу и которого удачно прооперировали во Франции. Так что он после операции смог прожить ещё целых четыре года…
Роберт Иванович Рождественский родился 20 июня 1932 года. Вместе с Евтушенко и Вознесенским считался лидером поколения поэтов-шестидесятников. Но в отличие от остальных почти не подвергался официозной критике.
Причина лежит на поверхности: Рождественский просто не писал оппозиционных стихов. Его стихи были пронизаны романтическим пафосом человека, искренне поверившего в хрущёвскую оттепель, убеждённого, что сталинизм был извращением коммунистического учения, а не его сущностью.
Этот романтический пафос привлёк к стихам Рождественского много композиторов, написавших мелодии к ним. Его песни распевали известные и любимые многими певцы: Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Юрий Гуляев, Андрей Миронов, Владимир Трошин, Муслим Магомаев, София Ротару, Марк Бернес, Людмила Гурченко – всех перечислить нет никакой возможности.
На стихи поэмы Рождественского «Реквием» композитор Д. Кабалевский написал музыкальное произведение.
Такое внимание к поэзии Роберта Рождественского говорит ещё и том, что все, сочинявшие на его стихи, были убеждены в том, что к этой поэзии власть относится весьма благосклонно. И не ошибались. Смещение Хрущёва на пафос поэзии Рождественского не повлияло. У меня лично сложилось впечатление, что он продолжает писать по инерции. Что его стихи заражены той болезнью, которую великолепно охарактеризовал Наум Коржавин, назвав её «инерцией стиля».
Власти весьма благосклонно отнеслись к поэту. Премия Ленинского Комсомола, Государственная премия СССР. Наконец – вершина карьеры Роберта Рождественского, которую обрисовал очередной съезд Союза писателей СССР.
В это время «Литературная газета» печатает рецензию на новую книгу Рождественского. Её написал Иосиф Львович Гринберг. Говорят, что во времена борьбы с космополитизмом он из чувства самосохранения и с перепугу показывал безродным космополитам свои ядовитые зубы. Но когда я познакомился с ним, у меня сложилось впечатление, что если и были когда-нибудь у Гринберга такие зубы, то они давно стёрлись. Критиковать Гринберг не любил. В лучшем случае мог пожурить автора не понравившейся ему книги.
Вот и Рождественского он журил. Признавал громадные заслуги этого поэта. И сетовал на то, что тот порой повторяется, останавливается на достигнутом, не продвигается вперёд к ещё большим свершениям.
Словом, обыкновенная бодяга человека, который хочет одновременно и властям угодить, и сохранить собственное достоинство. До сих пор Рождественского обычно ставили рядом с Евтушенко и Вознесенским, а это значило, что власти считают его нужным им поэтом, но доверяют ему не во всём. Что ж, Гринберг ведь его не хвалит безоговорочно, он его журит за что-то. А с другой стороны, и похваливает, показывая, что ничего не имеет против этой триады Рождественский-Евтушенко-Вознесенский.
Но, напечатав рецензию, мы совершенно упустили из виду, что Роберт Рождественский на недавно закончившемся съезде союза писателей избран одним из его секретарей! Точнее, зам главного редактора Кривицкий, курировавший литературу в газете, не придал этому факту должного значения. Секретарей избирали штук по сорок, по пятьдесят. Среди них были и первостепенные, и рабочие, и рядовые, к каковым Кривицкий не без основания отнёс Рождественского. Не считать же, в самом деле, что все они одинаково уравнены в праве на индульгенцию от любой критики? Хорошо зная, как невероятно труслив был Евгений Алексеевич, я убеждён, что он так для себя и решил. Иначе он не напечатал бы рецензии Гринберга ни под каким видом!
– А ведь работал в ЦК, – пожимал плечами по этому поводу другой зам главного редактора Артур Сергеевич Тертерян. – Остались, наверное, приятели. Так сними трубку и позвони. Узнай, чья это инициатива – сделать Рождественского секретарём. Писатели выбрали? Это только наш местком можно выбирать. А уже партбюро нельзя. Нужно согласовывать кандидатуры с райкомом. И Евгений Алексеевич знает это не хуже меня.
По моим наблюдениям, Кривицкий обычно не доверял самому себе. И вот, пожалуй, единственный случай на моей памяти, когда он себе доверился. Оказалось, напрасно! Два звонка – из ЦК и от Воронкова, всесильного оргсекретаря союза писателей, заставили его заметаться в поисках достойного автора, который ответил бы Гринбергу. Людмила Михайловна Вартенесян, его секретарь, беспрерывно соединяла его с поэтами, критиками, те брались было писать, но не обещали, что поспеют к тому сроку, который назначал Кривицкий. Статья должна была идти в номер, а до его выхода оставалось совсем немного времени.
И тогда я отправился к Лидии Николаевне Фоменко, члену редколлегии «Литературной России», чей кабинет был как раз напротив нашей редакции.
Лидию Николаевну вполне можно было назвать Гринбергом в юбке – настолько они были похожи по своему подходу к литературе да и по бесцветной манере излагать собственные мысли.
– Ай-яй-яй! – говорила Фоменко, листая принесённую мною книгу Рождественского. – Как же это Иосиф Львович дал такого маху? Ведь хорошие, даже отличные стихи!
Что она в курсе звонков властей предержащих, я не сомневался. Слухи об этом распространяются мгновенно, а мы ведь к тому же сидим в одном здании.
– А вас не смущает, – спрашивает Фоменко, – что о стихах я пишу очень редко?
– Не смущает, – говорю. И привираю: – Нам потому и посоветовали обратиться именно к вам, что знают, как быстро вы работаете. А статья нужна послезавтра.
– Посоветовали? – Фоменко не может скрыть удовольствия от такого известия. – И правильно сделали. Роберт – мой любимый поэт, и статью я вам отдам завтра.
Но на публикации статьи Фоменко история с извинениями перед Рождественским не закончилась. Кривицкий ведь со своей стороны тоже заказал статьи. И они стали поступать в редакцию. Пришлось их печатать ещё в одном номере.
– Перебор! – сказал я ведущему этот номер Тертеряну.
– Ну, дорогой Гена, – заулыбался Артур Сергеевич, – как известно, хорошего много не бывает! Вам – перебор, а Роберту Ивановичу приятно. Стишки-то, между нами говоря… – он пожевал губами.
– Обычные для Рождественского стихи, – сказал я. – Не хуже и не лучше остальных.
– Да, морковный кофе, – процитировал Тертерян Маяковского. – Но видите, не было счастья, так несчастье помогло. На что мог рассчитывать секретарь союза писателей Роберт Иванович с этой своей книжонкой? В лучшем случае на одну хвалебную рецензию.
К чести Рождественского следует сказать, что перестройка как бы вывела его из летаргической спячки. Он преодолел инерцию стиля. Поздние стихи Роберта Рождественского написаны человеком, как говорил Пушкин, с душою и талантом. Но жизнь после перестройки отпустила ему совсем немного времени. Как я уже написал в начале, после операции раковой опухоли в мозгу в 1990 году Роберт Иванович Рождественский прожил всего четыре года: скончался 19 августа 1994-го…
21 ИЮНЯ
«Мой брат родной по музе, по судьбам», – назвал ссыльный Пушкин в 1825 году своего лицейского товарища Вильгельма Кюхельбекера в стихотворении «19 октября».
Брат по музе – резон в этом был. Вильгельм Карлович Кюхельбекер, родившийся 21 июня 1797 года, был, кажется, вторым после Пушкина лицеистом, выступившим со своими стихами в серьёзной печати (журналы «Сын Отечества», «Амфион») в 1815 году.
Но брат по судьбам – оказалось предсказанием. В том же 1825-м посвящённый в тайное общество за две недели до 14 декабря Кюхельбекер вышел вместе с другими декабристами на Сенатскую площадь, где вёл себя чрезвычайно смело и дерзко: пытался стрелять в брата Николая I – Михаила, но пистолет дважды дал осечку.
Ему был вынесен приговор: 20 лет каторги, император урезал срок на пять лет и заменил каторгу крепостью. Два года отсидел Кюхельбекер в Шлиссельбургской крепости. И…
Впрочем, передаю слово Пушкину, который едет из Михайловского и записывает в своём дневнике:
«15 октября 1827. Вчерашний день был для меня замечателен […] вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем. «Вероятно, поляки?» – сказал я хозяйке. «Да, – отвечала она, – их нынче отвозят назад». Я вышел взглянуть на них.
Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошёл высокий, бледный и худой молодой человек с чёрною бородою, в фризовой шинели […] Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством – я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону».
Что встреча друзей была в нарушение предписаний, которые получили конвойные, говорит рапорт одного из них – некоего фельдфебеля Подгорного своему начальству:
«Отправлен я был сего месяца 12 числа в г. Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сиё, наипоспешнейше отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег; я в сём ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же минуту доложу его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег; сверх того, не преминул также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин между прочими угрозами объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я ещё более препятствовал иметь ему сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет».
«На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, – но куда же?», – заканчивает свою дневниковую запись Пушкин.
Из рапорта фельдфебеля и следует, куда везут Кюхельбекера. По указу Николая Вильгельм переведён в арестантские роты при Динабургской крепости. Ещё через два года он оказался в латышских крепостях (Ревель, Рига), в финской (Свеаборг) и, пробыв в Свеаборге четыре года, отправлен на поселение в Сибирь в Баргузин (Иркутская губерния).
На поселение – в ссылку. Сбылось предсказание Пушкина: лицейские друзья побратались ещё и «по судьбам». В Баргузин Кюхельбекер прибыл в январе 1836 года.
Надо сказать, что Кюхельбекер подхватил традицию Пушкина писать послание лицейским друзьям 19 октября в день основания лицея. Он писал эти послания и при Пушкине. И он оплакал Пушкина в своём послании 1838 года:
Блажен, кто пал, как юноша Ахилл, Прекрасный, мощный, смелый, величавый, В средине поприща побед и славы, Исполненный несокрушимых сил! Блажен! лицо его всегда младое, Сиянием бессмертия горя, Блестит, как солнце вечно золотое, Как первая эдемская заря. А я один средь чуждых мне людей Стою в ночи, беспомощный и хилый, Над страшной всех надежд моих могилой, Над мрачным гробом всех моих друзей. В тот гроб бездонный, молнией сраженный, Последний пал родимый мне поэт… И вот опять Лицея день священный; Но уж и Пушкина меж вами нет! Не принесёт он новых песней вам, И с них не затрепещут перси ваши; Не выпьет с вами он заздравной чаши: Он воспарил к заоблачным друзьям. Он ныне с нашим Дельвигом пирует; Он ныне с Грибоедовым моим: По них, по них душа моя тоскует; Я жадно руки простираю к ним! Пора и мне! – Давно судьба грозит Мне казней нестерпимого удара: Она меня того лишает дара, С которым дух мой неразлучно слит! Так! перенёс я годы заточенья, Изгнание, и срам, и сиротство; Но под щитом святого вдохновенья, Но здесь во мне пылало божество! Теперь пора! – Не пламень, не перун Меня убил; нет, вязну средь болота, Горою давят нужды и забота, И я отвык от позабытых струн. Мне ангел песней рай в темнице душной Когда-то созидал из снов златых; Но без него не труп ли я бездушный Средь трупов столь же хладных и немых?«Пора и мне»! Здесь Кюхельбекер ошибся. Ему предстояло прожить ещё восемь лет. Покинуть Баргузин. Оказаться в Акшинской крепости, где он с семьёю жил, зарабатывая частными уроками. Затем жить в деревне Смолино Курганского округа Тобольской области, в Кургане, где он потеряет зрение и заболеет чахоткой. Для лечения получит разрешение выехать в Тобольск, где и скончается в тамошней больнице 23 августа 1846 года.
Любя Пушкина, Кюхельбекер во многом не примет его преобразований в поэтике литературы, упорно будет цепляться за прошедший век с его торжественным языком и героическими одами. Но и его историки литературы отнесут к поэтам пушкинского круга. Потому что главное, что их всех отличало, – это непримиримость к попранию чести и достоинства человека, к попранию собственной чести и собственного достоинства.
* * *
Великий русский поэт и гражданин Александр Трифонович Твардовский, родившийся 21 июня 1910 года, прожил совсем немного после того, как был отставлен от любимого своего детища – журнала «Новый мир», который сделал центром оппозиции полуграмотной и реакционной власти. Некогда, когда он был одержим идеей напечатать «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, его заместитель спросил: отдаёт ли он себе отчёт в том, что, опубликовав эту повесть, он рискует потерять журнал? «На что мне тогда журнал, – ответил Твардовский, – если я не смогу напечатать «Ивана Денисовича».
После его смерти дочери поэта опубликовали его дневник и записные книжки. Читать их невероятно познавательно. Твардовский эволюционирует на наших глазах – от деревенского парня, приветствующего советскую новь, от убеждённого коммуниста, если не любящего, то уважающего Сталина, до человека, сумевшего освободиться от догматических пут, прозревшего и увидевшего, в какую пропасть совлекают страну её коммунистические правители.
Собственно, та же эволюция прослеживается по поэтическим произведениям Твардовского.
Помню, когда «Известия», возглавляемая зятем Хрущёва Аджубеем, напечатала поэму Твардовского «Тёркин на том свете», главный редактор сценарной коллегии Госкино, где я тогда недолго работал, – сервильный критик Александр Львович Дымшиц посетовал: «Кончил народную эпопею фиглярством и балаганом!» Многие в Комитете по кино недоумевали: ведь в 1954-м секретариат ЦК под председательством Хрущёва принял постановление, осуждающее эту поэму. Что же случилось теперь? А случилась переоценка поэмы тем же Хрущёвым, который предпринимал попытки реорганизовать сталинскую номенклатуру, с какой бился герой поэмы Твардовского. Недаром всесильный вельможа – оргсекретарь Союза писателей СССР Константин Васильевич Воронков написал пьесу по этому произведению, которую поставил Плучек на сцене своего театра Сатиры с Папановым в главной роли. И недаром разворачивающие страну назад после снятия Хрущёва власти закрыли этот спектакль и запретили упоминать поэму в печати.
Судьба Твардовского повторяет судьбу другого народного поэта – Некрасова, который тоже заболел смертельной онкологической болезнью во многом из-за закрытия своего «Современника». И тоже скончался. Не так скоропостижно, как Твардовский (умер 18 декабря 1971 года). Но через несколько лет. Как и Некрасов, Твардовский оставил после себя немало выдающихся поэтических произведений. Цитировать из Твардовского можно до бесконечности. Приведу его стихотворение из моих самых любимых:
Из записной потёртой книжки Две строчки о бойце-парнишке, Что был в сороковом году Убит в Финляндии на льду. Лежало как-то неумело По-детски маленькое тело. Шинель ко льду мороз прижал, Далёко шапка отлетела. Казалось, мальчик не лежал, А всё ещё бегом бежал Да лёд за полу придержал… Среди большой войны жестокой, С чего – ума не приложу, Мне жалко той судьбы далёкой, Как будто мёртвый, одинокий, Как будто это я лежу, Примёрзший, маленький, убитый На той войне незнаменитой, Забытый, маленький, лежу.* * *
Из любимых книг моего детства я бы вместе с «Республикой ШКИД» Пантелеева и Белых отметил бы «Кондуит и Швамбранию» Льва Кассиля. Назвал бы ещё и «Улицу младшего сына», написанную тем же Кассилем в соавторстве с Марком Поляновским.
Поэтому когда я впервые увидел Льва Кассиля, я ему обрадовался. Но зашёл он в «Литературную газету», как выяснилось, по сутяжному делу.
Я в «Литгазету» пришёл недавно, вёл там поэзию, материалы о поэзии. И почему-то мне отдали ещё и детскую литературу. О ней газета писала редко, а тут в номере, который выходил в Международный день защиты детей, обратились к детским писателем с небольшим вопросником, смысл которого – представить читателю картину сегодняшней детской литературы.
Не помню, к кому я обратился. К Сотнику, Прилежаевой, Дубову, ещё к кому-то, кого назвал мне наш куратор – зам главного редактора Кривицкий. Номер вышел, и на следующий день ко мне пришёл Лев Абрамович Кассиль.
Почему, спросил он меня, редакция не обратилась к нему? Я ответил, что список был утверждён редакторатом.
– А кто его составлял? – поинтересовался Кассиль. И, узнав, что поначалу составлял я, а редакторат добавил свои кандидатуры, горестно сказал: – А ведь я пока что живой. Живой классик!
Он побывал у Кривицкого, который пообещал ему, что отдел информации в ближайшие дни проинтервьюирует его и что интервью появится в ближайшем номере. Кроме того, мне было приказано заказать именно ему юбилейную заметку о первом же детском писателе, который будет отмечать юбилей.
Не помню, кто с ним делал интервью, но знаю, что отдел с ним намучился. Он требовал, чтобы так или иначе были упомянуты все его регалии. А их оказалось немало: вместе с Поляновским за «Улицу младшего сына» он получил сталинскую премию, являлся членом правления Союза писателей СССР и РСФСР, кажется, был секретарём последнего, имел столько-то орденов. К тому же являлся членом-корреспондентом Академии педагогических наук. За какие-то спортивные очерки он получил, не помню, какую награду. В отделе гадали, как втиснуть всё это в интервью: не задавать же вопрос о наградах!
А много лет спустя я прочитал о Льве Абрамовиче Кассиле, скончавшемся 21 июня 1970 года (родился 27 июня 1905-го), у моего старшего товарища Бенедикта Сарнова, написавшего статью о Кассиле и по просьбе собравшейся печатать её редакции поехавшего к своему герою, чтобы получить от него добро. Кассиль статью прочитал, и она ему понравилась. «Я, – пишет Сарнов, – уже совсем было собрался откланяться, решив, что статья моя как бы уже «завизирована». Но Кассиль его остановил, сказав, что у него есть одно, но серьёзное замечание:
– Почему, – неожиданно строго спросил он, – вы не написали, что я лауреат Государственной премии? Что за свою литературную работу я был награждён орденом Трудового Красного Знамени и двумя орденами Знак Почёта?
«Слегка ошеломлённый, – пишет Сарнов, – я невнятно заверил его, что исправлю эту свою оплошность».
Но оказалось, что этим замечанием Кассиль не ограничился:
«Провожая меня в дверях, он наморщил лоб, словно припоминая что-то важное, и сказал:
– Да… Не забудьте, пожалуйста, упомянуть, что я был депутатом Верховного Совета РСФСР…
Помолчал – и добавил:
– Двух созывов».
Книга Б. Сарнова называлась «Перестаньте удивляться!». Я и не удивился. Сам столкнулся с тем же.
22 ИЮНЯ
Сравнительно недавно мне довелось перечитать «Районные будни» Валентина Овечкина – публицистику, написанную более полвека назад. Прочитал и задумался: вот книга, которая запечатлела время и умерла вместе с ним. Сегодня она читается как «преданья старины глубокой».
А ведь писал об Овечкине мой старший наставник Владимир Михайлович Померанцев в своей статье «Об искренности в литературе»:
«Да, сказал мне приятель, но литература не может всегда быть такой прямолинейной. «Районные будни» – очерки, а не роман. В этом жанре легче брать быка за рога.
Жанр!
Но, во-первых, не всякий писатель умещается в жанр, и «Районные будни» – не очерки обычного типа. «Гости в Стукачах» того же Овечкина написаны в жанре рассказа, но количество мыслей от этого вовсе не снизилось, а вместе с красками выросло. Яркую речь деда-сторожа вы невольно прочитаете несколько раз, и она западает вам в память, потому что вместе с метафорами запечатлелись и мысли. Очерк! Нет, художественная публицистика Валентина Овечкина куда ближе к искусству, чем иное искусство к публицистике, заслуживающей именоваться художественной.
Во-вторых, дело вовсе не в том, чтобы брать быка за рога. Ведь хозяйственные соображения об МТС и колхозах Овечкин мог сообщить докладной запиской в ЦК. Но они справедливо сделались литературной темой, когда за ними читатель увидел живых трактористов, комбайнеров и районных партийных работников, услышал переливы их голосов, почувствовал в этих людях биение непрестанно ищущей мысли.
Именно новые мысли волнуют нас в этой книжке. Поэтому-то мы и ездим с Овечкиным, ищем, поражаемся, решаем и думаем, чтобы снова решать. Мы недовольны, когда Овечкин высаживает нас из мартыновской брички и не позволяет дознаться во всём до конца. Но если мы вместе не доискались, то станем додумывать сами. Пусть Овечкин не резюмирует – наша мысль уж разбужена.
Возя нас по району, Овечкин невольно, без всякого умысла, заставил потускнеть и поблёкнуть председателей колхозов из кубанской станицы. Мы почувствовали предельные линии романа о них, отсутствие в нём проблематики. Читая его, нам не о чем было задумываться».
«Председатели колхозов из кубанской станицы» – это о романах С. Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды», «Свет над землёй» в двух книгах, за которые Бабаевский получил три сталинские премии (да, за каждую книгу «Света над землёй» отдельно!). Померанцев не показывает фиги в кармане: переходя к очеркам Овечкина, он называет бездарного автора: «Когда появились романы С. Бабаевского, то я не узнал из них чего-либо такого, что не было бы раньше известно по однотемным книжкам и очеркам и даже просто из газетных статей. Открытий они, на мой взгляд, не содержали. Я не понял, почему критики так безудержно захваливают эти книги».
Собственно, потому и попала статья Померанцева, напечатанная в «Новом мире» в 1953 году, под жестокий огонь из орудий всех критических калибров – вплоть до возмущённых выступлений делегатов второго съезда писателей СССР (1954), что он противопоставил правду жизни в очерках Овечкина раскрашенной чудовищной лжи, процветавшей в таких романах, как у С. Бабаевского. И когда в первый раз снимали Твардовского с поста главного редактора «Нового мира», ему в вину были поставлены, в частности, и публикация статьи Померанцева, и публикация очерков Овечкина.
Что мы выносим из очерков Овечкина? Что сталинская колхозная жизнь была не тем крепостным правом, которое существовало в России XIX века. А тем, какое было значительно раньше – не оброчным, а барщинным – когда крестьяне гнули спину от зари до ночи на помещика. Не зависимого от кого-либо помещика с председателем колхоза не сравнишь, как и с его непосредственным начальником первым секретарём райкома партии. Да и у райкома было взыскательное начальство и у обкома было не менее взыскательное. Овечкин не выступал против колхозов, по существу он призывал ввести более лёгкую стадию этого нового крепостного права – оброчную. Что до его героев, то мне они показались чуть отретушированными и слегка загримированными. Но и в таком виде они обрадовали Померанцева. И понятно: до сих пор в художественной литературе о колхозном селе действовали не люди, а манекены.
Но в то время критиковать устройство колхозной жизни значило – покушаться на государственные устои. Потому и били Валентина Владимировича Овечкина, родившегося 22 июня 1904 года.
Любопытно, что в двадцатых годах Овечкин был председателем сельскохозяйственной коммуны, работал секретарём сельского парткома, заведующим орготдела райкома партии.
Но после войны, которую он прошёл офицером пехоты, в первой же своей повести «С фронтовым приветом» Овечкин выразил надежды на то, что будут исправлены недостатки, какие он видел в довоенной деревне.
С 1948 года он живёт в Курской области в городе Льгов, где написал пьесу «Настя Колосова», затронувшую вопросы о показных успехах в колхозной жизни и о сокрытии недостатков в ней.
Его очерки, помимо прочего, затрагивали и партийную номенклатуру. Точнее будет сказать: районного номенклатурщика, который выведен Овечкиным в образе первого секретаря райкома Борзова. Всего только одного, но по тем временам это было неслыханной дерзостью, которую, по мнению партийного начальства, следует окоротить.
И когда Овечкин после поездки на целину в Омскую область 1960 года выступил на Курской партийной конференции против волюнтаризма и показухи, он столкнулся с таким ответным шквалом грозных обвинений в свой адрес, что у него случился нервный срыв. Впечатлительный писатель не вынес оскорблений и угроз. Он предпринял попытку самоубийства, в результате чего лишился глаза. Ему пришлось в 1963 году переехать в Ташкент.
А в Ташкенте жить ему было не на что. Он хотел вернуться в Россию, но помешал инфаркт, помешало безденежье. В Ташкенте Валентин Владимирович и умер 27 января 1968 года.
* * *
Мария Павловна Прилежаева, родившаяся 22 июня 1903 года, многим запомнилась благодаря бесконечно переиздававшейся книге для детей «Жизнь Ленина».
Вот главка из неё. Называется «Будь товарищем»:
«Зазвенел звонок к уроку. Второклассники с шумом занимали места. Была весна. Окна были открыты. Вдруг с улицы на подоконник вскочила кошка.
– К нам новичок! – хохоча, крикнул кто-то.
Вошёл учитель. Мальчик, сидевший у окна, недолго думая, схватил кошку, сунул в парту, захлопнул крышкой.
– Начнём урок, – сказал учитель, поднимаясь на кафедру и поправляя на носу пенсне.
«Мяу», – промяукала кошка.
– Что такое? – строго сдвинул брови учитель.
В классе послышались кашель и шорохи, у кого-то шлёпнулись на пол книги. Гимназисты старались всячески заглушить мяуканье кошки в парте. А она всё пуще: «Мяу, мяу, мяу».
Мальчик перепугался, что влетит от учителя, и выпустил кошку. Кошка как ни в чём не бывало, направилась между партами к учительской кафедре.
Второклассники замерли.
Учитель побагровел, пенсне упало с носа, повисло на шнурке.
– Что за безобразие? Кто принёс?
– Мы не приносили. Она сама вскочила в окно.
– Кто спрятал? Сейчас же сознавайтесь. Кто спрятал кошку? Назовите тотчас!
Ни звука в ответ. Никто не оглянулся к окну, где тот мальчик сидел ни жив ни мёртв от грозного крика.
– Смутьяны! – сказал учитель. – Будет доложено инспектору.
Урок прошёл в глубокой тишине. После звонка, когда учитель удалился, Володя вышел перед классом:
– Будем молчать!
– Верно, Ульянов! Не выдавать! Ни за что!
С последней парты поднялся один второклассник, длинный, тонкий, неслышный. Бочком незаметно ушёл. «Куда он?» – удивился Володя. Но некогда было раздумывать. Обсуждали происшествие. Никто не обратил внимания на то, что Длинный ушёл.
– Ребята, – сказал Володя, – молчать, как один.
– Как один! – подхватил второй класс.
Было и боязно, и дружно, и какой-то у всех был подъём. Длинный вернулся, сел за парту.
В конце перемены появился инспектор, выпячивая грудь в зелёном мундире:
– По местам!
Вмиг второклассники были за партами. Стояли. Что будет?
Инспектор леденящим взглядом обвёл второклассников и… задержался на мальчике, спрятавшем кошку.
– Вон из класса! Единица за поведение. В карцер!
Мальчик, ошеломлённый, поникнув, отправился в карцер. Все были поражены. Как мог инспектор узнать? Кто-то наябедничал. Кто?
Володя оглянулся на Длинного. У того горели уши, пугливо шныряли глаза…
Плохо стало в классе. Каждая, даже небольшая, проказа и малейшая шалость становились известны инспектору. Ежедневно кого-нибудь то в карцер, то без обеда. Мальчики стали подозрительны. Боялись дружить. У всех вертелась мысль: «Кто же, кто ябедничает инспектору?»
Однажды в перемену Володя увидел: из кабинета инспектора выскочил Длинный и, прячась, шмыгнул в ребячью толпу. «Он», – понял Володя.
– Он ябедничает, – сказал Володя товарищам.
Многие уже и сами догадывались.
– Я его изобью! – сжимая кулаки, возмущался Дима Андреев, Володин товарищ. – Ребята, подстережём его на улице, проучим.
– Лучше по-другому проучим, – сказал Володя. – Объявим бойкот.
– Что такое бойкот?
– Не разговаривать, не отвечать на вопросы, не замечать, будто его нет.
Как раз вошёл Длинный. Глаза, как всегда, жалко суетились и бегали. Он заметил, все умолкли при его появлении.
– Какой сейчас у нас будет урок? – спросил Длинный.
Никто не ответил. Один мальчик подбежал к доске, написал крупно: «С ябедами не разговариваем» – и быстро стёр тряпкой.
Длинный съёжился и, втянув голову в плечи, ушёл за свою парту.
Володя его презирал. Когда Длинный попадался навстречу, Володя глядел мимо. И все так. Длинный остался один, совершенно один. Никто не говорил с ним ни слова. На него не глядели. Не замечали.
Шли дни. Шла неделя, другая, третья. Доносов не стало. Второклассников не сажали каждый день в карцер.
– Он перестал ябедничать, мы его проучили, – говорили между собой второклассники. Но по-прежнему не замечали его.
Раз после уроков Володя вбежал в пустой класс взять забытую книжку. Длинный сидел на последней парте и плакал. Володя подошёл:
– Ты раскаялся? Ты больше не будешь?
Длинный поднял дрожащее, залитое слезами лицо. С ним говорили, он не верил ушам!
– Никогда, никогда! – залепетал он. – Я от страха. Я боялся, что инспектор прогонит меня из гимназии за то, что плохо учусь. Не могу я так жить, без товарищей!
– Будь сам товарищем, и у тебя будут товарищи, – ответил Володя. – Ну ладно, мы верим. Уговорю ребят, что тебе можно верить.
И бойкот Длинному во втором классе кончился. Никто не поминал прошлого. Длинный получил урок на всю жизнь… И все второклассники получили урок».
Словом, как писал Маяковский, «он к друзьям милел людскою лаской, он к врагу вставал железа твёрже». Ребёнком. Во втором классе.
Сами понимаете, такой человечный, справедливый, пользующийся авторитетом у товарищей Володя Ульянов не мог не быть отмеченным Государственной премией за детскую литературу.
Мария Павловна была награждена не только этой премией. Получила она и премию Ленинского Комсомола и три ордена (в их числе орден Ленина). Входила в редколлегию журнала «Юность» и во все правления Союза писателей – московское, республиканское, союзное.
Но при этом все вспоминают о ней тепло. Она многим помогала печататься, сочувствовала инакомыслящим, давала в долг без отдачи. Особенно эти её качества проявились во времена борьбы с космополитами, то есть с евреями. Многие ощутили её бескорыстное желание помочь.
Умерла 10 апреля 1989 года.
Была хорошим человеком.
23 ИЮНЯ
Анна Ахматова – поэт-легенда, Анна Андреевна Ахматова родилась 23 июня 1889 года. Её биография слишком известна, чтобы её напоминать.
Поэтому вместо биографии поделюсь небольшим воспоминанием о том, как мы с Михаилом Рощиным, с которым составляли отдел литературы в журнале «РТ-программы» (он – зав, я – обозреватель), сумели напечатать стихотворение Ахматовой «Перевод с армянского».
Борис Ильич Войтехов – главный редактор журнала – отсидел при Сталине десять лет в лагере, вернулся ненавистником не только Сталина, но всего советского режима. Шла вторая половина 1966 года. Во все органы печати было разослано решение секретариата ЦК КПСС о праздновании пятидесятилетия Октября. «Да, – подтверждал Войтехов, – мы с вами его отпразднуем достойно!» «То есть так, как он того стоит», – уточнял Борис Ильич и мстительно, как нам с Мишей казалось, улыбался. До этого цековского решения Войтехов, ознакомившись с материалом нашего отдела, говорил: «А вы можете гарантировать, что после публикации, – он стучал ладонью по материалу, – о нас будут говорить все. Все!» «Да, – подтверждал кто-нибудь из нас. И, зная Войтехова, добавлял: – Если, конечно, это пропустит цензура». «Ну, это уже моя задача», – вскидывался главный редактор. Однако в сражении с цензором он побеждал далеко не всегда. Мы были журналом Радиокомитета. А там цензоры чуяли крамолу, как хорошо натасканные гончие. Но поражений Войтехов не признавал. Он всё время бил в одну точку и – надо отдать ему должное – нередко пробивал материалы, от которых у знающих конъюнктуру людей круглились глаза: «Как вам это удалось!»
Сам Борис Ильич материалы, заявленные отделами в номер, читать не любил. Говорили, что отвык от чтения в лагере. Но слушателем был прекрасным. Различал на слух порой даже не очень приметную фальшь.
Словом, когда Рощин, прежде работавший в «Новом мире» Твардовского, принёс оттуда от секретаря редакции Натальи Бианки стихотворение Ахматовой, мы договорились, как будем обрабатывать Войтехова.
Кто такая Ахматова, ему объяснять было не надо: он помнил и постановление ЦК о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград», и доклад Жданова на ту же тему. Знал, что особенно хамски Жданов обрушился на Ахматову и Зощенко. Зощенко был его любимым писателем, и мы звонили вдове Зощенко Вере Владимировне в Ленинград, предлагая напечатать у нас что-нибудь из зощенковского архива. Но Вера Владимировна сказала, что есть некоторые вещи, которые давно не перепечатывались, – газетные фельетоны. Однако на её взгляд, они не дают настоящего представления о даровании её покойного мужа. Осталась только большая вещь – «Перед восходом солнца», но давать из неё куски она не будет. А целиком нам её не напечатать.
Войтехов, узнав об этом, был очень недоволен. «Действительно большая вещь?» – спрашивал он. «Ну, не меньше двадцати листов», – отвечали мы. «Да, – задумчиво говорил Войтехов, – растянули бы на год, печатая из номера в номер». «Нет, не потянем!» – честно признавался он.
Итак, планёрка. У Рощина в руках стихотворение Ахматовой». «Ахматова? – переспрашивает Войтехов. – Неопубликованное? Откуда?» «Из «Нового мира», – отвечает Рощин. И добавляет: – Они напечатать не смогли!» О, как страстно заглатывает Борис Ильич нашу приманку: «Не смогли? А мы сможем! Читайте». И Миша читает:
Я приснюсь тебе чёрной овцою На нетвёрдых, сухих ногах, Подойду, заблею, завою: «Сладко ль ужинал, падишах? Ты вселенную держишь, как бусу, Светлой волей Аллаха храним… Так пришёлся ль сынок мой по вкусу И тебе, и деткам твоим?»Войтехов вскочил на ноги.
– Гениально! – сказал он. – Это как раз то, что нам надо. Мы это непременно напечатаем. И не в этом номере (речь шла о том, который должен выйти через две недели), а в самом ближайшем. Остановите печать, – сказал он работникам секретариата. – Снимите любой небольшой материал и поставьте это стихотворение. В преддверии великого праздника мы печатаем великое стихотворение!
Нельзя сказать, что Илья Суслов, зам ответственного секретаря, был обрадован таким поворотом дела. «Опять ломаем номер! – говорил он нам. – Опять выходим из графика! Ох, и доиграется он!»
«Он» – это Войтехов. В конце концов, он действительно доигрался. Его сняли, а редакцию разогнали. Но в случае со стихотворением Ахматовой он выиграл. Цензор, к моему удивлению, пропустил стихотворение. Впрочем, это позже появилась инструкция цензуре обращать внимание на так называемые «неуправляемые ассоциации» и не пропускать материалы с ними. Так в «Новом мире» Твардовского не пропустили статью о Гитлере, мотивировав «неуправляемыми ассоциациями» в ней: дескать, автор пишет о Гитлера, а читатель решит, что о Сталине. Вот и Анна Андреевна пишет о некой армянке, чей сын «съеден» по приказу турецкого властителя, а имеет в виду своего арестованного сына. Но пойди – докажи, что это так!
Когда я читал это стихотворение у нас в журнале, мне казалось, что на меня смотрит и улыбается автор, умерший совсем недавно, – 5 марта 1966 года.
* * *
Не знаю, забыт или нет сейчас смоленский поэт Николай Иванович Рыленков, скончавшийся 23 июня 1969 года (родился 15 февраля 1909-го). Я не о читателях говорю. Наверняка большинство из них о нём даже не слышало. Я о поэтах. Не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из современных стихотворцев назвал Рыленкова своим учителем.
Сам Рыленков однажды написал:
Взвесят критики всё: и терпенье и труд, Средь хороших и разных мне место найдут. Отдохни, мол, Кастальскому внемля ключу… Но и тут своих критиков я огорчу. Заскучаю, с почётного места сбегу — Погостить у весны на заречном лугу. С летом выпить кваску на колючей стерне… Пусть гадать погодят на моей седине!Ну, не знаю, нашли ли ему критики достойное место, но впечатление такое, что он с него действительно сбежал и куда-то затерялся.
Потому что было время, когда имя Рыленкова что-то говорило и читателю. Ведущим поэтом он никогда не считался, но относились к нему уважительно. Писал он чисто, грамотно. Надеюсь, что вы в этом убедились, читая приведённое мной стихотворение.
Вот ещё одно:
Я не знаю своей родословной, Дальше прадедов счёт не идёт, Только знаю – в родне моей кровной Были все не гулящий народ. В праздник – песенники, балагуры, В будни – слово клещами тяни. И хоть драли с них разом три шкуры — Всё равно выживали они. Дома разве зимой ночевали, Чуть весна – у костров на станах. Ляда прятали, пни корчевали, Нагоняя на лешего страх. Жито ль сеяли, траву ль косили — На земную молились красу. И дивились медведи их силе, Уступая дорогу в лесу. Говорили друг другу соседи: – Что б у них ни случилось в дому, Работяги двужильные эти Не пойдут на поклон ни к кому. Не заплачут, на улицу выйдя, Всё, как есть, из избы вынося… Я на предков моих не в обиде, Коль характером в них удался!Не знаю, в кого удался Рыленков характером, но вряд ли удался в предков, в свой, как он пишет, «не гулящий народ».
Во всяком случае, мне так не показалось.
В апреле 1968 года я поехал в гостиницу «Россия», где остановился Николай Рыленков. Дело шло о какой-то его статье: что-то в ней не удовлетворило начальство «Литгазеты», и я её сильно переписал. Теперь требовалось согласие автора, который выразил желание прочитать гранки, но сказал, что слегка простужен, приехать не может и лучше, если я приеду к нему с лекарством.
– С каким лекарством? – не понял я.
Рыленков хмыкнул:
– Плачу я. Просто не хочется переплачивать: в ресторане оно стоит дороже.
Я понял.
Явился к нему с двумя бутылками водки. Но на стол поставил только одну: поэт явно уже был разогрет.
Гранки Рыленков подписал, не читая, попытался вручить мне деньги за водку, я их брать отказывался.
– Ну, тогда, – сказал поэт, – купите на эти деньги закуски в буфете на этаже. Посмотрите, что там есть. Бутерброды с колбаской, может, салатик, селёдочка. Для вас это не слишком обременительно?
Для меня это было не обременительно. По пути к Рыленкову я заметил буфет в коридоре и понимал, что он недалеко. Он оказался ещё и совершенно пустым – ни одного человека. Буфетчица помогла мне установить тарелки на поднос, и я отправился назад. Балансируя подносом, я открыл дверь номера, поставил тарелки на журнальный столик и получил весьма церемонное приглашение поэта разделить с ним трапезу.
– И я почитаю вам стихи, – сказал он.
Это обещание меня не обрадовало. Но Рыленков отнёсся к нему со всей серьёзностью. Не успели мы выпить по первому полстакана, как поэт, прожевав взятый с бутерброда кусок колбасы, сказал: «Ну, начинаю!» И поднял с дивана лежащие на нём листки бумаги.
По правде сказать, я вообще не люблю слушать стихи. Из-за слабого слуха я доверяю больше своим глазам, а не ушам. А если стихи мне не нравятся, я вообще их слушаю вполуха, не слишком вникая в смысл.
Рыленков читал, а я думал о своём. Точнее, о нём, о Рыленкове. Сказывался полстакана водки, которую я успел закусить небольшим ломтиком селёдки. Обычно чем больше я выпиваю, тем глубже проникаюсь симпатией к собутыльникам. Жалко мне стало немолодого поэта. «Сколько стихов написал, – думал я. – А останется от них для потомства хотя бы строчка?»
Мерное, ритмичное чтение внезапно оборвалось.
– Как? – спросил Рыленков.
– Здорово! – соврал я.
– Звукопись на «д» и на «т» – это же движение и в то же время отстаивание своей правоты. Оценили?
Конечно, нет. Я никакой звукописи не уловил.
– Ещё бы! – сказал я поэту.
Разливая водку, он, улыбаясь, сообщил: «Да! Мне многие так и говорили: «Коля! Твардовский от зависти руки себе изгрызёт! Ты здесь стоишь вровень с Исаковским!».
– А можно посмотреть глазами? – спросил я, заедая водку бутербродом.
– Конечно, – великодушно разрешил Рыленков, явно истолковав мою просьбу как лишнее свидетельство восхищения.
Как я и думал, рыленковские знакомые привирали: стихи не дотягивали до Исаковского, не то что до Твардовского. Грамотные, старательные без какого-либо отпечатка личности автора.
– Ну как? – спросил меня Рыленков. И снова налил.
– Да! – изобразил восторг я и вспомнил рыленковских знакомых.
Не успели мы закусить очередную порцию, как в дверь постучали.
– Это Женя, – сказал, поднимаясь со стула Рыленков, – входи, дорогой!
В комнате появился литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Вопросы литературы» Евгений Иванович Осетров. Рыленков с ним крепко расцеловался.
– Знакомься, – сказал он ему.
– Кто же не знает Красухина? – заулыбался Осетров, пожимая мне руку. – Что-нибудь печатаешь в «Литгазете»? – спросил он хозяина.
– Не что-нибудь, а статью на три четверти полосы, – сообщил я.
– Рано обмываете, – сказал Осетров. – Статья ещё выйти должна.
– Да мы не по этому поводу, – Рыленков лучился довольством. – Мы со знакомством. Хорошая у нас с тобой, Женя, растёт смена. Любящая поэзию. Понимающая стихи. Надо бы нам всем сейчас закрепить наше дружество, – он посмотрел на пустую бутылку, а потом на меня. – Вас не затруднит спуститься в ресторан и…
– Затруднит, – сказал я и достал из портфеля бутылку.
– За что я люблю русского человека, – вскричал Рыленков, – так это за его смекалку! Возьми, Женя, стакан в ванной, на полке.
– Вот и мой молодой друг, – сказал Рыленков Осетрову во время этой нашей попойки, – тоже считает, что Твардовский от таких стихов, – он потряс своей рукописью, – изгрызёт себе руки от зависти. Это на уровне Исаковского.
– Дай-то бог, – забрал у него рукопись Осетров и углубился в чтение. – Да, – сказал он, закончив читать, – ты, Коля превзошёл сам себя!
Я подумал о рыленковских знакомых, но Осетров клонил к другому.
– Вы правы, Геннадий, – сказал он мне, – Твардовскому таких стихов сейчас не написать. Исаковский мог бы. А почему? Потому что он душою со своим народом. Вот и Коля душою со своим русским народом.
– А Твардовский? – удивился я.
– Был, – твёрдо сказал Осетров. – И когда был, какие вещи писал! «Василий Тёркин», «Страна Муравия».
– Ну, «Муравия»… – неопределённо протянул Рыленков.
– Очень сильная, Коля, вещь, – убеждённо ответил Осетров, – выражающая душу русского крестьянина. А что сейчас?
– А сейчас, – сказал я, – «Из лирики этих лет». Великая книга.
– Великая? – вскричал Осетров. – На уровне «Василия Тёркина»?
– По художественной силе – на уровне, – ответил я. – Помните «Памяти матери»? А «Перевозчик-водогребщик»?
– Неплохие стихи, – согласился Осетров. – Но на них лежит отсвет нынешнего окружения Твардовского.
– Сионистского, – уточнил Рыленков.
– Да, – согласился Осетров. – Не поддайся Твардовский этим своим сионистам в «Новом мире», ему бы и сейчас как поэту цены не было.
– Почему именно сионистам? – удивился я. – Кто именно в «Новом мире» сионисты?
– Вот так вопрос! – Осетров изумлённо развёл руками. – Да вы откройте справочник Союза писателей и проверьте имена-отчества авторов, допустим, критического раздела журнала Твардовского. Там давно уже сформировалось сионистское лобби.
– Крепкое, – подтвердил Рыленков, – сплочённое, продвигающее друг дружку!
– Причём тут имена-отчества? – спросил я. – Какое это имеет отношение к сионистам?
– Самое прямое, – сказал Осетров. – Вот меня, например, зовут Евгений Иванович, его, – он показал на Рыленкова, – Николай Иванович, вас – Геннадий… – он вопросительно посмотрел на меня.
– Не Иванович, – разочаровал было я его, – Григорьевич.
– Нет вопросов, – резюмировал Осетров. – Нормальное русское отчество. Не Наумович и не Абрамович.
– Так вы про сионистов говорите или про евреев?
– А это, как правило, одно и то же. Кстати, вы недавно в «Литгазете». Заметили, наверно, сколько там сионистов? Неудивительно, если во главе стоит Александр Борисович Чаковский. А он…
– Он не сионист, – сказал я, – он еврей.
– Нам, русским людям, которым дорога наша национальная литература, – начал Осетров, – нужно быть особенно бдительными, находясь в таких коллективах. Очень хорошо, что вы пришли в «Литературную газету». Сможете присоединиться к тем, кто противостоит там сионистскому напору.
– Не смогу, – ответил я. – Если сионисты – это попросту евреи, то не смогу. Потому что и сам имею какое-то отношение к этой нации.
Я не помню, как мы расстались. Немой сцены не было.
* * *
Вот, на мой взгляд, кому не повезло, так это Александру Христофоровичу Бенкендорфу, родившемуся 23 июня 1782 году.
Ну, погибни он на фронтах войны с Наполеоном, и вошёл бы в историю как выдающийся военачальник, герой войны, военный комендант Москвы после ухода из неё Наполеона, блистательный генерал, взявший при преследовании наполеоновских войск в плен трёх генералов и более 6000 нижних чинов. Наконец, как прекрасный военный стратег, сумевший в 1813-м одержать немало побед над наполеоновскими войсками в Пруссии, очистить от них Голландию, взять бельгийские города, а в 1814-м – командовать всей конницей у генерала Воронцова, участвовать в победном для объединённой прусско-русской армии сражении под Краоном, во многом предопределившем исход войны.
А умри Бенкендорф в год смерти императора Александра, и он остался бы в благодарной памяти соотечественников тем смельчаком, который во время петербургского наводнения 1824 года спрыгнул с балкона, на каком стоял рядом с императором, доплыл до лодки и весь день спасал народ вместе с военным губернатором Петербурга М.А. Милорадовичем.
Но, увы. История, как известно, сослагательного наклонения не знает. После восстания декабристов новый император России Николай I 25 июня 1826 года назначает Бенкендорфа шефом жандармов, а через восемь дней ещё и главным начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярией и начальником Главной Его Императорского величества квартирой.
И – всё. И репутация Бенкендорфа у современников и потомков оказалась безнадёжно загубленной.
И вышло, что война 1828–1829 гг. с турками, где Бенкендорф сопровождал государя, отличился в сражениях, был за это произведён в генералы от кавалерии, не добавила положительных красок репутации генерала. В 1832 году он будет возведён в графское достоинство, но все обратят внимание не на его военные заслуги, а на то, какой пост он занимал. Получалось, что в графское достоинство был возведён главный жандарм России.
Об их отношениях с Пушкиным хорошо известно. Царь назначил Бенкендорфа быть своим посредником между собой и поэтом, и Бенкендорф осуществлял эту роль весьма ревностно. Известно, как возмутился Пушкин, узнав, что его личная переписка перлюстрируется тайной полицией. «Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство á la letre (буквально – фр.)», – писал он жене. Знаем, как строго взыскивал с поэта Бенкендорф за любую оплошность, любое нарушение императорской воли.
Современники ещё могли уважать графа Бенкендорфа за то, что назначенный в 1840 году присутствовать на заседаниях комитетов о дворовых людях и по преобразованию еврейского быта, он, в отличие от многих, благожелательно относился к евреям и способствовал улучшению их быта.
Но в памяти потомков он остался императорским цербером – сторожевым псом империи Николая Первого. Умер Бенкендорф 23 сентября 1844 года.
* * *
Галина Николаевна Демыкина выступила в печати сравнительно поздно. В 35 лет её стихотворную подборку напечатал журнал «Новый мир». Было это в 1960 году. С тех пор Галина Демыкина работала в литературе весьма активно. За 30 лет выпустила 40 книг.
Это были не только стихотворные сборники. Демыкина писала лирическую прозу, встав вровень с такими писательницами, как Алла Белякова и Руфь Зернова. Писала детские книжки и повести для юношества. Писала для взрослых, не утративших чудесного дара – воспринимать жизнь в её полноте и правоте.
Скончалась Галина Николаевна 23 июня 1990 года (родилась 4 февраля 1925-го).
Осталось в памяти вот это её стихотворение:
Мне сказала знакомая собака, Что жила у любимого в доме: – Как трудны мне ваши экивоки, Мне неловко за вас и больно. Я тебя полюбить успела Люблю мою добрую хозяйку, И детишек её, и маму В тёплых тапках из меха кошки. И глянула честными глазами, — Так и я когда-то глядела. И сахар взяла без пижонства: Дружба дружбой, а правда правдой. С той поры прошло четыре года. Я давно не бываю в этом доме. Первый год я бегала топиться. На второй всё ждала: вернётся. Третий был карусель без веселья. А теперь помню только собаку.* * *
С братьями Киреевскими – Иваном Васильевичем и Петром Васильевичем – Пушкин познакомился в доме их матери А.П. Елагиной.
Особенно сблизился поэт с Иваном Киреевским. Писал ему в 1832 году после выхода первого номера журнала Киреевского «Европеец»: «Дай бог многие лета Вашему журналу!»
Увы, многие лета Бог журналу не дал. Киреевский выпустил всего один номер. Цензура усмотрела в помещённой в журнале статье самого Киреевского «Девятнадцатый век» «отголоски июльских дней» – то есть проповедь автором идей Июльской революции 1830 года во Франции. А царь и вовсе нашёл в статье скрытое требование конституции для России. Журнал был запрещён и закрыт. Не помогло Киреевскому и заступничество Жуковского, который отправил два письма Николаю I и Бенкендорфу. Бенкендорфу он, в частности, писал: «Литература есть одна из главных необходимостей народа, есть одно из сильнейших средств в руках правительства действовать на умы и их образование. Правительство должно давать литературе жизнь и быть ей другом […] а не утеснять подозрительностью враждебною». Но жандармский цербер, как и царь, смотрел на роль литературы в обществе иначе, чем Жуковский.
Неблагонадёжным Ивана Киреевского считали долго. В сороковых годах он пытался и не смог получить философскую кафедру в Московском университете.
В 1852 году он принял участие в славянофильском издании журнала «Московский сборник». Там Киреевский, разделявший славянофильские взгляды, напечатал статью «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению в России». Снова статья раздражила Николая, который из-за её публикации закрыл журнал.
О раннем славянофильстве хорошо написал Герцен в своей книге «Былое и думы». Он показал, что это были оппозиционные режиму сподвижники России, не имеющие ничего общего с поздним сервильным славянофильством.
Иван Киреевский близко сошёлся со старцами Оптиной пустыни, работал над изданием сочинений Отцов Церкви.
Но его философские работы увидели свет только после его смерти. Иван Васильевич умер от холеры 23 июня 1856 года (родился 3 апреля 1806-го). Похоронили его в Оптиной пустыни. А через несколько месяцев в журнале «Русская беседа» была напечатана его статья «О возможности и необходимости новых начал в философии».
В том же году был издан двухтомник трудов И. Киреевского.
Очень возможно, что изданию Ивана Киреевского поспособствовала смерть Николая Первого в 1855 году.
24 ИЮНЯ
Есть в дружбе счастье оголтелое И судорога буйных чувств — Огонь растапливает тело, Как стеариновую свечу. Возлюбленный мой! дай мне руки — Я по-иному не привык, — Хочу омыть их в час разлуки Я жёлтой пеной головы. Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли, В который миг, в который раз — Опять, как молоко, застыли Круги недвижущихся глаз. Прощай, прощай. В пожарах лунных Дождусь ли радостного дня? Среди прославленных и юных Ты был всех лучше для меня. В такой-то срок, в таком-то годе Мы встретимся, быть может, вновь… Мне страшно, – ведь душа проходит, Как молодость и как любовь. Другой в тебе меня заглушит. Не потому ли – в лад речам — Мои рыдающие уши, Как весла, плещут по плечам? Прощай, прощай. В пожарах лунных Не зреть мне радостного дня, Но всё ж средь трепетных и юных Ты был всех лучше для меня.Это стихотворение Сергея Есенина называется «Прощание с Мариенгофом».
Друг Есенина Анатолий Борисович Мариенгоф скончался 24 июня 1962 года. Его шестидесятипятилетнее пребывание на этом свете (он родился 6 июля 1897 года) знает бурные периоды. Один из самых бурных – встреча с С. Есениным. Дружба с ним занимает важное место в биографии обоих поэтов. Оба вместе с Вадимом Шершеневичем и Рюриком Ивневым оформили группу поэтов-имажинистов, издавших четыре выпуска журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасное».
«Имаже» – по-французски «образ». Образ, слово-метафора занимают ведущую роль в эстетике имажинистов. В своей «Декларации» имажинисты утверждали, что их единственным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов. «Только образ, как нафталин, пересыпающий произведение, спасает это последнее от моли времени. Образ – это броня строки. Это панцирь картины. Это крепостная артиллерия театрального действия. Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейки газет на картины».
Мариенгоф в издательстве «Имажинисты» за короткое время (1919–1923) издаёт семь поэтических сборников. Оценки критиков взаимоисключающие – от панегириков до чуть не площадной ругани.
С 1919 года Есенин и Мариенгоф поселяются вместе и на четыре года становятся неразлучны. Вместе ездят по стране. Публикуют в печати письма друг к другу, эпатируя этим читающую публику. Есенин посвятил своему другу стихотворение «Я последний поэт деревни», поэму «Сорокоуст», драму «Пугачёв». Разошлись поэты в 1923 году.
Их беззаветная дружба побудила в будущем критиков так называемого «патриотического» направления говорить о резко отрицательном влиянии, которое якобы оказал на Есенина Мариенгоф. Между тем ни автобиографическая книга «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» (в сокращённом и приглаженном варианте – «Роман без вранья») Мариенгофа, ни воспоминания о дружбе этих поэтов друзей Есенина подобного влияния не зафиксировали. Надо сказать, что оба друга писали резко самобытные стихи. Так что их расхождение не отразилось на их творчестве.
Мариенгоф отличался необузданным темпераментом. Его и выразил в своих романах «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930), опубликованные в Берлине. Когда сам факт публикации за границей стал считаться чуть ли не изменой родине, Мариенгофа подвергли резкой проработочной критике. Анатолий Мариенгоф вынужден был признать её справедливость.
В последующем Мариенгоф, женившийся в 1923 году на актрисе Камерного театра А.Б. Никритиной (потом она будет выступать на сцене Ленинградского Большого драматического театра), писал пьесы, радиопередачи в стихах, но ощутимого успеха не имел.
Написал даже в 1948 году пьесу «Суд жизни» в духе борьбы тех лет с космополитизмом, но она не была поставлена и этим, можно сказать, спасла её автора от публичного позора.
Значительно позже его смерти, в годы перестройки вышли из печати запрещённые на родине романы, «Библиотека поэта» издала книгу его стихотворений, наконец, вышло собрание сочинений А.Б. Мариенгофа в трёх томах.
* * *
24 июня 1920 года родился Владимир Гаврилович Харитонов, очень популярный в СССР поэт-песенник. На его слова написаны песни «Мой адрес – Советский Союз», «День Победы», «Фестивальная», «Марш коммунистических бригад», «Россия – родина моя», «Песня борцов за мир».
Ясно, что Харитонов считался государственным поэтом-песенником, что выразилось в присвоении ему звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Ни до него, ни после ни один поэт-песенник такого звания не был удостоен.
Но лирические песни на его стихи были популярными. Их пели Эдита Пьеха и Майя Кристалинская, Георг Отс и Муслим Магомаев, Юрий Гуляев и Владимир Трошин. Его и сейчас исполняют группа Стаса Намина, ВИА «Здравствуй, песня», ВИА «Весёлые ребята», ВИА «Самоцветы», ВИА «Синяя птица», ВИА «Добры молодцы». Причём многие песни написаны на стихи Харитонова после его смерти, последовавшей 14 августа 1981 года. Их находят в 20 поэтических сборниках, выпущенных Харитоновым. Сами же по себе его стихи художественной ценности не представляют.
* * *
Пётр Михайлович Боклевский – знаменитый иллюстратор гоголевских произведений, родился 24 июня 1816 года. Его сделал известным альбом литографских иллюстраций к «Ревизору», выпущенный в 1863 году.
Развивая успех, Боклевский проиллюстрировал «Мёртвые души». Публика хорошо их приняла, несмотря на то, что иллюстратор обеднял содержание гоголевской поэмы, настаивая на однобоких отрицательных характеристиках её героев.
Его иллюстрации к произведениям Тургенева, Достоевского, Мельникова-Печорского уступали иллюстрациям к произведениям Гоголя и потому встретили более прохладный приём.
Последний период жизни Боклевского отмечен бедностью и болезнями, хотя художник и пытался со всем этим бороться, работая над своими иллюстрациями до самой смерти 10 января 1897 года.
* * *
С Владимиром Васильевичем Кобликовым, родившимся 24 июня 1928 года, мне довелось познакомиться в 1967 году в Пятигорске, куда «Литературная газета» командировала меня освещать семинар ставропольских молодых писателей и быть одним из его руководителей. Володя Кобликов вместе с другим учеником Паустовского Львом Кривенко были соруководителями семинара прозаиков. Я вёл семинар поэтов.
Надо подчеркнуть, что, в отличие от Лёвы Кривенко, любимого ученика Паустовского в Литинституте, Владимир Кобликов там не учился. Он окончил Калужский пединститут. Но считался учеником Паустовского после того, как познакомил мэтра со своими рукописями в Тарусе и потом постоянно приезжал в Тарусу с новыми произведениями к Паустовскому, чтобы получить и на досуге обдумать его замечания и редактуру.
Был Кобликов человеком открытой души. Паустовский назвал его «писателем деревенских характеров». Наверное, это справедливо. При своей короткой жизни (он прожил 44 года: умер в 1972 году) успел Кобликов выпустить две небольшие книги «Открытые окна» и «До свиданья, эрлюсы». Вышедшие в Калуге, где он родился и жил, они, разумеется, не обрели всесоюзную известность.
Относительную известность приобрёл Кобликов как редактор, помогавший вместе с другими Паустовскому выпустить в 1961 году сенсационный сборник «Тарусские страницы», который почти сразу же после своего появления был запрещён к продаже и изъят из библиотек специальным постановлением ЦК КПСС. Готовился к печати и второй выпуск сборника, куда должна была войти повесть Кобликова. Перепечатка первого сборника «Тарусских страниц» и выпуск второго были осуществлены уже в годы перестройки и после роспуска Советского Союза.
* * *
Инна Лиснянская, тогда поэтесса, только что переехавшая жить из Баку в Москву, приходила к нам в литературное объединение «Магистраль» обсуждать свои стихи, которые были хорошо приняты студийцами.
Я и в дальнейшем следил за её стихами, слушал их в её исполнении, когда вместе со своим мужем Семёном Липкиным она приходила в гости к моему другу литературному критику Станиславу Рассадину. Это было не один раз, и всегда, после того, как Инна смолкала, читал свои стихи Семён Израилевич. Впечатление от стихов этой семейной пары у нас с Рассадиным складывались одинаковое: Липкин помощнее, но и Лиснянская поэт милостью Божьей.
Липкина в те годы почти не печатали, и он вынужден был с головою уходить в переводы. А у Инны Львовны Лиснянской, родившейся 24 июня 1828 года, проблем с публикацией не было.
Потом они появились и у мужа, и у жены, когда оба не просто выступили в неподцензурном альманахе «Метро́поль» (1979), но вышли из Союза писателей в знак протеста против исключения из него двух составителей – Виктора Ерофеева и Евгения Попова.
Правда, не было счастья, так несчастье помогло: Лиснянская и Липкин стали широко издаваться на Западе, приобрели широкую известность.
Конечно, они рисковали. Их могли выслать, посадить, но время шло к перестройке. А в перестройку оба широко печатались в собственной стране, были отмечены престижными литературными премиями.
Липкин умер первый. Лиснянская его оплакала:
К чему внимание заострять На том, что вместе мы и поврозь? Стрела амура – чтобы застрять. Стрела Господня – чтобы насквозь. Сквозь щель поменее, чем ушко, В какое тщился верблюд пролезть, Проходит то, что давно прошло, И то, что будет, и то, что есть. Вся смерть, прошедшая сквозь меня, Всем чудом жизни во мне болит, И воздух, дующий сквозь меня, Паучьи волосы шевелит, Колышет иву, колеблет пруд, Толкает музыку сквозь камыш… И если песни мои умрут, То, значит, правду ты говоришь, И, значит, нету меня темней, И бред мой сущий – не вещий бред, А ты бессмертен в толпе теней, Поскольку свет сквозь тебя продет.Умерла Инна Львовна 12 марта 2014 года.
* * *
Владимир Абрамович Дыховичный, скончавшийся 24 июня 1963 года (родился 25 марта 1911-го), был очень популярным автором пьес, реприз, юмористических скетчей, которые до войны он писал один (иногда в соавторстве с Б. Ласкиным или с В. Массом и В. Червинским), а, начиная с 1945 года, вместе с Морисом Романовичем Слободским.
Дуэт Дыховичного и Слободского оставил яркий след в нашей сатирической поэзии. Стихи печатались в «Крокодиле», издавались отдельными книжками, читались с эстрады мастерами художественного слова.
По сценарию Дыховичного и Слободского сняты киноленты «Жених с того света» (режиссёр Л. Гайдай, 1958) и «Приятного аппетита» (режиссёр В. Семаков, 1961).
Не говорю уже о популярных песнях. «Днём и ночью», «Старушки-бабушки», «Ленинградские мосты», «Машенька-Дашенька», «Перед дальней дорогой», «Добрый день», «Вас хочу будить утром». Стоит сказать, что самим Дыховичным без соавтора написаны «Два Максима», «Весёлый танкист», «Поезд идёт в Чикаго», «Мишка-Одессит», «Молчаливый морячок». Все названные здесь песни были в репертуаре Л. Утёсова, Э. Утёсовой, К. Шульженко, В. Трошина, А. Йошпе и других известных исполнителей.
* * *
Этого писателя теперь уже представлять не надо. Ивана Сергеевича Шмелёва печатают у нас вот уже четверть века.
Даже прах его (он умер 24 июня 1950 года) и жены захоронен не на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, а с 2000 года перенесён на Донское кладбище в Москве, недалеко, кстати, от того места, где Шмелёв родился 3 октября 1873 года.
Стоит напомнить, что во время революции семья Шмелёвых поселилась в Крыму. Сын, двадцатипятилетний офицер армии Врангеля, был в госпитале, когда Крым взяли красные. Больного офицера арестовали. И расстреляли, несмотря на все отчаянные попытки отца освободить его. Чета Шмелёвых воочию видела все ужасы массовой резни, устроенной в Крыму большевиками.
Это страшное крымское бытие найдёт своё выражение в романе Шмелёва «Солнце мёртвых» (1924), который писатель напишет в эмиграции и благодаря которому получит европейскую известность.
27 лет прожил Шмелёв в Париже, теснее всего общаясь с философом И. Ильиным, к которому чувствовал духовное родство.
Шмелёв много публикуется за границей. Сотрудничает с рядом эмигрантских газет, журналов и издательств.
Книги «Богомолье» (1931) и «Лето Господне» (1933–1948) русская эмиграция приняла с восторгом. Патриархальный русский дореволюционный быт, воссозданный писателем в традиции Лескова, притягивал к себе многие сердца оторванных от родины людей.
Стоит ещё сказать и о том, что немой фильм Якова Протазанова «Человек из ресторана» (1927) был снят по одноимённой повести Шмелёва, написанной им в 1911 году.
25 ИЮНЯ
С Арсением Александровичем Тарковским, родившимся 25 июня 1907 года, я пересёкся лишь однажды, когда вместе с другом – литературным критиком Станиславом Рассадиным пришёл к Кайсыну Кулиеву, который остановился в Москве в гостинице «Россия» и позвал нас к себе. Через некоторое время пришли Арсений Тарковский с женой Т.А. Озерской, переводчицей на русский английских писателей, в частности, таких романов, как «Путь на верх» и «Жизнь на верху» Д. Брейна, «Аэропорт» А. Хейли, «Унесённые ветром» М. Митчелл.
Арсений Александрович оказался весьма остроумным человеком. И если уступал в провозглашении тостов Кайсыну, когда мы сели за ресторанный столик, то очень немного. Но Кулиев был непревзойдённым мастером умения быть тамадой. Я потом спрашивал Фазиля Искандера, не с Кулиева ли он списывал эту черту своего героя – дяди Сандро? Отрицая это, Фазиль признавал, что его Сандро, пожалуй, действительно встанет вровень с Кайсыном.
Но вернёмся к Тарковскому. Дальнейшего развития знакомства с ним после этой встречи не было. Хотя Тарковский и заходил ко мне в «Литературную газету». Но ни эти визиты, обычно заканчивающиеся просьбой о рецензии на вышедшую книгу, ни командировки по случаю Дней литературы в какую-нибудь советскую республику, нас особенно не сближали.
Дело в том, что я не был горячим поклонником его поэзии, и Арсений Александрович это чувствовал. Поэтому относился ко мне сдержанно. А я и не навязывался ему в друзья.
Всемирно известный кинорежиссёр Андрей Тарковский – сын Арсения Александровича от первого брака. Он любил стихи отца. И если вы помните, дал отцу много их цитировать в своём фильме «Зеркало».
Другое дело, что, как и С. Липкин, Тарковский стал переводчиком стихов не от хорошей жизни. Его стихи долго не печатали. Первый его сборник «Перед снегом» вышел, когда Тарковскому было 55 лет. Книгу хвалила Ахматова. В это же время и вышел на экраны фильм «Иваново детство».
Но потом плотину прорвало. Книги Арсения Тарковского стали выходить с интервалом в четыре-три-два года. Десять книг удалось выпустить Тарковскому при жизни.
Я сказал, что не был горячим поклонником его поэзии. Но это совсем не значит, что не нахожу у Тарковского хороших стихов. Нахожу. И готов делиться ими.
Например, его стихотворение «Поэт»:
Жил на свете рыцарь бедный…
А.С.Пушкин Эту книгу мне когда-то В коридоре Госиздата Подарил один поэт; Книга порвана, измята, И в живых поэта нет. Говорили, что в обличьи У поэта нечто птичье И египетское есть; Было нищее величье И задёрганная честь. Как боялся он пространства Коридоров! постоянства Кредиторов! Он как дар В диком приступе жеманства Принимал свой гонорар. Так елозит по экрану С реверансами, как спьяну, Старый клоун в котелке И, как трезвый, прячет рану Под жилеткой на пике. Оперённый рифмой парной, Кончен подвиг календарный, — Добрый путь тебе, прощай! Здравствуй, праздник гонорарный, Чёрный белый каравай! Гнутым словом забавлялся, Птичьим клювом улыбался, Встречных с лёту брал в зажим, Одиночества боялся И стихи читал чужим. Так и надо жить поэту. Я и сам сную по свету, Одиночества боюсь, В сотый раз за книгу эту В одиночестве берусь. Там в стихах пейзажей мало, Только бестолочь вокзала И театра кутерьма, Только люди как попало, Рынок, очередь, тюрьма. Жизнь, должно быть, наболтала, Наплела судьба сама.Арсений Александрович скончался 27 мая 1989 года.
* * *
Английский писатель Джордж Оруэлл родился 25 июня 1903 года. Не задумываясь, отправился в качестве корреспондента английской газеты на войну в Испании. Воевал против Франко на стороне республиканского правительства. Был тяжело ранен фашистским снайпером.
Но после поражения республиканцев, которых поддерживал Советский Союз, разочаровался в социалистических идеях, а точнее сказать, – в тех идеях, какие были воплощены в государстве Сталина. Уже в 1937 году Оруэлл стал яростным антикоммунистом.
Свою знаменитую сатирическую книгу «Скотный двор» Оруэлл написал в ноябре 1943 – феврале 1944 года, когда и англичане и американцы были нашими союзниками. Печатать откровенную сатиру на Сталина отказались американские и английские издатели. Книгу удалось напечатать только после войны в 1945 году.
Успех оруэлловской сатиры был ошеломляющим. Ободрённый писатель взялся за жанр антиутопии. В 1945 году он начинает работу над романом «1984», который оказался пророческим относительно созданий закрытых тоталитарных государств. Такие понятия, как «новояз», «двоемыслие», «мыслепреступление» изобретены Оруэллом для воссоздания атмосферы подобных государств. Роман издан в июне 1949-го за полгода до смерти автора (21 января 1950 года).
Помню, как в «Литературной газете» её сотрудник, мой приятель Лёва Токарев, ставший позже великолепным переводчиком французских романов, часто говорил нам: «А ведь 1984 грядёт! Куда они денутся!» «Они» – это вожди СССР. Лёва вслед за Оруэллом оказался почти пророком: не в 1984-м, а в 1985-м на престол взошёл Горбачёв, и страшная не признающая достоинства человеческой личности страна постепенно рухнула в пропасть!
Другой разговор, что никто, в том числе и умерший в 2006 году Токарев, не смог предсказать другого феномена – того, что высвободившийся из-под ярма диктатуры народ снова захочет сунуть шею назад в ярмо. Впрочем, ещё Гегель писал: история учит тому, что ничему не учит. Речь, стало быть, должна идти о величине человеческой памяти, которая оказывается совсем короткой. И дело будущих утопистов исследовать этот феномен.
* * *
«Комитет
Государственной безопасности СССР
Управление по Ленинградской области
11 марта 1990 года
№ 10/28-517
Ленинград
Дьяконов Михаил Алексеевич, 25 июня 1885 года рождения уроженец г. Томска, русский, гражданин СССР, беспартийный, литератор-переводчик, проживал: Ленинград, ул. Скороходова, д. 9, кв. 24
жена – Дьяконова Мария Павловна, 52 года, переводчик, проживала с мужем
сын – Дьяконов Михаил Михайлович, 1907 года рождения
сын – Дьяконов Игорь Михайлович, 1915 года рождения (в 1954 году проживал: Ленинград, Суворовский проспект, д. 30, кв. 8)
сын – Дьяконов Алексей Михайлович, 1919 года рождения.
Арестован 1 апреля 1938 года Управлением НКВД по Ленинградской области.
Обвинялся по ст 58-6 (шпионаж), 58–10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58–11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционною преступления).
Постановлением Особой Тройки УНК ВД по Ленинградской области от 15 октября 1938 года определена высшая мера наказания.
Расстрелян 22 октября 1938 года в Ленинграде.
Определением Военного Трибунала Ленинградского Военного округа от 20 апреля 1956 года постановление Особой Тройки УНКВД ЛО от 15 октября 1938 года в отношении Дьяконова М. А. отменено, и дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
Дьяконов М. А. по данному делу реабилитирован».
Комментировать этот документ не стоит: он говорит за себя сам.
Скажу только, что уничтожили замечательного человека, весёлого жизнелюба, отца Игоря Михайловича, выдающегося ассириолога, переводчика «Эпоса о Гильгамеше», академика многих иностранных академий, отца Михаила Михайловича, известного востоковеда, археолога, переводчика Фирдоуси, Низами. В войну погиб и Алексей Михайлович, подававший большие надежды.
Как писал ещё один его сын Игорь Михайлович, выдающийся востоковед, шумеролог, асириолог, его отец Михаил Алексеевич Дьяконов «сделался переводчиком оттого, что женился на бесприданнице».
«Литературные успехи, – продолжает вспоминать сын, – были значительными: за первое издание перевода романа Эптона Синклера «Джимми Хиггинс» был выдан мешок картошки. (Эта книга потом переиздавалась десять или двенадцать раз, уже за гонорар, и Михаил Алексеевич говорил, что Джимми – его четвертый и самый почтительный сын – столько лет кормит родителя!)».
Он увлёкся переводом. Перевёл Роллана «Жан Кристоф» и «Антуанетта». Перевёл книгу о путешествиях Руаля Амундсена. Перевёл «Ярмарку тщеславия» Теккерея.
А потом была работа в издательстве Арктического института. М.А. Дьяконов познакомился и подружился со многими знаменитыми полярниками.
Написал книгу «Путешествия в полярные страны» (1935). Составил вместе с Е. Рубинчиком сборник «Дневники челюскинцев». А в серии «ЖЗЛ» выпустил книгу «Амундсен» (1937).
Книга «История полярных исследований», над которой он работал долго, вышла в Архангельске в 1939 году. И сразу же попала в список запретных. Архангельские издатели не знали, что автор книги уже год, как не существует на свете.
* * *
Сергей Михайлович Бонди, родившийся 25 июня 1891 года и преподававший у нас в МГУ, когда я там учился, считался крупным пушкинистом. Мне нравилось, как он на лекциях читает самого Пушкина: артистично, духовно, влюблённо в текст. Смущали меня статьи Бонди: многословны, скучноваты. К тому же – совершенно для меня непонятное стремление Сергея Михайловича ввести так называемую Десятую главу «Онегина» непременно в корпус пушкинского романа. Для чего? Ведь расшифрованные отрывки способны только увести читателя от смысла романа, а не прояснить его, не прирасти к тексту, не стать его неотторжимой частью.
Особенно меня поразило, что С.М. Бонди был страшно раздражён пушкинскими штудиями Валентина Непомнящего, которые стал публиковать журнал «Вопросы литературы». Разбирая, например, стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», Непомнящий выступил против канонической трактовки строчки «И милость к падшим призывал» как – призывал милость к декабристам. Советские литературоведы явно путали понятия «падшие» и «павшие». Пушкин, конечно, не героев имел в виду, но тех, кто небезнадёжен в своём нравственном падении, кто может подняться.
(Я говорю о раннем Непомнящем. Поздний – особый разговор. Да Бонди, умерший 29 августа 1983 года, его и не застал.)
Тем не менее уже в первой же своей книге «Черновики Пушкина» Бонди, не называя Непомнящего, глухо говоря о каких-то новейших пушкинистах, грудью встал на защиту вульгарной идеологической трактовки.
Любопытно, что эта книга вышла в «Просвещении» только в 1971 году, когда Бонди было 80 лет. Следующую книгу – «О Пушкине» он тоже успел увидеть. Она вышла в 1978-м – за пять лет до кончины Сергея Михайловича. И несёт на себе тот же налёт вульгарно-социологического пушкиноведения.
И это притом, что Бонди часто выступал против вульгарной социологии в исследованиях Пушкина. Позже я разгадал этот феномен.
У Саши Чёрного в цикле «Вешалка дураков» есть такое стихотворение:
Умный слушал терпеливо Излиянья дурака: «Не затем ли жизнь тосклива, И бесцветна, и дика, Что вокруг, в конце концов, Слишком много дураков?» Но, скрывая жёлчный смех, Умный думал, свирепея: «Он считает только тех, Кто его ещё глупее, — «Слишком много» для него… Ну а мне-то каково?»Нисколько не оскорбляя покойного учёного, подставляю Сергея Михайловича на место умного героя стихотворения. При Сталине вульгарная пушкинистика достигла такого уровня, что не могла не возмутить интеллигентного Бонди. Но он не учёл её едкого проникновения в саму литературоведческую ткань исследования. Выступая против очевидного, он привык к неочевидному и даже проникся им. Отсюда и старческое брюзжание по поводу новейших пушкинистов.
Впрочем, в иных частностях пушкинского текста Бонди оказывался и проницательным, и правым. Недаром многие его комментарии не устарели до сих пор.
* * *
Как известно, отцами знаменитого Козьмы Пруткова стали три брата Жемчужникова Михайловичи – Алексей, Владимир и Александр и двоюродный их брат Алексей Константинович Толстой.
Менее известно, что начался Козьма Прутков с басен, которые написал Александр Михайлович Жемчужников, родившийся 25 июня 1826 года, и напечатавший их в 1853 году в журнале «Современник».
Басен было три: «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул», «Цапля и беговые дрожки».
Вот одна из них:
КОНДУКТОР И ТАРАНТУЛ В горах Гишпании тяжёлый экипаж С кондуктором отправился в вояж. Гишпанка, севши в нём, немедленно заснула; А муж её меж тем, увидя тарантýла, Вскричал: «Кондуктор, стой! Приди скорей! ах, боже мой!» На крик кондуктор поспешает И тут же веником скотину выгоняет, Примолвив: «Денег ты за место не платил!» — И тотчас же его пятою раздавил. Читатель! разочти вперёд свои депансы[2], Чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы, И норови, чтобы отнюдь Без денег не пускаться в путь; Не то случится и с тобой, что с насекомым, Тебе знакомым.Эта басня и две других – личные штрихи Александра Михайловича Жемчужникова к общему портрету известного сатирика.
Александр Михайлович совмещал творчество со службой, где он достиг разительных успехов: в 1866 по 1870 год был пензенским вице-губернатором, с 1971-го по 1974-й – псковский вице-губернатор. И этим напоминает другого сатирика – М.Е. Салтыкова-Щедрина, рязанского и тверского вице-губернатора. Вот было время! Золотое время, когда вице-губернатор не только не участвовал в коррупционных схемах сановных чиновников, но находил в себе смелость высмеивать сановных!
Умер Александр Жемчужников в 1896 году.
* * *
Эрнст Теодор Амадей Гофман, умерший 25 июня 1822 года (родился 24 января 1776-го), был очень известен в России во времена Пушкина и Гоголя и несомненно оказал влияние на обоих. Помните Германна, вытянувшего из колоды туза, который обернулся пиковой дамой, а та – старой графиней? Наверное, Пушкин запомнил, что в повести Гофмана «Элексир Сатаны» герой тоже играет в штосс и вытянутая им карта тоже напоминает ему реальное лицо. Ну, а знаменитое двойничество героев (жизнь то в фантастическом, а то в реальном мире) Гоголя будто родилось из двойничества героев Гофмана.
Разумеется, темы влияния я касаюсь вскользь. Замечу только, что не имею в виду подражание или даже эпигонство, которыми, конечно, не отмечены книги этих великих писателей. Другое дело – массовая литература. В те времена выступавшие на книжном рынке русские эпигоны Байрона и Гофмана снискивали себе немалый барыш. Да и не только русских литераторов впечатлили романтическая поэзия Байрона и романтическая фантастика Гофмана. Под знаком английского и немецкого гениев формировался романтизм разных национальных литератур.
Много распространяться о новеллах, повестях-сказках, романах Гофмана не буду. Они довольно известны. Менее известны его музыкальные произведения: оперы, балет, сонаты для фортепиано, музыка для фортепиано, скрипки и виолончели.
Одно время Гофман занял место капельмейстера. В другое время работал музыкальным директором оперной труппы. В честь своего любимого композитора Вольфганга Амадея Моцарта Гофман, сменил своё имя Эрнст Теодор Вильгельм на Эрнст Теодор Амадей. В новелле «Дон-Жуан» ему удаётся то, что не удаётся больше никому, – он озвучил свои впечатления от оперы Моцарта.
26 ИЮНЯ
Ещё слова ленивый торг ведут, Закономерно медленны и вязки. Ещё заканчиваем скучный труд Неотвратимой, тягостной развязки. Ещё живём, как будто бы, одним. Ещё на час с мучительною болью Дыханьем тёплым, может, оживим Последние и чёрные уголья. Но чувствую – перестаём любить. Перестаём, ещё немного рано. Всё кончится. И даже, может быть, В день воскресенья мёртвых – я не встану.Эти пессимистические строки написала Елизавета Григорьевна Полонская, родившаяся 26 июня 1890 года, которую в шутку звали «серапионовой сестрой», потому что она была единственной женщиной входившей в литературную группу «Серапионовы братья». Немудрено, что стихи пессимистичны: они написаны 27 мая 1921 года. А к этому времени Полонская уже успела побывать врачом военного госпиталя на Первой Мировой (она окончила медицинскую школу Сорбонны), врачом в эпидемическом отряде, где познакомилась с будущим своим мужем, брак с которым длился очень недолго, но в 1916 году от этого брака у неё родился сын.
Дальше была работа врачом в фабричных лабораториях на заре советской власти. Потом литературная работа.
Двадцатые годы оказались для неё очень плодотворными. Она издала три книги стихов. Писала и – главное – печатала стихи для детей. «Серапионовы братья» ценили свою «сестру». Её одобряют, её подбадривают Виктор Шкловский, Михаил Зощенко, Всеволод Иванов. К ней очень хорошо отнёсся К.И. Чуковский, благодаря которому она и писала для детей.
Но «год великого перелома» стал переломным и для Полонской. Она становится корреспондентом «Ленинградской правды». Много ездит по стране. Пишет очерки и статьи о новой советской были. Пишет просоветские стихи. Издает книгу очерков «Люди советских будней» – парадные портреты контролёров трамвая, рабочих путиловцев и т. п.
Были у неё причины опасаться новой власти. Первую свою книгу она послала Троцкому, и тот упомянул в одной из своих статей о ней как о способной поэтессе. Еще в 1906 году в Берлине она посещала марксистский кружок, где познакомилась с Каменевым и Зиновьевым. В Париже через три года она входила в группу содействия большевикам, где узнала Ленина, Луначарского, укрепила связи с Каменевым и Зиновьевым. Но к началу тридцатых этих знакомств уже следовало опасаться. А после убийства Кирова в 1934-м начали исчезать друзья-литераторы. Стихи Полонской совсем тускнеют. Новую книгу она открывает стихами об убийстве Кирова. Включает в неё стихи, прославляющие Сталина.
И всё же не ощущает себя в безопасности.
Полонская уходит в переводы. Переводит Шекспира, Гюго, Киплинга, Тувима. Переводит армянский эпос «Давид Сасунский».
«Полонская жила тихо, сохраняя встревоженное и вопросительное выражение лица» – писал об этом периоде её жизни Евгений Шварц.
В Отечественную войну она с матерью была эвакуирована из Ленинграда на Урал. Сын её воевал с первого дня войны, был тяжело ранен, закончил войну в день Победы. А она уже весной 1944 года вернулась в Ленинград.
Сразу после войны умирает её горячо любимая и нежно опекаемая мама. Тучи холодной войны накрывают страну. Летом в 1945 году в Молотове (нынешней Перми) вышла её небольшая книжка. Следующая появилась в хрущёвскую оттепель, в 1960-м.
В 1965-м умирает её брат, который всю жизнь прожил с ней. А дальше она заболевает сама. В 1966 году выходит последняя её прижизненная книга. За два с небольшим года до её смерти, которая случилась 11 января 1969-го.
В 1921 году она открыла свой сборник стихотворением, которое во многом оказалось пророческим:
Александру Блоку Не испытали кораблекрушенья в морях неведомых близ Огненной Земли; не как искатели безумных приключений мы в эту жизнь внезапную вошли; нас не манил огонь на дальних башнях, не старый Рулевой ошибся у руля, нет, дома, в комнатах уютных и домашних, застигнула нас гибель корабля. И, выхлестнуты страшною волною знакомые дома, среди родной страны, — мы одиночеству, и холоду, и зною, и голоду на жертву отданы. Но прадедов суровое упорство у внуков ветреных ещё цветёт в крови, и голос родовой, настойчивый и чёрствый, ещё твердит упрямое – живи! — И мы живём и, Робинзону Крузо подобные, – за каждый бьёмся час, и верный Пятница – Лирическая Муза в изгнании не покидает нас.В 2008 году издали её большую мемуарную книгу «Города и встречи». Но она не окончена. И, судя по началу, Полонская замахивалась на огромное повествование. Ибо в книге, помимо личной жизни Полонской, подробнейшим и скучнейшим образом освящена деятельность марксистских кружков, в которых она принимала участие. Особого интереса книга не представляет.
* * *
Мстислав Александрович Цявловский, родившийся 26 июня 1883 года, очень много сделал для изучения жизни Пушкина и его творчества.
Его книга «Пушкин в печати», 1814–1837 (совместно с Н. Синявским) является и по сей день бесценным справочником прижизненных изданий Пушкина и прижизненных работ о нём. Так же, как представляет несомненную ценность и книга «Пушкин в печати за сто лет. 1837–1937», составленная К.П. Богаевской, но под редакцией М.А. Цявловского.
А четырёхтомник «Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина», задуманный М.Я Цявловским и подготовивший первый том и значительную часть второго (работа закончена Н. Тарховой)? Все, кто занимается Пушкиным, подтвердят: замечательный помощник в работе!
Мстислав Александрович скончался 11 ноября 1947 года, оставив после себя великое множество комментариев к пушкинским работам, открыв много нового в жизни Пушкина, установив факты, которые до него не были известны или считались неподтверждёнными.
Вечная память великому труженику!
* * *
Аркадия Григорьевича Адамова, скончавшегося 26 июня 1991 года (родился 13 июня 1920-го), я часто встречал в «Литературной газете». Он заходил к нашему редактору, члену редколлегии Фёдору Аркадьевичу Чапчахову. Тот однажды написал в газету рецензию на книгу Адамова. С тех пор Аркадий одаривал его каждой новой своей книгой. А выходили они довольно часто – чуть ли не по книге в год.
Было у Адамова и корыстное намерение в отношении Чапчахова. Тот на основании своей рецензии в «Литгазете» на адамовскую книжку написал заявку в издательство «Детская литература» на книгу «Советский детектив». Заявка благодаря секретарю союза писателей РСФСР Анатолию Алексину, который курировал издательство, была одобрена, и Фёдор Аркадьевич получил под будущую книгу аванс. Его планы относительно этой книги были невероятно привлекательны для Адамова. Чапчахов собирался открывать книгу большой главой об адамовской жизни и творчестве.
Я не разочаровывал Аркадия, хотя был убеждён, что Чапчахов книгу не напишет. Предложил ему написать её тот же Алексин, который старался быть полезным любому вообще работнику газеты, а уж члену редколлегии тем более. «Мой друг», – говорил о нём Чапчахов. Пробив заявку Фёдора Аркадьевича, Алексин ничем не рисковал. Был прежде в авторском договоре пункт о непредставлении рукописи. Он оставлял для издательства возможность широких действий. Оно могло категорически потребовать от того, с кем подписало договор, вернуть аванс, угрожая судом. Могло действительно подать на него в суд. А могло списать аванс и закрыть договор в связи с изменившимися обстоятельствами. Так что, взяв деньги, Чапчахов мог книги и не писать. Конечно, ему очень хотелось бы написать такую книгу. Да как бы он её написал, если даже небольшая газетная заметка давалась ему с большим трудом. Перефразируя известную анекдотическую поговорку, скажу, что в данном случае чукча был не писателем, чукча был читателем!
Адамов ничего этого не знал. И продолжал верить в большую главу о его жизни и творчестве, которая откроет капитальный труд о советском детективе. Дабы поощрить Чапчахова писать её, Аркадий добился для него грамоты МВД, подписанной самим министром Щёлоковым за достижения в области литературы о советской милиции. Такой литературой была та самая рецензия в «Литгазете».
А оставляя в стороне корыстные кружения вокруг члена редколлегии, скажу, что был Адамов человеком незлобным, изучавшим архивы уголовного розыска и писавшим книги на основании этих архивов. Его по аналогии с Прохановым – соловьём Генштаба, называли соловьём МУРа. Что соответствовало истине.
Я не так давно пересмотрел фильм «Дело «пёстрых», снятый по повести Адамова Николаем Досталем и, в сущности, свое благоприятное отношение к нему сохранил. Интрига заверчена круто. Сафонов, Евгений Матвеев, Грибов, Зоя Фёдорова, Фатеева, Переверзев, Бредун, Пуговкин, Табаков играют правдоподобно. Хотя повесть была посильнее фильма. Там трое вооружённых бандитов напали на милиционеров: одного ранили, застрелили его служебную собаку. В фильме всё происходит несравненно благостней.
Но эту повесть Аркадий смог напечатать далеко не сразу. Журналы ему отказывали, а издательство соглашалось рассмотреть вопрос о книге в случае её печатной публикации. Наконец, повесть попала к Валентину Катаеву, который только что стал главным редактором нового журнала «Юность». Тот сообразил, каких новых подписчиков сможет заманить эта детективная история. С тех пор Адамов часто печатался в «Юности». Но другие его вещи не дотягивают до «Дела «пёстрых».
* * *
«Булгаковская энциклопедия» почему-то прототипом Ивана Бездомного считает поэта Александра Ильича Безыменского, умершего 26 июня 1973 года. Но на Безыменского в фигуре Ивана Бездомного ничего не указывает. И прежде всего: Бездомный был не образован, но очень не глуп. Безыменский тоже был не образован. Но умным он себя не показал. Разве только быстро понял, к кому примкнуть в споре ленинских соратников за власть?
И то – не сразу. После смерти Ленина в 1924 году Безыменский, родившийся 18 января 1898 года, был одним из тех, кто написал письмо, поддерживающее брошюру Троцкого «Новый курс», где Троцкий говорил об опасности перерождения партийного аппарата. Но потому и был пощажён Сталиным, что, переметнувшись к нему, Безыменский стал беспощадным гонителем любого противника Сталина.
А с другой стороны, Безыменский был потому и беспощаден, что яростно хотел отмежеваться от Троцкого, который написал предисловие к его книжке «Как пахнет жизнь» (1924) и к отдельно изданной поэме «Комсомолия» (1924).
По правде сказать, удивляешься Троцкому: что он находил в этих барабанных стишках? Или ценил Безыменского, как Ленин Демьяна Бедного, – как пропагандиста?
Так или иначе, но неистовость Безыменского легко объяснима: в её основе лежал страх перед Сталиным.
Но Сталин по отношению к нему был благодушен. Сталинской премии он ему не дал. Но орденом Трудового Красного Знамени, когда стихотворец отмечал свой пятидесятилетний юбилей, наградил. И за работу военным корреспондентом дал орден Красной Звезды. И ещё награждал какими-то орденами и медалями.
Так что умер Безыменский в собственной постели. Хотел добавить: не оставив никакого следа в поэзии. А потом вспомнил: он автор русского текста песни «Всё хорошо, прекрасная маркиза».
27 ИЮНЯ
Владимир Сергеевич Печерин, родившийся 27 июня 1807 года, один из всего выпуска Московского университета 1831 года получил степень кандидата и был оставлен лектором на кафедре классических языков.
В 1833 году зачислен в состав группы молодых учёных, направленных в Берлинский университет. Договор, подписанный отъезжающими, обязывал их по возвращении отслужить двенадцать лет в России по учебной части. Печерин в Россию не вернулся. И этим нарушил не только договор, но и закон, запрещавший российскому подданному селиться за границей без разрешения властей Российской империи. Да, отъезд из России на постоянное заграничное местожительство издавна считался преступлением. Власти оскорблялись, получая свидетельства невыносимости жить в стране при них.
В 1840 году Печерин переходит в католичество, принимает монашеский сан, вступает в орден редемпористов, устав которого предписывает быть миссионером среди бедняков. Служит в Англии, в беднейшем квартале Лондона.
В 1853 году его посещает Герцен. После этого визита между ними завязывается переписка, которую Герцен опубликовал в первом издании книги «Былое и думы».
В 1854 году Печерина переводят в редемпористскую обитель в Ирландии, где он обретает популярность своими проповедями. Однако внезапно отказывается от ордена и от монашества, оставляя за собой только священнический сан. Служит с 1862 года и до конца жизни – до 29 апреля 1885 года капелланом в дублинской больнице Богоматери Милосердия.
Оставил мемуары, которые в разное время безуспешно пытались опубликовать в России. В 1932 году в Калинине с предисловием Льва Каменева вышли «Замогильные записки» Печерина. Но после ареста и казни Каменева книга была изъята из обращения и запрещена. Второй раз её издали только в 1989 году в журнале «Наше наследие» под названием «Оправдание моей жизни» (№ 1–3).
Надо сказать, что интерес к Печерину в России вспыхнул благодаря выдающемуся историку литературы и философу Михаилу Осиповичу Гершензону, который разыскал и напечатал немало архивных материалов, связанных с жизнью и творчеством Печерина.
Да – и с творчеством тоже. Печерин писал стихи. С ними познакомила читателя серия «Библиотека поэта», в которой в 1972 году вышел двухтомник «Поэты 1820 – 1830-х годов». Во втором томе помещено с десяток стихов Печерина. По правде сказать, большего он, наверное, не заслуживает. Стихи не для вечности. Впрочем, убедитесь в этом сами:
Что я слышу? Голос милый Песнь знакомую поёт, И, как Лазарь из могилы, Тень минувшего встаёт. Прояснися, прояснися, Сумрак ранних детских дней, Сквозь туманы улыбнися, Солнце юности моей! После долгих треволнений Вижу снова брег родной, И толпа святых видений Вновь мелькает предо мной. Чудная звезда светила Мне сквозь утренний туман, Смело поднял я ветрило И пустился в океан. Солнце к западу склонялось, Вслед за солнцем я летел: Там надежд моих, казалось, Был таинственный предел. «Запад, запад величавый! Запад золотом горит! Там венки виются славы! Доблесть, правда там блестит! Мрак и свет, как исполины, Там ведут кровавый бой, — Дремлют и твои судьбины В лоне битвы роковой. В броне веры, воин смелый, Адамантовым щитом Отразишь ты вражьи стрелы, Слова поразишь мечом». Вот блестит хоругвь свободы — И цари бегут, бегут; И при звуке труб народы Песнь победную поют. Разорвался плен суровый, Кончилась навек война! Узами любви Христовой Сочетались племена! Гряньте звонкими струнами! Где ты, гордый фараон? Моря Чермного волнами Конь и всадник поглощён! Ныне правда водворится В нашей скинии святой, Вечным браком съединится Небо с юною землёй. Духов тьмы исчезнет сила, И взойдёт на небеса Трисиянное светило — Доблесть, истина, краса!О самом Печерине, этом, по слову философа В. Франка, «одном из первых русских интеллигентов», можно прочитать в книге М. Гершензона, которая так и называется «Жизнь Печерина» (во 2 томе четырёхтомного «Избранного» Гершензона, изданного в 2000 году) и в очень неплохой книге Н.М. Первухиной-Камышниковой «В.С. Печерин. Эмигрант на все времена» (М., 2006).
28 ИЮНЯ
Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников скончался 28 июня 1922 года (родился 28 октября 1885-го). Псевдоним – славянское имя Велимир взял себе, сблизившись с символистами в 1908 году, увлёкшись тем, что их увлекало, – мифологией и славянским фольклором. Но от символистов отошёл быстро.
В том же 1908-м познакомился с В. Каменским и Д. Бурлюком, называвшими себя футуристами. Хлебников, который в своём словотворчестве обращался к славянским корням, назвал футуристов будетлянами – вестниками будущего. Новое литературное движение заявило о себе в сборнике «Садок судей» (1910), в котором участвовал и Хлебников.
Но прежде в том же 1910 году в сборнике «Студия импрессионистов» под редакцией Н.В. Кульбина он печатает ставшее знаменитым «Заклятие смехом»: «О, рассмейтесь, смехачи! / О, засмейтесь, смехачи! / Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! / О, засмейтесь усмеяльно! / О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! / О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!» и т. п.
В 1912 году в группу будетлян вошли Маяковский и Кручёных. Последний своим словотворчеством оказался особенно близок Хлебникову.
В конце 1812 года появилась знаменитая «Пощёчина общественному вкусу», открывавшаяся манифестом, где будетляне призывали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с парохода современности», где объявляли, что «всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам Сологубам, Аверченко, Чёрным, Кузминым, Буниным и проч., и проч. – нужна лишь дача на реке» и где утверждали важное для творчества Хлебникова право «на увеличение словаря поэта в его объёме произвольными и производными словами…»
Рассчитанная на скандал, она его и вызвала, поспособствовав тому, что книга была быстро раскуплена читателями. Большую её часть занимали стихи Хлебникова. В 1913 году появился ещё один манифест, написанный Кручёныхом и Хлебниковым, который провозгласил: «Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык)».
Первая книга стихов Хлебникова, названная «Ряв!», вышла в декабре 1913-го. А спустя два месяца вышел из печати первый том собрания сочинений Хлебникова. Почти одновременно вышла его книга под названием «Изборник стихов», которую иллюстрирует Павел Филонов – художник, близкий Хлебникову своими представлениями об искусстве.
Помимо поэзии, Хлебников увлёкся расчётами, названные им «Законы времени». Их он пытался применить к народам, цивилизациям и судьбам отдельных людей. Так на основе книги пушкиниста Лернера «Труды и дни Пушкина», Хлебников вычислил закономерность, согласно которой все значимые события происходили в жизни Пушкина с промежутком в 317 дней. Число 317 Хлебников в брошюре «Учитель и ученик» назвал важнейшим в судьбе людей и народов. Труды с вычислениями Хлебникова пользовались у читателей большим успехом.
Февральскую революцию Хлебников приветствовал ставшими знаменитыми строчками:
Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на ты. Мы воины строго ударим Рукой по суровым щитам: Да будет народ государем Всегда, навсегда, здесь и там! Пусть девы споют у оконца, Меж песен о древнем походе, О верноподданном Солнца — Самодержавном народе.В 1916 году Хлебникова призвали в действующую армию. Друзья, к которым он обратился, выхлопотали ему освидетельствование по поводу нарушений психики. Освидетельствовали Хлебникова разные комиссии. В результате он на фронт не вернулся.
Октябрьскую революцию он принял так же восторженно, как и Февральскую. В послереволюционные годы ездил по стране, работал в разных газетах и издательствах. В Харькове в 1919 году, когда Деникин занял город, лёг в психиатрическую больницу, спасаясь от призыва в армию. Но в 1920 году, когда в Иране было объявлено о создании в провинции Гилян Персидской советской республики, добился, чтобы его приписали к персидской народной армии, сформированной в Советской России. В качестве лектора он отправился с армией в Иран, свёл знакомство с местными дервишами, устроился на работу к хану воспитателем его детей, но поработал немного: советская республика пала, и Хлебников вернулся в Россию.
Он снова много путешествует по стране, пишет и печатает немало стихов. Нэп его разочаровывает. И он выражает своё разочарование в стихах, появившихся в «Известиях»:
Эй, молодчики-купчики, Ветерок в голове! В пугачёвском тулупчике Я иду по Москве!В 1922-м Хлебников почувствовал себя плохо: начались приступы лихорадки. Друживший с ним художник Пётр Митурич перевёз его в Новгородскую область в свою семью. Но поэта разбил паралич. Потом отнялись ноги, началась гангрена. Болезнь оказалась смертельной.
Хлебников оставил богатое поэтическое наследство. Но он не зря считается прежде всего поэтом для поэтов. Стихов, доступных массовому читателю, у него мало. А для поэтов его поэзия – мастерская звукописи, мелодии, трепетного отношения к так называемому «самовитому» слову.
* * *
Помните в «Евгении Онегине»:
Руссо (Замечу мимоходом) Не мог понять, как важный Грим Смел чистить ногти перед ним, Красноречивым сумасбродом. Защитник вольности и прав В сем случае совсем не прав.К «красноречивому сумасброду» даётся сноска на обширную цитату из «Исповеди» Руссо, где философ возмущается тем, что дипломат Гримм (Пушкин пишет его имя с одним «м») не оставил своего занятия, когда Руссо вошёл к нему и заговорил с ним, – продолжал чистить специальной щёточкой ногти. Руссо, как следует из приведённой Пушкиным цитаты, мстительно заключил, что подобное занятие развеяло его сомнение в том, что Гримм употребляет белила.
Пушкин ещё раз вспомнит об «Исповеди» Руссо, когда получит известие от Вяземского, что тот сожалеет, что душеприказчик Байрона поэт Томас Мур вместе с друзьями уничтожил мемуары Байрона: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? чёрт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлечённый восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо…»
Жан-Жак Руссо, родившийся 28 июня 1712 года, написал «Confessions» («Признания», «Исповедь»), желая, не скрывая своих дурных поступков или помыслов, правдиво рассказать о своей жизни. Книга произвела сенсацию, но недаром современник Руссо учёный Жан Сенебье был в претензии к друзьям Руссо: зачем они не воспрепятствовали появлению этой книги! Ибо автор в ней не исповедуется, как обещал, но с ожесточением набрасывается на своих врагов, обвиняя их в том, что они побуждали его совершать те или иные дурные поступки.
Точнее – первая часть «Исповеди» – это излияния Руссо, влюблённого в природу, идиллия, связанная с его любовью к женщине, а вторая часть – злобное и подозрительное отношение к друзьям, которых Руссо больше друзьями не считает.
Но пушкинское «красноречивый сумасброд» характеризует не только Руссо-автора «Исповеди». Оно может быть отнесено и вообще к Руссо, в котором признаки мизантропии обнаружились довольно рано и, развиваясь, привели к тяжёлому психическому расстройству.
А красноречие Руссо увлекало ещё его друзей конца сороковых годов, с которыми, правда, он довольно быстро раздружился, – того же Фридриха Гримма или Дени Дидро. Раздружился, потому что его природная подозрительность часто перерастала в уверенность, и тогда бывший друг становился для Руссо коварным врагом.
Так возникла вражда Руссо с Вольтером и даже с Дэвидом Юмом, который приютил Руссо у себя, когда Вольтер настроил против Руссо и женевцев и жителей Берна, и он вынужден был бежать, опасаясь ареста.
Его психическое заболевание прогрессировало и в конце концов привело его к смерти: 2 июля 1778 года.
Но печальная эта биография не обнаружила себя в основных трудах, которые прославили Руссо, в «Новой Элоизе», «Эмиле» и «Общественном договоре».
Руссо учил, что государство возникает в результате общественного договора, что согласно такому договору власть в государстве принадлежит всему народу, что суверенитет народа, абсолютен, непогрешим и неотчуждаем. В таком государстве закон является выражением общей воли, поэтому выступает гарантией гражданам от произвола правительства, которое не может действовать, нарушая требования закона – то есть всеобщую волю.
Так Руссо решил проблему эффективности общественного контроля за действием правительства, обосновал разумность принятия законов непосредственно самим народом, наметил пути к устранению социального неравенства.
Разработанная им форма правления народа государством – прямая демократия – сейчас воплощена в Швейцарии, где провёл бóльшую часть своей жизни, начиная с рождения, Руссо.
Много внимания отдал Руссо воспитанию человека. Он настаивает, что пока ребёнок растёт, он должен познавать мир на основе собственного опыта. И поскольку из всех человеческих дарований интеллект формируется последним, он должен позже всего становиться предметом забот воспитателя. Моральные и религиозные вопросы следует решать на более поздней стадии развития человека, чтобы они не превратились в простое заучивание ритуалов и догм.
Надо отметить ещё, что был Руссо незаурядным музыкантом. Написал комическую оперу «Деревенский колдун», из которой напевал куплеты Людовик XV, либретто оперы Руссо, переведённое на немецкий язык, легло в основу оперы Моцарта «Бастьен и Бастьенна».
29 ИЮНЯ
Здравствуй, ты погибель моя девья, неминучая! Льнёт ко мне громовник, огневой любовью мучая. Злая, безответная в руках его лежу, Маленькая, белая от жарких рук дрожу. Понапрасну руки те слезами я окапала, Понапрасну тонкими ногтями исцарапала, Я ль не хоронилась, не таилась, не блюлась? Я ли, Лада красная, добром ему далась? Выдали, нет, выдали глаза меня зелёные… Засияли в логове, как месяцы влюблённые. Засияли радостно – а ныне не глядят… Видно, ослепил он их, златой склонивши взгляд. Предали, ах, предали меня уста румяные… Улыбнулись в зелени, как розаны духмяные. Улыбнулись сладостно – теперь же веют вздох… Видно, поцелуями настиг он их врасплох. Изменили руки мне, объятия раскинувши, Изменили волосы, покров свой разодвинувши, Изменила сила вся, весёлость, стыд и страх, И кругом измена мне: в лесах, лугах, зверях. Так и погибаю я средь грохота и золота, Бородою ласковой плечо моё исколото, В теле нежном девичьем разымчивая боль… От палючей молоньи, от ярых ласк его ль? Здравствуй, полюбовник мой, безжалостный и пламенный! Всё на белом свете сотворил ты новым для меня. Преданная, мудрая в глаза твои гляжу. Розовая, слабая от счастия дрожу.Пожалуй, только этим стихотворением и осталась в литературе Любовь Столица. Хотя на её стихи писали музыку такие композиторы, как А. Гречанинов, Р. Глиэр.
Любовь Никитична Столица родилась 29 июня 1884 года. Выступала со стихами в журналах «Золотое руно», «Современный мир». Выпустила три стихотворных сборника «Раиня» (1908), «Лада» (1912), «Русь» (!915), в которых воспевала языческую Русь.
На квартире её и мужа в 1913–1916 годах проводились поэтические вечера, которые назывались «Золотая Гроздь». На них бывали Сергей Есенин, София Парнок, Николай Клюев, Николай Телешов, Вера Холодная.
В 1916 году Любовь Никитична написала пьесу «Голубой ковёр» для Московского Камерного театра.
В конце 1918-го ей удалось с мужем и сыном уехать на юг страны, который контролировало белое движение. Вместе с белыми в 1920-м семья эмигрировала в Болгарию. Там поэтесса и умерла 12 февраля 1934 года.
В Болгарии писала много. В 2013 году московское издательство «Водолей» выпустило её двухтомник, куда вошли стихи, поэмы, пьесы.
Увы, не досягает её наследие до того стихотворения, которое я привёл в начале заметки о ней.
* * *
Элизабет Браунинг (иногда её называют Элизабет Баррет – по девичьей фамилии) скончалась 29 июня (и здесь есть разночтения: некоторые источники называют 30 июня) 1861 года.
Рано начала писать стихи. В 14 лет (а родилась она 6 марта 1806 года) написала поэму «Марафонская битва». Отец, плантатор, помог её напечатать. В 20 лет выпустила сборник «Опыт о разуме и другие стихи». В 27 перевела трагедию Эсхила «Прикованный Прометей». Древнегреческий и латынь она хорошо знала.
После того, как в Лондоне вышла её книга «Серафим и другие стихи» (1838), Баррет обретает широкую известность. Но погибает её любимый брат, и она испытывает сильнейший нервный срыв, который побуждает её к уединённой жизни.
В 1843 году она пишет и публикует стихотворение «Плач детей», посвящённое детскому рабству. Оно послужило основой для одноимённого стихотворения Н.А. Некрасова. Переводили это стихотворение на русский неоднократно. Мне нравится перевод Якова Фельдмана:
Братья! Братья! Плачут дети! То не старость, не сиротство. Братья, братья, где же ваши Доброта и благородство? На лугу овечки блеют, И птенцы щебечут в гнёздах. На лужайках фавны млеют, И цветы внимают звёздам. Отчего же плачут дети Нашей собственной породы? В нашем славном государстве? Царстве света и свободы? Старики о смерти плачут. Старый ствол в лесу безлистном Плачет горькими слезами О зиме холодной, близкой. Тяжело былые раны Подставлять под бой последний. Тяжело терять надежду После веры многолетней. Но о чём рыдают дети На пороге новой жизни? В нашем добром государстве? В нашей сладостной отчизне? «Мы измучены, усталы, Нам ли бегать по дорогам? Нам бы вдоволь отоспаться, Чтобы нас никто не трогал. Если вниз идут ступени, То у нас дрожат колени. Если к солнцу, если кверху, То у нас слезятся веки. В подземелье круг за кругом Мы в тележках возим уголь. И стекают наши слёзы На железные колёса». Эти ангельские лики С воспалёнными глазами За стеклянными, седыми, Ледяными небесами. Мы толкаем мир к прогрессу На пределе напряженья, А сердца детей – под плиты Подсыпаем для скольженья. И забрызганные кровью, Продвигаемся отважно Среди стонов и проклятий, Самых детских, самых тяжких.В январе 1845 года поклонник её поэзии Роберт Браунинг написал ей письмо, положив начало их любовной переписке, которая длилась полтора года. В сентябре 1846-го, нарушая запрет отца, сорокалетняя Элизабет выходит замуж за Роберта и уезжает с ним в Италию. Через год у них во Флоренции рождается сын.
Замужество и материнство благотворно действуют на поэтессу. Она пишет поэму «Окна дворца Гвиди», где выражает надежду на успех освободительного движения в Италии, за которым она следит очень пристально. Её симпатии – на стороне Камилло Кавура, выступавшего против абсолютизма и религиозной косности. Создаёт свое знаменитое произведение, посвящённое мужу, – «Сонеты с португальского» (1850). Успехом пользуется и её роман в стихах «Аврора Ли».
Но в 1860-м умирает её сестра Генриетта. А в 1861 году умирает её любимый политик Камилло Бенсо Кавур, провозгласивший своё кредо: «Свободная церковь в свободном государстве» и как раз в год своей смерти ставший премьер-министром объединённой Италии. Элизабет снова заболевает. Болезнь прогрессирует. И Элизабет Браунинг скончалась во Флоренции на руках у мужа. На следующий год после смерти муж выпускает книгу её неопубликованных стихов.
30 ИЮНЯ
Владимир Пяст, стихотворец, обожавший Блока, друживший с ним, написал 2 июля 1916 года вот такое стихотворение:
Мне тридцать лет, мне тысяча столетий, Мой вечен дух, я это знал всегда, Тому не быть, чтоб не жил я на свете, — Так отчего так больно мне за эти Быстро прошедшие, последние года? Часть Божества, замедлившая в Лете Лучась путём неведомым сюда, — Таков мой мозг. Пред кем же я в ответе За тридцать лет на схимнице-планете, За тридцать долгих лет, ушедших без следа? Часть Божества, воскресшая в поэте В часы его бессмертного труда — Таков я сам. И мне что значат эти Годов ничтожных призрачные сети, Ничтожных возрастов земная череда? За то добро, что видел я на свете, За то, что мне горит Твоя звезда, Что я люблю – люблю Тебя, как дети — За тридцать лет, за триллион столетий, Благодарю Тебя, о Целое, всегда.В последнем пятистишии есть очень неординарное сравнение себя («я» в единственном числе) с детьми («как дети» – во множественном). Зная, как трепетно относился Пяст к Блоку, как следил за каждым его стихотворением, почти убеждён, что он повторяет здесь Блокову находку, обнародованную на год раньше в поэме «Соловьиный сад»:
Я проснулся на мглистом рассвете Неизвестно которого дня. Спит она, улыбаясь, как дети, — Ей пригрезился сон про меня.Это тем более правдоподобно, что именно по стихам Пяста можно уразуметь, что такое символизм и кто такие младосимволисты. Великому Блоку оказалось тесно в рамках определённого литературного направления, он мощно вырастал из него и перерос его. Пяст даже не старался выйти за ограду символизма. Адепт этого литературного течения, он и не мыслил себя в каком-либо другом.
Владимир Алексеевич Пестовский родился 30 июня 1886 года. Первые стихи под псевдонимом Владимир Пяст опубликовал в 1900-м. С тех пор псевдоним стал его литературной фамилией.
Уже в 1906 году, когда он находился в Мюнхене, Пяст предпринял попытку самоубийства. С тех пор не раз предпринимал такие попытки.
В Блока, как я уже говорил, был влюблён. Стал его биографом. Хотя после того, как Блок напечатал поэму «Двенадцать», отношения с ним Пяст порвал.
В Первую Мировую был призван в армию, но комиссован по болезни.
Октябрьскую революцию не принял. Жил внутренним эмигрантом.
Занялся журналистикой и переводами. Перевёл с немецкого несколько поэтов-экспрессионистов для антологии «Молодая Германия», которую составил поэт Григорий Петников.
Разумеется, Пяст не избегнул участи большинства писателей, входивших до революции в экзотические, с точки зрения большевиков, группы и не эмигрировавших. В 1930-м он был арестован, обвинён в контрреволюционной деятельности и сослан на 3 года сперва в Архангельск, а затем в вологодский город Кадников. После окончания ссылки отправлен в Одессу. В Москву вернулся в 1836 году благодаря хлопотам друзей-литераторов.
Жил в подмосковном Голицыне. Умер от рака лёгких (по другим сведениям – покончил самоубийством) 19 июня 1940 года.
* * *
Виктор Аркадьевич Урин, поэт, с которым я был хорошо знаком, представляется мне одним из самых странных людей, которых я встречал в своей жизни.
Он, родившийся 30 июня 1924 года, разделил участь ровесников – был участником Великой Отечественной. Танкист. Был подбит в танке. Рана оказалась хоть и тяжёлой, но несмертельной. В 1946 году выпустил книжку стихов «Весна победителей», которую сразу же обругали за формализм. По Бог весть каким причинам Виктора сравнивали с Хлебниковым: по-моему, ранние стихи Урина никакого отношения к Хлебникову не имеют. Мы говорили об этом с Уриным. Он смеялся.
Он поступил в Литинститут. Посещал семинар Антокольского. Получил от него рекомендацию в Союз писателей. Стал его членом.
Я уже писал в календарной заметке о Светлове, что оказались мы с Игорем Волгиным в квартире Виктора после того как тот на своей «победе» проехал от Москвы до Владивостока с привязанным за капот орлом. Урин договорился с московскими газетами и присылал из каждого города восторженные просоветские заметки, вкрапливая в них только что сочинённые стихи. Их печатали, и хитрый Урин окупил бензин и остался в выигрыше.
Он потом собрал все эти статьи со стихами и выпустил книгу «1001 день в автомобиле». Её издали в Волгограде.
Урин был склонен к экзотике. Однажды решил угостить приятелей шашлыками в своей квартире на «Аэропортовской». Что-то огнеупорное положил на пол и развёл костёр. Соседи, увидев клубы дыма, вызвали пожарную. А пожарники – милицию. Урина оштрафовали. Я удивился, что он так легко отделался. «Знакомство, – важно ответил на моё удивление Урин. – Начальник московского МУРа – мой приятель».
Стихи его печатали охотно. И книг он выпустил немало. Его близкие друзья – Луконин, Солоухин ему покровительствовали. Охотно организовывали так называемые внутренние рецензии для издательств, куда Урин приносил рукописи.
Но Виктор был непоседой. Не сиделось ему на сытном месте поэта. Хотелось чего-то экзотического.
После какого-то партийного пленума или съезда (точно не помню) он печатно обратился к руководителям партии и правительства с предложением создать поэтический штаб по отражению в стихах партийных решений: призывал посылать поэтов в командировки в самые медвежьи уголки страны, чтобы те воспевали положительные изменения, которые принесла в эти уголки Октябрьская революция. «В русле Маяковского», – добавлял Виктор. Начальником такого штаба Урин видел себя. Об этом он не писал, но это подразумевалось.
Нет, это предложение не прошло, хотя Урин напирал на традиции Маяковского. Но письмо добавило ещё большей благосклонности в отношение властей к Урину.
И вдруг – абсолютно непонятный им поступок: Урин объявляет о создании Всемирного союза поэтов.
Вот когда критикам надо было вспоминать Хлебникова – Председателя Земного Шара. Но про Хлебникова никто не вспомнил. Урина вызвали на заседание секретариата СП СССР и попросили объяснить, что всё это значит.
Урин объясняет: поэтические секции городских и республиканских отделений союза писателей СССР смогут войти в задуманный им Всемирный союз поэтов. Это же здорово: единство всех пишущих стихи на всём земном шаре! Советских поэтов переводят их зарубежные коллеги по союзу. Зарубежных коллег переводят советские поэты. Поэзия обнимает собою весь земной шар: мир, дружба, даже братство по перу!
Секретариат однако вместе с Уриным не порадовался. Наоборот. Ему советуют выбросить эту идею из головы и чем скорее, тем лучше. В противном случае угрожают исключением из Союза писателей СССР.
– Исключайте! – бросает секретарям Урин и достаёт красивый конверт. Вынимает из него письмо, написанное не по-русски. Читает перевод. Письмо от президента Сенегала Леопольда Сенгора, поэта, который благодарит господина Урина за предложение стать вице-президентом Всемирного союза поэтов и предлагает провести первый конгресс в Сенегале. Господину Урину, президенту Всемирного союза поэтов, будет предоставлена достойная его должности резиденция.
Секретари обомлели. Не ожидали, что дело зашло так далеко. Первый секретарь Марков наклоняется к уху оргсекретаря Верченко. Тот выходит. «К вертушке», – рассказывал потом Урин. То есть уходит звонить по спецсвязи («вертушка») в ЦК. Возвращается. Шепчет на ухо Маркову. Марков предлагает решения пока не принимать, а вместо этого предложить секции поэзии московского отделения союза писателей рассмотреть инициативу Урина и высказать своё мнение.
Дальнейшее понятно. Секция поэзии отрабатывает полученное задание: исключить Урина из союза за международную провокацию. Виктор проходит по обычному в таком случае конвейеру: партком – исключение из партии, секретариат московского отделения – одобрение решения секции об исключении из союза, секретариат союза писателей РСФСР – утверждение решения об исключении. Но Витю это не трогает. Он улыбается. Он смеётся. Президент Сенегала Сенгор, узнав о неприятностях президента Всемирного союза поэтов, предлагает господину Урину политическое убежище в Сенегале.
Так просоветский поэт превращается в антисоветского.
Урин делает новый ход. Меняет свою квартиру на «Аэропортовской» на квартиру на площади Свободы в Москве. Даёт интервью по этому поводу иностранным корреспондентам. Подтверждает, что сменил квартиру с подтекстом. Свобода – вот чего жаждет его поэтическая душа.
Он пишет новые стихи, нисколько не похожие на старые. Экспериментирует с формой. Стихи со сплошной рифмой называет «всерифмовником», придумывает «кольцевой акростих». О своих находках через посольство Сенегала сообщает своему другу Сенгору.
Сенгор обращается к Брежневу. Брежнев удивлён: это первый случай, когда советский гражданин просит убежище в Африке. Брежнев не против. Но прежде приказывает психиатрам проверить Урина: нет ли у того отклонений.
Идти к психиатрам Урин отказывается. Официально подаёт заявление в ОВИР с просьбой о выезде на постоянное место жительства в Сенегал. Власть машет рукой: пускай едет!
В последний раз я вижу Витю в ЦДЛ на панихиде по Наровчатову. Наровчатов его товарищ. Перед этим Виктор похоронил Луконина. «Следом за Мишей», – горестно объясняет он мне о смерти Наровчатова. Замечаю то, чего не замечает Урин: многие обходят его стороной. А он этого не видит: радостно бросается к знакомым.
Потом он исчез. Уехал. Добрался ли до Сенегала, не знаю. Но лет через пять услышал по «Голосу Америки», что живёт Виктор Аркадьевич Урин в Нью-Йорке, много пишет, иногда печатается. И слушаю его стихи. Обычные, не сверхноваторские.
О том, что он приезжал в 2002 году, узнаю случайно. Задним числом из газеты «Новые Известия». Она попалась мне на глаза слишком поздно. Навожу справки и узнаю: приезжал в Москву, но уже уехал.
А 30 августа 2004 года его не стало.
* * *
Джон Гей, родившийся 30 июня 1685 года (умер 4 декабря 1732-го), начинал как поэт. В 1711 году он издал сборник хвалебных песен «Современное состояние умов», снискавший ему не только популярность, но и хорошее знакомство с А. Поупом, Д. Свифтом и другими именитыми современниками.
Второй сборник «Стихотворения на разные случаи» Гей издал в 1720 году и не остался в накладе. Сборник принёс Гею доход, но коммерческие операции не были сильной стороной Гея и, занявшись ими, он деньги потерял.
Правда, успех у читающей публики имел сборник нравоучительных басен, написанных Геем четырёхстопным ямбом.
Что же до его пьес, то поначалу их встречали равнодушно. Но опубликованная в 1728 году социально-политическая сатира «Опера нищего» приумножила славу и состояние автора. И оставила его имя в веках.
Опера многократно перерабатывалась последователями Гея, насыщалась новыми подробностями и служила образцом для новейших подражаний. Позднее именно она легла в основу «Трёхгрошовой оперы» Бертольда Брехта и Курта Вайля.
* * *
Историк Владимир Иванович Герье (скончался 30 июня 1919 года) после женитьбы в 1868 году на 31 году жизни (родился 29 мая 1837 года) на племяннице Н.В. Станкевича – Евдокии Ивановне Токаревой, которой за восемь лет до этого давал частные уроки, задумался об организации женского образования. Дело в том, что университетский устав 1863 года, по всеобщему мнению – самый либеральный из всех, какие когда-либо имела Россия, – о студентках ничего не говорил. Только о студентах. В развитие его появился особый циркуляр Министерства народного просвещения, запрещавший посещение университетских лекций «особам женского пола».
В то время ученицы, окончившие гимназии, могли сдать университетским преподавателям экзамен, чтобы получить диплом домашних учительниц. Герье принимал такие экзамены, видел, что неравноправие полов в обучении во многом надуманно и оскорбительно для способных девушек. И потому оказался в числе 43 профессоров, поддержавших письмо более четырёхсот девушек ректору Петербургского университета с просьбой разрешить женщинам обучение в университете.
Владимиру Ивановичу было поручено подготовить экспериментальный устав Женских курсов. Ознакомившись с уставом, министр народного просвещения граф Д.А. Толстой дал разрешение на открытие таких курсов в Москве. Московские высшие женские курсы (их называли ещё: курсы профессора В.И. Герье) открылись 1 октября 1872 года на Волхонке в здании Первой мужской гимназии. Герье возглавлял их в первый период существования с 1872 до 1888 года, когда министр народного просвещения в правительстве Александра III И.Д. Делянов сперва – в 1886-м запретил приём на курсы, а через два года и вовсе их закрыл. Н.И. Герье, вспоминая об этом, писал: «Слабоумные люди, заправлявшие в 80-х годах, полагали, что одержали большой успех над революцией, запретив приём девиц на Высшие женские курсы. Но десять лет спустя сами убедились в своей ошибке и стали думать о восстановлении курсов».
Добрейший Герье пишет об «ошибке» чиновников, в которой они «убедились». Тогда как очевидно, что следует писать об их сервильной услужливости: в угоду Александру Второму Д.А. Толстой показывал себя либералом, в угоду Александру Третьему – консерватором, критиковал собственные реформы, за что был назначен министром внутренних дел и шефом жандармов.
При Николае II с 1900 года Высшие женские курсы были восстановлены. Герье вновь был назначен их директором. В 1905 году должность директора стала выборной. Герье в это время находился за границей и выбран не был. Избрали Н.И Вернадского. Но не учли, что ставший помощником ректора Московского университета Вернадский не захочет занимать именно эту должность. Состоялись новые выборы. И директором стал С.А. Чаплыгин.
Герье добился того, что на курсах преподавали лучшие учёные того времени.
Я же вспомнил об основателе Высших женских курсов потому, что от них ведёт свою родословную Московский педагогический государственный университет (МПГУ), в котором я преподавал 20 лет. Генеалогическое дерево выглядит так: Высшие женские курсы – 2-й МГУ, Московский педагогический институт имени Бубнова – Московский педагогический институт имени Потёмкина – Московский педагогический институт имени Ленина – МПГУ.
* * *
Роман Борисович Гуль, скончавшийся в Нью-Йорке 30 июня 1986 года (родился 13 января 1896-го), в эмиграцию попал после того как был пленён петлюровцами в Украине, где он, участник Ледяного похода генерала Корнилова, записался в армию гетмана Скоропадского. В начале 1919-го петлюровских пленных немецкое командование вывезло в Германию. Гуль был в лагере для военнопленных, потом в лагере для перемещённых лиц.
Освободившись, Гуль обосновался в Берлине, работал в редакции журнала «Новая русская книга». После отъезда в СССР А.Н. Толстого возглавил газету «Накануне».
За свой роман о Савинкове «Генерал Бо» попал в 1933 году в гитлеровский концлагерь как русский эмигрант, написавший книгу о русских террористах. Но сумел освободиться и эмигрировал в Париж, где опубликовал документальное повествование «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере».
С 1950 года жил в США. Печатался в «Новом журнале», стал его главным редактором с 1966 года и пребывал на этом посту до своей смерти.
Он написал немало исторических романов. Особую известность приобрёл как автор мемуаров в трёх книгах «Я унёс Россию. Апология эмиграции».
Я вспомнил его ещё и потому, что он протежировал моему сокурснику Юрию Даниловичу Кашкарову, эмигрировавшему в США в конце 70-х годов.
Кашкаров прислал в «Новый журнал» рассказы. Роману Борисовичу они понравились. А потом понравился и их автор, которому он предложил работу в редакции. Завещал Совету попечителей «Нового журнала» назначить Юру главным редактором, что и было сделано. Юрий Кашкаров умер в 1994 году, пробыв главным редактором «Нового журнала» восемь лет. Напечатал там и мою маленькую повестушку.
* * *
Галина Иосифовна Серебрякова, умершая 30 июня 1980 года (родилась 20 декабря 1905 года), была арестована НКВД в 1936 году вслед за арестом мужа – наркома финансов Григория Сокольникова, выслана в середине 1937-го в Семипалатинск с матерью и двухлетней дочерью, а там в конце 1937 года снова арестована и в 1839-м как жена врага народа приговорена к 8 годам заключения. В 1945 году освободилась, жила в городе Джамбуле, где работала фельдшером.
В 1949-м арестована повторно и приговорена к 10 годам лагеря. В 1955 году освобождена и отправлена в ссылку в Джамбул. В 1956-м реабилитирована и восстановлена в партии.
Для Серебряковой это восстановление было очень важным. Потому что в Гулаге она осталась преданной коммунисткой. Став гражданской женой вертухая, она оплакала его гибель в армии, куда его призвали в Великую Отечественную.
В СССР была известна прежде всего как автор трилогии о Карле Марксе. От своего документального романа «Смерч», рассказывающего о жизни в советском концлагере, Серебрякова отреклась публично, после того как его напечатал на польском языке в 1967 году парижский журнал.
Выступала на знаменитой встрече писателей с хрущёвской верхушкой – нападала на мемуары Ильи Эренбурга.
Осталась в памяти этим своим выступлением. И тем ещё, что неизменно поддерживала партийную линию на всех этапах того отрезка советской жизни, который был прожит Серебряковой
* * *
С Гавриилом Николаевичем Троепольским, скончавшемся 30 июня 1995 года (родился 29 ноября 1905-го), мне довелось встретиться в Воронеже в 1970-м, куда приехал по командировке «Литературной газеты».
Он ещё не был автором повести «Белый Бим Чёрное ухо», которая его прославила, но был довольно известным публицистом, писавшим правдивые очерки на сельские темы.
В отличие от некоторых других воронежских писателей, держался скромно, не жаловался, как другие, на невнимание «Литературной газеты» к его творчеству, показал себя очень трезво мыслящим человеком. Мы расстались довольные друг другом.
И продолжали дружить. Он опубликовал свою знаменитую повесть о приключениях пса Бима в поисках хозяина, который попал в больницу; о том, сколько разных – хороших и плохих – людей встретилось Биму; о гибели Бима – жертвы людской жестокости. При встрече я высказал Гавриилу Николаевичу своё восторженное отношение к его повести. И добавил: «Наверное, я ничего нового Вам не наговорил: Вы привыкли к такой оценке». Троепольский улыбнулся: «Кашу не испортишь даже большим количеством масла!»
А после кончины Советского Союза воронежское отделение приняло решение остаться в составе Союза писателей России. Троепольский был единственным писателем, кто проголосовал против, и вышел из этого союза, вступив в другой – в Союз российских писателей. Но другой почему-то не был признан новыми воронежскими властями, и Гавриил Николаевич фактически остался без пенсии – писательский стаж ему не засчитывали. Пришлось Троепольскому снова проситься к воронежцам в их отделение.
Меня поразила жестокость его воронежских коллег. Они не захотели восстановить Троепольского в Союзе, но потребовали, чтобы он вступал вновь. То есть, просить у них рекомендации (их нужно взять у трёх писателей), пройти бюро прозы, потом правление отделения, потом утверждение на секретариате СП РСФСР. И это ему, который на голову был и остаётся выше любого из них!
Я не работал уже в «Литгазете», когда прочитал об этом. Помочь мне было ему нечем. Хотя я и побуждал к этому наш Союз писателей Москвы. Там тоже развели руками.
Думаю, что этот эпизод сильно укоротил жизнь Гавриила Николаевича.
Список имён тех, кому посвящены календарные заметки
Абрамов Фёдор
Авторханов Абдурахман
Адамов Аркадий
Адамович Георгий
Азаров Всеволод
Айтматов Чингиз
Аксаков Сергей
Алексеев Михаил Н.
Алексеев Михаил П.
Алексиевич Светлана
Алмазов Борис
Алымов Сергей
Альтман Иоганн
Анджапаридзе Георгий
Андроников Ираклий
Андропов Юрий
Арбузов Алексей
Асадов Эдуард
Астафьев Виктор
Ахмадулина Белла
Ахманова Ольга
Ахматова Анна
Бабаевский Семён
Бальмонт Константин
Барант де Проспер
Барклай-де-Толли Михаил
Баркова Анна
Батюшков Константин
Бахчанян Вагрич
Безыменский Александр
Бек Татьяна
Белинков Аркадий
Белинский Виссарион
Бенедиктов Владимир
Бенкендорф Александр
Берковский Наум
Бианки Виталий
Бичер-Стоу Гарриет
Благинина Елена
Благовещенский Николай
Блудов Дмитрий
Богданов Александр
Богомолец Александр
Богословский Никита
Боккаччо Джованни
Боклевский Пётр
Бонди Сергей
Борщаговский Александр
Бочаров Сергей
Браунинг Элизабет
Бродский Иосиф
Бродский Николай
Бромлей Надежда
Быков Василь
Вайнер Аркадий
Ваксберг Аркадий
Венгров Натан (Моисей)
Вертинский Александр
Визбор Юрий
Вознесенский Андрей
Войно-Ясенецкий Валентин (Архиепископ Лука)
Волошин Максимилиан
Волынский Аким
Вонненгут Курт
Воронцов Михаил
Выготский Лев
Галансков Юрий
Галлай Марк
Гей Джон
Герасимова Валерия
Гервег Георг
Герцен Александр
Герье Владимир
Гинзбург Евгения
Глинка Михаил
Гоголь Николай
Голенищев-Кутузов Илья
Голубков Дмитрий
Гольдфарб Александр
Гончаров Виктор
Гончаров Иван
Гончарова Наталья С.
Горбаневская Наталья
Горловский Александр
Горчаков Александр
Горький Максим
Гофман Э.Т.А.
Губер Эдуард
Гудзий Николай
Гуковский Григорий
Гуковский Матвей
Гуль Роман
Гумилёв Николай
Гуро Елена
Д’Актиль Анатолий
Давыдов Денис
Даль Олег
Данилевский Григорий
Демыкина Галина
Дербенёв Леонид
Дмитриева (Васильева) Елизавета
Добровольский Владимир
Добычин Леонид
Долинина Наталья
Долматовский Евгений
Домбровский Юрий
Достоевская Анна
Друнина Юлия
Дубов Николай
Дыховичный Владимир
Дьяконов Михаил
Ермолов Александр
Ерофеев Венедикт
Ефремов Иван
Жданов Владимир
Жемчужников Александр
Заболоцкий Николай
Иванов Александр
Икрамов Камил
Ильф Илья
Каверин Вениамин
Каменский Василий
Карамзин Николай
Кардин В. (Эмиль)
Кассиль Лев
Катенин Павел
Кафка Франц
Каченовский Михаил
Керенский Александр
Керн Анна
Кетлинская Вера
Киреевский Иван
Ключевский Василий
Кобликов Владимир
Козаков Михаил
Колесов Владимир
Колычев Осип
Кольцов Михаил
Конецкий Виктор
Копелев Лев
Коржиков Виталий
Корольков Юрий
Косолапов Валерий
Кочетков Александр
Крелин Юлий
Крестинский Александр
Кузнецова Светлана
Кучаев Андрей
Кюхельбекер Вильгельм
Лабковский Наум
Лагин Лазарь
Лапин Борис
Лежнёв Абрам
Леонов Леонид
Липатов Виль
Лиснянская Инна
Лорка Гарсиа
Лосев Алексей
Луговской Владимир
Любарский Кронид
Майков Аполлон
Майков Леонид
Макаренко Антон
Манн Юрий
Мариенгоф Анатолий
Марков Георгий
Матвеев Владимир
Межиров Александр
Мей Лев
Меламед Игорь
Митяев Анатолий
Могилевская Софья
Мур Томас
Нарбут Владимир
Некрасов Виктор
О.Генри
Оболдуев Георгий
Овалов Лев
Овечкин Валентин
Окуджава Булат
Оруэлл Джордж
Осеева Валентина
Остерман Генрих Иоганн Фридрих
Ошанин Лев
Павловский Павел
Палькин Николай
Панфилов Глеб
Пастернак Борис
Пастернак Леонид
Паустовский Константин
Переверзев Валерьян
Перцов Пётр
Печерин Владимир
Пигарёв Кирилл
Писахов Степан
Плисецкий Герман
Полетаев Владимир
Полонская Елизавета
Помяловский Николай
Поперечный Анатолий
Поповский Марк
Потёмкин Пётр
Прилежаева Мария
Пушкин Василий
Пущин Иван
Пяст Владимир
Рахманов Леонид
Реформатский Александр
Решетов Алексей
Рождественский Роберт
Руссо Жан-Жак
Рыленков Николай
Саводник Владимир
Садовников Георгий
Самойлов Давид
Санд Жорж
Сарнов Бенедикт
Сартаков Сергей
Светлов Михаил
Свиньин Павел
Сейфуллина Лидия
Серебрякова Галина
Сидоров Валентин
Сиповский Василий
Сирин Ефрем
Слуцкий Борис
Соколов Владимир
Соколова Наталья
Соколов-Микитов Иван
Соловьёв Владимир А.
Солоухин Владимир
Сотник Юрий
Столица Любовь
Суворов (Резун) Виктор
Суров Анатолий
Танич Михаил
Тарковский Арсений
Твардовский Александр
Титов Владислав
Ткаченко Александр
Толстая Александра
Троепольский Гавриил
Тронский Иосиф
Туманский Василий
Урин Виктор
Уфлянд Владимир
Фёдоров Василий
Форш Ольга
Фофанов Константин
Франк Анна
Фролов Иван
Харджиев Николай
Харитонов Владимир
Хикмет Назым
Хлебников Велимир
Хомяков Алексей
Цявловская Татьяна
Цявловский Мстислав
Чаадаев Пётр
Честертон Г.К.
Чуев Феликс
Шагинян Мариэтта
Шаламов Варлам
Шаров Александр
Шевырёв Степан
Шекспир Вильям
Шкляр Николай
Шмелёв Иван
Шолохов Михаил
Щекочихин Юрий
Щербина Николай
Эйдельман Натан
Примечания
1
Чёрт возьми! Да здравствует Наполеон! Браво, господин Софрон! (франц.).
(обратно)2
«депансы» – по-французски «издержки», «расходы».
(обратно)
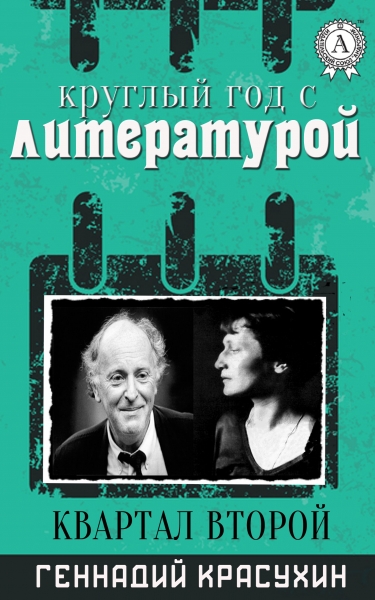


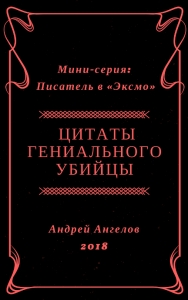
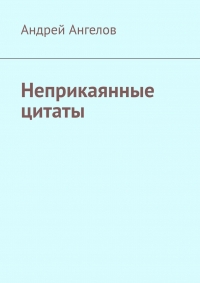

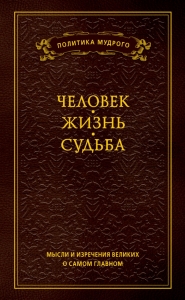




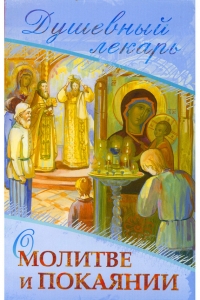
Комментарии к книге «Круглый год с литературой. Квартал второй», Геннадий Григорьевич Красухин
Всего 0 комментариев