Савелий Алин
Онтология нового мира
Манифест
Вiчний революцйонер —
Дух, що тiло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю,
Вiн живе, вiн ще не вмер.
Нi попiвськiї тортури,
Нi тюремнi царськi мури,
Анi вiйська муштрованi,
Ні гармати лаштованi,
Нi шпiонське ремесло
В грiб його ще не звело.
Вiн не вмер, вiн ще живе!
Хоч вiд тисяч лiт родився,
Та аж вчора розповився
I о власнiй силi йде.
I простується, мiцнiє,
I спiшить туди, де днiє;
Словом сильним, мов трубою
Мiлiони зве з собою –
Мiлiони радо йдуть,
Бо це голос духа чуть.
Иван Яковлевич Франко «Гімн»
Глава I. Прошлое
Три года: вчерашний 2017-й, сегодняшний 2018-й и завтрашний 2019-й, богаты на памятные юбилеи. Целый век стукнул ноябрю, месяцу 1917-го, ознаменовавшемуся восхожденьем большевиков до власти над Петроградом да Москвою – началом багровой эры социалистической революции со всеми перипетиями. К ней привели пороки буржуазной системы, каковых основные вехи прекрасно разобраны книгой «Капитал» Маркса. Первый тираж тома №1 этого magnum opusа вышел из-под печатного станка полторы сотни лет тому, сентябрьскими неделями 1867-го, почти накануне мятежа Парижской коммуны. А за 20 годов до того, на заре Весны народов 1848-го, в намётанной совместно с верным другом Фридрихом Энгельсом брошюрочке выдающийся мыслитель прикинул главные закономерности сменяемости исторических эпох. 5-го мая исполнился двухсотый юбилей его рождения, в честь которого типографии Трира, родного города, выпустили сувенирные купюры нулевого номинала с портретом Карла Генриха на аверсе. Что ж, по ехидному злополучному року цена тех – 3 настоящих евро. Должна ведь окупиться затея предпринимателей, не так ли? Безусловно да, но круглая дата окончанию Великой войны подстрекает повернуть вниманье к оборотной стороне шутки: именно ненасытная мания наживы у крупнейших нуворишей, непринуждённо погнавших говорящий скот на забой, была причиной некогда разразившей бессмысленную и беспощадную мясорубку. Однако люди – отнюдь не безвольные твари дрожащие, а право имеют. Они вовсе не готовы вечно терпеть преступленья, издевательства над собою, порой возвращая злость бумерангом возмущения, последний раз очень размашисто пролетевшим около черты 60-х – 70-х годов минувшего века.
Впрочем пока во второй половине его завершающей четверти агонизировал, рушился Советский Союз, западная политология провозгласила дескать (эврика!) «либеральная демократия есть наилучшее решение человеческой проблемы», венец и окончанье истории. Назойливое увещеванье в достоверности могильного утверждения стало потом будничной действительностью, но хм… прошедшие с той поры ни много ни мало 30 лет упрямо свидетельствуют о его несостоятельности, ибо на Земле не прекратились военные конфликты, вопиющее неравенство, несвобода. Напротив: ужесточилась немая цензура, повысилась длина рабочего дня да возраст выхода на пенсию, раскалились свежие горячие точки. Сам объявленный передовым тип правления помимо редких исключений, не вышел полновесно за традиционный ареал обитания – благополучные страны. Между тем нельзя не отметить некую долю правды у этой байки: мир застыл для простого населения, так как де-юре меняются созывы парламента, президенты, кабинеты министров, но курс всегда стабильно прежний – де-факто граждане лишены рычагов влиянья на него. Недаром Марк Твен писал: «Коль от выборов что-то зависело б, нас до них не допустили бы». И несложно догадаться – рано или поздно подобный абсолютно нездоровый порядок падёт. Восстание из гроба истории, похороненной заживо, немудрено. Оно подстрекаемо хоть даже фундаментальнейшими свойствами реальности, где существованье всех объектов проявляется только через движение, а любой взятый результат будет мгновением вечного времени да точкою бесконечного пространства, выражающих обоюдно обусловленное взаимодействие частей материи, сказывающееся на характеристиках. Финал бурному теченью виднеется аж с крахом Вселенной.
Та не оставляет места платоновским формам и прав тогда Кант, уверенный в непознаваемости ноуменов. Надо ещё ради полноты картины добавить: неподвластность исследованию происходит попросту из-за их отсутствия, что не перечёркивает истинности. Её есть целых два вида – можно говорить об устойчивом, к примеру: Солнце – единственная звезда нашей планетной системы, да о скоротечном как фатум бактерии: вчера жива, спокойно себе паразитирует, а завтра погибнет от антибиотика. Любимое светило тоже вероятно спустя семь с половиною миллиардов лет, сгорит до белого карлика. Значит, секрет всякой ресноты изменчивого бытия заключается в её относительности. Но это лишь один бок изученья, предмет доступный субъекту – человеку. Тут уж его подлинная мощь! Совсем не внушительный сравнительно с иными созданиями и явлениями природы, он взобрался на гору мирозданья, прежде прочего благодаря своей голове. От посылаемых рецепторами органов чувств нервных импульсов, к ней попадает информация про окружающую среду которой оперирует мозг, отряжающий ответные сигналы. Так мыслящему тростнику через приобретаемый опыт открывается обворожительная реальность, проносящаяся вереницею, калейдоскопом пестрейших феноменов разнообразных количеств да качеств.
Стандартная реакция на них – удивленье сеющее зёрна любопытства. Стоящий в прогалине бытия начинает таращиться на множество конкретных случаев, а подмечая закономерности выводит всяческие абстракции, например фигурировавшие абзац назад понятия «материя» да «движение» – природа не имеет голой субстанции так же, как перемещений пустоты, зато оба свойства присущи каждому её кусочку. Этими известьями жажда эрудиции только разжигается: он продолжает собирать более доскональные сведения обо всём вокруг, опираясь непосредственно на собственные ощущенья. Мир предстаёт ему последовательностью цельных, казалось бы, интуитивно ясных, убивающих или делающих сильнее происшествий, от его воли почти независимых – естественное людское восприятие бела света вопреки Хайдеггеру, крайне далёко от минимума объективности но максимально субъективно, потому редко способное к серьёзным истолкованиям. Тысячи нитей простираются между человеком и самыми тёмными закоулками правды, напоминая ославленную мысль Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Однако, глубоко вдохнув да долго выдохнув он берётся на основе эмпирики созидать рациональные категории, отражающие формы движенья материи: физическую, химическую, биологическую, социальную, восходя будто по ступенькам, снизу доверху, включая простейшее сложенное с новым.
Ради технического обслуживания наук продумывается в частности отвлечённая от них математика, стереотипно считающаяся оплотом точности несмотря на опровержения Геделя. Но цифры меркнут рядом с вербальным домом умозрений – языком, отворяющим необъятные горизонты. И чем усердней учёные грызут гранит существованья, тем разрабатываемые теории всё дальше идут за линию банальных испытаний, иногда противореча им: с чего я должен быть убеждён что Земля вращается относительно Солнца, если каждые сутки наблюдаю подъём да закат небесного светила, а почва подо мною вроде не едет? Почему обязан верить в бактерий если никогда не видал их? Этот скептицизм указывает на площадь вязкой липкой субстанции где нелегко, строя гипотезы, застраховаться от заблуждений. Тем паче тяжко читателям продираться сквозь густые джунгли (ещё труднее вычленять ошибки, добросовестные али злоумышленные) софизмов книг мудрецов, устремлённых описать для нас разгадки не столько «неземных», сколько «заземлённых» тайн. Особенно непросто, ибо как древние люди наверно, преимущественно обсуждали свою охоту, так же потенциальная интеллектуальная силушка современных масс направлена к вещам «приземлённым»; отнюдь не преувеличено заявленье о важности философу желающему стать понятным, литературного мастерства большей нежели романистам или поэтам. Но содержание конечно впереди всего. К примеру Гегель, настоящий антипод сентенции, очень пригождается диалектикой: коль грамотно перевернуть метод на ноги, он пояснит многие сложные штуки в дебрях науки.
Его главная функция с коей тот справляется получше тривиального критерия Поппера – опровергать косную привычку разума на радостях возводить найденные причины до ранга абсолютных, сочиняя догматическую метафизику – несусветный вздор, ведь у тех всегда обнаруживаются ещё гораздо глубочайшие истоки. Вон атом, тысячелетьями числившийся монолитным, на деле состоит из в свою очередь тоже расщепляемых ядра да электронов. Короче говоря мельчайшее непостижимо, куда уж. Ровно на элементарный крупнейший вопрос «Где мы находимся?» некоторые диалоги пелевенских Чапаева и Пустоты указывают лучший ответ – «Здесь». Отсюда снова исходная точка: сознание, неотъемлемо характерное нам, поднимает до разряда наивысокоорганизованной материи так как позволяет отражать всю остальную. В ней кроется единственный адекватный критерий истины – практика: самостоятельная или с помощью изобретений да приборов сближающих с бытием, экспериментальная проверка предположений. А если учесть что достигнуть окончательной осведомлённости о сущности (охватить явленье со всех сторон и связей) нереально, то исследование мира – это бесконечный путь во мгле, тропа опроверженья предрассудков свежими развёртками.
Этак образуется специфически динамичный трансцендентальный разрыв между твердью понятного да покрытой догадками дырою тайного, через развивающийся эпистемологический приём концентрированно обобщающийся в систематизирующей науки философии – её прогресс сводится к борьбе идеализма с материализмом, только всякий раз на новом уровне (до той поры пока будет создана синтетическая концепция). Как зорко отметил Альтюссер, постулаты становятся базой широко распространяемых среди людей, обычно филистеров, разрозненных суеверных мнений – идеологии. Задача той – оправдывать интересы политических групп. Этот мост намекает на необходимость прислушаться к совету Дэвида Юма, и рассматривать учения неотрывно от обстоятельств воздействующих на человека, особенно склонного усугублять путаницу что касается социального, ибо он – его часть. То есть, корни теперешнего недоразумения с погребеньем истории по иронии в ней же запрятаны. Сыскав ось, стержень её движения, мы тотчас поймём причины сегодняшнего курса (а значит, сможем полноценно рассуждать о грядущих поворотах траектории), для чего окунёмся к ветхой были.
Давным-давно экстраординарные стихийные бедствия подтолкнули какие-то стайки австралопитеков изготавливать облегчающие добычу нужных ресурсов вещи, таких себе посредников с природою – орудья труда, благодаря которым пассивное приспособление присущее обычным животным, начало сдавать позиции активному преобразованию, и постепенно те приматы стали развиваться к людскому облику. Но ничего не случается «по щелчку пальцев» – даже сам щелчок пальцами; физиологический антропогенез длился дольше двух миллионов лет. Подробности в этом сочинении опущу, а равно всем очевидные результаты. Однако замечу: именно тогда обрелось наше исключительное свойство, вынесенное к названию вида – разум. Его взаправду надо б разъяснить. Меняя деятельностью мир индивид обосабливается, осознаваясь творцом, и в противовес внешнему создаёт космос внутренний, наполняемый рефлексиями над информациею. Он приучается запоминать, выходит за черту сиюминутного мышленья конкретного к абстрактному, на досуге витая по облакам малосвязной розановщины, думает что угодно, то низкое то высокое, прыгая от подноготной грязи до например геометрии. Загоревшись идеей, возвращается опробовать её реально. Работает или нет – продолжает дальнейшие рассуждения в той либо иной сфере. Но многогранность фантазии человека, трудом порождённая, им же детерминирована: не сооруди в СССР Восток-1, не летать Гагарину по орбите, не грезить б о поиске запасной Земли; не строй испанцы каравелл, не плавать Колумбу до Нового Света, не появиться бы авантюрной легенде про Эльдорадо.
Опять-таки, все свершения остались бы невыполнимыми без совокупности символов, при определённом порядке нагруженных значеньем – языка, обрамления мысли, кальки, развивавшейся аналогично содержанию – потому по нему можно прийти к выводу о ней. То есть, членораздельная, чёткая речь отражает насыщенный людской ум. Эту косвенную логику позволительно развернуть к братьям нашим меньшим. Прошу простить вульгарность, но как образчик приведу здесь мою кошку Алису. За несколько годов домашней жизни она, лишь усвоив нехитрый алгоритм возникновения еды в миске, начала ещё интенсивнее чем раньше, при любом удобном ей случае, вымогая корма привлекать внимание мяуканьем. Каждый обнаруживал существование нечаянной механической дрессуры на собственном питомце, да и природа не сотворила зверям подлинно каверзных препон. Итого им не требуется очень витиеватого комплексного набора звуковых сигналов для общенья, а уровень психики колышется около инстинктивно-рефлекторного, что подтверждается выводами знаменитого академика Павлова. Нынче нейрофизиологию принято противопоставлять с психологией, но конфронтация ложна в самом корне ведь обе науки изучают реакции нервной системы на раздражители, отличаясь только рассматриваньем их с разных форм движения материи: биологической и социальной соответственно. Специфика последней, упомянутой уже пару-тройку раз, до сих пор не получила должного освещения (но она по сути главнейшая среди тем книги) ибо человеческий слог, недосягаемо превосходящий иные, явившись кладезем постепенно запасаемой мудрости неуклюже статичен да монументален. Начиная повествованье, вообще тяжело загадать композицию тем более, когда хочешь изобразить одновременность и взаимовлияние процессов, в частности эволюции, опиравшейся на труд. Тем не менее надо постараться, разместив согласно правилам или эксперименту буквы, слова, предложения, абзацы сплести более-менее внятный связный текст.
Ради его гладкости, чтоб избежать наслоенья сюжетных линий, доселе я намеренно не предавал важности числу индивидуумов, употребляя преимущественно единственное. Но теперь наконец пора сказать: они не могут существовать друг без друга, вне групп. Ещё природа побуждает продолжать род и выживать: добывать питьё, пищу, обустраивать кров, обеспечивать безопасность, принуждая сплачиваться в общества всех ступеней ввысь от семьи. Там где потерянных младенцев, а такое случалось, вскармливала, воспитывала дикая фауна, их потенциал созиданья разом с мышлением стопорился. Название «люди» применимо к «Маугли» лишь анатомически. Не зря пословица гласит: «с волками жить – по-волчьи выть». Говоря проще, предыдущие заключения сочинения произошли в социуме да на него же экстраполируются. Похоже тому как ребёнок наследует гены мамы с папой, он развивается окружённый сложившимся трудом поколений материальным бытием и коллективными представленьями, которыми то отразилось. Эти условия, ежесекундно сопровождающие отдельную персону или целое общество, исторически почти всегда юнгиански бессознательные, однако крайне значимые априорные предпосылки, ненавязчиво диктующие волю, поведенье, взгляды вплоть до чисто интимных вопросов, в частности об издревле волнительной проблеме сенса жизни. Впрочем на неё стоит уверенно ответить: обычным тварям повинующимся естественному циклу, не под силу выработать абстракцию «смысл» ибо она требует «я». Но у личности, а не морды, отсутствует конкретный вектор доли, ей приходится свободно на свой страх и риск править судьбою. Цитирую персонажа из эпатажного «Портрета Дориана Грея»: «Цель жизни – самовыражение. Постичь собственную сущность – вот для чего мы здесь».
Артур Конан Дойл черканул хорошую строчку: «Человек – сам творец своей славы». Он размышляет, мечтает, воюет, дружит, ненавидит, любит, мастерит что-то – действует, принимает решения касательно себя и других. Повидав окрестный мир, внеся к нему лепту, индивидуальность может брать на щит идеи отнюдь не обязательно тождественные обычным, а затем ещё стремиться исполнять их, становясь инициативным субъектом социума, да внезапно войти с приверженцами уязвлённых ценностей в неприятный диссонанс, схлопоча горе от ума приблизительно как у Грибоедова. Такова уж реальность: развитье всякой материи неминуемо генерирует противоречия устойчивости с изменчивостью, единых внутри одного процесса. Следовательно движенье – борьба меж ними: тенденциями волны и частицы в синтезе-свете, прямо да криволинейным направлениями спирали – лучшей аналогии к истории. Очаг разнообразнейших общественных конфликтов, тургеневских ли отцов и детей либо среди художественных жанров литературы, пусть через множество линз но теплится (хотя, слово не совсем верно, скорей «то тлеет, то вспыхивает» – об этом я скажу чуть погодя) из трудовых отношений людей, инструментов, природы – материальной основы существования. А соперничество групп связанных с теми или иными её течениями, есть толстая проволока которая нанизывает эпохи в родовом смысле нашей жизни – социальные формации.
При изначальной, общинно-племенном коммунизме, привычные атрибуты без коих не вообразить знакомый сейчас лад лежали в колыбели. Генеральною повесткою дня стало совершенствованье орудий: каменных, медных/бронзовых, наконец железных – их эра не иссякла поныне. Синхронно пробивались сопряжённые с теми передовые нормы, оттесняя унаследованные от звериных предков кровнородственные – но те ещё главенствовали протяженьем архаичного строя. Никто не имел и мизерной автономии от очень тогда широкой семьи, а изгойство практиковалось видом суровой казни за тяжёлые проступки, ведь хотя каждый человек не мог выжить без помощи собратьев, зато приносил пользу на не шибко продуктивных промыслах. Обусловленные постоянной нехваткой ресурсов, царили самоуправление да альтруизм: скудная добыча почти равно делилась на всех, так что о серьёзном преобладании кого-то над прочими не шло речи; холм племени был без вершины, круглым как эта Земля. Даже на конфликты (именно для оперативного командования нападеньем или обороною нужна личность предводителя) с враждебными соседями, возникавшие из-за споров о коллективной собственности на территорию, зачастую ходили полным скопом. Пленников либо принимали в свой род либо убивали. Мода на беззастенчиво грабительские, разбойничьи войны ради порабощения пришла позже, под руку с победой над дарвиновской дикостью в двухполярном соперничестве тенденции к цивилизации, увенчавшей эволюцию от homo habilis до sapiens, окончившую развитие физиологическое заменой того на улучшение средств производства, покорность природе её постепенным подчинением. Иными словами, за первой на людском веку революцией – неолитической.
Борьба противоположностей рьяно иссекает сущее мелкими количественными модификациями, а по накопленью ими определённой ступени оно впадает к весьма резкому состоянию турбулентности, из которой скачком выходит в новом качестве с снятыми чертами старого. Его мера трансформируется, появляется другая движущая дихотомия; она закладывает почву аналогичному процессу на свежей основе. Сие правило универсально, подтверждающих моделей ему впору привести уйму: закипает чайничек – жидкая водичка испаряется, прибавляется к ядру атома лишний протон – один элемент обращается вторым, и так далее и тому подобное. То есть Вселенная, вечно изменяющаяся – сплошь буйный хоровод смирных, чопорных эволюций с залихватскими, растрёпанными революциями. Мы как её часть тоже им обоим подвержены. Но злоупотреблять силлогизмом категорически нельзя. Он, да вся диалектика от самой триады «теза-антитеза-синтезис» – это только формула куда во избежание построенья глупых фантасмагорий ещё надо уметь компетентно подставить, собственно, данные, что и пробую здесь делать. Ради разгрузки изложенья сверяться с нею впредь буду мысленно, не выплёскивая на лист. Впрочем уж закончу-ка вовсе про гносеологию. Если увлекаешься ей то советую читать работы Эвальда Ильенкова, а я вроде рассказал довольно, надеюсь не допустив кучи ошибок. Оттого пожалуй, поворочу руль повествования назад к путаному пути главного героя – людей. Метаморфозы материи наивысшей организации, руководящей своими деяньями, намного значительней, грандиознее нежели у низших. Наша эволюция способна уходить в деградацию, успех или провал революции становится вопросом жизни и смерти. Рядом с названием разумного вида можно перечислить около полутора десятка условных имён сородичей: они, свернувшие не туда, погибли, застряв не выбрались из тупика. Теперь о них известно лишь от археологов – потомков худо-бедно прошедших прелести грубого да голодного древнего коммунизма, бытовавшего едва не миллион годов, преобразовывавшегося несколько тысяч лет, пращуров кои вступили под диктовку исторических обстоятельств в антагонистическую формацию: череду обществ где по-разному, но непременно практикуется систематическое угнетение человека человеком.
Потихонечку единая община росла да богатела, начиная внутри себя делиться на три стези: земледельцев, животноводов, чуть позже – ремесленников. Стало куда тяжелее всенародно распоряжаться таким укрупняющимся хозяйством, а ещё ведь случилась серьёзнейшая перемена его типа с присваивающего на производящее. Хотя устоявшиеся термины по сути не точны: любой материальный труд (напрямую, косвенно – без разницы) черпает ресурсы из природы для восполненья жизненных сил. Но это к слову, действительно же важны последствия обоих приведённых факторов, что с одной стороны огородничество со скотоводством (впрочем кочевники никогда не славились прогрессом), отлично от охоты и собирательства, приносили излишки сверх витальных нужд на регулярной основе, с другой управлять ими выдвинулись эдакие специалисты содержащиеся на прибавочный продукт, его научившиеся изымать, затащив изготовителей в личную зависимость. Захватив контроль над промыслами, элита подчинила потребление, поскольку создаваемые вещи перетекли к её собственности, распределенье, ибо закабалила непосредственных работяг, и в области обмена, пока не приобрётшего решающего значения, как выходит из предшествующих строк она возымела козыри, короче говоря – подмяла целиком всю экономику, по влиянию увеличилась до Гулливера, обратив громадную часть населенья лилипутами.
Имеются разнообразнейшие трактовки власти, колеблющиеся от редукции её видов к всего-навсего пёстрым результатам вековечной борьбы тирании с охлократиею, до расчёта ровно на 64 вариации у Александра Кожева… но что поистине есть эксплуататорское отношение между классами и вообще способность навязывать кому-то свою волю, манипуляциями приводить покоряющегося к согласию с приказами, отрекаясь негативной реакции на совершенно неделикатное вмешательство в долю? Как можно коротко охарактеризовать плюс-минус эталонную (однако не обязательно совпадающую с эйдосом) натуру начальника? Попробую прикинуть. Во-1-х внедренье команд сопряжено с определённой активностью: желающий удержать почётный статус должен быть смел, предприимчив, изрядно азартен, готов идти на риски, ему надобна пользуясь дефиницией Льва Гумилёва, пассионарность, а чем старше иерархическая позиция тем это требованье придирчивей. Во-2-х владыка повинен хранить над подчинёнными интеллектуальный перевес, для чего элита, чураясь изматывающего труда физического, ещё издревле удостаивала себя умственного. Из неё вышло множество талантливых учёных, например Аристотель, разработавший также среди прочих, идею рациональности передачи полномочий вести за собою мудрейшим умеющим спланировать, «предвидеть» будущее. В-3-х господам стоит решеньями блюсти справедливость, адекватность реалиям. Конечным, по очерёдности 4-м пунктом, соединяющим повелителя и управляемых, является сама необходимость структуры вертикальной кратии при антагонистических социумах.
Их базовый экономический закон – это смещающая примитивное стремленье коллективного выживания тяга увеличенья индивидуального достатка сокращением затрат на приобретенье, выражающаяся в производстве движущим его трением беспрестанно развивающихся сил об не поспевающие отношения, стесняющие потенциал. Оно обрастает настоящим конфликтом прошлого с будущим: вызревает свежие классовые пары чей интерес – перейти к иному способу организации, развалить прогнившую рухлядь, некоторое наследство от той подогнав под нужды прогрессивного строя. Естественно тому всецело враждебны уже вольготно почивающие на лаврах текущего в бездну миропорядка хозяева. Ради стабилизации своего положенья им остаётся лишь потянуться за топором насилия да обратить его против возникающих недовольных: они всегда сыщутся ведь чего-чего, а критический гений ума никогда не удавалось окончательно поработить. Но зариться на свержение действующих власть предержащих могут не только строго аутентичные революционеры. Время от времени бунтовать подымается прямо угнетаемый слой населенья, как то не раз фиксировалось нашими летописями, вспоминаю навскидку: мятежи смутьянов Болотникова, Стеньки Разина, так красочно изображённая А. В. Ивановым Пугачёвщина. Глупо ожидать добра и от коллег по опасному бизнесу – других панов. Частная собственность над источниками дохода имеет свойство сеять раздор между владетелями, поджигая костёр внутренних да внешних войн общества. Неудивительно что изначально ядро правящей группы, окружённое влиятельными жрецами, складывалось из привилегированных бойцов, сохранявших себе демократию поэтапно закаменевшую структурой знати с деспотом во главе, обуздавшей народ. Тогда намертво закрепилось насквозь пронизывающее его по сей день неравенство, поверхностно видимое разделеньем на бедных и богатых. Для демонстрации престижа господа то, фараонами, возводили любимые у нынешних туристов пирамиды, то, королями, отстраивали великолепные палаты. Внушив смачно приправленное страхом уважение, покоясь на собственной роскоши перешли к использованию досуга не на дополнительные хлопоты про скипетр да державу, а на закатыванье расточительнейших празднеств. Никого из аристократии не выходило чаще чем сладострастников, самодуров, извергов, хотя иногда ею ещё создавались безобидные Гэтсби, баловень американской мечты, и Обломов, лентяй-лежебока – но все они, плавающие по иллюзиям незыблемости, уверенностью лишь подливают бензину в огонь распрей социума.
Шаткая прочность перед ними достигается облачением того государственной одеждою. Она существует прежде всего подспорьем, легализующим, обеспечивающим диктат воли меньшинства большинству а ещё решающим пренья вельмож третейским судом да многим иным – совокупностью амортизирующих правление институтов, чьё рожденье совпадает с расслоением общества, кое в ходе развития делегирует тем разное значение, порою вовсе сбрасывая со своей сцены либо укутывая её всю этатизмом. Но главное что аппарат получил особую автономию от элиты сделавшись местом договора, регуляции противоположностей. Так или иначе, любые попытки сглаживания плохо совместимых интересов, старанья прийти к идеальному компромиссу по итогам раз за разом проваливались, завершаясь меняющими расклад потрясениями. Короче говоря государство становится полем, ареною для классовой борьбы. Передовые силы, утвердившие экономические позиции, мобилизуют весь вес на удар, отваживаясь завоевать политическое доминирование и юридически закрепить притязанья. Держава как бы надстраивается от хозяйственного базиса, однако исключительно к нему не сводится а несёт бремя специфически важных функций, имеет собственную динамику. Эта публичная область начальствованья с века образования непрерывно ловит преисполненные упования взгляды целой страны. Кажется будто сановники с полководцами – мессии задающие ей маршрут: они оседают в народной памяти, воспеваются Державиным да пожилым Карамзиным, попадают на первый план хроники. Но подлинно ли у них есть та самая величественная мощь?
Роль личности в истории, которую одноимённой статьёю хорошо разобрал Плеханов, схожа с гребнем морской волны. Зайду издалека, от древнейшей поры так нынче неспокойного, штормящего своими песками Ближнего Востока, когда там неолитизация началась и окончилась раньше чем где бы то ни было. Итого, сплоченье экономики к VI-му столетию до РХ способствовало объединению региона в огромный прототип супердержавы, Арийскую империю династии Ахеменидов. А довольно скоро по историческим меркам персы, боря тенденцию раздробленья отважились на ряд маленьких победоносных (для них правда не очень) Эллинских войн. Ими первый лагерь прославил Дария да Ксеркса, второй – Перикла с Леонидом. Но отнюдь к тому часу не уступавшие напористым захватчикам по развитию греки, восторжествовав столкнулись драться друг супротив друга за назревшее слияние полисов. Афины, основной претендент на главенство, потерпели сокрушительное поражение от Спарты, однако собственная заскорузлость не дала ей полноценно над собой поднять и защитить гордый стяг лидерства. Пока юг слабел из-за междоусобиц сила копилась на севере. Оттуда Филипп собрал страну, а сын воплотил полуторавековую мечту народа о мести иранцам – держава тех как раз раскалывалась по сатрапиям. Объективно македонское нашествие лишь загнало гвозди в крышку гроба, причём всех возможностей сбереженья целостности протяжённых земель. Субъективной талантливости Александра оказалось не по зубам перегрызть ход истории – царь Азии загадочно умер спустя год по завершении кампаний, будучи 33-хлетнего возраста. Диадохи разодрали на куски результаты стараний, и со временем даже столичная Пелла стала унылым захолустным городком ещё одной провинции Рима. Легионы этой молниеносно разраставшейся республики только при Гае Юлии Цезаре во имя SPQR прошли леса Галлии, пустыни Сирии с Египтом да нагорья Анатолии. Чтобы закрепить планку зенита рабовладельчества полководцу преемствовал не Марк Антоний, его тень, но эффективный менеджер Октавиан Август, организовавший принципат (впоследствии медленно, до омерзения приторно поплывший к закату). Кстати, аккурат тогда на палестинских территориях жил казнённый по приговору прокуратора Иудеи Понтия Пилата очередной богочеловек Иисус Христос, чей культ получил официальный статус при доминате.
То есть, величье неординарной личности отражает степень органичности сплетения нити её судьбы с требованиями того места и времени, от коих она выдвинулась, а низвергнувшего их влияние титана ещё не существовало. Важность людей замечательных глазу любителя полистать хронику – это частный случай значимости случайности. К примеру слава Флавия Аэция проистекала из неплохих умений в распоряжении ратью, его побед, но если копнуть несколько глубже выяснится, что те так-то всего лишь сумма многих слагаемых схваток одних воинов против других. Заранее невероятно наверняка предусмотреть их исход, равно неимоверно предугадать сорвавшее народы с насиженных краёв похолоданье и пришествие гуннов Аттилы именно на Каталаунские поля. Сама та тяжёлая битва ни Последнего римлянина не возвела до кормила правления, ни Вечный город не спасла волшебно от вандализма. Коль индивидуума я нашёл резонным уподобить барашку, то событие сродни ветру в деле указания теченья бурунам: оно генерирует фон, а сторону развития ему задаёт пучина. Империя везде упёрлась об ограничения своей экспансии, главным образом из-за болезненной трансформации социума, сопровождавшейся экономической стагнацией да гражданскими войнами. Восток её пережил обратившись Византией. Запад прям как по Шпенглеру, сгнил, погиб от миграции конгломератов племён варваров, утонул во мраке Тёмных веков. Сюда просто напрашивается аналогия с иным, близким теперешней године крупнейшим крахом, лаконично изречённая Лимоновым: «СССР – наш Древний Рим». Тогда Туркмения где нынче одичание и почти голод, весьма похожа на артурианский Альбион – обе страны порушив контакты с центром, разом принялись семимильными шагами деградировать, стремительно теряя дорого давшийся в эпоху соединения прогресс. У той же провинции Британия едва не полтысячи лет ушло для навёрстывания упущенного. За чуть меньший срок исконное да осевшее чужое населенье королевств Галлии, Иберии, Италии, Германии et cetera, задетое Pax Romana, очнувшись на арене неказистого свирепого Средневековья, ощутило серьёзность утраты блестящей державы, которую попытался было на плечах мимолётных тенденций к интеграции сымитировать Карл. Но вопреки мечтам, по смерти Charlemagnа капля за каплею начался расцвет классического феодализма с всеми вытекающими. Впрочем, общество аки вечно самоё себе сжигающая и неизменно восстающая из пепла дивная птица феникс, после наипагубнейших потрясений нередко затмевает уничтоженное состояние возрожденьем лучших его традиций, дополненных свежими – эдакие совпадения мы можем вычленить не раз а значит, история видится хаотичной только умственно подслеповатому человеку, в упор не примечающему закономерностей.
Всё её свинцовое бремя до капитализма, связавшего народы инфраструктурой, терпеливо и молча что касается письменности вынес на широкой спине пахарь, пленённый в руках великана природных условий – а дивергенция этих способов производства у разбрёдших ойкумену по тем да сем уголкам планеты этносов (я настоятельно подчёркиваю: каждые азиатские, африканские, обеих Америк и самой Австралии цивилизации имели свои особенности, отличные каноничной европейской модели, хотя отрицать единство фарватера нельзя), суть разница географически определённых климатом технологий рабского угнетенья крестьян. Семеро из них однажды пошли искать ответ к вопросу: «Кому на Руси жить хорошо?». Но встреченные в повествовании Некрасова архетипы непременно сетовали товарищам о печальной судьбинушке, исконно до мелочей чеканно зафиксированной по обязанностям принадлежности к тому или иному сословию. Через известный политический налёт, свозь их многообразие проглядываются специфические классы социумов, ведших свирепую внеэкономическую эксплуатацию. Она, появившаяся для низкого сельскохозяйственного уровня, давала такую же медленную скорость памятному стихийностью с коллапсами прогрессу, до Нового времени очень вялому, почти иногда застывавшему. Ожидаемо, сознание людей отразилось косностью. Не переоценивая важности, конечно не стоит сбрасывать его со счетов: психика – вполне себе часть реальности где ей оставлено место оформлять человеческие влеченья. Старому миру характерно неразумение случавшихся событий как деградации либо улучшения, отстранённость от объективного понимания происходящего, витание по облакам призрачных обманов, миражей, из коих типичнейший частенько ещё ныне кого-то вводит в заблуждение. Почему бы не рассмотреть тут его феномен, а?
Сразу надо б воздать ему должное: популярные вероученья всегда вмещали узловые нормы, вспомогательно скрепляющие общество единым обручем морали. И каждому кругу людских мытарств соответствовали особые разновидности тех: первобытность от страха пред сплошь загадочной природой, склонна мистифицировать её силы; античное язычество подспудно наградило богов социальными свойствами; Средневековье озарилось торжеством авраамизма, представляющего потолок развития религии. Как гласит знаменитая фраза Энгельса: «Труд сделал из обезьяны человека». Деятельность есть наша сущностная черта, обеспечивающая да поддерживающая жизнь на некоторой ступени. Неудивительно что именно членивший всех по разрядам феодализм пришпорил рост страсти эскапизма до исторического максимума, безусловно, подспавшего к современности, но не полностью. Поэтому в слегка преображённой форме его проблема ещё актуальна: отчуждая на принудительной работе значительную часть собственного потенциала творчества, бедные классы теряют самих себя, богатым же, совершающим истовое расчеловечиванье других людей, некуда спокойно упрятаться от запятнанной совести. Ситуация отпечатывается на психике неизгладимою травмой вакуума добропорядочности, готовит плодородную почву для потребности верить. Однако, ею нельзя исчерпывающе утешиться, ибо по-хорошему она лишь поворачивает обратно эманацию, переносит знакомые правила на небо. Туда кропотливо продумывается строгая иерархическая схема: в раю пребывает господь «по образу и подобию» наречённый демиургом, одарённый лучшими характеристиками, а от его ног спускаются святые с ангелами любых постов да званий; ниже не расположено ничего интересного, только чистилище, за ним – грешна земля; вон под нею-то находится ад – окаянный оплот демонов, бесов, иных сверхъестественных плохишей, руководимый сатаною – метафизическим выражением всего наихудшего. Религию весьма справедливо квалифицировать специфической шизофренией, раздвоеньем сознания овладевающим массами. Итак, плавно с темой расстройства перейду от коллективной, фейербаховой критики до индивидуальной, камюанской.
Дело в том что реальность рано или поздно непреклонно приговаривает к смерти всякую жизнь: запертая дверь единожды отворится, вошедшее оно заберёт тебя из постели; безвозвратно оборвётся вечным сном дорога дней. А достойна она себя? Спешка здесь неуместна – ответу не помешает щепотка раздумий. Ведь если судить искренне, являющийся подавляющим иррациональным насилием, мир где доминируют войны, болезни, нехватка, ненависть, насыщает юдоль личности страданьями чем обращает прозябание чистой воды абсурдом. Ну вот осознали мы его, и неужто дальше остаётся одно решение, заключительный каприз: разбежавшись прыгнуть со скалы? Несмотря на кажущуюся логичность то дурная, ложная мысль пришла в голову: существуют-таки проблески любви да доброты, позволяющие не сдаваться столь малодушно – они вселяют надежду. Вдохновлённые ими отыскивались герои, бросавшие несуразице бытия смелый вызов во имя гармонии. Но тогда для победы отсутствовала подобающая материальная подоплёка, а попытки восстаний нередко приводили к трагическому краху и отчаянью, отлично показанных прозой Бориса Савинкова, участника террористического движения ПСР. Принципиально недосвободному проницательному человеку, коему напрочь неподвластна окружающая среда, придётся лишь смиряться, терпеть следуя древним советам киников, эпикурейцев, стоиков. Большинство же по Фрейду изгоняет нежелательную тоску о тлене за скобки прямого внимания, предпочитая ей непритязательное обывательство. Но вряд ли оно избавит от описанной началом абзаца проблемы, весьма практичной: счастье или как вероятно правильней, удовлетворение – цель деяний, и коль его не достигнуть (а формации нужды всенепременно убивают эту возможность) поступок напрасен. Оттого ради обоснования весомой половины своей доли, люди переносят получение ожидаемого вознагражденья за порог кончины, в загробное царство, обещающее причитающуюся благодать умножить кратно мучениям – совершают духовный суицид, да вообще фактически верование – самоубийство длиною в жизнь, сродни притупляющему чувство безысходности алкоголизму. «Религия – это вздох угнетённой твари, религия есть опиум народа». Заботливая рука угостит им ещё и ещё, закормит до умопомрачения…
Изобретённый каким-нибудь пророком наркотик, от группки апостолов распространившийся среди народа, уже не принадлежит сам себе, что отчётливо видно на примере христианства, у которого ранняя версия несравнимо рознится и с вернейше ортодоксальным православием. Он реагируя на еле заметные колыхания паствы, назвавшись всеведущим не может не стать дежурным оружием вездесущей классовой борьбы. Структура власти всегда представляет собой меритократию: надолго одержать ту горазды исключительно претенденты, воедино слившиеся с требованьями к элите, притом лучшей, следовательно незыблемой, та вынуждена мниться не только начальству но всем подданным. Этому фактору Антонио Грамши разработал теорию про острую необходимость владык оборачивать базис собственного диктата блестящей фольгою идей, завоёвывать культурную гегемонию. Отстроенная с подачек лордов церковь была у тех рупором, пропагандистской машиною источающего набожность общества – её клерикалы мошеннически использовали дабы отвадить руки простого люда от вил да перевести в крестное знаменье, а учения мятежных священников обругивать ересью, их исповедников проклинать на вечные муки в дьявольской преисподней. Взаимно анафема! «Религия – это сердце бессердечного мира, душа бездушных порядков». Контентуальная сторона споров о теологии глубоко второстепенна, впрочем ещё разок упомяну главную ей аксиому: через изучение Библии надо отыскивать на каждый серьёзный вопрос по ответу (адекватному для иудеев I-го столетья н. э. (очень нелепо; потому попы и вобрали философию Плотина – ради спасенья от полной безынтеллектуальности)). Она пестрит неоднозначными строками, хотя б классической «проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому попасть на небеса». Косвенно, так вельможи получают карт-бланш под любой беспредел на бренной земле, но когда гнусное поведенье наблюдается ни много ни мало, у помазанника господнего, не позор ли? Изворотливейшие танцы прений вокруг трактовок сакральных фолиантов, способов сочетанья постулата безошибочности высшей силы с достижениями науки утопили образованное Средневековье в болоте схоластики – запутанной да громоздкой идеологии, кою сумел преодолеть ясным умом прогуливавший уроки Рене Декарт, задав старт свежей дискуссии коротким утвержденьем: «Cogito ergo sum».
Из трёх предыдущих абзацев выходит: иногда следствия довлеют над очевидной сердцевиною предмета ибо стоит в лоб, без обиняков спросить о существовании Бога, выявится что допустимо, опираясь на принцип Дидро про несовместимость разума со сверхъестественным, сказать «нет», а вывернув аргумент по-ясперовски – «да», обосновывая реальность трансцендентного именно её непостижимостью для нашей мудрости. И оба эти варианта да сотни иных тщетны, вообще, седьмое утвержденье трактата Витгенштейна гласит: «О чём невозможно говорить, о том надо б молчать». С одной стороны никто не боится страшно, не трепещет перед невыразимым Всевышним, но с другой нельзя обойтись простой отповедью дескать Тот отсутствует, пока я посвящаю Ему страницы текста а ты листаешь их. Недаром Вольтер писал: «Случись, что Бога нет, Его бы пришлось создать». Зачастую у Него довольно бесхитростная миссия – служить грешникам великим угрызеньем, напоминанием про неосознанный ужас загубить своими преступлениями оставшиеся светлые радости жизни, искушением раскаяться. В целом Он справедливо занимает почётную область на просторах небытия, рядом с прочими исчадьями мысли откуда те извлекаются ради практического применения: Господь наделялся плотью языками костров мракобесов сжигавших книги, равнодушно рдел огнями Инквизиции каравшей неугодных еретиков. Особняком же взятая идея о Нём как нравственном совершенстве – этический феномен, докинзовский мем. И кстати… «Бог умер» – кощунственно констатировал ещё в 1881-м году Ницше. Так уж получается, коварный убийца одинаков с главным антагонистом моего повествования – то капитализм.
Классы протобуржуазии да протопролетариата возникли при самых ранних эксплуататорских способах производства как дополнительный уклад. Его развитье было важнейшим стимулом к экспансии, разом её жемчужиною, жилой, пределом, но всё же оно не могло воспарить над своею шаткой в прямом смысле почвой, с чьих излишков насыщалось – земледельческими общиной и рабами. Стоит у тех случиться неприятностям или некоему сдвигу, это немедля скажется на местах где концентрируются ростовщики, купцы, плебс, ремесло: нажитые непосильным трудом сокровища развеются по ветру либо преумножатся (есть ещё конечно, надо ли оговаривать, обратная связь). Так полз прогресс до того пока село расщепилось на дворы, застолблённые за кем-то из каскада вассальной зависимости, любой уступчик которой хотел минимизировать обязанности перед собственным сюзереном. Тогда в гости зачастила раздробленность, на запущенных стадиях доходившая до бессильности успешно сопротивляться голоду с эпидемиями – а всякое бедствие подтачивало правление бар над уцелевшими крепостными да подстрекало централизацию, но та снова перетекала к разрозненности, опять ставав на грабли. Впрочем, за каждым циклом сеньоры вынуждены сокращать холопские повинности вплоть до их отмены, положившей старт непосредственной интеграции деревни с городом, по-прежнему развёрстанным внутри себя на цеха и гильдии (вообще последующее строенье будет зиждиться на её ему подчинении). Шёл рост, народ начал пропитываться иной, стяжательской нравственностью что неплохо вывел Бертольд Брехт у персонажа-маркитантки. Феодализм отмирал, котёл социума бурлил – усложнялась государева задача, требуя идти на принятие макиавеллианских ухищрений лавирования в нём ради удержания власти, а тем временем около стен замков бюргеры закалялись флагманом очередной революции.
Год за годом она своими носителями пополнялась свежей мощью: те уже нет-нет да играли передовые скрипки политики, принимали положенье краеугольного камня событий, что случалось к примеру как со Столетнею войною (эпизоды коей разбушевались от устья Рейна до Бордо, вдоль густых на торговые интересы берегов), так тем более Крестовыми походами (чьи несменяемые спонсоры – коммерческие полисы Северной Италии и Ганзы). Один из первых для неё звёздных часов пробил в Богемии, тогдашней окраине западноевропейского мира где прогремело Гуситское восстание – предтеча будущих боёв, продемонстрировавшее их типовые черты: разрушение ветхих институтов, храброе сопротивленье интервентам, раскол лагеря на правый фланг (чашники) да левую фракцию (табориты). Но ещё ледяное отношение условий позднесредневековой Чехии к радикальным демократическим метаморфозам поскользнуло оба разветвленья, а в итоге монаршие полномочия узурпировал Иржи из Подебрад, пользовавшийся межклассовыми противоречьями на собственную выгоду. Он небезуспешно пытался удерживать баланс и компромисс, сплочёнными силами страны достигаючи весомых государственных побед – образец великого вождя, сумевшего усидеть на двух стульях, приподняться над суетою подданных сосредоточив себе огромную власть, подобно жившему спустя три с половиной столетья Бонапарту. Это время пролетело отнюдь не даром: на фоне неумолимого вырождения феодализма мещане упрямо, то от зависти к знати, похоже с сатиричной комедией Мольера, подкупом добывали привилегий, то дрались за Реформацию по всем уголкам Германии, то в Нидерландах да Англии распробовали вкус свободы – замахнулись учинить настоящий общественный переворот.
Они ощутили неприятную тесноту рамок подачек вольностей и представительства. Им, знающим себе дорогую цену, надоело терпеть: собрав с собой чернь пейзан да санкюлотов, те ринулись атакою на гнилой порядок ради водворенья собственного. Так началась Французская революция, целиком отвергшая сословия, взявшаяся выполнять предначертание не дожившего до той минуты Гольбаха «повесить последнего короля на кишках последнего попа» – её заслуженно нарекли Великой. Впрочем, приговоривший Людовика XVI к обезглавливанью Сен-Жюст отворил ящик Пандоры, выпустил на свет Джинна прагматики, зигзагом курса его самого пославшей под лезвие гильотины. Но дальнейшие режимы, вроде как регрессивные, тем не менее довели долгую борьбу до кульминации, увенчавшейся промышленным бумом – адекватным фундаментом капиталистическому способу производства, а параллельно упразднились либо опустопорожнились чванливые титулы баронов, виконтов, графов, маркизов, герцогов, принцев, хотя раньше чрезмерно выбившийся отрицать эту структуру загремел бы в палату №6, если не на виселицу. Потому совершенно глупо думать что один строй задержится на веки вечные. Он будет сметён ураганом бунтов – и только облака безмятежно проплывут над Аустерлицем. В лучшую или худшую сторону грядут перемены? Наше дело. Останется ль путь назад? Ещё Драйзер спрашивал: «Разве не может случиться, что этих самых людей, воспитанных в справедливости к распределению собственности и жизненных благ, вдруг потянет в прошлое, вспомнятся счастливые старые времена, когда нормальным считалось, фигурально выражаясь, сбить человека, повергнуть его и взять у него, что хочешь?». Ведь печалящий прецедент увы был; ладно, про то чуточку попозже. А сейчас предлагаю вернуться к обещанию Максимильяна Робеспьера о награжденьи измученного человечества ныне топчущейся в тупике эпохою свободой, равенством, братством. Двести лет уж минуло. Почему б лишний раз не убедиться по поводу соотношения красивых слов с ежедневной практикой?
Глава II. Настоящее
От самого возникновенья капиталистической системы да по сегодня её имманентная, очень широкая но крайне ёмкая характеристика лежит на поверхности – товарность. Если раньше, при натуральных способах хозяйствования производитель создавал продукты непосредственно ради собственной пользы (уже после панские наместники изымали излишки), то теперь благодаря углубившемуся разделению деятельности, ему хоть изо всех сил напрягись нельзя единолично обеспечиться надобным, потому он начинает равняться к желаньям других и выносит результат работы на торги. Там организовуется обмен множеством разнообразнейших предметов, казалось бы не имеющих общего, значит никак невозможных для сопоставления. Однако ж нет, существует роднящая черта: всякий из них без исключенья является овеществлённым, застывшим трудом. Учёту его рыночной стоимости важны не конкретные потуги направленные на изготовление, а лишь абстрактное количество затраченного в операциях времени по нормальному техническому уровню эффективности. Оно есть основа складываемых пропорций, да чем интенсивней растут потребности, крепче вяжет прозрачная базарная леска, тем нужнее становится нечто с особым свойством: служить универсальным эквивалентом; на пьедестал поверженного бога восходит истукан – золотой телец, обклеенный цветной бумагою – деньги. И чары у того отнюдь не так необоримы: это именно то от чего в тяжелейшей ситуации кораблекрушенья на мели около необитаемого острова сразу без проблем отрекается Робинзон Крузо. Но шумный социум корысти стремится возвести ту хрустящую власть до тотально непоколебимой.
Буржуазное экономическое устройство на пути собственного прогресса тяготеет охватывать что б то ни было всемерно через призму товарности, вырываясь из-под контроля его же воздвигших людей. Оно запускает им чудовищный оборот: на рыночном капище за холодные сокровища те жертвуют своей самостью. То есть человек, пытаясь сбагриться повыгодней, гасит внутренние мотивации к творчеству а вниманье почти целиком переключает на актуальный коммерческий курс – сообразно ему выбирает занятия. И чем ретивей усердствует, рачительнее приумножает народное богатство, тем пуще изнуряет личные силы, обедняется. Работа регулярно составляет от трети до половины суточного расписания кроме редких выходных, но ощущается для индивида неким врагом, отвратительным внешним злом кое высасывает в никуда драгоценные часы – каждый из нас беспонтовый пирожок, охраняющий сумку. Только по окончании добровольной, однако совершенно от того ещё не лёгкой деятельности, персона чувствует себя вполне принадлежащей себе – ради прожиганья этих-то относительно коротких минут отдыха жизнь тратится на добычу денег… могут ли при таком раскладе вещей сберечься здоровые вкусы к досугу? Разумеется нет. За отчуждением важнейшей потребности – труда, по-разному отрешаются иные стороны изувеченного смертного. А какова будет его доля коль он не пойдёт на поводу у чистогана, отринет участь мелкой сошки системы, откажется кровью подписывать роковую сделку с Мефистофелем? Да всё просто и резко: выпавший за борт обращенья не получит самых безотложно нужных предметов, отчего скоро с голодухи снова вернётся сутулиться над подневольными заданиями. Вот сердце капиталистического угнетения, подлинная реализация напророченной liberte в коварном обществе купли-продажи.
Ещё тот нынче наиболее популярный, довлеющий вид договора между людьми, абсолютно недвусмысленно намекает об их разделении на два как никогда полярных да чётко очерченных сорта: пролетариат и буржуазию. Исторически, финальный этап формированья страт наступил лишь крупное число предпринимателей, но также некоторых представителей феодальной элиты вместе с авантюрными выскочками любых мастей, отважились бесповоротно вывести хозяйство на передовые рельсы, ради чего понадобилось организовать грандиозное перераспределенье собственности к своей пользе. Естественно что для свершенья наглейших претензий необходимо наличие очень веского аргумента, могущего гарантированно переубеждать несогласных, внушать панический страх, требуется помощь мирского воплощенья ветхозаветного чудища Левиафана. Вопреки весьма недавно распространившейся сказочке о вечной взаимонеприязни государства с бизнесом, на протяжении столетий они близко сотрудничали: за большой куш держава всегда радостно готова подсобить ему. Ведь именно насильственное огораживание крестьян, экспроприация мелких тружеников, централизация постепенной заменою аристократического владенья бюрократическим руководством, принудили социум к рынку, обеспечили транзит средств товарного производства в лапы маленькой кучки частников, состоятельнейшие из коих пластично просочились сквозь сито имущественного ценза (фактически единственного подтвержденья ответственности да проверки компетентности) до Олимпа власти. Ансамбль идей Томаса Гоббса, застигшего эпоху революционно жестокого учрежденья институтов, и Джона Локка, жившего в следующем поколеньи при их триумфальной общественной консолидации, скорее не спорят а великолепно дополняют один другого, рельефно рисуя порядок про чью суть спустя многие годы знаменитый гангстер Аль Капоне лаконично произнёс фразу: «Капитализм – законный рэкет правящего класса». Его первоочерёдная мишень – всё население без самостоятельного источника дохода.
Пролетарий поневоле пускается странствовать, ища найма как товар с специфической ценностью: он во-1-х потенциально является изготовителем всяческих предметов на продажу, во-2-х может неоднократно использоваться в таком качестве. Буржуй покупает эту способность трудиться за тариф восстановления той, тут же обретая господское право распоряжаться её примененьем да проворачивает хитрую но надёжную аферу: кроме необходимого, рабочий задействуется на безвозмездный прибавочный срок – созданную за тот период стоимость работодатель присваивает себе, она и есть грязная прибыль у него в кармане. Оттуда зелёненькие вытягиваются: через налоги косвенно на содержанье чиновничества, полиции, суда, сухопутных да морских войск; для сокращения издержек промышленника вручаются торговому, банковскому секторам где повторяется картина эксплуатации; вкладываются в следующий цикл производства со смежными затратами – и вот на балансе чистый остаток. Вальяжная гордыня обнимает босса: видится будто весь мир у его ног. Толстосум волен промотать билеты к изобилью на свои хотенья: безобидную роскошь, пиры, обустройство шикарных апартаментов; расщедрившись заняться благотворительностью иль меценатством; зарыть под землю точно Буратино либо поставить в казино. Впрочем, если обладатель богатства возьмётся за голову да вспомнит откуда оно берётся (из-за ведения бизнеса по пятам конъюнктуры рынка), здраво рассудит что хлестаковщина и транжирство сыграют с ним нехорошую шутку (провались компания, он рискует потерять всё пополнив ряды ещё вчера презираемых нищих), тогда вероятно примет рациональное решенье: вложит средства на расширенье оборота, инвестирует деньги к притоку больших денежек – начнёт копить капитал. Подобных ему смышлёных слуг сверкающего кумира тысячи. Каждый жаждет получить от идола милости с наградами, конкурируя против собратьев не на жизнь а на смерть. Суровая логика жгучего куража беспощадного соперничества умаляет ниже плинтуса шансы доброте, честности, неравнодушию, отзывчивости, в конце концов человечности, формируя алчных, подлых, чёрствых да жадных зверей, помешанных на главной задаче их судьбы – преувеличении доходов.
Один из двух элементарнейших для буржуина вариантов достиженья заветной цели – спонсирование развития прикладной науки, чтобы внедрив новое оборудованье вскоре пожать вкусненький плод роста объёма, массы поступлений. Но как только манящий сладкий запах учуют (мгновенно) остальные предприниматели, так немедленно, толкаясь, погонятся за успехом креативно копируя на свой манер образ действий флагмана, чем рано или поздно будет спровоцирован технический рывок вроде классической промышленной революции. Тогда вместе с крайне продуктивным машинным производством, навсегда отогнавшим жалкие старые классы прочь от арены социума, к пионерам быстро наладился приток несметных прибылей: свежая отрасль ещё не обременена засильем соискателей выгоды, а прославленная трактатами Адама Смита невидимая рука рынка сжалась столь же бесплотным кулаком, разбившим вдребезги довольно хрупкую неплохую жизнь традиционных ремесленников. Те превратились в устроившихся на фабрику за грошовый оклад, если можно сказать счастливчиков, и подвисшую над ними толпу безработных люмпенов, ежемоментно готовых подменить кого-то у станка (это обстоятельство упёрто нашёптывает хозяевам идею штрейкбрехерства). Сюда сразу накатило цунами капитала, перелившееся за исчерпавшиеся пределы переворота да после частично отхлынувшее до былых заливов, опять обрётших окупаемость. В экономике надолго воцаряется бриз. Запускается постепенная но неумолимая тенденция паденья средней нормы дохода.
Стараясь уклониться от серьёзных себе финансовых потерь, буржуазия окидывает взглядом с её точки зрения быдло, думая о приёме переложенья проблем на его мускулистые плечи. Часами корпящему за конвейером созидателю стоимости, скрепя сердце собственник для сохраненья состояния того выполнять монотонное дело, частично возвращает ту авансом-получкою, в попытке упрятать обман выдаваемыми приличествующей справедливой платою. С заработка снимаются державные и коммунальные поборы, траты на витально нужные вещи – лишь оставшаяся после этого убожеская сдача используется чтоб чем-нибудь по усмотрению скрасить жизнь. Прямая атака на счета наёмных работников – второй способ обогащения бизнесменов, самый любимый. «Смекнув про 300%-ую выручку, отважатся на любое преступленье, даже под страхом виселицы» – говорил Даннинг. Те повышают интенсивность да удлиняют время трудовой смены, стремятся пожёстче урезать долю изготовителя в общем профите с размахом, упирающимся об потолок естественных границ (ведь никому не иметь силы тяжело впахивать 24/7 ничего не кушая). Однако, доводя пролетариат к порогу нищеты они во-1-х суют голову в тугую петлю, ибо ответ низов на ущемленья есть всплеск борьбы за соблюдение своих интересов, во-2-х опрокидывают табуретку из-под ног, так как убыль покупательской возможности населения закономерно сужает сбыт товаров, вызывает перепроизводство: продукты уничтожаются, персонал увольняется, заводы закрываются… и только государство бежит на глухой вопль о помощи со спасительною порцией субсидий.
Суровые годы уходят. Экономика продолжает неровный, рассеянный путь ступая «два шага вперёд и шаг назад». Сотни фирм разоряются, упрочняя позиции стойких десяток, которые в отдалённой перспективе захватывают целые отрасли. Эпоха крупных акционерных концернов (даже самостоятельно приближающихся иногда к обратному концу кризисной палки: концентрации фонда достаточно громадного что его некуда рентабельно инвестировать) трансформирует механизм конкуренции до неузнаваемости: теперь стороны конфронтации, в отличие от слепого состязания наугад многих мелких хозяйственников, располагают значительной информацией одна об одной, пишут долгосрочные стратегии. А грызня их идёт не столько за предоставленье покупщику реально более дешёвых да качественных нежели у оппонентов предметов или услуг, сколько за влияние на правящую бюрократию (мир подчинённых единственно цели наживы людей никоим образом не лишится коррупции), по сути олигархи приватизируют всю державу, спаянно действуя против грозящегося угробить эту свору рабочего класса. Изготовителя народного богатства отгораживает от потребленья благ именно грандиозно разросшаяся опухоль рыночной инфраструктуры, огромный пласт паразитов на её ниве присваивающий результаты чужого труда и бескрайне загребущий в той страсти. Он умеет обеспечить строжайший надзор снутри фабрик, но генерирует хаос между предприятиями, мутную воду где цена отходит от стоимости производства из-за перманентного колебания спроса/предложенья, инфляции/дефляции, а также созданы райские условия для пузырей фиктивного капитала – система, перефразируя Гёте, всему желающая зла не может сотворить добра. Она постоянно разрушает, подтачивает собственные основы, рубит сук на коем сидит да оттого существовать замкнуто попросту неспособна. Впрочем как наверно, подметил внимательный читатель, и зародиться-то ей без дополнительных ресурсов очень тяжко. Резонно: строй призванный установить всеобщее egalite, но подменивший его изощрённою вещной зависимостью, подымаясь по лестнице величия опирается на особый контакт с отношеньями дремучей личной эксплуатации вне своих рубежей.
К завершенью XV-го столетия европейцам понадобилось отыскать запасное соединенье с экзотическим субконтинентом Индией – никто ещё не догадывался что череда последующих событий круто взбодрит исторический ход. Оно внезапно обнаружилось по морю в огиб Африки; обратною ж дорогой Старый Свет спешно заполонился продукцией из Азии – миф об её неразвитости выдумают на Западе куда попозже, а пока минимум ближайшие века два сальдо так-то явно шло к пользе процветавшего ориентального производства, слабого исключительно игнорированьем Моголами да махараджами отечественных предпринимателей, брошенных на произвол (растерзанье) свободнейшей конкуренции. Свято место как известно, не пустеет – белый человек весьма охотно быстро возымел мощный политический козырь: португальцы усеяли побережье океана городами-форпостами, перевалочными пунктами, прибрав контроль над негоциею региона к своим рукам, орудующим ради выгоды косного феодального правительства. Власть из них на заре XVII-го столетья вырвали голландцы, чья Ост-Индская компания прослыла для подобных структур образцовой: воевать чтобы торговать, торговать чтобы воевать – вот её победный принцип. Но будучи далеко не сильнейшим государством в метрополии, слишком по-коммерчески сосредоточенным на сиюминутном колониальном прибытке, Нидерланды не могли длительно сохранять первенство и за пару конфликтов сдувшись, с закатом XVII-го века опустились до младшего партнёрства при Англии. Успех той зиждился на постановке стратегических задач (к примеру введенье меркантильных Навигационных актов, прочно защитивших собственных купцов от иноземных соперников) да реализующей тех передовой организации насилия (та же армия громила туземных царьков не от подавляющего технического (она сама частенько заимствовала восточные изобретенья) или морального (сплошь её рядовые – это сипаи, завербованные здешние бойцы) превосходства, а благодаря авторитарной, суровой дисциплине). Залог триумфа крылся в тесном союзе капиталистов с верной их интересам державою, умении строить рыночную экономику антирыночными методами. Итого, отвечая попытке французов перехватить инициативу, британцы, между прочим снискавшие приверженность утомившихся от халатно равнодушных государей локальных стяжателей, прямо вторглись на Индостан и разгромив всех противников, почти целиком оккупировали полуостров при Артуре Уэлсли под конец XVIII-го столетия.
Тем временем в 1492-м году некий генуэзец на арагоно-кастильской службе возглавил авантюрную экспедицию, гипотетически надеясь пересечь Атлантику до Востока, но спустя два месяца плаванья экипажи кораблей высадились на доселе неведомую сушу да повстречали там необычный народец. Тутошних жителей все пришельцы по привычке обозвали индейцами, а чуточку погодя присвоили материку имя «Америка». Ещё у краснокожих из южной его половины довелось заприметить невероятно много дефицитных Европе и необходимых индийской торговле серебра да золота – мигом из страны, недавно только закончившей собственную реконкисту, по них ринулись небольшие зато назойливые шайки грабителей. Однако по-феодальному сентиментальные католики, беспокоясь о заблудших язычниках крестили дикарей чтоб сразу нагло загнать в шахты, ради обеспечения стабильного потока драгоценных металлов. На скупом ресурсами севере масса переселенцев с буржуазных государств, исповедующая христианство по лекалам Кальвина и Лютера (протестантство – дух капитализма согласно исследованьям Макса Вебера) собиралась вести хозяйство самостоятельно, требуя свободных земель но не посредничества аборигенов, об ознакомлении которых с Евангелием до сих пор не позаботился господь. Получается он заранее уготовил им дорогу в пекло, а следовательно скромным ревностным рабам божиим ничего не оставалось, кроме как исполнить волю высшей силы – начать поголовное истребленье коренных обитателей. Впрочем обе конфессии сошлись на предельной полезности завоза из Африки огромного количества чернокожих для задействования на сахарно-кофейных плантациях Вест-Индии – Карибского архипелага (с условиями содержанья похуже нежели у солженицынского ГУЛАГа). Оксидентальный рукав теперь воистину мирового товарооборота тоже распалил баталию, закономерно выигранную Великобританией, опять-таки одолевшей французов. Правда из-за этой виктории часть её колоний (13) Нового Света продублировала экономику метрополии, потому под предводительством Джорджа Вашингтона смогла завоевать независимость. Но очень скоро в тропиках берега напротив Симон Боливар поднял восстанье креолов, бесповоротно лишившее Испанию былого величия.
Что ж, к 1790-м годам the Union Jack реял над самыми злачными покорёнными краями планеты: её хозяйственные мощности переориентировывались на нужды всесветного рынка в ущерб локальным, таким образом миллионными жертвами негров с индусами осуществился сбор исполинского негоциантского актива – он-то да плюс аграрный и мануфактурный оплатили промышленную революцию (а затем уж официально запрещено рабство). Выйдя после триумфа Веллингтона под Ватерлоо безапелляционным победителем из схватки с метнувшей финальный отчаянный вызов Наполеоновской Францией, остров закрепил себе статус лидера приструнив континент (там тоже состоится индустриализация, но с ещё важнейшей ролью государства – это прекрасно видно по сличенью жёсткого нормативного романо-германского да гибкого прецедентного англо-саксонского юридических устройств). Соединённое Королевство надолго стало незыблемою супердержавой с фритредерскою доктриной. Отношенья метрополия-колонии сформировали нечто подобное валлерстайновской миросистеме с ядром, зоной тщательно исследованной Розою Люксембург концентрации капитала, и задворками откуда он вывозится да где ради того умышленно сторожат сохранность варварских способов эксплуатации при вершковом обуржуазивании элит (как в Радже зафиксировали касты). Зато туда рекою дешёвых товаров, маршем солдатских колонн высылаются кризисы перепроизводства и перенакопленья (когда отсутствуют возможности выгодных инвестиций на освоенных полях, оптимальнейшей идеею будут вклады для завоеваний) – эдакие автономные области жизненно необходимы амортизации капитализма, распускающего руки хищной территориальной экспансиею. Вообще его пружинистая логика не шибко сложна да вполне умещается в длинные циклы Кондратьева из двух стадий, на стыке коих обычно случаются масштабные социальные потрясенья. А-фаза: полоса технических прорывов, господства промышленности и уклона к росту той, этатизма, протекционизма, деглобализации, с мягкими экономическими сбоями. Б-фаза: период широчайшего распространения изобретений (при продолжительно эволюционном характере науки), торгово-банковой инициативы, приватизации, индустриальной стагнации, невмешательства державы да стихии свободного рынка, агрессивной внешней политики, с тяжкими трудностями. Правила выведены большей частью по материалу XIX-го века, а ярче всего проявились при спелом империализме XX-го столетия, памятного «легендами» про fraternite народов, разодетых в пёстрые костюмы национальных идентичностей.
Раньше, при временах покоившихся на казуистике божественного права и натуральном хозяйстве династических режимов, сплочённые под монаршим скипетром подданные охотней узнавали ближних в соратниках по сословью нежели этнических братьях: рыцарь мог без особых затруднений сойтись с достойным себя рангом чужаком, но от родных селян его разлучала пропасть. Однако товарная игра неспешно зато настойчиво, уверенно перетасовывала социальные карты: тьма тьмущая лишаемых земли аграриев урбанизировалась, а буржуазия постепенно ломала напыщенные ветхие дворянские препоны развитию внутреннего рынка. Шёл эволюционный процесс, что довёл к плюс-минус линейным сюжетам восстаний у самых прогрессивных стран да плавным тихим противостояньям во втором эшелоне, где до первого перекрёстка таки заключался союз с королями, даже обволакивавшимися флёром иллюзии абсолютистского воображения державы их фихтевским сверх-Я (впрочем те не миновали роковой dies irae). Сердце былых сильнейшими отношений, партикуляристская деревня куда умчался за Intermezzo Коцюбинский (кстати, увлеченье литературою популяризовалось только после изобретения печатного пресса), уступила городам. Они всепроникающей железной рукою унифицировали экономически связанные с ними территории, озарив общественную практику едиными языком и культурой, в конце концов ментальностью, посредством институтов государства превращая аморфную народность в политическую нацию. Отныне школа будет с начальных классов пестовать это странное ощущенье какой-то необъяснимой интимности к массе живущих вокруг тебя снутри определённого рубежа незнакомцев, но презрительную неприязнь к людям по ту его сторону. Интеллигенции поручается задача придумать для нелепого чувства ореол должной серьёзности, подрихтовать то очарованьем. Публике открываются музеи о пафосном прошлом экспонаты коих овеиваются мифами, составляются переписи количественных да качественных достоинств населения, в атласах нежно обводятся границы Отчизны – готовится безликая эрзац-религия, крайне выразительными символами которой являются памятники солдатам погибшим за счастье… своих капиталистов – именно им выгодно одурманивая пролетариат красить собственные амбиции цветом идеалистических баек про «всенародное величие», легитимизировать мерзкие деянья трепетным уваженьем к старинным церемониям, титулам, гербам, флагам.
Сделанный ещё XIX-м веком жупел национализма при XX-м отладил свою работу как швейцарские часы, ибо становился всё нужней в от самого порога свирепом столетии, когда колоссальные силы социального производства узурпировались (я обращался к описанью этой уродливой панорамы пятью абзацами выше) промышленными и банковскими монополиями (те встречались ранее лишь на кончике экономического айсберга, а теперь их доля увеличилась до подавляющей), сросшимися в кланы (например знаменитые Рокфеллеры да Ротшильды) безответственно могущественной финансовой олигархии. Низы откликнулись ей подъёмом профсоюзного движения, из-за коего в том же лондонском парламенте консерваторы-тори и либералы-виги вынуждены познакомиться с партией лейбористов. Да вообще владычество британской элиты, на протяженьи викторианской эпохи обеспечившее относительную стабильность, подтачивалось прогрессом США и Франции, но впрочем если с ними можно было договориться, то вот с решительно враждебной индустриализировавшейся да объединённой при Бисмарке Германией, чья буржуазия опоздала к делёжке Земного шара, испытывая зависть с желаньем перекроить того на собственный лад, а нация – комплекс неполноценности, найти компромисс нельзя. Весь мир стал пороховою бочкой и Вильгельм только воспользовался сараевской искрою дабы повергнуть страны в ужасную бойню, погубившую около полутора десятка миллионов человек. Её взрывная волна пошатнула фундамент существующего порядка спровоцировав Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию. Но спустя 16 годов униженные немцы отдали власть NSDAPовским фашистам. Димитров на суде классифицировал сложившийся под началом тех режим «открытой террористической диктатурой наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала» – по их вине опять случилась бойня, на сей раз уничтожив полсотни c чем-то миллионов людей. От такой дикой беспощадности сотряслось сознанье каждого выжившего что привело к поистине кардинальным переменам.
Уинстон Черчилль справедливо называл доблестные сраженья в течение конфликта лучшим часом своей страны. А история же наперекор, неоднократно свидетельствовала что сама необходимость чаще хвататься за оружье является вернейшим признаком упадка великого государства, перестающего внушать должный страх – именно так, отбрасывая по морской глади прощальные блики, солнце Британии клонилось к закату пока США, её некогда по сути дочерняя организация, на Бреттон-Вудской конференции закрепили ведущую роль доллара среди валют, ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки продемонстрировали военное лидерство, планом Маршалла проторили дорогу к доминированью на рынках европейского пепелища – унаследовали трон сверхдержавы с обязательством исполнить функцию мирового жандарма: в холодном противоборстве с Восточным блоком спасти капитализм от охотников за частною собственностью. Этот пафос борьбы за священную неприкосновенность раскроется во всей лицемерности коль принять ко вниманию обычное положенье вещей на окраинах, где единственной гарантиею чего бы то ни было есть лишь воля компаний, уже переросших границы родных стран превратившись в международные корпорации, не стремящиеся рьяно сопротивляться деколонизации – новые образованья они попросту используют как торговых агентов, вплоть до нашей современности оттачивая механизмы манипулирования. Но испокон каждая волна экспансии поощряет эмансипацию, по крупицам занося к неразвитым краям цивилизационные ценности, от научно-технических изобретений до националистических идей, вылившихся здесь интерпретациями западнического карго-культа, безрассудно подражающего институтам передовых держав, либо кондового почвенничества упивающегося традиционными укладами, хотя цель обоих – пресловутый прогресс, пусть по разным трактовкам. Схожа причина исключающая устойчивый успех его достижения: зависимый характер отношений периферии с центром, подобный взаимодействию лошади да всадника – чем быстрее она скачет, тем скорее он домчит туда куда ему надо. Тогда для обретенья подлинного суверенитета остаётся третий путь – скинуть наездника, примкнуть к коммунистам, слава коих досягая вместе с лавиною ресурсов и полуфабрикатов первого мира, откликнется культурным влиянием на тамошних бунтарей, героизировавших Мао с Че.
Ведь неудивительно что его народы, досыта наевшиеся теми двумя апокалипсисами, всколыхнулися желаньем обуздать саморазрушающуюся систему, а перепуганные угрозою революции верхи ради сохранения господства выразили готовность пойти на уступки, поделившись политическим руководством с наименье радикальной фракцией пролетарского движения – социал-демократами. Такое довольно лёгкое согласие бизнесменов на вроде как честные реформы предвосхищено ещё известной фразою промышленника Форда про необходимость способствовать покупке рабочими своей фабрики автомобилей её же выпуска, обосновано разработанной в период Интербеллума теорией экономиста Кейнса и другими деятелями, коих едва ли стоит клеймить красными симпатиями – они только прагматично констатировали очевидный факт о невозможности стабильного воспроизводства перезрелого, уже подгнивающего буржуазного строя без социалистической прививки. И вот, со второй половины 40-х годов началось славное тридцатилетие регулируемого рынка, мер перераспределения дохода от богатых к бедным, обеспечения полной занятости, широких гражданских свобод да трудовых прав – время welfare state, государства всеобщего благоденствия, «капитализма с человеческим лицом», обворожительно улыбающимся беспрецедентно распространившимся изобилием.
Отныне тратящий наймами свою энергию работник получает очень соблазнительный шанс, по Фромму, сублимировать давящий груз унылого отчаяния в шопинг, у магазинного прилавка отыскать уничижительно скромное счастье обладания по ультимативной цене и оскорбительно непритязательную свободу отбора из навязанного ассортимента, вероятность залечить экзистенциальный невроз ложным гомеопатическим препаратом, а недалече, за кулисами, прячется его поставщик, назначающий размер зарплаты, задающий товарообороту тон – вездесущий капитал. Он создаёт прочимый всему свету в сакральный образец преуспевания да спокойствия золотой миллиард так называемого среднего класса, за чечевичною похлёбкой псевдо-наслаждения сегодня потихонечку забывшего про великие перспективы дня завтрашнего, ослабив политическую хватку, чем тотчас воспользовалась буржуазия, принявшаяся незаметно, но проворно менять правила игры. Она сконструировала общество, сочетающее описания в качестве грандиозного напускного спектакля у Ги Дебора и беспрерывного строгого надзора у Мишеля Фуко, дивный новый мир репрессивной толерантности, когда у человека вроде бы есть полное право иметь всякие, хоть почти что самые радикальные, идеи, да стоит только ему всерьёз отважиться их реализовать, как незамедлительно выяснится: big brother is watching you. Поощряются лишь инициативы, нужные власти, выкраивающей социум внешне независимых, а внутренне послушных, марионеточных одномерных людей. Ошарашенное крепко запомнившимся военным временем поколение оказалось податливой материей для её экспериментов, но вот с уже привыкшей к холодильникам и телевизорам молодёжью возникли проблемы – она мечтала довести прогрессивные реформы последних лет до логичного коммунистического финала. Впрочем, толстосумы, оглянувшись на изрядный опыт веков борьбы с восстаниями, успешно подготовили превентивную контрреволюцию, и заранее дезорганизованный стихийный бунт, повсеместно разгоревшийся на роковом стыке 60-х – 70-х годов, был оперативно погашен, но после сноп его искр, плеяда интеллектуалов из кирпичных университетов, попыталась добиться сокровенных целей, взобравшись по карьерной лестнице легальных институтов. Просачиваясь сквозь отъетый государствами центра жир формальных процедур, постепенно теряя мятежный запал и развращаясь кругом теснимых ею благородных джентльменов, она, однажды оглянувшись, не узнала в себе вчерашней себя теперешнюю, обнаружила несоответствие интересов поднявших её масс со стремлениями гостеприимной элиты и, дабы смыть позор фактического предательства, придумала всеоправдывающий постмодерн. Фундамент его доктрины неплохо, максимально доходчиво выразил Деррида, утверждавший, что коль реальность доступна сознанию исключительно мыслью, оформленной в слово, то любые мнения – это равносильные куски текста, передающие различное видение мира, следовательно, никто никому ничем не обязан, а классические «тотализирующие дискурсы» бессмысленны и вредны. Практически всем открывая рот, даруя неслыханную свободу, сия великолепная философия, вернее, отсутствие как таковой, начисто избавляется от предмета. Её бесплодность может излечиться, пройти рука об руку со сдвинувшимся с мёртвой точки историческим развитием, кое, вырвав из пучины бесконечного пережёвывания былого, поставит свежие поводы к рефлексированию, но нынче она легла основою лукавого идиотизма, гегемонией окутавшего нашу скучную эпоху.
Сигнал к старту ей подал форум в швейцарском Давосе зимой 71-го года, где сливки западного делового общества, недовольные дорого им стоящими издержками дошедшей до тупика кейнсианской модели, решились вывернуть переворот 68-го наизнанку и перейти к хитроспланированному крупномасштабному наступлению по всем фронтам. Экономически оно предполагало рокировку инвестиционным потоком на индустриализацию вступивших в гонку стран периферии, которую Сингапур, Япония, Южная Корея, попозже КНР с ДРВ окончили, получив приз процветания, а прочие края – сюрпризы бедности, с целью подрыва позиций и уменьшенья численности утратившего бдительность, но потенциально опасного слоя промышленных рабочих в центре. Зато там, на крыльях поддержавшей этот обходной манёвр информационной революции, обеспечившей саму возможность рассредоточения предприятий по Земному шару, случился небывалый взлёт сферы услуг, когнитариев (к примеру, программистов), менеджмента – они стали новой базою консьюма, оторванного от производства, что в целом-то является типичнейшей чертою беспорядка и дисгармонии, свойственных неолиберализму. Но его политическая линия протяжением прошедших тридцати лет неизменна – безжалостный демонтаж социальных гарантий да размашистая приватизация, совершённый режимами плутократов под занавес 80-х обряд экзорцизма над призраком коммунизма, кичливо проклятым Фрэнсисом Фукуямой на вечное забвенье…
Пластмассовый мир победил, пролетариат перешёл к обороне, априори обречённой на провал, как в принципе всякая пассивность, если конечно, внимать заметкам авторитетных полководцев вроде Суворова. Хотя, однако, его ученику Кутузову удалось вдребезги разгромить французов только лишь, по хорошему счёту, грамотным отступлением… неважно. Так или иначе, мы живём в обществе, оказавшемся квинтэссенцией негативных тенденций последних абзацев: люди при нём грубо редуцированы к вращению вокруг своего кошелька, исключительно с двумя функциями: копить и расточать деньги в/из него, а диаметр указанного коловорота намертво привязан к их способности плясать под дудку рыночной конъюнктуры. Иные же мотивы для бытия, не проходящие сквозь её узкое горлышко, тщательно вымываются из сознания с помощью любых технологий, от подстерегающих на каждом шагу прозаичных бигбордов рекламы, воспитывающих нас в духе делёзовской машины желания, до интернета, истовой ноосферы из теорий Вернадского, насыщенного большей частью блеклыми бордийяровскими симулякрами. Итого, личность, отчуждённая на производстве, вдобавок утратившая контроль над потреблением, падает к объятьям абсолютной, подобно Матрице из культового фильма, иллюзии, в кому полного товарного фетишизма. Теперь, словами замечательного романа «Generation П» за авторством Пелевина, человек человеку не волк, не имиджмейкер, не дилер, не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, а всего-навсего «вау» – импульс, пробуждающий жажду абстрактной наживы, обуявшую социум переизбытка вещей да дефицита искренних чувств, обратившегося серою массою раздробленных, циничных, завистливых, озлобленных, действительно жалких людишек, интеллектуально скатывающихся к 451-му° по Фаренгейту, соответственно воспринимаемых капиталистами безликими циферками статистики. Их рост щедро стимулируется повальным завлечением граждан в ловушку долговой кабалы у проворачивающих гигантские махинации банковых контор, подтолкнувших неолиберализм к череде сбоев, увенчавшихся опрокинувшим чопорную систему острейшим кризисом 2008-го. Бросившиеся на осмотр искалеченной всяческие эксперты унисон зафиксировали множественные переломы, а по свету пополз тревожный шёпот про её кончину в близком будущем и скрупулёзно-осторожные книжки предрекающих перемены мыслителей, в частности, выдающееся исследование французского экономиста Пикетти о неравенстве. Ясно, что туда либо сюда, но те или иные метаморфозы неизбежны. Исходя из этого, я осмеливаюсь зайти дальше, поставить главный сейчас вопрос: где и когда грянет очевидно надвигающаяся буря? Думается мне, что ключ к верному ответу можно даже при беглом обзоре целиком обоснованно отыскать на раскинувшемся от Карпатских гор до берегов Охотского моря да от Кореи до Карелии просторе, точнее, его восточноевропейском хартленде, известном поле экспериментов – родине первой пролетарской революции.
Едва ли ещё в каком другом закутке мира споры о давно минувших эпизодах кипят с остервенением большим, чем на постсоветском пространстве, подцепившем острый вирус дефицита национальной идеи вкупе с синдромом неофита. Политика наших дней здесь сплошь опрокидывается в прошлое с целью волшебно почерпнуть оттуда смутные оправдания вместе с не менее сумрачным планом действий, и конечно, ради пополнения запаса престижа. Очень часто доктринёры заходят слишком далеко: прибегают, например, к помощи разных шулерских приёмов пресловутого удревнения, сочиняя фантастические в собственной смехотворности басни про этногенез окрестных племён, игнорирующие сухую науку. Она честно признаёт скудность наличных данных про архаичную эпоху, а возникновение изначального, святого трём нынешним братским народам государственного образования, неуклонно датирует IX-м столетием от РХ: тогда хозяйство восточных славян да, что немаловажно, их соседей, вполне дошло до уровня создания прибавочного продукта (излишки которого, кстати, принялись пускать в стяжательский оборот продаж), а созревшее к ранним классовым отношениям общество, ради наведения должного порядка, призвало править да владеть варяжскую семейку Рюриковичей с ватагой. Дружины викингов, этих знаменитых мореходов, предвосхитивших своими плаваниями и открытие Америки (они точно высаживались на Гренландию), и коммерческие выгоды флота (светоча буржуазных ценностей до внедрения железных дорог), попав на распутье Днепра с Волгой (именно купеческая конкуренция во многом предопределит соперничество Киева и Суздали при флегматичном богатстве Господина Великого Новгорода), мигом наладили тут механизм торговли-разбоя, а также крышу над речным транзитом да прилегающими территориями, со временем слившись с ними в обыкновенный феодальный конгломерат – Русь.
Её летопись разгоняется невероятно пышным взлётом к XI-му веку, а после уходит в крутое пике удельной раздробленности и упадка негоции XII-го, катастрофически разбиваясь о волны монгольского нашествия, прикончившего могучую державу, юго-западные области коей превратились в окраинное захолустье Литвы-Польши, а северо-восточные всё-таки сберегли автономность под татарским ярмом: там разрушенная экономика потихонечку ожила (вместе с гнусно пособничавшей захватчикам православной церковью) динамичным ростом, да под сенью Орды возвысилась, сделавшись благодаря своим победившим в игре ярлыков князьям главным фискальным посредником, Москва. Она же, одним прекрасным мигом чрезмерно усилившись, свергла длившееся около 250-ти годов иго, собрала из освобождённых земель новую Россию, довольно быстро, во второй половине XVI-го столетия, подобающе преобразовавшую «имидж» при грозном царе, пытавшемся покорить степи, сменить опору трона с замшелого родового боярства на опричнину служилых дворян, вербовать округ Скандинавии заплывших до Архангельска иностранных гостей и завоевать балтийский порт – увы, львиная доля затей провалилась, а случившееся спустя короткий срок пресечение династии толкнуло истощённый народ в болото Смуты. Что ж, к никуда не исчезнувшим проблемам предыдущего поколения лишь прибавились свежие – да скопом рухнули на голову взошедших на престол обуреваемого бунтами государства Романовых, тончайше выкрутившихся манёвром заключения альянса помещиков с городом против крестьян и дряхлой аристократии, в угоду западным союзникам, несмотря на официальную личину изоляционизма (отвергнутая посконным протопопом Аввакумом сотоварищи никониановщина – определённый её пробой): по меткому суждению Покровского, под феодальною мономаховой шапкой тишайшего монарха прятался чёрт торгового капитала, росла Немецкая слобода, частенько посещавшаяся молодым Петром І, провернувшим радикальнейшие реформы.
Брутальный правитель, по лучшим стандартам вестернизировавший элиту и одолевший шведский заслон, отстроил столицу на брегах Невы – прорубил окно в Европу, хотя… это скорее она открыла себе, подобно Вест или Ост Индиям, Россию как бездонный колодец сырья да продовольствия, но с важным отличием: агентом её колонизации, за солидную плату, невольно стала местная бюрократия, протяжением последующих лет поощрявшая землевладельцев усугубить до ужаса, худшими средневековыми методами, эксплуатацию населения (достигшую максимума при Екатерине II). Подданные прочно раскололись на два абсолютно полярных народа: приобщённых к высокой культуре напыщенных аристократов, чей шик сравнительно с зарубежным весьма лестно отмечен много путешествовавшим Фонвизиным, и тёмных, забитых нищих крепостных – за мрачную картину взгляда на жизнь с их стороны проехавшегося от Санкт-Петербурга до Третьего Рима Радищева сослали в Сибирь. Однако, раскормленной территориями соседей державе, привычно таскавшей для Британии каштаны из огня антинаполеоновских войн, после неожиданного триумфа выпал реальный шанс усовершенствоваться, стряхнуть тормозившую прогресс отечественных купцов конкуренцию иноземцев, перейти к развитию внутреннего рынка, но… выступление декабристов потерпело неудачу. Началась пора застоя – той самой империи Гоголя, в которой мёртвые души набедокуривших чиновников содрогаются перед вестью о ревизоре, страны грандиозных амбиций и позорных поражений, колеблющейся от западничества к славянофильству – «идиллии» типичной полупериферии, отрезвлённой крымским ударом по зубам. Она очнулась в мире, где Англия сдружилась с Францией, словно Дон Кихот да Санчо Панса, а также изменила своему званию мастерской, снисходительно делегируемого любым обещающим выгоду желателям – в этих условиях Русь-матушка взялась навёрстывать упущенное.
Вышвырнувший холопов в сомнительную товарную свободу, будто провинившихся собак на мороз, Манифест 1861-го – робкий, неловкий первый шажок к таинственной эпохе, отнюдь не ликвидировал приевшееся за длительное время всевластие крупных аграрных магнатов-транжиров, а только ограничил его, вернее – обуржуазил по форме (концентрированно воплощённой Иудушкой Головлёвым из книги Салтыкова-Щедрина), к пущему удобству беззастенчивого разорения по шею обложенной долгами, ютящейся на «кошачьих» делянках деревенской общины. Расслаивавшаяся на: отдельного кулака-мироеда, пользующегося батраками, занятого ростовщичеством; самостоятельного, кропотливого труженика середняка; многочисленных не имеющих собственных средств выживания, горбатящихся «на дядю» бедняков – она затаив ненависть покорилась злосчастной логике хлебного экспорта невиданного размаха, под лозунгом «недоедим, зато продадим» (чудовищный массовый голод, как к нему не припасались, случался каждый 10-й год). Но в конце 1880-х появились признаки переизбытка западноевропейских капиталов, и следующее десятилетие, благодаря предпринятым графом Витте мерам по привлечению инвестиций (большей частью французских, предрешив судьбу отношений с Антантой), дало безземельному мужику ещё перспективу пойти до города да пополнить ряды пролетариев, за копейки кряхтящих на фабриках в невыносимых условиях. Так, разом с очень впечатляющим инфраструктурно-идустриальным подъёмом, креп единый рабоче-крестьянский блок супротив сил государства, помещиков и буржуазии, повышалось социальное напряжение. С целью его развеять, по предложению Плеве была организована войнушка, увенчавшаяся громом Цусимы, пошатнувшим порядок. Разгребать завалы поручили Столыпину, террором да уступками, виселицей и вагоном тщетно попытавшемуся реформировать режим, не выходя за рамки. По итогу, колосс на глиняных ногах послал армию сражаться в окопы мирового конфликта, помножившего всенародный гнев на солдатское возмущение. Винтовка – это праздник, клапан сорвался – грянула революция, сначала осёдланная либеральными заговорщиками, гораздыми свергнуть полукосметически феодальное самодержавие, но отчуравшимися, с приспешниками из умеренных социалистов, серьёзных изменений – а потому их выгнали несколькими пинками коммунисты.
Переместив столицу из Петрограда в Первопрестольную, они подвели черту периоду стараний России занять достойную позицию в мир-системе и вырвали её из лап глобализации, осуществив образцовый delinking по Самиру Амину. Нынче карикатурные оценки этой семидесятилетней паузы масс-медиа традиционно двояко варьируются «филиалом преисподней» либо «потерянным раем», всегда отталкиваясь, с целью оправдать или потопить, из реальности, наступившей после, когда наспех перестроившиеся деятели КПСС и ВЛКСМ, под одобрительное улюлюканье одураченной толпы, вернули капитализм. Среди разных проектов его реставрации с боями проложил себе кровавую тропу наиболее лихой, олицетворивший шумпетеровскую концепцию разрушения-созидания. Президентство Ельцина заключалось в быстром исполнении бандитской приватизации, сломавшей советские структуры до основания, да резком доведении простого люда до обнищания, практически снёсшего социалистический прогресс. Под конец внедрения рыночных реформ, к 2000-му году, согласно любому статистическому сборнику уровень почти всех хозяйственных отраслей, кроме, пожалуй, производства полиэтиленовых изделий, сравнительно с 1990-м сократился вполовину, доля в мировом ВВП эквивалентных территорий упала даже ниже плинтуса 1913-го: с 6,8 до 2,1 %-ов соответственно. Успешно справившись с возложенными задачами, Борис удалился на покой, а пост принял Владимир: властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг труда, нечаянно пригретый славой – да засиделся по сегодняшний день. Путин выразил консенсус новых русских элит, упрочив их достижения через стабилизацию и чахлый подъём государства, занявшего нишу энергетического придатка, имеющего политическое влияние лишь благодаря ещё сохранившемуся от СССР наследию, позволяющему госпромовскому империализму иногда скалиться, особенно зло следом за окатившей страну волною белоленточного кризиса, схлестнувшись со своей сестрою по несчастью – «аграрной сверхдержавой».
Тут девяностые прошли, в целом, аналогично северному соседу, но удивительно спокойно: главным сепаратистом стал бывший заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КПУ Кравчук, без рьяного сопротивления сдавший бразды правления Кучме, буржуазию породившего, да ей же низвергнутого. Отличием местных олигархов от коллег из огромной РФ, сплочённо выдвигающих единого кандидата, маленькой Беларуси, узурпированной одним бацькой Лукашенком, Казахстана, занятого кланом Назарбаева, есть их детерминированные средним размером богатства склочность и вечные распри, подтверждающие старинную поговорку «два хохла – три гетмана», а неожиданные кульбиты этих драматических интриг – слова легендарного атамана Сирка «нужда закон меняет», годящиеся им девизом. Покусившись на неограниченное господство, они поддержали естественный ропот населения, внушили ему собственные интересы и взвинтив накал оранжевой «революции», инициировали избрание Ющенка, подспудно пробудившего, ещё не очень шумную, националистическую истерию – именно тогда, в нулевые, Украина раскрыла мятежный потенциал. Внезапно разразившийся кризис помог Януковичу с партнёрами взять реванш, но скоро очередным витком их же погубил, взбудоражив смывшую режим пену евромайдана, повергнувшего в пучину войны расколовшуюся державу, чрезвычайными условиями коей охотно воспользовалась клика Порошенки ради захвата тиранического положения, сотворив карательное, задушившее инакомыслие государство, существующее лишь чтобы причинять страдания своим гражданам. Дорог ли украинцам сине-жёлтый флаг? Да, девальвацией гривны, высокими ценами на продукты, зашкаливающими налогами – рациональнее и дешевле его сорвать, выкинуть паршивую тряпку в урну истории. Но для выявления таких разумистов рыскают по улицам бандеровские черносотенцы, высматривающие, кого б обозвать москальским шпионом. Много кто, опустив руки, валит из этой дыры, да не только отсюда: благополучные края захлёбываются от настоящих цунами всевозможных беженцев, которых власти стравливают с коренным населением, подстёгивая неофашистский взлёт (AfD, FN etc), перешибающий социалистов.
Увы, локальные конфликты неизбежно попадают в тиски большой игры важных держав, особенно после того, как из-под ног почивающих на лаврах триумфа США начали разъезжаться основания лидерства, а по Земле сформировалось несколько центров концентрации головных офисов ТНК: североамериканский, западноевропейский, восточноазиатский – их опасно острая конкуренция не может перерасти в прямую третью мировую войну между странами, нашпигованными нивелирующим любые выгоды применения ядерным арсеналом, однако бурно кипит под ковром заседаний МВФ, МБ, ВТО да ООН отчаянной борьбою за передел спорных ресурсов. Капитализм жадно сожрал СЭВ и ОВД но, не сумев раздобыть пищи потом, похоже, ими же поперхнётся, намедни дав трещину на Донбассе, имевшем сильный красный старт, лишь позже зачищенном до состояния ватной республики. Тем временем люд Украины, проникнутый последнею надеждой добиться перемен законно, голосованием 2019-го обеспечил Зеленскому (и ненасытной акуле за его спиною) рекордное доверие, которое тот вот-вот потратит на убийственные либертарианские реформы, смертельный торг остатками раскуроченного с/х да ржавеющей промышленности. А чуть севернее консолидированный правящий класс, видимо, намеренный повторить фатум духовных предков, зажимает гайки, к примеру, не пустив на выборы оппозиционера Навального. Антинародной политикой власти всего СНГ, разными путями, но идут к одной пропасти: судьбоносный 2024-й отметить классической ситуацией немочи верхов да нехотения низов. Вопреки известной фразе, здешние края ещё далеко не исчерпали лимита революций. От сотой годовщины смерти приведение будет бродить по Кремлю, приведенье Ленина, ждущее материализации в новом пролетарском движении. Десятые заканчиваются, интригуя ходом грядущих событий, а пока… мне вспоминаются строки посланья Пушкина Чаадаеву…
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Глава III. Будущее
А ради чего в принципе делаются революции? Да, хорошо, касательно их механизма есть гипотезы любого пошиба: от довольно занятной неомальтузианской демографической теории С. А. Нефёдова, о детерминированной привилегированным положением, большей успешности размноженья элиты сравнительно с холопами, иногда закономерно решающимися проредить ряды паразитов, до апокрифичных баек про страшные заговоры конспиративных организаций иллюминатов, масонов, на худой конец сионистов, готовящих козни богоспасаемой отчизне… но зачем всё это движение? Для воплощенья ли чистосердечных альтруистических слоганов счастья, справедливости, добра, иль с потаённой злою мыслью об эгоистичной корысти – существуют сотни коль не тысячи вероятных мотивов, хором меркнущих оказываясь тенью главного – стремления человека к единству, приближению целебного гештальта благополучно свободных людей. Именно на такую великую гордость, как писал Сартр они обречены ещё фактом рожденья. Впрочем, предстоящая тропа доли, густо поросшая колючими кустами тёрна с островками шиповника больно шарпает волю, оставляя глубокие царапины обращает преимущество в горькое проклятие, ломая желанную идиллию нарастающим комом каждодневной рутины. Выходит, словами персонажей из «t» Пелевина, что жизнь отнюдь не тождественна летящему по строгой траектории пушечному выстрелу, а личность сама себе же автор и читатель, творец да цензор собственного сюжета но однако, её перо постоянно сдувает буйный ветер внешнего мира.
Другой отважно силится сопротивляться его мощным порывам, отыскивая идеальную защиту в пучине оголтелого индивидуального штирнерианства, разделяя призыв к отмене морали сию секунду и концепцию философского солипсизма по Беркли – тем самым проваливается в губительную пустоту разбиваемого практикой сердитого отщепенца, возле Ивана Карамазова. А ещё кто-то наоборот, укоризненно покачав головою согласится упорно терпеть все невзгоды, уподобляясь брату Алёше примет правоверное толстовство, сочетаемое с верою в искупленье – да жесточайше терзается завирюхой угрюмого изгойства тет-а-тет со страданьями. Но то лишь разные изводы маргинального декаданса. Мейнстрим же определённо будучи на стороне мечущегося Дмитрия, принадлежит смешанным типажам, зачастую совершенно чудесно генерируя не то обаятельно мятежных мажоров, не то одержимых веганством маньяков или обычных людей, и так далее – а вой безумной сумятицы обосновывает по меткой фразе Стендаля, единственное извинение господу: банальное отсутствие для него подобающего царственного места. Он кропотливо замаскирован, изгнан за границы видимости, но если насторожиться… можно совсем рядом ощутить холодное дыханье, вслед за Лаканом воскликнув: «Бог – это бессознательное»! Разворот да проникновенный взор на разинувшуюся зеркальную бездну, отчётливо разберёт её дымчатый витьеватый узор теней наших сокровенных чаяний, заглушенных эмоций, позорных неудач, угрызений совести, задних мыслей; скрупулёзный разбор забытого вороха с должною рефлексией по каждому обломку – обязательный шаг к полному самопознанию, гармонии, родственной дзен-буддийской нирване. То ли дело что одни только медитации и систематические погруженья в себя либо сеансы психоанализа серьёзного результата не дадут – уж слишком велик сковывающий бесконтрольный прах, а потому к просветлению стоит пойти кое-как по-иному – через стряхиванье гнёта.
Так говорил Заратустра: «Человек – это канат над пропастью, натянутый от животного к сверхчеловеку». Тогда длина обильно перемежёванной узлами-отметинами бечёвки – история взросленья осиротелого ребёнка, появившегося на свет с амбициозным задатком всевольности ограниченным беспомощностью. Блаженная пелена младенчества ещё уберегала взор от вниманья к загвоздкам необходимости, но уже с детства их созерцание участилось, вызывая вредничанье, обиженное непослушание. Ситуация вылилась комплексом: отрочество прошло под шатром возмущённой замкнутости на себе, а разразившаяся нахальным бунтом против естества юность, идёт богатея приключениями. Тот ребёнок – мы. Седые времена инстинктивного единства с природою сменились дрейфом от её опеки, пока наконец людям не удалось сбежать из своего приюта, разорвать прямую связь с цикличностью колеса Сансары, пустившись странствовать. Отдаляясь они приобретали всё большую субъектность: их взгляд усекал мир до объекта, причём во многом чуждого – постепенно, накаляющаяся изнурительная борьба с тем озлобила наше племя вовне да вовнутрь. Образцовым вожаком стал смекалистый Одиссей, апологет самоконтроля, мастер по извлечению и примененью сведений, кажущихся ценными для менее смышлёных которые впредь превращаются в целевую аудиторию просвещенья; однако чтобы овладеть широкими массами, логосу обязательно надо упроститься оборачиваясь собственным антиподом – мифом. Отсортировывается строго выверенный набор клише, делающихся подоплёкой социального характера – вымывающего спонтанность машинного масла, позволяющего содрогающимся испугом остракизма шестерёнкам вращаться без лишних вопросов. Конечно, непреодолимых помех возникновению новых идей не создаётся, но ведь само собою интеллектуальное знание является опасным согласно Спинозе, только по степени его аффективности то есть, в итоге, причастности к сердцевине противоречий – трудовым отношеньям. Менялись способы производства, вместе с ними строились да ломались сопровождающие особые общественные установки, рудиментарно сохраняясь в суевериях, привычках: первобытность отпечаталась уважительно бескорыстной атмосферою семьи, рабство – преклоненьем перед начальством, феодализм – понятием о чести. Капитализм тоже несёт специфические посылы. Примечательно что парадоксальный вывод Руссо, про отсутствие простого сопряжения развития с гуманностью, раз за разом удивительно безотказно сбывался на протяжении разных эпох, затрагивая в том числе очень странное XX-е столетье – время одинаково овеянных ёмкими обещаниями великих кровопролитий и радостей… а нынче мы, словно изнеможённые от чрезмерной активности, озадачены тихой невнятностью насчёт темы будущего. Неужто оно кончилось? Или вот-вот начнётся? Чего ждать? Как быть-то?
Издавна человек лелеет мечту о благословленной поре, когда всё будет бесплатно, и всё будет в кайф, где наверное вообще не надо будет умирать – именно ею но отнюдь не вакуумом фантазия окаймляла хронику. Тяжёлые условия свирепой эксплуатации будили приукрашаемые воспоминанья про золотой век, навевали тоскливую ностальгию о потерянном Эдеме, саде незамысловатых наслаждений. Впрочем сколь ни пытайся, мнимую быль не воротишь – потуги возврата к легендарным канонам потерпели неудачу. А часики тикали: второе пришествие не случалось, люди смирялись с диктатом учёбы, присноровившись даже получать от её прогресса удовольствие; неторопливо Просвещение заходило в терминальную стадию: моду снискали рациональные утопии вроде тщательно расписанных, однако ещё сырых воздушных замков Мора да Кампанеллы. Попозже другие бумагомаратели заштукатурили чернилом пробелы великолепных зданий, и филантропы принялись решать задачу экспериментальной стройки красивых проектов. Пожалуй талантливейшим из них стал Роберт Оуэн, перебравший кучу методов: от автономных общин, бирж справедливого обмена, до фабричной кооперации, тред-юнионистских схваток за государственные социальные гарантии – везде те продвигались еле-еле, с ржавым скрежетом пресекаясь о неподатливые обстоятельства. Тем не менее следующее поколенье, целиком принадлежавшее эре триумфа подчинившего окружающую среду индустриального блицкрига, не опустило руки, зато продолжило упрямое дело учтя ошибки предшественников, отталкиваясь теперь от анализа реальности (в чём изрядно преуспело), шагнув от пророчеств к прогнозам, но часто сбиваясь огульно обещать немедленные перемены. Что ж, все немножко максималисты ибо над нами висит Дамоклов меч смерти, болтаясь на грозящей каждое мгновенье лопнуть хилой верёвке. Я процитирую Островского: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать её».
«В конце концов, человеку дана всего одна жизнь – почему бы не прожить её так, как хочется вам?» – риторически спрашивал Джек Лондон. А народная мудрость уточняет важный акцент: «каждый кузнец своего счастья», то есть постулирует беднякам неустанный труд ради минутной блажи, пока богатые как сыр в масле катаются маясь от безделья, such as, for example, in the tale by Samuel Johnson, where Rasselas, the son of the King of Abyssinia, who lived in the Happy Valley, he felt bored there and went out to find adventures. Футура же снимет несуразность: снабдив по нужным потребностям, даст всем возможность выбирать да оттачивать собственные излюбленные способности, заниматься не работой но творчеством – и ни кнута ни пряника не будет больше. Этические принципы никомаховой середины вместе с золотым правилом нравственности восторжествуют, причём не по грубой утилитаристской модели, а в секуляризованных эстетических предпочтеньях. «Что такое хорошо и что такое плохо?» Маяковского весьма полезно для крохи, но взрослый слепо внемлющий афоризмам которого-нибудь Роттердамского, выглядит глупо. В час полного атеизма культуры эпимодерна, вопрос истины «от чего?» получит прерогативу пред клеветническим моральным суждением «к чему?», ибо у каждого появится вдоволь досужего времени на самостоятельные раздумья да что угодно ещё. Едва от этой праздности личность устремится к беспределу вроде безобразий Борджиа; скорей наоборот, мир где роботизация уничтожит актуальность экономики, сведя на нет её проблемы, когда в масштабах Земшарной Коммунистической Республики распространится положительный анархизм, поощряет обустройство общества по расхожей фразе: «свобода одного человека заканчивается там, откуда начинается свобода другого» (только сонм генетически предрасположенных к агрессии людей останется оплотом криминала). Грядущий всечеловек по-дружески уладит, прекратит вековечную войну с природой и вознамерится достигнуть высшей цели: вступит в борьбу со смертью – перешагнёт порог зрелости… эх, ну а страдать маниловщиной, пытаясь предугадать куда себе русло проложит быстрым течением река истории далее, я не хочу ведь могу твёрдо констатировать – та скроется за линией виднеющегося горизонта.
Революция – дверь, социализм – прихожая благословлённого дома бесклассового социума, его начальная фаза. Там по нормам этикета следует разуться из протёртых сапогов товарности, повесить на тремпель облинявшее пальто-государственность да снять помятую шапку гнилой идеологии. Родовые пятна капитализма будут выводиться столбовою дорогой вытесненья частной собственности демократическим планированием к автоматизации хозяйства; монтескьесовская троица заменится новым порядком сдержек и противовесов, вовлекающих всё населенье в организованное снизу вверх унитарно-федеративное управление; надоевший монотеизм уступит промежуточному неоязыческому убежденью что homo homini deus est. Пролетариат кои-то веки получит существующий ранее (сейчас) лишь для буржуазии (прибыль) достойный стимул к деятельности – распределение пропорционально трудовому вкладу. Её главной целью станет, через приобщенье резервной армии незанятых, постепенное сокращение рабочего дня, перевоспитыванье лодырей солидарностью коллектива, разгрузка людей под вольную жизнь. Те поэтапно преодолеют вещизм со скукой, ибо им простираются широкие виды на справедливое насыщение потребностей да участье в сети многочисленных ассоциаций, служащих подспорьем развитию всяческих хобби, раскрытию личных наклонностей к определённым стезям творчества, прям по совету бродячего философа Григория Сковороды – протохиппи, коего мир ловил да не споймал. Так выглядит логическая схема возведения коммунизма. Но подтолкнувшая её к попытке исполненья причудливая реальность истории внесла свои коррективы… как это случилось?
Итак, лениво позёвывая, нежась приятной безопасностью от значительных посягательств на имущество, в сладком томлении наблюдая катящиеся на счета лавины финансов, толстосумы подошли к XX-му столетию незаметно выкристаллизовав себе чистую классовую пару – фабричный пролетариат, потихонечку понявший собственную задачу и мощь. Об его мягко говоря решительнейшие выступленья буржуи вдруг споткнулись. То было впервые за долгое время, восстание масс по Питириму Сорокину, когда чернь осмелилась покуситься самостоятельно руководить собою, нахлынула в политическое поле. Истеблишмент стран сберёгших резервы откупился от неё, а элита сильнее потрёпанных водоворотом событий держав, для обороны от red alertа одобрила накал националистической истерии к невиданным доселе градусам, кратным разгулу рабочего движенья. Там где левые взяли власть, эта угроза быстро привлекла особое внимание да должную оценку, о чём свидетельствует например ещё рапорт Радека на IV-м конгрессе Коминтерна: «В победе фашизма я вижу не только механическую победу фашистского оружия, а величайшее поражение социализма и коммунизма после начала эпохи мировой революции». Коричневые, от более-менее сдержанного режима дуче Муссолини до лютых нацистов, тоже чётко называли имя своего главного врага, в частности их симпатизант Ильин писал что «фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил направо». Действительно, спервоначалу они старались чутка перехватывать популярную розовую повестку, впрочем строго размежёвываясь с марксистами, но стоило радетелям за нарочно толкуемое очень размыто возрожденье Отечества поднабрать влияния, заручиться грантами крупных магнатов – тогда та моментально отодвинута на второй план если не дальше, а новая власть сразу обнажила ужасно уродливый истинный вид – сжёгший остатки демократии, по-казарменному иерархичный, тупой тоталитаризм. Ни «Mein Kampf» фюрера, ни жалкие интеллектуальные потуги Розенберга не омрачили хотя бы тенью разумности его буйно-юродивый лик, ибо тот выразил лишь злейшие эмоции, проявил наитёмные уголки бессознательного – потому провозглашённые им идеалы совершенно иррациональны.
Ведь что проповедует доктрина оголтелого шовинизма, на которой замешана каша? Одержимость беспочвенным мнением якобы частое предпочтение конкретными группами людей одних профессий да черт характера иным, по видимости совпадающее с этническим происхожденьем, нужно жёстко к нему редуцировать. Всплыв на площадь обсужденья, узаконившись, правило подчиняет персону прошлому раздувая первородный грех до мерки гибкой настоящей жизни по незыблемой судьбе предков, верней её крикливым агитаторским интерпретациям, и если человек – полтора животного, то (пока подлинные коммунисты беспокоятся о будущем, превозносят возвышающие над природой свойства, ведут к триумфу титана воли – Übermenschа) любители свастики за звериный бок тянут его на дно, превращая общество в стадо untermenschей. Пусть собственную расу оно наречёт великою, прочие же объявит презренными, зарываясь гнусной спесью, но да ладно – всё равно под её толщью не схоронить свою ублюдочность: никуда не исчезла и впредь не денется известная формула: «народ, порабощающий другие народы, куёт себе кандалы». Однако кому, каковому типу личности по нраву такая идеология? Даю слово Шопенгауэру: «Самая дешёвая гордость – это гордость национальная. Она обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных качеств, коими он мог бы гордиться; ведь иначе он не стал бы обращаться к тому, что разделяется кроме него ещё многими миллионами людей. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего, подметит её недостатки. Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит; он готов с чувством умиления защищать все её недостатки и глупости».
Учреждённая за войною да разгромом спартакистов Веймарская Германия, плодила этих граждан как на дрожжах. Последней каплею выпавшему из канвы размеренного бытия потерянному поколенью Хемингуэя и Ремарка стала Великая депрессия. Тосковавшие по патерналистской атмосфере эпохи кайзера ветераны, бюргеры, люмпены, аристократия, немало селян, пролетариев, капиталистов взбудоражено проголосовали за пустивших в глаза патриотическую пыль спекулянтов на крови. Дорвавшись до господства, те хищники немедленно скомандовали её пролитие. Обманчивая зато крайне эффективная, курируемая Геббельсом легендарная пропаганда глушила разум, а туда где она не справлялась в гости приходили подопечные Гиммлера. Маховик репрессий раскручивался (впрочем выдвинув ясный ключ к безопасности – лояльность да пользу режиму (однажды Геринг сказал: «У себя в министерстве я сам решаю, кто еврей, а кто нет»)) захватывая всё больший диаметр. Сначала тот по очевидным причинам зацепил всяческих оппозиционеров, от Рёма до Тельмана, потом, сплотив парализованный народ развернул кампанию геноцидов, особенно рьяно – Холокоста. Но откуда взялась такая свирепая ненависть к иудеям? Ещё средневековое разделенье труда зажало их в нишу оперирования денежным обращением, воспитав мораль гешефта, весьма пригодившуюся когда наступил буржуазный строй – гетто вписались в рынок, вызвав зависть крестьян с мещанами. И единовременно, занимая обочину общества они не имели шанса сколотить крупные накопленья, избежать соседства с угрозою погромов от простого люда. Вышлифованный за столетия образ мерзкого врага, даже по старту ассимиляции ашкенази, возымел повышенный спрос для сочиненья антисемитских «Протоколов сионских мудрецов» да баек об ударе ножом в спину – внутренних громоотводов массового гнева от реальных проблем системы, шикарно действующих спаренно с нагнетанием злобы к внешним обидчикам, позволив частным и государственным концернам легко надуть пузырь мобилизационной экономики. Клаузевиц считал что «война – продолжение политики с привлечением иных средств». Она есть неминуемая плата, тупиковый итог национал-социалистского наваждения. Третий рейх развязал пьяный дебош, ринулся безмежно расширять Lebensraum (примитивную зону возрождённого рабства, в которой каждый «ариец» получит по слугам) ради наглого грабежа (если бы немцы заключили мир или полностью выиграли, то кони двинули б от похмельного кризиса лопнувших армейских трат), пока в разгаре Drangа nach Osten не столкнулся со свернувшим ему шею недооценённым противником – СССР.
Коснувшись предыдущей главою анализа революции не по «Капиталу», я остановился на 1917-м годе. С той же даты продолжу. Итак всесторонний общественный коллапс. Осенью дерзкие большевики удачно выразившие народные чаяния, перевернули мнущееся, нерасторопное Временное правительство да одним махом, несколькими декретами ввели долгожданные буржуазные свободы, положили почин социалистическим преобразованьям, а власть Советов непринуждённо восторжествовала по всей стране кроме локальных очагов сопротивления. Но тут внезапно посыпался град проблем, подвергших проверке как оказалось очень хилую коалицию рабочих, лихо сбросивших капиталистов, с не столь монолитной зато многочисленной деревней, осуществившей чёрный передел, альянс расколовшийся об жестокую продразвёрстку. Её Совнарком РСФСР объявил от надобности соблюсти брестские договорённости а ещё чтоб спасти города в условьях краха рынка. Она из-за вредности всему селу помимо бедняцкой части, отшатнула то под эсеровское крыло, с помощью интервентов Антанты обострившее гражданский конфликт, проторив дорогу к лидерству для обиженного офицерья и бывших собственников, ударившихся в разлагающий произвол (подбивая потом итоги Шульгин констатировал: «Серые победили белых»). Отвечая, красные развернули суровый военный коммунизм да террор ВЧК, но вместе с тем учли ошибки смягчив утеснения середняка. Скоро чаши весов склонились в их пользу: крестьянство вернулось назад, окрепшая РККА вышвырнула контру за тридевятые кордоны. Тогда жаждущий избавиться от помех обогащенью мужик опять огорчился, подавшись примыкать к зелёным мятежам, от махновского Гуляйполя до Тамбовщины при Антонове, ясно намекнув о необходимости внедрения НЭПа. Этот status quo соглашался терпеть кулачество, разрешал много хозяйственных вольностей взамен ограничивая, испуганный бунтом матросов Кронштадта, политические. Отныне командные высоты должны прочно удерживаться лишь КП(б), а ранее легально действующие (не говоря уж про запрещённые до сей поры) группы эсдечьих или анкомовских настроений распущены.
Потихоньку через парочку трудных неурожайных годов разрухи, уровень жизни населения, вступившего в сатирично изображённое Ильфом и Петровым время, наладился продолжая расти. Граждане молодой республики пожинали плоды передовых норм социального страхования, процветал спекулятивный авантюризм, партия избавлялась от фракций. Монополия внешней торговли прекратила несанкционированное вымыванье ресурсов – теперь ими цепко распоряжалась держава. Они использовались в русле насущного развития промышленности, преимущественно тяжёлой, путём обыденной продажи за рубеж зерна да приобретенья там необходимого оборудования, а внутри Союза – перекосом ценовых ножниц на стимулированье городов. Тем создалась мощная преграда эволюции аграриев к совокупности полноценных фермерских предприятий, потенциально уменьшая объём вывоза их товаров, равно возможности закупок. Обратный же поворот стопорил темпы здесь и сейчас. Руководство старалось балансировать в таком замкнутом круге но, впрочем, «сколько верёвочке не виться, конец будет». Великий перелом настал. Срыв хлебозаготовок из-за понижений тарифа, при одновременном возникновении обусловленного западным кризисом шанса исключительно дешёвого импорта, сулил провал плана, чего допустить никак нельзя. Действовать требовалось, срочно принимая чрезвычайные меры против куркулей. Конфискации «по старинке» чреваты рецидивом боестолкновений, поэтому спонтанно изобретён дивный синтез мечтаний народников с помещичьей усадьбою – сплошная коллективизация, позволившая устойчиво выкачивать продукты административными методами. Вмиг на фоне плохой погоды развернулась форсированная экспортная кампания, отдавшаяся пауперизацией да голодом но разом решительным выполненьем целей индустриализации, молниеносным прыжком над пропастью к уступу хозяйственной независимости, автаркии. Следом, на её крепкой основе «жить стало лучше, жить стало веселее»: произошёл огромный скачок науки, технологий, медицины, школы, зато взлетела степень подозрительности, вылившаяся специфическим смыканием рядов, шквалом знаменитых чисток номенклатуры, тронувших и реальных шпионов с вредителями и попросту неудобных да невиновных личностей. Сложилась та самая своеобразная этакратия, что отражается несметным множеством публикаций, от классики жанра вплоть до например, недавнего романа Прилепина про Соловки, лубочной картиною пресловутого «совка».
Беря власть коммунисты надеялись чиркнуть искру для мирового пожару, но вислинское чудо испарило подобные грёзы – сырые дрова затлевают только реформизмом. Большевики России оказались одинокими со страною где очевидно отсутствовали минимальные предпосылки высшей формации, а революция (ежели эра и была ею беременна, то наш Октябрь – выкидыш) грянула во многом из-за того что, по утверждению Бухарина, здесь лопнуло «самое слабое звено цепи», кое хоть достигло определённого развитья империалистического капитализма, да с неполным базисом. Ещё в Манифесте РСДРП 1898-го, Струве повторил мыслишку Энгельса: «Чем дальше на восток Европы, тем в политическом отношении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия». Когда держава по её вине хлебнула катастрофы а трудящиеся возжелали над ней контроля, она саботировала предложенные компромиссы да уехала, спровоцировав (Евгений Преображенский подчёркивал именно вынужденность мероприятия) радикальную национализацию заводов, быстро переданных под начало суррогата – нового чиновничества, так как выяснилась практическая неготовность рабочих к оперативному руководству. Измотанные испытаниями нелёгких годин, те радовались уже простому расширенью прав, улучшению своего состояния, и за прозаичными ежедневными заботами махнули на диктат, доверившись авангарду подчинившему себе все организации до самого ВЦСПС, обращённого в «приводной ремень». То есть почти добровольно отреклись сокращать отчуждение – это позже аукнулось (ибо не каждому свойственен фанатизм Павки Корчагина) проблемами с мотивацией деятельности, компенсировавшимися похожей на протестантскую этику моралью стахановского соревнованья, годящейся условиям роста но дефектной при упадке экономики, фундаментом которой на заре вовсе служили лежащие вокруг городов заскорузлые деревни. Им с 1929-го пришлось искусственно второпях навязать уродливую, кривую кальку непосильных теоретических отношений; а иначе б общество поистине окунулось в чаяновскую утопию. Но суммарно возымели крестьяне иные плюсы: уравниловку, протекционизм, механизацию, возможность обучаться профессиям, шанс бок о бок с выходцами из других слоёв населенья подыматься на вертикальном лифте карьеры функционера к верхним этажам государства. Лодырничать там не получится – снизу, подстёгивая энтузиазм, тотчас постучат, давая повод сквозь года Довлатову резонно вопрошать: «кто написал 4 миллиона доносов?». Шустрая ротация кадров (выгодным – награда, бесполезным – люстрация) просеивала породу идеально заточенного под построение сочетаемых модернизации да социализма аппарата, закрутившего гайки рационального тоталитаризма.
Великая Отечественная война, произведшая максимально суровую проверку, вынесла тому в целом оправдательный вердикт, но за чертою оправленья страны от разрушений и огорожения буферной зоной лишила чёткого проекта на завтра. Утомлённый народ-победитель совсем присмирел, а уже обособившаяся однако ещё связанная революционным импульсом, бюрократия колебалась «ни туда ни сюда» меж двумя тенденциями распутья: назад к НЭПу или вперёд в коммунизм. Впрочем, её выхолощенное серое большинство не шибко горело теперь желаньем волноваться о стратегических заданиях да пустило их на самотёк, зато ретиво взялось обустраивать себе оттепель – избавление от любого контроля над собою, вплоть до смещения с поста в 64-м зарвавшегося Хрущёва, истратившего потенциал бездумными инициативами. Они вынудили новое Политбюро предпринять в конце концов какие-нибудь последовательные меры, а именно, увы, предпочесть прибыльную реформу Либермана ОГАСу, уверенно ступив к рынку по дорожке очень скользкой что продемонстрировала Пражская весна. Кремль капельку остепенился, на всякий пожарный зажал потуже цензуру, но таки неспешно пошёл сближаться с привлекавшим кредитами Западом, подсаживаясь на нефтегазовую иглу, гарантировавшую ровный поток незатейливых доходов и застойное кредо Брежнева – фактически гангрену режима. Единый прежде хозяйственный организм обратился клубком, борющихся за выгодное распределенье ресурсов ведомственных, областных, иных чиновничьих интересов, партия – полем согласования. Удобный для минималистичных 30-х – 40-х годов авторитарный план тонул в море показателей множества секторов, волюнтаризме разобщённых звеньев. Количественные подсчёты им осиливались, а вот качественные прикидки в товарных условиях нагромождали кучу ошибок, ибо каналы возвратной связи у потребителей отсутствовали. Получалось: денег они наличествовали хоть отбавляй, чего не скажешь про хромающий ассортимент, да оттого завистливо косились к роскоши подсмотренных через Железный занавес витрин, тайно жаждая капитализма. Наивные рядовые советские люди, а хитрые бонзы подавно, устали от лицемерия, и по завершенью геронтократии чередой пышных похорон генсеком назначен Горбачёв. Тот скоро повёл капитулянтскую политику по всем фронтам, в результате коей номенклатура смогла сбросить номинальные ограничения, узаконив обмен власти на собственность, да пожертвовав сателлитами сойтись с недавними врагами. Увенчалась эта история поражением ГКЧП – жирной точкой, перерезаньем красной ленточки десятилетия ликований охочих жить по знаковому девизу Шарикова «отнять и поделить», раздирая на куски СССР.
Упокоились ли под руинами скопом все притязанья прогрессивного освобождения человечества? Ой едва, вероятней те взяли общую паузу, подспудно тишком-нишком развиваясь, в полном соответствии со своею детерминантой (нынче довольно вялой) – пролетарским движением. Его начало, середина XIX-го века, рождала больно мешанный, размытый протест угнетённых, зеркалившийся клубами приверженцев Прудона, заговорщиками-бланкистами, голым синдикализмом, «расцветали сто цветов», шумящих бравурными криками аля «собственность – это кража», жонглировавших осколочными теориями. Как платформа их дискуссий и координации в 1864-м основано Международное товарищество рабочих, которое попыхтев закономерно раскололось, а вскоре прекратило существование. На волне спада социального напряженья повис мрак идейной депрессии. Вон тогда засияла звезда марксизма! Покуда иные ученья глохли в прениях, генерируя иногда тупые иногда острые, но главное несобранные сумбурные умствования, Карл создал гениальную экономическую парадигму да перечень фундаментальных тематических публикаций. Сплочённые пиететом к нему эпигоны с подачи его друга Фридриха принялись, то отёсывая то довершая, целеустремлённо строить вокруг исходника дисциплинированную исследовательскую школу. Она катком распространилась по всему свету – та популярность стала козырем, на фоне дежурного бунтарского взмыва открывшим II Интернационал почти целиком под марксистскою вывеской. Мир же на стыке столетий быстрыми темпами менялся, требуя не ортодоксии но свежих ответов. Ища их где предлагали оригинальные концепты, где чаще поглощали сугубо локальные воззренья (к примеру немецкое лассальянство) или впитывали толику буржуазных доктрин, однако коренная линия раздвоения того ревизионизма в XX-м веке легла по вопросу сотрудничества с институтами власти, когда окончательно разъяснилось что спокойно отпочковаться от системы не выйдет, и её так-то надо либо подшить либо перекроить.
Для западных характерно живо одобрить первую ветку уповаючи голосами рабочих обратить парламент против хозяев, постепенно с его помощью продавить социалистические метаморфозы. Ещё какое-то время они стыдились собственной оппортунистской тактики, смущённо оправдываясь чурались ненароком болтнувшего лишнее Бернштейна, а с 1914-го, поочерёдно завоёвывая и теряя позиции развращаясь, сами воплотили принцип «движение – всё, конечная цель – ничто», зайдя к 80-м в тупик имманентно сберегая уязвимость перед замечаньем Михайловского: «В обществе, имеющем пирамидальное устройство, всевозможные улучшения, если они направлены не непосредственно ко благу трудящихся классов, а ко благу целого, ведут исключительно к усилению верхних слоев пирамиды». Но даже таких относительных успехов им не снискать бы без размашистого удара по капитализму, нанесённого закадычными приятелями и заклятыми врагами – восточными товарищами. Эти выбрали второй, радикальный путь.
Советский Союз стал его ликом, обагрённым кровью супостатов да покрытым безобразными шрамами-рубцами – следами страшных битв кружившихся впритык со старта революции, причём финский опыт во всей красе показал плачевные результаты проигрыша, взвинтив жестокий настрой «или мы или нас». Эта ситуация навевает аналогии с великими потрясеньями Франции, подталкивая сделать своего рода синхронический рядочек: 1917 = жиронда, 1918-21 = якобинство, 1922-29 = термидор, 1930-40 = консульство, 1941-61 = ранняя, 1962-85 = поздняя империи. Замыкающие 6 лет – то крах (а 1993 либо 1996 = посягательство учинить собственные 100 дней), провёрнутый переродившейся элитой под фанфары зачерствелой идеологии. «Мы боремся за овладение вратами неба!» – восклицал Либкнехт пожалуй, не совсем точно но примерно правильно улавливая важную черту тогдашнего коммунистического эксперимента, вопреки капитализму означающему, чего уж греха таить, поклоненье дьяволу, иль фашизму насаждающему дурацкую эзотерику, превращаться в мутировавший христианский культ по Бердяеву. Хотя взгляды Луначарского, нарёкшего социализм пятой религией (а не её прямым отрицанием) человечества, не возводились до официального ранга, исполнялись фактически. Классиками заместили Старый, Лениным – Новый Заветы. Так марксизм упростили к догматике, прокрустову ложу куда урезанно пихали любые феномены (ибо Евангелию никак не дописывают глав, лишь трактуют данные), для подпорки мессианской монолитностью ненадёжного судна, ведомое прагматичным рулевым Сталиным. Его Троцкий, та ещё «политическая проститутка», в ранние 20-е «чрезмерно увлекавшийся чисто административной стороною дела», протяженьем 30-х банально с метафизического угла зрения, что дескать рабочие априори сознательны да только поганые вожди всегда предают, критиковал за бюрократизацию, отчаянность, химерность проекта, мямля насчёт конструктивных предложений – оттого IV Интернационал раздробился до мелких сект.
Не без причины говорят что большевизм – стремление к большему. Оно поджигало отсталые страны одну за другою: пламя охватило целиком аграрный Китай (модернизацию там обеспечил уже Дэн Сяопин, приманивший туда контролируемые государством заграничные инвестиции под лозунгом «какая разница, рыжий или чёрный кот, если он ловит мышей»; вообще основной секрет азиатского везенья заключается в удачном открытии для мирового рынка – так случилось ещё с Японией, которая вовремя покинула изоляцию Сёгуната Токугава), и погасло в джунглях экзотической Кампучии, где ненадолго воцарилась якобы «красная» людоедская клика Пол Пота – выпускника европейских вузов. Их внепартийный марксизм неплохо было развился по философской части, но оторванность от масс неминуемо сказалась. Академическую среду занесло явно не в ту степь. Интеллектуалы взалкавшие свободы индивидуальности, сами себя высекли ибо накаркали теперешний неолиберальный социум, отчуждающий даже мозг – каждому стоит серьёзно задуматься над вопросом: сколько меня во мне? Сколько собственных суждений, творчества? Сколько навязанных стереотипов, понтов? Результат может удивить. Эх, Маркузе обещал революционность необжившейся молодёжи, но обнаружилось только её нередкое желанье легкомысленно плестись в лоне моды. Впрочем, отчего это рабочий класс уронил привлекательность?
К сожалению Дьёрдь Лукач ошибался что уподоблял абсолютному духу индустриальных пролетариев – ихним железным когортам понадобились центурионы, а тем – легаты. Через институты богатых (и не столь зажиточных после безуспешной пробы зелья фашизма) держав, они скромно добились озолочения оков. Деревянные же учрежденья многих бедных, недоразвитых полусельских государств сносились, претерпевали революции породившие тщеславные гибридные системы. Ещё зачатки этого парадокса легли канвой странным образом завершившейся победою обоих участников полемики Владимира Ильича с Каутским & меньшевистской К°, которую можно назвать диспутом о раннем социализме. Так или иначе, тривиальным решением для него да XX-го века в принципе, стала та самая бюрократия, давящая на граждан как будто кафкианским гнётом. Корнями она уходит к почину антагонистической формации, исконно владея функциями проведенья диктата господ и межклассовой амортизации; увеличивая собственную значимость, при максимально натягивающем струны противоречий порядке буржуазии сливается с нею в Змея Горыныча, обитающего внутри промышленной берлоги. Красным витязям хватало сил отсечь пару-тройку голов но ни разу – вырубить базисную причину: модернизация СССР разворачивала предпосылки капитализма быстрее нежели коммунизма, режимы соцдемов вовсе старались только сглаживать конфликт. Повсюду реальную власть вверяли чиновничеству, потихонечку ту узурпировавшему потом отдавая историческому союзнику. Мятежи переварились. Наперекор восстанью масс Ортеги-и-Гассета случился реванш элит. Атлант вновь расправил плечи, принявшись крушить судьбы людей. Благовидные аргументы за антиобщественный натиск любезно подготовили Мизес и Хайек.
Во-1-х, управленцы озабочены персональным процветанием, а не совокупным успехом предприятия, в отличие от собственника несущего личную ответственность за него – поэтому (спорное утверждение, тем не менее) бюрократизация всегда уступает чисто рыночному азарту. Хотя он же создаёт для неё гряду ниш: стабилизацию конъюнктуры, подогревающую деловую активность – раз; должность ночной стражи, гаранта соблюденья контрактов – два; втулки к нерентабельной дыре инфраструктуры, культуры, социалочки – три. Ещё кардинал Ришелье видел что «золото и серебро верховодят миром», но лишь неолиберализм упёрто навязывает отсутствие каких-либо ценностей помимо них, минимизируя перечисленные обязанности путём всестороннего поглощения маркетингом, вампирски высасывающим деньги на корысть буржуа, охамелых от самовнушённости иллюзией эффективности. Ведь на практике революцией менеджеров (коль не до того), грандиозно расширившей штат координаторов процесса работы до уподобления фирм государствам в государстве, они сдвинуты к статусу рантье; теперь можно громко заявить: крупные бизнесмены – бесполезные паразиты на теле народа! Давным-давно пиявками лечили хворых. После в ход пошли новаторские методы вытеснившие традиционный. Так же надо дармоедов, некогда организовывавших хозяйство, оторвать от кормушки вместе с приближёнными из высших слоёв постепенно расколовшегося костяка среднего класса – офисных сотрудников. Не с голоду капитализм умрёт, а подавится от обжорства кое-кого.
Во-2-х, обуславливая проблемность планированья, чиновничество погребено под толстыми завалами бумаг. И к чести буржуёв, именно ими проспонсирован информационный рывок мобильной связи с компьютеризацией, перепрыгнувший указанное препятствие заодно дав ей способность, дробя, рассредоточить этапы прежде концентрированного производства по всему земному шару. Иначе говоря скачок финансирован из-за исключительной тактической выгоды. Но оплачивать стратегические перспективы (да в целом, пока монополизация выветривает стоимость частники никогда не лезут на рожон ноу-хау, только отдельные подхватывая с бюджетных дотаций (пример – Интернет), подстрекнув Эйнштейна черкануть просоветскую статейку) у богачей кишка тонка, ибо вложения пугают сомнительной окупаемостью, разореньем. Космическая отрасль заглохла, экология запущена… суммарно за прошедшие 30 лет нигде в науке нету наглядного развитья кроме IT-сферы (да и там темп сбавляется – каждый следующий смартфон реально почти одинаков с предыдущим; мировая же паутина вовсе вырывается за рамки структуры, размахом пиратства обессмысливая авторское право). Она между прочим потенциально является источником действенного сетевого самоуправления низов, одолеющего постреволюционную апатию, отворяя врата свободы не то что слова, а и дела, проча перманентную экономическую демократию, от которой нас стремится отвадить господствующая технократическая доктрина.
Сегодняшняя идеология, шикарно анализируемая югославским философом Жижеком, накладывает табу на основательную критику ибо убеждает в безальтернативности сложившейся системы (КНДР с Кубой, из-за страха номенклатуры быть ею смытой отгородившиеся плотиною, всемерно демонизируются а с ними и государства, ступившие на ретроградную дорогу к примеру, исламского фундаментализма): на суженное место выброшенных за борт обсужденья старомодных реконструкторов подложена леволиберальная свинья смутьянов понарошку (противниками для той вызвались симметрично никчёмные альтрайты) – тусовочки ратующие за присвоение привилегий откровенно фальшиво размеченным и пестуемым идентичностям, предпочитающие меньшинства борьбе большинства. Но в их речах есть доля истины: мир взаправду сделался похожим на безумное скопленье субкультур. Однако нужно не потакать фрагментации к вящему удобству консолидированной власти, а созидать классовые, по сути человеческие скрепы объединения современного пролетариата, да трясти карман капиталистов любыми средствами, хоть рецептами СДТ хоть вооружёнными восстаниями. Благо, неолиберализм сам себя пожирает (поколения x, y, z – каждое валово беднее прежнего), зажигая сердца людей негодованием, от мелкобуржуазного бунта как у Химейера, до движения жёлтых жилетов. Даже на его родине, в Чили, стране пережившей хунту Пиночета, бушуют левые протесты. Занимается алый рассвет… нам, богатырям, преемникам марксизма, коммунистам-обновленцам, необольшевикам необходимо не только пережёвывать былое, но узреть из пробивающихся утренних лучей верные выводы чтобы знать, куда вести до триумфа и наконец идти. Вот, я прямо сейчас вношу свою мизерную лепту пока сочиняю пролог к предстоящим серьёзнейшим трудам – этот манифест – сжатый опыт дедуктивного гуманистического исследованьица, беглого, рисованного широкими мазками обобщенья вменяемой социальной теории. Слагаю, созерцая раскинувшуюся по 4 стороны от меня родную страну – Украину.
Её история закрутилась буйным вихрем гопака бравых, охочих до всякого кипиша кроме голодовки русинских хлопцев, тикавших от ляшских бесчинств в Дикое поле за весёлою, опасной, главное привольной жизнью. Иногда они возвращались назад, не каяться а саблями да самопалами спасать братьев, что им обычно не удавалось – и лыцари понуро отступали на Сечь ни с чем. Но однажды гетманские клейноды вручили склонному заключать неожиданные союзы хитрецу Богдану Хмельницкому, который взбудоражил накипевший гнев населения, изгнавший шляхту со своей земли положив там быть причудливому казацкому укладу. Бузина отмечал у него специфическую феодалистичность, нарочитое уваженье к древним регалиям. Также нельзя не обнаружить некую прагматику, буржуазность интенций всеобщего «гражданского» равенства. Правда, последним суждено сойти на нет – погрязшее в сопровождающейся интервенциями соседних держав Руине войско расслоилось: голота откинута от бразд власти, старшина захапала их себе, полагаясь на сердюков-наймитов. Мазепа вернул панщину, заведомо накрывшую шведскую авантюру медным тазом из-за понятной нелояльности простолюдья. Потом знать без проблем слилась с имперским дворянством а крестьяне закрепощены. Эпоха минула. Отныне оставалось лишь рефлексировать её, как Котляревский, написавший фанфик по классической «Энеиде» начав здешнюю литературу. В XIX-м веке она заложила собственные устои, обзавелась многими талантливыми творцами: «святой троицей» (Шевченко, Франко, Украинка) и другими, подготавливая претензии на восхожденье из тюрьмы народов, не перебившие классовый конфликт.
Впрочем новое руководство уважительно отнеслось к названной культурно-образовательной миссии, коренизацией соорудив здания титульных наций: России, её автономий, иных республик – в том числе УССР. Хотя, скоро лавочка прикрылась ибо что занадто, то не здраво. Преодолевать а не холить национальное должен адекватный социализм. Но тот проект несмотря на заявки, таковым не был и банально пытался балансируя как-то выжить – история не делается под заказ. «Игра в бисер» Гессе красочно изобразила очевидную интуитивно мощь пропагандистского искусства. Дарованная ему маломальская свобода заменена строго ведомым партией, деградировавшим бок о бок с ней шаблоном соцреализма (Владимир Сорокин – его самоотрицанье, Сергей Жадан – постмодернистская аллюзия), вылинявшего интеллигенцию. Значительной частью она, беллетристически воспитанная, заступая через бесцензурный порог Перестройки окунулась в туман ещё пущей кривды – подыскивая антирежимные амплуа, черпала сведенья из советских же пособий, оживляя карикатуры, а равно заимствовала всю идеологию, выворачивая наизнанку и доводя до абсурда. Украинцы, родословную коих принялись вести едва ли не напрямую от Адама с Евой, получили для утешительного бреда, лихорадящегося по мере увеличения неоспоримости падения страны в бездну Инферно, чернозёмную но именно почву: остатки автохтонной цивилизации да сильно расчленённая на диалекты мова засели по примитивным деревням. Города, эти светочи развития, независимо от этнической пестроты практически все русифицированы. Поэтому успех насаждения им глупых закосов под серьёзным вопросом.
А так-то, как обстоят дела нашего общества? Коротко опишу актуальную ситуацию. Позавчера Рада утвердила закон о продаже земли (только начало), дозволяя зарубежным финансам подчистую раскуповывать государство. Подобных решений требует каждый отпускаемый международными организациями транш – троянский конь губящий экономику; да привлекающее займы воровское правительство отнюдь и не собирается её подымать. Предел его мечтаний – присоединенье к поганому НАТО с трещащим по швам ЕС, чтобы беззаботно пляша под пендосскую дудку беспошлинно увозить награбленное добро. Но мы тем не шибко нужны, поэтому они – Икстлан всей державы. Крестьянство чьё положение ещё глубже усугубится, в сполвека урбанизированной стране утратило собственную особость целиком пролетаризировавшись, ибо трудится преимущественно на агрохолдинги – типичные капиталистические предприятья, куда могут ни разу не явиться владельцы, слившиеся с прочими слоями венчающейся кучкою олигархов-упырей компрадорской буржуазии, расфасовывающей прибыли по офшорам. Их богатство надо национализировать, обуздать социальным планированием к которому затем подключить трансформированный в кооперативы сельский, городской, вечно разоряющийся и оживающий мелкий бизнес, а также самозанятых. Совокупно, наёмные работники инфантильны (за что скоро будут покараны ужасным КЗоТом), фактически складываются из двух страт. Пригревшийся на хлебных местах средний класс «ни холоден, ни горяч, а тёпл» – почти аполитичен. Прекариат по-чёрному вкалывает где придётся. Он – опора грядущей революции. Армия с полицией насквозь коррумпированы, заслуживают уважения постольку, поскольку очень худо-бедно вроде бы охраняют граждан от правонарушений, и ненависти как цепной пёс плохого режима «не замечающий» беспредела бандитов, прикрывающихся маской идеи. Промывке мозгов упоротым, одиозным социал-национализмом уязвим любой круг населенья но ни в одном у него не вышло найти массовую базу. Большинству своя рубаха к телу ближе. Наряду с этим недавние выборы показали отчаянный сензухт, увы напрасный. Похоже, до людей доходит слабость атомизированности да сила настоящего единства, возникает смутное предчувствие тупика системы. Перемен требуют их глаза! В 2024-м году народ пойдёт не на избирательные участки… нужно готовиться.
Необходимо прислушаться к цитате из Мережковского: «Во всякой революции наступает такая решительная минута, когда кому-то кого-то надо расстрелять, и притом непременно с лёгким сердцем, как охотник подстреливает куропатку. А если возникает малейшее сомнение, то всё летит к чёрту – революция не удалась». Мятеж 14-го прозевал момент. Мы должны не наступить на те же грабли и задать врагам знатную трёпку. Правда возможно, восстание обречено, однако просто жить не рыпаясь, нельзя – исчерпан лимит терпения. Выпадает 100%-ный шанс отомстить, поквитаться за обиды – игнорировать нелепо. Конечно если разом с нашим пораженьем вернётся старая власть, то буйный Юго-Восток ждёт ультранасилие; хотя вероятнее, регион заберут русские. Осуществление крымского casus belli 5 лет назад способствовало у них взлёту конформизма который сместился недовольством: РФ не изолирована от проблем, обзываемых телевизором оранжевой чумою едва ли не с Нидерландской, она всего лишь крепче. Не кризис «престолонаследия» 24-го значит другой, но неизбежно спровоцирует полноценную революцию. Ведь в России спрятана иголка. Тут Кощеева смерть… тёмные тучи сгущаются. Воздух пропах свежестью перемен. Грянет буря. Призрак, не так давно бродивший по Европе, призрак коммунизма, пробуждается, чувствуя прилив новых сил. Не за горами финальная битва за долю человечества: по её исходу оно либо останется с ничем, либо получит всё. Может и не ошибался Лейбниц утверждая, что «всё к лучшему в этом мире, лучшем из миров»… XXI-й век, третье тысячелетие должны принадлежать нам! Как писал Вергилий: «Audacem fortuna juvat».
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ноябрь 2018 –
ноябрь 2019
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg






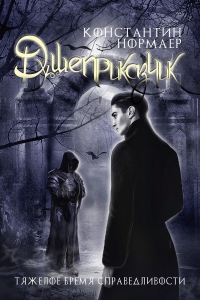
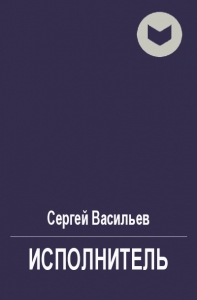
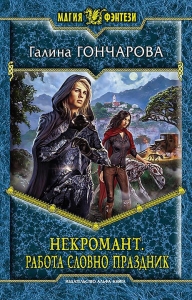

Комментарии к книге «Онтология нового мира», Савелий Алин
Всего 0 комментариев