Два года ада, или Как выжить в армии
Кто-то позвонил в квартиру.
Я открыл дверь и увидел женщину, которая попросила расписаться, вручая мне повестку о явке в военкомат. Мне уже восемнадцать лет, и с небольшой отсрочкой из-за учебы в техникуме мне наконец ее вручили. Шестого января 1997 года в 6 часов 30 минут мне нужно было явиться с вещами в военкомат для отправки в Вооруженные силы Российской армии.
По коже пронеслись мурашки. Я долго смотрел на бумажку, именуемую повесткой для службы в армии, начиная осознавать, что через две недели моя гражданская жизнь закончится. К повестке я, конечно, был готов, только дату отправления оставалось узнать, что и выяснилось.
Но больше всего в это время меня волновали государственные экзамены, после сдачи которых я получил диплом текстильного техникума и — «прощай, учеба», считал себя самым счастливым человеком. Еще, конечно, не могло меня не радовать и то обстоятельство, что уходившие служить учились в техникуме на полгода меньше, чем остальные. Многие завидовали нам — диплом мы получали малой кровью, и я этим гордился. Учиться больше не хотелось, а хотелось начать новую эпоху в жизни — отслужить два года и начать работать, зарабатывать деньги.
Я считал, что без службы в Вооруженных силах путевку в хорошую жизнь мне не получить и на хорошую работу не устроиться. Военный билет для мужчины как второй паспорт, и в моем понимании он был одним из главных документов при трудоустройстве, хотя это, конечно, был миф. Да и перед друзьями-товарищами было неудобно, ведь уважением не пользовались те, кто не служил, к ним относились с презрением.
Настроение у меня изменилось после вручения повестки не в лучшую сторону. Навалился страх, так как дата уже была назначена.
В свои восемнадцать лет я уже успел научиться пить водку, трахать девок и стоять на учете в милиции за драку. Участковый милиционер знал меня в лицо и называл безобидным хулиганом. Вместо года я состоял на учете все два с половиной года до 18 лет, так как были у меня еще нарушения дисциплины. Ловили меня на крыше десятиэтажного дома в нетрезвом виде, ловили за распитие спиртных напитков на улице, забирали меня, шатающегося по улице в нетрезвом виде, в отделение милиции. Не поставили меня на учет в наркологию только потому, что там работала моя бабушка. Бумажки из милиции регулярно туда попадали, как только я попадал нетрезвым в отделение.
Детство у меня прошло весело — от спортивных школ до приводов в милицию. Был случай, когда нам, малолеткам, ночью захотелось пойти на кладбище выпить водки, и даже не водки, а спирта «Рояль», который в то время был очень популярен и стоил недорого. Как выпьешь его, так сразу голову сносит. В желудке происходит отравление, и везде блюешь, выворачивая все свои внутренности наружу. И какие козлы производили и выпускали в продажу эту отраву?! Сколько народу отравилось этим спиртом!..
Собралось нас пойти ночью на кладбище человек двенадцать. Кто-то, конечно, испугался и не пошел, мне же хотелось острых ощущений. Взяв магнитофон, под музыку группы «Сектор Газа» мы пошли на кладбище испытывать свою смелость. Когда подошли к центральному входу на кладбище, еще трое, испугавшись, не пошли, а все оставшиеся, включив на всю громкость двухкассетный магнитофон, под песню «Сигарета мелькает во тьме» зашли на территорию и потащились вглубь кладбища к святым местам, к Братской могиле, чтобы почтить память участников и героев Великой Отечественной войны.
Не дойдя до святого места, мы выбрали ухоженную могилу с лавочкой и столом и начали распивать разбавленный спирт. В эту ночь мне не хотелось пить, и я, не помню по каким причинам, отказался и смотрел на все происходившее на трезвую голову.
Некоторым пацанам, а проще сказать — отморозкам, стало скучно, и, напившись, двое из них стали ломать памятники, вырывать ограды, крушить все на своем пути.
Что могли сделать нормальные ребята, которые пришли проверить свою смелость, а не заниматься вандализмом? Отморозков угомонили. Справедливости ради могу сказать, что один из них теперь не вылезает из тюрем, а другой отошел на тот свет. У меня просто в голове не укладывалось, как этот малолетний ублюдок, которого воспитывали родители (да еще ко всему у него папа военный), ломает памятники и ограды на кладбище, показывая, какой он герой. Ранее он уже отличался, когда избил пьяного молодого человека и пытался снять с его пальца печатку, которая не снималась. Тогда он решил отрезать палец ножом, но его оттащили и удержали от преступления. Через пару лет его на этом свете не стало. По словам тех, кто его знал, он выбросился из окна. Я в то время служил. Наконец мы, так и не добравшись до святого места — Братской могилы, собрались к выходу после всего выпитого, и это было к лучшему. От разных пьяных уродов, с которыми я был там, можно было ожидать чего угодно, — этого я не предвидел, когда шел на кладбище, и мне хотелось побыстрее уйти, хотя я так и не навестил могилу своего деда, участника Великой Отечественной войны, о чем я думал, когда шел в святое место ночью, хоть это была и бредовая идея моего недалекого разума. У меня в душе была очень сильная неприязнь к этому походу, и хотелось только одного — побыстрее добраться до дома. Было противно находиться в этой компании, и утешало только то, что некоторые испугались, а я не струсил и пошел вместе остальными. Я считал этот свой поход подвигом, потому что, переборов свой страх, ночью побывал на кладбище.
Проходя через центральный вход, мы увидели, как с мигалками и со скрежетом колес останавливались милицейские «бобики», то есть машины, и из них выпрыгивали сотрудники УВД. Все бросились в рассыпную вглубь кладбища. Я спрятался за какую-то кучу земли — наверное, это была бесхозная могила. Менты с собаками, освещая фонариками, искали нас. Еще немного, и я наложил бы в штаны. Хотелось даже сдаться, но что-то меня останавливало.
Я лежал не шолохнувшись минут тридцать и проклинал этот поход. Вспомнил я за это время все: и как хорошо дома в кроватке, и какие молодцы остальные пацаны, которые не пошли. Когда все успокоилось и милиция начала разъезжаться, я, дрожа от страха, стал пробираться ползком через могилы и ограды к заднему выходу с кладбища. Вдруг я услышал какой-то шорох и шепот. Я тихонько окликнул их. Это были двое наших. Им было страшно не меньше, чем мне, и рады мы были друг другу очень сильно. Мы теперь втроем выбирались с кладбища, перелезали через заборы, чтобы выйти в город с другой стороны. Когда вышли в город, мы уже могли прикинуться, что просто гуляем. Пройдя несколько кварталов, мы встретили всех остальных и стали, радуясь, живо обсуждать, кто куда убегал и как за кем гнались. Мы пошли толпой по тихой улице, на которой стояли деревянные дома. Шли очень шумно, да и магнитофон, опять включенный, играл очень громко. Мне очень хотелось отделиться от нашей компании и идти одному. Но пацаны бы меня не поняли, и, учитывая всю ситуацию, пришлось идти со всеми, чтобы не быть изгоем. Конечно, милиция каталась по кварталам поблизости от кладбища и искала нас, а мы, наивные, думали, что «сделали» ментов, и довольные, с музыкальным сопровождением, веселились, шагая домой. В метрах пятистах показался свет фар. Мы со страхом посмотрели на светящий прожектор, быстро двигающийся в нашу сторону, и побежали в разные стороны. Это был уже второй забег за эту ночь. Несколько человек перепрыгнули через забор чужого дома.
Я быстро бежал, не зная и не понимая куда. Увидев гору песка, я зачем-то за нее спрятался — наверное, ассоциации еще не утихли. Аналогично я спрятался на кладбище за кучей земли, и это меня спасло. В этот раз мне куча песка уже не помогла. Просто под ней никто из мертвых не лежал, и мне не фартануло.
Мне, конечно, надо было бежать дальше. Бегал я очень хорошо, и меня бы не догнали, только если бы не начали стрелять. Мент сразу увидел меня, сидевшего на корточках за кучей песка, и, подбежав ко мне, ударил ногой в область шеи. Я, перекувырнувшись через голову, упал. Подбежал еще один мент, и уже вдвоем они меня дубасили руками и ногами. Это была первая жестокость в жизни, которую я прочувствовал на себе в шестнадцатилетнем возрасте. Меня избивали по-взрослому, и я не понимал, за что, так как считал, что плохого ничего не сделал. За то, что на кладбище был ночью и убегал, испугавшись, — вот за это меня избили слуги правопорядка и засунули в ментовский «бобик». Через несколько минут, избивая кулаками, засунули еще двоих вместе с магнитофоном. Одним из них оказался Юра, тот самый, что еще пару часов назад «геройствовал» на кладбище, ломая памятники и ограды. Юра, плача, просил отпустить его и говорил, что он вообще на кладбище не был. Стал им угрожать отцом — военным. Я сидел и думал, что из-за этой мрази пострадали все, в том числе и я, а он ревет в истерике, что ни в чем не виноват.
Нас привезли в отделение милиции, развели по разным кабинетам и стали допрашивать. Как выяснилось позже, Юру отпустили сразу, хотя и непонятно почему. Мне повезло, что я был трезв и моим показаниям вроде бы поверили. Написал я объяснение, что на кладбище ночью пошел по личным соображениям навестить могилу своего деда, а на вопрос, с кем ходил, ответил, что не знаю, где живут и какие у них фамилии, только знаю, как зовут.
Половину из тех ребят, с которыми ходил, я на самом деле знал плохо. Просто собралась толпа, которая захотела проверить себя на смелость. Следователь сильно на меня не давил, видимо, чувствовал, что был перебор ментов, которые меня отдубасили. Ведь я был в синяках и ссадинах, и со мной беседа прошла в хорошей обстановке, даже чай предлагали, и отпустили под утро, пожав руку.
Я всегда по молодости тянулся к взрослым ребятам и считал себя крутым, так как старшие всегда за меня заступались. Я пытался быть похожим на них, старался быть по-своему справедливым. В кругу моих товарищей и друзей не было принято, чтобы избить кого-то просто ради развлечения, только чтобы «показать» себя. Все мы, конечно, уже в раннем возрасте выпивали, но с криминалом никаких у нас проблем не было никогда. До большего, кроме как разбить стекло, залезть на крышу дома или подраться в пределах разумного один на один, дело не доходило. В школе учительница истории предсказывала мне судьбу сидеть в тюрьмах, и, наверное, из-за этого я ее не любил больше всех. Но она ошиблась: с криминалом я никогда не был связан.
В школу я ходил ко второму уроку, мог без проблем прогулять все занятия и перебивался с двойки на тройку. Учителя на это закрывали глаза. Даже когда я на новогоднем «огоньке» в четырнадцать лет первый раз попробовал водку — а пил, чтобы не упасть в грязь лицом перед девчонками из своего класса, показывая, какой я крутой, — и послал директора школы на три буквы (я этого не помню, так как после ста граммов водки мой молоденький организм перестал меня слушаться), директор, швырнув меня в раздевалку, позвонил домой и сказал, чтобы меня забрали. По рассказам очевидцев, я успел облевать школу, свой класс, схватить за грудь одноклассницу, после чего получил по роже и, падая, опрокинул стол с едой. Когда мне стало плохо, я пошел на улицу и, упав в снег, вырубился. Увидев это, директор, чтобы я не замерз, потащил меня в школу. Вот тогда я и послал его на три буквы — перед тем, как он закрыл меня в раздевалке. Классный руководитель — она была хорошим учителем — убирала за мной блевотину в классе, а вся школа, проводившая «огонек», смотрела в окно раздевалки на меня, как в зоопарке смотрят на спящее животное.
В историю школы я, несомненно, попал, да простит меня классный руководитель Лидия Георгиевна. Ну а с бывшим директором Борисом Васильевичем я вижусь частенько, которому спасибо, что не отчислил после этого случая, но на «огоньки» меня больше не приглашали и учиться дальше в 10 классе меня не пустили. Но при этом после окончания 9 класса я смог поступить в текстильный техникум и закончить его.
В техникуме я учился уже более или менее нормально и стипендию получал всегда. Я прекрасно понимал, что это мой практически единственный заработок, на который я хоть как-то мог прилично одеться.
Отец, исправно выплачивая алименты, нас не воспитывал и практически с нами не жил. Мама, работая в детском саду, одна растила нас с братом. В девяностые годы женщине вырастить двух сыновей было очень трудно. Кормились мы почти только одним огородом: что выросло, то и ели. Но то время коснулось не только нас, но и многих других в эти перестроечные времена. На воспитание у мамы времени не хватало, и воспитывала меня улица. В переходном возрасте я жил только по своим правилам и умел отделять хорошее от плохого. Никогда я не мог понять, когда всякие негодяи подходили с предложением закурить, или начинали избивать ни за что, или докапывались до парня с девчонкой. Наверное, человечность я получил от матери. В эти непростые для всей России годы мать тащила нас, как могла, во всем себе отказывая, — лишь бы вырастить двух сыновей.
В армию я уходил самым последним из всех своих товарищей. Многие, уже отслужившие два года, рассказывали о своей службе, объясняли, как поступать в разных ситуациях и не опуститься, быть настоящим мужиком, уметь постоять за себя.
В спортивном отношении я был подтянут: бегал, отжимался и подтягивался на «отлично». Со спортом я был на «ты». Бесследно спортивные секции — лыжи, борьба, футбол — не прошли даром. В школе и на улице я очень часто дрался, чтобы постоять за себя и считал, что отслужу достойно. Как только получил повестку и оправился от небольшого шока, я побежал на улицу всем хвалиться. Ну и не грех было это событие отметить. В этот день я пришел домой «на рогах» и с этого дня ушел в свои мысли.
Из жизнерадостного и веселого раздолбая я превратился в тень. Проводив 28 декабря 1996 года своего последнего товарища, которого ждала служба по блату в 20 километрах от нашего города Егорьевска, я понял, что следующим буду я. У меня блата не было, и поэтому я хотел только одного — не попасть в Чечню, Дагестан или на таджико-афганскую границу. Уж очень я туда боялся попасть.
Не заметил, как сдал государственные экзамены, и 31 декабря получил диплом текстильного техникума. Следующий 1997 год начался для меня тяжело, да и вообще в моей жизни он оказался адом. Сразу же, 1 января, я слег с температурой в постель, и почти не вылезал из нее до 5 января. Была возможность взять отсрочку, но это означало, что пришлось бы ждать еще полгода до следующего призыва, так как из тех, кому давалась отсрочка из-за учебы, мы уходили среди последних. Поэтому я решил идти, а болезнь я счел мелочью.
Самое обидное, что я в жизни болел редко. Чтобы, например, увильнуть от учебы в техникуме, приходилось есть сахар с йодом для повышения температуры или постукивать по градуснику в поликлинике для получения больничной справки.
Девчонки у меня своей не было. В то время я уже понимал, что два года — большой срок и лишние расстройства на службе по поводу женского пола были ни к чему. Друзья бы описывали каждый шаг любимой, и меня это только расстраивало бы. За пару недель я со всеми девчонками разругался, а популярностью до этого пользовался у многих. Мне это, конечно, льстило, и я считал себя крутым парнем, потому что мог и на дискотеке потанцевать почти с любой свободной девушкой, и пообжиматься в подъездах. Главным козырем перед девчонками был факт умения играть на гитаре, и я им пел песни в подъездах. Девчата были просто без ума от моих песен и, как мне казалось, считали меня своим кумиром.
Доармейский возраст — самый опасный для любого подростка. Могло занести куда угодно — друзья-товарищи били стекла магазинов, школ, а я был с ними, стоял, смотрел и вместе со всеми убегал. Поэтому участковый меня, видимо, и называл безобидным и беззлобным хулиганом. С возрастом начинаешь понимать, что все эти компании в малолетнем возрасте — никакие не друзья. В конечном счете кто-то из них отошел на тот свет, кто-то сел за убийство, кто-то за воровство. Их десятки, тех, кто пытался научить меня «дышать» клей, бензин, курить травку, пить чистый спирт, глотать колеса (таблетки), от которых становишься дурачком. Они пытались вколоть мне в вену спирт, от чего я категорически отказался. Мне хватило одного раза, чтобы больше эту дрянь не пробовать. Но покурить простых сигарет и выпить водки, вина я себе отказать не мог. Откуда деньги брались, даже не вспомню, но почти каждый день мы пили подпольную водку, которая в то время продавалась в каждом ларьке. У родителей я старался денег не просить, прекрасно понимая, что жизненный период был очень сложным, жрать было нечего. И работы никакой не было, чтобы заработать денег. Только была одна надежда — пойти служить и через два года спокойно устроиться на работу. На шее у родителей сидеть не хотелось, да и не позволяла совесть.
И вот наступили долгожданные проводы. Как я уже писал, сидел я на таблетках, периодически сгоняя температуру. Приехали родственники из другого города, пришли друзья. Семеро из них уже отслужили. Двое отслуживших воевали в Чечне и, к счастью, остались живы. У меня на проводах играли культовые песни: «Зимняя вишня» Анжелики Варум и «Тучи» «Иванушек». Пели мы и песни под гитару:
Мама, не ругай меня, я пьяный. Я сегодня пил и буду пить, Потому что завтра утром ранним Забирают в армию служить. И не будет там со мною ласки, И не будет всех твоих забот, Старшина создаст свои порядки, а «старик» салагой назовет. И не будет там моей девчонки. Мама, ведь она не будет ждать… Отчего же мне не плакать, мама Милая, родная моя мать?..Эта песня уже не один раз была мною спета в подъездах, на улицах. Но только сейчас от этой песни душа у меня разрывалась, так как она была именно к месту, на моих проводах в армию.
Было много тостов, и ребята давали советы, как себя вести со старослужащими и в первую очередь не опуститься до стирки носков. Все деньги, которые собрали на проводах, надо потратить до того, как привезут в часть, а одежду гражданскую надо изодрать, чтобы в части она была никому не нужна и ее не сняли старослужащие. Советов было много, я прислушивался к ним и делал свои выводы.
Весу во мне был 68 килограммов при росте 1 метр 82 сантиметра, телосложение худощавое. Амбиций по службе у меня было много. Я уже решил, что хочу стать сержантом и быть командиром — командовать личным составом.
На проводах в глубине души я ощущал себя самым несчастным человеком и считал последние часы до расставания с родным домом, с мамой и другими близкими родственниками. Успокаивало только то, что многие отслужили и я как-нибудь отслужу — ведь я не хуже других, а два года в сапогах не смертельно.
Наступало утро. В шесть часов начали собираться в военкомат. Все разговаривали очень тихо — такое бывает на похоронах. Я надел старые брюки «прощай молодость», свой старый пуховик, очень теплый, драные зимние ботинки, свитер «бойз», весь в затяжках, который когда-то, года четыре назад, был модным, Мама собрала в вещевой мешок еду, и, осмотревшись в последний раз по сторонам, я проглотил две таблетки аспирина и вышел на улицу.
На улице было темно и холодно. Слышались вдалеке песни пьяных людей. Кого-то тоже провожали в военкомат. Чтобы не было слишком грустно, мы с друзьями обнялись и до военкомата шли с песнями. Все ребята, кроме меня, были пьяны, мне же в эту ночь водка в горло не лезла. Может, поэтому я так чувствительно ощутил свои проводы. Надо было, конечно, надраться до беспамятства, как сделали это другие призывники, и почти не заметил бы расставания с родным домом.
Когда мы подошли к военкомату, то уже шумела большая толпа провожавших. Никогда я столько народу не видел, когда провожал других своих друзей. Я понял, что как только я зайду в помещение военкомата, то больше меня не выпустят попрощаться со своими в целях безопасности, чтобы пьяная молодежь не поломала и не перевернула автобус. Пьяные малолетки — это всегда самые опасные и непредсказуемые люди. Попрощавшись со всеми и пройдя сквозь пьяную толпу, которая оккупировала дверь военкомата, я встретил многих своих знакомых. Они провожали других призывников, прощались и со мной, желали удачи и мне.
Закрыв за мной дверь с внутренней стороны, военный показал, куда я должен пройти. Я увидел в классе несколько военных и сидящих за партами призывников, к которым и присоединился. После поверки всех нас проводили через черный ход и направили к автобусу. За забором шумели провожавшие. Было темно, и я не различал ни лиц, ни голосов, только поднял руку, сжав кулак. Несколько человек умудрились перелезть через забор и попрощаться — уже в последний раз.
Я, усевшись в автобус и упершись лбом в стекло, стал тупо смотреть в окно. Все другие призывники, усевшись, тоже стали смотреть в окна. Автобус тронулся. Как только ворота открылись, толпа ринулась долбить по автобусу, но через несколько секунд автобус оторвался от пьяных молодых людей, которые готовы были разнести в щепки наше транспортное средство.
Проезжая по своему городу, я мысленно прощался с ним на долгие два года. «Но, может, повезет и в отпуске побываю через годик…» — подумывал я, хотя, конечно, гарантий отпускных мне никто не давал. Когда выехали за город, на меня нахлынули слезы. Я уже точно осознал, что назад дороги нет — только через два года — и внутренне начал себя настраивать на службу.
Автобус ехал на призывной пункт в город Железнодорожный. Туда приезжали разные покупатели военных частей, которые и забирали призывников в разные военные части нашей страны. Пока играло вино в молодом организме, некоторым призывникам в автобусе было весело. Но мне, как и многим другим, было не до веселья. На лице каждого можно было прочесть, что творится у человека внутри. Я, чтобы как-то разрядить эту напряженную обстановку, крикнул: «Скоро дембель!» Ребята вместе со мной посмеялись.
Приехав на призывной пункт, мы вышли из автобуса, и повели нас в помещение для отдыха, где мы должны были находиться все время, пока за нами не приедут «покупатели». Мы заняли места на топчанах. Кому-то достался мягкий, а кому-то не повезло, и пришлось спать на твердом, практически на досках.
Едва мы заняли свои места, нас вызвали на построение, чтобы пройти медосмотр. Пока мы ждали медосмотра, к нам постоянно приставали солдаты, служившие на этом призывном пункте. Они просили денег, мотивируя, что все равно отберут, когда приедем в часть. Кто-то отдавал. Я уже сдружился с несколькими ребятами, с которыми приехал, хотя с половиной из них был знаком еще на «гражданке». Вместе мы ходили в столовую, так как поодиночке к нам все время приставали служившие на призывном пункте.
После медосмотра мы втроем пошли в туалет. К нам уже присматривались двое военнослужащих на призывном пункте и пытались нас заставить убирать туалет. Отказавшись, мы получили по паре оплеух, но заставить нас им не удалось. Когда мы вышли из туалета, солдат потащил нас в комнату, сказав, что надо сфотографироваться на память. Я сразу отрезал, что фотографироваться мы не будем, так как знал, какие деньги они дерут за эти фото, присылая их на родину, а нашим родителям ничего не остается, как заплатить за них. Я решил поберечь деньги своей мамы и посоветовал сделать это другим. Тогда нас начали силой заставлять входить в кабинет. Я не помню как, но под каким-то предлогом я смог улизнуть от этих провокаторов. Фотографироваться в военной форме за большую сумму перед флагом я не хотел. Не те были времена чтобы раскидываться деньгами. Я помнил, как мама, когда фото моего брата пришло по почте, скрипя зубами их покупала.
Целых три дня мы торчали на призывном пункте и ждали, когда за нами кто-нибудь приедет. Наконец на третий день, вечером, нас вызвали на построение и назвали семьдесят человек, в том числе и меня, по фамилии. Капитан, который приехал за нами, почему-то внушал доверие. Он и сказал нам, что мы попадаем во внутренние войска МВД РФ в город Пятигорск. Многие, в том числе и я, не представляли, где этот город находится, и никто из нас не расстроился: хотелось побыстрее уехать с этого призывного пункта, тем более что срок службы еще не начал свой отсчет. Моих земляков со мной оказалось двенадцать человек. Нас было большинство. Остальные пятьдесят восемь человек были из Москвы и разных подмосковных городов.
Через несколько часов мы уже сидели в автомобиле «Урал» и направлялись на вокзал. Поезд «Москва — Минеральные Воды» отправлялся около часа ночи. Приехав на вокзал, мы разбрелись по магазинам закупать водку. Чтобы капитан ничего не заподозрил, мы выливали из бутылок минеральную воду и заливали туда спиртное. За эти два часа мы затарились по полной. Когда пришло время отправки, нас построили на вокзале и по фамилиям проверили. Трех человек не оказалось — успели сбежать. Немного расстроившись, капитан повел нас на поезд. Мы все, егорьевские пацаны, устроились рядом, чтобы быть вместе. Поезд тронулся, и мы начали доставать свои заначки. Капитан сказал, что можно выпить, так как понимал, что мы все равно будем пить, но предупредил, чтобы через тридцать шесть часов, когда мы приедем, все были трезвые, иначе у нас будут проблемы, которые он нам «устроит».
У нас из Егорьевска оказалась самая веселая компания. Два парня были просто юморные, и они скрашивали тоску по дому. Всю ночь мы в поезде пили водку и пели песню «Скоро дембель» Николая Расторгуева и группы «Любэ», хотя дембеля не было даже в мыслях видно.
Поезд остановился на остановке, и напротив нас стоял другой поезд. В другом поезде гуляла веселая компания. Они нам крикнули: «Эй, духи, мы дембеля и едем ваших девок трахать!» А мы им в ответ: «Мы ваших уже оттрахали!» Было смешно и весело, но, конечно, каждый был в себе, и мы таким способом друг друга подбадривали. Я окликнул своего земляка, с кем учился в техникуме, — Павла, с углового места: «Вставай, давай выпьем!» Но он вежливо отказался и опять ушел в себя.
Мне не хотелось заморачиваться мыслями о доме, и я себя всеми силами настраивал на хорошее настроение. Хорошо подвыпив, мы начали друг другу обещать, что будем «один за всех и все за одного». Если наших, егорьевских, будут бить, то сразу заступаемся за него и бьемся, с кем бы не пришлось драться, и, обнявшись вшестером, пообещали это друг другу. Были из Егорьевска и слабохарактерные ребята, которые не могли за себя постоять, и они как-то от нас отделились. Я для себя сбивал костяк из тех, которые показались нормальными мужиками и могли постоять за себя. Уже в поезде мне казалось, что мы, шесть-семь егорьевских призывников, подняли свой авторитет.
Не помню, как к нам подошел солдат срочной службы. Он возвращался из отпуска обратно в Чечню и много чего рассказывал, как он воевал, но из-за большого количества спиртного я ничего не запомнил.
Пришла ко мне только пьяная мысль, что надо солдату собрать денег, и побрел просить денег у призывников. Собирая деньги, я всем говорил, что они нам там не понадобятся, и деньги у нас старослужащие отберут, а солдату, которому еще полгода трубить, пригодятся больше. Собралась приличная сумма, и я от всех ребят, ехавших служить, отдал ему деньги.
Всю ночь и целый следующий день мы пили с перерывами на небольшой сон. Днем наш провожатый капитан еще раз предупредил, чтобы к следующему утру были все как огурцы. Мы ему дали обещание закончить пить вечером, и уже легли на вторую ночь спать. Утром нас ждал приезд в Минеральные Воды.
Проснувшись утром, мой земляк Петруха где-то уже успел надраться и пел песни Михаила Круга. Где он нашел водку, осталось загадкой, так как мы все осушили вечером. Скорее всего, он пил с кем-то в другом вагоне. Наш капитан был просто взбешен и даже его ударил, пригрозив ему сладкой жизнью в воинской части. Петруха лыка не вязал. Таким же его принесли в военкомат друзья после проводов. Нам, землякам, поручили за ним следить.
За час до приезда поезда в Минеральные Воды, как меня учили друзья на проводах, я стал свои шмотки резать лезвием. Рубашку изорвал, свитер и пуховик порезал. Меня друзья предупреждали, что на все хорошие шмотки будут охотиться старослужащие, а в гражданке можно в части проходить еще неделю, поэтому лучше ходить как оборванец, зато в тепле и никто не снимет. Я всем посоветовал это сделать. Кто принял к сведению и поступил моему примеру, а кто пожалел свою одежду. В конечном итоге я оказался прав, но об этом немного позже.
Денег у меня не осталось ни копейки, все потратил и отдал последние солдату, ехавшему дослуживать в Чечню. Никаким старослужащим их не хотелось отдавать, и с пустым карманом стало намного спокойней. Кто-то все-таки спрятал свои деньги, за это поплатились наши призывники, а они оказались для всех крысами.
Прибыл поезд в Минеральные воды, и мы начали выгружаться, взяв на руки Петруху. Мы, земляки, за него начали переживать, что получит он по первое число в части. Построившись на платформе, капитан нас пересчитал. По дороге в поезде больше никто не сбежал. Тогда нам капитан и объявил, что мы едем не в Пятигорск, а в город Моздок, практически на границе с Чечней. О Моздоке я уже слышал в разных сводках по телевидению. Этот город часто упоминался в сводках чеченского конфликта. Да и песню под гитару я такую пел: «На Моздок, на Моздок две вертушки улетают, дембелей у дверей командиры провожают…» и так далее.
Сразу к капитану появилось недоверие. Такой на вид хороший человек, а нас обманул. Но что капитан должен был сделать, рассказать нам, что мы едем в Моздок, и, возможно, через несколько месяцев нас отправят воевать в Чечню? Нас бы тогда не трое из семидесяти человек сбежало, а все семьдесят. Участь такая досталась капитану — обмануть нас, желторотых, необстрелянных ребят.
Юмора уже ни у кого не осталось. «Попали мы, пацаны, в жопу, — сказал я, — которая могла сниться в страшных снах». Капитан нас, конечно, успокаивал, что там чуть ли не курорт, но доверия капитану уже не было. Сели мы в электричку и поехали в город Моздок. Я Смотрел в окно и не видел никакой цивилизации. Только становилось все страшней. Все уже молчали, и сказать было нечего. Коленки дрожали. Несколько часов езды были самыми мучительными. Пронеслось за это время все детство воспоминаний. Сразу я вспомнил я о своей болезни перед проводами, из-за которой я мог взять отсрочку на полгода. Никому бы не позавидовал оказаться в шкуре призывника, ехавшего практически в горячую точку со мной. Военкомат — страна чудес: туда зашел и там исчез.
Через пару часов электричка нас доставила в город Моздок. Петруха, который был в задницу пьяный, за это время немного протрезвел. Нас уже ждали несколько машин «Урал», в которые мы погрузились, и повезли нас в воинскую часть.
Первая шоковая терапия.
Водитель «Урала» сигналит, и солдат нам открывает ворота. Въехав на территорию части, мы стали выпрыгивать из машины. Выпрыгнув, я начал осматриваться по сторонам. Стояли вокруг плаца несколько одноэтажных зданий, которые назывались казармами. В голове у меня было помутнение, как, наверное, и у всех. Мы были в центре внимания у всей части. На нас смотрели и смеялись, показывая пальцем. Нас построили в шеренгу, и какой-то старослужащий солдат или сержант нам крикнул: «Ну чего, духи, вешайтесь. Вы даже еще не духи, а запахи». Запахи — это призывники, которые прибыли в часть, но еще не приняли присягу. Капитан, который нас привез, посчитал и удалился, видимо, на доклад командиру части с нашими документами, и мы остались на плацу на растерзание старослужащим и сержантам.
Кто выбирал себе шмотки получше, кто требовал денег, кто рылся в наших сумках, периодически нас пиная за невнятный ответ. Все самое хорошее у нас забирали — была бесплатная ярмарка. Начинали уже снимать верхнюю одежду. Кто послушал меня и разодрал свою одежду, те остались в теплых шмотках, ну а кто решил по-своему поступить, поплатились за это. В январе месяце в Моздоке хоть и теплее, чем в Москве, но в среднем нулевая температура — это тоже холодно, да и когда призывник оставался в одной рубашке, было совсем не комфортно. Ответственный офицер заявил, что раз сами отдали одежду, ходите и мерзните, пока вам не выдадут форму. Я выглядел одним из самых оборванцев. Пух разлетался с моего пуховика в разные стороны, зато было тепло.
Ответственный офицер, который представился нашим командиром, проводил нас в казарму. Казарма уже была забита толпой солдат. Это были человек семьдесят, тоже из Москвы и Подмосковья, только приехали они на две недели раньше, чем мы.
Ответственный офицер показал наши кровати и объяснил, что на всех кроватей нет, поэтому на двух кроватях должны спать трое человек. Я почему-то оказался на самой крайней верхней кровати при входе в казарму. После нас повели в столовую кормить, выдав котелки. Несколько сержантов повели нас на прием пищи. Я немного стал осваиваться и стал небольшую инициативу брать на себя перед нашим призывом, как учили меня друзья на гражданке. Осмотрев котелок, я никак не мог понять как из него есть, разобравшись только с кружкой и ложкой. Спросив у сержанта на юморной ноте про устройство котелка, я сразу получил этим железным котелком по голове, но объяснить он мне объяснил.
По приходу в столовую нас стали осматривать старослужащие из других рот. Меня подозвал старослужащий. Ему издалека понравились мои светлые штаны, но увидев на них пару больших дырок, он остался недоволен моими брюками. Простояв в очереди и получив свой обеденный паек, я сел за стол и начал разглядывать это дерьмо, которое мне наложили. Первое блюдо я немного похлебал, а второе я долго месил и смотрел на эту кашу, о которой слышал на гражданке от отслуживших своих друзей, как о самом противном блюде, под названием сечка, которым кормят в армии.
Проглотив одну ложку, меня чуть не вырвало в столовой. Удивительно, но половина наших призывников съела эту кашу. Мне было плохо на них смотреть, но, предложив свою порцию, все, кто сидел за моим столом, отказались, но предложенный мною хлеб расхватали. Попив какого-то напитка с неприятным привкусом, скорее всего добавили бром, нас подняли и повели обратно в казарму. Бром добавляли в армии для того, чтобы не было у нас сексуального влечения все два года. После обеда в течении часа из нас делали котлеты, долбили всем, чем можно, трясли деньги, проверяли все карманы и добирали, что осталось у нас еще ценное.
Из наших нашли одного спортсмена, который на гражданке занимался какими-то единоборствами, и устроили спарринг с одним рыжим сержантом, который отслужил всего полгода. Лицо у него было противное и мерзкое, но понтов очень много. Начали они драться. Он поддавался рыжему сержанту, но все равно выиграл этот спарринг, и это оказалось его ошибкой. Другие старослужащие его после очень сильно забили на наших глазах. Такой беспредел я увидел первый раз в своей жизни, но это оказались цветочки, а ягодки были впереди в моей двухгодичной службе. Это шоу не для слабонервных продолжалось до тех пор, пока дневальный, стоявший на тумбочке, не крикнул всех на построение.
Построившись, нас повели проходить еще один медицинский осмотр. По прохождению медицинского осмотра нас, каждого призывника, приписывали в разные учебки. Кого на радиста, кого в разведку, на водителя и, конечно, на сержанта. Сержантом предлагали стать и пройти сержантскую учебку более образованным призывникам, а то есть предпочтение отдавалось в первую очередь, кто окончил техникум. Институтских у нас просто не было.
Самое интересное, что предложили человекам десяти, и все отказывались. Кто ссылался на здоровье, кто еще называл разные причины. Спрашивая у всех отказников, почему отказались, все ссылались на большую ответственность и большой геморрой. Получилось, что из шестидесяти семи человек выбрали двоих — меня и еще одного призывника. Я был горд за себя, что мне предложили, и я не отказался ехать в учебку в Ростовскую область учиться на командира отделения. При прохождении медицинского осмотра при взвешивании во мне оказалось шестьдесят пять килограмм. Три килограмма я уже умудрился потерять — это при росте один метр восемьдесят два сантиметр.
После прохождения и собеседования нас повели на ужин. Поковырявшись опять, я так ничего и не съел. Я уже знал свой срок отправки в учебку. Через шесть дней я уже должен был попрощаться с Моздоком на полгода. После приема пищи мы разбрелись в казарме по своим местам и ждали отбоя.
Наступило десять часов вечера, и после поверки нас положили спать, трех человек на две кровати. Была очень сильная духота. Пахло вонючими портянками и носками.
После отбоя начались телодвижения старослужащих. Сначала нас стали поднимать и рассматривали шмотки, которые они не добрали. Я сразу вспомнил, что под брюками у меня были нормальные спортивные штаны, и я незаметно их стал рвать. Спали мы в своей одежде без одеял и подушек, и накрывался я своим пуховиком.
Подняв меня, старослужащий велел мне показать, что находится у меня под брюками. Увидев красивые спортивные штаны, он обрадовался и сказал снимать. Я, раздвинув ноги, показал ему здоровенную дырищу, которую я сделал несколько минут назад. Так я и остался в своих спортивных штанах. Конечно, было не жалко отдать и ничего не рвать, ведь через какое-то время нас оденут в военную форму, но, отдав штаны, я должен был мерзнуть, что очень не хотелось, а так я был в тепле.
Через некоторое время ко мне подошел еще один старослужащий, и тоже у меня посмотрел что под штанами. Ему понравились мои семейные трусы. И он меня попытался заставить их снять. Я, конечно, все предвидел, но никак не мог подумать, что как-то свяжется с трусами. Без трусов ходить в мои планы не входило, и я понял, что меня сейчас начнут бить, но подумал, если этот старослужащий солдат не брезгует даже трусами, значит, он чмошник.
Я ему говорю: «А тебе не западло будет после меня сраные и ссаные трусы одевать?» После чего он злой, меня толкнув, сказал: «Иди нах… спать». Часа два нас поднимали и забирали последние хорошие вещи. Спать нам не спалось, и жалко было, что все мои земляки спали в глубине казармы. Я спал на самом краю. Кто со мной спали рядом, я их не знал, хотя и ехали вместе.
Старослужащие после сегодняшних наших поборов запаслись водкой, отправив в самоход в город за горючей смесью солдата. Я стал засыпать, но даже не понял, сколько проспал, как начались крики пьяных старослужащих. «Запахи, уроды, вы чего спите?» — и нас начали поднимать по несколько человек, жестоко избивая.
Минут по пять, по десять, по очереди долбили наших с большой жестокостью. Били локтями, ногами, а один старослужащий заставлял раздвигать ноги и по несколько раз бил в паховые органы. Ребята падали, мучаясь от боли, а их лежачих добивали ногами и заставляли вставать, избивая заново. Мне было очень страшно, и я вспомнил про бога, в которого не верил. Накрывшись пуховиком, я начал молиться.
На кладбище ночью на гражданке, когда я убегал от ментов, было цветочками по сравнению с тем, что я пережил в первую ночь своего пребывания в части. Близилась очередь и ко мне, чем ближе от меня поднимали народ, тем становилось все страшнее. Я увидел, что вытащили Павла, учившегося со мной в техникуме. Его тоже стали жестоко избивать. У меня на душе скребли кошки. Заступиться за него этой ночью значило подписать себе смертный приговор. Когда подняли моего соседа по кровати, я уже понял, что мое избиение должно было быть с минуты на минуту, но мои молитвы не прошли даром. Из всех призывников не побили всего несколько человек, в том числе и меня. Меня отправили смотреть к двери, чтобы никакой офицер не успел зайти, пока всех остальных избивали.
Через некоторое время я чуть ли не другом старослужащих стал, которые периодически меня спрашивали, не идет ли кто. Простояв на стреме часа полтора, меня отправили спать. Эта ночь оказалась самой длинной за мою прожитую жизнь. В шесть утра дневальный прокричал: «Рота, подъем!» — и мы, одевшись, вышли на улицу.
Сержант, который, как мне показалось, был одним из самых правильных и, наверное, для всех примером в Российской армии, выгнал нас на зарядку. Таких, как он, я за всю службу встречал не много, которые могли выругаться и дать втык только за дело. А те, которые били нас ночью, чтобы позабавиться и показать, кто в доме хозяин, были полными отморозками. Первая зарядка меня совсем не напрягла, и сержант нас гонял хорошо, а я наблюдал одновременно за своими сослуживцами, как им было тяжело.
В спортивном отношении я многим мог дать фору. После завтрака нам сделали перекур, и мы обсуждали первую ночь, которую нам пришлось пережить. У многих уже были мысли побега из этой беспредельной части, и мы решили, что еще одна такая ночь и подадимся в побег. Единомышленников оказалось очень много. На улице было градуса два тепла. После этой ночи стало больше призывников без одежды, оставшихся в одной рубашке. Были даже оставшиеся без ботинок. Им на время выдали тапочки.
Мне объявили, что завтра мне уже выдадут форму из-за отъезда в учебку. В этот второй день мы были предоставлены сами себе из-за присяги других призывников, приехавших немного раньше нас. Они уже были одеты в военную форму. Мы практически целый день провели в казарме, общаясь между собой. Выводили нас только в туалет и на прием пищи.
Отдав присягу, другие призывники появились в казарме. Присяга ознаменовывалась как праздник для любого призывника, когда должны приезжать родители. Но какие родители поедут в Моздок из Москвы. Дураков родителей, конечно, не оказалось. И принявших присягу старослужащие начали переводить из-запахов в духи. Поочередно каждый снимал штаны, брал полотенце в зубы и получал от старослужащих по голой заднице армейским ремнем три удара, где выгравирована звезда на бляхе. На заднем месте у каждого сияло по три звезды. В тот момент я подумал тоже о своем заднем месте, что через несколько дней мне предстоит это тоже пройти. Ладно, задница все вытерпит, прикинул я.
Днем я как-то быстро осваивался и привыкал к армейским будням, тем более было столько земляков, с которыми мы дружили. Среди своих мы устанавливали уже свои порядки. За всю неделю я так и не взял половую тряпку мыть полы. Я еще не представлял, что я сделал самую большую ошибку, согласившись учиться на сержанта. И последствия моего согласия я буду вымучивать все два года. Моздок оказался самым хорошим воспоминанием в своей службе.
Мой земляк Гарик отпросился в туалет по-большому, который находился на улице. Когда он пришел, то нас он хорошо рассмешил. «Я, — говорит, — снимаю портки и сажусь на очко. Сижу, пыжусь, и заходит какой-то старослужащий. Увидев мои шерстяные носки, надетые на мне, сказал снимать». Гарик говорит: «Сейчас я отосрусь и сниму». Но он не захотел ждать, видимо, боялся, что кто-нибудь зайдет, и носки уйдут. Гарику пришлось, не закончив свой стул, снять ему шерстяные носки. Гарик нам рассказал в казарме свою историю, и мы катались со смеху. Вот так вот в туалеты ходить одному, и останешься без шерстяных носок.
Многих пучило от такой еды, и постоянно кто-нибудь отпрашивался облегчиться. Сержантам надоел проходной двор, и они нас перестали отпускать. Прошел где-то час, и запахло говном. Все начали друг на друга смотреть. Сержант крикнул: «Кто обосрался?» А в ответ тишина. Сержант пригрозил, что всех сейчас заставит снять штаны. Вышел Витек, тоже мой земляк, и признался. Посмеявшись над ним, Витька отправили в туалет. Витя был спокойный парень, и мы с ним даже не разговаривали за все это время, хотя знал я его по школе. Он как-то был сам по себе тихоней, и также по-тихому обделался. Я естественно съерничал и прикололся, что он осрамил наш Егорьевск вместе со своими земляками… Но, конечно, в его шкуре мог оказаться каждый, в том числе и я. Мне тогда это не грозило, так как я ничего не ел, и за неделю в туалет по-большому сходил всего один раз.
Наступал ужин и ожидание ночи. Уже стемнело, и веселья опять поубавилось. Мы размышляли о предстоящей ночи. Нас старослужащие озадачили на деньги. Пригрозили, что если не найдем, то будем вешаться всю ночь. Я у всех переспросил по поводу денег, ни у кого ли не осталось в закромах. Никто не дал, ссылаясь на то, что отдали в первый день последние. Я шуткой сказал, что надо прятаться под кровать и спать там. Мне, конечно, прятаться было некуда, так как я спал на верхнем ярусе и с краю. Наступил отбой. Так как денег мы не достали, начали старослужащие поднимать, но уже выборочно. Избивали не так уже жестоко, как в первую ночь, видимо, были не настолько пьяные, но заставили сушить крокодила — это руками опираешься на одну дужку кровати, а ногами за другую и висишь. Не могу вспомнить, сколько мы висели, но первая ночь была более незабываемой и беспредельной. Деньги в конечном итоге нашлись, кто-то не выдержал и отдал, получив за это несколько ударов по телу. Эта ночь оказалась более спокойной по сравнению с первой, и даже мне удалось немного поспать. Многих пробирал сильный кашель, в том числе и меня, который сдерживать было невыносимо трудно. Пригрозили нам, что кто кашлянет, тот получит по морде. Я уткнулся в пуховик и как мог сдерживал себя. Тех, кто не мог сдержаться, поднимали и били. Так прошла вторая ночь моей службы. Несколько солдат залезли под кровать, испугавшись после первой ночи.
На следующий день нас заставили убирать снег на плацу. На некоторых было жалко смотреть, зимой в одной рубашке они таскали глыбы снега. Одному из сослуживцев я отдал свой драный свитер, так как у меня оставался еще пуховик с рубашкой. Кто-то колол дрова, не помню зачем. Один из наших призывников захотел отрубить себе палец, якобы случайно, чтобы комиссовали, и не служить дальше. Видимо, от большого испуга он не смог ударить топором и перерубить его полностью. Получилось, что он отрубил себе самый кончик пальца на половину ногтя. Сразу начался переполох, все забегали и засуетились. Парня отправили в санчасть, а нас через несколько минут построили. Ответственный офицер нас жестко начал критиковать, что этот призывник, который рубанул палец, не домой поедет комиссованный, а грозит ему статья за членовредительство. Кто захочет попробовать этот эксперимент, то сразу поедет на нары, предупредил командир.
Начали мы дальше убирать плац от снега. Я немного сачковал и глыбы таскал через раз. Ответственный офицер меня сразу приметил и сказал: «Да ты, я смотрю, работать не любишь. Когда приедешь из учебки, получишь сержанта, тогда и будешь командовать, а сейчас работай». Его слова до меня опять не дошли, и пришлось делать вид, что работаю. Если делаешь вид, что работаешь, не забывай потеть — это армейская пословица.
После обеда и мытья котелков, мы какое-то время сидели в казарме до распоряжений командиров. Я подошел к сержанту, руки у меня были в карманах, и спросил: «Слушай, а можно письмо домой сейчас написать?» Сказано это было на гражданском языке. Рыжий сержант, ударив меня ногой поруке, которая была в кармане, прокричал: «Можно Машку за ляжку!» — и ударил еще ногой по шее. Немного отойдя от ударов, я про себя подумал, что лучше ничего не спрашивать, пока не научусь по уставу подходить с вопросами. Я сел на кровать и переваривал случившееся, когда увидел в нескольких пролетах, что старослужащий бьет моего земляка Петруху. Я сразу вспомнил о нашем уговоре «один за всех и все за одного» среди своих земляков, когда мы были героями, выпивая водку в поезде. Все смотрели это зрелище и молчали. Пересилив страх, я подошел и сказал, чтобы не трогали моего земляка. После чего Петруху оставили в покое и переключились на меня. Несколько старослужащих начали меня бить. «Ты душара поганая, ты чего о себе возомнил?» — кричал один, нанося мне удар в грудь. Как мне было обидно, что земляки это видели, и никто слова не сказал в мою защиту. Присев на кровать, у меня потекли слезы, что никаких друзей здесь и быть не может и каждый сам за себя. Кто никуда не лезет, меньше наживает себе проблем. Я сдержал свое слово, которое сказал в поезде, другие не сдержали.
В голове я начал все переваривать, что земляки — это не есть хорошо, и надо выживать поодиночке в первые месяцы своей службы. Ребята потом отмазывались, что если заступились бы за меня, было всем еще хуже, и, наверное, они были правы, но за слова, сказанные в поезде, их никто не тянул. Как-то, может, не придал этому значение, и не посчитал это всерьез. Но что говорить о службе в армии, когда я за свою прожитую жизнь не нашел ни одного товарища, про которого сказал бы, что с ним я пошел бы в разведку. Сущность, видимо, человеческая такова — жить ради своей выгоды. И меня это всегда коробило с детства.
Близился вечер третьего дня. На вечерней поверке не оказалось одного нашего призывника. Он сбежал из части. Весь вечер вся часть с командирами стояли на ушах. Напрягали старослужащих и сержантов, что призывники могут убежать только из-за дедовщины. Третья ночь оказалась самой спокойной из-за побега призывника. Уже ночью мы были под контролем офицеров и контрактников, которые нас караулили. Ввели усиленный режим, и наконец я выспался этой ночью, если, конечно, можно назвать сном, когда спишь втроем на двух кроватях.
Следующим днем меня должны были одеть в военную форму. После завтрака меня с одним призывником, которых приписали в сержантскую учебку, повели на склад, и наконец я скинул свою гражданскую одежду, и надел военную форму. Ответственный офицер приказал рыжему сержанту помочь мне с пришиванием шевронов на форму. Дали на все два часа, так как вечером я должен был принимать присягу. Я начал уже подумывать о своей заднице, которой была уготована участь получить три раза солдатской пряжкой. Шить мне сержант, как надо, показал, но делал я это очень медленно, и ему пришлось за меня пришивать. Все призывники просто не верили своим глазам, что сержант пришивает мне шевроны на форму. И теперь я был укомплектован по полной, чем я был сильно горд, так как выделялся из своей толпы. Все призывники меня разглядывали. Шинель моя была очень не удобная. Кто ее придумал, не знаю, но зимой в ней холодно и некомфортно. Мозоли на ногах я уже натер за несколько часов из-за неумения наматывать портянки.
Вечером меня вызвали к командиру части принимать присягу. Присягу я принимал не по уставу. В кабинете у командира части я прочитал свою клятву, и меня поздравили с официальным вступлением в вооруженные силы на два года. Шагая в казарму, я настраивал себя на прописку старослужащими из запаха в духа. По приходу в казарму я заметил, что на меня из старослужащих никто не обращает внимание. Я забился в угол и рассказывал своим землякам, как прошла присяга. Мне очень сильно повезло, и я был рад, что моя задница оказалась не тронута. Оставалось мне переночевать в Моздоке две ночи, и ждала меня сержантская учебка.
В предпоследнюю ночь я перебрался спать к своим землякам. Освободилось одно место, так как одного земляка отправили в санчасть из-за высокой температуры. Постепенно я стал привыкать к армейской пище, и уже хлеб не отдавал, употребляя его сам, пытаясь впихнуть с ним и кашу.
Предпоследняя ночь оказалась тоже спокойной, и служба казалась уже не такой и ужасной для нас, молодых. В предпоследний день мы убирали плац от снега, и ответственный офицер уже меня назначил старшим. Служба начала идти на позитивной ноте, и уже заработав небольшой авторитет, я был этим очень доволен.
Последнюю ночь тоже пришлось пережить нелегко. Двое пьяных старослужащих трясли деньги на выпивку. Как ни странно, но после проверок зубных паст нашлось несколько купюр. Сколько мы страдали в первые дни из-за этих денег. Я спрашивал у всех ребят, есть ли у кого деньги и зачем нам нужны эти бессонные беспредельные ночи. Ко всем лично подходил и говорил, что деньги здесь нам, молодым, не дадут потратить. Отношение к призывникам, у которых нашли деньги, изменилось, и все их считали крысами. Столько получать от старослужащих из-за кого-то, кто спрятал деньги, и конечный итог, что деньги нашлись, а мы огребали после найденных денег по полной. Старослужащие после найденных денег немного успокоились и послали гонца за водкой в самоволку, но ночь моя последняя еще только начиналась.
Ночью опять началось шоу. Теперь пьяные старослужащие набирали себе во взвод призывников. Подходит старослужащий к кровати: «Эй, запах. Будешь в моем взводе служить? — призывник отвечает от страха, что очень хочет. — Тогда подъем», и начинает его избивать. И так трое старослужащих подходили ко всем. Когда подошли ко мне, то на их вопрос я ответил, что уезжаю в сержантскую учебку. Ударив меня по лицу, мне сказали «отбой». Я оказался первым нетронутым, кому повезло. Мои земляки, лежавшие рядом со мной, поняли, что можно тоже остаться непобитыми, и ответили примерно так же, как и я, оставшись целыми. Избивали всех до тех пор, пока не зашел в казарму офицер, который и спас остальных, до которых еще не дошло дело.
Утром после завтрака всю часть повели в городскую баню. Шли мы по городу строем, и я рассматривал этот город Моздок. Для меня было дико, что в городе я видел одни частные дома. Мне этот город напоминал больше подмосковную деревню. Я задавал вопрос себе, как же здесь живут люди. Раздевшись в бане, нас осматривал врач. На нас, на призывниках, на каждом втором были на теле синяки от побоев. Каждый объяснял, что синяки еще с гражданки остались, и списав на это вранье, нас отпускали. Но когда зашли другие солдаты, принявшие уже присягу, которых на наших глазах прописывали в духи, и у каждого на заднице светились по три звезды, начался допрос с написанием объяснительных. Этих старослужащих командиры грозились посадить, и я даже был доволен, что этим уродам, избивавшим нас, будет наказание. Я уже этого не застал, так как после бани меня вызвали и направили на построение уже с ребятами, которые уезжали в сержантскую учебку.
За пять часов до отъезда, после обеда, нас начали гонять строевой подготовкой. Выяснилось, что из пятидесяти человек я оказался самым заметным, который не умел ходить строевой. А где мне было научиться, когда меня, с кем я приехал, еще не учили ничему, а ребята, которые были в строю, уже по два месяца отслужили, так называемый курс молодого бойца прошли. Мало того, что они строевой умели ходить и ногу тянуть, так они еще уже на стрельбах были и стреляли из автоматов. За два часа строевой, как мне показалось, я уже ходил и не выделялся из толпы.
Перед отъездом нас посадили в свободное помещение с вещевыми мешками, и, сидя на полу, мы ожидали команды офицера. Разговорившись с каким-то солдатом, который рассказывал постоянно про своего отца и брал с него пример, рассказывая мне, как его отец служил. Мы с ним спорили на эту тему, что двадцать пять лет назад было другое время, и с нынешним не может быть никакого сравнения, но он мне твердил обратное. Когда я ему рассказал, что меня не били ремнем, и не переводили в духов, он с возмущением начал кричать, что я вообще еще даже не дух, раз меня не били пряжкой. У нас началась словесная перепалка. «Кто эти порядки придумал, переводить в духи — сами старослужащие для развлечения, а мы должны им подставлять свои задницы», — говорю я. Только он еще больше стал возбужден. Тогда я понял, что цивилизованного разговора у меня с ним не получится, и отсел от него. Только он кричал уже всем, что я чуть ли не враг народа. Мне уже хотелось подойти и врезать ему, но, подумав, я решил себе не создавать проблемы.
Через некоторое время пришел наш командир, старший лейтенант. Он нас построил и, посчитав с сержантами, сразу предупредил, что по приезду в учебку не дай бог кто-нибудь захочет обратно вернуться и не захочет там остаться, тогда его будут ждать большие неприятности. Я почему-то подумал, что хуже части в Моздоке ничего не могло быть, но очень сильно я ошибался, и командир знал, что говорил.
Посадили нас в машины и повезли на станцию. Пересев на поезд, мы двинулись в город Ростов-на-Дону. Ехали мы где-то около суток, может быть, меньше, но добирались долго. Я себя начал плохо чувствовать и даже не успел понять, когда и где я успел заболеть. Состояние было такое, что лишь бы где-нибудь полежать. Помню, что одну партию оставили в учебке Персьяновке, а остальную часть в тридцать человек привезли в город Шахты. Когда мы вышли из электрички, на которую мы сели в Ростове, то командир нам сказал, что несколько километров нам предстоит сделать марш-бросок бегом и пешим шагом. У меня было помутнение в голове. Мне было очень плохо и хотелось упасть прямо на снег. Сил никаких не было бежать и идти. Это был самый тяжелый марш-бросок за мою службу, когда я больной с температурой бежал со всеми в неудобной шинели, и на спине весел вещевой мешок.
В отличие от Моздока, в Ростовской области было очень много снега и холодней на десяток градусов. За некоторое время, которое для меня было вечностью, мы добрались до своего места дислокации. Наступил уже вечер. Было темно. Нам выделили помещение без кроватей, и мы расположились на полу. Питались мы своими недоеденными сухими пайками. В сухом суточном пайке были две банки с кашами, гречневой и перловой, сухари вместо хлеба, чай и сахар. Я подошел к командиру и попросил таблеток от температуры. Через несколько часов он их нашел, за что ему спасибо.
Мне было очень плохо, и как больному человеку самому до себя. Вспоминал я о своей постели дома, жить не хотелось в тот момент, хотелось сдохнуть и не мучиться. Скорее всего, у меня начались последствия, когда я, не долечившись, уехал служить. Эту ночь нам пришлось спать на полу в помещении, в котором нам довелось находиться. Вечером с нами заниматься никто не хотел для расформирования нас по ротам, и из главных командиров уже никого не было. Ждать надо было следующего утра. Хорошо, что наш командир раздобыл где-то спальные мешки.
Эта ночь была самой спокойной за мою неделю службы. В голову лезли разные мысли. Было одиноко без земляков, но утешало лишь одно, что через пять месяцев я должен был вернуться к своим в Моздок. Я даже и не мог подумать, что болезнь моя начавшаяся перевернет всю мою службу наперекосяк, и для меня будет очень серьезным испытанием, где хорошего было очень мало. Я считал, что через пять месяцев, получив сержанта, у меня начнется сладкая жизнь. Если я бы знал будущее свое, что меня ждет за эти два года, то я бы, не задумываясь, совершил суицид над собой, но спасало одно, что с каждым прожитым днем я надеялся на лучшее. С человеческими качествами очень тяжело прожить на службе. Как правило, верховодят в армии отморозки и ублюдки, у которых святого ничего нет, кроме матери на гражданке.
Сержантская учебка.
Наступило утро. Подняли нас вместо шести утра в восьмом часу. Отвели нас в туалет и умыться. Чувствовал я себя неважно и спросил у старшего лейтенанта опять таблеток. После водных процедур нас повели первый раз в столовую. Получив завтрак в котелок, я сел, и от одного вида еды мне становилось еще хуже. Весь мой завтрак вместе с хлебом ушел на драку собаку. Два куска хлеба сидевшие ребята за одним столом разделили на четыре части. Попив чаю, я начал разглядывать столовую. Ели и пили все в шинелях и шапках. Зрелище было ужасающее. Таких столовых я никогда не видел даже по телевизору.
После приема пищи и мытья котелков нас, наконец, повели в казарму. Казарма была двухэтажной, и на каждом этаже располагались мотострелковые роты, в которых мы должны были жить и служить. Нас привели на второй этаж казармы четвертой роты. Когда я зашел в помещение, то я услышал знакомую музыку, играющую на магнитофоне. Сначала пела Татьяна Буланова песню «Напиши». Немного музыка скрашивала одиночество, но услышав песню Анжелики Варум «Зимняя вишня», у меня потекли слезы. Повеяла ностальгия по дому, когда мы с друзьями включали эту песню по несколько раз и обнимались с девчонками.
Чтобы не забраковали в сержантской учебке, надо было пройти физический тест. Подтянуться не менее восьми раз и отжаться не менее двадцати. Я, ослабленный болезнью, осилил восемь раз подтягивания и двадцать раз отжался. После мне задавал капитан, будущий командир роты во время учебки, разные вопросы. Старший лейтенант, который привез нас, хвалил меня при капитане. Что я один из лучших и перспективных, приехавших из Моздока. Капитан меня поздравил с пройденным отбором и сказал, что я могу идти. Со словам «есть», я довольный вышел из комнаты.
Вскоре выяснилось, что взяли всех, кто изъявил желание проходить учебку. Взяли даже тех, кто не мог ни разу подтянуться. Перед приходом в казарму несколько сержантов, служивших здесь, сказали, что дергайте отсюда, и здесь полная задница, которую выдерживают не все, будете здесь вешаться. Двое наших человек устроили истерику, что не хотят здесь служить, и были отправлены обратно в Моздок. Мне тоже не понравилось в части сержантской учебки, но обратного хода уже не было. Как бы на меня тогда посмотрели ребята в Моздоке, когда им старший лейтенант сказал бы, что я расплакался и просился обратно.
После собеседования нас отправили в медицинскую санчасть на прохождение осмотра. Вес во мне уже шестьдесят два килограмма, что на шесть меньше, чем было на гражданке. После осмотра я, попросив таблеток, проводил вместе со всеми время в казарме, подшивая правильно по уставу подворотники и шевроны. В столовой я раздавал свой паек, выпивая чай или компот вместе с таблетками, курсантам. Теперь в учебке мы назывались курсантами.
В первую ночь на новом месте я проспал нормально, проснувшись только от крика дневального «рота, подъем». Быстро одевшись, нас пинками погнали на зарядку. Я бежал практически самый последний, и сил на зарядку никаких не было, едва поспевая за каким-то хроником, который, видимо, на гражданке никогда не занимался спортом. У меня же было много различных дипломов: по бегу, по футболу и разным другим видам. Все свое детство я проводил в различных секциях, пока не научился пить водку. Физкультура для меня была самым любимым предметом, который я никогда не прогуливал. Сержант нам приказал принять упор лежа, и под счет отжиматься: раз, два, три… восемь… двенадцать. Я уже одну заднюю ногу опустил на землю, и сил отжиматься у меня больше не было. Увидев, сержант, что я сачкую, ругаясь матом, ударил меня ногой в грудь. Ногу пришлось приподнять, и, выдавливая последние силы из себя, я продолжал отжиматься дальше. На счет сорок нам приказали встать, и на команду «бегом марш» мы побежали дальше. Для меня эта зарядка должна была показаться ерундой, но с температурой я очень сильно вымучивал эту зарядку.
Прибежав в казарму, мы должны были заправлять кровати, за что я получил несколько раз по лицу из-за неумения ее заправлять. Все уже многое умели в отличие от меня, так как я уже описывал, что призван был последним и не проходил курс молодого бойца. Приходилось всему учиться по ходу и смотреть на других. В первый раз мне один курсант помог застелить кровать. Полосы у одеяла, которые должны быть ровно застелены, у меня получались криво.
После завтрака меня наконец отвели в санчасть, обратив на меня внимание, что мне плохо и я сейчас упаду. Сержанту медсестра сделала замечание, что до какой степени меня надо было довести, заставлять бегать на зарядке при температуре сорок. Это была рекордная температура за всю мою жизнь, и без разговоров меня положили в санчасть.
В палате лежало три человека, и я оказался четвертым. Я сразу лег в койку, и медсестра приказала меня не поднимать ни на какие уборки старшим. Даже не знаю, сколько я проспал, но проснулся я от трех стуков за стеной. Естественно, я даже не понял, кому эти стуки предназначались. Через короткое время были уже удары в стену. В палате я находился один в это время. Уже через несколько секунд в палату вошел разъяренный сержант, хватая меня за одежду и сбрасывая меня с кровати. Он орал: «Ты душараб…, тебе чего не подрывается, — лежачего добивая ногами. — Я тебе устрою райскую жизнь здесь. Ты чего на меня х… забил?» — поднимая меня одной рукой, а другой со всего размаху по моему лицу прошелся ладонью. Я, отлетев на другую кровать, дрожащим голосом отвечаю: «Я… Я, да я просто не знал, и мне никто не объяснил. Я только сегодня сюда прибыл и не знаю ваших законов. Вы мне объясните, и я все буду выполнять». Тут зашел старший палаты, он, как потом выяснилось, был слоном — это отслужившие полгода. Сержант, избив и его, злой ушел к себе в палату. Старший моей палаты, отойдя от шока, стал мне объяснять, что в палате вас, духов, трое, и один молодой после ударов в стену должен быстро подорваться с кровати и бежать в сержантскую палату.
Времени прошло немного, когда послышались опять стуки. Я встал с кровати и пошел в сержантскую палату. Зайдя к нему, я уже получил другую порцию ударов за то, что не постучался и времени прошло от стука в стену до моего прихода секунд двадцать. «Ты, душара, ты на меня опять х… положил, — ударив меня стопой ноги в грудь, и я распластался по двери, съезжая вниз. — Если еще раз ты на меня забьешь, то будешь вешаться, а сейчас взял тряпку и у меня на столе прибрался». Убравшись на его столе, где он жрал, я, уткнувшись в свою подушку, всхлипывал от жалости к себе. Мне было очень обидно, что я оказывался без вины виноватый.
Через какое-то время кто-то прокричал: «Всем на уколы!» Я, поднявшись и отстояв очередь, получил в задницу больной укол, после выпил таблеток и пошел обратно в палату.
После уколов появились еще два духа, которые были на уборке помещения. Опять стук в стену, и через пять секунд один уже был в палате сержанта, выполняя его приказания. Мы договорились, что бегать будем по очереди. Очень напрягало, что этому сержанту каждые-десять пятнадцать минут что-то было нужно. Покой от него был только тогда, когда он спал, и спали спокойно мы.
Начинался в санчасти обед. У меня появился аппетит. После одного укола и выпитых таблеток мне стало лучше.
Вечером после ужина, уколов и вечерней поверки начиналось шоу. К сержанту пришли из роты его друзья, и они распивали водку. Стуки были через каждые пять минут, и каждый третий раз я прибегал быстро в сержантскую палату, выполняя их требование. За один заход я получал по несколько ударов в разные свои места на теле. За несвоевременный ответ или за неправильное выполнение команды издевались сержанты над нами как могли. За стеной было все слышно, кому и за что досталось. Не в мою очередь духа отправили стирать носки, и я перекрестился, что доля выпала не мне, так как стирать пришлось бы отказаться, и неизвестно, что пьяные сержанты со мной сделали. Другой дух носки постирал и остался целым на некоторое время.
Вся ночь прошла у меня бессонная. Ударов в стену уже не было, и сержант храпел. Но от ожидания этих ударов в стену было страшно и не спалось. Тело у меня итак ломило от температуры, и получать удары в несколько раз было больнее, чем здоровому человеку. Всю эту ночь я обдумывал, как служить дальше. Однозначно, что при первой возможности я планировал выписаться из санчасти. Вспомнил я про своего брата, который уже отслужил свои два года, а я у него расспрашивал про службу. Как-то я у него спросил глупый вопрос, сколько ему доставалось по лицу за всю службу. Драться ему приходилось там часто, но он на этот вопрос мне сразу не смог ответить. Тогда я ответил за него: «Ну, раз пятьдесят получал?» Брат немного подумал и сказал, что примерно так. Я тогда думал, что ничего себе, столько вытерпеть, не армия, а полный беспредел, и хуже него я уж не должен был попасть. Он служил тоже не сладко, охраняя зоны, где третья часть из которых были дагестанцы, которым надо отдать должное, что они толпой становятся непобедимы. Друг за друга дерутся до последнего и в конечном итоге устанавливают свои, как правило, неуставные порядки. Наш же русский народ каждый сам за себя. За первый день в санчасти я уже успел отхватить раз сорок по лицу кулаком и несчитанное количество ударов ногами. Перечитываю сейчас эти строки пятилетней давности, и думаю — вот я сказочник, сорок раз по лицу, надо написать поменьше, чтобы поверили. Но начинаю вспоминать это время и понимаю, что я написал по минимуму, так как били чуть ли не каждую минуту. Сержанты били по уму и без видимых синяков, или в челюсть, или в заднюю часть головы, где за волосами синяков не было видно. Тело с головой все болело и ныло. Я себя настраивал на лучшее, что санчасть — это больше исключение, чем правило, и чем быстрее я отсюда выпишусь, тем будет лучше для меня.
На следующее утро после завтрака и медицинских процедур я уже стоял в коридоре вместе с остальными больными и был назначен на мытье полов в коридоре. Палату с больными, зараженными чесоткой, отправили на мытье туалета. У чесоточников туалет был стабильным местом для уборки, но я им завидовал. Их никто не трогал пальцем, и боялись все от них заразиться. На этот день, немного освоив закон духа, я получал в два раза реже, чем в первый день.
Кто летает быстрей мухи? Это доблестные духи!Я постепенно стал осваиваться. Температура держалась около тридцати восьми, но мне хотелось выписаться из этого дурдома к себе в роту. За стеной сержант постоянно напрягал, и вместо отдыха и сна я слышал постоянно удары в стену, а мы с ребятами считали, чья же будет сейчас очередь. На какой-то раз я решил в свою очередь все-таки забить на сержанта, притворившись спящим. Последовали удары в стену, а я не дергаюсь. Курсант, который стирал носки, побежал за меня и получил от сержанта порцию ударов за медленное выполнение команды. Мне это стало надоедать, и бегал я уже через раз. В конце концов, подумал я, кто он для меня, и он даже этот сержант не с моей роты. Через несколько дней я выпишусь и забуду про него окончательно, кто он есть.
Духу, стиравшему его носки, я сказал, ты стирал ему, вот и бегай, а я не буду. Сержанту было безразлично, кто прибежит, лишь бы выполнялись его команды быстро. Но пару раз сержант нам устраивал в палате мордобой, что за мою очередь сначала никто не бегал. После я стал спать спокойно, а за меня бегали другие.
Конечно, голова нормально еще не работала из-за болезни, как работала хорошо в Моздоке, но уже были кое-какие видны сдвиги. Аппетит в столовой у меня был хороший, и я просил добавку, которая перепадала мне через раз. Кроме меня, было еще очень много духов, с которыми приходилось воевать за ложку каши или за золотой кусок хлеба. Температура у меня потихоньку спадала. Видимо, уколы с таблетками хорошо помогали, и я уже считался работоспособным больным. Меня назначали на разные уборки, и в ночь меня поставили в график стоять дневальным на тумбочке у входа в санчасть по два часа с 20:00 до 22:00 и ночью с 02:00 до 04:00 часов.
После ужина я заступил на свой пост стоять на тумбочке у входа и следить, чтобы больные не уходили без разрешения. В это самое время начался проходной двор, только ходили не больные, а разные сержанты, приходившие навещать своих больных. Заходит сержант и мне говорит: «Эй, дневальный, найди мне сержанта Сокола». Я у него спрашиваю: «А в какой он палате лежит?» Сержант, ударив меня локтем в грудь, крикнул, что ему по херу, где он лежит, и мне две минуты его найти, бегом марш.
Я пошел пешком. Сержант мне: «Дневальный, ко мне». Я к нему — последовал удар ногой в почки и удар рукой в грудь. «Я не понял, — кричал сержант, — я сказал «бегом». Тут я уже побежал. Пробежав по коридору метров десять, пока сержант был еще виден, я пошел быстрым шагом к первой палате. Постучавшись в палату, я открыл дверь и спросил, не лежит ли здесь сержант Сокол. Сидели в палате несколько старослужащих за столом, пили чай со сладостями. Остальные были, видимо, духи, лежавшие по своим кроватям. Один старослужащий мне: «Упор лежа принять». Я команду, опешив, сразу не выполнил. Со всего размаху мне последовал удар кулаком в грудь. «Я кому сказал, душара, упор лежа принять», — закричал он. Я упал на руки и под счет начал отжиматься. На счет двадцать старослужащий мне крикнул убежать в ужасе.
Выйдя из палаты и закрыв за собой дверь, я, немного переведя дух, пошел обратно на тумбочку. Через несколько шагов я остановился, вспомнив, что у входа меня ждет сержант с выполненным заданием. Я повернул обратно в сторону палат. Прошло уже минут десять, а я сержанта Сокола еще не нашел.
Остановившись у другой палаты, я решался, как в нее зайти. На мое счастье, из этой палаты вышел дух, и я у него спросил про сержанта Сокола. Получив отрицательный ответ, я побрел к следующей палате. Постучавшись в следующую дверь и спросив, меня послали на х… По коридору прошел ефрейтор, служивший в этой санчасти, который был старшим над нами больными, спросил, что я здесь делаю, когда я должен был стоять на тумбочке. Я ему объяснил ситуацию, и он, на мое счастье, показал палату, где лежал сержант Сокол.
Постучавшись, я открыл дверь и дрожащим голосом из себя выдавил, что сержанта Сокола ждет на входе сержант. У сержанта Сокола фамилия была Соколов, поэтому за кличку я получил удар в челюсть и несколько ударов в лоб кулаком.
Выходя из палаты и прижав руку к губе, облизывая языком кровь, у меня потекли слезы. Я был везде без вины виноватым, как и другие духи. О справедливости никакой речи не шло. Я пошел стоять на свою тумбочку. Сержант, который приказал найти сержанта Сокола, уже зло ждал меня убивать за долгое его нахождение. Получив от него удар ногой в область плеча, на мое счастье, появился сержант Соколов, и они переключились на свой разговор.
Отстояв на тумбочке эти два злосчастных часа, я отправился спать. Все тело зудело от побоев, жить не хотелось, и было себя очень жалко. Я оказывался во всех ситуациях беззащитным, и уснул я в каких-то кошмарах.
В два часа ночи меня разбудили, и я пошел стоять на свой пост, то есть на тумбочку. Эти два часа были спокойными, и все спали, а я даже спокойно написал письмо домой, что все нормально, что приехал из Моздока в сержантскую учебку, и полгода буду находиться здесь. Письма я писал через день, сильно скучая по дому, когда было время. Также я в этот день решил попробовать выписаться из санчасти. Температура у меня еще была, и держалась от тридцати семи до тридцати восьми. Простояв два часа на тумбочке и разбудив сменщика, я пошел досыпать.
В семь часов утра нас разбудили. В санчасти мы вставали на час позже, чем в ротах. После утренних процедур и уборки своих палат, я получил таблетки вместе с градусником.
В присутствии медсестры я мерил температуру. Медсестра следила всегда за этим процессом, были те, кто просто косил и набивал температуру, чтобы не выписывали из санчасти. Я же наоборот засунул градусник в подмышку, запутав его в нательное белье так, чтобы к моему телу он не прикасался. Температуры у меня никакой не показало, и я медсестре сказал, что чувствую себя хорошо и меня можно выписывать.
После завтрака меня отправили на выписку. Я был счастлив, что меня наконец выписывают, хотя чувствовал себя еще неважно, но мне хотелось выбраться из этой санчасти и попасть поскорее в свою роту к своим ребятам, хотя своих там и не было никого.
После выписки за мной пришел мой сержант и повел меня в роту. Пока он меня вел, я получил от него пару оплеух за неправильный ответ по уставу. Я немного улыбался, на что он мне в грубой форме говорил: «Оттащился в санчасти, теперь в роте будешь вешаться».
Поднявшись в роту, я увидел картину, что все духи отжимаются. Ударив меня в область почек, сержант мне крикнул: «Курсант Гоголев, бегом в строй отжиматься». Я побежал в строй и упал в упор лежа. Другой старший сержант, по фамилии Стамин, который нас качал, мне крикнул: «Курсант, ко мне». Я встал и подошел к нему, и он начал меня бить. «Тебе чего, разрешения спрашивать не положено?» — зло говорил он мне. Старший сержант Стамин был худощавого телосложения, но удары у него были больнее, чем у других. Глаза у него были как у монстра, и бил он без жалости. Я ему говорю, что не знал, что надо представляться. Надо мной все начали потешаться, даже духи моего призыва надо мной смеялись.
За эти четыре дня, что я пролежал в санчасти, курсанты моего призыва уже многое изучили и познали, а я был как будто инопланетянин, приземлившись из другого мира. Я ничего не знал, как себя вести, как обращаться, как выполнять команды, я был клоуном, над которым потешались сержанты, и тормозом для своих. Ни от кого я не получил ни малейшей поддержки, чтобы мне кто-нибудь объяснил. Сержанты не хотели мне ничего объяснять, потому что им было весело. Они меня долбили за каждую ерунду. Голова нормально перестала соображать и больное состояние у меня только ухудшилось. Ощущал я только на себе удары сержантов, и больше ничего не понимал.
После обеда у нас начались теоретические занятия. Сидя на стуле, голова кружилась еще сильнее. Я начал осознавать, что из санчасти я выписался рано, и мне очень хотелось лечь куда-нибудь. Глаза закрывались. Приложив руку к голове, я на несколько секунд вырубился, пока не получил сильный удар по голове каким-то предметом. Схватившись за голову, я корчился от боли, а сержант на меня орал нецензурной бранью. После я себя заставлял через силу не вырубиться еще раз. Санчасть мне уже показалась курортом, из которого я по собственной инициативе выписался.
После теоретических занятий всю роту повели на улицу, на бег на три километра. У меня было освобождение на три дня от физических нагрузок, но никто об этом не вспомнил, да и не любили тех, кто отлынивает от физических нагрузок. Я побежал со всеми, и после нескольких метров я почувствовал, что в левом боку у меня заломило. От каждого вздоха я получал сильный укол в левый бок. Схватившись за бок рукой, я, превозмогая боль, бежал одним из последних. Сзади меня, пиная ногами, подгонял сержант. Скрипя зубами, я выдержал этот трехкилометровый бег. Теперь я даже ходить не мог и постоянно держался за бок. Мой призыв, глядя на меня без жалости, говорил, что я косарь и специально симулирую, чтобы отлынивать от занятий. Я в свое оправдание отвечал, что у меня освобождение, а я побежал со всеми. Никого это оправдание не волновало, и каждый внутри себя наверняка это понимал, только виду никто не показывал. У всех была одна политика: я бегаю, и ты бегай вместе со всеми, и не важно, как ты себя чувствуешь. На душе было из-за этого еще хуже, что мало того, что сержанты потешаются, да еще и свой призыв без сожаления относится. Я бы рад был побегать здоровым вместе со всеми и показать, что я бегаю не хуже и даже лучше других, но здоровье мне не позволяло это сделать на данный момент.
Я раньше писал, что со спортивной подготовкой у меня на гражданке было отлично, и что касалось бега, я всегда был одним из лучших. Командир моего отделения сержант Валешин крикнул:
- Курсант Гоголев!
- Я.
- Ко мне.
- Есть.
Я строевым шагом подхожу к нему, прикладывая к голове руку, отвечая, что курсант Гоголев по вашему приказанию прибыл. Сначала он меня пнул за неправильный приклад руки к голове и спрашивает: «Что же ты такой калич, только выписался из санчасти и опять косишь?» Я ему постарался объяснить ситуацию, как я выписался, но он не мог понять, что лежал я с температурой, а держусь за бок и за ребра. Сразу он мне задал вопрос, били ли меня в санчасти. Я молчал. «Чего молчишь, сейчас за второй бок схватишься!» — кричал он мне. Я, подумав, рассказал все как есть, только фамилии сержантов я не назвал, которые и не знал я в принципе. При желании можно было назвать несколько кличек, как сержанта Сокол, из-за которого я получил самые болезненные удары в ребра от сержанта, который мне приказал его найти. Говорил, что не знаю, кто приходил и как его зовут.
После ужина оставалось два часа до отбоя. Как я ждал этого момента, чтобы прилечь к подушке. До отбоя было личное время, и оно предназначалось, чтобы подшить подшиву к кителю. За это время меня сержанты постоянно дергали. Они надо мной прикалывались, и им было весело, что я как будто с луны свалился и никак не мог догнать, что от меня требуется.
Сержантов было девять человек, и наша рота состояла из девяноста человек. В роте три взвода, каждый по тридцать человек. В каждом взводе три сержанта, которые принимали непосредственное участие в нашем воспитании. Во взводе три отделения, каждое по десять человек. Один сержант и девять курсантов. Я был прикреплен к первому взводу, и порядковый номер у меня был двадцать девятый. Один из самых последних. Это мне немного пояснил один из человечных курсантов, который прекрасно видел, за что я получаю. Он немного стал мне помогать.
Этот курсант, по фамилии Вистоусов, и стал моим первым товарищем, с которым я стал общаться. Он вырос в деревне, и первый раз в жизни поехал на поезде, только когда поехал служить в армию. Отношение других курсантов к нему было не особо хорошее. Менталитет чувствовался деревенский, только из большой глубинки. Парень был хорошим человеком, без подлостей, но немного чудноватый для меня. Одна у него была большая слабость, что всегда ему хотелось есть, и ничего он с этим не мог поделать. Кушать, конечно, всем хотелось, но не до такого фанатизма, как ему.
Порядковый номер 29, самый последний, я получил только из-за того, что пролежал в санчасти четыре дня, а остальных оформляли и клеили бирки на кровати, на тумбочки, в КХО (комнате для хранения оружия), и меня занесли последним с этим последним номером, из-за которого я сразу начал сильно страдать. Двадцать девятой кровати практически никогда не было, так как на ней спали ответственные офицеры в канцелярии, и меня клали, где было свободное место, а то есть на чье-то место, кто отсутствовал из-за болезни в санчасти. Инвентарь, который мне прилагался, тоже был весь бракованный. Вещевой мешок был рваным, бронежилет был самым неудобным и тяжелым, каска без ремешков. Короче, досталось мне все самое плохое. Скорее всего, когда инвентарь закрепляли за курсантами, в отсутствии меня, самое хорошее добрали у меня, а все дерьмо досталось мне. Я чувствовал себя ущербным, но, как говорится, кто последний, тот отец.
После вечерней прогулки, которая заключалась в хождении по плацу с песней строевым шагом, и вечерней поверки прозвучала команда «рота, отбой». За несколько секунд все быстро разделись и улеглись по кроватям. Для сержантов это показалось медленно, и несколько раз мы подрывались на команды «подъем», «отбой». На раз пятый от нас отстали. Эта процедура проходила каждый день, и к ней все привыкли.
Наконец все утихло на какое-то время. Очень тяжелый выдался этот день. Я себя корил, что не остался лежать в санчасти. Там хоть уколы делают, и таблетки дают, и никаких физических нагрузок. После проведенного дня в роте я понял, что санчасть была раем, из которого я сбежал. Надо было как-то выживать, а чтобы выжить, надо было сначала вылечиться. И помочь мне могла только санчасть, в которую мне надо было попасть. С этими мыслями я и уснул.
Через пару часов от крика сержанта по фамилии Моляров «взвод, подъем!» пришлось вставать. Другие два взвода спали и, конечно, нам не завидовали. И по службе в учебке нашему взводу всех больше не везло, особенно ночью. Поднимали наш взвод чаще других. Сержант Моляров был в наряде дежурным по роте в этот день, и ему, видимо, было скучно. Подняв нас, первое, что он сделал — приложился своим кулаком каждому по очереди в грудь. Мне досталось за один проход по шеренге три раза. После его размаха кулака, как бы я себя не заставлял, мои руки пытались защититься блоком. Сержанту это очень не нравилось, и он кричал мне: «Руки свои оборви!» На третий раз я согнулся, и он от меня отстал. Всем крикнул: «Упор лежа принять!» — и мы упали. Часа два мы отжимались, а я периодически падал на пол. Руки меня не держали, и в боку ломило. Сержант крикнул мне: «Курсант Гоголев, встать. Раз ты не можешь отжиматься, тогда считай, чтобы другие отжимались». Я стоял и не знал, что делать. Сержант сказал, что пока я не буду считать, то все будут стоять на руках в упоре лежа до самого утра. Я начал соображать, что здесь какой-то подвох. Курсанты, изнемогая, кричали мне, чтобы я считал. Я подумал, что здесь ничего такого нет, да и ребят надо было выручать, и начал считать. Один из курсантов крикнул мне, что я козел, и я начал понимать, что я на провокациях сделал большую ошибку, когда начал считать.
Я никогда ни от кого не слышал, что это последнее дело — качать свой призыв. Ребята сами кричали, чтобы я считал, и я хотел выручить их, но получилось, что я подставил самого себя, не подозревая об этом. Я опять упал в упор лежа вместе со всеми и сказал, что не буду считать. Сержант, подняв меня, начал бить и заставлять меня качать своих. Я уже ни в какую не соглашался. Это клеймо на мне висело всю учебку. Половина ребят прекрасно понимала всю ситуацию, что это была подстава, а остальные, кто хотел меня уколоть, считали меня козлом и чмошником, а сами по службе доказывали, что этот мой прокол — цветочки по сравнению с их поступками. Тяжело мне тогда было ориентироваться в полуобморочном состоянии. И если мне в тот момент дали петлю и сказали повеситься, то я бы не задумываясь, сделал это.
После отжиманий и морального моего унижения, сил у меня ни осталось никаких. После команды «отбой» в три часа ночи я сразу вырубился. В шесть утра дневальный прокричал: «Рота, подъем!»- и быстро одевшись в форму, мы выбежали на зарядку. На зарядке мои мучения продолжались, и после завтрака старший сержант Стамин соизволил сказать медсестре, чтобы она меня проверила и пришла в роту. Температура на градуснике показала за тридцать восемь градусов, и медсестра повела меня в санчасть. Я прекрасно понимал, что это мое спасение, и лечь в кровать для меня было большим счастьем.
Санчасть разрасталась, и больных было все больше и больше. Сержант, который долбил в стену, и мы бегали по стукам, уже был выписан, и в этот раз меня положили в палату, где лежал другой сержант. Он лежал с ногой, и никого устрашения по виду не производил. Мне уже было все равно. Уж лучше лежать в кровати и получать по морде, чем получать в роте и выполнять физические нагрузки в больном состоянии.
За один день в роте я получил столько отрицательных эмоций, что в роту уже мне не хотелось. Наплевать мне уже было на звание сержанта и на должность командира отделения, которая давалась после окончания учебки, если сдаешь все нормативы. За восемь дней, которые я провел в санчасти, увидел много чего. Кто косил под дурака, выходил в коридор и кричал на весь стационар с лезвием в руке, что вскроет вены. Его связали и отвезли в психоневрологический диспансер на проверку. Через пару месяцев он уедет домой. Дуракам не место служить в армии. Несколько человек на моих глазах жрали хлорку, чтобы получить язву и комиссоваться. Про них я так ничего не узнал. Я держался, как мог, и настраивал себя на позитивный лад. Здоровье дороже.
Я, наконец, узнал сладкий вкус черного хлеба, который выкидывал на гражданке. В кровати под одеялом я ел этот хлеб с таким удовольствием, который затарил после обеда.
Казалось, что я шел на поправку, но в одно прекрасное утро после завтрака на построении на уборку у меня в боку так заломило, что я по стенке сполз вниз и, упав на пол, корчась от боли, просил позвать медсестру. Добрые ребята высказали свое мнение, что я кошу и хочу отлынить от уборки территории санчасти. И только я один, лежа на полу, понимал, что могу здесь подохнуть. Дышать я нормально не мог, и от каждого малейшего вздоха мне становилось все хуже.
Медсестра сделала мне укол и отправила в кровать. Полежав пару часов, мне стало немного полегчало. Еду мне приносили уже в палату. Главный врач после прослушивания выписал направление в госпиталь.
На следующий день меня и еще несколько человек на автобусе повезли в военный госпиталь. Ехали мы около часа, и я вспоминал гражданку, мечтал о том, как я покупаю большую партию сладких рулетов, и я их ем. За час езды на автобусе я в бреду мечтал о сладкой жизни.
Приехав в госпиталь, медсестра ушла договариваться о нашем обследовании. Нас человек шесть стояло возле автобуса.
Меня подозвал какой-то парень и повел в баню. Я, наивный, ничего не подозревая, пошел с ним. Когда я зашел в баню, то меня ждали еще трое. Один говорит: «Снимай берцы и одевай другие». Теперь я понял, для чего я им оказался нужен. Я пошел в отказ, и меня начали бить. Я измазал раздевалку бани в крови, а они все от меня не отставали. Поняв, что я не сниму берцы, меня стали держать трое человек, а четвертый снимал с моих ног силой. Сняв берцы, они мне подсунули старые, которые были на размер меньше. Большой палец ноги очень сильно болел из-за маленького размера ботинок. Умывшись в бане, я вышел из нее шатаясь. Шатало меня в разные стороны после очередных побоев.
Вышел откуда-то сержант, которого взяли на обследование в госпиталь вместе со мной из санчасти. Он уже был одет в сапоги. Было непривычно видеть сержанта в сапогах. Он молчал, и было понятно, что с него тоже сняли берцы. Я у него спросил про его берцы, но вразумительного ответа не получил. Только было видно, что лицо у него было нетронутым в отличие от моего. Этот сержант, который лежал в моей палате и пальцы гнул перед молодыми, отдал кому-то свои берцы, как последний лох. В сапогах на него было смешно смотреть. Я воевал за свои берцы, будучи духом, а сержант, который отслужил год, отдал их без проблем, на которого мы смотрели с высока, и в палате заставлял нас отжиматься, периодически пиная.
Сержант, посмотрев на мои убогие берцы, предложил мне поменять на свои сапоги. Сапоги у него были новые в отличие от моих ботинок. И потом, у нас ребята в роте больше половины были в сапогах, и из Моздока я приехал в сапогах, только вот я не понял, что мой сержант Валешин принес перед отправкой в госпиталь мою форму, а вместо сапог берцы — видимо, перепутал.
Я не задумываясь поменялся с сержантом. Отдал ему берцы и надел сапоги. Сержант эти берцы еле надел. Размер ноги у него был таким, как у меня. «Обратно в часть приеду и сменяю их на другие», — оправдывался он.
После обследования мы ждали результаты снимков флюорографии. Через некоторое время произнесли две фамилии из шести, которых оставляли в госпитале. Одна названная фамилия была моей. Как я понял, у меня нашли воспаление легких. Меня повели на склад сдавать свою форму. Пока я стоял и ждал своей очереди сдать форму, ко мне подошел сержант, который, скорее всего, служил в этом госпитале: «Пойдем поговорим», — и зовет меня в туалет. В туалете он меня стал заставлять отдать ему мою форму, показывая, какая у него хорошая форма взамен моей. «Она мне просто маленькая», — говорил он. После моих отказов он меня начал долбить кулаком в грудь. Я понимал, что еще несколько ударов, и я просто не выдержу. Меня всего колотило, было не до того, и хотелось упасть в кровать. Я, посмотрев на форму, которая мне показалась не такой плохой и была не рваной, решил поменяться, лишь бы больше меня никто не трогал.
За эту форму я буду таких наказаний получать, что я и подумать не мог на данный момент, что я сделал. Самое интересное, что куда на это все смотрели офицеры, ответственные за нас, за молодых. Избили и сняли берцы в бане, и на складе рядом со мной никого не оказалось. Сдав поменянную форму на склад, и кладовщик все прекрасно видел, а может, и в доле был с этим сержантом, выдавая мне больничное белье, который после отвел меня в кабинет к медсестре, которая и проводила меня в палату.
В палате лежало пять духов и старослужащий, солдат, отслуживший год. Он был очень здоровым и большим, в грубой форме спросив меня: «Ты откуда взялся, дух?» Нас, молодых, было отличить очень легко, и все мы были зашуганные и потерянные. Я ему ответил, что прибыл из сержантской учебки. Он мне: «Будешь меня здесь слушаться, и я здесь старший». «Как надоели эти старшие, которые устанавливают свои порядки», — подумал я и ответил: «Я вижу, что вы старший». Старослужащий мне:
- Иди сюда, ты, урод, еще будешь так отвечать, сгною тебя здесь, — ударив кулаком по моему лицу.
Ты меня понял? — кричал он.
- Понял.
- А теперь убежал в ужасе.
Так гостеприимно меня приняли в палату. Медсестра меня вызвала в кабинет. При взвешивании во мне оказалось пятьдесят семь килограмм. За три недели я умудрился сбросить одиннадцать килограмм при росте один метр восемьдесят два сантиметра. Были одни кости. Пролежав в палате два дня, чувствовать я стал себя еще хуже. При взвешивании во мне оказалось уже пятьдесят пять килограмм. За два дня я еще потерял два килограмма. По лестнице я спускался, держась за перила, и кружилась сильно голова. В какой-то момент я упал и потерял сознание. Не знаю, как быстро меня откачали, но в сознание я пришел уже у себя в палате, когда медсестра вставляла иголку в вену. Два раза в день мне делали капельницу.
Аппетит у меня был очень хороший, есть хотелось постоянно. Из-за недобора веса мне выписывали полуторные порции. Питались мы не в столовой, а приносили нам пищу в палату. Полуторной порции мне не доставалось. Старослужащий забирал ее себе, а я ел одинаковую со всеми. На очередном медосмотре при взвешивании я весил пятьдесят три килограмма. В день я скидывал по килограмму. Медсестра дала мне яблоко и две конфеты и наказала кушать у нее в кабинете. Я съел яблоко вместе с огрызком и две конфетины. Отправившись в палату, я шел и думал, что какая хорошая и добрая медсестра. Наверное, в то время я производил впечатление жалостливого человека.
Пять дней я лежал под капельницей. Шесть раз в сутки мне делали уколы: четыре в задницу, два в руку. Лежа под капельницей, я вспомнил о своей круглой дате, 9 февраля — ровно месяц, как я служу в армии. После капельниц я стал себя чувствовать лучше.
Появлялись другие старослужащие в других палатах, и становилось в палате жить несладко, всех нас, молодых, долбили. Один старослужащий делал себе какой-то альбом, может быть, и дембельский, и я предложил ему свои услуги, переписывать разные сленги. Вроде как при деле и никто не трогает.
Через десять дней меня переводят в центральный госпиталь из-за улучшения самочувствия. В огромном помещении уже лежало порядка ста человек, и много из них было старослужащих с разными болезнями. Нас контролировали солдаты срочной службы. Лежать и спать здесь можно было не так часто. Все было по расписанию. Подъем, уборка, прием пищи, уколы. Все свободное время мы занимались уборкой. Также трое старослужащих по несколько раз в день выстраивали нас, молодых, и долбили в грудь. За одно построение попадало кулаком раз пятнадцать. Грудь опухала, и с каждым ударом в одно и то же место боль становилась невыносимая. После очередного избиения я не выдержал и сказал, что у меня вся грудь синяя, и бейте куда хотите, только не в грудь.
От такой наглости старослужащий опешил.
Ты чего, дух, совсем оборзел? Придумывай теперь себе сам наказание, — грозил мне старослужащий.
- Я умею петь под гитару много песен, — говорил я.
- Это что, наказание? Хотя ты нам пригодишься, пойдем, — и повел он меня к своим кроватям.
Я пошел к их кроватям, гитары не было, и пришлось петь без гитары. Песен пел много разных. Было непривычно петь без инструмента, но ничего поделать было нельзя. Каждый день я для них пел песни. Меня освобождали от уборки, и самое главное, что меня больше никто не трогал. Я был уже любимчиком для старослужащих.
Петь песни мне доставляло удовольствие. Попоешь полчасика и к себе в кровать, когда все убираются. Плохо было одно, что всегда хотелось кушать. Кормили в госпитале очень хорошо, но было очень мало. Из полуторщиков меня убрали. Скинуть надо было еще килограмма два-три. Здесь своих хроников хватало, и немало. Из-за того, что очень хотелось есть, я пытался пробиться в наряд по столовой. В наряд по столовой ходили более здоровые ребята, у которых закончился курс лечения с уколами. У меня этот курс заканчивался, сидеть я уже не мог от этих уколов. Все уколы больные, и за сутки по шесть уколов, через каждые четыре часа, которые принимала моя задница вместе с рукой.
После двадцатидневного курса с уколами я попросился в наряд по столовой и сказал, что чувствую себя хорошо, но температура у меня периодически поднималась. Старослужащие этим были недовольны, так как им нравились мои песни, и петь было некому. Но мой голод превышал желание старослужащих, и столовая для меня была главной целью. 21 февраля я должен буду заступить в наряд по столовой. А в сегодняшний день, 20 февраля, мне исполнялось девятнадцать лет.
Как ни парадоксально, но меня в этот день за какой-то залет отправили убирать туалет и еще толчки скрести лезвием (по армейскому жаргону говорилось «очки скрести»). Старослужащие за меня заступаться не стали из-за якобы предательства, ухода в наряд по столовой. Нам, троим молодым, выдали по лезвию. Двое молодых начали убирать и скрести, а я стоял и ничего не делал. Увидев мое безделье, солдат, служивший в этом госпитале, меня начал бить. «Ты чего, душара, совсем страх потерял? Я тебе сказал, бегом очки драить», — кричал солдат. Я ему сказал, что делать мне это западло, и вообще у меня сегодня день рождения. Сильно бить он меня, видимо, побоялся из-за моей болезни и, отпустив остальных, мне говорит: «Через десять минут я прихожу, и они должны блестеть». Я остался один с туалетом. Прошло минут двадцать, и я самовольно ушел из туалета, ничего не сделав.
Примерно через час он меня разыскал, а я ему тупо говорю: «Я все сделал, а вас долго не было, и я ушел, подумав, что вы про меня забыли». «Я там сейчас был, и порядка хорошего не видел», — ударив меня в грудь, солдат потащил меня обратно в туалет. На мое счастье, дневальный крикнул на построение, и он от меня отстал.
На следующий день рано утром я пошел в наряд по столовой. Лежать в кровати и спать я стал меньше из-за работы в столовой. Рано утром вставал и поздно вечером после отбоя приходил. Никакая работа не была сложной, лишь бы быть всегда сытым. Закидывал я в желудок все подряд, и потом меня сильно мучила изжога. В день с чаем я съедал по десять-двадцать кусков хлеба с маслом и сыром.
Чувствовались у меня улучшения на поправку в организме. Постоянно какие то старослужащие меня напрягали, чтобы я им сделал пожрать. Мне это сделать было не в напряг, ради наряда по столовой и чтобы не быть голодным.
На 23 февраля, в день Российской армии, всем выдали праздничный обед: шоколад, печенье и сок. Шоколад в наряде по столовой у нас, молодых, сразу забрали старослужащие, но печенья с соком нам обломилось очень много. Целый день я пихал это печенье в себя, запивая соком. Небольшой праздник для меня почувствовался за все дни, которые я прослужил.
Целую неделю я ходил в наряд по столовой, несмотря на свое нехорошее иногда самочувствие. Поздно вечером после наряда мы приходили и мерили температуру. В первый день, померив, меня отстранили от наряда из-за высокой температуры, но я у медсестры выпросился. Последующие дни я начал филонить с температурой, чтобы постоянно быть в столовой, и плохо держать градусник.
И в самый последний день февраля после липовой померки температуры мне сказали, что завтра меня выписывают. Когда-то это должно было произойти, но не хотелось об этом даже думать. Я был по своему состоянию еще больной, но, видимо, липовая мерка температуры только ускорила мою выписку.
На следующее утро я пришел сам к медсестре и сказал, что мое состояние ухудшилось. После мерки температуры, которая была около тридцати восьми, медсестра мне сказала, что документы уже готовы и ничего нельзя сделать. «Будешь долечиваться в санчасти у себя», — сказала она мне, и меня отправили переодеваться на вещевой склад.
Надев свою форму и осмотрев себя в зеркало, я наконец смог нормально оценить, что за дерьмо на мне надето, начиная осознавать, что я сделал. Если берцы с меня сняли силой, то форму, по сути, я отдал свою сам. Хоть и была у меня сейчас температура, но чувствовал я себя лучше, чем тогда. Все-таки целый месяц я провел в госпитале, и под капельницей я пять дней лежал, и сотню уколов мне сделали. В этой форме я себя чувствовал лохом. Мне в ней было даже противно находиться. Обижаться я только мог на себя. Надо было все сделать, но ее не отдать, даже если и находился я практически в предсмертном состоянии, все-таки надо было подумать о будущем. И почему она мне показалась хорошей, когда на нее без слез не взглянешь, размышлял я сейчас в здравом рассудке, и не мог найти ответа.
В часть мы уже добирались своим ходом с медсестрой нашей части. Медсестра, конечно, увидела, что я в старой форме, но разбираться ей видимо не хотелось. Со мной еще выписались два человека. С одного сняли ремень, другой был без шапки. Каждого понемногу раздели.
Был ясный день, солнышко немного припекало. Уже наступила весна. Мы стояли на остановке и ждали рейсового автобуса. Настроение было дерьмовое. Очень не хотелось ехать в свою сержантскую учебку. Одно успокаивало, что я еще буду лежать долечиваться в санчасти.
Приехав в санчасть, я понял, что меня там не собираются оставлять. Я им: «Да у меня температура тридцать семь и шесть». «Как же тебя в госпитале лечили, — недоумевая, спрашивал меня врач, — но ничего, у тебя четырнадцать дней освобождения от физических нагрузок». «Пока на пару дней я выпишу тебе постельный режим, полежишь в роте», — успокаивала меня уже медсестра. Я прекрасно понимал, что в роте мне лежать никто не даст, но делать было нечего.
За мной пришел сержант моего отделения. По национальности он был башкир. Увидев меня, он первым делом спросил, где моя форма. Я молчал. Ему врач сказал, чтобы два дня я лежал в постели.
Когда мы вышли из санчасти мне сразу он задал жесткий вопрос: «Ты, урод, ты куда форму дел? Я тебе дам сейчас постельный режим».
Как только пришли мы в роту, на меня все уставились. Мне хотелось сквозь землю провалиться. Башкир меня бил, а другие усмехались. Завели меня в каптерку, и там меня начал бить сержант Стамин. Мало того, что я за форму получил, так он мне еще и портупею (ремень) приписывал, которую он якобы мне тоже давал. «Форму я посеял, но ремень вы мне не давали», — оправдывался я. Долго мне еще пришлось и за ремень огребать.
После больших наказаний и разборок он достал мою бандероль, которую мне мама прислала в честь дня рождения. У меня навернулись слезы. Открыв бандероль, сержант Стамин увидел открытку и спросил: «Чего, день рождения было?» Я кивнул головой. Забрав весь шоколад и шоколадные конфеты, он мне отдал открытку с театральными леденцами. Сунув горсть конфет в карман, я остальной весь пакет раздал ребятам. Сержант Башкир по фамилии Валешин, увидев в каком я состоянии, отправил меня в кровать. Никому это, конечно, не нравилось, ни курсантам, ни сержантам. Все только надо мной потешались.
Рота пошла на ужин, но про меня никто не вспомнил, чтобы мне принести поесть. Только когда пришли, сержант подумал обо мне: «Ну ладно, ничего страшного, до завтра не умрешь». После ужина была репетиция, подъем по боевой тревоге. Лежа в кровати, надо по тревоге встать, на время одеться и вооружиться со всем обмундированием. Меня касалось это тоже. В первый раз я, кроме бронежилета, автомата и вещевого мешка, больше ничего не взял. Старший сержант Стамин подошел ко мне: «Где твоя каска?» — молчу удар мне в челюсть. — Где противогаз? Где масленка? Где мыльно-рыльные принадлежности?» За каждый невзятый предмет я получал сильный удар. На второй раз я взял все, кроме масленки, противогаза и мыльно-рыльных принадлежностей. Старший сержант уже зверел, глаза наливались у него кровью. Он был заместителем командира взвода, в котором я и был. И из-за меня наш взвод был самым последним по показателям. На третий раз я забыл масленку и мыльно-рыльные принадлежности. Старший сержант Стамин зашел в казарму, взял ПР (палка резиновая) и начал меня лупить ей. Конечно, я получал в принципе ни за что. Я должен был догадываться, где лежат мои мыльно-рыльные принадлежности, приехав только из госпиталя, где в комнате для хранения оружия и под какой ячейкой находятся масленка, противогаз. Я в это КХО (комната для хранения оружия) зашел в первый раз, и пойди сразу разбери в суматохе, где что лежит и что именно надо взять. У курсантов на эту тему были занятия, а я лежал в госпитале.
Сержанты опускали меня по разному поводу. Никто нормально мне ничего не хотел объяснить. Когда я подходил к сержантам что-то спросить, надо мной либо смеялись, либо меня били. Сержант Башкир мне говорил, что откуда я такой тормоз взялся. Когда объявили, что первый взвод по боевой тревоге занял третье место, старший сержант Стамин совсем озверел. Первый взвод всегда был первым, а из-за меня он оказался самым последним. Он завел меня в каптерку и начал меня долбить еще сильнее. Последней его каплей оказался удар палкой резиновой мне по голове. Я потерял сознание и упал. Очнулся я практически сразу после нескольких ударов ногами по мне лежачему. Это было зверство. Еще, наверное, несколько ударов, и я бы точно выхватил штык-нож, который висел у него на ремне, и прирезал его. Терять было нечего. Лучше, наверное, было отсидеть, чем так выживать.
Конечно, я бы не сказал, что служба была невыносимой, куда я попал, и я без проблем при других обстоятельствах выдерживал эти бы тяготы, но обстоятельства сложились так, что в ненужный момент я оказался больным и лежал в санчасти и госпитале. Когда все уже были на стрельбах и за полтора месяца в учебке многому научились. Я же еще ничего не знал. Выходя из каптерки шатаясь и проходя мимо своих курсантов в сторону кровати, я услышал много нелестных слов о себе. Я был один в этом мире. Лежа в кровати, я видел, что с другого второго взвода сержанты издевались над пареньком, который не мог на турнике ни разу подтянуться. Он висел, как сосиска, а сержант его побивал легонечко палкой резиновой. Он кричал, что больше не может, но сержант над ним измывался. Мне, конечно, это не грозило, так как подтягиваться я умел. Главная моя задача была побыстрей оклематься и наверстывать упущенное.
Каждый раз, когда сержант командовал взводу упор лежа принять, я вскакивал с кровати и начинал отжиматься вместе со всеми. После десяти отжиманий у меня затруднялось дыхание и ломило в боку, но было улучшение налицо по сравнению с тем, каким я был перед госпиталем.
Следующий день у меня был последний с постельным режимом. На завтрак мне принесли еду в котелке, и я немного подкрепился. Днем все были на занятиях, а я спокойно отдыхал от этого беспредела. Выяснилось, что один курсант с моего взвода сбежал, не выдержав физических нагрузок и неуставных взаимоотношений. В этот день, когда я лежал, его и поймали офицеры и занимались им индивидуально. Он сдавал всех, кто его бил. Через несколько дней его переведут в другую часть.
Когда закончился у меня постельный режим, то мне приходилось заниматься уборкой помещения. От занятий я был освобожден. Как-то, выбежав вместе со всеми на занятия, чтобы обо мне плохо не думали, то меня увидела медсестра и сильно наругала сержантов. Курсанты обзывали меня каличем. Курсант Вистоусов один мне помогал советами, подсказывая, что нужно сделать, чтобы не попасть впросак. Каждое прохождение мимо сержантов у меня было с проблемами. Если девять сержантов не почешут об меня руки, то день для них был прожит зря. В холодную погоду удары по моему телу становились для меня очень болезненными. На обследовании в санчасти я врачу жаловался, что при дыхании у меня ломит в боку. «Это у тебя остаточное явление, и скоро все пройдет», — обещал врач.
Как-то за мою якобы провинность сержант начал меня индивидуально после отбоя качать. В упоре лежа я отжимался долго. После сорока раз мое самочувствие начало ухудшаться, пока я не рухнул на пол, схватившись за бок. Сержант, испугавшись, отправил меня спать. Было очень обидно, что у сержантов не было никакой жалости. Выздороветь было просто нереально в таких условиях.
На следующее утро после команды «рота, подъем!» я решил для себя, что надо косить. Температуры у меня не было, ходить я мог нормально, но от физических нагрузок мое состояние всегда становилось хуже, так как я начинал задыхаться, и от дыхания ломило в боку. Я начал, косить схватившись за бок и делая вид, что я сейчас подохну. Сержант меня повел в санчасть. Мне даже не смогли медсестры поставить диагноз. Все вроде у меня было в норме, но от греха положили меня в санчасть.
На следующий день при осмотре меня врачом из-за каких-то непонятных пятен меня отправили в палату к чесоточникам. В палате противно воняло мазью, которой мазались чесоточники. К этому запаху я быстро привык, и мазаться приходилось со всеми. Здесь был один большой плюс, что в эту палату никто не заходил из старослужащих. Нас никто не трогал. Мы жили сами по себе, и были какими-то отбросами общества. Все боялись заразиться этой болезнью. Уборка у нас была одна — это сортир, но меня это устраивало, и в сортире находилось кому убираться. Наконец я мог вздохнуть нормально и подлечиться. Чесотки, видимо, у меня никакой не было. Ничего не чесалось, но чтобы появлялись красные пятна, я колол иголкой руки и чесал их специально.
С чесоткой лежали в санчасти примерно около недели. Ходишь, воняешь вонючей мазью, и к тебе никто не пристает. Даже принимали пищу мы у себя в палате, чтобы не заразить других. Лежало нас в палате человек шесть, и все молодые курсанты. Разговоры у нас были только о еде. Мы составляли планы, как ночью залезть в столовую санчасти, чтобы украсть хлеба с маслом, и нам это удавалось. Один курсант рассказал нам, как его отправляли сержанты на пряниковый завод за пряниками, который находился в пятиста метрах от части. Уж очень мне захотелось попасть на пряниковый завод и обожраться пряников. Вести должен был человек, который там уже был несколько раз. Он знал, как туда попасть и через какую дырку пролезть. Одна была проблема — как не заметно сбежать из санчасти и не нарваться на патруль. Решили вылезать через окно.
После отбоя, подождав, когда все утихнет, мы вдвоем отправились на движения. Вылезли через окно и поползли по снегу к забору. На белье, выданное в санчасти, была накинута только шинель. В сапоги забивался снег. Патруль гулял в ста метрах от нас. Было немного страшновато, но голод превышал все страхи. Незаметно от патруля мы перелезли через забор и уже оказались за частью, шагая по сугробам в поле. Я слышал свой каждый шаг ивой ветра. Где-то вдалеке лаяли собаки. Пока мы шли, мне лезла дурная мысль убежать, а когда поймают, уже хуже точно не будет, посадят меня на губу, подумывал я. В роте я чувствовал себя отбросом общества. Все на меня смотрели с презрением. А в чем я был виноват, что заболел пневмонией и на полтора месяца выбыл из строя. Ни один сержант по-хорошему мне ничего не объяснил и нормально не показал, как надо себя вести в той или иной ситуации. Сочувствия я тоже ни от кого не дождался. Курсанты на меня все смотрели косясь и ухмыляясь. Каждый раз в мой адрес неслись разные оскорбительные реплики. Свой взвод я тянул по показателям назад. Каждое занятие или мероприятие для меня было впервые, или где-то у меня здоровье не позволяло для физических нагрузок. Об этом я шел и раздумывал, пока не дошли до пряничного завода.
Саша, с кем я пошел на движение, все знал. Подойдя к месту, он начал кидать снежки в окно. Женщина, открыв окно, начала ругаться. Мы ей: «Тетенька, дай покушать». Немного покричав на нас, она раздобрилась и кинула нам в пакете четыре пряника, закрыв окно. Саша, посмотрев на четыре пряника, проворчал: «Блин, тетка жадная попалась, как будто у себя из дома их взяла». Мы решили еще раз кинуть снежком в окно, но, увидев кулак и недовольный крик, поняли, что здесь нам ловить больше нечего. Еще раз посмотрев на пакет с четырьмя еще не остывшими пряниками мы без слов поняли, что их сейчас надо сожрать. Я своих два еще теплых пряника съел с такой жадностью. Хотелось еще. Я готов даже был стоять на коленях и умолять женщину, чтобы она нам дала еще, но ловить было нечего.
Саша предложил по приходу в санчасть сказать, что нам дали всего по одному прянику. Я сразу отмел эту версию. Зачем нервировать народ. Никто к нам не вышел, и ничего нам не дали. Ребята в санчасти ночью нас ждали и мечтали, что мы сейчас принесем большой пакет и наедимся свежих пряников. Мы шли обратно пустые. Принести четыре пряника и разделить на шесть человек был тоже не выход. И потом еще бы ребята думали, что четыре принесли, а десяток сожрали.
Обратно я шел по полю, уже не думая о побеге из части. Сладость во рту еще присутствовала. Будем выживать дальше, а там будет видно. Если будет невыносимо, место, где перелезать через забор, я уже знаю. Обратно, постучав в окно санчасти, нам открыли, и мы перелезли в окно к себе в стационар. Ребята голодными глазами спрашивали, где пряники. Мы, разведя руками, рассказывали басню, придуманную мной. Ложился я в свою кровать уже сладко.
«Красиво жить не запретишь», — сказал дух, стащив у деда пряник.
Утром, как всегда, после завтрака нас направили на уборку сортира. Очки, конечно, я старался не чистить, были и так добровольцы, но пол в туалете мыть все-таки приходилось. Синяки у меня постепенно заживали, и тело приходило в норму. Нас старослужащие боялись трогать, чесоточников, только если пнут ногой один раз, но это было не смертельно.
За окошком все чаще светило солнышко, снега становилось все меньше, и весна вступала в свои владения. Из пяти месяцев, которые я должен был провести в учебке, оставалось два с половиной. Уж как-нибудь выдержу, думал я, лежа на кровати, но, конечно, о звании сержанта я уже даже думать не мог и был уверен, что мне не дадут из-за больших пропусков учений.
На следующий день мой курс лечения чесотки заканчивался. Ребята начали искать повод, чтобы загаситься. У одного получилось, оказался гастрит. Я тоже этим страдал от этой армейской баланды. У меня был жидкий стул, и я решил сдать анализы. Еще на два дня меня задержали в санчасти. Каждый день был очень дорог для меня. Это лишнее сэкономленное здоровье.
Самочувствие мое практически нормализовалось, и чувствовал я себя хорошо, и мозги работали лучше. Я себя настраивал на позитив. Я должен был доказать, что я нормальный пацан, а не какой-то чмошник.
Выписавшись из санчасти, я получил от каждого сержанта по несколько оплеух, высказав мне, какой я калич и как я вообще попал в армию. Каждый курсант, проходя мимо меня, что-то говорил другому, ухмыляясь. Один курсант, по фамилии Целигцев, был мерзким и скользким. Он мне сразу не понравился, еще когда только мы попали в учебку.
- Ну чего мы опять из- за тебя, из-за чмошника, страдать будем.
Я ему в ответ:
- Ты рот свой закрой, сам ты чмошник.
Он не ожидал от меня такой прыти и решил меня ударить, но в ответ получил более сильный удар. Драка не завязалась, так как сержанты дали команду строиться. Первый день мой после санчасти в роте прошел быстро. Ночью меня поднимает сержант Моляров и дает конспекты, чтобы я переписывал. Каждый сержант, каждый день на разводе должен их был показывать командирам, как он подготовился к занятиям для учения курсантов. Я сразу понял, что это бессонные ночи, увидев, как другие вместо сна пишут конспекты по два-три часа, а бонус только один — освобождение от зарядки.
- Товарищ сержант, у меня вообще почерк плохой, я очень плохо пишу, — оправдывался я.
Моляров мне:
- Да и хрен с ним, с почерком, лишь бы было написано. Переписывай здесь, — говорил мне сержант.
Я, включив дурака, в его тетради начал такие буквы писать, что он просто был в шоке от моей писанины и послал меня спать, ударив меня в челюсть. Для меня это было самым хорошим вариантом, и я довольный лег в кровать.
Утром на зарядке я уже мог нормально бегать. Здоровье позволяло, был от болезни небольшой дискомфорт, но меня это уже радовало. На занятиях: на изготовке к бою, надевании ОЗК (общевойсковой защитный комплект), рытье окопов и так далее — я был новичком в отличие от других. Как меня сержант Башкир учил изготовке к бою, я думал, что у меня расколется голова. Каждая неправильная изготовка, и я получал прикладом автомата по голове. Сначала он бил по каске, надетой на мою голову, а потом, взбесившись, долбил уже по моей голове. За одно занятие я получил ударов в челюсть и в голову раз пятьдесят. Так сержант Башкир развлекался.
Каждому сержанту всегда хотелось надо мной приколоться. Шоу, как правило, из меня не получалось. Я просто тормозил в учениях из-за пропусков занятий, но кому-то, как курсанту Степанову, доставалось больше. Его каждый день заставляли висеть на турнике, чтобы он хотя бы раз подтянулся, и долбили палкой резиновой. Он, конечно, плакал и кричал, что больше не может, а сержанты над ним издевались. Тут сержанты вспомнили про меня, раз я весь больной, то, наверное, тоже подтянуться не могу, думали они и позвали на турник. Подтянувшись раз восемь, они поняли, что со мной эти приколы не пройдут.
Курсант Вистоусов постоянно мне подсказывал, как себя вести, что здесь происходило за мое отсутствие. Он был из деревенской глубинки и немного в жизненном быту тормозил. Товарищей у него в роте не нашлось, и в моей сложной ситуации он меня поддержал, за что я ему был благодарен. Он был простым деревенским пареньком, но, бывало, чудил, что нормальный человек не сделает никогда. Он постоянно вынашивал планы, где раздобыть еду, и со мной этими планами делился. Каждый молодой солдат в свои первые полгода ни о чем больше думать не может, как только о еде. Для каждого обед был праздником. Помимо супа или щей, если это можно было так назвать, выдавали три куска хлеба. На завтрак и ужин по два. Курсант Вистоусов мне рассказывал, что на помойках в открытых консервах остаются остатки, которые можно съесть. Меня еда волновала тоже сильно, но по помойкам лазить и жрать всякую тухлятину — это уже было слитком.
На следующий день меня взяли в первый мой наряд по столовой. При первой же возможности я, пока никто не видел, доставал хлеб из кармана, который незаметно запихивал в рот. Наряд по столовой считался самым тяжелым из всех других. С пяти утра и до одиннадцати вечера летаешь без перекуров, выполняя разные указания. В этом наряде был только один плюс, что жрать можно сколько угодно, но одна беда, если будешь часто бегать в туалет, обожравшись, получишь по полной. Все ели и никто не задумывался, что будет потом. После наряда ночью все туалеты заняты. Приходилось или терпеть, или получать от дежурного по роте за обосранный туалет.
После наряда по столовой мы пришли в расположение роты. У меня не оказалось места спать. Мою кровать под двадцать девятым номером периодически забирали в каптерку, и на ней спал ответственный офицер по роте. Как назло, в нашем первом взводе все кровати были заняты. Я всегда ложился на свободную, когда кто-нибудь лежал в санчасти. В этот раз мне не повезло. Чтобы посочувствовать мне и куда-нибудь определить, сержанты надо мной начали глумиться. Я готов был даже спать на полу, лишь бы не чувствовать себя ущербным. Сержанты, конечно же, позволить этого не могли, но целый час они мне подыскивали место. Было одно, и на нем спал местный курсант со второго взвода, который каждые выходные был в увольнении. Он жил по другим распорядкам. Сержанты его не трогали, а он их за это подогревал магарычами. Я прекрасно знал, что если я лягу на его место, то мне не поздоровится. Сержант приказал ложиться на свободную кровать во втором взводе, и мне ничего не оставалось, как лечь. Когда я лег, я уже понял, что сержанты не упустят возможности рассказать блатному курсанту, подстрекая его на очередное мое избиение. И разборки мне стоило ждать к его приходу из увольнения.
Как назло, меня от обжорства после наряда по столовой начало тошнить. Бежать я уже в туалет не мог. Накрывшись под одеялом, я начал думать, куда лучше блевануть. Я только успел убрать простынь от матраса, и у меня все полезло. Держа рот, я сначала пытался запихивать блевотину обратно, но от этой экзекуции у меня пошел еще сильный напор, и я наблевал на матрас. Мне стало страшно от мысли, что если кто узнает, что я сделал на чужой кровати местного курсанта, то от меня точно ничего не останется. Сержанты эту тему так подогреют, что издеваться будут надо мной не один день. Все спали, и я потихонечку перевернул матрас. На мою радость, меня пронесло. Никто про это не узнал, но утром, уже на завтраке, стоя в очереди, местный курсант, подстрекаемый сержантами, несколько раз ударил меня в бок и сказал: «Вешайся». Я попытался оправдаться, но ему это было до одного места.
Как было обидно, что я, как ненужный бомж, каждую ночь ходил, побирался и спрашивал, куда мне лечь. Котелок у меня тоже был без ложки. Зубной щетки у меня тоже не было, чистил зубы через раз, и то рукой. Вещевой мешок был самый рваный. За время болезни из моих вещей все, что можно, вытащили и поменяли. Оставалось, наверное, меня определить возле параши. Отношение ко мне было такое.
Старший сержант Стамин вечером после отбоя меня поднял и сует мне свои носки, чтобы я постирал. «Я не буду стирать, товарищ старший сержант», — говорю я дрожащим голосом. Была небольшая пауза. Я этого сержанта боялся больше всех, да и все его боялись, так как от него можно было ожидать чего угодно. Одного удара палкой резиновой по голове со всего размаху, когда я потерял сознание, хватило, чтобы его ненавидеть. В эту паузу было очень страшно. Секунд через пять он мне приказал разбудить курсанта Степанова, который и пошел стирать носки. За период службы в учебке из девяноста курсантов, человек десять стирали носки этому старшему сержанту, и никто ему не отказал. Отказал ему один я, но, может, кто-то еще, о котором я не знаю. Страх он наводил на всех. Из-за того, что я не стал стирать носки, унижений меньше не стало.
После завтрака, как и обещал мне местный курсант, я получил по полной. Били меня вдвоем, вместе с двадцатипятилетним курсантом, которого тоже никто не трогал из-за его возраста. Он был спортсменом и еще хорошо рисовал. У него очень много было заказов рисовать картины. Ни на зарядке, ни на занятиях я его никогда не видел, и уважали и боялись его все, прозвав художником. Меня поражала жестокость, с какой они меня били ногами и локтями в спину. Как не разлетелся мой позвоночник, я не знаю, но после обеда меня повели в санчасть. Я ходил как вставленный, спина не разгибалась. По приходу в санчасть меня спросили, что у меня со спиной.
- Упал, — говорю.
- Ну, давай посмотрим.
Когда медсестра увидела спину, то ей сразу стало понятно. На спине было много синяков и распухших шишек. Медсестра сразу сказала, что за это статья и она обязана доложить. Тогда я уже медсестру начал уговаривать, что не надо это делать, а спина завтра пройдет. Сержанты меня несколько дней гасили от занятий, и боли на спине в позвоночнике постепенно прошли. Я понял, что из-за раздутых синяков спина у меня и ломила. Позвоночник болел еще недели две, но это было не смертельно.
На днях из госпиталя выписали двух курсантов из нашей роты, и привели их тоже раздетых, в драной форме. Кто из госпиталя ни возвращался, у всех все снимали и воровали. Наших больных курсантов стали отправлять в госпиталь только в плохой форме. Мне удосужилась честь поменяться формой на время пребывания курсанта в госпитале. Мою форму уже никто не снимет с него. Я целый месяц ходил в хорошей форме и уже не отличался от других. Но после того, когда вернулся из госпиталя уважаемый курсант, который показывал себя в роте с лучшей стороны, без формы, то ко мне как казалось стали относится лучше, уже понимая, что из госпиталя все приходят раздетыми. Мне удосужилось быть первым вернувшимся из госпиталя без формы, и других так уже как меня не били и не унижали. Сержанты и курсанты уже понимали, что из госпиталя в хорошей одежде не возвращаются, только за исключением некоторых.
Конечно, я был все еще на последних ролях, и приходилось доказывать, что я не хуже других, но десять человек, поднявшихся с первых дней в учебке, которых уважали, в свой круг ни кого не пускали и при первой же возможности пытались задавить. Если я где-то огрызался, то сразу же получал от нескольких человек. Я понимал, что надо было совершать какой-нибудь подвиг, но возможности совершать его не было. Все эти уважаемые десять человек курсантов тоже прокалывались в разных ситуациях. Они были не лучше меня, кроме троих, которые были хорошими спортсменами. Один на один драться из семи человек со мной, наверное, побаивались, потому что с одним начинается перебранка, влезают сразу еще двое.
На одной из утренних зарядок я случайно задел сержанта из другой роты, проходившего мимо. Он меня сразу вытянул из строя и что-то начал объяснять, схватив меня за китель. Я ему: «Руки свои убери», — уже заведенный. Он почему-то их убрал. Это был мой шанс подраться с сержантом и подняться в глазах других, но подбежал сержант Башкир и стал словесно разбираться сам. Героя из меня не вышло. Но если я ему бы зарядил кулаком поносу, то отношение ко мне увеличилось в разы. Я этого, конечно, хотел, но обстоятельства немного не сложились. Конечно, мне бы было потом плохо, что я поднял руку на сержанта, но это было бы лучше, чем терпеть разные унижения от своих сержантов и курсантов, и относиться ко мне как к отбросу.
Я считал каждый день, когда я отсюда уеду. Мне было безразлично, дадут ли мне звание младшего сержанта или останусь я рядовым. Я просто ненавидел эту часть и всех сержантов. Как-то наш командир роты назначил соревнования по бегу на один километр. И здесь у меня появился шанс доказать, что я не больной калич, который ничего не умеет. Я прекрасно понимал, что если я в классе и в футбольной секции был лучшим бегуном, то я буду одним из лучших и здесь, если позволит здоровье. Надрать курсантов и сержантов для меня дорого стоило в этот момент, и я прибежал первым с большим отрывом. Офицеры и сержанты были в шоке. «Ты же больной калич, как же ты смог прибежать первым?» — недоумевали они.
Здоровье мое улучшалось. Как-то на соревнованиях по кикбоксингу между батальоном всех разбили по парам. На меня сержанты посмотрели на худого и решили вообще не выставлять. Я подошел к сержанту и попросил, чтобы мне нашли тоже пару, и сержанты меня и поставили с высоким на полголовы и здоровым, смеясь, что меня сейчас прибьют. С моим малым весом, а было во мне где-то шестьдесят килограмм. После болезни я так и не мог набрать вес, который был на гражданке, и ел я все подряд с хорошим аппетитом.
На меня повесили бронежилет, весивший килограмма три, и надели шлем на голову и на руки боксерские перчатки. Я почему-то был уверен, что его побью, но при его восьмидесяти килограммах и рослости я ему проиграл. Я чувствовал, что мне мешает этот бронежилет. Он был легким, но моему весу тяжело его было таскать, быстро двигаться и наносить удары. Но проиграл я достойно, всего на три удара он мне больше нанес в бою, который длился две или три минуты. Курсанту, который дрался со мной, сержанты сказали, что он слабак, даже меня побить не смог. Этот курсант еще у двоих смог выиграть. Я болел за него, чтобы он прошел дальше, но четвертый его выбил за выход в полуфинал.
Далее на разных соревнованиях по бегу я уже задницу сильно не рвал, поняв, что смысла в этом никакого нет, и берег силы. С утра до вечера нас гоняли в бронежилетах с оружием. Были также разные соревнования, например, кто первый спустится с горы, оббежав какое-либо препятствие, и заберется на гору, тот больше не бегает и отдыхает, а остальные бегут дальше. Посмотрев на своих противников и понимая, что я могу первым не прибежать в первый раз, а силы потратить, я первые две пробежки, не напрягаясь, бежал, экономя силы, в самом хвосте. А на третьем заходе я прибегал с большим отрывом и отдыхал несколько десятков минут, пока все не закончат.
Практически каждая ночь для нас, курсантов, была наполовину бессонной. Везло только тогда, когда ночевал ответственный офицер, но смотря какой. Если заступал ответственным командир роты, то можно было свои полноценные восемь часов поспать, а так, если пять часов поспал, то уже хорошо. Один раз в неделю наша рота заступала в наряды по полку. Меня, кроме как в столовую, никуда не брали. В столовую ходили, в основном, все отбросы, так как в наряды в патруль, караул, в наряды по КПП отбирали лучших. Остальных бросали в столовую. Но в какой-то раз мне повезло, и меня отправили в наряд на контрольно-пропускной пункт, куда подъезжают родители навестить своих детей.
Нас заступило в наряд трое курсантов вместе с сержантом. Этот день в учебке оказался для меня самым счастливым. Поставил нас сержант на целый день двоих возле шлагбаума. Подъезжающие родители давали нам конфеты, печенье, фрукты. Целый день, стоя на весеннем солнышке, мы поглощали еду с жадностью. Какое это было счастье. Когда мы с курсантом пошли на обед, то умудрились еще съесть по большому котелку обеда. В наряде по столовой были наши и сыпали нам, сколько захотим, но налопаться мы никак не могли. Сытности не было. Облегчив живот в туалете, мы продолжали лопать все подряд в наряде по КПП, что нам давали родители. Как же мне не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Хорошая погода, весеннее солнце, конфеты во рту, и самое главное — никто не бьет. Ну чего еще надо молодому солдату для счастья.
Сдав вечером наряд по приходу в роту, начались серые будни. За два часа до отбоя после наряда меня ни разу не ударили, и когда наконец после вечерней поверки дневальный прокричал «отбой», я, укладываясь в кровать, вспоминал этот прекрасный день и смаковал его, засунув последнюю конфету в рот. В этот закончившийся счастливый день я наконец повел отсчет. Это был первый день за три месяца, проведенных в учебке, не считая болезни в госпитале и санчасти, когда мне ни одного раза не ударили по лицу. Какое это было счастье.
Следующий день уже ничем не отличался от других. Болело всегда что-то: или отбитая рука, или нога, или грудная клетка со спиной. С курсантами я общий язык стал находить попроще, даже с теми, которые себя хорошо зарекомендовали. Один на один, общаясь и объясняя свою ситуацию болезни, как мне казалось, меня понимали, но как только курсант оказывался со своими положенцами, то сразу начинал игнорировать. Каждому объясняя и оправдываясь, что я не конченый урод, а нормальный парень, мне объяснять надоело, и я решил больше никому не доказывать.
Общался я в основном с курсантом Вистоусовым. Постепенно он мне начал надоедать, потому что темы у него были только о жратве. Постоянно у него находили хлеб, затаренный в карманах. Он был готов есть и на помойках, ничем не брезгуя, хотя мы в столовой питались хуже свиней, так как столовой это назвать было очень тяжело.
Как-то у нашего сержанта пропал пакет пряников из тумбочки. Нам и так не сладко жилось, да еще какая-то крыса из наших украл пряники и сожрал. Ночью нас прокачали, отжимаясь часа два, а после поставили нас шеренгой и до подъема мы стояли, не сомкнув глаз. Это какой же надо было быть крысой в нашем взводе, сожрать пряники, когда было ясно, что сержанты такие вещи не прощают, и уже не раз нас лишали приема пищи за разные залеты.
На этот раз мы сначала остались без сна, после утренней зарядки нас лишили завтрака, но когда у курсанта Вистоусова нашли в кармане хлеб, который он не смог удержаться и спрятал на завтраке, то нас лишили обеда. Сутки не жрать и не спать было испытанием для всего взвода. Мне помогала вода, которую я пил, заглушая голод. Может, и ужина у нас тоже бы не было, если на наше счастье не пришел в столовую командир роты. Крысу, съевшую пряники, так никто не нашел, только все показывали друг на друга пальцем. Курсанту Вистоусову, конечно, от всех досталось за обед, но я думаю, что сержанты тогда нашли бы другую причину, запретив нам обедать. Сержант Стамин понимал, что лучшее средство наказать взвод — это наказать приемом пищи. В других взводах сержанты такой жестокостью не пользовались, и мы им завидовали.
В начале апреля началась подготовка курсантов к стажировке. Нас должны были увезти в другую часть, находящуюся в Волгоградской области. Там мы должны были под присмотром других сержантов учиться командовать. Всех отбросов и больных оставляли в учебке. Я каким-то способом попал в список стажировщиков. Может быть, я был такого плохого мнения о себе, замечая только, что происходило вокруг меня, но, видимо, я уже перерос многих, и мне повезло поехать. Другая обстановка мне, конечно, пошла на пользу, если не большое но.
В десятых числах апреля нас, отправляя на стажировку, переодели в летнюю форму одежды. Вместо зимних шапок нам выдали кепки. Кепки доставались всем разные. Они были все новые, но разных форм. Мне досталась одна из лучших кепок, и я был доволен своим головным убором, но я даже не предполагал, что хорошая кепка доставит мне столько проблем. Форма на мне была еще курсанта, который уехал в госпиталь, с которым я поменялся, и я ничем не отличался от остальных. В поезде я чувствовал себя комфортно, и от неуставных взаимоотношений можно было отдохнуть, так как нас контролировало два наших офицера. Я радовался в душе, что мог отдохнуть от сержантской учебки целых десять дней и также от старшего сержанта Стамина, который остался в учебке и захотел быть ответственным в роте.
Приехав в часть Волгоградской области, нас, курсантов, по несколько человек разбросали по разным ротам. Я себя сразу почувствовал по сравнению с учебкой в раю. С сержантами роты и старослужащими я нашел общий язык, и среди своих курсантов я выделялся лучше всех. Я начал чувствовать уверенность в себе. Раздражал меня один курсант по фамилии Целищев, который себя показывал крутым и показывал на меня пальцем, что я чмошник, рассказывая всем, кто его слушал. Я не выдержал и его при всех ударил, предупредил, чтобы он закрыл свой рот. Таких мерзких личностей в армии хотелось убивать, но их, к счастью, от основной массы было единицы.
На второй день у этого мерзкого курсанта Целищева отняли кепку, а на третий день он уже мыл полы, хотя нас в учебке предупреждали, чтобы мы, будущие сержанты, держали свою планку, не позоря сержантскую учебку. За моей хорошей кепкой началась охота. Сначала у меня ее стянули с головы, когда наша рота спускалась по лестнице вниз, а другая рота поднималась. Я успел догнать этого солдата и отнять свою кепку. Ночью я свою форму стал класть под подушку, чтобы не дай бог у меня кто-нибудь что-то утащил. Несколько курсантов у нас лишились кепок и ремней за три дня. Старослужащие воровали и снимали с наших курсантов все хорошее.
Но какая же это была для меня райская часть. Конечно, уродов везде хватает, но столовая с вкусной едой была похожа на столовую в отличие от нашего свинарника в учебке. Кормили очень хорошо. За три с половиной месяца я съел первое яйцо, которое давали здесь по выходным. Учебные занятия здесь были без напрягов. Мне в этой части хотелось остаться совсем. За восемь дней я получил всего три раза по лицу, и это была такая мелочь, когда я в учебке на дню получал в десятки раз больше. Курсанты, которые были со мной прикреплены к роте, все мыли полы, и только я один держался. Когда я им говорил, зачем они это делают, получал ответ, что ничего такого здесь нет плохого, так как мы еще не сержанты. В этом они были правы, но они об меня в учебке вытирали грязь и при любой возможности пытались меня задавить количеством, а сами на деле оказались ничтожными ребятами.
В трудный момент, когда я приехал из госпиталя, не поддержали, а только усмехались надо мной. Только в тот момент на стажировке, когда нам говорили мыть полы, они мыли, а я отказывался. Сержанты на вечерней прогулке мне даже доверяли водить роту строем. Я сразу обнаглел, и под счет «раз, раз, раз, два, три», я крикнул счет. Рота нехотя крикнула «и раз», и повернула голову налево, прижав руки. Я опять подал команду «счет», и опять, вскрикнув «и раз», рота пошла строевым шагом возмущаясь. Не успели они еще от моей наглости отойти, что какой-то салага кричит счет старослужащим и водит строем, как я им подал команду «песню запевай», и рота запела. После сержанты меня поставили в строй и похвалили. Старослужащие меня за это хотели побить, но сержанты за меня заступились, отмазав, что я якобы делал по их просьбе.
Как мне не хотелось отсюда уезжать, но время стажировки летело быстро. Это была настоящая часть со всеми ее недостатками. На общем построении командир части объявил, что этой ночью застрелился солдат в карауле, и идет расследование. Застрелился из-за неуставных взаимоотношений, и уже одного сержанта посадили на губу до выяснения обстоятельств. Как-то я закинул удочку, чтобы остаться в этой части, спросив командира роты, но он мне дал понять, что это невозможно. Сержанты роты тоже просили за меня, чтобы я, толковый курсант, как они посчитали, и будущий сержант, попал к ним в часть и роту. Но в учебке обо мне были другого мнения, и его уже было никак не изменить, только если какими-то немыслимыми подвигами.
Когда сержанты узнали, что мы уже никогда не вернемся в их часть, то в последние два дня отношение к нам, стажировщикам, ухудшилось. В последний день мне даже пришлось мыть полы, только заставил не сержант срочной службы, а офицер, командир взвода. И самое обидное, что в последний день у меня сняли хорошую кепку, за которую я все время воевал. Я спал вместе с ней, клал под подушку, когда шла толпа солдат из других рот, я уже просто снимал кепку и нес ее в руках, чтобы никто ее не сорвал с головы. И как же было обидно, что один из крутых старослужащих, сняв у меня с головы, дал мне взамен другую кепку. Я попытался ее у него отобрать, но от него и еще одного сержанта я получил несколько ударов в челюсть, и кепку они спрятали. Конечно, я был такой не один с поменянной кепкой, и кепка была неплохая в отличие от других наших курсантов, у которых сняли, и была она тоже практически новой, только цвет был хуже, чем у моей.
Сержанты моей учебки, которые должны были за нами, курсантами, следить в этой части, все видели, но проще им было ничего не заметить, чтобы им не досталось, а им доставалось тоже. Можно было, конечно, ее вернуть, подойти к своим офицерам, как сделали несколько наших курсантов, но уже не хватило времени, так как мы собирались обратно в учебку. Этот, конечно, неприятный осадок подпортил мое отношение к части, но я бы все равно не отказался бы там служить, и в свою учебку мне не хотелось. Это были такие мелочи по сравнению с тем, что происходило в учебке.
Когда нас всех собрали на отправление в свою учебку и стали делать осмотр, кто что потерял, то у каждого третьего что-то утащили или сняли, у кого ремень, у кого форму или кепку. Я был со своим несчастьем не одинок, и еще я остался с неплохой дембельской кепкой по сравнению с другими, да и в учебке ко мне отношение было больше как к отбросу, хоть и потихонечку, я начал подниматься, и в десять худших уже не входил.
Ехав в поезде обратно, я все считал дни. Был конец апреля, и оставался всего месяц с небольшим ждать, когда меня заберут обратно в Моздок к своим землякам. По приезду в часть я сразу получил от старшего сержанта Стамина злых и сильных ударов по лицу. Да, было за что, что не смог я уберечь кепку, но ее так просто сорвать с головы. Курсанту Вистоусову повезло, когда у него отняли кепку на стажировке, то он пожаловался на старослужащих, которые забрали у него кепку, и правильно сделал, ведь он их больше ни когда не увидит. Про него даже никто не вспомнил, так как он был в своей кепке.
Служба продолжалась дальше, и избивать меня стали поменьше в несколько раз. По занятиям я подтягивался ко всем, но на стрельбы меня так и не брали, а в начале мая мы должны на полевом выходе, который длился три дня, сдавать сержантские зачеты по нормативам, и кто сдаст на двойку, тому не светило звание младший сержант. Сержанты нас пугали, что поедем или ефрейторами, или рядовыми после этих нормативов за неделю до полевого выхода.
Сержант Стамин избил курсанта Дятлова из моего взвода так, что у него на лице оказался большой синяк. Курсант, не долго думая, когда привели его в кабинет к командиру батальона, рассказал, что его избил старший сержант Стамин. По батальону стали выявлять неуставные взаимоотношения. Нашли еще двух человек с видимыми синяками на руках и груди, но те отмазались, что ударились на занятиях рукопашного боя, который проходил два раза в неделю. После всех курсантов начали вызывать по одному на собеседование по неуставным взаимоотношениям, и еще двух сержантов заложили за избиение.
Началось затишье. За следующую неделю меня из сержантов даже пальцем никто не тронул. Сержанты на меня косились и боялись, что я могу их сдать, потому что надо мной они издевались больше всех, и, наверное, не каждый бы выдержал всех этих издевательств, как издевались надо мной. На всех девять сержантов можно было смело лет по пять накинуть колонии только за меня, не считая, сколько досталось другим. Двух сержантов из другой роты посадили на губу, и как всех пугали, что они будут свой дембель отмечать в дисциплинарном батальоне. Каждый сержант нашей роты начал со мной по-дружески разговаривать, и даже за меня заступаться. Каждый чуял, что может запахнуть жаренным, сдай я всех с потрохами, а в свое время у меня мысли гуляли порезать их всех ночью штык-ножом, но отдать должное, что психологических сил у меня хватило.
В таком аду, в котором я находился месяц после госпиталя, не пожелал бы даже самому заклятому врагу.
До намеченного полевого выхода нас за неделю стали готовить к нормативам. Вырыть окоп в бронежилете удалось только двум крепким курсантам. Все остальные вместе со мной этого сделать не смогли. Мне в первый раз попробовав рыть окоп было очень тяжело, и я понял, что этот норматив мне на зачет на полевом выходе будет не по силам. Копать в лежачем положении с шестнадцатикилограммовым бронежилетом и маленькой саперной лопаткой у меня не получалось. За отведенное время я мог только вырыть треть окопа. Также с первого раза у меня не получалось надеть общевойсковой защитный комплект, так как видел его я в первый раз. Противогаз у меня на отлично надевать стало сразу получаться, а по поводу нормативов по бегу, подтягиванию и отжиманию я не переживал.
С бегом на тысячу метров я стал чувствовать боли в ногах. На гражданке я проблем в ногах никогда не ощущал, а здесь после каждой пробежки я испытывал сильные боли в голенях, после которых порядка тридцати минут я невыносимо мучился, кости ломили, и я ощущал сильный дискомфорт.
Наконец, подошло время начала мая, долгожданного полевого выхода. Нас повезли на какую-то станцию на электричке, где пешком через три километра мы были на месте.
Первым нормативом было рытье окопов. Нас посадили всех уже в вырытые наполовину окопы, но даже с таким окопом времени у меня не хватило, и я получил трояк. За надевание ОЗК (общевойскового защитного комплекта) я получил тоже тройку.
На первый день нас ждали еще стрельбы, за которые я боялся. За все время я еще ни разу не стрелял, и для меня это было испытанием. Но испытание оказалось еще более тяжелым, так как стрелять надо было в противогазах. Когда до меня дошла очередь, то я по команде к бою надел противогаз и побежал на огневой рубеж. Упав на рубеже, я вытащил магазин из подсумка, засунул его в отсек автомата и, сняв с предохранителя, передернул затвор. Я крикнул, что курсант к бою готов, и по команде «огонь» я начал искать свои мишени. Очень тяжело было ориентироваться в противогазе и стрелять двойным выстрелом, да еще и стрелял я в первый раз. Я нажал на курок, прозвучал выстрел, но мишень не упала. Проверяющий мне что-то кричит, а я его не слышу и продолжаю стрелять, не подбивая мишень. Когда у меня кончились патроны, то я крикнул, что стрельбу закончил. После команды проверяющего я встал и занял место в строю. Когда я снял противогаз, сержант Валешин начал мне выговаривать, что я дебил и какого хрена я стрелял одиночными выстрелами. Взвод я на стрельбах подвел, получив самую плохую оценку. Я отстрелял всех хуже, но в отчетной ведомости проверяющий ошибся и поставил мне пятерку. Сразу сержанты про мою стрельбу забыли, так как в ведомости у меня было отлично.
На следующий день я выполнил норматив по надеванию противогаза на отлично, и были еще разные нормативы, которые я преодолевал с переменным успехом.
На третий день мы выдвинулись обратно в часть, ожидая на платформе электричку с припекающим солнцем. Я сидел и мечтал, что осталось все самое сложное позади. Через месяц я уеду в Моздок, придут молодые, и начнется у меня нормальная служба.
Многие курсанты писали заявление, чтобы остаться в учебке, когда получат сержантское звание, и учить новых курсантов, которые должны будут приехать после нашего отбывания по частям. Я не понимал таких курсантов, потому как видел, что у наших сержантов практически свободного времени не было. Или занятия, или наряды, и имели их командиры по полной за каждый залет курсанта. Несладко, я считал, здесь живется сержантам, и сильно заблуждался по этому поводу, думая, что в своей части я сразу буду лежать на кровати и ничего не делать, только командовать. Я даже не мог предположить, что меня ждет полная задница в последующей службе. Если бы я знал, что меня ждет впереди, то, наверное, застрелился или повесился, также не задумываясь.
Последний месяц учебки мы доживали в предвкушении поездки в свою часть. Сдав последние нормативы: подтягивание, бег, отжимание — где я выглядел в десятке лучших, после чего через несколько дней нам должны были присвоить звания — кому младшего сержанта, кому сержанта.
Пятерым лучшим дали звание сержанта, а троих оставили рядовыми. Остальным, в том числе и мне, присвоили звание младшего сержанта. После полевого выхода мне даже объявили благодарность в своем взводе, и для меня, конечно, это было неожиданно. Видимо, мне просто выдали карт — бланш, а может, и правда я сам себя немного загнобил.
Репутация, конечно, у меня плохая осталась, так как уважаемые курсанты меня в свои ряды не желали брать. Со многими мне приходилось бодаться, но как я только начинаю распускать руки, сразу на подмогу к другим подлетали другие. В конечном итоге от меня просто отстали, и я был середничком, к которому уже не приставали.
Когда нам официально присвоили звание, то каждый надел сержантские лычки. У кого были железные, надели железные, у кого не было, нашили полоски в виде веревок. Курсант, с которым я поменялся формой перед уездом в госпиталь, прибыл в расположение роты. В глубине души я надеялся, что ко мне лоховская форма не вернется, но мне ее пришлось одевать обратно. Красовались только на этой форме железные сержантские лычки, которые я купил в магазине на деньги, присланные денежным переводом любимой тетей, которые у меня не отобрали чудом сержанты. Железные лычки были только у каждого пятого, и я старался их не посеять, снимая ночью с кителя и пряча под подушку.
В первую же ночь у нескольких человек украли лычки, и понятно, что это воровали наши, у которых этих лычек не было. Появились через некоторое время железные лычки у Вистоусова, который надел их в последние дни. Где он их стырил, осталось загадкой, и с которого у него при мне снимали силой, а я за него заступался, ведь когда-то он мне в трудную минуту помогал.
Мы, уже новоиспеченные сержанты, начали расслабляться, плохо наводить порядок, и сержанты зверели, так как их натягивали командиры. Доставалось всем подряд. Как-то на занятиях в жару градусов двадцать пять — тридцать по надеванию общевойскового защитного комплекта старший сержант Стамин решил позабавиться, и курсанту Вухлову нассал в противогаз. Именно его противогаз он выбрал, я думаю, потому, что этот курсант периодически стирал ему носки и форму. Этот противогаз старший сержант отдал Вухлову. Сержантам было весело, а нашему взводу было не до веселья. Все молчали и думали, что сделать это могут с каждым.
Ты чего держишь его, придурок, с мочой, — потешались сержанты, — или ты из него хочешь выпить.
Вухлов, дрожа, ответил:
- Нет.
- Ну тогда выливай, — забавлялись сержанты.
Вухлов стал выливать из своего противогаза мочу старшего сержанта Стамина. На это было невозможно смотреть. Тогда сержанты стали забавляться дальше, и нам, стоящим одетыми в ОЗК, который и так на нас уже плавился от жары, поступила от старшего сержанта Стамина команда «газы». Весь наш взвод надел противогазы, а курсант Вухлов по понятным причинам надевать противогаз не стал.
Сержанты ему: «А тебя чего, не касается, пока не оденешь весь взвод будет стоять в противогазах и ОЗК». Такого скотского зверства не ожидал никто. Надевать обосанный противогаз Вухлову или всему взводу стоять на тридцатиградусной жаре в противогазах. Все ребята понимали, что этого делать нельзя и терпели. Один курсант чуть не захлебнулся в противогазе в собственном поту. Сержант Башкир опешил, схватив за дыхательную горловину противогаза и, приподняв, вылил около стакана пота. Стояли мы около двадцати- тридцати минут в резиновом ОЗК и ждали, когда этот беспредел закончится. Сержант Башкир только ходил, усмехаясь, периодически у всех поднимая горловину, выливал пот из противогазов. Это была невыносимая каторга, и такого испытания я хуже не испытывал.
Но на наше счастье пришло спасение. Старший сержант Стамин курсанту Вухлову, ударив по лицу, сказал: «Сука, одевай быстро», — и курсант надел противогаз. Сразу поступила команда снять противогазы. С одной стороны, мы обрадовались, что мы начали дышать свежим воздухом, жадно глотая его. Но с другой стороны, мы все кинулись к курсанту Вухлову, ради которого мы стояли все это время и понимали, что надевать противогаз ему нельзя, но как только его сержант ударил, то он надел, испугавшись, и наплевал на нас, ради чего мы стояли.
Конечно, сержанты были мрази. При всех так опускать человека. Этого старшего сержанта Стамина самого в унитаз опустить с дерьмом и посадить его лет на десять в хату к опущенным.
В последние дни учебки своего пребывания у нас уже учений не было. Мы в основном убирались, что-то ремонтировали, красили и ходили в наряды. Попал я как-то в наряд по охране гауптвахты, куда сажают солдат за разные нарушения дисциплины. Если бы это было возможно, то я хотел бы там просидеть всю свою учебку. Сидишь в камере, никто не бьет, не издевается, отводят на разные работы под охраной, только, конечно, срок службы не идет. Не зря многие говорили, что на зоне отсидеть лучше, чем в армию пойти.
И вот настал тот долгожданный день, когда приехали из Моздока за нами, молодыми сержантами. Я был счастлив, что на следующий день я должен был уехать из этой проклятой учебки, но меня в списках не оказалось. Я подошел к командиру роты и спросил, почему меня не забирают в Моздок, на что он мне, смеясь, ответил. Меня, как хорошего курсанта, они решили оставить в учебке. Я ему сказал, что не хочу здесь оставаться и хочу к своим ребятам в Моздок, а он мне: «Ну тогда в следующем заходе поедешь».
Конечно, я думаю, он мне врал. Видимо, по списку я был двадцать девятым, последним во взводе, и оказался из-за этого ненужным, так как из Моздока приехали за определенным количеством. Как эта болезнь мне всю службу поломала, злился я, но на этом и книгу, наверное, можно было мне заканчивать, и больше было бы нечего писать, так как служба скорее всего шла бы как у всех.
На этот же день меня назначили в наряд на центральное КПП. Это было другое КПП в отличие от того, где я провел в наряде один из лучших своих дней. Но наряд этот считался тоже одним из хороших, так как родители тоже подогревали разными сладостями. Здесь был один большой минус — много убираться, и много ходило разных офицеров.
Со мной попал в наряд Вистоусов. Я как-то с ним в последнее время неохотно общался. Везде он залетал с едой, то хлеб в кармане у него найдут, то еще чего-нибудь. Он часто говорил, что можно украсть, меня подстрекая, и лычки сержантские где-то украл, только в этом не сознавался. Но, как говорится, не пойман — не вор. Докапывались до него все кому не лень, и я периодически за него заступался, как мог, но он всегда ставил себя на посмешище. Короче, простой деревенский парень со своими недостатками, выросший без отца. Меня, в конечном итоге, он тоже стал раздражать. Вистоусов завтра после завтрака должен был отчаливать в Моздок, и наши пути с ним расходились.
Ночью в наряде нам надо было помыть пол, и за водой нам надо было идти на улицу метров сто от КПП. Так как меня сержант Валешин оставил за старшего среди нас двоих, то и за водой пошел с ведром Вистоусов. Минут через пятнадцать он вернулся впопыхах, и в ведре у него вместо воды была солярка. Я так и не понял, как он мог налить солярку в ведро вместо воды. Он мне начал оправдываться, что его кто-то напугал и за ним погнались. На мои вопросы, что на хрена он притащил солярку, ведь она же воняет и отличается от воды, то Вистоусов нес разную ересь. Но когда он мне сказал, какая разница и давай помоем полы соляркой, то он меня убил напрочь.
Не зря говорят — чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона.
Я его посылаю обратно за водой, а он не идет, ссылаясь на то, что уже ходил, и теперь идти моя очередь. От такого дебилизма меня разбирала злость. На мои доводы, что он сходил безрезультатно, он нес ахинею. Мне пришлось его ударить кулаком в грудь, но он на меня полез с кулаками. Я его захватил шею и начал душить. Вистоусов как-то умудрился кулаком зарядить мне в глаз, да так, что у меня появляется синяк под глазом. Я его валю на пол и пытаюсь ему на эмоциях объяснить, что я тебя сейчас размажу об пол, и завтра нас разжалуют из сержантов, и вместо Моздока он поедет вместе со мной на губу.
Этими словами кое-как я его смог успокоить. Только мне его так хотелось размазать за синяк под глазом, который я еще не видел, но здравый смысл во мне сидел, и пришлось мне с этим мириться. Особенно обидно было, что он, получилось, меня побил. Да, он весил килограммов на десять больше меня, но это мне не мешало его повалить, но руки сдержать мне его не удалось.
Обрисовав ему всю ситуацию, что он полный дебил и что ему в первую очередь будет, если кто-то узнает. Вистоусов начал своей головой понимать, что он наделал. Он нашел какую-то железяку и дал мне, чтобы я ее прислонил, а сам пошел за водой второй раз. Мыли мы полы и колдовали над синяком, но он не хотел проходить, и меня, красивого, заметили командиры.
Придумал я басню, что шел из роты менять наряд КПП в два часа ночи, и ко мне подошли двое каких-то солдат, которые пытались с меня снять ремень, но я отбился. Чтобы правдоподобнее было, я сказал, что одеты солдаты были в песочную форму, и сразу все подозрения отмел от своей роты, так как у нас песочной формы не было ни у кого. Меня стали водить по четырем ротам, кто был одет в песочную форму, и, конечно, я не нашел своих обидчиков, так как их не было, и все было вымышленным спектаклем ради того, чтобы не пострадал Вистоусов.
После бестолкового расследования я вернулся в наряд по КПП. Вистоусова в наряде уже не было. Его сняли, так как он уезжал в Моздок, и через пару часов он уже появился на КПП с вещевым мешком в группе отъезжающих. Я был, конечно, на него зол. Вистоусов подошел ко мне, сказав спасибо и что я у него был лучшим другом в роте. Я несколько раз за него словесно заступался, когда у него пытались отнять сержантские железные лычки, и это приносило пользу. Конечно, я не забыл, когда я приехал из госпиталя, и только он меня морально поддерживал, учил и показывал, как заправлять кровать, как подшивать подшиву на форму и кучу разных мелочей, но и также меня убивали его поступки, как жрать на помойках из консервные банок остатки вонючей еды. Мне его было трудно понимать, но никто не был виноват, что солдат всегда хотел есть. Он был добрым в душе, но поделиться куском хлеба или конфеткой для него было тяжело. За эти пять месяцев он в учебке наел такую харю, и ни один кусок он никогда не пропускал. В нарядах по столовой он даже умудрялся по несколько десятков кусков масла съедать без хлеба. Да что говорить, я на гражданке лук не мог переносить, а в армии я его начал есть с удовольствием, чтобы утолить голод.
Я смотрел на отправников в Моздок с грустью. Ведь все мои земляки были в Моздоке. Проводив их глазами и закончив свой наряд по КПП, я день за днем ждал своей участи, куда меня заберут. Сержанты нас уже практически не били и не гоняли на разных занятиях. В основном была только одна уборка и отдых — просмотр телевизора. Приехали покупатели из Владикавказа, и в этот список я тоже не попал. Несколько человек тоже не взяли, призывавшихся во Владикавказ.
Прошло еще три дня, и долгожданные покупатели появились. Я сразу обрадовался, что наконец я уеду из этой гребанной учебки, в которой я нахлебался горя, но когда прозвучал город Махачкала республики Дагестан, то у меня в голове все помутнело, и становилось страшно. Именно туда с Чеченской республикой и таджикско-афганской границей я молил бога не попасть. И тут судьба — Дагестан. На гражданке все мои отслужившие друзья рассказывали, сколько они натерпелись от дагестанцев. Только их было немного у них в части, трое-пятеро. А тут я еду не к пяти, а в несколько раз больше, и еще к ним на родину. Приключения у меня где-то продолжались, а можно сказать, и только начинались.
Махачкала, республика Дагестан.
Приехавший офицер-дагестанец на наши вопросы отвечал, что у них столовая как ресторан. Кормят хорошо, на убой. Купаться будем каждый день в море. И у них из части даже дембеля многие на автомобилях уезжают вместе с видеомагнитофонами. Хотелось задать вопрос, и каким же образом солдат или сержант-срочник может себе машину купить, но решил смолчать. Балабольства было много. Как я в последствии понял, что у многих дагестанцев в крови обещать золотые горы, а потом в кусты. Кто-то, конечно, со мной не согласится, но это мое сугубо личное мнение в отношении большинства дагестанцев. Обещали многие, а единицы делали что говорили.
Начались сборы. Я так понял, что нас, самых лучших в кавычках, кто остался, забирали в курортную зону, где море, горы и постоянная стрельба с терактами и захватами заложников. С нами также еще поехал художник, один из самых взрослых и авторитетных курсантов, который получил звание сержант из четырех человек в роте. С ним у меня уже были проблемы, когда на кровать его друга меня положили спать, и отбили они мне позвоночник, так что я нормально две недели ходить не мог. Он должен был остаться в учебке, но он несколько дней подряд долбил курсанта Стапикова, который его заложил с потрохами командирам. Из-за этого залета его отправляли в Дагестан вместе с нами и вместе с курсантом Стапиковым, на которого он был сильно зол.
На КПП на прощание старший сержант Стамин всем пожелал удачи и пожал руки. У меня был к нему только один негатив, и этого ублюдка мне больше видеть никогда не хотелось. На других сержантов я зла не держал, где у них проявлялась в некоторых ситуациях человечность. Попрощавшись, нас повели к платформе на электричку.
Двое курсантов во время сборов, которые длились два дня, сбежали из учебки, когда узнали, что их ждет Дагестан. Если я знал, что ждало меня за полтора года в Дагестане, то тоже убежал бы, не задумываясь, но шагая пешком и отдаляясь от сержантской учебки, я мысленно прогонял эти мысли, вспоминая свое пятимесячное пребывание, как меня били и издевались. Что могло быть хуже. Одному только богу известно, как я не сломался.
Проходя мимо дальнего КПП, я, естественно, вспомнил, как я один раз нес службу на этом месте, получив в награду самый счастливый день в моей службе. Только с этим местом я мысленно прощался доброжелательно, посмотрев пристально на шлагбаум.
Отдаляясь от учебки, я мысленно переключался на Дагестан. Я слышал про Дагестан по телевизору, что там постоянно взрывают, захватывают в заложники и идет партизанская война. Первая чеченская война закончилась, и российские войска были выведены с территории Чеченской республики. Но республика Дагестан была повышенно опасным субъектом для службы.
Когда мы сели в электричку до Ростова, я немного стал общаться с ребятами, с которыми мы проходили службу. За последние два месяца я смог себя зарекомендовать с хорошей стороны, и уже даже никто не вспомнил, что я когда-то был больным каличем, над которым все потешались. Мне очень было тяжело доказывать, что я не тот, за которого меня принимают, а нормальный парень, который за себя постоять может, и со временем это курсанты поняли.
В электричке я сразу заснул, положив голову на вещевой мешок, который лежал у меня на коленках. Проснулся я от разговора бабушки с сидевшим со мной Сергеем. Бабушка нам дала из корзины клубнику перед выходом на свою станцию. Один противный курсант, который был в первых рядах в учебке из-зависти сказал: «Вы чего, не наедаетесь?» Нам дали, и мы взяли, поделившись с кругом, которым тоже хотелось клубники.
В Ростове мы уже сели в поезд, и там я уже сдружился с нашим авторитетным бывшим курсантом-художником. Оказалось, что и общий интерес с ним нашелся, и было о чем поговорить. Курсант Стапиков косо посматривал на художника, трясясь от страха. Конечно, трястись было от чего. Стапиков даже не подозревал, что, пожаловавшись на художника командиру роты о неуставных взаимоотношениях, художника накажут и вместо службы в учебке отправят в Дагестан. И Стапиков попал в этот же список.
Художник был зол на Стапикова, и уже в поезде ему дал свои вонючие носки с берцами, пригрозив, чтобы он их постирал, а берцы разнашивал, так как у него натирались мозоли. Вы только представьте, что Стапиков, уже будучи младшим сержантом, стирал чужие вонючие носки. Художник, конечно, производил впечатление страшного монстра. Мало того, что он старше всех был на пять-шесть лет и с детства еще занимался боксом.
Конечно, Стапикова можно было осуждать, ну уж можно было синяк списать на какую-нибудь кровать. Художник же его не инвалидом сделал. Когда я попал в учебке под раздачу художника, то у меня две недели ломил позвоночник, и я все, как мог, сгладил, не закладывая художника с местным курсантом в учебке. Конечно, мне было тоже больно и обидно, но я подумал, что мне дальше служить, и репутацию себе портить не хотелось.
В поезде, когда мы сдружились с художником, я, конечно, был на его стороне. Но, по большому счету, он, конечно, унижал и долбил солдат просто ради развлечения, и долбил не по-детски, одной оплеухой никто не отделывался. Избивал и унижал жестоко. Одного курсанта в учебке он засунул в унитаз головой. Очень тяжело с такими людьми было бороться, если только не браться за штык-нож и резать ему горло. В душе его все побаивались, и если он с кем-то дружил, то это было на руку любому. И мне в поезде было тоже на руку с ним дружить. В армии кто сильнее, тот и прав. А художник, мало того, был громилой по сравнению со мной, он и душой был непробиваемый — настоящий лидер. От таких, конечно, страдает очень много народу. У этого зверька с мозгами было туговато. Ведь он долбил со всей силы, не задумываясь, что он может человека сделать инвалидом, за что его могут и посадить. К нашему несчастью, каждый десятый в армии такой ублюдок, который калечит своих сослуживцев без жалости.
В поезде меня с художником поставили старшим отвечать за сухой паек. Многие молодые сержанты спали, а мы долго разговаривали о гражданской жизни с художником. Следующим утром, подъехав к Астрахани, к нам в вагон подсели дембеля-дагестанцы, ехавшие к себе радостные на родину, отслужив два года. По разговорам они были нормальные пацаны, веселые. Это было у меня первое в жизни общение с дагестанскими парнями. Я с ними общался, но в душе сверлило. Ведь много у меня друзей дворовых служило, и никто про дагестанцев хорошим словом не обмолвился. Я себя внутри подбадривал, ведь все люди, и дерьма в любой нации хватает.
Дагестанский народ был горячим и предсказуемым, если будет бить, значит, он это сделает. А наши русские двух-, трехличные. Сегодня он тебе друг, а завтра будет уже враг. Дагестанцы в этом плане молодцы, своих в обиду не дают. Патриотизм у них привит с детства, уважение к родителям, и постоять за себя они могут.
Конечно, смешно смотрелось на гражданке, когда моему знакомому товарищу идти скоро в армию, а за него везде заступалась мама. Дагестанские парни рассказывали, какая у них была медовая служба. Ехали они в гражданской одежде, и они не заморачивались военной парадной формой с аксельбантом. Им это было не нужно. Они накупили на свои дембельские деньги разной модной одежды, какой у них может на родине нет, и чувствовали себя королями.
Приехав в Кизляр и сойдя с поезда, я вступил на Дагестанскую республику. Я уже был наслышан про этот город, что здесь был захват больницы чеченскими боевиками, где погибло много мирных жителей. Осмотрев вокзал по сторонам и приближенные к нему окрестности, я никогда бы не подумал, что это может называться городом. По моим понятиям он смахивал больше на поселок, и ассоциировался он у меня, где постоянно воюют и стреляют. Ничего дружелюбного и мирного в этом городе я не увидел.
За нами приехала машина «Урал», и нас повезли в кизлярскую часть. Приехав в часть, военнослужащие этой части стали нас осматривать и ехидно кидать разные нелицеприятные реплики. Каждый присматривал, чтобы у нас, у молодых сержантов, что-нибудь снять. Я это уже видел в Моздоке. Один в один, те же реплики и угрозы. У художника присмотрели берцы, а у меня и еще у нескольких человек присмотрели железные сержантские лычки. Я снял их и спрятал в карман. В столовой нас покормили обедом. Ели мы под прессом. Военнослужащие этой части постоянно наезжали словесно на нас. В столовую вошел ответственный офицер, который нас вез из учебки, и ему нужно было пятерых сержантов оставить в этой части, предложив по желанию, кто хочет остаться. Первый выявил желание художник, а за ним Сергей, с которым я сдружился еще у себя в роте. Следующих троих пришлось искать. Мне было больно расставаться с Сергеем, да и с художником у нас становились приятельские отношения, но мне очень не хотелось оставаться в Кизляре. Как-то здесь было серо, а в Махачкале Каспийское море, горы. Горы мне в своей жизни еще никогда не удавалось увидеть вживую, да и моря, кроме Балтийского, я больше никакого не видел, и это меня пересиливало. Выбрали после некоторых раздумий еще трех человек, и мы, попрощавшись, сели в машину и поехали в назначенный пункт, столицу республики Дагестан город Махачкалу. Видимо, это моя была еще одна большая ошибка, что я не остался в Кизляре. Часть в Кизляре была небольшая, а так мне приключений на полтора года еще хватило.
По дороге мы заехали в селение. Я так понял, что у водителя «Урала» там жили родители. Нас отпустили искупаться на речку. Осмотрев селение, мне показалось, что я нахожусь на несколько веков назад. Стояли везде убогие хибары. Маленький мальчик лет девяти-десяти с тросточкой пас овец. Речка была одним названием, по ширине метров десять. На жаре и эта речка была хороша. Нас, сержантов молодых, было восемнадцать человек. Каждый теперь был сам по себе. На мои разные приколы двое сержантов борзо отвечали. Я сразу начал понимать, что после того, как художник остался в Кизляре, эти двое прибирали инициативу к своим рукам. У одного было мерзко противное лицо. На каждый разговор он включал быдловатый гонор и намекал словесно, что он здесь самый крутой. Из всех из нас он оставался один сержантом с тремя лычками. Мы же остальные были младшими сержантами с двумя. Он был из другой роты из учебки, и я о нем ничего не знал и не мог знать. Он был очень похож на Шарикова Полиграф Полиграфовича из фильма Булгакова «Собачье сердце». Я его для себя прозвал Полиграфом. Рядом с ним, постоянно ухмыляясь и ему подблевывая, находился младший сержант, который служил вместе с ним в учебке. Я сразу начал понимать, что проблема начала исходить только от них, и решил, что пока не доедем до Махачкалы, с ними больше в контакт не вступать. Мы залезли в машину и стали ждать, когда водитель с нашим проводником выйдут из дома.
Минут через тридцать мы тронулись в пункт назначения. Разговорившись с некоторыми сержантами, как проходила служба в учебке в других ротах, я стал понимать, что в четвертой роте, где я служил, по сравнению с другими ротами была полная задница. В других ротах не били и не гоняли, как нас. По словам других ребят, их били очень редко. Я получал в тысячи раз больше. В день тридцать-пятьдесят раз только по лицу в первый месяц после госпиталя. Челюсть всегда болела, так как били всегда туда, чтобы не заметны были синяки. Я никогда бы никому не поверил, что столько можно было выдержать, как я, а сам пишу эту сказку, которая является былью.
Вместе со мной из роты оставалось семь человек, но с ними дружеских отношений у меня не было. Стапиков, по понятным причинам, стиравший носки художника в поезде, никак не мог быть моим товарищем. По нему было видно, что он немного осмелел, так как художник остался в Кизляре, и больше ему ничего не грозило. Что он носки стирал, кроме меня, больше здесь никто не видел, а я не стал заострять на этом внимание. Исподтишка было не в моих правилах позорить человека, тем более, он мне плохого пока ничего не сделал. Остальные были все сами по себе. Вы меня не трогайте, и я вас тоже трогать не буду — девиз каждого. Разговаривать можно было с каждым на разные темы, но друг пока не высвечивался.
В дороге пока мы ехали, кто дремал, а я все размышлял, гадая, как там в части в Махачкале.
Приехав в часть, я был удивлен, что народу было не так много. Вся часть в основном была на служебно-боевых задачах, на заставе, охраняя республику Дагестан от чеченцев. В ближайшие дни должны будут привозить новобранцев, а мы, новоиспеченные сержанты, будем у них проводить КМБ (курс молодого бойца). Эта новость меня приятно удивила с другой новостью, что местных дагестанцев, проходивших срочную службу, было всего четыре человека. Двое из них приехали из Кизляра помогать проводить КМБ. Офицеры-дагестанцы были очень хорошими людьми и командирами, о которых так и осталось о многих хорошее впечатление, но и уродов хватало, как и во всех национальностях.
Поднявшись на второй этаж в класс, я из окна увидел Каспийское море, находившееся в метрах пятиста. Был красивый вид, и этот пейзаж немного раскрашивал мою службу в красивых тонах. В классе к нам вошли двое старослужащих сержантов-дагестанцев из кизлярской части. Незамысловатыми угрозами они предупредили, что если кто их не послушает, будет вешаться. Капитан нас потом предупредил, который и представился командиром КМБ, что если они кого-нибудь из нас тронут, то сразу поедут обратно в Кизляр с взысканием.
Кормили здесь в части очень хорошо по сравнению с учебкой. А может, мне просто казалось из-за пластиковых тарелок вместо котелков, но хлеб здесь был однозначно вкуснее, правда, черного не давали, и я за всю оставшуюся службу черный хлеб не видел.
В первый отбой двое дагестанцев уже нас приструнили, чтобы никто не храпел, и, спросив, кто умеет делать массаж, на нашу тишину выбрали Стапикова. Дагестанцу понравилось, и Стапиков каждый день после отбоя массажировал спину местному. Из Кизляра, помимо двоих местных, еще привезли двоих старослужащих сержантов из роты разведки. Все они отслужили на полгода больше, чем мы. Ночью начались разные приколы над нами. Первый раз я прочувствовал на себе прикол «велосипед», когда между пальцев ног просовывают кусок газеты и поджигают. Ощущение не из приятных. Я, проснувшись от боли, начал крутить ногами. И когда я понял, что мне подожгли газету между ног, я, сильно возмутившись, встал с кровати, но никого не было. На эмоциях я хотел врезать, кто это сделал. Через несколько минут я понял, что сделал это сержант из разведки, но вся злость у меня прошла, да и лишние проблемы себе наживать не хотелось. В учебке у нас часто делали велосипеды, но мне как-то не доставалось, а теперь я на себе это прочувствовал. Кожа, сожженная между ног, болела еще неделю. Мне пытались сделать велосипед еще не раз, но я уже спал, укутывая ноги в одеяло, и прятал руки, чтобы не сделали прикол, называющийся барабаном, поджигание газеты между пальцами рук.
Во сне я часто вздрагивал, потому что мне постоянно казалось, что со мной еще как-нибудь надругаются. Но после того как на меня вылили спящего ведро воды, то я сам по себе стал спать чутко и на каждый шорох просыпался.
Пока не привезли молодых, мы были сами по себе. Зарядку с нами проводили местные из Кизляра. Внутреннее напряжение чувствовалось, что в каждый момент можно было получить по полной. Когда сидели в курилке и курили краснодарскую «Приму», то откуда-то взялись двое местных, которые служили в этой части и были в увольнении дома. Они подошли к нам, и я понял, что эти местные даги, так мы их называли, были настроены недружелюбно. Было понятно, что кому-то достанется по полной. Младший сержант Дятлов выкинул незатушенную сигарету в урну. В урне ничего, кроме бычков, не было. Но для этих дагестанцев нашелся повод, и Дятлову, ударив по лицу, сказали поднять из урны свой бычок. Дятлов поднял бычок. «А теперь его жри», — пригрозили Дагестанцы. Через три секунды Дятлов засунул бычок в рот и стал его жевать, пока не съел. «Вы чего, уроды, совсем расслабились», — кричал один местный дагестанец. Мы все молчали. Еще несколько наших сержантов получили по удару в челюсть.
«Вы все поняли?» — кричали местные. Чего поняли, так я и не понял, но все кивнули головой, и они от нас отстали и куда-то скрылись. Потом нас оповестили, что эти дагестанцы наводят шорох в этой части. Они здесь блатные из самой Махачкалы и практически не бывают в части. Приходят развлекаться. Я наконец увидел дагестанцев-отморозков, которые вели себя как короли.
Вечером они принесли крутящийся армейский коммутатор. Дагестанцы выстроили нас по кругу и решили над нами приколоться. Двое взялись за провода, а остальные по цепочке взялись за руки, в том числе и я. Дагестанец крутил коммутатор, а нас трясло током. По слухам, кто-то этим дагам бил рожу, но впоследствии эти местные привели толпу в гражданке, и этому военнослужащему мало потом не показалось. Поломали его очень сильно. Управы в принципе на них не находилось, и все радовались, когда их не было в части. Местные офицеры на весь беспредел закрывали глаза. Свой своего не предаст, хоть они и командирам приносили вред, и от них были постоянные проблемы.
За три дня пребывания у меня начались проблемы с Полиграфом, приехавшим с нами из учебки. Он начал себя проявлять как лидер среди нас, молодых сержантов. Кто похитрее из сержантов к нему начали подлизываться, и постепенно он набрал себе хорошую поддержку. Конечно, младший сержант Дятлов уже был внизу, опустив себя этим бычком, вытащив его из урны и сожрав у всех на глазах. Но его как-то слабо волновало, что он подмочил сержантскую репутацию на оставшийся срок службы. Зато он остался не побитым местными в этом провокационном конфликте.
Полиграф меня раздражал очень сильно. С такими скользкими людьми я никак не мог найти общий язык, и он нарывался всегда на конфликт. Если бы он был один, я его бы измочалил с большой злостью. Когда я ему говорил, давай разберемся один на один, то сразу заступался его защитник, служивший с ним в учебке. Этот подблевыш, его защитник, меня не интересовал. Просто когда мы с ним сталкивались один на один, то он всегда молчал, и проблем у меня с ним не было. А этот Полиграф точил на меня зуб, унижая меня словесно, только я не мог понять за что. Я, конечно, защищался, тоже обзывая его, но все было не в мою пользу, так как заступников за моей спиной не было. Он это, конечно, понимал.
Как-то утром в умывальнике, умываясь, Полиграф подошел ко мне и сказал, чтобы я отошел от умывальника и дал ему умыться. Я же ему сказал, чтобы подождал. Когда я, нагнувшись, умывался, то он рукой исподтишка ударил мою голову об железную раковину и крикнул: «Ты чего, не понял?» Я, развернувшись, со всего размаху ударил ему в челюсть и кричу, что я его сейчас прибью. Сразу подбегает за него заступаться заступник и меня толкает в грудь. Я хватаюсь за голову и вижу на руках свою кровь. Из головы у меня кровоточило. Полиграф вытирал кровь со своей губы, грозя, что вечером разберемся. Я ему сказал, что, конечно, разберемся, и начал водой промывать свою голову. Вечером никаких разборок не было, так же, как и ночью, но я настраивался и ждал.
На следующий день приехали первые новобранцы, и дышать стало полегче. Все внимание было приковано к ним. Местные старослужащие начали с них снимать хорошие вещи и трясти на деньги. Первая ночь у новобранцев была кошмарная. Каждому старослужащему хотелось проявить себя во всей красе и показать, какой он крутой. Сразу пошло облегчение по службе. Уже не надо было спорить, кто будет мыть полы. Молодых хватало на всех, да и через каждый день приезжали еще молодые. Я себя уже начал переставать чувствовать в постоянном напряжении, и потихоньку я стал расслабляться.
Как-то с обеда до вечера меня поставили дежурным по роте, попросив заменить сержанта. Я находился в казарме и занимался какими-то делами. Слышу дневальный орет: «Дежурный по роте, на выход!» Я сразу пошел к дневальному, к выходу. Подходя ближе, у меня начало екать сердце. Слышу ломанный русский язык с угрозами дневальному. Местный дагестанец срочной службы кричал молодому: «Я тебя в жопу сейчас буду е. ть, если дежурный через несколько секунд не придет». Я подхожу и вижу трех местных дагов, один из которых контрактной службы.
Ты где ходишь, чучело? Я тебя долго буду ждать, — кричал мне один из местных. — Пойдем сейчас в туалет, и будешь у меня х… сосать, — расстегивая ширинку.
Я от такого сразу в шоковое состояние впал и сразу начал анализировать быстро ситуацию. Если будут силой держать и пытаться меня опустить, то вытащу штык-нож, который выдается в наряд, и сразу кого-нибудь зарежу. Но больше я надеялся, что это проверка на вшивость.
- Вы за кого меня держите, — выдавил из себя я. — Я не буду этого делать ни при каких обстоятельствах.
На меня налетели сразу два дага. После нескольких ударов в челюсть я упал на пол. Двое дагов меня лежачего били ногами по всем местам. Взрослый дагестанец-контрактник на это все смотрел и усмехался, как два ублюдка меня скрюченного добивали ногами.
- Ладно, пошли отсюда, — сказал контрактник своим, и они ушли.
Я, изнемогая от боли, начал подниматься по тумбочке дневального. Молодого солдата всего трясло от страха, и он истерично кричал: «Товарищ сержант, поменяйте меня, мои два часа прошли». Я ему: «Стой пока, сейчас поменяю, только умоюсь». У парня началась еще больше истерика. Его не интересовало мое разбитое лицо, и что мне надо было умыться, он был сильно испуган. Я ему: «Вызывай дневального и меняйся, а сам пошел в умывальник». Умываясь, я стал дагестанцев ненавидеть. Впечатлений я получил массу. Это не была проверка на вшивость и на пацанские качества. Меня избили по-зверски за то, что я отказался сосать на глазах у молодого солдата, дневального, которого трясло от страха и была истерика. Когда я умылся, стоял на тумбочке уже другой молодой солдат спокойно. Он, конечно, ничего не видел и, скорее всего, ничего не знал. С горем пополам я доработал свой наряд, понимая что дежурным по роте я постараюсь больше не пойти.
Молодое пополнение все приезжало из разных краев. Нас, сержантов, потихоньку начали отбирать и составлять роты курса молодого бойца (КМБ). Полиграфа забрали в первых рядах, так как он был на одно звание выше, чем мы, и он уже занимался своей ротой. Кто оставался еще не востребован из наших сержантов, жили сами по себе, и у нас была райская жизнь на некоторое время. По желанию предлагали пойти командовать молодыми. Я не спешил пополнять ряды сержантов, у которых уже появились молодые, и у них началась ответственная беготня в отличие от нас. Мы спали сколько хотели и жили сами по себе.
В часть прислали двух сержантов-спецназовцев из другой части Махачкалы. Один из них был здоровый, в два раза шире меня, на голову выше и с огромным кулаком. Выглядел он устрашающе. Как выяснилось, он был практически дембелем, и оставалось служить ему месяцев пять. Побывал он в боевых действиях в Чеченской республике, и видно было, что с головой он особо не дружил. Звали его Витя. Как только они приехали, то сразу начал наводиться шорох. Чувствовалось, что едва они только приехали, не зная части, в наш батальон, то сразу поставили свой авторитет. Витя, амбал из спецназа, всех долбил попадавших на его пути солдат и сержантов.
Невостребованных сержантов оставалось, вместе со мной, восемь человек. Среди этих сержантов я был назначен старшим. Двум спецназовцам нужен был один сержант из наших. Побывав в учебке и наевшись разных физических нагрузок, я был уже не готов к спецназу, бегать и получать по морде, ночами отжиматься или делать другие физические упражнения. За полгода я так наелся, что морально и физически был сильно выжат, и о спецназе я уже не хотел даже заикаться, хотя на гражданке я и грезил элитными войсками. Я был в принципе уверен, что с моим телосложением, ростом один метр восемьдесят два сантиметра и весом килограммов шестьдесят, что на восемь килограммов меньше, чем было на гражданке, меня в спецназ не возьмут и даже на меня не посмотрят.
Первая встреча со спецназовцами-сержантами у меня состоялась на следующий день. Младший сержант Дятлов подошел ко мне и сказал, что спецназовцы зовут старшего. У меня сразу заекало сердце. Я пошел в курилку к спецназовцам. Первым делом на меня спецназовцы стали наезжать, что мои молодые сержанты ходят расслабленные и ничего не делают. Я понял, что им надо было докопаться хоть до столба. Сержант Алексей, который был с Витей Амбалом, мне сказал, чтобы я отжался, сколько смогу. Я влегкую отжался пятьдесят раз, пока мне не сказали закончить. Я мог еще сто раз отжаться, так как учебка не прошла даром. Витя Амбал спросил меня, не хочу ли я служить в спецназе. Я категорично отказался, сославшись на здоровье. Спросив меня, откуда я родом и услышав про Московскую область, я понял, что я его земляк, но восторга он от этого не получил и меня отпустил.
В этот же день нас, бездельников, невостребованных сержантов, отправили на матине «Урал» в другую часть Махачкалы. О ней я уже был наслышан, что в той части было много громких неуставных взаимоотношений. И народу в той части было больше раза в два-три. С нами поехал Витя Амбал. Ему надо было зачем-то вернуться, ведь он в той части служил. Нам надо было загрузить в машину военные вещи.
Приехав в другую часть и осмотрев обстановку, можно было сделать вывод, что в этой части служить еще хуже, но на мое счастье я здесь не служил, а только приехал загрузить военный материал. Витя Амбал, не выходя из машины, в своей части напряг солдата, чтобы в течение пятнадцати минут ему принесли хлеба со сгущенкой. Пока мы загружали в машину военный материал, Витя уже поедал лаваш, макая в сгущенное молоко. Побывав в части с красивым видом на горы, желания служить в этой части у меня не было, и я даже не мог представить, что судьба меня закинет именно сюда, через каких то двадцать-тридцать дней.
Приехав в свою часть, я жил опять своей жизнью, особо не напрягаясь, но стараясь обходить стороной спецназовцев. У местных дагестанцев из Кизляра хватало своих забот, так как за ними уже были закреплены молодые. Конечно, я со стороны видел, как они каждую ночь качали молодых и долбили их, выискивая гражданские деньги. Каждую ночь они находили в зубных пастах, в сапогах у молодых деньги. Я вот не понимал одного, когда у молодого находили спрятанные деньги. В ближайшие полгода он все равно не смог бы их потратить, только наживал себе геморрой на задницу, когда их находили. Отдал сразу и в стороне. И самому спокойнее, что денег нет, и взвод молодых спит, а не качается полночи. Еще и сослуживцы начинают относится, как крысе, с презрением — ты, урод, деньги заныкал и не отдал, а мы из-за тебя полночи крокодила сушили. Крокодила сушить — это своеобразный прикол с физической нагрузкой. Солдат опирается ногами за заднюю дужку кровати, а руками за переднюю, и все остальное тело должно висеть и не касаться самой кровати. Если кто-то падает, то ему находят более тяжелое наказание. В учебке, когда мы сушили крокодилов, наш сержант периодически ходил и долбил палкой резиновой по ногам и спине, и не дай бог упасть, даже если тебе очень больно, то получишь еще больше.
Я ощущал большой плюс, будучи младшим сержантом, что разных крокодилов сушить или отжиматься в упоре лежа ночами — это был пройденный этап, но били уже более зверскими методами. Здесь уже никто не задумывался, что можно покалечить человека. Если в сержантской учебке старались бить без синяков, чтобы сержантам лишний раз не попало за нас и было не без проколов, то здесь никто не задумывался.
На следующий день меня подозвал к себе Витя Амбал. Почему он выбрал именно меня, я не мог понять. Я уже был наслышан, что здесь старослужащие отправляли солдат на движение в самоволку, то есть, простым языком говоря, солдаты по приказу старослужащих перепрыгивали через забор части, и в городе просили у прохожих деньги или еду. В Дагестане основная масса людей очень добрых, особенно женщин, которые солдатам всегда чего-нибудь давали. Витя Амбал решил меня отправить в самоход. У Вити были увольнительные записки с печатями, на случай если я попадусь в городе какой-нибудь проверке. Подписи командиров в увольнительной он мог подделывать без проблем. На мои отмазки, что я ничего не знаю и ничего не умею, я получил удар в грудь. Витя мне только сказал, что ума большого не надо. Подходишь к тете и просишь денег на еду или на сигареты.
Озадачил меня Витя на восемьдесят рублей, сказав, что его хлопцы приносили по сто пятьдесят рублей. В то время, в 1997 году, лаваш стоил около одного-двух рублей, а пачка сигарет «Мальборо» пять или шесть рублей. Месячная зарплата солдата была восемнадцать рублей. За полгода я не получил ни копейки, только расписывался за нее. Да и толку не было бы от нее, забрали бы старослужащие. Отказывать Вите было себе дороже, и в мыслях я уже подумывал, что покупаюсь на море и как-нибудь потом отмажусь. Я сказал Вите, что постараюсь и отправился через забор за территорию части.
Сначала я залез на дерево и наелся абрикосов. Прямо за частью находился детский садик и росло несколько деревьев с абрикосами. Абрикосы были на половину неспелыми, но голодному мне было безразлично, что запихивать в свой желудок, после чего я пошел гулять по городу. Мелкие пацаны, лет семи-десяти, увидев меня, стали кричать нелицеприятные слова в мой адрес и кидать большие камни. Я так и не понял, почему они ненавидели солдат, мы же их защищаем, подумал я. Просить у прохожих деньги мне было противно, и я этого делать не стал.
Искупавшись первый раз в Каспийском море и лежа на пляже, я получил большое наслаждение. На какое-то время я забыл, где я нахожусь и зачем меня послали. Я сидел и счастливо смотрел на голубое небо и красивое море. Я задавал себе вопрос, почему здесь стреляют, убивают. Ведь здесь такая красивая природа, и стоит миролюбивая аура. В Махачкале не хуже отдыхать, чем на том же Черноморском побережье, но люди сюда ехать боятся, и жителей добрей я не видел. Может, конечно, беда с горем людей сближает. Ведь практически в каждой дагестанской семье есть военный или погибший в первую закончившуюся чеченскую войну.
Искупавшись еще один раз и спросив время, а до обеда мне оставалось около двух часов, я решил еще немного полежать и посмаковать внеплановое увольнение. Стрельнув сигаретку с фильтром, мне мужчина отдал половину пачки сигарет «Петр I», и я курил одну за одной сигареты, летая в облаках и о чем-то мечтая.
Через полчаса я, наконец, стал спускаться с небес на землю, и настроение стало быстро ухудшаться. Я начал строить план, что буду говорить Вите Амбалу. От одного представления его перед собой меня уже бросало в дрожь. Я поплелся медленно и нехотя в часть. Забравшись по дороге на абрикосовое дерево в детском саду и нарвав штук десять, которые смог достать, я перебрался через забор в свою часть. В курилке меня уже ждал Витя. С ним сидел сержант-разведчик из города Кизляра. Они уже с ним за небольшой срок хорошо сдружились. Я начал им рассказывать сказку, как я вышел из части и начал якобы спрашивать деньги. Как какой-то офицер из нашей якобы части меня начал подзывать к себе, и я от него еле убежал, пробираясь в часть. Этот аргумент Вите не понравился, и он начал проверять все мои карманы, вытащив несколько абрикосов и штук восемь сигарет. Он меня ударил своим кулаком-кувалдой по лбу, что я на несколько секунд даже потерялся.
Ты чего мне врешь? — своим злым и грубым голосом возмущался Витя Амбал. — А это что такое? — вытащив из моего кармана зажигалку, спрашивал он.
- Эту зажигалку я у молодых забрал.
Треснув меня еще несколько раз кулаком по лбу, он послал меня на три буквы пригрозив, что я завтра пойду опять, и не дай бог мне ничего не принести. Уходя, державшись за голову, я про себя подумал, что больше я по приказу Вити Амбала ни ногой, пускай хоть убивает.
Обстановка с каждым часом накалялась не в пользу меня. Краем уха я услышал, что в сегодняшнюю ночь Витя Амбал с разведчиком-сержантом разговаривали о предстоящей пьянке, и шли движения по покупке водки и где взять закуску. В столовой был озадачен повар, а водкой был занят другой старослужащий сержант из Кизляра. Я со своими сержантами в спальной комнате обсуждал расклад ночи. Можно было процентов десять поставить на то, что пьяные отморозки не завалятся к нам. Если у трезвого Вити Амбала головы не было, то пьяный Витя — это, видимо, будет настоящим зверем, а остальные его подблевыши будут тоже нас бить за компанию и считать себя крутыми.
Дождавшись ужина и отбоя, мы легли спать и начали ждать своего долгожданного часа. Пьяные движения за дверью чувствовались, но не так сильно, так как мы спали на первом этаже, а водку пили на втором. Надежда была только одна, что и на втором этаже шоу может хватить на всю ночь и без нас, избивая молодых. Но предчувствие мне подсказывало, что мимо нас, молодых сержантов, они не пройдут мимо. Витя со своей компанией были недоброжелательно к нам настроены и на трезвую голову. Надежда у нас была у каждого выпрыгнуть из окна, так как был первый этаж, и сбежать из части на эту ночь, оставшись целыми, но каждый надеялся на лучшее.
Уже немного задремав, я услышал громкие голоса, и сердце забилось в два раза быстрее. Когда открылась дверь нашего спального помещения, то страха я такого не испытывал со времен Моздока, когда ночью зверски долбили нас, молодых, старослужащие, где мне по случайности не досталось. «Подъем, уроды», — включив свет, крикнул Витя Амбал. В учебке к ночным подъемам через день я привыкал, и там была уверенность, что инвалидом никого не сделают, так как сержанты отвечали за нас головой. Несколько ударов в грудь и челюсть с отжиманиями по двести раз. Это все, что нам могло грозить в учебке. Сейчас к нам пришли пьяные отморозки, и еще здоровые не по годам. За меня сразу принялся разведчик. Витя Амбал с другим сержантом месил остальных. Витя даже до меня почему-то не дотронулся. Били нас минут пятнадцать, может, тридцать. Разведчик любил меня бить коленом или под дых, или по голове. Один удар коленом, как я ни защищался руками, пришелся мне под глаз. Я на несколько секунд потерял сознание и упал. В глазах были звездочки. Когда меня разведчик стал поднимать, нанося удары, то все трое пьяных отморозков увидели у меня большую гематому на пол-лица, отправив меня в умывальник. Остальных они еще продолжали долбить.
Минут через десять они завалились в умывальник. Витя Амбал мне сказал, что если сдашь нас, зема, тебе придет конец. После этих слов они куда-то испарились. Посмотрев на всех своих сержантов, я уже понял, что это незамеченным не останется. Ни на одном не было свежего лица. Все были с синяками. Я сказал свое решение, что будем отписываться и отговариваться, что мы все сами передрались. Все бы ничего, если бы эти отморозки сразу легли спать, но их потянуло на дальнейшие приключения. Выйдя из части через КПП, Витя набил лицо гражданскому человеку, что утром знала об этом вся часть. Под утро, избивая одного солдата, прослужившего на полгода больше меня, и поставив ему под глазом здоровенный синяк, что солдат не выдержал и убежал из части.
На разводе, увидев меня красивого, как я ни старался прятаться вместе с остальными, вызвал нас в кабинет заместитель командира КМБ. На вопрос, кто меня избил, я показываю пальцем на младшего сержанта с опухшей челюстью. А младший сержант с гематомой на щеке показывает пальцем на меня. Мы подрались между собой, уговаривал я командира поверить в небылицу. Он нас заставил писать объяснительные. Пока мы писали полчаса, зашел офицер и доложил всю обстановку заместителю командира КМБ, что сержанты, жившие в отдельной комнате, то есть мы, все побитые с синяками. Солдат, который сбежал из части, все рассказал, когда обратно пришел с большим синяком. Заместитель командира озверел и начал на нас кричать. «Вы чего меня за дурака держите? — надавив пальцем на мою гемотому в пол-лица. — Я тебе сейчас еще больше сделаю, во все лицо! — кричал он. — Привести мне всех избитых кричал он, и где эти пьяные отморозки?» Эти пьяные отморозки уже спали, погуляв на славу ночью.
Всех побитых привели, и вместе с ними появился командир КМБ. Исходя слюной, он также возмущенно кричал, что посадит этих троих далеко и надолго. Нас, побитых, повезли в другую часть к командиру бригады. Та часть, первый батальон, имел полное отношение к нашей части, то есть второму батальону. Только в первом батальоне сидело все начальство бригады, куда я уже один раз ездил за военным имуществом. Двое старослужащих солдат, которых тоже побили, уговаривали нас, чтобы мы писали всю правду. «Больше мы их никогда не увидим», — объясняли старослужащие. Мне, конечно, не хотелось ни про кого писать, но нас десяток побитых, и я был по физиономии побит больше всех, и что-то скрывать было бесполезно.
При осмотре у врача у меня и на теле не было живого места. Врач, осматривая меня, написал целую страницу побоев. Когда я писал объяснение, как все было, я не стал писать про всех и решил написать только про разведчика. Ведь его коленкой мне была поставлена на лице гематома, и один глаз практически ничего не видел. Остальные практически писали про всех троих, сдавая их с потрохами.
В этой части мы были как будто в зоопарке. Все на нас красивых смотрели. Кто-то ехидно улыбался, кто-то качал головой, было это все очень сильно неприятно. Командир КМБ нас уверял, чтобы мы писали все, так как мы их больше никогда не увидим, и чтобы мы ничего не боялись. Слово он, конечно, свое не сдержал. Двоих отморозков просто обратно отправили в Кизляр к себе дослуживать, а двоих спецназовцев, Витю Амбала и его сослуживца, отправили в командировку от греха подальше на границу с Чечней, от которой он, видимо, отмазывался из-за скорого дембеля. Его рота находилась там, выполняя служебно-боевые задачи, в районе чеченского конфликта.
Заживала моя гематома больше недели. После этого нашумевшего случая неуставные взаимоотношения прекратились, даже местные были тише воды, ниже травы. Вскоре, через неделю, и я дождался своих новобранцев. С командным голосом у меня как-то сразу все получилось. Учились ходить строем, на зарядках молодых гонял по полной программе. Как и везде, появились свои любимчики, которых было видно, что эти ребята нигде не пропадут. Планку я старался не перегибать, но и спуску я никому из новобранцев не давал.
Со мной был во взводе еще старослужащий сержант из Челябинска, который местных тоже не переваривал и грозился после дембеля все машины сжигать с дагестанскими номерами у себя на родине. Конечно, это были только эмоции, ведь отмороженных русских было не меньше. За год службы ему местные, видимо, тоже насолили. Да местные срочной службы чувствовали себя королями, и нас не ставили ни во что, только унижали. Кроме местных офицеров, выделить с хорошей стороны было некого на КМБ. И это понятно, что у офицера за плечами высшее образование, а местные контрактники и срочники в основном были без мозгов, за исключение единиц.
Курс молодого бойца подходил к логическому завершению, и молодых стали распределять по нашей бригаде, то есть по двум частям. Мы, сержанты, остались без работы и ждали своей участи, куда нас распределят.
Одному из наших сержантов прислали денежный почтовый перевод. Я с ним во время КМБ сдружился, и он предложил сходить в самоволку, искупаться на море и чего-нибудь купить поесть. Взяли мы с собой еще одного сержанта и перепрыгнули через забор. Мы предполагали, что у нас время будет не менее трех часов, так как мы были сами по себе и контроля практически никакого не было. Многие ребята в клубе смотрели кино, а мы потихонечку удалились. Сержант с деньгами накупил печенья в шоколаде и сладкой газированной воды Мы, на пляже искупавшись, поглощали сладости, запивая газировкой. Эти несколько часов рая подарили мы сами себе, сбежав из части. Но райские эти три часа пролетели как одно мгновенье, и надо было возвращаться в часть.
Перелезая через забор, один из наших увидел, что в части все построены и идут какие-то волнения. Я залез на забор и слышу, что ищут нас. Я спустился обратно. Нам стало страшно, но делать было нечего, и надо преодолевать страх и перелазить в часть, сознаваясь, что хотели искупаться в море. Перебравшись в часть, нас взяли за шкирку и потащили к командиру. Мы решили искупаться, говорил я, так как нас ни разу не отпустили в увольнение за полтора месяца. Получив втык, я понял, что внеплановое построение было для того, чтобы сержантов, которых уже выбрали, направить в другую часть нашей бригады. В ту часть, где три недели назад писали объяснительные по поводу наших побоев. В ту часть, в которой служил Витя Амбал в спецназе, которого после сослали на заставу на чеченскую границу. В этом списке оказался и я. Пять сержантов вместе со мной были в этом списке, которых избивал Витя со своей компанией. Нас везли в эту часть, где мы уже засветились. Рано или поздно, но встреча должна была произойти с Витей Амбалом. Это было жестоко. Нас отправляли туда, где про нас знала в принципе вся часть. Что из-за нас сослали Витю Амбала на чеченскую границу и чуть его не посадили.
Я понимал прекрасно, что объяснять свою правоту там будет бесполезно. О том, что Витя сам виноват, что нас жестоко избивал, когда мы оказались с красивыми лицами. И сдал его старослужащий солдат с потрохами, который был побит вместе с нами, а нам оставалось только писать объяснительные. Ехав в машине, я ненавидел капитана, который нам обещал, что мы этих отморозков больше не увидим. Витю, конечно, я боялся не из-за того, что он меня подкараулит в укромном уголке и побьет. Ему только хватит на меня показать пальцем, после чего меня будут разрывать другие солдаты и сержанты, даже если я про него ничего не писал в объяснительной. Доказывать в армии кому-то было бесполезно, и это я уже прочувствовал в учебке. Никто не захочет слушать, а только будут давить. Если бы я был рядовым солдатом, то я, может быть, где-нибудь затерялся, но, будучи младшим сержантом, я прекрасно понимал, что меня ждут большие испытания.
Внутри меня всего трясло. Я корил себя, что сразу не был в первых рядах, отказываясь от молодых, чтобы подольше погаситься от службы с молодыми. Если бы я просился в первых рядах стать командиром отделения на КМБ, то, скорее всего, я остался в этой части, и меня, конечно, так жестоко уже не избили, так как я был бы уже с молодыми. А так я ехал в ад. Я как свинья. Во всей своей службе в армии я находил самую грязь, которая только существовала. Я корил судьбу, за что мне такие наказания были начертаны. Ведь в службе очень большую роль имеет везение. Если нашел моральную поддержку в старослужащем земляке, который за тебя будет заступаться, то уже было на порядок легче служить. Конечно, Витя Амбал — отморозок, что даже меня, своего земляка из Подмосковья, избивал со своими. Ведь никого из Подмосковья в Махачкале не служило, кроме меня. Понятно, что Московская область большая. Но изо всех двух частей Махачкалы я был один из Подмосковья.
Еще был один минус в моей службе. Помимо Вити были еще местные дагестанцы, пускай их было немного, но я прочувствовал на КМБ, что москвичей они ненавидели, хоть я и был из Подмосковья. Я, конечно, старался ссылаться, что я уже живу в городе Владимир и якобы практически перебрался туда, смягчая свое положение, но не всегда в это верили или не хотели верить местные.
Спрыгнув с «Урала» уже в своей новой части, нам старший сказал находиться в курилке части. Старослужащие батальона, пронюхав, что привезли нас, молодых сержантов, отправились к нам на допрос, кто откуда родом. Я назвал сразу две родины, где нашелся один старослужащий сержант из Владимирской области. Сержант на меня посмотрел косо, и в друзья он меня не принял, спросив на какой улице я буду жить во Владимире. Сказав ему улицу, он не понял, где она находится, и я понял, что хорошо он город не знает, так же, как и я. Я знал только улицу по письмам, которые мне отсылала тетя, и я тоже писал ей письма на владимирский адрес. Мой ход, я так понял, с городом Владимир не удался, так как старослужащий сержант меня в земляки не принял, и ему было, видимо, безразлично, даже если я был родом из Владимира.
Несколько наших сержантов сразу получили по несколько ударов в грудь за невнятные ответы, которые не понравились старослужащим. Были и расспросы про тот случай по избиению меня с молодыми сержантами. Один мне ехидно говорил: «Да я тебя видел с опухшей физиономией. Ведь это ты Витька сдал». «Я никого не сдавал», — оправдывался я. Другие старослужащие тоже подключились к теме. Но, видимо, полностью с подробностями из второго батальона старослужащие не знали по этой теме, только по слухам. Витя Амбал был из ГСН, группы специального назначения, а роты батальона, спецназ никогда в дело не считал.
Определили нас, молодых сержантов, пока во вторую роту батальона. В этой роте было видно, что очень много борзых старослужащих, которые прошли боевые действия в Чечне. По словам ребят нашего призыва, которые служили в Махачкале с самого начала, что из трех рот батальона самая нормальная в плане неуставных взаимоотношений и спокойная была третья рота. Там не было дедов, которые увольнялись через три-пять месяцев. Были только старослужащие, отслужившие по году.
После ужина и отбоя деды стали курить анашу. В Дагестане она росла во многих местах. После обкурки для убиения запаха деды запалили таблетку от комаров, которая весь запах перебила. Ближе к ночи деды нас, сержантов, начали дрессировать. «Сержанты, подъем!» — крикнул один. Мы потихонечку стали вставать с кроватей. За эту неспешность нас по кругу отоварили кулаками. «Вы никто, и звать вас никак, — кричал один. — Будете летать вместе со своим призывом».
На следующий день после бурной ночи нас стали выбирать командиры рот. Командир второй роты, посоветовавшись с сержантами, решил выбрать меня, на что я наотрез отказался. Мне хотелось в более спокойную роту, которая, по словам очевидцев, была третья. Командир второй роты долго уговаривать меня не стал и взял другого младшего сержанта. Первая рота выбрала самого большого младшего сержанта Стапикова, который в поезде по дороге из учебки в Дагестан стирал носки художнику. Нас, пятерых остальных, отправили в третью, куда я больше всего хотел.
Когда нас туда привели, я сразу почувствовал более положительную ауру. Старослужащих там было не много, пять сержантов и семь рядовых, из которых я понял, что рядовых борзых всего три человека, которые были поближе к сержантам.
В ротах была суета, так как батальон собирался в командировку на заставу, границу с Чечней. Еще меня радовало, что в нашей роте не было ни одного местного срочной службы, были одни только контрактники. Местные срочники-дагестанцы и в других ротах создавали дискомфорт, так как со временем я увидел, что и старослужащие нашей третей роты их боятся.
У старослужащих сержантов началось шоу, когда мы пошли в туалет на улицу. Кто какого сержанта себе возьмет во взвод. Подговорив самого безбашенного рядового нашего призыва по кличке Волк, чтобы он нас, молодых сержантов, построил и начал водить строевой. Волк нам закричал строиться, сержанты, в одну колонну. Все мы прекрасно понимали, что это подвох. «Вы чего не поняли, уроды?» — начав нас каждого долбить кулаками по лицу. Сержанты построились, испугавшись. Я в колонну пятым вставать не стал. Волк начал меня долбить, пытаться затащить в строй. Сержанты смеялись над этим шоу вместе с толпой солдат. Один кричит: «Волк, ты смотри, Гоголев тебя не слушается, ты свой авторитет теряешь!» Силой затаскивая меня в колонну, Волк кричал: «Шагом марш!» Я из колонны выхожу, а мои сержанты идут строевой. Волк меня снова бьет и силой пытается затащить в строй. Шоу было потешное, пока время не подошло идти на ужин. По словам старослужащих сержантов, я им понравился больше других, и начался у них спор. Каждый хотел меня забрать к себе.
Все разговоры были о нас, молодых сержантах. Рядовые старослужащие зло косились на нас. Со своим призывом как-то общий язык мы быстро находили. После ужина сержант Филинков, посовещавшись с другими сержантами, сказал, чтобы я вел роту. Я вышел из строя. Опыт у меня уже был водить роту, только здесь были не молодые, а мой призыв и старослужащие. Как мне казалось, что командовать ротой под счет у меня неплохо получалось, и командирский голос у меня был, но здесь надо было вести и старослужащих, которых сразу покоробило, что молодой сержант поведет их.
Я, выйдя из строя, скомандовал: «Рота, равняйсь, смирно. Шагом марш!» Я кричал солдатам под левую ногу: «Раз, раз, раз, два, три, раз, раз, раз, два, три!» После чего я крикнул: «Рота!» — и рота перешла на строевой шаг. Старослужащие шагали специально не в ногу, и от такой моей наглости были возмущены еще больше, но после того, как я крикнул команду «счет», по которой рота должна была выкрикнуть «и раз» и, прижав руки по швам, а голову повернуть вправо, я сразу услышал в строю угрозы: «Пиздец тебе, Гоголев, вешайся». Я, конечно, понимал, на что я шел, и, конечно, было страшновато кричать все эти команды, понимая, что мне это с рук не сойдет, но я также понимал, что получать мне не впервой, а авторитет зарабатывать надо было сразу, и в надежде, что старослужащие сержанты мне дадут поддержку, о которой я наивно надеялся. Прокричав второй раз счет, и рота опять вскрикнула «и раз». Моя миссия на этом закончилась. Если бы еще идти было прилично, то я еще бы закричал команду «песню запевай», но мы уже дошли до курительного места, где сержант Филинков скомандовал: «Разойтись, пять минут перекур».
Ко мне сразу подошли практически все старослужащие и отвели меня за угол. Трое старослужащих меня начали долбить, объясняя, что я совсем потерял страх. В мою сторону со всех сторон летели руки и ноги, пока я не свалился на землю. Старослужащие сержанты тоже видели всю картину, но никто даже не заступился, что было вдвойне обидно. Встав и отряхнувшись, я прекрасно понимал, что эта третья рота последняя, и почти полтора года мне в ней придется служить. Надо мне было смириться и терпеть.
Вечером запел мулла молитву, и меня это начало сильно напрягать. Когда я спросил у сослуживца, что это поют, то он меня еще больше расстроил сказав, что каждый день поют, утром и вечером. Я подумал, что за оставшийся срок службы у меня еще съедет крыша от этих песнопений, так как еще в том возрасте к религии я вообще никак не относился, и меня всегда раздражали даже на гражданке разные церковные песнопения.
После отбоя ночью ко мне постоянно кто-то подходил, пытаясь заставить меня мыть полы. Я, конечно, понимал, что это была проверка на вшивость, но я уже боль терпел через силу, так как челюсть с телом уже были хорошо побиты. Принимать постоянно удары уже было невыносимо. Я бы, конечно, помыл полы, чтобы меня не трогали, если бы про это никто никогда не узнал в роте. А сержантская участь у меня была такова, что сержанту мыть полы не положено, и если помоешь, репутацию сразу себе испортишь до конца службы.
Конечно, мне не повезло с сержантами, от которых я не получил никакой поддержки, а только проверку на вшивость и глумление. Служившим младшим сержантам из моей учебки, Дятлову, который уже ел бычок из урны, и остальным трем, на принципы было наплевать. Чтобы меньше доставалось, они все делали.
В нашей третьей роте оказался один солдат из Москвы. Хоть Москва и Подмосковье не считались большим землячеством, но ближе него я людей в Дагестане пока не видел, не считая Вити Амбала. Вел он себя как-то странно и холодно. Даже на одном из сайтов десять лет спустя я ему написал доброе письмо, но он мне так и не ответил, хотя и заходил на мою страницу в гости, но не суть важно. Все люди разные и по-своему странные.
Утром начинались сборы, и практически весь батальон из трех рот отправляли в командировку на границу с Чечней. Официально войска были выведены из Чеченской республики в конце 1996 года. Велась только партизанская война с терактами. Мне тоже хотелось туда поехать, так как говорили, что служба будет там идти день за полтора. Кого из батальонов не брали, и кто сам косил, чтобы не поехать, объединили в одну так называемую сводную роту. В основном вместе со мной в эту роту попали деды, которые под дембель не хотели рисковать жизнью, двое местных, которых было всего трое в нашем батальоне, и больные, которые были с разными болячками. Я попросился у командира роты, но получил отказ, так как списки были все уже оформлены. Мне приходилось только горевать.
Не зная, что такое сводная рота, я уже мог представлять, что основная масса — старослужащие, которые кто демобилизовывался через пару месяцев, кто просто свою жизнь не хотел подставлять под угрозу. Из троих дагестанцев срочной службы поехал только один местный. Они все и так были как на курорте, напрягали солдат, и каждые выходные ходили в увольнение.
Свою третью роту я проводил, которая колонной на военной технике выдвинулась на служебно-боевые задачи, вооружившись по полной боевой.
Увидев свою сводную роту, я понял, что сладкой жизни у меня не будет. Ответственным командиром назначили прапорщика. Он был дагестанец, по национальности даргинец. Амбициозный и горластый, и офицер из него со временем должен был получиться хороший, так как он, будучи прапорщиком, выделялся своими лидерскими качествами. Местных дагестанцев он как-то не признавал и, по моим ощущениям, больше тянулся к русским и к власти. Было видно, что его коробило звание старшего прапорщика, но командиры ему доверяли, так как он мог дать фору любому офицеру. Этот прапорщик, по фамилии Вахмутов, умничал во многих вещах. Например, спрашивал, кто у нас министр обороны или министр внутренних дел. Многие на этот вопрос не могли ответить, а он гордо говорил фамилии, вынося всех дураками. Но это не вина солдат, которые не знали приближенных министров, а вина командиров, которые не проводили политические занятия. Я так и не понял, по какой причине он не поехал в командировку на заставу, но, скорее всего, не захотел сам, да и кому охота, конечно, отдаляться от своего дома. Но это были мои только предположения.
Прапорщик Вахмутов старался быть правильным, но его некоторые поступки говорили об обратном. Он был большой противник дедовщины и своим видом показывал, что полы должен мыть и дембель, и молодой по очереди. Конечно, это было настолько смешно, когда многолетние традиции в армии прапорщик пытался сломать, и ему это, конечно, не удавалось. Мыть полы, конечно, должен молодой, и когда-то через полгода придут другие молодые, которые тоже будут выполнять всю грязную работу. Молодые солдаты тоже живут этими днями, когда придет тоже новое молодое пополнение, а когда дембелю пытается всучить тряпку прапорщик, становится смешно. Традиции в армии разрушить невозможно, а прапорщик Вахмутов боролся таким образом с дедовщиной, что у меня вызывало смех. Копать надо было глубже, и со временем я начал понимать, что это была просто показуха, с которой мне пришлось сталкиваться оставшуюся службу.
Вечером ко мне подошел один солдат, сказав, что меня ждет в соседнем помещении старослужащий солдат по имени Нурик. Это был местный махачкалинец срочной службы, которого все боялись. Я уже мог предполагать, что зовут меня не просто так. Во всем вина моя была моего родства, что я из Подмосковья. Москвичей во всей части, когда я начал пробивать землячество, по словам сослуживцев, было всего четверо. Один уехал на заставу, с которым я уже имел честь пообщаться. Другой попал в сводную роту вместе со мной, и его должны были с дня на день забрать родители и перевезти в другую часть в Москву, по каким-то связям. Он уже был, по слухам, опущенным, и ему давали в рот член, что мне с трудом верилось. Но когда за ним в назначенный день не приехали родители, то у него началась истерика. Он плакал и просился домой на моих глазах. После такого зрелища я мог поверить, что парень морально слабый и мог сделать все, что бы ему в грубой форме ни сказали. Родители его забрали переводом в другую часть.
Остальные два москвича были в ремонтных ротах части. Одному тоже давали сосать член, а другого оттрахали в задницу. Один москвич через год попал ко мне в роту, и он сам подтвердил при отдельных обстоятельствах, что мне с трудом поверилось. Но которого оттрахали в задницу, мне, слава богу, не посчастливилось встретиться, и я в это не верю до сих пор. Это было жутко, и в это не хотелось верить, но, вспомнив, как меня жестко избивали в другой части на КМБ из-за того, что я не стал сосать, я понимал, что могло быть все что угодно.
Подходя к месту, куда меня позвал местный, у меня екало сердце. Местный со старослужащим сержантом пили чай со сгущенным молоком. «Ты, младший сержант, москвич?» — сказал мне старослужащий сержант. «Я не из Москвы, я из Подмосковья», — отмазывался я, — мне до Москвы еще сто километров». Сержант мне впаривал свое, что я москвич все равно. Я бы, конечно, не отказывался от землячества с москвичами, но их всех опустили, кроме одного, и мне категорически пришлось отрекаться, чтобы меня не стали пытаться повторно опускать. Тут местный дагестанец, к моему удивлению, в мою защиту сказал, что сто километров от Москвы — это не земляки, приводя свой пример, что земляками считает только своих махачкалинцев, и что москвичи здесь чмыри — не показатель. Их, махачкалинцев, тоже не любят другие города Дагестана. Немного еще со мной подискутировав, сержант мне сказал, что я свободен.
Выйдя из комнаты, я облегченно выдохнул, так как настраивался к худшему исходу. Я не думал, что местный дагестанец поведет себя разумно, и очень удивился его разуму. Его в части все боялись, но он общался со мной, не пытаясь меня принизить и опустить. Наверное, не зря он был один из местных со званием сержанта. В сводной роте обсуждали в основном нас, молодых сержантов. Я слышал обсуждение старослужащих, что я один нормальный и веду себя по-мужски, не поддаваясь на провокации, например, помыть полы, или на команду «упор лежа принять» от рядового старослужащего я стоял и не отжимался, за что периодически получал, но мне было надо держать сержантскую марку, так как я понимал, что рано или поздно от меня отстанут. Но и отжиматься часами врагу не пожелаешь. Уж лучше пускай бьют, чем отжиматься со всеми — думал я.
На следующий день прапорщик Вахмутов ставит меня старшим на КПП с тремя бойцами. Приняв наряд по КПП, нас стали напрягать, чтобы кто-нибудь из нас бежал и покупал за КПП, где находился частный магазинчик, разную еду. Частный магазинчик представлял собой жилой дом, где продавали горячие лаваши и разные сладости. За какую-нибудь покупку давали горсть семечек.
После ужина ко мне подошел спецназовец из роты ГСН (группы специального назначения) и сказал, что меня ждет Ара Тумосян. Ара Тумосян был дембелем и доживал последний месяц. Он был самый авторитетный спецназовец, которого в части все боялись. В столовой повар каждый прием пищи делал ему отдельное блюдо, которое ели большие офицеры, командир части и его замы. Ара был единственным, кого повар боялся сильно и старался ему угодить. У повара всегда была распухшая физиономия, так как Аре каждый день что-то не нравилось в еде. По слухам, Ара за один удар вырубал любого, и я шел в роту ГСН с дрожащими коленками. Если Витя Амбал был здоровым беспределыциком с большими кулаками, которого все боялись, тогда Ара кто, думал я, поднимаясь в их роту в сопровождении молодого солдата из спецназа.
Поднявшись в роту, я увидел наконец Ару, пьющего чай с двумя своими сослуживцами.
Ты старший по КПП? — кусая печенье и прихлебывая чай, проговорил Ара, не оглядываясь на меня.
- Да, — дрожащим голосом выдавил из себя я.
- Завтра после завтрака ты мне будешь должен принести две пачки сигарет «Мальборо». Ты меня понял? — повернув голову, проговорил Ара.
Я даже не стал спрашивать, как я это сделаю, дар речи у меня сам потерялся, и мне хотелось побыстрее покинуть роту ГСН.
- Понял, — сказал я.
Другой сослуживец Ары зло мне сказал: «Все, иди на х… отсюда», — и я молча покинул роту с трясущими ногами.
Я шел, и меня всего трясло. Если бы я взбрыкнул, то, думаю, мне мало бы не показалось. Покалечили меня бы спортсмены.
На КПП я всем сказал, что нас озадачили на две пачки дорогих сигарет «Мальборо». Надо было что-то решать. Я прекрасно понимал, что если я не найду, то меня покалечат. И мыслей я даже таких не держал, чтобы забить на Ару. Уж больно морально все его в части боялись. Да, я уже сталкивался с Витей Амбалом, что это за зверье, на собственном опыте. Денег у нас не было, чтобы купить сигареты. Выходить за КПП на гражданку и просить я тоже никого из солдат не мог себе позволить отпустить, так как в форме солдата сразу приметят. Да и ночью где у кого спрашивать. Будь что будет, подумал я, надеясь, что, может, кто-то из приезжающих родителей приедет и даст, подумал я, успокаивая себя.
После отбоя, с двадцати двух часов до двух часов ночи я остался с молодым солдатом нести свой наряд, а двоих отправил отдыхать. Эти четыре часа были самыми долгими и ужасными, как в аду. Через каждые пять-десять минут кто-то заходил на КПП из старослужащих разных рот и чем-то постоянно напрягал. Офицеров ответственных не было видно, зато старослужащих, которые бродили после отбоя, было полно. Каждый старослужащий или сержант чесал об нас руки за якобы какую-нибудь нашу провинность. Отдолбили нам с солдатом все. Я, конечно, держался и, как мог, защищался от ударов старослужащих, что их только больше злило. Я считал минуты, когда этот ночной ад закончится.
Ближе к двум часам ночи стало в части спокойнее. Парили мозг только спецназовцы, которые сидели на бронетранспортере, БТР. Они тоже несли наряд, который назывался пятиминуткой. В случае нападения они самые первые должны были брать удар на себя. Наконец, в два часа ночи кошмар закончился, и мы пошли отдыхать, сменившись. Спать, конечно, надо было, но мне не давал покоя следующий день или уже сегодняшний, который мне надо было провести в наряде по КПП.
В шесть часов утра после подъема я пришел на свою службу. Моим напарникам повезло больше, и после двух часов к ним никто не заходил и не напрягал их, и несли они спокойно службу. Утром началось движение, приход офицеров на работу, и служба шла в бешенном ритме. Кто открывал ворота, а я записывал марки машин на въезд и выезд. После завтрака движение стало утихать, и около одиннадцати часов за мной пришел спецназовец. Конечно, мы никаких двух пачек сигарет «Мальборо» не сделали Аре, а я должен был идти в роту ГСН с сигаретами. Меня всего трясло, когда я поднимался, понимая, что меня будут жестко избивать.
Зайдя в роту, я увидел Ару, который лежал на кровати и смотрел какой-то видеофильм.
- Ну чего, где сигареты? — спросил он у меня.
Я дрожащим голосом ему мямлил, что не получилось.
- Вот у меня есть только пачка «Космоса», — тянул я ему российского производства сигареты, которые мне подарил один из посетителей на КПП.
Ты чего надо мной издеваешься? — кричал Ара. — На хера мне твой «Космос»? Засунь его себе в задницу, и чтобы к вечеру теперь было не две пачки, а три. Если не принесешь, я тебя окуну в унитаз, и пошел на х…
Из роты ГСН я уходил, размышляя, что больше я туда не пойду ни под каким предлогом. В унитаз головой только через мой труп, и я уже был сильно зол на этих уродов, которые меня напрягали. Ближе к вечеру я уже вежливо посылал старослужащих куда подальше и уже зло никого не боялся. Вместо боязни у меня началась появляться агрессия.
Спецназовец пришел за мной в третий раз к вечеру, и я ему сказал, что никаких пачек сигарет не сделал и наверх в роту ГСН не пойду. Спецназовец пришел за мной в четвертый раз, передав Аре, что я на него забил, и пытался силой меня увести в роту ГСН. Я уже практически с молодым спецназовцем стал драться. «Ты урод, — говорю я ему. — Сегодня ты в спецназе, а завтра в нашу роту можешь попасть, и будет тебе задница». Молодой спецназовец стал мне объяснять, что если он меня не приведет, ему самому будет плохо. Мне было наплевать на него, и в унитаз головой мне не хотелось.
Наконец пришла смена из другой автороты. Они попали тоже первый раз в этот наряд и расспрашивали особенности наряда по КПП. Я им рассказал про Ару, который меня озадачил сигаретами «Мальборо», и посоветовал в роту ГСН вообще не ходить, если будут звать. Сдав наряд, я быстро ушмыгнул в свою роту. Я все ждал и боялся, что Ара может нагрянуть в мою роту. На Ару никто не забивал, и все делали по его приказу. Я, получилось, на него забил и кинул его, что, по слухам других солдат, он таких косяков не прощает и накажет меня. Одно спасение у меня было, что Ара через несколько дней должен был уволиться, и около недели я прятался от него.
В основном можно было попасться к нему на глаза в столовой. Наша сводная рота постоянно принимала пищу после роты ГСН. И когда я стоял в очереди за своим пайком, то Ара уже всегда сидел за столом и ел свое королевское блюдо, приготовленное поваром. Я всегда прятался за кого-нибудь. Бог меня отвел еще раз попасть в наряд по КПП, и через неделю Ара демобилизовался. Для меня это было большим счастьем, так же, как и для повара, который был всегда побитым отАры. Одной проблемой моральной стало меньше после увольнения Ары, но от этого другие проблемы никуда не девались.
Старослужащие нашей сводной роты ко мне с каждым днем относились все хуже и хуже. Каждый день я попадал под их раздачу. Сержанты моего призыва уже драили полы, а я не сдавался.
Прапорщик Вахмутов распределил наряд по штабу, где ко мне в наряд засунул дембеля из спецназа, который откосил от командировки в ГСН, и его за это перевели в сводную роту. Он был тоже авторитетом в части. Его не трогали даже офицеры, и он один ходил в части в кроссовках. Слова ему сказать не мог никто, кроме командира самой части. Ко мне он относился хорошо и даже часто за меня заступался, но других долбил не по-детски. Вторым в наряд ко мне прапорщик Вахмутов записал местного старослужащего дагестанца. Для чего он это сделал и каким местом он думал, я не знаю. Старшим он поставил меня. Просто было смешно. Дагестанец, которого все боялись в части и который каждые выходные был в увольнении, и дембель спецназовец, а я у них старший.
Выпало мне еще одно испытание. Местный дагестанец после развода мне сказал, что он пошел домой, а я его должен буду отмазывать. «Домой» подразумевалось в реальном смысле, то есть просто ушел через КПП, сказав наряду по КПП, что его никто не видел. Спецназовский дембель меня тоже покинул и пошел шататься по своей родной роте ГСН, дабы не спалиться в нашей. Вечером порядок приходилось наводить за счет молодых солдат-писарей, которые были прикреплены к разным командирам. Все, конечно, у меня находилось на волоске. Любой офицер, проходя мимо, мог спросить, почему писарь штаба моет полы в коридоре, и поэтому мне приходилось держать ухо на стреме.
В ночную смену я, скрипя зубами, навел порядок за счет двух писарей. Но трубить всю ночь в штабе мне пришлось одному. Спецназовец спал всю ночь в расположении роты, а местный ночевал вообще дома. Как хорошо, что на днях уволился Ара, а то у меня ночь была бы незабываемой. Штаб находился на втором этаже, а ГСН на третьем. И вся группа специального назначения поднималась и спускалась через второй этаж, то есть через штаб. За всю ночь мне досталось всего несколько оплеух, и, по большому счету, меня никто не трогал, то ли из-за боязни, что в штабе много офицеров, то ли мне просто везло. Всю ночь я просидел на стуле за столом.
Утром начались похождения офицеров. Командир части и его замы постоянно кричали, чтобы наряд по штабу убрал их кабинет. Я вылавливал писарей, у которых работы у самих было много. Угрозами я их заставлял мыть разные кабинеты, подставляя себя. Крутился я, как мог, за себя и еще за своих напарников, которых я постоянно отмазывал. Я бы и сам помыл полы, но мне надо было держать сержантскую марку. Взяв тряпку, я сразу бы подорвал свой и так небольшой авторитет, который я нарабатывал с таким трудом. Мыть полы мне ни в коем случае нельзя было. Если бы я взял тряпку и кто-нибудь бы увидел, то уже с тряпкой я бы не расстался. Молодых и моего призыва солдат и сержантов было крайне мало, и каждый человек с тряпкой был на вес золота.
Ближе к обеду ситуация в наряде заходила в тупик. Молодые писари постоянно меня не могли выручать из-за сильной своей занятости. Командир бригады мне несколько раз прокричал: «Дежурный, дневального мне приведи на уборку кабинета!» Я только кричал, что сейчас, товарищ полковник, кто-нибудь освободится. Но на третий крик я понял, что убираться придется идти мне. Я снял сержантские лычки и пошел в кабинет командира. Взял ведро с тряпкой, которое я уже не брал несколько месяцев, и практически со слезами на глазах начал мыть полы. Мне это делать было противно, хоть и мыл я у самого командира бригады. Вынося ведро, я прятался от солдат, чтобы меня никто не заметил.
Прапорщик Вахмутов захаживал периодически в штаб и спрашивал, где остальные. Я их отмазывал, как мог, хоть прапорщик мне и не верил, а только говорил умные слова. Я молча стоял и все это слушал. Но было желание сказать, что какого хрена ты меня засунул в наряд с двумя авторитетами, с которыми сам справиться не можешь, и когда ты говоришь спецназовцу, чтобы тот переодел кроссовки на берцы, тот просто тебя игнорирует. И местного как прапорщик ни пытался ставить на место, а его все равно отпускали по приказу командира бригады домой на выходные. Да, я согласен, что в наряды было некого ставить, но можно было как-то растасовать колоду и поставить хотя бы одного молодого или моего призыва. Его самого поставить в наряд с этими двумя, и я уверен, что он с ними бы не справился.
Скрипя зубами, я вечером отмучил наряд по штабу. При сдаче наряда, в туалете мне помыл писарь штаба, а коридор мыть уже времени не было. Я сказал, что все вопросы к спецназовцу с местным, которых боялись все как огня.
В роте постоянно нагнеталась обстановка старослужащими. Каждый старослужащий пытался в сводной роте себя проявить. А проявлять они только могли унижая и избивая младший призыв. Был настоящий бардак. В наряд в караул никто не хотел ходить из молодых. Самое спокойное место в карауле — стоять на посту на вышке два часа. В бодрствующую и отдыхающую смену сержанты и старослужащие издевались над молодыми. Один солдат моего призыва сказал, что лучше стоять на вышке целые сутки в бронежилете с автоматом, чем находиться в караульном помещении.
Вскоре прапорщик Вахмутов стал вписывать и молодой сержантский состав в караул, то есть в том числе и меня вместе с молодыми сержантами из учебки, приехавшими со мной. Уж больно много было сержантов, а часовыми ходить было некому. В карауле обстановку нагнетали несколько старослужащих. Если трое старослужащих в караул не попадали, то несение службы было спокойным. Один из трех старослужащих, которого называли Слоном, постоянно вносил свои правила. Он был рядовым солдатом, и ребята в карауле вместо отдыха перед заступлением на пост постоянно часами отжимались, получая в нагрузку удары руками и ногами.
Сменив мою смену часовых с вышек, по приходу в караульное помещение рядовой Слон, построив нас в шеренгу, решил до нашей смены докопаться. Слон меня из молодых сержантов уважал больше всех и говорил, что из меня как сержанта толк выйдет. При команде Слона «упор лежа принять» все упали на пол, кроме меня. Двое молодых сержантов тоже упали. Я один стоял. Слону не понравилось, что я один его не послушал. Как это практически дембель, служивший в Чечне, которому осталось служить пару месяцев, не может поставить в упор лежа молодого сержанта. Самолюбие было превыше него, тем более начальник караула с помощником начальника караула, старослужащие сержанты, начали над ним глумиться. Слон зверел, и другие его не интересовали. Он мне: «Я сказал, сержант, упор лежа принять», — злился рядовой Слон. Я не знаю, сколько он меня долбил, половину часа, может, час. Я летал по всей караулке. Удары куда только ни наносились, и по почкам, и по спине, и по лицу. Чтобы синяков на лице не было, он долбил меня ладонями. Я падал и вставал, корчась от боли. Сколько он меня бы бил, неизвестно, но, лежа на полу, поднимаясь и опираясь на руки, я получаю сильный удар ногой, одетой в берец, в область ребер. Что-то у меня там внутри хрустнуло, и я почувствовал резкую боль.
Я от боли стал корчиться и стонать. Слон сразу перепугался, и стал меня поднимать, понимая, что сломал мне от удара ногой пыром ребра. У меня от боли текли слезы, а Слон со мной проводил воспитательную беседу, чтобы я его не сдал. Лежа на кровати я не знал даже, от чего я больше плакал, от боли или от обиды. С глубоким дыханием у меня заламывало ребра. Еще оставалась у меня одна моя двухчасовая смена на посту на вышке.
Я, превозмогая боль, надел бронежилет с помощью ребят. Я не знаю, как я добрался до своего поста в бронежилете с автоматом, но на вышке я его просто скинул. За два часа, стоя на вышке, я обдумывал все что можно. В первую очередь, я думал, как сбежать из части. По разным слухам, кто убегал из части, то, в лучшем случае, дальше Кизляра добраться не мог. В худшем — солдат убегал и попадал в Чечню в заложники. За некоторое время у меня спали эмоции, и я уже думал, что мне надо врать по поводу ребер. Сочинил историю, что, сменяясь часовым и спускаясь с вышки, я упал ребрами на лестницу. Теперь я думал только об одной проблеме, как попасть в санчасть.
Когда пришел начальник караула на смену, то я на вышке при нем надел бронежилет, корчась от боли. Начальник караула тоже обосрался от такого исхода. Я со сменой кое-как дошел до караульного помещения и лег на кровать. Из старослужащих мне слова никто больше не сказал, да и мне было безразлично. Через два часа закончился наш наряд в карауле. Когда я с караулом пришел в роту и сдал свое оружие, снял обмундирование, то я сразу попросился в санчасть. Я долго убеждал прапорщика Вахмутова, что поскользнулся на лестнице. На лбу у меня тоже был небольшой синяк, и приходилось доказывать, что упал еще лицом. Было, конечно, не особо правдоподобно, но прапорщика я убедил хотя бы меня отпустить в санчасть.
В санчасти меня обвязали эластичным бинтом, и дышать мне стало невыносимо больно. На теле были видны синяки со ссадинами, и медсестра, конечно, мне тоже не поверила, что я мог сломать ребра, находясь еще в бронежилете, и пригрозила разбирательством, положив меня в стационар. Для меня это было большим спасением. Теперь мне надо было отлеживаться и зализывать свои раны.
Странно было, что на следующий день меня врач даже не отправил на рентген. При каждом чихе и кашле я испытывал невыносимую резкую боль. Со мной лежало еще несколько человек. Один солдат вообще был каким-то странным. Он то ли косил под дурака или был им, но постоянно он нес разную чушь. При врачах и медсестрах он разыгрывал разные спектакли, что выбросится из окна или порежет себе вены. Но когда медицинских работников не было, то он вел себя спокойно и разговаривал с нами, лежавшими, со здравыми мыслями. Парень, видимо, так не хотел служить, что косил под дурака, отслужив, как и я, восемь месяцев. В учебке в санчасти был один такой, лежавший со мной, и он не скрывал, что косит. Но у него смелости хватило порезать себе вены, и, проведя некоторое время в психиатрической больнице, его на моих глазах комиссовали. У этого косящего парня смелости не хватало, и пакостил он по мелочам. В санчасти он еще долго лежал, но дослуживать ему пришлось полный срок.
После третьей ночи, лежа в санчасти, меня утром вызвала медсестра и сказала, что меня на выписку. Она мотивировала это тем, что я могу ходить, и в своей роте я могу лежать с постельным режимом, который она мне выписала на несколько дней. Больше мне помочь они ничем не могут. Мне хотелось от злости кричать, что о каком постельном режиме можно говорить, когда старослужащим, некоторым отморозкам, было глубоко наплевать на мои сломанные ребра. Я нашел защиту — укрыться в санчасти от старослужащих и залечить свою травму, но медсестра по заключению врача выносила мне смертельный приговор. Постельный режим — это при том, что меня даже не свозили на рентген.
Когда я вышел из санчасти, то ко мне сразу докопался старослужащий из другой роты.
- Эй сержант, иди сюда кричал он мне.
Я стоял и на него смотрел.
Ты чего, урод, на меня забил, совсем страх потерял.
Эти фразы я повторяю уже несколько раз, но в армии, к сожалению, мало кто мог связать двух слов, только тупая быдлятина. Подходил он ко мне обозленный и напрягал свои кулаки. Я ему в ответ, что я еле хожу и у меня сломаны ребра.
- Да мне по х… что у тебя сломано, — замахивая руку, чтобы меня ударить.
Я схватился двумя руками за ребра, обжимая и защищая их, присев на корточки. Бить он меня не стал. Причина была в том, что мы стояли рядом с центральным входом в штаб, и ходило много офицеров, которые в принципе не обращали никакого внимания на нас.
Я пришел в роту и показал прапорщику Бахмутову свое освобождение с постельным режимом. «Какой нахрен постельный режим, у нас в наряды ходить некому», — кричал он. Я, конечно, это предвидел, что лежать в кровати мне никто не даст.
Командиру бригады требовался в его кабинете ремонт, и он просил из нашей сводной роты выделить двух бойцов. Первого бойца прапорщик вызвал дембеля, которому через пару недель уже было увольняться, по кличке Пряник. Он воевал в Чечне и был один из тех, который если и бил солдат, то только за дело, и отморозком назвать его было нельзя. Чудил он только по пьяни, и именно за пьянку прапорщик ему решил сделать дембельский аккорд. В помощь Прянику прапорщик вызвал меня. «Будешь ему помогать, так как толку от тебя в роте никакого нет», — ерничал он. Мне было безразлично чем заниматься, лишь бы меня никто не трогал. Содрать старые обои и поклеить новые ума большого не надо было. Да и потом я этим занятием мог через силу заниматься. В кабинет приходил и проверял нас только командир бригады, подкалывая Пряника за его пьяный дебош в части. «Вот сделаешь дембельский аккорд, и я тебя отпущу домой», — улыбался подполковник.
С Пряником мы нашли общий язык. И вообще, когда все старослужащие остаются один на один, то становятся совсем другими людьми, и общаются по-дружески, и никогда не ударят, но стоит появиться одному, то их сразу как будто меняют, и начинают долбить молодых. Ремонтом мы занимались до отбоя, и мне так не хотелось идти в роту. Я готов был остаться спать на столе, вместе с запахом клея, лишь бы не идти в ад. В роте я лег в кровать, вспоминая сегодняшний день поклейки обоев, и не видел я все эти дембельские противные рожи, кроме Пряника, о котором у меня сложилось хорошее впечатление.
На следующий день после подъема я с Пряником пошел доделывать ремонт. Пряник решил в кабинете до завтрака еще поспать и лег на стол. Я попытался лечь на другой стол, но с ребрами как я ни пытался улечься, мне было невыносимо больно. Я тогда присел на пол и тоже задремал, прислонившись к стене. Продремали мы до завтрака, так как в штабе утром была тишина, и позавтракав, мы принялись доделывать ремонт. В штабе уже было шумно, так как пришли офицеры на работу. Некоторые из-за любопытности открывали дверь и смотрели на нашу проделанную работу. Пряник вошел во вкус ремонта и ему, по виду, доставляло удовольствие от работы. Мне было тоже хорошо и комфортно находиться в такой обстановке. Некоторые дембеля захаживали к Прянику в гости, прикалываясь и смеясь над дембельским аккордом Пряника. Пряник сразу по приходу своих товарищей менял позицию по отношению ко мне и становился более жестким, приказывая, что мне нужно делать, но когда один старослужащий меня захотел побить, то Пряник за меня заступился и велел меня не трогать.
К обеду у нас практически были поклеены обои, и ремонт наш завершался. Можно было потянуть время и делать это медленнее, но Прянику особо долго находиться в штабе не хотелось. Он хотел в роту к своим товарищам. После обеда мы доклеели два последних рулона обоев, и оставалось только убраться в кабинете, вынести весь мусор и помыть полы. На этот случай я поймал молодого солдата-писаря, и он наводил порядок. Увидев убирающегося писаря, командир бригады не сказал ни слова, только похвалил нас за проделанную работу, любуясь красотой в своем кабинете.
Когда наводилась уборка, прибежал солдат из нашей роты, сообщив мне, что меня зовет срочно прапорщик Вахмутов. Зачем я ему был нужен, шагая в роту, я был в догадках, но предчувствие было нехорошее. В роте я увидел прапорщика зверски бешеным.
- Заходи в каптерку! — кричал он мне.
Закрыв дверь каптерки за собой, прапорщик меня стал бить по лицу ладонями.
- Упал, говоришь, с лестницы! Я тебе сейчас покажу, как ты упал. Упор лежа принять! — кричал он мне.
Я смотрел на него и не понимал, как я должен это сделать со сломанными ребрами.
- Я сказал «упор лежа принять», — толкая меня на пол, схватив за шею.
Я сел на колени. Прапорщик взял ПР (палку резиновую) и начал зверски меня хлестать по спине. Я от боли орал.
Ты чего, скотина, делаешь? — кричал он, нанося мне со всей силы удары ПР. Ты почему не сказал всю правду, что тебя избил Слон? Почему я узнаю от Крылова?
Крылов — это солдат моего призыва. Он был каптерщиком и заведовал, помогая старшине считать и выдавать имущество роты. Парень был очень скользкий и трусливый. Накануне прапорщик Вахмутов расписывал наряд, и из-за нехватки народа пришлось рядового Крылова выдергивать из каптерки и его вписать в наряд в караул. Как старшина ни отмазывал Крылова, что он ему нужен помогать в каптерке, но из-за малой численности ему пришлось смириться с потерей на сутки своего любимчика.
Крылов никогда не ходил утром на зарядки, не тем более в наряды, и у него началась истерика, после того как он понял, что в наряд ему придется идти в караул, и еще с дембелем Слоном. Все в роте про случай со мной со сломанными ребрами знали, кроме командиров. И Крылов истерично закричал, что в караул он не пойдет, а лучше повесится, так как младшего сержанта Гоголева в карауле избил Слон, поломав ребра. Это я услышал от прапорщика Вахмутова, который долбил меня палкой резиновой, эмоционально крича про случай с Крыловым. У меня от боли текли градом слезы. Прапорщику неинтересно было, чтобы я ему подтвердил про Слона, что именно он меня избил. Он уже все знал.
Я сначала думал, что он меня убьет. У него не было ко мне ни малейшей жалости. Избивая меня палкой резиновой, он ни на секунду не подумал, что я со сломанными ребрами. Я валялся на полу и корчился в слезах от боли. Когда прапорщик выпустил всю злобу на мне, он меня отпустил и закричал дневальному, чтобы нашли ему Слона. Я удалился из расположения роты и пошел в штаб, где заканчивалась уборка помещения после ремонта кабинета. Я зашел в туалет и стал долго умываться. Посмотрев в зеркало на свою голую спину, я ужаснулся. Спина была изрисована полосами из кровоподтеков. Белого и живого места на спине практически не было. Спина моя приняла несколько десятков ударов. Майка с кителем, конечно, немного смягчили удары ПР. Теперь, помимо ребер, еще ломила спина.
Когда я зашел в кабинет, где мы делали ремонт, то Пряник с дембелем из спецназа начали на меня наезжать, где я так долго был и зачем меня вызывал Прапорщик. Я показал им свою спину и рассказал им всю ситуацию. Дембеля меня стали сразу уговаривать, чтобы я на прапорщика за такой беспредел пожаловался командиру бригады. Контрактников не зазорно сдавать, и они нам никто, они уроды, и за это ему светит статья, твердили мне дембеля.
К вечеру мы пришли в роту, а Слона уже посадили в комнату для хранения оружия, за решетку. Оружия в КХО не было, и помещение просто пустовало. Слон, конечно, на меня за решеткой косился, и старослужащие некоторые, не зная всех дел, думали, что я сдал Слона. Приходилось всех уверять, что это был не я, а Крылов, который сейчас находился в карауле. Я показывал всем спину, что Прапорщик меня избил как раз из-за того, что я не настучал на Слона. Кто-то верил, кто-то не хотел верить, кто-то мне сочувствовал, кто-то усмехался. Ублюдков в армии уж очень много было. А в махачкалинской части, где я служил, помимо срочников разных национальностей, было много ублюдков-контрактников, которые были местными.
Офицеры русские в основном попадали служить в эту часть после какого-нибудь залета, которых отправляли сюда в ссылку в Махачкалу на исправление. Короче, можно было нашу часть назвать какой-нибудь исправительной. Служили или местные, которым комфортно было служить и зарабатывать здесь деньги, или русские, которых немалый процент отправляли за грехи, или молодых, только после военного училища, лейтенантов. Конечно, понятно, что какому русскому офицеру захочется служить в Дагестане, когда он вырос, например, в Санкт-Петербурге или еще где-нибудь. Где не стреляют и все спокойно. Конечно, очень большую роль играли местные офицеры-дагестанцы, грамотно понимая всю ситуацию в части, и во многом если бы не их профессионализм, то было еще хуже. Для меня где-то было проще найти общий язык с дагестанским офицером, чем с русским.
Прапорщик Вахмутов, чувствуя свою вину, от меня отстал. А я был на взводе. Думал, если еще он ко мне пристанет, то сразу пойду жаловаться, пока рубцы остались на спине. Я уже несколько раз обращался к заместителю командира батальона, чтобы при первой возможности он меня отправил в командировку на чеченскую границу к своей третьей роте, и он пообещал при первой возможности меня туда отправить.
На следующий день я узнаю, что троих из сводной роты на днях должны забрать на чеченскую границу. Я зашел в кабинет заместителя командира батальона. «Товарищ капитан, — я ему говорю, — вы же мне обещали, что я на заставу поеду в первых рядах». Капитан мне стал объяснять, что не нужен там сержантский состав. Я буду там за рядового, мне все равно, и здесь я в наряд хожу за рядового в караул, на вышке стоять. «Мне уже здесь невыносимо в сводной роте», — разоткровенничался я. Капитан сказал хорошо, и что он что-нибудь придумает, но там же опасно, туда никого не заставишь ехать, а ты сам рвешься, уговаривал он меня одуматься.
Мне было все равно, куда ехать, лишь бы уехать из этого бардака и беспредела. Я понимал прекрасно, что на военных действиях дедовщины мало, так как при первой возможности можно было застрелить своего обидчика и списать все на войну. А мне надо было залечивать раны, да и войны как таковой уже не было. Первая чеченская закончилась, а вторая должна была начаться через полтора года. Шла партизанская война. И потом я отдавал себе отчет, что если за месяц никого не убило, то и опасность была минимальная.
Я рассчитывал, что в командировке будет служба идти день за полтора. Уж больно хотелось скостить себе срок до минимума. Все эти факторы решали большую роль для меня, ведь каждый день для меня был испытанием. Заместитель командира батальона спросил из троих солдат уже назначенных поехать на заставу, кто желает остаться в части, и один на радостях попросил, чтобы его оставили. Через два дня меня с двумя солдатами моего призыва должны были увезти. Я доживал последние дни в роте и уже был на чемоданах.
Мой обидчик Слон сидел за решеткой в комнате для хранения оружия. Так как у меня было освобождение, то я периодически с ним разговаривал. На меня Слон обиды не держал, да и не за что было, ведь не я на него настучал по поводу сломанных ребер. «Ты нормальный пацан, и сержант из тебя хороший получится», — хвалил он меня. Я его тоже поддерживал, что меня скоро не будет, а его отпустят. Каптерщик Крылов, сдавший Слона, щемился по углам, и я на него тоже смотрел косо, ведь не его дело было стучать. Мало того, что он сдал Слона, но он еще и меня подставил, так как моя история была, что упал сам с лестницы. И моя спина, изрисованная кровяными подтеками, тоже на совести Крылова. Конечно, эту мерзость Слона надо было наказывать, и где-то, наверное, он получил по заслугам, но стучать в армии, в которой служил я, было не в правилах и ставить себе клеймо стукача на остаток службы.
Прапорщика Бахмутова я ненавидел больше всех, и мне оставался один день до убытия на чеченскую границу, и больше в надежде его не видеть. В расположении роты положили ОЗК сто штук, которые получил старшина, и мне приказал за ними следить. У старослужащих у многих горели глаза утащить, а так как я за ними следил, то подставляться никто не хотел, и они заставляли ребят моего призыва воровать комплекты. Двоих я пресек на месте, и, конечно, обидно было, что сержант моего призыва, с кем я приехал из учебки, попытался украсть ОЗК и подставить меня.
В каптерку зашел к старшине злой пьяный старший сержант-контрактник. Через несколько минут этот контрактник, которого звали Агабалой, крикнул меня.
- Эй, сержант, быстро ко мне подойди.
Я зашел в каптерку и стал объяснять ему, что я охраняю ОЗК и не могу здесь долго находиться.
Ты чего, меня не понял? — крикнул он и, поднявшись со стула, ударил меня в грудь, что я вылетел из каптерки. Ты кого ослушался, сержант, — ударяя по моему лицу своей здоровенной ладонью так, что я отлетал и падал на несколько метров на мягкие ОЗК. — Вставай, — говорил он мне и со злостью меня опять бил.
Бил он меня до тех пор, пока не пришел старшина роты. По старшине роты было заметно, что он Агабалу тоже побаивался. Старшина был русским, а Агабала был дагестанец-лезгин.
Ты посмотри на себя, сержант. Ты вообще знаешь, куда едешь со мной?
- Знаю, — говорил я.
Я из тебя сделаю там нормального человека, — грозился он.
Что он подразумевал под своими сленгами, я его не понимал, но я понял, что Агабала приехал за двоими солдатами и за мной увезти нас на заставу, также забрать кое-какие войсковые вещи, нужные для заставы. Так же я понял, что это опасный человек, и прапорщик Вахмутов по сравнению с ним был ангелом. У меня обратной дороги уже не было.
Через некоторое время, когда в роте никого не было, кроме меня и дневального на тумбочке, Агабала привел писаршу из другой роты и сказал ей, чтобы она выбирала себе ОЗК. Она выбрала два понравившегося комплекта и забрала. Агабала, грозно на меня посмотрев, пригрозил, что если расскажу, то он меня убьет. При подсчете ОЗК двух, естественно, не хватило. Я хлопал глазами и говорил, что не знаю, где они. Досталось мне и от старшины. Я не мог сдать Агабалу, так как мне надо было ехать завтра с ним на чеченскую границу. Я не мог знать, что будет со мной, если я расскажу, но ничего хорошего точно не было бы. Это был настоящий зверь.
Где-то я уже начал жалеть, что собрался в командировку, но здесь в части было тоже не лучше, а там я буду со своей ротой, с которой мне придется дослуживать всю оставшуюся службу. На следующий день я и двое солдат моего призыва погрузились в машину «Урал» вместе с набитыми военными вещами и поехали к своему месту назначения. Ребята со мной ехали классные. Один заикался и был такой смешной. Все у него рассказы с заиканием и приколы были не хуже, чем у хорошего пародиста. Фамилия у него была Третьяков, а кличку он получил Двадцатый. У вратаря Третьяка, нашего заслуженного хоккеиста, был номер двадцатый. Вот он нас по дороге и веселил. Агабала, который ехал в кабине, был в этот день более мягок, но по несколько ударов в тело моим сослуживцам досталось. Меня он уже не трогал, и даже со мной он немного разговаривал. Наверное, зауважал, когда он меня подставил с двумя ОЗК, и я его не сдал.
Проезжая город Буйнакск, который был на слуху в республике Дагестан по терактам, я даже и не понял, почему его называли городом. Может, мы проезжали просто окраину города. Все проезжающие окрестности мне напоминали только войну. Я просто не понимал, как люди могли здесь жить, и жили они по своим законам. Смотрев на людей, в их глаза и лица, я понимал, что они несчастные. Как будто им было запрещено улыбаться. Они были, может, даже несчастнее меня, потому что у меня была надежда, что еще пятнадцать месяцев как-нибудь, и меня отпустят домой из этого ада, и этой надеждой я изо дня в день жил. А у них какая надежда, думал я, только смирение с этой жизнью и обреченность.
Через несколько часов мы приехали на первый блокпост, где стояла вторая рота нашего батальона. Кто-то из старослужащих крикнул, как там поживает в части Слон, он был как раз из второй роты. Кто-то из наших крикнул, что посадили в КХО, но долго разговаривать не получилось и объяснять, за что, так как мы поехали дальше. По словам и слухам я понял, что из трех рот батальона второй роте повезло больше в плане безопасности. Она находилась всех дальше от чеченской границы.
Еще через некоторое время мы приехали в Терекли-Мектеб. Агабала вышел из машины и сказал, что ночевать мы будем здесь в машине. «Вы здесь располагайтесь, ешьте сухой паек, а я завтра приду и поедем дальше к себе на заставу», — сказал он. Дал нам ценные указания, чтобы охраняли машину и никого не подпускали.
У меня опять забилось часто сердце. На этой центральной заставе находилась первая рота из нашего батальона и группа специального назначения, куда и отправили под дембель за залет Витю Амбала дослуживать, который избил нас, молодых сержантов, на КМБ. Услышав его голос и увидев в пятидесяти метрах от машины, мне хотелось закопаться в вещах, которые находились у нас в кузове. Я своих ребят предупредил, что если что, то я закапываюсь и якобы сплю. Видно было, что Витя чувствовал себя здесь хорошо, и на моих глазах, выглядывая из машины, я видел, как он побил двоих солдат. И легенды еще в части доходили, что Витя на заставе успел уже избить какого-то контрактника. Я был, конечно, на нервах и ждал момента, когда мы отсюда уедем. Агабала к вечеру к нам зашел уже пьяный и грозился, что не дай бог что-нибудь из кузова пропадет. Он нас придушит своими руками. Мне он сказал, что я старший и отвечаю за все имущество и за ребят.
Мы тихо улеглись спать. Я спал чутко и в голове прокручивал разные ужасы, которые со мной случались. Под утро мы все проснулись от шума в палатках. Это был шум подъема роты на зарядку. Я решил еще немного поспать, ведь нас по понятным причинам зарядка не касалась.
Агабала нас разбудил своим грозным голосом, спросив все ли нормально, и велел нам позавтракать, достать сухой паек. Подкрепившись, через некоторое время мы поехали на свою заставу Кумли. Доехали мы уже до своего места быстро. Здесь уже была более радужная атмосфера. Я только вспоминал, что сейчас начало сентября, суббота, и в Москве отмечают день города.
К нам троим подошел командир роты старший лейтенант Абдулфатахов и, улыбнувшись, поздоровался с нами. Его замы-контрактники сразу начали задавать вопрос, зачем нам еще один сержант, у нас их и так много. Командир роты сказал, что не помешает и будет ходить разводящим в караул. Он вызвал к себе старослужащих сержантов Филинкова, и еще одного, по кличке Фикса, у которого на переднем зубе светилась железная коронка. Командир роты при мне сержантам сказал, чтобы дали мне поддержку и в обиду не давали. Он велел им рассказать про мои обязанности.
Сержант Филинков был авторитетней других, так как он был старше всех. Ему было двадцать пять лет, и он мне сказал, чтобы я осматривался и, если что, спрашивал. Будешь командовать своим призывом, и кто не будет тебя слушать, говори мне. Сержант Фикса мне еще до заставы не понравился. Это он устраивал шоу, приказав солдату по кличке Волк заставлять молодых сержантов ходить строевой у туалета. Было видно, что Фикса был скользким и опасным. От солдат я тоже узнал, что на сержанта Фиксу вся рота зуб точит. По ночам он ходит по окопам, и кто на посту спит, ворует оружие и сдает командиру роты, показывая, как он хорошо служит. Поэтому от сержанта Фиксы можно было ожидать чего угодно.
Ребята моего призыва за полтора месяца, проведенные здесь, жаловались на недосыпание. Когда они только приехали на место, то целыми днями рыли окопы и блиндажи, а на ночь заступали на усиление в караул. Поначалу они рыли окопы лежачие. Командир роты, видимо, надеялся, что чувство страха не даст уснуть солдату, но через несколько дней солдаты обманчиво стали расслабляться и начали засыпать. Командир роты решил делать тогда стоячие окопы. Ребята целый месяц только и делали, что копали окопы по периметру в человеческий рост с блиндажами. Из палатки, где было спальное помещение и хранилось оружие с боеприпасами, можно было выбежать через окоп и попасть на свое боевое место, находящееся по периметру заставы.
По истечению нескольких лет я начал понимать, что какой же сильный и грамотный командир роты у нас был. Я еще тогда на заставе задавал вопрос, почему он только был старшим лейтенантом. Он соображал не хуже высших командиров, и, конечно, я ему был благодарен, что не отправил меня на должность рядового, когда солдат не хватало, а сержантов был перебор.
На заставе было разбито еще несколько палаток: это столовая, караульное помещение и санитарная часть, а выше было еще одно караульное помещение, где охраняли тоже наши. Я их видел только тогда, когда они спускались на прием пищи. Я у них наверху был всего один раз. Солдаты нижней заставы им завидовали, что они там практически ничего не делали и помногу спали. Там был так называемый взвод АГС.
По словам сослуживцев моего призыва, на нижней заставе был самый урод из всех старослужащих, по кличке Ара. Как говорили, что сержант Фикса по сравнению с ним был ангелом. Ара, конечно, переключился на меня, и мне даже показалось, что он хороший парень. Когда он узнал, что он был в учебке в Ростовской области в той же роте, что и я, только на полгода раньше, я сразу подумал, что я с ним общий язык найду. Он смеялся, и ему доставляло удовольствие, что я знал общих знакомых в учебке. Ара был рядовым, и я вспомнил, что перед уездом в Махачкалу сержанты учебки как раз про него говорили, чтобы передавали ему привет, и больше про него говорили плохих вещей. За что ему не дали сержантского звания, я понял, что он просто не выдержал испытаний в учебке. Вспомнив об этом, я уже на его вопросы больше отвечал «да» или «нет». Ару в роте сильно уважали старослужащие сержанты и побаивались. Ему еще в части большую поддержку дал другой армянин из спецназа, который меня напрягал, будучи в наряде по КПП, на сигареты «Мальборо», и, к моему счастью, уволившись, так и не добравшись до меня.
На следующий день я услышал к вечеру про какой-то сбор. Позвонили с омоновской заставы, которая называлась «Океан 7», и просили помощи. Командир роты взял из сержантского состава старшим меня, и после вкусного ужина мы стали собираться. Еда здесь была очень вкусной: яйца, сгущенное молоко, колбаса — и готовил свой повар. Отсюда не хотелось уезжать только из-за еды.
Когда я только призывался в первом пункте назначения города Моздок, то нам говорили, что после КМБ всех нас распределят по ротам и увезут на какой-то полигон, где мы будем жить в палатках. Мне это было так дико, но застава оказалась раем по сравнению с казарменными частями.
Взвалив на себя бронежилет с автоматом и подствольным гранатометом, который крепится к АКСМ, я со своими сломанными ребрами полез на бронетранспортер (БТР). Кое-как я забрался наверх, и мы по полю двинулись в пункт назначения. Удовольствия от поездки на верху БТР я получил бы больше, если не боль, которую я испытывал от ям и ухабов движущейся машины, сидящий на броне. Уже было практически темно, когда мы практически подъехали к посту «Океан 7».
Спрыгнув с большими усилиями с БТР, я увидел встречающего нас радужно подполковника, командира ОМОН. Весь его боевой состав был пьяный в хлам. Кто уже валялся в окопах и не мог встать, кто, шатаясь, нес какую-то чушь. Командир роты наших бойцов расставил по постам и меня назначил старшим. Меня привели в штаб связи, и командир роты приказал мне сидеть в узле связи, периодически проверяя своих бойцов.
Старший лейтенант ОМОН, пожав мне руку и познакомившись со мной, оказался одним из трезвых, да еще и мой земляк из Подмосковья. Мой командир роты мне пригрозил, что если я выпью водки, то он меня накажет. Пытались мне залить многие бойцы горючку, но я держался, отказываясь, послушав своего командира.
Мне было страшно находиться в этом месте. По рации я слышал разные чеченские голоса. Старший лейтенант ОМОН мне рассказал, что его отряд должен был сегодня демобилизоваться. Сегодня для них должна была закончиться трехмесячная командировка. Именно сегодня они должны были смениться, и на радостях они все выпили, а потом с горя нажрались, когда узнали, что смены сегодня не будет. Старший лейтенант оказался благоразумнее других и попросил у нашей заставы помощь по охране объекта. Чеченцы грозились напасть на них как раз перед сменой. Пьяным омоновцам было море по колено, и, глядя на нервного старшего лейтенанта, становилось еще страшнее.
Прошло еще часа два, и в узел связи зашел, еле стоя на ногах, подполковник ОМОН, взявшись за рацию. Старший лейтенант только нервным голосом спросил, чего он собрался делать. Подполковник начал вызывать Белого медведя: «Белый медведь, ответь Океану. Белый медведь, ответь Океану». На ломанном русском языке отвечает чеченский голос: «Слушает тебя Белый медведь». Командир ОМОН ему отвечает: «Эй, Белый медведь, если завтра не приедет моя смена, я тебя буду в ж. пу е…ь». Старший лейтенант, уже не выдержав, силой отталкивает от рации своего командира, и кричит ему: «Ты чего делаешь, иди на хер отсюда». По рации слышу только чеченский голос. Суки и сплошной мат. Поедете завтра все домой в цинке.
Подполковник ушел, а меня со старшим лейтенантом всего трясло. Старший лейтенант рядом со мной старался не подавать вида, но на нем все было видно. Он меня подбадривал, что завтра к утру он мне даст целый магазин патронов пострелять. Я думал, чтобы поскорее закончилась эта ночь и уехать к себе на заставу. Периодически были слышны какие-то выстрелы, и мне все казалось, что на нас идет нападение. Старший лейтенант меня утешал, что стреляют далеко, и чеченцы тоже любят пострелять.
Чеченцы находились от нас в километре. При нападении этот пост должен был все на себя брать первым.
Я вспомнил пословицу, которую слышал еще на гражданке и которая оказалась актуальной на своем опыте.
Раньше я спал спокойно, потому что знал, что меня охраняют.
Сейчас я сплю неспокойно, потому что знаю, как меня охраняют.
Мой командир роты приказал мне поменять бойца, так как он замерз, и я полез на вышку. На вышке нас было двое. Я оглядывался вокруг, и была какая-то подозрительная тишина. Бойцы ОМОН, отшумев свое, уже спали, а мы, мерзнув на вышке, бодрствовали и охраняли объект. Я для себя сделал вывод, что самая сила — это воинские части. Солдату-срочнику сказали стоять, пригрозив, чтобы не спал, и он несет добросовестно службу. И по уставу спать на посту практически приравнивалось к преступлению. А контрактника кто может заставить, если он сам не захочет?.. Я увидел это собственными глазами, и мне хватило сделать свой вывод, может, и не совсем правильный. Пускай это был последний день их командировки, но они не имели никакого права расслабляться, и можно было только снять шляпу перед старшим лейтенантом ОМОН, который взял инициативу в свои руки и попросил помощи у нашей заставы. И конечно, молодец наш командир, который не отказался им помочь.
Утром мы уехали к себе отсыпаться. На следующую ночь омоновцы опять напились, и уже без меня уехали другие наши бойцы на помощь. Омоновцы полностью забили на службу, обидевшись, что их вовремя не меняют уже второй день, и наш командир роты прикрывал нашими бойцами Океан-7.
На третий день приехала их смена, и они отправились домой, вроде как без происшествий, а Белый медведь только грозился, но ничего так и не сделал.
У нас на заставе служба набирала свои обороты. Старослужащий-армянин достал своей противной рожей весь мой призыв. Покоя он не давал никому, и постепенно очередь дошла до меня. Быстро из его товарища я стал ненавистником. Ара уже всех так достал, что его уже много моих сослуживцев хотели грохнуть. Первый мой конфликт с ним произошел после боевой тревоги, которую нам устроил командир роты с марш-броском. Я, как и все старослужащие сержанты, надел просто разгрузку с магазинами без бронежилета, и после мероприятия меня Ара уже долбил из-за того, что он бегал в бронежилете, а я, молодой, без бронежилета.
На следующий день меня вызывает в караульное помещение Ара. У меня было нехорошее предчувствие, и оно оправдалось. Ара мне сразу в караулке сказал упор лежа принять. Я, конечно, отказался. Ара зверел, так как в этом удовольствии мой призыв ему не отказывал, а я первый отказался отжиматься. Он меня бил около часа. Сержант Филинков в мою защиту сказал одно слово, но не помогло. У этой мрази была такая морда, что его морду хотелось со злости изрезать ножом на мелкие части. Я уже взбрыкивал, защищая локтем свои больные ребра. Спасло меня только построение на ужин.
Я этого Ару стал ненавидеть еще больше, и один из солдат моего призыва подумывал написать анонимку командиру роты. Я и еще несколько человек его поддержали. Оставалось ее только написать, что и сделал этот рядовой, подкинув на стол командиру. Моментально Ару вышвырнули из нашей роты, с нашей заставы, и перевели его в первую, которая ему снилась только в страшном сне. В этой первой роте он уже служил — и был там каптерщиком, разворовывая и продавая военное имущество роты. Старшина первой роты его чуть там не убил, если не перевод в нашу третью роту. На его испуганное лицо было всем приятно смотреть.
Командир роты молодец даже не стал разбираться, кто написал эту анонимку, и сталкивать старослужащих с молодыми, наверное, понимая, что из этого ничего хорошего не выйдет и молодых просто могут задолбить старослужащие, а рядового Войнова, который написал кляузу, просто сгнобят потом все. Старослужащие начнут искать стукачей в нашем призыве, отрываясь на нас. А наш призыв гнобил бы Войнова до дембеля. Рядовой Войков нам всем сделал такой подарок, о котором наш молодой призыв в количестве тридцати-сорока человек и мечтать не мог, и для всех для нас был большой праздник. Командир роты без всякого шума и без всяких разбирательств, где, зачем, когда, кого ударил, просто убрал Ару с заставы. И еще в первую роту, где его ненавидел старшина. А когда старшина первой роты узнал, что в нашей роте он занимался жестокой дедовщиной, он пообещал, что с разных уборок, чисток туалета он вылезать не будет.
На этого негодяя было жалко смотреть, он, чуть не плача, садился с вещами в машину. Еще недавно, день назад, он долбил первого попавшего на пути, заставляя отжиматься и ползать, получая от этого удовольствие. Ну, ладно, бил бы за дело, еще можно было бы понять, а он же бил просто — не так прошелся мимо него, что-то как-то сказал, как-то засмеялся, ремень не туго затянул и т. д. И это все при военных действиях. Слухи ходили большие, что Ару при первой же возможности хотят пристрелить. Но все это было только слухами, и сидеть за этого ублюдка никто не хотел, и за это мы должны были только сказать одному человеку спасибо — своему сослуживцу, который написал анонимное письмо.
Еще раз я убедился в профессионализме нашего командира роты, который сделал все грамотно, и на следующий день процентов на семьдесят убралась дедовщина. Если уж получали, то только за разные провинности. Меня, конечно, это меньше всего касалось, и после ухода Ары я уже нес службу спокойно, так как сержанты без дела меня не трогали, а я все свои обязанности, как мне казалось, выполнял добросовестно. Конечно, с уходом Ары одной большой проблемой стало меньше, но много других разных мелочей стало появляться.
Нашего командира роты, старшего лейтенанта Абдулфатахова, отправили на повышение в нашу часть, присвоив ему звание капитана и поставив на должность заместителя командира батальона, а нам на заставу прислали нового командира роты из части Кизляра. С этим командиром роты я, в принципе, был знаком. Он также приезжал на курс молодого бойца в Махачкалу и был там командиром одной из рот у новобранцев. Он меня, конечно, тоже вспомнил, но это было не особо важно. Командир роты устраивал всех, но шло только это не в пользу выполнения служебных задач.
Рядовые радовались, что наконец начался расслабон. Все перестали рыть окопы, по учебно-боевой тревоге нас никто не поднимал. Зарядка была одним только названием. Стал просто пионерский лагерь, и, конечно, из-за расхлябанности командира началась дедовщина, только в других личностях. Конечно, прямо не так все плохо было, и для меня застава была раем по сравнению с восемью месяцами службы в разных частях. И к новому командиру я относился с симпатией. Но сразу был заметен минус. Мы перестали смотреть видеофильмы, так как телевизор всегда находился в штабе у командира роты. Пропало на приемах пищи самое наше любимое лакомство — это сгущенное молоко. Вместо пяти банок на всех стали выделять две, и колбаса с наших столов стала потихонечку пропадать.
Я опять ни в коей мере не хочу унижать своего нового командира роты, и в прохождении службы я видел на порядок хуже командиров, но в сравнении с предыдущим была заметна большая разница. Когда солдаты возмущались, куда делась сгущенка, то старшина, который меня привез на заставу и который в том числе отвечал за хозяйство с продуктами, отмазывался, что продуктов стали выделять меньше, поэтому на столах не стало колбасы со сгущенкой. Сразу стали заметны контрактники, которые со старым командиром выполняли служебные обязанности, а с новым они начали халатно относиться к службе. Если бы не старый командир роты, то я, может быть, и новую форму не получил, и все остальные вместе со мной, но это, конечно, мои размышления.
Наши контрактники познакомились с омоновцами, которые несли службу в нескольких километрах от нас. Даже, может быть, и те омоновцы, сменившие на несколько дней позже другую смену, про которых я писал, к которым мы ездили на помощь. Наши контрактники решили поиграть с ними в волейбол. На следующий день уже просто играть было неинтересно, и решили играть ради азарта на продукты. Омоновцы ставили убитого барана, а наши ставили два ящика, один с тушенкой и один со сгущенкой. Весь ответ старшины, куда девались продукты, был понятен, хоть старшина и отмазывался, что они проигрывали свои.
Мне, конечно, немного перепадало хорошей домашней еды. Наши сержанты каждый день озадачивали повара, чтобы он воровал им картошку, масло и тушенку. Они это все жарили в караульном помещении. В один день сержант по кличке Фикса жарил картошку. Как всегда, солдат один стоял на стреме и смотрел, чтобы кто-то из контрактников не пошел и не запалил неуставную еду. Солдат увидел, что в караульное помещение надвигается прапорщик Варцев.
Об этом прапорщике я уже был наслышан — много нехорошего. Он много воевал в первой чеченской войне и жестоко издевался над солдатами. Кто с ним служил из срочников, все его боялись. По слухам, на войне он вставлял солдатам лезвия в пальцы ног под ноготь за какую-либо провинность. До моего приезда на этой заставе солдат сорвал колючую шишку, похожую на кактус. Они росли везде, как сорняк, высотой примерно по пояс. На длинном стволе примерно с метр рос небольшой, похожий на маленький кактус сорняк. Солдат, сорвав его и разломив, съел семечек пятнадцать, которые находились внутри сорняка. У него через некоторое время начались галлюцинации, что, конечно, все заметили. Его сразу положили в палатку санчасти, где из него выводили всю отраву, которую он сожрал. Отходил он два дня, и после выздоровления прапорщик Варцев стал его воспитывать. Сначала он взял плетку и бил его ей, после он посадил его в вырытую яму с водой на сутки. Такие пытки врагу не пожелаешь. Это я все слышал от сослуживцев, и прапорщик на меня нагонял страх. Я его один раз видел в нашей части, когда он зачем-то приезжал с заставы. Я видел, как он пьяный бил солдата без жалости, который с ним был на первой чеченской. Солдат был весь в крови, но никто из офицеров и контрактников не повел пальцем за него заступиться. Он пьяный бывал просто без тормозов.
Пока прапорщик Варцев на заставе шагал в караульное помещение, то сковороду с картошкой успели оттащить в окоп, который был за караульным помещением. Запах жарки картошки, конечно, остался. За прапорщиком шла собака, которую звали Дашка. Собаку Дашку любили все. Каждый ее гладил, кормил, и была она очень умной и красивой дворняжкой. Прапорщик Варцев ее тоже любил, по виду больше всех. Он больше всех ее кормил и дрессировал. Войдя в караульное помещение, прапорщик сразу унюхал вкусный запах. Собака по запаху нашла сковороду в окопе и начала лаять. Прапорщик пошел к собаке посмотреть, чего она лает, и увидел сковороду с картошкой, которая была горячей и от нее шел пар. Собака облизывалась. Прапорщик забрал картошку, посмеявшись, но что у него было на уме, оставалось загадкой.
Через несколько дней утром на построении прапорщик Варцев взял автомат и устроил контрактникам с командиром роты шоу. Я на это шоу смотреть не мог. На глазах у всех он стрелял по нашей всем полюбившейся собаке Дашке. Первый выстрел он ей выстрелил куда-то в спину. Собака визжала. Второй попал тоже куда-то в туловище. Дашка бегала, визжа от боли, и третьим выстрелом он ей попал в голову.
Мне сейчас тяжело писать, и всего меня трясет. Надо поднабраться моральных сил. Перепечатывая текст, я уже второй раз пишу про эту историю. Поверьте, мне это очень тяжело делать, и я немного отдохну.
Застреленную собаку разделал повар и приготовил ее в штаб нашим контрактникам. Старослужащие сержанты, разговаривая по этому поводу, надеялись, что им тоже перепадет несколько кусочков, но собака, видимо, была такой вкусной, что они ее сами сожрали под спиртное. Пили контрактники очень часто, но как-то нам солдатам и сержантам больших проблем они не доставляли.
Был случай, когда командир роты по рации сообщил в караульное помещение, чтобы прапорщика Варцева с территории заставы не выпускать. Я был за главного, так как мой начальник караула отдыхал. Прапорщик, подъезжая на бронетранспортере к шлагбауму, крикнул в грубой форме на часового, который сразу открыл шлагбаум, и он укатил куда-то на БТР. Командир сразу вызвал меня с допросами, почему пропустили. Я, конечно, стал отмазываться, что как-то получилось случайно, и мой часовой немного не услышал, но в душе прекрасно понимал, что если не пустили, он устроить мог все что угодно, и никакой нам командир роты не смог тогда помочь. Командир роты отчитывал меня, а я думал про себя, что же это за командир роты, которого контрактники не слушаются, а отчитывает он меня. Нашел крайнего.
Нынешний командир роты был мягкотелым, и при первом командире прапорщик Варцев никогда бы не сделал такого поступка. Мало было в этом командире личности и авторитета, и возраст, конечно, свою роль играл. Ведь новый командир был на десяток лет моложе предыдущего.
Я в основном нес службу в карауле через день, практически выполняя все свои обязанности. Старослужащие сержанты ели и спали, а я через каждые два часа менял смену. Было сначала по ночам жутковато обходить посты, меняя часовых, но потом привык, да и тишина практически всегда была. Если слышались какие-либо выстрелы, то я сразу бежал докладывать командиру.
Командир практически на это не обращал внимание. Если при старом командире после докладов принимались разные меры, связывались с постами ОМОН, кто стрелял, то докладывая новому командиру, я видел в его взгляде: чего я опять приперся и нарушаю его покой — лежа смотреть телевизор.
Как-то в метрах пятистах от нас проезжала машина, буханка — так мы называли машину, которая была двадцать-тридцать лет назад скорой помощью, — и направлялась она на чеченскую границу. Я, конечно, побежал сразу докладывать. Командир, конечно, проигнорировал все это дело и сказал, что хрен с ней, пускай едет. Через пару часов после вызова моего начальника караула, сержанта Филинкова, к командиру я узнал, что именно несколько часов назад убили на блокпосту в нескольких десятках километров от нас двух сотрудников МВД, и одного взяли в заложники на машине буханка, которая по описанию и по цвету совпадала с той, которая проезжала мимо нас. Мне сержант Филинков передал, что никакой машины мы не видели, и ничего не слышали от командира, и вообще это, может, не та машина сказал командир роты. Командир роты прикрывал свой зад, который мог гореть. Мы должны были сесть в два бронетранспортера и догнать эту машину. Я не думаю, что была у кого-то боязнь догнать машину. Просто командир был ленивым. И меньше знаешь — крепче спишь. Я не знаю, почему его поставили нашим командиром роты, он же служил в части города Кизляра, но было видно, что энтузиазма у него в службе не было. Военного фанатизма в нем не наблюдалось, и офицером он стал в моем видении. На вопрос, зачем пошел учиться на офицера, ответил: сказали идти, я и пошел. Конечно, это мое субъективное мнение, и в голову я ему залезть не мог. Через несколько месяцев он покинет нашу роту, и будет у нас новый командир, к которому кроме как «ублюдочное существо» я больше никакого слова не применил бы, но это будет позже.
Служба продолжалась дальше. Сержанту Фиксе уж очень не нравилось, что я молодой сержант, а веду себя как командир. Уж больно быстро, по его мнению, я стал подниматься. Этот сержант был самым противным и скользким. Был крысой и подстрекателем в одном лице. У этого сержанта Фиксы всегда было все. Солдаты его боялись больше других, не потому, что он мог кого-нибудь избить. Этот сержант мог украсть что угодно. Ночью он прокрадывался по окопам, и если часовой спал, то он снимал с него автомат, а если автомат не получалось снять, то снимал магазин, который снять незаметно очень просто. После начинались разборки, когда солдат приходил с поста, потеряв якобы магазин. Конечно, Фикса, с одной стороны, делал все правильно. На посту спать — это преступление, но у Фиксы всегда были меркантильные интересы. Солдат, потерявший автомат или магазин, всегда Фиксе был что-то должен. Все были на него злы и мечтали его пристрелить, когда он в следующий раз будет подкрадываться не по уставу. Конечно, ни у кого на это не хватало смелости.
Добрался Фикса и до меня. Фикса решил подговорить одного солдата, который был здоровым и с детства занимался борьбой. Он был одним из самых сильных в нашей роте. Родом из Башкирии. Его все уважали, начиная от нашего призыва, и не трогали старослужащие. Звали его Рифатом, и я как-то с ним ни разу не сталкивался и не общался, так как он находился на верхней заставе, а они спускались к нам только в столовую на приемы пищи. Он всегда на меня смотрел косо, и я это чувствовал. Рифат отзывает меня в блиндаж поговорить, чтобы никто не видел из нашей роты. Я, поглядев по сторонам, увидел только Фиксу, который это все и устраивал.
Все знали — и Рифат, и Фикса, и вся рота, — что у меня еще не залечились сломанные ребра, так как отжиматься я еще ни разу не мог. Я поражаюсь еще раз жестокости солдат, и мои проблемы с ребрами никого не волновали. Фикса меня хотел поставить на место через Рифата, а я ведь сержант, пускай и молодого призыва, которому старослужащие сержанты должны давать поддержку. Сержант Фикса думал иначе, и только подстрекал, чтобы меня избили.
Рифат в блиндаже стал мне объяснять, что я стал очень борзым, ударив меня в грудь. Я, конечно, сразу схватился за ребра, прижав их рукой. Рифат меня стал бросать борцовскими приемами, и я делал все, чтобы защитить свои сломанные ребра. Рифат постоянно нес разную чепуху, посматривая на выход блиндажа, где слышалось, что на выходе кто-то был. Это был Фикса, который хотел услышать все и увидеть. Было видно, что Рифат меня не очень хотел трогать, и все делал через силу, так как ему приказал Фикса. Сильных последствий после этой потасовки моему здоровью принесено не было. Фикса через некоторое время зашел в блиндаж, делая вид, что ничего не знает, и разборки на этом закончились. Фиксу я стал ненавидеть еще больше.
Служба на заставе шла равномерно. Здоровье мое стало приходить в норму, и ребра давали о себе знать, только когда была пасмурная и дождливая погода. Как-то в один прекрасный день у меня случилась неприятная встреча с Витей Амбалом из группы специального назначения. К нам ехал бронетранспортер из другой заставы с командиром группы спецназа. Когда БТР подъезжал к нам, в метрах двухстах я уже увидел, что на бронетранспортере сидело четыре человека, и с ними был Витя Амбал. Я с котелком выходил из караульного помещения в столовую на обед, и меня всего затрясло. Когда они приехали, то командир группы ушел в штаб, а спецназовцы остались сидеть на БТР. Первого попавшего увидевшего солдата Витя Амбал озадачил, чтобы тот сказал повару сделать пожрать в строгом порядке. Повару тоже было некомфортно, и он передал им хлеба с консервой. Солдат принес паек, на который Витя Амбал разозлился. «Ты чего, урод, принес, где тушенка, веди повара сюда» — кричал Витя. Повар куда-то исчез, а я сидел в столовой один. Жратва не лезла. Я прекрасно понимал, что рано или поздно мне придется выходить, так как через десять минут мне придется менять часовых.
Начальником караула был Фикса, которому я рассказывал эту историю, случившуюся на КМБ с Витей Амбалом, который побил десяток солдат и сержантов до неузнаваемости. Собрав всю смелость в кулак, я вышел из столовой и быстро попятился в караульное помещение. Заметил меня молодой солдат, приехавший с ним на БТР, у которого я вел курс молодого бойца. Этот солдат был одним из борзых на КМБ, который себя сразу проявил с лучшей стороны среди своего призыва. Он воспитывался без родителей в какой-то деревне, и кроме как драться он больше ничего не умел. Я с ним на КМБ сдружился, и он мне помогал организовывать порядок в роте. Конечно, его после КМБ, такого безбашенного, взяли сразу в группу специального назначения.
Он мне, сидя на бронетранспортере, кричал вслед: «Эй, сержант, иди сюда!» — увидев меня. Я успел юркнуть в караулку, подумав — вот урод. Два с половиной месяца я ему делал поблажки во всем. Чуть ли не другом он мне стал, и как он быстро поменялся. Это еще раз доказывало, что в армии каждый за себя. И если ты кому-то сделал добро, то он же при подходящей возможности попытается тебя задавить. Я из караульного помещения с противоположной стороны вышел по окопу, чтобы затеряться, так как этот молодой полез в караульное помещение и солдат, охранявший помещение, мне передал, что меня зовут. Я двигался по окопу к ближайшему посту, где стоял часовой. «Эй, сержант, — услышал я сверху крик, — ты куда ушел, тебя там зовут», — кричал ехидно молодой спецназовец. Я сделал вид, что мне надо подойти к часовому и дать важное указание, и я скоро подойду. Конечно, мне часовому сказать было нечего, и я так немного с ним постоял, но смена часовых уже по времени поджимала, и я пошел в караульное помещение.
В караулке я слышал, как на улице спецназовцы ждали меня, высказывая все нелицеприятные слова. Молодой перед Витей прогибался, что он меня сейчас сам силой вытащит. Тут пришел Фикса и начал мне высказывать, почему я еще не веду караул на смену. Я по-человечески попросил его поменять смену самому, так как по графику его была очередь менять смену, объяснив ситуацию, что спецназовцы меня сейчас порвут, но Фикса даже меня слушать не стал, высказав, что я совсем страх потерял просить у него.
Я собрал караульных солдат и повел менять смену. Когда я вышел и повел смену, мне кричали, что если я не подойду, то меня закопают в окопе, но я твердо выполнял свой долг и вел караул на смену. Поменяв смену и возвращаясь обратно, я увидел, что Фикса стоял уже возле спецназовцев. Фикса позвал меня к ним, и Витя своим грубым голосом спросил:
- Что ты, зема, меня сдал?
- Я никого не сдавал, и как я мог тебя сдать, когда ты меня не бил, — объяснял я ему.
- Чего ты врешь, — возмущался Витя, ударив меня прикладом автомата по голове. — Я все объяснительные ваши читал. Я из-за вас чуть дембеля не лишился.
Я не сдавал тебя, — повторял я, и, ударив меня еще раз автоматом по голове, Фикса мне сказал идти в караульное помещение, наводить порядок, тем самым оградив меня от дальнейших побоев.
Я ничего про Витю Амбала не писал, что он меня избивал, хотя и так было понятно, что если столько солдат и сержантов поколотить и оставить побои на лице, то надо быть наивным, что это все не узналось бы, но репутация, пускай даже и не в моей роте, а в ГСН за мной осталась до самого дембеля. Этот щенок, которого я пригрел на КМБ, при любой возможности меня позорил, не зная или не желая знать всей сути обстоятельств. Мне, конечно, не было приятно, когда этот солдат-спецназовец позорил меня. Я его только после посылал на три буквы. Конечно, если бы я был солдатом, то на меня никто внимания не обратил, но я всегда был на виду. Постоянно по прохождению дальнейшей службы мы с этим щенком когда встречались, то потасовки у нас перерастали в драку. Спецназовцы тоже были трусами, и один на один всегда боялись драться. Если пехота, как они нас называли, весь батальон, набьет спецназовцу морду, то сразу репутация ГСН упала бы. Поэтому они всегда старались бить толпой, и меня это сильно раздражало.
Витя Амбал со своими уехали с нашей заставы, а я продолжал нести службу. Я надеялся, что когда моя командировка закончится и мы приедем в часть, то Витя Амбал уже будет уволен в запас. С Рифатом, которого на меня натравил Фикса, я сдружился. Рифат после этого случая извинился передо мной, дав понять, что он сделал это не по своей воле. В первую очередь мне было выгодно с ним дружить, так как он был одним из самых сильных. Мне по-любому нужен был друг, который за меня заступился бы, а я за него. Одному было жить тяжело.
В карауле многие моего призыва меня посылали, когда я просил убирать помещение. Один солдат по кличке Нос был с каким-то зоновским жаргоном. Оказалось, что он по малолетке сидел за воровство. Он был старше меня на несколько лет и убираться в караульном помещении не хотел. Вариантов было два. Или самому мне убирать, или сказать сержанту. Драться был не вариант. Я сказал сержанту Филинкову, который его хорошо побил. Убираясь, Нос мне грозил, что меня пристрелит. Я, конечно, над ним только посмеялся, и зря. Через восемь месяцев этот солдат в карауле пристрелит сержанта на смерть, а солдату Носу дадут восемь лет, но это будет позже.
На заставу как-то прилетел с проверкой начальник с тремя большими звездами, то есть полковник. Осмотрев нашу территорию заставы, полковник нарвался на меня. Я выходил со сменой из караульного помещения менять часовых. Моя смена была одета как положено. На груди бронежилет шестнадцать килограммов, у кого автомат АКСМ, у кого пулемет ПКМС с цинками, кто снайпер с СВД, кто гранатометчик с РПГ 7В, и на голове у каждого сфера. Я же ходил с автоматом, и на груди была разгрузка, в которой лежали четыре магазина с патронами. Полковник, как только меня увидел со сменой, то стал орать — почему я без бронежилета и без сферы на голове: «Идет война, а ты чего — хочешь жизни быстрее лишиться? Иди бегом одевать защитное обмундирование!»
Побежав в караулку одеваться, я уже подумал, как меня больно будут бить. Одевшись, я пошел менять смену. Конечно, полковник на сто процентов был прав, но всегда бронежилет так не хотелось одевать. Таскать эти шестнадцать килограммов было в напряг, хоть и бронежилеты у нас были удобные, в отличие от учебки. Но при моих шестидесяти килограммах для меня таскать было тяжело, и еще ребра полностью не зажили. Как ни странно, но мне от командира роты не досталось, и от сержанта Филинкова, начальника караула, я тоже не получил. Все отнеслись с пониманием, ведь я никогда не надевал бронежилет, и никто из сержантов его не надевал. Просто я оказался крайним, который попал под раздачу полковнику. Около полутора месяцев, что я служил на заставе, мне никто слова не сказал, а тут полковнику попался. Также полковник узнал, что начальником караула заступает сержант срочной службы, и приказал на следующую смену заступать контрактникам в наряд. Полковник был прав в своих приказах. Никакой срочник-сержант не организует службу лучше контрактника в карауле.
В карауле сразу пропала дедовщина, хотя на заставе ее было после ухода Ары не так уж и много. Я сразу вспомнил караульный беспредел в части, когда отдыхающая смена вместо того, чтобы спать, отжималась или избивалась старослужащими, когда мне сломали ребра. По приходу в наряды контрактников дедовщина уменьшилась в разы. Конечно, контрактникам не понравилось это новое введение, но деваться было некуда. Также полковник привез для меня не приятную новость, что в течение месяца нас поменяют на заставе другие. Как мне ни хотелось отсюда с заставы уезжать, но я был подневольный человек.
Последний месяц на заставе все жили в ожидании смены. В карауле, неся службу с контрактниками, будучи помощником начальника караула, я получал удовольствие. Смены я стал разводить в два раза меньше, так как все делалось по графику. Контрактники в карауле меня постоянно угощали сгущенкой, которая пропала на ужин в разы. Наряд по караулу для меня стал малиной, особенно когда я заступал с контрактником старшиной Кельбалиевым. Он был молодым, лет на пять-семь старше меня. Он у меня всегда вызывал симпатию среди местных дагестанцев. Я всегда с ним спорил о женских нравах. Так как я жил близко к Москве, то я ему пытался доказать, что женский пол у нас не весь испорченный и не каждая раздвигает ноги. Он, конечно, надо мной потешался, ну и спор нам, конечно, был самим интересен. Где-то я с ним соглашался, где-то, конечно же, нет. Одного уж точно не отнять — уважение к родителям на Кавказе на высшем уровне. Если ты куришь, то при отце ты этого делать не имеешь права, и много других разных примеров, которые достойны уважения, в чем наш русский народ можно упрекнуть. По службе мы много раз вместе с ним пересекались в нарядах, и он меня при возможности брал всегда своим помощником. Но если на заставе я был еще робок и где-то молчал, то через несколько месяцев я уже спорил на равных со старшиной. По моим убеждениям, дорос бы старшина Кельбалиев по офицерской лестнице быстро и далеко, если бы не глупая смерть, о которой напишу позже.
Командировка на заставе подходила к своему завершению. Я не хотел даже думать о ее конце и надеялся, что конец будет еще не скоро. Командиры говорили, что смена будет — может, через неделю, может, через месяц. И все были в ожидании. Я, наверное, больше всех не хотел возвращаться в часть. Странно, конечно, но я не хотел ехать в часть так сильно, как будто я что-то украл там. Я боялся того момента, что Витя Амбал еще не уволится. Я не боялся его кулаков, а боялся, что он меня несправедливо оболжет. Что я, его земляк, все про него рассказал и написал в объяснительной, когда он еще с двумя старослужащими нас жестоко бил. Тут даже слова, наверное, надо написать другие — жестоко нас калечили. За такие дела ему еще должны были дать года два дисциплинарного батальона, а его убрали подальше на заставу, и виноватым он видел не себя, а только меня. Я был виноват в том, что тело у меня было все синее и большая гематома закрывала глаз. И также были виноваты побитые ребята, которые ему попадались пьяному под руку, но он не помнил лица, кого бил, а меня, земляка, хорошо запомнил, даже ни разу не ударив в ту адскую ночь. С этими мыслями я дослуживал на заставе. Нам обещали, что проведенная служба на границе с Чечней будет считаться день за полтора с хорошими денежными командировочными довольствиями. Конечно, новость, что день службы будет идти за полтора, меня очень грела, ведь я пробыл уже на заставе два месяца, а это значило, что на месяц службу я уже скостил, а деньги мне были безразличны. Ни того, ни другого обещания в конечном итоге сделано не было.
Через некоторое время на заставе меня решили из караульного наряда перевести в более сложный — дежурным по роте. Если в карауле я отвечал за чистоту караульного помещения, своевременную смену часовых, проверку часовых и другие мелочи, то как дежурный по роте я должен выполнять большой комплекс обязанностей. В большой палатке с двухъярусными кроватями я должен был отвечать за весь арсенал оружия, за распорядок дня в роте, за тепло, растапливая буржуйку дровами, ведь уже был ноябрь, и за многое другое. Конечно, мне льстило, что мне командир роты стал доверять самое святое, но наряд по роте выматывал по полной. В карауле ребят стали выпускать без верхней теплой одежды, так как очень много солдат стало на посту спать и командир решил отправлять на пост без бушлатов. Ночная температура приближалась к нулю. Я сочувствовал ребятам, когда их видел, как они шли на свои посты с содроганием. Сейчас я понимаю, что скорее это было одно из правильных решений. Прийти на боевой пост и спать — это преступление. Мало того, что нас было около пятидесяти человек, но он же еще охранял границу республики Дагестан. Обидно было солдатам, которые страдали из-за разных залетчиков и мерзли, отжимаясь в окопах, чтобы совсем не задубеть. Конечно, справедливей было спящих на посту залетчиков оставлять без бушлатов. Наказывать всех, может, было и не правильно, если не придерживаться правила «один за всех, и все за одного».
Для меня наряд в караул стал редкостью, больше по каким-то форс-мажорным обстоятельствам я туда заступал. На последнем моем наряде по караулу по рации вызывают подмогу. Часовой у своего поста слышит какие-то шорохи. Внятного ответа я не получил. Начальник караула спал, и я решил его не будить, так как за старшего остался я. Я взял несколько бойцов, и по окопам мы побежали на пост, где сообщили про шорохи. Прибежав на пост, часовой уже усмехался, что это была лошадь, которая ходила от нас в десяти метрах. Я ему говорю, что по рации почему не сообщил, что это была лошадь. «Да я ее увидел только тогда, когда она к окопу подошла». Этот солдат, скорее всего, и боевика так же подпустил бы, и боевик его еще пристрелил бы с таким подходом. Я ему, конечно, сказал, что он дебил и отпуск он свой профукал. Я представлял себя на его месте и долго сожалел, что я не на его посту. По-любому после команды «стой! Кто идет?», «стой! Стрелять буду!» он должен сделать первый выстрел вверх, а далее на поражение убивать это черное пятно, которое шевелилось. Может быть, лошадь после выстрела вверх и сама убежала, а часовой ждал столько времени и разглядывал, кто там ходит, но хорошо, ума хватило по рации сообщить. В свою копилку часовой мог занести такой большой бонус, что вся часть его хвалила бы как героя, и отпустили бы его в отпуск. Мне было жалко такого шанса, которого больше не будет, а часовой его не использовал.
Служба наша на заставе подходила к концу, и наша рота сидела на чемоданах. Со дня на день должна была приехать смена. Я радовался каждому здесь проведенному последнему дню. Итог службы на заставе у меня получился скомканный. С одной стороны, старослужащие сержанты меня как молодого сержанта уважали. Я все приказы выполнял ответственно, но, конечно, не все зависело от меня. Больше половины солдат меня не любили. Все были моего призыва, кроме трех старослужащих рядовых, и, конечно, никому не нравилось, что какой-то приехал сержант из учебки и указывает им. Мне тоже было неловко просить, чтобы убирали территорию. На разных уборках я как дурак ходил и делал вид перед старослужащими сержантами, что все у меня под контролем. Солдатам своего призыва говорил, зачем им лишние проблемы: «Ты убирайся, а я с тобой пообщаюсь». Мне не хотелось никого никогда злить. Это мой призыв, и я в этой роте совсем недавно, в отличие от них. По-плохому они могли просто на меня забивать. Старослужащие сержанты мне как таковую поддержку не дали и при первой возможности мне напоминали, кто я есть. Что я такой же дух для них, как и все. Конечно, спасибо большое надо было сказать нашему бывшему командиру роты старшему лейтенанту Абдулфатахову, который меня не бросил, как сержанта. А ведь на заставу требовались трое рядовых на замену трем заболевшим и отбывшим в расположение части. На заставе не хватало рядовых, чтобы рыть окопы, нести службу в карауле часовыми. Старшина Агабала привез меня с усмешкой, что я не потяну командовать. И командир у меня спросил, потяну ли я сержантскую должность — ходить помощником начальника караула. Я, конечно, ответил положительно. Только командир сказал: «Не подведи. Ты теперь командир», — и поставил всех сержантов в известность с наказом, чтобы они мне помогали. Я, конечно, этому итогу удивился, что командир меня не стал чмырить, а поставил на сержантскую должность, за что я ему был благодарен. И с большим разочарованием я провожал его в душе, когда его переводили на повышение должности. С ним я и вся наша третья рота пересекались уже в части, и он нашу роту очень любил, ведь это была его родная рота, когда он был уже заместителем командира батальона, а далее уже комбатом.
Ребра мои уже практически зажили, и уже сильных проблем мне не доставляли. Ближе к концу службы на заставе у меня вспыхнули два сильных конфликта со своими сослуживцами. Каждый был недоволен моими действиями по службе. Они считали, что я такой же, как они, и должен был от них не отделяться, тоже выполнять разную уборку и т. д. На одного у меня был аргумент — это он написал на Ару анонимку, и мы ему все были благодарны, но при своей защите все средства хороши, и я ему это напоминал, что он стукач. Аргумент был хороший, тем более он меня злостно ненавидел. Его бесило, что я такой же, как они, только со званием младший сержант, приехавший с учебки, и гну здесь пальца. Они служили в ней со дня прибытия молодыми практически уже год, а я только три месяца в третьей роте. Второй рядовой был борзее и говорил разные обидные слова: «Ты урод, я тебе морду разобью по возможности». Терпел я разные оскорбления долго, и никак я с ним не решался завязать драку. Он меня был выше и здоровее по фамилии Шпицин. Но у меня уже появился товарищ Рифат, с которым мы договорились, что я подойду к Шпицину, нанесу несколько ударов по лицу, а Рифат дальше его будет добивать.
После ужина на мытье котелков я собрался с мужеством. Мне было нестрашно получить по морде или где-то подраться со старослужащим. Было страшно, что если Шпицин моего призыва набьет мне морду, то это вызовет общественный резонанс, и уважение я потеряю, которого и так сильно не было у своих. Кулачный бой — это по-любому синяки, а их обязательно увидят после драки все, и попадет мне сразу от старослужащих сержантов и командиров. Собравшись со всеми этими мыслями и решив, будь что будет, я в грубой форме позвал
Шпицина, крикнув: «Иди сюда, урод». Шиицин, конечно, опешил от такой моей наглости и направился ко мне со своим котелком, крича: «Ты кого уродом назвал?». Я ему бью в морду, и его отбрасывает назад. Шпицин ставит котелок на землю и зло направляется ко мне с кулаками. Я бью поочередно ему в лицо правой и левой рукой. Последний, третий удар правой, и Шпицин падает на землю. Далее подошел Рифат, и уже лежачего начал пинать ногами. Несколько секунд он лежал неподвижно. Очухавшись, Шпицин поднял голову с земли и возмутился, что его бьет Рифат. Он кое-как встал, что-то пробурчав себе под нос, и куда-то удалился.
Через час знала уже вся застава. У Шпицина вылезла на всю левую щеку гематома. Я его не видел, но ко мне все подходили и, удивляясь, говорили, мол, как можно было так Шпицина отделать. Старослужащие сержанты меня за это не тронули, только смеялись, что очень красив был рядовой Шпицин. Когда я его увидел, то я не мог поверить, что от моих ударов можно было так пострадать. Я дрался за свою жизнь не один раз, но такое лицо с раздутой левой стороной я никогда не видел. Когда избивал нас молодых сержантов на КМБ Витя Амбал со своими дружками, то таких красавцев даже у нас не было, если только не считать меня с гематомой на глазу.
На следующее утро меня вызвал к себе командир роты. Я объяснил командиру, как все было — что он на меня забивал и посылал куда подальше, а я этого унижения терпеть уже не мог в свой адрес. На удивление, мне командир роты сказал, что от меня этого он никак не ожидал: «Ты молодец, и все правильно сделал, я тебя, молодого сержанта, зауважал. Сержант должен быть сержантом, а не тряпкой. Проблема только одна теперь — если кто-то приедет из проверки, то нам придется прятать его лицо. Теперь его нельзя никому показывать, и надо молить бога, чтобы у него зажило до приезда в часть».
Я вышел от командира роты довольным. Мало было хороших и позитивных моментов в моей службе. По-человечески мне было жалко Шпицина, но я считал, что он получил за дело, что он это заслужил. Авторитет мой и уважение сильно поднялись. Конечно, авторитет поднялся в большей степени из-за того, что у Шпицина было сильно распухшее лицо, и кто не видел всей этой драки, подумали, что я его жестоко избивал. И если у него вылез бы маленький синячок, то такого шума не было бы точно. Я, конечно, умел драться, но в основном выигрывал в драках за счет борцовских приемов. Например, взять за одежду или за шею, сделав подножку, повалить соперника. С боксом и поставленным ударом у меня всегда возникали проблемы, и я этим никогда индивидуально не занимался. Шпицину я, видимо, удачно попал несколько раз в одно и то же место. Шпицин меня стал после этого побаиваться, и в процессе службы я на него имел сильное влияние. Я чувствовал после этой драки себя героем. Большие унижения для меня в принципе были закончены. Уважали в армии, как правило, сильных, которые зарабатывали авторитет драками. Я был не из тех людей, кто без дела мог до кого-нибудь докопаться. Я если дрался, то, значит, меня сильно выводили. Я мог проглотить все что угодно, но когда приходила грань, то я становился неуправляемым.
После этой драки со Шпициным прошла неделя, когда приехала за нами смена. Оставалось последнюю ночь провести на заставе. Все были на чемоданах, и командиры с контрактниками пили вино по отбытию. Старослужащие сержанты тоже забили на службу и, как на крайнего молодого сержанта, всю службу и обязанности сбросили на меня. Я всю ночь разводил на посты в карауле часовых. Так как была толпа народу в караульном помещении, я брал с собой Рифата ходить на проверку. Рифату это дело нравилось, особенно когда он увидел спящего часового. Рифат бесился и бил в окопе часового. Ему сразу вспоминались косяки, что из-за этого солдата и еще нескольких всех отправляли на пост без бушлатов, и в ноябре все из-за этих козлов мерзли. В последний день все несли службу в бушлатах, и Рифата земляк из Башкирии пригрелся опять и уснул. Рифат долбил своего земляка, а я даже слова не сказал. Он получал за дело, и у него этот залет был не первым. Последняя ночь для меня длилась долго, может быть, из-за того, что всю ночную службу взвалили на меня, и мне не удалось поспать. Утром мы разбрелись по машинам уезжать в свою родную часть. Для кого-то это была родная часть, и многие моего призыва радовались, что наконец там появятся духи, и все в предвкушении уже чесали руки. Целый год мой призыв в третьей роте летал вместо положенных шести месяцев. Я, наверное, был одним из самых несчастных, который не хотел уезжать, но деваться было некуда. Я подсчитывал по-разному, уволился ли спецназовец Витя Амбал или еще нет.
Ехал я в машине «Урал», где меня посадили старшим с несколькими солдатами охранять военное имущество. Со мной также посадили солдата Войнова, который меня ненавидел. Когда мы ехали в часть, то он мне все угрожал, что меня там зачмырят и у него там осталось много земляков. На меня давило моральное напряжение, и я понимал, что возвращаюсь в адскую часть. Я вида никому не показывал и на выпады Войнова находил аргументы. Ара, которого он сдал на заставе, тоже возвращался в часть, так как все роты нашего батальона уезжали с заставы, их меняли другие части. Ара не знал, кто на него настучал, и процентов на двадцать он мог думать на меня. До моего приезда у него было все нормально, а после моего, когда он меня жестоко избивал в караульном помещении, пытаясь заставить отжиматься, по стечению обстоятельств его перевели на другую заставу. Стрелки падали на меня, но самое главное, что знала практически вся застава, что Войнов подкинул анонимку командиру роты, и Аре кто-нибудь все равно расскажет, кто стукач. Солдат Войнов мне был неприятен, как и многим ребятам. Драться с ним было опасно, и это не Шпицин, который про меня ничего не сказал. Лицо у Шпицина за неделю еще не зажило, и ему сказали говорить про якобы больной зуб, что распухло из-за зуба. От Войнова можно было ждать любую пакость, и для меня до сих пор осталась загадкой, как Войнов сразу по приезду в часть стал писарем командира бригады, а через некоторое время он получает звание младший сержант, за которое я в сержантской учебке умирал. Видимо, очень хорошо писал бумаги.
По приезду в часть я сразу встретил из сводной роты младшего сержанта Глушко, с кем приехал с КМБ другой части, и спросил про Витю Амбала. Глушко мне сказал радостную новость, что Витя на днях демобилизовался. Приехав с заставы, Витя Амбал несколько раз хватал за шкирку младшего сержанта Глушко, отвешивая ему тумаков. Витя думал, что он один из тех, которого он бил на КМБ и который, конечно, его сдал. Глушко тогда с нами не было, а Витя перепутал его. Для меня это был большой праздник, и мне уже было остальное не страшно. Груз с меня спал, и мне было на душе легче.
Наше помещение третьей роты за время пребывания на заставе пришло в аварийное состояние, провалились бетонные плиты, и весь батальон было решено переместить в спортивный зал. Сержантам моего призыва постоянно доставалось от всех. Они были в части, в сводной роте, и, конечно, по приезду нашей роты с заставы их как новеньких начали лупить по делу и без дела. Я уже был своим, и меня уже так часто без дела не били. Да и еще хорошая новость была для моего призыва, что через пару недель прибывал молодой призыв, по тридцать сорок человек в каждую роту. Конечно, наш призыв очень ждал этого пополнения, и мне уже было легче заниматься своими сержантскими обязанностями, не напрягая и уговаривая свой призыв заниматься уборкой.
Из сводной роты направили пять человек в нашу роту призывом на полгода моложе моего, но это, конечно, было мало. Этот период пяти человек до прихода новобранцев был самым адским. Вы представляете голодный мой призыв, которые целый год летали как ссаные веники, и, конечно, этим пятерым очень не повезло. Сорок человек моего призыва отрывались на пяти солдатах как могли. Каждый хотел себя проявить крутым, и вся уборка легла на их плечи. Как ни мыли они полы, очень быстро бегая с тряпкой, молодые ребята получали от каждого второго удары ногами и руками. Они были без вины виноватые. Жестокость присутствовала большая. Было видно, что мой призыв наконец дорвался. Мне тоже было проще. Я старался никого не трогать из молодых, так как они и без меня были сильно зашуганные. Конечно, как сержант я им спуска не давал, а мой призыв гонял молодых, чтобы самим не убираться. Никому уже не хотелось брать тряпку.
Ко мне как-то вечером подошел солдат Третьяков по кличке Двадцатый, с кем мы ехали на заставу и служили там. Мы с ним сдружились. Прикольный парень из Коми, который смешил всех очень сильно. Он мне на ухо шепчет: «Слышишь, у меня сегодня день рождения, давай бухнем водки». Я сразу подумал, что из-за выпитых двухсот граммов горючего можно себе такого геморроя нажить, и лучше отказаться. Я Третьякову сказал, что не буду. Он мне: «Давай, я уже с сержантами договорился, и они дали добро после отбоя выпить, так как я их уже подогрел». Ну, раз сержанты знают, тогда можно, подумал я. Солдат Третьяков все организовал, и за свои одиннадцать месяцев я выпил в первый раз. Распили мы бутылку, лежа на кровати, на троих. Солдат Войнов, который меня ненавидел, был дневальным, и его душила жаба, что мы пили, закусывая хлебом с консервой, и он также понял, что мы пьем, не стесняясь старослужащих сержантов. Если бы это был не Войнов, а кто-то другой, я бы предложил хотя бы хлеба, но это был не тот человек, с которым хотелось делиться.
У нас в роте опять поменяли командира роты. Бывший командир уехал к себе в Кизляр. Его, я так понял, не воодушевила наша рота, и забрал он с собой контрактника-дагестанца, злого прапорщика Варцева, которого все боялись и который застрелил на заставе на глазах у всей роты собаку.
Как-то перед его отъездом я заступил в наряд дежурным по штабу. Я с ним близко никогда не контактировал, но боялся его как огня. На вид он был всегда спокойный, но вытворял такие вещи, которые я уже описывал и не поддавались здравому смыслу. Он был периодически просто зверем. Прапорщик в мое дежурство был ответственным по нашей роте. Дежурным по штабу я заступил в своей службе второй раз. Первый раз у меня был не совсем удачным, когда меня поставили с дембелем и местным солдатом, который я очень хорошо запомнил. В этот раз в наряде было кому мыть полы. Был один молодой и один моего призыва. Больше всего мне не нравился этот наряд, так как через штаб постоянно проходила группа специального назначения (ГСН), которые батальон ну никак не любили. Ребят из ГСН еще в зародыше, только по приходу в группу учили, что батальон — это пехота, а спецназ самые крутые. Никогда я не мог понять, что солдат в спецназе сорок человек, а батальон с тремя ротами, в каждой около восьмидесяти — ста двадцати человек, и всего порядка в сумме триста боялись их, и я в том же числе. Не сказать, чтобы я их боялся после демобилизации спецназовца Ары и Вити Амбала, которые были здоровыми не по годам. Но мне всегда не нравилось, что по одному они не лезли, а приставали, когда их было большинство. Подойдут втроем, двое держат, а один начинает по карманам шарить, что, конечно, группу в этом не красило. Спецназ не трогали только местных, так как они могли всегда дать отпор. У местных всегда была поддержка. Стоило им свистнуть, и гражданские местные чуть ли не в часть вламывались. Я старался ГСН (группе специального назначения) лишний раз не попадаться на глаза.
В наряде по штабу я знал, какие проблемы могут произойти у меня с ГСН, и решил ночью пойти спать с 22 до 2 часов ночи. В это время очень много хождений происходит группы спецназа, и произойти в это время могло все что угодно со мной. Я, перестраховавшись, пошел спать в первую смену. Я уже заснул, как около 23 часов меня будит дневальный. Конечно, посмотрев на часы и увидев прапорщика Варцева, я ужаснулся. Он повел меня в штаб. Сначала он завел меня в туалет, указав, что в туалете порядка нет. В туалете было в принципе чисто, но никто же не виноват, что после уборки там побывало человек пять, где-то наследили, где-то нагадили. Не следить же за каждой голой задницей, которая гадит. В коридоре прапорщик тоже докопался до столба: «Грязно, и надо все перемыть тебе, а твои с наряда идут спать, раз порядка нет. Чтобы туалет и коридор были чистыми!» — пригрозил он мне. Мне, мало того, было страшно вспоминая рассказы, как он в Чечне вставлял под ногти лезвия, как он избивал провинившегося солдата плеткой, засунув его на сутки в яму с водой, как я видел, что он избивал жестоко солдата, харкающего кровью, и убивал собаку на заставе при всех, самую добрую и умную. На вопрос «Ты понял меня?» я ответил: «Понял», — и он ушел. Я вздохнул с облегчением, но начал метаться, что мне делать. Я вытащил одного писаря с офицерского кабинета, штабную крысу. Штабной крысой называли солдат, которые выполняли в штабе разные указания больших начальников. В роту писарь приходил только спать, и утром уходил, ссылаясь на разные дела. У писарей было много привилегий. Мало того, что в отпуск их отпускали без всяких проблем, так они и сержантские звания умудрялись получать. Было всегда обидно, что кто-то как я получил звание после трудной жестокой учебки, а кто-то писал ручкой. Штабных крыс, писарей, никто не уважал, но каждый согласился на их место. И я в том же числе, пожертвовал даже бы своим званием. Молодой писарь, которого я вытащил, отпирался, что у него много дел. Пришлось его ударить в грудь и показать, кто на данный момент сейчас хозяин в штабе, пообещав ночной взбучки, когда придет спать в роту. Молодой писарь взял ведро с тряпкой и пошел в туалет. Я сел на лестницу и смотрел, чтобы не дай бог поднялся прапорщик. Мне было страшно, что прапорщик мог узнать, что я не убирался, но позволить себе взять тряпку и мыть сортир я не мог. Если бы даже меня начал заставлять прапорщик Варцев, я не стал бы этого делать, чтобы не опуститься в роте, как бы он меня ни бил. Писарь помыл туалет и коридорный пролет, а я, сидя на ступеньках, все это время следил за шухером. Я пошел докладывать прапорщику о проделанной работе, а он даже не пошел проверять. При одном из построений прапорщик Варцев решил меня опозорить перед ротой, что младший сержант Гоголев драил туалет. Я пошептывал всем, что он хрен дождется такого счастья. Мне было не стыдно, так как эту историю уже многие знали и смеялись надо мной, что я сидел на лестнице и следил, пока моют полы, чтобы прапорщик ничего не заметил.
Вообще у меня с прапорщиками не складывались отношения. Один прапорщик, Вахмутов, отлупил меня в сводной роте палкой резиновой, а другой, Варцев, меня унижал. Зачем — я так и не понимал. Варцев, усмехаясь, рассказывал, как я драил в штабе полы, а сам даже не был свидетелем. Когда наш командир роты перевелся опять в часть Кизляра, то я был этому не особо рад, так как к нему я уже привык. Командир роты на меня всегда полагался и рассчитывал, по отношению с другими сержантами моего призыва, которых он сам ни во что не ставил. Но я был рад, что, уходя, он с собой забирал прапорщика Варцева, по каким причинам, я так и не понял. Но я замечал, что периодически офицеры штаба кричали на Варцева за какие-то грехи. На некоторое время мы остались без командира роты, и нас пока взял под опеку бывший наш командир и уже заместитель командира батальона капитан Абдулфатахов. Для него мы были родные. Девятого декабря я с грустью отсчитал одиннадцатый месяц службы, и по закону меня должны были отпустить в отпуск, но из-за нездоровой обстановки в Дагестане никого не отпускали. Очень частые случаи были, что солдат ссаживали с поезда и захватывали в заложники. Из этой беспредельной части я и сам наверное сбежал бы, если была бы такая возможность. Были моменты, когда я был на грани, но бежать было некуда. В одной стороне горы, а через Кизляр никому не удавалось пройти. Очень много было побегов, но в лучшем случае солдаты добегали до Кизляра, а в худшем — попадали в плен чеченцам. Если бы не этот замкнутый круг, то убегало бы больше народу.
Если я сейчас не описываю дедовщину, то это не значило, что все уже было хорошо. Получал я очень часто за разные огрехи от старослужащих, и напряжение в службе не уменьшалось. Застава была райским местом для службы, о котором я вспоминал. Как-то всю часть позвали в актовый зал. На сцене стоял зачуханный солдат. Он уже, по сути, был дембелем. Чуть меньше двух лет этот солдат сбежал из части и попал в плен к чеченцам. Он рассказывал, как сидел в яме, в плену, пас баран, овец, вспахивал поля. Рассказывал, как над ним издевались чеченцы и родители его выкупили за бешеные деньги. Сами родители продали все, что можно было продать, и помогли разные знакомые деньгами. Было очень страшно на него смотреть, и конечно, после такого зрелища, наверное, всем солдатам перехотелось даже думать о побеге, как бы ни было трудно и сложно служить. Близился Новый год, и перед Новым годом прибыло после КМБ пополнение — призыв 2—97. Первая цифра означает номер призыва (есть весенний — 1, и осенний — 2), а 97, соответственно, год. Мой призыв — 2—96. Прибыло очень много, порядка ста человек на батальон. Для нас это был праздник, и, конечно, для призыва 1—97, которые летали, убираясь впятером, получая постоянно побои. В первый же вечер старослужащие сержанты мне доверили вести молодых на улицу в туалет. Я этому был не особо рад по одной причине, что на улице в туалете будут какие-нибудь старослужащие или спецназовцы, которые обязательно пристанут к молодым и кого-нибудь побьют, а я ничего с этим не смогу поделать. Старослужащие сержанты, я замечал, тоже всегда делали вид, что ничего не видят и не слышат, когда спецназовцы бьют наших с роты.
Ведя их строем в туалет, я крикнул им: «Песню запевай!» И как же эта строевая толпа молодых солдат четко запела песню под ногу! Я получил истинное удовольствие почувствовать себя настоящим командиром. В туалете появились спецназовцы из трех человек, которые успели побить несколько молодых солдат. Я, конечно, ничего сделать не мог. Если бы что-то сказал, заступившись, то побили бы меня, и смотрелось бы это очень позорно на фоне молодых солдат. Я специально крикнул раньше команду строиться, чтобы молодым меньше досталось, и обратно повел молодых в роту в расположение с песней.
На молодых у всех разбегались глаза. Кого ударить, с кем в грубой форме поговорить. Я услышал все те же слова, которые я слышал год назад приехав в Моздок — «Вешайтесь, духи». Я для себя не приветствовал кого-то бить, но мне надо было по-любому держать сержантскую марку, чтобы молодые в первую очередь слушались меня. Молодые были и так зашуганные и делали все, что им велели старослужащие.
У нашего призыва начался новый виток службы. Практически третья часть нашей роты заполнилась молодыми. Еще выяснилось, что пять человек молодых солдат оказались моими земляками из Подмосковья. Трое из Коломны, и по одному из Воскресенска и Москвы. По опыту своей службы я знал, как важна поддержка особенно молодым. Я видел и завидовал солдатам, у которых был старослужащий нормальный земляк, который сразу давал поддержку и заступался. Были, конечно, частые исключения даже на моем опыте, примером был Витя Амбал. Если бы Витя дал бы мне поддержку, а не бил меня, то я служил бы на порядок лучше. Но разных уродов по службе, к сожалению, было очень много. Я решил своим землякам помочь. Попасть в Дагестан — это уже было большое наказание для солдата. Среди своего призыва я уже имел небольшой авторитет. Были и борзые три-пять человек, которые меня ни во что не ставили, но от пятидесяти солдат я своих земляков мог отгородить, и я это сделал. Я не знаю, поняли мои земляки свое счастье или нет, наверное, не сильно, потому что сравнивать было не с чем, если только с курсом молодого бойца, который они только провели. Но моральный психологический подъем они сильный получили, и мне было приятно им помогать. Я всем обозначил, что моих земляков не надо обижать, и постоянно у них спрашивал, что все ли у них нормально. Меня самого долбили чаще сержанты, чем земляков, но для меня это было важно, чтобы их не обижали.
Наступил Новый год. В новогоднюю ночь нам накрыли стол с лимонадом, рулетами и конфетами. Я заступил в наряд — помощь караулу. В связи с опасной обстановкой помимо караула в Дагестане еще ввели дополнительный наряд, и солдат по периметру части еще выставляли по разным крышам сооружений части. Я со своим нарядом набрал закуски, и была у нас бутылка водки. Когда я ходил на проверку и забирался на крышу, то пил со своими сослуживцами водку, отмечая Новый год. В новогоднюю ночь я ностальгировал сильно по дому, представляя, что моя мама, брат и гости отмечали праздник на родине, а мне оставалось еще потерпеть меньше года, но я еще надеялся на отпуск, которого я хотел очень сильно, и надеялся, что как сержанта меня отпустят. Я просто этим жил. Также я жил еще и тем, что через три-четыре месяца весь старший призыв уволится в запас. Старослужащие сержанты спихивали на меня все свои обязанности, а мне спихнуть и понадеяться было не на кого.
После Нового года к нам в роту привели еще одного старослужащего сержанта. Он служил в прокуратуре города Махачкалы, и напряжение в роте сильно увеличилось. Он был моим ровесником, но в свои двадцать лет он был детиной не по годам. По годам у него были только мозги, так как с мозгами он особо не дружил. Сержант Лапа — так его звали. Он долбил всех, кто ему попадался под руку. За несколько дней он заработал себе авторитет, и наш призыв его очень сильно боялся. Не дай бог был в нашей роте выговор за уборку, то шуршали все рядовые вместе с его старослужащим призывом. Я начал получать от него каждый день. Мимо него прошел — и сразу получил кулаком в грудь. Удары были очень сильными, от них приходилось долго отходить. С ним также служил в прокуратуре парнишка моего призыва, Миша Полосухин, который, по его рассказам, вешался с этим здоровым сержантом, получая от Лапы каждый день, пока у парня не сдали нервы и он не схватился за штык-нож и не пригрозил сержанту, что зарежет его ночью. Только тогда от него сержант Лапа отстал. Проходя мимо него, и получая удары, я всегда злился, что этому уроду природа дала столько здоровья, а мозгами обделила. Конечно, в роте было около ста человек, и мне доставалось на порядок меньше, чем другим. Но удары у него были болезненными. Порядка с приходом Лапы в нашей роте стало больше, и уважение наша рота получила в разы. Даже спецназ при виде этого здоровяка никого не избивал, что было при старых сержантах. Если сержант Лапа заступал в какой-нибудь наряд, то у роты был праздник и вся рота отдыхала. От этого человека я своих земляков уже не мог отгородить. Он был просто чудовищем. Я с сержантом Лапой старался все переводить в шутку. У меня практически все телесные синяки только были от него. Больше меня практически никто не бил, но я его мог называть, в отличие от других солдат и некоторых сержантов, по имени. У других была субординация, и называли его товарищем сержантом. Не трогал он только троих сержантов своего призыва, с которыми он дружил.
От троих старослужащих сержантов мне уже доставалось редко. Как я уже описывал, наш батальон из трех рот находился в спортзале, и часто приходилось заступать в наряд дежурным по роте, или помощь караулу — его разводящим, которым я расставлял караульных на крышах разных зданий. Из-за непростой обстановки в республике ввели усиление караулу. Как правило, мы, сержанты из разных рот, находились ночью в спортзале, бодрствуя. В наши обязанности также входило в ночное время суток сопровождать молодых солдат в туалет, чтобы их никто не бил из других старослужащих. Туалета у нас своего не было, и приходилось ходить в другую роту (РМО — роту материального обеспечения). Сержантам и солдатам РМО это не нравилось — что ночью был проходной двор и засирали их туалет, и они наших молодых избивали и напрягали разными заданиями. Нас, сержантов, конечно, по тридцать раз за ночь сопровождать молодых тоже напрягало, и мы стали их отучать от ночных хождений, чтобы они терпели до подъема. Поначалу кто хотел в туалет — у нас отжимались, но отжиматься было скучно, и мы с сержантами устраивали безобидное шоу. Каждый молодой солдат должен был проползти под кроватями через всю роту на время. Было, конечно, смешно и прикольно для нас. Через пару недель молодые солдаты отучились ночью ходить в туалет. Для каждого молодого солдата было сильнейшим испытанием отпроситься в туалет. Мало того, что приходилось ползать с нашим сержантским глумлением, так еще в туалете они нарывались на других старослужащих других рот, которые на них отрывались, заставляя их драить очки, то есть туалет, а ходить с молодыми, постоянно контролируя их, означало рано или поздно найти на свою задницу приключение. За две недели из двадцати-тридцати походов справить нужду дошло до минимума, одного-двух. Молодые перестали совершать подвиги похода в туалет, и начали писать, кто попорядочнее, в свои сапоги, кто не совсем был порядочным — товарищу. Утром, конечно, многие возмущались, что им нассал в сапог какой-то гад, но концы было найти тяжело, кто это сделал.
У старослужащих сержантов ритуал справления нужды происходил так: сержант кричал дневального, стоявшего на тумбочке, и тот нес ему ведро. Облегчившись, сержант со спокойной душой ложился спать, а дневальный думал потом, куда вынести ведро. У меня, на мое счастье, больших проблем с туалетом не было, и я, как правило, терпел до подъема. Бывали исключения, когда выпивал много воды (чая, газированной воды), но об этом позже.
Шел конец января, и я грезил отпуском. Одного рядового солдата из другой роты отпустили в отпуск и объявили благодарность. Этот солдат, находясь на посту на вышке в карауле, увидел перелезающих через забор гражданских. Гражданские часто перелезали к знакомым солдатам в свинарник, и я их там часто видел, никто не обращал на них внимания. В этот раз гражданские себя повели по-хамски по отношению к часовому и посылали его. Гражданские малолетки ни во что не ставили служивших в части солдат и могли даже обкидать часового камнями. Часовой выстрелил в воздух, и караул подняли в ружье. Малолетки, конечно, убежали, а за бдительность командир батальона солдата наградил отпуском. Мне, конечно, сразу вспомнилась лошадь на заставе, когда часовой не мог принять решение, даже выстрелить в воздух, долго не понимая, кто к нему в темноте подкрадывается, трясясь от страха. А сделал бы все по уставу — крикнул «Стой! Кто идет? Стой! Стрелять буду!», первый выстрел в воздух, и далее на поражение — то был бы героем. К несчастью, тот солдат, который не стрелял на заставе в лошадь, за год службы не развил в себе боевой дух, а был до сих пор зашуган дедовщиной с разными унижениями. И я уверен, что семьдесят солдат, к сожалению, поступили бы точно также. Мне как сержанту какой-либо подвиг совершить было сложнее, так как отношение ко мне у командиров было совсем иное, как к командиру, и подвиг мне надо было совершать вдвойне геройский.
В одно из воскресений, когда во всех частях российской армии по плану выходной день у всех, за исключением солдат и офицеров, находившихся в разных нарядах, то есть караул, столовая, наряд по роте, по штабу, по КПП и много разных других нарядов, в нашей части среди всех сержантов и солдат всех рот решили провести соревнования по бегу, на два или три километра, уже не вспомнить. Занявшие первые три места во всей части должны были поощряться отпусками. Я, значит, должен был занять одно из трех мест примерно из двухсот-трехсот человек. Мне, конечно, в принципе ничего не светило, и я уже насчитывал порядка пяти бегунков, которые, на мой взгляд, бегали сильнее. У них же было еще преимущество. Все старослужащие сержанты с некоторыми солдатами бежали в берцах (военных ботинках). Я же бежал в сапогах. Бегал, конечно, я на гражданке хорошо. Первым в классе, первым в футбольной секции, но здесь бежало несколько сотен человек. Бежали по ротам. В одной из рот батальона бежал старослужащий сержант, перворазрядник по бегу, и намного по времени опередил своих сослуживцев, показав лучший результат из пробежавших рот. Все понимали в части, что с ним тягаться было бесполезно, он занимался бегом все свое детство.
На старте нашей третей роты рвануло человек семьдесят, и я где-то бежал позади всех. Постепенно изо всех сил я обгонял по несколько человек, пока не вырвался вперед. Я не верил своим глазам: я бежал первым, и ноги меня несли к первому месту, по крайней мере в своей роте. На половине дистанции я уже молил бога, чтобы этот бег побыстрее закончился и чтобы не проиграть никому из своих, ведь на кону стоял отпуск. Прибежав к финишу, оторвавшись от второго места на приличное расстояние, я упал на колени, и через несколько секунд меня стало рвать. Я очень часто бегал кроссы, но до такого, чтобы меня рвало, было впервые.
Оклемавшись от забега и посмотрев остальные забеги других рот, я по времени оказался на втором месте, проиграв только старослужащему сержанту, перворазряднику по бегу из другой роты. Из двухсот приблизительно человек я по времени был вторым. Я этому событию был рад, и, похвалив меня, местный контрактник сказал, что я поеду в отпуск.
После всех рот побежала группа специального назначения (ГСН), которая к нам по соревнованиям никакого отношения не имела. Я их всех в душе ненавидел за их разную подлость. По одному они никогда не приставали, но толпой обязательно кого-нибудь били и отнимали разные вещи. Я с ехидностью смотрел на их забег и про себя ухмылялся, мол, сейчас посмотрим, какой вы спецназ, по вашим результатам. После их пробежки в количестве примерно тридцати человек, посмотрев их результаты, я был сильно удивлен. Мой результат был только восьмым из тридцати, а перворазрядник был шестым. Получалось, что пятеро лучших были спецназовцы. С этого дня я проникся уважением к группе ГСН и понял, что не зря они носят зеленые береты на левую сторону, и гоняют их по полной, в отличие от нашего батальона.
С отпуском меня опрокинули, все было только пустыми разговорами. Моя радость второго места стала горечью. Настроение было упадническое, но служба мне преподносила новые сюрпризы. Одним вечером сержант Фикса… Его все ненавидели, в том числе и я за его разные подставы. Он подставлял всех подряд ради своей выгоды. Если сержанта Лапу боялись и не любили за его безбашенность почесать кулаки, то мерзкий сержант Фикса, как я уже описывал, на заставе воровал у спящих автоматы, магазины с патронами, просив выкуп за них. Сам подставит солдата и его же сдаст командирам. Старослужащие сержанты его тоже не любили, и сержант Фикса должен был быть одиночкой, но его разное крысятничество заменялось постоянным подогревом своих по призыву сержантов. Фикса успевал везде: когда посылки приходили солдатам от родителей, там и он. Он умудрялся всегда найти вкусно пожрать. Одному ему было жрать скучно, и он приглашал на трапезу своих псевдодрузей сержантов, которые управляли ротой.
Фикса если кого-то бил, то бил ладонями по лицу, а именно по ушам. Я к нему попадал под раздачу за разные мои косяки уже раз пять-десять. Эта процедура Фиксы мне больше всего не нравилась, и она была болезненнее других ударов — в грудь или по плечам. В этот раз меня Фикса, не помню, за что, так злостно по ушам долбил, что на какой-то из ударов я схватился за левое ухо от боли, где в нем у меня поехал поезд, стуча рельсами. Левое ухо у меня сильно начало болеть и перестало слышать. Один солдат моего призыва меня сильно напугал, что Фикса, видимо, мне ушную перепонку порвал и теперь я не смогу этим ухом слышать вообще. При этом он мне еще сказал, что если у меня проходит воздух через ухо, а это значит, я должен был набрать воздух в рот, заткнуть нос и попытаться выпустить воздух через ухо — если выходит, то, значит, мое ухо слышать не будет никогда. Я попробовал так сделать, но вроде воздух через ухо не прошел, только я схватился сразу от боли за свое больное место.
Я сразу направился в санчасть с боязнью, что меня будут допытывать, кто ударил, но, на удивление, меня врач об этом не спросил, а из уха начал выкачивать кровяные выделения. Я, к удивлению своему, увидел, что врач дает распоряжение медсестрам положить меня в санчасть. Меня, конечно, это насторожило — полгода назад из-за сломанных ребер меня выписали на третий день, а тут меня положили из-за какого-то уха. «Не зря сослуживец мне предрек, что ухо мое слышать не будет», — подумал я, да и после процедуры выкачивания крови на второй день из уха я мог выпускать воздух через него. Мне даже хотелось закурить сигарету, и попробовать выпустить дым, но так как ухо было закупорено ватой, то я не рискнул это сделать.
Поезд, стучащий в ухе, я слышал, наверное, неделю, но на четвертый день я стал понимать, что не все так страшно, как мне говорил сослуживец. Мое ухо приходило в норму и начало слышать. От санчасти я стал получать удовольствие, понимая, что все не смертельно. Я только спал и ел: только утром проконтролирую порядок уборки солдатами, и опять на боковую. Я готов был еще чем-нибудь заболеть, чтобы из этого рая не выходить подольше. Я уже смирился, что отпуска у меня не будет и настраивался на службу дальше.
Сержант Фикса как-то зашел в санчасть, сопровождая больных солдат роты. Увидев меня с забинтованным ухом Фикса спросил, что с ухом прикинувшись дураком. Я ему, конечно, сказал, что это я от него пострадал. Похлопав меня по плечу, он мне сказал: ладно, лежи. Каждый последующий день, когда ухо уже сильно не болело, я благодарил судьбу за каждый день, проведенный в санчасти.
Через неделю меня выписали, и начались будни роты. Старослужащие сержанты меня встретили с радостью, что наконец свой груз можно свалить на меня. Побив меня в шутку кулаками потихоньку по щекам и пощипав их, что я за неделю какие щеки отожрал в санчасти, сразу дали мне задание.
За неделю, пока я болел, произошло множество событий. У нас в роте наконец появился новый командир роты со званием старший лейтенант. Мне он сразу понравился. Такой веселый, не злой, но в конечном итоге я его всех больше буду не любить. Также за неделю из нашей роты убежал солдат по фамилии Мухляков. По габаритам этот солдат был не слабый, но моральных сил для службы у него, к сожалению, было мало. Служить ему уж очень не хотелось, но и какому молодому, конечно, захочется служить, когда два года службы только начинаются, и долбят их все кому не лень. У молодых даже зарядка по первому времени кошмар, и к ней привыкнуть надо. Короче, ад, только в начале туннеля. И не зря суициды солдат приходятся на первый год службы. В моей службе, в моих ротах, к счастью, этого не случалось кроме резания вен в учебке и неудачно отрубленного пальца в Моздоке. Только в учебке на стажировке в Волгоградской области был случай, где застрелился солдат. При мне на моих глазах собирали часть и предупреждали разных старослужащих и сержантов об дедовщине, за которую будут сажать. Мне в первые полгода была тоже на руку такая взбучка старослужащим, так как после этих мероприятий прекращалось на время избиение. Как я уже писал, к счастью, в моей роте это не случалось, но случилось через полтора месяца после моего увольнения, когда в карауле погибли сразу двое, но об этом чуть позже.
Как-то в передаче «Совершенно секретно» показали ужасающее для кого-то видео. Ужасающее, только не для меня и некоторых моих сослуживцев, которые через это прошли. Всю нашу часть посадили по ротам смотреть эту передачу, как старослужащие ночью бьют солдат, издеваясь над ними и снимая на камеру. Командиры возмущались от увиденного, только не я и остальные, которые уже сталкивались с таким. Прапорщик Вахмутов возмущался и толкал правильные речи, что этих уже гражданских бывших дембелей посадят и правильно сделают.
После передачи я внутри себя кричал, вспоминая Моздок, учебку, Махачкалу — где же вы все бываете, когда точно так же происходит беспредел у нас. И прапорщику Вахмутову, которого ненавидел всех больше, внутри себя кричал: «Ты мразь конченная, говоришь правильные слова, брызжа слюной, а когда ты мне исполосовал всю спину палкой резиновой (ПР), когда я еле ходил с поломанными ребрами лишь за то, что я не сдал дембеля, который меня избивал, чтобы мне дальше служить без репутации стукача». А ведь из этого прапорщика спустя тринадцать лет вылез подполковник. Я ничего не имею против, если он исправился, и этот случай у него был единственным за всю службу, а я просто попал под горячую руку. За последний свой год службы я не видел у прапорщика Вахмутова сильной жестокости к солдатам и сержантам, но, общавшись с ним по интернету, я не увидел слов извинений, к сожалению.
Близилось двадцать третье февраля, а двадцатого я справлял свое двадцатилетие. Этот день рождения я отметил лучше, чем год назад в госпитале. Свое девятнадцатилетие, которое я отметил, будет ужасным черным днем в моей жизни однозначно. В двадцатилетие я старослужащим сержантам проставился поляной, которые мне отплатили надиранием ушей. Такого больного ощущения в свой день рождения я никогда не испытывал и думал, что мне они их оторвут. Своих сослуживцев, с кем поддерживал хорошие отношения, я тоже подогрел. На день рождения мама прислала посылку, и сколько я ни писал, чтобы не присылала и у меня все есть, зная, что лишних денег нет, посылка добралась до меня. Моя любимая тетя прислала мне денежный перевод, и разгуляться мне было на что. Всех, конечно, угостить не получалось, и обиженных было тоже много.
Я ждал больше не своего дня рождения, а 23 февраля — Дня защитника Отечества. Уже все знали, что для многих будут разные поощрения, присвоение званий, подарки и, несомненно, праздничный обед. Я был уверен, что мне дадут звание сержанта. Из своего сержантского призыва я практически один ходил старшим в наряды. Мне всегда доверяли командиры личный состав, и я ждал с нетерпением праздничного настроения. Меня уже заранее поздравляли все от моего призыва, старослужащих сержантов и контрактников, что я себе повешу еще одну лычку.
Дождавшись с нетерпением праздничной церемонии и оглашения присвоения званий, я был в упадническом состоянии. Мне не присвоили звание. Я стольких мне сочувствующих солдат, старослужащих сержантов и контрактников, даже не мог представить, и за это им спасибо. Всем старослужащим сержантам, кроме одного, дали звание старший сержант. Двум солдатам моего призыва дали звание младший сержант. Один из них был писарь Войнов, которого я недолюбливал, и он меня тоже. Всегда меня удивляло, и сейчас удивило бы: как можно штабному писарю дать сержантское звание? За что, за хороший почерк, что ли? За нехождение на зарядки, разные занятия служебной и боевой подготовки, наряды? Против рядовых получивших звание за хорошую службу я против ничего не имею. Солдату Коробкову, который выделялся на заставе и в части, присвоили звание за дело, но с ним сержантское звание где-то сыграет роковую роль, так как управлять ротой тоже надо всегда с головой.
Меня даже не поощрили за первое место в беге в своей роте какой-либо грамотой, а я, наивный, мечтал об отпуске, который мне обещали. Молодому младшему сержанту дали сержанта, а он никакой сержантской доли в нашей роте не играл. Над ним только все посмеивались, когда ему присвоили звание. Ему все старослужащие вместе с моим призывом запретили сержантские лычки надевать, чтобы не позорить нашу роту. Новоиспеченный сержант, отслуживший восемь месяцев, и сам наверное этому был не рад. Но он уж точно не был причастен к присвоению званий и не был виноват, став заложником ситуации. Но больше всего, конечно, не повезло старослужащему сержанту Бессонову. Ну ладно — мне не дать, но его опустить и не поставить на должность командира отделения — это был нонсенс. Кто-то сделал это специально или случайно, для меня это было загадкой. Вроде всех наградили званиями по делу, и ефрейторов дали лучшим солдатам, на мой взгляд, но непонятно, почему не дали мне и старослужащему сержанту.
Когда командир роты назначал наряды, то все контрактники просили меня к себе в помощники, а я уже даже по штату не был командиром отделения. Я был просто стрелок, только со званием. Меня, по большому счету, могли даже отправлять на уборку, в караул часовым, в столовую уборщиком и т. д. Спасибо старослужащим сержантам и контрактникам за поддержку, что из-за недоразумения на бумаге меня всегда все равно ставили старшим.
Я все в себе размышлял, почему мне в этой службе так не везет. Где несчастье и проблема, везде я был главным героем.
Я быстро смирился со своим положением, будучи внештатным командиром. И дисциплина в роте и порядок исходил от меня, так как старослужащие сержанты всей черновой работой озадачивали меня, зная, что я не подведу.
В один из вечеров командир части, проходя мимо по улице, увидел троих солдат из нашей роты, курящих в неположенном месте, и передал нашему ответственному контрактнику, выругав его. Пошло дальше по лестнице. Контрактник наорал на старослужащих сержантов, на которых он ставил ответственность в роте, ну а старослужащие сержанты, конечно, сделали крайним меня — мол, я не углядел за личным составом. Я получил хороший удар от одного из сержантов и злой побежал за солдатами на улицу, но когда я увидел троих молодых солдат, меня это взбесило еще больше. Они, не отпросившись, решили незаметно покурить. Я был в ярости. Трогать я их не стал, не мой был метод бить солдат, а потом за лишний синяк отвечать, хотя я за них хорошо получил.
Я каждого из трех провинившихся солдат поставил в проходе между двухъярусными кроватями и заставлял их отжиматься по счету. Я по себе знал, что физический труд — отжимание, хождение гусиным шагом, ползать и бегать в противогазах — намного мучительнее, чем получить по лицу. После счета «пятьдесят» я уже получал удовольствие от наказания. Мне их, конечно, еще хотелось побить за их залет. Они у меня не отпросились, а значит, забили большой х… А я за них получил по полной. Отсчет пошел к сотне раз. Они уже падали, а я их заставлял подниматься. Они кричали: «Товарищ сержант, я больше не могу», — а я их качал дальше.
Один солдат казахской национальности кричал, что сил больше нет, и отжимался через ор. Я не знаю, что с ним произошло, но в какой-то момент он громко заорал и головой со всей силы ударился об каркас железной кровати. Как мне показалось, он сделал это специально, и у него из головы потекла кровь. На этом воспитание мое закончилось. Кровь у солдата хлынула очень сильно. Я, конечно, испугался, и ему кинул полотенце, крича, зачем он это сделал специально. Мне солдат начал объяснять, что он так хотел пот со лба стряхнуть.
Я прекрасно понимал, что его будут пытать, кто его избил. Конечно, наговорить он сам на меня ничего не мог, ведь я его не трогал. Но если узнают, что я качал солдат в проходах, мало бы мне не показалось. Для этого есть зарядки и занятия, а это уже не по уставу. Я ему сказал, чтобы алиби было, как будто он мыл полы в проходе и случайно ударился об каркас кровати.
Я повел солдата с пробитой головой в санчасть. По дороге он меня успокаивал, мол, все нормально, извините, так получилось случайно, и он все скажет как надо. Солдат прекрасно понимал, что я качал их за залет, и по нему было видно, что он переживал не меньше меня. На солдата в санчасти оказывалось давление, кто его избил. Но ему не надо было врать, и говорил он уверенно правду, мол, сам ударился. Забинтовав ему голову, мы пошли с солдатом в роту, где меня старослужащие сержанты предупредили, что из-за меня если будут проблемы у них, то они меня порвут. Все обошлось.
Со мной служили пять казахских молодых ребят, и у меня остались только позитивные впечатления от их службы. Если заставляли их что-то делать, они могли просто забить на работу, только сделать вид, что поняли, а сами сачковать, но предательства в казахском народе за год, проведенный с ними, я не увидел. С ними было легче нести службу, чем со многими остальными. Добрые были в душе, но в обиду себя никогда не давали, и чувствовалось, что казахские ребята из Астрахани после нашего увольнения будут не последнюю роль занимать в роте. Но чудили они по-страшному.
Одного казахского солдата отправили в отпуск по семейным обстоятельствам домой в Астраханскую область. Возвращаясь из отпуска, он зачем-то взял с собой большой пакет марихуаны, засунув его в один из своих больших карманов штанов. В Кизляре его захотели проверить и ссадили с поезда. Ну ладно один коробок травы, а он все пятьдесят, наверное, взял. Конечно же, на него завели уголовное дело, и спасла его только служба в армии, а так сидел бы лет пять. Когда я его спрашивал, зачем он столько вез — «Хотел как лучше, со всеми поделиться».
Вообще я не понимал многих солдат, которые курили травку, варили какую-то кашу из травы. Трава росла в Дагестане во многих местах, и у солдат был всегда соблазн ее покурить. Также росла дурман-трава, когда после пятнадцати съеденных семечек улетала голова у солдат. Я не понимал солдат, которые это употребляли. Получать галлюцинации в части я не понимал смысла. Зачем жрать семечки, если результат будет однозначным и видимых примеров было много — кто стрелял в карауле, кто себя неадекватно вел, и всех потом наказывали по полной. Хорошо, что травка, которая росла была беспонтовая, как выражались мои сослуживцы. Я один раз попробовал в части вечером за компанию и не получил никакого ощущения. Видно, и правда от нее было толку мало, но воняла она как настоящая, и запах можно было учуять за тридцать метров. Хоть я и не курильщик этой гадости, но учуять запах наркоты всегда мог и отличить от простых сигарет.
Служба у меня продолжалась, невзирая на то, что я был без должности, и меня всегда ставили старшим на разные наряды. В наряде по столовой я, например, первый раз после гражданки попробовал пельмени. Там я ел постоянно жареную картошку. Где-то я даже завидовал повару-хлеборезу, который ел только гражданскую пищу, но служить в столовой с начальницей женщиной — врагу не пожелаешь.
Женщина горластая, килограммов на сто — сто двадцать. Если она видела какое-нибудь воровство в столовой, то избивала солдат. Когда она приходила в столовую, то весь наряд шуршал, а я трясся от страха, чтобы не побила за что-нибудь. Удары у нее были похлеще мужика. Мне, на мое счастье, от нее не досталось ни разу. Но была она и приколисткой. Все хватались за животы, когда она что-нибудь шутила. Тема была у нее одна- про добавление брома в чай, чтобы у нас, у военнослужащих, не стоял, так как понятно, что с женщинами у нас в части была проблема.
Будучи не на должности командира отделения, у меня был один большой плюс перед другими сержантами с должностями. Им каждый вечер надо было писать конспекты по занятиям, которые должны были проходить на следующий день. Многие сержанты не писали сами и заставляли молодых писать, но, бывало, на разводе проверяющий докопается до разного почерка. Как правило, один солдат не мог писать постоянно конспекты, так как каждый мог попасть в какой-нибудь наряд, и в тетради у сержанта был всегда разный почерк, за что приходилось получать взыскания.
В марте я получил свою первую зарплату. За службу больше года мне не перепало ни копейки. Мы только расписывались, а деньги уходили на нужды роты. Купят по зубной щетке с пастой, и вся зарплата. Меня устраивала эта политика, когда я был молодым. Нет денег, нет проблем, а так отобрали бы старослужащие по-любому. С двадцатью рублями своей зарплаты я расправился очень быстро. Я их отдал старослужащему старшему сержанту Филинкову за сделанные фотографии с моей физиономией. У всех, конечно, старослужащие деньги забрали, оставив всем по три рубля. Когда у старослужащих проявилась жадность, то они вспомнили про меня, но я этого и ожидал, и сделал все грамотно, отдав долг за фотографии.
С этой зарплатой, которая была первой за четырнадцать месяцев, начались все беды. Старослужащие начали всех солдат напрягать на деньги, обозначая заданную сумму и заданный срок. Когда деньги не находили, то начиналось ночное избиение. Меня, конечно, не трогали, считая своим сержантским составом, и я был нейтральным в этих разборках. Старослужащие почувствовали вкус денег и вспомнили о своем дембеле.
Наш командир роты был каким-то незаметным. Он сильно не напрягал по наведению порядка и разных других уставных дисциплин. Но пронесся слух, что наш командир роты пьет водку с нашими сержантами. Да и я заметил частое нетрезвое состояние сержантов, что раньше не замечалось. Пьяные сержанты для молодых солдат — это ад и бессонные ночи. Я просыпался от бунта сержантов, но я был неприкасаем и лежа смотрел, как били солдат. Получал я только за какие-либо залеты, которых было очень мало, но или мог нарваться еще на руку сержанта Лапы.
Я видел, что у командира роты старослужащие сержанты были чуть ли не братья. Как-то сержант Фикса на эмоциях при мне своим сержантам прокричал, что как командир роты достал его. Найдите денег, и давайте выпьем. На ответ, что денег нет, командир роты напрягал сержантов трясти молодых, занимаясь дедовщиной.
Будучи дежурным по роте в один из своих нарядов, который был самым плохим в моей службе, поступил приказ командования части. В связи с накаленной обстановкой в республике Дагестан всем ротам, а то есть дежурным по роте со своими дневальными, вскрыть цинки с патронами и вооружить магазины. Я, открыв КХО (комнату для хранения оружия), со своим нарядом начал вскрывать цинки и запихивать патроны в магазины. Старший сержант Фикса постоянно заходил в КХО, якобы помогать в нелегком труде. По уставу я его не должен был пускать в КХО, но понятно, что об уставе речи никакой не могло быть. Если бы я его не пустил, то слег бы опять, наверное, в санчасть, да и командир роты все видел, что Фикса молодец, проявляет инициативу и помогает, в отличие от других сержантов, которым делать как будто больше нечего, как мне помогать.
Меня, конечно, это смущало. Ведь Фикса просто так ничего не делал, но хотелось верить в его бескорыстность. Я больше почему-то думал, что Фикса прогибается зачем-то перед командиром роты, показывая свою добросовестность к службе и постоянно контактируя со старшим лейтенантом.
Наша рота жила, как я уже писал, в спортзале из-за аварийности этажа, который еще ремонтировали. Но КХО, каптерка и командирский кабинет остались на четвертом этаже в нашей аварийной роте. Фикса постоянно жестикулировал мне, указывая, что и как надо делать перед командиром. Я же, конечно, выполнял разные указания. Вечером, сдав свой благополучно наряд, дежурство по роте, я довольный со спокойной душой со своим нарядом пошел в расположение роты, то есть в спортзал.
Прошли еще сутки, и сержант, который у меня принимал наряд, остался на вторые сутки из-за того, что принимающий у него наряд — новый дежурный. Им был уже Фикса, недосчитался пачки патронов. Я уже сейчас не вспомню, сколько было в пачке патронов, двадцать или тридцать, но это не важно.
Вызвали меня с сержантом Бессоновым, который у меня принимал дежурство, и командир начал на нас орать. Куда мы дели патроны. Командир роты дал нам сутки найти патроны, или нас посадят, угрожал он нам. Самое интересное, что во время этих разбирательств терся Фикса. Конечно, мы уже, все взвесив, догадывались, что пачку патронов украл Фикса в мое дежурство, а сержант Бессонов просто плохо посчитал. На мне вина в этом случае была условная, и формально я был чистым. Ведь я наряд сдал, а сержант Бессонов подписался, что принял, но мы двое были заложниками этой ситуации.
Фикса к нам подошел и предложил пачку патронов за двести рублей. Расчет в 2008 году был такой, что пачка сигарет «Мальборо» стоила пять-шесть рублей. Месячная зарплата контрактника составляла девятьсот рублей. От такой наглости Фиксы мы были в ярости. Я этого урода с железным зубом впереди мечтал оторвать прямо перед дембелем и выходом его из ворот. Мечтал это не один я, а все сослуживцы моего призыва. Все ждали с нетерпением его увольнения, чтобы набить ему морду и выбить ему зубы. Мне было противно с сержантом Бессоновым покупать у него патроны, и мы отказались.
Мы начали искать другие выходы и спрашивать у разных контрактников. По разным слухам говорили, что в каждой второй семье в Дагестане есть боевое оружие, но спрашивая у каждого знакомого контрактника, нам никто с патронами помочь не мог. Один местный солдат срочной службы нам пообещал за тридцать рублей найти, но у него чего-то не срослось.
Прошли еще сутки, и командир нас опять вызвал. Фикса, как всегда, присутствовал при разговоре и поддакивал командиру. Было видно, что командир нам никак не хотел помогать, а только угрожал, что нас посадят, дав нам еще сутки. Многие нам сочувствовали и тоже верили нашим словам, что Фикса — урод, украл в КХО патроны. Если бы у нас было недели две, то, конечно, поехав на стрельбы, можно было урвать по несколько патронов у каждого солдата. Ну стрелял бы солдат не десять раз, а восемь. Выстрелы никто не считает. Многие тырили себе на стрельбах, делая из патронов нагрудные амулеты, а мне это было незачем в то время.
Командир роты не был заинтересован все уладить, подождав некоторое время, и без проблем решить эту проблему. В какой-то момент, начав писать эту книгу и вспоминая эту злополучную ситуацию, все взвешивая, я начал подозревать командира роты в сговоре. Когда Фикса украл патроны, то он постоянно терся с командиром роты и, не стесняясь, при нем нам предлагал купить. Также аргументом служит еще и тот момент, что командир, бухая с сержантами, предлагал вымогать деньги у солдат через неуставные взаимоотношения, и, может быть, все эти напряги нашей роты найти определенную сумму в указанный срок и исходили от командира роты, а сержанты только выполняли грязную работу, занимаясь избиением.
Не нашли мы с сержантом по горю нигде патроны, и нам пришлось, заняв денег, купить у Фиксы. Я еще раз убедился, что это украл патроны он из КХО. Патроны были чистые, новые и без царапин, только распакованные из пачки. Конечно, Фикса дал нам патроны врассыпную, отмазываясь, что это его личные, и мы, конечно, это унижение проглотили.
Наступала весна, стало теплеть, хоть и морозов на Кавказе практически не бывает. Я писал письма своему товарищу по двору, который служил в Подмосковье по блату, а он показывал мои письма своим сослуживцам, которые от моей службы просто охреневали и сочувствовали. Завидовали они мне только в одном, что зима в Дагестане не минус тридцать.
Наши старослужащие ждали 27 марта, приказа на дембель. Солдаты моего призыва тоже ждали этого дня с нетерпением, когда они закончат подкладывать подписанную сигарету с числом, сколько осталось до приказа. Хорошую сигарету достать было не большой проблемой, но старший сержант Фикса не курил, и он напряг всех, чтобы каждый день лежала под подушкой шоколадка. Солдатам приходилось изворачиваться, чтобы достать деньги и купить шоколадку. Меня это не касалось, и я в эти движения, подкладывание подписанной сигареты дедушке под подушку, особо не вникал.
Как-то первый раз за службу мне представилась возможность погулять по городу официально, но, правда, с контрактником. Убежал из части солдат, и нескольких контрактников с солдатами отправили искать беглеца. Мне представилась возможность взять с собой бойца. Просились солдаты моего призыва, но я всем отказал, взяв с собой молодого, который по дороге мог хоть сигарет у прохожих настрелять. От своего призыва толку было бы мало, а молодому что ни прикажешь, он все сделает. Ходили мы с контрактником по заданному маршруту.
Контрактник жил недалеко от нашего маршрута, и он нас позвал пообедать к себе домой. Мне было неловко идти в гости с сапогами и вонючими портянками, но контрактник настоял. Я его раньше даже не знал, так как он был из другой роты.
Мы пришли к нему в квартиру. Разуваясь, я портянки засунул поглубже в мысы, чтобы не воняло. Посадил он нас в большой комнате, а его жена стала нам готовить поесть. Было видно по квартире, что они жили бедновато. Жена его принесла целую большую сковородку жареных яиц с хлебом из пяти-шести штук, и мы начали с жадностью уплетать глазунью. На гражданке в нелегкое время в девяностые годы, съесть три яйца на завтрак для моей семьи было роскошью. Только два максимум, а тут контрактник потратил из семейного бюджета на каких-то солдат столько яиц. Попив чаю с булками, мне ему неудобно было смотреть в лицо. Мне было стыдно, что я обожрал его семью, а когда он предложил на улице, остановившись возле палатки, попить пива, то я пытался найти любую отмазку, что будет от нас запах и нам нельзя, а он взял и купил нам по бутылке.
Я пил пиво. Стыдясь из своего малого возраста, кроме спасибо, я больше не смог ему ничего сказать. Когда я слышу от кого-то, что чурки, даги — уроды и козлы, то мне охота закрыть рот этим людям. В семье не без урода в каждой нации, и добрых людей и хороших в Дагестане на порядок больше, чем плохих. Пожили бы вы там, которые кричите везде, что чурки понаехали.
Я сильно не вникал в сегодняшние будни республики Дагестан, но, по слухам, все не намного изменилось, чем тогда, в 1998 году. Работы там как не было, так и нет, если дагестанцы едут работать в Москву за мизерные деньги. У меня в роте служил один местный контрактник, который устроился в часть, отдав двенадцать тысяч рублей взяткой, чтобы служить в части. Получалось, что целый год этот контрактник работал бесплатно. И это в неспокойном регионе, где постоянно воюют, и за свою жизнь он не мог быть уверен, что завтра на каком-нибудь выезде его не подорвут.
Ладно, что-то я удалился от своей службы. В роте со своими ненавистниками я старался не конфликтовать, но нравиться я, конечно, всем не мог. С писарем младшим сержантом Войновым я нашел общий язык, и от него даже для меня была польза. В штабе он мог и конверты достать, и по разным штабным мелочам я к нему обращался.
Как-то сержанту Войнову было дано поручение в выходной день собирать телеграммами всех офицеров и контрактников в срочном порядке. В каждую квартиру по указанному адресу надо было позвонить и отдать телеграмму, чтобы в срочном порядке офицеры и контрактники прибыли в часть в связи с напряженным положением в регионе. Сержант Войнов взял меня в помощь с несколькими молодыми, за что я ему был благодарен. Он раздобыл фотоаппарат с пленкой, и мы ходили по адресам, не забывая фотографироваться у разных достопримечательностей города Махачкалы. Когда солдат отдавал на адресе телеграмму, то ему постоянно давали какие-нибудь сладости. Нажравшись разных сладостей и использовав всю пленку в фотоаппарате, раздав все телеграммы, мы возвращались в часть. Молодому солдату дали нести целый пакет разных вкусностей, чтобы угостить других ребят в части, но когда мы к ней подошли, то в пакете оставалось несколько конфеток и печенок. Сержант Войнов дал втык молодому за то, что он сожрал целый пакет печенья и конфет. И куда в него столько влезло, было не понятно. Угостить никого не удалось.
Фотографии быстро сделались, так как Войнов сразу попросил офицера в штабе, который и сделал фото.
Наступило 27 марта. Помимо приказа это еще был и есть день внутренних войск. Праздничный обед был не хуже, чем 23 февраля. Старослужащие наши стали дембелями. У нас в части проводился концерт. Слушая разную музыку, я мечтал о доме. Оставалось потерпеть старослужащих еще несколько месяцев.
В роте у нас появился выездной наряд по охране военного вертолета в аэропорту города Каспийск. Уезжали туда на четверо суток, и поочередно наша рота менялась с другой. Сначала туда ездил помощником старший сержант Фикса. Четыре дня без этого мерзкого урода тоже сказывались положительно на всех, но не все контрактники хотели брать Фиксу помощником, и вторым номером стали постоянно брать меня. Старослужащие сержанты были недовольны, что я выезжал на четверо суток. Рота ведь формально была вся на мне. Залетов нет, и сержанты отдыхают.
После первой поездки в Каспийск я понял, что такое рай. Раз в два часа выходишь менять караул, который стоял практически рядом в аэропорту со взлетной площадкой, охраняя военный вертолет. В караульном помещении у нас был телевизор, который мы брали из роты. Из столовой нашей части, будучи в наряде, наши бойцы воровали мешок картошки, помимо сухого пайка, который нам выделяли. Мозг у меня в этом наряде просто отдыхал. Смотря на взлетающие самолеты, я уже знал, какой летит в Москву. Я завидовал пассажирам этого самолета, который через два часа должен был оказаться в столице, практически у меня дома. Как же мне в этом наряде было хорошо и спокойно.
С контрактником, старшиной Кельбалиевым, который брал меня два раза в этот наряд, мы резались в шашки и нарды. В шашки он меня обыгрывал из трех партий два раза. В детстве у меня был третий разряд по шашкам, и за свою детскую карьеру я несколько турниров выиграл. Играли на шоколадки, и должен я ему был порядка десяти шоколадок, которые он мне потом простил. В нарды я ему проигрывал без шансов. Спорили мы с ним на разные темы. Умный и толковый был мужик не по годам. Второй раз, когда он меня брал в Каспийск, то скандалил с сержантами, которые не хотели меня отпускать. Я старослужащим сержантам пожимал плечами, что я сам не напрашивался, и в глубине души радовался своему счастью, что старшина меня отвоевал и взял в наряд по охране вертолета.
Старшина Кельбалиев погиб глупой смертью. После моего увольнения через два месяца произошло в нашей роте ЧП. Я слышал эту историю от нескольких человек, которые еще в то время служили. Заступил старшина Кельбалиев начальником караула. Понятно, что внутри роты он обстановкой владеть не мог. Ее только могли знать близкие сослуживцы, у кого какие проблемы. Молодой солдат, заступив на пост на крыше гаражей, застрелился. Услышав выстрел, караул подняли в ружье. Бегом старшина Кельбалиев прибежал на крышу гаражей, где увидел сидящего застрелившегося солдата, облокотившегося на автомат. СМИ утверждали, что солдат еще был живой, служившие ребята говорили, что старшина уже прибежал, когда солдат был уже мертвым. Старшина в панике от увиденного потянул автомат на себя, пытаясь у солдата его забрать. Палец у солдата был еще на курке, и он свое дело сделал. Когда старшина тянул ствол, то курок сам, можно сказать, нашел палец, о который и нажался.
В старшину тоже влетела пуля 5.45, от которой старшина погиб. Глупая смерть. Поставь он на предохранитель АКС-74М, то второй смерти не было. Понятно, что увидев такое, я или еще кто-нибудь другой, потеряв рассудок, на месте старшины сделал бы точно так же и не подумал в первую очередь о предохранителе, на который сначала надо было поставить. Человеческий фактор, который столько натворил делов. При разборе полетов нашли крайнего для показухи, как описал мне один молодой сержант, служивший со мной и бывший очевидцем, что происходило в роте. Солдат, которого посадили, якобы ударил его перед караулом или унизил, осталось загадкой. Конечно, до всех мелочей я не могу знать, но картина из трех свидетелей, служивших в нашей роте в то время, была описана так, как я написал.
После написания своей книги я нашел еще одного сослуживца, сержанта Чуприну, который на полгода призывом был младше, и написал ему про эту историю. Попал я прямо в точку. Помощником начальника караула был именно он.
Наша переписка велась так:
- Ты как дослуживал последние полгода? Слышал, боец какой-то в нашей роте застрелился. Кельбалиева тоже не стало из-за несчастного случая, — я написал Виталию Чуприне.
Виталий Чуприна:
- Да. Неохота вспоминать, конечно. Это случилось, когда я был ПНК (помощником начальника караула), а Кельбалиев начкаром. В 6:00 я вместо него разводил караул. Этого бойца поставил на пост на гаражах, и буквально мы отошли десять метров, как прозвучал выстрел. Я побежал на гаражи, а он уже готовый. Выстрелил себе в голову и сидел, держа автомат. Я позвонил в караулку, и сразу прибежал Кельбалиев. Он, наверное, тоже растерялся и пытался забрать у него автомат. Зря он это сделал, у пацана палец был еще на курке. Старшина потянул на себя, и выстрел. Пуля ему тоже в голову навылет, вместе с каской. Дальше я уже смутно помню из-за увиденного. А у старшины должна была быть свадьба через месяц. Жалко. Нас потом замучили дознаватели, но все обошлось. Уволился в срок.
Про сержанта Чуприну могу только сказать одни положительные качества. И я просто уверен, что его вины там нет. Мелочи, конечно, для меня не сильно важны. Я служил полтора года со старшиной Кельбалиевым. Он был грамотным, деловым, самоуверенным и очень добросовестным контрактником. Я просто уверен, что он пошел бы далеко по лестнице. Но, как говорят, сапер ошибается один раз, а также палка стреляет один раз в год — это все из этой темы. Пусть земля ему будет пухом. И как обидно, что он не погулял на своей несостоявшейся свадьбе. Ну да ладно, у меня в моей службе он живой, и еще старшина будет у меня восемь месяцев жить.
После приезда с нашего наряда из Каспийска наш командир роты успел так нажраться, что командир батальона его закрыл на ключ на четвертом этаже в расположении нашей роты, где проводился еще ремонт. У нашего командира роты был уже не один залет, но убрать его из части не могли, так как офицеров в части было мало, и никто в Махачкалу ехать желанием не горел. Нашему пьяному командиру не понравилось, что его закрыли, и он начал связывать из простыней веревку, чтобы спуститься вниз из окна. На его, наверное, счастье, этот цирк как-то увидел и доложил комбату. Комбат его сразу отстранил от должности командира роты, и временно исполняющим обязанности командира роты был назначен прапорщик Вахмутов.
Прапорщик взял сразу бразды правления ротой в свои руки. Он внутри роты был всегда лидером, и его коробило, что он был прапорщиком, а запал командирский у него имелся. Бывший командир роты понизился до командира взвода, и со стыдом он стоял всегда в строю в шеренге вместе с сержантами.
Когда я приехал после своего наряда, уже в третий раз по охране вертолета в городе Каспийск, то я как раз попал сразу на представление нашего нового командира роты и вместе с ним — прибывшего офицера, который у нас стал замполитом.
Командир роты мне как-то сразу не приглянулся, а больше понравился замполит, который много говорил красивых слов. Первые несколько дней я не чаял в нем души, но за две недели я его стал ненавидеть. Он ни кого не бил, но был таким скользким. Он всех унижал и оскорблял своими словами за каждые мелочи. Когда я зевнул у него на теоретических занятиях, которые он вел, он начал меня при всей роте унижать. На счет раз, я должен был ладонь приложить ко рту, на два убрать. Я его приказ не исполнил, что ему не понравилось, и он брызгал слюнями. «Да пусть обосрется и удавится, но не сделаю», — с ненавистью смотрел на него я. При моем личном составе унижать сержанта таким образом за зевок не каждый офицер себе позволит. И у меня начались с ним проблемы. Да и у всех были с ним проблемы, даже с командиром роты, с которым они не сжились, и он перевелся в другой батальон.
Командира роты после прихода через некоторое время зауважали и стали бояться. У него часто проскальзывала агрессия. Он мог просто взять тумбочку, если там был беспорядок, и запустить в личный состав. Каждое утро на территории части, где за каждой ротой была закреплена территория, проводилась уборка. Нашей роте не повезло, и за нашей ротой был закреплен всегда общественный туалет. Но мне не повезло еще больше, так как за моим вторым взводом он был закреплен до самого дембеля. Конечно, убирать мне его не приходилось, но контролировать приходилось часто, а это значило, что мне туда приходилось постоянно заходить и нюхать ароматы, которые выходили из деревянных дырок, проверяя порядок. Я очень брезгливо относился к таким туалетам и не понимал, как может срать пять задниц кряду без перегородок, тужась, издавая вонючие запахи и неприятные звуки. Я, конечно, по возможности ходил в офицерский штаб справлять нужду, так как сержантские возможности мне позволяли, но и проблем со стулом у меня больших не было. Сходить один раз в два дня меня устраивало. Но меня раздражало, что в общественном туалете какие-нибудь жопы промахнутся мимо дырки, и дерьмо оказывалось на деревянной сиделке, не попав в дырку, сильно воняя. Я на это просто смотреть не мог, а это нашим солдатам приходилось убирать.
Командира роты боялись все, от солдат до сержантов. За непорядок, помимо метания тумбочек, он разбрасывал в расположении роты все матрасы, из тумбочек выкидывал все вещи. От командира можно было ожидать все что угодно. Мне даже рассказали одну утку, а может, быль, что его перевели из астраханской части за залет. Какому-то солдату он сломал нос. Уж не знаю, на сколько это правда, но по каким-то поступкам можно было поверить. Но в роте наводились настоящий порядок и дисциплина. Один командир нашей роты старший лейтенант Панфилов строил всех. Если ему выговаривало вышестоящее начальство замечание по нашей роте, то мы вешались от разных нагрузок.
Как-то нашему командиру сделали замечание, что в общественном уличном туалете беспорядок, и командир, недолго думая, собрал сержантский состав и отправил на уборку туалета, а командовать парадом приказал старшему сержанту Лапе. Никто конечно не был застрахован от того, что после уборки туалета не придет и не насрет кто-нибудь, испортив весь порядок. А вышестоящему командиру приспичит сходить именно в туалет на улице, где увидит пару куч, и нажалуется на беспорядок. Это был конкретный залет. Даже сержант Лапа понимал, что это большое унижение для сержанта — чистить туалет. Лапа, конечно, был без головы, и я думал, что он нас начнет мочить, но он этого не сделал.
Я прекрасно понимал, что я ни при каких обстоятельствах не буду драить сортир, и также осознавал, что старший сержант Лапа, если захочет, может меня без проблем силой засунуть в очко. Я хоть был и не слабым, но с этой глыбой в части справиться никто не мог. Поначалу Лапа даже закрыл глаза на то, что мы нашли двух молодых бойцов и заставили убирать сортир, но сразу появился командир роты и сделал выговор Лапе, что если сержантский состав не уберется через двадцать минут, то придется Лапе присоединиться к нам по наведению порядка. Лапа сразу озверел и в приказном порядке гаркнул на нас. Изо всех сержантов я был больше уважаемый, чем другие. А в основном были сержанты моего призыва и ниже, и я взял все в свои руки. Накричав на сержантов, на которых я мог накричать, а то есть более молодых, я начал тоже приказывать идти чистить сортир. Старший сержант Лапа из моего призыва и младшего, меня уважал больше, хотя и бил, бывало, безжалостно. Конечно, можно сказать, откуда я могу знать, кого он больше уважает, и бил он меня больше, чем других, но все задачи по поводу порядка, проведения зарядок и т. д. старослужащие сержанты возлагали только на меня. Так туалет был убран сержантским составом. При уборке я боялся, что командир роты увидит, что двое сержантов со мной не работают, но пронесло. Я еще раз понял, что с командиром роты шутить нельзя, и по дальнейшей службе я ни один раз в этом убеждался.
В нашем батальоне по плану наметился полевой выход на два дня с ночевкой на полигон. Марш-бросок на десять километров по полной боевой пешком и бегом, где у нас раз в неделю проводились стрельбы. Полная боевая — это бронежилет на шестнадцать килограммов, вещевой мешок, автомат, саперная лопата и т. д. Сержантский состав, в том числе и я в своем бронежилете, вынули по паре пластин из бронежилета «Кираса-5», чтобы было немного полегче. Некоторые хитромудрые откосили, кто-то был в наряде, но в общем в каждой из трех рот собралось человек по шестьдесят. Ранним утром после завтрака под руководством комбата батальон выдвинулся на полигон. Мне этот марш-бросок запомнился очень хорошо. И комбат того времени его и сейчас наверное очень хорошо помнит. Если бы он знал, что случится, то наверняка бы отменил этот полевой выход. Уж очень много случилось событий.
Командиру батальона хотелось по своей программе выжать из личного состава многое, но после трех-пяти километров марш-броска, шага вперемешку с бегом, некоторые бойцы начали терять сознание. Откачивали их, отправляли на скорой в больницу. Меня комбат вместе с Фиксой удостоил замыкать колонну, чтобы никто не отставал. Половину дороги мне пришлось пронести два бронежилета. Мало того, что десяток бойцов полегло и их увезли, так еще и полуходячих хватало, за которых пришлось нести лишние шестнадцать килограммов. Командир батальона был, конечно, не рад таким событиям и не ожидал таких потерь, возмущаясь, что дойти не могут, не говоря уже о военных действиях, которые могли начаться в любую минуту из-за напряженной обстановки республики Дагестан.
Еще я, конечно, вспомнил спецназовцев, которых я ненавидел, а они нас не любили. У ГСН такие марш-броски проходили практически каждый день. С большими усилиями и с божьей помощью наш батальон доковылял до полигона, где в течение суток и проходили разные мероприятия — стрельбы, ночные стрельбы, бег на определенную дистанцию, рытье окоп и многое другое. Было и интересно и тяжело.
За сутки случилось очень много неприятностей. Самая малая неприятность — что сержантский состав заставили рыть большую яму и хоронить бычки, так как на территории полигона после курения в неположенных местах было очень много мусора искуренных сигарет. Я каким-то способом на эту процедуру не попал, и меня старослужащие сержанты после похорон бычков избили. Процедуру похорон бычков я видел один раз, но из солдат. Когда четыре человека несут доску, якобы гроб, и на нем лежит один бычок. Кто-то напевает похоронный марш, и колонна солдат идет сзади и якобы плачет. Яму вырывают два метра на два, и еще в глубину столько же. Хоронят бычок по всем канонам. Положив бычок в могилу, каждый солдат кидает по горсти землицы, и закапывают яму. Со стороны, конечно, смешно, но только тогда, когда ты в этом не участвуешь. Мне в сержантской панихиде посчастливилось не участвовать, но по морде мне после похорон получить пришлось.
Далее пришла весть, что у моего сослуживца из моего взвода умер отец. Он один из немногих уже ездил в отпуск. Два месяца назад у него умер отчим, теперь же у него умер родной отец. Я преклоняюсь перед старшим офицерским составом, то есть командиром батальона, его замом, которые стали ему собирать деньги на похороны отца. Казалось бы, из-за какого-то солдата, которого никто не знает, скидывался офицерский состав с контрактниками из своих кровных денег. А это в основном местные дагестанцы, не считая русского командира батальона и нашего командира роты. Многие не любят дагестанскую нацию, а у них есть чему учиться.
Третье ЧП случилось масштабное, оно получило общественный резонанс. На нашем полигоне выставили караул, который должен был охранять наш батальон и не пускать посторонних. Рядовой солдат по кличке Нос, с которым я проходил службу на заставе и который меня грозился пристрелить при первой возможности из-за нашего конфликта, который я описывал ранее, стоял в карауле часовым. Рядового Носа после заставы перевели из нашей роты в другую из-за ротации кадров, так как во второй роте уволилось после заставы много дембелей и солдатами нашей роты пополняли вторую роту. На полигоне были услышаны выстрелы, которые ничему не предвещали. Сразу были слышны крики, и началась паника с беготней. Выяснилось, что застрелен помощник начальника караула второй роты.
Хронология событий из очевидцев, которые шли с помощником начальника караула на смену часовых, которые мне рассказывали, была такая. При смене рядового Носа по фамилии Иваненко, который был недоволен, что смена задержалась порядка десяти минут, высказывал сержанту в грубой форме, из-за чего началась словесная перепалка. Нос пригрозил сержанту, что его застрелит. Сержант, конечно, не поверил. Что-то было похожее на мою историю на заставе, но в этой истории было все плачевней. Рядовой Нос всадил на эмоциях в сержанта очередь из трех пуль, которые хорошо погуляли в теле убитого, вылезая из разных частей тела. Пули автомата Калашникова 5.45 очень коварные. При попадании в тело человека пуля может хорошо походить в теле, что уменьшает шанс на спасение человека. Рядового Носа сразу ударили прикладом по голове находящиеся рядом караульные ребята, и рядовой Нос на несколько секунд потерял сознание. Ребята у него забрали автомат. Поднимаясь, рядовой Нос возмущался, за что его ударили по голове, не понимая еще, что он натворил. Я так же не понял, и это, конечно, не важно, как его можно было вырубить, ведь его голова должна быть в каске или в сфере. Но это все тонкости, которые никакой роли не играют. У убитого сержанта была установлена халатность, ведь смену он пошел менять без надетого бронежилета. Может, бронежилет его и спас бы, но это все сослагательные наклонения. Сержанта не стало, и цинковый гроб к матери готовился на отправку.
Я просто поражался еще одной детали, и также удивлялся еще на заставе, как рядового Иваненко по кличке Нос взяли в войска, где есть оружие. Нос, не стесняясь своего прошлого, рассказывал, как он сидел на малолетке. И понятия, и жаргон у него были более тюремные, чем гражданские. И я, получалось, ходил под смертью на заставе, ехидно смеясь над ним, над балаболом, что застрелит он меня при первой возможности. Было ясно и понятно, что стрелял он в состоянии аффекта и с нервишками он ничего не мог поделать. В тюрьме он сидел до суда с одним провинившимся за неуставные взаимоотношения, который писал, что Нос до сих пор не понимает, как это все вышло, и сожалеет о случившимся. Дали ему семь или восемь лет, уже не помню. Конечно, если бы его послали в стройбат, то лопатой убить было бы тяжело, и не наломал бы он никаких дров. Но каким образом производился отбор, было непонятно. И этот офицер, который приписал рядового Иваненко во внутренние войска на приписном участке, тоже причастен к гибели сержанта. Каково матери, которая потеряла своего сына. И я не позавидовал офицеру с контрактником, которые везли цинковый гроб с сержантом. Уж извините, но фамилию я убитого сержанта не вспомню.
Каким образом производился отбор в конце 96 года, я не знаю, но могу догадываться, что на Северный Кавказ, где шла война, посылали всех подряд из-за недобора.
Весь полевой выход смазался, и какие-то плановые занятия отменили. К вечеру по плану были спортивно-массовые мероприятия, и на выбор были бег на три километра или поднятие в гору. Просто бегать никому не хотелось, и все выбрали поднятие в гору. Гору выбрали небольшую, и на вид казалось, что за пятнадцать минут я поднимусь наверх, но оказалось все гораздо дольше, сложнее и опаснее.
Поначалу мы лезли всей толпой, но через полчаса мы все разбрелись, и слышны были только голоса с криками. Кто-то был ниже, кто выше. Подниматься было совсем не легкой задачей, как оказалось, но я даже не мог подумать, что окажусь в шаге от смерти.
Увидев змею, которая смотрела на меня, шипя, я чуть не наложил в штаны, и от сильного испуга я потерял концентрацию, и меня потащило назад. От испуга руки, которыми я держался за скалы, у меня отпустились. В метре от меня была змея не знаю какой породы, с которой я встретился первый раз в жизни наедине. Мое тело валилось вниз, где падал я уже без шансов выжить, и на мое счастье, я правой рукой нащупал, падая, кустовое дерево, которое меня спасло. Спустившись немного вниз, я отходил от пережитого шока. Я уже не столько был шокирован змеей, сколько тем, что чуть не свалился вниз на скалы. Я уже хотел лезть обратно вниз, но увидел на самом верху горы несколько солдат, радостно кричавших, преодолев эту гору.
Переборов свой страх и обходя левее место, чтобы не напороться на змею, я добрался до самого верха. Пейзаж был наверху незабываемым. Жалко, что только не было фотоаппарата. За горами были только горы, где можно было укрыться любым бандформирования с полевыми командирами. Эти сутки полевого выхода были самыми богатыми на события. После таких событий командир батальона уже не решился вести батальон пешком назад, хотя по плану мы должны были и обратно идти своим ходом. Комбат не решился испытывать судьбу, и за нами приехали машины.
На следующий день мне преподнесли моральный подарок — поставили меня в наряд охраны вертолета в аэропорту. Для меня это был праздник. Четверо суток нормальной службы.
Моим сослуживцам пришла идея поймать бродячую собаку и ее съесть. Начальник караула, контрактник был не против, а я воздержался, не сказав нет. Уж больно жрать хотелось. Да от меня ничего и не требовалось, только есть или не есть домашнее животное. Жалость к собаке была сильная, но от меня ничего не зависело, так как все были согласны. Я воздержался, буду ли я есть, но желудок мне говорил обратное — жрать давай. Собак бродячих бегало много, но выбрали молоденькую. Отправив на пост наряд, через час я уже понял по докладу в рации, что собаку они уже поймали. При смене она уже была убита и завернута в пакет. Я понял, что они убили самую молодую и красивую собаку. Сейчас я просто не понимаю, почему я их не остановил, но это сейчас просто рассуждать, когда можно позволить и осетрину, и баранину со свининой, и т. д. Тогда хотелось жрать.
В караульном помещении молодой солдат разделал убитую собаку. Я на это смотреть не мог, даже не заходил в комнату, где разделывали пса. Пожарив собачку, я съел куска три. По первому куску я получал вкусовое удовольствие. Мне показалось схожесть с курицей, но в те времена, в свои двадцать лет, я в мясе ничего не понимал, так как ел его в то время не так много, и было это роскошью. Второй кусок — я начал грызть кость и вспомнил животное, где мне стало плохеть. От жадности съел третий кусок, у меня началась рвота. Если бы мне сказали «Ешь курицу», подав собаку, то я наверное и кусков пять съел бы с удовольствием, но в подсознании было, что маленькая собачка бегала еще вчера, а сегодня ее убили и сожрали. Меня от этого тошнило. Сейчас мне это писать очень тяжело, но я решил писать всю правду и считаю нечестным для себя что-то скрывать. Я был по-любому соучастником убийства собаки, раз я ее ел. Только рядовой Третьяков не стал, даже не притронулся ни к одному куску, переборов свой голод.
Приехав с наряда охраны вертолета через четверо суток и узнав новость, весь наш наряд был в полном восторге. Демобилизовался Фикса. Эта крыса наконец уехала домой. Все были рады и разочарованы тоже. Ведь весь наш призыв мечтал его оторвать перед дембелем по полной программе за все. Я не понимал, как такие люди умудряются жить. Если в армии он был таким ублюдком, то я никак не думаю, что в гражданской жизни он совсем другой. Перед полевым выходом Фикса еще отличился, когда украл у сослуживца, с которым был в хороших отношениях, дембельскую форму. Украл нагло, у многих на глазах. Я тоже видел, как он перепрятывал чужую форму, и сказал этому старослужащему солдату, но он ничего не мог сделать. Фикса и уволился в запас как крыса. Его из нашего призыва никто не увидел, когда он покидал часть. Но для нас это был большой праздник. Фикса заменял десяток старослужащих своими пакостями. За месяц до увольнения, как правило, дембеля становятся добрыми, за некоторыми исключениями. Все хотят домой, и также понимают, что любой помоложе призывом солдат может набить морду любому дембелю, и ему за это уже ничего не будет, так как у дембеля поддержки становится мало, и времени не остается, чтобы наказать, да и залетать под дембель никому не охота.
Потихонечку мой призыв начал борзеть, и началось в нашем призыве создание кланов. Друзей я себе в части не нажил, тем более из сержантов. Я целеустремленно их искал, чтобы держаться вместе, держать порядок, как это было у старослужащих сержантов, которые четверо держали всю роту, и все их боялись. С Рифатом, с которым мы на заставе подружились после нашего конфликта, когда Фикса специально устроил провокацию, у меня дружбы хорошей не получилось. Я за него после заступался, когда у него со старослужащими сержантами были проблемы, и он мне даже говорил спасибо. Я понял со временем, что дружить с ним тесно не стоит. Дружил он ради выгоды, а хотелось настоящих друзей. Когда у меня было что пожрать, он первый прибегал, а сам втихаря со своими земляками лопал, не замечая меня.
Я понимал, что мне надо делать вид и с кем-то дружить, кто показывал свои лидерские качества, не перегибая палку. Силой кого-то брать и драться со всеми никакого здоровья не хватит, и ребята там поздоровей и сильней меня есть, которые размажут, что мало не покажется, и свой накопленный авторитет у меня сразу потеряется. Много рядовых меня недолюбливали, и в некоторых случаях бывало все на грани большого конфликта, что мне было невыгодно. Сержанты старослужащие потихоньку все поувольнялись, и мне сержант-дембель подарил свои поношенные берцы, которые были и не сильно старыми. Это было лучше по-любому, чем кирзовые сапоги. Берцы всегда придавали статус сержанту или солдату. Каждый сержант и солдат мечтал о берцах, но не каждый мог их носить, так как за них нужно было еще воевать, и могли снять какие-нибудь бойцы из группы специального назначения, как и происходило с некоторыми сослуживцами. На вид у нас в роте было много крутых ребят, а какой-нибудь спецназовец подойдет, и вся крутизна сразу девалась, а потом говорит, отмазывается: «Да я просто со спецназовцем хорошо поменялся. Отдать берцы и получить взамен сапоги — это хороший обмен».
Из старослужащих сержантов остался один Лапа. Этому дураку надо было умудриться залететь за пьянку комбату, который ему месячишко и продлил. Лапа ходил, от безделья чесал кулаки, и весь мой призыв озадачил на поляну к своему дембелю. Все от него шарахались и прятались. Как-то я весь побитый командиром роты — а то есть у командира роты были такие своеобразные приколы; бил он по рукам кулаками в предплечье, и бил так хорошо, что рука немела, и ее поднять было невозможно — с отбитыми руками я еще встречаю Лапу, которого откуда-то принесло намою голову, и он меня начинает тоже бить: «Где поляна?» Я ему показываю на свои отбитые руки в синяках, и Лапа немного добреет. Как же командир любил по этим точкам бить, отрабатывая удары то на сержантах, то на своем писаре. Бедный Ваня-писарь. Он постоянно побитый ходил. Но это у командира были такие шутки, и сильно на них никто не обижался. А потом синяки на теле у солдат постоянно присутствовали, так как занятия по рукопашному бою постоянно проходили. Лишь бы не было синяков на лице, за которые очень жестко наказывали.
Лапа уволился, так и не получив от нас подогрева. Никакую поляну ему никто не накрыл, и это был первый раз, когда на него рота забила и не скинулась на еду и спиртное. Слава богу, что он никого не сделал калекой. Это был большой праздник для всех.
Призыв 1—96 весь уволился, и остался только наш старший призыв вместе с молодыми. Сорок человек нашего призыва — это было сорок процентов нашей роты. Наш призыв 2—96 был самым большим, как я уже описывал, в нашей роте и во всей части. Началась в нашем призыве возня, и каждый сержант и солдат хотел себя показать со стороны, что он самый крутой и его надо всех больше бояться. Я это предвидел заранее, и если я раньше пользовался поддержкой и доверием старослужащих сержантов и мой призыв боялся забивать на разные задачи, то после увольнения старослужащих человек пять хотели взять роту в свои руки и вершить неуставные взаимоотношения. У меня остался второй взвод, к которому старались не прикасаться.
После увольнения сержантов меня официально поставили на должность командира отделения. Также к нам в роту перевели трех офицеров. Одного лейтенанта Егорова перевели в мой взвод командиром взвода. Хороший был командир Егоров, прибывший только из военной академии, и был направлен сразу в Махачкалу. Порядок он любил и был ответственным, но и меня он сильно не напрягал без повода. Если было все хорошо, а я лег подремать, то он мне слова не говорил. Так я его и не разыскал, к сожалению, в различных социальных сетях.
Появился у нас новый замполит, старший лейтенант, второй человек после командира роты. Прапорщика Бахмутова, моего недоброжелателя отодвинули назад, что ему очень не понравилось, но звание старший прапорщик не дает ему подняться выше должности командира взвода. Так у нас и укомплектовался личный состав вместе с командирами.
После увольнения старослужащих я взял паузу. Выделялись рвачи, которые хотели что-то из себя показать. Как правило, самый авторитетный сержант водит роту строем на приемы пищи, вечернюю прогулку и т. д. Я даже стал сознательно уступать своим сержантам, хоть и в душе меня немного коробило. Но во всем есть плюсы. Кто ведет роту строем, тот и получает от командиров по полной — плохой строевой шаг, не умеют держать равнение, плохо поют песню, — и на все это влияла сержантская репутация. На некоторых сержантов просто забивали, и они были как бы для мебели, то есть раз с лычками, значит командир, но толку никакого от них не было.
Оставалась последняя половина года службы. Я об этой декаде сильно мечтал и ждал ее с нетерпением. Я видел, как мои старослужащие сержанты лежали на кроватях и вешали все обязанности на меня, которые я ответственно выполнял. Дождались мы и молодых сержантов, которые после учебки пополнили нашу роту командирским составом, и скоро было ожидание нового молодого призыва.
Обстановка в республике Дагестан накалялась с каждым днем все хуже и хуже. После обстрела поста ГАИ нашей роте подкинули наряд охраны двух блокпостов. В первый раз отправили меня старшим со своим взводом. Сотрудники ГАИ были первое время в восторге от нашего усиления солдат. Я стоял с сотрудником ГАИ, который проверял документы, а я с автоматом его охранял на случай нападения. Сотрудник ближе к утру дал мне десять рублей, удалился и велел мне открывать шлагбаум. Сев на бетонное ограждение; так как в 4–5 часов утра проезжало немного машин, я уснул. Мне даже успел какой-то сон присниться, но разбудил меня сигнал автомобиля. Я быстро подорвался на автопилоте, ничего не понимая, и пошел открывать шлагбаум. Молодые парни на девятой модели жигулей спросили у меня, как мне служится и не хочу ли я трахнуть девочку, одну из двух, которые сидели на заднем сиденье, и смотрели на меня, посочувствовав мне, что полтора года я без женских сексуальных утех. Я отказался от затеи кого-то трахать, находясь на посту со стволом. Непонятно, с какими намерениями они были, и испытывать свою судьбу я не хотел. Ребята пожелали мне удачи и уехали. Я когда рассказал своим сослуживцам, то меня начали засмеивать, что я отказался. Ни один сослуживец меня не поддержал, что я сделал правильно, что отказался от сексуальных услуг. При открывании шлагбаума машинам с московскими и подмосковными номерами, которые проезжали очень редко, я радовался. Открывая им шлагбаум, я спрашивал у водителей, как дела на Родине, говорил, что я их земляк.
В наряды на блокпосты я попадал редко, так как в роте дел своих хватало. В наряды как дежурство по роте ходить было некому. Сержантов было полно на любой вкус, но ходить в этот ответственный наряд, отвечать за оружие, за сохранность вещей в роте и т. д. доверяли не каждому. Месяц назад нас уже перевели из спортзала в свою роту после сделанного аварийного ремонта, которая находилась на четвертом этаже. О спокойной жизни мне приходилось только мечтать и дальше, но я уже понимал, что, по всей видимости, этого счастья мне не предвидится.
У меня во взводе был солдат мягкотелый. По нему было видно, что он уж очень не хотел служить, и когда он прослужил полгода, желания у него не прибавилось. Полгода назад он уже убегал из части, когда я лежал в санчасти с ухом, но его поймали. Солдат Мухляков постоянно был грязным, неумытым, постоянно чесался, так как вшей бельевых у нас в роте было полно.
Вши были везде, особенно на шерстяных одеялах, где они разводились и были незаметными. Средства от вшей были у нас в части дефицитом. Купить средство было не проблема, но в санчасти его выдавали по большому блату. Мне удавалось по сержантскому статусу получать эти тюбики, и я брызгал от своей кровати все ближайшие, чтобы у меня этих паразитов не было. Практически каждый день я проутюживал швы своего нательного белья, где вши прятались, но после получения в банный день новое нательное белье начиналась заново борьба со вшами. Бороться с БТР, как мы их называли, было очень тяжело. Несколько вшей, как я с ними ни боролся, постоянно кусали мое тело. Чесаться я перестал только на гражданке. Ни в учебке, ни на заставе этих тварей не было. В части Махачкалы их был рой.
У меня в штанах образовывались в карманах дырки. Когда кусали мое переднее место, мне приходилось засовывать руку в карман и незаметно почесывать. Бывало, стоишь на утреннем разводе по команде смирно, а сержантский состав стоит в первой шеренге, и эта живность начинает кусать возле паха. Незаметно просовываешь в карман руку, и медленно начинаешь чесать, чтобы никто не заметил шевелений у меня в штанах.
Когда я у солдата Мухлякова увидел постельное белье, то я просто ужаснулся. Мало того, что он был весь покусан, так еще у него был целый рой вшей. Я его заставлял постоянно утюжиться. Когда я над ним терял контроль, то он уже где-нибудь мыл полы, где кто-то его заставил. Он был в моем взводе и моим подчиненным, но любой солдат, даже его призыва, мог заставить его что-нибудь убирать. Мне из-за него постоянно доставалось от командиров — почему у тебя Мухляков моет полы вместо другого солдата, почему у тебя Мухляков находится не там, где нужно… Кто-то зачем-то его постоянно куда-то посылал. Мои сослуживцы надо мной смеялись, что Мухляков, например, вместо своего свободного времени кому-то драит туалет.
Я старался никого не бить и воспитывать физикой. Отожмутся у меня раз по сто и вроде начинают понимать. Мухлякову я объяснял, что он сам себя так ставит и что его призыв над ним просто издевается. Я как мог за него постоянно заступался и воспитывал его; и в то же время думал, за что мне это наказание, этот солдат Мухляков. Не успел он только приехать в часть, как сбежал из части, где на второй день его поймали. Служить было ясно, что он не хотел очень сильно, и ему было не сложнее, чем другим молодым ребятам. И парень он был не слабый, умудрявшись у меня отжиматься по двести раз. Я, даже пройдя учебку, больше ста — ста пятидесяти раз не осиливал, но внутри у парня была моральная проблема.
В столовой его из старослужащих напрягали по несколько раз бегать за порциями. Бывало, все уже поедят, а он только приступал к приему пищи. Мои сослуживцы говорили, что все поели и чтобы я поднимал роту, а я видел солдата Мухлякова, который давился едой, чтобы быстро все запихнуть. Я не поднимал роту, пока не поест последний, а последним был всегда практически Мухляков, которого торопили, угрожая: «Быстрее жри».
Я не мог за одним за ним постоянно следить, и когда терял контроль над ним, то его постоянно унижали. Я за него стал серьезно заступаться. Когда я спросил, как он жил на гражданке и когда он написал свое последнее письмо домой, то услышал ответ, что месяц назад. У него даже не было конвертов. С конвертами была большая проблема, и у меня у самого было три конверта. Два я отдал ему. Мне особо уже и писать никому сильно не хотелось. Я уже думал о доме и писал от силы раз в месяц, но парень отслужил полгода и не мог написать письмо. Я попытался его взять под свою опеку. Если я видел по отношению к нему неуставные взаимоотношения, то я сам долбил тех, кто с ним это делал. Ему от этого было не легче, и палка была о двух концах. Его за мои заступания потом чмырил свой призыв, с кем ему надо было дружить. Я уволюсь, а его задолбят, поэтому он готов был чего угодно делать, лишь бы его не трогал никто и не бил.
У нас в части появился особист. Я такого слова тогда и не знал, но нам командирский состав сразу провел инструктаж, что этот человек будет пытаться навязывать дружбу молодым солдатам, расспрашивать обо всем. Не обижает ли кто, как служится. Всех проинструктировали, чтобы говорили хорошо и замечательно, как инструктируют по приезду генералов с проверкой.
Все этого человека стали бояться, кроме молодых солдат. Я его тоже побаивался, так как моя сержантская доля была не из легких. Кому по шее дашь за беспорядок, кого отжиматься заставишь.
Прапорщик Вахмутов, мой нелюбимый, еще и провоцировал разные ситуации. Видит, что хорошего порядка нет, и бежит к командиру роты, как шакал, давая разные советы командиру, чтобы сержантский состав загнать для уборки помещения. Меня он всегда бесил, и я часто ему на эмоциях выговаривал, что я даже не обязан за весь взвод отвечать, а мне приписывали всю роту. Что я по должности командир отделения. Он мне кричал, что меня разжалует. Я ему: «Разжалывай, и мне легче будет служить, ездить по разным нарядам, чем дежурным по роте через день ходить и отвечать за каждый патрон и материальными военными вещами».
Бегал он к командиру жаловаться, но толку от его жалоб не было. Командир роты, было видно, меня уважал, но сильного вида не показывал. У командира роты хоть и были свои недостатки, как и в каждом человеке, но это был здравомыслящий человек, и вся рота его побаивалась, в том числе и я.
Конечно, у меня тоже сдавали нервы, когда прикажешь сержанту проконтролировать порядок в роте, а в конечном итоге прапорщик Вахмутов найдет причину беспорядка, и через командира роты будет заставлять сержантский состав убираться. Конечно, я не убирался, а убирались более молодые сержанты, но сам моральный фактор всегда присутствовал — что мог зайти командир, и спросить, почему я не убираюсь, и заставить меня взять половую тряпку. Командир роты насчет меня конечно это не позволял.
Как-то командир роты вызвал весь сержантский состав в каптерку. Развернул нас задом и начал воспитывать. Взял палку резиновую и начал нас бить по спине, то есть бил он всех, кроме меня, а я только дергался стоя в середине. Бил он всех по очереди. И когда я ждал, что сейчас будет мне удар и дергался, то попадало моему соседу. Командир бил не сильно, больше воспитывая за порядок, и ни у кого даже рубца не осталось, в отличие от прапорщика Бахмутова, который мне исполосовал всю спину год назад перед заставой.
На сержантов на наших на самом деле нельзя было положиться. Ладно, молодые сержанты еще не дозрели, но нашего призыва были тоже никакие, за исключением некоторых. Дежурным по роте всегда ходило два, три сержанта, которые что-то из себя представляли. Дежурство по роте, как я уже писал, было самым сложным и тяжелым нарядом. Отвечаешь за все: за уборку в расположении роты, за комнату для хранения оружия, за личный состав-отбой, подъем, за прием пищи личного состава в столовой, за имущество в роте. Дежурный по роте нужен всем, кто бы ни пришел. Дневальный, стоящий на тумбочке при входе, постоянно кричит по любому приходу кого-нибудь: «Дежурный по роте, на выход» или команду «Смирно!», от которой, бывало, потрясывало. Если это был не командир роты, то, значит, какая-то большая шишка пришла в нашу роту. Спокойно бывает только ночью, и то не всегда, все зависит от ответственного по батальону и бригаде. Если тихо, то можно ночью урвать пару неположенных часиков сна. Утром после завтрака, когда дежурный должен спать, надо было открывать КХО и выдавать всем автоматы с обмундированием на различные занятия. Через два часа принимать оружие. Все бы не так страшно — выдержать сутки в таком наряде, но часто за какой-нибудь малейший залет оставляли на вторые сутки.
Когда заступал командир роты ответственным, то дежурным по роте становился я необсуждаемо. Видимо, командиру было спокойней работать со мной. Я был ответственным и исполнительным. Я не понимал, как другие сержанты на все забивали и был у них такой пофигизм. Если меня оставляли на вторые сутки дежурным по роте, то у меня уже сносило голову.
Как-то под утро вторых суток, когда я уже нормально не мог соображать и ходил, шатаясь в помутнении, ко мне докопался старший лейтенант, наш замполит. Что-то ему сильно не понравилось, как я собирал роту, и он меня сильно ударил. Я его со злости послал куда подальше. Когда он меня ударил второй раз, я его схватил за шею и повалил на пол при всем личном составе. Хорошо, что я его не стал бить. Повалив его, у меня включились мозги, начиная понимать, что я делаю что-то ужасное. Я повалил заместителя командира роты, который из меня после этого должен был сделать фарш.
Я поднялся с пола и отпустил замполита, которого я, лежа, держал за шею. Заместитель командира роты поднялся и начал меня жестоко долбить. Я уже держал себя в руках и терпел его удары. Мне повезло, что замполит не рассказал про это командиру роты. Скорее всего, замполит постыдился рассказывать эту историю, что сержант Гоголев его повалил на пол и чуть не избил. Я себя чувствовал, как будто я совершил преступление, повалил и бросил офицера на пол.
У меня уже был случай, когда я бился с местным контрактником, который меня ударил сильно в пах за то, что я держал руки в карманах. Я от невыносимой боли его тоже повалил на пол и начал душить, но стычку с офицером я себе просто не мог представить.
У меня есть, я даже не знаю, достоинство или недостаток, что когда меня бьют и становится мне больно, то я начинаю защищаться и сам бить своего обидчика. За это в армии мне попадало от старослужащих больше всех. Когда я год назад был в сводной роте, то многие старослужащие бесились, что меня бьют, а я начинал смеяться. Я смеялся, понятно, не от радости. Когда меня избивали по несколько десятков раз на дню, то у меня начинался истерический смех.
Мне очень сильно повезло, что про стычку с замполитом командир не узнал. Бардак в роте командир очень сильно не любил, и кто-то ему постоянно докладывал о разных делах, которые творили старослужащие. Кто был стукачом командира роты, непонятно и по сей день.
Когда наступает сто дней до приказа, по армейским законам каждый дедушка, кто им стал, должен отдавать на завтрак и на ужин свой кусок масла молодому. На моей практике службы этот закон никто не соблюдал. Я его соблюдал недели две и мог перебиться и без масла, но моих дедов-сослуживцев хватило всего на несколько дней.
Сигареты, подписанные на ночь, клали нам молодые. Я требовал по своему статусу сигарету марки Парламент или Мальборо. Конечно, эти сигареты были самыми лучшими, и стоили дороже, но я больше требовал не из-за этого и мог перебиться, а для того, чтобы меня больше уважали. Должен был быть порядок в роте, который очень тяжело держать, если солдаты меня не будут уважать и не будут бояться.
Были случаи, когда я выпускал роту из нитей на несколько дней, и солдаты переставали слушаться. Я понимал головой, стараясь сдерживать свои нервы, когда командиры имели меня за беспорядок, и несколько раз я срывался, выстроив роту из молодых, и по очереди начинал их бить, отбивая кулаки об их грудь. Как бы они хорошо ни стояли, но мне было тяжело осилить тридцать-сорок человек. Калечился я только больше сам. Конечно, это был мой крик души, и это была редкость, но нервов у меня не хватало. Я рад был бы разжаловаться, и не мог я всю роту удержать один, понимая это, но командирам было виднее, и они все взваливали на меня, так как помощники сержанты были никакие.
В моем призыве были солдаты и сержанты каждый за себя, и держались максимум по двое-трое, которые тянули каждый одеяло на себя. Когда долбил мой призыв молодых солдат, то я, как мог, за них заступался, так как за любой синяк спрашивали с меня. Когда я хотел очень сильно кого-нибудь побить за залет, то я внутри успокаивал себя: «Ну как можно в моем наряде дежурным по роте, дневальному, стоя на тумбочке, уснуть и не услышать, как пришел проверяющий, и мне за него два наряда вне очереди впаяли?»
И что я с этим солдатом должен был сделать? На эмоциях кто-нибудь другой его бы инвалидом сделал, а я больше всего хотел уволиться без залетов, и мне оставалось какие-то четыре с половиной месяца. Я научился спокойно воспитывать свой личный состав, получая от этого удовольствие. Я на зарядку выписывал противогазы, и пятьдесят минут ползком, бегом, гусиным шагом, отжимаясь в упоре лежа в противогазах гонял личный состав. После таких воспитательных зарядок я слышал в свой адрес от солдата, что застрелит меня при первой возможности. Я эту угрозу проглотил и понял, что по уставу на зарядках и на занятиях можно загонять так, что солдаты будут уважать и бояться и без рукоприкладства. Я это проходил сам в учебке и всегда предпочитал лучше получить по роже, чем на выносливость заниматься физическим трудом.
Как-то нежданно за два месяца пришла зарплата на солдат, которую мы никогда не видели, за исключением одного месяца. Солдату положено было двадцать рублей в месяц, сержанту тридцать рублей. У командиров началась мышиная возня, решили все деньги спустить на мыльно-рыльные принадлежности. Недовольны этим решением были все, и высказывались многие за несправедливость. Я решил смолчать и воздержаться от возмущения по поводу зарплат. Я только возмутился, что даже сержантскому составу ничего не выдали. Ну ладно у молодых солдат отберут старослужащие, но сержантам-то можно было выдать, тем более что у меня все эти принадлежности были в избытке, а моей зарплаты хватило бы на шесть банок сгущенки.
Я, конечно, эту несправедливость проглотил, но другой сержант Коробков со старослужащим солдатом это дело не захотел так оставлять. Те деньги, которые выдали солдатам, по три рубля, они уже забрали у своего взвода. Я не успел спохватиться в своем взводе, как моих молодых уже тоже почистили. Сержант Коробков со своим сослуживцем подговорил своих со взвода молодых солдат, чтобы они рассказали особисту, что командир никому не выдал зарплату. Командир роты об этом узнал и был очень недоволен и зол. Непонятно откуда, но он узнал, кто это сделал.
За несколько недель командир роты уничтожил старослужащего солдата, который был авторитетом в нашей роте. Сначала он ночью у него забрал берцы, и старшина роты ему выдал кирзовые сапоги, а это было самое унизительное для авторитетных старослужащих — ходить в кирзовых сапогах. После этого он перевел его в другую роту батальона. Старослужащий моего призыва, который ходил королем в нашей роте, всех долбил и напрягал, уже в другой роте этого сделать не мог, так как в ротах новеньких не особо почитают, если ты не сержант уровня Лапы за сто килограммов и под два метра ростом.
Для меня тоже был геморроем этот солдат, переведенный в другую роту. Уж очень он был борзым, и я даже его опасался и старался с ним не конфликтовать. Поддержка у него была в несколько человек вместе с сержантом. Я, как ни пытался набрать в свою обойму уважаемых в роте солдат, этого сделать не мог по одной причине: все были в основном одиночками, а многие — крысами. Я делился со многими солдатами разными сладостями, но неприятно было, когда те, кого я угощал, втихаря жрали, чтобы я не увидел.
Я смирился со своим положением и просто добросовестно дослуживал, не забивая на приказы командиров. Я чувствовал поддержку старшины роты и нашего командира. Один старослужащий даже меня назвал стукачом, что я все докладываю командиру о разных косяках роты. Думали так многие, и со стороны очень было видно, что командир со старшиной мне симпатизируют. Стукач, конечно, был, но кто для меня осталось загадкой. Самое интересное, что я в командирской комнате больше всех проводил время, и на меня не без оснований мог кто угодно подумать.
Я был первым заинтересован найти стукача, чтобы не думали на меня, и подозрение падало на многих, но на сто процентов было невозможно понять, кто стучит. Старшина роты, можно сказать, второй человек, отвечающий за имущество роты, хоть и без звездочек, меня любил и уважал. Я ему всегда помогал наводить порядок с разными пропажами полотенец, разорванных простыней, которые резали на подворотнички, и т. д. Воровство в роте присутствовало, но с хорошей работой по выявлению воров воровство свели к минимуму. Старшина роты дружил с командиром, и он часто меня хвалил перед командиром. Я никак не мог подвести старшину из-за его ко мне уважения.
Как-то в один неприятный день для меня, я потерял солдата Мухлякова, который мыл полы вообще в другой роте. Меня за него натянули командиры, что солдат нашей роты моет полы в чужой роте. Я на него был очень зол и мог его убить, но еле сдержался. Я его начал качать в упоре лежа. Под счет я ему говорил, чтобы он не был чмошником и не мыл полы, если не его очередь, чтобы он не бегал старослужащим в столовой по второму разу за едой. Чтобы он слушался только сержантов и прикрывался всегда мной, что я запретил. Он в упоре лежа меня просил пойти ему в санчасть, что ему плохо. Мне его было сильно жалко. И конвертов не может найти, и грязный постоянно с тряпкой, но стремления к службе у него не было никакого. Когда он после моих наказаний встал и сказал: «Товарищ сержант, разрешите мне пойти в санчасть», — то я сказал, мол, после обеда пойдешь.
После обеда я больше солдата Мухлякова не увидел. Я был в наряде дежурным по роте, и ротой командовал сержант Коробков. По словам очевидцев, сержант Коробков приказал ему метнуться в столовой за порцией второй раз, и солдат Мухляков не пошел после моих профилактических бесед. Сержант Коробков отвел его после обеда в укромное место, то есть на КПП, и якобы его там избил. По словам сержанта Коробкова, он его ударил два раза.
Когда я узнал, что Мухлякова из санчасти повезли в городскую больницу с отбитой селезенкой или еще с чем-то, уже не вспомнить, то я, конечно, сразу испугался. Я его никогда не трогал, не считая, может быть, нескольких оплеух. Я за него на порядок больше оплеух получал от командиров, чем я ему давал. Он в наказание у меня только отжимался всегда. Меня всего трясло. Уж кто, а я за него постоянно заступался, но к солдату Мухлякову я в голову влезть не мог, и от него можно было ожидать чего угодно.
После увольнения старослужащего призыва в нашей части взялись за дисциплину, да и не только в нашей, а во всей бригаде. Из другого батальона пришла новость, где я вел год назад курс молодого бойца. Посадили моего ненавистника Полиграфа Полиграфовича Шарикова, как я его называл, с которым я постоянно цеплялся. Этот уродец доигрался, так как он долбил всех безжалостно. Это с какой же силой надо было ударить солдата каской по голове, чтобы солдата сделать инвалидом! Я, конечно, этому ублюдку позлорадствовал в душе, но жалко было потерпевшего солдата.
Командир роты со старшиной поехали навестить солдата Мухлякова, а меня всего трясло. Он же был в моем взводе, а я за него больше всех отвечал. Долбили его все, от своего призыва до старослужащих, но, наверное, в тот момент боялся каждый, кто имел контакт с солдатом Мухляковым. По приезду старшины из госпиталя с командиром роты я зашел к старшине в каптерку. Старшина был грустным, и я даже не знал, как спросить. Избили его хорошо, видимо, останется инвалидом с комиссацией. Старшина мне сказал, что испугался за меня и был уверен, что я его побил. Основания были так думать, так как за Мухлякова провинности я постоянно получал втык, и воспитывал я его, возмущаясь, за что мне было такое наказание. Приехав с командиром в больницу, старшина сразу у Мухлякова спросил, мол, это же не сержант Гоголев тебя избил. Оказалось, в самом деле, что солдат Мухляков в больнице отзывался обо мне в хороших тонах, и меня это порадовало.
Командир роты, имея зло на сержанта Коробкова за солдатские зарплаты, с подачи которого узнал особист, что солдатам не дали зарплату, а на эти деньги купили мыльно-рыльные принадлежности вместе с гитарой и магнитофоном, не стал выгораживать сержанта. По слухам, командир роты был одним из первых, кто хотел наказать сержанта Коробкова, и, конечно, было за что. Сержанта Коробкова посадили, а солдата Мухлякова, по слухам, комиссовали.
Через пару месяцев сержант Коробков написал письмо своим товарищам или кого считал своими товарищами. Он просил выслать шерстяных носков и еще каких-то мелочей. Как отнеслись его товарищи к письму, я был свидетелем. Конечно, достать что-либо было проблемой, но проблему можно было решить. Друзья-товарищи по службе решили, что у них и так забот хватает помимо него, и только, посмотрев друг на друга, пожали плечами, что сделать это невозможно и нет никаких средств. Я встревать в это дело не стал. Письмо было написано не мне, никакого привета для себя я не получил и решил воздержаться от инициативы.
Сержант Коробков сидел вместе с солдатом Иваненко (Носом), который застрелил сержанта на полевом выходе. Иваненко очень раскаивался в своем поступке и не мог даже понять как это могло случиться, как он мог застрелить своего сослуживца из-за своих эмоций и нервного срыва. Сам сел на много лет и родителей сержанта оставил без сына.
Лето было в самом разгаре, и к нам в батальон прибыло новое пополнение, нового молодого призыва. Новый молодой призыв всегда интересен, и внимание сразу ему уделяется большое. Отслужившие полгода ждали этот призыв с большим нетерпением, так как мыть полы и убираться они будут меньше, сгрузив всю тяжелую ношу на молодых. Этот армейский закон никто не мог сломать и сделать все по уставу. Прапорщик Вахмутов с этим был не согласен и пытался что-то поменять. Он хотел, чтобы туалеты мыли и старослужащие. Я его не мог понять ну никак. Толи он был идиотом, то ли притворялся. Очень много он умных вещей говорил, и на идиота он не был похож. И зачем ломать систему, которую не сломаешь? И эта дедовщина так называемая нужна армии. Конечно, только без рукоприкладства. И порядок даже в дисциплине будет больше, чем равноправие. Дедовщина есть везде, начиная с детских садов, учебных учреждений и заканчивая работой. Старшие должны слушаться младших, но однозначно должно быть все в пределах разумного.
За молодых на первое время ответственность возложили на меня, пока их не расформировали по взводам. Мне, как всегда, повезло, и во второй взвод ко мне попал еще один не увязанный калека. Не успел я отойти от Мухлякова, где у меня спал моральный груз, как его заменил другой солдат — Рыбкин с Рязанской области. Первое у меня близкое знакомство с ним произошло ночью. Я, будучи в наряде дежурным по роте, ночью вижу картину, что солдат Рыбкин встал с кровати. Он был очень худощавого телосложения и похож на инвалида. Если солдат Мухляков был нормального телосложения и даже научился по двести раз отжиматься, но только был морально слабым и ему не хотелось очень служить, то у солдата Рыбкина были все те же качества, и он был хилым и слабым. Было непонятно, как его взяли в армию.
Знакомство у меня с ним произошло очень неожиданно. Солдат Рыбкин встал ночью с кровати, и я это услышал. Проходя мимо пролетов кроватей, я увидел молодого солдата. Я у него спрашиваю: «Почему ты встал?» Он молчит. Я еще раз его спрашиваю. Молчит. Я ему в третий раз: «Ты чего, глухой?» Молчит. Я, не выдержав, его бью в грудь, зло отвечая, мол, долго он будет молчать и испытывать мое терпение. Смотрев ему в глаза, я сначала не понял, что появился какой то посторонний звук журчания. Посмотрев вниз, я увидел, что по ноге вниз течет у солдата Рыбкина струя. Он от страха описался. Но неужели нельзя было сказать: «Разрешите, товарищ сержант, в туалет». Туалет ему уже был не нужен, и занимался он уже с тряпкой, убирая свои анализы вместо сна.
Через неделю я понял, что этот солдат для меня еще одна кара, до конца моих дней. Прозвали его Рыбой, а надо мной, как всегда, потешались старослужащие. Я его стал нянькой, что меня не радовало. Чтобы к этому солдату больше не возвращаться, то напишу сразу, как я его воспитывал. Солдат Рыбкин служить тоже очень не хотел. Конечно, никто не хочет служить, но все как-то пытались и старались, так как выбора другого не было. Рыбкин не старался и пытался всегда откосить от разных работ и занятий путем похода в санчасть. В санчасть его никогда не клали, а только выписывали ему постельный режим на один день. Одно было хорошо, что никто его из старослужащих не бил, и он был куском прикола в роте, за который мне постоянно доставалось. Бывало, я и сам над ним потешался. Если не смеяться и не прикалываться, то по такой службе можно было сойти с ума.
Как-то я решил Рыбкина проучить, увидев его несчастным и больным. Подойдя к нему и потрогав его холодный лоб, я у него спросил: «Ты чего, заболел? У тебя такой лоб горячий». На что он мне жалостливо кивнул. «У тебя температура, что ли, и чего у тебя болит?» — спрашиваю я Рыбкина. Рыбкин прочувствовал, что можно опять закосить, и сказал, что болит голова. Я его, будучи дежурным по роте, уложил в кровать и дал ему постельный режим, а всей роте выдал после завтрака оружие, и личный состав отправился на занятие по огневой подготовке. Уложив Рыбкина, я снял пять одеял у самых злых и авторитетных старослужащих. «Спи, спи», — называя его по имени и накрывая одеялами, приговаривая ему, что он может замерзнуть. Барин спал под шестью одеялами, когда вся рота занималась ученьями.
По приходу роты и сдачи оружия кто-то из старослужащих не увидел у себя на кровати одеяло и начал бурно орать. Другие старослужащие тоже спохватились. Я глазами кивнул старослужащему на лежавшего на верхнем ярусе Рыбкина. Пятеро старослужащих от такой наглости начали забирать одеяла и давать ему оплеухи. Рыбкин, поднявшись с кровати, смотрел на все это испуганными глазами, получая пинки. Я потешался со всей ротой, кроме пятерых старослужащих, которые были в гневе. После этого у Рыбкина постельный режим был закончен, и он стал заправлять все одеяла, на которых спал.
Солдатом Рыбкиным по службе были недовольны все командиры. Любой наряд с ним был залетным. Как-то командир вызвал меня и говорит: «Все, готовь Рыбкина к отъезду». Я удивился и сразу обрадовался новости, спросив у командира: «Что случилось?» Командир роты был тоже приколистом, и я всегда ему поражался. Такой неординарности я не увидел за всю службу ни у кого. Он был непредсказуем в своих действиях, и у меня он вызывал симпатию, хоть я и боялся его непредсказуемости. Командир роты мне стал объяснять, что ему в штабе сказали выделить толкового бойца, который будет служить в прокуратуре. «Ну, вот я его и выделю», — улыбаясь, говорил командир. Я не сдерживаюсь и начинаю смеяться, спрашивая: «Не забракуют ли его?» Командир мне: «А ты сделай так, чтобы не забраковали, чтобы отмыл его полностью и провел с ним инструктаж».
Я на радостях взял солдата Рыбкина и повел в умывальник отмывать его. Я взял зубную щетку и начал сам чистить ему уши. Он визжал, а я радовался, что солдат Рыбкин покинет роту и я заживу спокойно. Ему дали новую форму и все необходимое положили в вещевой мешок, отправив его в штаб на отбытие служить в прокуратуру. Через несколько часов Рыбкин возвратился, и у меня сразу испортилось настроение, как будто мне дали несколько нарядов вне очереди. Рыбкина забраковали, хоть и сказали, что просто не понадобился. Ну кому нужна была эта ошибка природы!
Командир роты отнесся к этому случаю с чувством юмора и, похлопав по плечу, сказал: «Ты нам самим нужен». Надо мной старослужащие хорошо посмеялись, что я пару часов назад прыгал от счастья, а сейчас я был очень грустным.
Рыбкин служил дальше и постоянно чудил. Хорошо, что к нему все относились с иронией, а не со злобой. Постельный режим он себе выбивал в санчасти постоянно. Я, конечно, только рад бы был, если бы его клали как больного в санчасть и я недельку от него отдохнул бы, но ему только давали постельный режим в расположении роты. Парня было жалко, и я его воспитывал и заступался, да как в принципе и за всех молодых.
Меня старослужащие прозвали крестным папой. Когда я видел дедовщину с рукоприкладством, то я это пресекал. Я добился, чтобы в моем присутствии не трогали молодых. Меня не понимали, что я за них заступаюсь. «Нас лупили, — говорили мне старослужащие, — а ты им курорт устраиваешь». У меня никогда не было мыслей без повода кого-то побить из-за того, что меня били раньше. У остальных эта жестокость присутствовала, и я не понимал, почему такие злые люди.
С Рыбкиным я мучился все оставшиеся до увольнения дни, и он был как ребенок под моим контролем. Перед своим увольнением я его решил жестоко проверить. Эта жестокая проверка для меня была важна, так как за солдата Рыбкина я искренне переживал даже после своего увольнения. Его могли просто морально сломать, и какой-нибудь подонок опустить.
Я подговорил своего сослуживца, чтобы он Рыбкина попытался заставить угрозами без рукоприкладства пойти на улицу и сосать у него член. Я, будучи дежурным по роте, этот процесс держал на контроле. Мой сослуживец ушел на улицу, ожидая Рыбкина в предвкушении опустить его. У Рыбкина в этот день был постельный режим, и он начал вставать с кровати. Чтобы пойти в туалет, он должен был отпроситься у дежурного по роте, то есть у меня. Рыбкин отпрашиваться не стал и направлялся, минуя меня, на улицу. Я окликнул Рыбкина, спросив, куда он собрался и почему он не отпросился. Он дрожащим голосом сказал, что хочет в туалет. Я его потащил в расположение роты и зло его бил ладонями по лицу. Мне было его и жалко, и нет. Я меньше всего ожидал, или хотел ожидать, что он пойдет рыть себе яму, опускаясь. Около часа, а может быть, и больше, я вел с ним профилактическую беседу. Мой сослуживец пришел из туалета злым и не ожидал такого подвоха, ведь Рыбкин сам пообещал ему прийти в туалет и обманул. Парню я втолковывал, что он на всю службу мог поставить себе крест и ему надо терпеть эти тяготы службы. Осталось совсем немного, и наш призыв уволится, придет новый, и будет легче. Жестокая проверка, я надеюсь, ему пошла на пользу. Эта проверка была необходима для него в тех условиях, в которых мы служили, я думал тогда. И сейчас я тоже так думаю, что она была необходимой мерой. К Рыбкину многие добирались, и если бы, наверное, не я, то парня уже бы опустили. Я не мог себе позволить отдать Рыбкина на растерзание, и никогда себе бы этого не простил, что не уберег парня.
За несколько месяцев до окончания службы к нам в роту перевели старослужащего солдата, моего земляка из Москвы. В Дагестане расстояние в сто километров считалось землячеством. Парень сильно не шел со мной на контакт, и я тоже не стал проявлять земляческую дружбу. Он не трогал никого, и его тоже не трогали. Как-то, находясь на плацу со своей ротой, меня подозвали сержант с солдатом, сидевшие на военной машине из автомобильной роты. Я подошел к ним. Сержант со мной поздоровался и еще раз сказал спасибо, что год назад, когда он менял мой наряд по КПП, то я ему рассказал все тонкости, чтобы его не озадачили на сигареты или деньги спецназовцы. Они мне рассказали про парня, моего земляка, который перевелся к нам в третью роту. Я им не поверил. Они в жесткой форме позвали его по фамилии, которую я уже не помню. Я не верил своим ушам, что я слышал. Разговор был таким:
- Ну, рассказывай сержанту, зачем ты х… сосал год назад.
В ответ тишина.
- Ты чего, урод, молчишь, или я тебя сейчас заставлю мой сосать.
Мой земляк отвечал, что его принудили. Сержант из автомобильной роты ему:
- Чего ты врешь? Тебя один раз ударили, и сказали: «Соси», — и ты нагнулся. Почему же мы этого не делали, когда нас долбили?
Послав на три буквы моего земляка, сержант сказал, что он еще и стукач и чтобы я с ним был поосторожнее. После я пообещал сержанту, что последние месяцы он у меня из толчков вылезать под дембель не будет.
Я был сильно зол, что мой земляк был опущенным. Я даже никак в это не мог поверить, и не поверил бы, если он сам бы не подтвердил свой унизительный случай. Рослый парень, с виду не похож на какого-то чухана, а опустил себя по полной. Мало того, что он был моим земляком, и мне вдвойне было неприятно, что в нашей роте появился опущенный, испортив нам репутацию. Я к нему подошел и сказал, что теперь его ждет до дембеля туалет. Он закатил истерику и просил, умоляя, чтобы я этого не делал, вспомнив про землячество. Я ему сказал, чтобы он слово «земляк» не упоминал, послав его куда подальше. Я видел его истерию и слезы.
Больше года он служил в автомобильной роте, опустившись раз, для него жизнь в роте стала кошмаром, из которой он каким-то чудом перевелся в нашу третью. Я понимал, что москвичей ненавидели все, и в моей части было очень сильно заметно. И не просто так я косил под город Владимир, что я якобы туда переехал жить, но меня все равно принимали за москвича. Если где-то я дал бы слабину, то из меня там бы сделали петушка, без сомнений.
Я, подумав и немного остыв, подошел к своему земляку и сказал, что его трогать я не буду. Пускай живет как хочет, ему с этим жить, но его я предупредил, чтобы ко мне он не подходил ни за какой помощью. Его как земляка для меня не существует. Также я заметил, что служившие из Москвы между собой были какими-то чужими, и я не видел, чтобы как-то дружил между собой. Казалось бы, я из Егорьевска, и кто-то из Дубны. Расстояние приблизительно двести пятьдесят километров, и мы чувствовали теплоту подмосковного землячества. Сложно мне даже сейчас понять московский менталитет, когда соседи друг друга по лестничной клетке не знают. И люди неплохие, и видно, что дружбы не хватает, но это уже другая тема.
После этого случая со своим земляком я и решил Рыбкина проверить, что я описывал ранее. Только Рыбкина никто не избивал, а только напугали, и он пошел себе ломать жизнь. Дай ему бог, чтобы мои воспитательные беседы пошли ему впрок. Ведь на службе, да и в жизни мразей очень много, для которых святого ничего нет.
Служба моя продолжалась вместе с жарким летом, которое по климату для меня было в тягость. Зимой мне завидовал мой товарищ, который служил в Подмосковье, скуля от мороза, а я завидовал ему летом, скуля от знойной жары, переписываясь с ним и служа в одно время. Зависть у моего товарища была только одна — по климату, он лежал в холоде под грузовыми машинами, ремонтируя их. В остальном от моих писем, читавших со своими сослуживцами у себя в подмосковной части, были только сожалеющие эмоции, что кто-то служит в настоящем аду.
Летом зачастили к нам приезжать генералы на проверку. Бывало, даже в неделю по два раза. Поначалу все начальство от генералов трясло. В части к их приезду праздничный обед для солдат, инструктаж проводился с каждым — как себя вести и что говорить. Как всегда и везде, не только у нас показуха, что все хорошо и красиво. Но когда генералы стали приезжать очень часто, то уже части на постоянные праздничные обеды, видимо, не хватало средств. Для меня они были инопланетянами в лампасах. Если приезжал из Москвы генерал, то он для меня был близким, как будто он из Москвы привез дух, и мне было теплее. Как-то один московский генерал подошел к моему взводу и у рядом стоящего младшего сержанта спросил, сколько он отжимается раз. Младший сержант сказал, что пятьдесят раз отожмется от плаца. Генерал снял с руки свои часы и сказал, что если отожмется, то ему их подарит. Младший сержант не отжался и сорока раз, и генерал одел свои часы обратно на руку. Мне, конечно, хотелось генералу закричать, мол, давайте я вам отожмусь сто раз, но я этого сделать по уставу не мог. Посмотрев на младшего сержанта со злостью, что он не смог на ладошках отжаться пятьдесят раз, я высказал ему, что о нем думаю. Обосрался на ровном месте. Обманул генерала, что может столько отжаться. Я ему сказал, что теперь он будет учиться отжиматься круглые сутки. Я у себя в уме гонял, почему же он выбрал не меня. Ведь я и худее был. Может, потому, что я был на звание выше, которое мне недавно дали, и стал я сержантом. Ну как можно влезть в голову к генералу.
Московские генералы на разводах и проверках были более мягкими. Они приезжали больше для формальных проверок. Генералы, командующие Северо-Кавказским округом, были жесткими. Особенно все боялись командующего Северо-Кавказским округом генерала-полковника по фамилии Лабунец и его приезда в часть. Ходили слухи, что генерал-полковник Лабунец заставлял весь офицерский состав по плацу ползать. Он был жестким и справедливым. Часть, находящаяся в Дагестане в горячей точке, да и вообще любая часть в Северо-Кавказском регионе должна быть постоянно наготове. Ждали все приезда генерала Лабунца с содроганием. Боялись все, от офицера до солдата. И я снимаю перед ним шляпу, что он в таком напряжении держал всю часть, что, когда пришла информация о его приезде, то тряслись все. Какую же надо иметь властную силу, прямо под стать горячему региону и округу.
За день до его приезда узнали, что приедет его заместитель, и все вздохнули с облегчением. Я очень расстроился, что не увидел такую сильную личность. Его заместитель, генерал, тоже был не лыком шит, и хорошему гостеприимству не очень был рад, когда решил часть по тревоге привести в боевую готовность. Рядовые и сержанты срочной службы, у которых было все налажено до автоматизма — проводили занятия по несколько раз в неделю, — выбегали на плац первыми и, построившись, стояли в строю вместе с нашими командирами. Офицеры управления, то есть штабные офицеры, подтягивались не спеша, пешочком. Генералу это сильно не нравилось, и мы бегали раза четыре. Он научил даже женщин бегать в бронежилетах, давая понять, что если ты даже писарь в штабе, то должна уметь все делать быстро. И стрелять, и с бронежилетом бегать. Вообще у меня лично большое уважение и восхищение разными командирами, которые приезжают не ради гостеприимства и формальной проверки — улыбаясь:
- Ну как служба, сынок, нравится?
Солдат отвечает:
Так точно, товарищ генерал.
- Кормят хорошо?
- Отлично, — отвечает солдат.
- Никто не обижает?
- Никак нет, — а у самого все тело в синяках.
Про кормят. Едим тухлую картошку с просроченной тушенкой и сечку. Макароны и перловка для меня была счастьем, но дело не в еде, и я к ней за полтора года был уже неприхотлив. Дело в этой у многих показушности. Стоят солдаты и говорят, что им сказали, дав ценные указания. Если на что-то пожалуешься, то генерал уедет, приняв твою жалобу, и разнесет какой-нибудь чин, а солдата после уезда генерала загнобят. И это не только в армии происходит, а практически везде в жизни, и ничего за это время сильно не поменялось. Ну как можно поверить ответу, например, на «Как служится, сынок?» — на который солдат отвечает: «Отлично», — и все солдату нравится, а в душе думает: «Как меня, батя, эта служба задолбала, забери меня домой. В 6 часов подъем, зарядка, жрать дают мало, мыться раз в неделю в бане, все обижают, и хочу я к маме, а не родину защищать».
И развеял мой миф о генералах одним случаем, когда к нам приехали двое генералов из Москвы. Развод с построением был просто формальностью их проверки. Я еще подумал, что два генерала — это очень круто для нашей части, но на построении было видно, что они только создавали видимость проверки. Я заступил в караул помощником начальника караула и поменял смену ночью с вышек в караульном помещении. Ко мне обратился солдат, которого я поменял. Он мне рассказал, что, стоя на вышке, он видел шатающихся генералов, которые проходили мимо его поста и возмущались, мол, зачем они сюда приехали, море грязное и икры обещанной с рыбой они не увидели. Если оно так и было, как рассказал мне солдат, то я понял, что водку они пили, но не закусывали красной или черной икрой. А с рыбой из осетровых пород уж у них не должно было быть проблем. В офицерских кругах по общению можно было понять, что все ждали, когда же они уедут. Они достали всех в части. Никто не предполагал, что они задержатся на несколько дней в части. Конечно, генералы тоже люди и наверняка ждали кавказского гостеприимства, обещанного им (или не обещанного), но было видно, что генералы ждали большего, чем получили.
Служба текла у меня дальше, а нервы все чаще и чаще начинали сдавать. Около сорока человек старослужащих моего призыва, и каждый считал стодневку до приказа. Каждый был в предвкушении дембеля. Каждый вечер я брал под подушкой подписанную сигарету и закуривал. Клали не всем старослужащим сигарету, а только особенным, которых уважали и боялись. По сигарете можно было понимать, насколько кого уважали. Кому-то клали «Петр I» — это самая была распространенная и не особо дорогая сигарета. Пачка стоила три рубля. Самым крутым старослужащим клали «Мальборо», которая стоила пять или шесть рублей. Я же планку поднял для своих солдат, и они мне клали сигарету «Парламент», которая стоила пачка девять рублей. В августе 1998 года долбанул дефолт, и все подорожало в несколько раз. Тогда солдаты меня просили, чтобы я им скинул планку до сигареты «Мальборо», и я не стал их напрягать и отнесся с пониманием. Кому-то молодые вообще перестали класть сигареты, а кому-то стали класть попроще. Но мне было важно, чтобы у меня лежала всегда самая лучшая сигарета для авторитета.
Старослужащие мои сослуживцы с каждым днем становились все неуправляемее. Я на них сильного действия имел все меньше и меньше, как бы я им что ни объяснял. Конечно, сильно и нагло они на меня не забивали и немного уважали. А уважали меня только за то, что я имел влияние на командиров, офицеров и контрактников. Подставляя меня, старослужащие понимали, что разные привилегии, а то есть хорошие наряды, которые были с выездами (охрана блокпостов, охрана телецентра), где можно было ненапряжно провести время, а не находиться в роте, где каждый день, начиная с зарядки и до обеда проходят различные занятия — строевая подготовка, изготовка к бою, надевание ОЗК, рытье окопов и т. д. А после обеда чистка оружия, рукопашный бой, бег или какая-нибудь теория. В общем, в роте было находиться плохо, и зависело расписывание нарядов в основном от меня. Офицерам и контрактникам заморачиваться этим не хотелось, и взвалили все на мои плечи. У меня со старослужащими, можно сказать, был бартер. Я им хорошие наряды, а они меня не подставляют. Мне тоже было выгоднее старослужащих отправлять на выезды. Порядка больше сразу в роте, и намного спокойней.
Порядок с дисциплиной практически одному было держать тяжело. Какие-то вещи просто невозможно было контролировать. У нас в расположении роты не было туалета, и чтобы, например, сходить пописать, надо было идти в расположение другой роты, где этому факту в другой роте были недовольны. Гадит наша рота, а убирает туалет другая. Клянчить, можно ли сходить в туалет, тоже не особо охота было, да и могли принципиально не пустить. Выход был один — идти на улицу, а это означало, что надо было спуститься с четвертого этажа, прошагать сто пятьдесят метров по части и облегчиться. Этот поход мог получиться с приключениями. Если нарвешься на группу специального назначения в количестве от двух человек, то можно на свою задницу найти геморрой и уйти побитым. Набегут три-четыре человека на одного, залезут в карманы и побьют, если будешь сопротивляться. Если будешь молчать и отдашь что-нибудь ценное, вытащив из своих карманов, то могут и не побить. Я всегда сопротивлялся спецназовцам. Например, мне говорили показать свой кожаный ремень, а я не показывал, прекрасно понимая, что они хотят поменять на какое-нибудь дерьмо, и получал от них частенько. Один раз меня так бросили спецназовцы на асфальт, что я, падая на спину, себе разбил локоть. Последствия падения и удара локтем остались и сейчас, периодически побаливая, когда на него облокотишься. Про последствия спины, а долбили меня в спину не раз, сказать сейчас ничего не могу, так как болит она у меня сейчас постоянно. И на гражданке я спину тоже надрывал.
Как я ни пытался против ГСН настраивать своя роту, давая понять, что нас сто двадцать человек, а их всего сорок, и кого мы боимся, было бесполезно. Моральный страх перед ГСН присутствовал у каждого, и что-то сделать с этим, убедив солдат, что мы не хуже, было бесполезно. Конечно, мы были хуже, и в ГСН были собраны лучшие бойцы всей части, но наш батальон из трех рот в несколько сотен человек мог просто смести количеством весь спецназ.
Несколько офицеров из ГСН меня уважали как сержанта третьей роты и как человека, общаясь со мной, спрашивая, как мои дела. Мне это льстило, когда со мной здоровался офицер при подчиненных солдатах ГСН, но какого-то сильного уважения я не получал от спецназовцев. Мы для них, весь батальон, были пехотой, как они нас называли.
Еще меня поражали авторитеты нашей роты. В роте ходили королями, пиная всех, а за пределами роты тем же спецназовцам снимали берцы со своих ног и обменивались кто на сапоги, кто на более старые берцы под разными угрозами. Короче, в туалет сходить была большая проблема.
Я как-то не страдал сильно проблемой облегчиться, и организм у меня работал, как часы, не давая сбоя, за исключением, когда чего-нибудь обожрешься или обопьешься. Ночью я мог крикнуть дневального с ведром и пописать туда, а дневальный уносил и выливал, но если это сделать было невозможно, то приходилось вставать и идти в другую роту справлять нужду.
Как-то один раз я попробовал пописать из окна. Открыв большое окно, я встал на подоконник коленками и вытащил из широких штанин свое покусанное достоинство (покусанное бельевыми вшами). Как я с ними ни боролся, вывести их было практически невозможно из-за большого количества их в роте, и начал поливать с четвертого этажа, обрызгав еще подоконник, на котором стоял. Рассматривая обрызганный подоконник, я услышал ниже открывающееся окно на третьем этаже. Из него вылезли солдаты или сержанты ГСН и, разговаривая, стали курить. Прослушав их разговор и поняв, что они меня не спалили, я со спокойной душой пошел спать, решив, что справлять нужду в окно я больше не буду из-за ряда причин: неудобно, обосанный подоконник, и внизу могут быть люди.
Кто-то из старослужащих, увидев и подхватив мой пример, стал этим окном пользоваться. Дурной пример заразителен. Я, когда видел это действо не в моем исполнении, кричал, запрещая писать в окно, так как сам на этом подоконнике периодически курил, если не видели офицеры. Было неприятно облокачиваться на подоконник, где десяток солдат, справляя нужду, брызгали на него, но мои запреты многие игнорировали. Даже, можно сказать, не игнорировали, и при мне это никто не делал, а справляли втихаря, чтобы я не узнал, короче, на армейском жаргоне, без палева. В армии все делается без палева. Если, например, в свою тумбочку положить шоколадку, то в течение дня шоколадка пропадет и окажется в чьем-нибудь желудке. Крыс в армии не любят, но их так много, как и в гражданской жизни, на которых никогда даже и подумать не мог.
Как-то я вел роту в столовую, и меня выцепляют три спецназовца. Рота становится в ступор и останавливается, так как счет я перестал говорить. Меня спецназовцы зло попинали за то, что ближайшей ночью кто-то из нашей роты обоссал две спецназовские головы, вылезшие этажом ниже в окно покурить. Никто из строя роты в количестве от шестидесяти человек не вышел и не заступился. Три спецназовца били меня, сержанта, на глазах у моих солдат, которых было большое количество. Все тряслись и боялись, чтобы до них не дошло дело. Спецназовцы, пригрозив, дали мне время в течение суток найти этого зассанца и сдать им. Я, конечно, без проблем вычислил трех зассанцев, но чья струя журчала на головах двух ребят из ГСН, выяснить не удалось. Я разнес всю роту за свою разбитую губу, сказав последнее слово, что кого увижу, то тот первый пойдет на растерзание к ГСН, и писающие мальчики прекратились. Я, конечно, никого спецназовцам не сдал, и как может командир сдать солдат в своей роте, даже зная, что солдаты и несколько сержантов меня предали, не заступившись за меня.
Сейчас уже пишу и рассуждаю, а если война, которая в любой момент могла начаться, и что с этой ротой солдат можно было делать на боевых действиях с одними предателями. Конечно, можно было отмести молодых, которые ничего еще не понимают. Но основная масса была служивших больше года. И кому там воевать — некому. По жизни тоже много предателей, и я в свои годы не могу назвать даже одного, с кем бы я пошел в разведку и кто в трудный момент не предаст меня. Мне очень бы хотелось заблуждаться, что не все такие. Я уже про это писал вначале, но хотелось бы повториться.
Ближе к моему дембелю в Дагестанском регионе все сильнее накалялась обстановка. Еще чаще нас стали поднимать по боевой тревоге, и уже не по учебной. Чеченские боевики не дремали и устраивали нападения на дагестанские селения. Помимо выездов на охрану двух блокпостов в помощь ГАИ, еще к нашему батальону прикрепили охрану телецентра. После покушения, и уже не первого, на мэра города Саида Амирова, который уже был инвалидом, держа свое место, очень эффективно работая и будучи порядочным человеком, как о нем отзывались, нам прикрепили еще охрану Белого дома Махачкалы. В кабинет мэра выпустили заряд из РПГ-18 «мухи», или из гранатомета РПГ-7В. Мэр чудом остался жив.
В начале сентября вечером, уже после ужина, наша рота находилась в расположении роты, и было у солдат личное время, когда раздался сильный грохот. У нас хорошо трясанулись окна. Посмотрев на своих сослуживцев, я сказал, что, может, гром прогремел. Мой сослуживец, посмотрев в окно, сказал, понимая, что, скорее всего, что-то произошло. Когда через несколько минут из окна было видно, что начались движения машин с мигалками в городе и суетился народ в окнах домов, находившихся рядом с частью, то стало понятно, что где-то что-то сильно взорвалось.
Через некоторое время всю часть построили на плацу и сказали, что был теракт и полегло несколько десятков домов. Сюда уже летит министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Если летел Сергей Кужугетович, то было понятно, что все очень серьезно. Нашу часть предупредили, чтобы быть в боевой готовности. Ночью из батальона забрали вторую роту в помощь МЧС, раскапывать людей. Нашей роте предстояло после завтрака на следующий день их поменять.
Спали мы в эту ночь мало, да и не спалось, по крайней мере, мне. Мне становилось страшно за себя. Мне не хотелось войны, ведь мне оставалось дослужить всего какие-то три месяца. Очень хотелось домой к своим родным.
Утром после раннего завтрака мы стали собираться на раскопки после теракта. С другой роты ребята, приехавшие после охраны телецентра, рассказывали, что парня, сидевшего рядом с окном в телецентре, при взрыве отбросило на несколько метров взрывной волной вместе со стулом, выбив стекло. Утром поливал дождь, что в Махачкале, пока я служил, было редким явлением, и в этот день он был совсем не нужен.
Приехав на место и одевшись в плащевую палатку, я от увиденного был в шоке, увидев одни руины. На увиденном расстоянии я увидел только несколько стоящих домов, которые уцелели, с разбитыми стеклами. Нашему командиру роты дали задание, которое он передал мне — раскапывать оставшихся людей под завалами. Я начал руководить солдатами и почувствовал, что просто стоять на руинах и командовать, здесь и без меня командиров хватало, начиная контрактниками и заканчивая генералами, в том числе и Сергеем Шойгу. Как-то я себя чувствовал не в своей тарелке, и хотелось где-нибудь потеряться от начальства, пока заместитель Шойгу не сказал, что почему здесь сержант ходит и командует, когда здесь и так командиров хватает, пусть работает. Командир роты мне кивнул, что мне тоже придется работать.
Что-то делать и работать мне было в напряг, когда солдаты за тебя все делают. Крикнул команду «один», и любой мой приказ выполнялся, но даже дело не в этом, а что свои же сослуживцы будут подкалывать, что сержант работал, хоть это сейчас кажется и смешно.
Сильный ливень мешал работе, и наша рота вся была в грязи. Слышались где-то истерики мирных жителей от большого горя, но дождь все истерики горя заглушал. Молодые солдаты начали шарить по холодильникам и жрать еду, и я, конечно, не мог за всеми солдатами углядеть. Ко мне подошел мой солдат и сказал, что житель этого дома хочет поговорить со старшим. В этот момент, кроме меня, старшего никого не было. Житель мне объяснил всю ситуацию, что у него кто-то погиб из родственников, и он сам остался один без семьи и без денег. Сам житель в момент взрыва вышел в магазин. Он умолял меня, чтобы один из солдат залез в показанный заваленный проход и достал откуда-то много денег, предложив с нами поделиться. Один солдат уже проявил инициативу залезть внутрь, но я это делать запретил строго, посочувствовав жителю, объяснив ситуацию, что моего солдата может там придавить чем-нибудь, и я это ему делать не позволю, еще раз извинившись. Житель начал мне объяснять, что он знает структуру своего дома, предлагая еще большие деньги, тысячу долларов, но я на эту авантюру не пошел, рискуя жизнью своих солдат, пригрозив солдатам, что не дай бог кто-нибудь туда залезет внутрь, тот получит от меня по полной программе, приказав разгребать все сверху.
По приезду в роту, все мокрые, к обеду солдаты начали хвалиться, у кого чего есть. Кто-то ничего не взял, как я, но в основном многие перли какую-то жратву, которую взяли из холодильников: варенье, печенье, конфеты. Кто-то жрал несколько дней. Даже с маслом сливочным связывались. Вылезли у какого-то солдата сережка с кольцом, а через месяц после трагедии у одного нашли триста долларов, было пятьсот. После выяснения выяснилось, что двести уже прожрали.
Служба продолжалась, но с каждым прослужившим днем я ценил свою жизнь все сильнее и сильнее, мечтая и не веря, что моя очередь тоже придет ехать домой. Я завидовал своим рядовым сослуживцам, которые не отвечали ни за кого, а ездили в хорошие наряды, которые я им расписывал, где можно было хорошо скоротать время, не находясь в части. Мне с такими нарядами везло редко, так как у меня был практически несменный наряд дежурным по роте, где кто-нибудь отрежет простынь на подшиву или потеряется полотенце. А в комнате для хранения оружия постоянно был бардак, когда проводились ученья по тревоге.
Один раз молодой солдат, когда было ученье по тревоге, умудрился как-то подсумок с магазинами взять не там, где нужно. Я этого не усмотрел, и мои дневальные это тоже не увидели. Когда в КХО забегает сразу много солдат и берет на лету якобы свое, то за всеми не уследишь. Один солдат вместо своего пустого подсумка с магазинами взял подсумок магазинов с патронами. Как он оказался в том месте, где лежали боеприпасы, осталось загадкой. При сдаче оружия после учений контрактник Агабала с меня начал трясти поляну за магазины с патронами. Пришлось пообещать, так как я вспомнил случай полгода назад, когда сержант Фикса украл патроны и мне же их с сержантом продал, чтобы у нас не было серьезных проблем.
С Агабалой тоже шутить было опасно. Перед поездкой на заставу он у меня украл два комплектов ОЗК, и на заставе я от него вдоволь нахлебался вместе со всеми солдатами. Конечно, с этим командиром роты, старшим лейтенантом Панфиловым, этот трюк не прошел бы, так как порядок он в роте сделал ближе к идеальному. Когда мне Агабала отдал магазины с патронами, то я вздохнул с облегчением, и этого солдата побил со злости, который взял магазины с патронами не там, где нужно, высказав ему, чтобы искал деньги на поляну. Напрягать этого солдата жестоко я побаивался, так как не хотелось лишний раз залетать.
Вот и настал день приказа, 27 сентября, который все ждут. Молодые его ждут больше всех, так как заканчивается срок класть подписанные сигареты дедам под подушку к отбою. Мы же стали дембелями. Я сильно радости не понимал своих сослуживцев от этого приказа. Как будто в этот день всех домой отпустят. Служить моему призыву еще было от месяца до трех, и я этому приказу значения не придавал, как другие, поздравляя друг друга. Одному я был только рад, что меня не отпустили в отпуск, к которому я так стремился, и раньше должен был демобилизоваться. У меня как сержанта отпускные были больше, чем у солдат, на десять дней.
Как-то неожиданно я увидел сержанта из моей учебки, художника, с которым мы вместе ехали в Дагестан и который остался в части Кизляра. Я такой встречи не ожидал, а художник предвидел эту встречу, так как знал, что я поехал в Махачкалу. Сержанта-художника перевели на время во вторую роту. Командир второй роты его взял не очень охотно. На плацу, когда я вел свою третью роту в туалет, то мы с ним встретились. Он у меня спросил сигарету. Я крикнул команду «один», и ко мне подбежали несколько солдат. Я им дал минуту, чтобы принесли две хорошие сигареты. Через тридцать секунд мы уже закуривали «Мальборо». Художник очень удивился, что целая рота слушается, ведь в учебке меня за нормального парня мало кто считал. Я ему еще раз объяснил, что в учебке просто я серьезно и не вовремя заболел. Он увидел всех наших сержантов из учебки, которые ходили в сапогах. Казалось бы, что носить какие-то берцы — ерунда, а они у нас очень большой авторитет поднимали, если у тебя их не смогли снять.
Художника перевели в нашу часть за дедовщину у себя в Кизляре. Художник рассказывал, как он после учебки поднялся у себя в части. У меня даже не было сомнений, что он быстро поднимется. Здоровый спортсмен, на пять лет старше меня, хорошо рисовал, и еще всем своим дембелям хорошие наколки на тело сделал. Вечером перед отбоем, он меня позвал посмотреть его фотографии. Я зашел к нему в роту, и он достал целую стопку фото. Показывая и рассказывая, кто на фото, я увидел несколько снимков, от которых меня перевернуло. Художник в обнимку стоял с сержантом из разведки, который больше года назад, в другой части Махачкалы, на КМБ, вместе с Витей Амбалом, долбил сержантский состав со старослужащими рядовыми с нанесением множества телесных нам повреждений.
Когда он мне показывал на фото этого разведчика, то сразу упомянул, что его сдали какие-то сержанты. Я не стал вести этот разговор, а только молча посмотрел фото, и мне эта тема была очень не приятной. На этот момент, когда я смотрел фото, то я ненавидел этого разведчика, который мне на полголовы сделал гематому на лице ради своего пьяного развлечения. Объяснять, что я не верблюд, мне художнику не хотелось. Проще было смолчать.
Художник в части был недоволен, что его перевели во вторую роту батальона. Он просился в спецназ. Он даже спарринг проходил в ГСН и бился с одним из солдат группы. Но его командир ГСН не взял, сказав, что за два месяца он ничему не научится. Я художнику объяснял, что зачем ему геморрой под дембель нужен, разные марш-броски, на которых придется умирать. Уж отсиживался бы спокойно в батальоне. Его было не переубедить, и, конечно, было похвально, что художник сам под дембель стремился в спецназ. Он не видел себя в нашем батальоне и считал себя выше. Разница в пять лет по возрасту с нашим призывом играла очень большую роль. Это примерно, он старшеклассник десятого класса в школе, а мы все пятого, хоть и аналогии я большой не вижу. Для него мы все были салагами.
Художник спросил про сержанта Стапикова, который больше года назад сдал его в учебке за неуставные взаимоотношения, из-за которого он попал в Дагестан, а должен был остаться в сержантской учебке в Ростовской области. Я ему рассказал, что он сейчас находится в первой роте батальона, и рано или поздно он его увидит.
Через пару недель художника перевели в группу специального назначения, в которую он так стремился. Через некоторое время сержанта Стапикова художник увидел, который был ему испуганно не рад. Художник трогать его не стал, так как залетов у него хватало, а Стапиков, если его первый раз сдал в учебке, то гарантий не было никаких, что это не повторится. На удивление, художник в спецназе не зазнался и всегда при виде меня подавал мне руку, в отличие от других спецназовцев. За эти качества я его уважал, так как каждому спецназовцу было западло здороваться с солдатами и сержантами из батальона.
Служба у меня подходила к концу. С каждым днем я был все больше и больше на позитиве.
С одной из солдатских зарплат наша рота купила гитару с магнитофоном. Я часто пел на гитаре, и меня многие слушали с удовольствием. Гитара продержалась меньше месяца, так как в один прекрасный момент ее выкинул с четвертого этажа командир роты. В неположенное время кто-то бренчал, что и взбесило командира. Я очень сильно переживал, что такой отдушины, которая меня и многих других радовала, не стало.
Магнитофон приносил тоже много позитива. Как-то, шутя, для смеха я придумал конкурс на лучший медленный танец, разделив солдат по парам. Кто лучше танцевал, то я презентовал каким-нибудь поощрением. Старослужащие смеялись и кричали, чтобы солдаты лучше друг друга обхватывали за талию. Много было и других разных приколов, особенно ночью. Самый распространенный и безобидный прикол — это когда солдат спит, а кто-то натягивает простынь сверху. Один будит солдата и кричит, что потолок падает, а двое других опускают над ним натянутую простынь. Самый мой любимый прикол был с фляжкой воды. В полную водой открытую фляжку просовывают кусок полотенца. Фляжку закрепляли на верхней кровати между пружинами, горловиной вниз с торчащим полотенцем над лицом солдата. По полотенцу текла вода и капала на лицо спящему. Через некоторое время солдат просыпался от капающей на него воды. Просыпаясь, он видит над собой полотенце, которое висит перед его лицом, и дергает за него. Полотенце вылезает из горловины фляжки, и вся вода под напором выливается на солдата.
Были и лагерные приколы с зубной пастой. Как-то старослужащий солдат спал так, что у него голая задница вылезла из-под одеяла. Армейская белка, то есть нательное белье, штаны были так устроены, что с обеих сторон были ширинки, которые застегивались на пуговицы. Задница у солдата была не застегнута на пуговицы, и старослужащий солдат ему весь голый зад измазал зубной пастой. Многие видели и потешались, только утром не до смеха было старослужащему солдату.
Дембеля от скуки не знали, с чем на дембель приехать. Кто-то делал себе на теле наколки, от чего я сразу отказался и не захотел свое тело пачкать всякой ерундой. Нескольким дембелям приспичило вгонять себе шпалы в член. Когда я спросил, что вам делать нечего, что ли, я получил ответ, что я вообще ничего не понимаю, так как бабы будут больше на гражданке любить.
Теперь я описываю весь процесс идиотизма. Несколько дембелей, обрезав пластиковую ручку зубной щетки овальной формы длинной сантиметра два, начали сначала эту пластиковую шпалу шкурить, чтобы она была ровной. После шкурения каждый засунул себе по шпале в рот, и сосали неделю вместо леденца, чтобы все последние заусенцы стерлись. Далее был самый интересный процесс, который я не смог пропустить. Дембель достал свое хозяйство и натягивал кожу своего члена дрожащими руками. Другой его напарник, должен был ударить так отверткой на натянутую кожу, чтобы проколоть дырку. Собравшись со смелостью, дембель напарник ударил ладонью по отвертке, и ржавое острие пробило в коже члена дырку, и откуда лилась кровь. Дембель от боли выл и присыпал каким-то порошком свою рану, засовывая шпалу дрожащими руками в кожу члена. Операция удалась, и дембель довольный теперь мечтает, что все женщины на гражданке будут любить только его, так как шпала выпирает в коже члена. Другие дембеля интенсивно сосут во рту шпалы, чтобы сделать так же себе, и завидуют дембелю, который уже себе вогнал ее в член. Мечта у дембеля о женщинах на гражданке была недолгой, так как через два дня его член распух до неузнаваемости, и он уже эту шпалу вместе с гноем вытаскивал обратно, прибегнув уже к помощи медсестер из санчасти. Другие дембеля-сосуны сразу выплюнули свои шпалы, отказавшись от идеи быть крутыми на гражданке, чтобы их всех больше любил женский пол за их шпалу в члене. Идиотизм, который просто мне сложно понять.
Я также очень сильно поражался необразованностью солдат. Когда прапорщик Вахмутов спрашивал, кто у нас министр обороны и премьер-министр, то знали это несколько солдат вместе со мной. Но для меня было сначала дико, что очень много солдат не знали элементарных вещей, например, когда началась Великая Отечественная война и когда закончилась. Но я этому перестал удивляться и понял, что это очень сложный вопрос солдату. Когда я спросил, какой город наша столица России и не услышал ответа, то я понял, что это тяжелый случай и в других регионах образование на нуле. Тогда я просто начал прикалываться испрашивать, какими морями омывается наша столица России Москва. Этот вопрос заводил еще в больший тупик многих солдат. Я им объяснял, что Москва омывается двумя морями и Тихим океаном. Кто-то сейчас постоянно кричит, что чиновники убивают образование, а раньше какое было тогда образование. И кого я спрашивал, были ребятами не с Кавказа — это центральная Россия.
В октябре всю часть, как и во всех других частях, перевели на зимнюю форму одежды. Я уже предчувствовал заранее, что в нашей роте сорок дембелей, которые захотят красиво уехать.
А чтобы уехать красиво, то нужно было что-нибудь украсть, продать или поменять. Со временем каждый дембель понимал, что как мы свою зарплату не видели, так и отпускных с дембельскими, и кто был на заставе за боевые действия, денег мы тоже не увидим.
Был уже один наглядный пример, что дембель, уже уволившись, жил в части и ждал две недели денег, чтобы красиво уехать. Я его просто не понимал, что, находясь в таком неспокойном регионе, он ходил в бухгалтерию и просил свои деньги, которые ему не давали, ссылаясь, что нет средств, а могут только дать бесплатный билет на поезд и сухой паек. Дембеля тоже можно было понять, который мне говорил, что без денег ему делать на гражданке нечего.
Самое ценное, что можно было украсть — это армейский бушлат. Какое-то время с бушлатами в роте был бардак. За прошлую зиму было украдено очень много бушлатов, и была их нехватка. У меня в прошлую зиму тоже был украден старый бушлат, но мне тогда полагался новый. В записях у старшины роты, а старшина у нас прошлой зимой был другой, была отметка, что мне был выдан бушлат, а какой, новый или старый, никого уже не волновало. Старшиной роты было выдано столько бушлатов, сколько у него было в наличии, и досталось, конечно, не всем. Меня он, конечно, бушлатом не обделил и за хорошую службу мою выдал мне хороший новый бушлат, а остальным, у которых украли, он не смог выдать, так как у него не было в наличии. Приходилось многим брать в наряды чужие бушлаты.
Весь бардак длился по бушлатам недели две, и бушлаты были неподконтрольны. Кто-то брал, потом приносил, и была неразбериха. Через некоторое время кто-то из солдат спохватился, что у него пропал бушлат, и начали считать все бушлаты, которые были выданы. Выяснилось, что украдено было уже шесть штук бушлатов.
Командир роты, недолго думая, вывел всю роту на плац и лично начал всю роту гонять, сказав, что будем бегать целыми днями, пока не вернем бушлаты. В первый день никто не сознался. Во второй день один старослужащий раскололся, что украл один бушлат, оставалось еще пять штук. Бегали все, от солдат до сержантов. Я постоянно занимался разными делами, но когда я освобождался, то шел к своей роте, где командир гонял личный состав. Немного побегав с личным составом где-то пару кругов, командир роты подзывал меня к себе и давал например тупое задание, как, например, сходить в штаб и узнать, есть ли у себя командир бригады. Я ходил, узнавал и докладывал о своей проделанной работе. Он меня обратно посылал, давая понять, что тебе здесь с личным составом делать нечего и чтобы я где-нибудь потерялся.
Старшина роты нашел еще один бушлат в группе специального назначения, который украл и отдал своему земляку-спецназовцу старослужащий солдат нашей роты Шмаров. Этот солдат уже попадался с ворованными берцами, которые украл у своего сослуживца. У меня прозрела мысль, что если один бушлат нашелся в ГСН, то и остальные бушлаты наверняка там. Спецназовцы, скорее всего, надавили на солдата Шмарова, чтобы он воровал еще. Старшина роты, вытащив один бушлат из ГСН и наказав Шмарова, который сознался в воровстве одного бушлата, был уже доволен находкой.
Я понимал, что у нас в роте не может быть столько много крыс, сколько украденных бушлатов, и украл несколько бушлатов однозначно какой-нибудь один старослужащий солдат. Я начал старослужащего солдата Шмарова шантажировать. Я ему пообещал райскую жизнь на туалете, если он не сознается в остальных четырех бушлатах. Если он мне по секрету сознается, то я ему выдаю карт-бланш и заступаюсь за него, чтобы его не разорвали ребята, которые сейчас бегали и отжимались за этого негодяя.
Подумав, солдат Шмаров, что за один бушлат его все равно ребята разорвут и он будет до своего увольнения убирать сортир, а всего надо сказать мне, сержанту Гоголеву, про четыре бушлата, которые он продавал и отдавал спецназу за копейки, по секрету. А еще я обещал никому не рассказывать. Он сознался, что украл пять бушлатов и они находились все в ГСН. Это мне от него было и нужно.
Конечно, я не сдержал слово и сразу рассказал о своей проделанной работе. Как я мог это не сказать, когда безвинная рота умирала на плацу. Все, что я мог для Шмарова сделать, то это не дать его разорвать ребятам и не ставить его на туалет. Бушлаты в ГСН старшина забрал, кроме двух, которые уже были проданы спецназовцами. Я для себя тоже получил большущий бонус, который мне будет преподнесен к дембелю.
Служить мне оставалось месяц, и я уже понимал, что дембельских денег я не получу, так как увольнявшиеся ребята раньше меня ничего не получали. Солдата, который ждал две недели денег и жил в части, силой выгнали из вооруженных сил без дембельских денег, так как он проедал паек, который он уже был не должен получать, так как в части он уже не числился. После этого ему еще надо было сказать «Служу России!» Было бы смешно, если не хотелось горько плакать от отношения. Мне тоже предстояло скоро увольняться. Я понимал, что у меня не будет денег. Форма у меня хоть и была относительно новой, но я не мог в ней ехать по одной причине, так как я мог домой привезти бельевых вшей. Сколько я не боролся с этими тварями, но от них избавиться я полностью не мог. Выход был один — звонить родителям, чтобы выслали гражданскую одежду.
На крайний случай я напряг солдат, чтобы до моего увольнения они сделали армейскую форму, но я прекрасно понимал, что им сделать ее было практически невозможно, так как денег взять было неоткуда. Командир батальона, который ко мне очень уважительно относился, даже за это меня побил. Ему рассказала его жена, которая у нас в роте работала писаршей, услышав разговор солдат про форму, которую они мне пытались как-то сделать. Мне не хотелось никого напрягать, но ввиду сложившихся обстоятельств я не видел другого выхода.
Когда мне выговаривал командир батальона, то я внутри злился, что он тоже не святой, а строит из себя порядочного. Больше года к нему ходил солдат, который у него в доме постоянно делал ремонт и которого он уволил на пару месяцев раньше.
Комбата через несколько дней перевели на повышение в штаб, а вместо него стал бывший командир нашей третей роты капитан Абдулфатахов, с кем я некоторое время был на заставе. Я был рад, что бывший командир батальона ушел на повышение, но остался у меня неприятный осадок, что, уважая меня всю службу, он меня ударил по лицу ладонью, и было за что, хоть и был он в эту ночь пьяненький.
Новый командир батальона взял бразды правления в свои руки и очень, по моему взгляду, грамотно это делал. Комбатовский авторитет он заработал моментально, так как он был в любой ситуации лидером. Как-то в части отключили воду, и на вечерней поверке батальона комбат мне приказал найти воды. С водой была очень большая проблема, если даже комбат не мог ее найти. Я попробовал отмазаться, что где же я ее могу найти. Комбат мне сказал, чтобы я где угодно ее раздобыл. Недолго думая, я побежал на КПП, дав солдату денег, чтобы он купил минеральную воду с газом в магазине, который находился напротив части. Я довольный принес командиру батальона воду, выполнив приказ. На что он мне сказал, что зачем мне с газом вода руки мыть. Я ему сказал, что задача была найти воды, а какой, не уточнялось. А руки помыть можно и водой с газом.
Командир батальона капитан Абдулфатахов ближе к моему увольнению поощрил меня несколькими днями к отпуску с последующим увольнением за организацию мероприятия на день милиции нашего батальона и прохождения строевым шагом на площади города Махачкалы.
Я еще раз убедился в отличной подготовке группы специального назначения, которая устроила показательные выступления. Я был от увиденного просто удивлен разбивающими бутылки об голову и сделавшими из себя высокую пирамиду. Я их зауважал еще больше и понял, что не зря они едят свой хлеб. Не в обиду бойцам ВДВ, которых я видел в интернете их выступление, наши были круче. Конечно, это только мое субъективное мнение.
На площади я смотрел на Белый дом, который охранял, на окно мэра Махачкалы Саида Амирова, в которое влетел снаряд из гранатомета и которое было отремонтировано. Но больше всего я думал о скором увольнении. Ближе к концу моих дней меня переставали ставить в наряд дежурным по роте, так как старослужащих надо было заменять молодыми. Я немного стал расслабляться.
Прапорщик Вахмутов приводил пример бойцов из спецназа и конкретного дембеля, который увольнялся на следующий день и бегал марш-бросок со всеми ребятами с фанатизмом, а мы думали, все дембеля, где бы загаситься и ничего не делать.
На охране блок поста ГАП, на который я заступил ночью со своими бойцами, ко мне подошел омоновец. Узнав, что я старший на блокпосту, омоновец предложил мне выпить. Из-за обостренной обстановки, помимо усиления солдат, в подкрепление выделили несколько сотрудников ОМОН. Это был мой последний наряд на блокпосту. Омоновец был веселый и дружелюбный, и я не отказался с ним выпить, только закуски у него не было. Он мне сказал, что сейчас чего-нибудь придумает, и удалился к дороге проезжающих машин. Через десяток минут он принес несколько килограммов баранины, и мы разожгли костер, на котором сделали шашлык. Шашлык был наполовину сырой и несоленый, но все мои солдаты вместе со мной его ели с удовольствием. Пить я солдатам запретил, и мы с омоновцем убрали бутылку водки на двоих. От такой дозы я очень сильно опьянел, ведь за всю службу я выпил только третий раз. Омоновец много мне рассказывал про Чечню, когда он воевал, и много всего интересного.
Я еще раз убеждался, что дагестанский народ разный, и большинство очень хороших людей. Если проводить аналогию, то русские мне в армии больше дерьма сделали, чем местные дагестанцы. Если кто-то думает, что, кроме криминала, они ничем не занимаются, то он сильно заблуждается. Чтобы что-то говорить о них, надо пожить в этой республике, а не судить по нескольким людям. Я к их менталитету привыкнуть не мог, к их порядкам и правилам, но я ни в коем случае не кину камень в дагестанский народ.
После наряда блокпоста, приехав утром в часть, я каким-то чудом не был замечен командирами, что был сильно пьян. Я еле стоял на ногах. После завтрака нас отправили спать, и я, выспавшись, отрезвел до обеда.
На следующий день я поставил случайно синяк молодому солдату Рыбкину. Я его неудачно ударил ладонью за провинность, что он больше от испуга дернул голову, и от моего удара ладонью он приложился к верхнему каркасу кровати. Это был мой залет, и на Рыбкина я уже никак не мог положиться. Я понимал, что он меня сдаст, если на него надавят. Я был по-любому виноват в его шишке на лбу, так как я ладонью толкнул его голову к железному каркасу. Я не предвидел, что он настолько от страха дернет свою голову, но вина была полностью моей, что не сдержался, за его провинность ударив его. Он мне пообещал, что ничего не расскажет, ведь он сам ударился об железку. Шишка у него была на лбу, и, закрыв шапкой, ее не было видно, но это было до поры до времени.
На стене у нас висели списки, кто и когда увольняется. Я практически увольнялся в списках в последних рядах, так как призывался на один-два месяца позже других. Перед увольнением всем давали обходные бумаги, в которых должны были расписаться разные отделы: бухгалтерия, библиотека и т. д. Последнюю роспись ставил старшина роты. Это было самым тяжелым для дембеля. Чтобы старшина поставил подпись, надо было солдату хорошо постараться и загладить все свои косяки, о которых старшина напоминал. Мне же старшина дал обходной практически самому первому и поставил свою подпись. Остальные подписи для меня были делом техники, которые я собрал без проблем.
На следующий день должна была уехать большая партия дембелей, где было очень много авторитетных ребят, которые мне создавали проблемы по службе. Посылка мне с гражданской одеждой из дома пришла и ждала своей участи в каптерке у старшины, когда я ее надену. Уже понимая, что на сто процентов дембельских денег нам никому не дадут, я в воскресенье умолял прапорщика Бахмутова, который был ответственным по роте, отпустить меня в увольнение, чтобы позвонить домой и попросить у матери выслать денежный перевод, чтобы добраться домой. Прапорщик кого нужно отпустил, а меня не стал отпускать из-за своих соображений, так как за порядком следить он никому доверить не мог, а самому все контролировать ему не хотелось. Я был злой на него, так как это было последнее воскресенье, когда можно было позвонить и успеть в течение двух недель получить перевод. Но что ни делалось, все было к лучшему, так как из-за его мерзкого поступка, не пойти навстречу мне, я ему на следующий день был благодарен, что он меня не отпустил и не сделал звонок домой.
После отбоя ночью я размышлял успокаивая себя, чтобы не сорваться на ком-нибудь в очередной раз. Рядовому было проще, так как он просто служил, выполняя приказы. Я отвечал за всех головой, и могли меня солдаты подставить в любую минуту. Для меня это было тяжелой ношей, так как я мог ждать подвоха откуда угодно.
На следующий день я проводил, как оказалось, свою последнюю зарядку. Старослужащие на зарядке, как всегда, прятались по углам, чтобы не бегать с ротой. Я же контролировал зарядку. Бывали случаи, когда меня личный состав роты доводил до истерики за свои залеты. Я дожидался утра и на зарядке в течение пятидесяти минут, без пробежек, качал свой личный состав в упоре лежа. Другие роты уже шли умываться, а я занимался личным составом, которые все пятьдесят минут умирали у меня на плацу. Я так выплескивал свои эмоции по уставу.
На утреннем разводе у меня последний раз проверили конспект с занятиями. После развода командир роты приказал выйти из строя старослужащим, которые по списку увольнялись. Вышли семь старослужащих, из них двое сержантов. Я им завидовал, и, конечно, какая ни была у меня по отношениям с ними служба, но расставаться было грустно. Через минуту мне старшина роты кричит: «А ты чего, сержант Гоголев, стоишь в строю? У тебя же обходной подписан, выходи». Я стал мямлить, что у меня еще срок не подошел. Старшина мне еще раз сказал выходить. Командир роты, посмотрев только на меня, промолчал, и я вышел.
Мне было неудобно, и я опустил голову вниз. Мало того, что мне по максимуму начислили дни за хорошую службу к отпуску, так меня еще и на две недели раньше отпускали. По сравнению с другими солдатами у меня служба получилась на месяц меньше. У меня сам сержантский отпуск был на десять дней больше, хоть и сократили его при Ельцине с тридцати пяти суток до тридцати, а солдатам с тридцати до двадцати.
В этот день, 21 ноября, я не находил себе места, и не верил, что меня отпустят. После обеда я все время провел в штабе и нервно ждал, поставят ли мне в военном билете печать. Я слышал, что одна женщина возмущалась в кабинете по поводу какого-то солдата или сержанта, что ему еще служить две недели и отпускать его нельзя. Я думал, что речь идет обо мне, и стал сильно расстраиваться по этому поводу, что меня, скорее всего, не отпустят.
Мой командир взвода лейтенант Егоров ходатайствовал за меня по поводу получения внеочередного звания старший сержант и о рекомендации, напечатанной на бланке с печатью об отличной службе. Эта рекомендация была выдана мне второму, кто увольнялся в запас в батальоне количеством в 100 человек. А в своей третьей роте была выдана только мне одному.
Ближе к вечеру всех увольнявшихся построили и начали выдавать военные билеты с билетами на поезд пофамильно. Услышав свою фамилию и получив документы на руки, я просто был счастлив, как никогда в жизни, и этот миг останется самым счастливым в моей жизни. Я получил военный билет, где уже мне было присвоено звание старшего сержанта. Лейтенант Егоров, мой командир взвода, выдал мне бланк с рекомендательным письмом. В части эта награда была одной из лучших, которую не каждый мог заслужить за отличную службу. Я подошел к старшине и сказал ему спасибо. Я дал ему последние семь или восемь рублей, которые он не брал, и сказал, чтобы он выпил за свое и наше здоровье. Я сдал ему свою форму со вшами, чтобы не привезти домой, и надел свою гражданскую одежду. Я отдал свои потрепанные берцы молодому сержанту, а надел новые, которые берег на дембель. Из армейской формы, у меня оставался новый бушлат и зеленый берет с берцами. Я обнял солдата Рыбкина, сказав ему, чтобы был мужиком, и не давал себя в обиду, и все мои нравоучения ему пошли бы только в пользу. Я обнял своих земляков, которым дал сразу поддержку, как только они приехали в часть, и они за год службы чувствовали себя уверенно. Я попросил их, чтобы они мне пообещали, чтобы солдата Рыбкина в обиду не давали, ведь он земляк из Рязанской области, находящейся рядом с их городом Коломной.
Старшина мне выдал на всех сухой паек, который он получил. Сухой паек был выдан только на сутки, а всем нам предстояло ехать кому двое суток, кому трое. Выйдя уже на улицу, меня и других дембелей прибежали провожать другие ребята. Мне многие говорили теплые слова, что я один из лучших и справедливых сержантов, обнимая меня. Мне сразу вспомнился «Ералаш», «Прощай, Вася», про школу, когда ученика Васю, который всех бил, провожала вся школа со слезами в другую. Но, конечно, этот пример ко мне был не совсем уместен.
Мне приходилось сержантом выживать, что если бы я где-то не применял грубость, то меня как сержантскую личность растерли бы в порошок. Ворота в части открылись, и мы, отжавшись по традиции двадцать три раза, так как отслужили по двадцать три месяца, вышли на гражданку и сели в машину, которая нас должна была везти на вокзал.
Со мной демобилизовывался солдат Шмаров, который украл в роте пять бушлатов. Старшина роты меня попросил, чтобы я придумал, как его наказать. Добродушный старшина даже у Шмарова не забрал бушлат, чтобы он увольнялся в тепле. Из-за него старшина недосчитался двух бушлатов. Я пообещал старшине, что в поезде ему дорога раем не покажется и отомщу за ребят и старшину. Провожал нас мой командир взвода лейтенант Егоров. Мы все ему сказали от души, что он хороший человек и замечательный командир. Попрощался я в роте со всеми, кто находился не в нарядах.
Командир роты нас по-отцовски всех обнял на прощанье, и говорю ему еще раз спасибо. Старший лейтенант Панфилов был очень сильный и справедливый командир. В социальных сетях я его так и не нашел. По словам молодых, через некоторое время командир роты переведется в роту ГСН, где будет там командовать.
Также спасибо лейтенанту Егорову, моему командиру взвода, который станет через некоторое время замполитом нашей третьей роты. Спасибо моему любимому старшине Байрамбекову, который был добрым, открытым и справедливым. Он меня просил написать письмо, крича в отъезжающую машину с нами на вокзал, но я так и не написал, а сейчас уже найти его большая проблема.
Спасибо контрактнику Умету, который всем помогал. Все посылки многие старослужащие посылали на его адрес, боясь, что в части могут что-нибудь украсть, и он их, получая, приносил нам.
Спасибо контрактнику старшине Кельбалиеву, который был строг, но справедлив. Мне всегда было с ним комфортно в любом наряде. Его не было в этот день в роте, когда я увольнялся. Царство ему небесное. После моего увольнения ему оставалось жить еще менее двух месяцев. Очень перспективный был старшина, и сейчас бы уже он добился немаленьких успехов.
Спасибо командиру батальона, бывшему нашему командиру третьей роты капитану Абдулфатахову. Сейчас он уже с большими звездами. Воспитывал нас строго и всегда ругал за дело. Настоящий лидер и командир, которых я бы не сказал, что было много.
Прапорщику Бахмутову я могу сказать спасибо, что день назад он меня из-за своих интересов не отпустил в увольнение позвонить домой и попросить денег на дорогу домой.
Старшина Агабала меня все время доставал поляной за магазины с патронами, которые он увидел у молодого солдата, по случайности взявшего у меня в КХО вместо пустых, и, наверное, ему надо сказать спасибо, что отдал мне. Этот случай для меня прошел безболезненно, в отличие от случая годичной давности, когда украл патроны сержант Фикса. И, конечно, у Агабалы этот номер бы не прошел с нашим командиром роты, хоть от Агабалы можно было тоже ожидать чего угодно. На мое счастье, он в этот для меня счастливый день был в наряде «караул» и, наверное, кусал локти, что я его с поляной кинул. От него я тоже горя нахлебался, когда меня он пьяный избил перед заставой, а после еще украл два ОЗК, которые я охранял, пригрозив, что убьет, если кому-нибудь скажу.
Уезжали мы из части счастливые, но я больше другого слова подобрать не могу, что уезжали мы, как крысы. Мы бежали из части, а не триумфально увольнялись с почестями. Мы все увольнялись без денег, которые нам были должны в части, за заставу, отпускные и дембельские. Если бы мне не выслали из дома гражданскую одежду, то я бы ехал домой в форме с бельевыми вшами. Конечно, я мог у себя в роте без проблем украсть что-нибудь ценное, и у меня больше всех возможностей было, чем у других, это сделать. Также я мог заставлять умирать личный состав на зарядках и занятиях, пока солдаты мне бы не сделали дембельскую форму. Я не хотел этого делать и не стал. Мне даже моей мизерной зарплаты в тридцать рублей хватило за полгода привести себя в порядок под дембель, которую я никогда не получал, кроме одного месяца.
Спасибо моей тете, которая мне по мелочам высылала деньги, и я не поехал практически босиком, так как мои берцы уже разваливались, и я смог купить себе новые.
Спасибо нашей части, и отдельно начальнику продовольственного склада, что не дал нам с голоду умереть и выдал по одному суточному сухому пайку на каждого. Кому было ехать двое суток, а кому трое. Например, на первый день можно было съесть одному баночку гречневой каши с несколькими сухарями, а на второй день можно было полакомиться баночкой перловой каши. С чаем проблем не было, так как каждый пакетик можно было заваривать по десять раз. Главное, чтобы цвет воды немного красился.
Мы все уезжали очень счастливыми. Близилась вторая чеченская война, которую каждый из нас чувствовал, и не хотелось влезать под дембель в пекло. Через несколько месяцев она началась, и мои многие молодые сослуживцы на нее попали. Но мы уже довольные ехали в поезде и уже размышляли, как нам раздобыть выпить и отметить свой дембель.
Я занял боковое верхнее место в плацкарте, так как оно мне всегда нравилось. Лежишь и смотришь в окно, отвернувшись, не ворочая головой. Подушки с матрацами нам брать запретили, так как за белье надо было платить, а у нас не было денег, и это мелочи. Я поехал бы даже стоя без места, лишь бы домой.
Подъехав к Кизляру, я дембеля Шмарова отправил за водкой, выдав ему несколько банок каши, чтобы он ее или продал, или поменял. Дембель Шмаров со своей задачей справился на отлично и принес три бутылки водки. Отъехав от Кизляра, мы начали радостно распивать водку. Уже был поздний вечер, но нам не хотелось спать, нам хотелось веселья. Немного напрягали спецназовцы, которые ехали в соседнем вагоне. Они промышляли снять с кого-нибудь хороший бушлат. Из всех дембелей у меня бушлат был самый хороший и новый. Я его на всякий случай не снимал, чтобы у меня спящего его не украли. Я всем своим дембелям говорил, что спецназовцев всего трое, а нас в два раза больше, и не стоит их бояться. Это уже гражданка. Их можно было разорвать всей толпой.
Я понимал, что драка со спецназовцами в поезде может быть неизбежной, если они будут себя вести нагло, как в части. Долго они высматривали бушлат, и они с кого-то его сняли, но ко мне они подойти не решались. Я драться с ними не боялся, так как часть уже позади, а я только боялся приехать с разукрашенной физиономией, что было бы не совсем красиво предстать перед своими родственниками.
Выпив водки, я лег на свое верхнее место и смотрел в окно, где не было ничего видно из-за темноты. Через некоторое время у меня пришла идея, что почему я еду в гражданской одежде, а не по форме, которой у меня нет, а у Шмарова, который воровал бушлаты, все было укомплектовано.
Разбудив Шмарова, я сказал ему снимать военную форму. Форма у него была одной из самых красивых среди всех. Он мне сразу сказал, как он поедет голым. Я ему отдал свои джинсы с рубашкой и надел его форму. Форма была красивой, но мне она была узковата, и я решил ее обменять с кем-нибудь на другую. Одного дембеля мне пришлось уговаривать долго, и он ни в какую не соглашался, хоть и форму я ему давал красивее и лучше. Тогда мне на него пришлось поднять голос и пригрозить. У некоторых дембелей были в роте свои косяки, кто воровал бушлаты, кто тырил еду в тумбочках, кто резал простынь на подшиву и т. д. Этот дембель был одним из тех, к которому не было никакого уважения, поэтому я на него наехал с угрозами. Ему ничего не осталось, как со мной поменяться, только он срезал свои шевроны, которые мне были не нужны. Форма ему подошла хорошо, и он остался доволен таким хорошим обменом. Мне по размеру его форма была тоже самый раз, пускай она была и хуже.
На одной из остановок сошли трое спецназовцев, и у меня моральный груз спал, так как я был спокоен, что у меня не украдут мои берцы с бушлатом. Следующий день мы ехали уже все спокойно, и знали, что ни с кем не подеремся, выпивая и радуясь своему дембелю. Еда подходила к концу, а Шмаров нам постоянно доставал водку.
Вечером, когда я спал, то услышал сильный грохот. Пьяный сержант Сергей Кузнецов, забравшись на третий ярус, где лежат матрас с подушкой и одеялом, лег там спать. Многих нас по билетам разбросали по вагонам, а ехать хотелось всем вместе, и поэтому кто-то даже спал на третьей полке. Сергей с этой третьей полки умудрился упасть. Мы все перепугались за него, так как внизу после падения он лежал без сознания. Через несколько секунд он очухался и запел пьяным воем песню про дембелей. Он нас хорошо повеселил, и весь сон у нас сразу пропал. Сергею повезло, что он каким-то чудом себя не переломал, так как он упал на матрац, который упал чуть раньше.
Мы опять начали веселиться. К последней ночи я начал прозревать, что завтра утром приеду в Москву без денег и без еды, и что я буду делать. Ехать я решил сначала в город Владимир к тете с дядькой. Дома меня еще никто не ждал, так как по графику я должен был вернуться через две недели, и я решил, что в ужасном моральном состоянии ехать домой не стоило и немного надо было акклиматизироваться. Я еще не был готов к встрече с родителями и друзьями и хотел побыть в более спокойной атмосфере.
В поезде в ночь я позвал к себе Шмарова и напряг его, чтобы он нашел две пачки сигарет и десять рублей денег. Я считал, что это будет его наказанием — ночью побираться в поезде. Я обещал старшине его как-то наказать, и снятой формы было недостаточно. А потом, он мог быть больше доволен гражданской одеждой, которую я ему отдал. Пускай она была не новой, но в его регионе она ему точно пригодилась. Для большего страха я ему пригрозил, что если он мне утром не принесет денег с сигаретами, то я его сапоги выкину в окно, и, приехав в Москву, он дальше будет добираться до Марий Эл босиком, а в Москве на 23 ноября была ужасно холодная погода, под двадцать градусов. Конечно, он этого наказания заслуживал, чтобы выкинуть у него сапоги, и он был сильно испуган моими словами, но я прекрасно понимал, что я этого сделать не смогу даже за месть своих ребят. Я не палач и никогда им не был, не имея никакого на это права, проучив его только морально в последнюю ночь.
Утром он мне только дал чуть больше половины пачки сигарет, и я раздал ребятам. Денег он мне не принес, но принес открытую практически целую бутылку водки. Когда мы выпили утром по одной, то это был какой-то вкус ацетона, и мы ее не стали допивать, чтобы не отравиться. Сапоги у Шмарова остались на ногах, но ребята порывались это сделать, когда я им рассказал о своей идее. Ни у кого к Шмарову не было жалости, но я за него в конечном итоге вступился, и это было бы жестоко идти по морозу босиком.
И вот долгожданная Москва, свежий и родной воздух. Я не верил, что когда-то вступлю на родную землю Павелецкого вокзала. В метро мы последний раз крепко обнялись. Кому-то еще было ехать дальше в Коми, кому в Нижний Новгород, кому в Марий Эл, а мне уже было совсем близко, меня ждал город Владимир.
Приехав на Курский вокзал, я ждал свою электричку. На вокзале стоял солдат дембель и ел купленные пироги. Я подошел к своему брату по счастью и поздоровался, спросив, где он служил. Он сказал, что служил на Урале, но по виду я понял, что он со мной поддерживал разговор без желания. Я почувствовал, что дальше разговора уже быть не могло, и удалился, попрощавшись. Жрать сильно хотелось, наглотавшись слюней аппетитно жевавшего дембеля, который, видимо, получил дембельские и устраивал себе праздник живота. У меня же денег не было. Мне предстояло преодолеть две пересадки на электричке, чтобы доехать до Владимира.
На прямой автобус у меня льгот не было, так же как и денег. Добравшись до города Орехово-Зуево, я еще ждал электричку до Петушков. На вокзале стоял собачий холод, и мои ноги в летних берцах дубели от мороза. Уши мои в берете сворачивались в трубочку.
На вокзале я встретил троих ребят из Рязанского училища ВДВ, которые нашли со мной общий язык, рассказывая о себе и расспрашивали меня. Они тоже ехали во Владимир, и мне уже было веселее.
В электричке с нами познакомился мужчина, который искал компанию выпить. В Петушках, где мы делали последнюю пересадку, он купил две бутылки водки с закуской, и мы вместе с ребятами ее выпили.
В город Владимир я уже приехал веселый и пьяный, где не ожидала меня встретить тетя так рано. Говорить я нормально по-граждански без мата не мог. Да и вообще я не мог связать двух слов. Я большее время молчал, и адаптация нормальной разговорной речи у меня шла около года. Уже у себя дома, встречая девчонок, с которыми я учился, они меня не узнавали и говорили, что я какой-то тормоз. Я только всем отвечал, что недавно только с гор спустился. Мне несколько лет снились кошмары, и, просыпаясь, я радовался, что нахожусь дома. 21 ноября 1998 года был и останется самым счастливым днем в моей жизни. Практически через десять лет я решил начать писать эту книгу и пройти этот ад уже с мемуарами.
Гражданская жизнь!
После своего увольнения я не понимал гражданских людей, которым была безразлична война в Чечне. Меня раздражали люди, которые не служили и вставляли свою лепту, что я, дурак, отдал свои два года в армии, а мог бы нормально жить и зарабатывать деньги. Я попал в какой-то другой мир, в котором приходилось адаптироваться. Утром, ехав на работу в метро, я увидел, как двое дембелей-моряков, обнявшись на экскалаторе, пели радостные песни, а все на них смотрели, как на сумасшедших, возмущаясь. Два года парни отслужили, и я за них радовался, а кто возмущался, то им было не понять их эмоции, бившие через край. Я до сих пор вижу дембелей отслуживших и искренне радуюсь за них, готовый пожать каждому руку, хоть и служба уже год. Служившие со мной ребята, до сих пор гордятся своей службой на Кавказе, которых я нашел в социальных сетях, и основная масса подалась на работу по профилю в МВД.
Эту книгу я замучился редактировать, так как на полке невыпущенная лежит уже пять лет, и по истечении времени мне пришлось конец ее отформатировать. Такой армии, в которой находился я, и врагу не пожелаешь. «Норд-Ост», Беслан я пропустил полностью через себя. Люди, живущие в мегаполисах, были далеки от войны на Кавказе, пока не прошли первые теракты в Москве, взрывы домов на Каширском шоссе и на Гурьянова в 1999 году. После этих терактов, люди стали осознавать, что вся эта беда на Кавказе пришла и в их дом, которым было в свое время безразлично, что происходит в Дагестане и Чечне.
Я преклоняюсь перед бойцами «Альфа» в Беслане, спасавшими детей, и не могу их не отметить. Спасибо вам, ребята.
Майор Михаил Кузнецов
Майор Вячеслав Маляров
Майор Александр Перов
Прапорщик Олег Лоськов
Подполковник Олег Ильин
Подполковник Дмитрий Разумовский
Майор Андрей Велько
Майор Роман Катасонов
Лейтенант Андрей Туркин
Прапорщик Денис Пудовкин.
Вечная вам память. А остальным ребятам спасибо, что остались живы. И стоит заметить, что практически все офицеры.
Не могу не отметить командира батальона майора Сергея Солнечникова, который в марте 2012 года на учениях, когда один из солдат бросил неудачно гранату, которая отлетела в зону поражения сослуживцев. Майор Солнечников оттолкнул растерявшегося солдата и накрыл собой гранату. Через полтора часа Сергей скончался на операционном столе от полученных ранений, несовместимых с жизнью.
Извините, герои, кого не назвал. Вас так много, что из книги пришлось бы делать мемориал. Спасибо вам.
Также хочу обратиться к призывникам, которые уклоняются от службы. Знайте, что вы предатели нашей Родины. Вам президент В. В. Путин сделал огромный подарок — служить год. Дедовщину, конечно, не искоренить, но она уменьшена в разы. У вас уже нет трех поколений, которые издеваются над молодыми. Так называемые слоны, черпаки, деды. Разговариваю с командирами, которые рассказывают, что чуть ли не детский сад сейчас. В тихий час солдата нельзя трогать. Доходило до того, что контрактники убирают снег, а солдат спит. А дедовщина есть везде, в школе, на работе и даже в детском саду. А парень на то и мужчина, чтобы быть защитником.
Многие вспоминают, что они мужчины, 23 февраля, получая подарки от женского пола. Не противно брать, когда вы косили от армии. Конечно, я не беру ребят с инвалидностью.







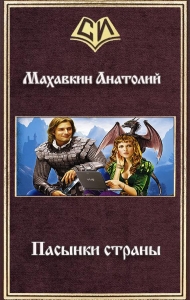
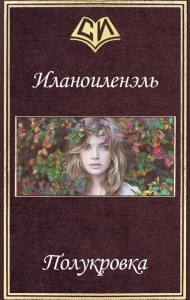

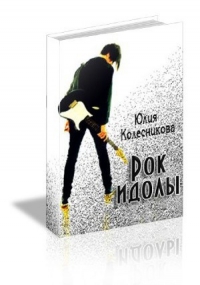



Комментарии к книге «Два года ада, или Как выжить в армии», Денис Гоголев
Всего 0 комментариев