Светлана Гольшанская Лесной царь
Страшен лес ночью. Особенно этот лес — древний, колдовской, наполненный непонятной для человека жизнью. Не отваживались сюда ходить селяне даже в ясный день по широкой, протоптанной ещё до войны дороге. А уж по мелким, звериным тропам, через бурелом и трясину по скользким кочкам и колючим кустам в чащу в сумерках так и вовсе никто не забредал. Боязно было с самым дорогим — с душой — расстаться.
Нечистая сила из каждого дупла выглядывала. Демоны скрипели стволами и трещали сухими сучками, нет-нет да завывали волчьими голосами. В храме говаривали, что нет демонов. Всё выдумки колдунов окаянных, что жили на другой стороне леса в Чёрном замке. Это они из людей все соки сосали. Выгнали их оттуда воины в голубых плащах, и нечего стало бояться честному народу.
А всё равно как взглянешь на эту громадину серо-зелёную, как качается она на ветру и поёт зловещие песни, так весь дух зайцем в пятки ускакивает.
Не пошла бы сюда Зофья по своей воле в лес, только лихо из родительского дома выгнало.
Отец по дереву резал искусно. Такие наличники у него выходили, что глаза нельзя было отвести: цветы, птицы, звери, люди на них — целый мир. Ни одна фигура, ни один узор не повторялись. Купцы за его поделками со всех краёв Веломовии и соседней Кундии съезжались, на границе с которой стоял их родной городок — Подгайск.
Хорошо они жили, дружно и богато, только приблудилась к ним сиротка Милана, Милка по-домашнему. Родители в войну погибли, жалилась она, от колдунов простой люд защищали. Осталась она одна теперь, от голода и холода умирала. Пожалел её отец и взял в дом.
Вскоре Милка, как кукушонок, начала родного птенца из гнезда выживать: то пряжу испортит — запутает и порвёт, то полотенце с теста сдёрнет, и не поднимутся пироги, а то и вовсе мышь в постель дохлую подкинет. Никто, даже матушка, не верил, что Милка гадости делает. Говорили, плохая из тебя хозяйка, Зофья, не кивай на других — ругали и на горох в углу коленями ставили, пока она слезами умывалась.
Похорошела Милка: лохмы расчесала, в косы чёрные толщиной в руку заплела. Глаза — тёмные глубокие омуты — очарованием вспыхнули, тело полнотой налилось, щёки зарумянились. Что она не портила, то за своё мастерство выдавала, а Зофью запугивала, чтобы та больше пряла, ткала и шила, пироги вкуснее и пышнее готовила, а иначе, говорила, так перед всем городом опозорю, что тебя камнями побьют и в лес прогонят.
Терпела Зофья, молчать научилась. А что ещё делать, когда ни родители, ни подружки слушать её не хотели?
Повзрослели они, невестами стали. К Милке женихи всех мастей сватались, а на Зофью никто не смотрел. Заморыш — сухая и маленькая, волос невзрачный мышастый, кожа бледная с голубыми жилами, глаза блёклые прозрачные. Но радовалась она всё равно. Как сыграет Милка свадьбу, так в дом мужа уйдёт. Жизнь вернётся, как до неё была, когда матушка и батюшка любили Зофью и слушали.
Только отказывала всем Милка:
— Что мне селяне, ремесленники или купцы? Я за знатного хочу, за воина, нет, за царя!
Кто бы другой такую блажь сказал, засмеяли бы, а её подружки слушали. У Зофьи и подружек-то не осталось, всех с приходом Милки растеряла. Смотрела на сестрицу тайком и мечтала, чтобы её хоть самый бедный юноша в жёны позвал, лишь бы любил, а что даже беднее храмовых мышей жить станут — так разве же это важно?
Назначили к ним в Белоземье губернатором Заградского из Стольного града. Приезжал он посмотреть на вверенные ему государем земли, в приграничный Подгайск последним заглянул, как увидел Милку, так обо всём забыл: и что невеста его дома ждала, и что прежде не хотел он в этот сырой, богатый разве что торфом край переезжать. Поставил он себе усадьбу большую, на самом хорошем, высоком и сухом месте, и взял в жёны Милку.
Зофья обрадовалась, родителей старалась задобрить кротостью, в храме свечки ставила, чтобы счастье и удачу ниспослал Единый-милостивый. Ведь как говорили проповедники, Он всех, даже сирых и убогих любит, всем поможет, если сердце открыть. Только не вышло.
Родители серчали:
— Вон Милка-бесприданница, младше тебя будет, а такого мужа отхватила! В мехах и жемчугах ходит. А на тебя даже босяки не смотрят. Из рук всё валится, ни одна работа не спорится. Так ещё на зимний солнцеворот гадалка объявила, что бездетной ты до конца своих дней проживёшь.
Смирилась Зофья, что вечно одна будет. Куда ей против судьбы воевать? Хоть родители пока за порог не гнали.
Родила Милка Заградскому сына, знакомых на наречение созвала. Пригожий малыш вышел, крепкий, голосистый. Все нарадоваться не могли.
Зофья по обыкновению в тени пряталась, дожидалась конца торжества, ночи тёмной, чтобы ещё раз божьей милости попросить и прощения вымолить за мысли завистливые.
Осталась Зофья в храме одна и принялась зажигать свечи. Их держали в руках Крылатые посланники в голубых плащах — их тоже отец Зофьи в подарок вырезал. Лица светились добротой и одухотворением. Были они единственными её друзьями.
Выплакалась Зофья и побежала домой, чтобы родители не серчали, но что-то дёрнуло её в сторону. В темноте осинового круга голоса слышались. Звонко и мелодично шептала Милана, скрежетал ей в ответ некто в плаще недоброй беззвёздной ночи.
— Исполнил я твою волю, черноокая. Долг платежом красен.
Обнимал незнакомец её настырно, склонялся низко над шеей, шелестели юбки, белели стройные ножки.
— Дочку резчика забирай, сводную сестру мою! Никто о ней не всплакнёт, не вспомнят даже!
— Не нужна мне дочка резчика, нет в ней силы. Истлеет от одного прикосновения. Ты нужна, только ты!
Они целовались так жадно, что внутри всё горело, ноги к земле приросли, а голова не думала совсем. Лишь кровь стучала в висках.
— Неужели нет ничего на всём белом свете, что было бы дороже меня? — смеялась Милка жутко, как вороньё галдело над лесом.
— Отчего же? Есть! В этих лесах затерялась кровь Белого палача. Но нам в руки она не даётся — властвует над ней иной хозяин. Приведи ко мне Царя лесного, и не будешь больше должной.
— Но я видела, видела в дыму и зеркалах. Сестрица вам нужна, её кровь…
— Нет, не она, не она… — затерялись голоса в томных вздохах и шорохах.
Полегчало, и Зофья со всех ног домой понеслась. Не слышала ничего, не видела и знать не хотела! Не могло такое зло на порог чистого храма взойти. Да и сказать — некому. Не поверят ей, хотя сердце предчувствовало большую беду.
Бежать тогда надо было хоть куда, через заставу в суровую Кундию, где никто Зофью не знал. Выжить одной, быть сильной хотя бы раз… А не смогла!
Наутро её водой облили. Перед домом целая толпа собралась. Галдели:
— Ведьма! Ведьма! Гнать ведьму!
Выволок отец Зофью на улицу за косы и бросил в ноги толпе.
— Зачем душу демонам продала? Зачем тело нечистой страстью испортила? — закричал он страшно. — Что, шельма, думала, неумелость, немощь и лень колдовством исправить? Не потерплю такого позора! Вон пошла, не жить тебе среди людей!
Заплакала Зофья, заговорив впервые за долгое время:
— Не я, не я это, а Милка! Она…
— Да как смеешь ты? Будто не знаешь, что её дитя из-за твоего колдовства захворало?! Она всё утро в храме рыдала и в беспамятстве свалилась! — разозлился пуще прежнего отец и ударил её сапогом.
— Нет! Я перед Голубыми Капюшонами в храме подтвердить готова! Позовите их!
— Ага, чтобы они тут всё попали, как в Заречье было?! Пошла вон, злоба чёрная!
Горожане похватали палки и камни, погнали её к лесу.
— Убирайся! Откуда пришла, туда и убирайся — к своим, нечистым! — мчались они за Зофьей по главной дороге, гоня её вглубь, во мрак сплетённых кряжистых ветвей и густых крон, где чавкало прожорливое болото.
Босые ноги сбивались в кровь, рубаха цеплялась за ветки и кусты и рвалась на лоскутья. Только когда крики стихли, Зофья смогла перевести дух. Запутал её леший, заплутал окончательно и бесповоротно. Бродила она до темноты, искала еду или хотя бы ключевую воду, но ничегошеньки тут не было.
Только следили отовсюду злые глаза и ухали-выли потревоженные обитатели. С сумраком из взбитого облаком тумана вышла Зофья на край покрытого ряской болота. Чавк-бульк, и пахло зловонно, лягушки квакали противно.
Выскочил из коричневой жижи рой светляков, ярких, что глаза заслезились. Облепили они Зофью и хороводом закружились. Чудилось, что поют, и песней зовут куда-то:
— Иди-иди, Зофья, не было у тебя ни жениха, ни подружек, так женой Лесного царя стань!
Зофья замерла в изумлении, и шагу ступить не смея. Что за Лесной царь? Неужто и правда она ведьма? Тогда что же Милка?.. Будто совсем разум помутился.
Обозлились светляки и принялись жалить лицо, руки, плечи. Спасаясь от боли, Зофья прыгнула в болото, с кочки на кочку. Каким чудом в трясину не угодила? А вот и земля твёрдая! Погнали Зофью дальше светляки, как раньше горожане гнали.
Уже и рассвет занимался, раскрашивал алым заревом иголки елей. Расступились разлапистые, показалась поляна широкая. Ковром её устилала свежая зелень, цветы — ромашки, васильки, герань и душица. Рядом бузина цвела, над ним боярышник царственно возвышался.
Дальше гиблым кругом стояли колья с насаженным черепами оленей и коней. Светляки влетели в пустые глазницы и замигали, как живые. Сердце в пятки ускакало. Столько натерпелось за эти ночи бедное сердечко, Зофья уж не думала, что выдержит.
За забором мёртвым — хоромы старинные. Отродясь таких Зофья не видала, не думала даже, что есть в их крае эдакое чудо. Куда там дому Заградских до многоярусной громадины из круглых брёвен! Ставни резные, белёные. Такому искусству поди даже отец изумился бы.
Мигали черепа на Зофью, будто звали зайти, угрожали. Поднялась она на высокий порог, постучала в дверь, на которой были вырезаны звери диковинные — никто не открыл. Дверь сама распахнулась, мол, заходи-заходи, гостюшка.
Сени сверкали чистотой, зазывали салфетками кружевными, лавками прибранными. Так хотелось передохнуть, что Зофья вошла.
Дорожка на полу, белая с красной вышивкой, какой в древности от злых духов оберегали, волной дёрнулась, указала путь к бане. Тёплым паром и терпкими травами манила вода в огромной купели. Вымылась Зофья, грязь с себя сняла. Вода чудесная, живая, а может и мёртвая, раны на теле до последнего синяка залечила и даже душу облегчила. Хорошо так стало, как не было с тех пор, как в отчий дом Милка пришла.
Вытерлась Зофья и увидела платье на лавке. Белёный лён настолько тонкий и нежный, что в нём только господам впору ходить, вышивка красная по подолу и воротнику — птицы и солнышки. Примерила Зофья на себя — село как на хозяйку.
У серебряного зеркала лежали гребни и щётки. Причесалась Зофья и не узнала своего отражения — неужто краса с огромными светлыми глазами, с золотом белым в струящих по тонким плечам волосах — она!
Шипенье отвлекло. Заглянула Зофья обратно в купель и ужаснулась. Вода в нём чёрная и смрадная стала, загустела, поверхность переливалась ядовитыми бликами, хуже, много хуже, чем в болоте. Кишмя кишели в купели гадюки, трепетали раздвоенными языками, шипели, пытаясь выбраться наружу, но терпкий запах трав и свет толстых, изрезанных древними знаками свечей губил их, иссушивая, спекая во прах.
Мгновение, и не стало наваждения. Дверь распахнулась, и снова позвала белая дорожка.
Поднялась Зофья через сени в повалушу. Накрыт здесь был широкий стол на рать гостей. Еды столько: лисичек в сметане, рябчиков запечённых, фазанов, уток, зайчат и косуль, осетрины заморской, овощей, варений, караваев и пирогов, мёда. Столько Зофья даже на свадьбе Заградских не видела!
Есть захотелось нестерпимо. Накинулась Зофья на угощенье и уминала его, пока не отяжелело внутри. Сонно так сделалось от усталости, от хмельного мёда, что ноги уже не держали. Взметнулась снова дорожка, позвала в светлицу в высоком тереме, на застеленную взбитыми перинами широкую постель. Упала на неё Зофья и заснула.
Сколько проспала, она и сама не знала. Только наполнились хоромы шорохами, словно гости съехались. Ржание с улицы слышалось, трубный голос оленей, лай собак и волчий вой. Выглянула во двор Зофья — темно хоть глаз выколи. Ох, не к добру это — в чужой дом без приглашения ходить, в чужой бане купаться, чужую еду есть и в чужой постели спать.
Скрипнула, отворяясь, дверь. Белая дорожка звала всё настойчивей. Кто-то красные башмачки у постели оставил — сами на ноги просились. Надела их Зофья и пошла, словно околдованная. Сопротивляться, даже умом зная, что неправильно здесь всё и плохо, она не могла. Может, стоило в жизни хоть мгновенье побыть счастливой? А может, она уже умерла, и на Тихом берегу мёртвая в мёртвом доме хозяйничает.
Вернулась Зофья в повалушу, а там за столом пир горой. Тени собрались, похожие на животных, птиц, деревья и даже растения. Все повернулись к ней. Защёлкали крохотные человечки, раскачивая из стороны в сторону белые блины-лица.
Во главе, на деревянном троне с резными ручками в виде цветов сидела Лесная царица. Платье на ней из весенней листвы устилало пол длинным пышным шлейфом. Адамантами сверкала на нём роса, вспыхивали красные маки, вились вокруг лазурные мотыльки. Сама царица высокая, статная, руки гибкие, что ивовые ветки, кожа белее чистейшего снега, в глазах — кристальная гладь заповедных озёр. Волосы цвета земли шёлком до пола струились. Нечеловеческая красота — колдовская. Как и всё здесь.
— П-простите, матушка, что без приглашения, — с трудом выдавила из себя Зофья.
С людьми забыла, как разговаривать, а уж с нечистиками — и подавно.
— Как же без приглашения, — зашелестел листвой голос, зажурчал ручьем, запел соловьём так сладко, что закружилась голова. — Мы все тебя приглашали, девица-красавица.
— П-простите, матушка, я отработаю. Я всё умею, только скажите, — отвечала Зофья, не желая поддаваться на колдовской обман.
— Да что ты, деточка, мы же не лиходеи какие, чтобы в гостях работать заставлять. Уверена я и в твоём мастерстве, и в хозяйственности, и в добром сердце, иначе не впустил бы тебя мой Ирий, не прошла бы ты мимо костей зачарованных. Испепелят они любое зло, что во владения Ягини, Хозяйки лесной, сунуться посмеет. Что же ты стоишь? Садись, раздели с нами трапезу, испей мёда. Или не понравилось гостеприимство наше? Не тепла была вода? Не вкусен ужин? Не мягка постель? Не красив мой дом?
— Нет, матушка, такого тёплого приёма я в жизни не знала, я… — Зофья слишком боялась жаловаться и уселась на лавку.
Ягиня поняла её без слов:
— Люди черствы сердцем и верят злым наветам. Оставайся у нас. У нас тебе будет хорошо, как никогда раньше.
Дурманом пахло в воздухе, и нельзя было сопротивляться колдовству. Зофья отужинала вместе с призрачными гостями. Одна хозяйка ничего не ела. Зофья спросила:
— Зачем я вам?
— Недоверчивая малышка. Жизнь с людьми сделала тебя такой. Скоро пройдёт. Видишь ли, больше всего на свете я люблю своего сына. Но он молод и горяч, земля под ногами горит, земля не держит. Пришла пора ему остепениться. Ты станешь ему доброй женой, привяжешь его к земле и ко мне. Вы будете так счастливы вместе!
Зофья разглядывала призрачных гостей. Кто же из них сын Ягини? Кому она должна стать женой и как это возможно? Ведь она всего-то хотела любви бедного юноши.
— Соглашайся! Прекраснее жениха на всём белом свете не сыщешь. Я сама его выкормила медовой росой и вырастила среди этих лесов.
Зофья задрожала. Люди и правда не приняли её, но следует ли из-за этого сочетаться с демонами? Ведь тогда она и правда превратится в ведьму, не достойную даже милости Единого.
Послышались бойкие шаги, скрипнули, отворяясь, двери. Все снова повернулись ко входу, разглядывая запоздалого гостя. На пороге стоял кто-то из плоти. Чёрные штаны и рубашка из сукна, на плечах плащ из оленьих шкур, на ногах стоптанные сапоги. Лицо закрывала белая костяная маска с прорезями для глаз, ноздрей и рта. Из-под неё вместо волос торчали пучки соломы. Голову венчали раскидистые оленьи рога.
— Здравствуйте, матушка, я принёс вам еду, — заговорил он обычным, приятным мужским голосом.
В руках у него была большая медная чаша с густым красным вином, какое пили только по праздникам. Да нет, это же кровь! Ещё горячая, человечья!
Зофья сжалась от ужаса.
— Приветствую тебя, сын мой, — кивнула Ягиня. Остальные духи склонялись перед ним, как перед царём. — Ты, как всегда, очень заботлив.
Он подошёл к матери и принялся поить её из чаши, следя, чтобы кровь не переливалась на подбородок и одежду. Единственная еда, которую принимала хозяйка. Закончив, царь отставил чашу и вытер губы матери белым полотенцем.
— У нас гостья, — Ягиня указала на оробевшую Зофью на другом конце стола. — Специально для тебя пригласила, ты же так хотел!
— Матушка! — рыкнул он, как рыкали юноши, когда родители кого-то сватали им без их согласия. Зофья не удержалась от усмешки. — Я хотел уйти к людям, а не чтобы ты заманивала их сюда колдовством!
— Люди алчны, жестоки и невежественны. Они уже убили белую горлицу, по которой ты до сих пор скорбишь. Они и тебя погубят. Оставайся в моём Ирии, здесь ты всегда будешь под защитой.
Юноша сложил руки на груди.
— Мы не сможем отсиживаться в безопасности вечно. Люди вот-вот придут сюда с топорами и огнём, как уже было в Заречье. Я до сих пор жалею, что ты меня туда не отпустила. Горлицу убили не люди, а один человек — Белый палач. Уж я бы взглянул ему в глаза, уж я бы призвал его к ответу, — к концу запальчивой речи он расцепил руки и сжал ладони в кулаки.
— Ты был слишком юн и хрупок, ты до сих пор слишком юн и хрупок. Ты не выстоишь! — Ягиня подняла тонкие длинные руки с чёрными отполированными когтями вместо ногтей и ласково погладила ими костяную маску на лице юноши. — Давай проживём эти последние годы в моём счастливом Ирии вместе. Это лучше, чем мучиться, сражаться и гибнуть на войне, в которой нельзя победить.
— Но я хотя бы попытаюсь. Дождусь Вечернего всадника, который был обещан, и помогу ему отомстить, — отстранился юноша.
— Всадник вечерней зари — предвестник заката. Он приходит не мстить, а взимать долги. И берёт он всегда самое дорогое, и с тебя тоже возьмёт. Поверь, эта плата ещё никому не приходилась по душе, — печально ответила Ягиня. — Ладно, ты слишком разгорячён охотой. Поешь и отправляйся спать, завтра на всё мудрее смотреть будешь.
Она удалилась вместе со свитой призрачных духов. В повалуше остались только Зофья с юношей. Она оробела ещё больше, чем перед Ягиней. Зофье никогда не приходилось бывать с мужчинами наедине.
Его шаги отдавались гулким эхом.
— Извини, что Ягиня тебя заколдовала. У неё иногда возникают… странные идеи, — обратился юноша к Зофье, поднимая маску с лица.
Она задышала часто, боясь увидеть что-то жуткое, но его облик поразил её в самое сердце. Юноша взлохматил сбившиеся от пота льняные волосы. Он был необычайно красив, похож на изображения Крылатых посланников в храме: правильные, соразмерные черты. Высокий лоб, волевой подбородок, изящный прямой нос с хищными крыльями. В глазах в опушке почти седых ресниц клубился стальной туман дремучих белоземских лесов. Уголки тонких жёстких губ приподнимались в добродушной усмешке.
— Т-ты человек? — удивилась она.
— Гедымин Мрий, охотник. Можно просто Гед. Будем знакомы, — он протянул ей ладонь, что оказалась мягкой и тёплой наощупь.
Зофья назвалась и улыбнулась против воли. Имя-то какое древнее! Так поди только знать величали. В животе щекотало странным чувством, которого она раньше не ведала. От него разум мутился волнением, а слова путались на языке.
— В лесах Белоземья охотиться нельзя без разрешения губернатора Заградского, — сказала она совсем не то, что хотела.
Гед принялся накладывать себе в тарелку всего по чуть-чуть. Молоденький совсем, пушок только-только над верхней губой проклюнулся. Поди, одного возраста с ней юноша будет или немного старше.
— Ягиня ведь тебе не настоящая мать? Тебя похитили у семьи? — снова полезли нескромные вопросы.
— Я сирота войны.
Прямо как Милка.
— А на какой стороне воевали твои родители?
— На разных, — ответил он загадочно. — А за Ягиней просто присматриваю. Знаешь, как обычно бывает, вначале она за мной, когда сам о себе позаботиться не мог, а теперь вот я за ней.
— Ты поишь её людской кровью. Вы и меня убьёте для этого? — испуганно спросила она, разглядывая стоявшую рядом медную чашу с засыхающими на стенках багровыми потёками.
— Я не убиваю людей, ты чего? — Гед глянул на неё так, что она почувствовала себя глупо. — Это кровь животных, на которых я охочусь. Старые боги слабеют без людской веры, а сейчас почти вся паства ушла к вашему Единому, — он указал на висевший на её шее амулет из ивовых прутьев — четырёхконечную звезду в круге. — Ягиня держится только на моих подношениях. Скоро её чудесный Ирий исчезнет даже без топоров и огня. Жаль, что она не понимает.
Зофья округлила глаза:
— Так она — богиня староверов-колдунов? И ты…
Она испуганно приложила ладонь ко рту, не зная, что хуже: колдуны или демоны.
Гед спокойно кивнул, продолжая улыбаться:
— Я родился очень слабым. Моя мать посвятила меня Ягине, и та благословила меня на жизнь. Теперь она мне как вторая мать, в чём-то даже слишком.
— Не знала, что старые боги на такое способны, — Зофья потупилась, размышляя, почему ни одна её молитва к Единому не была услышана и никто ей не помог.
— Мы сами наделяем их силой. Своей верой в чудо мы делаем его возможным.
— Ягиня права. Люди очень злые, они не щадят таких… таких, как мы. Изгоев, — Зофья отвела взгляд к окну, в котором были различимы разве что звёзды на тёмном небе.
— Зло есть в каждом, как обратная сторона луны. Во мне, в тебе, даже в Ягине. Но это не значит, что надо прятаться ото всех в увядающем Ирии. Нужно бороться, надеяться и верить. Если каждый зажжёт свечу в своём сердце, то Вечерний всадник обязательно победит и разгонит сгустившийся над нами Мрак.
— Но я не верю в Вечернего всадника. Я даже не знаю, кто это.
— Пускай! Какая разница, как называть свет в наших душах? Он либо есть, либо его нет, — ответил Гед необычайно жарко и добавил немного погодя, закончив трапезу: — Ступай спать. Завтра встанем пораньше, и я отведу тебя в город.
— Но твоя матушка нас не отпустит, — заспорила Зофья и вдруг заметила, что осмелела от его доверительных речей.
Едва знакомый старовер-колдун оказался к ней добрее, чем люди, которых она знала всю жизнь!
— Отобьёмся, — отмахнулся он и ушёл, не узнав, что Зофья не хотела покидать дивный Ирий.
Дорожка вернула её в терем. Зофья послушалась Геда и легла спать. Он разбудил её засветло: коснулся плеча, а когда она открыла глаза, приложил палец к губам. Свечка плакала в его руке, на плече висел охотничий лук, а за спиной — колчан со стрелами.
Он принёс мужскую одежду: штаны с рубахой, сапоги и плащ из оленьих шкур. Зофья оделась, и они поспешили вниз по ступенчатому гульбищу, которое упиралось в конюшню. Гед вывел оттуда двух уже посёдланных гнедых лошадей. Верховые, тонконогие — в их крае диковинка, доступная только для господ.
— Я не умею, — растерянно покачала головой Зофья.
Гед недовольно фыркнул:
— Садись и держись за гриву так крепко, как только можешь. Что бы ни происходило, главное не упасть.
Он примотал поводья одного коня к передней луке, прикрепил к кожаным подперсьям черепа со светящимися глазами и подсадил Зофью в седло. Сам легко, словно птица, вспорхнул на второго коня.
Хоромы были тихими и сонными в предрассветный час, но стоило выехать с поляны, как загорелись окна, послышались грохот и крики.
Выбравшись на тропку, Гед хлестнул коня хворостиной. Тот помчался вперёд — только комья грязи из-под копыт летели. Конь под Зофьей наподдал следом. Её пригнуло низко к шее, пальцы до боли вцепились в густую чёрную гриву, засвистел ветер в ушах, потекли слёзы. Трясло нещадно, казалось, вот-вот она соскользнёт вбок в терновые кусты или хуже того — на острые сучья.
— Остановитесь, глупые! — кричал лес голосом Ягини. — Не пущу никуда!
Мчал по пятам рой светляков, жалили коней за ноги. Зофью не трогали, а вот вокруг Геда плотной тучей собирались, дорогу закрывали. Дёрнул он за череп на подперсье и ногами сильней коня ударил. Хлынул из глазниц яркий свет, слепя и отгоняя назойливых тварей, а кто у него на пути оставался и упорствовал, всех сжигал огнём белой ярости, и опадали они пеплом.
— Не выйдет! Не выпущу! — кричал лес злее прежнего.
Хлынули на дорогу ото всюду волки. Вскинул Гед лук, выхватил стрелу из колчана. Свистнуло оперенье, за ним другое — падали враги от каждого выстрела. Пела тугая тетива, и казалось, быстрее уже нельзя. Но колчан пустел, а зверья меньше не становилось. Гед свернул с тропки на бездорожье. Вторая лошадь не отрывалась ни на шаг, Зофье оставалась только цепляться за неё, насколько хватало сил.
Скакали кони через овраги и поваленные деревья, через колючие кусты перемахивали, по кочкам болотным прыгали. Зофья подлетала высоко над седлом и только чудом возвращалась назад. Кони кренились набок на поворотах. Толстые ветки клонились ниже и ниже, раскачивались, замахивались и норовили пришибить.
— Не уйдёте! Пожалеете! — шумел лес.
Скрипели грозно деревья, вырывали из земли скрюченные корни и тянулись за всадниками. Чавкало плотоядно болото, трясина росла всё шире и шире, кусты плевались шипами, лозы оплетали копыта. Спотыкались лошади, грызли удила, роняли с губ пену, хрипели, раздувая ноздри и бока, но рвались вперёд ещё быстрее, подскакивали ещё выше.
Разлапистые ели впереди густым частоколом выстроились, выросли так, что за макушками неба не видно. Заложил вдоль них Гед крутой поворот, а те уж и сбоку подступили. Это конец!
Но не остановились кони, петляя и ускользая от деревьев и от зверей. Гед бросил поводья, поднялся на стременах, вынул из-за пазухи серебряный медальон и воздел его к сумраку, что мешал видеть небо.
— Брат мой, Ветер, помоги, именем матери моей, белой горлицы, заклинаю. Свободы мы просим, что ты и сам ценишь больше всего.
Загудел в кронах ветер, ударил резким порывом. Затряслась в ужасе еловая стена. Хлестал он лес, воя яростно, собираясь в могучие смертоносные вихри. Черным черно стало от поднявшихся со всех гнёзд птиц, малых и больших. Кинулись они на волков и змей, на непокорные деревья.
Повалились ели, вырывал их с корнями ветер. Лишь мелькнула брешь, направил в неё коня Гед, следом за ним собрат юркнул, и снова сошлась еловая стена. Всадники уже мчали прочь во всю прыть. Миновало большое лесное озеро, опушка показалась, за ней волна холмов, на самом высоком из них — Чёрный замок колдунов. Силуэт виднелся: зубья стены будто небо изгрызть вознамерились, пустые глазницы с ненавистью на мир поглядывали.
Погоня отстала, только мигали жёлтые огни между стволами с сожалением, будто хотели, но не могли бежать следом — невидимая преграда не пускала их за границы леса.
Спрыгнул Гед со взмыленного коня и обернулся к опушке:
— Я не бросаю тебя, Ягиня-матушка. Вот только обживусь у людей, и к тебе в гости часто-часто захаживать стану с новыми подношениями.
— Не ходи, сынок, к людям! — загудел лес. — Обманут-обидят, обратно тут же прибежишь. Лишь бы поздно не было!
— Ветер и благословение матери всегда со мной, а защиты сильнее во всём свете не сыскать! — усмехнулся Гед и повернулся к Зофье. — Слезай, коням отдохнуть надо, а тебе — ноги размять. Хорошо держалась!
Она отпустила скрючившимися ладонями лошадь и упала в руки Геда. Ноги занемели, в голове шумело, сердце вырывалось из груди, и казалось, всё тело по косточкам перемололи — одна сплошная боль.
— Расходишься — полегчает. Главное, что мы выбрались, — Гед взял поводья обоих коней и повёл их вперёд к Чёрному замку.
Зофья поковыляла следом. Везде синяки и ссадины. Гед выглядел не лучше, и кони тоже засеклись, на шее и под хвостом с боков — белым-бело. Никогда такой густой пены Зофья не видела.
До холмов-то далеко оказалось, уж и солнце закатное по сиреневым верескам за край горизонта потянулось, а беглецы только-только к замку подкрались.
— Говорили же, что он чёрный, — тяжесть в теле отпустила, снова поболтать захотелось и тревога подзуживать начала.
— Когда-то он сиял белизной на солнце. За это его прозвали Ильзар Сверкающий, — ответил Гед. — А теперь вот чернота да сырость со всех сторон подползают. Видно, траур у него такой по сгинувшим хозяевам.
— Может, не стоит? — засомневалась Зофья. — Ведь хозяевами здесь колдуны были, дела злые творили. Их призраки до сих пор по этим камням скитаются. Люди видят иногда их тени и огоньки, шёпот слышат, заклинания.
Гед засмеялся:
— А я, по-твоему, кто? Единственное чудовище, что здесь жило, давно покинуло эти края и больше не вернётся. Не осталось тут ничего ценного для него.
Они замерли перед воротами с гербом: горлица с мечом в когтях и руны, которыми раньше колдуны писали. Так вот почему мать Геда горлицей величают!
Беглецы вошли в просторный двор. Гед занялся лошадьми: расседлал, вычистил их, расчесал слипшуюся от пота шерсть и навязал пастись на склоне за замком. Дрова здесь были заготовлены, кострище камнями уложено. Гед даже котёл, чтобы воду закипятить, нашёл.
Любое дело у него в руках спорилось. Зофья ничем не могла ему помочь. Вспоминались истории о стародавних временах, когда люди делились на землепашцев, что к дому были намертво прикованы, к полям и садам, и охотников, что странствовали по белу свету, не боялись ни дождь, ни холод под открытым небом встречать, зверей диких и бродящее в ночи лихо стреляли без промаха. Если правда это, так она из землепашцев, а он — охотник, потомок охотников, очень древнего рода.
— А я знаю про твоих родичей! — весело сообщила Зофья, когда Гед вручил ей кусок хлеба с солониной, яблоко и заваренный в чашке ароматный травяной сбор. — Они служили у колдунов, хозяев этого замка. Колдуны были злые, простых людей обижали почём зря. Твоих тоже обидели, те на них войной пошли и сгинули, а ты один неприкаянным остался.
— Почти, — рассмеялся Гед, но чувствовалась в том смехе горечь.
Зофья не понимала его путей, его непохожего ни на что мира, который всегда был рядом, на расстоянии вытянутой руки, но она никогда его не замечала.
Гед подошёл к двум стоявшим посреди двора валунам. На одном из них был выбит тот же герб, что и над воротами и колдовские знаки, на втором — только знаки. Гед положил возле них букеты лесных цветов, похожих на большие колокольчики — голубые с жёлтыми тычинками. Зофья никогда раньше таких не видела.
— Здесь похоронены мой дед и наставник. Пока они были живы, мы прятались в этом замке. Селяне боялись его из-за суеверий, а мы с наставником делали всё, чтобы поддержать страшные слухи. А когда сюда приходили Голубые Капюшоны, мы хоронились в лесу у Ягини. Когда они умерли, она забрала меня к себе. Люди разграбили тут всё, что не успело развалиться от времени: мебель, гардины из парчи, древние гобелены, украшения. Оставили только камни, но и их скоро растащат для своих хибар.
Он вздохнул тоскливо и вернулся к костру:
— Может, оно и к лучшему. Мёртвое — мёртвым. Так легче отпустить. Наш сверкающий мир сказок и легенд не вернуть, на смену ему пришла пошлая косность, но и в этом новом мире можно жить, можно и даже нужно расцвечивать его яркими красками. Теперь я это понимаю. Завтра объедем Дикую Пущу стороной и к полудню будем в Подгайске, а прошлое останется за спиной навсегда.
Зофья сжалась, вспоминая родной городок, на глаза навернулись слёзы.
— Меня там никто не ждёт, разве что костёр на главной улице. Выгнали же, ведьмой обозвали. Даже если не подтвердится обвинение, родители всё равно на порог не пустят и замуж никто не возьмёт. Жизнь кончена!
— Да будет тебе, — устыдил её Гед. — Хочешь, я тебя в жёны возьму?
— Ты? — слёзы тут же прошли, она уставилась на него во все глаза. — Зачем тебе? Я же заморыш, неумеха нерадивая — всё из рук валится.
— Глупости это. На тебе порча была. Ягиня тебя от неё избавила.
— Откуда ты знаешь? — не переставала удивляться Зофья.
— По ауре. Это оболочка такая, у каждого живого существа есть. По ней всё заметно: что чувствуешь, чем болеешь, пожелания нехорошие, колдовства следы.
— А как мне её увидеть?
— Могу научить, но надо ли тебе? Это же первый шаг к тому, чтобы колдуньей стать, всамделишней, а не по злым наветам. И дороги назад уже не будет. Как только ты увидишь Мрак, он увидит тебя.
Зофья испуганно втянула воздух.
— Лучше я работать тебя научу. Это совсем не так сложно, особенно когда злобные чары не мешают, — он задорно подмигнул.
— Мне ещё гадалка нагадала, что детей у меня не будет, — выдала самую горестную тайну Зофья.
— Если меня жизнь чему научила, так это тому, что с судьбой можно и нужно спорить. Только тогда получится вырваться из порочного круга. К тому же где ж я сам, бессребреник и колдун-старовер, жену себе сыщу? Нет, скажу я тебе, две беды, одна на одну, должны удачу принести. Вдвоём веселее жить будет, подсобить всегда друг другу сможем. То, что не сделаешь для себя, для другого, родного и близкого — за милую душу. Так как, согласна?
Она вгляделась в красивое благородное лицо, изукрашенное тенями и бликами от костра. Неужели такой добрый, такой умелый, такой сильный и смелый, словно сам царь, её, дурнушку, замуж зовёт? Да ещё как! Будто соловушка сладким голосом зарю кличет.
Зофья подалась вперёд и поцеловала твёрдые губы.
Гед покраснел до ушей и отпрянул:
— Ты чего это, а?
— Ты ж меня замуж звал. На заручинах жених с невестой всегда целуются, чтобы уговор скрепить.
— А-а-а, я знал, да! — Гед напустил на себя уверенный вид. Мол, не юноша робкий, а мужчина суровый.
Зофья спрятала улыбку за косами. Какой же он хороший, самый лучший! С таким и в шалаше Ирий будет!
Гед вынул из мостовой камень и достал из тайника холщовый мешок:
— Накопления на чёрный день. Знал, что когда-нибудь пригодятся.
Они улеглись возле костра и закутались в плащи. Утром подножье холмов заволокло молочным туманом. Не видно ни земли под копытами, ни даже хвоста передней лошади. Но Гед уверенно вёл мимо леса, конь Зофьи послушно шёл за ним, словно на привязи. Уже и туман расступился, впереди показался частокол городской стены. Здесь они спешились, и Гед отпустил лошадей обратно в лес. Сказал, Ягинины они, среди людей не смогут.
Стража у ворот смотрела на пришлых с подозрением. Но Гед подкинул в воздух медьку, и их тут же пропустили. Зофья указала путь к родительскому дому. По дороге они разглядывали наличники и Гед тайком шептал ей на ухо:
— Вы хоть другую веру приняли, а от старой не отказались. Все эти узоры, знаки, человеческие фигуры со звериными мордами — обереги, послания на особом языке, понятном духам-помощникам и защитникам.
— Но ведь их резал мой отец, а он добрый единоверец, — растерялась Зофья.
Гед хохотнул в кулак.
Со всех дворов таращились люди, что гнали Зофью из города камнями и палками. Тёмными были их лица, угрюмыми и зловещими. Вспомнились слова Ягини, и не казалась так уж неправа старая богиня.
Они взошли на высокий порог родительской избы. Гед постучался. Долгонько не открывали, хотя и половицы скрипели настороженно, и топот слышался суетливый. Всё от мрачных лиц людей в окнах до притихших собак и птиц говорило: что-то не так! Опасность! Бегите, бегите обратно в лес, которого Зофья раньше страшилась, а он оказался гостеприимней и лучше людей.
Дверь отворилась, на пороге появился отец и пригласил их внутрь.
— Кого это ты к нам привела? — спросил он в сенях. — Дружка колдуна? Это он тебя соблазнил нечистой силе душу продать?
На свет подалась мать и тоже взглянула настороженно, прислушалась внимательно.
— Гедымин Мрий я. Пришёл просить руки вашей дочери.
— Сам пришёл? А где ж твои сваты? Родители хотя б? — смерил его отец недовольным взглядом.
— Нет у меня никого. Я сам себе отец и сват.
— А ремесло какое? Дом хоть свой есть? Куда ты жену-то приведёшь? А когда детишки появятся? Под открытым небом, что ли, растить будешь? Не пойдёт так! Пусть никчёмна наша дочь, а позор на душу не возьмём. Когда домом и хозяйством обзаведёшься, тогда и приходи свататься. Без этого нашего согласия вам как своих ушей не видать. А теперь вон пошли! — замахал руками отец.
Перепугалась Зофья. Только друга сердечного нашла, а его гонят. Ведь не нужна она никому из них, нежеланна, так почему бы не отпустить?
— Будет вам и дом, и ремесло, — ответил Гед и вышел на улицу.
Зофья следом побежала, а как увидела, что там творилось, так и обомлела вся.
Вокруг их дома целый отряд в голубых плащах собрался. Защитники Паствы, или, как их в народе величали, — Голубые Капюшоны. Колдунов они искали и судили. За кем вину видели, так путь один у него был — на костёр. Подступили они к Геду, хмуро его разглядывая, на Зофью обернулись, а потом родителей у неё за спиной увидали.
— Вот они — колдуны. Целых два вместо одного, — указал на неё и Геда отец. — Это из-за них наследник Заградского захворал! Избавьте нас от этой мрази!
— Да как вы можете! — впервые отважилась возразить Зофья. — Его же тут и вовсе не было! — Она повернулась к Голубым Капюшонам: — Меня! Меня берите, я одна во всём виновата. А его оставьте!
— Девицы нынче очень впечатлительные пошли, сами не понимают, что говорят, — ответил Гед. — Никто из нас ни в чём, что запрещает ваш орден, не замешан. Проверяйте, будьте ласковы!
Предводитель отряда, усатый дядька с глубокими морщинами в углах глаз внимательно посмотрел на Геда.
— Обвинения серьёзные, проследуйте за нами в храм для дознания.
Гед кивнул, взял Зофью за руку и пошёл к возвышающемуся над городком строению из белого камня, не обернулся даже ни на жгущих его взглядами родителей невесты, ни на горожан, что следили с опаской и шептали воззвания, чтобы колдуны треклятые сквозь землю провалились сей же миг.
— Не трясись так, — зашептал Гед, когда они уже входили в распахнутые двери. — Лучше эта проверка, чем суеверные горожане. Голова поболит немного, и пройдёт всё.
Голубые Капюшоны провели их к алтарю. К ним выглянул проповедник и, скрестив руки на груди, поприветствовал гостей кивком. Гед встал перед резными фигурами Крылатых посланников на колени и заглянул в лицо предводителю отряда. Подручные ощупали его с головы до ног и забрали все вещи, оставив только в рубахе и штанах.
— Кто ты и чем занимаешься? Где твой дом и твои родичи? — предводитель положил ему на лоб ладонь и присыпал вопросами.
— Из этих мест я, белоземец коренной. Охочусь в Дикой Пуще.
— А дозволение губернатора на охоту у тебя есть? — усмехнулся предводитель.
— Мои предки тут испокон веков охотились, и никакого дозволения на то не требовалось.
— Так это при старой власти было. Она уже десять лет как сменилась. Сколько ты в этих лесах прозябал? И родители твои где?
— На войне погибли, — отвечал он бойко.
— А как хоть звали их? Лицо у тебя знакомое, может, видел где отца твоего.
— Вам кажется, — Гед слегка повысил голос. — Их имена вам ничего не скажут.
— И правда, — сдался предводитель. — Чист мальчишка, не из тех и не из наших. Простолюдины опять друг с другом доносами счёты сводят и суевериями головы дурят, чтоб их. Мразь-то вся колдовская в Норикию зажиточную сбежалась. Небось, новое восстание готовят, пока мы здесь время зря теряем, — он махнул рукой остальным. — Девчонку живей смотрите и дальше поедем одарённых искать. Не выполним план — начальство три шкуры спустит!
Гед поднялся и отряхнулся, пропуская Зофью на своё место. Её Голубой Капюшон лишь слегка коснулся и тут же заключил:
— Едем. С охотником пускай губернатор разбирается. Не наше дело, чью он дичь стреляет.
Они ушли, чеканя шаг и оружием бряцая.
Зофья поднялась, вздрагивая от каждого шороха.
— Можно я свечку в благодарность поставлю? — спросила она у Геда, хотя была не уверена, примет ли её Единый-милостивый даже несмотря на то, что Голубые Капюшоны её имя очистили.
— Если хочешь, — Гед пожал плечами и подождал, пока она с проповедником разговаривала.
Тот вежливый, жалостливый стал. На улице никто уже злобно не смотрел, наоборот, отворачивались. То ли стыдно горожанам сделалось, то ли какой мести опасались. А ни ей, ни даже Геду до них дела не было.
— Давай в поле заночуем, тут нам явно не рады. А завтра к губернатору пойдём, покажешь дорогу? — вёл он её под руку к воротам.
Лес впереди словно шептал макушками сосен: «Предупреждала я, что люди обидят! Возвращайтесь, а то хуже будет, много хуже!»
— Как тебе удалось их провести? — спросила Зофья, когда город остался позади.
— Никак, — усмехнулся Гед. — У меня нет того, что они ищут. И у тебя отродясь не было.
— Но как же… Ты ведь колдун.
— Только им не колдуны нужны. Ты до сих пор не поняла? — он залился смехом пуще прежнего. — Себе подобных они ищут, чтобы их власть никто оспорить не смог, а все ваши суеверия и даже вера неистовая — лишь удобный предлог.
Она запуталась, ещё хуже, чем леший в Пуще путал. Оказывается, всё не так, весь мир в другие тона выкрашен, у всех в глаза будто цветные стёкла храмовых витражей вставлены, и видится всё не таким, как на самом деле. Надо ли его видеть таким? В истинно-страшном свете.
Прошли они по новому большому тракту, что вёл из Подгайска в соседний городок Дрисвяты, огибая Дикую Пущу. На середине этой дороги усадьба губернатора стояла. Как стемнело, остановились в поле на ночлег и с рассветом дальше побрели. К вечеру как раз у резных ворот с красными петушками оказались. Охранники с подозрением косились, пропускать не желали: «Куда? Зачем?»
— Свояченица губернатора в гости пришла, захворавшего племянника проведать хочет, — отвечал Гед. — А я охотник. Иду повиниться и дозволения зверя и птицу в лесах стрелять попросить.
Зофья вздрогнула, вспомнив Милку. Гед уверял, что со всем справится, а если не справится, то удача двух бед подсобит, но всё же… Заградский-то не Голубые Капюшоны, и наветам жены-злыдни скорее поверит.
Долго испрашивали слуги у хозяев, пускать в дом голодранцев или нет, но всё же открыли ворота. Раньше трехэтажная усадьба с широкими лестницами, террасами, балконами и верандой в окружении резных перил казалась сказочным замком, где всегда мир и достаток, а теперь поблёкла. Обычное дерево, из которых избы строили, только размерами побольше. Неуютно внутри, чувствуется злая сила, шепчутся тени по углам, душит спёртый воздух, першит пылью и копотью.
Слуга проводил гостей на второй этаж к кабинету губернатора. Из-за притворенной двери слышались голоса.
— Извиняйте, но ни за какие деньги не согласен я по этим лесам ходить. Хоть режьте меня живого, уж лучше костёр, чем нечисть! — говорил один.
— Чего ты причитаешь, как девка малахольная? Временно же, пока из Стольного человека не соберут, а то тут уже повадились доброхоты зверей стрелять и деревья рубить. Того глядишь, всё хозяйство по кусочкам разнесут! — отвечал Заградский.
— Ни временно, ни даже на один день! Если кто и ходит туда, так сгинет сам, никого эти леса не выпустят.
— Что ж, ты на принцип, так и я на принцип. Сегодня же пришлю пристава, чтобы имущество твоё за долги описал. Всё! Шасть отсель, видеть тебя, труса эдакого, не желаю!
Из кабинета вылетел раскрасневшийся дядька Шамсень, подгайский егерь. Хороший мужик, говаривали, только больно медовуху любил и все деньги в кабаках спускал. Прошёл мимо грозовой тучей и даже не глянул. Слуга поманил в кабинет новых посетителей. Гед смело ступил за порог, а Зофья в тёмный угол шмыгнула.
Пылились в шкафах толстые книги в кожаных обложках, на стенах висело оружие, цепи и гербы, в углу статуэтка по пояс — копия деревянных Крылатых посланников из храмов. Губернатор сидел за столом и пересчитывал сложенные горочкой монеты, чуть в стороне высилась стопка ценных бумаг. Хотя Заградский ещё был молод и подтянут, фигура всё равно выглядела грузной и создавала впечатление, что с годами его сильно разнесёт. На тёмной макушке уже светилась лысина. Он поднял на гостей блёклые глаза:
— Вот кто у нас зверей-то стреляет без дозволения. Сам повиниться пришёл? Ух, какой я на тебя штраф наложу!
Заградский погрозил ему пальцем.
— Дело у меня к вам. Жениться хочу на свояченице вашей, — Гед кивнул в сторону оробевшей Зофьи. — Породнимся скоро. Вот я и решил почтение засвидетельствовать, а заодно сопроводить мою невесту к сестре и хворому племяннику. Времена-то сейчас неспокойные, сами знаете.
Заградский задумчиво почесал переносицу:
— Так шли бы сразу к Милке, от меня-то что надо? Или штраф свой убавить хочешь?
— Нет, но об одолжении всё же попрошу, — не смутился Гед. — Слышал, вам лесник нужен.
— Да, суеверен у вас народ, труслив и к работе не приучен. Боится всякой глупости, — посетовал губернатор, хитро прищурившись. — А с меня начальство в Стольном потом три шкуры спустит, что порядка нет. Ещё и Голубым Капюшонам постоянно на соседей доносят бездоказательно, что за люди? Эх!
— Возьмите меня. Я не суеверен, как остальные, и здешние земли как свои пять пальцев знаю, все тропки, звери у меня наперечёт, ценные деревья тоже. Клянусь, не пропадёт за мной ваше хозяйство.
— Ишь чего захотел! На службу государственную голодранцев безграмотных брать не след. К тому же временно это, пока человек из Стольного не приедет.
— Боюсь, даже если он приедет, то побежит отсюда так, что только пятки сверкать будут. Суеверия, знаете ли, очень заразны, а стойкость к ним — качество нынче редкое. Мои предки в этих лесах испокон веков хозяйничали, все напасти наперёд знали. Возьмите меня, иначе точно придётся перед начальством ответ держать.
— Ай, стервец наглый! Где тебя только так со старшими разговаривать-то научили? — разозлился Заградский, аж по столу кулаком стукнул.
Страшно Зофье стало. До этого они из всего сухими выходили. А что, если сейчас удача двух бед им изменит и губернатор обоих в застенок посадит или велит вздёрнуть на осиновом суку?
— Ладно, — смягчился губернатор. — Вот тебе бумага о приёме на службу. Если сможешь своё имя внизу написать, так уж и быть, приму тебя на службу. С безграмотными даже позориться не стану.
Зофья приложила ладонь к губам. У них-то грамота только храмовым служкам была знакома, это в Стольном всех детей в школы при храмах ходить обязали. Но Гед взял бумагу и забегал глазами по строчкам, будто и вправду — читал. Перо в чернильницу окунул и филигранно вывел закорючки.
Заградский забрал бумагу и удивлённо вскинул брови.
— Теперь я ваш человек? — Гед протянул ему руку. — Там ещё сказано, что мне дом с земляным наделом положен. Так мне он позарез нужен, чтобы было куда жену молодую привести.
Он снова указал на Зофью.
— Шибко грамотный, да, на мою голову? — хмыкнул Заградский. — Тогда все отчёты в Стольный сам писать будешь. Только штраф вначале заплати. Денежные дела отдельно, родство отдельно — первое правило нашей службы.
Гед вынул мешок с монетами и принялся их пересчитывать. Всё до последней медьки жадный Заградский забрал.
— Это что ты столько на шкурах выручил? — присвистнул он.
— Почему только на шкурах? Ещё и мясо, жир, кости, даже когти и зубы ремесленники берут. Ничего зря не пропадает, если с умом подходить, — ответил Гед.
— Смотри у меня, если проворуешься, — пригрозил губернатор.
— Не проворуюсь. На свадьбу лучше приходите — приглашаю!
— Ты хоть в именные книги при храме записан, а, женишок?
Гед смутился, глаза опустил.
— Как ты жениться-то собирался? Все браки, рождения и смерти только в храме записывают, — Заградский многозначительно потёр тремя пальцами.
Гед достал из-за пазухи последнюю серебряную монету и подкинул её в воздух. Губернатор ловко поймал и посмотрел куда ласковей:
— Так уж и быть, замолвлю словечко перед проповедником в Дрисвятах. Чай, не чужие, — пухлое лицо расплылось в елейной улыбке.
Тихонько заскрипела дверь, и на пороге показалась Милка:
— Где тут моя сестрица с женихом? Я соскучилась!
Она заулыбалась, как обычно, когда делала гадость. Горели тёмные глаза, сверкали волосы в косе, сама как кровь с молоком здоровьем пыхала.
— Дайте же вас поцелую, гости дорогие!
Милка обняла Зофью, а потом и Геда, щурясь хитро.
— Да-да, они уже уходят, — Заградский поднялся и обхватил жену за талию.
— Куда ж они сейчас пойдут — вечер на дворе. Пускай у нас во флигеле переночуют. Там всё равно никто пока не живёт, — она задорно подмигнула Геду.
Тот напряжённо молчал.
— Как скажешь, милая, — губернатор поцеловал жену в щёку, растеряв суровый вид.
— Идёмте. Сына вам покажу, — поманила их за собой Милка, змейкой выскальзывая из рук благоверного.
Гед и Зофья проследовали за ней в детскую, где в деревянной кроватке в расшитых голубыми узорами одеялах лежал младенец. Милка взяла его на руки и принялась баюкать.
— Вальдемарушка на следующий день выздоровел. Наверное, на наречении переутомился. Не знаю, с чего все эту глупость про порчу придумали. Я как услышала, что тебя в лес выгнали, так сразу же в Подгайск велела ехать, остановить безобразия, но не успела. Как хорошо, что всё обошлось, — щебетала она.
Такая радушная хозяйка! Зофья и сама засомневалась, что Милка — ведьма.
— Красивый у тебя жених, молоденький совсем, — она всучила ребёнка Геду. Тот взял его неуверенно, видно, с детьми раньше никогда не возился. — Ты же мою сестрицу не обидишь? Она и так настрадалась. Всё говорила: не возьмёт меня замуж никто. А я ей: дождись своей судьбы, вот увидишь, она тебе за все испытания отплатит.
— Спасибо, — просипела Зофья и потупила взгляд.
Что сказать, как и раньше, не знала. Когда кричат, бьют, обвиняют невесть в чём — так понятнее, плохие, зла хотят, защищаться надо. А с Милкой вроде и стелет мягко, но будто на камнях спишь.
— Не оставишь нас ненадолго? — попросила сестра.
— Так лучше будет, — согласился Гед, укладывая ребёнка в кроватку.
Зофья сглотнула резавший горло ком и вышла. Недолго счастье длилось, ох, недолго. Теперь Милка наверняка Геда против неё настроит, у неё это всегда здорово выходило.
* * *
— Что хотела сказать мне, а, Милка-ведьма? Предупреждала меня сестрица твоя, а я не верил, думал, снова у страха глаза велики.
Милка обходила его кругом, как дикий зверь, сверкая налитыми чернотой глазищами.
— Я ведь тоже про тебя слыхала. Зачем тебе сдалась сестрица моя малахольная? Не красива, не искусна, даже детей от неё не будет, уж я постаралась.
— Может, затем и сдалась, что жалко стало и помочь захотелось. Хорошая она, добрая, не чета тебе. А как под моей защитой жить начнёт, так расцветёт, глядишь, красотой редкой и потаённой, — отвечал Гед без страха. — А вот тебе житья не будет. Ради чего ты душу продала? Ради красоты? Мужа богатого? Любви народной? Так всё, что нажито злобой колдовской, против тебя обернётся.
— Я, может, и нехороша, только тот, кто себя при живом отце сиротой называет и родную кровь проклинает, хуже во сто крат. Взгляни на себя — голодранец, у недалёких чинуш вроде моего муженька побираешься, дознания и глупые наветы терпишь, в жёны замухрышку убогую берёшь, а ведь мог бы как сыр в масле кататься, богаче царей жить, в шелках и золоте ходить. И никто бы косо посмотреть в твою сторону не смел — все бы ноги тебе целовали, сын Белого палача.
Гед молчал. Растравила тварь душу, напомнила о том, о чём вспоминать не хотелось. Всплыло перед глазами ненавистное лицо и слова отца последние, в сердцах сказанные: «Сколько можно реветь и за мамкину юбку цепляться, как девчонка сопливая?! Научись уже быть мужчиной, иначе никто тебя не полюбит и уважать не станет!»
Матушкин прощальный взгляд и последняя просьба: «Не забывай меня, Гедушка, никогда не забывай!»
Он не забудет и не простит, пускай даже себя проклянёт заодно и в нищенстве прозябать будет. Это лучше, чем как Белый палач, предавать и жечь тех, с кем раньше плечом к плечу сражался.
— Забудь, для твоего же блага, — ответил он. — Не смотри во Мрак, иначе он посмотрит на тебя.
Гед вышел к поджидавшей в коридоре Зофье. Она заглядывала в глаза и кусала нервно губы, а он корил себя, что слишком многое ей открыл. Не стоило ни с кем делиться своими тайнами и болью, никто такой ноши заслуживал, особенно эта исстрадавшаяся душа.
Их отвели во флигель, ещё более мрачный и зловещий, к тому же заброшенный. Повсюду здесь наросла паутина, старая, сбившаяся толстыми липкими комьями в углах. Скрипом стенали прогнившие половицы. Ползла по стенам сырая плесень. Пыль вилась столбом в свете свечного пламени. Гед распахнул все окна, но выветрить затхлый запах мертвечины не смог.
Зашептал грозной тенью лес за окном:
«Беги, беда уж на пороге. Обидит людская злоба, и несвобода золочёной клетки будет куда горше моего Ирия».
— Было бы лучше в поле, — робко предложила Зофья.
— Тогда мы всё потеряем: службу, дом, друг друга. Нельзя больше прятаться и бояться. Я сражусь с лихом, а там будь что будет, — отвечал он тихо и обречённо.
Рядом с флигелем отыскалась крепкая палка. Гед чертил мелом на полу колдовские знаки, шептал тайные заговоры, раскладывал повсюду сушёные травы.
— Мы сразимся, — улыбнулась Зофья одними губами.
— Ложись-ка лучше спать, — он подтолкнул её к постели и поцеловал в лоб. — Как проснёшься, Мрак убоится дневного света. Всё пройдёт, и ты ничего не вспомнишь.
— Но я хочу… помнить!
— Не капризничай, — он задул свечи и закрыл её постель занавеской, будто непробиваемым пологом отгородил от ужасов тёмной ночи.
В полночь, беззвёздную и безлунную, заухали за окном совы. Послышались на улице шаги и шелест одежды. Гед знал, это Вестник Мрака поднимался на ветхий порог, скрипя досками. Распахнулась дверь, хоть и была заперта на засов. Пополз по полу стылый туман, шипели кишащие в нём змеи.
Гед сидел в центре очерченного мелом круга. Мелькали на зажмуренных веках силуэты демонов, не знакомых лесных тварей, что с пелёнок были ему друзьями, а полные злобы, желания сломить и разорвать.
Гед зажал в руках палку. Как от такой оравы отбиться?
Снова вспомнился отец, хотя за прежние годы ничто не вызывало признак прошлого. Когда-то он был славным воином, стольких демонов убил, стольких людей спас, что перечесть сил не хватит. А сын единственный малахольным родился. Оттого и оставили его за собой, когда после поражения колдунов отступать в Норикию нужно было.
Когда стало известно, что отец на сторону врага перешёл и новую веру принял, что его теперь Белым палачом зовут, самым могущественным человеком на свете, так и о наследнике его вспомнили. Только не было у малахольного силы, не чувствовали её подручные отца в голубых плащах. Ягиня от Вестников хранила, которые людьми оставались только внешне, а души давно Мрак пожрал, как душу отца.
Теперь Гед от защиты отказался, чтобы к людям вернуться, с ними жить и перестать бояться. Ведь ради кого-то тёплого и нежного, как Зофья, быть сильным и смелым настолько проще, чем только для себя.
Сгущались тени, демоны приближались, чувствовалось на лице зловонное дыхание и грозный рык. Шагала к нему смерть. Гед распахнул веки и вскинул голову, чтобы взглянуть ей в глаза. Уплотнялся туман, мерцали тени, росла, словно ткалась из марева, человечья фигура.
— Я знаю, ты здесь, — шипел Вестник.
Тёмные руки тянулись к Геду, но словно натыкались на невидимую преграду.
— Прими Мрак! Клянусь, ты не будешь знать ни горя, ни нужды. Никто не посмеет тебя обидеть! С чужими — хуже будет. Что с простолюдинами близорукими, которые не видят наш мир и не знают наших путей, что с мятежными колдунами в Норикии. Думаешь, они помогут тебе отомстить? Так тебе, как самому слабому, они и будут мстить первому, устаревшие и тщетные, доживающие свои дни в изгнании. Будущее — за нами. Выберешь нас — выберешь жизнь. Просто протяни руку.
Тёмная ладонь — над самой головой. Как Гед мог выбрать их, если жёг кожу серебряный медальон с выгравированной на нём горлицей? Как он мог забыть и предать матушку, что любила его так беззаветно? Ту, которую они убили, он убил — отец, потому что она отказалась предать? Гед будет помнить, даже если все забудут.
Он отмахнулся палкой, вскочил и пронзил ею тень, как мечом. Со свистом нанёс вертикальный удар, наискосок, горизонтально, ещё и ещё. Потянулись к нему демоны, оплели ноги змеи, схватили за руки невидимые твари, изломали палку. Сгущались тени, шептали в уши зловеще, соблазняли потаёнными желаниями. Боль стискивала голову, и казалось, не вздохнёт он больше, но вот вырвалось последнее, то, что Гед хотел сказать:
— Вечерний всадник придёт не мстить, а взимать долги и всем воздаст по справедливости. Я дождусь его и сделаю всё, чтобы победил он, а не вы. Брат мой, Ветер, помоги! Матушкино благословение, защити!
Дотянулись твари до серебряного медальона, что жёг кожу на груди. Вспыхнул он яростно белым светом, пронзил, порвал в клочья чернильные тучи. Визжала нечисть, бежала прочь из флигеля, только Вестник стоял непоколебимым утёсом, даже когда свет иссяк и на Геда навалилась тяжёлая отдача.
— Сколько ни бейся, а победа за нами будет, — усмехнулся он.
Костлявые пальцы почти касались лица, мертвецкий холод щупал щёку, тисками стягивалось сердце. Ноги подкосились, затылок врезался в пол — истёрся защитный круг из мела. Вестник наклонился, упал с головы капюшон, открыв чёрную пасть Мрака. Она — всё ближе, затягивала в бездонную лиховерть.
Прости, матушка!
Мягко шагали босые ступни. Затрепетал хрупкий лепесток свечного пламени. Зашелестела белая сорочка.
— Гедушка! — позвал нежный голос, так похожий на давно угасший — мамин.
Не ходи сюда, глупая, не смотри во Мрак!
Задрожала Зофья, но не остановилась. Обхватил её Вестник и разинул пасть.
— Уходи-убирайся, лихо чёрное злобное. Не отдам его. Меня забери, и жизнь, и душу, а его оставь! Он — свет, он — жизнь, люблю его больше себя и ничего для него не пожалею! Я верю и зажигаю в сердце свечу!
Вспыхнул огонёк, разгорелось свечное пламя и объяло Зофью целиком. С неё на Вестника перешло и синевой налилось. Отпрянул враг, с визгом на улицу кинулся и покатился по земле, сбивая огонь.
Запели соловьи, забрезжил первый рассветный луч. Истлел под ним Вестник, прахом развеялся Мрак.
Зофья упала, обессилев, на колени. В глазах ужас, безумие оттого, что увидела то, что видеть было не должно обычным, счастливым и светлым в своём неведении людям. Гед обнял её и прижал к себе.
Послышался шелест леса.
— Теперь-то ты понимаешь, как плохо вам с людьми будет? — спрашивала Ягиня.
Надо же, впервые за тысячу лет из Ирия выбралась.
— Нет, мы победили. Пускай даже всего одного Вестника, пускай его место займёт новый. Но мы сможем и снова.
— Но какова цена? — Ягиня ласково коснулась щеки Зофьи.
Её губы дрожали в бреду, глаза смотрели, но не видели. Она от страха лишилась разума.
— Сотри ей память! Сотри им всем, чтобы никто не помнил о Мраке. Я один буду хранить эту тайну, — попросил Гед.
— Ты обрекаешь себя на вечное одиночество среди людей, — испугалась Ягиня.
— Пускай это будет моей платой.
— Будь по-твоему, сын мой, как бы горька мне ни была твоя доля.
Богиня коснулась лба Зофьи. Её лицо расслабилось, тело обмякло, глаза закрылись. Она уснула. Вспыхнул зелёный полог лесного колдовства, изумрудной лозой оплели усадьбу узоры. Исчезло всё с петушиным криком, палой листвой на пороге обернулась Ягиня, унёс её ветер, как не было.
Гед подхватил Зофью на руки и уложил на постель, а сам устроился рядом.
— Мне приснился жуткий сон, — сказала она, когда проснулась.
Гед поцеловал её в висок, улыбаясь ласково:
— Не бойся, кошмары ночи больше никогда тебя не потревожат.
Зофья помнила лишь, что Гед спас её от волков в лесу и замуж позвал. Не вспомнила ничего и Милка, когда вышла вместе с мужем проводить их. Смотрела так, словно видела в первый раз и всё удивлялась, как сестре удалось такому статному юноше приглянуться. Не вспомнили и родители Зофьи, когда через неделю на свадьбу приехали и богатое приданое привезли.
Хорошо зажили Зофья с Гедом, отремонтировали ветхий домик, что достался им от прошлого лесника, огород разбили, курочками и козами обзавелись. Всё легко спорилось в руках у Зофьи, хозяюшка-мастерица людям на зависть стала. А какие пироги пышные пекла! Слава о них по всем Дрисвятам разошлась.
Гед же за лесом присматривал исправно, заблудившихся спасал и про Ягиню не забывал. А ровно через год назло предсказаниям родилась у них дочка. И жили они дружно и счастливо, пока не явился на их порог обещанный Вечерний всадник.
Но это уже совсем другая история.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




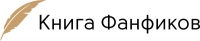





Комментарии к книге «Лесной царь», Светлана Гольшанская
Всего 0 комментариев