Асеева Елена ИНОЕ…
Окно, не дай увидеть хищных лиц, прикройся занавеской, я прошу. Оставь мне только верх, где стаи птиц и небо, чтоб спросить, зачем дышу… («Окно», Владимир Сквер)Глава первая
Уже давно солнце ушло на покой, вечер плавно перешел в ночь, и наступившая тьма съела все краски в комнате.
Наверно уже за полночь, а я продолжаю сидеть на широком кожаном кресле в своей двухкомнатной квартире….
Я продолжаю сидеть и тревожно обдумывать случившееся, вновь и вновь прокручивая в голове то, что со мной произошло, не в силах пережить это или хотя бы на миг забыться…
Забыться, а значит отложить мысли на потом о твоем предательстве, о твоем уходе…
Мне все время хочется продолжить прерванный закрывшейся дверью разговор, и спросить, спросить тебя… тебя, такого дорогого мне человека: «Почему ты ушел? Почему покинул меня, решив прекратить со мной всякие отношения… прекратить нашу жизнь? И чем, чем она лучше меня? И как, как мне теперь жить, что делать?»
Делать… жить…
Как мне жить без тебя, как дышать, чувствовать…
Я не могу и не хочу быть без тебя…
Не хочу чувствовать… жить…. Не хочу дышать… Я не могу дышать… Я задыхаюсь…
Распухшее, разбухшее от боли и от моих слез сердце туго помещается у меня в груди и плюхая… плюхая, кровавыми слезами, тяжело протяжно стучит, стонет.
Стучит, стонет, захлебывается от переполнивших его страданий и мук…
Я не могу и не хочу быть без тебя…
Ты… ты… ты… вся моя жизнь. Моя радость, моя горесть, мое счастье, мой трепет… моя любовь.
Любовь — единственная в этой жизни… Мне даже не нужны были дети, мне даже не хотелось их иметь потому, как без остатка я дарила любовь тебе, я посвящала всю себя тебе, мне хотелось быть лишь с тобой, чтобы никто и ничто не мешало нашему счастью… Счастью любить тебя, прикасаться к твоим светло-русым волосам, нежно теребя их шелковистую легкость, целовать твои прикрытые тонкими полупрозрачными веками глаза, ощущать твои упругие, крепкие, точно налитые стальной мощью мышцы, вдыхать твой любимый и столь знакомый запах, дорогого сердцу мужчины- первого и единственного!
Но ты ушел…
Ушел…
Ушел…
Ты просто сказал: «Прощай! Между нами все кончено!» И ушел. Ты нашел другую, наверно моложе, красивее, умнее, лучше.
Без сомнения лучше… Разве может быть по-другому, ведь ты всегда искал для себя лучшей доли, любил самую красивую девушку, имел самую дорогую машину, ты всегда желал нового… нового… иного и непременно лучшего.
А я… я осталась одна…
Одна в этой пустой двухкомнатной квартире, богато обставленной, теплой, уютной и такой тихой…
Тихой точно мертвой… Мертвой…
Ты ушел и унес отсюда не просто свои вещи в черном чемодане, торопливо волоча его по ламинату. Ты унес всякий звук из нее. Ты унес дыхание, смех, радость, жизнь…
Ты унес мою жизнь… Жизнь… Жизнь…
Жизнь… ха. ха. ха… на, что теперь она мне нужна, эта жизнь… Пустая, никчемная, никому ни нужная… В ней ничего не осталось… раз ушел ты… и я словно осиротела, опустела… Опустела моя душа, жизнь, квартира…
Ненавижу… ненавижу я эту жизнь и ту, что отняла тебя у меня… Отняла мою радость и счастье…
Теперь ничего не осталось, лишь это увеличившееся, обремененное болью сердце… нестерпимой… нестерпимой болью…
Не хочу жить… не хочу…
Я громко всхлипнула… и судорожно вздрогнули мои губы, крылья носа и болезненно на миг закрылись глаза…
Закрылись и перед ними полетели красные круги, мелкие, крупные… полетели и будто ударили в мой мозг, окатив его кровавым огнем, опалив его и сделав боль и вовсе непереносимой… а жизнь без исходно испорченной, разрушенной безвозвратно.
«Не могу… не могу я терпеть эту боль, — шепнули мои раскисшие, отекшие губы, и хрюкнул мой опухший нос. — Я задыхаюсь… задыхаюсь… А душа моя сейчас разорвется на мельчайшие крупинки и разлетится по этой комнате покрыв ее черноту ярчайшими красными каплями крови-страданий».
Ты ушел…
Ушел…
И я тоже хочу уйти… Уйти, исчезнуть, умереть, перестав существовать как человек, как личность.
На доли секунды мою наполненную мебелью комнату наполнил тихий вой такой, точно скулил брошенный в канаву полной воды щенок, уже отчаявшийся выплыть, потерявший надежду на выживание… Это выла, скулила я…
Я уже не могла плакать, так опухли мои глаза, уже не желала вытирать все еще выпрыгивающие из-под складок нижнего века каплевидные слезы, я теперь просто скулила… Скулила и молила того, кто создал, сотворил, вдохнул в меня жизнь, как можно скорее избавить меня от страданий, от этих выскакивающих соленых слез, от этого тихого воя.
Но- Он, тот кто даровал мне жизнь, кто несколько лет назад свел, столкнул меня и Андрея, кто позволил мне наслаждаться счастьем, свободой и любовью, меня не слышал. Он не желал прийти мне на выручку и избавить меня от страданий. Он не желал меня убить, растоптать, сломать мое тело, душу одним взмахом своей великой, могущественной руки.
Я впилась пальцами в кожаную ручку кресла и услышала, как громко хрустнув, треснули, лопнули и разлетелись в разные стороны, утонув во мгле комнаты, мои длинные, ухоженные ногти. И тогда я вдруг закричала…громко, громко, переходя на хрип. Я закричала, и, сжав кулаки стала дубасить по полотну темно-коричневой, гладкой поверхности ручки кресла, стараясь излить на нее все свои мучения, боль… стараясь избавиться от непереносимых, разрывающих мою душу, и удушающих мое горло спазмов.
Еще и еще раз я крикнула… а потом позвала тебя… назвав по имени… выкрикнув его еще громче. В надежде, что ты ответишь… и что это просто страшный сон не более того…
Андрей!.. Андрей!.. Андрей!..
Я прокричала твое имя и замолчала, замерла, перестав наносить удары по креслу. Я широко раскрыла рот, и, уставилась в эту кромешную тьму, в надежде, что услышу твой голос, твое дыхание, скрип кровати, шелест двигающегося тела…. но в комнате было тихо, и кроме изредка вырывающихся из меня истеричных, захлебывающихся возгласов ничего не было слышно.
Ни слышно, ни видно.
И тотчас еще понятнее мне стало, что ты ушел, чтобы не возвращаться. Ты ушел навсегда, а я осталась одна и это значит должна жить без тебя…
Вставая рано утром, я должна видеть пустую кровать. Я должна завтракать в пустой кухне и уходить на работу, а возвращаясь вечером домой, должна в одиночестве ужинать, и укладываться спать в ту же пустую, одинокую, холодную кровать…
«Нет, нет, нет! — стала шептать я и в наступившей пустоте, мой голос походил на предсмертную агонию. — Не хочу, не хочу возвращаться в эту пустоту, не хочу нести на своих плечах одиночество, не хочу жить без тебя!»
Я спустила босые ноги с кресла и поставила их на ковролин, который был жестким и ко всему прочему холодным, будто покрытым тонким слоем осыпавшегося с потолка инея…
Холодно… холодно было в комнате, это мельчайший, крупинчатый иней упал не только на ковролин, но он наверно покрыл и всю меня так, что в тот же миг у меня задрожали руки, ноги, а тело покрылось гусиной кожей. Мгновение спустя мне показалось, что по спине и вовсе провели обледенелой рукой, грубо так, жестоко… стараясь усугубить мое состояние и прибавить еще больших страданий измученной моей душе и телу.
Трясло… меня всю трясло, а вскоре застучали зубы, стараясь своим ритмом выбить чечетку.
И тогда мне вдруг захотелось согреться, может укрыться теплым, пуховым платком, косматым как козья шуба, что лежал в шкафу спальни… может выпить бокал вина, а может принять горячую ванну наполнив ее не только водой, но и собственной кровью.
Я поднялась с кресла, и осторожно ступая ногами по ковролину, разведя широко руки так, чтобы в этой черноте не наткнуться головой или телом на, что- либо твердое и оставляющее боль и следы, направилась к выходу из комнаты.
Но меня, как оказалось не только трясло, меня покачивало из стороны в сторону, а потому еще даже не достигнув межкомнатной двери я несколько раз стукнулась левым плечом о стенку, что выпячивая свой деревянный, изящно облицованный стан стояла в комнате и хранила в себе остатки моей прежней, счастливой жизни. А потом, уже почти на выходе, я внезапно стукнулась головой о приоткрытую дверь, лбом, въехав им в ее торец, прямо в выставленный угол, нарочно оставленный в таком виде, чтобы причинить мне еще…. еще боли… душевной и физической.
Душевной от каковой болит, разрываясь грудь и огромное, расколоченное сердце, физической от каковой разом загудела голова, и из глаз, еще толком не просохших мигом брызнули и разлетелись слезы, покрывая своей сыростью и дверь, и влажную футболку, и похожее на подушку лицо.
Я не только заплакала, а вновь заскулила, засковчала… мне стало так себя жалко… так…
Не переносимо, не выносимо жалко такую… такую… никому не нужную, словно подержанную вещь, в которой у хозяина пропала нужда и теперь он оставил ее на свалке, положил в мусорный бак, перестав интересоваться ее судьбой, ее жизнью.
Не нужная старая рухлядь, вот кто я теперь была…. потрепанная, помятая, испорченная.
Я подняла руку, утерла слезы и выскочившие из носа сопли, а после протянув ее, ощупала лоб на поверхности которого появилась выпирающая вперед угловатая шишка с небольшим рассечением. Я погладила шишку, и еще раз подскулила вторя своим страданиям.
Злобно толкнув в сторону свою обидчицу дверь, я вышла в узкий коридор, и дотянувшись до выключателя щелкнула им. Но в трехрожковой люстре, что всегда ярко освещала прихожку, вспыхнула лишь одна лампочка, а две другие не желали давать света. Они перегорели, а быть может просто издевались надо мной, а может… может, они также, как и ты… ты- Андрей, предали меня, бросили и ушли.
Да…да…да… Почему бы и им не поступить так как поступил ты… Почему бы не предать, бросить… меня не нужную старую рухлядь.
Мне просто не надо жить, раз кругом все предатели, раз я не кому не нужна… мне тоже не нужно существовать на этой земле, в этой стране, городе, квартире…
Все… все- предатели…
А потому мне не хочется дышать, слышать, мне не хочется жить… Впрочем жить мне и не надо… Не надо оставаться и продолжать свой жизненный путь в этом чуждом, злобном, ненавистном мне мире, где самые дорогие и близкие… где даже двери и лампочки предают, бьют, перегорают.
От тех мучительно-болезненных переживаний….а может от удара о дверь…. а может от очередного предательства лампочек… и всего того, что назойливо подталкивало меня к единственному выходу… я оглядела полутемную, мрачную и умершую прихожку и поняла… Нет смысла укрываться пуховым платком. Нет смысла пить крепленое вино. Нет смысла искать участия в горячей воде наполняющей ванну… Никто мне не поможет, не смерит мою боль и от этой безысходности, как говорится, не излечит даже время… чтобы остановить мое духовное терзание и прекратить эти муки нужно оборвать движение моей жизни…
Оборвать движение моей жизни…
Предав себя в руки смерти…
Смерть… лишь она одна может поставить жирную, поблескивающую кровавыми каплями точку, завершив и ход жизни, и дыхание плоти, и биение сердца, и духовные переживания…
Невыносимые… Невыносимые…. Невыносимые…
Я вгляделась в сумрачный коридор, в котором зияли тьмой дверные проемы в спальню и кухню… а сам палевый, словно спина борзой собаки в белых мякинах пятен, линолеум как-то неестественно накренился, образовал пологий спуск к ванной комнате вроде, как направляя мою поступь и поддерживая мое желание умереть…
Умереть…
Умереть…
Именно — это и надо сделать, подскулив самой себе, согласилась я, и, миновав прихожку, открыла дверь ванной, переступила через порог и включила там свет, стукнув пальцами об выключатель.
Ярко вспыхнули, установленные по кругу, светильники ванной… вспыхнули и осветили каждый ее уголок, сияющую голубоватым бликом кафельную плитку на стенах и саму нежно- голубоватую, овальную ванну. Я сделала еще один шаг, ступив на резиновый, пористый коврик, неловко оперлась о его поверхность голой стопой. И тотчас скользнув в сторону, выгнула влево колено, и, проехав немного вперед, не удержав равновесия, упала на покосившийся коврик, болезненно ударившись и приземлившись прямо на ягодицы.
От удара мое тело сотряслось, вздрогнули и руки, и ноги, а перед глазами замельтешили зеленоватые огоньки похожие на снежные мельчайшие крупинки, зубы мои мгновенно сомкнулись меж собой придавив язык и сейчас же перестав выбивать чечетку… Боль в ягодицах, и в прикушенном языке спровоцировала новый ливневый поток соленых слез хлынувших из моих глаз, и мне показалось, что они смешались с теми зеленоватыми крупинками снежинок и прыснули во все стороны, покрыв кругом пол зеленоватой изморозью.
«Холодно… холодно…,» — зашептала я и высунула изо рта язык, стараясь кружившей вокруг меня моросью снять болезненное его состояние.
Холодно… Обидно… Больно…
Словно все… все желало показать мне, что я не нужное, чужое существо… лишнее на этом свете, в этом мире.
Ощущая боль в языке и в ягодицах, трясущимися руками я оперлась о кафельную плитку, и съехавший на бок резиновый коврик и поднялась на ноги.
Осторожно, едва покачиваясь и более не утирая слезы, я шагнула к ванной, наклонилась над ней, протянула трясущуюся руку и закрыла крышечкой слив в ней. А потом правой рукой принялась открывать вентили крана. Сначала с горячею после с холодной водой.
Мягко заструилась прозрачно-голубоватая вода в ванну, и пока она набиралась туда, я выпрямилась и приоткрыв зеркальную дверцу шкафчика, что был укреплен над керамической раковиной, достала оттуда упаковку бритвенных лезвий. Они лежали там с давних времен, будто нарочно ждали этого дня. Много раз я порывалась их выкинуть, но каждый раз меня, что-то останавливало и велело положить их обратно, на прежнее место.
И теперь глядя на эту серебристую обертку, в которую они были упакованы, я криво усмехнулась… Усмехнулась… еще бы они столько ждали этого мгновения, последнего мига моей глупой, никчемной жизни. Теперь они выполнят свое истинное предназначение, даруют мне смерть и успокоение… прекратят такую бестолковую и по сути ни кому не нужную жизнь.
Я захлопнула дверцу и уставилась в зеркальное полотно шкафа…
Уставилась, потому как внезапно увидела в этом серебристом отражающем свете чужую женщину. Чужое, опухшее, с огромными красными пятнами, по глади кожи, несчастное лицо… растекшиеся губы… оплывшие глаза, цвет которых невозможно было разглядеть так они поблекли, потеряли живость их краски, лишились жизненных соков и наверно умерли… засохли… погибли…
От былой красоты ничего не осталось…. ни серых, больших глаз, ни вздернутого, миниатюрного носика, ни красных, мягковато-пухлых губ. Казалось и удлиненные, загнутые ресницы все выпали, а тонкие, дугообразные брови утонули в красных выпирающих пятнах. Нет ни молочного цвета кожи, ни яркого румянца на щеках. Нет ничего, кроме опухшей уродливой маски и утопающих в ней тонких черт лица, ах! еще есть кровавое рассечение, на лбу, въевшееся в огромную угловатую шишку. И длинные, каштановые волосы, кое-как схваченные наверху заколкой крабиком.
Противно… мерзко смотреть на это чудище, подобие женщины.
Не мудрено, что Андрей меня бросил и ушел.
Ушел… ушел… ушел…
«Ты ушел… теперь уйду и я… уйду навсегда и прекратятся мои мучения, боль….навсегда,» — громко сказала я, последний раз глянув на свое отражение в зеркале.
Я положила бритвенные лезвия на край ванны, и полезла в ванну… Я даже не стала раздеваться… не желая тратить свои силы на это теперь бесполезное и не нужное занятие, какая в принципе разница голая ты будешь или одетая когда тебя найдут. Ты будешь мертва… мертва и тебе будет все безразлично… тебя более не будет мучить ни боль, ни мысли, ни желания, тебя просто не станет…
Переступив через край ванны я поставила ногу на ее дно, где уже плескалась горячеватая вода… горячеватая и только… нет никаких чувств, приятна она для тела или… нет никаких эмоций… Лишь простая констатация факта, что она горячая… Словно душа моя от боли, от переживаний перестала чувствовать, ощущать этот мир и все, что в нем находится.
Я опустила в воду обе ноги, а затем уселась сама, оперлась спиной о поверхность акриловой ванны, и положила на ее край голову. Громко хрустнув сзади, развалилась на куски заколка крабик, распалась на части, нырнула в воду и утонула. А я даже не глянула на очередное предательство, лишь тяжело дрогнули мои губы, затрепетала моя грудь… и очень тихо пискнула я, так будто то, был и не мой стон-писк, а чей-то чужой.
Я лежала в ванне и ждала, когда она наполнится водой, а сама в это время смотрела на пузырящуюся футболку, желающую толи всплыть, толи как весенняя почка, набухнув, раскрыться.
Я глядела на ее трикотажную материю, а сама вспоминала Андрея… его уход… большую двуспальную кровать, где так была счастлива и заплакав, заскулила, завыла сначала негромко, а после переходя на крик, вопль… Не в силах сдержать себя и в надежде, что этот вопль услышит он — Андрей… Услышит и придет, вернется… прекратив эти муки… муки… муки.
Вода уже дошла до груди, а я даже этого не заметила… не заметила как быстро наполнила она ванну. Я увидела как она достигла края, удивленно глянула на нее и замолчала, а после подалась вперед, и протянув руку, поспешно закрутила вентили на кране… сначала горячий потом холодный. Вода мгновенно замерла в носике крана, перестав вытекать… замерла… затихла ожидая моих дальнейших действий.
Все… все оцепенело кругом и ждало теперь моей смерти: и вода, и свет, и коврик, и дверь.
Я подалась вперед, протянула дрожащую руку, взяла упаковку и вернувшись в исходное состояние, снова оперлась спиной о стенку ванной да принялась раскрывать серебристую обертку, освобождая спрятавшиеся в ней острые бритвенные лезвия. Обертка тихо скрипнув, зашуршала и широко раскрыв свою пасть, показала мне хранимое внутри сокровище, пять бритвенных лезвий туго перетянутых в тонкую, точно шелковую прозрачную кальку. Придерживая левой рукой приоткрытую пачку, не спеша я достала одно лезвие, сдерживая трясущиеся пальцы и колыхающиеся мысли. И немедля кинула пачку к открытой настежь двери ванной. Затем я все также не торопливо развернула лезвие, взяв его двумя пальцами за середину. Прозрачная обертка-калька выскользнув из моих рук упала в воду, и намокнув устремилась вниз ко дну ванны, благоразумно миновав мою распухшую футболку.
Я держала в руках тонкое, стального цвета играющее и переливающееся лезвие… оно извивалось в моих пальцах, тихо звенело, прельщая меня своим звуком, цветом и однозначно решенными вопросами… а я на миг затихла, вслушиваясь в этот звук… на миг застыла, может испугавшись принятого мною решения.
И в наступившем мгновении внезапно услышала тишину… ощутила пустоту квартиры и моей души и тогда меня обожгло, распороло надвое понимание того, что иного пути у меня нет. У меня вообще ничего нет… ни иного… ни будущего… ни настоящего… ничего… ничего… ничего…
Растрепавшиеся волосы, покрывающие мои плечи и стенки акриловой ванны, намокли. Часть их прилепилась к футболке, а часть беспомощно повисла в воде. Я посмотрела на их разветвленные концы, медленно переложила в пальцы левой руки лезвие, крепко его сжала в серединке, а потом глянула на свои хорошо видимые синие вены на правой руке, напоминающие чем-то русла рек. Выдохнула…. и тут же врезалась острым, злобным краем лезвия, в собственную кожу, стараясь попасть металлическим носом в саму вену… так, чтобы непременно разрезать ее вдоль движения крови… так, чтобы не осталось возможности спастись.
Резкая боль полоснула мою измученную душу, обиженную плоть, но я терпела. Я сделала несколько разрезов прямо по пролеганию витиеватых вен, которые выпустили из себя густую, красную кровь.
На пару минут эта боль вытеснила душевную. Может от вида текущей по руке крови… Может потому, что тело мое согрелось… Может потому, что я прерывисто застонала и закусила губу, на лбу моем выступила испарина.
Пару секунд я глядела на эту кровь и чувствовала тихую радость, понимая, что скоро муки мои закончатся. Затем я взяла лезвие правыми пальцами, в оных пропала былая гибкость, а режущая, острая боль делала их совсем непослушными, чужими и принялась разрезать вену на левой руке, с трудом удерживая лезвие и надавливая им на кожу. Кожа на левом запястье хоть и туго, но все же подалась острию лезвия, разорвалась надвое. Лезвие воткнулось в вену и оттуда выплеснулась кровавая река. И тогда пальцы мои дрогнули, лезвие сыграло в бок, издав высокий, резкий звук, и выскочив из моих пальцев упало на желтую, набухшую в воде трикотажную футболку.
А я ухмыльнулась… ухмыльнулась… подумав, что и лезвие также предательски поступило, не завершив свой путь, дрогнув, улетев, предав меня…. в очередной раз.
Только теперь я не заплакала… в этот раз не заскулила…
Глаза мои просохли… душа окаменела, губы приоткрылись выдыхая, ставший, каким-то, тягучим воздух… а глаза сомкнулись ощущая сильную физическую боль и не приятное тепловатое, живительное начало вытекающее из вен, минующее руки и утопающее в глубине хрустальных вод.
Я опустила руки в воду и ее горячеватость обожгла порезы… обожгла раны на моих руках… обожгла мою плоть… мою умирающую душу…
А в черной мгле, что поплыл перед мои глазами увидела я в последний раз твои зелено-серые очи с мелкими прожилками шоколада, почувствовала на своих губах твои сладкие, полноватые уста… обняла твою статную, крепкую налитую мышцами фигуру и представила тебя с ней… там далеко.
Ты ушел… ушел, чтобы не когда не возвращаться….
Все слова сказаны, вещи собраны…
Ты ушел…
Зелено-серые глаза твои внезапно распались на крошево маленьких зеленых и серых клеточек, молекул и заметались перед моими очами…
Ты ушел… и я тоже уйду….
Уйду, чтобы не возвращаться…
Исчезну… испарюсь… распадусь на молекулы, атомы… и вместе с этими атомами распадутся мои боли, тревоги, мучения, страдания…
Глава вторая
Наверно меня сморил сон… разомлевшее в горячей воде тело провалилось в глубокую бездонную пропасть… черную… черную с едва заметными зелеными и серыми маленькими, а вернее микроскопичными молекулами, проскакивающими мимо глаз… Потеря крови, мучающая душу и плоть боль вызвали это… а быть может это просто отклики прошлого, прожитого, пройденного.
Я уснула… нет! наверно все же умерла!
Однако внезапно мелькающие во тьме, перед очами, молекулы исчезли, я открыла глаза и увидела, что нахожусь уже не в своей квартире, не в ванной комнате и не в горячей воде наполняющей акриловую ванну…. Теперь я стояла на ногах, тесно прижав руки к телу.
Странно… но я и впрямь стояла, точно на школьной линейке, держа вдоль тела руки… С моих вещей, растрепанных волос стекала ручьями… потоками вода, казалось я только, что вынырнула из глубин морских, вынырнула и глубоко вздохнула, ощутив своим носом какой-то чужой, неприятный… резкий запах. Запах гниющего навоза или листвы… а может вместе и навоза и листвы… подопревшего, смердящего.
Однако вода текла не только по вещам, и волосам, она также струилась и по лицу, рукам, и даже стекала с голых стоп.
Я подняла свои повисшие руки и глянула на запястья. Глубокие, развернувшиеся, раскрывшиеся вроде лепестков розы порезы оставленные лезвием обильно кровоточили, а вытекающая из ран кровь покрывала своими кровавыми струями кожу ладоней, пальцы, и, срываясь с их подушечек, улетела куда-то вниз, приземляясь возле моих стоп. Некоторое время я безмолвно смотрела на эту кровь, и, поморщившись, от острой боли на месте порезов, огляделась кругом… не очень-то понимая, где я нахожусь.
Прямо передо мной была широкая межкомнатная дверь с большим узорчатым, рельефным стеклом, точно обсыпанным мельчайшими щербинками, трещинками, в самом центре этого стекла находилась громадная красная роза, искусно нарисованная, с тончайшим стебельком и овальными покрытыми едва видимыми зазубринами листом. Подавшись вперед, я уткнулась лицом в поверхность стекла, и посмотрела сквозь него. И увидела прямо за дверью какой-то коридор и движущихся вправо и влево, быстро да бодро ступающих людей.
Совсем немного я напрягала зрение, щурила глаза, стараясь разобрать и понять: где же я нахожусь, и кто там идет?… Но рельефное полотно стекла было так мелко изрезано трещинками, что кроме еле видимых силуэтов мне ничего не удалось разобрать.
И тогда я принялась рассматривать то место где была в данный час…
Позади меня, справа и слева находились побеленные или покрашенные в белый цвет стены, под ногами у меня был простой, плохо обтесанный дощатый пол палевого цвета, какой-то изжелта-белесый, а вместо потолка уходящая ввысь серебристая, гладкая труба огромного диаметра… просто огромного.
Что это за труба? Что за комната? Как я здесь оказалась? Мгновенно пронеслись эти мысли в моей голове, покуда я, переступая с ноги на ногу, разглядывала словно зеркальные стены трубы.
Наверно я сплю, предположила я… Сплю…
Но подняв правую руку, чтобы утереть струящиеся со лба и затекающие в глаза и рот капли воды, я вновь увидела расхлябанные ошметки кожи, текущую кровь, и, ощутив острую боль в обеих руках громко охнула!.. Охнула и этот звук улетел в бесконечную пасть трубы да отозвался там тихим эхом. И я поняла, что не сплю, уж так было больно…
Больно… было очень больно… И почему-то болели не только руки, но шишка на голове, и прикушенный язык и грудь… вернее то самое место где находится сердце и душа… Душа… Душа, моя также болела… муки по поводу ухода Андрея не испарились, не исчезли… они продолжали теребить меня.
Однако я смогла отвлечь себя от мысли об Андрее, о его предательстве и уходе, задав себе вопрос… простой вопрос: «Где же… где же все-таки я нахожусь? И что со мной произошло?»
Я подняла, свербящие болью руки, протянула их вперёд и принялась ощупывать стены, которые были и впрямь окрашены, верно, я угадала. Они были окрашены в белый цвет и покрыты тонким слоем морозной паутинки, что струится покрывая деревья в морозные, зимние дни, и леденит души и тела людские. А потому и эти стены были леденяще холодными… холодными, как впрочем и палевый пол, так что стекающая с меня вода, попадая на него и смешиваясь с моей кровью, образовывая тут же небольшую лужицу, и замерзла, превращаясь в хрупкий ледок, который ломался, крошился лишь от одного нажатия на него большим пальцем ноги.
И как-то сразу мне стало не по себе. Особенно после того, как коснувшись этих белых паутинок на стене кровавым пальцем, я окрасила их в красный цвет и почувствовала, будто дуновение ледяного дыхания…
Холодно… холодно… холодно…
Тихо постанывая от боли и мороза, что обжигал мои стопы, я принялась переступать с ноги на ногу, а руками попыталась найти дверную ручку, чтобы открыв дверь выйти из этого холодильника. Но ничего так и не нашарив на двери, я отступила назад. Мои мокрые, растрепанные волосы едва не коснулись стены, такое это было на самом деле небольшое помещение. Однако отступив назад и склонив голову я смогла разглядеть, что на деревянном каркасе двери нет ручки, лишь стекло, которое заполняло его большую часть.
Я прислонила свои руки к стеклу, тоже довольно холодному и надавила на дверь, но она не подалась, она даже не дрогнула, по-видимому, крепка была замкнута… Крепко…
Холодно…
Холодно… уж очень холодно было в этом помещении и каждая минутка, проведенная в нем, все более и более становилась мучительной… тягостной и переходящей на чечетку, каковую выбивали не только ноги, но и зубы. Еще и еще раз я надавила руками на стекло, и одновременно надавила коленом на деревянный каркас двери, в которое было вставлено стекло… но дверь не желала мне уступать, не хотела отворяться.
Тогда я начала не сильно стучать по стеклу костяшками сомкнутых пальцев, стараясь обратить на себя внимание тех людей, что торопливо проходили за дверью, в надежде, что мой барабанный бой услышат и придут на помощь, освободят и все… все… все объяснят.
И хотя я стучала очень громко и нужно быть просто глухим, чтобы не услышать этот тарабан, а сам звук отзывался в моей голове и гулким эхом откликался из трубы, но никто не приходил ко мне на помощь. Люди продолжали идти мимо и казалось мне, даже не поворачивали головы, вроде как не слыша меня. Разозлившись и на этих глухих людей, и на того, кто меня здесь замуровал, в этой ледяной комнатке, я принялась наносить удары по стеклу ладонями обеих рук. Но от этих ударов еще сильнее, безжалостнее разболелись руки, а кровь принялась выплескиваться из разрезов, и обильно разлетаясь опускаться на джинсы, стены, дверь и пол, будто пребывающая во время шторма морская волна, выкатывающаяся на берег. Стекающая с моего тела вода казалась рождаемая моей кожей также разлеталась, попадала на стены, и тотчас превращалась в каплевидные сосульки. А потому я благоразумно решила остановиться…
Ведь если не удалось умереть… надо выяснить где я нахожусь. Ну, а если я все же умерла… Умерла, так стоит ли расплескивать кровь… может она тоже еще пригодится.
Оцепенев на месте на несколько минут, я задумалась над тем, что только, что произнесла и оглянулась…
Где я?… Что со мной?… Жива я или умерла?…
Умерла… Если я умерла, то почему чувствую боль физическую и духовную, вижу кровь, ощущая руки, ноги, мокрые вещи… почему дышу… Сердце… Внезапно вспомнила я про источник жизни сердце и поспешно подняв руку прислонила ее к груди и затихла на миг…. Затихла… мое дыхание сорвалось, тело вздрогнуло… вздрогнуло… но стука сердца я не услышала… Нет! наверно просто не разобрала… переволновалась… вздрогнула…
Я без сомнения жива. Жива, а тогда где же я нахожусь, и почему не реагируют на мой стук. Не слышат или не хотят слышать?… Может, стоит покричать?…
И тогда я вновь застучала по стеклу костяшками пальцев и стала вторить громким голосом: «Алло! Вы меня слышите? Я здесь… позовите старшего или откройте дверь… Тут очень холодно… Я замерзла… Алло!»
Однако, как и прежде никто не откликался ни на мой стук, ни на мой зов.
А кровь из ран продолжала вытекать все сильней и сильней… и я подумала, чего в принципе я так раскричалась, растарабанилась… я же не хочу жить, хочу умереть. Ведь тот ради которого я жила, которого так беззаветно любила ушел, предал меня. И подумав вот так, я решила, что надо закончить начатое мной, а именно убить себя. Поэтому я опустилась на пол, села, на его покрытую розоватой, ледяной коркой поверхность, прислонилась спиной к стене, закрыла глаза и собралась умереть.
Не знаю сколько я так просидела, наверно совсем чуть-чуть, может несколько минут, а может и того меньше. Вначале у меня застучали зубы, потом затряслись руки, ноги, и тяжело содрогнулось тело. Уж так было холодно… очень, очень холодно… И хотя я совсем не желала жить и подниматься, но как говорится: «Хочется, да не можется», а потому я вскочила поспешно на ноги. Подпрыгнула вверх пару раз надеясь таким образом согреться, но не получив ожидаемого, стала торопливо снимать с себя футболку. Затем, когда она оказалась в моих руках, я оглядела посиневшее, трясущееся тело, из кожи которого не прекращала исторгаться вода покрывающая тело и превращающаяся в голубоватые, стеклянные градинки. И тотчас непослушными, плохо гнущимися с синеватыми подушечками пальцами начала отрывать рукава от футболки… сначала правый, после левый… А оторвав их, засунула в рот и продолжая подсигивать на месте, едва касаясь ледяной поверхности пола жесткими, деревянными стопами, резво натянула на себя мокрую футболку, вытащила изо рта один рукав и принялась осторожно разрывать его на части так, чтобы сделать из него, что-то наподобие длинной ленты, коей я бы смогла обмотать руки и остановить кровотечение.
Сколько я так провозилась с одним рукавом, потом с другим не знаю… Потому, как рукава, словно назло, поначалу совсем не хотелись рваться, а когда все-таки обильно смоченные кровью и водой уступили моему трясущемуся натиску, всяк раз норовили порваться не так как мне хотелось, то слишком узко, то слишком широко. Однако все же я смогла превратить рукава в ленту, а после принялась перебинтовывать свои руки, при этом не прекращая переминаться с ноги на ногу, стучать зубами, стонать и охать!.. Уж так было холодно…
Теперь уже и руки приобрели синеватый оттенок, а кожа на них была усыпана пупырышками, больше похожими на волдыри после ожога, от постоянно стучавших друг об дружку зубов заболела нижняя челюсть и ее стало как-то странно клонить на бок, точно выворачивать.
Околела…околела…околела я… Нет! непременно надо отсюда выбираться, уж раз не удалось умереть, то обязательно стоит вырваться из этой морозильной камеры, выйти в коридор, прояснить для себя все… а затем уже решать, что дальше делать.
«Что делать?… — злобно усмехнувшись заметила я. — Стоит умереть вот, что надо делать… Только не в этой холодной комнате… Не здесь… А там и потом».
На миг я прекратила думать и говорить, и, схватив зубами один конец ленты, крепко на крепко завязала узел на левой руке, а после принялась перевязывать правую руку также как и в случае с левой помогая себе зубами… Все еще тихо постанывая, морща свой лоб и оледеневшие губы от боли и холода, мысленно обращаясь неизвестно к кому… может к творцу, а может к тому, кто меня сюда бросил, я спросила: «А вообще-то жива я или нет?» Потому как не могла членораздельно и утвердительно сама ответить на этот вопрос.
И хотя этот вопрос был произнесен очень внятно, хотя и мысленно, но мне как всегда не пришло никакого ответа, из чего я заключила, что Бога нет, а я в этом и не сомневалась… так вот Бога нет, а я наверно все же жива.
Когда наконец-то я перебинтовала правую руку, и завязала на ней узел, хотя он вышел, намного хуже чем на левой, я окончательно постановила для себя, что обязана выйти отсюда любым способом. И тогда я начала плечом, по коже каковой теперь струилась легкая бахрома трикотажной футболки, топорщащаяся в разные стороны, наносить яростные удары в стекло, в надежде всей массой своего тела все же сдвинуть, спихнуть эту противную дверь, отделяющую меня от людей. Спервоначала я ударяла всем своим корпусом так… не очень сильно, предполагая, что мои удары услышат и придут помочь. Но так как никто не приходил на помощь, и дверь не желала отворяться я стала наваливаться на нее сильнее, прилагая всю свою мощь. Толкая ее и плечом, и руками, и даже пиная ее ногой.
Некоторое время спустя, перемешивая толчки и пинки, немного согревшись от производимых мною движений, я наконец-то увидела, что дверь покачнулось. Совсем чуть-чуть, верно решив уступить мне. Это едва видимое покачивание и тихий скрежет придали мне уверенности, и я с удвоенной силой стала набрасываться на дверь. Сделав шаг назад, я подпрыгивала, толкала ее как бы с налета. И от очередного такого на нее прыжка, дверь вдруг хрястнула и мгновенно раскрылась… широко… настежь… ударившись стеклом об стену коридора. Открыв передо мной этот неизведанный, иной коридор по которому вправо и влево шли люди…
Я поспешно шагнула к порогу двери, и, выставив голову вперед, выглянула из-за дверного косяка.
Глава третья
Эх, опять я оказалась права, передо мной пролегал длиннющий коридор… такой длиннющий, что даже не было видно ни конца, ни края его…
В коридоре по сравнению с той комнатой в которой я находилась было тепло, а потому недолго думая я переступила через порог и вышла в то новое… иное помещение.
Прямо передо мной шли люди… вернее люди шли в два ряда — одни справа налево, а другие слева направо. Я же вышла в ряд, который двигался слева направо, и остановилась, всего лишь на несколько секунд прервав их движение, и рассматривая людей, шедших им навстречу. И увидела каких-то, скажем честно, странных людей… очень странных. С виду они были обычными, такими же как я, да только в них было, что-то иное… что делало их другими, не похожими на обычных людей… непривлекательными или проще говоря уродливыми.
Еще недолго я всматривалась в их лица, тела, одежду, разглядывая их руки, ноги… и немного погодя догадалась, что передо мной мертвые люди… в смысле покончившие жизнь самоубийством…
Вот миновал меня мужчина… Он даже не повернул головы в мою сторону, не бросил взгляда, словно торопился, спешил куда-то, а я обратила внимание, что его черные, волнистые волосы неестественно взъерошены, взлохмачены, и лежат точно помятая, поломанная солома, вроде как многократно потоптанная. Из левого виска, в котором виднелась небольшая круглая дырочка, вытекала тонкой струйкой кровь, с красноватыми сукровичными кусочками. Эта похожая на желе масса медленно стекала прямо по краю щеки, и, минуя подбородок, обильно покрывала своим неприятным на вид веществом короткую, смугловатую шею. Мужчина очень оживленно разговаривал сам собой во время ходьбы, вроде, как доказывая себе, что-то, затем он резко обрывал себя на полуслове, громко вскрикивал, махал руками, утирал ладонями лицо и жутко хохотал, издавая протяжные совиные уханья. На секунду он замедлял шаг, а потом резко ударив тыльной стороной ладони себя по губам, горестно всхлипывал и сейчас же ускорял свое движение. Он был одет в черный, деловой костюм, пиджак которого небрежно застегнутый лишь на одну пуговицу, нес на себе остатки какой-то шелухи, оборванных веток, листочков и крупинок земли, а голубоватая рубашка и вовсе лишенная пуговиц, постоянно топорщилась и суетливо вылезала, выглядывала из-под ворота пиджака. Нежно- голубой в узкую полоску галстук висел прямо на голой груди. И когда мужчина ударял себя по губам, то сейчас же хватался рукой за тупой кончик галстука и начинал его тянуть вперед, словно стараясь сорвать с себя. А со стороны казалось, что галстук душит его и не дает возможности свободно дышать.
Следом за мужчиной шла молодая, красивая девушка… очень юная… почти девочка… Она была голая… даже грудь ее ничем ни была прикрыта, ее нежно-розоватая кожа отливала сероватым цветом, точно она при жизни чем-то тяжело болела, и также как и с меня, с девушки сочилась вода. Она выступала прямо из кожи, и из ее коротко стриженных крашенных, в серо-зеленый цвет, волос, и, стекая с них, минуя лицо, грудь, ноги стремилась прямо к полу коридора. У девушки запястья рук хранили большие, кровавые порезы, сильно кровоточащие, а на локтевом сгибе виднелась синевато-черная кожа, словно от многократных инъекций. Девушка была какая-то поникшая и молчаливая. Она шла, ссутулившись, выгнув спину дугой, и даже руки несла будто плети, которые мотались из стороны в сторону расплескивая кругом кровь и воду. А лицо ее, измождено-худое, со впалыми щеками было таким… таким обреченно несчастным, не имеющим никакой надежды на лучшую долю. И еще, из ее больших, близко-посаженных, карих глаз вытекали крупные слезы тут же перемешивающиеся с водой.
— Ну, чё, — услышала я слева чей-то грубый, немного приглушенный голос. — И долго мы так будем стоять? Мешать движению и разглядывать идущих?
Я резко повернула голову на источник этого звука и громко вскрикнув, отскочила назад. Намереваясь, вернуться в ту комнатку, из оной только, что выбралась, в ужасе оглядывая мужчину, который со мной заговорил, и, ощупывая стену позади себя…
Мужчина был кошмарен, ему только в фильме ужасов сниматься… Уж так он отвратительно выглядел… Это был очень высокий, атлетического сложения человек, с широкими, накаченными плечами и узким тазом, одетый в какие-то трикотажные темные штаны (на вроде трико), черные носки и в красно-коричневую футболку. Но ужасен он был не одеждой, а тем, что у него отсутствовала половина головы, а именно ее верхняя часть. До прямых, точно горизонтальных, негустых бровей можно было разглядеть и крупные, с приподнятыми уголками глаза серо-карего цвета и длинный с заостренным, загнутым кончиком нос, с узкими ноздрями, говорившими о том, что передо мной человек с железным, волевым характером, и широкие плотные губы с едва выпирающей вперед тяжелой нижней губой, словно выражающей недовольство или затаенную обиду, и какой-то кривой, обрубленный подбородок…
Все это я смогла разглядеть…
Ну, а там… выше бровей, ничего не было. Вернее там находилась огромная дыра, будто котловина с рваными краями кожи, наполовину сломанными кривыми кусками костей… словом с наполовину снесенным черепом и развалившимся на несколько мелких частей кроваво- алым мозгом плавающем внутри этого красного бульона. Казалось верхушку головы у мужчины вырвали, прямо-таки выдрали и не просто верхушку вместе с затылком и темечком, а прихватив еще и кусок лба. Куски плоти, мозга и покрытых кровью остатков волос облепили голову со всех сторон так, что было непонятно есть ли у мужчины уши, или они тоже отсутствуют. Обильно текущая кровь из этой дыры, все время заливала ему глаза, нос, щеки, затекала в рот, сочилась вниз, а потому и шея, и футболка и даже покрытые густыми волосами руки мужчины, были напитаны ею и даже вроде как сменили цвет.
— Чё, рот раззявила, — сердито сказал мужчина и махнул головой вперед при этом внутри его раскрытой башки, словно в кастрюле, поставленной на плиту подскочив, плюхнулись его мозги в кроваво-алом бульоне. — Давай, шагай… Нечего народ сдерживать.
— Проходите, — пролепетала я, испуганно глядя на выпрыгивающий бульон и вжалась в стену, не понимая, почему никак не могу нащупать проход в помещение.
— Нет, дорогушечка, пройти я не могу. Только за тобой следом… Видишь тут больно тесно, не разойтись нам, — продолжил он все тем же выныривающим из глубин булькающего бульона голосом. — Чё… дура… стоишь глаза вытаращила… Не поняла, чё ли, шагать ты должна, — уже совсем по злому крикнул он и уголки его губ опустились вниз так, что лицо его мгновенно стало жутким и страшным.
Увидев эту чудовищную голову, эти изогнувшиеся губы и заливаемые кровью глаза, я испугалась еще сильней, вздрогнула всем телом и принялась оглядываться в поисках двери, и комнаты. Однако не позади меня, ни с правого, ни с левого бока не было ни комнаты, ни той самой стеклянной двери.
Мужчина, увидев мой перепуганный взгляд и бесполезные поиски чего-то, тотчас шагнул ко мне, и, протянув навстречу свою огромную кровавую руку, пребольно схватил меня за мокрые волосы так, что я от неожиданности вскрикнула. И все в той же грубой форме оттянул от стены, и, поставив перед собой, пнул меня прямо в мой маленький, мокрый зад.
— Ах…! — воскликнула я и хотела было возмутиться этому хамству и этой грубости, да, пролетев, а вернее пробежав несколько шагов вперед и резко остановившись, обернулась.
Но стоило мне обернуться, как я увидела приближающегося ко мне и злобно кривящегося, без остановки утирающего лицо от крови, половинчатого мужчину, из-за спины его выглядывала, с не менее злобным лицом, женщина со свернутой, покосившейся на бок головой цвета переспелой сливы.
И тогда я, чтобы ни в коем случае не получить очередного, очень даже болезненного пинка от него, а может и от нее… быстро… быстро побежала вперед, в надежде убежать от этих мрачных, злобных и уродливых самоубийц. Убежать и непременно найти здесь старшего… главного… чтобы все выяснить и пожаловаться ему на творимые бесчинства.
Я бежала очень резво, громко топая босыми ногами по полу, успевая замечать лишь мелькающие искореженные болью и страхом лица людей, идущих мне навстречу. Однако пробежав совсем немного, я была вынуждена остановиться, потому что догнала идущих впереди меня людей, в частности какого-то распухшего старика, одетого в непривлекательные, серые лохмотья с которого обильно стекала вода на пол, просачиваясь сквозь вещи и кожу его тела. Он шел, тяжело и неуклюже ступая своими полноватыми, короткими ногами, судорожно вздрагивал всем телом и покачивался из стороны в сторону. Волос на голове у старика почти не было, а из этой вспухшей сероватой поверхности, гладкой и, точно налитой изнутри водой выглядывали коренастые, зеленоватые ости растения на оные было, очень даже, противно смотреть. А все потому, что и голова, и ости напоминали степь с поднимающимися из-под земли ростками ковыля.
Когда я с бега перешла на шаг, то старик, наверно услышав мое громкое шлепанье босых ног по полу или порывистое дыхание, повернул голову и презрительно посмотрел на меня, окинув взглядом с головы до ног. А я увидела его опухшее сине-красное лицо пропойцы-утопленника, покрытое тиной, ряской, местами объеденное раками или рыбой с глубокими порезами и выемками.
Однако стоило мне выровнять свой шаг в ряду, следуя за стариком, как сзади послышался плюхающий топот множества ног. Сейчас же оглянувшись, я увидела, что это, оказывается, догнал меня тот самый с половинчатой головой мужчина, и остальные люди, чьи головы при быстром беге иногда выглядывали из-под разорванной головы самоубийцы. Когда мужчина резко остановился возле меня, перейдя на шаг и чуть было, не плеснув на меня своим кровавым бульоном, я не снижая быстроты хода, глянула на него и дрожащим голосом спросила:
— Что вам надо от меня?
— От тебя, дурочка, мне ничего не надо, — ухмыльнувшись ответил он и утёр кровь на лице, смахнув рукой вниз их кровавый поток. — Мне вообще ничего не надо… Только бы поскорее отсюда слинять, да не видеть таких, как ты психопаток, которые вскрывают себе вены или, — и мужчина кивнул головой назад так, что мозги внутри его головы вспенились, точно намереваясь закипеть. — Или вешаются… Дуры психованные- одно слово…
— А сам-то… сам…, - не менее злорадно ответила я и скривила свои мягкие, пухлые губки, выражая тем самым презрение, при этом ни на миг, не прекращая идти. — Полбашки себе снес… умник такой.
— Да я…да я…, - начал, было, мужчина, и, сжав огромный кулак, поднес его к моему носу, отчего я боязливо подпрыгнула вверх, испугавшись, что, сейчас, он обрушит эту махину на мою голову и превратит ее во, что-то схожее со своей.
А потому я предусмотрительно замолчала, и поспешно шагнув вперед, случайно наскочила на старика, ударившись грудью о его хлюпающую, изогнутую, словно горбатую спину.
— Чего прешь…, - гневно выкрикнул старик, развернув в мою сторону распухшее лицо и злобно глянул на меня маленькими, наполовину прикрытыми и какими-то мутными, сонными, неопределенного цвета глазками.
— Простите, — глубоко вздохнув, очень тихо произнесла я, страшась, что теперь однозначно нарвалась на неприятности и если не половинчатый мужик, то этот старик непременно меня поколотит. Потому я улыбнулась, да понизив голос так, чтобы расположить к себе старика, добавила, — я не хотела, это вышло не нарочно.
— Нарочно… не нарочно…, - повторил сиплым голосом старик, и, подняв руку, ковырнул синевато-черным ногтем прямо из рваного углубления щеки ветвистую, зеленоватую веточку водоросли сверху покрытую тиной. — Под ноги глядеть надо, и не таращиться по сторонам… а то знаешь так и схлопотать можно.
Я благоразумно опустила глаза и уставилась, как и велел старик себе под ноги, понимая главное, что схлопотать я и верно могу, а вот пожаловаться в этом непонятном коридоре, с идущими людьми пока не кому. Может и есть кому, но я пока этого «кому» не увидела, а потому затаив внутри себя страх, обиду и желания увидеть старшего, пошла следом за стариком, слушая тихий плач, резкие выкрики, бред и шептания следующих мимо меня самоубийц.
Я смотрела себе под ноги, разглядывая этот необычный коридор в котором пол, был сложен из гладких досок, и покрашен в кофейный цвет только на один раз и судя по всему очень…очень давно. Поэтому краска сохранила свой цвет лишь по углам коридора как раз на стыке пола и стены. Там же где шли самоубийцы пол имел серовато-коричневый цвет и казалось был даже немного вдавлен вниз, будто несчетное множество раз проходя по одному и тому же месту люди сняли не только слой краски, но и верхний слой древесины, протоптав нечто вроде неширокой тропы.
Некоторое время спустя, когда я уже немного оправилась от страха и все того, что со мной произошло, и четко соблюдая дистанцию между мной и стариком утопленником, наконец-то оторвала взгляд от босых своих стоп, то принялась разглядывать стены коридора и потолок. В высоту коридор достигал где-то два с половиной метра… может быть немного меньше. Стены и потолок в нем были побелены, но также как и пол, они были побелены весьма давно. А потому от долгого срока службы побелка во многих местах стала пузыриться, выгибаться, отставать от поверхности стены. Кое-где она и вовсе отпала, так, что показывала светло-бурую глиняно-травяную внутренность, с тонкими вкраплениями, прожилками сухих трав, остовов камыша и нешироких деревянных реек. Потолок и стены, особенно углы, были покрыты слоем синей плесени, отчего в коридоре стоял труднопереносимый запах не просыхающей, гниющей древесины.
В целом вид коридора был безобразным… безобразно-порушенным, никогда не ремонтируемым с момента рождения. Однако, несмотря на этот запах, внешний вид… несмотря на отсутствие лампочек, светильников в коридоре было довольно светло, конечно не так как это бывает от солнечного света, которое входя в комнату освещает любой спрятавшийся предмет, любой потайной уголок, любую пылинку неосторожно опустившуюся на край мебели, а такой какой бывает, когда солнце направилось на покой, и достигнув окраины земли, притушила все цвета и оставило лишь серый полумрак.
Как я уже заметила раньше, в коридоре было тепло, но от постоянного движения по моему телу воды, которая просачиваясь через кожу, напитывала собой и волосы, и вещи мне все время было сыро, а иногда меня начинало знобить, порой даже судорожно передергивая мышцы тела.
В целом… в этом коридоре было жутко, мокро, противно… И хуже всего то, что приходилось глядеть либо на эти жалкие, разваливающиеся от времени и сырости стены. Либо на не менее жалкие, безумные лица людей, каковые так глупо и бездарно закончили свои жизни суицидом. И теперь шли или в моем ряду или в том, что шел мне навстречу, почти касаясь меня левым плечом и рукой.
Конечно, теперь мне не надо было ничего объяснять, я и так поняла…
То чего я добивалась в ванной, разрезая на своих руках вены, и выпуская кровь… случилось!
Я умерла!
Умерла… убив себя, уничтожив свою физическую плоть, но не уничтожив свою душу… и теперь я находилась в движущемся потоке таких же как и я — самоубийц!!!
Утопившихся… Удушившихся… Отравившихся… Вскрывших вены… Спрыгнувших с высоты…Сгоревших… Убивших себя при помощи огнестрельного оружия…
Опухших сине-зеленоватого цвета; с вывернутой головой; с текущей из разрезов и ран кровью; переломанных; кривых с вывернутыми руками и ногами и выглядывающими костями; черных как головешка и обуглившихся от коих в разные стороны струился сероватый дымок…. уродов… ужасных, пугающих уродов….
Я шла вместе с ними куда-то вперед по коридору. Я глядела на их кошмарные лица, вывалившиеся глаза, текущую кровь и не понимала, куда мы движемся и зачем?… Но спросить об этом ни у кого не решалась, так как и передо мной, и позади меня шли слишком злобные самоубийцы, от которых можно было и схлопотать, а потому я молчала… Молчала и надеялась, что вскоре все прояснится или быть может я увижу старшего.
А пока я вот так шла… шла… смотрела… смотрела и думала… и думала о том, как все-таки не разумно прервала свою жизнь… вернее глупо… глупо и бестолково…
И ведь в принципе можно было уж как-нибудь и потерпеть, как-нибудь закусив губы пережить ту страшную ночь и предательство, уход Андрея.
Андрея… И как- то имя его и любовь к нему опустились на дно моей души… опустились и скрылись, застыли, по-видимому на какой-то срок, чтобы пока не мучить, не истязать меня, ни намеками, ни болью, ни тревогой.
А я… я, как оказалось, выжившая после смерти и хранящая в себе и воспоминания своей жизни, и чувства, и радость, и ненависть… теперь была вынуждена идти по этому коридору и терзать себя тем, что выход из той ситуации я нашла неверный. Что мучения мои не прекратились и душа моя осталась живой, а переживания и боль не испарились, не иссякли, они превратились в иные, другие муки и страдания. В какой-то бесконечный неторопливый ход в мокром, жалком состоянии, постоянно испытывая страх, что будешь бита, обижена без всякой надежды на справедливость и заступничество.
«Как-то непонятно, невнятно все это произошло», — шептали мои губы, а язык облизывал стекающую с них воду и отправлял, эту отдающую кровяным привкусом, жидкость, вовнутрь рта порывисто сглатывая.
Как… как теперь это исправить, изменить. Я шла обдумывая случившееся со мной, горестно вздыхала, утирала воду с сырого, хлипкого словно лужа лица, и чувствовала, что боль от потери Андрея сменилась теперь на еще худшую боль… боль, что я так бездумно закончила свою жизнь в той пустой, хорошо меблированной квартире, в многоэтажном доме, на Евразийском континенте, на великой планете Земля. И даже вера моя в то, что нет Бога и нет жизни после смерти, теперь мне не помогали… казалось, что этот мой атеизм громко так смеялся надо мной и даже вроде как показывал язык.
Ах! нет! языки мне иногда показывали проходящие мимо женщины в основном те, кто отравился, сохранив своей естественный вид и лишь немного изменив цвет кожи.
И теперь я почти старалась не вспоминать про Андрея, про его уход… предательство… такую далекую… далекую измену… все это было не страшным… пугала меня лишь эта коридорная, бесправная безысходность, что пролегала сейчас передо мной.
Однако иногда на меня накатывала такая апатия, что я хотела и вовсе прекратить всякое движение, остановиться, сесть и потребовать старшего, главного и возможно Бога… Но потом я вспоминала про тот пинок, что получила и от какового долго еще болел мой зад и понимала, что мое нежелание идти может окончиться для меня еще более болезненно и прескверно. А мне как говорится, хватало проблем с руками продолжающими болеть, из коих продолжала вытекать кровь, несмотря на те ленты, которыми я их крепко накрепко перебинтовала. Ленты за время моего пути полностью напитались кровью и водой. И теперь эта алая субстанция просачиваясь сквозь материю, стекала по моим рукам, улетая вниз на пол. И потом из этого бесконечного, томительного пути который уж я и не знаю как долго продолжался, я вынесла главное — увы! но оказывается не наступает конец после смерти, не пропадаешь ты как духовная единица, не исчезаешь, не испаряешься, не распадаешься на молекулы, атомы. Ты- разум… душа… человек переходишь в какое-то иное состояние… иное… другое.
Внезапно в правой стене, почти в шаге от меня появилась деревянная, местами белая, также как и стена, облупленная дверь, с ржавой загнутой железной ручкой. От неожиданности ее появления я остановилась, уставилась на нее ожидая, что вот сейчас она откроется и выпустит очередного придурка самоубийцу. Однако дверь не открывалась, она не дрогнула, не подалась вперед, она была закрыта… а миг спустя я увидела как резко развернувшись, прямо-таки прыгнул к ней старик утопленник, что шел передо мной. Он подбежал к двери, схватился за ее ржавую ручку одной рукой, и порывчато дернув на себя, направил в мою сторону свой синий, большой, сомкнутый кулак, опутанный зеленой тиной и, словно пожамканный в нескольких местах. И сейчас же я ощутила сильный удар в спину такой, что секундой спустя, полетела вперед споткнулась об собственные, заплетающиеся ноги и упала на пол при этом больно ударившись о его потертую поверхность лбом и кончиком носа.
Возле двери послышалась секундная потасовка, в которой отчетливо звучал чей-то громкий крик, болезненный писк и пронзительный визг, затем звякнув, скрипнули дверные петли, а после раздался глухой удар быстро захлопнувшейся двери. И когда все стихло, а я, опираясь на ладони, попыталась привстать с пола, внезапно кто-то крепко схватил меня сзади за волосы, скрутив их в тугой узел, и верно, обвязав вокруг руки и немедля потянул меня на себя. Я же подчиняясь этому болезненному рывку, мигом вскочила на ноги. Тот, кто меня поднял таким безжалостным образом, начал мотать мою голову из стороны в сторону при этом злобным, приглушенным голосом приговаривая:
— Чё, чё ты дура, под ногами встала, чё мельтешишь, столб ты тупорылый… Дура… дура ты… помешала мне добежать до двери… Да, я тебя…. я тебя…
Половинчатый мужчина, а это был однозначно он, нанес мне страшный удар по голове, такой сильный, что тотчас у меня загудело в голове, в глазах потемнело, и даже ноги в коленях дрогнули, такая это была страшная боль. Из глаз моих секунду спустя брызнули в два ручья слезы, они смешались с водой, что исторгала моя кожа, и на чуток я даже оглохла… не слыша того, о чем говорят кругом. Лишь ощущая мотание из стороны в сторону и жужжащий звук внутри головы, а когда я вновь обрела слух и услышала злобный рык половинчатого мужчины, то смогла разобрать и примешивающиеся к этому рыку не менее злобные выкрики других самоубийц в основном: «Надавай этой дуре хорошенько, чтобы не повадно было» и «В конце концов, топайте своими ножищами, не сдерживайте ход других».
Мужчина еще раз тряхнул меня из стороны в сторону, и, поставив на подгибающиеся ноги, да отпустив мои волосы, очередной раз пнул в пятое, мягкое место, повелевая мне таким образом идти.
И я пошла… Утирая бегущие из глаз слезы, из носа сопли, и смахивая с лица воду…
Я пошла… Ну, не буду же я с ним спорить, ругаться или драться… в самом деле, ведь он и сильнее, и выше меня… и он мужчина, а я женщина. И потом, я теперь поняла… никто… никто за меня здесь не заступится потому, что никакого старшего, главного здесь нет.
Здесь правит только сила… сила самоубийц.
Глава четвертая
Я пошла… пошла тихонечко постанывая и поскуливая, жалуясь на свою горькую судьбу и проклиная себя за ужасный поступок который прямой тропкой привел меня в этот ужасный… отвратительный коридор в общество этих безумцев.
Прибавив шаг, я вскоре догнала тех, кто двигался в моем ряду, и увидела перед собой почти голого молодого парня, на оном кроме серых плавок ничего не было.
Парень наверно был один из тех, кто решил закончить свою жизнь, выбросившись с огромной высоты, а потому из-под его местами разорванной и обильно кровоточащей смугловатой кожи на голове, теле, руках и ногах выглядывали обломки белых костей омываемых кровью, красные куски плоти и надорванные, свисающие похожие на бельевую веревку мышцы, сухожилия да нервы. Голова представляла из себя кроваво- сплюснутую на затылке массу. Из спины выглядывал клиновидный обломок позвоночника, левая рука и вовсе была оторвана в районе предплечья, и, свисая, крепилась на каких-то узких остатках мышц и сухожилий, колени на обеих ногах, судя по всему, изломанные топорщились криво в бок, и от этого тело парня смешно так покачивалось из стороны в сторону, да казалось то идет не человек, а большая неповоротливая утка.
Когда я догнала этого парня и отпустив его от себя шага на два пошла следом, то услышала позади себя тяжелый хрип дыхания того самого половинчатого мужчины, что бил меня и неожиданно оглянувшись и сердито посмотрев на него, набралась смелости и негромко, но очень грубо сказала:
— Не смейте больше меня бить.
— Чё…, - протянул он, и, набрав полный рот кроваво-красной слюны, плюнул в мою сторону, намереваясь попасть мне прямо в лицо.
Однако я предусмотрительно шагнула вперед, и слюна его, не долетев до меня, упала на пол. А я не на шутку рассвирепев, понимая, что если не постою за себя вот прямо сейчас, буду всегда бита… и точно забыв об ударе, каковой давеча получила по голове, добавила:
— Еще раз тронете меня… я вцеплюсь вам в морду ногтями, — и я показала ему остатки своего некогда ухоженного, дорогого маникюра, уже конечно не такого острого, но все же пугающего. И продолжила, — а потом я залезу в остатки вашей башки, и, расплескаю этот тупой, злобный, закипающий бульон… и вы… и вы, поверьте мне, долго будете его соскребать с этого грязного, не мытого пола.
— Ах, ты… чумаза накрашенная, — прошипел мужчина, и, сжав свой огромный кулак, протянул в мою сторону.
— От чумазлая слышу, — ответила я и втянула в себя свои губы, оставив на поверхности лица лишь тонкую линию, всем своим видом показывая, что я его больше не буду бояться и смогу за себя постоять… да, радуясь, что этот отвратительный получеловек не напал на меня, а ограничился лишь сжатым кулаком, наверно хоть, и, не испугавшись, но все же не желая связываться с психопаткой.
Психопаткой…
Мне вдруг так стало обидно за себя, что этот злобный, с полуразвалившийся головой мужик смеет меня пугать, бить, грозить кулаком и думать… думать, что я психопатка, а после горестно всхлипнув и повернув голову так, чтобы больше не видеть его и этот бульон в башке, печально вздохнула и напомнила себе, что на самом деле я ведь и есть психопатка. Вскрыла вены и теперь вот тащусь в этом ряду безумцев, и сожалею… сожалею… что так безрассудно, глупо… преступно глупо рассталась с дарованной мне жизнью, такой бесценной… бесценной и прекрасной.
А Андрей… кто такой этот Андрей, подумала я и заметила самой себе, что можно было (я теперь это понимаю) и пережить его уход. Пережить… Напиться вина, укрыться большим из козьего пуха вязанным косматым платком, лечь спать, а утром… утром пойти к родителям… друзьям…
Родители… только сейчас я вспомнила… вернее позволила себе вспомнить про маму и папу, которые остались там, которым предстоит найти свою дочь в ванной комнате в кровавой воде, со вскрытыми венами.
Найти… Увидеть… Хоронить… И затем жить с этим…
Ужас… Ужас… Что я натворила… Как могла такое совершить с их жизнью… со своей жизнью… И главное это то, что я продолжаю думать, переживать… продолжаю жить… ничего не остановилось… не прекратилось.
— А нафига, ты дура вены вскрыла? — услышала я такой неприятный для меня голос половинчатого.
— Я не дура, — сердито откликнулась я, и, повернув голову, глянула на утирающего с лица кровь мужчину. — У меня вообще-то имя есть — Оля.
— Очень приятно, — заметил он и его широкие, плотные губы, с выпирающей вперед тяжелой нижней губой мгновенно пришли в движение и расплылись в открытой располагающей улыбке, показав два ряда ровных белых зубов покрытых местами, точно накипь на чайнике, красноватыми прожилками крови. — А я — Андрей.
— Ох! нет! только не это…, - недовольным голосом вскрикнула я и печально глянула на лицо мужчины, с губ которого тотчас сбежала улыбка, и осталось там, лишь то самое, присущее ему от рождения, обиженное выражение.
— Чего нет! — теперь сердито буркнул Андрей.
— Да, что нет!.. — поспешно принялась пояснять я, не желая обижать этого нервного самоубийцу. — Просто меня бросил мужчина и его звали также, как и тебя- Андрей, — чего уже быть воспитанной, подумала я, и стала также, как и он тыкать.
— И чё? — непонятливо спросил он и утер попавшую в глаза кровь.
— Ну, как чё, — пожимая плечами продолжила я, — мне было очень плохо, я его любила… А он нашел другую, сказал мне прощай и ушел… Ушел… Предал… Бросил словно не нужную старую вещь… Рухлядь… — внезапно на меня нахлынули чувства от пережитой боли, а потом я словно в тумане увидела полную крови ванну и в ней мое плавающее тело. И вспомнив про родителей, довольно тихо всхлипнув, добавила, — я не смогла пережить его предательства, и мне показалось, что не зачем и вовсе жить.
— И чё? — вновь повторил Андрей, а после широко раззявив рот облизал языком свои губы, собирая с них кровь и выплюнув собранное на пол, заметил, — ну, нашел другую, ушел… бросил. И чё, из-за этого нужно непременно вскрывать вены, топиться, вешаться?… Ох, ну и дуры же вы- бабы! Ха…ха…ха, — громко и зычно засмеялся он, качнул своей головой и его кровавый бульон внутри башки опять вздыбился вверх, а затем плюхнувшись вовнутрь издал, что-то похожее на хлюп…
— А чего ты смеешься, — обидчиво сказала я, внутри все же соглашаясь с мнением этого Андрея. — Сам- то чего с собой сделал… Глядеть страшно… тоже мне… смеется…
Андрей мгновенно перестал смеяться, поднял руку и ощупал рваные края головы, словно намереваясь опустить туда, вовнутрь, пальцы и уже без всякого смешка, изрёк:
— Да, я… что ж… Я не пожелал ментам сдаваться… Я понимаешь, человека убил. Менты за мной пришли… Ну, а я не захотел их пускать, схватил ствол тестя и давай от них отстреливаться… А когда в винтовке остался последний патрон, засунул ствол в рот и нажал на спусковой крючок… Все равно мне расстрельная статья светила, так чем ее ждать… лучше уж все махом… махом решить, так я подумал.
— А…а…а… — протянула я, и почему-то мне стало жалко этого Андрея, уж так он говорил о своем самоубийстве горестно, я помолчала несколько секунд, разглядывая его, в принципе, очень даже интересное, красивое лицо, а потом задумчиво спросила, — погоди, а почему ты решил, что тебе расстрельная статья светит? У нас же мораторий на смертную казнь.
— Чё…чё, ты сказала? Повтори, — бестолково переспросил Андрей и наморщил остатки своего лба покрытого густым кровяным компостом, отчего на нем немедля появились глубокие впадины и не менее высокие горы.
— Ну, как чё, — принялась объяснять я, непонятливому и как мне показалось сперва, малообразованному Андрею. — У нас уже лет двадцать как мораторий на смертную казнь, то есть если ты даже и убил, тебя не расстреляют, а дадут пожизненно.
— Не… ну, ты к чему это заливаешь…, - скрипнув зубами, злобно прошипел Андрей. — Ты, чё, думаешь, я дурак… законы не знаю?… Какое такое пожизненно… Вышка… вышка мне светила, я ведь и еще ментов пару человек уложил… Вышка… вышка… Дура… дура ты… еще и смеешься надо мной…, - уже совсем грубо сказал он, и плюнул в мою сторону, только на этот раз не метясь в меня.
И тогда меня осенило и я не громко так, можно сказать даже тихонечко, чтобы не вызвать в этом несчастном убийце ярость, осведомилась у него:
— А когда ты умер… Ну, в каком году ты того…
— Того… ты имеешь в виду башку прострелил? — дополнил мой вопрос Андрей и увидев мой положительный кивок, ответил, — в 1980 году, в мае месяце.
— Ох, — издала я возглас полный удивления, и, не мешкая пояснила, — так нынче на дворе уже 2010 год.
— 2010…, - очень тихо повторил он и жалостливо всхрапнул, будто намеревался заплакать, зарыдать. Его крупные серо-карие глаза наполнились прозрачными слезинками, через миг две огромные капли вынырнули из них, резво смешались с застывшей кровью на щеках, отчего цвет на них сменился с красного на алый, и Андрей срывающимся на хрип голосом, дополнил, — это ж… это ж… почти тридцать лет прошло… ох!.. — тяжело и протяжно выдохнул он. — Сынок то мой уже совсем взрослый стал… мужик… Подожди это ж сколько ему теперь… ох! ты мать моя женщина… это ж ему тридцать шесть лет… Эх! ты мать моя… Эх! ты…
Андрей замолчал и перестал утирать лицо от крови, потому как из его глаз стали вновь и вновь выныривать слезы, а я предусмотрительно отвернулась, уж так мне стало его жалко. Сначала его… потом себя.
И горестно заплакав, я принялась корить себя за такой ужасный, скверный поступок, оный сделал несчастными моих родителей и превратил меня, их любимую, дорогую дочурку, в эту жалкую, мокрую курицу с истекающими кровью руками.
Утерев тыльной стороной ладони свой хлюпающий соплями нос, я глянула на кровавые ленты, обмотанные вокруг запястий. Они, уже давно напитавшись кровью, поменяли цвет, став ярко пунцовыми. Просачивающаяся сквозь трикотажную ткань кровь, срывающаяся с кончиков моих пальцев, достигая пола, громко шлепалась о его деревянную поверхность. Она упруго отскакивала от нее и разлеталась в разные стороны. Попадая на штанины моих джинсов, на голые ноги парня, идущего впереди, и, соприкасаясь с его кожей, смешивалась, тонула в крови, обильно покрывающей его тело. Вместе с кровью разлетались в разные стороны и капли воды, что рождались, не понятным для меня образом, на моей коже, исторгались ею и стекали вниз, стремясь достигнуть вожделенного пола.
Я шла и глядела на капли багряной крови, бледно-розовой воды и думала… думала… думала…
И болезненно мучилась… мучилась… мучилась…
Ненавидела… ненавидела себя за это страшное решение прервать мою жизнь, остановить ее течение воспользовавшись, как мне казалось на тот момент, самым легким вариантом уйти от проблем, а на самом деле все… все…усложнив и безвозвратно испортив. Мой бывший, как теперь стала я его называть, совсем ушел из моей памяти, забылся… исчез… испарился… распался на молекулы, атомы…
А после того, как я стала разговаривать с половинчатым Андреем, что шел позади меня, мысли о бывшем и вовсе стали, точно тяжелым болезненным бредом. Каковой когда-то пережил, давно…давно забыл о нем, а о самой боли и муках осталось лишь едва тонкое, прозрачное воспоминание…
— А, что, — поинтересовалась я вначале нашего знакомства с половинчатым Андреем. — Зачем ты меня стукнул, я так и не поняла… Это из-за двери, что ли?
— Кх…кх…, - откликнулся Андрей собирая очередную порцию крови и выплевывая ее на пол. — Конечно из-за двери…, - он на пару секунд замолчал и уже чуть мягче добавил, — уж ты прости меня, за то, что я тебя стукнул… Не сдержался я… Просто эта дверь, это единственное, что тут есть… и во имя чего мы тут идем… Эта дверь уводит из коридора… Войдешь в нее и больше не увидишь ни этих психованных харь, ни этого злополучного, будто бесконечного… вечного коридора.
— А куда же ты попадешь тогда? — заинтересованно спросила я.
— Кто ж знает… куда…, - усмехаясь ответил Андрей. — Ты, чё до сих пор не въехала… Здесь нет никого, кто оставил инструкции… Тут ты один на один со своими муками, со своей совестью и тупой башкой, которая довела тебя вот до этого разваливающегося коридора. Ты двигаешься вперед… вперед… а если не захочешь идти или попытаешься сдержать ход других скоренько так получишь по голове… Я тоже получил… получил по этому вареву внутри башки… Оно и так-то болит, а как по ней заедут кулаком, так тот удар уж очень болезненно в ушах отзывается…эх!.. А потому ты и топаешь ножищами… хочешь не хочешь, а тебя сзади непременно подгонят… Это, наверно нарочно тут так устроено, чтобы тебе не захотелось присесть… или вновь наложить на себя руки. Вот ты и двигаешься и ждешь когда появится та дверь… и ты в нее проскочишь… Проскочишь и попадешь куда-то в иное место… в новое… Может лучшее, а может и нет.
Андрей говорил неторопливо, часто делая паузы в предложениях, между слов, стараясь объяснить мне смысл пребывания здесь, а когда он закончил, откликнулась я:
— Может через эту дверь приходят к Богу… На суд Божий…
— Дура… на какой суд Божий, — сказал Андрей, однако в этот раз слово дура прозвучало как-то нежно в его голосе, словно он сказал не дура, а глупышка. — Да таким как ты и я не видать Бога… А потом я то в Бога не верю… Я вообще-то атеист… я советский человек… впрочем как и ты… Или нет, или ты не советская?
— Нет больше такой страны- СССР, — печально отметила я и тяжело вздохнула. — Она распалась… пятнадцать союзных республик стали независимыми. Коммунистическая партия больше не у власти, и строй у нас теперь не социалистический, а капиталистический… Да, и во главе Российской Федерации стоит не генеральный секретарь, а президент.
— Кто? — почти прошептал Андрей.
— Президент, — повторила я, для особа бестолковых.
— Президент… это как в США, что ли, как у наших врагов что ли?… — переспросил Андрей этим вопросом больше обращаясь к себе, нежели ко мне.
— Они теперь вроде бы нам и не враги, — произнесла я, и оглянувшись на мгновение, посмотрела в ошарашенное лицо Андрея и в его чуть-чуть вытаращенные глаза. — Не враги и не друзья… а так, что-то непонятное. Впрочем наша страна теперь тоже, что-то непонятное… Все фабрики, заводы теперь в частных руках… хотя уже и нет той промышленности, что была в советское время, нет колхозов, совхозов… живем мы только благодаря продаже нефти и газа… У нас теперь частная собственность на квартиры, дома, теперь у нас налоги, и полный бардак, бедлам в стране… коррупция, бандитизм… и большая часть народа спивается, наркоманит.
Андрей молчал, только слышалась, там позади меня, его тяжелая поступь и прерывистое дыхание, будто человеку было тяжело не только воспринимать услышанное, но не менее тягостно это услышанное пережить, переосмыслить. Судя по всему он на какое-то короткое время лишился дара речи, а потому не слышалось даже его постоянного поминания егойной матери, каковое он очень любил говаривать, ругая таким образом и себя, и всех психованных, что встретились ему на пути.
Я шла, тоже молча, не прерывая его дум и тихонечко так вздыхала, представляя себе, как наверно ему, советскому человеку, жившему в застойное, прекрасное, по рассказам старших, время бедственно было узнать о том, что его великой страны больше не существует. Узнать, представив себе, что подверженное критике неправильное и чуждое произошло с его Родиной и теперь живет, правит внутри нее.
Немного погодя Андрей снова заговорил со мной, и теперь в его голосе не было былой злобы, он звучал мягко, нежно, словно голос знакомого мне человека, можно сказать даже друга:
— И зачем ты Оля вены вскрыла… — это был не вопрос, а точно упрек, который я уже давно озвучила сама для себя, а теперь озвучил он. — Зачем убила себя… Такая ты баба ладная, красивая… наверно не дура, поди образованная… Ухоженная такая бабенка… и ради этого мужичка так с собой по-дурному поступила.
Я — опешила… Опешила и оттого, что Андрей на самом деле может быть таким хорошим человеком, может так спокойно, осмысленно говорить. И оттого, что говорил он дельные, правильные слова и говорил их по-человечески, по-доброму так как может сказать лишь близкий, родной человек… или человек с которым вместе, что-то пережито… и пережитое оставило неизгладимый, широкий шрам на душе обоих. Я порывисто оглянулась, посмотрела на него, его губы широко раздались в стороны, показав мне улыбку, выражающую одновременно нежность и затаенную обиду, глаза мои наполнились слезами, голос дрогнул, переходя на рыдания и я, с трудом справляясь с волнением, ответила:
— Дура!.. Дура-я!.. У меня такая хорошая жизнь была… прекрасная… замечательная…любящие родители… квартира двухкомнатная от бабушки досталась…работа… Я ведь в отличие от других ни в чем не нуждалась, ни на чем ни экономила, позволить могла себе и фитнес, и солярий, и наращивание ногтей, и наряды в дорогих бутиках, и не менее дорогую косметику… Я отдыхала на море, была за границей, в Праге, Париже, Лондоне, Венеции… Ужинала в ресторанах, ходила в ночные клубы…. Дура!.. Дура — я! И если бы я даже этого не имела, даже если бы жила плохо, перебиваясь с копейки на копейку, даже если бы снимала квартиру или вообще снять не могла… то сейчас… сейчас бы я никогда так не поступила… Никогда бы ни убила себя, — и я горько заплакала, крупные слезы потоками хлынули из моих глаз на щеки и смешались с водой, а я тяжело всхлипнув, передернула плечами от горя и сырости, что царила на моей коже, волосах и вещах да поспешно повернув голову по направлению движения, зарыдала.
— Ну…ну… не плачь, — негромко сказал Андрей и тоже протяжно вздохнул. — Чё теперь слезы лить… поздно теперь… Теперь надо шагать, а потом увидев ту дверь войти первой. Слышишь меня, Оля, первой… И если будут за нее драться, толкать, пинать… ты ее не уступай… никому… ни мне, никому другому. Главное помни, надо крепко держаться за ручку, чтоб значит твою руку с нее не сдернули… И вот если ты удержишься за нее, за эту самую ручку, дверь подастся и ты туда войдешь… Там правда, кроме белого тумана ничего не видать, но это может нарочно так.
Я перестала рыдать, затихла, смахнула с лица соленые потоки воды, перемешанные со слезами, каковые мигом разбавились кровью стекающей с перебинтованных запястий, и, проведя лицом по правому плечу где кудлатой бахромой торчали оборвыши рукава, скинула на желтый трикотаж остатки крови. Они сейчас же набухнув будто весенние распускающиеся почки скатились вниз по футболке, и, оторвавшись от нее упали на пол, да впитались в его поверхность, словно их никогда… никогда и не было…
Не было…
Их может и не было, а мы — я, Андрей и все те, кто шел впереди, позади и слева… мы все были. И мы шли туда… вперед стремясь к той неизведанной двери, оная поглотив нас быть может дарует нам спокойствие, очередной шанс, а быть может отправит нас куда-то в более страшное место.
Я страшилась и этого места, и самой этой мысли, которая стала преследовать меня, страшилась высказать ее вслух…
Я боялась высказать эту мысль не только Андрею, но и себе…
Андрей…на самом деле он не был злобным, жестоким и малообразованным. Он был просто таким же, как и все мы, обреченным, но в отличие от тех безумцев, что проходили мимо сохранил разумность речи и волю, желание не страшась двигаться вперед, туда к иному, другому, новому…
Однако он был атеист, он не верил в Бога… ни в иудейского Тетраграмматона, ни в христианского Иисуса, ни в мусульманского Аллаха, ни в индусского Будду, ни в славянского Сварога, а потому в отличие от меня, которая стала сомневаться в своем неверии, шагал бодро и смело, всеми силами желая проникнуть в эту дверь.
Хотя впрочем, этого желал не он один…
Двери появлялись не часто, а когда выскакивали в стенах я и шедшие рядом люди останавливались. Я, освобождая от текущей воды глаза, видела, как устремлялись к ней самоубийцы из моего ряда, он кидались на нее будто безумные, рвали из рук друг дружки заветную ручку, колотили соперников по головам, кусали за уши, руки, носы, вырывали остатки волос. И всякий раз переломанный, похожий на утку, парень бежал к двери и также, как и другие вступал за нее в единоборство.
В таких случаях Андрей выглядывал из-за моего плеча и негромко комментировал происходящее:
— Не… нам Олюсек с тобой не зачем бежать… слишком много народу собралось, не пробиться.
И сдерживал своей спиной нервных позади себя самоубийц, злобно на них гаркая и грозя, особа прытким своим мощным, наполненным силой кулаком.
А иногда дверь появлялась слева и когда к ней устремлялись идущие в левом ряду самоубийцы, он, если я останавливалась и наблюдала за потасовкой, нежно подталкивал рукой меня в спину и негромко говорил:
— И туда нам не стоит идти, а то эти левые так надают за то, что ты сунулся не в свой ряд… долго потом будешь плюхать носом, и потирать отбитые места… Каждый ряд должен входить в те двери, кои справа от него, и не глядеть, не покушаться на левые. Это мне сразу объяснили, не успел я сюда прийти… Помню пришел я тогда, и по неопытности решил, не разумно так, проскочить к внезапно появившейся в левой стене двери… Ох! видела бы ты, Олюсек, как мне тогда досталось от трех здоровенных таких мужиков… уж как я не отбивался, а был повален на пол и избит их ножищами… Очень я пожалел тогда, что сделал этот неверный шаг и покусился на дверь чужого ряда, потирая избитые и болевшие места.
— И никто не заступился? — спросила я, чувствуя обиду за Андрея которого так болезненно испинали, в принципе ни за что, и уже совсем позабыв как когда-то… давным давно мне досталось от него.
— Заступился, — Андрей громко засмеялся, и, покачав головой, добавил, — Олюсек, да тут никто и не заступиться… Тут ведь каждый сам за себя… Тут ведь все самоубийцы, а это значит в основном психованные.
Да, безмолвно согласилась я с Андреем, в основном люди, кои совершают суицид психически больные. Ведь человеку свойственно чувство самосохранения, это нормальное состояние, когда человек пытается защитить себя, спасти свою жизнь подвергающуюся опасности. Люди даже идут на преступление убивая других ради себя, это естественно… естественно… это заложено в нас природой или Богом… как кому нравится. А потому не нормально, грешно, низко и глупо терять то самое естественное состояние защиты себя. И наверно на такое способны лишь психически больные люди… либо, такие как я и Андрей, которые просто не смогли справиться с жизненной ситуацией решив, что смерть все остановит. Такие люди, которые дрогнули перед очередной проблемой… дрогнули, струсили, дали слабинку… надеясь, что без борьбы все уладится смертью.
Уладится… Кхе…
Однако… нет! не уладилось, как вижу я теперь, а даже наоборот усугубилось… ухудшилось…
И теперь здесь в этом дряхлом, разваливающемся коридоре мне предстояло продолжить борьбу за себя, за дверь, за ручку от нее, чтобы… чтобы получить иное… другое и быть может новое. Теперь я должна идти вперед, рассуждая и обдумывая то, что так преступно разрушила своими руками, разрезав тонким, звенящим лезвием, переступив через труды родителей и мучительно мечтать лишь об одном, о достижении той самой отвоеванной, заветной ручки оную непременно надо удержать в своих руках.
И так я шла…шла…шла…
Довольно редко появлялась передо мной или позади меня та самая дверь, с той самой вожделенной ручкой и каждый раз и я, и Андрей, и похожие на нас люди устремлялись к ней, хватая друг друга за голые плечи, мокрые вещи, остатки веревки на шее стараясь оттянуть, отнять эту недоступную ручку. Однако стоило какому-нибудь особенно настырному, упорному самоубийце удержаться на ней несколько секунд, как дверь внезапно дернувшись, подавалась на своего победителя и начинала, скрипя отворяться, и тогда мы отпускали такого счастливчика и нагоняя ушедших вперед продолжали свой путь.
— А может, — предлагала я всезнающему долгожителю этого коридора Андрею. — Давай проскользнем в приоткрывшуюся дверь, пока ее там держат за ручку, — за последнее время мы так сдружились, что обсуждать могли все, что угодно.
— Э… нет красавица, — так стал теперь называть меня Андрей и вкладывать в это слово какую-то особую нежность свойственную лишь паре влюбленных. — Я разок попробовал, да нащупал там стену, а не проход… Точно ручка дверная запоминает того кто за нее держится и открывает проход лишь тому, кто смог на ней провисеть… Вроде как в метро заплатив за проезд турникету…. И если турникету достаточно тех пяти копеек, чтобы тебя пропустить, то плата здесь, эта борьба и упорство твое, желание жить и выбраться отсюда… Короче то чего ты не захотел сделать там при своей жизни, предпочтя как тебе показалось выбрать более легкий способ избавиться от проблем. — Андрей замолчал, а немного погодя добавил, — мне почему-то все время не удается удержать эту ручку… Несколько раз я на ней повисал… висел… висел… но меня всякий раз срывали… Это наверно потому, как я не просто самоубийца, а еще и убийца и на моей совести смерти ни в чем ни повинных людей… оттого и пребывание мое здесь… такое длительное… эх!.. — горестно выдохнул он.
А я, чтобы как-то поддержать его заметила, повернув голову:
— Я все время думаю… думаю… если бы вернуть время назад… повернуть его вспять, я бы никогда, никогда не натворила того, что сделала… Никогда…
— Еще бы, — согласился Андрей и в знак поддержки кивнул своей раскрытой головой, из которой тотчас будто поток лавы из вулкана хлынула кровь с кусочками мозгов. — Такая красавица, молодая… умничка и из-за дурака какого-то вены резать… Ладно я… Мне как говорится некуда было деваться. Все равно расстрельная, а тебе Олюсек живи и живи… Жизнь такая чудесная штука, радуйся и живи, лапушка ты моя…
— Андрей, — прерывая рассыпающиеся в мою сторону комплименты, перебила я его, чувствуя, как расположен он ко мне и ощущая необыкновенные, возникшие между нами, доверительные отношения. — А за, что ты человека убил?
— Да…, - протянул Андрей, не очень-то желая упасть в моих глазах, а потом улыбнулся своей располагающей улыбкой подняв вверх уголки рта и немного выпучив верхнюю губу так, что стал похож на недовольного ребенка. — По глупости влез я в дельце одно… Ограбили мы с приятелем кой- кого… Ну, а хозяин квартиры как назло домой явился… и вышла у нас там потасовка… И я случайно его… случайно… не хотел я его убивать… А этот приятель… его как взяли, он ментам меня и сдал… мать его так… Мне бы самому пойти, явку с повинной написать, а я нет… Менты когда за мной явились, я с дуру ствол тестя схватил и давай отстреливаться… А когда в двух из них попал… понял, что все…все…все… Деваться некуда!.. Так все по-дурацки вышло. Не зачем мне было и вовсе на грабеж идти… У меня же Олюсек, жена была, сынку седьмой годок шел… Все у меня хорошо складывалось так нет приперся этот приятель… чтоб его. Всю свою жизнь из-за него прокакал, спустил в унитаз… Эх, да ведь ученый, как говорится был, раз уж сидел по малолетству… Отсидел, вышел, вроде как ума нажил… повзрослел… на работу устроился, женился… потом сынок родился… И тут этот Санек ко мне подвалил… эх! чтоб ему….
Андрей замолчал, верно, говорил про себя не лестные эпитеты, посылая их в сторону приятеля, каковой так неизвестно зачем подвалил и сломал и его жизнь… и жизнь его жены и жизнь сына… да направил поступь этого человека в полуразвалившийся коридор, в общество самоубийц.
Глава пятая
Мы разговаривали с Андреем подолгу, он рассказывал мне о своей жизни, о жене Наталье, о сыне Володьке, а я в основном о том, что произошло за эти годы с нашей страной, и в целом, что случилось в мире.
Андрей хоть и сидел в тюрьме, и был когда-то лишь простым водителем грузовой машины на стройке, оказался очень умным и интересным собеседником. Он всегда внимательно слушал мои рассказы, делал толковые замечания и с болью в сердце переживал, не раз высказывая это, гибель и развал Советского Союза, его любимой и великой Родины. И честно говоря, если бы не кровавый бульон в его голове, то можно было бы сказать — он задел меня за живое… все больше и больше начиная мне нравится.
Ох! слышала бы я себя… находясь одна в квартире в той жизни… непременно бы скривила свои мягкие, пухленькие губки, наморщила свой покатый небольшой лобик и презрительно посмеялась над этими мыслишками… над изменившимся вкусом… и над этой жалкой, мокрой курицей в которую теперь превратилась.
Только сейчас я презрительно хмурилась над теми мерзкими, безумными мыслями, что произносила, тогда… оставшись в пустой квартире, не желая находиться в одиночество, не желая жить и возвращаться в ту покинутую и холодную кровать.
Эх!.. повернуть бы время вспять… Хоть на секундочку… на самый малюсенький миг…
И с замиранием сердца услышать, как скрипит отмыкаемый замок, открывается дверь… Войти…войти в ту теплую, сухую и приятно пахнувшую домашним уютом квартиру… Увидеть свою чудесную прихожку, такую убранную, светлую, озаряемую трехрожковой люстрой, в которой мигом бы вспыхнули три наполненные сиянием стеклянные лампочки… Упасть бы на простыни хрустящие от чистоты, сухие, небрежно расстеленные на двуспальной, широкой и мягкой кровати… Накрыть себя сверху одеялом из лебяжьего пуха… И закрыв глаза насладиться покоем, тишиной, пустотой, одиночеством живущем в той квартире… Насладиться… насладиться…. дарованной тебе жизнью и ощущением, что ты живехонек… жив, здоров и невредим.
А не этим… просто невыносимым плачем, хрипом, стенанием, этим плесневелым запахом не просыхающей, гниющей древесины, этим плюханьем босых, мокрых ног по полу… Этим ненавистным мне коридором и всеобъемлющим желанием ухватиться за дверную ручку и несмотря на боль в руках обязательно… обязательно ее удержать и получить, что- то новое… иное…
Хотя… хотя, если честно сказать, теперь я убедившаяся в том, что после смерти есть жизнь… Вернее иное состояние тебя, иное существование побаивалась, что есть и Он — Бог… каково его имя Сварог, Будда, Аллах, Иисус, Тетраграмматон, я не ведала, но если есть Он, значит наверно есть и Суд Божий.
Суд Божий… быть может тогда есть и Ирий- сад…. и Пекло…
И войдя в эту дверь, коей все так стремятся, вернее почти все… не попаду ли я прямым ходом на этот самый Суд… на плаху, где уже точит топор палач, одетый в красный плащ и высокий с прорезями для глаз колпак.
Палач… оный теперь, прямо как восставший из могилы призрак, стал преследовать меня, и частенько выскакивать перед моим взором, проводя пальцами по острому, тонкому лезвию топора и по своей шее намекая мне, что меня ждет там… за той дверью… намекая или просто пугая.
И страшась этого палача, и своих мыслей, я уж не всегда, и не так настойчиво, пыталась схватиться за ручку… схватиться и главное удержаться… иногда пропуская вперед более настырных и упорных. И что самое интересное этим более упорным никогда не оказывался Андрей, который наверно решил, что именно я должна была, из нас двоих, первая уйти отсюда и теперь все время мне помогал в осуществлении этого действия.
Ну, а когда в очередной раз я уступила ручку двери более настойчивому, а именно голому, переломанному парню, что шел впереди меня, Андрей не выдержал моего вероломства. Он громко закричал на меня, спросив, почему я не желаю отсюда уходить и, пригрозил, что больше не будет мне помогать и следующую ручку схватит сам.
Когда он выкрикнул то о чем лишь я догадывалась, подтвердив мои мысли, я расплакалась… Утерла его кровавую щеку, смешав свою кровь и его, и разбавив все это водой и поцеловала его туда, а затем поспешно развернулась и пошла нагонять ушедших вперед.
Андрей вскорости догнал меня и ничего не говоря, молча пошел позади меня, а я чтобы прояснить ситуацию, сказала ему:
— Андрей, я боюсь… боюсь, что за этой дверью не будет ничего хорошего… И там… там нас ждет… ждет Суд Божий… Суд Божий и смерть… Понимаешь настоящая смерть… Смерть!
— Ну и пусть, — очень громко ответил мне Андрей и голос его звучал одновременно жестко и нежно, обращая первое чувство к смерти, а второе ко мне. — Пусть смерть Олюсек… лишь бы не этот вечный ход в мрачном, гниющем заживо бесконечном коридоре… И я, ведь ты это знаешь, не верю в Бога. Не верю и никогда не верил… Однако я очень благодарен судьбе, что смог встретить тебя, пускай даже здесь… Встретить, узнать… и… и…, - он замолчал, порывисто всхрапнул наверно собирая во рту кровь, и немного погодя произнес, — но я думаю… лапонька моя… там за той дверью… там борьба… Борьба за выживание, за продолжение тебя как таковой… материальной… духовной… то неважно… Важно, что если и там ты продолжишь борьбу, сможешь идти вперед, стремясь к новому, не оглядываясь назад… Если ты сможешь продолжить свой ход, свое движение не обращая внимания на трудности, боль, страдания, ты сможешь изменить то, что лежит сейчас перед тобой и непременно как награду получишь новое… иное… другое… А потому, девочка моя, ты выкинь из себя этот страх и иди… иди… иди вперед… Выкинь страх тот самый, который когда-то убил тебя и помни, ступая поэтому тяжелому, трудному и горестному пути… Помни, что лишь те, кто не страшась идут к намеченной цели, остаются победителями. — Андрей поспешно догнал меня и протянув руку ласково провел кровавой ладонью по моим мокрым, растрепанным волосам, приглаживая их и нежно добавил, — я, девочка моя, понял это… понимаешь понял и осознал… И теперь я делюсь с тобой своими знаниями и может так называемой жизненной мудростью…. Может именно поэтому я так долго не мог уйти отсюда, что обязательно должен был помочь выйти на путь борьбы новому человеку…заплутавшему и предавшему себя в руки смерти… Тебе, Олечка… тебе я должен помочь… И я непременно помогу, тебе, моя радость… только ты… ты должна желать идти… и не страшиться борьбы.
Я шла и очень внимательно слушала Андрея, и чувствовала к этому человеку такое тепло, такую благодарность понимая, что только благодаря ему… благодаря ему я переродилась душой… переосмыслив совершенное мною и приобретя от него желание продолжить свой духовный путь и борьбу. Быть может он и прав! Он, убивший когда-то человека, безусловно должен был, как плата за тот страшный поступок, возродить стольких у скольких отнял жизнь. И тогда наверно, он тоже сможет уйти из этого коридора и увидеть иное… другое… новое…
А потому… потому, понимая, правильность этого бесконечного коридора, правильность выпавшего на мою и Андрея долю, наказания… Я решила для себя, что ради него Андрея… ради своих родителей, которых я так подло осиротела своим чудовищным поступком… и ради иного… того, что ждет меня впереди, я выкину из себя всякий страх, колебания… Я больше не буду обращать внимание на того елозящего перед глазами палача, в красном колпаке с топором в руках, и пойду смело туда, куда меня ведет открывающаяся дверь. И если положено мне предстать на Суд Божий, то я на него предстану, без всякой дрожи ступив своими босыми ногами на деревянный помост эшафота.
Впрочем дверь больше, как назло, не появлялась ни впереди, ни позади, ни даже в левой стене, так будто передумала впускать меня… передумала решать мою судьбу и подставлять мою шею под острие топора.
— Андрей, — взволнованно спрашивала я этого человека, который с каждым пройденным шагом становился мне ближе, а плюхающий внутри его головы бульон больше меня не пугал, а наоборот даже вызывал улыбку. — Почему не появляется больше дверь?
— Так бывает, — печальным голосом пояснял Андрей и при этом обнадеживающе улыбался немного приподнимая вверх губы. — Иногда подолгу их не бывает… Поэтому-то я и хотел, чтобы ты удержала ручку… знал, что такое может случиться… Но ты, девочка моя, не тревожься, не падай духом, она все равно появится… непременно… и тогда…
— Тогда, Андрей, я обязательно удержу ее в руках, обещаю, — продолжала я за него мысль и горестно вздыхала.
После того, как переломанный парень-утка ушел, пропущенный мною, передо мной появился новый самоубийца, это был мужчина средних лет. Он был одет в темно-зеленые брюки и такого же цвета, только очень потасканный почти до колена, приталенный сюртук с двумя декоративными пуговицами сзади, да черные, на небольшом каблуке, востроносые туфли. У мужчины под сюртуком, как потом оказалось, ничего не было. Два загнутых борта сюртука оголяли покрытую черными, густыми волосами грудь. У мужчины зрились темные волосы, и витиеватые достигающие подбородка бакенбарды, а потому в целом и его вид, и одежда, и манера держаться говорили о том, что передо мной человек из прошлого столетия… вернее позапрошлого. Мужчина шел, держа ровно спину, и делая каждый шаг неторопливо, опуская ногу на пол с большим достоинством, словно обдумывая, стоит ли вообще ставить ее туда. Его наклоненная, свернутая влево, обмотанная толстой веревкой шея с тем же достоинством несла голову, а конец веревки лежал на правом плече. И когда от ходьбы он съезжая с плеча, повисал вертикально вдоль пуговиц сюртука, точно утягивая туда, вниз и своего обладателя, мужчина эффектным движением руки брал этот упавший конец и закидывал его на прежнее место… вроде как то была не веревка на которой он удушился, а прекрасный, легкий шарф из прозрачной, шелковой ткани.
Меня очень заинтересовал этот мужчина. Еще бы, человек из девятнадцатого века! Ничего себе!..
И мне захотелось с ним поговорить, узнать откуда он, кто такой, что с ним произошло и почему до сих пор он не ушел отсюда…
Я стала его окликать, но он вроде, как и не слышал меня. И тогда я догнала его, подняла руку, похлопала по плечу, нещадно при этом, окатив кровавой водой текущей из моих рук его сюртук, а он вдруг резко повернув голову, глянул на меня выпученными, безумными глазами… так, что на миг я замедлила шаг, остановилась и содрогнулась всем телом. Испугавшись этих разведенных, глядящих в разные стороны черных очей, и бледного лица с синеватыми губами. Мужчина открыл рот и негромко выдохнув, сказал какую-то белиберду… вроде, как и не на русском. Он всплеснул руками, и тихо засмеявшись, внезапно остановился, да не сводя с меня пристального взгляда, схватился рукой за конец веревки и начал ее тянуть вверх. Его рот широко раскрылся и оттуда вывалился лапистый, синий язык, а затем раздались булькающие, хрипящие звуки.
— Ах! — воскликнула я, не ожидая такой нелепой, безумной реакции.
— Чё, встал дурень, — увидев, что происходит передо мной, грубо сказал Андрей мужчине, и придержав меня за плечо одной рукой, словно загораживая от безумца, протянул ему навстречу свой сжатый огромный кулак. — А, ну, давай… топай ножищами, а то сейчас схлопочешь от меня беляк недобитый… Ишь ты, девушку пугает.
Мужчина, глянув на кулак Андрея, поспешно закинул веревку на плечо, засунул язык в рот, и порывисто развернувшись, продолжил свой путь, с тем же достоинством и все так же ступая неспешно, будто в целом ему было наплевать и на кулак, и на коридор, и на веревку на собственной шее.
— Ты, зачем его окликала? — спросил меня Андрей, когда мы вновь продолжили движение.
— Да, так…, - все еще испуганно поглядывая вслед безумцу, ответила я. — Хотела узнать из какого он времени и почему до сих пор не ушел?
— И так понятно из какого времени, — отметил Андрей и негромко засмеялся. — Века из девятнадцатого, видала же на нем сюртук какой замызганный… Наверно попер у кого-та.
— Да, вроде не похож он на воришку, — оглядывая сзади висельника, его прямую спину и гордую поступь молвила я.
— Эх! Девочка, много ты понимаешь в воришках, — изрек Андрей, а после небольшой паузы добавил, — ну, а не ушел он до сих пор потому как трус… Боится этого самого… Божьего Суда… Наверно представляет себе Бога… такого громадного высоченного великана ждущего когда явится этот вороватый, трусливый висельник, которому он оторвет его головенку… А стоит ли бояться, она ведь у него… глянь Олюсек, и так на бок наклонена, Бог только пальчиком махнет и все… Она уже бестолковая такая и ни кому не нужная вниз свалиться… да покатится… ха. ха. ха, — раскатисто захохотал Андрей.
А я взглянув на образующую тупой угол, голову этого трусливого висельника, тоже засмеялась. Подумав, что Андрей как всегда прав и голова на шее этого мужчины, как впрочем, и сама шея на плечах его, держится некрепко и все время клонится на бок и маленько вперед, вроде как кивая кому-то или кланяясь.
Не могу сказать точно сколько вот так мы шли… я, Андрей и все остальные самоубийцы… день, месяц, год… а может уже и десятилетие… столетие… Однако дверь заветная, вожделенная, такая для нас всех страстная не желала появляться… проверяя, испытывая нас или просто над нами издеваясь, надсмехаясь.
В коридоре царила все та же предвечерняя серость, продолжало пахнуть гниющей древесиной, со стен осыпалась побелка, оголяя внутренности разваливающихся саманных стен- как растолковал Андрей.
Иногда осыпалась не просто побелка, а вывались целые куски глины, перемешанные с остатками камыша. Я глядела на такие куски, видела сухие волокна трав и вспоминала природу Земли, вспоминала море на которое ездила вместе… вместе с бывшим отдыхать. Вспоминала ночи, под высоким, черным небом полным далеких, чужих и как казалось мертвых планет и звезд, таких далеких… далеких… впрочем ярких, без сомнения, мерцающих своим живым, холодным светом. Вспоминалось мне море… черное… черное такое же как и небо… озаряемое хрустальной полоской лунного сияния и выкатывающиеся на песочный берег пенистые, с косматыми серебристыми кудрями, волны. Вспоминала я жар костра и огненные капли, танцующие в пламени.
Словом я вспоминала те прекрасные мгновения жизни прожитые мною когда-то… Вспоминала, тосковала, плакала, утирая слезы и воду стекающую с мокрых щек… понимая, что на самом деле я прокакала, спустила в унитаз свою жизнь, быть может, дарованную мне только один раз.
Коридор всегда был ровным, он никогда не поворачивал, не заканчивался, однако временами мне казалось, что мы движемся по кругу, по окружности. Я спрашивала Андрея, не замечает ли он того, что мы идем по кругу, но он широко улыбался своей располагающей улыбкой, и, покачивая головой, отвечал, что это мне, просто, кажется.
Но чем дольше мы шли, тем все чаще и чаще я приходила к мысли, что мы однозначно ходим по окружности, хотя и по очень большой, потому как лица самоубийц двигающихся мне навстречу никогда не повторялись и я их прежде не видела. А может… может просто из этой массы лиц я не могла выхватить тех, кто проходил мимо меня раньше. Ведь все безумцы похожи друг на друга: с выпученными глазами, вывернутыми головами, распухшие, мокрые или обливающиеся кровью… Мало было там тех каковых или одеждой, или чем иным можно было выделить из этого однородного месива.
Выделить… выделяла я только одного Андрея… Я давно уже шла ближе к нему, разговаривала и даже улыбалась его шуткам, рассказам. Мне просто было хорошо рядом с ним, с этим мужчиной, у коего отсутствовало половина головы и наверно половина мозга, однако это никак не сказывалась на его интеллекте и том теплом отношении, что возникло между нами.
И я даже не заметила, как я из Оли превратилась в Олюсека, Олечьку, девочку, лапушку… не заметила, как он из Андрея превратился в Андрейку. Превратился в Андрейку и стал таким близким, родным мне человеком, умеющим поддержать добрым словом, защитить, подставить свое плечо. Андрейка хвалил мою красоту и ладность, ласково приглаживал мои растрепанные, мокрые волосы, он даже умудрился преподнести мне подарок. Ну, не то, чтобы подарок…. а так дар…
Андрейка поднял с пола отвалившийся кусок глины, каким-то непостижимым образом отделил от бурого глиняного слоя тонкий высохший отрубок остова камыша и это трепещущееся, давно потерявшее жизнь, умершее, засохшее растеньице подарил мне… Я приняла его с радостью и слезами на глазах, положила на влажную, кровавую ладонь и молча продолжив свой бесконечный путь, подумала, что в чем-то я и этот тонкий колосок схожи… Оба мы умерли, высохли и теперь находились в ином мире… в ином состоянии…
Я смотрела как сухой остов камыша напитывается алой жидкостью замешанной на воде и моей крови, а когда намокнув, напившись этой субстанцией, он размяк, раскис. И наконец смешавшись, соединившись в одно единое вещество, хлынул с переполненной моей ладони вниз на пол, коснулся, впитался полотна дерева и превратился в ничто…я тихо всхлипнула. Всплакнула представив себе, что вот так и я быть может, соединюсь с какой-нибудь непонятной субстанцией, войдя в нее, растворившись в ней, а после исчезну… испарюсь… распадусь на молекулы и атомы…
Я потом долго шла, тревожно обдумывая и то, что могу исчезнуть как духовная единица и то, что и в этом месте таком мрачном, сыром, мерзостном можно оставаться личностью, можно вновь возрождаться и испытывать новые чувства к другому человеку.
Мне вдруг так захотелось сказать Андрейке, что я чувствую к нему, и я уже даже собралась развернуть свою голову, как внезапно справа от меня появилась та самая заветная, вожделенная белая, деревянная дверь, с облупившейся краской и ржавой, железной ручкой.
На доли секунд, от неожиданного ее появления, я опешила… и остановилась, а Андрейка неожиданно схватил меня за плечи и подтолкнул к двери. Я порывисто вытянула руку вперед, и крепко вцепилась в ручку. И пока Андрейка, заслоняя меня спиной, от нападающих на нас самоубийц распихивал, раскидывал их в стороны, поминая ихнюю мать, рванула дверь на себя, та пронзительно скрипнув, точно не скрипнув, а взвизгнув, подалась на меня. Быстро и не менее резко раскрылась так, что я даже не поняла, когда успела выпустить ручку, и передо мной появился плотный, белый туман.
И в ту же секунду позади меня стихла потасовка, а Андрейка нежно огладив мои волосы рукой, подтолкнул меня в спину, да очень тихо шепнул:
— Ступай вперед, Олечка, и будь смелая и сильная… ничего не страшись, девочка моя… Люблю тебя!
Люблю! Люблю! Люблю!
Прошелестело надо мной, прозвучало в моей голове, екнуло в моей груди и отдалось болью в моих разрезанных, располосованных и истекающих кровью руках. Я на миг закрыла глаза. Мне казалось я больна и брежу… или это долгий томительный сон… Мои ноги сами по себе шагнули вперед, а дверь тихо скрипнув, закрылась.
Люблю! Люблю! Люблю!
— Я тоже тебя люблю! — громко выкрикнула я и поспешно повернувшись, открыла глаза намереваясь выскочить обратно и остаться с Андрейкой там… в том коридоре.
Но теперь позади меня не было никакой двери, лишь серая, замызганная, бетонная стена… никогда ни беленная, ни крашенная и такая же, как и стены в коридоре давно не ремонтируемая. С отвалившейся штукатуркой, огромными, корявыми дырами из которых выглядывали рваные края бетона, похожие на те раны, что я так долго наблюдала в бесконечном коридоре у тех безумных самоубийц.
— Люблю, — прошептала я напоследок, понимая, что назад пути уже нет и теперь передо мной, что-то новое… иное… и развернулась.
Глава шестая
Я развернулась и глянув на то помещение где оказалась, и в коем более не витал белый туман, вроде как его и не было никогда, горько и громко заплакала, зарыдала, да прижавшись спиной к дранной стене, тяжело сотрясаясь всем телом, сползла вниз на пол, усевшись прямо на серую, покрытую черными въевшимися пятнами, поцарапанную, истертую и точно состарившуюся до срока, с едва видимыми беловатыми прожилками, мраморную плитку.
Новое…
Иное…
Это и впрямь было новое и иное… только не лучшее, а наверно худшее, из всего того, что я могла себе представить и уж намного… намного хуже чем тот разваливающийся, пропахший гниющей древесиной коридор по которому я шла.
Теперь я находилась в туалете… Да… да в туалете… вернее в общественном туалете, очень старом, грязном, никогда не мытом… таком не ухоженном, где просто непереносимо, ужасно воняло отходами жизнедеятельности.
Само помещение было небольшим. Справа от меня за невысокими пластмассовыми, серого цвета, грязными перегородками поместились три унитаза прижавшиеся к стене, притулившиеся к ней словно к родной мамке. Они смотрелись какими-то переломанными, искореженными, с большущими трещинами и дырами по поверхности, кое-где с них и вовсе были сбиты огромные куски фаянса. И все они точно нарочно были обильно измазаны толстым слоем коричневых экскрементов. На унитазах отсутствовали бачки со сливной арматурой, а на их месте торчали ржавые обломки труб, по-видимому, когда-то бачки демонтировали, а установить новые забыли или просто не пожелали. Не было на унитазах также сидений с откидной крышкой, лишь находилась там потрепанная, побитая чаша, поместившаяся на широком поддоне- ножке.
Напротив меня, прикрепленная к бетонной стене, висела не менее заляпанная керамическая раковина. Над ней находился латунный, потертый кран, крепко втиснутый в длинную трубу, торчащую прямо из стены. Кран был с двумя вентилями: холодной и горячей воды, плохо прикрытый так, что из его серебристого носика тонкой струйкой вытекала вода.
На левой стене, находилось большое окно с широким подоконником, под которым негромко тарахтела, и тряслась, будто лихорадочная, покрытая ржавчиной рыже-коричневая, чугунная, тяжелая батарея с двумя плоскими панелями между которыми крепились семь ребристых поверхностей.
Немного успокоившись, но, все еще продолжая тихонько всхлипывать, я поднялась на ноги, и, сделав несколько шагов по не менее разрушенному и грязному, покрытому ямами, криволинейному полу подошла к окну. Оно было деревянное, окрашенное в белый цвет, но, как и все кругом, находилось в ужасном состоянии, с облупившейся краской, вздутыми, пузатыми рамами, наполовину сгнившим подоконником, испещренным глубокими щелями, дырами, покрытым плесенью и выглядывающими шляпками крупных, ржавых гвоздей. Само окно было двухстворчатым, а створки с серыми, заляпанными стеклопакетами никогда не мытыми. Они плотно закрывались двумя старыми шпингалетами, укрепленными, снизу и сверху, на одной из оконных створок, той, что была поворотная, и открывалась вовнутрь комнаты. Эти шпингалеты фиксировали створку, соответственно входя штырями, в отверстие планок, врезанных в верхнюю часть откоса оконного проема и подоконник. На самой створке не было ручки, за которую можно было подергать или подержаться, и которая непременно могла помочь открыть это окно.
Я глянула сквозь грязное стекло и увидела там с той стороны окна черный, густой туман, какой-то липкий и влажный. Он тяжело опускался на стекло крупными каплями воды, а затем как-то вяло, лениво сползал по его глади вниз. Пальцами я взялась за рычаг шпингалета и попыталась, повернуть его круглую голову так, чтобы в дальнейшем можно было открыть створку окна. Но рычаг даже не шелохнулся, он не желал поворачиваться, словно боялся позволить штырю оставить давно насиженное, обжитое место.
«Ну, ладно, потом разберусь», — сказала я самой себе, и, вглядевшись в черный туман парящий, балансирующий за окном без всяких признаков чего-либо живого, какого-либо движения, развернулась.
Я прижалась спиной к краю подоконника и принялась оглядывать полуразваленные, покосившиеся унитазы. Стены хранящие, на своем невзрачном сером с желтоватыми и кофейными пятнами бетонном полотне, дыры. И такой же точно порушенный, несчастный потолок с которого свисали на двух тонких проводах покачивающиеся из стороны в сторону лампочки, укрепленные в черном стаканообразном патроне, тускло освещающие желтоватым светом этот туалет.
Неприятный запах, сырость, пустота и одиночество… все-это наводило на меня тоску, обиду и душевную саднящую боль… боль обманутых надежд…
Уж лучше бы здесь был эшафот и палач в красном плаще, с топором в руках….
Уж лучше бы смерть… чем это страшное заточение в туалете-тюрьме….
Я оглядывала эту темницу, из которой не было выхода… и в каковой как наказание, мне был назначен, бесконечный срок пребывания… пожизненный срок… и тихо плакала.
Крупные слезы вытекали из моих глаз, струились по щекам, падали на мокрую майку…и я понимала, что теперь мне остается лишь смириться с этим заточением, махнуть на все рукой, усесться на разваливающейся, заживо разлагающийся подоконник (что я и сделала) и ждать… ждать… конца… смерти…
Эх, Андрейка, Андрейка… стонала я, вспоминая твое залитое кровью лицо и желание помочь мне, войти в эту проклятущую дверь, из которой нет выхода, оная привела меня в темницу… одинокую и дурно… дурно пахнущую.
Я утирала лицо кровавыми руками и скулила… плакала… кричала… Я била кулаками в стекло в надежде, что оно не выдержит моих ударов и лопнет, треснет… Я рвала на себя рычаг шпингалета, в надежде сдвинуть… повернуть эту круглую, облезлую голову…
А потом опять плакала… плакала… плакала и вспоминала тот коридор, где хоть и было мрачно, и пахло плесенью, гниющей древесиной и бесконечностью… где находились все эти психованные самоубийцы… но где, самое главное, был ты… ты — Андрейка. Ты- тот кто умел поддержать, помочь, заступиться.
Здесь же я была одна… Я находилась в этом туалете, где меня никто не мог стукнуть, обидеть, напугать, где не надо было идти, и думать о вожделенной двери, стараясь ее отвоевать и удержаться за заветную ручку, а можно было сидеть и глядеть в окно на лениво стекающие капли воды, и где пропал, умер сам смысл борьбы… Потому как здесь в этом туалете, в этой тюрьме, в этой темнице уже княжила всепоглощающая смерть, наверно неторопливо поедая свою жертву…
Смерть… Смерть… Смерть…
И я вдруг громко сквозь слезы рассмеялась.
— Какая смерть, — выкрикнула я обращаясь к тому, кто устанавливал здесь все эти, испытания и трудности. — Я ведь уже давно сдохла… сдохла… Я давно вскрыла себе вены, выплюнула, сквозь щели в моих зубах, данное мне право жить, утопив его в кровавой ванне, растоптала труд мамы и папы, которые столько лет меня холили, растили, любили… Я — дура! Дура! — заорала я и закрыла ладонями лицо, намереваясь еще громче заорать, завизжать, завыть, зарыдать.
И вдруг… поднося сомкнутые руки к лицу я увидела, что из обернутых в кровавые ленты запястий больше не сочиться кровь. Ладони мои и вовсе высохли, по ним больше не текла кровь, она засохла и теперь плотной коркой покрывала кожу.
Ах!.. впервые за то время, что находилась тут, я радостно вскрикнула. Увидев и ощутив на себе, что больше моя коже не исторгает, не рождает воду, а за тот промежуток времени, что я стенала на этом подоконнике и волосы, и футболка, и джинсы мои высохли… высохли. Теперь я хоть и была курица, но не мокрая, а сухая! Сухая!
Вот оно новое… иное…
Иное…
Мгновенно я сорвала с рук кровавые ленты, с трудом отдирая их от порезов и бросила, скомкав это кровавое месиво, на пол. Затем поспешно спрыгнула с подоконника, подбежала к раковине и крутанула вентиль с холодной водой, и когда из крана точно плевок вылетела крепкая, ядреная струя воды, разбрызгивая кругом прозрачные капли, я сунула под нее руки и принялась отмывать присохшую кровь. Оттирая ее не только от запястий, ладоней, но даже от локтей, где она также успела укрепиться, будто приросла к коже, пустив там разветвленные корни. Вскоре мне удалось отмыть густую кровь придающую коже пурпурный цвет, и я увидела свои запястья. На них все еще оставались глубокие порезы вдоль линии вен, проделанные острым лезвием, с какими-то рваными, не желающими срастаться краями, покрытыми небольшими черно-алыми пупырышками. Осторожно указательным пальцем правой руки я провела по ране на левом запястье, не сильно касаясь этих пупырышков и краев… и поморщилась, раны еще болели, саднили, хотя и не так, как раньше, но боль пока не ушла, да и срастись кожа тоже пока не желала, но кровь больше из них не текла…
Хотя как может срастаться кожа на мертвом теле… или не на мертвом?..Такие мысли проскальзывали в моей голове, но ни я, ни Андрейка ответить ни них так и не смогли. Как и не смогли понять почему наша душа или дух сохраняли после смерти тот самый вид, что был у нас в момент нашей гибели на планете Земля.
Однако нежно поглаживая свои порезы на руках, я улыбалась, ощупывая свои просохшие волосы и вещи я поняла, Андрейка прав… прав он, надо бороться, не сдаваться ни в коем случае… не придаваться унынию, тоске. Надо идти вперед упорно и настойчиво и тогда может быть у меня будет не этот зловонный, грязный туалет, а что-то новое… иное…
С новыми силами и с воскресшим желанием продолжить свой трудный бой, я принялась оглядывать эту комнату, стараясь выяснить, может дверь, в которую я смогу выйти прячется где-то в стене и лишь иногда появляется, а может, она замаскирована в перегородках, за унитазами, на полу.
Я долго ходила по комнате, ощупывала руками стены, стучала кулаками по перегородкам, засовывала пальцы в дыры в стенах и полу, и даже… Я даже запихивала ногу в унитазы… такие грязные, покрытые, словно специально слоем человеческих экскрементов.
Но нет! ни в унитазах, ни в стенах, ни в полу, ни в перегородках не было никаких намеков, ни на дверь, ни на проход, ни на лаз, ни на щель.
И тогда я догадалась, что выход он там — за окном. Отсюда можно выйти только через окно, выйти туда в черный, липкий туман, а, чтобы выйти надо непременно открыть окно.
Покуда я так досконально изучала комнату, я нашла за последней перегородкой, прильнувшее к унитазу, старое, оцинкованное ведро дно какового проржавело и истончилось. В ведре лежала грязная, вонючая тряпка, судя по всему, когда-то это была шерстяная ткань и из нее даже, что-то сшили, но потом то сшитое, разорвали в нескольких местах, и теперь это уже не смотрелось вещью, а представляло из себя темно-серую половую тряпку. Очень, очень сальную и вонючую…
Недолго думая я взяла это ведро в руки, перевернув его, вывалила тряпку на пол, и, подбежав к окну начала наносить его дном удары по стеклу. И хотя окно было древнее, хлипкое и от каждого удара ведром протяжно стонало, сотрясалось, а стекло еще ко всему прочему и позвякивало, но не первое, не второе не желало мне уступать. Стекло даже и не думало лопаться или хотя бы пустить тоненькую паутинчатую трещинку, будто оно было крепким, а может кованным или пуленепробиваемым. Еще пару раз, хорошенько врезав по нему, я остановилась, тяжело перевела дух и злобно глянув на виноватое ведро, бросила его на пол. Ударившись о старый потертый, грязный мрамор ведро издало громкий, скребущий звук и покатилось в сторону раковины намереваясь, по-видимому, укрыться под его сенью от моей жестокости и грубости. А я посмотрела на въехавший в поверхность деревянного подоконника шпингалет, точно сросшийся с отверстием планки и поняла… следующее мое испытание- это открыть ржавый, гадкий шпингалет с облезлым рычагом. Я подняла голову и посмотрела наверх и тотчас поправилась- вернее два шпингалета…. Мне надо открыть два ржавых, давно не отмыкаемых шпингалета.
И только я это поняла, как позади меня в трех унитазах разом, что-то зычно забарабанило, затарахтело, словно попытался вырваться из глубин их какой-то огромный фекальный змей, длинный… длинный похожий на здоровенную кишку. Я мигом обернулась и увидела, что сначала из одного унитаза, а после и из двух других вырвались вверх, три небольших фонтана с нечистотами, экскрементами жизнедеятельности и плохо переваренных остатков пищи человека. Они взлетели небольшими столбами вверх и стремительно низверглись вниз, накрыв этой мерзостью унитазы да плавно перепрыгнув через их борта, выплеснулись на пол, образовав возле поддона — ножки небольшие, коричневые, дурно пахнущие лужицы.
— Что это? — спросила я, обращаясь к Андрейке, ведь за то долгое время, что мы вместе пробыли, протопали своими ножищами в бесконечном коридоре, я всегда все спрашивала у него, обращаясь… спрашивая… и получая ответ, и теперь также вопрошала к нему… но он не отвечал… он молчал.
Хотя в принципе и не мог ответить, ведь теперь его не было рядом. Он был там… в том коридоре, полном когда-то отчаявшихся дураков которые утопили, застрелили, спустили свои жизни в унитазы, дали слабину, проявили трусость и теперь расплачивались за нее.
Можно было спросить у него… у Бога… но я не знала его имени… Мои родители были атеистами… Бабушка моя, которая жила в деревенке на Алтае, рассказывала мне в детстве про Рода, Бога славян и русичей, создателя нашей Галактики, нашей планеты… всего того, что имеет корень род- природа, родственники, родные, родичи, родильница, роженица, Родина, родимая земля… и сыновей его Сварога, Велеса, внуков Перуна, Семаргла, ДажьБога…. С экрана телевизора бесконечно вбивалось имя Иисуса… простого, нищего плотника, который прочитав лишь одну Нагорную проповедь и воскресив какого-то мертвого повел за собой миллионы людей… А может стоило спросить у индусского Будды, или совсем чуждых мне мусульманского Аллаха, иудейского Тетраграмматона…
Каково имя моего Бога… Всевышнего…Творца… я не знала…а потому и не могла к нему обратиться.
Я долго смотрела на растекающиеся лужицы этой дряни, а затем, чтобы не замарать свои голые и сухие стопы взобралась на подоконник, уселась, подтянув под себя ноги и уставилась на плавающее коричневое естество жизнедеятельности человека. Предположив, что сейчас возможно я нахожусь в канализационной трубе просто в каком-то отдельном его отсеке, закрытом со всех сторон… Запах стоял в комнате довольно препротивный, можно сказать нестерпимо воняло человечьим калом.
Я морщила нос, приподняв желтую футболку, забрызганную сухими каплями крови, утыкалась в нее и старалась дышать сквозь трикотажную ткань, но назойливый запах проникал и через этот самодельный противогаз, и с каждой секундой воняло все сильнее и нестерпимее.
Ко всему прочему я еще забыла закрыть кран с холодной водой, и теперь та текла крупной струей вниз, в раковину и ударяясь о ее грязную керамическую поверхность отскакивала от нее огромными каплями, которые разлетались в разные стороны, словно весенний дождь в обилие покрывая и без того влажный пол.
Развернувшись на подоконнике, лицом к стеклу, я уселась на корточки, и, протянув руку, попыталась открыть нижний шпингалет, схватившись за его круглую голову рычага. Я долго возилась с этим чертовым рычагом, дергала на себя, расшатывала в стороны, но он, увы! оказался более настырным чем я, и намертво засев в древесине подоконника, совершенно не желал мне подчиняться.
Тогда я поднялась на ноги, и, пригнув голову и колени, потому как не помещалась в полный рост на окне. Протянула руку и принялась расшатывать верхний шпингалет, но тот не менее крепко вошел в отверстие планки, укрепленное в откосе оконного проема, и тоже поначалу не желал мне подаваться. Однако раскачивая его из стороны в сторону, я вскоре поняла главное… если продолжить эту борьбу, то в конечном итоге я смогу открыть… обязательно смогу открыть этот шпингалет. Это несомненная, неоспоримая истина внушила в меня уверенность и придала силы, и я даже стала улыбаться, не прекращая своего поединка с рычагом. Продолжая дергать эту противную голову на себя намереваясь развернуть ее и поставить прямо, а после, опустив рычаг вниз открыть шпингалет…
Я дергала и дергала на себя рычаг, и очередной раз резко дернув его на себя, тяжело покачнулась назад. Пальцы рук сорвались с облезлой головы рычага, послышался глухой раскатистый треск так, словно напополам разломилась подо мной большая ветка дерева, и я точно парящая птица, взмахнула крылами-руками. Голова моя оторвалась от опоры верхнего откоса окна и я полетела вниз, стремясь приземлиться на мраморный пол. Какой-то миг, несколько секунд и громкое бубух, закончило мой стремительный полет, разлетевшиеся из-под меня нечистоты приводнились своей коричневой массой не только на пол, но и обильно окатили мои вещи, растрепанные волосы, лицо и даже заскочили в приоткрытый, от громкого возгласа, рот.
«Какая гадость… какая вонь,» — прошептала я и выплюнула изо рта ту самую коричневую гадость, а из глаз моих сами собой прыснули слезы.
Противно… Гадко… Мерзко…
Ох! до чего же мне было мерзко… искупаться в этой совокупности отходов жизнедеятельности, в этом… этом… человеческом кале.
Да, ко всему прочему еще было и довольно больно. Ведь я упала с такой высоты и стукнулась спиной и затылком о твердую плитку, а потому у меня немедленно заболела голова, спина, разрезанные руки и даже шишка на лбу, которая все еще иногда давала о себе знать. Хорошо еще, что не убилась и не покалечилась… такая мысль тотчас пронеслась в моей голове.
Хотя наверно и первое, и второе в том состоянии, в коем я нахожусь невозможно… ведь я все-таки мертвая. Но чувства я сохраняла те самые, какие у меня были при жизни, а потому не очень мне хотелось еще чего-нибудь разбить или обзавестись еще какой-нибудь болью. Хватало, как говорится, охов…
Пару-тройку минут я продолжала лежать на спине, постанывая и утирая лицо от нечистот и текущих слез, а после резко поднялась на ноги и оглядела себя.
Снова… снова я была мокрая, только теперь ко всему прочему еще и воняла. Ни медля, ни секундочки я принялась снимать с себя футболку, джинсы, подумав, что в принципе и неплохо, что здесь никого кроме меня нет. И направившись к раковине, кинула грязные джинсы и футболку вглубь ее чаши, подставив их под струю холодной воды, скомкав их в одну большую увесистую вещь. Затем протянула руку и открыла вентиль с горячей водой. Но вместо горячей воды из носика крана на чуток и вовсе перестало, что-либо вытекать, а потом послышался громкий плевок, и миг спустя оттуда вырвалась рыжая, ржавая струя воды, которая начала окрашивать мои светло-серые джинсы и желтую майку в рыжие и коричневые тона.
— Да, чтоб тебя, чтоб тебя, — воскликнула я и поспешно начала закрывать вентиль с горячей водой, который не желал, как впрочем, и все тут, мне подчиняться и лишь стал более протяжно гудеть.
Кран же и вовсе принялся тяжело сотрясаться, при этом из загнутого носика вытекало все больше и больше ржавой воды, оная решила полностью испортить и мои вещи, и мое настроение.
Я крутила, крутила кран… сначала вправо, потом влево, уже догадавшись, что вода не перестанет течь и кран сломался. А кран лишь протяжнее гудел, трясся, будто намеревался оторваться от стены и улететь отсюда. Мои джинсы и футболка уже набухали от этой ржавчины, а я чувствовала как от обиды, и боли в спине, голове и руках, еще обильнее текли слезы из моих глаз. Но когда внезапно унитазы вновь забарабанили, затарахтели и выплеснув из себя очередную студеную массу фекалий плюнули все это на пол, я и вообще от злобы и обиды громко закричала… Обзывая того, кто это творил со мной самыми последними словами, забарабанила кулаками об бетонную стену, захлюпала ладонями об распухшее, коричневое месиво вещей, полных ржавой воды и кала.
— Чтоб тебя, чтоб тебя, — кричала я не в силах с собой справиться, и схватившись руками за край раковины потрясла ее, намереваясь вырвать из стены.
Еще пару минут я бунтовала, пару минут бесновалась… и вдруг затихла, закрыла глаза и глубоко задышала, стараясь успокоить себя.
И в этой гудящей, тарахтящей и булькающей пустоте, в этом одиночестве я услышала далекий, знакомый и дорогой мне голос Андрейки:
— Ступай вперед Олечка, и будь смелая и сильная… ничего не страшись, девочка моя!.. Лишь те, кто, не страшась идут к намеченной цели, остаются победителями.
Я тотчас открыла глаза… открыла и подумала, что не имею права проявлять слабость, хотя бы ради этого человека, который уступил мне свое место, даровал мне право приобрести иное… новое состояние.
Я посмотрела на свои исполосованные вены, и улыбнулась… кровь с них не бежала, я была сухая.
А фекалии в комнате и окно, с проклятыми шпингалетами — это несомненно новое испытание, которая я должна преодолеть.
И я его обязательно преодолею, Андрейка!..
Глава седьмая
И тогда я протянула руки, подставила их под ржавую воду, и, набрав полные ладони рыжеватой жидкости, умыла свое лицо.
Умыла и убрала с него всякую злобу, печаль… всякое уныние. Оставив на нем лишь желание вести этот бой до конца… до победного конца!
Надо, судя по всему, здесь все отмыть, ведь находится в этой вони невозможно, а открыть шпингалеты, как я уже убедилась, сразу не удастся.
Ну, а вещи… какая в принципе разница, какого они цвета: желтые в красно-коричневую крапинку или линяло-пятнисто-рыжие.
И пока я это обдумывала и полоскала в ржавых потоках майку и джинсы, отжимала и развешивала их на теперь немного вдавленном и лопнувшем посередине подоконнике, который явил из своих внутренностей сгнившие осколки дерева, пылевидную труху опилок и ржавые шапки кривых гвоздей. Унитазы еще раз издали тот пронзительный барабанный вопль и выплеснули из себя новые потоки экскрементов.
Громко плюхая босыми стопами по этим расползающимся водам, я пошла за той самой сально-шерстяной тряпкой. А взяв ее в руки, скривила лицо, передернула плечами и сплющила свой носик так, чтобы можно было дышать лишь через маленькие, оставшиеся щелочки, и принялась собирать разлившиеся жидкие массы. Я елозила тряпкой по полу и отжимала собранное в раковину, из коей эту гадость, не мешкаючи, уносила вниз та самая рыжая вода, не прекращающая, зычно тарабаня, выскакивать из носика крана.
Конечно, скажу честно, никогда до сего момента я не делала такую грязную, вонючую работу. И теперь когда я собирала эти нечистоты, и скидывая в раковину, пропихивала концом, сальной, отвратительной на ощупь, тряпки их размягченную массу в слив, я не просто морщилась, я отворачивалась и меня ужасно тошнило, а иногда начинало рвать прямо туда… в раковину… на тряпку. Однако вырвать я не могла… нечем было, ведь я ни ела, ни пила, ни хотела этого… потому, что была мертвая. И поэтому я подолгу стояла наклонившись над раковиной и протяжно, громко бекала, словно овца.
Вот…точно овца… Теперь я была не мокрая курица, а бекающая овца.
По-бекав так… я споласкивала тряпку и вновь принималась за свою отвратительную работу.
Чтобы волосы мне не лезли в лицо, я связала их теми самыми лентами-рукавами, что были раньше обмотаны возле моих запястий, предусмотрительно хорошенько прополоскав их под ржавой водой.
Уж и не знаю, сколько я так провозилась с этим полом, но стоило мне взяться за тряпку и уборку, унитазы перестали плеваться фекалиями и затихли. Наверно они наблюдали за мной и моими героическими усилиями.
Но когда, я, наконец, все собрала с пола, вытерла его насухо, помыла унитазы, протерла раковину, да прополоскав тряпку, пристроила ее на ведро, чтобы она могла просохнуть, в комнате сразу перестало вонять и даже запахло каким-то чистящим средством с добавлением хлорки.
Тогда я вновь подошла к окну, надела на себя просохшую майку, немного сдвинула на край, пока еще влажные джинсы и начала разглядывать окно, обдумывая, чем же можно подцепить эту голову рычага. Я разглядывала комнату в поисках такого… такого остренького, такого, чем можно проковырять дыру в подоконнике и быть может выковырять рычаг.
Но в комнате ничего такого не было, правда, в подоконнике торчали шляпки гвоздей, но смогу ли я их вырвать. Я ухватилась, большим и указательным, пальцами за шляпку гвоздя, а второй рукой обхватила правую и принялась тянуть его на себя, раскачивая из стороны в сторону, но гвоздь даже и не думал трепыхаться. А я добилась лишь одного, доломала свои оставшиеся, и без того раздробленные ногти, со слезшими остатками розового лака.
Тогда я решила отковырять древесину возле шпингалета, ведь на первый взгляд она была такая рыхлая, сгнившая, похожая на дырявую требуху. На правом среднем пальце, еще сохранился длинный, острый и крепкий ноготь, я подвела его к отверстию планки, куда входил штырь, и ковырнула древесину рядом с ним. Огромная, длиннющая, с острым концом щепа, соскочила с железного отверстия, которое она нежно обнимала или охраняла от нападения, и резво выпрямившись, воткнулась мне под ноготь, каковой в свою очередь громко хрустнул и разломился надвое.
— Эм…м…м, — застонала я и с силой потянув на себя палец, вырвала остроносую щепу, торчащую из подоконника и теперь имеющую на своем остром конце каплю моей крови, напоминающую чем-то шапку гриба.
Я поспешно запихнула палец в рот, стараясь хоть на немного снизить боль и даже заплясала на месте, переступая с ноги на ногу, и издавая плямканье голыми стопами по мытому полу. И так пританцовывая, подпрыгивая и выдавая па, я развернулась, удивленно округлила глаза и уставилась на воду, которая все еще вытекала из крана, несмотря на мои попытки закрыть его. Только теперь из носика крана текла не рыже-ржавая вода, а едва желтоватая, смывшая своим потоком в трубах всю ржавчину и освободившаяся от этой неприятной на вид красноты. Что ж… довольно оглядывая ее желтизну и подставляя под нее свой болезненно-саднящий палец, радовалась я… новому приобретению в виде теплой и почти прозрачной водички.
Однако радоваться мне пришлось не долго, потому как унитазы опять заговорили и выплеснули фекалии. Только теперь я не стала дожидаться новых порций, а схватив тряпку, принялась утирать пол. На ходу подумав о том, что человек легко и быстро привыкает как к хорошему, так в принципе, и к плохому.
Когда пол был вновь умыт, я прополоскала тряпку, отжала ее и присев над раковиной на корточки распрямив ее начала вешать на ржавое ведро, которое там стояло, облокотившись своим помятым боком на стену. И вдруг я увидела ручку… ручку на ведре… Оцинкованную тонкую дужку с деревянной, наполовину треснувшей обручиной.
Я тут же откинула тряпку в сторону, взяла в руки ведро и поднялась так, что левым плечом шибанулась об нижнюю часть раковины, которая закачалась, и даже протяжно застонала, вроде как выражая недовольство моей грубой выходке. Однако я даже не заметила ни этого недовольства, ни того как заболело мое плечо. Все мои мысли были направлены на оцинкованную дужку, оная могла мне помочь в борьбе со злобными шпингалетами.
Подойдя к окну и все еще рассматривая ведро, я поставила его на подоконник. Дужка крепилась за полукруглые уши ведра, которые также как и днище ведра, почти сгнили и были ужасно ржавыми. А потому, если начать их раскачивать из стороны в сторону, то возможно… так мне думалось, я смогу освободить дужку от ведра и его ржавых ушей. И я, без задержу, с огромным усилием и какой-то тихой обнадеживающей радостью принялась раскачивать дужку. Некоторое время спустя с одной стороны ведра ушко лопнуло напополам, и выпустила загнутый в виде крючка конец дужки, а с другой стороны ведра ушко оторвалось полностью. Взявшись за отломанное ушко, я неторопливо вытащила его из дужки и предусмотрительно положила на подоконник, предполагая, что оно может мне еще пригодиться…. кто ж знает.
Затем я отнесла ведро под раковину, поставила на пол и наглухо укрыла его сверху тряпкой, чтобы она просыхала, а ему, этому самому ведру, было не так страшно, пусто и одиноко.
Вернувшись к окну и взяв в руки дужку, я накинула ее, вернее, один из ее загнутых концов, на выглядывающий из подоконника ржавый гвоздь и начала резко дергать дужку в бок, стараясь разогнуть этот крючок и сделать его более ровным, прямым. Да, только легко сказать «сделать прямым», сказать легко… сделать почти невозможно, особенно если у тебя нет никакого инструмента… ну там ни плоскогубцев… ничего другого подобного.
Только теперь я не сдавалась, я пыхтела, сопела, как паровоз. Дергала… дергала… И после долгих попыток, рывков и выдохов, я смогла разогнуть его, конечно не так как мне хотелось бы, но все же он был почти прямой. Однако за то время, что я провозилась с этим крючком, выравнивая его, унитазы два раза выплеснули из себя жидкие экскременты… а джинсы мои окончательно просохли.
Сделав то, чего я так желала, я положила дужку на подоконник и принялась вновь утирать пол, надеясь, что может когда-нибудь это будет в последний раз… непременно… непременно так будет.
В этот раз я быстро справилась с работой и меня даже не тянула по-бекать, по-видимому, я свыклась с тем, что мне необходимо делать и с этим дурманящим легкие и голову запахом да малопривлекательным видом отходов жизнедеятельности и остатков пищи.
Когда вот так отмывая пол, собирая ту густую коричневую жижу тряпкой, я думала, невозможно быть окончательно уверенной в том, что тебя может ждать в жизни, и уж тем более после смерти. Я вспоминала, как работая когда-то давным давно, в строительной фирме бухгалтером, кривила свой миниатюрный, вздернутый носик при виде плавающих в унитазе какашек… и также кривила его глядя на уборщиц которые наводили чистоту в туалетах, считая их недалекими глупышками. Мне казалось, что я никогда не докачусь до такого ужасного состояния, чтобы вытирать эту пакость за кем-то.
А теперь мне было смешно… смеялась я над собой… и не просто смеялась, а хохотала… вот тебе и не докачусь.
Оказывается еще как докачусь…
И думая об этом, я повторяла слова народной мудрости: «От сумы и от тюрьмы не зарекаются». Уж, куда вернее сказать… не зарекаются.
Что еще на это можно ответить?..
Быть может: «Не отведав горького, не узнаешь и сладкого»?
А я, уже давнёхонько хлебая это горькое пойло, каковое сама себе налила в стакан, оценила то самое сладкое. И поняла, что хотя я и сделала сама свой выбор, ибо мы всегда сами выбираем путь своего движения, и винить в этом выборе кроме меня некого, однако не знала, не ведала я своими куриными, а быть может бараньими мозгами куда приведет меня эта кривенькая тропочка.
— Уж- это точно, — согласно сказала я вслух. Потому как теперь я любила говорить вслух, сама с собой значит… чтобы хоть как-то разбавить это одиночество и пустоту витающую кругом, и вроде как ощутить, что я все еще есть, и даже могу говорить и слышать. — Привела меня эта дороженька прямо в общественный туалетик… Но, я духом не падаю, — это я уже говорю обращаясь к Андрею, — слышишь, Андрейка. Не падаю я духом, не сдаюсь, я борюсь за себя… И вот я сейчас пристрою на ведро тряпку, укрою его, чтобы ему не было так тоскливо и было с кем поболтать, а тряпка чтобы значит могла просохнуть и не воняла так, и пойду мыть ноги.
И я именно так и поступила, поднявшись с корточек, выпрямилась, а потом засунула правую ногу в раковину и начала ее умывать прозрачной, теплой водичкой. Это затем, чтобы она тоже не воняла.
Отмыв обе стопы от грязи и вони, я опять покрутила вентили сначала с холодной водой, после с горячей. И надо же… мне так свезло, напор воды, вытекающий из носика крана, уменьшился, почти втрое, и теперь превратился лишь в жалкий, тонюсенький ручеек, порадовавшись очередной победе, и тому, что мои ноги обсохли, я направилась к окну. И наконец-то натянула на себя мои сухие джинсы, которые хотя и сменили цвет с серого на желтоватый, в принципе были все еще ничего. И как главное их достоинство совсем не воняли.
Я взяла дужку ведра, несильно стукнула деревянной обручиной по подоконнику и та, окончательно разломившись, отпала, освободив спутницу своей долгой жизни да превратив её в инструмент. И тогда я принялась прямым концом дужки, ковырять дерево, плотно обступившее железное отверстие ответной планки, укрепленной в подоконнике, в кое намертво входил штырь нижнего шпингалета.
Я ковыряла очень долго…
Не знаю, как можно выразить этот срок… часы ли… сутки… недели…
Однако, скажем так, какое-то время спустя, мне все же удалось полностью освободить от древесины отверстие, утонувшее в подоконнике, а образовавшаяся яма и пустота явила мне саму ржавую планку. Да только ее явление никак не повлияло на то, что штырь шпингалета вышел из нее. Ничего подобного, он все также не подавался мне, не желал этот рычаг двигаться, не желал вытаскивать штырь.
А потому с риском, вновь полетать и припасть хоть и к покореженному, но все же мраморному полу, я залезла на подоконник. Выпрямилась, уперла ноги в деревянное основание, а свернутую шею в откос оконного проема и начала ковырять откос окна наверху, намереваясь освободить там планку. Но даже когда появилась в откосе дырень, освободившая планку, верхний штырь не вышел из отверстия, он точно врос в него, а может просто оброс ржавчиной, краской, оттого и не желал двигаться. И тогда я опять принялась тянуть рычаг, стараясь развернуть его голову вправо, только теперь я делала это не пальцами, а подручным инструментом, то есть загнутым концом дужки. Я цепляла голову крючком дужки и дергала, тянула на себя. При этом я несколько раз слетала вниз, и падала на пол, хотя и не так трагически, больно и громко как в прошлый раз. А может я просто перестала обращать внимание на боль, падение. Все…все мои мысли были заняты борьбой с упрямой головой рычага и попеременно выплескивающимися из унитаза нечистотами.
Когда унитазы исторгали из себя фекалии, я прекращала поединок с рычагом. Клала дужку на подоконник, который совсем окривел, а местами вдавился, покрылся глубокими ямами, и, слезая вниз, принималась за уборку.
Мои порезы на руках уже почти не болели, словно как награда после очередной махонькой победы, очередного поединка. Зато очень сильно болели пальцы с изломанными на них ногтями, болели ладони, на каковых от постоянной борьбы с рычагом и мытья пола появились белые полосы и желтоватые, уплотненные мозоли.
Но несмотря на трудности, несмотря на попеременно возникающие мысли все бросить и прекратив свои подвиги, смириться с судьбой, я продолжала свой бой…
Теперь мне хотелось всенепременно победить… победить… победить и сломать голову этому вредному, злобному и ненавистному устройству.
И наконец-то мне- это удалось…
После очередного мытья пола, я снова залезла на подоконник, взяла дужку в руки, широко расставила ноги — это чтобы не свалиться и стоять более устойчиво, образуя нечто единое целое с окном. Я накинула загнутый конец дужки на голову рычага, глубоко выдохнула, и, затаив дыхание, чтобы оно мне не мешало во время боя, резко дернула дужку на себя.
И… о чудо!!!
Рычаг тотчас развернулся, будто был совсем новый, и легко двигался в устройстве, от радости я даже вскрикнула, а тело мое взволнованно затрепетало.
— Ах, ты мой родненький, миленький, — возбуждено зашептала я, обращаясь к рычагу.
Я опустила дужку вниз, уронив ее на подоконник, протянула руку и взялась за облезлую и изрезанную от постоянного дерганья, чем-то похожую на мои вены, голову рычага и не менее резко дернула его вниз… первый… второй… третий раз.
Рычаг, издав тихий скрип, уступил моим усилиям и опустился вниз, убрав всякую преграду в виде штыря наверху.
— Ура! Ура! Ура! — закричала я, громко… громко празднуя этим криком свою первую, пусть и маленькую, но победу.
Все же понимая, что сделала я пока самое легкое, убрав лишь первую преграду, и оставив самое тяжелое на потом. Но все равно я была очень счастлива и широко улыбалась, потирая руки, и приглаживая волосы, гордясь проделанной работой.
— Ну, ничего, ничего, — заметила я, успокаивая свое тяжелое, прерывистое дыхание. — Раз я смогла открыть наверху, смогу и внизу.
Я решила, что и внизу надо применить ту самую тактику, что и наверху, а именно загнутым концом дужки попытаться развернуть голову рычага, а потом дергать его вверх, стараясь вытащить из отверстия планки.
Однако я ошиблась…
Сколько я не дергала дужку на себя, упираясь ногами в пол, голова рычага не поворачивалась и даже, ни разу не дрогнула.
И тогда я опять залезла на подоконник и принялась пропихивать в тончайшую щель между створками острый, прямой конец дужки, надеясь приоткрыть ее сверху.
Ан…нет! и этого мне не удалось сделать, уж слишком узкая была щелочка между створками, узкая… тонкая.
Я так рассердилась… вновь передо мной не выполнимая преграда, от злобы я начала колотить, ногой стекло, проклиная его крепость и плакать. Только теперь я быстро успокоилась, как говорится выпустив пар на это треклятое окно и сказала себе:
— У тебя Оля, все получится… Ты главное не раскисай… Борись… И помни, лишь те, кто не страшась идут к намеченной цели, остаются победителями!
Я говорила себе эти слова всякий раз, когда выходила из себя, это был мой девиз. Я говорила эти слова, а после вновь начинала бой с моим врагом.
И теперь опять оглядев это окно, в очередной раз подробно исследовав его, я решила проковырять в поворотной створке сквозную дыру, так, чтобы было потом за что уцепиться концом дужки и попытаться, дернув ее на себя, приоткрыть верхнюю часть створки.
Дырку я однозначно ковыряла долго…
И хорошо все же, не раз я об этом думала, что мне не надо было есть, спать, мыться, ходить на работу, смотреть телевизор. Только мыть пол и ковырять дыру… И еще хорошо, что створки были старые, а древесина внутри них рыхлая и мягкая. И потому приложив максимум своего терпения, настойчивости и упорства, я смогла пробить в створке дыру, да такую, что можно было засунуть в нее два пальца правой руки: указательный и средний. Когда последние деревянные подступы крепости были пробиты, и я пальцем очистила от остатков древесины дыру, то наклонив голову я приставила к ней свою ноздрю. И втянула в себя воздух того, иного… заоконного мира… воздух свободы, воли.
И на меня дохнул свежий, тонкий запах осенней ночи, теплой и чистой… от этого нежного, чуть прохладного и по-осеннему бодрящего воздуха у меня закружилась голова.
Еще и еще… еще и еще… втягивала носом я этот новый… иной запах, и почувствовала внутри себя разгорающееся, точно степной пожар, желание непременно и как можно скорее открыть это тупое, бестолковое и настырное окно… открыть… открыть!..
Я поспешно выпрямилась, отступив немного вбок, уперлась своей шеей в откос оконного проема и начала пропихивать сквозь дыру корявую, погнутую дужку с кривым крючком на конце. Крючок лез не решительно и часто упирался или тыкался своей закругленной головой в борта дыры, но все же вскоре миновал дырявый лаз и выглянул из-за створки окна. Я прижала саму дужку к стенке дыры, уперла загнутый конец в край створки, и немного отклонившись назад, резко дернула дужку на себя.
Дернула и недовольно выдохнула, увидев как крючок разогнулся и проскочив через дыру оказался в комнате, а я при этом тяжело качнулась… однако не упала… устояла. Ха…ха…ха, теперь я ученая была, шеей-то я крепко впивалась в откос окна так, что свалить меня было не так-то просто.
Я глянула на створку и восторженно ахнула!
Еще бы, ведь створка, чуть-чуть подалась на меня и там наверху совсем на немного отделилась от соседней створки, образовав тонкую трещинку, а значит, она начала уступать моим атакам.
Резво присев на корточки я спрыгнула с подоконника, продолжая держать мой чудесный, погнутый инструмент в руках, и начала по новой формировать на его конце крючок. Я уже так делала несколько раз, потому, что крючки не выдерживали таких дерганий и часто распрямлялись, а иногда и вовсе отламывались на месте сгиба.
Я зажала дужку в руках, отвела их немного назад и стремительно ударила краем дужки в бетонную стену. От удара прямой край выгнулся крючком таким, каким надо было мне.
«Наверно скоро отломится», — подумала я, вообще-то он не всегда с первого раза выгибается, а только с третьего или четвертого… но в этот раз мне повезло.
Я оглядела загнутый край, похожий на рыболовный крючок и осторожно принялась подравнивать его о стену, резко постукивая им, стараясь загнуть его по необходимой мне траектории.
Когда я, таким образом, загибала край дужки то все время болезненно ударялась пальцами, костяшками и тыльной стороной ладони о бетон. И очень часто я ранила пальцы до глубоких рассечений, из которых начинала сочиться кровь, правда она быстро сворачивалась… однако руки мои все время болели.
И теперь тоже не обошлось без травмы… Уж довольно болезненно я ударилась костяшкой правого указательного пальца о бетон, и из рассечения мигом потекла густая алая кровь. Но я стоически сносила эту боль, и, засунув палец в рот, скривила лицо и обозвала стену — козой.
Немного погодя боль утихла, я вынула палец изо рта и ощупала им крючок, да, оставшись довольной проделанной работой, вновь полезла на подоконник.
Просунула крючок в дыру… дернула… и увидела, как разогнувшийся крючок еще немного приоткрыл створку.
И снова все повторилось.
Удар дужки об стену.
Подоконник, а на нем с широко расставленными ногами и упертой шеей в откос, я.
Крючок опять в дыре… очередной рывок.
Только в этот раз я плохо уперлась шеей в откос или слишком сильно дернула, и потому когда дужка пошла на меня, сначала мои руки, а после и я двинулись в след за дужкой. Да не удержавшись на подоконнике, я покачнулась и полетела туда вниз, прямо за выскочившей из рук дужкой, громко и шумно приземлившись на мраморную плитку пола. Весьма болезненно и зычно, при этом, ударившись о край чаши унитаза головой так, что послышался треск, будто хрустнув, лопнул и сам унитаз, и моя дурная башка.
Глава восьмая
«Хорошо все-таки, что я мертвая», — пронеслось в моей голове.
И громко охая, я начала подниматься с пола, а сев потерла ударенный затылок, ощущая боль и тихое гудение внутри головы.
Впрочем, если бы я была живой, то от такого удара мгновенно «откинула ножищи», а так только гул. Сначала глухой такой, а потом нарастающий, барабанный бой, и неожиданно зычный плюх.
А… да это опять нечистоты пришли, констатировала я и тотчас вскочила на ноги, чтобы значит, эта гадость, не окатила меня сверху. И на ходу обернувшись, заметила, что по чаше унитаза, по которому проехалась моя пудовая голова, пошла тонкая такая трещина, теперь и из нее вытекали жидкие фекалии.
Потирая голову, я развернулась, шагнула к окну и радостно вскрикнула. Потому как створка окна наверху теперь выглядывала из-за соседней почти на два пальца. Но не это главное… главное — это то, что подоконник полностью лопнул в середине, прямо на стыке двух створок. И теперь та часть в которой был намертво утоплен шпингалет, была приподнята вверх, наверно во время рывка, я наступила на поломанный край, и он лопнул, при этом образовав нечто вроде односкатной крыши.
Я стояла, глядела на развороченный подоконник и обдумывала, успею ли я выдернуть эту часть доски и открыть створку до следующего плевка унитазов. А после все же решила, прежде затереть пол и лишь, затем приступать к подоконнику и может к последнему рывку. И тогда я побежала к тряпке, совершенно позабыв, что пару минут назад чуть не убила своей тяжелющей головой несчастный такой… обкаканный унитаз.
Каких-то несколько минут и пол чист. Еще бы ведь я так спешу, тороплюсь, предвкушая сладкий запах свободы и чего-то нового… иного…Я сполоснула тряпку и пристроила ее на ведро, чтобы значит не было им скучно… без меня тут ха…ха…ха.
И волнуясь, поспешила к окну, руки мои тряслись, грудь бурно, судорожно вздрагивая, вздымалась.
— Спокойно, спокойно, — сказала я сама себе, внутри намереваясь запищать от радости и уже ощущая на языке победу над этим изломанным, исковерканным и деспотичным окном. — Еще неизвестно удастся тебе вырвать эту часть подоконника. Рано радоваться… надо продолжить бой… и потом: «Цыплят по осени считают».
Заметила я и удивилась. Чего-то я в последнее время стала часто вспоминать народные пословицы и поговорки, будто умнеть начинаю… намывшись дерьма и надышавшись этой вонью.
Немного успокоив волнение и трясущиеся руки, я подошла вплотную к окну. Оглядела лопнувшую, выпирающую часть доски, некогда служившую подоконником, а теперь похожую на огромную пасть акулы с острыми, большущими зубами-щепами. И ухватившись, за выгнутую часть доски с одного края, потянула ее на себя. И не просто потянула, а начала дергать, рвать, крутить…
Дергать… рвать… крутить…
И вот уже заскрипела, затрещала, захрустела ломаемая доска, из намертво вкрученного или приколоченного шпингалета вылетели ржавые гвозди, а после вылетел и весь он сам, оторвавшись от створки окна, но продолжая крепко сидеть в отверстии планки в подоконнике. Еще один рывок, и громкий скрежет трескающейся по швам древесины, и в руках у меня оказалась часть доски, вместе со шпингалетом. Створка же окна по инерции двинулась вслед за подоконником, по-видимому, не желая с ним расставаться, и наполовину открылась, являя мне новый, иной мир…
Иное продолжение борьбы…
Я обхватила руками выломанную доску, и прижала к себе, точно это был не выгнивший кусок подоконника, а близкий родной мне человек… Андрейка…
И я заплакала… тихо… тихо так… только это были не слезы боли и печали, а это были слезы радости и счастья, это были слезы победы.
А внутри меня ликовало все мое естество. И казалось мне, что очень тихо, также тихо как плачу я, вторит моему естеству, мое мертвое сердце… не слышно выбивая победный ритм.
Через открывшееся окно на меня дохнуло свежим воздухом, к оному перемешивался тонкий запах дыма, словно перед тем как отворить створку, там в том ночном, черном мареве весьма долго жгли сухую траву и осеннюю листву.
Я радостно выдохнула, и широко открыв рот, вдохнула эту чистую, чуть горьковатую свежесть, и неспешно наклонившись, положила отломанную доску на пол. Я глянула на ее ширину, массивность и подумала, что верно говорят у нас: «От нужды волк лисой запоёт». Если бы мне, при моей жизни, сказали, что придет время и я такая тоненькая, фигуристая, не высокого роста женщина буду выдирать такую доску, выламывать створки окна, загибать крючки из дужки ведра… Я бы никогда этому не поверила и громко… громко посмеялась над таким шутником. Ведь при жизни я тяжелее ложки в руках ничего не держала, такая пава со вздернутым носиком была… была… да уж…
Усмехнувшись, я закрыла свой рот, и начала дышать через нос да неторопливо шагнув к окну ближе, распахнула створку. Она, протяжно заскрипев и покачиваясь из стороны в сторону, пошла на меня, и открылась настежь, едва коснувшись бокового откоса оконного проема.
А я выглянула в окно и увидела там черный витающий туман… вернее не туман, а пар, влажный и липкий. Я протянула руку вперед, выставив ее под тот густой пар, и сейчас же на нее осели крупные капли воды.
Эта черная тьма, клубящегося пара, напоминала чем-то парилку бани, а густая влажность переносимая ими не просто стояла перед глазами какой-то плотной завесой, так что ничего не было видно, но и мгновенно осаждалась кругом крупными и мелкими, словно бисер каплями воды. Я выглядывала в окно, стараясь разглядеть, каков же теперь мой путь и каким образом я отсюда смогу выйти. И повернув направо голову, увидела там, прямо возле оконной коробки, укрепленную на стене широкую, оцинкованную водосточную трубу, она шла откуда-то сверху, и, уходя вниз, терялась в том черном, клубящемся паре.
Громко забулькав, забарабанили унитазы и вновь выплюнули фекалии, я оглянулась посмотрела на растекающиеся лужи и поняла… Для меня теперь начался новый путь… туда вниз по водосточной трубе.
Ведь теперь, без сомнения я не хотела оставаться здесь, и не страшась этого спуска, желала идти вперед!
Вперед!..
Я желала идти в ту черную парящую тьму, и унитазы… они тоже хотели, чтобы я уходила отсюда. И наверно поэтому, будто обезумившие, выплескивали и изливали из себя, раз за разом, наполняя этой отвратительной массой экскрементов пол, и непереносимым запахом комнату.
Я еще минуту глядела на этот туалет, который превратил меня из павы в борца и научил без посторонней помощи, без поддержки Андрейки биться, бороться за себя. И кивнув напоследок этой комнате, унитазам облитым нечистотами и раковине, откуда тоненькой струйкой бежала вода, залезла на покореженные остатки подоконника. Я прижала правой рукой покачивающуюся, поворотную створку к боковому откосу оконного проема, сделала шаг вперед, и поставила стопу на нижнюю раму окна, да придерживаясь за створку, выглянула наружу.
Пар, витающий в этой тьме, мгновенно подкрался ко мне и будто огромный язык зверя мягко лизнул меня, окатив прохладными каплями воды. Еще миг я колебалась, страшилась тьмы, плывущей кругом, глубоко втягивала в себя цепкий, прохладный воздух, слушала барабанящие позади меня унитазы, точно выбивающие ритм, перед страшным шагом.
Еще миг… Еще…
А потом я развернулась спиной к тому миру, и, глядя в комнату, придерживаясь за створку, прижала правую руку к ее холодному, мокрому стеклу, прильнувшему к откосу оконного проема, и протянула левую руку и левую ногу к водосточной трубе. Осторожно нащупав гладкую поверхность трубы рукой, я несильно потрясла ее, проверяя, насколько она прочная. Затем обняла ее, крепко обхватив левой рукой, и, обнаружив голой стопой округлый край крепления, что намертво прижимал трубу к стене, отступая от нее как раз настолько, чтобы можно было туда втиснуть ногу, поставила на него стопу.
И тотчас отпустила створку, которая тихо скрипнув, потянулась за мной, и, достигнув другой створки, внезапно громко щелкнула и затворила окно, оставляя меня в этом новом… ином мире один на один с черным, клубящимся паром.
А я уже обнимала трубу двумя руками, прижималась к ней телом и тулила правую ногу на крепление. В таком, неудобном положении, тяжело дыша, и дрожа от страха, я замерла.
Замерла… затихла… испытывая одновременно и радость и страх.
Все же мне удалось перелезть на эту трубу, зацепиться за нее и теперь глядя на закрытое окно, в котором в ту же секунду потухли лампочки, что тускло, освещали туалет и стихли унитазы, поняла, что обратного пути у меня нет. И теперь мне нужно продолжить этот тяжелый, трудный спуск возможно с огромной высоты… спуск каковой приведет меня, вниз… покажет новое… иное…
Однако сейчас меня тревожил лишь этот спуск и тот животный страх, который всякий раз, с самого моего детства, охватывал меня при виде огромной высоты, глубокого дна или пропасти. Но вот теперь я должна преодолеть и этот животный страх, и витающий, цепкий пар, и влажность трубы.
«Ничего… ничего… я справлюсь… мне не привыкать», — шепнула я, подбадривая себя.
Шепнула и начала осторожно и неторопливо съезжать по трубе вниз, перехватываясь руками и приседая на корточки. Труба была мокрая, с нее прямо-таки стекали капли воды, поэтому и я мигом намокла… хоть бери и выжимай, и вещи, и меня саму. Опустившись на присядки, я протянула правую руку и ощупала крепление, на коем стояли мои стопы, вернее сказать теснились. Под моими ногами, оказалось, находится, почти с палец большая железная, рельефная арматурина, именно она намертво обхватывая по кругу трубу, держала ее в столь устойчивом состоянии.
Словно гимнаст, я обхватила трубу руками, чуть выше того места, где находилась арматурина, а потом резко убрала с нее разом обе ноги, и под весом тела поехала вниз, при этом стараясь пальцами ног нащупать очередное крепление. По ходу движения поблагодарив свою маму за то, что в детстве она отдала меня заниматься акробатикой, навыки которой мне так сейчас пригодились. Руки мои нащупали крепление арматурины и перехватились, так, что я на маленько повисла вдоль трубы, придерживаясь за нее ногами.
И тихо охнула!..
Охнула, только сейчас увидев, что рваные края разрезов на моих руках сошлись… срослись будто и никогда не было там никаких порезов.
Новое… иное… теперь у меня новый путь и иное состояние.
Я отпустила арматурину, обхватив руками трубу, вновь прижавшись к ней телом и начала на груди съезжать вниз, все время, пальцами ног стараясь нащупать крепление, негромко так кряхтя, посапывая и сдувая с губ образующуюся там водную лужицу. Немного погодя мои пальцы нащупали арматурину и стопы впившись в нее остановили мое движение.
Тяжело дыша, обнимая трубу одной рукой, я протянула правую руку и смахнула с лица воду, оная теперь струилась по мне, а когда отдышалась и чуток передохнула, подняла голову и посмотрела туда наверх, стараясь разглядеть в этом клубящемся паре окно. Однако ничего кроме тьмы и кружащихся капель воды, я не смогла увидеть, ни там наверху… ни справа… ни слева.
И тогда я снова продолжила свой путь, перехватываясь руками, приседая, придерживаясь за арматуру и на доли секунд повисая на руках в этой пугающей меня мгле, а после сползая вниз, находя дрожащими пальцами опору.
И так продолжалось… продолжалось… продолжалось…
Пар обнимал меня, осыпал градом капель, иногда и вовсе точно желал меня смыть с трубы вниз. Впрочем я каждый раз крепко впивалась в трубу, я почему-то боялась падения… очень боялась. Я понимала, что лишь пройдя этот путь верно, без падения, преодолевая все невзгоды выпадающие на мою долю, смогу приобрести, что-то иное. А потому когда пар начинал переходить с крупных капелек на мелкий бусенец, казавшимся сеяным сквозь черное ситочное марево, я вжималась в трубу, и на мгновения прекращала двигаться. И тогда в этом густом паре мне слышался тихий, тихий свист, чем-то схожий с тем как посапывая посвистывает спящий человек, который еще не храпит, но у коего дыхание не ровное и спокойное, как у ребенка, а тяжелое и будоражащее, как у взрослого человека. И слыша этот страшный свист, я вздрагивала… пугалась его…мне казалось, что этот звук хранит в себе угрозу, зорко следящее сопение наблюдает за моим спуском и вроде как даже желает, чтобы я свалилась с этой высотищи туда вниз… вниз… в эту черную, плотную, мокрую тьму…
Тьму!.. Тьму!.. Тьму!..
«Тише… тише… успокойся», — шепчу я самой себе, и, облизывая языком губы смахивая с них водную лужицу, которая затаилась на верхней губке, пытаюсь отвлечь себя от этого страха, чувствую, как, несмотря на мои уговоры, дрожат мои руки и ноги, паникует мое тело.
И тогда, чтобы не страшится свиста, высоты и этого пути я начинаю петь… петь ли… читать стихи… разговаривать… я делаю все, чтобы заглушить нарастающий позади меня свист и сопение. Отвлечь свои мысли оттого, что творится там позади меня и сконцентрироваться только на спуске… на том, что впереди меня будет ждать что-то иное… а этот спуск лишь временное препятствие к моим новым свершениям, к моему новому пути. И вновь я обнимала как дорогую родственницу трубу, приседала, повисала, сползала вниз.
Но чем дольше я вот так спускалась вниз, точно в бесконечную пропасть, которая не имеет дна, тем больше уставали мои руки, ноги, да и в целом тело. Спина от постоянного приседания и изгиба разболелась так, что хотелось заплакать. И болела не только поясница какими-то рвущимися, режущими болями. Болел и позвоночник, будто в него вогнали огромный штырь тот самый, что я так ненавидела в шпингалете. Руки болели везде… и в ладонях, и в локтевом сгибе, и в плечах. А ноги… это вообще был кошмар… мало того, что невыносимо кололо в бедрах, так еще ко всему прочему, я почти не чувствовала стопы, словно там одеревенела подошва на них. Руки от бесконечного обнимания, все время норовили разомкнуть объятия. Слабеющая и теряющая от боли силы, я все чаще останавливалась, стараясь передохнуть, отдышаться… Однако деревянные, ставшие неповоротливыми стопы на каковых невозможно было долго стоять, заставляли меня продолжать спуск, а значит и мои мучения. Изредка со слов песни, со строчки стихотворения которыми я все время пыталась себя отвлечь, я переходила на тихое поскуливание, и этим слабеющим визгом подпевала свисту, что раздавался позади меня и становился все громче и насыщеннее.
И вот уже там звучит не просто свист, а размеренный, глубокий рык со скрипом и хрипом. Там позади меня в том черном мареве пара, на самом деле притаился какой-то зверь. Он тяжело дышал, рычал… Он наблюдал за мной, чуял меня, судя по всему, желая выхватить из тьмы… И оторвав от трубы острыми зубами хотел сожрать мое измученное тело, не оставив от меня ни косточки.
Внезапно резкий порыв ветра стукнул меня в бок. Откуда… откуда он прилетел было неизвестно. Но от его удара я тотчас раскрыла свои трясущиеся объятия, мои ноги сорвались с арматуры, и, заскользив по трубе, соприкасаясь с ней своей грудью прикрытой мокрой, трикотажной материей футболки, я полетела вниз.
От неожиданности случившегося и страха за себя я громко и пронзительно закричала так, что мигом стих рык позади меня… пропало, испарилось, исчезло дыхание зверя. А затем я услышала тихий голос Андрейки и его прощальные слова: «Люблю тебя!»
Люблю! Люблю! Люблю!
И услышав его голос, прозвучавший как призыв продолжить борьбу, я сей же миг выбросила руки вверх стараясь ухватиться за скользящую, мокрую и гладкую трубу. Стараясь ухватиться за нее, или за бетонные стены пролетающие перед глазами, или за железное крепление. Неважно за, что… но главное ухватиться… и спасти… спасти себя и тот путь, что пройден мною.
Я слышала, как хрустели и обламывались, отлетая мои короткие ногти, слышала, как визжали мои ладони старающиеся замедлить полет, как плямкались стопы ног ударяясь о стены, как гулко и надрывно ходила взад и вперед моя грудь от издаваемого мною крика.
«Непременно… непременно удержаться», — мысленно шепнула я себе.
И вот мне наконец-то удалось схватиться правой рукой за арматурину, и тут же я крепко обняла левой рукой трубу, вжалась в нее, так вроде желала стать с ней единым целом и даже на миг перестала дышать, ощутив через футболку лишь холодную ее поверхность. Босые стопы я уперла в стену и коленями для надежности обхватила трубу.
Я перестала орать, затихла… оцепенела… стараясь отдышаться, успокоиться от перенесенного ужаса, от падения вглубь мглистой пропасти.
Но маленько погодя моя правая рука заболела, устав сжимать арматурину, я разжала ладонь, и, перехватившись рукой, обняла плотнее трубу да продолжила свой спуск. Только теперь ноги, для верности, я переставляла по стене, и ползла вниз точь- в- точь как мокрица. Однако в таком ползучем, с искривленными, немного приподнятыми вверх коленями, виде было слезать не сподручно, а уставшие, тугие, и, словно, растянутые мышцы в руках и ногах от постоянного напряжения дрожали. Внезапно по моим рукам пробежала судорога, и скрутила пальцы, искривив их… сейчас же я разжала свои объятия. И вновь сорвалась, заскользила по трубе вниз, да только теперь к моему возобновившемуся крику прибавился визжащий звук, который издавали мои колени, прижатые к трубе и стопы, скользящие по бетонной стене. Но вот мои колени ударились об крепление и немедля они перестали тулиться к трубе, разомкнули свою хватку, а потом дрогнул и штырь в моем позвоночнике. Секунду спустя моя спина откинулась назад и я плашмя полетела вниз, мотыляя в этом клубящемся паре руками, ногами без надежды за, что-либо схватиться… и подумав лишь об одном, что- это конец!
Подумав и содрогнувшись от этой кошмарной, чужой мне мысли и от желания непременно выжить и продолжить бой!..
Однако конца не последовало… потому, как я тотчас упала на, что-то дюже твердое, упала и стукнулась головой и спиной… и от удара и пережитого закрыла глаза.
Я лежала очень тихо, будто не осознавая, что случилось.
А затем рукой ощупала поверхность того, на чем лежала и провела пальцами по земле… а может по песку… мелкому такому… рассыпчатому. Осторожно я собрала в ладонь почву и мелкую, и более крупную, похожую на катушки. Крепко сжала кулак и та почва, что была катушками мгновенно распалась на крошечные крупицы. Распалась… и просыпалась через приоткрытые мною пальцы… а я вернув остатки почвы на место, широко и радостно улыбнулась.
Глава девятая
Улыбнулась и засмеялась… звонко…звонко, переливчато… так словно запела птичка ранней весной вторя теплу жизни и счастью продолжения рода.
Мой спуск… был окончен.
Окончен!
И теперь передо мной лежал новый путь и новые преграды, а мне миновавшей такую тягостную тропу теперь все было по плечу и это иное меня не пугало, не страшило… та уверенность, что поселилась во мне, придавала силы и храбрость.
Я открыла глаза и глубоко вздохнула…
Кругом меня витал все тот же черный пар, да только теперь он не был влажным, сырым как прежде, он был сухим, и казалось мне, что от этого теплого, вроде просушенного воздуха, даже тихо пощелкивают кончики моих волос.
Осторожно поднявшись с земли, я села и снова набрав в руку то, что было рассыпано по ней и формировало почву, поднесла к лицу. На просохшей, раскрытой ладони, где все еще находились белые полосы и желтоватые мозоли, лежали небольшие с пшеничное зернышко комья спрессованного песка. Спрессованного, а быть может просто сырого, потому что стоило мне надавить на такое зернышко пальцем, как оно тут же распалось на более мелкие, микроскопичные крупинки песка.
Я наклонила руку и стряхнула песок с ладони да залюбовалась, как неторопливо оторвавшись от нее, он полетел вниз. Наверно наслаждаясь предоставленным ему, откуда-то сверху, правом на этот медлительный танец в вышине. И громко засмеялась тому, что в отличие от этого песка, я не смогла получить удовольствие от полета, боясь погибнуть.
Я смеялась очень громко…. хохоча отрывисто и звонко так, что послышалось тихое оханье, будто разлетающийся смех, наткнулся, в этом черном мареве, на твердую преграду, оттолкнулся от нее и раскатистым эхом вернулся обратно. От зычно возвращающегося эхом хохота, меня неприятно покоробило, мгновенно пробежала по спине крупная изморозь, на доли секунд одеревянив поверхность кожи. И тогда я решила, что пора прекращать этот похожий на безумный смех, пора подниматься и начинать новый этап пути.
Новый… иной… который быть может, принесет мне, что-то более интересное и менее болезненное, чем все то, что я видела, ощущала, чувствовала и преодолевала до сих пор.
Подзадорив себя словами: «Пора в путь!». Я поднялась на ноги, каковые все еще побаливали в икрах, но уже не дрожали, и огляделась. Кругом меня клубились испарения, которые были, как оказалось более плотными и густыми подле поверхности земли, а чуть повыше уже витали разрозненно и какими-то, похожими на перьевые облака, массами. Постояв так недолго, определяя и выбирая нужное мне направление движения, я напрягая зрение вгляделась в эту черноту… туда… вперед, где, по-моему мнению, должна была находиться стена дома и труба по коей я спустилась. Однако там ничего не было видно, кроме тьмы и летучего, реденького пара. Я протянула руку, вперед, стараясь нащупать что-либо там, но также ничего не ощутила, удивившись тому, как резво исчезла и стена, и труба, точно никогда их здесь и не было. И тогда, более не выясняя, куда подевалась эта бетонная постройка, с прикрепленным к ней водостоком, я развернулась на сто восемьдесят градусов, оставляя то, что испытала и пережила позади себя, и, надеясь найти все новое впереди, и пошла. Улыбаясь, довольно поглаживая пальцем запястья рук и нетронутую на них гладкую поверхность кожи, ощущая тепло плывущего рядом пара.
Я шла неторопливо, ступая босыми ногами по мягкому выстилающему землю мелкому песочку, наслаждаясь движением своих рук и ног. Наслаждаясь глубоко вдыхаемым воздухом, в котором витал запах соленых, морских брызг, слегка обжигающих мои губы. Я вслушивалась в тишину этого черного марева, вглядывалась в клубящуюся кругом темноту беззвездной ночи, где ничего не было видно и широко улыбалась спустившийся на меня тихой радости, которая уже давно… давно покинула меня, а теперь вновь вернувшаяся и вновь обретенная даровала мне спокойствие и размеренность движения.
Правда порой тишина этого, плывущего, испарения нарушалась, и откуда-то издалека до меня долетал тихий говор. И в тот же миг я останавливалась… Какое-то время стояла очень смирно, свесив вдоль своего тела руки и прислушивалась. Ведь я все еще четко помнила тот звериный свист и рык, что преследовал меня на трубе, и продолжала его страшится… хотя теперь меня не охватывал, как прежде смертельный ужас, и боялась я этого зверя совсем немного, так всего лишь чуть-чуть. Постояв в таком положении пару минут, я вновь продолжала свой путь.
Но вот, тот самый пугающий, говор раздался еще ближе, и на пару секунд я застыла, вслушалась в эту тревожащую меня пустоту и смогла различить голоса двух мужчин, спорящих между собой. Они находились пока еще очень далеко от меня, потому что их разговор я не могла расслышать, однако четко различалась постоянно, то повышающаяся, то понижающаяся тональность голосов, то резко обрывающаяся на полуслове речь, а то и вовсе крикливая брань. Один голос был дрожащим с отдышкой и чуток плаксивый, он чаще, чем другой прерывался, подолгу молчал. Второй голос наоборот был очень зычный, насыщенно грудной, звучал чаще и громогласно стараясь заглушить тот плаксивый, а потому наводил на меня неприятные думы и желание избежать с ним встречи.
Я шла очень долго… впрочем, как всегда здесь, в этом ином мире… Здесь все было долгим, растянутым словно старалось длительностью пребывания дать прочувствовать всю трагичность твоего поступка и вложенные в твое освобождения усилия. И хотя источник звука все время метался, перемещаясь передо мной, то вправо, то влево, а иногда и вовсе оказываясь позади, однако вскоре я приблизилась к нему настолько, что увидела вынырнувших из клубящегося пара двух прозрачных призраков.
Когда они вот так неожиданно нарисовались в черноте, освещаемые откуда-то снизу, я сразу остановилась и уставилась на этих людей, вернее теней… призраков людей.
Я сделала пару робких шагов вперед, чтобы лучше их разглядеть и прислушалась к их разговору. Тот, что говорил плаксивым голосом, был низким полноватым призраком мужчины, с какими-то расплывчатыми чертами лица, так, что невозможно было разобрать ни носа, ни глаз, ни щек, ни рта, а вместо волос на голове у него и вовсе торчала вверх похожая на петушиный гребень темно-серая, густая пакля. На его теле, не было видно ни вещей, ни кожи, оно было однородного, полупрозрачного цвета, чего нельзя было сказать о втором призраке, с тела коего свисали вниз расхлябанными, рваными кусками длинные, теребящиеся, полупрозрачные отрепья похожие на остатки вещей, кофты и брюк. Голос насыщенный и зычный издалека выдавал в нем мужчину впрочем, как и полнота, и высокий, почти под два метра, рост. Его черты лица были также расплывчаты, хотя там, мне все же удалось, разглядеть более темные места, выделявшееся выпуклостью щеки и длинноватый с острым кончиком нос. Он, этот второй призрак, все время ходил по кругу, размахивал руками и постоянно хлопал плаксивого по голове, попадая как раз по серебристому петушиному гребню, судя по всему, намереваясь сбить его на сторону. У него у самого на голове была густая шевелюра из тех же полупрозрачных, волнистых волос. И когда он ударял плаксивого по гребню головы правой рукой, то одновременно с этим засовывал левую руку в свою шевелюру, и легонько дергал себя за волосы. От этого рывка голова его на миг отсоединялась от шеи, подлетала вверх, зависала там, на доли секунд, взмахивала растрепанными, шевелящимися волосами, а потом резко и быстро падала, вниз, пристраиваясь вновь на шею.
— И, что ты Ванюха все время стонешь…ноешь…, - говорил этот мужчина. — Все то ты недоволен, все тебе не нравится… Но разве это не чудно оставаться здесь в этой тьме и быть живым мертвецом.
— Живым мертвецом… мертвецом, — плаксиво заголосил невысокий, тот который оказался Ванюхой и стоял на месте. Он приподнял вверх голову, вглядываясь в курящийся черный пар да прижал к груди сомкнутые ладони точно желал воздать молитвы. — Я не хочу быть живым мертвецом, бледнеющим прозрачным приведением… Погляди Леша, как долго мы тут торчим, спорим, ломаем дурака, пугая людишек. Мы страшимся идти вперед и стоим тут на месте… мы с каждым мигом… с каждым спором и смешком тончаем, превращаемся в блекнувшее подобие человека и чувствую я… чувствую, что скоро и вовсе мы исчезнем… испаримся… распадемся на частички… крупинки… былинки… Надо… надо Леша идти вперед… не зачем тут зависать… ну, встретились… ну, по-шутковали и будет…будет… И если ты не захочешь идти… я уйду сам… сам. Случайно забрел сюда… случайно остался рядом с тобой… и ничего хорошего ни на жил.
Я затаилась, и, стараясь не издавать не единого звука, стараясь даже не дышать, стояла и прислушивалась к их передрягам, и удивлялась, тихо вопрошая, зачем они здесь?… о чем спорят?… и почему не двигаются дальше?… а они все продолжали.
— Что ты, Ванюха, сама судьба нас свела… Бог как говорится, — выкрикнул зычно Леша. — Нельзя идти вперед, разве ты не видел, что происходит с теми, кто шагнул в нее…, - и он испуганно обернулся назад, будто страшась, что на него кто-то сейчас запрыгнет и одним махом проглотит его подпрыгивающую голову. — Она всех поглощает, засасывает и все… все… все… тогда.
— А может не все…, - совсем тихо шепнул в ответ Ванюха и тоже пугливо обернулся, а его прозрачная тень тела закачалась из стороны в сторону, словно от дуновения ветерка. — Может это только начало… Столько пройти, преодолеть и из-за тебя, вообще неизвестного какого-то дурня, застрять тут, чтобы пугать тех кто оказался не таким трус как я и ты… тех кто несмотря ни на, что продолжает свой путь.
— Ты, дурак…, - огрызнулся Леша, и, остановившись, опять стукнул Ванюху по голове и дернул себя за волосы.
Голова его, без задержу, подлетела вверх, волосы на ней взмахнули своей густотой, а еле видимые прозрачные глазки внезапно четко проявились и резко увеличились в размерах. В них блеснул пронзительный черный цвет, и они уставились в мою сторону, верно разглядев меня в этом черном мареве. И тотчас по губам пробежала змеиная, волнообразная улыбка и они тоже обрели форму и вид, растянувшись и даже наполнившись бледно-красным цветом, а когда голова поспешно вернулась на прежнее место, Лешин рот широко раздался и зычно, громко исторг из себя:
— Глянь, Ванюха, очередная жертва самоубийства… ха…ха…ха…, - злобно засмеялся он и подняв руку направив на меня прозрачный тонкий указательный палец, завертел им по кругу, подзывая таким жестом меня к себе.
А на меня накатил такой страх, что дрогнули мои ноги, закружилась голова и перед глазами запрыгали крошечные, серебристые блошки с тонкими расставленными в стороны ножками… у меня даже перехватило дыхание и пару секунд я не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть.
— Иди, иди сюда… кто ты там: утопленница, отравительница, вскрывательница вен… а может, — добавил все тем же зычным голосом Леша, и треснул своего компаньона по голове, пройдясь ладонью по острому краю гребня. — А может, Ванюха она повесилась или прострелила свою головешку…
Однако на этот раз, почему-то, Ванина голова пришла в движение и принялась наклоняться и покачиваться на шее точь-в-точь как игрушка неваляшка. И похоже Ванюхе не понравилось такое фамильярство и не уважение к его петушиному гребню, потому что он тут же умело перехватил руку своего компаньона, взяв ее подле запястья и гневно потряс вроде как намереваясь оторвать, а после заметил:
— Она не утопленница и башку себе не простреливала… Ты чего не видишь она пава, со вздернутым носиком, наверно голубой крови, а потому без сомнения благородно уходила из жизни, получая от этого ухода удовольствие… Вены… вены она вскрывала, точно как когда-то я вскрывал шеи жирным баранам, получая от этого… своего могущества радость и удовольствие… И вообще Леша я ведь тебя просил и не раз… не трогать мою голову… потому, что эти движения меня бесят и я зверею.
И Ванюха еще сильнее потряс Лешу за руку, дернув ее на себя с такой силой, что она нежданно оторвалась от плеча своего владельца и прыгнула прямо на его товарища. И тогда Ваня сделал несколько шагов вперед, и, размахнувшись, швырнул в меня оторванную и подергивающуюся в конвульсиях руку.
Та, прочертив в воздухе пальцами толстую, сероватую линию, будто ракета сначала взлетала вверх, набрав высоту. Но затем, резко сменив траекторию движения, все же решила не улетать, а приземлиться, и также быстро пошла вниз, широко расставив пальцы вроде намереваясь впиться ими мне в лицо.
В-первый миг, увидев летящую на меня руку, я подалась назад и громко вскрикнула. А когда этот прозрачный кусок плоти, не долетев до меня пару шагов, упал вниз на землю, утонув в черном паре, облегченно вздохнула. И не сводя глаз с того места, в котором приводнилась оторванная рука, внезапно заметила как кружащийся над ним черный пар мгновенно окрасился в алые тона.
«Ох…,» — испуганно выдохнула я, глядя на алый пар, и поспешно помотала головой стараясь прогнать наваждение.
Я даже закрыла глаза, а когда опять их открыла и взглянула на плотные испарения, то увидела, что они все того же черного цвета, ничем ни отличимого от пара витающего возле моих ног. Я перевела взгляд с курящегося пара и поглядела на двух призраков, которые стояли на прежнем месте и громко смеялись, издавая при этом гортанный, гаркающий звук. Они радостно ударяли руками по своим призрачным телам, и, приседая на корточки хватались за животы. И Ванюхина голова вновь покачивалась точь-в-точь, как игрушка неваляшка, а Леша все время теребил себя за волосы.
Словом они веселились… бесновались…
А я посмотрела на их беснования и подумала, что мне как мертвой не зачем бояться тусклых, исчезающих призраков, каковые от страха перед трудностями, лежащей впереди них дороги, предпочли остаться здесь… на этом месте и валять дурака, а не шагать в будущее… новое… преодолевая тяготы и невзгоды.
И тогда я смело шагнула вперед, намереваясь миновать этих двух припадочных безумцев, и пройти мимо них. Однако стоило мне сделать несколько шагов, как вдруг кто-то резко схватил меня за щиколотку правой ноги, приподняв штанину джинс. Схватил так крепко, словно присосавшись ко мне, прилепившись и порывисто дернув на себя. От резкого рывка, я потеряла равновесие и упала навзничь, утонув в клубящемся паре: головой, телом, руками и ногами, короче всем, что было во мне. И тотчас мою ногу выпустили, а через пару долю секунд перед моими глазами появилась та самая оторванная правая рука Леши. Только теперь она приобрела более нормальный, человеческий вид, окрасившись в телесный цвет и даже покрывшись густыми, загнутыми, маленькими, черными волосиками. А в том месте, где рука заканчивалась и должна была плавно перейти в плечо, появилась обрубленная, кровавая рана, из коей торчала белая, точно выдранная кость и тонкие, беловатые и голубые нити. Рука Леши запрыгнула мне на живот, и, передвигая пальцами, побежала по желтой футболке прямо к моему горлу, а приблизившись к нему, на миг оттолкнулась от трикотажной материи, подлетела вверх, растопырила пальцы, и, рванувшись ко мне, обхватив крепко накрепко шею, начала меня душить.
«А…а…а..!» — исторгла я из себя крик более похожий на предсмертный хрип.
Я ухватила руку, душащую меня, за локоть и запястье и принялась ее раскачивать, стараясь ослабить хватку и освободиться от нее. Я чувствовала, как надрывно-прерывисто стало захлебываться мое дыхание, как сквозь сдавленное горло стал плохо поступать воздух, а перед глазами поплыли кровавые капли.
Капли перед глазами… а в голове пролетела болезненно пугающая мысль, что сейчас я умру.
Еще миг и задохнусь…
Погибну…
И потеряю все, что приобрела… все, что с таким трудом добыла.
В голове пронеслась эта жуткая мысль, и я стала с удвоенной силой рвать эту ненавистную душительницу. Вверх… вверх… вправо…влево…
Я приложила все свои силы, всю свою злость… и обиду на себя… на нее… да почувствовала как хватка руки ослабла, будто она выбилась из сил или уступила моей храбрости. Еще чуть-чуть и она упала мне на грудь, тяжело вздрогнула, а по ее длинным, покрытым волосками, пальцам пробежала судорога, и она выпустила мою шею.
А я все еще крепко сжимая ее, резко поднялась из черного марева на ноги, и тяжело дыша, встряхнула головой, прогоняя светящиеся крапинки, летающие перед глазами, пришедшие на смену красным каплям. И как только крапинки разлетелись в разные стороны, утонув во тьме, я посмотрела на Лешу и Ваню, оные уже перестали гоготать и теперь пристально глядели на меня. И хотя их расплывчатые, прозрачные лица, были укрыты теми самыми испарениями тьмы, но я видела, а может чувствовала их злобу и ненависть ко мне… и к тому, что я продолжаю бой, несмотря ни на что.
Я подняла руку Леши и потрясла ее, показывая им, что я победитель.
— Вам не получится меня удержать… Я все равно пойду вперед…Меня никто не остановит… Никто…, - громко выкрикнула я и вновь потрясла рукой, которая обмякла и стала гибкой, чем-то схожей с резиновым, поливочным шлангом.
— Да, тебя никто и не будет останавливать… очень надо…, - крикнул в ответ Ванюха и негромко хрюкнул, тут же повеселев. И потирая ладони друг о дружку, добавил, — давай с тобой поиграем… И коли выиграешь… ни разу ни уронив мяча… ха. ха…, - и Ваня уж очень препротивно и жутко засмеялся, — тогда пройдешь… Как говорится беспрепятственно, а если нет… пеняй на себя… ха…ха…
Он тут же схватил своего товарища за оставшуюся целую руку, около запястья и резко потянул на себя. Но рука на этот раз не поддавалась и крепко держалась в плече, а потому Ванюха безрезультатно дернув ее несколько раз и видя, что она не отрывается, уперся ногой в живот Леши и перехватив руку чуть выше, около локтя, сделал несколько круговых движений по часовой стрелке точно откручивая ее, а после опять резко дернул. Раздался тихий треск и на этот раз рука оторвалась. Ванюша подкинул оторванную конечность вверх, и, подпрыгнув, схватил ее за предплечье, да опустившись на землю, покрытую черной мглой, выставил ее вверх и немного в бок так, словно то была не прозрачная рука призрака, а бадминтонная ракетка. Затем он легонько встряхнул ею, и рука не мешкая выпрямилась, ладонь разжалась, пальцы широко растопырились. И сейчас же Ванюха нанес ею сильнейший удар по улыбающейся голове Леши, смирно стоявшего рядом. Немедля голова Леши покинула насиженное место, и, взмахивая длинными волосами, устремилась ко мне.
А на меня напал ступор… И не столько от вида летящей головы, взмахивающих волос, но и оттого, что яркость лица при приближении увеличилась и я смогла разглядеть приподнятую узкую верхнюю губу, выгнувшуюся крышей дома, и черные, блестящие глаза запавшие в серебристых, бездонных глазницах, и красновато-черную кишку, что вылезла из тела и двигаясь вслед за летящей головой крепилась к ней со стороны шеи. На вид — это была, почти в палец, склизкая, покрытая небольшими бородавками кишка, чем-то схожая с глистой, ко всему прочему она несильно шевелилась и пульсировала и казалась живой, и даже слышался звук, такой который бывает, когда на рыбацком спиннинге разматывается катушка, тихо так жужжа. Голова уже приближалась ко мне, и на доли секунды зависнув в воздухе передо мной, широко раззявив рот, сказала: «Ну… чего стоишь точно бревно… Чего не бьешь? Бей… а то навеки останешься с нами… не пропустим…»
— Не пропустите?… — взволнованно переспросила я, струхнув, что могу остаться здесь… навсегда… с этими больными на голову и наверно не только на голову.
— Бей… и обыгрывай нас… Видишь это и есть мяч, — закричал Ванюха и взмахнул конечностью своего товарища.
Я отвела оторванную руку Леши немного вбок и почувствовала, как в ней вновь появилась упругость, да, глянув на нее, заметила, что она вроде ожила, беспокойно и радостно задвигала пальцами, наверно предчувствуя веселую игру. Затем я сделала шаг вперед, и ударила ладонью руки, голову Леши, задев его подбородок. Голова тотчас описала кувырок в воздухе и направилась к Ване, который, увидав возвращающуюся часть тела товарища резво, несмотря на свою полноту, подпрыгнул вверх, и ударился левым боком об безрукого, безголового Лешу, беспокойно переступающего с ноги на ногу и покачивающегося. От такого крепкого толчка несчастное тело Леши повалилось, будто подрубленное дерево, прямо в черное марево. А Ванюха изогнулся, приняв стойку истинного атлета и дотянувшись ракеткой-рукой до головы-мяча, ударив по ней, послал ее в обратный путь, прямо ко мне.
Голова снова совершила кувырок, так, что длинная кишка, вылезающая из шеи описала круг, попытавшись зацепиться за выступающий нос своего хозяина. Однако ей это не удалось сделать, и она лишь вскользь пройдясь по кончику носа, повисла позади шеи. А голова тем временем уже подлетела ко мне, очи Лешины уставились на меня и я увидела, как блеснула там черноватая синева, он открыл рот, высунул свой язык, который оказался красно-черным похожим на кишку, только более широким и начал меня дразнить.
Я глядела на этот высунутый язык и теребящуюся позади головы тонкую кишку и вновь подняла ракетку… вернее руку Леши намереваясь отбить его голову… вернее мяч… Впрочем летящая прямо на меня голова Леши, внезапно резко отклонилась влево, и я также резво подалась вслед за ней, намереваясь непременно отбить эту подачу и не упустить меча. Но хитрая голова Леши в тот же миг взлетела вверх, а после, когда я подпрыгнула, подняв высоко ракетку, уклонилась вправо. Я понимала, что это все злобная игра безумцев, но уступать я не желала, а потому изловчившись, ринулась следом за головой успев стукнуть ладонью руки прямо в лицо Леши. Я видела, как от мощного удара искривилась его физиономия, наверно все же он ощущал боль, видела, как вздрогнули его губы, а верхняя и вовсе судорожно затряслась, судя по всему, удар пришелся именно по ней.
И описывая криволинейные пируэты, мяч- голова уже подплывали к Ванюхе, который в отличие от Леши получал истинные удовольствия и от игры, и оттого, что мог лупасить своего ненавистного и неприятного компаньона. Ваня тревожно приседал на корточки, наклонял свое полное, невысокое тело, точно намеревался не отбить голову рукой, а как заправский вратарь, стоящий на воротах и оберегающий честь команды, желал поймать круглый бело-серый мяч.
Я видела, как неожиданно Ванюха прыгнул вправо, и, приземлившись на, что-то оказался выше своего роста, а потом я догадалась… он вскочил на тело Леши. Несколько раз на нем подсигнул так, что прозрачные ноги его товарища, синхронно взлетели вверх, выглянув из более густого пара, а затем опять также синхронно упали вниз, утонув в нем.
И снова Ваня, оттолкнувшись ногами, от тела компаньона, взвился стрелой, только какой-то толстой и неповоротливой, вверх, перекинув в полете ракетку, с левой руки в правую и взмахнув ею, пребольно ударил по голове Лешу. От удара рот Лешин издал какой-то нечленораздельный звук, и, отправившаяся в мою сторону закачавшаяся голова злобно и обидчиво выкрикнула:
— Бить по морде бей… кто ж спорит, да по телу зачем так топтаться… Все- таки это неприятно…
— Слышь Маруся, — обратился ко мне Ванюха. — Ты этого гада, пошибче… похлеще лупи… Ведь это я по его вине тут торчу… все он меня запугивает… страшит… смущает… пошибче… пошибче его.
— Меня зовут Оля, — не менее сердито откликнулась я.
И выполнив просьбу Вани, со всей силы шибанула ракеткой по лохматой макушке его товарища, при этом в одном из пальцев руки запутался длинный локон его волос. Рванувшаяся в обратный путь голова Леши с хрустом вынула из себя этот локон, а рот его негромко ругнулся, грязным и скверным словечком.
— Эй, головешка, — прикрикнул на Лешу Ванюха. — Попридержи свой длинный красно-черный язычок… Ты ж заметь дурень, перед тобой дама.
Леша еще выкрикнул, что-то подлое и мелочное направляя это в сторону товарища и внезапно не долетев шагу до Вани, резко упал вниз. На доли секунд пропав в том черном мареве, а вынырнув оттуда, точь-в-точь как отскочивший от земли мяч полетел в мою сторону. Заметив спокойным голосом комментатора ведущего малоинтересующий его матч:
— Один ноль в пользу вскрывшей вены психованной Оли.
Я опять отбила подачу, хотя голова и старалась не попасть под мою ракетку, вновь зависнув в воздухе и порывисто двигаясь то вправо, то влево. А когда я послала ее в обратный путь, спросила у Вани:
— И долго мы так будем дурачиться… Мне в принципе недосуг… И потом я ведь уже победила…
— Ты еще не победила… А играть или как ты заметила дурачиться мы будем долго, пока мне не надоест, — злобно прошипел Ванюха и усмотрев подлетающую голову товарища вскинул вверх правую ногу, намереваясь отбить ею приближающуюся круглую конечность.
Однако Леша, разгадав злобное намерение своего спутника на мгновение, замедлил полет, крутнулся в воздухе и направился ко мне.
— Ах, ты… гад…, - воскликнул Ванюха, увидев обманный маневр компаньона и уронив ногу на тело Леши продолжающее лежать на земле, принялся его пинать.
— Вообще-то мне пора, — сказала я и ударив голову Леши рукой, швырнула ее вслед за улетающим хозяином, намеренно с таким расчетом, чтобы попасть ею в петушиный гребень Вани, который ежесекундно пинал ни в чем ни повинное тело своего товарища.
— Пора…ах. ты, — заверещал Ваня, и голос его наполнился плаксивыми нотками, он поднял голову, оторвав взгляд от ненавистного товарищеского тела и глянул на меня.
И тотчас перестал пинать тело Леши, а когда прибывшая рука, обогнавшая в полете, голову хозяина стукнула его по гребню, проехавшись прямо по острию и огладив ладонью лицо. Ванюха мгновенно схватил ее, крепко сжал, и, сверкнул в мою сторону, на миг увеличившимися зелеными глазами, похожими на огни светофора, оные быстро вспыхнув, также быстро и погасли, утонув в бездонности прозрачных и вроде как пустых глазниц.
Еще миг он стоял, не двигаясь, по-видимому, вглядываясь в меня своими бесцветными, прозрачными глазами, затем он также внезапно пришел в движение и воткнул резко, с силой левую руку Леши в свое левое плечо, а правую руку приставил к правому плечу.
И, о, ужас! Руки тут же вклинились в его плечи, и даже та рука, что была моей ракеткой и имела телесный цвет, немедля сменила его, этот цвет, на прозрачный. И вслед за левой рукой вросла в плечо Вани, зашевелила пальцами, пришла в движение, начав неспешно сгибаться в локте, будто пробуя силу или накачивая ее в предплечьях и плечах… и впрямь через секунду плечи прямо на моих глазах стали увеличиваться и расти в ширину. Голова Вани слегка накренилась на правый бок, а шея, как раз на месте изгиба лопнула, и образовала неширокий, округлый, полупрозрачный перешеек, и из него словно из земли стал выбиваться маленький росточек красного цвета с тончайшими, черными прожилками. Росток очень быстро рос, вылезая из перешейка, и вскоре превратился в длинный красно-черный язычок, который вытянувшись над шеей и головой, затрепетал, как флаг на ветру. И тотчас замершая в воздухе голова Леши, увидев это призывающее его трепыхание рванулась к нему. От столь поспешного рывка та самая кишка, что крепила голову Леши к его телу, оторвалась и громко, смачно чмокнув улетела вниз в черные испарения. А голова Леши уже кружила над новой кишкой, вытянувшейся над шеей Ванюхи, уже размахивала длинными, патлатыми волосами, радостно приветствуя ее. Еще чуток и голова Леши опускается на кишкообразный росток и втягивает в себя его, усаживаясь рядом с головой Вани, немного потеснив ее, так что та совсем выгнулась и улеглась правым ухом на увеличивавшееся в несколько раз плечо. Впрочем увеличилось не только плечо, выросло и увеличилось все тело и руки, и грудь, и даже подрос слегка выпученный вперед живот.
Вид этого несуразного, уродливого, двухголового и четырехрукого существа был ужасен. Ведь укрупнилось оно в ширину и в высоту лишь до талии и теперь его мощный, накачанный стан крепился на коротких, и по сравнению с телом, тонких ножках. Это чудище, ко всему прочему, даже сменило тон, окрасившись в насыщенно белый и немного светящийся цвет… точно напитавшись моим страхом, не уверенностью и желанием повернуть назад.
Да только я знала, что там позади ничего нет… вернее есть… но то, что мною пережито… выстрадано, а все новое и иное лежало там впереди… там…
И когда это чудище, сросшееся вместе, и похожее на уродливых сиамских близнецов двинулось на меня, тяжело покачиваясь из стороны в сторону, неся свое огромное тело на коротких ножках, я приняла решение бежать… бежать туда… вперед… прорываясь сквозь это безумие.
А потому не мешкая ни секундочки я сделала огромный прыжок вперед, покрывая им большущее расстояние, а после переходя на бег понеслась туда на движущихся Ваню-Лешу, намереваясь пробежать мимо них. Однако стоило мне, пробежать несколько метров оставив это чудище слева от себя, как внезапно мои ноги споткнулись об лежащее тело Леши, притаившееся и замершее в черных испарениях, и я полетела вниз. Перескочив через него и врезавшись подбородком в сыпучий, влажный песок, проехав несколько секунд и затормозив своей грудью и ртом, в каковой набился песок.
Я поспешно выплюнула изо рта песок и ощутила содрогающееся от быстрого бега и страха свое тело, сбивчивое дыхание. И тут позади меня послышался громкий и тяжелый топот, казалось, что это бегут не сиамские близнецы Ваня и Леша, а движется целое стадо разъяренных быков. Даже не оборачиваясь, не в силах взглянуть в лицо опасности и немедля ни секундочки, я сначала вскочила на карачки и поползла по песку переставляя руки и следом за ними колени, быстро… быстро… и также быстро вскочила на ноги, поставив босые стопы на песок и опять побежала.
Топот тысяч ног позади меня не смолкал, а наоборот нарастал, становился многократнее, громче, мощнее…
Он подгонял меня…
Заставлял бежать быстрее, не жалея себя… не успевая ничего обдумать… лишь нагнетая во мне всеобъемлющий страх перед тем чудовищем кое, судя по всему, успело еще вырасти и теперь желало поглотить… и уничтожить меня как личность.
Внутри меня от ужаса и скорости все ходило ходуном… а страх оглянуться и увидеть то, что может прекратить мое существование и борьбу, заставлял меня торопиться…бежать…
Бежать…
Бежать…
Однако силы мои на исходе, мышцы на ногах: в икрах и на бедрах, от усталости стала сводить дергающая, выворачивающая судорога, резкая боль штырем пробивала позвоночник, выстреливая в поясницу, а дыхание уже походило на тихий, стонущий хрип.
Там же позади меня гул и топот ног лишь нарастал. Он становился яростнее и кипучее и теперь уже походил не на топот, а на сход селевого потока, который несет в грязно-бурых водах не просто вырванные стволы деревьев, но и огромные, глыбоподобные камни, смешивая все это в одну единую пугающую своей силой массу.
Я уже теряю силы…
Снижаю быстроту бега…
Перехожу на шаг… захлебываюсь скомканным дыханием и горящей болью в ногах, дергающим, рвущимся на части правым боком. И на миг я замираю, перестаю дышать… и даже не замечаю этого топота… а лишь слышу… слышу себя. И тот, кто после Андрейки появился во мне и стал меня поддерживать и помогать бороться… тот кто стал поощрять меня за смелость и уверенность… Сказал мне, чтобы я перестала страшиться, перестала трусить, потакая своим слабостям и взяв себя в руки глянула прямо в глаза той опасности… чудовищу… или безумцу… встретив его в полный рост.
И я услышала его… а вернее саму себя… и… обернулась…
Глава десятая
Прямо на меня шел огромный, высокий и закручивающийся против часовой стрелки черный хобот торнадо… смерча… ураганного вихря… Он опустился откуда-то сверху впитав в себя всю тьму неба, и достигнув громадной воронкой поверхности земли, мигом всосал в себя парящие по низу испарения, так что и небо, и земля стали какими-то серыми, точно с них содрали всю черноту и удалили весь клубящийся пар. Там же позади этого страшного торнадо идущего на меня… там… вдалеке… я увидела блеклые тени призраков Вани и Леши… они стояли в той серости уже вновь разделившиеся, вернувшие себе свои истинные образы, и, размахивая руками, нанося друг другу хлопки по голове, о чем-то горестно спорили.
Я глянула на этот смерч, его высоту, огромный диаметр танцующей воронки, и мощь с которым он поедал всю черноту, и содрогнулась. И снова меня объял ужас… страх….
Однако прошли доли секунды и я подавив в себе этот страх, смогла разглядеть в закручивающемся по спирали мареве неожиданно вспыхивающие белым светом и тотчас угасающие лица малознакомых мне людей: женщин, мужчин, стариков, подростков, детей. Малознакомых?.. или быть может знакомых?.. но просто стершихся из памяти, забывшихся, утонувших в проблемах, горестях и бедах выпавших на мою долю.
Лица возникали и ярко вспыхнув на доли секунд, затухали… И чем чаще они мигали… мелькали… чем ближе подходила ко мне эта кружащаяся высокая воронка с тонким основанием и расширяющимся верхом, которая впитывала в себя окружающую тьму и клубящийся пар, и словно серебрила мир позади себя, тем все насыщеннее становились лица, черты их проявлялись четче. И у меня возникало непреодолимое желание войти в этот смерч… в это торнадо… и не страшиться его, а познать и тех, кто там мелькает, и сам этот вихрь, каковой несет в себе, что-то иное… новое…
Но воронка накатывала неспешно, неторопливо, она двигалась, то вправо, то влево, то внезапно делая пару оборотов, поворачивала назад, и со стороны была похожа на пьяного человека, которого не держат ноги, но коему непременно надо идти.
А я настойчиво следила за ее ходом и всматривалась в лица, кружащиеся в ее черном парящем полотне.
Еще какой-то миг я напрягала зрение и память, а потом вдруг вспомнила…
Вспомнила, что это за лица… Вот… вот только, что мелькнуло лицо моей мама… только не лицо пожилой женщины, с тонкими морщинками вокруг глаз, лба и рта… а молодое, словно налитое жизненной силой, гладкостью молочного цвета кожи и красотой, чуть вздернутого, миниатюрного носика, мягко-пухлых губ, длинных каштановых волос и больших зеленых глаз. Секунда и лицо любимой мамочки погасло, а затем появилось лицо папы и его серые глаза блеснули озорным светом, широкий рот с тонкими губами улыбнулся. Он был также молод, как и мама и его черные, коротко стриженные волосы еще не тронула седина. Его лицо блеснуло своей жизненностью и утонуло во тьме, а я возбужденно и радостно затрепетала припомнив их милые, дорогие и уже такие далекие лица… припомнив добрые руки, сильные папы и ласковые мамы.
А после в кружащемся вихре смерча я узнала лица бабушки, дедушки… тети Гали и дяди Сергея…лица двоюродных сестер и брата… лица школьных подруг… одноклассников… учителей… одногруппников… знакомых… сотрудников… и вот неожиданно прямо передо мной выросло и остановилось лицо его — Андрея… Человека из-за которого я покончила со своей жизнью, и вложенным в нее трудом и любовью своих родителей, учителей. Покончила одним махом тонкого серебристого и очень острого лезвия бритвы.
Лицо Андрея становилось ярче, насыщеннее, казалось, оно впитывало в себя живые силы других лиц, что витали вокруг него, высасывая их жизненные соки… или уничтожая в них их чувства, их любовь… поддержку которую они когда-то дарили мне.
Прошло не больше минуты, и я уже четко увидела и его зелено-серые глаза с мелкими прожилками шоколада, его полноватые губы, и немного большой, похожий на клюв орла, загнутый нос, и светло-русые волосы, растрепанные и едва прикрывающие лоб.
Андрей глядел на меня будто живой, и видела я как небрежно и лениво закрываются его очи тонкими, прозрачными веками… Как суетливо дрожат ресницы при взмахе вверх, как дрогнув изогнулись в ехидной улыбке его губы собираясь заговорить со мной, спросить о чем-то, посмеяться в его излюбленной форме… а может быть, даже, сказать слова о том, что он готов вернуться ко мне.
Вернуться ко мне и начать все заново… все сначала…
Все…
Сначала…
— Нет! Нет! Нет! — закричала я и закачала поспешно головой. — Ничего… ничего не может быть сначала… заново… Не возможно склеить разбитую чашку… не возможно склеить мою разбитую вдребезги жизнь… И я вообще не понимаю, за что любила тебя? Зачем желала твоего возвращения? И почему не смогла пережить твоего ухода… убив… уничтожив свою плоть.
Я сделала шаг назад, один… второй… мои ноги подогнулись в коленках и дрогнула в позвоночнике спина. И тут внезапно, Андрей проявился весь… не только лицо, но и крепкая его фигура. Я увидела, как он отодвинул черную завесу воронки в сторону, словно полог над кроватью, вышел из смерча, шагнув ко мне навстречу. Я увидела на нем, его любимые черные джинсы и с длинным рукавом аляписто-серую толстовку и такие же под стать толстовке аляписто-серые кроссовки, на высокой платформе. Андрей расставил широко руки и кивнул, подзывая тем самым меня окунуться в его объятия, воссоединив нашу любовь.
Да, только… только нет уже никакой любви… все давно погибло… умерло… вытекло вместе с моей кровью… захлебнувшись в алой воде ванны. Я глубоко задышала, а на глазах моих появились крупные слезы, они не подчиняясь мне, выскочили из очей и брызнули в разные стороны… будто растерялись от неожиданности… от увиденного, припомнив пережитое… выстраданное. Они осыпали своей влажной, каплевидной соленостью и мою футболку, и пар, который все еще витал подле моих ног… моего тела…
— Иди… иди ко мне, — шепнули губы Андрея. — Ведь ты страшишься шагать вперед… ведь там может быть смерть… Останься здесь в моих объятиях и все будет хорошо… Мы обретем вновь друг друга… воссоединимся… продолжим наше общее существование.
— Нет, — подавляя текущие слезы, ответила я, понимая, что новое… иное лишь там впереди в тех черных испарениях. — Тебя здесь нет… Ты там на планете Земля… Ты жив… А я… я мертва. И, чтобы мне дойти сюда… мне пришлось пройти тяжелый путь, преодолеть боль, одиночество и главное победить свой страх. А ты… ты в прошлом… также в прошлом, как и мои мамочка, и папочка… как дедушка и бабушка, тетя и дядя… брат и сестры. Вы там… позади. А я иду вперед… лишь впереди моя жизнь и что-то новое… иное… И я пойду туда… пойду, как учил меня Андрейка… Он тот кто даровал мне смелость и волшебные слова… слова надежды! — Я подняла голову, устремила свой взгляд туда вверх, в черное клубящееся марево, туда вверх, где как подозревают люди живет Он- Бог и громко… очень… очень громко прокричала, — лишь те, кто не страшась идут к намеченной цели, остаются победителями!
Я прокричала эти слова для него… моего Бога, который, несомненно, был… и жил где-то вдали от нас. Это Он… Он создал и нашу планету Земля, и наши души, и наши тела… и этот долгий, томительный, но столь необходимый путь познания себя…
Он…
Всевышний…
Небесный Родник…
И как говорили славяне и русичи, Небесный Отец…
Я выкрикнула эти слова и ощутила внутри спокойствие, я осознала эту истину и поняла, что не зачем обращать внимание на Андрея ведь его нет. Не зачем бояться смерча… все сделано по велению Божьего слова.
И потому я глубоко вздохнула, и, опустив голову, посмотрела на все еще стоящего и протягивающего ко мне руки Андрея, который лишь стоило мне взглянуть на него и улыбнуться начал как-то неестественно бледнеть, теряя свой обыденный цвет, укорачиваться и усыхать. Бледнело, усыхая и укорачиваясь не только его лицо, руки, но и вещи: толстовка, джинсы, кроссовки. Все то в чем он ушел от меня когда-то в ином мире в иное время… далекое и канувшее в пучину времени. Я видела, как сменился цвет кожи на его лице, превратившись из смуглого в прозрачное. Серая с аляпистыми пятнами толстовка и вовсе смешалась с мрачным, черным цветом подходящей сзади воронки. Впрочем также в ее цвете растворились джинсы и кроссовки. И только прозрачное лицо размером с ладонь и две беловатые капли скукоженных рук еще мгновение виднелись, кружась в воронке. Еще доли секунд и пропали они — руки, а после погасло… растворилось и само лицо.
А я увидев как на веки исчез для меня этот чужой человек, смело посмотрела на подходящую ко мне здоровущую воронку с тонким, миниатюрным основанием двигающимся по земле, и вбирающим в себя всю черноту летающего пара, и с мощным, теряющемся вверху кругообразным хоботом слегка завернутым и чуть пенящемся белым пухом края. Этот край словно кивнул мне, как старой знакомой и двинулся на меня… А я глядела как тонкое основание сначала лизнуло мои голые стопы, съев весь черный пар подле меня… затем резко схватило меня в объятия и понесло по кругу.
От стремительного подъема, быстроты движения и бьющего в лицо пара, у меня перехватило дух, и я на маненько сомкнула глаза, а когда их открыла то перед моими очами уже летел мерцающий, пульсирующий в такт барабанного боя, космос, увенчанный маленькими серебристыми звездами, образующими гигантские лепестки цветов, круги, водоверти, вихри. Теперь я летела не в воронке торнадо, что схватил меня, я летела сквозь эти чудные будто выскакивающие из одной точки и тот же час увеличивающиеся, разрастающиеся явления, стремясь всем своим естеством попасть в эту самую, черную выплескивающую из себя звезды крупицу.
Голова моя немного кружилась, так совсем чуть-чуть, легкое, невесомое состояние небрежно качало мое тело, а парящие в этой безбрежности руки изредка вздрагивали, они были расставлены в стороны, и казалось, помогали моему скорому движению, а вернее полету.
И еще… еще мне слышался барабанный бой…
Бой…
Бой… а может не бой… может гром раскатистый, зычный и гулкий…
Гром…
Гром… гром и слова. Какой-то тихий призывный шепот, толи приглашающий, толи зовущий меня, и чем настойчивее он звучал, тем больше я стремилась к той крупице, каковая выплескивала из себя звезды, может предчувствуя конечность своего пути… конечность этого пути и начало иного… нового… совершенно другого.
Шепот становился громче. Он перешел на тихий говор, а после раздался совсем рядом… возле меня… или надо мной. Он прозвучал ясно и совершенно отчетливо и голос мужчины… еще молодого и полного сил сказал, без сомнения обращаясь ко мне: «Словно река с неудержимым, кипучим, рьяным течением пролетает наша жизнь… Не замечаем мы беззаботного детства, счастливой юности, легкой на подъем молодости, насыщенной трудностями и радостями зрелости, ощущаем мы лишь приход старости… Вспоминая красоту прожитых дней, увиденное глазами, прочувствованное сердцем… Замечаем мы тогда, напоенных нашими мыслями, созданных нашей кровью и плотью детей и внуков… и готовимся к смерти, зная, что она- есть не конец, а лишь продолжение нашего пути, только в новом… ином… другом состоянии…»
Иное… новое состояние… вот, что я могла получить после своей жизни…
Дети… внуки… вот, что я потеряла, разрезав, уничтожив свою плоть…
И как только я разобрала эти слова. Как только ощутила их мудрость, и содрогнулась от мысли, что уничтожила я не просто себя, и труд моих родителей, а разрезала лезвием бритвы и жизнь своих не рожденных детей, внуков… так в тот же миг я прекратила движение.
Серебристые звезды также остановили свой пульсирующий бег лепестка и застыли…
Оцепенели… а потом замигали так еле видно, попеременно точно сбились с единого ритма, расстались и зажили по своему ничему не подчиняющемуся закону… Замигали, замерцали более не собираясь продолжать свой путь, не собираясь продолжать свой танец.
И я почувствовала, что также как и эти звезды крупные, размером с кулак, хотя и очень далекие, замерла я…
Замерла…
Затихла…
Все еще продолжая держать широко распахнутыми руки, намереваясь наверно вновь продолжить быстроту своего полета, если это вдруг понадобится.
Некоторое время я не могла понять, где я и что со мной.
Не могла понять, что на этот раз мой путь завершен.
Не могла осознать, что лежу на чем-то плотном и влажном, а легкий ветерок перебирает мои волосы, с оных во время полета слетела лента от рукава футболки. Волосы мои растрепались и теперь подчиняясь дыханию ветра парили вдоль моего тела, а он, сам теплый и нежный, гладил мое лицо, касался кожи моих рук и даже целовал в голые стопы. Чуть слышный шум набегающей волны, где-то совсем близко вспенивал воду, а чернота ночного неба покрытого крупными звездами и тонким серпообразным месяцем напоминала Землю.
Землю- великую, прекрасную, голубую планету, на которой вот уже много тысячелетий жили люди. Люди похожие на меня, с двумя ногами, двумя руками, головой и телом. Жили: рождаясь, любя, трудясь, продлевая себя в своих детях и внуках, умирая. Они оставляли после себя плоды своей любви и своего труда, одаривая свое потомство талантливыми изобретениями, облегчающими жизнь… придумывая и создавая новое… иное… и необходимое для существования людей.
Милая, родная моя Земля, с темным, усеянным звездами небом; голубой, звонкой, чистой водой; с мягким, рассыпчатым песком; раскатистым, бурно-бьющим о берег всплеском волны…
Все…все… напоминало мне Землю.
И радуясь, что может быть я вижу ее и может быть в последний раз… Я заплакала…
Я плакала очень тихо, мое тело на этот раз не вздрагивало от рыданий. Я не выла, не скулила как прежде, а из моих серых, похожих на глаза папы, очей вытекали и струились теплые, чуть солоноватые слезы. Они текли по щекам, и, достигая их середины, точно переполняя их срывались и улетали куда-то вниз… в неизвестность… а я наслаждалась и теплотой земли, и чистотой воздуха, и далеким черным небом.
— Кха…кха… — раздалось позади меня, и кашель этот прозвучал так внезапно, что немедля разрушил и мое уединение, и наслаждение моих измученных рук, ног, головы и тела.
Неторопливо я поднялась и сев оглянулась, посмотрев на того кто был позади меня и очень тихо покашливал, толи призывая меня ко вниманию, толи просто будучи простуженным.
В ночи, что властвовала сейчас в этом месте, я легко разглядела, всего в нескольких метрах от себя седовласого, с длинной, почти до середины груди, бородой старика. Он сидел на небольшом пенечке, держа в руках клюку, один конец коей упирался в почву, а на другой, загнутый в виде широкой, полукруглой ручки старик положил свой подбородок. Его длинная борода, очень густая и при свете месяца отливающая серебром, струилась вдоль, деревянного полотна клюки, соприкасаясь с ней и оттеняя ее коричневатый цвет. На старике было длинное белое одеяние, укрывающее и его тело, и ноги, почти до земли, и скрывающее руки, до запястья, чем-то похожее на ночную рубашку, нежную и шелковистую. Лицо старика покрывали тонкие и крупные морщинки, оно зрилось будто изрезанное тончайшими ниточками и испещренное глубокими шрамами. Те морщинки опутывали не только лоб, места около глаз, губ, но и обильно расчертили щеки, подбородок и даже рассекли надвое нос, точно старик, перед тем как состариться, будучи великим воином, бился не раз не только на мечах, но и на шпагах, и даже получал раны от пуль… Глаза старика были блекло-голубыми, и казалось в них была собрана вся печаль и боль пережитая, услышанная или выстраданная людскими душами. И наверно не раз этот старик… воин и победитель… проливал слезы… плакал и стенал, от человеческих поступков. Потому глаза его и стали поблекшими, съеденными солью, потускневшими от боли и времени… времени… а может с них спала краска именно из-за времени.
Губы старика, также иссеченные морщинами, немного дрогнули, лишь только я взглянула на него. Их толи сероватый, толи белый цвет пугал в темноте, превращая их обладателя в какой-то неживой, обманчивый образ. Однако старик не был призраком, хотя и лицо, и руки, и выглядывающие из-под одеяния голые стопы имели белый цвет кожи, будто сменили его от долгого пребывания в этой тьме, но я сразу поняла, что он состоит из плоти и ждет, по-видимому, таких как я.
— Здравствуйте, — тихо сказала я и вгляделась вдаль, стараясь рассмотреть, что находится там позади старика.
А там позади него, где-то совсем недалече… ну, может метрах в пяти начинал струиться по поверхности земли черный, размывчатый такой пар. Он укрывал своей тьмой землю, небрежными кусками, и чем дальше уходил от спины старика, тем становился гуще, насыщеннее и клубился словно воронка. Однако и через эту воронку и через густоту тьмы я смогла разглядеть там… дальше… бледные тени хлопающих друг дружку по голове призраков Вани и Леши… а еще дальше бетонную стену здания и уходящую высоко вверх, укрепленную на ней широкую водосточную трубу.
— Здравствуй, — ответил старик, прервав мои разглядывания, и тяжело вздохнул, а я уловила в его дыхании тихий свист… даже не свист, а какой-то тяжелый… свойственный старческому дыханию рык.
И уловив этот свист и рык, припомнила, что уже слышала такое дыхание там… на той водосточной трубе, пугая себя тем, что его издавал зверь желающий меня съесть. Зверь… Не зверь, а старик.
— Вот ты и пришла, — негромко молвил старик и оторвал подбородок, возлежащий на ручки клюки. Он неторопливо выпрямился так, что спина его тихо скрипнула, вроде как давно несмазанная дверная петля, и положив клюку на одеяние, добавил, — Пришла… Долог был твой путь… труден… Всего один лишь шаг, одна ошибка, а потом тяжелый и мучительный бой, чтобы познать свою душу и преодолеть трусость… слабость… Он этот путь был тоже всего лишь как один шаг… Один шаг…
Не поднимаясь на ноги, я повернулась к старику лицом так, чтобы хорошо было его видно, и посмотрела на черную мглу, кружащуюся воронкой возле бетонной стены да уходящей вверх трубы и сказала:
— А мне показалось, что это был не просто шаг, а вечность… бесконечная вечность..
— Бесконечность… шаг… вечность… мгновение, — тихим голосом вторил старик. — Что вы, люди, знаете о вечности и мгновении?.. Что вы знаете о времени, бесконечности, создании все видимого, слышимого, осязаемого?.. Что вы знаете о Боге?.. Ничего… — ответил старик и снова глубоко вздохнув, издал свист да горестно повторил, — ничего…
— Бог, — повторила я, и, поджав под себя ноги, согнув их в коленях, крепко обняла руками. — А вы видели Бога?
— Бог…, - старик провел ладонью левой руки по серебристой бороде, пригладив каждый волосок на ней, и подняв ее вверх обвел по кругу, указуя на небо и землю разом, произнеся, — это и есть Бог… Все, что ты видишь, ощущаешь, вдыхаешь, вся созданная приРода: звери, травы, деревья, цветы… вода… ветер… облака… тучи… град… дождь… снег — это все и есть Бог… Великий космос, время, галактика Млечный путь, бесконечная Вселенная и ваша голубая планета Земля- все это и есть Бог… Ты…, - старик на секунду смолк, и внезапно тихо всхлипнул, точно намеревался заплакать, а я увидела, как в его блеклых голубых глазах блеснули крупные, похожие на жемчужины слезы, и, уронив на клюку свою руку, он горестно продолжил, — ты… Так легко решила оборвать свою жизнь, уничтожить созданное родителями, дедами и прадедами великое чудо продолжения Рода и жизни… Ты легким движением своей руки, проявив минутную слабость и легкомыслие, направила свою поступь в иной, наполненный горечью и страданиями, потусторонний мир… Мир в коем также как и на планете Земля за лучшую долю, за новое необходимо трудиться и бороться, необходимо биться.
— Я очень жалею, что так поступила, — ответила я не прекращая смотреть в мудрые глаза старика, где все еще стояли крупные слезы, а лицо его, будто лицо Бога стало светиться бледно-желтоватым светом. — Очень жалею… и если бы вернуть время назад…
— Нет, — откликнулся старик, перебив меня и не дав договорить. — Время невозможно повернуть вспять… Впрочем невозможно повернуть вспять и движение планет, звездных светил, галактик, Вселенной… все движется лишь вперед… И люди точно маленькие клетки огромной бескрайней Вселенной имя оной Всевышний тоже движутся лишь вперед… Каждая клеточка… молекула… атом… этого мощного механизма, живого, дышащего, пульсирующего, перемещающегося необходима для полноценного хода Всевышнего, каждая бесценна, индивидуальна, неповторима, каждая имеет свои функции, задачи, цели… И каждая такая клеточка, молекула, атом должны помнить, что жизнь ее бесценный дар, необходимый, жизнеобеспечивающий заряд, несущий в себе залог процветания и продления будущего Вселенной, Галактики, Планеты, людского племени, — старик опять замолчал.
А я внимая его словам и обняв, прижав к себе согнутые ноги, чутко прислушивалась, и к старику, и к легкой, накатывающей где-то позади меня, бьющей о берег своей перьевой головой, морской волне.
— Да, — продолжил мгновения спустя старик. — Каждая клеточка необходима, а потому должна ценить дарованную жизнь и уметь за нее бороться… Слышишь бороться за лучшую жизнь… так, чтобы не уничтожать, не опустошать и не развращать иные клеточки Вселенной… Увы! человеческое общество идет не по пути духовности, оно ставит, возводит в святая святых и ценит лишь материальные преимущества, блага, а потому разрушает духовную целостность человека, разрушает и уничтожает целостность Земли, Галактики, Вселенной… Ты… прошедшая этот долгий путь… сделавшая всего лишь один шаг… отделяющий край ванны от этого морского берега помни мои слова, неси их в своей душе, сбереги их для своей новой… иной жизни… И помни ты и все кто рядом с тобой, все кто далеко от тебя- это клеточки, молекулы, атомы одного единого целого, большого механизма, организма под именем Вселенная- Всевышний… А теперь тебе преодолевшей тяжелый путь… тебе научившейся побеждать саму себя будет даровано иное… новое…, - старик поднял руку и направил свой длинный, белый, тонкий, указательный палец на меня и в то же время вдоль меня. — Тебе будет дарована жизнь… Иди, туда к морю, войди в его прохладные, пенящиеся волны и обрети то во имя чего и ради чего, ты прошла этот путь… сделав всего лишь один шаг.
— Один шаг, — повторила я и оглянулась назад, посмотрев по направлению вытянутого стариком пальца, и только теперь увидела, что там позади меня плещутся, вздымаются и постанывают высокие, набегающие на берег морские волны.
И я сей же миг поднялась на ноги, глубоко и прерывисто задышав так, что грудь моя дрогнув заходила ходуном, закачалась как маятник на часах, а ноги мои вдруг стали ватными, плохо слушающимися вроде не подчиняющиеся мне, растрепанные волосы от быстроты движения упали мне на плечи, укрыв их, запрыгнули в приоткрытый рот, заслонили глаза… Все еще продолжая надрывно, прерывисто дышать, я подняла руку смахнула их с лица заправив за уши и глянула на старика, а он уже вновь поднял с одеяния свою клюку, упер ее конец в песок, и сложил на ручку свои руки, прикрыв их сверху подбородком, укутанным в серебристую бороду и застыл, устремив свой мудрый, пронзительный и скорбный взгляд туда в плещущееся море, уйдя наверно весь в слух.
— Значит, я могу идти? Мне дарована новая жизнь? — переспросила я старика.
Но он не слышал меня, казалось я его больше и не интересовала, и весь он сам, замерев в напряженной позе быть может, слышал уже иные звуки… иного самоубийцы… который кружился в воронке, прорывался сквозь Лешу и Ваню, спускался по трубе, открывал окно, шел по коридору в надежде удержаться за вожделенную ручку или бился в стеклянную дверь в том высоком, похожем на трубу, холодном помещении.
Я стояла и смотрела на старика, и меня переполняло чувство любви к нему, радости и легкой дрожи перед наступающим будущим и тихой тревоги, что могу забыть и его, этого древнего как само время старика- Бога, и то, что он мне сказал и то, что пережила и вынесла.
И так как старик молчал, не вступая больше со мной в разговор, я развернулась и пошла к берегу моря, неторопливо ступая и увязая стопами в сыром, глубоком песке. Я подошла прямо к кромки воды и накатившая волна, дотронулась до меня своим нежным, теплым гребнем, коснулась кожи и тотчас отхлынула, назад… оставив на песке более темную полоску, выделяющуюся в лунном сиянии.
Еще маленько я медлила… еще миг колебалась и тревожила себе мыслями, затем оглянулась в последний раз посмотрела на старика и увидела над его головой желтоватый еле видимый круг. Губы его, изогнувшиеся в улыбке, точно соединились с прямым носом, и его длинноватым основанием и мне на миг показалось, что они образовали на лице старика часы, с тремя стрелками: часовой, минутной и секундной и почему-то вспомнился славянский Бог времени — ЧислоБог.
И тогда я широко улыбнулась… ни секундочки теперь не сомневаясь кого увидела в столь тяжелом и трудном конце моего пути.
Этого пути… пути наказания и испытания…
И продолжая все еще улыбаться, я повернула голову обратно, глянула на зовущее меня море, и, схватившись руками за края футболки, резко сняла ее через голову, а после расстегнула пуговицу на джинсах, скидывая их с себя. Я бросила вещи на берег и побежала навстречу волне.
Мои ноги едва касались поверхности песка, на них вроде как выросли крылья и они несли меня будто по воздуху. Тело мое наполнилось легкостью и когда морская, соленая волна накатила и коснулась, окутав собою мое тело, подхватив меня, подкинув вверх, точно пушинку и вселив в меня непередаваемое чувство счастья, любви и нежности, я вдруг услышала грубый, немного приглушенный голос Андрейки: «Помни, что лишь те, кто не страшась идут к намеченной цели, остаются победителями!»
Я услышала его голос… его слова, которые поддерживали во мне силы на протяжении всего моего трудного боя и пути… и улыбнулась!..
Улыбнулась!..
Улыбнулась!..
И поняла, что на самом деле… на самом деле путь мой, тот к каковому я так настойчиво стремилась только, что начался!..
Я это поняла… почувствовала… ощутила… осмыслила… и тогда… тогда… увлекаемая этой чудесной, теплой, живительной волной я…. я… я..
Я- родилась!

![Иное... [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/619496/primary-large.jpg)



![Нижний этаж [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/608514/primary-medium.jpg)



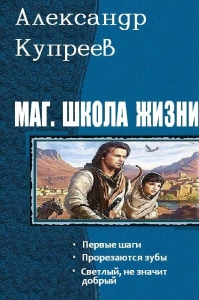



![Этан [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/525893/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Иное... [СИ]», Елена Александровна Асеева
Всего 0 комментариев